Сергей Сартаков * А ты гори, звезда * Роман
Москва
Советский писатель
1977
Иллюстрации художника
П. ПИНКИСЕВИЧА
Ильич не раз вспоминал Иннокентия после Октябрьской победы, когда так страшно нужны были люди: «Эх, Иннокентия нет».
Н. К. КрупскаяКнига первая
Часть первая
1
Земля, на которой зеленеть бы траве и цвести цветам, была залита белой хлорной известью. Ее острый, режущий запах, смешиваясь с тяжелыми испарениями карболовой кислоты, дурманил, кружил голову, с непривычки вызывал тошноту.
Особенно непереносимо становилось, когда солнце в безоблачном небе взбиралось на свой перевал и оттуда палило, обжигало дома, поля и дороги прямыми беспощадными лучами. И хоть бы чуточку, какой-нибудь самый легкий порыв живительного ветерка, нет — все вокруг замерло, оцепенело, подчиняясь жестокой силе солнца. Жестокой потому, что подряд шло уже второе бездождное лето. Луга, пастбища, огороды начисто выгорели, а пашни постепенно превратились в горячую пыль. Из ее толщ редкие стебли озимой ржи, иссохшие и пожелтелые, печально щетинились мелкими и совершенно пустыми колосками.
Холерный барак, сколоченный на скорую руку из неоструганного теса, с маленькими слепыми оконцами, стоял на отшибе, в конце старинного волостного села Кроснянского. Временами из барака доносились мучительные стоны, крики. Крестьяне со страхом и злобой прислушивались к ним. Всяк боялся: а вдруг и его скрутит свирепыми корчами проклятая хворь, и он потом беспамятный окажется там, в этом страшном бараке, на пропитанной карболкой постели, с которой до него на рогожке уволокли уже не одного покойника. И каждый злобился на саму таинственную болезнь, разящую внезапно и старых и малых; на тех, кого она постигла — потому что это зараза, мор для других! — а еще больше на тех, кто в парусиновых застиранных халатах чего-то там мудрит над недужными, истязает их и пичкает отравами, и колет длинными железными иглами, «лечит», но вылечить не может, только быстрее отправляет на тот свет. Ужаснее всего представлялось, что к заболевшим и угодившим в холерный барак не пускали повидаться даже самых близких родственников. Умирали там без исповеди и соборования, покойников не отпевали в церкви, а укладывали в обрызганные этой же вонючей известью гробы, забивали гвоздями наглухо и увозили совсем на особое кладбище.
Только тогда, уже над раскрытой могилой, тоже забеленной известкой, дозволялось и постоять и поплакать, а попу — помахать кадилом и пропеть по обряду отходные молитвы. Да что же это такое, что за глумление над народом! Назвался лекарем, так лечи людей как людей, а постигнет кого вышней волей кончина — дай все сделать с ним, как положено по христианским обычаям. А то известью, известью да карболкой… Глухое раздражение, недовольство накапливалось среди отчаявшихся, измученных крестьян.
Засуха, случившаяся здесь второй год подряд, оголодила все живое. Домашняя скотина — кони, коровы, овцы едва переставляли ноги, выгрызая из земли, из перепревшего навоза остатки соломы, выбеленной ветрами и солнцем, скоблили зубами плетни, бревенчатые стены домов, — соломенные крыши давно уже были съедены. Сами землепашцы, в большинстве своем, позабыли о вкусе чистого ржаного хлеба, пекли его на три четверти с толченой березовой корой, добавляя еще и подзаборную лебеду. Опухшие, обессилевшие, они по вечерам собирались у волостного правления, надеясь на чудо. Вдруг выйдет на крыльцо старшина Петр Еремеевич Польшин и объявит: «Ну, мужики, пришла от государя нам большая помощь!» Но дни, мучительные, голодные, медленно текли один за другим, а помощи от государя все не было. Хлебная ссуда, выданная из казенных амбаров, расчислялась по нескольку золотников на душу. Что получали на месяц — съедали в три дня. В бесплатной столовой, открытой на пожертвования городских доброжелателей, из ста нуждающихся кормилось только три человека — на большее не хватало средств.
У сельских богатеев, понятно, еще держались запасцы зерна от позапрошлогоднего урожая. Каждую горстку его они теперь перетряхивали самодовольно на ладони, будто серебро, — цены на хлеб поднялись невообразимо. Пожалуйста — покупай! Но тому, кто не имел в своих закромах ни единого хлебного зернышка, негде было взять и денег на покупку. В опустошенные, обездоленные засухой и недородом деревни вступил владыкой и повелителем царь Голод. А вместе с голодом пожаловала холера.
Земский врач Гурарий Семеныч Гранов сидел за столом, уставленным флаконами и фаянсовыми банками, в «дежурке» — маленькой, тесной комнатке холерного барака, устало положив слегка седеющую голову на подставленные раскрытые ладони. Духота угнетала. И не было сил развязать тесемки на рукавах, сбросить халат, весь в коричневых йодных пятнах, пропахший лекарствами. Тягчайший выдался денек. Помимо того, что на рассвете скончался здесь вот, за тонкой дощатой переборкой, совсем молодой крестьянин Алексей Дилонов, слывший первым силачом во всей округе, еще и эта страшная драма…
Гурарий Семеныч потер лоб рукой. Да, в этом случае тоже ничем, ничем помочь было нельзя. Случай, когда медицина оказывается совершенно бессильной.
Ему представилось бледное, перепуганное лицо священника отца Гервасия, когда тот прибежал сюда, в барак, и прокричал: «Голубчик Гурарий Семеныч, скорее, скорее! Помогите, спасите…» И после, по дороге к избе Устиньи Синюхиной, торопливо рассказывал, как пришла к нему эта женщина, пала на колени с просьбой исповедать ее и на духу призналась, что хочет зарезать своих четверых ребят, не может видеть, как тихо тают они от голода. Пусть, мол, им сразу придет конец, а тогда уж она и сама… Отец Гервасий тяжело переводил дыхание, продолжая рассказ. Попенял он Устинье за богопротивные мысли такие, не принял исповеди, не дал отпущения грехов: «Не в уме сегодня ты!» А потом попадья собрала свеженьких пирожков с мясом да вяленой рыбки и еще чего-то. Вместе отнесли. Накормила Устинья ребят. Знаете, сколь отрадно было глядеть, как в момент уплели они все принесенное, подобрали со стола каждую крошечку. И вдруг — закричал мучительно один, за ним другой. Все четверо попадали на землю, начались конвульсии, холодный пот проливной… Отец Гервасий все убыстрял шаг, придерживая рукой серебряный крест, болтающийся на груди поверх подрясника. Его, видимо, обжигало сознание того, что он сделался как бы невольным убийцей этих ребят. Он все повторял на ходу: «Спасите их, голубчик Гурарий Семеныч, спасите!» Но оба и тогда знали: поздно, спасти нельзя. Вбежали они в избу Синюхиной, когда Устинья, уже обмякшая, с потухшими глазами, стояла у дверной притолоки и глухо выла…
Да, грозная, неодолимая беда надвинулась на Россию. И особенно на Поволжье, на Центральное Черноземье. Пожалуй, тяжелее всего достается именно Курской губернии. Впрочем, своя боль всегда больнее. Разве не такие ж горькие вести идут и отовсюду? По подсчетам статистиков, в Российской империи голодает сейчас сорок миллионов человек. Умопомрачительная цифра! Стоит только почитать статьи писателя Короленко в «Русских ведомостях» о невыносимых страданиях нижегородских крестьян, стоит почитать в «Московских ведомостях» записки Шишова из Симбирска, страшно становится — сколь долго будет еще тянуться трагедия народная? Когда наступит ей конец? И в чем ее начало?
Рука Гурария Семеныча потянулась к стопке свежих газет. Он горько усмехнулся. Вот в «Русском вестнике», ссылаясь на слова знаменитого и нежнейшего поэта, уверяют, что крестьянство бедствует единственно только по своей лености и склонности к пьянству.
«Эх, господа журналисты! И вы, господин Фет… Вы видите причину в том, что на самом деле является следствием. Не от пьянства и лености нища российская деревня — от нищеты своей и от крайнего разорения, от чувства безысходности своего положения опускаются руки у мужиков. Плетью обуха не перешибешь. И тогда на последние гроши — в кабак. Забыться! А вы, господин Фет, так хорошо пишете о закатах, цветах, томлениях души человеческой и не представляете себе, не можете, должно быть, и представить, что происходит на душе Устиньи Синюхиной, которая с отчаяния собиралась зарезать своих голодных детей, а теперь, когда лишилась их, в еще большем отчаянии убивается над мертвыми».
В волнении Гурарий Семеныч встал, прошелся вперед-назад по тесной каморке. Прислушался к надрывным стонам, доносившимся из-за переборки. Чудовищная болезнь вершит свое мрачное дело, и нет сил, нет средств остановить эпидемию. Как могут побороть ее здесь, в сущности, всего три человека — он сам, фельдшер Иван Фомич да пятнадцатилетний юноша Ося Дубровинский, санитар-доброволец, приехавший сюда на каникулы из Курска. Так и в каждом селе. Нет медицински грамотных людей, нет штатов, нет денежных ассигнований, нет даже самых простых, крайне необходимых лекарств, нет, нет, и все — нет… А грозное слово «холера» отпугивает даже тех женщин-крестьянок, которые при других обстоятельствах, не требуя платы, только от доброго сердца, сами пришли бы и помогли: помыть полы, постирать белье, посидеть у постели больного. Бабка Дергуниха, местная знахарка и колдунья, злорадствует: «Оттого и ширится мор, что иголками дохтур во плоть гнусную хворь загоняет. Где это видано, чтобы от резей в животе и рвоты железными иглами лечили, пронзали ими наскрозь жилы кровеносные?» Раздает наговоренную воду, медные пятаки с заклинаниями — велит к голому телу, к пупкам натуго их прибинтовывать. Боже, боже, какое надругательство над здравым смыслом! А люди идут к Дергунихе, зовут к себе и верят ей. Потому что там необычное, тайна, надежда на чудо, потому что у Дергунихи талисманы и непонятные магические слова. А в больнице — вонючая хлорная известь, «иголки»…
Он снова стал перебирать газеты. Попались «Новости». В них — бесхитростный скорбный рассказ о любителях погреть руки на чужом несчастье, о предприимчивых купчиках: «…У нас, знаете, у баб кички старинные, богатые, золотом вышитые… Шитье-то они выплавляют, а остальное бросают… Плачут бабы, а нечего делать, отдавать приходится. Опять, вот, шугаи. Тоже все скупили за бесценок. Шугаи тонкие, из молодой шерсти… Теперь и косы у баб, волосы покупают… Заливаются слезами, да кладут головы на стол под бритву. У самого корня срезают, чтобы длиннее волос был… У кого коса русая, густая, длинная — по два рубля дают…»
Гурарий Семеныч скомкал газету, отшвырнул прочь. Коса! Это же в деревнях — честь, гордость женская! За два рубля — когда пуд ржаной муки стоит полтора. Но ведь голод не тетка…
И опять перед глазами у него встала Устинья Синюхина, без кровинки в лице, ссутулившаяся у дверной притолоки. Черными шнурами взбугрились на руках узловатые вены. У этой была бы коса — не за два рубля, за ковригу хлеба отдала бы ее, прежде чем пойти к отцу Гервасию со своей страшной исповедью. Все-таки еще лишний день или два прожили бы тогда ее дети.
Но что же долго не возвращаются с подворного обхода Иван Фомич и Ося?
Только так, посещая все дома подряд ежедневно, и можно узнать, не заболел ли кто вновь и как чувствуют себя те, кто, заболев, ни за что не согласился лечь в заразный барак. Впрочем, больных родные чаще всего скрывают, прячут где-нибудь на время обхода. Лечит их Дергуниха. А помрут — вот тогда призовут врача. Потому что без врачебного свидетельства и отец Гервасий отпевать не станет. Знала бы по-настоящему Любовь Леонтьевна, чем, какими опасными для собственной жизни делами занимается здесь ее сын Иосиф, — извелась бы в тревоге. Хотя, в общем, она женщина понимающая, образованная и решительная. И всегда готова помочь людям в беде. Но — материнское сердце. Это тоже надо понять.
Да, Любови Леонтьевне досталась нелегкая доля: после смерти мужа оказалась она с четырьмя сыновьями на руках, мал мала меньше. Что ж, бывает. От судьбы не уйдешь. Тянулся Федор Борисович из последнего, сняв в аренду в селе Покровском-Липовцах под Орлом у промотавшегося помещика кусок земли. Взял кредит в банке, занял деньги у добрых друзей. Тянулся, все тянулся, да и не вытянул. Такой же, как нынешний, неурожай восемьсот восьмидесятого года подрезал хозяйство под корень. Разорился Федор Борисович настолько, что после уплаты долгов от земли пришлось отказаться. С тем в тот жуткий год и в могилу лег.
А Любовь Леонтьевна осталась почти вовсе без средств и даже без какой-нибудь профессии. Так, немного, только для дома, умела шить. Хорошо еще, отзывчивые родственники нашлись. Скажем, Александра Романовна Кривошеина из Орла, шляпная мастерица — просто прелесть! Любови Леонтьевне приходится по матери родной сестрой. Любовь Леонтьевна говорит о ней: дважды родная. Помогла Дубровинским из Липовцев в Курск перебраться. Все-таки в городе легче тем же шитьем на жизнь себе заработать. Заказчицы, что называется, «пожирнее». А у Любови Леонтьевны на деле прямо-таки золотые руки оказались. По примеру Александры Романовны, «тети Саши», шляпки принялась мастерить. И ничего — постепенно наладилась жизнь.
…Гурарий Семеныч сочувственно усмехнулся: Любовь Леонтьевна — что там ни говори — молодчина! Выбраться из такой тяжкой беды не каждая женщина сумела бы. И вот, извольте, всех детей учиться пристроила, старшего сына Григория даже в юнкера определила. Этот, пожалуй, можно считать, теперь уже совсем оперился, в небо готов взлететь, на плечах погоны — крылышки. Да только вряд ли это — большое счастье для матери…
А, наконец-таки появились на дороге Ося с Иваном Фомичом! Идут торопливо. Иван Фомич, всегда такой спокойный, уравновешенный, почему-то размахивает руками, что-то доказывает Иосифу. Что там еще стряслось?
Гурарий Семеныч поспешил им навстречу.
— Ну, что? — спросил он нетерпеливо, прикрываясь ладонью от бьющего прямо в глаза яркого солнца. — Что случилось, Иван Фомич?
Фельдшер глянул на своего спутника. Тот, худенький, стоял, высоко подняв узкие плечи, покусывая тонкие губы. Большими пальцами он расправлял, разглаживал рубашку под широким кожаным ремнем, на котором красовалась медная бляха с двумя крупными буквами «РУ» — реальное училище. Светлые, чуть с рыжеватым оттенком волосы выбивались из-под форменной фуражки, как-то неладно сдвинутой набок. Синие глаза были холодны, словно льдинки.
— Да что, Гурарий Семеныч, — ответил фельдшер и опять посмотрел на Дубровинского, — целых два происшествия у нас сегодня. Причем в одном из них Иосиф Федорович пострадал, так сказать, даже телесно.
— Яснее, яснее, пожалуйста, Иван Фомич! — нетерпеливо попросил Гранов. Он уже угадывал: открыт новый носитель инфекции, а осмотреть его родственники не позволяют.
— Зашли мы к Дилоновым, — медлительно рассказывал Иван Фомич, — зашли с особым чувством. Такое горе в семье! Сидят все по лавкам, старики, бабы, детишки, тоскливо смотрят в пол. Семья-то, знаете, огромная у Алексея, а кормилец настоящий, по существу, он один был. И так давно уже голодали, а что теперь впереди? Понятно, над чем так горько все задумались. Первые наши слова — в утешение. Хотя что же тут утешать? Как говорится, божья воля! А надо было нам приглядеться, коли в дом к ним забралась зараза, — не прихватила ли и еще кого? Спрашиваем ласково. «Нет, говорят, других бог миловал, хозяина нашего в бараке своем вы уморили, хватит с вас». А после этого и загудели все и поднялись! Ну что же, попрощались мы. И хотя понимали, какое горе у них, но все-таки вежливо попеняли, что в избе и на дворе разведена безобразнейшая антисанитария. Все наши прежние наставления оказались впустую, словно в стену, горохом. Посуда стоит немытая, в ней табунами мухи пасутся, и люди, как прежде, за плетень, извините, по нужде бегают, а…
— Если можно, короче, Иван Фомич.
— А короче, Гурарий Семеныч, девочка одна, малышка, нам проговорилась, что ее дедушка Андрей, стало быть, отец Алексея Дилонова, в очень тяжелом состоянии лежит под замком в амбаре.
— Какая дикость! — невольно вскрикнул Гранов. И отступил в тень, к стене барака. Потер лоб рукой. — Ах, темнота, темнота, непросвещенность народная! Разве Дилоновы не любят всей душой своего старика? А вот же — обрекают на ужаснейшие страдания. И на возможную гибель.
— Обязательную гибель, Гурарий Семеныч! Там уже Дергуниха вертится.
— Да, но что же делать?
— Есть план. Доро́гой сейчас мы с Иосифом Федоровичем обсуждали. Собственно, его идея. Пусть он и расскажет. Прошу вас, господин Дубровинский.
Иосиф стеснительно улыбнулся. Он никак не мог привыкнуть к тому, что Иван Фомич, человек уже в преклонных годах и с большим житейским опытом, неизменно называет его, мальчишку, Иосифом Федоровичем или господином Дубровинским. Но такова уж интеллигентская закваска у фельдшера. Он никогда даже какому-нибудь пьяному забулдыге не скажет «ты», ко всем, кто только чуть лишь вышел из детского возраста, обращается по имени-отчеству. А ведь он, Иосиф Дубровинский, уже закончил четвертый класс — действительно, «господин», — и при отличных отметках. Это для Ивана Фомича тоже многое значит.
— План очень простой, Гурарий Семеныч, — сказал Иосиф. — Возьмем сейчас с Иваном Фомичом носилки и доставим больного.
— Когда все родственники уйдут на кладбище хоронить Алексея Дилонова, — вдохновенно добавил фельдшер. И сделал жест рукой, словно бы ставя в воздухе восклицательный знак. — А где взять ключ от амбара, девочка нам показала.
— Я этого не предлагал. — Иосиф круто повернулся к Ивану Фомичу. — Это вы сами придумали. Я против этого. Действовать всегда надо в открытую.
— Дорогой Иосиф Федорович, — мягко сказал Иван Фомич, — да, действовать всегда надо в открытую. Кроме тех случаев, когда требуется немного схитрить, если в открытую добиться полезных и нужных результатов невозможно. Мне показалось, я вас сумел убедить. И еще больше, извините, вас убедил наш волостной старшина господин Польшин.
— Это совсем другое дело! — вскрикнул Иосиф. И машинально поправил на голове фуражку. — Этого я так не оставлю. А дедушку Дилонова мы с вами принесем сюда. И в открытую. Не пускаясь ни на какие обманы.
Гурарий Семеныч переводил свой взгляд от одного к другому. В открытую… То есть решительно вопреки желаниям родственников больного. При эпидемиях это допускается. Но ведь тело Алексея Дилонова, скончавшегося здесь, в холерном бараке, еще лежит непогребенное. И его семья, укрывавшая Алексея от врачебного осмотра до поры, когда он стал совсем безнадежен, все же считает виновницей смерти своего кормильца только больницу, врачей. Взять сюда и старика против воли родных — тут возможно всякое… Вплоть до…
Он не посмел даже мысленно представить себе это «всякое», переходящее во «вплоть до…». Что поделаешь, непросвещенность народная. А Ося Дубровинский всегда отличался прямотой. Серьезностью. И смелостью.
Но старика, коли теперь известно стало о его болезни, нельзя, никак нельзя оставить под замком в амбаре! Когда свирепствует эпидемия, миндальничать не годится. И может быть, в данном случае более прав Иван Фомич. Так проще избежать лишних волнений, шума. Хотя все это и нелепо и дико — тайком похищать человека.
— Нет, нет, я должен сам прежде переговорить с Дилоновыми, — сказал Гурарий Семеныч, нервничая и теребя завязки на рукавах халата. — Только так, и не иначе. Все, что оба вы предлагаете, не подходит. Насилие в любой форме здесь невозможно.
— Они не согласятся, это я вам гарантирую, — пасмурно заметил Иван Фомич. — А человек умрет.
— Старик может умереть и здесь, как умер его сын Алексей. Когда болезнь безнадежно запущена, нет никакой гарантии в благополучном исходе. И тогда…
— А вы боитесь, Гурарий Семеныч? — с вызовом спросил Иосиф. И стал словно бы шире в плечах. — Вы очень боитесь этого? Для чего же тогда переговоры с родственниками Дилонова? А по-моему, надо сейчас же, и нисколько не медля, делать все, что в наших силах, чтобы спасти жизнь больного, совсем не думая, чем это может кончиться.
— Ося! — строго остановил его Гранов. — Как ты смеешь говорить мне это!
— Простите!..
И наступило долгое, трудное молчание.
От тесовой стенки барака веяло душным зноем. Из распахнутого, затянутого марлей окна доносились мучительные стоны.
В боковую дверь вышла сиделка, перегибаясь на один бок под тяжестью ведра, которое она несла как-то неловко, далеко отставляя от себя. Пересекла отгороженный штакетником двор и вылила содержимое в люк выгребной ямы. Потом прикрыла люк деревянной квадратной заглушкой и принялась брезгливо обмывать ведро в большой лохани с раствором хлорной извести.
Первым заговорил Иван Фомич. В сторону, неопределенно:
— Иосифа Федоровича, конечно, я понимаю. Пыл юности, непосредственность восприятий, благородные побуждения души… Но вот идем мы с ним, Гурарий Семеныч, мимо волостного правления и видим такую картину. Стоит на крыльце господин Польшин, волостной старшина, командует сотским: «Начинай!» А те подхватывают под руки крестьянина — помните, лечился от грыжи? — Афиногена Платонова и волокут к стене, где вбиты длинные и крепкие гвозди. Разувают мужика, онучи, лапти вешают ему на шею, а самого веревками накрепко привязывают к гвоздям. Получается, извините, распятый Христос. И тогда сверху, с крыльца, льют ему на голову, ведро за ведром, холодную колодезную воду…
— Средневековая пытка! Инквизиция! — закричал Иосиф.
— Да, конечно, — подтвердил Иван Фомич. — Однако по современной терминологии и по объяснениям господина Польшина, как вы сами имели возможность убедиться, это всего лишь побудительные меры к уплате недоимки. Господин Польшин мог бы применить сакраментальные розги, но он предпочел меры собственного изобретения, по его мнению, более действенные.
— Это — гнусное издевательство: и розги и ледяная вода, которую льют человеку на голову, — упрямо сказал Иосиф. — И я это Польшину не прощу.
— Да, конечно, — с прежним спокойствием повторил Иван Фомич. — Прощать такое невозможно. Но знаете, Гурарий Семеныч, что предпринял наш дорогой Иосиф Федорович? Он взбежал на крыльцо с достойнейшей целью прекратить истязания Платонова. И получил, извините, по шее. А рука у Петра Еремеевича весьма и весьма тяжелая.
— Я обо всем напишу губернатору! И о жестокостях Польшина и о недоимках, которые нельзя же вымогать с крестьян сейчас, когда люди умирают от голода, — сказал Иосиф. И стиснул кулаки.
— Да, конечно, — в третий раз согласился Иван Фомич. — Однако недоимки с голодающих крестьян вымогаются по прямому указанию министра финансов господина Вышнеградского. А эти указания совершенно обязательны и для губернатора. Не думаю, что ваша жалоба господину фон Валю будет иметь полезные последствия. — Он немного помолчал и добавил: — Это продолжение моей мысли о том, что бесцельно некоторые действия и при некоторых обстоятельствах предпринимать в открытую.
Иосиф рывком расстегнул стоячий ворот форменной ученической рубахи, сдернул с головы фуражку, поправил сразу разметавшиеся длинные рыжеватые волосы.
— Идемте, Иван Фомич, за дедушкой Дилоновым. Сейчас я возьму из барака носилки.
— Мы это сделаем немного позже, — сказал Иван Фомич. — Когда все уйдут на кладбище.
Гурарий Семеныч словно очнулся. Провел рукой по лицу, смахивая мелкие капельки пота.
— Нет, нет, болезнь не ждет, медлить нельзя! Но идемте все вместе. — Рассеянно сунул руку в карман, вынул смятый листок голубой бумаги. — Эх, что же это я, вот стала память! Ося, от Любови Леонтьевны телеграмма. Просит отправить тебя в Орел: у тети Саши день рождения. Я заказал подводу, вечерком свезут тебя до станции — поезд через Обоянь проходит ночью.
2
Ночью, зажавшись в уголок на тряской скамье переполненного людьми вагона четвертого класса, ощупывая туго забинтованную голову, Иосиф припоминал события остатка минувшего дня. Ломотная боль в затылке, в разбитом плече мешали думать сосредоточенно, мысли то и дело обрывались. Еще их перебивали азартные вскрики картежников, расположившихся в узком проходе вагона, залихватские переливы гармошки, на которой наигрывал чубатый, с круглой темной бородкой парень, припевая мягким журчащим голосом:
Г-город Никола-пап-паев, Французский завод. Т-там живеть мальчо-поп-понька Двадцать перьвай год…Под потолком тускло светился фонарь. Вагон шатался, подпрыгивал на рельсах. А совсем еще недавно…
…Ноги тонули в горячей пыли. Полуденное солнце слепило глаза, обжигало плечи. Исправно следуя изгибам маленькой речки, теперь совсем пересохшей, село тянулось бесконечно. Избы с разоренными соломенными крышами казались вовсе не жилыми. Лишь изредка можно было увидеть людей, сидящих в тени на завалинках. В их позах сквозило полнейшее ко всему безразличие, покорное ожидание неведомо чего. Пока не прольются дожди, пока не возьмет земля снова силу — так вот и сиди. Голодный, бездеятельный. Ни в поле, ни в доме работы нет. Сиди и думай одно: как выжить до той поры, когда земля вновь наградит тебя урожаем.
Иван Фомич с Гурарием Семенычем устало брели, загребая ногами пыль на дороге. Ну что же, годы, годы берут свое… Иосиф шел, ступая свободно, легко, а внутренне — весь собранный, напружиненный, еще переполненный той яростью, с какой он несколько часов назад слетел с крыльца волостного правления, получив крепчайший подзатыльник и ерническое напутствие старшины Польшина: «Наше вам, господин скубентик! И сыпь отседова так, чтобы у тебя пятки в… влипали!»
Это было наглым оскорблением личности, достоинства человеческого. А главное, это подчеркивало: Польшин — государственная власть, и эта власть может сделать с обыкновенными людьми все, что только она захочет. И облить ледяной водой обнищавшего, голодного крестьянина, выколачивая из него недоимку, и сшибить кулаком любого, кто восстанет против такой несправедливости.
Иосиф шел и рисовал себе картину, как он померился бы силой с этим самым старшиной — не на кулаках, здесь превосходство явно у Польшина, — померился бы силой мысли, логики, правды. Он спросил бы негодяя: «Вы к какому сословию принадлежите?» Тот сказал бы: «К крестьянскому». — «Ну, а землю вы тоже пашете, как и крестьянин Платонов, которого за недоимки вы сейчас обливали колодезной водой?» — «Как не пахать? Пашу!» — «А над вашими полями особо проливались дожди? Или они так же, как и у Платонова, начисто выгорели?» — «Бог покарал. И у меня выгорели». — «А вы так же голодаете, как и крестьянин Платонов?» — «Слава богу, нет! Едим досыта». — «Отчего же так? С Платоновым вы оба одного сословия, и землю оба пашете, и посевы у вас выгорели одинаково. Отчего же вы едите чистый хлеб и досыта, тогда как Платонов почернел, опух от лебеды?» — «Н-но, господин скубент! Перво: у меня запасы прежние. А второе: старшина же я. Волостная власть!» — «Ну и что же?» — «Противу других крестьян мне за это и жизнь лучшая положена. Как-никак к хлебушку своему я еще и жалованье получаю». — «За власть?» — «А как же? Кто, ежели не власть, с Платонова взыщет недоимки!» — «С голодающего? Вовсе бесхлебного?» — «Взыщу! Из-за него мне рушить жизнь свою нет никакого расчету». — «Хоть и в гроб человека загнать?» — «Хоть и в гроб! Мне какое дело: плати». — «Ну, а если Платонову ради вашей прекрасной жизни ложиться в гроб неохота? Если Платонов даст вам по шее кулаком, как ударили вы меня?» Завертелся бы Польшин: «Эге-ге, господин скубент! Пусть попробует! Меня вышняя власть защитит, в обиду не даст». — «А Платонов-то не один. Как подымутся все мужики…» — «Э-э, не пужай, господин скубент. Позовем войско». — «А войска — они тоже из мужиков, из простых, таких же крестьян». — «А-а! Значит, ты противу власти, противу самого царя нашего батюшки, кто порядок свой на земле установил!» — «Беспорядок!» — «Бу-унт?» — «Бунт!» Волостной старшина заикался, беспомощно разводил руками. А Иосиф, насладясь его страхом, начинал новый мысленный диалог с Польшиным. И опять выходил победителем…
Вагон шатало, бросало из стороны в сторону так, что замирало сердце. Игроки взмахивали распухшими картами, будто топорами, с азартным придыханием рубили своими тузами чужих валетов. Бабы заглядывали в мужнины карты, шепотком подавали советы. Мужики плечами отпихивали настырных жен: «Подь ты к черту! Не бормочи под руку!» Чубатый парень, заведя глаза в потолок, растягивал розовые мехи гармоники, припевал:
Ен с-сидит, мечтает В городском саду И предполага-пап-пает: «В п-призыв не п-пойду!»Надрывно, горько плакал ребенок. Усталая, сонная мать никак не могла его успокоить.
…После яркого уличного света Иосифу показалось в избе Дилоновых настолько прохладно и темно, будто он вступил в погреб. Гурарий Семеныч, держа в одной руке свой докторский саквояжик с лекарствами и инструментами, другой рукой на ощупь шарил по стене. Иван Фомич похрипывал, давила одышка. Он выдвинулся немного вперед, собираясь завязать неторопливую, осторожную беседу. Его перебил высокий и гневный голос: «А носилки зачем?» Иосиф теперь разглядел, что это выкрикнула Ефимья, жена скончавшегося в холерном бараке Алексея. В тот же миг она очутилась рядом с Иосифом, тряхнула его за плечи и отбросила к порогу. Сразу поднялось нечто невообразимое. Мелькали изможденные белые лица, горящие ненавистью глаза, с угрозой занесенные кулаки. Проворнее других металась по избе Дергуниха.
— Господа… Друзья мои, — осекаясь, уговаривал Гурарий Семеныч, — прошу тишины, прошу выслушать меня…
Он стоял осунувшийся, какой-то совсем маленький. Иосиф видел, как у него мелко подрагивают губы, и не мог понять, что же так внезапно обезволило старого доктора, видевшего всякие виды. Нет, нет, все надо делать совершенно иначе! Не объясняться робко, не заискивать, как Гурарий Семеныч, и не хитрить, как Иван Фомич, а решительно, твердо, в открытую потребовать, чтобы сейчас же показали больного. Ведь любят же, любят эти добрые люди своего отца, деда, старика! Каменные, что ли, у них сердца? Или настолько они упрямы и непонятливы, что…
А, да что там, если боятся или не умеют другие, он сам обязан действовать! Иосиф взмахнул рукой, заговорил. Горячо, страстно. И все сразу притихли, пораженные не столько смыслом его слов, сколько раскаленностью чувства, вложенного в них. И еще — неожиданностью, с которой парнишка вдруг оказался как бы самым наиглавнейшим.
Иосиф говорил, что ему думалось, что представлялось единственно верным. И эта простота, соединенная с горячностью речи, подкупала. Даже Ефимья, ни на шаг не отступавшая от него, как-то обмякла и растерялась. Злые огоньки в ее глазах сменились сомнением, жалостным блеском. А может, и вправду надо показать доктору деда Андрея? Может, так и так, не в холерном бараке, а и дома бы отдал муж, Алексей, богу душу свою? Кто в безжалостной этой хвори до конца разберется? Бабка Дергуниха скольких людей от разных болезней своими травами и наговорами поставила на ноги, ей полная вера, но ведь до холеры этой проклятой и от руки Гурария Семеныча никто не помирал. Даже слепоту доктор излечивал. А Дергуниха против слепоты сделать ничего не могла. Заколебалась Ефимья. Вслед за ней и другие.
А Иосиф между тем все говорил и говорил с прежней взволнованностью о том, что время не терпит, что с болезнью надо бороться решительно и быстро, что есть еще надежда… И кто-то вздохнул, прерывисто, горько. И кто-то позвал: «Айда-те в анбар. Мы тут споримся, вздоримся, а дедушка…»
Торжествуя победу, Иосиф одним из первых очутился возле деда Андрея. В распахнутую дверь амбара хлестал яркий солнечный свет. Старик лежал на двух сосновых скамьях, составленных рядом, с наброшенной на них тряпичной рухлядью, одетый, как всегда ходил по двору, в посконные залатанные порты и рубаху, босой. Ноги, пропыленные, иссохшие, с остро торчавшими мослаками, странно высовывались из штанин, будто кто тянул, вытягивал ступни. Он медленно, тяжело перекатывал голову, дышал со свистом, а когда плотно заросшее бородой лицо оказывалось у него на свету, была видна темная синева под глазами, такая глубокая, что делалось жутко.
Гурарий Семеныч щупал пульс, бормотал вполголоса: «Ах, если бы раньше… раньше… Хотя бы три дня назад, хотя бы вчера…»
И потом стоял в тяжелом раздумье. Что делать? Что делать? Забрать старика в холерный барак — прибавить там еще один печальный исход. И это будет вторая смерть в одной семье. Но кто поручится, что не случится здесь теперь еще и третья и четвертая? Одежда старика насквозь пропитана заразными выделениями, а мухи роем вьются над ним, стадами бродят в доме по невымытой посуде…
— Горячей воды… Быстрее! — сказал Гурарий Семеныч.
Нагнулся, раскрыл свой саквояжик и вынул стеклянный шприц, обнажил руку старика, в локтевом сгибе протер ее спиртом…
Вагон кренился очень сильно, должно быть, на крутом закруглении. Истошно орал паровоз. Искры метелицей вились перед темным окном. Гармонист все еще наигрывал свою любимую песенку:
Спрашивает Маньку: «Что ты будешь пить?» Манька отвеча-пап-пает: «Голова болить!»С особым шиком разлетелись, развернулись розовые мехи гармоники. Чубатый парень вздохнул:
Э-эх! Я тебя не спра-пап-паю: «Что в тебя болить?» А я тебя спра-пап-паю: «Что ты будешь пить? Пензенскую пиву, Водку аль вино, „Розову фия-пап-палку“, Али ничаво?»Еще раз вздохнул и отставил гармонь. Потянулся сладко, прислушиваясь, должно быть, как хрустнули у него косточки…
…А потом произошло самое страшное. Дед Андрей умер. Через несколько часов после того, как его положили в холерный барак. Гурарий Семеныч успел сделать ему только одно вливание солевого раствора. Неведомо как роковая весть мигом достигла семейства Дилоновых, только вернувшихся с кладбища после похорон Алексея. И вот, кто мог, кто был еще в силе, со всего Кроснянского стянулись мужики и бабы к больнице. Коноводила Дергуниха. С нею о бок бушевала Ефимья…
Иосиф жмурил глаза, ощупывал забинтованную голову, саднящее тупой болью плечо.
…Они ворвались негодуя, требуя неизвестно чего. Может быть, сначала даже нечаянно, в сумятице, кто-то разбил оконное стекло. Его осколки со звоном посыпались на столик, где у Гурария Семеныча стоял микроскоп и подготовленные для анализов взвеси. Доктор закричал протестующе: «Ступайте, ступайте отсюда!» И вытянул руки вперед. Возможно, толкнул Дергуниху. Старуха тонко взвизгнула. Вбежал Иван Фомич со шприцем, наполненным солевым раствором. И тогда началось: «А! Опять своими иголками!..»
Завязалась злая драка. Били доктора, били Ивана Фомича, громили кабинет, крушили все, что только попадало под руку. Вопили истошно: «Бе-ей!», «Ло-омай!», «Жги-и-и!»
Иосиф метался от одного к другому, пытаясь сдержать, погасить стихийно вспыхнувшую ярость. Но это было все равно, что попытаться человеку остановить налетевшую бурю. Он не запомнил, кому он вцепился в занесенную над Гурарием Семенычем руку, не приметил, эта ли самая рука, вооруженная половинкой кирпича, опустилась уже на его собственную голову, — очнулся Иосиф, когда возле холерного барака не было никого из посторонних. Пожилая сиделка, шепча: «О, господи, господи!» — веником сметала в кучу разный мусор. Гурарий Семеныч в истерзанном халате, в рубашке, пузырем вздувшейся из-под пиджака, наводил порядок на столе. Иван Фомич бинтовал Иосифу голову, заботливо спрашивал: «Иосиф Федорович, как вы себя чувствуете? Вас не тошнит?» А в сторону бормотал: «Опасаюсь сотрясения мозга». Давило в висках от резкого запаха пролитой карболки…
Чубатый парень, отставив в сторонку свою гармонь и все так же лениво потягиваясь, двинулся по вагону. Пристроился было к какой-то молодухе, дремлющей сидя и разомлевшей от тесноты и жары, попробовал обнять ее, но получил крепчайшую оплеуху. Вскочил, захохотал, поглаживая щеку, и все-таки изловчился влепить молодухе прямо в губы звонкий поцелуй. Все это добродушно, свободно, легко. Постоял над игроками, покачивая головой и словно примеряясь, какой картой он сам сейчас ударил бы. Пошел дальше. И тут его взгляд упал на Дубровинского.
— Фью! — присвистнул он. — Кто это тебя, реалист, так разделал?
И примостился рядышком на скамье, где длинно, заливисто похрапывала старуха, щелкнул пальцами по медной бляхе на поясе Иосифа. Дубровинский отвечал неохотно. Однако рассказал все, как было и во всех подробностях.
— У-у, — протянул парень, разглаживая свою бородку, — ты еще дешево отделался. Вон в Саратове такого же, как ты, реалиста насмерть убили. А барак холерный сожгли. И в Царицыне, в Астрахани тоже было такое. Не слыхал?
— Слышал. Когда еще дома был, рассказывали.
— Так чего же тебя понесло в это Кроснянское? Какая холера кинула тебя сюда на холеру?
— Народу хотелось помочь. А доктор — знакомый.
Парень враз стал как-то серьезнее. Задумчиво подергал себя за длинный чуб.
— Помочь народу… Помочь народу… А ты знаешь, как нужно ему помогать? Не в одном Кроснянском холера. И от голоду тоже по всей России крестьянство мрет. Сорок миллионов голодных. Чем ты, реалист, всем им поможешь? А состоятельные господа — купцы, помещики, чиновники — балы, гулянья устраивают в пользу голодающих. Вот это помощь! Чем больше вина, шампанского выпьют и мяса слопают, тем больше — понимаешь? — и выгода для голодающих. От выручки буфетной. Скажем, у какой барыни сердце доброе, так она там пьет и жрет, бедняга, из последних сил. И хотя после, может, неделю целую животом мается, а довольная, радостная: от ее старания и от жратвенного страдания кому-то сухарик бесплатный достался. Благодетельница! Вот как надо, реалист, помогать народу.
У Дубровинского в глазах вспыхнули сердитые огоньки.
— В Курске тоже бывают такие вечера. Афиши во весь забор. Музыка гремит. Танцуют. А я бы… ноги перешиб танцорам! Кощунство это — так «помогать» от голода умирающим.
— Да ты, реалист, с характером! — удивленно проговорил парень. — Только известно ли тебе, что сейчас ты против власть предержащих говоришь!
— Мне все равно. Говорю против несправедливости!
— Н-да! Так ты что же, решил справедливости добиваться? И каким же способом? «Ноги подшибать» высшему обществу?
Иосиф промолчал. Он не знал, как ответить на вопрос. Встали в памяти Стенька Разин, Кондрат Булавин, Емельян Пугачев. Все они боролись против несправедливости и обязательно против царя. Действительно, этого ли хочет и он, реалист Иосиф Дубровинский? Прямо, в упор никто ему еще и он сам себе не задавал такого вопроса. А кто этот чубатый парень? И зачем он ведет свой разговор?
— Ты слыхал про «Народную волю»? — оглядываясь по сторонам, спросил парень.
— Ну… слыхал.
— Вот там как раз такие любители властям «ноги подшибать». В царей бомбы бросали. И убивали. Только цари все равно себе царствуют, а заговорщиков, террористов — на виселицу. Так-то, реалист. Мой совет: на язык поосторожней будь. Особенно с незнакомыми. — И подмигнул дружелюбно: — А то ведь дойдет до начальства — из училища выгонят… Ну, меня ты можешь считать за знакомого. Закурим?
Он полез в карман, достал потертый кожаный портсигар. Щедрым жестом подал его Дубровинскому. Иосиф стеснительно отстранился.
— Нет, нет, спасибо, я не курю.
— Точнее: еще не курил? Ну так сейчас закуришь! «Катык», второй сорт. Гильзы сам набивал. Угощаю! Прошу!
— Не закурю, — решительно сказал Иосиф. — Никогда я не закурю.
— Ну вот, так уж и никогда! Не курил, я согласен. А как же ты можешь вперед поручиться?
— Могу. За себя я могу.
Парень засмеялся. Хлопнул Иосифа по плечу.
— Упрям. Это, между прочим, неплохо. А курить, пожалуй, и верно тебе не стоит. Тощенький ты какой-то. От табаку у тебя легкие почернеют.
И закурил с наслаждением. Долго молчал, попыхивая папиросой. Молчал и Дубровинский. Парень нравился ему, но в то же время и раздражал своим апломбом, категоричностью суждений. Интересно, кто он такой, куда, зачем едет?
Преодолев обычную свою стеснительность, Иосиф все-таки спросил. Парень охотно ответил, что сам он питерский, едет домой из Одессы. Гостил у бабушки. А работает слесарем в мастерских Варшавской железной дороги. Зовут Василием. По фамилии… тут сказал он что-то невнятное. А переспросить его Иосиф не посмел. Настал черед рассказывать о себе. Василий присвистнул, когда узнал, что едет Иосиф в Орел, а Кривошеина Александра Романовна приходится ему близкой родственницей.
— Фью! Фабрика без трубы! Вот случай нас свел. Слыхал я о Кривошеиной. Сестра одного орловского приятеля моего как раз у Кривошеиной мастерицей работает. Высокая, красивая — Клавдия. Она рассказывала. Н-да! Только хотя фабрика и без трубы, но для тетки твоей труба найдется, чтобы вылететь.
— Это почему? — спросил Иосиф. Ему стало обидно за тетю Сашу. Такая умная, ласковая, отзывчивая — и «в трубу вылетит».
— Почему? — повторил Василий. — Да потому, что душа у нее очень добрая. Выжимать соки из работниц своих она не способна. Капитализм только на чужих соках и держится. А тут противоречие: должна выжимать соки, но не может. Значит, или характер меняй, или, как мелкий предприниматель, вылетай в трубу. Ты «Что делать?» Чернышевского не читал?
— Читал! — оскорбленно сказал Иосиф. Он очень много прочитал разных книг. Без книги дня прожить не мог. А роман Чернышевского у курских реалистов переходил из рук в руки.
— Знаешь, твоя тетя Саша получается в чем-то на манер Веры Павловны. С той только разницей, что Вера Павловна создавала образцовые мастерские по определенной программе: она конечную цель видела, — а Кривошеина, извини, завела свою мастерскую совсем без программы. Когда же человек действует, куда сивка вывезет, то сивка чаще всего вывозит не туда, куда надо. Что же, мне Кривошеину и жаль и не жаль. По рассказам Клавдии, тетка твоя — человек хороший. Пострадает, жаль. А что эксплуататор из нее по характеру ее не выйдет, так совсем не жаль. Даже радостно. Что она свою мастерскую завела совсем без программы, тоже жаль. Но что при этом жадность не одолела ее, никак не жаль. В общем, ничего, если в трубу она вылетит! И тебя, реалист, не жаль, если побыстрее начнешь собственными руками кусок хлеба зарабатывать. Человека только труд человеком делает.
— Тетя Саша всегда наравне с мастерицами работает, — сказал Иосиф. — Закончу реальное училище, и я на службу поступлю.
— Куда же? — с интересом спросил Василий.
— Пока не знаю, — признался Иосиф. — Очень люблю математику, задачи решать, головоломки разгадывать. Научные статьи читать люблю. Об открытиях, изобретениях, о жизни людей в разных странах. Если бы можно, я бы весь свет объездил! Всю Европу, Америку…
— Америку… — задумчиво проговорил Василий. — Что же тебя там привлекает? Мустанги, прерии, ковбои? Небоскребы Нью-Йорка или вигвамы диких индейцев? А ты знаешь что-нибудь об американских рабочих?
— Н-нет…
— О чикагской трагедии слышал?
— Н-нет…
Прежняя простоватость, с какой он пел, наигрывал на гармони и поначалу завел разговор с Иосифом, теперь слетела с Василия прочь. Серьезно, сосредоточенно, будто беседуя сам с собой, он принялся рассказывать о борьбе американских рабочих за свои права. Как однажды собрались они в Чикаго на большой митинг, а тут облава — полиция, войска. Зачинщиков, организаторов митинга арестовали. Несправедливый, безжалостный суд. Пятерых казнили. Но перед лицом смерти рабочий Шпис бесстрашно бросил палачам гневные слова: «Может быть, повесив нас, вы погасите искру, но там — и там и там! — за вашей спиной, перед вашими глазами, всюду вокруг вас снова вспыхнет пламя. Это подземный огонь. И вам не погасить его!» А власти все же полагали: на этом конец, народ достаточно запуган. Притихнет трудовой люд, примирится со своей судьбой. Ан шесть лет с тех пор прошло, да ничего не забылось. Рабочие всего земного шара тот жестокий майский день запомнили крепко. И на парижском международном социалистическом конгрессе постановили: память погибших в петле чикагских товарищей каждый год и повсюду отмечать первого мая. Пусть эксплуататоры, душители свободы знают и трясутся от страха: государства, державы — разные, а рабочий рабочему всюду брат…
Иосиф слушал, не перебивая. Хотелось спросить, что означает социалистический конгресс, который принял такое хорошее решение, касающееся всех, и почему же у них в Курске день Первого мая все считают обычным днем. Хотелось спросить, откуда сам-то Василий узнал обо всем этом. Но он боялся, вдруг тот, выйдя из настроения, оборвет свой волнующий и необычный рассказ. Вытянулся, ловя каждое слово. Ведь это же все из самой жизни.
А Василий, будто угадав, что именно больше всего интересует Иосифа, продолжал свой рассказ, наклонясь к самому уху, чтобы не мешал стук колес и храп, доносящийся теперь со всех сторон:
— В прошлом году наши питерские рабочие тоже собрались на свою первую маевку… Знал бы ты, как собирались! Место глухое, за Путиловским заводом. Одни по заливу на лодках, другие по «горячему полю», через свалку, в обход. Надо обвести полицию вокруг пальца. Ты вот говоришь, о «Народной воле» слышал, а тогда…
Он внезапно оборвал свой рассказ, вдавился к самой стене за спину Иосифа, в тень, куда не падал вовсе свет от фонаря. Шепнул досадливо:
— А, черт!.. Ты последи за тем вон, что вошел сейчас…
И Дубровинский увидел, как в дальнем конце вагона появился невысокий мужчина, с тонкими усиками, слегка сутулящийся. Мужчина двигался по проходу медленно, то и дело поправляя на голове серый картуз, оглядывая спящих как будто так лишь, совершенно между прочим. Шел, широко позевывая и при каждом зевке похлопывал себя по губам ладошкой.
Добравшись до гармони, оставленной Василием, он задержался на минуту, особо внимательно оглядел всех по соседству. Тронул гармонь пальцем. Еще постоял в нерешительности, передергивая картуз на голове, и подошел к картежным игрокам. О чем-то их спросил. Крайний игрок раздраженно отмахнулся и показал рукой вперед, как будто говоря: «Да вон туда пошел он, в клозет, наверно». Человек в сером картузе кивнул благодарно и заторопился.
— Ушел, — сказал Иосиф. И горло у него перехватило от волнения. — Гармонь пощупал и чего-то спросил у тех, которые играют…
Вагон застучал и запрыгал сильнее. Мотало его, должно быть, на стрелках. Поезд приближался к какой-то маленькой станции.
— Это свои, — шепнул Иосифу Василий. — А тому — ты помалкивай, если спросит.
Вскочил, прошагал мимо картежников, подмигнув им озорно, и скрылся за той дверью, откуда вначале появился человек в сером картузе.
Он, человек этот, возник снова возле играющих, когда Василия уже и след простыл.
Скрежеща тормозами, поезд сбавлял ход.
3
Орел, с его прямыми светлыми улицами, весь тонущий в зелени кленов, дубов и тополей, торжественно и горделиво приподнятый над бескрайными просторами окрестных пашен и лугов, разрезанных вольно вьющимися средь холмов величавой Окой и тихим Орликом, был любимым городом Иосифа. Почему? Пожалуй, он и сам толково объяснить не сумел бы.
Может быть, потому, что Курск ему попросту надоел. Сколько помнил себя Иосиф, все один и тот же дом, двор, ограда и за воротами грязный окраинный переулок с разбитыми, хлопающими тротуарами. А поездки в Орел всегда открывали для него что-то новое. Казалось, тут он взбирается по ступеням огромной лестницы, которая ведет неизвестно куда. Здесь выход в мир.
Может быть, и потому он так любил Орел, что в Курске не было красавицы Оки и не было крутых надречных обрывов, где удивительно легко дышится и думается легко.
А может быть, и потому еще, что Курск все время как-то напоминал о печальной кончине отца и первых очень трудных годах без него. Из Липовцев, где он был похоронен, знакомые монашки привозили летом засохшие стебли травы с могилы. Мать угощала монашек чаем. А потом они вместе садились в кружок и долго вели тихие унылые разговоры. В Орле же, в доме тети Саши, всегда царили веселье, бодрость, вера в успех любого задуманного дела.
Неизвестно, грустила ли и плакала когда-нибудь тетя Саша. Если да, так разве наедине. Никто не видел ее скучающей или в слезах. Тетя Саша никогда не болела. Не умела сердиться. Немного грузноватая, она обладала удивительно легкой походкой, двигалась, словно плыла. На тугих розовых щеках тети Саши — ни единой морщинки. Безделье для нее было наитягчайшей мукой. Отсидев вместе со своими работницами положенные часы в мастерской за шитьем, тетя Саша немедленно принималась за хлопоты по дому. Проверяла, как управлялась кухарка Аполлинария с обедом, а горничная Фрося с уборкой квартиры. Только что, казалось, она гремела посудой на кухне, как тут же появлялась в гостиной или уносилась по делам куда-то еще. Ну а когда кончался все же беспокойный день, неизменно удачливый и веселый, и можно было рухнуть всем мягким телом своим в мягкую глубокую перину, она делала это с блаженным восклицанием: «А-а-ах!» И в тот же миг засыпала.
Приятно, интересно было ездить из Курска в гости к тете Саше.
И вот Иосиф ехал к ней.
На этот раз он ехал не в гости, а насовсем, покидая Курск, меняя место жительства. Ехал вместе со всей семьей.
Ночь. Стучат колеса. Ночь, похожая на ту, когда он с забинтованной головой уезжал из Кроснянского. Прошло ровно три года. Много. С тех пор он ездил в Орел не раз. А почему-то вспомнилась сейчас именно та ночь. Фонарь под потолком, в нем оплывшая стеариновая свеча. Картежники. Гармошка. И — «г-город Никола-пап-паев, французский завод…».
Где теперь Василий? От филера он сбежал тогда ловко. А через две недели все же попался. У себя дома, в Питере. Как будто бы он сослан не то в Екатеринослав, не то в Борисоглебск. Ну что же, бывают ссылки куда дальше. На Север, в Сибирь, в Якутск, например. Костя Павло́вич обещал разузнать насчет судьбы Василия поточнее. Разговорились, разобрались, оказывается, Костя знает его давно, по Петербургу, слышал даже речь Василия на той самой маевке. Оба они, и Костя Павлович и Василий Сбитнев, работали в группе Бруснева…
Иосиф прижался лицом к прохладному стеклу. На этот раз просторно, вагон третьего класса, не так страшно бросает на стрелках. И можно бы уснуть, местечко есть отличное, вон братья Яков и Семен лежат обнявшись, посапывают тихо. Прикрыв плечи клетчатой шалью, дремлет мать. Ему же спать совсем не хочется. От Курска до Орла не так-то далеко. Почтово-пассажирский поезд идет, правда, медленно, а все-таки придет к рассвету. Не столь уж важно выспаться. Куда существеннее разобраться в настроении, с каким он едет в Орел.
Навстречу поезду бежали черные телеграфные столбы. Казалось, они радушно раскинули руки. Темной волнистой линией тянулся бесконечный лес. Наверно, очень теплая ночь там, за стеклом. Открыть бы окно. Да мать боится сквозняков. Она и всех в семье приучила опасаться не только распахнутых настежь дверей, но даже слегка приоткрытых форточек и плохо промазанных зимой вторых оконных рам.
У тети Саши им, конечно, будет спокойнее. Просторный двухэтажный дом. Внизу — хорошая светлая мастерская. Мать с доброй завистью часто говаривала: «Не мастерская — одно удовольствие». Теперь ей работать будет полегче. А это главное. Она недаром боится сквозняков — больна, очень больна. В Орле отпадут у нее и многие домашние заботы. Тетя Саша возьмет их тоже на себя. И дело пойдет, хотя, может быть, и не с той бережливостью, с какой повела бы общее хозяйство мать. Тетя Саша не любит считать копейки. Она придерживается правила: если есть деньги — их нужно тратить. Мудрое правило! Нет ничего противнее скряжничества, скопидомства. Они неизбежно обрекают человека на постепенное нравственное разрушение.
Иосиф вглядывался в темноту, в бегущие навстречу телеграфные столбы. Три года назад столбы эти были точно такими же. И лес поодаль. И так же постукивали колеса. Все вроде бы ничуть не изменилось, а между тем настроить себя на тот, на прежний лад он уже никак не может. О чем думалось ему тогда? Что стояло перед глазами за окном в глубине такой же вот ночи, помимо леса и этих бегущих навстречу телеграфных столбов?
…Голодные, потерявшие надежду на спасение люди, вереницы детишек, бредущих по дорогам с сумой, именем Христа вымаливающих кусок хлеба, черного, липкого, с лебедой. Холера, пришедшая об руку с голодом, сковавшая всех страхом мучительной смерти. Бесчинства властей, с чудовищной жестокостью выбивающих недоимки из крестьян — «недоимки»! — даже тогда, когда человек уже обречен на гибель…
Ах, как мечталось тогда ему, Осе Дубровинскому, стать вторым Степаном Разиным или Емельяном Пугачевым, поднять крестьянское восстание!
Но понимал он, чутьем угадывал, что любое такое восстание, подними его, обернется, как и разинское и пугачевское, только потоками безвинной крови.
Где же, где та сила, которая способна сбить оковы с измученного народа?
А ведь есть, должна быть сила такая!
И не случись тогда нечаянной встречи в поезде с Василием Сбитневым, не завяжись разговор о рабочей маевке в Питере, может быть, он, Иосиф, и не схватился бы потом с такой жадностью за брошюру Плеханова «О задачах социалистов в борьбе с голодом в России», за брошюру, которая из-под полы попала ему в руки год спустя после того тревожного лета в Кроснянском, брошюру, в которой среди многих картин тяжких бедствий народных изображена была и Курская губерния, и даже тот самый случай с крестьянином Платоновым, которого волостной старшина Польшин, выбивая недоимку, обливал холодной водой. Как впивался глазами он в каждую страницу, в каждую строку этой книжки, дышащей суровой правдой жизни и написанной так просто, что казалось, в ушах звучит голос рассказчика.
Ах, встретиться бы, повидаться с этим человеком, так умно, вдохновенно пишущем о зреющей, необходимой революции!
Революция… Теперь, когда тебе уже восемнадцать лет, когда прочитаны «Манифест Коммунистической партии» и «Положение рабочего класса в Англии» Фридриха Энгельса, «Ткачи» Гауптмана, «Социализм и политическая борьба» и «Наши разногласия» Плеханова и еще, еще немало брошюр, подписанных лишь одной, двумя буквами или даже совсем не подписанных; теперь, когда ты знаешь о «Южнороссийском союзе рабочих», разгромленном полицией, о многих марксистских кружках, организованных Ювеналием Мельниковым, о марксистских группах Благоева и Точисского, о группе «Освобождение труда», созданной тем же Плехановым, и осознал, к какой великой цели стремились и стремятся все эти люди; теперь, когда ты и сам стал участником «кружка саморазвития» братьев Павло́вичей и научился вникать в глубинную сущность прочитанных тобой марксистских книжек, — теперь слово «революция» для тебя не загадка, а смысл всей жизни. Ведь революция — это свобода. Революция — торжество справедливости.
На неверно избранных путях погибло много честных борцов за свободу. Одни рассчитывали только сами на себя, тешась надеждой добиться победы в неравном личном поединке с царем. Другие пытались пойти стеной на стену, ударить силой мужицкой, крестьянской против дворянской, помещичьей силы. Третьи искали желанный исход в торжестве разума. И все оказывалось ошибочным, ложным, приводило всякий раз к катастрофе. Так же, как если бы этот поезд сейчас пустить не по рельсам, а по проселочной дороге. Плеханов в своих работах развивает мысль о совершенно новых путях к победе.
Рабочий класс, пролетариат — вот главная движущая сила революции. Содействовать росту классового сознания пролетариата — значит ковать оружие, наиболее опасное для самодержавия.
Ну, а потом, когда оружие будет выковано, кто поведет за собой пролетариат? Это же — миллионы! Кто будет во главе миллионов?
Организация, партия… Да, но как создать ее? Не в рассуждениях, а на деле. Как создать ее под «недреманным оком» жандармов, полиции, когда провалы даже простых просветительских кружков следуют один за другим? Кружков, никак не связанных между собой. А партия рабочих… Это же вся Россия! И не иначе как вся Россия. Только тогда партия будет сильна.
Иосиф задумчиво провел рукой по лицу. Вдруг ощутил, что на верхней губе у него топорщатся жесткие волоски. «Усы», — чуть улыбаясь, подумал он.
Вспомнилось прочитанное давным-давно на обложке «Нивы» рекламное объявление: «Настоящим мужчиной юноша становится лишь тогда, когда он сможет закручивать свои усики. Юноши! Пользуйтесь нашим патентованным средством „Оксоль“, и менее чем через полгода вы станете обладателями пышных усов. Вы будете мужчинами! Препарат высылается тотчас по получении почтового перевода». Вот как нетрудно, оказывается, повзрослеть. И ведь потянулась было тогда рука к почтовому бланку: в десять лет очень хотелось приобрести за полтинник пышные усы и звание мужчины. Но вошла мать, увидела журнал, бланк перевода, сообразила, в чем дело, и возмущенно всплеснула руками: «Ося! Это же чистое жульничество, афера! Придет пора — усы у тебя вырастут сами». Ну вот, пора эта, кажется, пришла. И теперь, если бы ты, Иосиф Дубровинский, даже и захотел остаться мальчиком, все равно ты мужчина. Рассуждай и действуй уже как мужчина.
У тети Саши в Орле им будет, конечно, неплохо. Спокойней, сытнее. Можно устроиться и в дополнительный класс реального училища, чтобы потом поступить в университет. Да, в Орле ожидает много заманчивого, да… Но в Курске остался «кружок саморазвития», куда более интересный и содержательный, чем любой урок в казенных школьных стенах. Остались братья Павло́вичи с их будоражащими душу рассказами. Остались добрые друзья, на которых можно было во всем положиться, как на самого себя.
Неужели в Орле ничего этого не будет? Снова парта, крутой берег Оки и удобная комната в просторном доме тети Саши по Волховской улице, главной улице города…
Прощаясь, один из Павло́вичей сказал: «Ну, Ося, счастливой дороги! И всяческих удач тебе на новом месте. А в Орле ты все же приглядывайся. Повнимательнее. Возможно, и там есть похожий на наш марксистский кружок. Продолжай! Знаю, в Орел был выслан из Москвы Григорий Мандельштам, знаю, там жил Заичневский — не может быть, чтобы они не оставили никакого следа, не такие это люди. Но адресов дать я тебе не могу, нет их у меня. Действуй сам. Только, когда станешь искать единомышленников, Ося, будь осторожен. Повторяю: прежде всего осторожен!» Так предостерегал когда-то и Василий Сбитнев. А вот же и сам, конспиратор очень опытный, попался в лапы жандармам.
Создать партию пролетариев, революционеров… А с чего же начать? Кто начнет? Как отыскать, сблизиться с таким человеком, который способен начать? И после, с ним вместе, до конца, до победы!..
Плеханов, похоже, начал уже. Но он живет неведомо где, за границей, никак не подашь ему свой голос: «Я тоже готов. До конца. С вами вместе». И не выйдешь на площадь, скажем, в том же Орле, не крикнешь: «Друзья, кто за свободу — ко мне!» А выжидать, когда тебя найдут, позовут другие, избегать даже малейшего риска — ну, нет! Василий Сбитнев, между прочим, сказал тогда: «Воспитывать в себе труса тоже не следует».
Иосиф усмехнулся, припомнив, как в Кроснянском волостной старшина Польшин накостылял ему по шее и как разгневанные мужики в холерном бараке кирпичом расшибли ему голову. Пусть! Досталось за ошибки, за безрассудную «храбрость», мальчишество, но не за трусость.
Ночная темень стала как будто чуточку реже. Много разъездов и полустанков пробежал поезд, много делал и остановок. По расчету времени скоро быть бы уже и Орлу. А спать не хочется, никак не хочется.
Меняется не просто адрес — меняется жизнь. Неизвестно, как она сложится в Орле для каждого из семьи, но для него-то совершенно ясно одно: беззаботное детство, зоревая доверчивая юность теперь останутся уже навсегда только лишь теплым, милым воспоминанием, останутся в памяти, как игрушки, подаренные при отъезде соседским мальчишкам.
Мать спала, нервно подрагивая плечами. Иногда тихо стонала. Ее точит медленная болезнь. И еще заботы о семье, о детях. Всех надо обуть, одеть, накормить. В Орел она едет с радостью и с чувством стесненности. Добрый, щедрый человек тетя Саша, но все-таки что там ни говори, а сядут они ей «на шею». Преодолеть в себе сознание этого нелегко. Бедная мама!
Большие огорчения причиняет ей Григорий. Юнкерские с золотом погоны на плечах не сделали сердце его золотым. Он сух, заносчив, себялюбив. Присылает письма домой только к праздникам Нового года, пасхи и рождества. Пишет, явно подчеркивая, что выполняет сыновнюю обязанность. Да, лишь обязанность. И знать это грустно им всем, а матери в особенности.
Ну, а если бы она еще знала, что и второй ее сын, Иосиф, может быть, тоже не оправдает надежд? Пусть совсем по-другому, но все-таки не оправдает. Он не станет ни торговцем, ни арендатором, ни владельцем мастерской. Он не будет искать путей к сытой, обеспеченной жизни. А ведь каждой матери хочется, чтобы детям жилось хорошо. Ну, не обязательно стать им торговцами, или арендаторами, или владельцами мастерской, но все же надо приобрести какое-то солидное положение в обществе. Мама, мама, она привыкла видеть «общество» только с одной стороны. Он, Иосиф, видит его совсем с другой. И он не может, никак не может избрать себе иной путь, кроме пути в революцию. Если бы мама предполагала это!
Нагнулся, заботливо поправляя шаль на ее плечах. «Если бы только она предполагала!..»
И не догадывался, что мать знает все. Незадолго до выдачи ему свидетельства об окончании Курского реального училища директор училища вызвал ее к себе, беседовал с нею и все выпытывал: каковы настроения Иосифа, что он читает дома, с кем поддерживает знакомство? Намекал, что есть некоторые предположения… И просил, «дружески просил мадам Дубровинскую» обратить на поведение сына вне школы особое внимание, пресечь все сомнительные связи, если есть таковые. Слегка пугал, что не внять его словам — значит поставить под угрозу будущность сына и — кто поручится? — может быть, даже будущность семьи.
Не знал Иосиф и о том, как ответила директору мать. Не знал, что сказала она очень сдержанно, гордо, хотя и волнуясь: «Господин директор, я поняла. Но Ося никогда не позволит себе ничего плохого». А придя домой, постояла над рабочим столом сына, над сумкой, набитой книгами, ничего не тронула, но потом долго сидела задумавшись. Ему же, Иосифу, не задала ни единого вопроса.
А поезд все катился и катился. На крутых закруглениях истошно орал паровоз. Рассвет постепенно сменился желтой зарей. Небо казалось исчерченным тонкими стрелами перистых облаков.
Иосиф никак не мог оторваться от окна. Он любил движение. Так бы вот всегда мчаться и мчаться вдаль. Но скоро, уже скоро Орел, конец пути. Он поправил ремень на рубашке, закрыл глаза. А что, если представить себе: Орел — только начало пути?
4
Уже на третий или четвертый день по приезде тетя Саша показала Иосифу, где находится реальное училище. Дошла вместе до крыльца, высокого, с боков обнесенного перилами, покоящимися на узорчатых железных решетках, сказала торжественно и в то же время доверительно:
— Ну вот, Ося, сдавай господину директору свои документы, а все остальное сделано.
— Что сделано, тетя Саша? — с неожиданной для самого себя строгостью спросил Иосиф. Неужели для того, чтобы поступить в дополнительный класс реального училища, кроме оценок в аттестате, нужна еще и чья-то протекция!
— Ах, Ося! — она драматически всплеснула руками. — Разве ты не знаешь моей манеры разговаривать?
Невозможно было на нее рассердиться.
Директор принял заявление, спросил о каких-то пустяках и назначил день, когда прийти за ответом. Подразумевалось при этом, что ответ будет несомненно положительным.
Тетя Саша стояла у крыльца.
— Как удивительно, Ося, вот совпадение! — воскликнула она. — А я тут зашла к своей заказчице, возвращаюсь от нее, и ты как раз появляешься. Что пообещал тебе господин директор?
Иосиф засмеялся. Из окна директорского кабинета он видел, как тетя Саша прогуливается по тротуару перед зданием училища и все теребит, мнет в руках носовой платочек. Можно было бы напугать ее, объявив, что в приеме отказано. Да не повернется язык даже в шутку сказать такое, он ласково поблагодарил тетю Сашу.
Мимо прошла невысокая, сухощавая женщина. Молодая, лет двадцати семи. Из-под шляпки с левой стороны выбивались черные, коротко остриженные волосы. Кивнула Александре Романовне, чуть задержалась взглядом на Иосифе.
— Кто это? — спросил он.
— О, это Лидочка! Семенова Лидия Платоновна. Женщина прелесть. Но уже вдова. Посмотри, Ося, какая на ней шляпка. Мое изобретение. Всю до последнего стежка сшила собственными руками. Правда, фасон замечательный? Для такой милой особы стоило постараться.
— Чем же она заслужила ваше внимание?
Тетя Саша пожала плечами.
— Я не знаю, как тебе объяснить. Ее судили. Младшего брата ее, Максима, тоже судили. Отец содержит часовую мастерскую…
— И за это судили?
— Не смейся, Ося, конечно, не за это! Но ведь я сказала уже: не знаю, как объяснить. Они оба — брат и сестра… говорили речи, какие нельзя говорить. И книги такие читали. Но это все благородно, ты можешь поверить мне. Стоит только послушать их разговоры.
— А как же их послушать? — словно бы вскользь спросил Иосиф. Его очень заинтересовало разъяснение тети Саши.
— О, Лидочка часто заходит ко мне в мастерскую! Вместе с Максимом и еще с кем-то из своих друзей. Может быть, это плохо, что я им сочувствую? Но как же можно было судить таких прекрасных людей! И за что? За благородные слова, за разговоры! Или я совсем ничего не понимаю? А Максим, мне кажется, заглядывается на нашу Клавдию — мастерицу.
Иосифу вдруг вспомнился рассказ Василия Сбитнева о каком-то его товарище, который знает Клавдию. Не о Максиме ли это говорилось?
И он постарался повидаться с ним как можно скорее. Он встретил его и Семенову, когда те, поболтав немного с тетей Сашей и Клавдией, выходили из мастерской. Максим крепко пожал ему руку. Семенова улыбнулась, сказала, что очень памятлива на лица, и напомнила о встрече у крыльца реального училища.
Иосиф не знал, как начать разговор, не знал, надо ли ему под каким-либо предлогом оказаться с Максимом наедине.
Тот понял: новый знакомец явно хочет поговорить не о погоде и не о фасонах дамских шляпок.
— Ты не стесняйся, секретов от Лидии у меня нет никаких. — Он доверительно и в то же время с превосходством старшего по возрасту толкнул Иосифа под бок. — И меня не стесняйся. Не бойся, если уж познакомились.
— Чего мне бояться… — смущенно проговорил Иосиф. Вот ведь как сразу разгадал его Максим.
— Ну, мало ли чего! Вдруг заводишь дружбу с крамольниками…
Иосифа задело за живое.
— А я и сам, может быть, крамольник! — задиристо сказал он, но прозвучало это вроде бы шуткой.
— Какой вы крамольник! — в тон Иосифу заметила Семенова. — Вас еще даже ни разу не арестовывали.
— Зато так отдубасил один раз по шее волостной старшина, что век не забуду.
— Да? И как это случилось?
— Вступился за поруганное достоинство человеческое.
Он рассказал в подробностях о событиях лета, проведенного в Кроснянском. Отметил, что издевательства над крестьянами волостному старшине даром не прошли, лишился своей должности Польшин. Может быть, тут сыграло роль и его, Дубровинского, письмо, которое он сгоряча послал губернатору.
— А я ведь об этой истории читал, — сказал Максим. — Да, точно, читал. В одной из статей Плеханова. Только не помню, было ли в ней упомянуто о том, как ты получил подзатыльник.
— Ну это же совсем мелкий факт! — Иосиф покраснел. Ему подумалось, что рассказ его может быть, пожалуй, истолкован как глупое бахвальство. Конечно, на смещение Польшина с должности одно лишь письмо какого-то там реалиста никак не повлияло бы, — видимо, чаша переполнилась через край. Иосиф поправился: — Мне просто очень хотелось, чтобы Польшина выгнали. Вот я и добавил о себе. Это правда. Но совсем мелкий факт.
И сразу как-то проще, свободнее пошел разговор. Лидия и Максим отлично знали деревню, все ее беды и нужды. Они много ходили по селам, вели беседы с крестьянами, раздавали брошюры, недозволенного содержания. За это, собственно, и привлекались к судебной ответственности. До тюрьмы не дошло, их отдали только под гласный надзор полиции…
Лидия спешила, и на этом первое знакомство закончилось. Расставаясь, Иосиф пригласил их обоих, брата с сестрой, заходить не только в мастерскую к тете Саше, а и в гости к нему.
Через неделю-другую Максим, вороша кудряшки своих черных волос, делился с Иосифом грустными размышлениями о бесплодно потерянном времени из-за увлечения народническими идеями. Сетовал, как трудно доставать марксистскую литературу и потому приходится порой читать черт знает что. А пока разберешься в прочитанном, оно все-таки давит на сознание.
Иосиф заговорил о кружках самообразования.
— Ну, были тут кружки Заичневского, — отозвался на это Максим. — Так они чисто народнические. Мы с Лидией как раз в них и набрались ложных идей. А потом, когда стали читать труды марксистов, видим, не то.
— Вот статьи Плеханова… — раздумчиво начала Семенова.
— Ну! Тут сила, убежденность! — воскликнул Иосиф, непроизвольно прервав ее. — Я не знаю, кто еще может писать так. Надо нам создать свой кружок. И читать Плеханова!
— Свой кружок… А что? — Глаза Семеновой загорелись. — Хорошо!
— Н-да… Пригласить бы Родзевича-Белевича, — оживился и Максим. — Товарищ надежный.
— А кто он такой? — спросил Иосиф.
— Сотрудник здешней газеты. Через него мы только и достаем хорошую литературу. У него связи с Петербургом.
— Пригласить можно и землемера Алексея Яковлевича Никитина, — подсказала Семенова.
— Ну, конечно, без всяких сомнений! — с какой-то особой многозначительностью взглянув на сестру, засмеялся Максим. — Только сейчас Никитин в отъезде.
— Вернется, — спокойно сказала Семенова и слегка покраснела. — А еще я назвала бы Володю Русанова.
— Семинарист, — как-то неопределенно протянул Максим. — Его все к Ледовитому океану тянет.
— Ну и что же? — возразила Семенова. — Он по складу своего характера исследователь, ученый. Поможет нам в теориях разбираться.
— В теориях каждый должен хорошо разбираться, — усмехнулся Иосиф. — Худо, если кто-то один у нас окажется на правах оракула, а остальные будут внимать ему…
В следующий раз они собрались уже впятером. Кружок родился и начал работу.
Встречались чаще всего за городом, на крутом берегу Оки, меняя каждый раз место встречи. Беседовали не подолгу и расходились в разные стороны. Кто с букетом цветов, кто обстругивая перочинным ножом таловую палочку.
С первых встреч Иосиф предупреждал:
— Товарищи, прежде всего конспирация.
Русанов было воспротивился: есть ли смысл играть в заговорщиков, коли в их встречах и делах не будет ничего предосудительного с точки зрения полиции? Но тотчас же ему очень резко ответил Родзевич: тогда и собираться нет никакого смысла, если не заниматься ничем «предосудительным». А Максим прибавил, что разгром кружков Заичневского — достаточно убедительный пример беззаботного отношения к конспирации и что Дубровинский прав: осторожность необходима. На том и поладили.
— Нет, мы не заговорщики, — заключил Иосиф, — но мы политическая организация, само название которой приводит полицию в ярость. И конспирация совсем не забава, как оценил ее Русанов. Это, может быть, сама жизнь наша! Игра? Да, мы должны научиться играть. Но играть всерьез, стать хорошими артистами. И этого по обстоятельствам тоже требует конспирация.
Как-то так повелось, что на собрания кружка Родзевич приходил последним. На него не сердились. Он всегда приносил что-нибудь интересное: нелегальные брошюры, листовки, весточки из Москвы и Петербурга. Всех еще занимали отзвуки таких событий, как смерть императора Александра III и восхождение на престол Николая II.
Родзевич рассказывал, что на следующий же день после кончины «августейшего» в Москве, на заборе одного из домов по Большой Семеновской, появилась написанная карандашом прокламация: «Да здравствует республика! Скончался варвар-император». Неделей позже в Московском университете начальство затеяло сбор денежных средств на венок «в бозе почившему». Произносили на кафедрах пышные речи, но, когда пустили сборщика с шапкой по кругу, в картузе оказалось всего-навсего несколько медных монет и… двадцать три пуговицы от студенческих мундиров. Ну, а в Татьянин день студенты проделали еще и такое. По традиции собрались вечером в ресторане «Яр», где обычно кутила самая знать и самодуры-миллионеры били зеркала, закуривали сторублевками, мазали горчицей физиономии официантам. Шел пир горой, гремела музыка. Студенты заказывали оркестру «Дуню», «Галку», «Дубинушку». Наперекор им кто-то из преданнейших престолу купчиков заказал гимн и стал подтягивать тонким, сладким голосом. Но едва зазвучали слова «боже, царя храни», весь ресторан наполнился таким свистом и улюлюканьем, что музыканты в страхе попрятались, а с улицы ворвался наряд полиции.
— Знамение времени! — посмеивался Максим.
— Интересно, как себя чувствует наш новый «обожаемый» император, когда ему такое докладывают? — спрашивал Русанов.
Родзевич продолжал рассказ:
— Студенты, разумеется, тоже бывают всякие. Нашлись и такие, что задумали обратиться к царю с петицией. Так и так, мол, вы нам немного свободы, а мы вам — заверения в совершеннейшей преданности. Петиция — от имени «всех студентов России». Но надо собрать подписи! Вот и помчались агентики из одного университета в другой — в Варшаву, в Ярославль, в Харьков, а тем временем императору доложили, что именно в Варшавском и в Петербургском университетах многие студенты вообще отказались принести ему присягу. И он, что называется, «собственной его величества рукой» начертал тогда хладнокровную резолюцию: «Обойдусь и без них!»
— Сочно! — не выдержал Дубровинский. — Ай да Николай!
— Ну, а что же все-таки с петицией? — спросила Семенова.
— А! — Родзевич пренебрежительно махнул рукой. — Не только некоторые студенты, но и более умудренные жизнью люди воспылали надеждой, что вот, мол, новый царь-государь одарит своей милостью и прочее. Повели вольнодумные разговоры. А что последовало на деле? Я почитаю вам сейчас письмо из столицы. — Родзевич сунул руку в боковой карман пиджака, извлек оттуда несколько густо исписанных листков, отыскал нужное место: — Вот! Выдержка из речи Николая Второго на приеме представителей дворянства, земств и городов: «Мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления. Пусть все знают, что я буду охранять начала самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял их мой незабвенный покойный родитель…» Вот вам и петиция!
— Борьба! Только всенародная борьба против деспотии! — выкрикнул Максим. И потряс кулаком.
— «Всенародная»… — с усмешкой отозвался Родзевич. — Ну вот и такая борьба предлагается. — Он перебросил несколько листков: — «Семнадцатого января произнесены слова, которые представляют собою историческое событие. Борьба объявлена с высоты престола, и нам, русским конституционалистам, остается только принять вызов…» Да. И называется это «Манифест русской конституционной партии». Итак, вызов принят. А далее: «Мы обращаемся ко всем слоям русского общества, непосредственно заинтересованным в изменении существующего строя…» Во как! Слушайте, слушайте! «Мы призываем все партии к единению на почве общего желания конституционного образа правления…» Подайте, ваше величество, косточку с вашего стола! Позвольте разделить с вами бремя государственной власти: вам — свобода действий, нам — свобода слова!
— И свобода пищевода, — делая вид, будто он поглаживает сытое брюшко, в рифму добавил Русанов.
Все рассмеялись. И остальные звонкие фразы «Манифеста», добросовестно дочитанные Родзевичем до конца, теперь принимались уже под общий смех. Расходились в самом веселом настроении. Острили на все лады по поводу «бессмысленных мечтаний», презрительно отринутых императором и все-таки лелеемых господами «конституционалистами».
А потом получилось как-то так, что кружок не собирался почти целый месяц. Новая встреча состоялась еще дальше от города, чем обычно, и в стороне от реки. Отыскали небольшую поляну среди молодых берез, развели костер — грибы собирали! — и, как всегда, стали поджидать Родзевича. Он явился возбужденным необыкновенно, швырнул с размаху в траву свою мягкую фетровую шляпу.
— Мне привезли из Москвы, знаете, что мне привезли из Москвы? — Родзевич сделал продолжительную паузу, вытаскивая из-под рубашки три толстые тетради в желтоватой обложке с синими машинописными буквами, которыми, заняв почти весь лист, был обозначен заголовок: «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?» — Вот что мне привезли!
Он стоял, удовлетворенно потрясая тетрадями. И все сразу потянулись к нему. Давно уже доходили слухи об этой интересной работе некоего анонимного автора. Знали еще — это смертельный удар по народничеству, но с подробной аргументацией автора знакомы все-таки не были. И вот теперь можно прочесть в полном виде.
— Дай сюда! — сказал Иосиф нетерпеливо.
Родзевич держал тетради высоко над головой.
— Читал — не заметил, как ночь пролетела. И убедился: теперь народничеству действительно конец. Оно убито, разгромлено в основе своей, в самой идее. Какой пафос, какая сила доказательств! После «Наших разногласий», написанных Плехановым, это… Товарищи, я не знаю, с чем сравнить это!
— Плеханова можно сравнивать только с Плехановым, — обиженно проговорил Иосиф. Он не мог снести, чтобы его кумир был так просто отодвинут.
Лицо Родзевича вдруг сделалось очень строгим.
— Не знаю, может быть, я сказал что-то и несправедливое, — ответил он, — но, когда я читаю Плеханова, я чувствую, как он смотрит на меня сверху вниз. А этот волжанин или петербуржец… Он не учит меня, он думает вслух со мной вместе.
— Работа анонимная. Может быть, и она написана Плехановым, — еще упрямясь, предположил Иосиф.
— Нет. — Родзевич отдал тетради Дубровинскому. — Читай! И ты сам убедишься.
Наступило молчание. Ветер тихо раскачивал молодые березки, пригибал к земле мягкие стебли лесного пырея, убегал куда-то совсем в чащу, а потом, словно бы сделав поодаль большой круг, опять накатывался с прежнего направления — теплый, манящий. Иногда пробивался к поляне терпкий грибной запах, смешанный с дымом костра. В березниках было полно груздей.
— Ты прочитай прежде всего самые заключительные строчки, — сказал Родзевич.
Иосиф принялся читать размеренно, неторопливо, как бы на вес и на объем проверяя каждое слово:
— «…На класс рабочих и обращают социал-демократы все свое внимание и всю свою деятельность. Когда передовые представители его усвоят идеи научного социализма, идею об исторической роли русского рабочего, когда эти идеи получат широкое распространение и среди рабочих создадутся прочные организации, преобразующие теперешнюю разрозненную экономическую войну рабочих в сознательную классовую борьбу, — тогда русский РАБОЧИЙ, поднявшись во главе всех демократических элементов, свалит абсолютизм и поведет РУССКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ (рядом с пролетариатом ВСЕХ СТРАН) прямой дорогой открытой политической борьбы к ПОБЕДОНОСНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ».
— Удивительно! Всего полстранички, а по существу целая программа, — тихо сказал Русанов.
— Почитай еще, — попросила Лидия.
Иосиф раскрыл тетрадь наугад.
— «…У господина Кривенко есть некоторые очень хорошие качества, — сравнительно с господином Михайловским. Например, откровенность и прямолинейность, — с прежней размеренностью читал Дубровинский. — Где господин Михайловский исписал бы целые страницы гладкими и бойкими фразами, увиваясь около предмета и не касаясь его самого, там деловитый и практичный господин Кривенко рубит с плеча и без зазрения совести выкладывает перед читателем все абсурды своих воззрений целиком…»
Он не мог уже остановиться, иначе оборвал бы грубо и неоправданно мысль анонимного автора где попало — так плотно и надежно в ней скреплены были слова.
Читал и читал, теперь совсем не замечая, как постепенно его собственные, личные интонации становятся иными, как обычное чтение превращается в живую, горячую речь оратора, трибуна.
5
Был поздний сентябрьский вечер. Только что поужинали, и тетя Саша, не скрывая зевоты, убеждала всех разойтись, лечь спать пораньше. День выдался для нее работный. Вместе с Аполлинарией и Фросей она промазывала окна, отмывала вторые, зимние, рамы. Александра Романовна хотя и не отличалась особой практичностью, но в этом знала толк: такие дела надо вершить всегда заранее, по погоде.
Позвонили в парадном. Тетя Саша всплеснула руками:
— Ну и кто это на ночь глядя может прийти в гости? Если бы я могла еще двигаться, я бы сама открыла дверь. Ося, пожалей тетины ноги. Только спроси сперва: кто?
Иосиф сбежал вниз по лестнице и, как всегда, бравируя своей смелостью, не задав предварительно никакого вопроса, сбросил длинный, тяжелый крюк со входной двери.
— Прошу вас!
Перед ним стоял высокий, тонкий юноша в студенческом пальто и фуражке. Постарше Иосифа лет на пять, на шесть. В руке он держал объемистый саквояж.
— Извините, пожалуйста, это дом Кривошеиной? — спросил юноша. И посмотрел направо и налево. Улица была пуста.
— Совершенно верно, — ответил Иосиф. — Проходите.
Юноша не спешил.
— Еще раз извините. А вы не Дубровинский? Иосиф?
— Да, я Дубровинский, — уже несколько озадаченно подтвердил он.
— Меня зовут Константином. Фамилия — Минятов. — И поздний гость протянул руку: — Будем знакомы. Я очень рад, что у двери этого дома прежде всего встретился именно с вами.
— Спасибо, — сказал Иосиф. — Но таким образом вы обижаете всех остальных в нашей семье.
— Нет, нет, — торопливо поправился Минятов, — я имел в виду совершенно другое. Именно с вами… мне проще объясниться. Дело в том, что я изгнан из Петербургского университета за участие в подготовке известной студенческой петиции. Потом судьба меня повела в Казань. Гостил в Либаве, оттуда вот в Орел. Близ Жуковки, двести верст отсюда, у меня небольшое имение. Жена, дочь-малышка. Но мне хотелось бы на некоторое время задержаться в Орле. Когда-то я здесь учился в гимназии. Однако всех знакомых растерял. Остановиться негде. А ваш адрес мне известен от Ивана Фомича, фельдшера в Кроснянском. Мы с ним… переписываемся. Вы помните Ивана Фомича? Впрочем, что же я спрашиваю! А документы мои вот, посмотрите. — Он вытащил из внутреннего кармана какую-то бумагу, сложенную вчетверо. — Это решение департамента полиции.
— Не надо. — Иосиф отстранил бумагу. — Входите. Хозяйка дома тетя Саша и все у нас будут вам рады.
— Тогда я охотно переночую здесь, а завтра примусь подыскивать себе более постоянное жилище. Со мною ехал еще один студент, мой друг Александр Смирнов, но у него положение лучше, есть знакомые, есть где устроиться. К сожалению, только одному.
Иосиф улыбнулся. Ну до чего же словоохотлив этот студент! А в общем, очень симпатичен.
— Квартира у нас большая, место найдется. Уверяю вас, тетя Саша не станет возражать, если вы поселитесь и на любое, нужное вам время.
— Только, знаете… я ведь могу навлечь подозрения.
Иосиф пожал плечами.
— Надо вести себя так, чтобы подозрения никогда не превращались в доказательства.
Сверху кричала Александра Романовна:
— Ося, что там случилось? С кем ты так долго разговариваешь? Какая-нибудь неприятность?
— Тетя Саша, приехал мой хороший знакомый.
— Боже мой! Тем более нельзя держать его у порога!
— Ему негде переночевать, а он стесняется…
— Неужели я сама должна спуститься вниз и привести его за руку?
— Вот видите! — вполголоса сказал Иосиф. — Она это сделает. Идемте!
И Минятов «пока что» поселился в доме Кривошеиной. Скромный, вежливый, очень общительный, он всем сразу понравился. Тетя Саша объявила ему, что никакой другой квартиры себе он пусть не ищет: для друзей Оси двери ее дома всегда открыты.
Правда, будь Александра Романовна да и Любовь Леонтьевна хотя бы чуть-чуть недоверчивы, они бы тут же смекнули, что «хороший знакомый» Иосифа мало ему знаком. Ни тот, ни другой толком не могли объяснить, когда и где началось их «давнее знакомство», не могли рассказать, что они вообще знают друг о друге.
Лгать матери, тете Саше, этим самым близким и дорогим людям, Иосиф не умел. Но и открываться им, посвятить во все свои тайны тоже было никак невозможно: жесткие правила конспирации не позволяли этого. Приходилось играть, приходилось импровизировать всяческие легенды о «прошлых» встречах с Минятовым, вести с ним за общим столом такие непринужденные разговоры, которые могли бы обмануть даже очень придирчивого наблюдателя. А придираться-то особенно было и некому. Любые промахи, ответы невпопад всегда встречались старшими поощрительным смехом и полностью были отнесены за счет некоторых странностей характера Минятова.
Словом, так или иначе игра удавалась. Хотя…
Хотя и не знал Иосиф, что мать очень часто провожает его и Минятова задумчивым взглядом и трет ладонью лоб, а порой входит в их комнату, когда там никого нет, перелистывает книги, брошенные на кровать или подоконники. Перелистывает просто так, почти механически, движимая неодолимой тревогой, оставшейся у нее еще со времени короткого, но трудного разговора с директором курского реального училища. Закончился ли тогда их разговор? Она слыхала о «черных списках». Кто может поручиться, что Иосиф не попал в них и что вслед за ним из Курска не прислали в орловскую полицию соответствующего уведомления?
К тому же все-таки кто он, этот «знакомый», о котором прежде и слуху не было? Видимо, так нужно им обоим, и сыну и Минятову, что-то скрывать. А сомнения томят. Пусть только Ося о них не знает.
И он не знал.
Но никто из них не знал и того обстоятельства, что уже через несколько дней после появления Минятова в доме Александры Романовны об этом событии в Москву, начальнику охранного отделения Бердяеву, пошло секретной почтой донесение орловского жандармского управления.
А тем временем кружок Дубровинского, в который сразу же вступил Минятов, исправно собирался в назначенных местах, каждый раз обязательно новых, и с соблюдением всех мер предосторожности нелегальная литература припрятывалась в самых замысловатых тайниках.
Возвратившись однажды с очередного такого собрания домой и оставшись наедине с Константином, Иосиф сказал задумчиво:
— Знаешь, а мы ведь действуем, пожалуй, не так, как нужно бы.
— Именно?
— Мы собираемся, читаем нелегальную литературу, обсуждаем, развиваем содержащиеся в ней идеи. Но кого мы агитируем?
— То есть как «кого»? Наш кружок начинался с пяти, а теперь мы имеем девять человек. Володя Русанов присмотрел еще одного семинариста. Это же работа по собиранию сил! Так и по всей России создаются кружки. Что ты видишь в этом плохого?
— Мы агитируем главным образом самих себя. Наш кружок состоит только из интеллигенции. Мы рассуждаем о роли пролетариата в будущей революции. Но пролетариат-то в широком смысле не знает ведь об этой своей роли! Агитацию надо вести среди рабочих. И создавать марксистские кружки — тоже среди рабочих.
— Совсем пренебрегать интеллигенцией нельзя.
— Никто и не предлагает крайностей. А вот у нас на деле получилось, что мы совсем пренебрегли рабочими.
— Это так, — согласился Минятов. — Взять Москву, Петербург. Насколько мы знаем, там действительно много рабочих кружков. Пролетариат — зерно революции. А мы, интеллигенция, пахари. Мы должны выращивать это зерно.
— Да смотреть при этом, чтобы полицейским градом поля не побило, — прибавил Иосиф.
Минятов прошелся по комнате. Остановился, потупясь. Сказал нерешительно:
— Пожалуй, мне надо съехать от тебя, переменить квартиру?
— Ты понял мои слова как намек? — огорчился Иосиф.
— Что ты! Об этом я думаю сам с первых дней. Но мне так понравилось у вас! И потом, я все время был убежден, что в Орле можно чувствовать себя очень спокойно. Выгнали меня из Питера и махнули рукой: «Черт с ним, с этим студентиком!»
— А теперь ты не уверен, что здесь спокойно?
— Уверен по-прежнему, но существуют ведь и обязательные правила конспирации. А мы с тобой их забыли. Вернее, я забыл. Надо исправить ошибку, пустить молву, что Минятов не понравился хозяевам. А я, может быть, завтра же съеду.
— Тетя Саша смертельно обидится. Надо придумать что-нибудь другое, — сказал Иосиф. — Мне тоже будет жаль с тобой расстаться, но я согласен: надо придерживаться обязательных правил.
Они замолчали и долго сновали по комнате от окна к двери и от двери к окну, навстречу друг другу. Дубровинский остановился первым.
— Знаешь, я, вероятно, тоже уеду отсюда. В другой город. Революция — это движение, борьба, битва. Сидя на одном месте, невозможно вести наступление. И очень трудно таиться от своих, самых близких. А не могу же я посвятить в наши дела ни братьев — мальчишки еще! — ни маму. У нее для всего этого просто не хватит сил.
— Понимаю тебя, — сказал Минятов. И тронул Иосифа за руку. — От своих таиться очень тяжело. В каждом из них хочется видеть друга-единомышленника. Мне легче: я женат. А жена — это совсем особый друг. В народе говорят: «половина». Правильно говорят. Это действительно вторая твоя половина, часть самого тебя, твоего сердца, души, ума. Не представляю, как бы я жил на свете, если бы не моя Надеждочка. С ней я обо всем будто с совестью своей разговариваю. Примусь писать письма — и вот она. С листа бумаги на меня глядит.
— Давно хочу тебя спросить: ты обо всем ей пишешь? Решительно обо всем?
— Да, конечно! От Надежды я утаивать ничего не могу. Она ведь тоже всей душой живет моими интересами. А человек она не болтливый. Наша переписка — все равно что тихий разговор наедине.
— А посторонний глаз никак не может заглянуть в ваши письма? Прости, что я так грубо спрашиваю.
— И ты прости меня. Ты видел хотя бы одно письмо моей жены? Или как я пишу ей письма? А мы живем в одном доме. От Надежды я получаю до востребования, читаю и тут же уничтожаю.
— Ну, а на почте разве их не могут прочитать прежде, чем они попадут в твои руки?
— На почте? Это на орловской-то? Фу, какая подозрительность! Кому тут и с какой стати этим заниматься? Не такая уж я фигура значительная, чтобы каждое мое дыхание улавливать. Ты можешь быть совершенно спокоен.
— Да, конечно. Но все-таки…
— Хорошо, я подумаю, — сказал Минятов. И вдруг оживился: — Быть робинзонами в революции никак невозможно! Надо стремиться знать все, что происходит в других местах, лишь тогда ты будешь действовать не вслепую. Надеждочка моя умеет вылавливать самые важные новости. Вот, например, сегодня зашел я на почту, получил письмо. Надежда околичностями разными пишет, что Радин приглашает меня приехать в Москву за новой литературой. Это же черт знает как важно!
— Надо ехать!
— Непременно! Ты тут нагнал страха на меня. Но я поеду. И так обыграю орловскую полицию — если уж предположить, что за нами существует наблюдение, — так обыграю! — Он удовлетворенно потер руки. — К тому же встретиться снова с Леонидом Петровичем…
— Ты много раз мне называл его имя. А поподробнее?
— О! Это…
И Минятов стал восхищенно рассказывать о том, каков он в жизни, Леонид Петрович Радин. Поэт, ученый, химик, философ и математик. Из потомственной интеллигентной семьи. Блестяще окончил Петербургский университет, был любимцем самого Менделеева. И хотя Менделеев очень просил его остаться работать вместе с ним, Радин ушел в народные учителя. Да это и понятно. Интеллигенцию волновали идеи «Народной воли», все полагали, что именно оттуда, из деревни, взойдет звезда революции. Каждый считал своим долгом нести на село свет знаний. Так, учительствуя, он прожил в деревне несколько лет. Тут, собственно, и с Иваном Фомичом завязалась у него дружба. А потом случилось побывать за границей, познакомился с Плехановым, с его группой «Освобождение труда». Ну, конечно, открылась несостоятельность народничества, порвал он начисто с Михайловским и Тихомировым. Он же умница! Нужен был только правильный толчок мысли. Бросил учительствовать, переехал в столицу, вошел в московский «Рабочий союз». Сила-то истории, революционная сила, — в рабочем классе! Пишет научные статьи в журналах, общедоступные книги по естествознанию. Ну и политические статьи тоже…
— А теперь, — продолжал рассказывать Минятов, — стал Леонид Петрович еще и изобретателем. Получилось так. В магазине Блока в Москве появился любопытный множительный аппарат. Мимеограф. Очередная выдумка Томаса Эдисона. Демонстрируется на глазах почтеннейшей публики. С удивительной быстротой печатает с отчетливой рукописи. И никаких шрифтов, наборных касс. Кому такой чудесный аппарат всего больше нужен? Нашему брату, подпольщику. Не станут же книгоиздатели на нем работать! А частному лицу он и вовсе ни к чему. Блок поначалу так и посчитал: пропали денежки, никто его не купит. Одно утешение, что на выставке постоит, привлечет к магазину внимание. А ведь купили бы, десятки таких аппаратов подпольщики расхватали бы! Но охранка тоже не дура. Сообразил Бердяев, в чьи руки просится эдисоново диво. И прихлопнул аппаратик у Блока: показывать его показывай, а продать не смей. Будет спрос, сообщи, от кого, кто аппаратом интересуется. Собери заказы на целую партию, чтобы, дескать, ввозить из-за границы было менее накладно. Охранка потом посмотрит: все ли заказы должно удовлетворить. В «Рабочем союзе» эту затею сразу разгадали. На бердяевскую удочку никто не клюнул. А Леонид Петрович несколько раз побывал на выставке, хорошенько присмотрелся к диковинке и раскусил принцип ее работы. Что недоступно было взгляду, сам придумал. Среди рабочих отличные мастера нашлись. И закрутилась своя машина не хуже эдисоновой! Я не я буду, если такую штуку для нас не достану…
На этом разговор пришлось прекратить: в комнату ворвались шумные, озорные Семен и Яков, полетели из угла в угол подушки с постелей. Константин стал укладывать свои вещи. Съехать с квартиры Дубровинских он решил твердо. И не позднее следующего дня. А когда мальчишки наконец утихомирились, все улеглись и в комнате воцарилась сонная тишина, нарушаемая лишь монотонным стуком маятника настенных часов, Иосиф мысленно вернулся к разговору с Минятовым.
Удивительный человек. Как может он жить так разбросанно, деля себя надвое? Революция… Любовь… Да еще утверждать при этом, что, наоборот, тогда он видит яснее, отчетливее цель жизни, смысл борьбы. Любовь! Дело не во времени, которое он тратит на свою частую и весьма откровенную переписку с женой. Дело даже не в опасностях, которым он себя подвергает такой перепиской. Слишком далеки и несовместимы эти два вида духовной наполненности человека — революция и любовь. И то и другое требует отдачи всей души целиком. Если быть честным. Если быть верным и преданным до конца. До самого последнего конца.
В народе говорят: нельзя взять два горошка на одну ложку. Немного грубо, но точно. Революция и любовь, идея и человек. Когда вдруг, в роковую минуту, необходимым станет выбор между ними — что выбрать? Пустые это слова о гармоническом сочетании. Выбор неизбежен и обязателен. Служа идее, ты отвечаешь только за себя, рискуешь только самим собой. Любовь — это когда ты отвечаешь за другого. Любовь — когда тот, другой, становится для тебя превыше всего на свете. Иначе какая же это любовь? Нет, нет, не легче революционеру быть женатому, а во сто крат труднее. В революции — роковые минуты — не обязательно смерть, которая, не исправляя, все же искупает твои ошибки. Всякий провал, всякая помеха делу по твоей вине — это тоже роковые минуты. Ведь сам ты можешь остаться жив, а погибнут другие! И это хуже в тысячу раз. Ты можешь в отчаянных случаях постараться и взамен других принести в жертву себя. Это достойнее. Сможешь ли ты, сочтешь ли ты своим правом вместе с собой принести в жертву и того, кого ты любишь? Быть женатому — значит быть связанному и общей неразрывной судьбой. Иначе какая же это любовь? А если ты начинаешь взвешивать и выбирать…
Иосиф закинул руки за голову. Нет, нет, он, Дубровинский, твердо избрал себе путь революционера, только революционера, и он не будет метаться с одной дороги на другую, не будет ставить себя в положение, когда приходится выбирать. Не надо, чтобы хоть какие-нибудь тени заслоняли ясно различимую цель. Любовь… Она не обязательно захватывает каждого. А если и придет, ей можно и не покориться.
Тихо посапывают Яков с Семеном. Для них пока весь мир — игра и школа. Они не знают никаких тревог, их еще не зовут на борьбу высокие, светлые идеалы Свободы. Все это придет с неизбежностью, но несколько позже. А сейчас они все еще на руках матери. Она поседела от забот, она полна думами только о детях. Таков долг родительский, такова естественная родительская любовь! Возможно ли быть революционером, если станешь отцом? Тогда ведь войдет в жизнь властной силой еще и родительский долг, родительская любовь. Нет, нет! Прочь даже думы об этом!
Иосиф беспокойно повернулся в постели. Говорят, что в Петербурге из разрозненных марксистских кружков образован «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» и во главе его — Владимир Ульянов. По слухам, это родной брат Ульянова, казненного восемь лет назад за попытку покушения на жизнь императора Александра III. Говорят еще, будто бы это именно он и написал так всех взволновавшую книгу «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?». Ульянов не только пишет, советует — он действует. А вот они здесь, в Орле, целое лето и осень собирались только своим узкоинтеллигентным кружком. Но ведь ясно, что главная движущая сила революции — рабочий класс. Почему так много упущено времени?
Дубровинский приподнялся, обхватил руками колени. Что надо сделать, и немедленно? Войти в рабочую среду, привлечь рабочих к занятиям в своем кружке. Дать поручение Родзевичу-Белевичу установить связь с типографией, Максиму Пересу и его сестре — с рабочими механического завода. А сам он поедет в Бежицу, на Брянский завод. Вот так!
6
За окном медленно кружились лохматые крупные снежинки. Они никак не хотели опускаться вниз, как бы предчувствуя — долго на земле им не сохранить свою пушистость и красоту, люди разомнут их, растопчут ногами, конные обозы прикатают полозьями саней. Снежинки кружились, покачиваясь в воздухе, но если на пути им встречалась тополевая ветка, пусть совсем оголенная, тут же цеплялись за нее и легко громоздились одна на другую. Казалось, махни на них издали рукой — и вспорхнут, как стайка испуганных воробьишек.
Стояла мягкая оттепельная зима.
Во всех дворах красовались снежные бабы, и ребятня состязалась, кто сумеет вылепить их позамысловатее. Одним казалось достаточным сделать дворничиху с ведром и с метлой в руках. Другие подпоясывали баб рогожными фартуками, а на плечи набрасывали такие же полушалки. Глаза — березовые угольки, а нос — морковка. Кое-кто придумывал и такое: в голову бабы закатывали выдолбленную тыкву, искусно пробивали в положенном месте рот, туда опускали плошку с масляным фитилем, в сумерках зажигали, и голова снежной красавицы лучилась таинственным светом. А вокруг с хохотом, свистом носилась веселая детвора. Катались на салазках, устраивали кучу малу, швыряли друг в друга снежками.
В такие дни Семена с Яковом загнать в дом было невозможно. Придя из школы и едва сбросив ранцы с плеч, они тут же устремлялись во двор. А Любовь Леонтьевна горько покачивала головой, разглядывая их тетради, что-то чаще стали появляться тройки и даже двойки.
Иосиф из реального училища возвращался поздно. Бывало, задерживался и совсем надолго. Объяснял одинаково: «Зашел к товарищам, засиделся». Но в этих словах всегда звучала какая-то фальшивинка. Ее никто не замечал, а мать замечала. Однако сына не упрекала. Он взрослый и сам все хорошо понимает.
Чем позднее по времени, тем в лучшем настроении возвращался Иосиф домой. Все шло отлично. Его орловская группа значительно пополнилась молодыми рабочими, с рвением посещавшими занятия кружка. Отработалась и система занятий: общеобразовательные лекции, чтение нелегальной марксистской литературы, беседы, споры о прочитанном. Назревала необходимость разделить кружок уже надвое — так он вырос, а собираться тайно большому числу людей небезопасно.
В Бежице дела тоже шли хорошо. Да это и понятно: завод! Семена там брошены в добрую почву. Установились прочные связи с Москвой. Минятов привозил оттуда целые кипы литературы и самые свежие новости. Рассказывал о встречах с Радиным, с Владимирским — руководителями «Рабочего союза» — и, что особенно интересно было для всех, со вторым братом Александра Ульянова — Дмитрием Ильичом, пропагандистом «Рабочего союза». Кое-что поподробнее мог теперь сообщить Минятов и о Владимире Ульянове. Стало известно, что тот побывал за границей, в Женеве, установил связи с Плехановым.
В сочетании с тем, что узнавал Родзевич-Белевич от своих петербургских друзей, это было немалым.
Ожидался приезд в Орел Михаила Сильвина — одного из агентов «Союза борьбы». Правда, слух об этом прошел давненько уже, а товарищ из Петербурга все не появлялся. Но Иосиф знал: подпольщики должны уметь не только действовать, но, когда надо, и терпеливо ждать.
Во всяком случае, это не портило настроения.
Огорчало другое. Тройки, двойки братьев, да и его собственные, и грустное лицо матери, когда она просматривает тетради.
Конечно, Семен с Яковом просто разбаловались, и следовало бы спросить с них построже. Но строгости не в обычае у Дубровинских. Мать совершенно не способна на это. А уж о тете Саше и говорить нечего. Та вместо наказания, наоборот, по голове гладит виноватого, полагая, что несчастный мальчик и без того погибает от горя. Эх, тетя Саша, тетя Саша, простая душа!
Его, Иосифа, двойки другого происхождения. Не от лени и не от бесталанности. Просто сил и времени не хватает на все, хотя читает он много, очень много. Правда, больше такого, за что учителя отметок не ставят. Ну что же, пропущенные страницы учебников можно когда-нибудь и после прочесть. А веселым, неунывающим надо быть всегда. И, возвращаясь из училища или с занятий кружка, Иосиф любил врезаться в толпу ребят, играющих на соседнем, очень просторном дворе. Любил залепить одному, другому смеющуюся рожицу снегом, ветерком слететь на санках с катушки и нагромоздить кучу малу.
В этот по-особому ласковый оттепельный день Иосиф долго засиделся за книгами. Разболелась голова. Хотелось немного поразмяться. А за окном так призывно кружились легкие снежинки. Эх, была не была! Он натянул на плечи пальтишко, нахлобучил заячью шапку и выскочил на улицу, а там — в соседский двор.
Игра шла полным ходом. Ребята строили дом, широкими деревянными лопатами вырезали из плотных сугробов большие белые кубы и выкладывали из них стены. Строительный азарт захватил Иосифа. Он взялся за возведение высокой башни, которая должна была стоять, замыкая один из углов дома, увенчанная деревянным шпилем из приспособленной для этой цели санной оглобли. Хотелось соорудить башню как можно выше. Иосиф притащил от дровяного сарайчика лестницу и лазил по ней вверх и вниз, втаскивая на плече снежные глыбы. Вокруг него кипел старательный ребячий муравейник.
— Давай, давай! — покрикивал Иосиф на своих помощников.
И мальчишки проворнее сновали по двору, шмыгая мокрыми носами и беспрестанно поправляя почему-то наползающие на глаза шапки.
Произошла небольшая заминка, когда принялись выкладывать потолочные своды. Тут что-то не рассчитали, и первые глыбы вдруг завалились внутрь дома, обдав ошеломленных строителей серебристой пылью.
— Эх вы, мастера! — закричал им Иосиф. — Захотели сделать потолок без всякой опоры. Вон у сарайчика доски. Поставьте шатром, а по доскам и сводите.
Он раскраснелся и от работы и от свежего воздуха, вкусно пахнущего оттепелью. Совсем прошла головная боль. Промокли рукавицы, в ботинках тоже хлюпала сырость, но это было даже по-своему приятно — борьба человеческого тепла с холодом, проникающим к телу снаружи. Не надо лишь останавливаться. Бегом, бегом, наравне с малышами!
И вот башня готова. Водружена и оглобля, как шпиль. Возникла озорная мысль: прикрепить к этому шпилю красный флаг. Ночью, потихоньку. То-то бы наутро в полиции поднялась суматоха!
В воротах стояла Александра Романовна, размахивала руками:
— Ося! Ну где ты? Все собрались к обеду, одного тебя нет. А сегодня рыбный пирог, есть его надо горячим.
— Сейчас, тетя Саша, сейчас! — а сам упрямо орудовал лопатой.
— Ося, не могу же я тебе погрозить ремнем! Почему ты не слушаешься?
— Слушаюсь, тетя Саша, я слушаюсь. Вот тут только немного…
И принялся прихорашивать дверной проем. Александра Романовна слепила большой комок снега, неловко занеся руку над головой, издали метнула в Иосифа. Промахнулась. Мальчишки радостно захохотали. Тетя Саша показала им кулак и ушла.
Иосиф с сожалением выключился из веселой игры. Окинул взглядом почти готовый снежный дом. А ведь здорово получилось! Ну, молодцы ребята! И тихонько побрел к воротам: не надо сердить тетю Сашу. Мелкие недоделки можно будет исправить потом. Шел и думал только об этом, сейчас для него лишь это было самым главным. Он понимал мальчишек и девчонок. Их тоже, наверно, ждут дома к обеду, да и самим им, конечно, до смерти хочется есть, а все же они остались. Трудно бросать незаконченное дело. И решил: «Быстро пообедаю, а потом снова сюда».
Но едва ступил он за ворота, как лицом к лицу столкнулся с Родзевичем. Тот ухватил его за локоток, повернул и втолкнул обратно в распахнутую калитку. Не здороваясь, проговорил торопливо:
— Ух! Вот кстати. А я шел к тебе. Тяжелые вести из Петербурга. Подробностей не знаю, но полицией разгромлен «Союз борьбы», много арестов. И точно: взят Ульянов.
— Вот как!
Иосифу сразу стало холодно. Он оглянулся. Ребята во дворе заняты игрой, на них совсем не обращают внимания. Башня с нелепо торчащей оглоблей… Снежные хоромы… Веселая забава… А в Петербурге товарищи арестованы, брошены в тюрьмы — брр! — наверно, такие же холодные и глухие, как эта башня.
— Подробностей, говоришь, никаких? — переспросил Иосиф нетерпеливо.
— Арестовали в ночь на девятое. Жандармы накрыли при всех уликах. Можно думать, выдали провокаторы. Но это предположения. Вот и все. Других подробностей не знаю, — с прежней торопливостью сказал Родзевич.
— Охранка не дремлет. Надо и нам быть начеку.
— Особенно, зная, что сюда из Петербурга собирался приехать Сильвин. Охранка тоже могла проведать об этом.
— Да. Значит, пока собираться не будем, а всю литературу надо сжечь. Предупреди остальных.
— Хорошо.
Родзевич выскользнул за калитку.
Делая вид, что очищает пальто от налипшего снега, Иосиф некоторое время переждал, а потом тоже вышел на улицу. Снежинки по-прежнему легко плавали в воздухе, но стало значительно холоднее. В мокрых рукавицах пальцы одеревенели.
Страха не было. А возможно, и был, но не тот, от которого люди теряют способность правильно рассуждать, который стягивает все мысли в одну — как сохранить, уберечь себя, только себя, — страх, от которого словно бы вянут мускулы и ноги наливаются противной свинцовой тяжестью. Если и был страх, так побуждающий к решительным, быстрым действиям, к предотвращению нависшей опасности в самом ее начале, с той остротой и точностью глазомера, с какой фехтовальщик, исполненный желания победить, скрещивает свою шпагу со шпагой противника.
Об арестах, тюрьмах, ссылках и виселицах, постоянно грозящих революционерам, Иосиф слышал достаточно. Но все это в его сознании было как бы вообще неотделимо от самого их трудного и опасного дела, лишь по фамилиям связываясь с определенными личностями, совсем ему не знакомыми. И все это относилось к тому минувшему времени, когда Иосиф не чувствовал собственной ответственности за судьбы других товарищей. Разгром полицией петербургского «Союза борьбы» теперь воспринимался иначе. Это был не какой-то «союз» вообще, а нечто прямо и исключительно связанное с именем Ульянова, книга которого стала равнозначна прямому знакомству с живым человеком. Арестовали Ульянова… И неизвестно, что последует потом. Неизвестно, в чем будут его обвинять. Как и кто станет судить. Он брат казненного Александра Ульянова, а это, конечно, увеличивает опасность и для него самого. Арест Ульянова — это арест товарища, который работал вот здесь, где-то совсем рядом с тобой. Его увели, и стало холоднее.
Короткая, зябкая дрожь передернула плечи Дубровинского. Если петербургская охранка сумела выследить так быстро «Союз борьбы», которым, безусловно, руководили очень умелые конспираторы, то не проще ли простого будет орловской полиции накрыть их совсем еще не закаленный в подпольной борьбе кружок. Давно ли тут были разгромлены кружки Заичневского! Всякий, кто посвятил свою жизнь революции, должен знать, с какими опасностями связано это, и всяк отвечает сам за себя, не может пенять на товарищей, если попадет в лапы полиции, а другие останутся на свободе. Беда может с каждым случиться. И все-таки…
Все-таки каково Иосифу Дубровинскому сознавать в грозный момент, что прежде всего именно от его личного умения вести свое дело, от его мужества, решительности и находчивости зависят судьбы товарищей. И не только. Будет ли и дальше гореть, становиться ярче огонек, зажженный в Орле их марксистским кружком, чтобы слиться потом со всеохватывающим пламенем российской революции, это ведь тоже на его совести.
А день такой, как всегда. Даже по-особому теплый и ласковый. Кружатся снежинки. Вдоль улицы тянется длинный обоз с какими-то грузами. По тротуару вразвалочку идут пешеходы. Ворона сидит на заборе, чистит свой клюв. Ребята строят снежный дом. А в Петербурге арестовали Ульянова и еще много людей. Нет уже «Союза борьбы». Но борьба продолжается? Должна продолжаться!
За обеденный стол Иосиф уселся со спокойным, даже веселым лицом. Будто не было у него никакого разговора с Родзевичем-Белевичем и никакая тревога не легла на сердце.
Пирог был очень вкусен, хотя и несколько приостыл. Тетя Саша погрозила пальцем:
— Ося, если ты и дальше останешься таким же мальчишкой, я не знаю, как мы будем тебя женить!
— Я тоже не знаю, — миролюбиво сказал Иосиф. Что-то надоедливо часто заговаривает тетя Саша о его женитьбе. В не очень давнем разговоре Костя Минятов дал словно бы первый толчок. А теперь что ни день в доме толкуют об этом. Иосиф подмигнул.
— Может быть, и не надо женить меня, тетя Саша? Мальчишкой быть хорошо.
Тетя Саша тоже подмигнула ему. А вслух, обращаясь уже к Любови Леонтьевне, проговорила с нарочитой ворчливостью:
— Нет, Люба, ты только подумай, где я его нашла? И с кем? И что он делал, чем занимался?
Любовь Леонтьевна счастливо улыбнулась. А что же? Оставаться долго Иосифу мальчишкой — это, может быть, самое лучшее.
7
После встречи нового, 1896 года Иосиф решил возобновить занятия кружков. Жаль было терять время, а особой опасности как будто не замечалось, полиция не стала ретивее. Похоже, что разгром «Союза борьбы» остался только петербургским происшествием.
Иосиф строил свои предположения еще и на том, что как-то раз с мастерицей Клавдией повстречался на улице околоточный и в обстоятельном разговоре о своей одинокой жизни — околоточный был вдовцом и приглядывался к Клавдии — между прочим заметил: «Этот длинный студентик-то съехал от вас. Что, с молодым Дубровинским не сошлись, перессорились? Так оно и быть должно — совсем разного воспитания люди». И Клавдия с готовностью подтвердила, что Минятова вообще в доме терпеть не могли и были рады от него отвязаться.
К тому же Минятов и жене стал писать поосторожнее. Весь пафос свой вмещал он в начальные строки: «Звездочка моя дорогая, моя любимая, обожаемая Надеждочка…» И потом главным образом живописал русскую зиму, без конца цитировал самых разных поэтов и совершенно умалчивал о политике. Да ему и не было надобности писать о политике. Однажды проторив дорогу, теперь Минятов довольно часто ездил в Москву, а возвращаясь, заглядывал домой, в Жуковку, и о самом важном мог поговорить со своей Надеждочкой с глазу на глаз. Он каждый раз привозил какие-либо новинки из марксистской литературы. Привозил и утешительные вести: несмотря на большие аресты в Петербурге, «Союз борьбы» продолжает свою деятельность.
Незадолго перед масленицей отправился в Москву и Дубровинский. Дома сказал, что хочет денек-другой погостить в деревне у родных одного из товарищей по школе. Назвать истинную цель поездки или хотя бы город, куда он едет, Иосиф не мог. Вдвойне не мог: не допускали этого железные правила конспирации, а еще, и в особенности, не мог потому, что ехал не просто сам по себе, а по приглашению московского «Рабочего союза». Здесь требовалась повышенная осторожность. Устанавливалась новая, очень важная связь, пока еще тоненькая-тоненькая, как струна, и ничто постороннее не должно было прикасаться к этой струне, чтобы не оборвать ее нечаянно.
В Москву поезд прибыл в начале дня. Привокзальная площадь была переполнена народом. Сновали лоточники с горячими пирогами. Драматически выкрикивая заголовки статей о «с-самых потррясающих» событиях, мальчишки размахивали пачками газет. Морозец заставлял припрыгивать. Не шли, а бежали мастеровые, неся под мышками всяк свой инструмент. Закутанные в пуховые шали, степенно плыли женщины. Чиновники в высоких фуражках вышагивали, гордо приподняв свои холеные, расчесанные бороды. Вдоль желтого забора, отделяющего рельсовые пути от привокзальной площади, длинными рядами выстроились извозчики. Кони у всех были сытые, красивые, сбруя — в наборе из медных блях и кожаных кисточек. Санки — загляденье!
Иосиф остановился, несколько ошеломленный непривычной для него суетой. Но суетой не бестолковой, это он сразу понял, а деловитой, возникающей от многолюдья, когда спешащему человеку не просто протолкнуться через толпу. И тут же с легкой усмешкой подумал, как это должно быть здорово революционеру жить в таком большом городе, как тут при надобности легко затеряться в водовороте людском.
Надо попасть в Хамовники. Точный адрес и пароль привез Минятов. Приблизительно объяснил, как добраться туда, посоветовал взять извозчика. Вернее и быстрее. А велико ли расстояние от вокзала до Хамовников, сказать забыл.
Немного колеблясь, Иосиф подошел к переднему в ряду извозчику. Тот окинул презрительным взглядом нагольный полушубок Иосифа, ответил, не скрывая насмешки:
— Полтора целковых, ваша милость. И деньги вперед.
Другие извозчики, стоящие в очереди, захохотали. Иосиф уселся в санки, прикрыл волчьей полостью ноги, бросил небрежно:
— Трогай! Расчет на месте. Поедешь как следует — накину гривенник.
Извозчик подвигал плечами, покрутил головой, еще присмотрелся к Иосифу. Подобрал вожжи.
— А четвертачок, ваше сиятельство, не накинете?
— А у вашего степенства конь вверх спиной стоит? — ядовито спросил Дубровинский, припомнив слышанную в извозчичьих анекдотах фразу. — Трогай! Не то и гривенника не добавлю.
Снова вокруг захохотали. На этот раз вполне сочувственно. «Вот это подсек молодой барин! Смотри, Евсей, доторгуешься!»
— Так, а в Хамовниках-то где? Они ведь немалые, — попробовал еще сопротивляться Евсей.
— А где захочу, там и сойду, — объявил Иосиф хладнокровно, совсем не представляя себе расположение Хамовников, но твердо зная, что улицу и фамилию хозяина дома называть не следует.
Его спокойная решительность сделала свое дело. Они поехали. Быстро, как раз на лишний гривенник.
Мерзлый снежок приятно похрупывал под копытами Буланого. Иногда взвизгивал окованный полозок саней на оголившемся камне мостовой. Ногам под волчьей полостью было очень тепло. А Евсей то и дело оборачивался через плечо, пытаясь разглядеть своего странного седока в крестьянском полушубке, но с городской ухваткой. Заговаривал о том о сем, жаловался, что «жисть» подорожала. Потом принялся рассказывать длинную историю о том, как к соседской жене повадился ходить ее любезный, а сосед все не мог изловить…
Тянулись бесконечные улицы с огромными, глазастыми вывесками бесчисленных торговых заведений. Дворники в белых фартуках железными скребками чистили тротуары. Иногда посреди улицы, уходя вдаль, тянулись рельсы. По ним, труся рысцой, четверка лошадей тянула вагончик. Евсей тыкал кнутовищем в сторону конки с презрением: «Простоквашу возить». И поддавал жару Буланому. С особым шиком он делал повороты, так, что заносило задок саней, а встречные упряжки шарахались в сторону.
Иосиф как-то неожиданно для себя освоился со всем этим. Большой, большой город Москва. Людный город. В этом и сила его. Хорошо жить в таком городе. Вон студенты идут, о чем-то спорят, руками размахивают. А вон, должно быть, водопроводчики волокут на плечах длинные железные трубы.
— …а вся штука в том, что от ворот был протянут тайный елистрический звоночек, и пока… — Евсей вдруг оборвал свою пустую болтовню, придержал Буланого, спросил ворчливо: — Куды ж везти еще, молодой барин? Почитай, уже все Хамовники наскрозь проехали. Накинуть плату придется.
Иосиф выпрыгнул из санок.
— А мне именно здесь и надо сходить!
Вместо гривенника он добавил извозчику пятиалтынный.
А потом долго плутал по переулкам, разыскивая нужный дом. Прохожих расспрашивать не решался.
Наконец отыскал. Это был маленький флигель, стоявший далеко в глубине двора, занесенного снегом. К нему тянулась узенькая тропинка. Под окнами флигеля — широкие кусты, должно быть, сирени. Сейчас на каждом сучочке красовались маленькие снежные шапочки. Из трубы вился синий дым.
Иосиф постучался в сенечную дверь. Через некоторое время тихий женский голос спросил:
— Кого вам нужно?
— Это здесь надо печь починить? — сказал Иосиф.
— Спасибо! Вчера починили уже.
— Жаль. А я пришел с инструментом.
Щелкнула задвижка, дверь отворилась. Кутая плечи в пуховую шаль и приветливо улыбаясь, молодая женщина пропустила Иосифа в дом, провела через кухоньку. Комната оказалась пустой. Женщина крикнула, поглядывая на переборку, за которой находилась, по-видимому, еще одна комната:
— Леонид Петрович, печник явился!
Вот как! Стало быть, Радин?
А тот уже стоял перед Дубровинским — невысокого роста, с копной черных волос, слегка встопорщенных на макушке, с окладистой интеллигентской бородой, нависшими, косматыми бровями. Стоял и тряс Иосифа за плечи.
— Так вот вы какой, курянин, орловец! Бывал, бывал в ваших местах. И с Гурарием Семенычем в дружбе, Ивана Фомича тоже хорошо знаю. Ну, Гурарий Семеныч посдержаннее, а Иван Фомич — с огоньком. Вы давно в Кроснянском не бывали?
— С самого холерного года. Гурарий Семеныч иногда пишет. И с Иваном Фомичом обмениваемся поздравлениями в праздники. Мне приятно, Леонид Петрович, что и вы с ними знакомы. Я только не знал, что вы больше чем просто знакомы.
— Значит, молодцы они, — весело сказал Радин. — Но вас я тоже хочу похвалить. Отлично вы начали дело. И знаете, как я представляю, умело сохраняете конспиративность. А это имеет первостепенное значение.
— Наше правило: конспирация только тогда конспирация, если она всегда конспирация, — немного смущенный похвалой Радина, сказал Дубровинский.
— Ух, как длинно и замысловато! Впрочем, очень правильно. Где вы этому научились? Своим умом дошли? Слухами земля полнится? Советы товарищей? А вообще имейте в виду, это целая наука, есть разработанные системы. И мы вас постараемся просветить дополнительно. — Кустоватые брови Радина шевелились. — Подойдут еще товарищи. А пока попросим Екатерину Даниловну угостить нас горячим чайком. Наверно, продрогли? Сегодня морозец градусов на пятнадцать. А как доехали, как нас здесь разыскали?
Екатерина Даниловна принесла чай, сухие, посыпанные маком баранки, накрыла стол в комнате, за переборкой. Пригласила откушать.
Прихлебывая горячий чай, Иосиф в красочных подробностях разрисовал, как он торговался с извозчиком и как добирался сюда. Не скрывая внутреннего удовлетворения, подчеркнул, что хотя и был одет в крестьянский полушубок, но не дал себя провести, с первых слов извозчик почувствовал: дело имеет с коренным москвичом.
Радин весело хохотал:
— А ловко, остроумно вы «степенством» его подкололи! — И стал серьезнее. — Только и промахов, дорогой товарищ, вы немало наделали. Уж если залезли в овчину, так, извините, по-овчинному себя до конца и держите. Не думайте, что «ваша милость» да «ваше сиятельство» были простой издевкой этого вашего Евсея. Извозчики — народ весьма проницательный. Как же, интеллигент — и в овчине! Это учтите. Хорошо, что не было слежки за вами. И потом, вы напрасно ликуете, что предстали перед извозчиком коренным москвичом. Коренной москвич в Хамовники дороже как за сорок копеек ни за что не поедет. А вы рубль шестьдесят пять отвалили. В овчинном-то полушубочке!
Иосиф густо покраснел. Он даже не пытался оправдаться. Действительно, не додумал. А Радин вполголоса, под нос себе, промурлыкал на мотив «Дубинушки»:
На Руси на святой — жандармерии рой, Рой шпионов летает, как тучи; Залетает в дома, отрывает от сна, Сон ее охраняя дремучий!Потом хлопнул в ладоши:
— Да вы не огорчайтесь, Иосиф. В нашей жизни, в нашем необыкновенном деле и не такие промахи возможны. Если бы их никогда не было с нашей стороны, так и охранка ничего с нами не сделала бы. — И опять расхохотался: — Впрочем, охранка тоже допускает постоянные промахи. И мы, разумеется, ими пользуемся. Знаете, было раз, ожидался транспорт с литературой из-за границы. Мы догадывались: охранка готовится, вокзал будет оцеплен жандармами, и вряд ли удастся товарищам пронести свой багаж. Приготовились. Если не литературу, так хоть товарищей выручить, помочь им сбежать, бросив наконец чемоданы. Продумали план. Сразу скажу, не очень надежный. Но господин Бердяев, начальник охранки, в тот вечер, слава богу, так заигрался в карты, что забыл позвонить Зубатову, помощнику своему, чтобы тот всю машину привел в действие. И вот жандармы на вокзале, ожидая распоряжений начальства, сидели, а наши товарищи между тем…
За переборкой послышались голоса. Потом заглянула Екатерина Даниловна, сказала:
— Пришли. Оба. Ну прямо-таки друг за другом. Дмитрий Ильич умудрился полные калоши снега начерпать. Я ему покамест ваши старые штиблеты дала. Не забраните меня?
— Правильно! — похвалил Радин. — И чайку быстренько принесите ему погорячее.
Он поспешил навстречу новым гостям, сразу же объявив им, что у него сейчас находится тот самый Дубровинский из Орла, о котором шла речь. Представил вошедших:
— Михаил Федорович Владимирский. А это — Ульянов. Дмитрий Ильич.
Обменялись рукопожатиями. И Дубровинский, чуть отступив в сторону, долго не мог отвести взгляда от Дмитрия. Интересно, похож он на своего брата? Дмитрий был порывист, в движениях несколько резковат. Лицо слегка скуластое. В глазах таилось острое пытливое любопытство, и в то же время они лучились добротой. Владимирский, повыше Дмитрия ростом и волосы посветлее, разговаривал спокойно, размеренно, иногда слегка поправляя кончиками пальцев очки в тонкой оправе. Приятен был голос Владимирского, по-юношески еще не установившийся басок. Но больше всего понравилось Иосифу, что оба они — пожалуй, ровесники между собой — и старше его-то, Дубровинского, были всего года на три. Конечно, и Радин не стар, лет тридцать пять ему, не больше, но все же…
Владимирский немедленно приступил к делу. Не обращая внимания на чай, поставленный перед ним хозяйкой дома, он принялся расспрашивать Дубровинского. Какая марксистская литература у них, в Орле, уже прочитана? А что еще хотелось бы прочесть такого, о чем они пока только наслышаны? Сохранился ли кружок в Курске после отъезда Иосифа? А в Орле какие виды на расширение пропагандистской работы? Каковы «взаимоотношения» с полицией? Иосиф отвечал коротко, точно. И было заметно, что Владимирский этим очень доволен.
— О вашем житье-бытье мы знаем уже многое от Минятова, — сказал он, выслушав Иосифа и только теперь придвигая поближе стакан совсем остывшего чая, — но вы нам очень хорошо дорисовали картину. Развивать, расширять сеть рабочих кружков, соединять их затем организационно в союзы — вот в чем сейчас главная наша задача. Вы находитесь на правильном, нужном пути. И вот какое есть у нас предложение, лично вам…
— А как вы сами видите, Иосиф, как вы сами видите себя и дальше в нашей общей борьбе? — перебил Владимирского Дмитрий. Он все время прохаживался по комнате. — Вас не напугали последние большие аресты в Петербурге? Извините, что я так прямо…
— Мы были потрясены, когда узнали об этом, — сказал Иосиф. — Пожалуй, были даже напуганы. Не тем, что могут и нас арестовать, а провалом организации, в которой мы сразу почувствовали силу. Подумали тогда: у охранки, выходит, тоже сила большая. Ну, мы приняли меры, стали еще осторожнее. А сейчас ничего, — Иосиф усмехнулся, — страх прошел. Снова работаем.
— Да, охранка нанесла очень тяжелый удар, — сказал Дмитрий. И взмахнул стиснутым кулаком: — Мы должны ответить на это усилением своей деятельности!
— Горестнее всего, что к провалу петербургских товарищей приложил руку один из тех, кого они тоже называли своим товарищем, — тихо проговорил Радин. — Это ужасно. Вот чем подла охранка! Открыто лови, убивай, арестовывай своих противников, но не растлевай при этом душ человеческих самым мерзейшим предательством — провокаторством. Не посягай на священнейшее слово — товарищ в борьбе!
— Они жаждут вытравить в нас чувство взаимного доверия и тем самым сделать невозможным наше единство, — сказал Владимирский.
— Подлецы, как тяжелые, гнойные болезни, бывали во все времена, а свет человечеству несли честные люди вопреки любым подлецам, — с прежней сосредоточенностью проговорил Радин. — И я верю и всегда буду верить в честность. Иначе… Иначе трудно быть…
— Поэтом, — шутливо подсказал Дмитрий.
— Простите, революционером, — серьезно сказал Радин. — Но, впрочем, да, и поэтом.
— Мы отвлеклись, — напомнил Владимирский. — Но коль зашла у нас речь о предосторожностях, принятых орловскими товарищами после петербургских арестов, хотелось бы знать об этом поподробнее. Хороший опыт всегда пригодится.
И Дубровинский очень коротко, точно рассказал, какие меры они приняли на тот случай, если бы полиция начала обыски, устроила слежку за ними. Прибавил, что, по его мнению, надвигающиеся опасности должны человека делать только собраннее, решительнее. Это он испытал на себе. А сейчас даже несколько сожалеет, что много времени понапрасну упустили своей чрезмерной осторожностью…
— Ну, ну, это уже бросок к другой крайности! — перебил Дмитрий. И дружески похлопал Иосифа по плечу.
— Никогда не следует жалеть о сделанном, — добавил Радин. — Анализировать минувшее, извлекать из него практические выводы на будущее весьма полезно, а вздыхать не надо!
— Словом, речь вот о чем, — снова заговорил Владимирский. — Марксистские кружки сейчас возникают повсюду, по всей России, возникают сами по себе, как веление времени. Это крепкая основа, но она станет и еще значительней, прочнее, действеннее, если повести это дело организованно.
— Михаил Федорович, вот и меня давно уж томит именно эта мысль! — Дубровинский не выдержал, вскочил, с шумом отодвинул стул. — Но как? Как все это сделать? Каким способом?
— Да вот примерно таким, как вы добиваетесь сейчас у себя в Орле. Поставили перед собой твердую цель и решительно к ней идете. Был один кружок — стало два. А третий возможен?
— Ну, конечно!
— Вот видите. Это и есть организационная работа. Кружки создаются не сами по себе, а под влиянием вашим. Правда, этого для наших дней уже маловато — только создавать новые кружки и проводить в них занятия. Очень быстро они окажутся опять-таки «сами по себе». Надо руководить, — Владимирский нажал на слово «руководить», — развитием в кружках революционной мысли, не просто просвещать рабочих, а воспитывать в них борцов за свои права. Надо объединять кружки в союзы!
— И мы просим вас поехать с этой целью в Калужскую губернию, — вмешался Дмитрий Ульянов. — Поехать с тем, чтобы создать крепкую надежную социал-демократическую организацию. Калуга весьма интересна — рабочая среда, пролетариат. У вас же имеется опыт.
— Соглашайтесь! — сказал Владимирский.
Иосиф стоял ошеломленный неожиданностью предложения. Ему отчетливо представилась огромная разница между тем, что он делал до сих пор, и тем, что предстоит делать. Дать согласие — значит стать ответственным за широкое развертывание марксистской пропаганды, за организацию рабочих кружков, рабочего союза в целой губернии. И ответственным перед собственной совестью, когда твой какой-либо нечаянный промах может губительно отразиться на судьбах многих товарищей. Новые места, неизвестная обстановка. Хватит ли сил, умения? Но ведь ему доверяют. Для этого разговора пригласили в Москву. На ветер такие слова не бросают. Что может быть выше доверия товарищей по общей борьбе? И что менее всего достойно революционера, как не сомнения и колебания?
— В Калуге я совершенно никого не знаю, — помедлив, ответил Иосиф таким тоном, который был равнозначен словам: «Да, я согласен».
— А мы не только дадим адреса, мы поможем устроиться и на службу. Ну, допустим, в земскую управу, — сказал Радин, поглядывая на Иосифа дружелюбно. Хлопнул опять в ладоши: — Прихватите с собой кого-нибудь еще из орловских своих друзей. Хорошо, когда рядом с тобой испытанный в деле товарищ.
— Похоже, вам все-таки что-то мешает принять немедленное решение, — проговорил Владимирский, тоже вглядываясь в порозовевшее от волнения лицо Иосифа. — Леонид Петрович полагает, что вы уже согласились, но я не слышу от вас утвердительного ответа. А недомолвок между нами быть не должно. Трудно расстаться с домом, с семьей?
— Нет, — сказал Иосиф. — Я давно уже приготовил себя к этому. Уехать из дому для меня даже лучше.
— Жаль оставлять начатое в Орле дело?
— Нет. Родзевич-Белевич и Русанов поведут его не хуже меня.
— Так что же?
— Согласен! — Он как-то невольно проверил: застегнут ли ворот рубашки. — Единственно… Поступил я в дополнительный класс реального училища. Хотелось продолжить образование.
— Революционер всегда должен учиться. Всегда и обязательно, — вдруг задумавшись, сказал Дмитрий. — Но разве дополнительный класс реального училища — единственный и самый лучший источник образования? А книги, книги? Море книжное! И воля, тяга к знаниям. Впрочем, мы тогда не настаиваем.
— Согласен, — с твердой решимостью повторил Иосиф.
— А я иду к Марии Николаевне Корнатовской, — заявил Радин. — Кажется, я безбожно опаздываю. Но зато я смогу похвастаться своим таким интересным знакомством с вами, дорогой товарищ Иосиф.
— Мария Николаевна будет искренне рада, — сказал Дмитрий. И объяснил Дубровинскому: — Это наш добрый друг. Жаль, что не случилось вам сегодня встретиться с ней здесь.
— Это все еще впереди, — успокоил Радин. — Когда-нибудь после, будете наезжать из Калуги, я сведу вас в дом Анны Егоровны Серебряковой. Не посчитайте меня за отчаянного женолюба, но этих двух милых женщин я нежно люблю.
— Вместо «милых женщин», Леонид Петрович, правильнее бы сказать «умелых подпольщиц», — улыбаясь, поправил Радина Дмитрий. — Какое о них мнение может сложиться у Дубровинского?
— Тогда уж «фанатичных революционерок»! — с шутливым пафосом провозгласил Радин. — Пусть это определение острее всего врежется ему в память. Идемте! — Он подхватил Иосифа под руку. И отпустил. — Идемте, но не вместе. Переждите некоторое время после моего ухода. Конспирация только тогда конспирация, если она всегда конспирация!
Радин многозначительно поднял руку, подмигнул и вышел. Из-за переборки послышался его сочный раскатистый смех и тихий, словно бы виноватый голос Екатерины Даниловны. А Дубровинский стоял, глядел ему вслед и видел перед собой дорогу, бесконечную дорогу. Такую, которая предстала перед ним с особенной отчетливостью в ночь переезда их семьи из Курска в Орел.
8
С тех пор как в России угрозой безопасности монархов стали не внутренние дворцовые заговоры, а народные, революционные движения, и не только угрозой их личности, но и самому трону, с тех пор все коварнее, хитрей и бесчестнее стали складываться и формы уничтожения противников самодержавной власти. Добавлением к обычной полиции, «блюстительнице порядка», сделался Отдельный корпус жандармов и окутанные особой тайной охранные отделения. Добавлением к приговорам обычных судов сделались административные постановления, для внешнего эффекта скрепленные ссылками на «высочайшие повеления». Донос стал почитаться проявлением истинного патриотизма. Скрытное хождение по пятам, именуемое «филерством», превратилось в профессию. А осквернение чистого слова «товарищ» путем двоедушного провокаторства оказалось столь высшим видом «служения отечеству», что одарялось с особой щедростью.
От времен Шешковского и Бенкендорфа тайный полицейский сыск все совершенствовался. Но неизмеримо быстрее росли и совершенствовались в искусстве конспирации революционные силы, хотя и загнанные в глубочайшее подполье. Тайному сыску уже недостаточно стало трех китов, на которых он прежде держался, — доносительства, филерства и провокаторства. Нужен был «кит четвертый» — больший размах. Острый ясный ум, который направлял бы все это.
И вот в московское охранное отделение, издавна стяжавшее себе мрачную славу дьявольской кухни, вытеснив туповатого служаку Бердяева, пришел Зубатов. Человек жесткой воли, направленной к одной заветной цели — стать самому первостепенным государственным деятелем и освободить наконец монарха, правительство, господствующие классы от чувства гнетущего страха перед революцией.
Освободить… Но как?
Зубатов рассуждал. Нужно еще более укрепить действующую машину розыска. Заимствовать в этом смысле лучший опыт Европы. Опутать незримой сетью агентуры всю Россию и не оставить вне своего поля зрения ни одного революционера, пытающегося укрыться за границей. Тратить деньги на это следует не скупясь, ибо только тогда и можно требовать преданной службы от агентов — службы, которая ой не сладка! А меру совести для них оставить одну — результат поиска.
Но бессмысленно реку вычерпывать ложкой, если нужно направить течение в другое русло. Пусть сама вода пробивает себе дорогу.
Рабочие… Пролетариат… Эту главную силу революции, без которой любые марксистские идеи задохнутся немедленно, как рыба на воздухе, — эту главную силу, источник, питающий смертельные опасности для самодержавия, как подчинить, как взять в свои руки? Можно выловить сотни, тысячи революционеров и засадить в тюрьмы. Весь рабочий люд России — рабочий класс! — в тюрьму не посадишь. Стало быть? Надо в массе привлечь пролетариев на свою сторону, видеть в рабочих не врагов самодержавия, а надежных союзников в защите его. Точнее, пусть это — союзника верного своего — видят в охранном отделении, в Зубатове, сами рабочие…
Последняя неделя перед рождеством всегда заполнена особыми заботами. Следует решить окончательно, кого непременно пригласить к себе, от приглашения кого похитрей уклониться и, наконец, к кому именно постараться быть самому приглашенным. Следует поразмыслить и о том, каков должен быть праздничный стол в разные дни святочной недели применительно к составу гостей. Один любит гуся, другой — запеченный в отрубях окорок. Один млеет при виде обыкновенной «нежинской», а другому непременно подай коньяк, да не шустовский, а французский, и притом восьмилетней выдержки.
Не так-то легко подобрать на каждый вечер гостей, чтобы составилась приятная партия в преферанс. И остроумный рассказчик чтобы нашелся. И красивая дама с нежным голосом. Вечера не должны быть скучными.
Очень трудна святочная неделя. Хотя всегда и хороша тем, что за праздничным столом прочнее укрепляются давние связи и открываются удобные возможности для установления новых дружеских отношений. А без этого путь вверх невозможен.
В окно стучали длинные белые руки снежной метели. Едва за полдень, а в кабинете совсем темно, хоть зажигай лампу.
Сергей Васильевич Зубатов устало и счастливо потянулся. Суббота. Сочельник совсем уже на носу. В четверг — рождество. Уехать бы домой пораньше, Сашенька одна в хлопотах замоталась, да ведь и здесь дела все такие, которым надо быстрее дать ход. Быстротой, точностью действия и определяются высокие достоинства охранного отделения в новом его естестве, после печального краха досточтимого Николая Сергеевича Бердяева. Играл, что называется, «по маленькой», когда это касалось спокойствия империи, и «по большой», уже в буквальном смысле, в карты, да при этом на казенные денежки, — вот и результат. Звезда человека закатилась. А ведь могла бы сиять и сиять еще многие годы.
Да что Бердяев. Ах, как тупы и несмыслящи в делах государственной безопасности даже многие весьма титулованные особы! Самое простое им невдомек: современное революционное движение — не стихийные мужицкие бунты прошлых веков. Только полицейской дубиной и солдатским штыком ничего тут не сделаешь. Нынешние революции зреют не на одних страстях человеческих, а на хорошо разработанных теориях. Против идей должно бороться только идеями, против теорий — теориями. Слава богу, статут охранного отделения ныне таков, что не всякому свиному рылу дано соваться сюда. Следовательно, здесь можно бестрепетно и в полную меру заняться осуществлением собственных замыслов. Господи, пошли удачу!
Зубатов обеими руками провел несколько раз по мягким шелковистым волосам, зачесанным назад, испытывая от этих легких прикосновений явное удовольствие. Придвинул к себе толстую папку, на обложке которой каллиграфическим почерком было выведено «О тайном сообществе „Рабочий союз“. Начато 17 декабря 1897 года…», и принялся рассматривать вшитые в нее и пронумерованные документы: филерские проследки, протоколы обысков, рапорты секретных сотрудников и прочее и прочее.
Что ж, хорошо сработано. Накрыт этот самый «Рабочий союз» точно вовремя, когда достаточно отчетливо определились сферы и смысл его деятельности, установлен полный круг лиц, входящих в него, и не распространились слишком широко вредные последствия существования «Союза». Увы, далеко не первого. Н-да, растут эти «союзы», как грибы, как грузди в мокрое лето. Но, назвавшись груздем, полагается и лезть в кузов…
Он нажал кнопку электрического звонка. Вошел дежурный. Зубатов отдал приказание привезти из Сущевского полицейского дома содержащегося там с 12 декабря Иосифа Дубровинского, а сам опять углубился в изучение лежащего перед ним «дела», к которому было уже заготовлено сопроводительное письмо на имя начальника московского губернского жандармского управления генерал-лейтенанта Шрамма для возбуждения дознания в порядке 10357 статьи устава уголовного судопроизводства. Он прикинул: это может означать два-три года тюрьмы плюс лет на пять высылку в места не столь отдаленные. А названному Дубровинскому исполнилось только двадцать лет. Н-да, и он главарь. Один из главарей. Другие его соучастники все же постарше. Но вот какому-то студентику Борису Пересу всего восемнадцать, а слесарю Ивану Романову даже семнадцать. Просто бы выдрать розгами мальчишек!
Зубатов перелистывал бумаги. Д-да, Минятова упустили совершенно по-глупому. Брали группу Розанова, а Минятов, по филерским проследкам, продав наскоро свое имение, потом околачивался в Москве еще три дня. Вообще-то оно было и правильно прихватить его попозже, вместе с группой Дубровинского и Никитина. С ними он больше был связан, чем с Розановым. Да ведь черт же мог знать, что орловский губернатор, не посоветовавшись со своим жандармским управлением, еще в сентябре выдал Минятову заграничный паспорт! Надо будет этого самодовольного идиота как следует ударить по рукам. Привыкли корчить из себя всесильных сатрапов. А не будь охранного отделения, может, давно бы этого орловского ротозея стащили уже на погост, спели «вечную память» над павшим от бомбы террористов. Право, иметь некоторый запасец террористов на свободе не так-то и плохо: это заставляет кой-кого быть поосмотрительнее.
Московский «Рабочий союз», по существу, ничем не отличается от петербургского «Союза борьбы», создатель которого Владимир Ульянов, как и следовало, нынешней весной отправлен в сибирскую ссылку. Живучи идеи! А живучие идеи куда опаснее бомб.
Что вменяется в вину ныне арестованным членам «Рабочего союза»? Организация подпольных кружков, в них — враждебная существующему строю пропаганда. Еще: хранение и распространение запрещенной литературы, изготовление собственных воззваний к рабочим, листовок, прокламаций. Все эти общие слова не будут иметь ни малейшей обвинительной силы, если они не подкреплены вещественными доказательствами. Сделать обыск не трудно, попробуй найти эту самую нелегальщину. Арестовать не трудно, попробуй добиться признаний. На этот раз агенты, кажется, постарались на совесть. На совесть плюс наградные к празднику. Улик предостаточно, «марксята» попались, как мыши у своих норок, с набитыми зерном щеками.
Вот у Дубровинского взято, например — бог мой! — сто двадцать четыре свеженьких экземпляра воззваний от «Рабочего союза», отпечатанных на мимеографе, тридцать шесть экземпляров «Вопросных пунктов по положению рабочих в Москве», книги Маркса, Плеханова и еще целая кипа подобной же литературы. У Розанова найдены Маркс, Каутский и Клара Цеткин. Так и у всех других: у Никитина, его любовницы Семеновой, у Волынского, Машина… А в Курске у мещанина Мухина прихлопнули и тот самый мимеограф, на котором печатались все эти воззвания и прокламации и за которым немало погонялись из города в город «летучие филеры» Евстратия Павловича. Ну, право, молодчина! Куда только не повозили «марксята» ящик с печатными принадлежностями: и в Орел, и в Калугу, и в имение Минятовых!.. А не уплыл он таки из-под бдительного ока Евстратия. Братец ссыльного Владимира Ульянова, Дмитрий, естественно, следует по проторенной семейной дорожке…
Словом, генерал Шрамм получит прекрасный исходный материал для производства дальнейшего дознания. А уж там сумеют его следователи добиться необходимых признаний от самих обвиняемых — это, слава богу, охранного отделения не касается. Ему, Зубатову, есть лишь резон побеседовать кое с кем из арестованных прежде, чем приступят к их допросу чины из управления генерала Шрамма.
Он вынул другую папку, помеченную так же — «Рабочий союз», но не подлежащую передаче в жандармское управление. Охранное отделение имеет свои собственные секреты, которые не могут быть открыты решительно никому. Сила охранного отделения и зиждется прежде всего на соблюдении строгой тайны. Пожалуйста, генерал-лейтенант Шрамм, получайте арестованных, получайте вещественные доказательства их вины, а вот способы и пути, посредством которых подобрались мы к «Рабочему союзу», — это оставьте знать только нам!
В папке лежало несколько десятков листов отличной ватманской бумаги, на которой очень прилежно было вычерчено подобие диаграмм. Концентрические круги, похожие на паутину, и тонкие разноцветные линии, пересекающие эти круги в различных направлениях. Линии либо под углами соединялись между собой, образуя «узелки», либо так и уходили за границу последнего большого круга в неопределенность. Где линии соединялись, стояли фамилии, даты, еще какие-то условные значки. На полях листа к ним пояснения.
Зубатов водил пальцем по диаграммам, иногда делал простым карандашом близ «узелков» легчайшие пометки. Все нравилось, все отвечало задуманному. Из причастных к «Рабочему союзу» лиц взято под стражу ровно столько, сколько необходимо, чтобы нанести ему тягчайший удар. И в то же время оставлено на свободе определенное количество «марксят», так сказать, «для разводки».
Глупо, предельно глупо предполагать, что, ликвидировав начисто какой-нибудь такой «союз», тем самым уничтожаешь и причины, ведущие к возникновению революционных организаций. Увы, причины пока остаются. Следовательно, и революционные организации будут неизбежно возникать. Так уж лучше, чтобы они появлялись на этой самой «разводке», досконально известной охранному отделению, чем на пустом месте, которое потом отчаянным трудом надо открывать заново. Евстратий, например, считает, хотя напрямую об этом и не говорит, что и прямо помочь бы революционерам иногда не худо. Не станет их — и ловить будет некого. И награды и повышения не за что получать. Это сермяжная правда. Но, боже, как тонко такая мысль должна осуществляться!
Зубатов разглядывал диаграммы. Вот в центре паутины «узелок». Сколько от него тянется нитей во все стороны! Как причудливо они скрещиваются, переплетаются. Это десятки и десятки людей, чьи судьбы так вот взаимно переплетены, хотя они об этом и не догадываются. «Узелок» в центре круга… Никому не известно настоящее имя этого человека и как он выглядит по внешности. Никому, кроме него самого, Зубатова, да Евстратия Павловича. Даже для всех других сотрудников охранного отделения, для директора департамента полиции, для министра внутренних дел это тайна, святая святых. Это миф под кличкой «Мамочка». Ну, а для некоторых «марксят» — милая, умная женщина.
Не постучавшись, вошел Евстратий Павлович Медников. Упитанный, со втянутой в плечи головой и сильно выпяченной грудью. Полное лицо его поблескивало, сияло здоровьем, внутренним довольством. И русые волосы, курчавая бородка и небольшие усики — все было свежее, расчесанное с бриолином. Почтительно и в то же время очень дружески он поздоровался с Зубатовым. Без приглашения опустился в кресло.
— Сказывали, искал ты меня, Сергей Васильевич, кликал. А я все в делах, — вздохнул с некоторой грустью в голосе. А скорее с хитринкой, в расчете тут же получить приятный для себя ответ.
Зубатов видел его насквозь. И говорил именно то, чего ожидал Медников. Тем, кто тебе очень полезен, очень нужен, следует всегда говорить поначалу добрые, ласковые слова. А упреки, если есть, так потом уже. Может быть, с намека и сам догадается. Евстратка, конечно, догадается.
— Поздравить хотел, Евстратий, с наступающим. Пожелать тебе, супруге твоей, всему семейству, и… — Зубатов засмеялся многозначительно — …и Екатерине Григорьевне всяческого счастья и благополучия. А еще поздравить с удачным завершением, как раз под праздник, большого дела нашего.
Медников слушал, согласно кивал головой, повторял: «Спасибо! Спасибо!» А когда закончил Зубатов, наивно спросил его:
— Не рано ли проздравлять-то, Сергей Васильевич? Ежели с праздником. Или куда снова меня загнать на дело сейчас собираешься? Дай хоть как следует разговеться.
— Да уж разговеемся, Евстратий Павлович, разговеемся. Еще поздравить хочу с крупными наградными. Вот распоряжение Зволянского. — Зубатов щелкнул ногтем по листу бумаги, лежащему перед ним.
— Сердечный человек Сергей Эрастович, такой, как ты, Сергей Васильевич. Понимающий, — похвально отозвался Медников. — Настоящий директор департаменту полиции! Не чета сквернавцу Дурново Петру Николаевичу, ушел — и не вспомнишь добром. Почему? В нашем тяжком деле ободрение, ласка нужны.
— Каждому?
— Каждому, Сергей Васильевич, — подтвердил Медников.
— А я вот ехал сегодня на службу и у Сретенских ворот разглядел на проследке одного филера нашего…
— Ах, стерва! — перебивая Зубатова, вскрикнул Медников. И хлопнул себя по ляжкам. — Не надо как держался? В глаза кидается? Или только тебе самому? Или всему народу? Говоришь, у Сретенских… Ах, «Круглый»!..
— Да нет, Евстратий, держался он как полагается. Никто на него внимания не обращал. Я приметил потому, что знаю его. Губа нижняя у него страшно разбита и глаз совершенно затек. А праздники-то еще впереди.
Медников легко засмеялся.
— Ну, тронул я его вчера вечером, это верно, тронул. Другим в пример. А как иначе с такими?
— Ты сам, Евстратий, только что говорил: в нашем тяжком деле ободрение, ласка нужны.
— Так разве ж меня филеры мои не любят, Сергей Васильевич? Не хвалюсь. Любят! Знаю кого, когда и как обласкать.
— Это правда, любят тебя, — заметил Зубатов. — Но вот «Круглого» ты, кажется, «обласкал» через меру.
— Так, Сергей Васильевич, посуди сам. Дано ему было: за «Очкастым» — ну, которого вместе с «Рабочим союзом» пока брать не стали, — за «Очкастым» позапрошлую ночь следить неотрывно. Спит, не спит дома «Очкастый», с окна его и с входной двери глаз не спускать. Метель, конечно, и тогда мела этакая же, что и сегодня. А что делать? Надо — и нагишом в проруби сутки целые просидишь. Это не объяснять ему, сам хорошо понимает. И вот на сборе докладывает «Круглый» и записку подает: тихо ночь прошла, никакого движения не было. А мне по другой записке, от «Пуговки», известно уже: три часа просидел «Круглый» в извозчичьем трактире, прервал наблюдение. И еще известно: заходил кто-то ночью к «Очкастому». Ну, так как, Сергей Васильевич? Как было не тронуть его?
— Закоченел на ветру человек, не выдюжил, — сказал Зубатов неопределенно, не то в защиту «Круглого», не то просто лишь в объяснение факта. — Подмену нужно было дать ему.
— А где же я возьму подмену-то? — Медников опять хлопнул себя по ляжкам. — Сергей Васильевич, никак народу у меня не хватает. Да ведь не это главное. Пошел в филеры — не ври! Отцу своему, родной матери, случается, соври. Богу в молитве, перед иконой святой соври. Мне врать не смей. Недоделал, смалодушничал — повинись. Прощу. А это как же так? Какая же тогда наша работа?
— В общем, ты прав, конечно, Евстратий Павлович. Но рука у тебя тяжеловата.
— Какую господь дал, — скромно отозвался Медников. — Да еще тем сильнее на «Круглого» я замахнулся, что, сукин сын, в записку расходы внес, которых не было. И не пятак, не гривенник лишний — полтинник целый!
— Ах, вон как! — уже с действительным возмущением вскрикнул Зубатов. — Так надо было вовсе выгнать его!
— Сергей Васильевич, милый, в этом уж ты меня не учи, — просительно сказал Медников. — В людях я кое-чего понимаю. Сам скрозь эту филерскую службу прошел. Губа у «Круглого» заживет, глаз тоже. Но врать он мне больше не станет — потому было все по справедливости. А выгони — обида ему будет сердце щемить: вот, мол, старался, мок под дождями, мерз на холоду — и награда. За грех один. Выгони, а куда ему деваться? К жизни другой он уже не способен. И революционеры его к себе тоже не примут. Для них он подлинная мразь. Не больше. Да и чего он им расскажет? Какие секреты? Знает он столько, сколько эта публика и сама про нас знает. Словом, конец тогда мужику. А у него жена, дети. — Медников вытащил из кармана платок, встряхнул и аккуратно разгладил им усы, бороду. — Ну, а еще за что ругать будешь меня? По глазам понял сразу: неспроста меня проздравляешь.
— Да что же ругать тебя, Евстратий? Сколько лет мы с тобой плечом к плечу, — сказал Зубатов мягко. — Я ведь понимаю. Одному коню — плеть, другому — овес только нужен.
— Это точно, Сергей Васильевич, мне кнута не требуется.
— Ругать я тебя не стану. Но одно замечание, изволь, по дружбе сделаю. Ты вот сейчас насчет полтинника рассказывал. А ладно ли, Евстратий, получается, что ездят временами наши филеры будто бы в командировки, а потом оказываются на работах в твоем имении? И жалованье им казенное идет.
Медников вновь хрипловато, мелконько засмеялся.
— А если и так, Сергей Васильевич! Самому делу нашему убытку от этого нет? Все идет как надо? Не знаю, откуда ты взял, только руби голову — сами филеры мои тебе не пожаловались, что, дескать, три шкуры с них дерет Медников.
Зубатов немо развел руками, что означало: и «убытка» делу видимого как будто бы нет, и прямых жалоб от филеров действительно не поступало, но все же… Не очень благородный пример подает начальник своим подчиненным!
Другому этого, конечно, никак бы нельзя спустить. Евстратию можно. И нужно. Потому что никто, кроме Евстратия, в таком совершенстве поставить наружное наблюдение уже не сумеет. Не зря филеры с похвальбой говорят: «Прошли Евстраткину школу!» И казенные полтинники, которые Евстратий так бережет, чтобы было от чего ему самому приворовывать, — это деньги, на дело уже списанные. Контроль над ними — только совесть Евстратия да его, Зубатова, совесть. Бог с ними, с полтинниками этими, и с «барщиной», которую хитрым образом установил для своих филеров Евстратий, — в конечном счете сейчас все довольны. На вернейших сотрудников своих следует смотреть, как на любимую женщину, с которой находишься в тайной связи. Хотя по общим законам она за прелюбодеяние и сурово наказуема, компрометировать ее нельзя: она ведь отдает тебе все, что имеет…
— Евстратий Павлович, — после некоторой паузы сказал Зубатов так, будто и не было совсем предшествующего разговора, — знаешь, зайди ко мне на праздниках, посидим вечерок с друзьями. Сашенька будет рада. Заходи с супругой. Понимаешь сам, с Екатериной Григорьевной не приглашаю.
— Понимаю, Сергей Васильевич. В дом к вам как же… Александра Николаевна — святая женщина, и Коленька — сынок ваш… Это ты уже один потом навести меня у Екатеринушки. А на сколькой день праздника к себе приглашаешь?
Зубатов пригладил волосы, достал портсигар, серебряный с золотой инкрустацией, повертел на столе, но закуривать не стал. Медников — старообрядец. Терпеть не может табачного дыма. На службе всех курящих недолюбливает. Зачем понапрасну досаждать человеку?
— Да в любой день, Евстратий, в любой день. Всегда будем рады! — сказал. И добавил будто бы так, уже совсем между прочим: — Ну, на четвертый день. Вдруг нас самих к кому-нибудь на первые дни пригласят.
Он сказал это, зная точно, что поедет с женой к обер-полицмейстеру Дмитрию Федоровичу Трепову на второй день рождества, а в первый и третий день будет у себя в доме принимать гостей. Но позначительнее все-таки, чем Евстратий Медников.
Вошел дежурный офицер и доложил, что Дубровинского привезли. Медников заторопился. Он знал: при разговорах Сергея Васильевича с арестованными третий человек — помеха.
9
Дубровинский не находил себе покоя с той самой ночи на 12 декабря 1897 года, когда в дверь снятой им квартиры по Докучаеву переулку вдруг громко и требовательно постучали. Он силился и не мог разгадать, в чем заключалась его личная ошибка. Ведь соблюдалась же строжайшая конспирация! И тем не менее выследили, захватили…
Это был первый обыск в его жизни. Он судорожно позевывал, поднятый с постели, еще одурманенный крепким сном. В комнате толклись полицейские, ежились у стены двое понятых, приглашенные из соседних квартир. Пристав Мороховец, известный всем в этом доме — со «своего» участка, — погромыхивая тяжелой шашкой, когда задевал ею мебель, разгуливал из угла в угол. А на столе с пугающим штампом Московского отделения по охранению общественной безопасности лежало предписание: И. Ф. Дубровинского арестовать.
Нашли, конечно, все. Мороховец потирал руки, составляя протокол обыска и давая его на подпись понятым и самому арестованному. А в три часа ночи за Дубровинским уже захлопнулась тяжелая дверь одиночной камеры Сущевского полицейского дома.
Ноги стыли на холодном каменном полу, он пытался согревать их бесконечным хождением по камере. Одолевала усталость. Пощелкивали зубы. На дворе вьюга, мороз, а камера почти не отапливается.
Захватили при бесспорных уликах. Выследили, подстерегли. Что это — ставшая жупелом какая-то особая прозорливость охранки с момента назначения Зубатова ее начальником или черное предательство кого-то из своих же товарищей?
Дубровинский припоминал, уносился мыслью к тем временам, когда, следуя настояниям Владимирского и Радина, уехал в Калугу, поступил там на службу в оценочно-статистическое отделение земской управы. Вскоре туда перебрались многие орловские и курские друзья: Никитин, Семенова, брат ее Максим, Сергей Волынский. Завязались новые знакомства. Нет, нет здесь ни малейших подозрений!
В Калуге довольно быстро удалось установить связи с рабочими заводов и фабрик, расположенных в ближней и дальней округе. Полотняный завод, Троицкое, Кондрово — там сложились крепкие марксистские кружки. В «Рабочем союзе» были очень довольны. Приходилось частенько наезжать в Москву. За советами, взаимно делиться опытом. Тут тоже соблюдалась предельная осторожность.
Много помог тогда Леонид Петрович Радин. Он дал чертежи «своего» мимеографа, объяснил, что можно купить в готовом виде, что приспособить и какие детали надо потихонечку изготовлять на заводах.
Вместе с Леонидом Петровичем посетили они тогда Марию Николаевну Корнатовскую. Там случилась и Анна Егоровна Серебрякова. Ах, какие это действительно умелые подпольщицы и фанатичные революционерки! Расхваливая их, Радин не ошибся. Обе высокообразованные, умные, энергичные, отлично осведомленные обо всем, что творится на белом свете. Яростной ненавистью к самодержавному строю дышали их речи.
На следующий день Леонид Петрович принес полученный от Корнатовской экземпляр «Манифеста Коммунистической партии» — издания, недавно арестованного в Москве и вообще находящегося под строжайшим запретом. От имени «Рабочего союза» Радин поручил Калужской организации напечатать четыреста экземпляров.
Было это в конце октября. А в середине ноября Радина арестовали. И еще шестьдесят человек, причастных к «Рабочему союзу». Привез в Калугу тяжелое известие Дмитрий Ульянов. Сказал: «Организация разгромлена почти под корень. Надо ее восстанавливать. С очень большой осторожностью. Неизвестно, кого еще держит под своим прицелом охранка. Но ты, Иосиф, сомнений нет, там на учете не состоишь. Берись за дело еще ответственнее. Как один из руководителей. Очень надеемся на тебя». — «А как быть теперь с „Манифестом“? Все же печатать?» — «„Манифест“ теперь нужен еще больше, чем когда-либо! Пусть чувствует охранка, что мы неуловимы, живем». — «Причину провала удалось установить?» — «Нет. Наша умница Мария Николаевна сумела проникнуть на свидание к Леониду Петровичу, перемолвилась с ним. Он в полном неведении. И мы тоже. Зубатов! Как там ни говори! Остерегайся всячески, но „технику“ пускай в ход как можно скорее».
Деньги на покупку «ремингтона» — пишущей машинки — дал Константин Минятов. Он же оплатил и различные приобретения для мимеографа. И вообще Минятов отдает почти все доходы со своей Жуковки! Без Кости никак не справиться бы с поручением «Рабочего союза». А нужно было еще найти и подходящее помещение и человека, умеющего на шелковой трафаретке выбить «ремингтоном» текст брошюры — сорок восемь страниц! Тут выручила Семенова. Сама сумела это сделать.
Надежда Павловна, «Надеждочка» Минятова, любуясь своим Костей, вдохновенно говорила, что если удобно устроить «технику» в их Жуковке, работать там, пусть приезжают. Весь дом будет в их распоряжении!
Но это не было удобно. Это было просто опасно — поселиться целой группой надолго в маленьком имении человека, находящегося под надзором полиции. Нет, нет, устраивать «технику» надо в городе. Среди множества людей легче спрятаться. Тем более, что и Никитин, и Семенова, и сам он, Дубровинский, имеют тихую, незаметную службу в Калуге. Ничем они не скомпрометировали себя в глазах калужской полиции.
С февраля началась работа. Надеждочка переслала в Калугу все, что ее муж закупал на свои деньги. Надо только представить, как ловко и расторопно проделала все это Надежда Павловна!
В статистическом отделении сотрудники посмеивались: «Иосиф, ну что ты за службист такой! Сидишь все время крючком над своими таблицами. В двадцать лет хочешь себе заработать чиновничий геморрой?» И собирались группами, обсуждали потрясшее всю Россию известие о самосожжении Ветровой в знак протеста против издевательств тюремного начальства над политическими заключенными в Петропавловской крепости. Он не вступал в такие разговоры, подчеркивал, что политика его совсем не интересует: следовало соблюдать конспирацию.
А вечерами с Семеновой печатали «Манифест», и вся их квартира — общая с Семеновой и Никитиным, — вся их квартира была затянута веревками, на которых сушились отпечатанные листы. Алексей Никитин вскоре уехал в Москву, он там был очень нужен. А Лидия осталась. Работа легла на двоих. От духоты, тяжелого запаха краски тошнило, кружилась голова. Ему было трудно. Как Лидия Платоновна переносила все это?
Дубровинскому вспомнились рождественские праздники прошлого года, проведенные в имении у Минятовых. Лидия Платоновна и Надежда Павловна — обе невысокие, черноволосые и темноглазые, только и разницы, что у Лидии волосы подстрижены в скобку и зачесаны на косой пробор, а у Надеждочки закручены в жгут на затылке, — они плясали возле елки, живо, весело, а потом с таким же задором пели революционные песни. Константин аккомпанировал на гитаре.
Где, когда и как охранка сумела запустить свои липкие щупальца в их тесный товарищеский круг? Нет и нет, ни в Орле, ни в Калуге, ни у Минятовых этого быть не могло!
С Лидией Платоновной работалось хорошо. Она умела поддерживать настроение и тогда, когда их обоих валила с ног смертельная усталость. Намеренно обостряла любой спор. Не то сама длинно рассказывала какую-нибудь пустячную, но смешную историю. И время летело незаметно. А сырые листки постепенно заполняли собой все натянутые веревки. Можно понять, почему ею так дорожит Никитин. И непонятно лишь, что им препятствует стать мужем и женой, а не сожителями, как их все называли в Орле, включая даже и тетю Сашу. Лидия Платоновна однажды сказала: «А вы знаете, что такое любовь?» Она только на девять лет старше Иосифа, а в тот раз посмотрела на него, как на ребенка. И назвала так, как называли его только в своей семье. «Ося, вы ничего еще не понимаете в этом. Хотела бы я посмотреть на вас, когда вы станете это понимать»…
Потом они задумали выпустить отдельной брошюрой «Четыре речи рабочих», те самые речи, что были произнесены в Петербурге на первой маевке шесть лет назад и не потеряли своей силы. Одна из них принадлежала Василию Сбитневу, с которым когда-то так странно свела Иосифа судьба в поезде. Семенова успела напечатать лишь трафаретку и уехала к Никитину.
Одному стало совсем тяжело. Ценой огромнейшего напряжения сил и воли он сумел закончить «Манифест», а «Четыре речи» к майским дням опоздали.
За вещами Лидии в апреле приехал Никитин. Алексей Яковлевич привез хорошую идею. Пока их «техника» еще в действии, напечатать воззвание «Ко всем московским рабочим» за подписью «Рабочий союз» и пометить июлем 1897 года. Напечатать и приберечь до времени, а «технику» спрятать в надежное место. И так непозволительно долго находилась она в работе все в одном городе. Надо быть осторожнее.
Они тогда сделали это быстро. Алексей Яковлевич запаковал прокламации и увез в Орел, оставил под видом домашних вещей у какого-то своего прежнего сослуживца Джунковского… Не здесь ли пробита маленькая брешь в каменной стене? Нет… Нет! И Джунковский вполне порядочный человек, и, главное, все было так умно запаковано, что не могло вызвать ни у кого ни малейшего подозрения.
А когда Семенова с Никитиным в Москве поменяли квартиру и поселились в Луковом переулке, Лидия Платоновна съездила за «вещами» в Орел, забрала их от Джунковского. Новая квартира была хороша, предполагалось пустить в ней в дело истосковавшуюся «технику». Только один ящик с запакованными в нем «Манифестами» до поры остался в Орле. Семенова передала его Владимиру Русанову на хранение. Не он ли повинен в провале? Нет! Володя не мог подвести. Он с Родзевичем-Белевичем все эти годы отлично вел в Орле марксистские кружки, поддерживал связи с «Рабочим союзом».
Товарищи из Москвы торопили: «Иосиф, тебе надо тоже переехать сюда. Здесь ты нужнее. Будем устраивать стачки на заводах, будем разъяснять, что новый закон об установлении твердого рабочего дня — вынужденная уступка правительства — на самом деле ничего не дает. „Сократили“ рабочий день до одиннадцати с половиной часов и сократили праздничные дни. Как говорится, вышло баш на баш, в расчете на год нет никакой разницы».
В сентябре он переехал в Москву. Началась новая полоса в жизни, завязались хорошие знакомства с рабочими. Ястребов, Романов, Дроздов… Семенова передала все заготовленные в Калуге воззвания… Да…
Да… А седьмого ноября арестовали Дмитрия Ульянова, и Розанова, и Вольского, и еще многих-многих товарищей.
Дубровинский опять и опять перебирал в памяти все, что было между арестом Радина и этими арестами. Нет, ничего общего не устанавливалось. По-видимому, просто каждая из этих групп провалилась обособленно, цепочка сразу обрывалась. Иначе охранка разве стала бы дремать?
Но и они ведь не дремали! После провала группы Розанова с Ульяновым начали действовать быстро, прятать концы. Семенова тотчас же увезла так и не распакованную еще «технику» снова в Орел, оставила ее в доме отца. Казалось, что-вернее? И тем не менее этот ящик Алексей Яковлевич все-таки забрал из Орла, свез очень тайно в Курск к переплетчику Мухину, женатому на его сестре. Тоже правильно — Мухин, как и Джунковский, не знает, что находится в ящике. Он никогда не участвовал ни в каких рабочих кружках. Пасть на него подозрение полиции не могло. Восьмого декабря Никитин вернулся в Москву, стократ проверяя: нет, никакого «хвоста» не привез с собой! Одиннадцатого декабря он сам, Дубровинский, навестил Никитина и твердо убежден: за ним слежки не было. Все шло отлично. В течение последних дней он сумел раздать добрую половину воззваний, осталось на руках немногим более сотни, и вдруг этот ночной стук…
А теперь целую неделю мучают одни и те же неотвязные мысли: что, этот арест только собственная его ошибка, выслежен только он, или это провал всего «Рабочего союза»? Глухо! Ни единой весточки с воли за всю неделю. Остался там, на свободе, кто-нибудь из своих? Цела ли «техника» в Курске? И главное, все-таки, все-таки… Как это случилось? Ошибка или предательство?
Дубровинский расхаживал по камере. Он припоминал передовую статью нелегальной киевской «Рабочей газеты», несколько экземпляров которой было завезено и в Москву. «Наступает пора, когда отдельные, разбросанные всюду рабочие кружки и союзы должны превратиться в один общий союз или одну общую партию». Да, да, ведь именно к этому стремились и в петербургском «Союзе борьбы», который был создан Ульяновым, стремились и в их московском «Рабочем союзе». Сама жизнь настоятельно требует этого. А Владимир Ульянов в сибирской ссылке. Провалы социал-демократических организаций следуют один за другим. И неизвестно, какие последствия для московского «Рабочего союза» принесут вот эти разгромные аресты.
Загремел засов, скрипнула дверь. Надзиратель принес обед. Ломоть черного хлеба, миску чуть тепленькой овсяной похлебки. Надзиратели менялись посуточно. Этот заступил на свое дежурство уже в третий раз. Он был симпатичнее других. Немолодой, с крестьянской окладистой бородой. Снять бы шинель с него — ни дать ни взять пахарь из села Кроснянского. Он всегда заговаривал первым, справлялся о здоровье, сочувственно поддакивал жалобам Дубровинского, что в камере холодно. И объяснял: «Метель утихнет, и у тебя потеплеет, чичас все через трубу ветром выносит». Предлагал табачок, Дубровинский не курил, отказывался, но всегда с благодарностью. Он понимал: этот надзиратель предлагает табак от чистого сердца. Полицейская служба ему, может быть, противна, да вот поступил когда-то и тянет лямку. Но поговорить обстоятельнее не удавалось, зайдет на минутку-другую, поставит или заберет миску, и вон.
Только раз надзиратель немного замешкался. Выждал, когда Дубровинский сядет к столу, и подал ему маленький сверток.
— Не положено без разрешения начальства, — вздохнул, — да очень уж одна дама просила. И ты сам, парень, славный.
Дубровинский встрепенулся. Первая передача с воли.
— А от кого? Как зовут эту даму?
— Ну, это, парень, мне не до спросов было. Получай, что дано, и тихо. Я ушел.
В свертке из плотной синей бумаги не было ничего, кроме золотистой, поджаристой кулебяки с вязигой, которые обычно продавались в постные дни в булочной у Филиппова. Самым тщательным образом исследовав обертку, Дубровинский убедился, что письменного сообщения на ней нет. Сама кулебяка тоже была целехонька. Разочарованный, он разломил ее пополам, стал жевать. Вторую половинку сунул в изголовье постели — полакомиться еще и вечером. К похлебке он даже не прикоснулся.
Дождался, когда надзиратель зайдет взять посуду. Спросил нетерпеливо:
— Да как же все-таки выглядела та дама? И неужели ничего не сказала?
Надзиратель минутку помедлил. Стоя уже на пороге, ответил:
— А как? Вроде барыня. Моложавая, приятная. А сказать ничего не сказала сверх того, кому передать.
И бессознательно свободной рукой коснулся кармана. Дубровинский понял: взята была передача не даром.
Но кто же эта «барыня»? Семенова одевалась всегда очень просто, на «барыню» она не похожа. Надежда Минятова? Возможно. Это как раз в ее духе. Купила в булочной горяченькую кулебяку и скорей побежала со своей передачей. Не подумала даже, что ему два-три слова сейчас во сто раз дороже самого вкусного пирога. Конечно, и за это спасибо…
Да, но ведь она почему-то же обошла стороной все обязательные «инстанции»! Сунула сверток дежурному надзирателю. Сумела заранее выведать, кто будет дежурить сегодня, сумела подкараулить его за воротами. И полтиной или целковым соблазнила грешную душу надзирателя. Умело, умело сделано…
Дубровинский замер. Да, но если умело… Если умело… Какой резон таким рискованным способом посылать лишь одну кулебяку, без письменного сообщения? И тогда это вряд ли Надеждочка, все-таки простоватая в действиях. И тогда…
Он торопливо вытащил остатки кулебяки из-под изголовья постели, раскрошил на мелкие кусочки. Да! Да! Это, оказывается, он неумелый. Это он мог вместе с вязигой изжевать и записку. Ловко она запечена. Не в булочной всунута. И какая же удача, что записка оказалась во второй половине, а голод был не так уж силен!
В записке значилось: «Тяжело заболели Сеня с Ниной и еще пятеро соседских ребят. Остальные дети, слава богу, здоровы. М.».
— Так… Так… «Тяжело заболели» — арестованы… «Сеня с Ниной» — кто это? Сеня… Семен… Семенова!.. А «Нина»? Никитин?.. И еще пятеро. Кто же?.. Но, главное, «остальные, слава богу, здоровы». Действительно, слава богу! Значит, не все корни охранке удалось вырубить. А от корней новые ветви быстро пойдут. Жить можно!
Дубровинский бросился на койку, закинул руки за голову. Показалось теперь даже не так уж и холодно.
Но кто же такая эта «М»? Все же Минятова? Нет, нет, это не она, такого Надеждочке еще не сообразить. Литера «М» для маскировки может означать и «мама», коль разговор идет о детях. С нее начинается также имя Мария.
Мария… Он внимательнее пригляделся к почерку. Очень решительная, твердая и — вдруг представилось ему — красивая женская рука «барыни». Да ведь это же Мария Николаевна Корнатовская! Ну, конечно, она! Какая умница! Недаром ею всегда так восхищались и Дмитрий Ильич и Леонид Петрович. Вот золотая женщина, золотой человек! Ох, как еще на свете жить можно!
Ему теперь не лежалось. Он вскочил, забегал по камере. Черт побери, в понедельник он подал прошение в охранное отделение, чтобы отдали книги, взятые при обыске, его личные книги, обычные, не крамольные, по которым люди учатся, пополняют свое образование, и вот неделя уже на исходе, а ни книг, ни даже ответа внятного все нет. Надо будет завтра заявить решительный протест! Письменные принадлежности, правда, вчера принесли — тетрадь с пронумерованными листами, — но предупредили, что это не для сношения с «волей». Можно пока писать лишь самому для себя. И то дай сюда. Хоть попрактиковаться в алгебре, в геометрии.
Сгущались ранние зимние сумерки. Он уселся за стол, принялся в уме составлять примеры для уравнений с тремя неизвестными. Но опять загремел замок, взвизгнула дверь, и на пороге появился тот же надзиратель.
— Дубровинский! Одевайся! На выход. Без вещей.
За спиной надзирателя маячили два жандарма.
10
Метель кружилась остервенело. Возок качался на мягких снежных сугробах. С Тверской повернули направо. Дубровинский узнал: Гнездниковский переулок. Значит, везут в охранку. Зачем? Допрашивают по политическим делам в жандармском управлении…
Возок приткнулся вплотную к крыльцу, и Дубровинский, не успев оглядеться, оказался уже в помещении. Здесь было по-настоящему тепло. И ничуть не похоже на какую-нибудь полицейскую часть, с ее истертыми полами, провонявшими табаком стенами и грязными, непромытыми окнами. Помещение охранки блестело чистотой, расторопно, но без суеты сновали по коридору сотрудники, одетые по большей части в штатское платье. Дубровинского вежливо попросили снять пальто, и два жандарма повели вверх по крутой винтовой лестнице с поскрипывающими слегка ступенями.
Здесь опять открылся широкий чистый коридор, который закончился просторной, очень светлой комнатой. В ней работало много людей, деловито стучали пишущие машинки, на столах были навалены груды папок. Ни дать ни взять калужская земская управа, где Дубровинский, занимаясь статистикой, прослужил более года.
Еще комната, теперь небольшая, полная проволочных дуг с нанизанными на них листками, словно бы от календаря. Похоже на адресный стол.
И совсем уже маленькая полутемная передняя. Дежурный жандармский офицер остановил их, приподняв руку, исчез за дверью на несколько минут и вновь появился. Любезный, улыбающийся.
— Прошу вас! Проходите!
За дверью оказалась еще комната в два окна. И лишь потом, как догадался Дубровинский, кабинет Зубатова. Но прежде чем войти в него, пришлось опять немного задержаться. На пороге, спиной к Дубровинскому, стоял коренастый, с толстыми ляжками мужчина и завершал какой-то веселый разговор с хозяином кабинета.
Ожидая, Дубровинский оглядывал стены, выклеенные отличными обоями. Ничего лишнего. Барометр, отрывной календарь. Между окнами торжественно-чинный портрет Судейкина, начальника петербургской охранки, несколько лет назад убитого террористами «Народной воли». В уголке — стол в виде конторки, при нем крепчайший дубовый стул, обитый кожей. Все!
Мужчина закончил разговор. Повернулся, так и сияя душевной удовлетворенностью. Тихо ахнул: «Виноват!»
Жандармы подтянулись.
— Здравия желаем, Евстратий Павлович! — отчеканили дружно.
«Ага, это и есть Медников», — подумал Дубровинский.
А тот слегка изогнулся, будто приказчик в мануфактурной лавке, приглашающий важного покупателя выбрать нужный ему товар.
— Милости просим!
«Как они все любезны здесь…»
Зубатов встретил Дубровинского стоя. Вышел из-за стола, долго и крепко пожимал ему руку.
— Будем лично знакомы, Иосиф Федорович, — сказал, кивком головы предлагая сесть в кресло. Жандармам сделал знак удалиться. — Меня зовут Сергеем Васильевичем. Вы курите?
— Нет, — сухо ответил Дубровинский.
И сел. Он чувствовал блаженное тепло в ногах. Вот где по-настоящему он сможет отогреться. А кабинет хорош. Просторный, тихий. Ни единого звука сюда не доносится ни с улицы, ни сквозь закрытую дверь. Только снежная метель стучит в потемневшие окна.
Зубатов прошелся, закуривая на ходу. Шаги его скрадывал толстый мягкий ковер. Повернул выключатель, и кабинет, весь сразу испестрившись тенями от многорожковой люстры, стал как-то еще уютнее. Словно бы отделился от стены, выплыл на середину комнаты поясной портрет Николая II, написанный художником не по-казенному. Император смотрел тоже с доброй улыбкой.
— Испортили мы вам рождественские праздники, Иосиф Федорович, — сказал Зубатов участливо. Уселся в кресло и выпустил в потолок струйку голубого дыма. — Но что поделаешь — служба! Да и сама обстановка сложилась так, что больше медлить уже не годилось. Вы согласны?
Дубровинский молча пожал плечами. Зубатов был старше его лет на двенадцать-тринадцать, но держал себя в разговоре как с одногодком. Тем не менее чувствовалось: хозяин здесь он и власть у него очень большая.
— Итак, вы задумали, — Зубатов сделал рукой поясняющий жест, — имею в виду не только вас лично, — вы задумали создать «Рабочий союз». Судя по названию, в защиту интересов рабочих. Понимаю и сочувствую. Положение рабочих у нас в России действительно ужасное. А предприниматели безжалостны. В этом мы с вами, кажется, полностью сходимся?
— Моя фамилия, имя, отчество вам известны. Где я родился и год моего рождения, полагаю, тоже. Вероисповедания православного. Холост, — сказал Дубровинский. — На какие вопросы еще я обязательно должен ответить? Сверх этого мне отвечать просто нечего.
Зубатов чуть-чуть улыбнулся, вежливо, не оскорбительно. По столу подтянул к себе чугунную пепельницу, осторожно мизинцем сбил в нее с папиросы белый пепел.
— А я ведь не допрос веду, Иосиф Федорович. Не наше это дело. Просто хочу по душам побеседовать. Вот в ваших кругах говорят: «охранка, охранка…» Да, конечно, «охранка». Но что мы охраняем? Спокойствие государства, спокойствие народа. А чем это плохо? Вот в ваших кругах еще говорят, что мы защищаем господствующие классы, иными словами, тех же предпринимателей. Нет более досадного недоразумения! И я рад, что мы можем сейчас сделать попытку добраться до истины, — он поудобнее устроился в кресле. — Припоминаю свои гимназические годы. Как и вы, принимал участие в тайных организациях, в студенческих кружках, сочинял прокламации. Увлекали смелые обличительные речи…
Он замолчал, выжидая, как откликнется на это его собеседник. И Дубровинскому захотелось сказать что-нибудь очень резкое, вроде такого продолжения незаконченной Зубатовым фразы: «…а потом я предал своих товарищей и пошел служить в охранку». Но он сдержался и только спросил:
— Почему же эти смелые и обличительные речи перестали вас увлекать?
— Потому что они оказались несправедливыми, — с живостью разъяснил Зубатов. — И потребовалось время, тщательное, добросовестное изучение предмета, чтобы это понять. Вы, Иосиф Федорович, и ваши единомышленники глубоко заблуждаетесь, возлагая на самодержавие всю вину за несчастья, переживаемые русским народом. Наоборот, только оно, единственное оно, в российских условиях и способно облегчить тяжкую участь крестьян и рабочих, о которых особенно вы печетесь. Не согласны? Возражайте! Давайте будем спорить! В споре рождается истина.
— Я слушаю вас, — сказал Дубровинский. Вступить с Зубатовым в политический спор — значит признать свою принадлежность к «Рабочему союзу». А это пока как будто действительно не допрос, но и не простая «беседа». Ушки надо держать на макушке. Неизвестно, какими еще уликами, кроме взятой при обыске нелегальщины, располагает охранка. А поэтому — отрицать. Все отрицать.
— Я слушаю вас, Сергей Васильевич, но не понимаю главного: почему я арестован?
— Это великое благо для России, что во главе ее находится государь-самодержец, — пропуская вопрос Дубровинского мимо ушей, продолжал Зубатов. — Он и только он может быть равно справедливым по отношению ко всем сословиям, ибо власть его неограниченна и ни от кого не зависима. Он и только он может любого непокорного заставить подчиниться своей власти. И разве многие благотворные реформы последних десятилетий недостаточно убедительный результат именно неограниченных прав государя? А вы твердите: «Долой самодержавие!» Долой… Ну, а что дальше? Естественно, что в таком случае власть окажется захвачена буржуазией, предпринимателями. И поверьте, отношение их к рабочим станет тогда еще жесточе, нежели теперь, в известной степени сдерживаемое властью царя… Вся власть в руках самих рабочих? Но ведь народ наш темен. И нет в истории таких примеров, где бы одни лишь рабочие правили государством, а все прочие сословия были бы от этого отстранены. Кстати, и уничтожены физически? Вы очень начитанны, Иосиф Федорович, вы, может быть, сумеете назвать мне примеры?
И снова чуть было не сорвались у Дубровинского резкие слова: «Мы видим проявление власти самодержавного царя лишь в одном: вот так, как меня, хватают каждого, кто выступит в защиту прав рабочих. Вы, господин Зубатов, пугаете захватом власти предпринимателями. Однако сажаете в тюрьмы не их, а нас. Вы спрашиваете об исторических примерах. Каких? Которые заканчивались неудачей? Таким примерам и мы сами следовать не хотим. А пример удачи рабочего движения — вот он. То, что сейчас делаем мы, и чего вы так боитесь».
Но вслух он сказал, как и до этого, очень сдержанно:
— Я совсем не начитан, Сергей Васильевич. В Москву приехал, чтобы подготовиться к поступлению в институт. И не понимаю, за что меня арестовали.
Вертя между пальцами папиросу, Зубатов помедлил с ответом.
— Не понимаете? — мягко спросил он. — Ну что ж, попытаюсь объяснить. В борьбе за интересы рабочих я ваш сторонник, а не враг. Меня давно томит одна отличная идея: организовать рабочих для такой борьбы. Не заговоры, не подстрекательские прокламации, не разжигание страстей, а открытая, честная, легальная защита своих прав. Под покровительством самодержавного, всесильного царя. Как это ни печально, аристократия, высшие классы, владельцы крупных состояний, в силу веками складывавшихся взаимоотношений с верховной властью самодержца, оказывают ныне огромное влияние — и даже давление — на государя. Такое неправильное воздействие необходимо уравновесить. И это сделать вполне возможно. Именно созданием крупных, открытых рабочих организаций, на которые царь может твердо опереться, проводя политику всеобщего благоденствия и справедливости, заставляя предпринимателей подчиняться его неограниченной власти. Может ли государь опираться на всяческие подпольные «Рабочие союзы», которые первой своей целью провозглашают свержение самодержавия?.. Вот почему приходится вас арестовывать…
Зазвонил телефон на стене. Зубатов подошел, крутнул никелированную ручку, снял трубку. И лицо его засветилось.
— Сашенька? Виноват, виноват, дорогая… Ну что же я поделаю! Да, да, и сегодня не раньше двенадцати… Бога? Бога, Сашенька, боюсь, но земные дела тоже обязывают… Как? Как?.. Из Владимирской губернии привезли?.. Ах, да! Пуда на два? Прекрасно!.. Сашенька, просьба к тебе, дорогая! Между твоими заботами просмотри, пожалуйста, Британскую энциклопедию… Говорил уже? Ну, прости… Да, Томаса Мора… и Кампанеллу… Фому Аквинского обязательно! Сама позвонишь? Спасибо, дорогая!.. А Коленьке не давай за роялем засиживаться. По морозцу, по морозцу пусть побегает… Пустяки! Какая метель!..
Он повесил трубку, дал отбой. Все еще светясь, вернулся к столу, надавил кнопку электрического звонка. Появился дежурный, Зубатов сделал ему знак. Дежурный наклонил голову, исчез, и сразу же вошел жандарм с большим подносом, на котором стояли стаканы, сахарница, пузатый фарфоровый чайник и тарелка с грудой румяных сдобных булочек.
Было видно, что Зубатову нравится показывать, как четко, слаженно действует людской механизм в его учреждении. Он принялся радушно угощать Дубровинского, приговаривая заботливо, что надо бы чаек заказать давным-давно, что Иосиф Федорович, вероятно, сильно уже проголодался, — он понимает: на хлебах полицейского дома не будешь сытым.
Некоторое время оба они молча прихлебывали горячий чай. Дубровинский решил не стесняться. Ему действительно очень хотелось есть. А булочки были вкусны.
Потом опять заговорил Зубатов.
— Вспоминаю свою давнюю восторженную принадлежность к народовольческим кружкам. О, тогда я так же, как вы, был упрям и фанатично убежден в непререкаемой правоте нашего дела — извечное свойство молодости! Революционные идеи — благородные идеи! — они, как первая любовь, захватывают человека всего целиком и делают его удивительно сильным, способным на любые жертвы, на подвиги. И тогда я готов был все разрушать, весь этот неправедный мир. Разрушать! Не вдумываясь совершенно, а что же после выстроится на месте разрушенного. И не сразу, совсем не сразу созрела во мне наконец здравая и потому предельно простая мысль: разрушать ничего и не надо — надо совершенствовать то, что есть. Это и быстрее и по результатам надежнее. А главное, это не влечет за собой пролития человеческой крови, ненужных, абсолютно ненужных страданий и жертв, обязательных при революциях.
Дубровинский дернулся всем телом. На это он уже не мог не ответить, что бы потом ни случилось. Но Зубатов, произнеся свою тираду и не заметив непроизвольного движения Дубровинского, поднялся. Разминаясь, потоптался на месте.
— Подумайте, Иосиф Федорович, подумайте. Торопиться нам нет никакой надобности. Вы главным образом молчали, но ведь молчание — это тоже форма разговора. И подчас весьма содержательная. Однако, надеюсь, для вас не единственная. Если вы ничего не имеете против, давайте после святок встретимся снова, продолжим нашу беседу.
— Извините, Сергей Васильевич, но я не вижу надобности продолжать такие беседы. — Дубровинский тоже поднялся.
— Зачем же столь категорично? — мягко сказал Зубатов. — У вас есть время подумать. А пока, что ж, поезжайте к себе.
— Куда к «себе»?
— Ну, разумеется, туда, откуда вас ко мне привезли.
— Но я ни в чем не виновен!
— Это выяснится в установленном порядке, и я, поверьте, даю вам слово, был бы рад такому исходу дела.
— В чем меня обвиняют?
— Это вам разъяснят уже по ведомству генерала Шрамма. — Зубатов повел головой, показал подбородком в сторону стола, где лежала синяя папка со всеми материалами, касающимися Дубровинского. — Мне не хотелось бы его подменять. Все эти бумаги будут переданы завтра. Впрочем, я мог бы и задержать их у себя. Ну, хотя бы до нашей новой с вами встречи.
— Литература, которую у меня нашли при обыске, не имеет ко мне ни малейшего отношения, — решительно заявил Дубровинский. — Она у меня оказалась совершенно случайно.
— Ну это все вы и объясните лицу, производящему дознание, — с неизменной мягкостью в голосе сказал Зубатов. — А вообще-то я бы посоветовал вам придумать иную версию. Если не для большей убедительности, то для большего разнообразия. Когда буквально все арестованные дудят в одну дуду, что компрометирующие их предметы у них оказались случайно, согласитесь, — с одной стороны, это просто по-детски, смешно и наивно, а с другой — по самой своей сути является лучшим доказательством как раз неслучайности.
— Я не признаю себя виновным ни в чем! — вскрикнул Дубровинский.
Зубатов отошел в угол кабинета, где особенно густо лежали полосатые тени от люстры. Долгую минуту оттуда разглядывал Дубровинского, как милый штатский человек, может быть, врач, обдумывающий свои назначения симпатичному для него, но тяжело больному пациенту.
— А если ваша вина будет доказана? — со вздохом сказал он. Вернулся к столу, развязал тесемки на синей папке, принялся перелистывать бумаги. — Иосиф Федорович, какой вы, право, еще не тертый калач. Ведь все лица, с коими были вы связаны, тоже арестованы. Вам устроят очные ставки. Изъяты в Курске принадлежности, при помощи которых вы и Семенова в Калуге печатали «случайно» к вам в Москве попавшие воззвания и «Манифест Коммунистической партии». Известен каждый ваш шаг, каждая ваша встреча со своими единомышленниками. Вы хотите мне устроить экзамен? Пожалуйста! Например, двадцатого сентября, на второй день вашего приезда в Москву…
— В Москву я приехал в середине октября, — перебил Зубатова Дубровинский. — Это подтверждается пропиской в полицейском участке.
— Лица, виновные в нарушении правил прописки, будут наказаны, — спокойно сказал Зубатов. — А двадцатого сентября в пять часов пятьдесят минут пополудни вы уже направились в дом Боровкова, где проживал тогда Андрей Нилович Елагин. Вы, конечно, не станете отрицать, что знали такого?
— Впервые слышу о Елагине!
— В таком случае я добавлю: сегодня Елагин тоже взят под стражу. Двадцать второго сентября вы встречались с Дмитрием Ильичем Ульяновым.
— Не знаю и Ульянова.
— Но то, что он арестован несколько ранее вас, это вы знаете?
— Не знаю никакого Ульянова.
— В тот же день, двадцать второго сентября, вы снова уехали в Калугу, где останавливались у Середы. Окончательно в Москву вы приехали первого октября. На вас была надета такого же цвета или, простите, эта же самая рубашка. При вас был довольно-таки увесистый сверток. Не с бельем… Правда, как цыганка-гадалка, я смогу рассказать вам всю вашу прошлую жизнь, час за часом. Хотите?
Дубровинский молчал, поводя языком по сохнущим от волнения губам. Да, выходит, от зубатовских филеров действительно нигде не укроешься. И значит, те, кто остался пока на свободе, все еще находятся под бдительным оком охранки?
— Мы знаем о вас и ваших товарищах решительно все, — снова заговорил Зубатов. — Но задача наша не только вылавливать вас с целью наказания. Это приходится делать лишь как горькое, неизбежное и нежеланное дело. Мы, охранное отделение, я повторяю, хотим быть не врагами вашими, а союзниками. Мы стремимся к единой цели — благу народному. А о путях к этому друзья всегда договориться могут. Прежде всего надо лишь друг друга понять, отнестись со взаимным доверием. Что я вам и предлагаю с открытой душой, Иосиф Федорович! — Он выдержал продолжительную паузу. Дубровинский молчал. — Вижу, сейчас вы озабочены другим: кто вас выдал? Успокойтесь, Иосиф Федорович! Никто не выдавал в дурном смысле этого слова, не клевещите даже в душе своей на товарищей. Никакого предательства не было и нет, есть только честная и умная служба охранного отделения. Вы ничего не хотели бы сказать мне теперь?
— Нет, ничего, — ответил Дубровинский. — Теперь тем более ничего.
— Ну, тогда, что же, поздравляю вас с наступающим праздником рождества Христова! И еще раз извините, что мы вам этот праздник испортили. Прощайте! А случится вспомнить о Сергее Васильевиче Зубатове, искреннейше к вам расположенном, вспомнить и о нашем с вами, твердо надеюсь, все-таки незаконченном разговоре — всегда к вашим услугам! Дайте только знать.
Он сам проводил Дубровинского через пустую и темную комнату Медникова, сам передал ожидавшим в приемной жандармам.
11
Рождественские праздники Дубровинский встречал уже в Таганской тюрьме, куда его перевезли из Сущевского полицейского дома сразу же по возвращении от Зубатова.
В здешней одиночке было немного теплее. Взобравшись на стол, удавалось увидеть сквозь окно, перекрещенное толстыми прутьями, серое зимнее небо, пролетающих птиц. Смотреть в окно запрещалось, но, заслышав у двери стук надзирательских каблуков, можно было успеть соскочить со стола, сесть на табуретку и уткнуться в книгу как ни в чем не бывало.
Чтение не возбранялось. Все, что не подпадало под категорию нелегальщины, дозволялось получать с воли. Первое время Дубровинский пользовался только литературой, принадлежавшей ему самому и после ареста кочующей вместе с ним. Это были главным образом учебники. Потом появилась Мария Николаевна Корнатовская. Ей свидание не разрешили, но передачу съестного и целую кипу книг от нее приняли. Чередуясь с Корнатовской, с такими же передачами стала приходить Анна Ильинична Елизарова — сестра Ульяновых.
Записки от них и к ним проверялись тюремным начальством наистрожайше, но постепенно Дубровинский все же разгадал, что о нем заботится еще и подпольный политический «Красный Крест», где очень большую роль играет Серебрякова, подруга Корнатовской. На душе теплело: как много верных друзей! Принимая от них передачи, Дубровинский не раз вспоминал восторженные слова Радина об этих женщинах — «милых женщинах, фанатичных революционерках». И сожалел, что в свое время не так-то часто приходилось ему встречаться с ними. Лишь наездом из Калуги да в самые последние тревожные месяцы, проведенные в Москве. Томило беспокойство, что и на них может пасть подозрение, могут и они пострадать, хотя, кажется, других обвинений, кроме устройства явок на своих квартирах, охранке предъявить им не удалось бы. А это не так уж страшно.
Ну, книги, книги… И самые что ни на есть запрещенные Корнатовская, а особенно Серебрякова умели где-то добывать; вся центральная группа «Рабочего союза» пользовалась этими книгами, но передавались они из рук в руки только на улицах либо в условленных местах, домой к себе их не приносили, следовательно, и любой обыск в квартирах Корнатовской и Серебряковой не был бы опасным. Постепенно Дубровинский и совсем перестал беспокоиться. Тревогу вытеснило восхищение: «Вот это молодцы! Вот это пример конспирации!»
Совсем неожиданно пришла посылка с пространными трактатами Рузье и Магайма о профсоюзах, о легальных рабочих организациях в Англии, Германии, Франции. На отдельном листке бумаги несколько слов: «Весьма советую! Прочитайте. С. 3.». Та-ак, от Зубатова?
Вернуть, не читая? Но, подумав, Дубровинский все же решил оставить трактаты у себя. Надо знать и оружие противника.
Дни тянулись невыносимо одинаковые. Все время сосущее чувство голода, тоска по свежему воздуху. Прогулка по внутреннему дворику тюрьмы разрешалась всего лишь на двадцать минут. Днем прилечь было нельзя. Койку с утра надлежало поднять. Надзиратель запирал ее на замок через скобу, прикованную к стене.
Одна отрада, одна возможность не так остро ощущать гнет мертвой, душной тишины одиночки — это читать и читать, конспектируя в тетрадях прочитанное. И подолгу ходить из угла в угол, хотя каждый конец пути — всего четыре шага. Вспоминалось из рассказов Дмитрия Ульянова, что именно такой образ жизни вел его брат Владимир в петербургской одиночке, прежде чем был выслан в Сибирь.
Стали донимать мучительные головные боли, терзала бессонница. Каждый металлический стук в тюремном коридоре отдавался в мозгу словно укол горячей иглой.
С особой силой распаляли воображение Дубровинского прочитанные им трагедии Шекспира, поэмы и стихи Байрона, Гёте, Гейне, романы Золя. В ночном одиночестве при фонаре, тускло горящем под самым потолком, черные строки книги вдруг обращались в живые образы. И тогда в каменных стенах тюремной камеры звенели скрещенные шпаги, скакали лихие всадники или скорбно тянулись длинные вереницы бледных, измученных угольщиков-шахтеров. Этак недолго заболеть и психическим расстройством. Дубровинский был наслышан о подобных историях. И потому он обязал сам себя установить строгий порядок дня: до обеда политика и наука — он очень увлекся изучением математики и немецкого языка, после обеда два часа, не больше, читать беллетристику, а потом все остальное время на переводы.
Почти совсем беспрепятственно в передачах Корнатовской и Елизаровой он получил «Происхождение брака и семьи» Карла Каутского, «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» Бельтова и даже пугающего всех полицейских чинов Карла Маркса — «К критике политической экономии». Дубровинский недоумевал: что значит это? Притупление бдительности? Хитрый ход Зубатова? А может быть, просто упоение царских властей разгромом народовольцев? Марксисты, социал-демократы тоже ведь выступают против народничества. И бомбами в царей, в высших сановников не швыряют. Почему бы не сделать для них некоторое снисхождение? Ах, надолго ли!
С допросами не спешили. Дубровинский спрашивал дежурных надзирателей, вызывал помощника начальника тюрьмы. Надзиратели молча пожимали плечами, а помощник начальника тюрьмы заявил ядовито: «Всякому овощу свое время!» Но Дубровинскому очень хотелось, чтобы все завершилось — с любым исходом, как можно быстрее. Неведение мучило больше всего.
Лишь в середине января его вызвали в контору тюрьмы первый раз. Оказалось, опять-таки еще не на допрос. В особой комнате в присутствии жандармского штабс-ротмистра тюремный врач осмотрел его.
— А дальше что? — спросил Дубровинский.
— А дальше ничего. Доброго вам здоровья, — ответил врач. — Но, между прочим, всегда остерегайтесь простуды. В верхушках легких у вас небольшие хрипы.
И только лишь еще через два месяца ему объявили: «Собирайтесь! В жандармское управление. На допрос».
Дубровинский волновался. Закрытый тюремный возок, как и в тот раз, когда везли к Зубатову, подбрасывало на ухабах. Но теперь было тихо, тепло, под мартовским солнцем начинали притаивать снежные сугробы.
Сопровождающий жандарм, толстый, одутловатый, сидел рядом с Дубровинским, сладко позевывал. Он был довольно-таки словоохотлив. Из его бессвязной болтовни, прыгающей с одного предмета на другой, от цен на квашеную капусту к свадьбе дочери генерала Шрамма, — Дубровинский вдруг уловил, что последнюю неделю по Москве и вообще по России опять шли большие аресты.
— Сотнями, прямо сотнями, — говорил жандарм. — Почистили публику эту здорово.
Что-то неясное он рассказывал еще о разгроме тайной типографии на юге, где печаталась главная газета господ социал-демократов…
«Выходит, „Рабочая газета“ разгромлена? И все арестованы?» — думал Дубровинский.
Попытался задать жандарму несколько осторожных вопросов. Но тот, по-видимому, сверх коридорных разговоров в своем управлении и сам ничего не знал. А болтал потому, что молчать был просто не способен. Лишь почуяв, что арестант проявляет к этой болтовне повышенный интерес, он сразу прикусил язык.
Допрос повел жандармский ротмистр. Молодой, щеголеватый. Назвал себя: Самойленко-Манджаро. Представил товарища прокурора, который по установленному порядку обязан был присутствовать на допросах в качестве наблюдающего, хранителя законности. Фамилия товарища прокурора была Короткий. Но ростом бог его не обидел, и он сидел, неестественно откинувшись на спинку стула, иначе под столом не помещались ноги.
Самойленко-Манджаро обладал веселым, хотя и вспыльчивым характером. Легкий язвительный юморок у него частенько переходил в обидную, крикливую брань. Особенно выводило его из равновесия запирательство допрашиваемых, когда суть дела была совершенно ясна. По его мнению, во всяком случае. Год назад он вел дознание по делу «Московского рабочего союза», допрашивал Владимирского, Радина, а когда охранка раскрыла новый «Рабочий союз», явного преемника того «Союза», Самойленко-Манджаро, полагая себя великим знатоком в вопросах социал-демократического рабочего движения, сам выпросил у генерала Шрамма это «дело». Пообещал генералу, что долго возиться с эсдеками он не будет.
Однако подследственные и здесь оказались крепкими орешками. Отвечать на вопросы они не отказывались, некоторые даже с какой-то повышенной охотой рассказывали все. «Все»… Да такое, что, вдумавшись потом в сделанные записи, следователю хотелось просто начисто уничтожить протокол!
Особенно раздразнили его слушательница акушерских курсов Елизавета Федорова и слесарь Иван Романов. У обоих при обыске изъята нелегальная литература. Оба поддерживали связь с Розановым и Ульяновым. Филерские проследки устанавливают это неопровержимо. Но филерские проследки не документ, на них не положено даже устно ссылаться. И вот, пожалуйста, оба подследственные категорически заявляют: «В жизни не встречались ни с Розановым, ни с Ульяновым!»
Федорова, когда Самойленко-Манджаро предъявил ей книжку «Царь-голод», взятую при обыске, простецки улыбаясь, объяснила: «Да, точно, книжка моя. Хорошая, интересная книжка. Вы сами голод когда-нибудь испытывали?» Он сразу даже не смог рассердиться. Стал допытываться, откуда эта книжка попала к ней. Федорова с той же наивной улыбкой ответила: «Да я ведь сказала: книжка моя. Ниоткуда ко мне не попала. Моя, и все. Собственная моя. Вы читали ее? Обязательно прочитайте!» И сколько он ни бился, требуя назвать лицо, передавшее ей крамольную брошюру, Федорова, хотя и на разные лады, повторяла одно и то же: «Да как же я вам назову такое лицо, когда эта книжка собственная моя…»
А Иван Романов — семнадцатилетний — принялся обстоятельно рассказывать по порядку о своем отце, деде, прадеде, прапрадеде… Десятки раз его обрывал: тот знай все дальше лезет в глубь родословной. Да ведь, чертенок, занимательно рассказывает! Пришлось даже кое-что в протокол записать. Ну, а финал? К чему сопляк этот плел свои любопытные истории? Оказывается, чтобы в конце заявить, что через предков своих он принадлежит к царствующему дому Романовых, а потому привлекаться к полицейскому дознанию не должен… Каков гусь? Это же было черт знает что! Короткий взлетел, чуть стол не опрокинул. Кощунство, оскорбление величества! А Романову семнадцать лет, а мальчишка хлопает глазами…
Самойленко-Манджаро долго разглядывал стоящего перед ним Дубровинского, как бы оценивая: этот каков? Серьезный, рассудительный, кажется. В «Рабочем союзе», похоже, он самый главный. И улики против него наиболее тяжелые. Если другие к деятельности «Рабочего союза» были просто причастны, то Дубровинский, несомненно, один из его организаторов.
Пригласив сесть подследственного и назвав себя и Короткого, Самойленко-Манджаро быстро заполнил начальные строки форменного бланка, объявив статью закона, по которой привлечен к дознанию Дубровинский, и предъявил протокол обыска.
— Вы подтверждаете, что все это было найдено у вас на квартире?
— Да, конечно, — сказал Дубровинский. — На протоколе обыска есть моя подпись.
— Для каких целей хранилась у вас нелегальная литература? И для каких целей вами лично были изготовлены воззвания «Ко всем московским рабочим»?
— Происхождения воззваний я не знаю, все то, что было найдено и изъято у меня при обыске, в квартире оказалось совершенно случайно.
— Вот как! — весело воскликнул Самойленко-Манджаро. И покосился на Короткого: не коробит ли того такой тон допроса. — Вот как! Вероятно, к вам зашел совершенно незнакомый человек, оставил сверток с этой литературой и попросил несколько дней подержать у себя? А вы не могли отказать ему.
— Да, примерно так все и произошло, — подтвердил Дубровинский, чувствуя, как сильно колотится сердце, и понимая, что шуточками-то вообще не отделаться. Но если жандармскому ротмистру угодно шутить, он готов поддержать его.
— Ах, эти незнакомые люди! Сколько тревог и неприятностей понапрасну они причиняют другим! — вздохнул ротмистр, внося в протокол какую-то запись. — Вот видите, господин Дубровинский, к чему привела ваша доверчивость: тот незнакомец гуляет себе на свободе, а вы — в тюрьме. Но скажите, не забери мы от вас эту «подкинутую» литературу и прокламации, все это и дальше пошло бы гулять по рукам? А может быть, вы сами принесли бы это к нам?
Дубровинский повел плечами. Что же, весь допрос будет в таком духе? Пожалуйста!
— Я бы дождался, когда придет владелец.
— Отлично! Формулирую: вы отрицаете распространение, но подтверждаете хранение у себя нелегальной литературы. Так пока и запишем. Согласны?
— Но вы знаете, что хранение запрещенной литературы тоже ведь государственное преступление? — вмешался товарищ прокурора.
— Не знал, — разыгрывая наивность, сказал Дубровинский. — Так же, как не знал, что эта литература запрещенная.
— Весьма, весьма огорчительно, — проговорил Самойленко-Манджаро и хитро прищурился. — Однако давайте все же выясним вот какое обстоятельство. Прежде чем незнакомец принес к вам свои «воззвания», они были напечатаны на мимеографе. Отпечатаны лично вами. Если вы не собирались их распространять, так с какой же целью вы их печатали? И вручали незнакомцу, чтобы он принес их к вам на квартиру?
— Я ничего не печатал.
— Так. А с Лидией Платоновной Семеновой, урожденной Перес, вы знакомы?
— Знаком.
Дубровинский с подробностями рассказал все, что касалось их безобидных встреч в Орле и совместной работы в калужской земской управе.
— Да, но вы не назвали еще одной совместной работы с Семеновой — печатания прокламаций, — напомнил Самойленко-Манджаро, терпеливо выслушав Дубровинского. — Запишем?
— Мы не печатали никаких прокламаций. Повторяю: не печатали!
— Вот как? А Семенова в этом призналась полностью! — И Самойленко-Манджаро торжествующе посмотрел на Дубровинского. — Помимо того, найдены, изъяты трафаретки, которые она готовила на «ремингтоне».
— Ничего этого не было!
— Ну, господин Дубровинский, — протянул Самойленко-Манджаро, — этак мы с вами далеко не уедем. Вернее, вам все-таки придется уехать далеко. Но зачем же бесцельно отрицать очевидное? Затягивать без смысла дознание. С Минятовыми вы знакомы? А с Елагиным? С Розановым? С Ульяновым? С Волынским? С Романовым?..
Он сыпал фамилиями, всякий раз добавляя, что эти люди тоже арестованы и признались решительно во всем. А у Дубровинского теснило в груди, обрывалось дыхание. Как много взято товарищей, как много знают о связях и делах «Рабочего союза» эти жандармы! Но только нет, не может быть, чтобы товарищи признались. Он подтверждал свои знакомства, те, что невозможно было отрицать, но упрямо вертел головой и твердил «нет», когда Самойленко-Манджаро усматривал в таком знакомстве политическую общность. Короткий кривил губы, от времени до времени вставляя: «Напрасно, господин Дубровинский, напрасно!»
— Да что вы, к-как баран, упираетесь? — взорвался наконец Самойленко-Манджаро. — Поймите, наказания вам все равно не избежать. Не знаю только, ссылки или каторги…
— Не надо запугивать подследственных, — миролюбиво вставил Короткий.
— …а в тюрьме, здесь, вы просидите ровно столько, сколько будете сами тянуть с признаниями. Это «удовольствие» вы сами создаете себе. Имейте в виду, мы дело не закроем, пока не будет засвидетельствована истина.
Короткий стал скучно объяснять статьи закона, по которым будут судить участников «Рабочего союза», ныне привлеченных к дознанию, говорил о смягчающих вину обстоятельствах, убеждал Дубровинского воспользоваться возможностью чистосердечного признания на первом же допросе, призывал отказаться от дальнейшей противоправительственной деятельности — все это очень облегчит судьбу.
Дубровинский едва владел собой. Он устал от страшного нервного напряжения — допрос уже тянулся несколько часов, — хотелось есть. Затекли ноги от долгого неподвижного сидения.
— Так на чем же мы сегодня остановимся, господин Дубровинский? — нетерпеливо спросил Самойленко-Манджаро. — Достойнее и выгоднее для вас дать сразу правдивые показания, нежели потом их изменять.
— Я все сказал, — ответил Дубровинский. — И больше добавить мне нечего. А насчет выгоды — в коммерции я не силен.
Самойленко-Манджаро вполголоса выругался, ладонью хлопнул по столу. Но тут открылась дверь, и легкой, мягкой походкой вошел Зубатов, видимо, просто решил заглянуть по пути. Он даже не снял своей бобровой шапки, и шуба у него была застегнута на все пуговицы. Самойленко-Манджаро и Короткий тотчас вскочили, вытянулись в струнку, сделав знак и Дубровинскому: «Поднимитесь!»
Зубатов на ходу весело замахал руками: «Пожалуйста, без лишних церемоний!»
— Не буду мешать, всего на минутку одну, — по-свойски проговорил он, подойдя к столу. — Сейчас я от генерала. Прошу вас, ротмистр, сегодня попозже вечерком заехать ко мне. Мы с генералом условились: это новое дело также поведете вы… — И вгляделся в Дубровинского — Ба! Узнаю! Кажется… Иосиф Федорович?
— У вас хорошая память, — сказал Дубровинский.
— Не жалуюсь, — засмеялся Зубатов. — А вот у вас, Иосиф Федорович, память плохая — вы обо мне совсем забыли. Так и не откликнулись. Душевно жаль! Может быть, при случае все-таки вспомните? Ротмистр, а как идет дознание относительно господина Дубровинского?
— Сергей Васильевич… — и даже слов не нашел ротмистр. Лишь несколько раз возмущенно поднял плечи.
— Ну-у… Это совсем ни к чему, Иосиф Федорович, — покачал головой Зубатов. — Вам кажется, что ваша конспирация — волшебная шапка-невидимка, а на самом деле это обыкновенный дырявый картуз, под которым мы отлично видим любые ваши подпольные организации, какими там «союзами» вы их ни называйте. И финал всегда один. Вот здесь, у генерала Шрамма, у ротмистра Самойленко-Манджаро. Ротмистр! Я разрешаю, прочитайте Иосифу Федоровичу все наши проследки относительно его особы. Когда он будет твердо знать, что мы забираемся к каждому подпольщику, фигурально, в постель, дело, думается, пойдет глаже. — Он тронул Дубровинского за плечо. — Если бы вам все-таки вздумалось продолжить наш разговор в более удобной обстановке? Ненавижу допросы, ненавижу всю эту черствую, бездушную формалистику! Ведь дело не в том, чтобы вырвать только признание, дело в том, чтобы переубедить человека, открыть ему глаза. Черт возьми, мы могли бы понять друг друга! А сейчас прощайте, спешу!
— Если по закону я оказываюсь виновным в хранении запрещенной литературы, пусть за это и судят меня одного, — сказал Дубровинский. — Зачем же добиваться, чтобы я выдал каких-то своих соучастников в этом деле, когда их и вовсе не было. Вот чего я понять не способен. И других показаний тоже дать не могу. Если бы вы, Сергей Васильевич, объяснили это господину ротмистру!
— Когда дознание будет закончено, оно вступит в свою неумолимую силу, — непрямо отозвался Зубатов на слова Дубровинского. — А закончено будет оно, разумеется, не так, как вам хочется. И, конечно, судить будут вас не одного, а вместе со всеми соучастниками, потому что вы действовали не в одиночку. Таково положение дела. Изменить здесь что-либо я не в силах. Но пока дознание не закончено… Этого вы почему-то сами не хотите, чего я уже никак понять не могу… Впрочем, если понадоблюсь вам, покорнейше прошу, ожидать по-прежнему буду. Прощайте!
После ухода Зубатова Самойленко-Манджаро не проронил ни слова. Сердито сложил бумаги в папку, завязал тесемки и вызвал жандармов…
Покачиваясь на ухабах в тюремном возке, Дубровинский размышлял. Зубатов упомянул в разговоре с Самойленко-Манджаро о каком-то «новом деле». По-видимому, так и есть, разгромлена «Рабочая газета». Чисто бреет лезвие охранки! Но, господа, а революция все равно будет жить! Зубатов сказал: «Финал всегда один — вот здесь, у генерала Шрамма». Это еще посмотрим! Важно продержаться.
Потом он думал: а так ли надо было в этом случае держаться на допросе? Ведь если и дальше упрямо отказываться от всех связей, даже вопреки очевидности, дознание может затянуться на бесконечно долгое время. И, значит, бездейственно, бесполезно сидеть и сидеть в тюрьме. Да, но разве можно назвать имя товарища, пусть тоже арестованного? Разве повернется язык на такое? Нет и нет, он будет стоять на своем, будет все отрицать, хотя бы дознание тянулось полгода!
12
Дознание продолжалось одиннадцать месяцев, ровно — день в день. И все-таки Дубровинский получил лишь «пропуск для следования из Москвы в Орел», где под гласным надзором полиции ему надлежало ожидать окончательного решения своей судьбы.
Расставаясь с ним в последний раз, Самойленко-Манджаро сказал облегченно:
— И помотали же вы наши душеньки, господин Дубровинский! Но чего вы этим достигли?
Короткий, блаженно потягиваясь, поддержал ротмистра:
— Смягчающих вину обстоятельств вы себе отнюдь не прибавили. Наоборот, убавили. И без всякого смысла. Общая картина, как видите, так или иначе раскрылась во всей полноте. — Товарищ прокурора, присутствуя при допросах, последнее время поглядывал на Дубровинского сочувственно, проникся к нему симпатиями и теперь пошел на откровенность. — Знаете, вам следовало бы предъявить и более тяжкое обвинение, да… бог с вами! От имени прокурора судебной палаты будем просить министерство юстиции дать согласие на заключение вас в тюрьму всего лишь на полтора годика, не считая отсиженных, и последующую высылку в Уфимскую губернию на два года. Единственно из добрых чувств к вам.
Опять плясала метель, будто и не было лета в течение этих одиннадцати месяцев. Но Дубровинский ликовал: он на свободе! Гласный надзор полиции — все это ерунда. До приговора не будут больше скрипеть железные тюремные двери. Он вернется в Орел, а там свои — мать, тетя Саша, братья. Дыши свежим воздухом сколько угодно! И не придется хлебать опостылевшую овсяную баланду…
Позабавили слова Короткого: «картина раскрылась во всей полноте…» Им так кажется! А выяснили они далеко не все. И, самое дорогое, не раскрыли важнейшие связи. Остались вне подозрения и Корнатовская и Елизарова, их посчитали просто знакомыми, по доброте своей приносившими передачи. А к Серебряковой ниточки и вовсе не протянулись.
В изготовлении и распространении воззвания «К московским рабочим» пришлось сознаться. Не выдержала на очной ставке Семенова, запуталась. И Мухин подтвердил, что ящик с «техникой» был завезен к нему Никитиным. При обыске в доме Минятовых обнаружена целая кипа писем Константина к своей Надеждочке, а в письмах многие имена и описания встреч. Ах, Константин, Константин! Какое легкомыслие, какая неосторожность, несмотря на бесчисленные предупреждения! Хорошо еще, что он сам успел ускользнуть за границу. А бедной Надежде Павловне придется отвечать. С нее взята подписка о невыезде.
В распоряжении Дубровинского оказался только один день. Поезд на Орел уходил поздно вечером. Кого повидать в Москве за эти считанные часы?
Прежде всего он направился к Елизаровым. Анна Ильинична очень обрадовалась, принялась угощать. Рассказала, что Дмитрий Ильич выпущен тоже, живет в Подольске вместе с матерью.
— Очень много пришлось похлопотать маме. Она и в департамент полиции, и к начальнику особого отдела Семякину, и к самому Зволянскому несколько раз обращалась. А добилась-таки. Милая мама! Всю жизнь свою только и знает что хлопочет, вытаскивает нас из тюрьмы. А мы садимся туда то один, то другой, — Анна Ильинична грустно покачала головой. — Сколько она из-за Саши перестрадала! Потом Володя накрепко попал за решетку. Теперь в далекой Сибири…
— Где именно? — спросил Дубровинский.
— В каком-то Шушенском, у Енисея. Не унывает, засел за большую работу. Ничего не просит — только книги. Женился недавно.
— На местной?
— Нет. К нему туда его невеста, Надя Крупская, уехала. Ей ссылка была назначена поближе, а она выпросилась к Володе в Сибирь.
— Анна Ильинична, какие вы все заботливые люди, — растроганно сказал Дубровинский, — я для вас человек совсем посторонний, а вы постоянно мне носили передачи в тюрьму. Большое, большое вам за это спасибо! У вас ведь и свои семейные заботы…
— Ну, что вы! — Анна Ильинична улыбнулась. — Товарищ по борьбе не посторонний человек.
— Столько всяческих хлопот перед тюремным начальством!
— А это действительно у нас прямо в роду, фамильное свойство. Когда мама добивалась облегчения участи Саши, потом Володи, она разве что до самого царя не добралась. А так побывала лично, кажется, у всех наивысших сановников. Ну я, правда, только Самойленке да Короткому житья не давала, по Митиному делу торчала чуть не каждый день у дверей их кабинетов. А в коридоре кое-что и очень любопытное можно услышать. Шрамм узнал, рассвирепел и приказал совсем запретить мне вход в жандармское управление.
Они пили чай, и Анна Ильинична рассказывала новости. Просочились сведения с юга. Хотя и очень обессиленные арестами, но все же держатся в Киеве, в Екатеринославе «Союзы борьбы». В Николаеве образован «Южнорусский рабочий союз». Минувшей зимой ходили слухи о подготовке съезда рабочей социал-демократической партии. А состоялся ли он, точно неизвестно. Подготовка велась через «Рабочую газету». Но там арестованы поголовно все. И те, кто держал связь Москвы с Киевом. Дольше других оставался на свободе Ванновский, но теперь и он арестован. Словом, все, все оборвалось. Может быть, что-нибудь знает Корнатовская? Ведь «Рабочую газету» из Киева привозили ей.
Потом Анна Ильинична говорила, что вся печать сейчас полна сообщениями об очень сильном неурожае и вновь начавшемся голоде в поволжских губерниях. Дубровинский знал об этом, к концу следствия им стали разрешать чтение некоторых газет. Он слушал Анну Ильиничну и думал: «Где-то сейчас Гурарий Семеныч и Иван Фомич?»
— А что слыхать о Леониде Петровиче Радине?
— По весне еще отправили его этапным порядком в Вятскую губернию. Куда именно, не знаю. В тюрьме здоровье у него подкосилось, полтора года человек просидел в одиночке.
Хотелось обязательно навестить еще Корнатовскую. И Дубровинский стал прощаться.
Мария Николаевна бросилась его обнимать. Утирая платочком слезы, проговорила:
— Вот ведь женское сердце! Увели вас в тюрьму, мы с Анной Егоровной наплакались. Теперь выпустили — и опять реву. В нашем деле и не полагалось бы чувствам волю давать, но сердце-то не камень! А кого так вот, как вас, поближе узнаешь — частицей души становится.
— Это верно, Мария Николаевна, — сказал Дубровинский. — Когда я — помните? — в кулебяке получил записку от вас, мне так тепло стало, такая уверенность в себе появилась, что словами и передать не могу! Я ведь первый раз попал в тюрьму. Честно скажу, тоска меня там охватила. Один оказался, совершенно один. И вот весточка от вас. Навсегда мне запомнится.
С Корнатовской было очень легко разговаривать. Постарше Дубровинского лет на семь-восемь, она держала себя в той тонкой манере, когда отношения становились почти совсем приятельскими и в то же время сохранялась, по возрасту, известная дистанция.
От Марии Николаевны Дубровинский многое узнал и сверх того, что рассказала ему Елизарова. Она последовательно перебрала фамилии всех арестованных с группой Розанова и с группой самого Дубровинского и назвала, куда каждый из них теперь направлен под гласный надзор полиции до окончательного приговора. Оказывается, всех разбросали по разным городам, чаще всего к семьям или по месту рождения. В Москве остаться дозволили только Машину и Дондорову. Розанова послали в Смоленск, а Мухина — в Курск…
— Вы знаете, Иосиф, он, Арсений-то Максимович, после того как накинул петлю на себя и в камере хотел удавиться, — рассказывала о Мухине Корнатовская, — стал сам не свой. Приезжала к нему на свидание жена, это еще в феврале, вскоре после покушения, а он рыдает, об решетку головой бьется, слова выговорить не может. Только одно повторяет: «Зачем, зачем мне этот ящик с машинками Никитин подкинул!» И теперь человек раскис совершенно. Остерегаться надо его. По слабости своей может выдать. Таких охранка любит.
Дубровинский слушал, помрачнев. Еще находясь в тюрьме, он знал, что Мухин пытался покончить с собой. Весть об этом проникла сквозь стены. А подробности тогда до него не дошли. Стало быть, именно Мухин первым попался? Он дал ключ для ведения следствия в руки ротмистра Самойленко-Манджаро! Н-да…
— Ну, а Никитина тоже направили в Курск, — продолжала Корнатовская. — За месяц до вас его освободили. Был у меня Алексей Яковлевич. Очень сожалел, что с Лидией Платоновной разлучили. Ее-то в Орел. Вот, знаете, какая крепкая у них любовь! Хотя и не в законном браке, но, если в ссылку отправят, говорил Алексей Яковлевич, он все равно добьется, чтобы с Лидией Платоновной вместе.
Так, рассказывая, дошла она до Минятовых. Это в особенности интересовало Дубровинского. Ведь с Радиным, с Дмитрием Ульяновым познакомил его Константин. А потом, уже через них, он, Дубровинский, стал своим в этом доме, подружился и с Анной Егоровной Серебряковой.
— И что же — Минятовы? Надеюсь, Константина не поймали? Он не вернулся в Россию?
— Нет, нет, он за границей! Как будто в Берлине. С Надежды Павловны взята подписка о невыезде, а Наденька махнула на это рукой да и уехала не так давно к родным, куда-то под Чернигов. Прибегала проститься: «Ну что я буду мучиться в Москве одна? Тоска заест! Захочет полиция арестовать, пусть уж там арестовывает». Мне показалось, она тоже за границу хочет перебраться. К мужу. Тайком.
Давно стемнело, но свет Мария Николаевна не торопилась зажигать. Было что-то особенно доверительное, дружеское в таком разговоре впотьмах. Дубровинскому уходить не хотелось. А времени в запасе оставалось немного, пора на вокзал. Если он не уедет с ночным поездом и завтра не отметится в орловской полиции — так предупредили его и такую дал он подписку, — будет снова посажен в тюрьму. Зачем дразнить гусей? Ехать! Ехать!
— Да, с деньгами-то как у вас, Иосиф? — спохватилась Корнатовская. — Не стесняйтесь, надо — возьмите.
— Спасибо, Мария Николаевна, — сказал Дубровинский. И усмехнулся: — Деньги у меня есть. В охранке дали пять рублей. Доеду.
— Господи! — воскликнула Корнатовская. — Из поганых рук и взяли деньги! Да для чего же у нас «Красный Крест» и в нем Анна Егоровна старается?
— Ну, так уж получилось, — сказал Дубровинский. — Мне показалось, это вернее — сделать вид, что в Москве мне совершенно не к кому обратиться, нет друзей. И потом, ведь я же эти деньги по приезде в Орел им сразу верну. А Серебряковой Анне Егоровне от меня передайте сердечную благодарность. В тюрьме я все время чувствовал ее заботы. И вам, Мария Николаевна, за все, за все спасибо!
Уже у порога спросил, не знает ли она каких-нибудь подробностей относительно «Рабочей газеты». Удалось ли созвать съезд социал-демократов? Корнатовская покачала головой.
— Нет, не знаю… И кто провалил «Рабочую газету», тоже не знаю. Аннушку бы расспросить. Анна Егоровна, может, что и разузнала за эти дни. С нею давно я не виделась. — И, не принимая никаких возражений Дубровинского, все же вытащила из ридикюля трехрублевую бумажку и сунула ему в карман.
— Иосиф, возьмите, не обижайте меня, — сказала настойчиво. — Иначе я буду беспокоиться. В конце концов можете тоже вернуть!
В поезде было жарко, вагон забит пассажирами до отказа. Но Дубровинский все-таки успел занять верхнюю полку и теперь лежал, закинув руки за голову, сладко подремывая.
Вот так бы и ехать долго-долго под стук колес, сонно прислушиваясь к оживленному говорку соседей.
О разном говорят. Кому-то выпала удача — большая ли, маленькая ли, а радостно. И голос мягкий, воркующий, и плечи свободно назад откинуты. Счастлив человек. А тут кого-то горе пришибло, семь бед одна за другой посетили, и неведомо — когда же придет им конец? Медленно, неохотно выговариваются слова. Но молчать тоже нельзя. Не может молчать человек ни в радости своей, ни в печали. Потому что один человек, сам по себе, не бывает. Кто один, тот бирюк. А люди всегда вместе.
Всякие идут разговоры. Кто-то недобрым словом — крестьянин, мужик — барина своего помянул. Кто-то принялся рассказывать, как на заводе штрафами, вычетами бессовестными его допекли, а там и вовсе за ворота выставили, ходит теперь без работы, семья голодает…
Дубровинскому очень хотелось спуститься со своей полки, вступить в беседу. Но сдержался. Первый день на свободе. Надо хотя бы чуточку осмотреться. Самойленко-Манджаро однажды зачитал филерские проследки за целый месяц. Действительно, как ради красного словца сорвалось у Зубатова, чуть не в постель забрались шпики. Кто знает, может, и сейчас чье-то «недреманное око» зорко следит за ним.
Двенадцатый час ночи…
13
А в это время в кабинете Зубатова сидел Самойленко-Манджаро. Он был радостно взволнован, как бывает взволнован иной любитель сложных математических задач, когда внезапно его осенит вдохновение и задача окажется красиво и просто решенной. Сейчас Самойленко-Манджаро докладывал Зубатову о результатах расшифровки какой-то цифровой тарабарщины в тетради, отобранной у Семеновой при выходе ее из тюрьмы. Эта тетрадь, как удалось ему установить, предназначалась для Корнатовской.
Зашифрованное сообщение начиналось с просьбы передать Серебряковой, что арестованные очень нуждаются в помощи и что минские товарищи должны быть осторожнее…
— Ваши выводы, ротмистр? — спросил Зубатов, закуривая с нарочитой медлительностью.
— Шифровка написана явно не от имени самой Семеновой, она лишь передаточная инстанция, и сделала это по чьему-то поручению. Сидя в одиночке! Стало быть, приняла текст письма по стукам. Кто-то знал, что Семенова готовится к выходу на свободу раньше него, или, во всяком случае, рассчитывал, что сие послание она непременно сумеет передать Корнатовской. Из группы «Рабочего союза» после Семеновой, и самым последним, освобожден был Дубровинский. Вряд ли он мог простучать ей это письмо. Во-первых, он лично сам имел общение с Корнатовской, получал от нее книги и другие передачи. Зачем ему иметь посредником третье лицо? Во-вторых, слова о «товарищах из Минска»… Связей Дубровинского с Минском не установлено. Не говорит ли это о том, что свое поручение Семеновой простучал некто из арестованных, побывавший перед арестом в Минске?
— Логично, — сказал Зубатов. И выдул вверх тонкую струйку дыма. — Продолжайте.
— «Некто» мог и не быть прежде знаком с Семеновой. Но он узнал каким-то образом, что через Семенову можно связаться с Серебряковой. А это «Красный Крест». По филерским проследкам со всей несомненностью установлено: в марте из Москвы в Минск ездил осколок «Рабочего союза» Ванновский. Предполагаю, что Ванновский и есть «Некто».
— Тоже логично, — сказал Зубатов. — Вы радуете меня. Ведя дознание, обратите самое пристальное внимание на Ванновского.
— Ну «помощь» — это, очевидно, поддержка продовольствием из «Красного Креста», которым ведает Серебрякова. А поскольку группа арестованных вместе с Ванновским, кроме него самого, не москвичи и, следовательно, родственников здесь не имеют, передач получать им не от кого, вся надежда у них на «Красный Крест» — это еще раз доказывает мою версию.
— Превосходно! — сказал Зубатов. — Ваши соображения?
— Дать указание начальнику тюрьмы размещать политических арестантов в одиночных камерах так, чтобы эти камеры чередовались с уголовниками, и по вертикали и по горизонтали. Тщательнее просматривать все бумаги, которые побывали в руках арестованных.
— Это на будущее. Принимаю. Представления такого рода генералу Шрамму следует сделать в адрес департамента полиции. Я с генералом побеседую.
— И последнее. Соображения текущего характера. Арестовать Корнатовскую и Серебрякову.
Зубатов задумался. Осторожно стряхнул пепел с папиросы. Сделал несколько коротких затяжек.
— Вы об этом говорили генералу Шрамму? — несколько ревниво спросил он.
— Что вы, Сергей Васильевич! Любые предложения о новых арестах я согласовываю прежде всего с вами.
Зубатов ткнул окурок в пепельницу, подержал, пока он не погас совершенно.
— Нет, Корнатовскую и Серебрякову арестовывать пока не будем! Эта ваша идея — правильная идея — пусть остается между нами.
— Слушаюсь, Сергей Васильевич! Хотя и не очень понимаю. Позвольте еще. — Он хлопнул ладонью по своему портфелю, лежащему на столе. — Если вы располагаете небольшим временем, здесь есть один любопытный документ. Перлюстрация письма Минятова к жене.
— Из Берлина?
— Да.
— Это интересно. Прочитайте.
Дверь приоткрылась, одним плечом в нее выставился Медников.
— Сергей Васильевич, еду к «Мамочке», — объявил он. — От тебя не надо ничего передать?
— Поцелуй ручку и скажи, что она прелесть.
Медников ухмыльнулся и прихлопнул дверь.
— Слышала бы это Александра Николаевна, — шутливо сказал Самойленко-Манджаро. — Извините!
— Моей Александре Николаевне и не такое слышать приходится, — в тон ему откликнулся Зубатов. — А «Мамочке» сам государь поцеловал бы ручку, знай он о всех ее заслугах перед ним! Фигурально говоря… Читайте, ротмистр!
Самойленко-Манджаро вытащил из портфеля несколько листков бумаги. Откашлялся. Глядя многозначительно на Зубатова, прочитал обращение в письме: «Бедная Надя…» — и остановился. Зубатов посмотрел недоумевающе. Что хочет этим подчеркнуть ротмистр? Конечно, и любой — в такой разлуке — написал бы «бедная Надя»…
— Припомните, Сергей Васильевич, всю взятую при обыске обширнейшую переписку Минятова с женой, — сказал Самойленко-Манджаро, наслаждаясь тем, что заинтриговал Зубатова. — Как тогда начинались его послания? «Дорогая, обожаемая Надеждочка… Моя звездочка, моя радость… Любимая моя Надечка…» И тому подобное. А теперь — «бедная». Потому что он далее развивает мысль о различных несогласиях с нею и высказывает готовность вообще разойтись.
— Вот как! — воскликнул Зубатов. — Это, конечно, любопытно. И что же, в этом и весь смысл письма?
— Сергей Васильевич, я не стал бы только ради таких сантиментов занимать ваше драгоценное время. — Самойленко-Манджаро пролистнул несколько страниц. — Вон сколько своим душевным терзаниям по поводу угаснувшей любви посвятил господин Минятов. А вот с этого места начинается и более существенное. Итак: «…с каждым днем в моих глазах все смешнее и жальче становились мои прежние „революционные“, — Сергей Васильевич, слово „революционные“ он ставит в кавычки, — …удивительно простые, но зато и решительные взгляды, по которым весь смысл жизни заключался лишь в коверкании всего человека в угоду незамысловато понимаемых…», — и опять в кавычках, — «„общественных интересов“. Это та стадия, которую теперь переживают Алексей Яковлевич…»
— Никитин? — перебил Зубатов.
— Да, разумеется! «…переживают Алексей Яковлевич, а в особенности Дубровинский. Здесь, в Берлине, частью благодаря влиянию здешней, гораздо более культурной нравственной обстановки, частью благодаря одиночеству, в котором я мог пересматривать всю прежнюю жизнь, я наконец мог оценить вполне всю бедность этой детской точки зрения на жизнь, весь жестокий трагизм, вытекающий из нее. И вместо всяких прежних революционно-карьерных мечтаний я начал жаждать простой, тихой человеческой обстановки…» Ну и далее все в таком же роде. Читать еще, Сергей Васильевич?
— Спасибо! Не надо. Действительно, письмецо примечательное. Борец за идеи российской революции раскис «благодаря гораздо более культурной нравственной обстановке» Берлина. Что ж, по пословице «баба с возу — коню легче». Приобщите это письмо к его делу. Впрочем, — Зубатов предупреждающе поднял палец, — впрочем, не на предмет каких-либо смягчений касательно его прошлого участия в «Рабочем союзе». За свои «революционно-карьерные» мечтания господин Минятов, сей неудавшийся Робеспьер, когда мы его изловим и пришпилим, пусть отвечает полной мерой. Кого-кого в революции, но уж карьеристов решительно терпеть не могу!
— Словом, пустить «карьериста» во весь карьер! Ха-ха-ха!
Они еще немного посмеялись, каламбуря по поводу выспренних выражений минятовского письма, и Самойленко-Манджаро ушел.
А Зубатов, несмотря на очень позднее время, еще остался в своем кабинете. Он обдумывал и набрасывал на листе бумаги тезисы предполагаемой пространной записки на имя Сипягина, министра внутренних дел, где формулировал мысль о желательности и необходимости создания массовых рабочих организаций под эгидой полицейских властей. Такая система позволила бы слаженной полицейской машине принять на себя защиту интересов рабочих в их спорах с предпринимателями и тем самым ввести стихийно возникающие инциденты в спокойное русло.
14
Это был пир так пир. Тетя Саша постаралась. Любовь Леонтьевна, превозмогая боль в боку, тоже хлопотала с нею наравне. Собственно, приглашенных почти и не было. Только Семенова, младший из ее братьев Борис, Владимир Русанов да шляпная мастерица Клавдия. Остальные — своя семья. Многозначительность торжественного обеда заключалась прежде всего в полноте чувств, с какими за столом произносились маленькие речи. А еще — в обилии самых вкусных и самых любимых Иосифом блюд. Тетя Саша обегала все погребки, а уж накупила такого вина, таких фруктов!..
Самому Иосифу после первых часов радостной встречи с матерью и братьями тоже хватило всяких забот.
Надо было сходить в полицию и там заявить о прибытии, расписаться в особой книге, где регулярно отмечались все состоящие под гласным надзором. Ах, если бы только «гласным»! Разве поверишь теперь, что за тобою не таскаются по пятам невидимые и неслышимые зубатовско-медниковские филеры?
Надо было сходить и в баню, смыть, как заявила тетя Саша, «проклятую тюремную грязь». И зайти к парикмахеру. И побывать в обувной лавке, купить себе новые штиблеты.
Пока завершались последние приготовления в столовой, а гости уже собрались, Иосиф сумел на несколько минут отвести Семенову в сторонку и перемолвиться с нею. Она ведь на три недели раньше приехала в Орел и хорошо уже разобралась в здешней обстановке. Веселого было немного. А грустное… Орловский «Рабочий союз», который здесь постепенно сформировался из разобщенных марксистских кружков, полтора месяца назад полицией ликвидирован подчистую. Руководил им Родзевич-Белевич. Он арестован. Взяли в Ялте, куда Родзевич поехал лечиться, — с легкими у него стало очень нехорошо. Арестованы Осетров, Кварцев, Ильинский, Ивиткин — ближайшие товарищи Родзевича-Белевича. Преемственности не сохранилось никакой. А вообще полиция замела человек пятьдесят…
— Вот и Владимир, — Семенова кивнула головой в сторону Русанова, который у окна разговаривал с Борисом Пересом, — шесть недель тоже в тюрьме отсидел и под гласный надзор попал. Но это уже не по орловскому, а по нашему, московскому, «Рабочему союзу». — Она вздохнула: — В этом я виновата.
— Именно?
— Замотали очными ставками на последних допросах. Запуталась в показаниях, всего в памяти не удержишь, когда лгать и выдумывать приходится. Навалился Самойленко: «Где находится отпечатанный вами с Дубровинским „Манифест Коммунистической партии“? Кому вы его передали?» И сама не знаю, как назвала Владимира, словно бы где-то кто-то об этом при мне уже говорил. А Никитин действительно увез ему корзину с брошюрами…
Иосиф холодно, осуждающе посмотрел на Семенову.
— Вы, Лидия Платоновна, на допросах не раз и меня называли!
Она опустила глаза.
— Простите меня, Иосиф! — И заговорила с надеждой, словно это ее полностью оправдывало: — Но о Владимире, о моих показаниях против него я все-таки сумела передать Корнатовской в тот же день. Мария Николаевна его предупредила. Здесь сделали обыск, но, конечно, ничего не нашли. Хотя Владимира все же тогда и забрали.
— Отпуская меня, Самойленко предупредил, что они весь Орел вверх дном перевернут, а корзину эту отыщут. И если отыщут — дознание пойдет по второму кругу.
— Ужасно! И, значит, тогда нас опять в тюрьму? — сказала Семенова. Землистые круги, нажитые долгим сидением в одиночке, резче обозначились у нее под глазами. — Что нам делать?
— Теперь, когда вы во всем признались жандармам и даже указали, где хранится отпечатанный «Манифест», какой резон таиться? Вызывать особо пристальную слежку?
— Владимир поставил корзину в такое место, где ее промочило дождем. Бумага слиплась, прочесть «Манифест» уже невозможно. Может быть, нам сжечь его?
— Зачем? После ваших признаний? Завтра же я эту корзину отправлю багажом генералу Шрамму! — решительно сказал Иосиф. — Я не хочу, чтобы без всякого смысла делали новые обыски в десятках домов. И в нашем доме. Маму это убьет. Она сегодня бодрится лишь потому, что обрадовалась моему приезду.
Он посмотрел в распахнутую дверь соседней комнаты. Там Любовь Леонтьевна вместе с Александрой Романовной спешно заканчивали сервировку стола, позванивали хрустальными рюмками, которые выставлялись только по большим праздникам. Тетя Саша успела рассказать Иосифу, что Любовь Леонтьевну осматривали лучшие орловские врачи, а потом, по старой дружбе, приезжал из Курска, где он теперь служит, Гурарий Семенович, и все пришли к печальному заключению: болезнь хроническая, неизлечимая, всякие волнения опасны.
Семенова тихо перевела дыхание, вытащила гребенку из волос, принялась поправлять прическу. Рука у нее вздрагивала.
— Бывают минуты непонятного состояния у человека, Иосиф, — проговорила она, запинаясь. — Крайней усталости, что ли, когда ты собой уже не владеешь и хочется только скорее, скорее… И еще тогда мне казалось: наше дело для жандармов настолько очевидное, что, упрямо отказываясь отвечать, мы себя ставим просто в смешное положение, теряем достоинство.
— Да, но при этом нет надобности называть имена товарищей, — жестко сказал Иосиф. — От этого наше достоинство никак не выигрывает. Даже в глазах товарищей.
Вплыла, покачивая полными бедрами, тетя Саша. Широко распахнув руки, всех пригласила к столу. Тяжелый разговор Иосифа с Семеновой оборвался.
Когда все расселись, положив себе закуску, наполнив рюмки, наступило короткое замешательство. Кому первому сказать застольное слово? Александра Романовна — хозяйка дома. Но ведь собрались сейчас в честь возвращения сына Любови Леонтьевны…
— Люба, скажи для начала ты что-нибудь, — попросила тетя Саша. И часто заморгала: не расплакаться бы.
Любовь Леонтьевна поднялась, держа наполненную рюмку. Обвела неторопливым взглядом всех собравшихся, задерживаясь больше всего на своих сыновьях.
— Ося вернулся домой из тюрьмы. На меня целый год показывали пальцами: глядите, это ее сын арестован! Но мне ни капельки не было стыдно. Вот все, что я хочу сказать. — И протянула руку, чокаясь с Иосифом.
— А меня тоже здесь вызывали на допрос! — с гордостью выкрикнул Семен. — Целый день продержали в полиции.
Встала тетя Саша. Глядя на Семена, покачала головой: эка, мальчишество!
— Ося за то время, что не был с нами, очень возмужал и очень похудел, — сказала она весело. — Для юноши это естественно. Только я все же люблю румяные, полные щеки. Такие, как у меня. Тетя Саша ничего для тебя не пожалеет, но я прошу, и ты, Ося, насчет румянца сам тоже постарайся. За что вас сажают в тюрьмы, всего я не понимаю, но сколько понимаю — и я готова сесть в тюрьму. Ты это знай! А сегодня у нас праздник. И я хотела бы, чтобы все были сыты, поели вкусно. И вот эту бутылку вина, токайского, в погребке у Петра Ерофеевича вытащила я последнюю. Он берег ее для себя. Пусть же ему будет в жизни очень хорошо! А мы выпьем…
Заработали вилки с ножами. Слова тети Саши не были пустым бахвальством. Вино оказалось превосходным. Еда — тоже.
Начался беспорядочный разговор. Любовь Леонтьевна расспрашивала Семенову, получает ли она письма от Алексея Яковлевича, и негодовала, что съездить в Курск к нему она, оказывается, не имеет права.
У Бориса Переса с Семеном и Яковом завязался свой спор, то и дело проскакивали слова «полиция», «протокол», «дознание», и Яков чувствовал себя в этом споре глубоко несчастным. Ему исполнилось уже пятнадцать лет, а к «дознанию» его еще не привлекали.
Клавдия, шляпная мастерица, сидела рядом с Иосифом. Она шепнула ему, что Василий Сбитнев жив и здоров, он где-то на юге. И грустно прибавила, что фельдшер Иван Фомич арестован в Кроснянском за распространение прокламаций среди крестьян. Таскали по допросам и Гурария Семеновича.
Вдруг тетя Саша спохватилась, что, увлекшись едой, самого-то Осю и не попросили речь произнести.
— Что ж, придется, — Иосиф не стал сопротивляться. — Мама, самое сердечное спасибо тебе за то, что ты меня не стыдилась! Тебе, тетя Саша, конечно, и за токайское и за зайца спасибо, но больше всего — за желание понять, почему сажают нас в тюрьмы. Сеня, ты, кажется, уже начинаешь это хорошо понимать. А, Яков, случится, ты ведь тоже не подведешь? Клавдию хочу я поблагодарить как надежного друга. Борис, — в вашей семье с тобой познакомился я позже, чем с другими, — ты в своей семье самый младший, но в годах ли дело? Мне приятно, что ты с нами за столом именно в этот день. Лидия Платоновна… Что же тут сказать? Судьба наша общая…
— Но я виновата! Очень виновата! — возбужденно вскрикнула Семенова. И лицо у нее покрылось красными пятнами.
— Кто и в чем виноват перед самодержавием, нам объявят в приговоре, — сказал Иосиф. — А между собой мы все товарищи. И в этом наша сила. Когда товарищ споткнулся, надо его поддержать, а не осыпать злыми упреками. Даже если он нечаянно сшиб с ног другого.
— Ну, Ося, я не знаю, о чем этот у вас разговор, — запротестовала тетя Саша. — Он какой-то таинственный. Но на мой характер, если один товарищ сшибает с ног другого, хотя бы и по нечаянности, я не стала бы комплиментов ему говорить. Идешь рядом — под ноги поглядывай! Очень ты добрый, Ося!
— Может быть, может быть, — засмеялся Иосиф. — И ваши советы на будущее, тетя Саша, я запомню. А сейчас что я сказал, то сказал. Пусть это будет понятно только Лидии Платоновне.
Семенова закрыла лицо руками, опустила голову.
— Жаль, что нет с нами Максима…
— Брат под гласным надзором в Калуге, — вмешался Борис Перес, — ему выезд из города запрещен.
— Очень сожалею, что нет здесь Минятовых, — продолжал Иосиф. — Мама, тетя Саша, вам ведь он очень нравился? Теперь я могу сказать, что Константин — это как раз такой товарищ, с которым я готов пойти куда угодно, ничего не боясь. Тетя Саша все хотела женить меня. Не собираюсь. Но Константину я всегда завидовал — завидовал тому, какая хорошая у него жена, какие верные они между собою друзья. И хотя мне жаль, что их нет сейчас с нами, я радуюсь этому: Константин избежал тюрьмы, допросов, будущей ссылки.
— А дело наше будет продолжать и за границей, — с убежденностью прибавила Семенова. — Вы помните, Иосиф, как мы гостили у них на рождестве?
— Помню. Константин играл на гитаре, а вы и Надежда плясали возле елки. Упала хлопушка, и кто-то наступил на нее…
— Мне показалось, что выстрел в окно…
— А я не раз к Минятовым ездил в имение, — заявил Борис. — Для Лидии книги брал у них. На этом и попался.
— Дайте Осе закончить! — возмущенно крикнул Семен. — Он уже целый час стоит на ногах.
— Константин любил повторять хорошую поговорку: «Все за одного и один за всех!» Лучших слов не сыскать. Ими я и закончу свою речь, если вы все с этими словами согласны.
Он сел. А все шумно закричали: «Согласны! Согласны! Правильно! Браво, Ося!» Выпили еще. И потом принялись за сливочное желе с мелко рубленным ананасом — коронное сладкое блюдо тети Саши. Иосиф поглядывал на Любовь Леонтьевну.
— Я вот замечаю, что у мамы появилось много седых волос, — сказал он. — Некоторые считают: седина — это старость. Но какая же старость у мамы? Седина ей просто к лицу.
— Все-таки седина — это уже старость, — откликнулась Любовь Леонтьевна. — И горе, тревоги, заботы материнские. Мужчинам, да еще молодым, такое трудно понять.
— Мама, прости, я тебя обидел!
— Нет, Ося, ты нисколько не обидел меня. Ты по-своему тоже прав. Но мне, поверь, приятнее сознавать, что я поседела не от старости и что я жила так, как и полагается матери: все горе, тревоги, заботы своих детей носить в своем сердце.
Александра Романовна, шутя, возмутилась:
— Но как же теперь выглядит бедная тетя, которая ничуть не поседела? Выходит, она совсем бессердечная? Да?
И выскочила из-за стола, завела граммофон, поставила какую-то бравурную пластинку. Пошла по кругу, приплясывая, приговаривая: «Вот так! Вот так!» К ней присоединилась Клавдия. Переглянувшись с Семеновой, Иосиф тоже поднялся.
— Лидия Платоновна, а мы что же? Поддержим тетю Сашу? — Вытащил Лидию на круг. — Мама, не всегда сыновья доставляют своим матерям только горе да заботы. Мне хочется, чтобы тебе сейчас, как и всем нам, было очень весело.
Выбежали на средину комнаты и Семен с Яковом, Борис. Принялись дурачиться совсем по-мальчишески. И праздничный ужин затянулся надолго…
Укладываясь спать в привычной ему комнате на привычную постель, Иосиф подумал: «За эти два с половиной года, пока я не был дома, как сильно вымахали братья. Особенно Семен. Теперь на него можно во всем положиться. И вообще, как хорошо, что дома больше ничего не надо скрывать от своих! Все тебя понимают. Вот только Григорий…»
Иосиф горько вздохнул. Еще днем Семен потихоньку сказал ему, что весной приходило письмо от Григория. Он уже офицер, в чести у начальства и рассчитывал на новое повышение, да вот Иосиф, мерзавец, ему ногу подставил. А дальше в письме были и совсем такие слова об Иосифе, что мать, читая, вся побелела.
Ну что же, в душу к Григорию теперь не войдешь, сквозь красивый мундир к сердцу его не проберешься. Стали врагами? Обидно! А больше всего обидно за мать, которая видела в нем, как и в каждом своем сыне, опору, надежду свою. Григорий, по словам Семена, закончил письмо так: «…поскольку Иосиф, связавшись с государственными преступниками, с тюрьмой, навсегда опозорил нашу семью, мне тяжело даже подписываться фамилией Дубровинский». Да, от этого поседеешь.
Припомнился разговор с Константином Минятовым в этой же комнате. Вот человек совсем другого склада! Хотя немного и суматошный, но твердо верящий в высокие цели своей борьбы. Хорошо, когда у тебя есть такие товарищи!
Сон одолевал. Братья все еще шумели, возились где-то в другой половине. Доносился оттуда и счастливый голос тети Саши. Хорошо дома? Иосиф повернулся на бок, лег щекой на раскрытую ладонь. Хорошо! Очень хорошо дома! А все-таки…
15
Потом потянулись обыкновенные дни. И к ним заново нужно было привыкнуть, как и к тому, что здесь, в Орле, за исключением, может быть, полицейского участка, куда полагалось в определенные дни являться на отметку, он снова превратился из Дубровинского просто в Иосифа.
В полицейском участке к нему относились с полнейшим равнодушием, подсовывали книгу — распишись и ступай! Первое время деревянным голосом пристав каждый раз напоминал, что в соответствии с правилами гласного надзора он, мещанин Дубровинский, не имеет права без ведома полиции выехать за пределы города Орла даже на один день, на один час, иначе неизбежен арест и заключение в тюрьму. Потом напоминать об этом не стали.
Ему хотелось съездить и в Калугу, и в Курск, и на Бежицкий завод, повстречаться с рабочими, возобновить свои связи с подпольными марксистскими кружками. Ему хотелось и в самом Орле заняться печатанием листовок, прокламаций, распространением нелегальной литературы, словом, вернуться полностью к той самой деятельности, которая и привела его в тюрьму, а теперь к ожиданию сурового приговора. Он взвешивал свои реальные возможности и сопоставлял их с грозящими последствиями за нарушение полицейских предписаний. Счет получался не в его пользу. А быть просто лишь «поднадзорным мещанином Дубровинским» тоже не мог.
И поэтому, отказавшись от попыток выезда из Орла и не решаясь в самом Орле устанавливать новые связи, чтобы не поставить их тут же под удар охранки, Иосиф опять обратился к наукам. Занялся математикой, немецким языком и чтением легальной литературы по вопросам социально-экономическим. Удавалось кое-что получать и из запрещенного. Тогда с большой осторожностью собиралась группа орловских поднадзорных. Рефераты чаще всего готовил Иосиф. Он любил это делать. И умел говорить, овладевать вниманием слушателей.
Было неловко жить заботами матери и на средства тети Саши, самому ничего не зарабатывая. Вскоре после Нового года Иосиф подал прошение в департамент полиции: нельзя ли ему поступить на службу в какое-либо правительственное или общественное учреждение, вести счетную и письменную работу? Такое же прошение направила в департамент полиции Семенова. Лишь в середине февраля пришли ответы. Семеновой было категорически отказано в поступлении на работу, а Дубровинскому туманно разъяснялось, что это передается на усмотрение «подлежащего» начальства. «Подлежащее» же начальство не стремилось обременять себя ответственностью, привлекая на службу неблагонадежных лиц. И практически Иосиф остался без заработка. Лишь иногда его брали на две-три недели выполнить какую-нибудь случайную работу. Семенова получала из Курска письма от Никитина. Тому повезло больше: он устроился конторщиком в железнодорожное депо.
Так однотонно прошли все зимние месяцы. Прошумела бурливыми ручейками весна. Тетя Саша пересыпала нафталином теплую одежду и уложила ее в сундуки. Галоши стояли в передней без надобности.
В эти дни Иосиф получил на почте бандероль с московскими штемпелями. Обратный адрес указан был явно фальшивый. Почерк казался знакомым, но кому именно принадлежал — вспомнить не мог. В бандероли находилась хорошо переплетенная книга очерков из истории географических открытий в Африке. Этим Иосиф никогда не интересовался. Стало быть, посылка с секретом. Он тщательно пролистал всю книгу страница за страницей и ничего не обнаружил. Прогрел горячим утюгом, испробовал химическими реактивами — опять безрезультатно. Тогда он распотрошил переплет. В корешке книги оказался заделанным отпечатанный на пишущей машинке «Манифест Российской социал-демократической рабочей партии».
Иосиф так и впился глазами в тончайшие листки бумаги.
Он читал, нетерпеливо схватывая строки, сперва даже не все подряд: «…50 лет тому назад над Европой пронеслась живительная буря революции 1848 года.
Впервые на сцену вступил — как крупная историческая сила — современный рабочий класс…
…Пробуждение классового самосознания русского пролетариата и рост стихийного рабочего движения совпали с окончательным развитием международной социал-демократии как носительницы классовой борьбы и классового идеала сознательных рабочих всего мира…
…Политическая свобода нужна русскому пролетариату, как чистый воздух нужен для здорового дыхания… нужную ему политическую свободу он может завоевать себе только сам…
…Первые шаги русского рабочего движения и русской социал-демократии не могли не быть разрозненными, в известном смысле случайными, лишенными единства и плана. Теперь настала пора объединить местные силы, кружки и организации русской социал-демократии в единую „Российскую социал-демократическую рабочую партию“. В сознании этого представители „Союзов борьбы за освобождение рабочего класса“, группы, издающей „Рабочую газету“, и „Общееврейского рабочего союза в России и Польше“ устроили съезд…»
Вот как! Иосиф взволнованно разглаживал, расправлял ладонью измятые листки. Значит, состоялся съезд, провозглашена единая партия рабочего класса. Какую силу сразу наберут социал-демократические организации на местах! Они смогут действовать теперь не раздробленно, каждая сама по себе, а по общему плану, согласованно, ведя свою великую и трудную борьбу с самодержавием. Как это все хорошо!..
Он уже спокойнее перечитал «Манифест» от начала до конца, не пропуская ни одного слова. Задумался. Да, хорошо это, бесспорно, очень все хорошо, но… Тут же десятки практических вопросов встали перед ним. И главный: а где же находится Центральный Комитет партии, несомненно избранный на съезде? Как установить с ним связь?
На «Манифесте» помета — «март 1898 года». Прошел год целый после съезда. А здесь, в Орле, об этом узнают только сейчас, вот он узнает, и то из документа, присланного неизвестно кем. Если бы Центральный Комитет оказался жизнеспособным, наверно, в течение года товарищи из Комитета сумели бы наладить связи с местами. Ведь в той же орловской организации, несмотря на полицейские разгромы и аресты, надежные люди всегда оставались. Никто здесь о съезде не знает ничего. Но, может быть, вот это и есть поиск связей? Несколько странный способ…
А вдруг это коварный ход охранного отделения? Проба — не откроются ли при этом какие-то новые, неизвестные еще охранке лица, к которым, получив «Манифест», тут же метнется Дубровинский? Как никогда, сейчас нужно быть осторожным.
Он еще раз самым внимательнейшим образом исследовал почерк на обложке бандероли. Знакомая, знакомая рука, хотя и явно заметно, что почерк старательно пытались изменить. Писала женщина… Так это же Корнатовская! Да, да, она! Постоянный его добрый гений. Иосиф сразу просветлел. И тут же снова задумался. Как известить Марию Николаевну, что «Манифест» получен? Как установить с нею связь?
Ни одного промежуточного, вполне «чистого» адреса в Москве не было. Расставаясь с Корнатовской, он впопыхах забыл условиться об этом. Послать прямо на дом письмо? Нет, нет, это может обернуться бедой для Марии Николаевны, если ее подозревают, если и за нею следят. До сих пор она удивительно ловко соблюдала конспиративность в своей работе, ни разу еще не арестовывалась. Возможно, что после стольких провалов на ней одной лишь и держатся все важнейшие связи. И вдруг каким-то непродуманным шагом открыть Марию Николаевну охранке! Нет и нет! Революционер должен уметь быстро и решительно действовать, но иногда, по обстоятельствам, и терпеливо ждать.
Вечером этого дня собрались вместе он, Семенова, Русанов, Борис Перес. Прочли «Манифест», порадовались новой ступени, на которую теперь поднялось рабочее движение. И торжественно заявили друг другу, что с этой минуты считают себя членами РСДРП.
Потом долго размышляли, гадали. Где же все-таки, в каком городе состоялся съезд? Был ли на нем представитель московского пролетариата? «Московский рабочий союз» в «Манифесте» не упоминался. Неужели стараниями Зубатова он вырублен совершенно под корень? И вообще, известно ли охранке о состоявшемся съезде?
Так и разошлись в полном неведении.
Что же касается Зубатова, он узнал об учредительном съезде РСДРП ненамного раньше Дубровинского. Узнал, для себя совершенно неожиданно, из показаний арестованного Александра Ванновского.
Зубатов негодовал, задето было его профессиональное самолюбие. Он вызывал своих подчиненных, распекал их за ослабление бдительности. Даже Медникову попенял: «Ну что же, Евстратий, в галоше, в рваной галоше сидим? Как это филеры твои подкачали? И ты сам — „правая“ моя рука?»
Медников строптиво отмахивался: «Сергей Васильевич, ты меня не замай! Что по внешнему наблюдению, извини, точно сработано. И выследили, как видишь, и выловили всех. А что эти пролетарии в Минске заседали, о чем у них в помещении был разговор и чего они там, какую партию учредили, — это ты с Сазонова спрашивай. Или с себя самого». И Медников был прав. Он заведовал только филерами, «внешним наблюдением», а секретные агенты, «внутреннее освещение», были в распоряжении ротмистра Сазонова — «левой руки» Зубатова.
Прав был Медников и в том, что почти всех участников съезда выследили и арестовали. Но честь жандармского мундира все равно страдала. Ведь арестовывались-то эти люди совершенно по другим подозрениям, а не как делегаты! Чуть не год целый понадобился, чтобы разгадать суть минской встречи девятерых «марксят»! Только теперь становится ясной и шифрованная запись в тетради Семеновой, которую она, не ведая сама, что записывает, сделала по стукам Ванновского, но не сумела вручить адресату — Корнатовской. Ах! Ах! Зубатов кипел: «но „Мамочка“-то, что же „Мамочка“? Как же она-то не смогла вовремя проникнуть своим всевидящим оком в эту эсдековскую тайну?»
Зубатов съездил к «Мамочке». Вошел сердитый, а расстался с нею весело. Он провел длинный вечер в приятнейшей беседе, еще раз убедившись в таланте этой женщины, уме, обаянии, дальновидности и самой искренней преданности престолу. А на всякого мудреца довольно простоты, как утверждает народная пословица. Есть еще и прелестнейший афоризм Козьмы Пруткова, весьма пригодный для данного случая: «Нельзя объять необъятное!» То, что «Мамочка» именно в это же время сумела сделать для разгрома екатеринославской подпольной типографии, уже ей зачтется, как любит она сама говорить, и в аду и на небесах. Прощаясь, Зубатов долго и нежно целовал «Мамочкину» руку. На этом и была поставлена точка.
К тому же Зубатов был все более одержим давней своей идеей создания рабочих организаций под эгидой полицейских властей. Все прочее у него меркло теперь перед этим. И радостно видел себя охотником, убивающим сразу двух зайцев: он, Зубатов, становится любимцем царя, утихомирив революционные страсти, и угоден рабочему люду, приняв на себя защиту его интересов.
Впрочем, была у Зубатова и еще одна страсть — это план охвата единой сетью охранных отделений всей территории Российской империи. Уж очень грубо, топорно действуют в губерниях жандармские управления. Что сумеет сделать на местах московское охранное отделение через своих «летучих» агентов, только то, по существу, и сделано как следует. Стало быть, надо по московскому образцу создать и повсюду столь надежную систему политического сыска, чтобы деятельность любых тайных организаций всегда была видна, как огурцы, взращиваемые в стеклянных оранжереях. И надо создать еще хорошую школу внутренних агентов, подобных «Мамочке», агентов-«огородников», которые внимательно следили бы за ростом и развитием таких «огурцов», при надобности и поливали бы их, и пропалывали, и вносили бы в почву нужные удобрения, а снимали урожай точно тогда, когда наступит «сезон».
Наиболее многообещающей представлялась Зубатову «оранжерея», где как бы на разных ее половинах разместились недавно возникший «Бунд» и созданная под его, зубатовским, прямым покровительством «Независимая еврейская рабочая партия». Между собой эти две партии во многом враждовали, но сходились в одном: еврейское рабочее движение заключает в себе свои особые национально-культурные интересы и потому не может раствориться в общероссийской социал-демократии. Уже на первом съезде РСДРП бундовцы оговорили себе право быть организацией самостоятельной в вопросах, касающихся еврейского пролетариата. Узнав об этом из допросов арестованных делегатов съезда, Зубатов возликовал. Сегодня Бундом заявлена автономия в одних вопросах, завтра к ним добавятся другие. Принцип «разделяй и властвуй» на этот раз осуществлялся сам собой, без всяких усилий с его стороны. Партия, которая с первых своих дней становится как бы склеенной из разнородных, «автономных» частиц, в подходящий момент очень легко может опять расколоться как раз по такой склейке. И потому Зубатов дал установки своей внутренней агентуре, сразу же вросшей в организм этих партий, действовать поощрительно во всем, что касалось внутренних несогласий между бундовцами и независимцами, с одной стороны, и РСДРП, пока она еще начисто не уничтожена, с другой стороны.
Сквозь пальцы он посмотрел и на состоявшийся в Минске первый съезд русских сионистов. Более того, кое в чем ему и решительно посодействовал.
Среди своих приверженцев второй его любимицей, после «Мамочки», стала молодая, экзальтированная Маня Вильбушевич. С той только разницей, что «Мамочка» числилась в списках наисекретнейших сотрудников охранки очень давно, имела весьма приличное жалованье, а Маня Вильбушевич, состоя в рядах независимцев, ни разу пока еще не встречалась с Зубатовым и, разумеется, не получала от него никакого вознаграждения. Это был пока лишь потенциальный агент, поскольку Вильбушевич, сама того не зная, вела среди своих как раз такую линию, которая наилучшим образом отвечала желаниям Зубатова. И она была человеком искренне, страстно убежденным, что служит высоким целям, совершенно не подозревающим того, что охранка видит в ней будущего своего сотрудника. А Зубатов не любил выпускать из рук таких людей.
И знал, что рано или поздно Маня станет его действительным агентом — влюбленность в его, зубатовские, идеи заставит ее пойти на это. Вильбушевич станет агентом охранки! Пусть даже потом, когда она поймет, что это значит, ее и постигнет жестокая душевная драма.
16
По довольно-таки сложной цепочке, через Бориса Переса и его знакомых в Москве, Иосифу удалось все же установить, что Корнатовская на свободе, по-прежнему вне подозрений охранки и именно она послала ему книгу с секретным вложением в корешке переплета. Она очень рада, что бандероль дошла по назначению, и время от времени с такой же осторожностью будет и еще посылать ему важнейшую литературу.
Действительно вскоре вслед за этим, но не по почте, а через третье лицо, совершенно Иосифу незнакомое, был передан ему сборник «Экономические этюды и статьи» Владимира Ильина. Иосиф прочел книгу и понял: Владимир Ильин — это Владимир Ульянов.
Да, да, Владимир Ульянов. Он третий год в сибирской ссылке, оторван от столицы, больших городов, библиотек, но как отлично он владеет материалом! А как глубоко знает жизнь! И не подумаешь, что это пишет человек, запрятанный самодержавием в отчаянную глушь. Вот пример, которому следовать должны все, оказавшиеся в подобном положении: ни одного потерянного часа!
И хотя Иосиф давно уже сам себе установил такое же правило, теперь ему вдруг представилось, что он просто бездельничает. Успешно освоил математику и немецкий язык, прочитал сотни книг на разнообразнейшие темы и может теперь свободно вступать в спор с любыми высокообразованными людьми, да, это так, а все же сам он, за исключением листовок и прокламаций «Рабочего союза», не написал еще ничего. Нет, должно быть, в нем задатков теоретика, исследователя. Ах, познакомиться бы лично с Владимиром Ильичем! Он из Сибири вернется лишь в феврале будущего года. Куда к тому времени судьба забросит его, Иосифа Дубровинского?
«Судьба» предстала в средине июня в образе усатого, перепеленатого кожаными ремнями жандарма.
Он появился в доме с повесткой, где предписывалось прибыть на следующий день в губернское жандармское управление. У Дубровинского екнуло сердце. На допрос? Жандарм только пожал плечами. Заставил Иосифа расписаться в книге и удалился.
Ночь для всех прошла беспокойно, хотя каждый и делал вид, что ничуть не встревожен. Иосиф подчеркнуто лег спать даже раньше обычного времени. Братья не донимали расспросами. Но крепкого сна ни у кого из них не было. А женщины — мать и тетя Саша — почти до утра что-то делали у себя, на своей половине, и можно было догадаться: готовят на всякий случай Иосифу белье и сухари, обычное «приданое» для арестанта.
Предчувствия оправдались. В жандармском управлении Дубровинскому зачитали «высочайше утвержденное» решение министерства юстиции: «Выслать на жительство под гласный надзор полиции в Вятскую губернию сроком на четыре года».
Начальник управления, жандармский полковник, медленно положил бумагу на стол и вежливо спросил Дубровинского, все ли ему понятно.
Иосиф пожал плечами. Кажется, ясно. Он ожидал тяжелого приговора. К этому еще на допросах готовил Короткий. Но все-таки в душе надеялся: а может быть, обойдется? Не обошлось. Четыре года! Теперь ему двадцать два…
— А время, проведенное в тюрьме? — спросил он, еще немного веря в какое-то дикое счастье.
— Здесь сказано вполне определенно: выслать на четыре года, — как бы извиняясь, сказал полковник. — Следовательно, тюремное заключение в этот срок не засчитывается. Ну-с, а отправлять вас будем приблизительно через месяц. Устройте спокойно все свои дела.
Дубровинский горько усмехнулся: «спокойно…». Может быть, еще «весело»? Ведь предстоит прекрасная поездка по этапу в Вятскую губернию, и только на четыре года… Бедная мама! Уж лучше бы его отправили сразу, сегодня же. А то ведь целый месяц ей придется все провожать и провожать…
— Известно, где именно я буду поселен в Вятской губернии?
— Достоверно не знаю, это — дело местных властей, — сказал с прежней любезностью полковник. — Но предположительно, конечно, в один из наиболее удаленных от губернского города уездов. Так что собирайтесь в путь исходя из таких соображений.
— Могу я узнать, кто еще высылается в те же места? Кто будет моими попутчиками?
Полковник посмотрел в бумагу.
— Касательно всей вашей группы сообщить не могу, она ведь ныне разбросана по разным городам. Но отсюда высылается также Семенова Лидия Платоновна. На три года всего. Могу при этом присовокупить, — он понимающе скосил глаза на Дубровинского, — как мне известно, из Курска будет к вашей партии присоединен еще Никитин Алексей Яковлевич. Компания, как видите, для вас достаточно приятная. Не могу не отметить весьма гуманного отношения со стороны министра юстиции господина Муравьева.
Месяц, отведенный на сборы в дорогу, пролетел с невероятной быстротой. И не только потому, что слишком сложны оказались сборы, хотя, разумеется, и подготовить все нужное было не просто, никто не мог с полной уверенностью отделить очень нужное от совершенно излишнего — просто житейского опыта для этого не хватало. Приходилось считаться и с тем, что ссыльных где-то повезут по железной дороге или на пароходе, а где-то, быть может, погонят и пешком. Показались особенно короткими эти недели главным образом потому, что Иосиф был озабочен установлением надежных связей с Москвой, чтобы не жить потом в глухих вятских лесах — может ведь и так получиться — отрешенным от всего мира узником.
И это ему удалось. Он получил два вернейших адреса, пользуясь которыми можно было бы бестревожно поддерживать постоянную переписку с Корнатовской, а через нее и с Серебряковой.
Уезжали на восходе солнца.
Всю ночь над городом бушевала гроза и хлестал отчаянный ливень. Улицы вымыло начисто. От заборов и деревянных крыш под первыми лучами солнца струились легкие испарения. На тротуарах лежали сбитые ливнем крупные тополевые листья.
Приказано было явиться прямо на вокзал за два часа до прихода поезда.
Любовь Леонтьевна еще с вечера заказала подводу. Договорились попутно заехать к Семеновой, на одну телегу взять и ее вещи. Их набралось на двоих изрядно. Едут ведь на долгое жительство. Надо взять запас белья, обуви, одежду на осень и зимнюю. Надо и постель взять с собой. Да на первый случай и сухарей, чаю, сахару, копченой колбасы. Обо всем заботились, хлопотали женщины. Иосиф к этому относился равнодушно. Иногда возражал: «Да куда мне столько? На все четыре года все равно не напасешься. Как с такими тяжелыми вещами буду я управляться?»
— Ничего, ничего, Ося, — уговаривала тетя Саша. — До вагона тебя мы проводим, а там друг дружку будете выручать. Не в цепях тебя поведут, слава богу!
На ступенях вокзального здания поджидал конвойный жандарм. Он должен был сопровождать высылаемых до Казани, где формировался этап.
Конвойный широко позевывал, прикрывая ладонью рот. Не выспался. Да и гульнул в компании накануне как следует, отпраздновал ильин день, а теперь смертельно трещала голова.
— Эка, набралось провожающих! Как на кладбище, — ухмыльнулся он.
За подводой пришли все Дубровинские и Пересы. Теперь они снимали с телеги поклажу. Жандарм величественно поглядывал сверху, крутил усы.
— Музыкантов чего же не пригласили? — прикрикнул он с издевкой.
Иосифа так и обожгло. «Ну уж нет, — мелькнула мысль, — глумиться над нами я тебе не позволю».
— Музыкантов, господин жандарм, пригласим, когда вас провожать будем, — сказал он, артистично копируя усмешку конвойного.
Он этим ответом мог бы нажить себе большие неприятности в долгом пути до Казани, если бы у жандарма не так сильно трещала голова и ощущение собственного всемогущества не перевело слова Дубровинского на иной, приятный для него лад. Жандарм крякнул, разгладил усы.
— Недурственно!
И пошел впереди всех, указывая, где им стоять на платформе в ожидании прибытия поезда.
Пересы и Дубровинские разбились на две группы, всяк возле своего.
А разговор не вязался. Все самое нужное давно уже было переговорено. Тетя Саша вздыхала, платочком смахивала невольные слезинки. Братья Иосифа затеяли борьбу между собой. Иногда они становились на рельсы, балансируя распахнутыми руками, пробегали несколько десятков шагов и возвращались. Любовь Леонтьевна, совсем осунувшаяся — ночь она провела не сомкнув глаз, — стояла, не отрывая взгляда от сына. Молчала либо вполголоса повторяла одно:
— Ося, наверно, больше мы с тобой уже не увидимся. Четыре года — это так долго. Я не доживу. Береги себя, мой дорогой!
Иосиф брал ее холодные пальцы в свою ладонь, поглаживал.
— Мама, вы не подсчитывайте дни, не впускайте в душу тоску. Четыре года пройдут — не заметим. А беречь себя я буду, конечно, буду беречь. Жизнь в ссылке — это все-таки не в тюрьме.
— Да, но и не в родном доме.
В разговор вступила тетя Саша.
— Пиши нам чаще, Ося. Пиши, что тебе надо будет прислать в эту проклятую каторгу. Кроме книг, я уж знаю.
— Напишу, все напишу. Но я тоже знаю: вы начнете мне посылать… А не надо. Ничего не надо, тетя Саша, совсем. Только действительно книги одни. Ну, это все мне Семен с Яковом сделают.
— А! «Семен с Яковом»! Будто тетя Саша такая уж дура? Я бы все эти книги пожгла — до чего они доводят, да ладно, пиши, какую надо, — из-под земли достану. И от других посылок тоже не отказывайся. Не знаю, чего мы с Любой положим в них, а уж сердце свое обязательно положим. И еще, — добавила таинственно, — если вторую сверху пуговицу на воротнике рубашки пришью не как все остальные, ты знай: в посылке такое, что, кроме тебя, никому видеть нельзя. А где оно будет, такое, сам уже найди, догадайся.
Часто-часто прозвонил колокол, и потом, отдельно, еще ударил два раза. Это означало, что с соседней станции, с южного направления, вышел поезд. Тот самый, которого ожидали.
Любовь Леонтьевна невольно поднесла руку ко лбу, перекрестилась. Тетя Саша бросилась к вещам, неизвестно зачем передвинула сундучок с места на место.
Теперь и совсем было не до разговоров. Все стояли и смотрели в одну точку, откуда должен появиться пассажирский состав.
Солнце поднималось все выше, слепило, играло золотыми зайчиками на головках накатанных рельсов. Тяжелый мазутный запах стлался над платформой.
И вот вдали показался дымок. Он последовательно превратился в черный комочек, беспрестанно растущий по величине, затем в пошатывающуюся на рельсах из стороны в сторону черную грохочущую машину, в длинную вереницу зеленых, желтых и синих вагонов.
Заскрипели тормоза, лязгнули буфера, и поезд остановился.
Жандарм не рассчитал: арестантский вагон, прицепленный сразу за паровозом, впереди багажного и почтового, оказался далеко. По расписанию поезду было положено стоять сорок минут, но жандарм почему-то вдруг заторопился, ругнул машиниста и приказал взять вещи, быстрее бежать к голове поезда.
— И чего этот вагон туда прицепили? — с досадой сказала тетя Саша, подхватывая узел с постелью. — Не могли поставить рядом, хотя бы вот с этим вагоном второго класса!
— Арестантские ставят всегда самыми первыми, — объяснил всезнающий Яков, вдвоем с братом поднимая перевязанный веревками сундучок. — Если крушение, разобьет — так не жалко.
— Типун тебе на язык! — крикнула тетя Саша.
Из окна арестантского вагона, сквозь продольные прутья решетки, тянулась рука. Маячило знакомое лицо.
— Алексей Яковлевич! — узнал Иосиф.
И на душе у него стало как-то светлее от сознания, что ехать неведомо докуда придется все-таки вместе, втроем.
Семенова метнулась к протянутой руке. Жандарм грубо толкнул ее в плечо.
— Куды? Назвалась груздем — полезай в кузов! Дорогой намилуешься сколько хочешь.
Из вагона на платформу спустился полицейский офицер. Взял у жандарма сопроводительные документы, неторопливо, внимательно прочитал.
— Так-с, политические…
Оглядел новых своих «пассажиров», изобразил на лице иронически-приветливую улыбку.
— Что ж, милости просим, господа! И не обессудьте, что, кроме Никитина, принятого мною в Курске, все остальные спутники ваши до Казани из уголовников. От самого Ростова-на-Дону заскребаем. В вагоне тесновато, но устраивайтесь как сумеете.
Провожающим он не позволил подняться. Семен с Яковом побросали вещи в тамбур. Пересы сделали то же самое. Дорогой разберутся. А жандарм все торопил, подталкивая в спину то одного, то другого.
Короткие рукопожатия. Еще раз обнялись, поцеловались.
— Не грусти, мама! Скоро мы снова увидимся, — успел сказать Иосиф с подножки вагона.
И через минуту показался в окне, располосованном железной решеткой, рядом с Никитиным и Семеновой.
Тетя Саша пыталась снизу кричать: «Ося! Ося! Ты послушай меня!» И подавала какие-то самые важные советы. Иосиф слушал ее невнимательно. Он глядел на мать, совершенно окаменевшую, с маленьким белым платочком, зажатым в зубах, чтобы не разрыдаться. Дали второй звонок. И третий. Мать стояла все такая же совсем неподвижная, будто памятник.
Заверещал кондукторский свисток. Басовито гуднул паровоз. Пробежал буферный переклик по всему составу. И вокзальное здание стало медленно уползать назад. За ним — водогрейка, пакгауз…
Никитин тормошил Иосифа, о чем-то расспрашивал. Иосиф ему отвечал. Иногда по существу, а чаще совсем невпопад. Ему все время виделась мать, поседевшая, с закушенным в зубах платочком.
— Дубровинский! — услышал он голос конвойного жандарма. — А ну сюда!
Орел и дом родной отошли в туманную даль. Недолгий возврат в детство и юность окончился. Теперь он навсегда уже не Ося, и не Иосиф, а только — Дубровинский. Он политический ссыльный, на четыре года лишенный права хотя бы шаг один сделать свободно, без разрешения «подлежащего» начальства. Живи где укажут, работай где позволят. Но думать можешь, впрочем, обо всем, о чем тебе захочется, потому что мысли крамольные хотя тоже запрещены, но проникнуть в них «подлежащему» начальству, увы, никак невозможно. И еще совершенно свободно можешь ты умереть. Это ни в какой степени не возбраняется.
— Дубровинский!
Надо идти. Сейчас этот конвойный жандарм — твое «подлежащее» начальство. А в будущее пока и не пытайся заглядывать.
Но про себя знай и твердо помни: ты революционер и ты должен быть духом силен. Только тогда тебя ничто, никакая злая воля не сломит.
Итак, наберись мужества, решимости, твердости. Не на четыре года — на всю жизнь. С этого часа у тебя пойдет отсчет совсем нового времени. Еще один новый отсчет.
Часть вторая
1
Никому не простится, если даже в нечаянном вскрике душевной боли вырвется о земле слово «проклятая». Никому не простится, как бы тяжко временами на ней ни складывалась жизнь человека. Земля для всех и повсюду щедра и добра. Злой ее делают злые люди.
Разве проклятой была земля сибирская для Василия Пояркова, Ерофея Хабарова и еще многих-многих ватаг первопроходцев, в радостном удивлении двигавшихся на восток? Разве не был безмерно счастлив тот, кто выстроил дом себе на этой земле по доброй своей воле? И разве не стала потом эта ликующая земля действительно злой для тысяч и тысяч политических ссыльных и каторжников?
В Якутию, в Забайкалье, в Сибирь, на север европейской части страны, в просторы Средней Азии, во все дальние концы необъятной Российской империи гнали их по этапу, подчеркивая всячески: ты стремился к свободе — так получай неволю; ты боролся за достоинство человеческое, за права человеческие — так обратись в частицу стада, над которым свистит бич хозяина.
И все равно, в цепях ли бредут эти люди или, устало понурив головы, незакованными вышагивают по тяжким дорогам, идут ли в рудники, на каторгу, на вечное поселение или в административную срочную ссылку, — это лишь различные степени безубийственной казни. А общее для всех ссыльных одно: на той земле, где жить тебе по приказу, — жить изгоем. Жить всегда под бдительным оком стражника, даже если ты не в тюрьме; жить, не переступая черты — одной версты вокруг города или поселка, где определено тебе место; работать, добывать хлеб насущный только силой рук своих, даже если ты болен, если нет сил у тебя для тяжелой работы. Ученость здесь ни к чему, ученость твоя — это только твое несчастье.
Все происходит благопристойно. Царь милостив. И милостивы его министры и прокуроры. Ссылка не виселица. Ссыльному выплачивается даже «содержание» — ровно столько, чтобы на каждый день купить фунт черного хлеба. А на одежду, на обувь и на оплату жилья зарабатывай киркой и лопатой или иным таким же тяжким способом, если вообще добудешь себе работу. Впрочем, надейся еще на родных, если есть они. А нет — уж как хочешь. Так месяц за месяцем и год за годом…
И не каждый пришедший в ссылку сильным и молодым, даже «всего» на три или четыре года, потом вернется отсюда с прежним огоньком в крови. На это и расчет. Истомить, измучить, надломить человека нравственно и физически. А когда человек землю, где живет и за счастье которой борется, в минуту слабости и отчаяния назовет «проклятой» — тогда станет он уже не опасным. Шаг за шагом постепенно отступит, выйдет совсем из борьбы. На это, на это расчет.
Он иногда оправдывается. И подлые и просто слабые люди могут сыскаться везде. Но тот, кто убежден в правоте своего дела, в его справедливости, в благородстве поставленной перед собой цели, — тот вынесет все. Не убоится виселицы, не убоится карцеров и одиночных камер в тюрьме, не убоится тем более ссылки, где все-таки небо открыто и где рядом с тобою товарищи.
Уездный городок Яранск — двести двадцать верст в сторону от губернского города — предстал перед этапной партией ссыльных, в которой оказался Дубровинский, на пятьдесят шестой день пути, включая в этот счет томительно-долгие ожидания в пересыльных тюрьмах Казани и Вятки.
Именно эти ожидания да еще ночевки по дороге в этапных избах были труднее всего. Духота, скученность, грязь, жесткое кольцо отпетых уголовников, возводящих себя над политическими в роль божков, которым все дозволено и которым все должны служить и подчиняться. Уголовники захватывали лучшие места, вынуждая политических ютиться где попало. Нахально отнимали у них полагающиеся порции хлеба, запасы продуктов, взятых из дому. Отнимали силой, осыпая при это еще и градом оскорблений, ругательств.
Дубровинский не мог мириться с этим. Любое насилие, произвол, от кого бы они ни исходили — от тюремного и этапного начальства или от распоясавшихся, иногда поощряемых конвоем уголовных преступников, — вызывали у него решительный протест. Не яростным вскриком, не ответным физическим отпором, для этого он был просто мускульно слаб, — он возвышался всегда над гонителями чувством несгибаемого достоинства. И тихие, спокойные, но мужественно и твердо сказанные им слова, исполненные веры в справедливость того, что он защищает, оказывались более действенными, чем несдержанный гнев или бессильные слезы товарищей, попавших в такое же, как у него, положение.
Было раз. В пересыльной казанской тюрьме ждали баржу, на которой плыть вверх по Каме, по Вятке, а потом передвигаться неизвестно каким способом и куда. Ходили всякие слухи. Тревожные слухи. Люди нервничали. К тому же наступила полоса невыносимо знойных дней, в переполненных общих камерах было настолько душно, что заключенные теряли сознание. А прогулки на свежем воздухе разрешались все равно по общему правилу — тридцать минут.
Начался ропот. Группа политических ссыльных потребовала, чтобы их выслушал сам губернатор, поскольку переговоры с начальником тюрьмы не увенчались успехом. Явился губернский прокурор. Надменно выслушал претензии заключенных, высказанные бурно и беспорядочно. В особенности бушевали уголовники, свистели, показывали кулаки. Прокурор стоял неподвижно. Выждав, когда крики немного утихли, процедил сквозь зубы что-то насчет невозможности нарушения установленных правил, пообещал наступление в скором времени прохладной погоды и повернулся, чтобы уйти.
Тогда вперед выдвинулся Дубровинский, очень спокойно и в то же время властно проговорил: «Нет, господин прокурор, подождите!» Тот в замешательстве остановился. И Дубровинский, сохраняя свой ровный тон, заново высказал прокурору все требования. Коротко, доказательно. Он подчеркнул, что, конечно, во власти правительства уморить голодом или отравить духотой своих политических противников, однако посягать при этом еще и на достоинство человеческое никому не может быть дозволено. Губернатор вместо себя прислал прокурора, но господин прокурор, оказывается, вместо блюстителя закона предстал здесь глухонемым и жестоким в своих издевательствах стражником. От имени группы политических он, Дубровинский, настаивает на извинениях. А остальное и главное — отказ принять нужные меры — пусть ляжет камнем на прокурорскую совесть. Она, видимо, все сможет выдержать…
Воцарилась мертвая тишина. Прокурор стоял, кривя губы и сверля недобрым взглядом Дубровинского. Казалось, вот сейчас грянет буря. Но вдруг прокурор отвел глаза в сторону, невнятно бормотнул: «Виноват, прошу прощения…» — и вышел. А со следующего дня прогулки на свежем воздухе всем заключенным увеличили на целый час.
В другой раз, уже на самом тяжком пешем пути от Вятки до Яранска, случилось такое. Вторые сутки лил сентябрьский обложной дождь. Проселочная дорога раскисла настолько, что колеса подвод, везущих поклажу, утопали в вязкой глине по самые ступицы. Люди брели, едва переставляя ноги, облепленные пудовыми комьями грязи. Насквозь промокшая одежда противно обтягивала плечи, пот разъедал все тело, от крайней усталости слипались глаза, временами хотелось упасть, свалиться прямо на дорогу в холодную жижу, только бы не тащиться так без конца под косым, секущим дождем. До этапной избы добрались в глубоких сумерках. Конвойные, тоже закоченевшие на ветру, торопливо сделали перекличку, гаркнули: «На ночлег!» В дверях началась давка, драка, всяк стремился захватить себе уголок потеплее. На нарах обычно мест не хватало, вступившим в избу позже других спать приходилось на грязном полу, у порога, либо сидя, прислонившись спиной к стене. Такая доля выпадала всегда политическим.
Началась привычная потасовка. С той лишь разницей, что в этой избе мест на нарах, если потесниться, было все же достаточно и злобствования уголовников имели одну совершенно ясную цель: доказать свою власть и силу. Среди политических было несколько человек простуженных, с тяжким кашлем и температурой. Перемогался и сам Дубровинский. Он выждал, когда перекипят наиболее жаркие страсти, а потом поднял руку и объявил: «Сегодня всем разместиться на нарах. Не хватает только одного места. На полу спать буду я». Уголовники захохотали, раздался свист. Дубровинский побледнел, но с прежним спокойствием закончил: «Кто с этим не согласен, пусть подойдет и избивает сколько хочет меня. А других — никого не трогать».
Смех оборвался. Вожак уголовников медленно сполз с нар, так же медленно приблизился к Дубровинскому. И все замерли. Вожак оскалил зубы в широкой, деланной улыбке. «Хе-ге! Хе-ге! — сказал, натужно похохатывая: —А ты, политик, не дурак! Люблю ловкое слово. Ч-черт! Ударить тебя, говоришь? А ведь ударю — на рогожке вынесут!.. Ну, будь по-твоему…»
И скомандовал своим, чтобы потеснились.
Пятьдесят шесть дней, проведенных на этапе, Дубровинского многому научили, открыли мир с новой стороны. Эти пятьдесят шесть дней помогли на деле понять, что такое взаимная выручка.
В Яранск пришли под вечер. Моросил дождь. Одежда промокла, ботинки от долгого хлюпанья по жидкой грязи словно распухли. Конвойные подбадривали: «Подтянись! Шагай веселее! Конец этапу». Кто-то устало, хрипло спросил: «А где ночевать будем?» Ответа не последовало. Чего отвечать, известно: у тюремного здания примут, запишут в книгу, а после того устраивайся как сумеешь… Деньги лишние есть, пожалуйста, номер в гостинице можно снять. Туговато с деньжонками — походи по улицам — в окнах пестреют объявления о сдаче комнат внаем. Ну, а совсем если пусто в кармане, что ж, от щедрот царских могут несколько дней подержать и в тюрьме…
Дубровинского донимал частый кашель. Он схватил простуду еще на реке в продуваемой всеми ветрами барже. Дождливый путь от Вятки до Яранска совсем его доконал. В горле першило, слезились глаза. И было вовсе безразлично, где ночевать — только бы поскорее лечь и согреться.
Яранск не сулил ничего веселого. Во всяком случае, уж первое-то время здесь ожидало одиночество. В Вятке политических ссыльных распасовали по самым глухим местам губернии. Семенову и Никитина, наиболее близких его друзей, отправили куда-то еще дальше на север. Устало оглядывал Дубровинский почерневшие от сырости плотные заборы, ворота, прокованные железом, витые кольца калиточных щеколд, на которых зависали грузные дождевые капли.
Дома в Яранске, даже на окраине, были крепкой, добротной постройки, из лиственницы либо кондовой сосны, крыты широким тесом, с затейливыми резными коньками. Мастера особо поработали над наличниками, превратив их в дивное деревянное кружево. Где же еще, как не в вятском лесном краю, разгуляться плотницкой рабочей руке! Да, дома хороши. Тепло, сухо за этими крепкими стенами. И нет никому дела до измученных, голодных людей, трудно вышагивающих за скрипучими подводами. Нет никому до них дела. А ведь эти люди прибыли сюда не по доброй воле своей — в наказание. И в наказание как раз за то, что они добиваются правды, свободы и справедливости для всего народа, значит, и для тех, кто сейчас, откинув ситцевые занавески, с холодным бесстрастием рассматривает очередной арестантский этап.
Последние сотни шагов всегда самые трудные.
Ноги у Дубровинского подламывались.
Но что это? Вдалеке, на свороте к тюремному зданию, заняв середину улицы — толпа народа. Не так большая, а все же — толпа. Мужчины, женщины, детишки стоят, не обращая внимания на моросящий дождь. Кто под зонтиком, кто накинув холщовый мешок на голову, а остальные и вовсе не защищенные ничем.
Арестанты встрепенулись. Конвойные заворчали: для них это помеха, затянется процедура сдачи этапа, а жрать хочется нестерпимо.
Действительно, тут же подводы сгрудились, остановились, и, оттесняя встречающих, конвойным пришлось пустить в ход приклады.
— Эй, разойдись! Р-разойдись!
На тычки, на их окрики никто не обращал внимания. Дубровинский глядел растерянно: что означает это скопление народа? Неужели вправду встречают этап? Кто? Почему?
Он видел совершенно незнакомые лица, однако согретые мягкими, участливыми улыбками. И весь говорок людской вокруг него был тоже радушным и доброжелательным. Женщина с холщовым мешком на голове и плетеной корзиной, вздетой на руку, приблизилась к нему, откинула уголок клеенки, которой была прикрыта корзина.
— На-ко, парниш, угостись! — И протянула еще теплый, вкусно пахнущий луком пирог. — Изголодался, поди, за дорогу-то?
Дубровинский поблагодарил женщину, тут же смешавшуюся с толпой, и стал медленно жевать, чувствуя, как горячий ток крови сразу побежал по телу.
— Иосиф Федорович? Ба!
— Леонид Петрович! Вот не думал…
Радин был совершенно такой, каким его Дубровинский впервые увидел на конспиративной квартире в Хамовниках. Даже, казалось, и в том же самом пиджачке, видневшемся из полураспахнутого пальто. Может быть, только острая бородка стала погуще и подлиннее да как-то больше лохматились волосы.
— Мир тесен, Иосиф Федорович! — весело заметил Радин, вытаскивая Дубровинского за рукав из толпы. — И это еще не самое плохое место для нашей встречи. Погода, кстати, тоже сегодня не самая скверная.
— На мой взгляд, отвратительная. Я так измучен.
— Те-те-те! В этом вся и штука. Точно такое испытывал и я в прошлом году. А теперь, — Радин долго и надсадно закашлялся, — теперь, как видите, освоился. И бодр, свеж!
— Вижу, что вы очень больны. Похудали…
— Иосиф Федорович, сейчас вам самое главное — побыстрее оформиться, чтобы иметь право удалиться от этих малоприятных штыков и столь же малоприятного общества уголовников. В этом деле у меня уже есть некоторый опыт. Позвольте! Позвольте, господа! — вскрикнул Радин.
И снова потащил Дубровинского за собой. На этот раз в гущу раздраженно и нетерпеливо гудящей толпы арестантов, сгрудившейся у входа в тюремную канцелярию.
2
Он лежал на постели, разморенный влажным теплом хорошо натопленного дома. Где-то за переборкой шла стирка белья. Пахло щелоком, булькала кипящая вода, изредка погромыхивало железное корыто. Доносились голоса. Самодовольный, требовательный — мужской и донельзя усталый — женский.
— Знала бы, на какую каторгу попаду, — с тяжелым придыханием говорила женщина, жамкая в корыте урчащее под ее руками белье, — знала бы это, ну, Пе́тра, в жисть бы замуж за тебя не пошла.
— А за кого другого?
— Да и ни за кого! Все вы, мужики, одним миром мазаны. Вот стоишь над душой, глядишь, как баба из себя жилы тянет, соленым потом облитая, а нет чтобы хучь чем-то помочь. Истинная каторга!
— Ето, Праскева, один разговор. Обнаковенный разговор, на пользу бедным. Каторги ты не знаешь, какая она, настоящая. Туда в цепях гонют. А ты чуть — и хвост трубой, по соседкам.
— Горе свое выплакать! На каких трудах, на чьих руках дом, хозяйство держится? Не на моих?
— Ето ладно, ето, Праскева, опеть-таки все разговоры. Не мине же над корытом стоять, потом помои выплескивать или куриц щупать, поросятам месиво выносить!
— Руки бы не отсохли, Пе́тра, и на таком деле. Ты вот стоишь, обеда требоваишь. А с чего я сготовлю его и в какой час, ежели от корыта не могу оторваться? Ты об этом хотя подумал?
— Все разговоры, Праскева, все разговоры! Не закиснет твое белье…
— Кабы мое, кабы наше! Чужое. На постирушки взятое.
— Ето дела не меняет. Просто вожжа тебе под хвост попала, вот и понесла ты, не остановишь. Ну, не будет дома обеда — в трактир пойду. С голоду мне околевать, что ли? В трактире по крайности еще и стопочку опрокинуть можно…
Железное корыто глухо громыхнуло, в нем бурливо всплеснулась вода и — раз, раз! — две мокрые, звонкие пощечины, а затем наступила короткая, напряженная тишина.
Она сломалась, прежде чем Дубровинский успел вскочить с постели и выбежать за переборку. Пе́тра уже бушевал вовсю. Тузил кулаками куда ни попало Праскеву, а та, с растрепанными волосами, высоко подоткнутым подолом юбки, извивалась, стремясь укрыть голову от сыплющихся на нее частых, сильных ударов.
— Ай, боженька, ты боженька мой! Спасите! Убивают! — голосила отчаянно.
Корыто свалилось с табуреток, на которых стояло до этого, перевернулось набок, мыльная вода разлилась по полу. Пе́тра, не глядя, топтался по мокрому белью.
— Остановитесь! Что вы делаете? — закричал Дубровинский. — Разве так можно!
Пе́тра обернулся. Широкоплечий, с курчавящейся рыжей бородкой и плутовато вздернутым носом, он не выглядел звероватым, как представился было Дубровинскому только по голосу. Праскева, всхлипывая, дрожащими руками подбирала с полу испачканное, затоптанное белье. Дубровинский поднял, поставил на место корыто.
— Друзья мои, что же это такое?
Он был в замешательстве. Вчера его сюда привел Леонид Петрович Радин. Он же и договаривался с хозяевами об условиях найма угла, заказывал ужин. Есть хотелось и не хотелось — морил сон и безмерная, тяжелая усталость в ногах. Скорее бы лечь, блаженно вытянуться на постели. Лица сидящих за столом расплывались, словно в тумане. Вот, оказывается, квартирка. Ну, удружил Леонид Петрович!
— Вот что, господин политик, — строго сказал Пе́тра, сложив на груди руки и заносчиво приподняв подбородок, — знаешь поговорку: две собаки дерутся — третья не лезь?
— Здесь не собаки дерутся, а муж бьет свою жену, — возразил Дубровинский. — Я не вмешиваюсь в вашу личную жизнь, но всеми силами души протестую против рукоприкладства.
— За эти разные протесты вашего брата сюда либо в каторгу и посылают, — уже с легкой ноткой торжества отрезал Пе́тра. — Нами ты не командовай. Бил бабу свою и, когда надо, опеть-таки бить стану. Тем более: не я первый в сей раз, а она руку на меня занесла! Куды это? Напросился ты к нам на постой — живи. Только так: ты — свое, мы — свое.
Сдернул с деревянного гвоздя картуз, натянул на голову, торопливо надел залощенный нагольный полушубок и вышел, свирепо хлопнув дверью. Праскева тряпкой вытирала пол, выкручивала ее над поганым ведром. Тихо вздыхала. И все стеснительно отворачивалась. Под глазом у нее всплывал багровый кровоподтек.
— Чего вытаращились? — вдруг недовольно спросила она. И как была, с растрепанными, падающими на полуобнаженную грудь волосами, в подоткнутой спереди мокрой юбке, подступила к Дубровинскому. — Не видали такого? Ну вот, поглядите.
— Всякое видел я, — тихо отозвался Дубровинский. — Мне вас сделалось жаль. Извините мое вмешательство.
— Дак чего теперьча извинять, — устало отмахнулась Праскева.
И Дубровинский заметил, как перевиты толстыми синими венами ее не по-женски сухие, жилистые руки. А сама она еще совсем молода. Вряд ли ей больше чем тридцать лет.
— Чего извинять? — повторила Праскева. — Все равно теперьча Пе́тра напьется. А так, бывает, я и сдержала бы его при себе.
— Дорогая цена, — сказал Дубровинский.
— А чего нонче дешево? — невесело усмехнулась Праскева. — За семью, чтобы сберечь ее, за всякой ценой не постоишь. К тому еще Пе́тра — мужик из ряду хороший. А у меня от его двое робят.
«Не хочет сор из избы выносить», — подумал Дубровинский.
— Еще раз простите меня, — вслух сказал он. — И назовите, пожалуйста, мне свое отчество. Вчера я был до того измучен, что решительно ничего не запомнил.
Праскева, не сводя глаз с Дубровинского, провела руками по бедрам, вскрикнула тихо: «Ах-ти, мамонька моя!» — и стала торопливо расправлять, обдергивать юбку, отмахивать падающие на лицо волосы.
— По батюшке я Игнатьевна. Да чего меня навеличивать? Праскева я и есть Праскева.
Она отошла к плите, принялась узкой деревянной лопаткой перемешивать урчащее в огромном чугуне белье. Клубы душного серого пара взметнулись под потолок. Струйки пота текли у нее по щекам.
— Вы все виноватитесь, извиняетесь, — заговорила опять Праскева. — А не надо этого. Ну было — было. Только наперед чтобы знали вы: живем мы с Пе́трой моим дружно. Как жизнь нас повязала. А случаем переругнемся либо до рук дело дойдет, не меня Пе́тра бьет — нужду нашу бьет. И зла за это я на него не таю.
— Прасковья Игнатьевна, понимаю вас, — сказал Дубровинский. — Но, право же, истина была на вашей стороне.
— А кака така моя истина! — воскликнула Праскева. — Истина та, что работы для мужиков в нашем городе нет. Одна винокурня, вся и работа. А желающих числа нету. Да не приведи бог на эвтом заводе работать. Так еще пьют не пьют мужики, а на винокурне с одного воздуху уже пьяные. Вот и пробивается Пе́тра поденщиной, у кого забор повалился — поднять, кому колодец вырыть, кому сажень дров испилить, наколоть. На село переехать думали. Так в наших краях и совсем голодуха. Вот и развела курей, поросят. Барду наладилась брать в винокурне, за это для начальства бельишко стираю, по субботам хожу полы мыть. На моих заботах дом только и держится. Взвою, бывает, на Пе́тру — лодырь! А он и не лодырь, ежели была бы настоящая мужская работа.
— Не зазорно и по дому бы вам помочь, — припоминая начало размолвки Праскевы со своим мужем, сказал Дубровинский.
Ему хотелось поддержать эту женщину нравственно. Пусть почувствует, что горечь ее небезосновательна. Но Праскева, суетливо вытаскивая из чугуна истекающее горячим паром белье и складывая его в корыто, лишь отрицательно покачала головой.
— Одни разговоры, — повторяя интонации мужа, сказала она, — это одни разговоры. От таких вот, как вы, политиков ссыльных пошли. А мужчина быть должон мужчиной, баба — бабой. Им — пить, нам — выть!
— Нерадостную картину жизни вы, Прасковья Игнатьевна, рисуете, — несколько сбитый с толку, заметил Дубровинский. И подбежал, видя, как Праскева натуживается, чтобы опрокинуть большую деревянную шайку с водой в освободившийся чугун. — Позвольте, я помогу!
Она засмеялась, потеснилась у плиты, давая место Дубровинскому: «Ну, ну!» Дождалась, когда он поставит пустую шайку на пол.
— А чего же не радостную? — спросила она. — Каждый час от жизни радости и не требовай. А бывает денек или там ночь — с Пе́трой… Это как позабудешь? Греет. Вот вы, политики, о радостях все говорите. Ну, а где она, в чем ваша-то радость? Кандалы, тюрьмы, не то в ссылках по чужим углам, от семей своих оторванные. С чего нам, чтобы в зависть, пример брать?
— Тяжело, глухо народу живется? Сами же так говорите, Прасковья Игнатьевна! И кто-то должен первым вступить в борьбу со злом. Завидовать в судьбе нашей сейчас нечему. Завидовать станут внуки.
— Это мы все понимаем, — сказала Праскева и осторожно попробовала рукой белье в корыте, не горячее ли, — все понимаем. Потому и углы в доме политикам сдаем. Не корысти ради. Хотя себе какая копейка тоже не помешает, знаем, и у вас ее лишней нет. Но скажите вы мне: вы женатые?
— Нет, — с некоторым замешательством ответил Дубровинский, — нет и не буду, не могу я жениться. Революционер обязан целиком посвятить себя одному делу. А семья связывает.
— И за барышнями даже не ухаживали? — с какой-то особой настойчивостью спросила Праскева.
Дубровинский слегка поморщился. Покоробило само сочетание слов «барышня» — «ухаживание» да и оттенок, как ему показалось, чисто бабьего любопытства в вопросе Праскевы.
— Не ухаживал, — жестко сказал он.
— Ну тогда всей жизни сполна вы тоже не понимаете, — вздохнула Праскева. — Ни той, какая есть, ни той, за которую в тюрьмы да в ссылки идете. Призадумайтесь все-таки, унеситесь мыслью ко внукам, о которых говорите. Завидовать за муки ваши станут, конечно. А за любовь при этом беззаветную — вдвойне бы позавидовали.
И принялась длинным посылом руки вдоль корыта намыливать всплывающее в горячей воде белье.
Дубровинский вернулся за переборку в свой уголок. Прилег на постель. Все еще ныли в суставах натруженные ноги и теснило, тупой болью сдавливало грудь — трудно сделать глубокий вдох. Продуло, должно быть. На барже — сырой речной ветер, прохватывающий насквозь, а укрыться от него некуда. По плечам то и дело хлестали косые ледяные дожди, временами перемежаясь со снежной крупой… Мелкая дрожь пробежала по телу. Он усмехнулся. Ишь ты, от одних воспоминаний и то делается зябко. После всего, что было, какая же благодать этот Яранск с его теплым уголком в доме, где можно хоть день целый нежиться на мягкой постели!
«А потом что? — почти вслух спросил Дубровинский. — Долго ли могу я позволять себе такое безделье? И если не бездельничать, чем здесь заниматься? Читать! Наверно, в местной библиотеке хоть что-нибудь да найдется. Напишу и домой насчет нужных книг. Только ведь мама и тетя Саша тогда, конечно, и денег пошлют. Знают, что на рубль двадцать казенного пособия месяц не прокормишься. А это уже не годится, я должен на жизнь сам зарабатывать. Но где, каким образом?»
Припомнился недавний разговор с хозяйкой дома. Поступить на постоянную работу здесь невозможно, а ссыльным разрешается заниматься только физическим трудом. Придется вместе с Пе́трой колодцы копать, если только он возьмет в напарники. Но ведь с тяжелой работой ему никак не сладить. Словно бы надломился он на долгом этапном пути. Хорошо хоть, голова работает с достаточной ясностью. Поискать, нельзя ли давать уроки немецкого языка, математики частным образом? Впрочем, это тоже, кажется, запрещено…
Дрема стала одолевать Дубровинского. Убаюкивало слабое, однообразное похлюпывание белья под проворными руками Праскевы, ее свистящее придыхание, перезвон капель, падающих в пустое ведро. Теплый щелочной запах слегка щекотал в носу, но это было даже приятно.
Заснуть, однако, не пришлось. Явился Радин. Ероша густые черные волосы, крупными прядями спускающиеся на лоб, и поблескивая из-под нависших бровей живыми, ищущими глазами, он подсел к кровати.
— Ну и как вам на новоселье, Иосиф Федорович? Первые ваши яранские впечатления? — спросил, расчесывая пальцами свою длинную окладистую бороду.
— Первые впечатления самые хорошие: я снова вместе с друзьями. А это — главное. — Дубровинский попробовал подняться, сесть на постели. Радин тут же толкнул его на подушки.
— Лежите, лежите! Представляю, как у вас ноги ломит сейчас. Сам год назад проделал точно такой же путь. И видите, как я сдал?.. А что касается друзей, чинов полицейских для надзора не хватит, если реденько нас расселять.
— Так можно легко и сбежать отсюда? — встрепенулся Дубровинский.
— Ну, как вам сказать?.. Вообще-то, разумеется, можно. Если есть к тому решительная надобность. Однако учтите, сбежать легко, но не трудно быть и пойманным, а тогда — водворенным для отбытия увеличенного срока куда-нибудь и похуже, чем этот хилый Яранск. Во всяком случае, Владимир Ульянов, а он нам во многом пример, терпеливо — вернее, нетерпеливо — отбывает ссылку в Сибири, не стремясь к побегу. Таков сейчас исторический кусочек времени. Надо собраться с силами, теоретически вооружиться, будучи у властей на виду. А затем уже снова в подполье. В хорошо подготовленное, надежное, крепкое.
— Пожалуй, вы правы, Леонид Петрович, — задумчиво сказал Дубровинский, — наша неумелость больше всего нам мешает. Провал за провалом. Охранка словно сквозь стекло видит. А мы полагаем, что прикрыты непроницаемой броней.
— Могу похвалиться, — Радин с шутливой торжественностью поднял руку, — когда сам неповторимый Зубатов делал у меня обыск, тайника, сооруженного мной в русской печке, он не нашел. А там хранилось самое опасное. Быть бы мне тогда не в Яранске — подальше и посквернее, да и не на два бы года сослали, а по меньшей мере на пять.
Дубровинский смотрел на Радина восхищенно. Точит его, неумолимо точит чахотка, все ее грозные признаки налицо, но человек не сдается.
— Вы замечательный выдумщик, Леонид Петрович, — сказал Дубровинский, все-таки усаживаясь на постели с подушками за спиной. Было неловко лежать при госте. — Помню историю, как вы эдисоновский мимеограф по памяти воплотили в металл. По сути дела, заново изобрели.
— Люблю прикладные науки. Вы, может быть, и не знаете, а я ведь еще при отце был, так сказать, совладельцем винокуренного завода. Досконально изучил технологию приготовления проклятого напитка, коего, кстати, по убеждениям своим, даже в рот не беру. Но кандидатом естественных наук стал, между прочим, обратившись именно к проблемам винокурения. Что поделаешь: сам процесс преобразования одного продукта в другой был с детства знаком и казался мне весьма любопытным. Аспект чисто технический. Но вот вам аспект социальный. Дрожжи и крахмал со всех точек зрения полезнейшие для людей продукты. А их дитя — алкоголь — страшный яд. Увы, не со всех точек зрения. Господствует чудовищная, ложная доктрина: «Веселие Руси есть питие». И выдается эта доктрина за глубоко народную. Разве нет здесь предмета для серьезнейших социальных обобщений и решительного опровержения безобразнейшего поклепа на русский народ? Да, Иосиф Федорович, рабочая, трудовая Русь пьет. Но — «веселие»? Скорее, не тоска ли это от бесправия и беспроглядности существования?
— Именно так, — подтвердил Дубровинский.
— Социальный прогресс и пьянство несовместимы. Очевидно, когда установится справедливый общественный строй, нам — доживем если? Доживем! — придется непременно вступить в беспощадную борьбу и с этим давним и сильным врагом. Но — виноват! — Радин хлопнул себя ладонями по коленям и поднялся. — Вижу, дорогой Иосиф Федорович, вам никак не лежится. Что ж, давайте побродим немного по свежему воздуху. Дождь, ради прибытия вашего, прекратился. Однако грязища в городе потрясающая. Но как раз за углом этого дома начинается узкий переулочек, по которому на телеге проехать невозможно, а пешим, да если в галошах, грязь не страшна. Надеюсь, среди ваших вещей, взятых в ссылку, галоши имеются?
— Конечно, Леонид Петрович! Тетя Саша пыталась всунуть мне в сундучок даже две пары.
— И зря вы отказались, Иосиф Федорович, от второй пары. В здешней знаменитой глине, особенно ночью, очень просто оставить не только галоши, но и штиблеты. Ноги повыдерг…
Он закашлялся. Долго, надсадно, так, что на глазах выступили слезы. Кашлял и все хватался за грудь, а другой, свободной рукой шарил по карманам, искал носовой платок. Нашел, поднес к губам, и, когда кашель утих наконец, вздохнул облегченно. А глянув на платок, недовольно покачал головой. Пробормотал невнятно несколько слов. Дубровинский догадался: увидел кровь. Он хотел ободрить Леонида Петровича и вдруг тоже закашлялся. Судорожно, короткими, болезненными толчками, идущими, казалось, из самой глубины легких, где что-то словно бы обрывалось. В глазах Радина отразился испуг.
— Иосиф Федорович, миленький, а вы что же это?
— Нет, нет, — силясь сдержать кашель и добиваясь этого, ответил Дубровинский, — нет, Леонид Петрович, я совершенно здоров. Это, знаете… смешно сказать — из своеобразной солидарности, что ли. Один зевнет, и другой его примеру следует. Один кашлянет, и другому захочется…
— Н-да, один полагает: это все пустяки, другой из солидарности — тоже. Будем считать пустяками. Как условились, пойдемте на свежий воздух. Но бога ради прошу: замотайте себе шею все-таки чем-нибудь теплым. Вы так еще молоды!
— Хорошо, замотаю.
Радин выпрямился, плавными движениями обеих рук расправил бороду, продекламировал вдохновенно:
Не будь ты флейтой мягкой, нежной И идиллической душой, Но будь трубой и барабаном, Осадной пушкою, тараном, Труби, греми, как вихрь мятежный! Труби, греми, не унимайся, Пока есть хоть один тиран.Постоял, закрыв глаза, словно бы вслушиваясь в грохот далекого, походного барабана.
— Люблю. Тоже слабость моя: люблю хорошие стихи!
— Это из Гейне? — неуверенно спросил Дубровинский.
— Из Гейне! Друг мой, оказывается, и в этом с вами мы солидарны. Тогда послушайте еще:
Где ж смена? Кровь течет, слабеет тело… Один упал — другие подходи! Но я не побежден: оружье цело, Лишь сердце порвалось в моей груди.— Да… еще «оружье цело, лишь сердце порвалось в моей груди», — повторил Дубровинский. — Великолепно! А на родном языке поэта звучит, пожалуй, сильнее.
— Ба! Вы знаете немецкий?
— Не стану хвалиться, но, кажется, и читаю и говорю совершенно свободно. Таганская тюрьма выучила.
— О, это отличный университет! Послушайте, Иосиф Федорович, а нельзя ли нам заняться совместно переводами? Помимо всего прочего, это ведь и некоторый заработок, столь нужный здесь.
— Буду рад такому сотрудничеству! Завтра же напишу домой, чтобы прислали интересные оригиналы. Думаю, и Корнатовская в этом деле поможет. От нее я в Орле кое-что очень существенное получал.
— Удивительная женщина! — сказал Радин. — После кончины моей милой Наденьки мне казалось, что солнце погасло и что других женщин в мире вообще больше не существует. Нет, я никогда не изменю ее светлой памяти, но простите мою сентиментальность, Иосиф Федорович, иногда я думаю, как это вытекает из индийских верований: не переместилась ли душа Наденьки? Не предстает ли она вновь в этом мире в образе сразу двух женщин: Марии Николаевны Корнатовской и Анны Егоровны Серебряковой? В них обеих я влюблен безгранично. Разумеется, любовь совсем не то слово, но не могу сразу найти другое, более точное. Обожание?.. Преклонение?.. Нет, опять не то. Это совсем уже из категории пошлых, мещанских слов. Если бы я был религиозен, я сказал бы: «Мои ангелы-хранители. Добрые гении». М-м, опять пошлость. Талисманы?.. Нет! Отказываюсь искать определения. Пусть они будут просто — женщины. Но в этом слове все буквы большие, заглавные! Идемте гулять. И напишите Марии Николаевне. А я напишу Анне Егоровне.
3
Они стали встречаться ежедневно. Чаще на квартире Радина. Его комната на втором этаже крепкого деревянного дома была и посветлее и попросторнее. Вместе с Радиным жил и еще один ссыльный, носивший партийную кличку Конарский, неохотно называвший даже друзьям своим истинную фамилию — Мошинский.
Так повелось уже, что Радин работал всю ночь напролет, ложился, когда поднималось солнце, и потом спал до обеда, позднего обеда. Просыпался вялый, разбитый, тянулся к пачке папирос, курил, редко, но глубоко затягиваясь. Его сотрясал тяжелый кашель. Конарский спускался вниз и приносил Леониду Петровичу стакан крепкого чая.
— Ах, спасибо, спасибо, дорогой, за ваши заботы! — говорил Радин. — Это так чудесно: выпить горячего чая.
Жадно делал несколько глотков, тут же хватался опять за папиросы, и пепел сыпался прямо в стакан. Радин не замечал этого. Откинувшись на спину, он наблюдал, как голубые струйки табачного дыма медленно поднимаются к потолку и там исчезают. Конарский сердился:
— Леонид Петрович, ну что вы находите хорошего в изнуряющей вас ночной работе! Это же совершенно противоестественно. Вы даже белого света совсем не видите. Разве тусклый огонек керосиновой лампы может заменить солнце? Поберегите себя…
— Я берегу себя, — кротко отзывался Радин. — Видите, спокойно лежу на спине. Думаю. Курю, пью чай. А относительно солнечного света… Да, это, конечно… А знаете ли вы, что хорошо работается только ночью, когда кругом лежит торжественная тишина? И желтый огонек лампы словно бы притягивает к себе, фокусирует мои мысли. Понимаете, ночью я превращаюсь в некую таинственную лабораторию, где подспудно накопленное за день вдруг стремительно обретает ясные, четкие формы. Руке моей остается только записывать. Это же очень рационально!
— Слишком сложно, Леонид Петрович! До меня никак не доходит.
— Тогда могу проще. Привычка. Если угодно: дурацкая привычка. Но, как известно, привычка — вторая натура. А натура — это, собственно, и есть сам человек. Стало быть, снова все в мою пользу.
— Вы нездоровы, Леонид Петрович, вам необходимо как можно больше находиться на свежем воздухе.
— Готов. Сейчас оденусь и пойду. Кроме того, я выхожу и ночью, когда вы спите. Между прочим, звездное небо наблюдать можно только ночью. Вы его совершенно не видите. А я вижу. Звезды тоже превосходный питательный источник для мыслей. Вы никогда не задумывались о том, что свет далеких звезд доходит к нам отнюдь не по вульгарной «прямой» линии?
— Не было надобности!
— А у меня была надобность, — вяло завершал разговор Радин. — Совершенно такая же необходимость, как потребность переводить на русский язык до зарезу нужные делу революции работы Маркса и Энгельса.
Дубровинский часто заставал их за подобными спорами. И сам немедленно вступал в спор. Он колебался: какой ему выбрать тон? Уступчивый по отношению к Леониду Петровичу? Сознавая при этом, что Радин во многом неправ. Бранить, разговаривать требовательно? Но Леонид Петрович намного старше его и по возрасту и по житейскому опыту. Да что там: он учитель, наставник! Приходилось искать середину.
Это удавалось. Как удавалось и гасить бесконечные споры совсем другого характера — распри между хозяевами дома, в котором он жил, Петром и Прасковьей Игнатьевной.
Он органически не мог терпеть несогласия между людьми. И досадовал, когда обе стороны в главном бывали правы и единомышленны, а из-за чего-то второстепенного расходились непримиримо.
В один из октябрьских дней, когда первые морозы сковали землю, раскисшую от затяжных осенних дождей, а выпавший обильный снег все словно высветлил, Дубровинский под вечер, ликуя, возвращался с почты. Пришла увесистая посылка. И, как он понял, от Корнатовской. Не было никаких признаков, что посылка подвергалась полицейскому досмотру. Стало быть, в ней наверняка содержатся самые желанные книги.
С ящиком под мышкой он примчался прямо к Радину. Вошел раскрасневшийся от мороза, запыхавшийся — что-то на быстрой ходьбе стала одолевать одышка — и торжественно поставил посылку на стол. Конарского дома не было.
— Леонид Петрович! — закричал Дубровинский. — Какая радость! Подарок от Марии Николаевны. Книги! Книги!
Радин сидел, свесив с постели ноги, обутые в домашние туфли. Непричесанный, по-видимому, недавно лишь проснувшийся. Зевнул широко и долго. Погрозил Дубровинскому пальцем.
— Не гордитесь, Иосиф Федорович! — сказал с хитринкой. — Мне сегодняшняя почта тоже кое-что доставила.
— И вам посылку?
— Письмо. Только письмо. Но от кого? От Анны Егоровны! Садитесь. Слушайте… — Он извлек из-под подушки синий конверт, подержал на ладони, как бы взвешивая и давая тем самым Дубровинскому понять, чего это письмо стоит. — Я читаю. «Несравненный друг мой, Леонид Петрович! Как всегда, безмерно обрадовалась получению от Вас весточки. Знаю, Вы неустанно в работе, знаю, ни единого часа в жизни своей не потратите бесполезно. Только на пользу народу, только на пользу общему делу. И дай Вам бог! Вы сейчас далеко. Да и многие, очень многие из добрых Ваших друзей растеклись по всему белу свету. Но ведь свято место пусто не бывает. Так говорят. Правда, с издевочкой и не к данному случаю. А я бы хотела выговорить эти слова возвышенно и как раз к данному случаю. Ненавижу пустоту! И не бывать никогда пустоте, поколе живут на земле такие люди, как Вы, золотой мой Леонид Петрович. Только берегите себя, бога ради, берегите! Вы мне написали бодрое и радостное письмо. А я, извините, женским сердцем своим почувствовала, что это не совсем так — слишком уж много радости и бодрости. Я сейчас здесь пытаюсь сделать все, чтобы помочь Вам перебраться на юг. Верю, он Вас исцелит и вернет к нам совершенно здоровым. Грустно только, что, по сути дела, я осталась одна, несчастная сестра милосердия. Слава богу, со мной еще Машенька! Мы с ней вместе читали Ваше письмо и письмо Вашего — да и нашего — молодого друга. Читали и, не скрою, не раз подносили к глазам платочки. Вы же знаете, мы обе не слезливые, из нас слезу палкой не выколотишь, но это когда палкой бьют. А так — можно чувствам своим и волю дать. Вашу просьбу пустячную мы с Машенькой охотно и немедленно выполним: ах, оказывается, Вы какой франт, как внимательно за модой следите! Перешитые вещицы обратно присылайте, сбыть их можно. Так ведь много еще людей нуждающихся! Им они пригодятся. Прощайте, дорогой мой, прощайте и — до свидания! От всей любящей души позвольте Вас обнять. Всегда Ваша — А. С.». И приписочка: «Какова погода у Вас? Над нами небо темное, мрачное, доходят вести, что повсюду бушуют метели, даже в Екатеринославской губернии. Боже, когда же выглянет солнце!»
Радин гневно скомкал письмо. И тут же бережно его разгладил, положил на подушку, накрыв ладонью.
— Вы все поняли, Иосиф Федорович? — спросил он, помедлив. — Или есть необходимость сделать перевод с русского языка на русский?
— Мне кажется, понял все. А сверх того я понял еще и почему вы так влюблены.
— Не влюблен, — быстро перебил Радин, — я говорил уже, что не могу найти нужного слова.
— И не ищите. Не будем искать. Будем просто считать: счастье наше, что у нас есть такие друзья.
— Счастье многих! — с напором добавил Радин. — Вы представляете, Иосиф Федорович, чем Анна Егоровна повседневно рискует? «Сестра милосердия»… То есть наш «Красный Крест». К ней за денежной, партийной помощью обращаются прежде всего именно те, кто загнан в самое жестокое подполье и лишен поэтому в буквальном смысле куска хлеба. Обращаются сбежавшие из тюрьмы, с каторги, обращаются кто готовится к побегу за границу. В ее доме бывают самые разные люди. Да иначе ведь и нельзя. Вы любите цирк? Я очень люблю. Ловкость, смелость, изящество. Но ужасаюсь, когда показывают «смертельные» номера. Вот я сейчас закрываю глаза и вижу, как Анна Егоровна без шеста в руках переступает по тоненькой-тоненькой проволоке под самым куполом цирка. А внизу нет даже сетки. А-ах! Страшно. За товарища. За женщину. За Анну Егоровну. — Он вскочил, заметался по комнате, потрясая кулаками. — «Над Москвой небо темное, мрачное! Когда же выглянет солнце?» Да, Иосиф Федорович, когда оно выглянет? «Бушуют метели…» Охранка чисто метет. Но ничего, ничего, мы «внимательно следим за модой». Вскрывайте ящик, Иосиф Федорович. И давайте готовиться к большой работе. Переводить — «перешивать»…
В посылку наряду с немецкой беллетристикой были вложены книги Карла Каутского «Анти-Бернштейн» и «Аграрный вопрос». Радин выхватывал их с какой-то отчаянной лихостью, близко приникал лицом к страницам, возбужденно жестикулировал пальцами свободной руки.
— О, кажется, это как раз то, что нам очень кстати: Бернштейн сейчас у всех на языке. Права милая Анна Егоровна — на него «мода». И, как любая мода, не для пролетариата.
Он так и кипел, полыхал яростью. Останавливался только тогда, когда вдруг начинал сотрясать глубинный, давящий кашель. Дубровинский усаживал его на постель, помогал вытащить из кармана домашней куртки носовой платок. И видел, что платок весь в пятнах крови.
Перекипев во гневе и отдышавшись после приступа кашля, Леонид Петрович сидел, устало опустив руки, с лоснящимся от липкой испарины лицом. А Дубровинскому вспоминался совсем другой Радин, тот, на первой встрече в Хамовниках, веселый, решительный, собранный. Теперь это комок нервов, чувствительных к малейшему уколу. Он знал, что Радин вскоре сделается совсем вялым и безразличным, станет мямлить, бросая редкие, бессвязные слова. Либо уйдет в сентиментальность, в воспоминания дней своей молодости. А может быть, примется читать стихи. Свои или других поэтов. И это было бы лучше всего. Стихи Леонида Петровича всегда обращены в будущее. Они не дают ему впадать в хандру.
И действительно, Радин потер задумчиво лоб, глянул на ладонь, повлажневшую, стиснул пальцы в кулак, медленно разогнул их снова. Стал по памяти читать стихи так, словно в комнате не было никого. Читал тихо, напевно, нигде, даже в самых драматических местах не повышая голоса:
Снова я слышу родную «Лучину». Сколько в ней горя, страданья и слез — Видно, свою вековую кручину Пахарь в нее перенес. Сидя за прялкой в осеннюю вьюгу, Пела, быть может, крестьянка в тиши И поверяла той песне, как другу, Жгучую боль наболевшей души. Полно! Довольно про горе ты пела… Прочь этот грустный, унылый напев, Надо, чтоб песня отвагой гремела, В сердце будила спасительный гнев! Зреет в народе могучая сила, Край наш стоит на широком пути, То, что страдалица-мать выносила, Сын-богатырь не захочет снести. Мысли живой не задушит в нем голод. Сил молодых не надломит борьба. Смело возьмет он тяжелый свой молот И разобьет им оковы раба.Закончив чтение, посидел молча. И только тогда, казалось, вспомнил о Дубровинском.
— Ах, вы еще тут? Извините, Иосиф Федорович. Это не новое, сочинил еще, когда брел сюда по этапу. Вдруг вспомнилось. Да и вообще, какой я поэт? А временами хочется. Очень хочется написать нечто берущее за душу. Но не тоской, нет, а внутренней силой своей, которая поднимет и поведет человека вперед и вперед…
— Вы уже написали, Леонид Петрович, — сказал Дубровинский. — Везде поют «Смело, товарищи, в ногу!».
— Попоют и перестанут. А написать бы такое, чтобы пели всегда. Вот как «Интернационал» или «Марсельезу».
— Всегда будут петь и ваш боевой марш, — убежденно проговорил Дубровинский.
Радин немного оживился.
— Я бы хотел, чтобы он, этот марш, остался в памяти людей как безымянный, написанный неизвестно кем. Народом. Временем. Эпохой. Подобно революции. В ней участвуют, борются отдельные люди, но делает революцию народ…
Радина опять стал сотрясать сильный кашель. В комнате было жарко, припахивало угаром, — может быть, слишком рано хозяйка закрыла вьюшками печную трубу. Дубровинский принялся уговаривать его прогуляться перед сном. За окном уже лежала глубокая осенняя темнота. Леонид Петрович отрицательно мотнул головой.
— Помните, Иосиф Федорович, я вас сам на улицу вытаскивал. Следовательно, в принципе я не отвергаю полезности вечерних прогулок. Но сегодня меня познабливает. Вы не находите, что в доме прохладно? И потом, приближается мое рабочее время, тянет к бумаге, к столу. Наброшу на плечи пальто и, если вы не против, начну потихонечку разбираться в «Анти-Бернштейне». Хотя бы глазами пока пробегу. А вы ступайте, ступайте на воздух и ложитесь спать. После обеда завтра встретимся.
Дубровинский все же настоял на своем. Заставил Радина одеться потеплее, и они вышли на улицу. Снежная дорога хорошо прикаталась, идти по ней было легко, сухой снежок пронзительно поскрипывал под ногами.
— Иосиф Федорович, вы уже замечаете бег времени? — вдруг спросил Радин. — Относительное его убыстрение? Или для вас год, месяц, неделя, день — величины еще, как бы сказать, постоянные?
— Признаться, Леонид Петрович, я не задумывался. Иногда отдельный день мне кажется слишком длинным, тягучим, бывает и наоборот — пролетит совсем незаметно. Но какой-либо психологической закономерности из этого я не пробовал выводить.
— А я вывел. Установил почти математический закон. По мере того как с возрастом слабеет память и притупляются эмоции, дни начинают лететь с неудержимой быстротой. Вы понимаете, день, в который решительно ничего не запомнилось, как бы полностью исключается из течения времени. На этот день год становится короче. А сколько их, таких дней, к примеру, у меня набирается в году? Чем был заполнен позавчерашний день? Право, не назову. Спал, обедал, писал. А что именно, какие важные записал мысли?.. Спорил с Конарским? О чем? Выслушал рассказ хозяйки — очередная сплетня о соседях, но, может быть, совсем и не о соседях… Словом, запомнилось подробностей в количествах, достаточных не более чем на один час жизни. Но я ведь прожил полные сутки! Какое значение имеют остальные двадцать три часа? Пусть даже исключим часы сна — спим мы и в молодости. Все равно под старость время безумно уплотняется в сознании нашем.
— Не внушайте себе таких грустных мыслей, Леонид Петрович, — просительно сказал Дубровинский.
— Какая же в этом грусть? — изумился Радин. — Это трезвая констатация факта. Нет ничего грустного и в том, что я иногда прикидываю возможную продолжительность дальнейшего моего бытия на земле. Туберкулезный процесс прогрессирует. А в мире чудес не бывает. Вот милая Анна Егоровна хлопочет, чтобы меня перевели на юг. В общем, конечно, юг полезен, но не тогда, когда уже все потеряно. Добивайтесь перевода на юг вы, Иосиф Федорович! Прошу об этом, умоляю вас! У вас впереди долгие годы. Нужно, чтобы они продлились и еще.
Радин остановился, откинул голову назад, насколько позволял ему обмотанный вокруг шеи теплый шарф, обвел взглядом глубокое ночное небо с мириадами тихо мерцающих звезд. Отыскал там что-то нужное ему и, не сводя глаз с одной точки, медленно заговорил:
— Двадцать лет назад я познакомился с чудесной девушкой. Только что закончила гимназию. Сдала экзамены на звание народной учительницы. Устроилась работать в училище, которое содержал мой отец. Он был сторонником всеобщего, широкого просвещения и денег на это не жалел. Ну, а я тогда был только что зачислен в Московский университет. Надо ехать. Раненбург не так уж далек от Москвы, но Москва далеко от моей Наденьки. Мы целовались. И обещали быть верными друг другу. Навсегда. При любых обстоятельствах. На жизнь, на общество, на предначертанный нам в мире путь у нас были единые взгляды. Наденьку полюбила вся наша семья. Нельзя было не полюбить. И я уезжал в Москву окрыленный, я знал, что Наденька станет моей женой. Была такая же звездная ночь, когда мы расставались. Только не было снега. Вы знаете, Иосиф Федорович, донельзя тривиально выбирать себе звезду. Если оценивать это холодным рассудком со стороны. А в любви, чистой и зоревой, нет и не может быть тривиальностей. В любви все ново, все создается впервые. Наденька выбрала себе звезду. Вот эту. — Радин поднял руку, показывая. Опустил. Втянул голову в плечи. Заговорил глуше. — Вы хорошо разбираетесь в звездном небе? Тогда мы с Наденькой астрономией не увлекались. Наденька выбрала небесный огонек, как потом уже я выяснил, в созвездии Кассиопеи, жестокой, завистливой богини. Будь я суеверен, я бы сказал: своим нечаянным выбором Наденька навлекла на себя и меня гнев Кассиопеи. На следующий год тяжело заболел мой отец, еще через год он умер. Мне пришлось бросить университет и думать, каким образом рассчитаться с массой долгов, которые достались по наследству. А тут скончалась и мать. Пустил я все хозяйство с торгов. Уже тогда мне было противно пользоваться результатами чужого труда. После распродажи имущества остался я гол как сокол, но зато вновь поступил в университет, теперь уже Петербургский, обвенчался с Наденькой и увез ее с собой… Не надоел я вам своим рассказом, Иосиф Федорович?
— Я слушаю жадно, — с готовностью ответил Дубровинский. — Но вы не озябли, Леонид Петрович? Не будем стоять на месте.
— Да, конечно. — Он тронул Дубровинского за рукав и как бы повел рядом с собой. — Представьте, я даже почему-то согрелся. Что же касается рассказа моего, в нем значение будет иметь только самый конец. Но не существует концов без начала, и я продолжаю. В университете мне повезло: читали лекции Меньшуткин, Коновалов, Бекетов, Воейков, Докучаев, Иван Михайлович Сеченов — его я выделяю особо. Он преподавал физиологию человека. Да что физиологию! Он подсказывал человеку место в жизни, единственно возможное для каждого место, когда мир разделен на рабов и тиранов, борьба между ними неизбежна, а оставаться вне борьбы недостойно. И я, естественно, оказался на стороне борющихся рабов, революционного пролетариата, хотя и дал письменное обязательство университетскому начальству не принадлежать ни к какому тайному обществу. Мне это «зачли» потом при вынесении приговора. А пока, на последнем курсе университета, я писал наряду с прокламациями научные работы об отечественном винокурении. Разумеется, в отдельных местах чем-то схожие с прокламациями. В евангелии говорится: «Имеющий уши да слышит». Цензура, по-видимому, не имела ушей, а может быть, у цензоров были ослиные уши, но эти работы мои печатались беспрепятственно. Впрочем, с инженерной точки зрения они также содержали в себе много нового. Процесс винокурения — мой конек. Но не в этом дело. Заболела Наденька. Да, да, именно этой же страшной болезнью с красивым названием — туберкулез. От нее умерла и моя мать. И я умру. Денег на лечение Наденьки не было. А человек тает, медленно тает на глазах. Что должен был я сделать? Увезти ее на юг. Врачи уверяли: это единственный путь к спасению. И вы знаете, как я достал деньги? Презирайте за это. Моя большая работа вышла в свет под чужой фамилией — Соколова, чиновника из акцизного управления, но я получил половину доходов от нее, и мне было обещано место контролера в Бессарабской губернии. Правда, Соколов надул, в действительности дали мне должность младшего помощника надзирателя акцизных сборов, но все же Наденька вместе со мной оказалась на юге. — Голос у него дрогнул. — А через полгода я ее похоронил. Это конец моего длинного рассказа. И ответ на все настойчивые пожелания, чтобы я уехал в Крым.
— Но я не понимаю, Леонид Петрович…
— Ах, боже мой! Чего же тут не понять? — с раздражением перебил Радин. — Я увез Наденьку на юг слишком поздно. Слишком поздно ехать и мне, даже если бы это вдруг стало возможным. И больше ни единого слова об этом! Но о самой Наденьке позвольте еще сказать. Если вы, Иосиф Федорович, не знаете, что такое чистая и нежная любовь женщины, — вы ничего не знаете. Если вы не знаете, что такое преданность и дружба женщины, — вы также ничего не знаете. Солнце совсем иначе светит, когда вы влюблены. Нет, не так влюблены, как об этом рассказывается в пошлых анекдотах. Влюблены трепетно, священно, торжественно! А жизнь вокруг вас вполне обыкновенная, и жить вам нужно и должно — как всем. В космических пространствах вселенной движется бесконечное количество материи. Различны скорости ее движения. Под воздействием тех или иных сил эти скорости могут увеличиваться или уменьшаться. Но есть одна скорость, постоянная и неизменная, не подверженная воздействию никаких сил, никакими космическими телами не достижимая и тем более не могущая быть ими превзойденной, — это скорость света. Любовь подобна свету. Никакое другое человеческое чувство ее не может превзойти. Свет вечен. И любовь вечна. Вот Наденьки уже нет, а звезда ее светит. И будет вечно светить, потому что если сама звезда когда-либо и погаснет, свет, отброшенный ею в пространство, будет мчаться и мчаться бесконечно в неведомые глубины мира, постепенно рассеиваясь, но не исчезая совсем. Извините, Иосиф Федорович, я несколько упрощаю науку о физической природе света. Но мы ведь говорим о духовной природе любви. И алгебра на этот раз пусть подчинится гармонии.
Они некоторое время шли молча. Радин шумно дышал, иногда, может быть, от усталости, пришмыгивая пятками и взбивая снег каблуками на прикатанной дороге.
— Леонид Петрович, — Дубровинский первым нарушил молчание, — вы меня потрясли своим рассказом. Да, я не знаю, что такое любовь. И я боюсь любви. Верю, что это самое светлое и чистое чувство. Но в нашем деле оно, хочешь этого или не хочешь, будет помехой, а я всего себя целиком посвятил революционной борьбе.
— То есть борьбе за счастье народа? — спросил Радин. И голос у него был жесткий, сухой. — Можно ли и нужно ли бороться за общее счастье, полностью лишая себя такого же счастья? Должно жертвовать собою в борьбе, и мы все жертвуем собой — спокойствием, здоровьем, жизнью! Но истребить в себе чувство любви — значит истребить само человеческое начало. Кто мы будем тогда по отношению к обществу? Его же составные единицы или особые, совершенно иной духовной и физической организованности существа? Извините, все это звучит несколько абстрактно, вас, я понимаю, беспокоит не теория. Дорогой Иосиф Федорович, мне Наденька в революционной борьбе не была помехой. Больше того, она, ее любовь, придавала мне удивительную силу. Вас, я чувствую, больше привлекает идея монашества, строгого аскетизма. Разубеждать не стану. Человек должен оставаться самим собой… И не пора ли и нам повернуть восвояси? Я что-то очень устал. Мне жарко…
Обратно они шли не разговаривая, каждый думал о своем. Тянуло с севера колючим холодным ветерком. Дубровинский поеживался. Радин тяжело переступал непослушными ногами, все теребил вязаный шарф, стремясь глотнуть побольше свежего воздуха. И тут же заходился в глубоком кашле.
При расставании он протянул Дубровинскому горячую, влажную руку.
— Это хорошо, что вы меня вытащили на прогулку, — сказал, похрипывая и запинаясь, — пойдет работа легче. Но каждый вечер не вздумайте проделывать это. Не подчинюсь! У меня свои привычки, и я тоже хочу оставаться самим собой.
4
Дома Дубровинского ожидал Конарский. Он был чем-то рассержен, возбужден. Может быть, маленькой перепалкой с Праскевой, которая ворчливо требовала, чтобы гость зря не жег в лампе керосин. Не пишет, не читает, а просто посидеть можно бы и в темноте. Ей, Праскеве, что — за керосин заплатит постоялец, да ведь и чужие деньги все одно жаль. Особо когда видишь: у человека их нет.
— Спасибо, Прасковья Игнатьевна, — поддержал Дубровинский, вникнув в суть ее требований, — вы совершенно правы. И денег нет у меня, и керосин жечь попусту нечего. Только все это вы мне одному говорите, а друзей моих не огорчайте.
— А! — отмахнулась Праскева. — С вами тоже говорить, что сыпать в стену горохом. Не приспособленный к жизни вы человек. Вам что рупь, что копейка — беречь не умеете.
Дождавшись, когда удалится Праскева, Конарский объяснил причину своего столь позднего появления и довольно-таки долгого ожидания, отчего в лампе выгорел весь керосин. Ему как-то и в голову не пришло, что Дубровинский все это время как раз был у них в квартире, а потом гулял по улице вместе с Леонидом Петровичем.
— Вот что произошло сегодня, — рассказывал он, постукивая кулаком по столу. — Здешний инспектор народных училищ распорядился спешно перевести на службу в самые глухие уголки уезда трех учителей. Не считаясь с их семейным положением, с теми нежданными для них треволнениями и невзгодами, которые подстерегают на новом месте. Пренебрегая их мольбами и просьбами оставить здесь. Это Стрекачев, Гаврилов и Сазанович.
— Позвольте, но я знаю этих людей! — воскликнул Дубровинский. — Не так давно они присутствовали на нашей беседе у Леонида Петровича. Их привели ссыльные поляки. Помнится, тогда не заходило даже и речи о какой-либо «крамоле». Просто рассуждали о несовершенствах нынешней системы образования.
— И критиковали ее как в известной степени бюрократическо-полицейскую, — добавил Конарский. — Особенно в некоторых высших учебных заведениях. А гегемоном на этой вечеринке были вы.
— Не понимаю! Какое имеет значение то, что я задавал тон всей беседе, для нелепого и жестокого решения инспектора? — в недоумении проговорил Дубровинский. — Ведь, по существу, он этих учителей отправил в бессрочную ссылку.
— Совершенно верно, — подтвердил Конарский. — А все дело в том, что вы, Дубровинский, у полиции на особом счету. Вас здешние власти полагают человеком очень скрытным и хитрым, завлекающим в марксистские сети каждого, кто с вами сблизится.
— Приятно слышать, — сказал Дубровинский насмешливо и сразу помрачнел. — Но люди-то ведь пострадали!
Наступила тяжелая, долгая пауза.
— Может быть, имеет смысл вступиться за них? — наконец проговорил Конарский.
— Каким образом?
— Право, не знаю. Вот я и пришел посоветоваться. Написать коллективный протест от всей нашей группы ссыльных. Или, мягче, прошение?
— Чудак вы, Конарский! Ведь если даже ходатайства «вольных» относительно нас властями, как правило, не принимаются во внимание, что будет значить ходатайство группы ссыльных относительно судьбы «вольных»! Этим только усложнится их положение. Ага, дескать, одного поля ягоды! Опять, мол, образовался некий «союз». И вот решение. Раздробить нашу группу: кого — еще дальше на север, кого — в Сибирь.
— Стало быть, промолчать? Проглотить покорно пилюлю? — Конарский весь даже как-то съежился. — Не дать хотя бы местным самодурам прочувствовать наше к этому отношение?
Дубровинский задумался. Поправил в лампе фитиль.
— Прочувствовать… Да, это, пожалуй, стоит. В полезные результаты, правда, я мало верю. В стране, где царит произвол, на справедливость и гуманность рассчитывать нечего. Однако на каждую пощечину мы обязаны ответить такой же пощечиной. Без истерики, с достоинством. Как подобает людям, отстаивающим свою правоту.
Он подсел к столу, взял лист бумаги из стопы, всегда лежащей наготове, насколько мог каллиграфически вывел первую строку: «Его Превосходительству Вятскому губернатору» — и быстро стал набрасывать текст письма.
— Слушайте, Конарский, вы говорите, что меня считают едва ли не главарем всех здешних ссыльных, — отрываясь от стола и обеими руками взъерошивая волосы, проговорил Дубровинский. — Так вот я и обращусь к губернатору только от собственного имени. Я буду протестовать против попрания моих прав, оскорбления моей личности, но между строк… Впрочем, слушайте: «С первых же дней по прибытии моем в город Яранск я столкнулся здесь с рядом глубоко затрагивающих непосредственно мои интересы фактов, которые вынуждают меня обратиться к Вашему Превосходительству о нижеследующем…» Вы согласны, что писать это следует, сдерживая себя, совершенно ровным тоном и убийственно-канцелярским языком? Итак: «Действиями некоторых лиц, занимающих в Яранске официальное положение, здесь созданы для высланных такие тягостные условия жизни, которые отнюдь не соответствуют и даже прямо противоречат тем условиям, в которые ставят состоящих под надзором полиции соответствующие узаконения…»
— А вы знаете, Дубровинский, это ведь вы здорово придумали, — перебил Конарский. — Опираться именно на тот закон, который против нас! Мы не просим привилегий. Мы говорим, стиснув зубы: ваша сила взяла! Что ж, угнетайте нас, проклятые, но не свыше того, чем предусмотрено вашими же собственными законами!
— Так, читаете подтекст моего письма вы — Конарский? Или так его будет читать губернатор?
— Хм! Кажется, читаю я глазами губернатора.
— Хорошо. Тогда: «Так, например, в самое последнее время местный инспектор народных училищ нескольких подчиненных ему лиц за простое знакомство с высланными, знакомство, при котором никакие незаконные отношения и цели не только не имели места в действительности, но и не были заподозрены и не выставлялись в качестве мотивов самим училищным начальством, подверг тяжелому наказанию — переводу на службу в глухие местности уезда…»
— Ну нет! Этого мало, Дубровинский, мало! — закричал Конарский. — Непременно добавьте, какие неимоверные страдания невиновным людям причиняет такое решение. Ведь именно это ваша главная мысль: их, по существу, отправили в административную ссылку!
— Пафос и патетика здесь совсем ни к чему, — покачал головой Дубровинский. — Канцелярских крыс надо травить канцелярским же крысиным ядом. «Между тем если бы только местной полицией не были нарушены требования закона…» — здесь я впишу ссылку на необходимые статьи и параграфы, — «…то господин инспектор народных училищ даже не мог иметь никаких официальных сведений о том, состоит ли кто под надзором или нет, и, следовательно, не имел и не имеет права распространять подобных, подрывающих в глазах местного общества мою репутацию слухов и тем более принимать меры, имеющие непосредственной своей целью лишить меня (в числе других высланных) возможности иметь какие-либо знакомства и отношения вне круга лиц, находящихся в одинаковом со мной положении…»
— Я бы добавил злее: «…подобному положению прокаженных», — нетерпеливо вставил Конарский.
— Помилуйте, в таком документе политическую ссылку как-то ассоциировать с заразной болезнью!
— Да, да, я не подумал. Виноват. Беру свои слова обратно.
— Ну-с, и логически следует такой вывод: «Эти произвольные и бессознательные действия наносят мне вред не только нравственный. Преследования, которые возбуждаются здесь против меня, преграждают мне всякую возможность найти заработок. Не видя никакой возможности изменить установившиеся уже в Яранске описанные мною положения дел, честь имею просить Ваше Превосходительство о переводе меня на жительство в город Вятку, где я надеюсь испытать лишь те ограничения, которые действительно в отношении меня установлены законом».
Конарский вскочил, всплескивая руками, забегал по комнате. Наконец остановился, вглядываясь в поднявшегося из-за стола Дубровинского.
— Как, позвольте! Как? Почему же такой неверный вывод? — спросил, пожимая плечами. — Дубровинский! Вы меня словно обухом в лоб ударили. Все было превосходно, развивалось, как должно быть. И вдруг…
— Что «вдруг»?
— Решили позаботиться только о себе лично! Ведь это, согласитесь, даже в известной степени… неблагородно. Нет, я не желаю вам худа, если удастся хотя бы вам одному… Уже успех… Но положить в основу тот факт, что подвергнуты респрессиям три учителя из здешних школ, и затем…
— Конарский, вы серьезно? — Дубровинский повернул его лицом к свету. — Да ведь совсем недавно же вы говорили, что читаете мое письмо глазами губернатора! И что же вы думаете, губернатор немедленно распорядится перевести меня в Вятку? То есть признает, что в Яранске творятся беззакония и он бессилен их пресечь? Или что эти беззакония творятся с его ведома, а чтобы гнусное дело замять — перевести строптивого автора письма туда, куда он просит? Да нет же, нет, Конарский, никогда этого губернатор не сделает! Он просто оставит мое письмо без ответа. Либо за подписью какого-нибудь мелкого чиновника мне будет разъяснено, что я заблуждаюсь, в Яранске свято чтут законы и вообще здесь рай земной для ссыльных. Но тем не менее письмо мое доставит губернатору несколько неприятных минут. Хотя бы в том смысле, что он поймет: загнали сюда не телят, при случае мы умеем показывать зубы. Ради этого только я и готов потратиться на бумагу и на керосин, который мне теперь прибавит к обычному счету Прасковья Игнатьевна.
Конарский молча обнял Дубровинского. Потом долго тряс его руку и, не проронив ни звука, ушел. Вслед ему Праскева из-за переборки, должно быть спросонья, пустила крепкое словечко.
В доме наступила тишина. Протопленная с утра русская печь остывала, по полу струился сырой холодок. Сырость еще со времен Таганской тюрьмы больше всего осточертела Дубровинскому, она вгоняла в мелкую, противную дрожь, мешала связно думать. Единственным спасением было укрыться на постели с головой, надышать теплого воздуха под одеяло. Но ляжешь — и начинает бить короткий сухой кашель, от которого горло болит, словно изрезанное мелкими осколками стекла.
Он погасил лампу и улегся на повизгивающую пружинами железную кровать, ощущая, как правый бок сразу будто прилип к влажной, пахнущей мылом простыне.
Сом не приходил. Не унималась и дрожь. Дубровинский сжался совсем в комок, пытаясь представить себе, что он вернулся в далекое детство, после веселой возни во дворе с другими подростками прибежал домой, напился горячего чая с вишневым вареньем и теперь нежится, ожидая, когда мать подойдет, отогнет уголок одеяла и пожелает ему спокойной ночи.
Почему-то припомнились очень вкусные булочки, которыми его на первом допросе в охранке угощал Зубатов. Тут же подумалось, что беспощадная и точная машина, запущенная этим приятной внешности и обходительных манер человеком, ведь крутится, и крутится не на холостом ходу. В хорошо натопленном помещении, при ярком электрическом свете, словно инженеры-проектировщики, агенты охранного отделения, сыто довольные своей судьбой, вычерчивают сложные графики и диаграммы, теоретически определяя, куда надлежит нанести очередной удар. А по ночным улицам бог весть скольких городов, пряча в воротники куцых пальтишек посиневшие от холода носы, шныряют от ворот к воротам и от окна к окну мизгиреподобные филеры, достославное племя Евстратия Павловича Медникова, готовое продать даже Христа по цене дешевле иудиной. И где-нибудь на ночных рабочих сходках, в тесных углах подпольных явочных квартир произносят громовые противоправительственные речи либо сочиняют зажигательные прокламации волки в овечьей шкуре, подлейшие из подлейших людей — провокаторы.
Дубровинского словно обожгло, он даже сбросил с плеч одеяло, так неожиданно и разяще пришла ему в голову тревожная мысль.
Посылка от Корнатовской, письмо, полученное Радиным от Серебряковой. И то и другое прошло через почтовое ведомство, явно не подвергшись никакому досмотру. Конечно, не все посылки и письма, поступающие ссыльным, вскрываются, хотя полиция и имеет на это право, но просто ли счастливый это случай? Нет ли тут дьявольского хода охранки? Переписывайтесь, дескать, спокойненько, обменивайтесь посылками, нас это ничуть не интересует. А тоненькие нити проследок между тем постепенно будут сплетаться в тугие узлы.
Когда-то давно Леонид Петрович назвал Корнатовскую и Серебрякову «милыми женщинами». Дмитрий Ульянов поправил его, сказал, что они «умелые подпольщицы». А Радин потом взял и добавил еще как наиболее важное: «фанатичные революционерки». Вот это их качество не перевесило ли все остальное и, томясь заботой о других, забыв об осторожности, вдруг они сделали неосмотрительный шаг?
Да, письмо Анны Егоровны написано эзоповским языком. Да, на посылке Марии Николаевны указан вымышленный обратный адрес. Но зубатовских стреляных воробьев не проведешь на мякине. Надо завтра же в ответном письме, душевно поблагодарив Марию Николаевну за присылку столь нужных и желанных книг, решительно настоять на том, чтобы непосредственно сама она этого больше не делала. Есть ведь иные возможности добывать литературу. Пусть более сложным, кружным, но менее опасным для посылающих путем — из-за границы. Надо иносказательно напомнить Корнатовской об этом пути. Хорошо бы, например, разыскать за границей Константина Минятова. У него отличный опыт конспиративной работы и марксистскую литературу знает. Вряд ли в эту цепочку следует включать Надеждочку — жену Константина. После его стремительного отъезда в Берлин она как-то повяла. Да это и естественно. Вот пример истинной взаимной любви. Вместе оба Минятовы — сила, порознь — ничто.
Тут же вспомнилось о другой Надежде, о той, что с глубокой грустью рассказывал Леонид Петрович Радин. Вместе со своей Наденькой он был тоже намного сильнее. Ах, какая все же это таинственная, неразгаданная сторона человеческого бытия! Каждый, буквально каждый человек необходимо разгадывает для себя эту загадку, но однозначного для всех ответа так и не найдено. Благо это или не благо — любовь? Существует она на земле или совсем не существует в том идеальном облике, который позволяет ставить ее, как это делает Леонид Петрович, над всеми другими человеческими чувствами? В любых науках есть свои непререкаемые авторитеты, слово которых как приговор. В науке любви спрашивать некого, потому что всякий ответ постороннего обязательно будет ошибочным.
Он повернулся в постели, зарылся в подушку головой. Спасибо тете Саше, заставила взять хорошую пуховую подушку, хотя на всем этапном пути в нераспакованном узле — не пользоваться же ею на случайных ночевках! — она была прямой обузой. Теперь это маленькая житейская радость.
Думать бы следовало о главном, о договоренной на будущую неделю очередной встрече с товарищами по ссылке. Надо подготовить свой реферат к этому вечеру и построить его на тезисах антибернштейновских. Книга Карла Каутского пришла очень кстати. Успеть бы прочесть ее всю. Надо думать об этом. А лезут в голову мысли о возможных кознях охранки. О женщинах. О любви. Никчемное философствование!
Лезут ненужные мысли. Припоминается, с какой радостью и нежностью обняла и поцеловала его Корнатовская, когда он пришел к ней, освободившись из Таганской тюрьмы. Нет, в этом не было ничего такого, тем более что Мария Николаевна ну просто старше его, Иосифа Дубровинского, по малой мере на семь лет, кощунственно и предполагать в ее поцелуе что-либо даже на единую каплю иное, кроме искренней радости друга, но вот же и до сих пор он явственно ощущает особую теплоту женской руки. Не матери, не тети Саши — теплоту руки посторонней женщины. Товарища самого близкого, а женщины — далекой. И потому необыкновенной. Как освободиться от этого волнующе-сладкого ощущения?
Праскева за переборкой вскрикнула тонко, жалобно. Должно быть, ей привиделся страшный сон, забормотал Пе́тра, ее успокаивая. Потом неведомо отчего хрустнуло стекло в оконной раме. Протащился по улице длинный, тяжелый обоз, долго не затихал монотонный, пронизывающий стены дома скрип саней, подшитых стальными полосами. Дубровинский встал, наугад ощипал в лампе нагоревший фитиль, зажег свет. Поежился: зябко и сыро. Набросил на плечи пальто и сел к столу.
Необходимо было написать Марии Николаевне, остеречь ее от возможной беды.
Все равно это письмо из почтового ящика не вынут раньше девяти часов утра, а ночь впереди еще очень долгая, но Дубровинскому безотчетно казалось, что он не может промедлить даже одной минуты.
5
Сергей Васильевич Зубатов, как всегда, находился в прекрасном расположении духа. Он твердо полагал, что любое настроение человек создает себе сам. А ведь от этого зависят и все его поступки. При хорошем настроении работается легко, видится отчетливо. Чуть только помрачней — дело пойдет комом, начнешь кричать на подчиненных, грубить арестованным. Крик и грубость действуют как удар плети. Но плеть лишь злит и заставляет людей замыкаться, кипя внутри негодованием. Спокойная и доброжелательная беседа даже врага сделает более мягким, податливым, готовым на уступки. Что же касается подчиненных, особенно из низших чинов, так они в лепешку расшибутся за каждое ласковое слово. И это, в свою очередь, способствует хорошему настроению. Своеобразный круговорот психологических воздействий: человек влияет на окружающую обстановку, обстановка влияет на человека.
И все же исходная точка в таком круговороте — собственное «я».
Разумеется, не следует быть анекдотически-простоватым Панглоссом, у которого «все идет к лучшему в этом лучшем из миров». Этот мир, увы, не самый лучший, и далеко не все в нем идет к лучшему. И тем не менее существовать в нем приходится, ряды здесь пронумерованы, словно в театре, и гораздо приятнее занять место в бельэтаже или партере, нежели на галерке. Еще приятнее иметь кресло в императорской ложе, но…
— Сережа, на улицах, среди разной обшарпанной публики, я слышу иногда такие гнусные словечки об охранном отделении и о тебе самом, что хочется кинуться в драку. Или заплакать, — однажды сказала ему жена, Александра Николаевна. Она сидела за роялем, проигрывала «Ноктюрн» Шопена, и узкое, бледное лицо ее с большими карими глазами было грустное-грустное.
— Ангел мой, Сашенька, — ответил ей Зубатов, — не надо плакать. А в драку кидаться наипаче не следует. Сохраняй уютное для сердца спокойствие. Научись этому, дорогая. Постарайся меньше бывать среди «обшарпанной публики», меньше ходи пешком, больше езди на извозчике. Оберегай Коленьку от той «улицы», с которой в уши ему могут вползти всякие гнусные словечки. Мальчик ведь еще не в состоянии рассортировать в своем сознании поток идущих к нему впечатлений. Он может бог весть что подумать об отце.
— Все это карточные домики, Сережа! — Александра Николаевна вздохнула. — Их нетрудно построить, но и рассыпаются они тоже очень легко.
— Мы опять, Сашенька, возвращаемся на круги своя! Ты ведь знаешь, я не Торквемада, доставленных ко мне арестованных не вздергиваю на дыбу. Это — дело жандармерии вести затяжные допросы и направлять дела по соответствующим инстанциям. Мои заботы — отыскать и раскрыть очаги, в коих зреет главная опасность для отечества. Благородная это миссия? Да, благородная! И коль так — все остальное не имеет значения. Когда в своем служебном кабинете, дорогая, я раздумываю о множественных и тайных силах революционного подполья, я повторяю про себя слова сына божия: «Отпусти им, господи, ибо они не ведают, что творят!»
— Но ты ведь им не отпускаешь эти их прегрешения!
— Да. Потому что я не бог. Власть моя малая, я могу только то, что могу. Господь бог волен отпустить любые прегрешения человечеству, и мир после этого станет еще краше. Если же я отпущу прегрешения стихийной, темной массе, очарованной заманчивыми, но несбыточными идеями Маркса и его последователей, мир надолго обратится в развалины. Сашенька, мы ведь вместе с тобой проштудировали всю эту литературу, все революционные теории. Действительно, поскольку некоторые слои современного общества с невыносимой жестокостью заняли господствующее положение над работающим на них населением, так дальше продолжаться не может. Вслепую или не вслепую, вскоре или не вскоре, а потрясения неизбежны. Своей работой я их пытаюсь только сдержать. И сдерживаю. Надолго ли хватит моего умения, сил и прозорливости?
— Ты меня пугаешь, Сережа! Значит, уже нет ничего, что могло бы надежно предотвратить неизбежные разрушения? — Александра Николаевна поднялась из-за рояля, в тревоге стиснув пальцы. Тоненьким вскриком отозвалась нечаянно задетая клавиша.
— К счастью нашему и всеобщему, есть, Сашенька, есть! Это самодержавная, сильная власть царя, равно справедливая ко всем классам общества.
— Так в чем же дело тогда? — нетерпеливо спросила Александра Николаевна. — Государь император, слава богу, в добром здравии!
— Он единодержец всех судеб империи. Но он человек. И его повсечасно окружают многие. Подают свои советы. Чаще всего, сколь ни грустно это, выгодные лично им. И нет такого к государю приближенного, кто вопреки всем другим советчикам убедил бы его в единственно правильной идее. Если позволишь, моей идее гармоничного построения общества и поддерживающей его самодержавной власти.
— А ты, Сережа? Это же всего лучше ты сделаешь только сам!
— Да, но…
Вот на этом-то «но» и обрывался полет смелой фантазии. Пока что он, Зубатов, имеет свое нумерованное место только в партере театра, и далеко не в первом ряду. Он может, вытягиваясь через головы впереди сидящих, лишь наблюдать за императорской ложей. Сидят и стоят в ней другие. И очень короткий путь до нее в театре — в жизни предстает неимоверно длинным.
Ему, Зубатову, известно, что государь благосклонно расценивает деятельность охранного отделения. Но какую сторону этой деятельности? Артистически-ловкую систему поиска и вылавливания неблагонадежных элементов. Можно в огородах под заборами каждый год выкашивать крапиву, но на следующую весну она опять дает свои побеги. Радикальное средство избавиться навсегда от крапивы — глубоко перепахать землю. А косить и пахать — это работы различные, требующие каждая совсем иной оснащенности. Не доходят до государя его, зубатовские, проекты превращения государственного полицейского аппарата из сыскного и устрашающего народные низы в попечительный орган власти, регулирующий взаимоотношения между предпринимателями и рабочей массой. Эта сторона желанной деятельности охранного отделения остается в тени. Хуже того, встречает враждебное отношение могущественнейших лиц. Обладать бы магической силой передачи мыслей на расстоянии и сквозь дворцовые стены неустанно внушать и внушать государю свои идеи…
Ах, все эти розовые мечтания! Любые флюиды на пути к сознанию государеву прежде столкнутся с ватной тупостью директора департамента полиции Зволянского, министра внутренних дел Сипягина. Свинцовым заслоном станут и государственный секретарь совета министров фон Плеве и московский генерал-губернатор. А генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович из царской фамилии. Предположить, что все эти высокие сановники наконец согласятся с его проектами? Согласившись, они их присвоят себе. Они все равно не дадут ему места в императорской ложе, хотя бы в самом уголке, стоять, спиной прижавшись к стенке.
Так что же, если столь иллюзорны его надежды, опустить руки, отдаться течению? Нет! Он должен быть близ государя. Неважно, в каком чине. Сейчас он надворный советник. Пусть он будет «советником» без всяких прилагательных, но подлинным и всеохватным советником. Ибо он любит своего государя, только в самодержавной монаршей власти видит он благо России, и жизнь его не может продлиться даже на миг один — странно и подумать об этом! — если самодержавной власти наступит конец. История знает много примеров, когда наиболее доверенными лицами могущественных государей становились совсем не титулованные особы. Почему бы не прибавиться во всемирной истории и еще одному примеру? Надо только оставаться упрямо последовательным, терпеливым, изобретательным. И не терять хорошего настроения…
Был поздний час ночи. Евстратий Павлович Медников, уже воздав филерам кому полтину, кому тяжелую оплеуху, отпустил их с богом на метельные московские улицы. Особо сложных задач он им не ставил. Подпольные организации революционеров как будто пока ничем не проявляли себя. То ли действительно оказались срезанными под самый корень, то ли затаились, совсем не дыша. Поэтому есть резон чуточку ослабить петельку у них на шее, глядишь, кто-нибудь и хрипнет вслух. А тогда присмотреться, что за голосок это. Так и доложил он Зубатову.
— Правильно, Евстратий Павлович, — выслушав его доклад, похвалил Зубатов. — Касательно московской ночи. А как прошел день? И что твои «летучие» сообщают из других мест?
Он позволил себе отлучиться с работы на несколько дней, побывать во Владимирской губернии, в своем небольшом, но хорошо, на европейский лад поставленном именьице, приносящем постоянный и вполне достаточный доход, чтобы в крайности безбедно прожить на него даже без государственного жалованья. Поездка Зубатова утомила, дорогу совсем занесло, едва пробились через высоченные сугробы, а в самом имении каждый час оказался на счету — надо было успеть разобраться во множестве дел. Спасибо, управляющий — человек способный, честный и расторопный. Впрочем, управляющий имением начальника охранного отделения иным быть и не может. Обратно пришлось спешить так, что и на городскую квартиру не заглянул. Уже отсюда с Сашенькой поговорил по телефону. Дома все, слава богу, в порядке. Зубатов легонько, сладко зевнул.
— Давай, Евстратий Павлович, рассказывай, — и прищелкнул пальцами. — Да распорядись, пожалуйста, чтобы принесли горячего крепкого чайку.
— Это я сейчас, Сергей Васильевич. — Поглаживая толстые ляжки, Медников прошел к двери и отдал команду дежурному, а возвращаясь, лукаво заулыбался: — А чего бы Сазонова Якова Григорьевича, помощника твоего, прежде о прочих делах не спросить?
— Спрошу и его. Но ты, Евстратий Павлович, разве тоже не помощник мой? Насквозь тебя вижу. Как кот: любишь, чтобы по шерстке погладить, под шейкой пощекотать.
— Да уж когда по пузу мокрым полотенцем дерут, не люблю. Это истинно. А сказал я про Сазонова — он чином старше моего.
— Добьюсь я и тебе хорошего чина, Евстратий Павлович, пенсию приличную выхлопочу. Ты вот все на похвалы напрашиваешься, а это разве не лучшая похвала, что с тебя разговор начинаю?
Вошел жандарм с чайным набором на подносе. Запахло теплой сдобой, корицей. Зубатов удивленно поднял брови. Медников радостно потер руки. Разлил чай по стаканам.
— Суприз, Сергей Васильевич! — сказал он. — Носом ты потянул, о доме вспомнилось. А я догадывался, что прямо сюда приедешь. Такие крендельки с корицей, знаю, по праздникам Александра Николаевна печет. Так я сегодня заказал их в Филипповской булочной. Доставь, пекарю говорю, свеженькими, но по сигналу моему. Видишь, все точно сработал. Ну, а дела, какие же тут были дела? Сперва для веселья расскажу. Не по моей это части происходило, а знать знаю все.
— Без предисловий, Евстратий Павлович, — попросил Зубатов. — Не сомневаюсь, что ты знаешь все. Так оно и должно быть. Не тяни, рассказывай.
— Вятские жандармы оскандалились. Ну, как полагается, яранский исправник письма ссыльных «марксят» того… Вскрывал, просматривал. Все ли подряд или не все, а натолкнулся на такое, где написано: один из политиков, опять же в Яранске этом самом, познакомился с Марксом и Энгельсом, а с… погоди-ка, с Беренштейном…
— Бернштейном, — поправил Зубатов.
— Я и говорю, — невозмутимо продолжал Медников, — а с Беренштейном начисто разошелся во взглядах, то есть супротив Беренштейна присоединился к Марксу и Энгельсу. Вот так!
— Что же, это вполне естественно, — заметил Зубатов. — На Бернштейна мода проходит, «марксята» мои убедительно лупят его в хвост и в гриву. Только особенно веселого я в этом что-то не вижу.
Медников привскочил, смачно хлопнул себя по жирным ляжкам и захохотал, тоже каким-то жирным, мягко переливающимся смешком.
— Да ведь штука-то в чем, Сергей Васильевич? — сказал он, отсмеявшись, но все еще широко растягивая в злорадной улыбке толстые губы. — Штука-то в том, что исправник донес по начальству в губернию, дескать, раскрыл среди политиков тайную группу, во главе которой стоят Маркс и Энгельс, и все они в заговоре, чтобы ниспровергнуть — господи, прости! — государственный строй. А тот из них, который Беренштейн, честно стоит за царя нашего батюшку. Это же что получается?
— Действительно, это же что получается! — изумленно воскликнул Зубатов. — Вот дубина!
— Да нет, нет, — Медников замахал короткими руками, — куды там! Далее — более. Из губернского управления по этому случаю в Яранск нарочного, ротмистра жандармского послали. А тот, нет чтобы подумать, вникнуть сперва, что и как, — политика сразу на допрос! Укажи, у кого на квартире Маркс и Энгельс стоят, при каких обстоятельствах познакомился с ними! В раж вошел. — И Медников опять приподнялся, театрально изображая незадачливого ротмистра, как тот гремел басистым голосом, стучал кулаками по столу и тыкал пальцем в грудь подследственному. — Не крути вола, кричит, объясняй, каким способом германцы эти в Яранск перебрались, где границу пересекали, почему ни в Москве, ни в Петербурге не задержались, а проследовали прямо сюда. Политик стоит очумелый, рта от страха не может раскрыть. Потом говорит все-таки: «Да ведь Маркс, господин ротмистр, скончался еще семнадцать лет назад, а Энгельсу тоже пятый годок после смерти пошел. Как же им, покойникам, явиться было в Яранск? Да и кто бы на квартиру себе поставил покойников?» А ротмистр бьет кулаком по столу: «Ты мне не финти, ты мне выкладывай чистую правду!»
Тут и Зубатов не выдержал, расхохотался: Медников был очень смешон, живописуя ретивого жандарма. Теперь, поглядывая на развеселившегося начальника и друга своего, он и еще прибавил артистического задора, поставил руки в боки, заносчиво поднял голову:
— «Это знаем мы, как для блезиру помирают некоторые! Сочинение господина Дюма насчет графа Монтекристы тоже читал. А вот тебе письмо твое. Сам ты пишешь, что нигде, а в Яранске с этой публикой познакомился…» — продолжал кривляться Медников.
Зубатов грыз кренделек, прихлебывая чай. Вдруг прыснул со смеху и поперхнулся сухой крошкой.
— Ну, довольно, довольно, Евстратий Павлович! — взмолился, похлопывая себя ладошкой по широкой груди. — Разыграл роль ты здорово. Много присочинил?
— Капельку одну, Сергей Васильевич, капельку. Слова только разве придумал, потому что не слышал же я сам, как там они вдвоем разговаривали. А факты никуда не денешь. Ведь до Сергея Эрастовича история дошла. Ну и всыпал он, конечно, ротмистру этому по первое число. А яранскому исправнику — так и по второе. Чужие письма с умом, объявил, надо читать и вслух об этом тоже не разбалтывать.
— А не слишком ли ты торжествуешь, Евстратий Павлович? — хитренько прищурился Зубатов. — Ты уверен, что и с тобой такое иногда не получается? Признайся, кроме «графа Монтекристы», много ли ты книг прочитал? Тем более серьезных, политических?
— Грамота у меня небольшая, Сергей Васильевич, это так, — с достоинством ответил Медников. — И книги, особо политические, пальчиком водя по строчкам, знаешь сам, читать мне некогда. Но в дураки чтобы — никогда не попаду, ни на каком деле. Есть голова на плечах. Сказать так, твоей выучки.
Зубатов растрогался. Потянулся к Медникову, тепло пожал ему руку.
— Спасибо, Евстратий Павлович! Кое-чему ведь и я у тебя научился. Но погоди-ка, ты рассказывал о яранских приключениях. Это ведь туда, мне помнится, закатало министерство юстиции «Рабочий союз»? Сколько в свое время мы повозились с ним!
— Про Яранск я и еще расскажу. Этот дурак исправник там и другие дела попортил. Надо же случиться такому, вятский ротмистр прищучивает политика насчет Маркса, ведет допросы свои — ну да ведь шила в мешке не утаишь, вся ссыльная братия тот же час все узнала, — и тут обыкновенным тихим манером приходит почтовая посылка из-за границы. Через Вержболовскую таможню без сучка и задоринки прошла. Отдать, и все. А кому она послана? Дубровинскому. Это тот…
— Прекрасно помню. Евстратий Павлович, куда бы я годился, если бы даже Дубровинского забыл! И что же с посылкой?
— А посылка-то в Вятке была тоже вскрыта. Правильно! К этому гусю в губернии доверия нету, он губернатора замотал своими прошениями с разными неподобными требованиями. Одно слово, адвокат. Ну в посылке по названию книги как книги, да только немецкие. Их — в цензуру специальную. Оказалось, на обложке одно, а внутри совсем другое. Опять же Карл Маркс и всякое такое. Посылочку, ясно, как надо снова зашили и в Яранск передвинули. Сказал я уже, в тот самый раз, когда насчет Беренштейна дурак следствие вел. В иное бы время Дубровинский взял ее, и ниточка, что за границу ведет, зацепилась бы. Одна посылочка, другая, третья. А тем разом стукнуть в Берлин Петру Ивановичу Рачковскому, он поискал бы отправителя, принял под свое наблюдение и так далее. Глядишь, ого-го какую рыбу можно было бы нам выловить! А Дубровинский тут смекнул, поосторожничал. Начисто от посылки отрекся, еще и накричал: «Вы мне провокации не устраивайте! Знаю, ищете способ, как срок мне прибавить». Ниточка теперь и оборвалась.
— Н-да, это грубый промах, — с огорчением проговорил Зубатов. — Но тут и наша вина. Помнишь, посылку Корнатовской как мы оберегали? Надо бы и эту, заграничную, взять под свое крылышко.
— Не по моей это части, Сергей Васильевич, когда из-за границы. Это с других спрашивай. А от Марии Николаевны получать книги вдругорядь сам Дубровинский не пожелал. И тут какие же новые ниточки? Все на наших глазах, все в наших руках.
Вошел дежурный. Извинившись, подал нераспечатанное письмо и объяснил, что принес его отказавшийся назвать себя человек, оставил у охранника при входе. Зубатов, сидя в кресле, проделал руками легкую гимнастику, пригладил волосы. Вскрывая конверт, глазами показал дежурному: «Ступайте» — и углубился в чтение.
Медников, причмокивая, потягивал остывший чай. Крендельки с корицей его не соблазняли. А поесть хотелось. Хорошо бы ветчинки с хреном! Или, на худой конец, крепкого домашнего студня, который жена делать никак не научится, зато мастерица по этой части разлюбезнейшая Екатерина Григорьевна. И, забыв совсем, что с Зубатовым предваряющего разговора не было, он, увлеченный своей мыслью, как само собой разумеющееся предложил:
— Сейчас кликнуть извозчика, Сергей Васильевич?
— Куда? — отрываясь от письма, в недоумении спросил Зубатов.
— Дак к Екатеринушке. Наш народ там уже должен собраться, чего-нибудь расскажут. Ну и поужинаем как следует. Трубачи в животе у меня сбор трубят.
— Побойся бога, Евстратий Павлович! Даже к «Мамочке» не пойду сегодня — не в обиду Екатерине Григорьевне, — дома еще не показывался. Езжай один. Если будет что интересное — завтра расскажешь. Низкий поклон ей от меня. А я вот пробегу это письмо — любопытное! — и тоже… — углубился в чтение, пояснив между прочим: — От Мани Вильбушевич.
— А-а! — понимающе протянул Медников. — Ну, она ведь теперь с божьей и твоей помощью в главарях «независимцев» ходит. Огонь-девка!
Вразвалочку направился к выходу. И припомнил еще, стукнул себя кулаком по лбу.
— Да, Сергей Васильевич, тут Гапон появился, снова деньги просил. Дал я ему. Вот ведь мужик удивительный. Войдет, крестится, молитву читает, глаза вверх — все жилочки в нем дрожат, ну, прямо на небо сейчас улетит. Глядишь, и у тебя в горле чего-то щекочет, словно на светлой заутрене, когда «Христос воскресе из мертвых» в первый раз запоют. А начнет Гапон деньги в карманы совать, и без торопливости, без жадности — все одно вместе с ним летишь в преисподнюю. Почему — не пойму. Филерам своим даю, понятно: за какую работу, все по честности. А этот ведь не филерствует, как раз на филеров вроде бы змей-горынычем смотрит. Но деньги-то ведь одни. Знает, какие берет. Попрощается уходить, мне всякий раз мерещится, будто и дверь перед ним не распахнулася, а он скрозь нее духом бесплотным проник.
— Неуравновешен отец Георгий, фанатик иногда в нем прорывается, — рассеянно бросил Зубатов, переворачивая мелко исписанный листок бумаги. — Денег дал ты ему, это правильно, нужно давать. В коня корм. И ступай, ступай, Евстратий Павлович, к своей Екатеринушке!
Письмо Вильбушевич по существу своему ничего особо нового не содержало. Рассказ о грызне в бундовской верхушке и о том, как ветвится и множится организация. Это известно. И все же Зубатов некоторые места перечитал по нескольку раз.
Боже, как темпераментно она пишет! Словно бы объясняется в самой земной, страстной любви. Похоже, что Маня действительно в него влюблена, хотя они еще и не встречались ни разу. Но ведь влюбляются же заочно некоторые экзальтированные женщины в великих мира сего! Жизнь свою готовы отдать, только бы стать близкой избранному кумиру.
Здесь любовь, разумеется, несколько иная. Маня Вильбушевич поклоняется Учителю, соединяя в этом понятии все идеалы человеческие. Духовные и физические. Ради него, Зубатова, Маня готова сдвинуть горы, остановить течение рек. Но только ради того Зубатова, который увлек ее гуманностью своих идей, мечтаниями о гармоническом развитии мира. А путь к этому? Разве она представляет себе ясно, какие охранным отделением используются пути?
Да, постепенно она привыкнет ко всему, что освящено именем ее кумира, свободно перешагнет через все пугающие барьеры, но сейчас надо быть с нею предельно внимательным, душевно открытым, чуть покровительственным. И осторожным. Потому что такие при случае и стреляют. Без Мани же легко и изящно с бундовцами не справишься. А грубая сила — всегда грубая сила. И не его, Зубатова, это принцип действий.
Гапон экзальтирован не меньше Мани Вильбушевич. Если Маня готова сдвинуть горы, то Гапон, как верно подметил Евстратка, способен сквозь стены пройти. Мане нужно ломать преграды. Для Гапона их просто не существует. И в этом тоже большая опасность: неизвестно, сквозь какую стену вдруг вздумает пройти Гапон. Он явно мечется, выбирая карьеру. Глазетовая риза священника и жандармский мундир где-то в глубине души равно для него привлекательны. И в том и в другом естестве для него открываются хорошие возможности. Черт побери, он стал бы незаурядным охранником! И господи, спаси его, не приходским попом!
Во всяком случае, этих двух зверяток, Вильбушевич и Гапона, из клетки выпускать не следует. А дрессировкой их надо заняться всерьез.
Он уже совсем лениво, перебарывая сонливость, которая неодолимо стала его охватывать в пустом, совершенно беззвучном кабинете, взял со стола рапортичку событий, происшедших в его отсутствие.
Ничего примечательного. О главном, и сочнее, рассказал Медников. Ах вот, опять Дубровинский! Среди других он подписал резолюцию о присоединении к «Протесту российских социал-демократов». Ветер из сибирской ссылки от Владимира Ульянова долетел и в Яранск. Ба, какая цветистая гирлянда только по Вятской губернии: Потресов, Воровский, Землячка, Бауман, Радин! Остальное менее значимо. Но, впрочем, кто может предсказать, какую роль вручит судьба тому или иному из этих «менее значимых»? Некогда в революционной среде гигантским столпом возвышался Плеханов, а ныне первое место принадлежит, бесспорно, Ульянову. Теории Плеханова красивы и убедительны, теории Ульянова красивы, убедительны и действенны. Дубровинский не выделяется своими оригинальными теориями, он эхо — сильное эхо ульяновских взглядов. Это надо иметь в виду.
Хм, и еще Дубровинский! Завязано знакомство со вновь прибывшими в Яранск по «тифлисскому» делу Афанасьевым и Киселевской. Последняя проходит еще и по делу «Рабочей мысли» в Санкт-Петербурге. Знакомство Дубровинского с Киселевской носит, по-видимому, интимный характер…
Так, так… Если бы все знакомства женщин и мужчин носили только интимный характер! Совет бы им да любовь! А филеры, оказывается, способны подмечать и столь тонкие чувства. Молодцы!
6
Тащась по стылой, снежной дороге за этапными подводами, Анна Адольфовна Киселевская прибыла в Яранск с очередной партией ссыльных на третий день после престольного праздника Казанской божьей матери.
Во многих домах еще продолжалось веселье, ревели гармони, стекла в окнах дрожали от лихого перепляса. По главной улице проносились парные упряжки, обдавая прохожих из-под полозьев саней колючей льдистой метелицей. В тюремной канцелярии «политиков» расписали быстро, а Киселевскую по каким-то формальностям задержали значительно дольше других, и когда она очутилась «на воле», в суетливой, уже растекающейся толпе встречающих не увидела ни одного из своих товарищей по этапу.
Куда пойти? Направо или налево? Вечерело, в домах засветились желтые огоньки. От высоких, глухих заборов подползала темнота.
— Федор Еремеевич! — невольно вырвалось у Киселевской. — Где же вы? Федор Ере-ме-евич! Афанасьев!
Кто-то тронул ее за плечо.
— Извините, я тоже недавно был в подобном положении. Хотите, попытаюсь помочь вам найти уголок? Знаю одну маленькую, но совсем отдельную, а главное, недорогую комнатку. — И представился: — Дубровинский Иосиф Федорович.
Киселевская, назвав себя, устало и благодарно ему улыбнулась.
Ее вещи, принесенные Дубровинским, лежали как попало, брошенные прямо на пол, на короткую некрашеную скамью у двери. Она не сняла верхней одежды, пробитого снежной пылью стеганого пальто, только сбросила на плечи толстый шерстяной платок, которым была укутана голова. Открылись гладко натянутые темные волосы с тугим валиком на затылке, и Дубровинский про себя подивился, как это на своем долгом и тяжком пути девушка смогла следить за прической. Киселевская грудью, ладонями припала к натопленной печке, а лицо повернула к Дубровинскому, узкое, худое лицо, с запавшими глазницами, маленьким острым носом и по-мужски густыми черными бровями.
— Спасибо вам большое, — вяло проговорила она. — Мне ничего, решительно ничего больше не нужно. Простите, что я доставила вам много хлопот.
— Вы, должно быть, южанка? Здешние холода вам покажутся жестокими. Есть ли при вас теплые вещи?
— У меня есть все, — сказала Киселевская. — У меня есть характер. И если я выдержала дорогу сюда, выдержу и остальное. — Она прислушалась к далекому шуму на улице. — Здесь всегда так бывает?
— Наоборот. Всегда здесь полнейшая тишина.
— Ну и лучше. Мне хочется сейчас только лишь тишины. Тишины и одиночества.
— Позвольте, Анна Адольфовна, к вам завтра снова зайти?
— Зачем? А впрочем, заходите, — сказала Киселевская равнодушно. — Но можете и не заходить.
И не шелохнулась, когда Дубровинский поклонился ей от двери.
Он брел по темной улице, зябко поеживаясь от тянущего понизу ветерка, и размышлял: наверно, Леониду Петровичу внезапно сделалось худо. Иначе он вместе с Конарским непременно оказался бы среди встречающих. Так договаривались вчера вечером. Но Радин уже тогда выглядел скучным и безучастным.
Вчера же они вдвоем убедили Леонида Петровича подать прошение в департамент полиции о переводе в какой-либо южный город. Но где есть университет. Это обязательное условие, при котором он соглашался написать прошение, выдвинул сам Радин. И объяснил, что университет вольет в него новые жизненные силы уже одним ощущением сопричастности его, Радина, к наукам, изучаемым там. Воспламенясь, он представил себя даже преподавателем университета, разумеется, когда окончится срок ссылки и сняты будут административные ограничения. Наивная маленькая хитрость с его стороны. Уступка своим друзьям. Бедный Леонид Петрович! Он тает, гаснет на глазах, и юг — моление о чуде — все же единственное, на что еще можно надеяться.
Прошагавшая сотни верст пешком в окружении уголовников, грубой, жестокой стражи, худенькая, побледневшая девушка сейчас стоит в чужом, незнакомом доме, прижавшись грудью к теплой печке, и жаждет только тишины. А ведь это тоже болезнь, мучительная, тяжелая болезнь. Она, как и туберкулез, начинается на бесконечных допросах и в сырых тюремных камерах. Чахотку излечивает благодатный крымский воздух. А что может излечить человека от яда замкнутости? Киселевская обронила несколько слов о том, что у нее «есть характер» и что, «выдержав дорогу сюда, она выдержит и остальное». А вот уже и не выдержала, поддалась искушению остаться в одиночестве. Так, замерзая в открытом поле, люди покоряются смертному сну. Прекращают борьбу. И хорошо, если их откопают из снежных сугробов, прежде чем совершенно оледенеют конечности. Иначе, быть может, жизнь им еще и будет спасена, но калеками они останутся навсегда. Киселевская сказала: «Заходите. Но можете и не заходить». Он должен к ней зайти непременно.
Ночь напролет, чередуясь с Конарским, Дубровинский провел у постели Радина. Тот весь горел в жару, стонал от боли и задыхался. Врач земской больницы Шулятников, посетивший его с вечера, определил: острый правосторонний плеврит на фоне прогрессирующего туберкулезного процесса. Отозвав Дубровинского в сторону, Шулятников грустно сказал:
— Плеврит, в его острой форме, надеюсь, мы одолеем, хотя почти неизбежны последующие неприятности — внутренние выпоты, отеки, экссудат. Что же касается главного, простите, это при любых обстоятельствах лишь вопрос времени. И поведения самого больного, его готовности подчиняться врачебным назначениям. Но в Яранске, вы сами понимаете, возможно ли эффективное лечение!
А Леонид Петрович, едва стихали самые жестокие приступы боли, требовал, чтобы ему позволили встать и дали наконец закончить перевод Карла Каутского. Ночь — это лучшее рабочее время, и ради каких-то дрянных порошков, микстур и компрессов он не намерен терять золотые свои часы.
Потом, утомленный безуспешным спором с Дубровинским и Конарским, хрипя и кашляя, принимался печально декламировать Гейне:
Желтеет древесная зелень, Дрожа, опадают листы… Ах, все увядает, все меркнет — Вся нега, весь блеск красоты. И солнце вершины лесные Тоскливым лучом обдает. Знать, в нем уходящее лето Лобзанье прощальное шлет. А я, — я хотел бы заплакать: Так грудь истомилась тоской. Напомнила эта картина Мне наше прощанье с тобой. Я знал, расставаясь, что вскоре Ты станешь жилицей небес. Я был уходящее лето, А ты — умирающий лес.Дубровинский наклонялся, заботливо менял на лбу Радина мокрое полотенце, уже через несколько минут вновь становившееся горячим.
— Наденька! Наденька! — невнятно бормотал Радин. У него начинался горячечный бред. — Как мог я так опоздать? Почему я тебя не вижу?
— Леонид Петрович, — убеждал его Дубровинский. — Она вышла ненадолго, скоро вернется. Вот выпейте брусничного морса. Закройте глаза, засните.
— Заснуть? Мне заснуть? Для чего? Нет, дудки! Я знаю, где я. Я знаю, кто я!
И, потрясая сухими кистями рук, с иронией выкрикивал:
Во сне с государем поссорился я — Во сне, разумеется: въяве Так грубо с особой такой говорить Считаем себе мы не вправе.Лишь под утро, когда жар стал немного спадать, больной успокоился, сам попросил пить, беспрекословно принял лекарство и все извинялся — неведомо в чем.
Прямо от него Дубровинский пошел к Киселевской. На востоке полыхала огненная заря, словно бы перечеркнутая в нескольких местах узкими тонкими полосками синих облаков. В чьем-то дворе, разматываясь, гремела колодезная цепь, гулко плюхнулась об воду деревянная бадейка.
«Что же я этакую рань? — подумал Дубровинский. — Неприлично. Конечно, человек еще в постели».
Покосившись на незакрытые ставни, на занавешенные изнутри плотными шторками окна дома, в котором сняла комнату Киселевская, он прошел мимо.
Яранск только-только еще пробуждался. Вот, скрипя, поднималась тяжелая щеколда, повизгивая петлями, открывалась почерневшая от старости калитка и на улицу медленно выбирался такой же дряхлый дед. Поправив на голове треух, разлетистый, из серой собачины, косицами слепившийся от долгой носки, дед шествовал по каким-то своим делам. Перекликались в обнесенных толстым заплотником дворах занозистые женские голоса. Ватага мальчишек, награждая друг друга подзатыльниками, выбегала из маленького переулка и наперегонки мчалась по накатанной санной дороге.
Ломая торжественную зоревую тишину, ударил церковный колокол, помедлил, словно выжидая, когда его первая медная волна обойдет, накроет город от конца до конца, и снова ударил, еще тягучее, громче. Ему отозвались другие, на всех четырех церквах. Размеренно, всяк сам по себе и в то же время все вместе, они постепенно захватили земное и небесное пространство и подавили прочие голоса начинающегося дня.
Чем живет этот город? Какие заботы владеют его обитателями? Что ни дом, то крепость. Скорее, острог. Сторона-то лесная, выбирай для постройки любое дерево, кондовую сосну, бессмертную лиственницу, так, чтобы ни плесень, ни гниль не взяла. Жизнь в этом городе, как трезвон церковных колоколов, всяк сам по себе и в то же время все вместе. Но вместе — только дворами, домами, этакими острогами. А люди в острогах-домах заняты мыслями: как свой, только свой, наступающий день обеспечить.
Родственники и милые друзья не в счет. Не в счет и знать городская. Друзей и родственников связывают особые чувства. Знать городская живет, не заглядывая в будущий день с голодной тоской. У нее иные тревоги: нарастающее непослушание мелкого люда. Ну, а все-то, все остальные?
Когда нет заводов и фабрик, хотя и за бесценок, но более или менее постоянно занимающих рабочие руки, — что им делать, этим рукам? В городе хлеб не посеешь и травы не накосишь. Если кто и обзаведется конем да коровенкой — с кормами намается. Ну, огород на задах, своя капуста и морковка, дюжина куриц, поросенок в закутке. Вот и вся пожива. Как тут ни переливай из пустого в порожнее, как из кармана в карман один и тот же пятак ни перекидывай, а кормится все «прочее население» вокруг купцов, попов, трактирщиков и местного чиновничества. На них работает впрямую или косвенно. Их благоволение боится потерять. Где тут думать о другом человеке? Себе бы лишь как получше.
Дубровинский огляделся. Размышляя, он прошел незаметно через весь город и очутился на выходе в открытое метельное поле, где ветер тряс верхушки сухого бурьяна. Над далеким лесом, пробиваясь сквозь слоистую тучу, золотился солнечный диск. Больно было смотреть. И тянуло к солнцу, хотелось войти в лес, издали светлый и радостный, побродить в нем часок-другой. Но — это больше чем верста за чертой города, и, следовательно, если узнает полиция, неприятностей не миновать. Зуб на него и здесь и в Вятке все время точат. Последует донесение: попытка к побегу. И тогда…
Он повернул обратно. А перед глазами стоял далекий солнечный лес и открытое, в сверкающих снежных застругах поле.
Потом это поле представилось совсем иным, выжженным летним зноем и бездорожием до пепельной серости, таким, каким он видел когда-то голодную землю в Кроснянском, измученную землю, оскорбительно забрызганную хлорной известью. А на крыльце волостного управления прикрученный веревками мужик, недоимщик, которому ведро за ведром льют на голову ледяную воду. Увидел почерневшие изнутри заводские корпуса и рабочих, словно бы насквозь пропитанных мазутом и угольной гарью, натужно ворочающих чугунные отливки. Затем — тех же рабочих, жарко дышащих, собравшихся тайно в тесный кружок для чтения прокламаций: «Свобода! Свобода!»
А над всем этим — хищно распластанные крылья двуглавых орлов, глядящих с вывесок и фронтонов правительственных учреждений; сырые и холодные одиночки Таганской тюрьмы; бесконечные вереницы кандальников…
Хватит ли, не здоровья, нет, упорства, чтоб выйти в жестокой борьбе с этой злой силой победителем? Праздный вопрос! Сражаться нужно, сражаться! Так, как видится Гейне: «…один упал — другие подходи!» И не сдаваться, раз «…оружье цело, лишь сердце порвалось в моей груди».
Ветер, казалось бы, легонький, прохватывал до костей. Дубровинский шагал торопливо, дивясь, почему он стал таким чувствительным к холоду. Малость — и горло болит, начинается кашель. Не та ли жестокая хворь и к нему привязалась, что терзает Леонида Петровича? Впрочем, кажется, нет, случалось, покашливал он и в детстве. А все же хорошо бы поскорее в тепло.
Киселевская на его стук не подошла к двери, крикнула издали: «Войдите! Открыто!»
Она сидела у стола, закутавшись в темную шаль, поджав под себя ноги. Окно было по-прежнему задернуто шторами, и от этого комнатка представлялась особенно тесной. Дубровинский с досадой подумал, что посредником в найме квартиры для этой грустящей девушки он оказался очень плохим. Сбила с толку Праскева. Да, конечно, дешево…
— Простите меня, если я некстати, Анна Адольфовна, — сказал Дубровинский, разминая застывшие пальцы и не зная, снимать ему пальто или не снимать, что-то слишком уж безразлично встретила его Киселевская.
— Вообще, я по паспорту и в следственных материалах — Григорьевна. Но мне как-то приятнее слышать собственное имя в соединении с подлинным именем отца. Это я так, между прочим, — не меняя своей позы, сказала Киселевская. — А если вы все же зашли ко мне, значит, кстати. Только, право, мне ничего не нужно.
— Вам нужно знать, что в Яранске вас окружает много хороших друзей.
— Уверена. Но мне сейчас, я, кажется, вчера говорила, хочется одиночества. Ничего больше.
Дубровинский снял пальто, повесил его на деревянный колышек у двери. От ботинок натаяли маленькие лужицы. Он стеснительно переступил ногами. Мокрые следы за ним потянулись.
— Когда я сидел в одиночке, Анна Адольфовна, — приблизясь к столу, проговорил Дубровинский, — я понимал, что единственное средство противостоять чувству гнетущей тоски — это работать. То есть двигаться, читать, если есть что читать, думать, уноситься вдаль своей мыслью.
— Я выдержала в Тифлисе экзамен на звание домашней учительницы. Если хотите, я могу продолжить урок, который вы начали.
— А почему так недружелюбно? — тихо спросил Дубровинский. — Чем я вас обидел?
Девушка принужденно усмехнулась, и Дубровинский заметил, как печальны ее глубокие серые глаза, а белизна лица похожа на восковую — белого воска. Губы нервно подрагивали.
— Чем обидели? — переспросила она. — Именно этим вопросом. Если натягивать струну долго и сильно, но так, что струна все же не оборвется, вы верите в то, что ей станет больно? И эта боль потом долго не затихает.
— Пожалуй, да… — подумав, сказал Дубровинский. — Нечто подобное и я испытывал. Но что же делать? Я очень люблю народные поговорки, но не согласен, что клин надо выбивать обязательно клином. Боль, какую оставило долгое одиночество, не снять новым одиночеством.
— А я в одиночке не сидела, если вы это понимаете в прямом смысле, — возразила Киселевская, — я была одинока на людях. Это много тяжелее. Такая боль сглаживается медленнее. — Она вдруг нервически вскрикнула: — И наконец, я женщина! Это плохо. Для меня, конечно, прежде всего. Особенно на допросах и очных ставках, когда мужчина признается во всем и показывает на женщину пальцем: «Да, вот она!» А женщина молчит. И отрицает все! Ни в чем не сознается, значит, и не выдает других. Идет потом в тюрьму, в ссылку, а тыкавшие в нее пальцем мужчины возвращаются к своим семьям, целуют жен, детей. После всего этого, как вы полагаете, женщина может поплакать? Не на людях, а в одиночестве!
Она вскочила, кусая губы. Шаль свалилась с плеч на пол. Киселевская отбросила ее ногой, стремительно прошлась по комнате несколько раз из угла в угол, припала к печке. Голос девушки вздрагивал, срывался, когда она заговорила снова.
— Я вам сейчас открылась, а вдруг вы провокатор! Вас я вижу всего лишь второй раз. А с теми людьми я вместе работала. Долго. И мы клялись своей совестью не изменять, слышите, никогда не изменять нашему общему делу! А чем это кончилось? Вы провокатор или нет? Ведь, кроме того, что вы Дубровинский, о вас я больше ничего не знаю.
Язык не повиновался ему. Стянуло скулы, холодок пополз по шее, по спине. Так оскорбительно его еще ни разу в жизни не били. Вслед за тем накатилась горячая волна вскипающего гнева и заслонила ясность мышления. Нужно было перетерпеть и это. Несколько секунд — ему казалось, молчит невыносимо долго, — он постоял как каменный, пока вернулась способность управлять собой.
— Вам знать только то, что я Дубровинский, — уже достаточно, — смог выговорить он совершенно спокойно. — Так мне хотелось бы думать. О себе. И о вас.
Опять воцарилось молчание. Дубровинский понял: они обменялись пощечинами. И неизвестно, чья пощечина была тяжелее. Но ведь и нет же слова отвратнее, чем «провокатор», а это слово все еще как бы витало в воздухе. Оно всегда представлялось ему как некое фантастическое чудовище, которым пугают неосторожных, но которого нет в реальной жизни. И если даже подобное чудовище и существует в действительности, так он, Дубровинский, с ним все равно никогда не столкнется, ибо он верит в людей, а вера, точно магический круг, не позволит пробиться сквозь нее чему-либо недостойному. Ведь он же и мысли не допускает, что сама эта хрупкая, измученная девушка — провокатор! Как может она такое подумать о нем?
— Это… нервы… — наконец оборвала тягостное молчание Киселевская. Переводя дыхание, закрыла ладонями лицо. — Должна ли я извиняться? Хорошо, я готова.
И Дубровинский тихо сказал:
— Простите меня, Анна Адольфовна!
7
Как и предсказывал земский врач Шулятников, острую вспышку туберкулезного процесса у Радина приостановить удалось. Однако Шулятников хмурился: невидимые убийцы, палочки Коха, продолжали свое медленное, разрушительное дело. Радин слабел с каждым днем. Его вымучивали проливные ночные поты, затяжной кашель, неизменно заканчивающийся появлением алых капелек крови. Из комнаты на свежий воздух он теперь совсем не выбирался, дрожали ноги и сразу бросало в колючий озноб. Но работу свою он никак не хотел оставлять незаконченной, сердился, если ему мешали, подавая лекарство, и уж совсем становился яростен, когда Конарский с Дубровинским пытались отобрать чернила, перо и бумагу.
— Иосиф Федорович, это — черное злодейство! — выкрикивал он, размахивая иссохшими руками. — Да, да, если вам угодно лишить меня права заниматься переводами Каутского и взвалить это все на себя, я подчинюсь, но не потому, что это чем-то оправдано и справедливо, подчинюсь грубому насилию. Однако я не подчинюсь и грубому насилию в том, что касается моей личной работы. Вместо меня этого не сделает никто! То есть когда-нибудь, бесспорно, сделают другие, но зачем же им выдумывать порох? Поймите, дорогой Иосиф Федорович, я мыслью своей, так кажется мне, прорываюсь к неким недоступным доселе тайнам мироздания, вульгарно говоря, ловлю за хвост небесную механику, так ловко выскользнувшую из рук бессмертного Ньютона, вернее, оставившую ему всю близкую вселенную и утаившую секрет бесконечных пространств, околосветовых скоростей движения материи, а вы, а вы… Нет, вы понимаете, что вы делаете, что вы хотите сделать?
Дубровинский мягко его успокаивал. Конечно же научная работа Леонида Петровича должна быть закончена как можно быстрее, но — он шутил — в Яранске околосветовые скорости неприменимы, а законы обычной, земной механики утверждают: сколько выиграешь в скорости, столько потеряешь в силе. И Радин нехотя сдавался.
Уход за больным становился все тяжелее и сложнее. На выручку Конарскому с Дубровинским пришла Киселевская. Мужчины посменно дежурили ночь, когда Леониду Петровичу было особенно плохо, Киселевская заменяла их днем.
Она по-прежнему вела свой замкнуто-одинокий образ жизни, из дому почти никуда не выходила и в вечеринках ссыльных «политиков» редко принимала участие, отклоняя даже приглашения простецки-добродушного Федора Еремеевича Афанасьева, с которым была связана подпольной работой в Тифлисе, вместе по одному делу осуждена и выслана в Яранск. Дубровинскому объяснила: сидеть молчальницей на таких вечеринках нелепо, зачем тогда и приходить, а в бурные споры вступать она не может, потому что знает — сорвется, накричит и создаст о себе дурное мнение. Надо немного успокоиться, свои эмоции подчинить власти рассудка. Время с пользой можно проводить и в чтении литературы. Читать она способна день и ночь. Только бы раздобывать нужные книги и деньги на керосин. Последние слова у Киселевской сорвались нечаянно, она их тут же попыталась замять, но кто же из ссыльных не понимал, что значит каждая копейка, когда взять ее неоткуда.
Подспорье в этом к Киселевской пришло нежданно-негаданно.
После неоправданно резкой стычки с Дубровинским она прониклась к нему доверием и не встречала холодным безразличием. Больше того, хотела видеть чаще. Ей нравилось тихонько побродить с ним рядом в ночной тишине либо посидеть у постели Радина.
В один из таких «дежурных» дней, пробегая торопливо по морозной улице, чтобы поспеть накормить больного, пока не ушел Дубровинский, Киселевская заметила в окне большого, разукрашенного резными наличниками дома прилепленный изнутри листок бумаги. Но окна от земли, как и подобает богатым хоромам, были расположены высоко. Даже приподнявшись на цыпочки, она не смогла прочитать объявление полностью. В глаза бросилось лишь одно слово «учительница». Об этом она вскользь упомянула, отвечая на вопрос: «Чем вы так взволнованы?» Дубровинский сразу же вызвался:
— Позвольте, я разгадаю загадку, Анна Адольфовна! Ростом бог меня не обидел, дотянусь — прочитаю.
Он вернулся с сообщением, что дом принадлежит купцу Балясникову. И там действительно требуется учительница русского языка для «приготовишки», купеческого оболтуса сына. Чадо сие весьма своенравно, несколько репетиторов уже обломали себе зубы на нем. Балясников теперь жаждет нанять именно учительницу: женщина, дескать, вернее подберет ключи к сердцу милого мальчика.
— Вот так, Анна Адольфовна, — заключил свой рассказ Дубровинский. — Поздравляю! Господин Балясников согласен взять вас наставницей сына с оплатой за каждый час, потраченный вами. Что же касается политической стороны, запрета ссыльным давать частные уроки, его степенство заявил: «А плюю я на это! Кому запрет, Балясникову? Нету ему никаких запретов! Запрет мадмазели? Ска-ажу исправнику. И не пикнет. Но чтобы в дом ко мне крамолы не носить, ни боже мой! Стишки, грамматика, диктанты, чистописание — все по учебникам, одобренным свыше».
Киселевская радостно вздохнула. Русский язык — как раз ее любимый предмет. Ну, а «крамолу» носить надо не в такие дома. Заработок же, хоть маленький, видимо и нелегкий, очень ей пригодится.
Заработок оказался и маленьким и намного более горьким, чем она предполагала. Оболтус, завидев учительницу издали, моментально взбегал по лестнице на чердак и укрывался там за печной трубой. Начинались трудные объяснения с родителями: кому стаскивать оболтуса с чердака? Логика супругов Балясниковых была неотразима.
«Милая ты моя, от кого он бегает, от нас или от тебя? — кротко спрашивала купчиха. — Ты же расположи его к себе, он и прятаться не станет!»
«Но для того, чтобы я вашего сына могла к себе расположить, мне нужно его видеть. Приведите его, дайте возможность с ним разговаривать!» — возражала Киселевская.
«Бог с тобой, кто же не дает тебе этакой возможности! Для того и убытились, учительницу нанимали. Комната для занятиев тебе совсем отдельная отведена».
«В комнате этой я и готова с ним заниматься. Но не на чердаке же!»
«А это, милая, как тебе удобнее. Мы тебе деньги, ты ему — науку. Такой договор, другого условия не было».
«Я пришла точно в назначенный час, а ученика на месте нет. Кто же из нас договор нарушает?»
«Ты, мадмазель, сказку про белого бычка не рассказывай, — нетерпеливо вступал в разговор сам Балясников. — Этой сказочкой мы еще вот экими забавлялись. А у меня нонче нету времени слушать ее. Словом, так: взялся за гуж, не говори, что не дюж. Не то — распрягайся».
И скрепя сердце Киселевская взбиралась по лестнице на чердак, в полутьме за печной трубой отыскивала там оболтуса, горя страстным желанием выдрать за уши, терпеливо убеждала его спуститься вниз и засесть за грамматику.
Об этих своих нравственных терзаниях она вечерами рассказывала Дубровинскому. Особенно непереносимым для нее было то, что Балясниковы на деле оказались совсем не такими уж дураками. Он — торговлю, купчиха — домашнее хозяйство ведут с большим умом и толком. Над нею же беззастенчиво и нагло куражатся. С явным умыслом прикидываются простачками, чтобы сильнее оттенить свою власть, превосходство. Вот, мол, как вашего брата, дохлого интеллигента, мы — темнота дремучая, под юфтевым сапогом своим держим. Вы борьбу против нас затеваете, пожалуйста! Взяли? Накося — выкуси! А теперь ты — не вы уже, именно ты! — обучи дубину, сыночка нашего, чтобы при богатстве родительском заимелся у него впоследствии и орленый документик со всеми подписями и печатями о наивысшем образовании!
Киселевская зло, с нарочитой грубоватостью высмеивала Балясниковых, добавляя тут же: «А в общем, это горькая истина». Вспоминала родную Керчь. Отец — часовщик. В сорок лет — старик. Всех в семье давно уже сон сморит, а он знай сидит и сидит, согнувшись крючком, ловит стальным пинцетом колесики, винтики, шлифует их, переставляет. Отвертка, как иголка тонкая, сверкает между пальцами. Голову приподнимет, в правом глазу лупа, страшно взглянуть — глаз огромный, черный. Но не различает этот глаз ничего, кроме винтиков и колесиков. Приближаются праздники — начинается подсчет заработанных денег, сколько из них кому дать. Городского начальства много, никого забыть нельзя — плохо будет. Себе, для семьи своей, только то, что останется. Ах, как неприятно, мерзко держать в руках балясниковские двугривенные! Больно получать из дома почтовые переводы. Эти деньги тоже руки жгут. Не отец ей, а она отцу посылать бы деньги должна.
И тогда Дубровинский принимался рассказывать о своей семье. Все они, родители, такие беспокойные. И ему шлют переводы. Сколько могут, а все-таки шлют, хотя он умоляет мать и тетю Сашу не делать этого. Он обязан сам зарабатывать. Что ж, что в ссылке, что лишен многих прав! Нравственная чистота революционера — в труде. Никогда, ни при каких обстоятельствах не оставаться бездельником. Трудиться для партии рабочего класса, которая теперь провозглашена, живет и борьба которой является смыслом жизни каждого революционера.
— Да, но как нас еще мало! — в задумчивости говорила Киселевская.
— Когда создавались первые рабочие кружки, было еще меньше, — возражал Дубровинский.
— Впереди трудные, долгие годы…
— Это страх перед ними?
— Нет, Иосиф Федорович, страх у меня давно прошел. Может быть, притупился. А вообще, разве страх — это плохо? Он, как боль, предупреждает об опасности. Впереди неизвестное. А ведь мы не должны завязывать себе глаза и продвигаться на ощупь. В Тифлисе в тот вечер, когда я решилась пойти к рабочим в депо, организовать кружок, — так сговорились мы с Афанасьевым, — я знала, что буду арестована. И сослана. Боялась этого! Но все равно пошла. Практически под арест. Только в сроках ошиблась. Подумайте, после этого целых два года полиция не могла до меня добраться! Уже в Петербурге настигли. Хотела связать свой тифлисский кружок с «Союзом борьбы» и попалась. Нет, не то слово. Попалась — это когда сама сплоховала. Другие выдали. Удар в спину.
— Меня никто не выдавал, ловкая и подлая работа охранки. В этом я убедился, когда побывал у Зубатова. Его филеры умеют незаметно ходить по пятам. А следователи умеют допрашивать — человек совсем нечаянно может проговориться.
— Если все время повторяешь только «нет», не проговоришься.
— Это верно, Анна Адольфовна, но не все так могут. В деле, по которому арестовали меня, участвовали многие. Их тоже схватила охранка. Никто друг друга не выдавал сознательно. А если, например, Семенова проговорилась, назвала меня, я не виню ее и не считаю предательницей.
— А я бы посчитала!
— Семенова тоже сослана, на три года. Место ссылки ей досталось еще хуже, чем это. Она мне присылает письма, и я ей отвечаю.
— Как вы доверчивы, Иосиф Федорович!
— Никитин, а это очень надежный товарищ, поехал в ссылку вместе с Семеновой. Хотя его собирались отправить в южные губернии. Вот видите, он тоже Семеновой доверяет.
— А почему он не потребовал, чтобы его сослали вместе с вами в Яранск? Мне кажется, он вместе с Семеновой поехал по другой причине. И я догадываюсь, по какой.
— Могла быть и другая причина. Но тогда эта другая причина тем более, и начисто, исключает предательство Семеновой. Помните, у Пушкина: «гений и злодейство — две вещи не совместные!»
— В народе говорят: любовь зла…
— Леонид Петрович считает иначе. Знаю, другой мой товарищ, Костя Минятов, тоже считал иначе. Полагаю, в этом ряду и Никитин. Не могу себе представить, чтобы к ним ко всем подошла поговорка насчет того, что любовь зла. Сам бы я не поступил, как они, не дал бы волю своим чувствам, но если так у них получилось, я их не осуждаю.
— Вы очень добрый…
И разговор на этом обрывался. Они прощались.
Дубровинскому казалось, что с Киселевской ему никогда не найти общего языка — чересчур жестки, суровы все ее суждения в той части, которая относилась к другим. Но эта же суровость во взглядах на свой долг перед обществом привлекала с особенной силой. Хотелось продолжать спор, хотелось видеть ее, говорить с ней. Даже молча посидеть рядом, молча пройтись по темной улице.
Во всем этом было нечто такое, что Дубровинский и сам себе не сумел бы объяснить обыкновенными словами.
8
Незадолго до наступления Нового года, с особой броскостью обозначенного на всех календарях последними двумя цифрами — нулями, Конарский поделился с Дубровинским своими тревогами.
Заканчивается в январе его, Конарского, срок ссылки, немного позже истекает этот срок и у Леонида Петровича, ответа же из департамента полиции о переводе Радина на юг все нет и нет. А человек медленно угасает, и врач Шулятников, исчерпав все, признается в своем бессилии. Что делать? Есть мысль послать письмо в Ялту доброму и милому писателю Антону Павловичу Чехову с просьбой пристроить Радина по окончании ссылки бесплатно в свой санаторий, а если нет у Чехова своего санатория, то в какой-либо другой, с умеренной платой. Ходит повсюду молва об удивительной отзывчивости этого писателя, притом весьма сочувственно настроенного к жертвам царского произвола.
— Годится ли это? — с сомнением спросил Дубровинский, припоминая предсказания врача. — Так труден зимний путь отсюда до Ялты. Даже для здорового человека. Три недели езды. Ведь это, по существу, надежда на чудо.
— Да! — подтвердил Конарский. — Ну и что же? Если нет иной надежды, будем надеяться на чудо. А Ялта действительно делает чудеса. Хуже всего безвольно плыть по течению.
— Этим вы больше всего меня убедили. А вот как убедить Леонида Петровича? Его жену не спас и юг. Он привез ее туда слишком поздно. Считает, что время потеряно и для него.
— А вы верите в могучую силу слова, исходящего от человека, которому не поверить нельзя? Леонид Петрович фанатичный поклонник таланта Чехова, и когда от Антона Павловича придет желанный ответ…
— Хорошо! Пишите ему, пишите.
— И еще я вас прошу, Иосиф Федорович, когда я уеду, переберитесь к Леониду Петровичу. Ему будет повеселее. Одно дело — дежурить у постели больного, другое — постоянно разделять досуг с человеком, как бы и не нуждающимся в уходе. Это на случай, если с Ялтой почему-либо дело не сладится.
— Конечно! Сразу же перейду на вашу квартиру. На этот счет у меня и с Анной Адольфовной был разговор. Не оставим без присмотра Леонида Петровича.
— Странный человек эта Киселевская, — заметил Конарский. — Я ее не пойму. Когда приходит ухаживать за Леонидом Петровичем, откуда-то берутся у нее и ласковые слова и улыбается приятно, заботливость сквозит во всем, женщина как женщина. А так… то вспыльчива, то угрюма, замкнута — словно монахиня, сидит одиноко в своей келье, читает и читает. Какой-то подчеркнутый аскетизм. Хотя для революционерки, в общем, это и правильно. Вот вы, Иосиф Федорович, ее навещаете, знаете лучше — вы способны с ней разговаривать? Я не могу, мне трудно.
Дубровинский только пожал плечами.
Нет, ему не было трудно разговаривать с Киселевской. Вернее, трудно было бы не разговаривать. Если случалось несколько вечеров подряд не видеться с нею, он испытывал чувство гнетущей тоски. Так бывало в раннем детстве. Уйдут все из дому, оставят одного, замкнут на ключ. И до чего же мучительны становятся часы ожидания! Мяукнет кошка, неведомо отчего скрипнет на кухне половица, ветер бросит легкий листок в оконное стекло — все отзывается острой болью в сердце. Мерещится: мама попала на улице под копыта лошадей, с братьями тоже приключилась беда, и он сам теперь должен медленно помирать в этой гулко и страшно на каждый звук отзывающейся пустой комнате.
Встреча Нового года на квартире Радина не получилась веселой. Праздничность настроения испортило появление городового. Он ввалился как раз в то время, когда Леонид Петрович, преодолевая слабость, поднялся с постели, натянул свежую рубашку и прихорашивался перед зеркалом. Рассчитывал ли сей малый полицейский чин захватить участников вечеринки за чтением недозволенной литературы? Проводил ли некстати очередную «проверочку» в рассуждении возможного побега кого-либо из политиков? Полагал ли он по простоте, что ради праздника поднесут ему некий щедрый дар, на худой конец — угостят как следует?.. Неизвестно, что привело его в этот дом. Но, войдя, уходить не спешил, топтался в промерзлых сапогах посреди комнаты и рыкал простуженным басом что-то вроде: «Так-с, так-с, господа хорошие, с наступающим, значит!.. Ну и как то есть?.. Собираемся, веселимся… Погодка, сказать, благоприятственная…»
Поначалу на него просто не обращали внимания, прямых вопросов он не задает, ну и пусть всех хоть по пальцам пересчитает. Побубнит себе под нос и смотается. Однако похоже, городовой не собирался вскоре оставить дом. Так что же ему нужно: наблюдать, как «политиками» встречается Новый год? Никакими положениями о гласном надзоре такое вторжение полицейских чинов в частные квартиры не предусмотрено. Об этом деликатно напомнил ему Дубровинский. Городовой только повел головой.
— На службе, господа, на службе…
И тут все поняли: городовой пьян. Настолько пьян, что ласковыми словами его не убедишь покинуть дом. И не настолько пьян, чтобы вытолкать его взашей без всяких административных последствий.
А время шло, и стрелки часов приближались к двенадцати. Свое дипломатическое искусство поочередно испробовали и Дубровинский, и Конарский, и сам Леонид Петрович. Безрезультатно. На Радина городовой посмотрел с удивлением, даже слегка отпрянул назад. Покрутил в воздухе указательным пальцем.
— Виноват, а кто же в постели? С наступающим… Прошу, господа!..
Да, конечно, он не уйдет. Но усаживаться при нем за стол, приглашать и его — иначе все равно он сядет сам, — встречать Новый год в общей компании с городовым?.. Чудовищно! Поднести ему угощение, поздравить и его… Унизительно! А он между тем косит глазом на тикающие ходики с гирькой. Видимо, соображает, когда наступит торжественный миг, и непреклонно дожидается…
Взорвалась Киселевская:
— Слушайте, городовой! Если вы сию минуту не оставите нас в покое, вы пожалеете… Мы будем… Мы будем жаловаться…
Он вдруг вытянулся, щелкнул каблуками тяжелых сапог, тронул большими пальцами усы, произнес только одно слово: «Цыц!» — и, заложив руки за спину, сделал медленный круг по комнате.
Киселевская вновь подступила к нему.
— Я требую, слышите, требую…
— А я сказал: цыц! — возвышая голос, рыкнул городовой. — За оскорбление должностного лица при исполнении…
Назревал скандал, отдаленные результаты которого трудно предвидеть. «Оскорбление»… Кто кого оскорбил? При «исполнении» находится этот городовой или не при «исполнении»? Кому будет больше веры, если дело дойдет до высокого начальства: группе политических ссыльных, постоянно заявляющих свои протесты по разным поводам, или «должностному лицу»? Рука руку моет.
Что же предпринять? Позови, все равно никто из этой братии не прибежит, чтобы убрать пьяного самодура. Да и не сыщешь никого — все встречают Новый год. Вот она — сила власти! Ею сказано: «Цыц!» — и молчи. Покоряйся.
— Друзья мои, это же такой произвол… — задыхаясь, проговорил Радин, — я… я не нахожу другой возможности избавиться от этого… Мы должны уйти из дому, а его здесь оставить одного.
И стал натягивать пальто, искать свой теплый шарф. К нему присоединились Дубровинский с Конарским. Но Киселевская, гневно вскрикнув: «А я пойду на квартиру к исправнику! Жаловаться!» — выбежала прежде всех. Городовой с заложенными за спину руками каменной глыбой стоял посреди комнаты…
Ночное небо пылало холодным жаром бесчисленных звезд. Они мерцали, переливались разноцветными огоньками, протягивали тонкие лучики к земле, нисколько ее не согревая. Казалось даже, что именно оттуда, из бездонной глубины неба, опускаются вниз морозные волны, перехватывающие дыхание. Дубровинский догнал Киселевскую уже довольно далеко от дома, пошел с нею рядом.
— Анна Адольфовна, я с вами! Но, может быть, лучше вернуться? Поверьте, нас и слушать исправник не станет. А тем временем, надеюсь, этот хам уберется. Как он ни пьян и ни глуп, а сообразит, что произошло!
— Он не так пьян и не так глуп, Иосиф Федорович, и он давно сообразил, что произошло. А произошло то, что все мы его испугались. Он этого и добивался. Добился. Прискорбно. Так разве мы теперь не обязаны добиться, чтобы он боялся нас?
— Ну что же, попробуем, — сказал Дубровинский. — Это и мое правило: не отступать перед силой.
Еще за квартал до исправничьего дома стало слышно, как там веселятся. Песни, тонкие женские вскрики, топот ног, словно в доме резвился табун лошадей. И все перекрывала ревущая медь духового оркестра, единственного на весь Яранск, но подчиненного исправнику по его положению главы добровольного пожарного общества, из команды которого и был создан оркестр.
Ворота оказались заложенными наглухо. Стучать тяжелым литым кольцом, бить каблуками в калитку было совершенно бессмысленно: цепные дворовые собаки и те не хотели отзываться на стук, настолько ничтожно слабым казался он в праздничном грохоте, исходящем из дома.
Тогда, взобравшись на высокий кирпичный цоколь, Дубровинский и Киселевская забарабанили в окна, прикрытые плотными ставнями с железными болтами. В неистовстве оркестра, залихватски грянувшего в этот момент краковяк, растворились и потерялись все прочие звуки.
И все же Дубровинский настойчиво продолжал стучать и стучать. Киселевская дула на кулаки — ей стало больно.
Наконец на дальний край забора упала светлая узкая полоса, открылась сенечная дверь, и кто-то вышел из дома. Проскрипели по двору неровные шаги, брякнула щеколда, и калитка приотворилась. Из нее выглянула взлохмаченная голова.
— Эй, ряженые, гадальщики, черт вас дери, ступайте к другим! Чего вы тут ломитесь? С Новым годом! — прохрипела голова, и калитка захлопнулась.
Но Дубровинский успел соскочить с цоколя и надавить на калитку плечом, прежде чем изнутри был задвинут засов.
— Слушайте, слушайте, — торопливо заговорил он сквозь узкую щель сопротивляющейся ему калитки куда-то в пустую темноту двора. — Нам нужно переговорить лично с исправником. В наш дом ворвался…
— Убитые есть? Кого убили? — И сопротивление калитки сделалось чуточку послабее.
— Убитых нет, но пьяный городовой нахально…
— Что?! К чертовой бабушке! Дебоширы! Нашли время!
Калитка с треском захлопнулась, своей острой кромкой едва не отрубив пальцы Дубровинскому. Гик и топот в доме продолжались своим чередом, ревел контрабас, и ернически попискивал корнет-а-пистон.
Дубровинский подал руку Киселевской, помогая спуститься с высокого цоколя.
Девушка дрожала. От холода или от нервного напряжения. Вот это поворот: их самих зачислили в дебоширы! Чего доброго, могла бы еще выскочить парочка дюжих архаровцев, стащила бы в участок, бросила в кутузку, и доказывай… А что впрямь долго барабанили сами они в исправничьи окна — факт несомненный. Выходит, дешево отделались. Киселевская размышляла. Что же, на этом и смириться? Ну нет, сегодня до исправника не доберешься. Наступят «присутственные» дни. И тогда на стол к нему ляжет по всей юридической форме написанная жалоба. Хамство прощать нельзя…
— Не простудился бы Леонид Петрович, — озабоченно проговорил Дубровинский, первым нарушая молчание. — За последнее время он совсем не выходил из дому. Отвык от холодного воздуха. А ночь морозная.
— Идемте быстрее, — отозвалась Киселевская. — Но если эта пьяная скотина все еще куражится, потом уже будь что будет, а я выгоню прочь!
Возле дома на улице не было никого, а в окнах теплился слабый желтый свет, спокойно двигались тени. Стало быть, городовой «снял осаду» и Радин с Конарским вернулись к себе.
Наверное, Дубровинскому и Киселевской следовало тоже побыстрее пробежать через двор и, отряхнув снег, войти в тепло, но Дубровинский почему-то поколебался. Торжественная минута наступления Нового года давно прошла, праздничное настроение все равно безнадежно испорчено, а здесь, на открытом просторе звездной ночи, хотя морозцем и покалывает щеки, но так хорошо. И только здесь, сейчас, наедине, можно сказать Анне Адольфовне, какая она молодчина.
На людях это уже прозвучит как легкая насмешка, либо как сладкий комплимент. А не сказать нельзя. Потому что тогда, уже с его стороны, это было бы неоправданной грубостью, бесчувствием. И еще потому, что он знал, угадывал: Киселевской тоже хочется этого. Не самих слов, тем более цветистых, — хочется товарищеского признания в том, что друг друга теперь они и без слов хорошо понимают, что наступает какая-то удивительная легкость, освобожденность, когда вот так они остаются только вдвоем.
Откинув голову назад, Киселевская оглядывала ночное небо.
— Что вы там ищете, Анна Адольфовна? — спросил Дубровинский, чтобы хоть что-то сказать.
— Не знаю, сама не знаю. У вас никогда не возникало неодолимой потребности вот так побродить глазами в безднах вселенной? Выбрать себе какую-нибудь звездочку. Глупо! Но, чур, Иосиф Федорович, об этом я говорю только вам.
— И я скажу только вам. Ищите, выбирайте, это вовсе не глупо. В этом нет никакой мистики. Мы же не думаем: родился человек — и загорелась в небе новая звездочка. Он выбирает ее из тех, что горели, горят и будут гореть вечно, независимо от него. Выбор звезды — это как бы выбор жизненного пути своего. И как звезда останется всегда неизменной, так и однажды избранный человеком путь тоже должен быть неизменным. Его звезда будет напоминать ему об этом. Разве это глупо?
— Ну, это не для широких споров, так, только для себя, — все еще не отводя взора от звезд, мерцающих тихими огоньками, сказала Киселевская. — Железная логика подобные рассуждения приведет обязательно к мистике, суевериям. Давайте оставим это между собой? Ведь могут быть такие тайны, которые лишь для двоих? Любовь, например… Нет, простите, я не то сказала. Вообще доверие…
— Вы сказали сейчас именно то, что собирался сказать я, — с волнением произнес Дубровинский. — Как совпадают наши мысли!
— Значит, вы доверяете мне? — не сразу отозвалась Киселевская. — А поначалу мне казалось, что нам никогда не понять друг друга.
— Мне тоже, — признался Дубровинский. И дотронулся до плеча девушки. Не отнял потяжелевшей ладони. — Какую же звезду, Анна Адольфовна, вы себе выбрали?
— Все крупные и яркие, конечно, давно уже выбраны другими. Хочу найти единственную, свою. Пусть маленькую.
— Найдите и мне. Где-нибудь неподалеку от своей.
Киселевская чуть переступила, и рука Дубровинского теснее прилегла к ее плечу.
— Хорошо. Пусть будет моя эта, а ваша эта, — проговорила она, указывая пальцем и принимаясь объяснять, по каким ориентирам легче всего в золотом разливе неба отыскать избранные ею звездочки. — Не знаю, как они называются…
— Собственных имен, насколько я смыслю в астрономии, они не имеют. Обозначены греческими литерами. Тем лучше. Теперь эти звезды будут носить наши имена. А расположены они: ваша — в созвездии Персея, а моя — в созвездии Кассиопеи.
— Удивительно звонкие и поэтические названия! Я не знала этого, — смеясь, воскликнула Киселевская. — Случайный выбор, а какой удачный!
— Очень удачный, — подтвердил Дубровинский.
И вдруг ему припомнился рассказ Радина о том, как его Наденька выбрала свой путеводный огонек именно в этом же созвездии Кассиопеи, жестокой и завистливой богини, причиняющей другим страдания и горе. Отныне Кассиопея становится его покровительницей. Глупо? Глупо и смешно.
Он ласково и осторожно повернул Киселевскую лицом к себе, прочел в ее поблескивающих, как далекие звезды, глазах согласие и молча поцеловал в отвердевшую на холоде, пахнущую свежим морозцем щеку.
9
Подарив людям только в самом своем начале одну тихую и звездную ночь, новый, тысяча девятисотый год обрушился затем на Яранск затяжными буранами. Весь январь и половину февраля с малыми перерывами дул и дул злой северный ветер, нес жесткую снежную крупу, в одних местах громоздя из нее твердые гребнистые сугробы, в других — вылизывая землю до самых корней посохшей, печально дрожащей травы. Короткие зимние дни казались оттого еще короче. Сквозь мутно-белый движущийся заслон с трудом просматривались дома, стоящие на противоположной стороне улицы. Метель неустанно колотила своими шершавыми лапами в оконные стекла, уныло подвывали печные трубы. Не отваживались выходить в далекий путь купеческие обозы с товарами, дивом были почтовые тройки, хоть редко, но все же пробивавшиеся от поры до поры по обезлюдевшему тракту. Городские жители запирались в своих домах, едва сгущались сумерки, и не находилось силы, какая могла бы выманить кого-то в ночь, в темноту. Если бы глянуть на Яранск с большой высоты, сквозь мчащиеся наперегонки снежные вихри, он предстал бы мертвым скоплением белых холмов с длинными промоинами-улицами, как бы выстраивающими эти холмы в правильные ряды. И никакого иного движения, кроме низко летящей над миром бесформенной мути.
А жизнь между тем шла своим чередом. Для ссыльных и всегда-то безрадостная, а теперь еще как бы придавленная дополнительным гнетом. Прервалась переписка с родственниками и друзьями, невозможными стали и привычные вечерние встречи, беседы в своем кругу: метель словно бы замуровала всех в одиночки. К окну подойдешь, решеток, правда, нет, а все равно, как в тюремной камере, ничего не увидишь.
Скудные вести, пробивавшиеся в Яранск извне, тоже не грели.
Монархические газеты, захлебываясь от умиления, описывали дворцовые праздники, приемы, балы; расхваливали предприимчивых заводчиков и фабрикантов и одобряли новые законы, ручьем льющие золото в их карманы; как нечто очень желанное пророчили вступление России в большую войну, с кем и во имя чего — неопределенно, зато с достаточной прозрачностью намекали: дабы патриотические чувства русского народа возобладали над смутами революционного толка, губительно раздирающими общество.
В либеральных газетах можно было прочесть другое. Умеренное сочувствие бедственному положению фабрично-заводских рабочих; о стачках, забастовках, стихийно вспыхивающих во всех концах необъятной Российской империи и повсеместно же подавляемых грубой силой; о крайнем разорении и нищете крестьянства, а стало быть, и возможном повторении жестокого голода, сопряженного с распространением опасных эпидемических заболеваний. В этих газетах можно было прочесть и еще… Впрочем, собственно, как прочесть на газетных полосах обширные белые прогалины, для наглядности дерзко оставленные редакциями после беспощадных вычерков цензуры? Не прочесть — можно было только догадываться, что там вычеркнуто. Сообщения же об арестах, судебных приговорах и иных мерах «пресечения» по отношению к революционным силам (в целях устрашения, разумеется) печатались без всяких вычерков. И столбцы из таких сообщений росли и росли.
Невеселыми были и другие вести. Из Ялты пришла телеграмма, подписанная Чеховым: «В случае тяжелого состояния больного — не приезжать», — а еще через некоторое время и подробное письмо от Бонье, его помощницы по оказанию помощи туберкулезным больным, где подчеркивалось, что зимний путь тяжел и резкая перемена климата может оказаться губительной.
После невыносимо долгого молчания ответил и департамент полиции, но в том лишь смысле, что не имеется возражений против перемещения Радина в Харьков для отбывания остающегося срока ссылки, а практическое решение вопроса передается на усмотрение местных властей. В дружеском окружении Радина все уже как-то уверовали, что именно Ялта сделает чудо, поставит больного на ноги. Постепенно поверил в это и сам Леонид Петрович. Теперь все запутывалось и осложнялось. Перебираться в не очень-то южный Харьков с тем, чтобы по окончании срока ссылки еще раз сняться с места и выехать в Ялту, здоровому человеку и то нелегко. Где же выдержать это тяжелобольному? Настаивать перед яранскими властями о выдаче разрешения сразу на выезд в Ялту — бесполезно, а затевать новую переписку с департаментом полиции — по пословице: «Пока солнце взойдет, роса очи выест». Телеграмма же Чехова и подробнейшее письмо Бонье ставили и вовсе в тупик.
Попытки скрыть от Радина сложившуюся обстановку не удались, он потребовал правды и только правды. Несколько дней попросил на раздумье и потом официально поставил в известность исправника, что слишком слаб, не может воспользоваться столь запоздалым разрешением департамента полиции и даже по окончании срока ссылки вынужден будет остаться в Яранске.
— Но это невозможно! Невозможно, Леонид Петрович! — в отчаянии воскликнул Конарский. — Что значит остаться здесь? Через неделю уеду я, со временем уедет Иосиф Федорович, там — Киселевская. Разъедутся самые близкие ваши друзья! Остаться здесь на попечение яранского исправника, для которого и теперь и потом вы камень в печени!
— Все совершенно правильно, — с холодной невозмутимостью ответил Радин. — Уезжайте, мой дорогой, уезжайте! Превосходно, что покинут Яранск и все мои друзья. Зачем это как-то связывать с моим состоянием? Во-первых, я слаб здоровьем для трудных переездов, но в привычной обстановке работать могу, хотя и сделался отчаянным лежебокой. Во-вторых, я остаюсь не потому, что Яранск — лучшее место в мире, а потому, что где-то и насовсем я должен остаться. Чем лучше для такой цели Харьков или Ялта?
— Ялта творит чудеса! А вам не надо и чуда — вам нужен легкий, чистый крымский воздух, запах моря. И без всякого чуда, а по вполне естественным законам природы вам не захочется среди такой благодати валяться в постели.
— Ну, хорошо, хорошо! — уже несколько раздражаясь, заявил Радин. — Согласен! Буду в Ялте взбираться на Ай-Петри, делать заплывы до Гурзуфа и до Алупки, днем жариться на пляже, а по вечерам нежиться в прохладных виноградниках и кушать там шашлык и чебуреки. Но ведь если просьбу свою об оставлении меня в Яранске я отзову, тогда как раз в воле господина исправника будет переправить меня немедленно в Харьков! Чего я не желаю, и вы, друзья мои, тоже. Не правда ли?
— Против желания вашего отправить вас в Харьков? Такого не может случиться!
— Ах, дорогой Конарский, в «державе Российсте» все может случиться! В Яранск и меня, и вас, и всех других тоже отправили против нашего желания. А вы сами признаете, что для исправника здешнего я камень в печени. Впрочем, после встречи Нового года и не только я. Жалобу-то на бесчинства урядника мы все подписали.
Возражать было трудно. Особенно это касалось пресловутой жалобы.
Ее подготовил Дубровинский, сам отнес бумагу в полицейское управление и положил на стол лично исправнику. Тот принял его любезно, бумагу прочитал внимательно, а прочитав, вздохнул: «Пишете и пишете, господа политики, кому и о чем только не пишете! Позвольте же и мне написать». Тут же наискосок, размашисто наложил на жалобе резолюцию, но прежде чем дать ее прочесть Дубровинскому, ткнул себя пальцем в правый бок: «Вот где вы у меня сидите!» А резолюция была такого содержания: «Мелко! Как две бабы на огороде! Поклеп на верных слуг отечества! За бездоказательностью оставить без последствий». Вежливо осведомился: «Имеются ли возражения?» Добавил, что это знать ему желательно, дабы, сообщая по восходящей линии губернским властям о поступившей жалобе и о своем решении по этой жалобе, он мог бы быть предельно точным. Дубровинский усмехнулся: да, исправник нашел весьма сильный ход. Продолжать борьбу «по восходящей линии» бессмысленно, хлесткая фраза «две бабы на огороде» будет таскаться по всем инстанциям, усугубляя недобрые настроения к жалобщикам. Приходится признавать поражение. «Могу я подтвердить на этой же бумаге, что ознакомился с вашим решением?» — спросил Дубровинский. Исправник с готовностью развел руками: «Это именно то, чего от вас хотелось бы!» И Дубровинский написал: «Одна из баб показала мне сейчас голый зад. На подобном языке продолжать спор не смею» — и расчеркнулся. Кажется, удалось сыграть все же вничью. В таком виде губернским властям бумага не будет послана…
Пока длилась злая метельная пора, Дубровинский совсем истомился. Из дому от родных не было писем. Часто вспоминалась мать, стоящая на платформе орловского вокзала с маленьким белым платочком, зажатым в зубах. Она ведь скрывает, а сама очень давно нездорова.
Душу выматывали бесконечные раздоры Праскевы с Пе́трой. Начинались они всегда как будто с пустяка, затем переходили в нудную, затяжную перебранку, а заканчивались дракой, точнее, жестоким избиением Праскевы, потому что Пе́тра оказывался все же сильнее. Дубровинский старался их примирить — семейные несогласия, как и любые несогласия ему казались нелепыми — и примирял. Но ненадолго. Опять одно-другое колючее слово Праскевы, и вскипала новая ссора, имеющая под собой все ту же неистребимую основу: «Жить надоело! Бьешься как рыба об лед! Где взять копейку?» И в конце тихий, придавленный стен: «А будет робенок?»
Не каждый вечер удавалось навестить Киселевскую. Вьюга кружилась и металась в пустых улицах города столь остервенело, что сваливала с ног, снег сыпался за воротник, ветром пронизывало насквозь, и тогда начинался сухой, режущий кашель, перехватывало горло. А провести хотя бы несколько часов наедине с Анной Адольфовной — он все еще не смел называть ее уменьшительным именем — было настоятельной необходимостью, и столь властной, что иной раз, пренебрегая болью в горле, высокой температурой, перемежающейся с лихорадочным ознобом, он все-таки бросался в метельную круговерть и добирался к Киселевской похожим на снегового деда-мороза.
Анна Адольфовна стеснительно корила его: «Зачем, ну зачем, Иосиф Федорович?» Помогала стащить залубеневшую одежду, растирала своими теплыми ладонями его негнущиеся пальцы, поила горячим чаем. И все, что творилось там, за окном, за пронзительно поскрипывающими воротами, в безумном хаосе слепящей черной пурги, словно бы переставало существовать. Слабый свет лампы, не проникавший в дальние углы комнаты, обметанные у пола искристым инеем, казался весенним солнышком.
Они вели неторопливые разговоры, делились впечатлениями о прочитанных книгах и набрасывали примерный список запретной литературы, которую им нужно бы где-то достать. Бдительность полиции, раздраженной частыми на нее жалобами, вынуждала действовать с исключительной осторожностью, чтобы не выдать свои скудные связи с уцелевшим еще подпольем. Они рассказывали друг другу также о своей повседневной работе. Дубровинский — о переводах с немецкого, дающих ему заработок, духовное удовлетворение от самоусовершенствования в этом языке и последовательно расширяющих его кругозор. Киселевская об ее уроках в доме Балясниковых, о том, как помаленьку сбивает она спесь с деспотичных, властных хозяев и как настойчиво подбрасывает в сознание оболтуса некоторые крупицы «крамолы», хотя, пожалуй, и без существенного успеха.
Потом они рассуждали о том, резонно ли с покорностью судьбе отбывать здесь свою ссылку. Не задуматься ли о побеге? Сбежать… Но куда? С какой ясно видимой целью? Блуждать вслепую по разным городам, пока снова тебя не поймают и не водворят уже в более жестокую ссылку? Надежных явок нет нигде. Нет и ни одной им известной, хотя бы небольшой, но жизнедеятельной марксистской организации, к которой приобщиться. Жандармским сапогом придавлено все. Поодиночке же противостоять отлично налаженной зубатовской машине сыска — только губить во мнении рабочих саму идею возможности близкой победы пролетариата.
В разговорах незаметно пролетала добрая половина ночи. Наступало время расставаться. Дубровинский протягивал обе руки, и Киселевская порывисто вкладывала в его ладони свои тонкие, прохладные пальцы. Прощались без слов, едва заметным движением губ.
Но в тот день, когда окончательно решился вопрос о близком отъезде Конарского и Радин после долгого спора наконец согласился по завершении ссылки перебраться в Ялту, Дубровинский, принеся эту весть Киселевской, сказал:
— Анна Адольфовна, наши лучшие друзья уезжают. Мы остаемся одни. То есть не в буквальном смысле одни, но вы, я думаю, меня понимаете… — Голос его сорвался: — Мы будем с вами вместе? Навсегда… Вы позволите?
Бледное лицо Киселевской налилось медленным багрецом. Она стояла, отведя глаза в сторону, покусывая губы. То хмурилась, то смущенно улыбалась и тут же гасила улыбку.
Дубровинский ждал. Ни единым движением, ни единым звуком не поторапливая девушку с ответом. И стало казаться уже, что ответа не будет. На хозяйской половине громко хлопнула входная дверь. С круглым оканьем пропел высокий женский голос: «Доброго здоровьица, золотая моя Мареюшка!» А хозяйка ответила так же певуче, протяжно: «Спаси тебя Христос!» И о чем-то веселом заговорили они быстро, вперебой, переливисто посмеиваясь. Киселевская вдруг шагнула вперед и припала к груди Дубровинского. Он бережно отвел ее руки, наклонился, поцеловал в щеку. Совсем так, как в морозную новогоднюю ночь. Только щека девушки теперь была очень горячей.
10
Ближайшие дни совсем неожиданно взгромоздили перед ними целую гору нелегких житейских проблем. Едва Дубровинский завел осторожный разговор с хозяевами дома, в котором жили Конарский и Радин, насчет того, что после отъезда Конарского сначала он, Дубровинский, переберется сюда, а когда уедет и Радин, поселится здесь и жена, его огорошили грубым вопросом: «Какая такая? Не та, что к Леониду Петровичу часто наведывается? Сказать прямо, знаем — никакая она вам не жена. А распутства в доме своем мы не позволим. Да и прописки в полиции тоже ей не дадут». Это звучало чудовищно оскорбительно, а возразить было нечего. Формальная правда оставалась на стороне хозяев, в общем-то очень честных, порядочных людей, с достоинством оберегающих нравственную репутацию своего дома.
Что же делать? Жить как придется, встречаясь тайком, постепенно оплетая свои добрые имена клубком грязных сплетен, до которых яранские обыватели так охочи?
Припомнился Алексей Никитин, добровольно поехавший в более тяжелую ссылку, но вместе с Лидией Семеновой. Их не смущало, что даже в следственных документах писалось «сожитель — сожительница». Каким-то образом подыскивали они для себя и общую квартиру. И вот не так давно Никитин прислал радостное письмо: родился сын Валентин. Но мыслимо ли ему, Иосифу Дубровинскому, позволить называть кому попало Анну Адольфовну, Аню, «сожительницей»!
«Сыграть» по всем правилам и обычаям свадьбу? Душа восстает против такой жалкой комедии! Обручальные кольца, медные короны над головами, фата у невесты, восковые цветы, «Исайя, ликуй» и «жена да боится своего мужа», торжественное шествие вокруг аналоя…
Торжественное шествие уже состоялось: по этапу от Орла до Яранска. Обручальные кольца — символ тюремных наручников? Медная корона над головой тех, кто стремится сбросить золотую корону с головы самодержца всея Руси! Фата у невесты, восковые цветы? Когда кладут в гроб, так обряжают. А тюрьмы и ссылки — не шаги ли к более ранней могиле? «Жена да боится своего мужа» — этой жене приходится бояться не своего мужа, а жандармов, филеров и попов.
Дубровинский решил посоветоваться с Радиным. Леонид Петрович, полулежа в постели с придвинутым к ней стулом, заполненным склянками с лекарствами, что-то писал. Добрая улыбка блуждала у него на губах. Отогнув край одеяла, в ногах у Радина сидел Конарский.
— А, Иосиф Федорович! — обрадованно воскликнул Радин. — Как вы кстати! Два или три дня я вас не видел? Собираю нашего друга в дорогу. Завтра прощаемся. Будет он в Москве, там трудно сейчас, все связи нарушены, самому оступиться можно как дважды два и других подвести. Пишу милой Анне Егоровне Серебряковой. Осторожничать она, понятно, будет сверх всякой меры, но письму моему доверится и, убежден я, даст надежные явки.
Он закончил письмо, внимательно прошелся взглядом по каждой строчке и подал Конарскому, а сам повернулся к Дубровинскому.
— С вами, Иосиф Федорович, что-нибудь случилось? — спросил, отбрасывая иссохшими пальцами длинные пряди волос со лба. — В глазах ваших я замечаю нечто необыкновенное. Расскажете?
И опустился на подушки с виноватой улыбкой. Дубровинский не знал, с чего начать и надо ли рассказ свой вести издали или просто сообщить о принятом вместе с Киселевской решении.
— Анна Адольфовна и я намерены пожениться…
Но прежде чем он успел продолжить свою фразу, Конарский вскочил и, едва не выронив письмо Радина, всплеснул руками.
— Да полноте, Иосиф Федорович! Такими вещами шутить — на вас не похоже. А всерьез это тоже принять нельзя.
— Почему?
— И вы и Киселевская, извините, люди, способные управлять собой. Неодолимых, еще раз извините, чар любви здесь нет и быть не может. Тогда в чем же смысл вашего предполагаемого брака? Или уже первый год ссылки — в третий раз извиняюсь! — охладил ваш революционный пыл и вы стремитесь к мягкой перине?
— Вы, очевидно, не отдаете отчета своим словам, — сдерживая нервную дрожь, проговорил Дубровинский, — и вряд ли способны правильно воспринять то, что мог бы ответить я. Поэтому я отвечать не буду. Так же трижды принося вам свои извинения.
— Возможно, я был слишком резок, — как бы уступая Дубровинскому, сказал Конарский. — Но в нашем дружеском кругу резкость в словах никогда не считалась пороком. Остаюсь при своем мнении: двумя товарищами среди нас стало меньше. Знаю, вы будете возражать, приводить противоположные примеры. Да, они существуют! Но если бы таких примеров не было вовсе, наши силы были бы намного значительнее. Семья, дети и работа подпольщика-революционера несоединимы! Хотите цитату из Маркса? Или из Пушкина?
— Не хочу. И никаких примеров приводить я не буду… — вновь заговорил Дубровинский.
Но теперь его перебил Леонид Петрович, пристально следивший за ходом этого своеобразного, одностороннего спора.
— И цитаты из стихов любимых поэтов, и народные поговорки, и, если угодно, изречения из библии по любому поводу, но с диаметрально противоположным их значением всегда подобрать можно, — покашливая, вступился он. — В математических теоремах и то зачастую встречаются такие противоречия, что не найдешь способа их примирить. Конарский, мечите свои громы не на голову Иосифа Федоровича, а на мою голову! Я был женат, я любил свою Наденьку, и, сумей я тогда сберечь ее, теперь она сберегла бы меня. И мы вместе с нею и с вами, Конарский, дожили бы до победы! Вот мои стихи. Давние. Они и сейчас еще совсем сырые и уж конечно не годятся, чтобы цитировать. Но если я их не успею поправить, не найду лучших слов, пусть и такие они останутся моим символом веры.
Смелей, друзья, идем вперед, Будя в сердцах живое пламя, И наше дело не умрет, Не сломят бури наше знамя! Победы уж недолго ждать. Проснулась мысль среди рабочих, И зреет молодая рать В немой тиши зловещей ночи. Она созреет… И тогда, Стряхнув, как сон, свои оковы, Под красным знаменем труда Проснется Русь для жизни новой!Радин подвигал острым кадыком, должно быть, у него сохло во рту, обтер губы, скользнул рукой по длинной бороде. Добавил устало:
— Вот в этой новой жизни я вижу себя всегда стоящим рядом с Наденькой. Иначе пусто. Иначе все зачем? Иосиф Федорович, передайте Анне Адольфовне мои поздравления. А случится, зайдет сюда, я это с великой радостью сделаю лично.
11
Свадьбу «сыграли» только в начале июля. На просьбу Дубровинского свершить обряд венчания возможно раньше священник кладбищенской церкви отец Симеон ответил наставительным отказом. Дескать, время на «красной горке» они упустили, теперь ждать надо, пока закончится петровский пост.
Ну, а до этого весьма и весьма основательно их помытарил исправник, обставляя выдачу своего разрешения на брак бесконечной цепочкой разных формальностей и откровенных придирок. Видимо, не мог он забыть и простить Дубровинскому его дерзкую приписку, некогда сделанную ниже исправничьей резолюции.
Но была и еще, серьезнее всех других, причина, надолго как бы остановившая течение времени…
Провожали Радина в ясный, оттепельный день февраля. На прогретых сторонах улиц капало с крыш, длинными натеками свисали рубчатые сосули.
Леонид Петрович был в приподнятом настроении, шутил, смеялся. Закутавшись в тулуп, предоставленный ему возницей, подрядившимся довезти до самой Вятки, он все не давал сигнала трогаться. Говорил и говорил. Делал наставления остающимся, фантазировал, с какой помпой встретит его благословенная вечнозеленая природа Крыма. Монашески строгие, задумчивые кипарисы; веселые, улыбающиеся магнолии; робкие чужестранки пальмы, зябко драпирующие узкие талии в шелковистые коричневые шали; нежно-розовые стволы сосен, их причудливо простертые сучья, переходящие в тонкие лапки с такой длинной и мягкой хвоей, что и захотел бы, да не сможешь о нее уколоться. А среди этого зеленого разлива, на крутых склонах гор, сбегающих к бирюзовому морю, белый цвет миндаля, подобный струйкам легкого тумана, возникающего из самой земли.
Слушая Радина, все тоже сияли: наконец-то человек твердо уверовал в чудо, в те радости, которые ожидают его в ласково-солнечной Ялте! А вера в возможность своего исцеления — лучший врач. И что из того, что уж очень иссох Леонид Петрович и что, вполне удобно устроившись в широких санях, он тем не менее говорит с такой одышкой, словно взбирается по крутой лестнице, — все это пройдет, едва перед глазами больного откроются голубые морские и небесные дали волшебного юга.
Хорошее настроение Леониду Петровичу создавали не только дружеские напутствия провожающих и первые капельные перезвоны после мучительно долгих метелей. Он влюбленно поглядывал на объемистый чемодан, в котором лежали бесценные для него сокровища — рукописи неимоверно большой работы о сложнейших проблемах мироздания, полностью законченной как раз в последние перед отъездом дни.
Радин ликовал, сознавая, как ловко он «поймал за хвост» то, что не поддавалось Майкельсону и Лоренцу в их изысканиях, направленных на разгадку тайны «эфирного ветра» — быть или не быть ему в разряде истин, дающих ключ к познанию физической природы движения материальных тел в бесконечном пространстве. Казалось, с плеч сброшены сразу две горы: завершен многие годы владевший его творческой мыслью научный труд и окончена нравственно тяжкая ссылка. Он свободен! Полностью свободен теперь для того, чтобы с головой, самозабвенно уйти только в революцию!
Это передалось и его друзьям. Они долго веселой ватагой двигались за санями. А казанский студент Ротштад, приезжавший в Яранск погостить и теперь вызвавшийся сопровождать Радина до самой Ялты, ответно все махал и махал шапкой, пока подвода не скрылась за поворотом.
Потом, спустя три недели томительного ожидания, из Ялты пришла радостная телеграмма: «Доехали благополучно поместились приличной гостинице зпт навестил Антон Павлович принес журналы вызвал доктора надеюсь все будет хорошо Юлиан Ротштад».
Десятки раз перечитывая телеграмму и готовый, в радости, показывать ее первому встречному, Дубровинский думал: «А мы тревожились, боялись этого переезда. Как правильно, что Леонид Петрович согласился уехать в Крым!»
Правда, в последних словах телеграммы сквозила не вполне улегшаяся тревога, но все равно от этого листка бумаги как бы веяло соленым запахом моря, и то, что Антон Павлович Чехов отнесся с большой сердечностью к Радину, было тоже приятной вестью.
После того минуло всего лишь двое суток, и поздним вечером в дверь комнаты Дубровинского опять постучала рассыльная с телеграфа. Он нетерпеливо развернул на этот раз холодный почему-то и жесткий листок бумаги.
«С горестным отчаянием сообщаю вам что несмотря на принятые врачами экстренные меры Леонид Петрович скончался тяжелых мучениях тчк похороны состоятся девятнадцатого марта Аутском кладбище тчк Юлиан».
Дубровинский прочитал телеграмму и безвольно опустил руки.
Снова и снова подносил он похрустывающий листок бумаги к глазам и не находил места от щемящей сердце тоски. Не стало Леонида Петровича! Уже никогда, никогда не услышать его голоса, всегда такого доброго, убеждающего! Не увидеть его лица, пылающего вдохновением — в споре ли, за работой ли. И если даже усталого, измученного — все равно привлекательного какой-то необыкновенной простотой. Теперь и писем от него не придет, конечно, с новыми поэтическими строками, всегда мужественными, зовущими на борьбу, как труба горниста.
Так верилось в ялтинское чудо! Но чуда не свершилось. Уезжая, Леонид Петрович шутил, смеялся заразительно, живописал те радости, которые его ожидают в Крыму. И в них поверил, твердо зная, что долгими они не будут. Не безжалостно ли короткими они оказались, как вознаграждение за три недели мучительного пути?
Эти горькие размышления отодвинули в сознании Дубровинского все остальное, он как бы облекся в траурное платье, ходил со скорбно погасшим взглядом.
Встречи с Анной Адольфовной несколько просветляли его настроение, но о сроках свадьбы своей по обоюдному молчаливому согласию разговора они не заводили. Дело совсем не в церковном обряде и болтовне яранских сплетниц — всем этим можно пренебречь, — есть свои собственные нравственные нормы. Они не исчисляются по строгому календарю, время само подскажет, когда и какому чувству отдать первое место.
Сжатое телеграфное сообщение недели через две пополнилось письмом, в котором Юлиан смятенно рассказывал о последних часах жизни Леонида Петровича, о его похоронах.
«Мне верилось, верилось до самой роковой минуты, — прыгающим почерком писал студент, — что все обойдется, что это простой приступ — не больше. Леонид Петрович глухо стонал, комкал пальцами край одеяла, говорил, что это конец, но что он счастлив… Тогда я погнал служащего гостиницы за врачом, потом — врача долго не было — и сам побежал. Попросил кого-то посидеть у постели. Я был весь как в угаре, не отдавал себе отчета, что я делаю правильно и что неправильно. Нашел и привел врача, но в комнате был уже другой врач. Пахло камфарой. Блестели склянки, иглы. Ужасно! Мне запомнилась кровь на подушке. А глаза Леонида Петровича уже были закрыты, кто-то положил на них медные пятаки. Почему я ушел и не слышал его последних слов! Потом мне рассказывали, что он все повторял женское имя… Какое?
Что делать после, я не знал совершенно. Хозяин гостиницы оттолкнул меня, все взял в свои руки. Появилась полиция, монашки, гробовщик с деревянным аршином. Меня послали на Аутское кладбище выбирать место. Я ходил между железными крестами и каменными плитами. Плакал. Выбрал место под молодым кипарисом. Кладбищенский сторож сказал: почему-то нельзя. Тогда мы пошли вместе на самый край. Там тоже росли деревья, густая тень. Мне не понравилось, хотелось чуточку солнца. А сторож сердился. Со мной денег было мало, я отдал их все. Тогда он поставил колышек среди заброшенных могил, но и с солнышком и под какими-то кустами. Кажется, это мирт.
Хоронили так, как приказывали хозяин гостиницы и полиция. Меня не слушали совершенно, потому что я не родственник Леониду Петровичу и ничем не мог доказать свое право распоряжаться. Он попал в категорию безродных, притом из числа недавних преступников — политических ссыльных. Все делалось в спешке, в страшной спешке, а главное, никто со мной не желал разговаривать, будто я и хозяину гостиницы и полицейским властям причинил какое-то зло.
А когда все закончилось, я потребовал, чтобы мне передали вещи Леонида Петровича, рассчитывая отослать их вам, особенно его рукописи. Но хозяин гостиницы нахально заявил, что они будут проданы с молотка, чтобы погасить долг за проживание у него в номерах, рассчитаться с гробовщиком, могильщиками, попом и еще кем-то. Словом, даже на память о Леониде Петровиче какого-нибудь крошечного предмета и то он мне не дал. Где находятся рукописи, тоже я не добился. Пожаловался в полицию, жалобу не приняли…»
Читать это было совсем непереносимо. Какая дикость! Какое глумление над прахом покойного! Вот она, месть самодержавия каждому, осмелившемуся восстать против него!
Винить ли в чем-нибудь Юлиана? В чем? Молодой, неопытный человек был оглушен внезапной катастрофой, растерялся. И тем не менее он сделал все, что смог. Остальное оказалось во власти сильных. Но рукописи, рукописи Леонида Петровича? В свинцовые сердца полицейских чинов бесполезно стучаться. Почему Юлиан не обратился к Антону Павловичу Чехову? Тот великим своим авторитетом, возможно, заставил бы полицию, хозяина гостиницы выдать рукописи. Об этом Юлиан ничего не пишет. Похоже, он и здесь растерялся, не подумал о Чехове. Но, может быть, на эту беду, Антон Павлович как раз куда-нибудь отлучился из Ялты или оказался болен. Ничего, ничего не известно, а студент теперь уже в Казани!..
Попросить Конарского написать Чехову? Да, это сделать совершенно необходимо. Вызволить драгоценные рукописи во что бы то ни стало!
Прошло еще больше месяца, и почта доставила новую весть, опять убийственную. Конарский сообщал: «Антон Павлович лично занимался поиском рукописей. Увы, от них решительно ничего не осталось. Их, выкинутых на торгах из чемодана при распродаже имущества Радина, подобрал владелец мелочной лавки и пустил на обертку».
Удар за ударом… Что же, так и исчезнет бесследно все связанное с именем Леонида Петровича Радина? На обертку пущены рукописи большого ученого! Сам он полагал, что в них — открытие. Хотя был к себе очень строг. Затеряется и могила на Аутском кладбище, упадет хиленький крест с железной табличкой, где обозначены даты его рождения и смерти. Останутся только жандармские протоколы допросов да записи в тюремных реестрах?
Леонид Петрович так любил повторять строки стихов Гейне: «Где ж смена? Кровь течет, слабеет тело… Один упал — другие подходи! Но я не побежден: оружье цело, лишь сердце порвалось в моей груди».
Да, да, главное — не сдаваться!
Вспоминалось и другое: «Смело, товарищи, в ногу! Духом окрепнем в борьбе. В царство свободы дорогу грудью проложим себе».
Сколько раз пелась здесь эта песня вместе с ее творцом Леонидом Петровичем! Но пели ее и очень многие, в глаза даже не видавшие Радина и не знавшие, кому принадлежат слова. Пели в одиночках Таганской тюрьмы, пели в душном трюме баржи, что медленно тянулась на буксире от Казани до Вятки, пели и потом, бредя по этапу под холодными осенними дождями, скользя и падая в намывы липкой, вязкой грязи.
Ее поют повсюду, по всей России. И будут петь! Потому что в ней — душа народа, стремящегося к свету, душа революции.
Постепенно горечь утраты сгладилась, боль притупилась, и Радин словно бы заново вернулся в сознание Дубровинского — живым, упрямо делающим свое дело, только где-то вдали.
Тем временем наступил и петров день. Все формальные препоны для свершения обряда бракосочетания двух политических ссыльных Дубровинского и Киселевской были сняты. Исправник изволил даже пошутить, понимая, что пора наконец сменить свой долгий гнев на милость, дабы не выглядеть совершеннейшим зажимщиком любых свобод.
— Ну-с, когда и по какому поводу ожидать от вас новую бумагу, господин Дубровинский? — спросил он наигранно добродушным тоном. — Насколько я понимаю, вам доставляет всегда огромное удовольствие писать бумаги. Не скрою, получать их от вас и отписываться на них губернатору мне тоже доставляет удовольствие. Как и вообще иметь дело с социал-демократами. Гуманнейшая публика! Вы ведь и в крайнем раздражении не бросите в меня бомбу? Чего я не сказал бы о некоторых других политических течениях. Желаю вам семейного счастья!
День и час венчания Дубровинским был избран такой, когда в церкви толпилось бы как можно меньше праздных, любопытствующих обывателей. И ему и Киселевской неприятным казалось выставлять себя напоказ.
Он пригласил только тех, без кого по церковному уставу обойтись вообще не представлялось возможным. Пока отец Симеон бегло читал положенные молитвы, спрашивал скучным голосом, по согласию ли они оба вступают в брак, надевал им на пальцы обручальные кольца и давал выпить по глотку вина из одной чаши, Дубровинский не смел поднять глаз на Анну Адольфовну: жег какой-то внутренний стыд. Самые глубокие, затаенные чувства, и вот надо их открывать посторонним, разыгрывать пошлый спектакль…
Надолго врезалось в память, как покривились в пренебрежительной усмешке губы отца Симеона, заметившего, что с пальца новобрачной все время соскальзывает обручальное кольцо, а она, чтобы не потерять, зажимает его в ладошку. Поп догадался, что кольца-то взяты напрокат. По бедности ли, по дальнейшей ли в них ненадобности — все равно. Он знал: венчает не чад своих послушных, а противников своих.
Но, так или иначе, трудный день завершился. Без свадебного пира, без визжащей гармоники и шумных, пьяных криков: «Горько!» Посидели вечерок за чашкой чая друзья. Посаженые родители, Федор Еремеевич Афанасьев и Прасковья Игнатьевна, произнесли маленькие поздравительные речи. И все.
А затем жизнь вошла в свое обычное русло. И оттого, что Анна — отчество теперь не требовалось — сделалась совсем близкой, оттого, что любые заботы, духовные и житейские, приходилось решать только сообща, все вокруг стало как-то полнее и значительнее.
12
Игривый вопрос исправника насчет того, скоро ли ожидать «новую бумагу» от Дубровинского, почти забылся. Не то, что совсем уж не находилось поводов писать такие бумаги, поводов было достаточно, но не имело смысла бить лбом в кирпичную стену.
Правда, исправник при случае похваливал ссыльных социал-демократов, явно используя высшего своего начальства слова. Это было понятно. Там, «наверху», сопоставляли действия социал-демократов с действиями прежних народовольцев, а теперь перенявшей от них оружие террора партии социалистов-революционеров. Призывы эсдеков к организованному сплочению пролетариата и свержению самодержавия далеко все же не бомбы и не револьверные пули эсеров. В первом случае снегопады прокламаций, тайные сборища с требованиями политического характера — все это работа мысли, не больше, а во втором случае — оттопыренные смертоносным металлом карманы. И черт их там знает, этих мечущих бомбы, стреляющих в упор из револьверов, какая у них в это время работает мысль! Убивают, и все!
Да, майские демонстрации в Варшаве, Вильне, Харькове, стачки рабочих в Красноярске, в Тифлисе, на Ленских приисках и в матушке Москве — тысячи и тысячи, десятки тысяч человек — разумеется, в значительной степени организованы именно социал-демократами. Но смертельно ранен министр народного просвещения Боголепов выстрелом социал-революционера Карповича, и эсером же Лаговским произведено покушение на обер-прокурора синода Победоносцева. Можно социал-демократов иногда похлопать по плечу. Но это вовсе не значит, что им должно еще и протягивать руку!
А настоятельная необходимость вновь послать по начальству «бумагу» у Дубровинского все же возникла…
Из дому от матери и тети Саши пришла посылка с бельем, непортящейся снедью и совершенно невинной литературой. Посылку явно прощупали полицейские руки, но каких-либо изъятий сделано не было. Однако Дубровинский разглядел другое: вторая сверху пуговица на воротнике рубашки оказалась пришитой не как все остальные, нитки переплетались не крестиком, а как бы расходились лучами. Это был условный знак, придуманный тетей Сашей, еще когда с нею прощались в Орле. Она им пользовалась не часто, только в случаях, если нужно было сообщить нечто действительно очень важное, и тут целиком полагалась на Якова — брата Иосифа…
Дубровинскому вместе с Анной пришлось немало поломать голову, сверхтщательно исследуя каждый предмет, пока они на обнаружили в одном из карандашей вставленное вместо графита, скрученное из тонкой бумаги письмо, по концам чрезвычайно ловко заделанное коротенькими графитными пробочками.
Яков писал, что Родзевичем-Белевичем вместе с ним, с Семеном и братьями Пересами в Орле успешно воссоздается социал-демократическая организация, установлены надежные связи с Москвой и югом России. Далее он рассказывал, что Константин Минятов вернулся из Берлина, но сразу же на границе был схвачен полицией, осужден и сослан на три года в Вятскую же губернию, а куда именно, точно не знает. Яков с тревогой предупреждал, что вдруг случится Иосифу встретиться или как-то вступить в общение с Минятовым, надо его бояться. Дело в том, что Минятов — это достоверно узнали московские товарищи — написал из Берлина покаянное письмо в охранку. Умолял простить ему давние революционные заблуждения и обещал быть навсегда верным престолу. Зубатов же всему этому придал иную огласку, чтобы сбить с толку людей, прежде работавших вместе с Минятовым. Так что ссылка Константина фикция, если он станет агентом охранки. А если окажется ни богу свечка, ни черту кочерга, — возмездие за прошлое. Зубатов сопливых не любит. И наконец, Яков передавал молву, всколыхнувшую многих, что где-то за границей вышел первый номер общерусской социал-демократической газеты «Искра», издание которой вдохновляется Владимиром Ульяновым, что газета с удивительной ясностью выдвигает практические задачи и цели политической борьбы пролетариата и что жандармы транспорт с нею перехватили на границе. Лишь какое-то небольшое количество экземпляров будто бы удалось провезти другим путем, но достать и прочитать эту газету пока не удалось.
Письмо брата пронзило Дубровинского острой болью. Минятов, такой всегда открытый, немного легкомысленный, но старательно и безотказно выполняющий любое трудное поручение; Минятов все доходы от своего маленького имения, а потом и само имение отдавший на дело революции; Минятов, с которого началось и его, Дубровинского, первое знакомство с Леонидом Петровичем Радиным и вообще повернулась вся жизнь; Минятов, совсем еще недавно помогавший доставать за границей нужную литературу, — этого Минятова теперь надо бояться, не доверять ему. Нет, нет, Яков что-то преувеличивает, судит слишком поспешно!
Но в конце концов, что Минятов? Не это сообщение Якова волнует с особенной силой. Вышел первый номер рабочей газеты — вот что важно, вот что огромно! Еще и года не прошло, как Владимир Ульянов закончил срок своей шушенской ссылки и выбрался за границу, а уже мечта его, стратегическая цель его, осуществляется. Позавидовать только уму, энергии и воле этого человека! Впрочем, «позавидовать» — не то слово, научиться бы у него. Встретиться с ним!
Теперь, когда долгожданная газета — реальность, надо иначе думать и о своей личной роли на новом направлении борьбы. Нужно стать более деятельным. Говоря языком элементарной геометрии, работать так, чтобы радиус твоего действия простирался как можно дальше. Вырваться за пределы Яранска!
Что же, побег? Вернуться сызнова к этой влекущей мысли? Заманчиво, но преждевременно! Не проросли еще корни на достаточную глубину. А быть вырванным зубатовской лапой и брошенным потом совсем бог весть куда, вряд ли такой риск оправдан. Не попытаться ли сперва использовать легальные возможности?
Весь этот день, мартовский день, немного чем-то похожий на тот, в который год назад провожали Радина, Дубровинский с Анной провели за размышлениями. Что следует предпринять?
Первый шаг, несомненно, добиться перевода из Яранска. Но даже Леониду Петровичу в такой просьбе было отказано. Ему позволили уехать отсюда, когда полицейскому начальству стало ясно, что смысла в перемене климата для Радина уже нет.
А может быть, все же сделать попытку? Некоторые основания к этому есть. Вскоре после отъезда Радина пришла повестка от воинского начальника явиться на освидетельствование в связи с призывом в армию. Еще посмеялись: вот как! Расчет на то, что железная армейская муштра вышибет дух свободолюбия из человека? Но врачи заметили нехорошие хрипы в легких, еще какие-то, понятные лишь им симптомы, и приняли решение дать отсрочку на год. Эта отсрочка истекла на прошлой неделе. Состоялось новое освидетельствование. И тот же результат. Все те же хрипы, и новая отсрочка еще на год. Правда, теперь с более определенной записью: начальная стадия бугорчатки легких. Болезнь с другим, красивым названием — туберкулез.
— Ося, разве это недостаточное основание? — сказала Анна. — Мне так тревожно за тебя. Независимо от всего другого ты должен подать прошение о переводе из Яранска. Береги себя, береги! Юг тебе совершенно необходим. Нельзя же запускать эту страшную болезнь до такой ее степени, когда будет поздно, как это случилось с Леонидом Петровичем.
— Да, Аня, да, все очень верно, — задумчиво ответил Дубровинский, поглаживая мягкие, немного свисающие книзу усы. — И все это из области несбыточных желаний.
— Почему?
— В медицинском заключении нет никаких предложений относительно моего лечения. Притом на юге! Дана еще одна отсрочка на год, и будь доволен. Воинский начальник для меня не поддержка. Хуже того, если я начну хлопоты вопреки его решению, он постарается сделать все, чтобы защитить честь мундира. Тем более что я уже не раз досаждал здешнему начальству своими прошениями и жалобами. Исправник достаточно ясно намекнул об этом. А мимо него от меня все равно не пройдет ни одна официальная бумага. К ней будет приобщено его мнение.
— И все-таки надо писать, Ося, — упрямо сказала Анна. — Надо писать. Твое здоровье…
— Аня, родная, я напишу. Но я напишу о другом, что в тысячу раз важнее и нужнее. В этом они отказать не посмеют. Потому что это будет просто бессмысленной жестокостью. Мы вырвемся из Яранска! Пусть на время. На первый случай в Вятку, а там будет видно. Я убежден, нам потом тоже разрешат остаться. Добьюсь личного приема у губернатора!
— Что же за магическое слово есть у тебя, Ося? Почему ты так убежден в его силе? — спросила Анна.
Он ей в ответ улыбнулся. Но как-то виновато, стеснительно. Обнял за плечи, внутренне холодея от мысли, что жена его за последние месяцы совсем побледнела, резче обозначились темные круги под глазами, а косточки ну просто можно все пересчитать пальцами.
— Тебе нездоровится, Аня, не надо скрывать этого, — сказал он и прикоснулся щекой к ее волосам, как всегда аккуратно собранным на затылке в тугой валик.
— Мое нездоровье, Ося, окончится через два месяца. Так считает Евдокия Ивановна. Она понимающая. Так и сама я — акушерка — полагаю. Что же тут мне скрывать? Все это и ты не хуже нас знаешь.
— Вот поэтому и говорю. Я знаю, догадываюсь, не все идет как надо.
— Ну-у!.. — Анна притянула к своим губам руку мужа. — Зачем ты волнуешься больше меня? Справлюсь. Как говорит Евдокия Ивановна, баба я с характером. Конечно, все может быть при неправильностях.
— Именно это мне и не дает покоя. Прости, дорогая, но практики после курсов твоих акушерских у тебя не было. Ты не знаешь даже, как на деле в этих случаях принимать у других. А здесь тебе надо самой.
— И ты хочешь об этом написать губернатору?
— Аня, я не могу не написать! И губернатор не может отказать в такой просьбе. Он же знает, что здесь, в Яранске, главный акушер — фельдшерица Евдокия Ивановна. А в Вятке есть хорошие специалисты-врачи.
— Ты противоречишь себе! Сейчас ты вдруг поверил в отзывчивость губернатора и в доброе мнение яранского исправника, которое будет, как ты говоришь, непременно приобщено к твоему прошению.
— Это разные вещи, Аня! Наш переезд совсем из-под крыла вятского губернатора на живительный юг России во имя сохранения здоровья политического ссыльного — и только перемена ему места ссылки в одной и той же губернии во имя благополучного рождения нового человека. Не представляю, как можно в этом отказать, какие можно придумать доводы?
Анна счастливо закрыла лицо руками. Да, она знала, что действительно все идет не очень-то ладно. Боялась не за себя, за ребенка. Страшнее всего потом самой остаться живой, но увидеть… Бывает ведь и такое. Евдокия Ивановна подбадривает, но в глазах у нее тяжелые сомнения. Знай себе беспечно рукой помахивает: «Э, милая, баба ты с характером! Справишься». А характера одного недостаточно, когда отчаянное малокровие, сердце болит и от жестоких судорог по ночам деревенеют ноги. Ося все понимает, быть может, даже больше, чем она сама предполагает. Тепло становится на душе от его заботы. Но есть ли тепло в душах у тех, кому собирается он написать? А все равно! Главное, что Ося заботлив и нежен.
Прошение, адресованное губернатору, ушло на следующий же день. Исправник, принимая его для пересылки и просматривая, сказал поощрительно:
— Деликатно написано. Признаться, недолюбливаю жалобы. Впрочем, и кто же их любит? А что касательно дикости нашей, яранской, что между строк прошения вашего проглядывает, истинно: нет в нашем городе не токмо солнечно блестящих светил медицинских, но и скудно пылающих факелов. По всем подобным делам — стеариновая свеча, Евдокия Ивановна Матвеева. Желаю счастливого пути в Вятку! Губернатор наш добр.
В этих последних иронически сказанных словах исправника содержалось нехорошее предзнаменование. Оно вскоре и подтвердилось. Не утруждая себя объяснением причин, губернатор ответил отказом. Сообщая об этом Дубровинскому, исправник вздохнул с сочувствием:
— Афронт весьма неожиданный. Тем более удивлен ваш слуга покорный, что в отличие от всех предыдущих прошений и жалоб сия просьба была составлена вами с необычайной мягкостью и убедительностью. Огорчен, весьма огорчен. Чем смогу еще быть вам полезен?
Трудно было сдержаться и не наговорить резкостей, но Дубровинский ответил внешне совершенно спокойно.
— Единственно доступным вам способом, — сказал он, с необходимой тонкостью и осторожностью копируя модуляции голоса исправника, — переслать соответственным образом мою жалобу на решение губернатора господину Сипягину, министру внутренних дел. При этом объявляю, не уверен я, что написана она будет сколько-нибудь необычно. Изобретательностью не наделен.
13
А дома он измарал несколько листов бумаги, подбирая выражения, пригодные для жалобы в столь высокую инстанцию. Хотелось написать жестко, требовательно, обвинив губернатора в бесчеловечности. Ведь, удовлетворяя очень скромную, но существенно важную просьбу политического ссыльного, он, губернатор, ни в коей степени не нарушил бы существующих узаконений Российской империи. Так почему же дан столь безапелляционный отказ? Какими инструкциями, положениями может быть оправдано это?
Именно так следовало бы написать. Дубровинский потер лоб рукой. И тогда господин Сипягин, разумеется, встанет горой на защиту губернаторского решения, правдами и неправдами притянув подходящие и неподходящие инструкции и положения. А речь идет о здоровье, может быть даже о жизни матери и будущего ребенка, и состязаться с министром в знании многоветвистых государственных законов и самых усеченных человеческих прав очень рискованно. Совсем как у Гейне:
Во сне с государем поссорился я — Во сне, разумеется; въяве Так грубо с особой такой говорить Считаем себя мы не вправе.Помимо всего, и время не позволяет. Роды у Ани ожидаются уже в самом конце апреля. Стало быть, и в жалобе даже надо быть предельно «деликатным» и сдержанным.
Исправник помычал, читая. Видимо, ему хотелось чего-нибудь и позадиристее. Все-таки интересно, чем на этот раз окончатся домогательства образованного, вежливого, но всегда чрезвычайно упорствующего политика. Вынь да положь ему справедливость. Но должен же он, этот образованный и вежливый, понимать, что нет равной для всех справедливости! Ибо зачем же тогда сажать в тюрьмы, ссылать, подвергать другим наказаниям и тут же об этих наказанных заботиться, как о первейших и достойнейших сынах отечества?
Жалоба ушла по соответственному адресу в казенном пакете и как в воду канула.
Март показал еще свои зубки — поиграл шальными метелями с изрядным морозцем. Наступил апрель, покрывая тонким блестящим настом обочины дорог и косогоры. Потом снег на полях сделался жестким, похожим на россыпи мелкого ледяного горошка, а дороги просели, обназмились, и мокрые от пота кони едва волокли по ним нагруженные сани. Солнце взбиралось по небу все выше, под его прямыми лучами уже начали набухать мохнатые почки у приречных верб. Заиграли в овражках звонкие ручейки. Неделя-другая, и весенняя распутица начисто и надолго отрежет Яранск от Вятки.
А ответа из министерства внутренних дел все не было.
Истекли и последние, еще возможные для выезда дни. Дубровинский, потемнев лицом, обивал пороги яранской полиции: нет ли вестей из Петербурга? Не было. Исправник только пожимал плечами. Он и действительно не знал ничего. Откуда ему было знать, что крик души ссыльного Дубровинского вятским губернатором препровожден министру внутренних дел с таким своим отзывом: «Представляя при сем на благоусмотрение Вашего высокопревосходительства жалобу состоящего в городе Яранске под гласным надзором полиции Иосифа Дубровинского на неразрешение ему и его жене отлучки в город Вятку, имею честь доложить, что ходатайство это мною отклонено как не вызываемое необходимостью. Врачебная помощь может быть оказана с равным успехом в месте водворения — Яранске, где имеются врачи и акушерки и никто из местных жителей не приезжает в Вятку исключительно на время родов». Аргумент убивающий: вот ведь чего эти ссыльные захотели!
И не станет министр проверять, на самом-то деле приезжают или не приезжают при такой надобности яранские жители в Вятку. Не займется он и установлением истинного состояния здоровья будущей роженицы. А коль ехать в Вятку госпоже Дубровинской нет нужды, нет нужды и спешить с ответом. Не имея разрешения на выезд, все равно ведь не выедет.
На рассвете в предпоследний день апреля сквозь чуткий тревожный сон Дубровинский услышал — Анна его окликает, сдерживая мучительный стон. Он вскочил, раздвинул занавески. С оконных наличников спорхнула говорливая стайка воробьев. Все небо затянуто темными, мглистыми тучами, вот-вот они обернутся дождем.
— Мне что-то очень нехорошо, Ося, — трудно выговорила Анна. — Ужасная боль в пояснице, дышать нечем. Распахни створки. И позови…
Он чуть не вышиб раму. Тронул рукой лоб жены. Холодный и влажный. Губы совсем побелели.
— Аня, родная, бегу за Евдокией Ивановной! Ты не тревожься, пожалуйста!
Поцеловал ее в щеку и метнулся к двери.
Все было заранее договорено. Евдокия Ивановна быстро собралась, втолкнула в свой акушерский саквояжик к тому, что там лежало уже, еще какие-то склянки, пакеты и молодцевато подмигнула Дубровинскому.
— Сына, конечно? Ух, вы, мужики! Ладно, предоставим!
Сразу шумом наполнилась тихая комната. Не крикливо, но властно Евдокия Ивановна приказала Дубровинскому закрыть окно, разбудить квартирную хозяйку, прислать сюда на помощь, принести таз, чистые ведра, накипятить воды, оставить наготове все какое есть чистое постельное белье. И не позволила больше приближаться к кровати, на которой под бугровато выпученным одеялом, закинув голову назад и кусая сохнущие губы, лежала Анна.
— А ты сам походи, походи по воздуху. — Евдокия Ивановна уже ласково ткнула Дубровинского кулачком в спину. — Здесь ты нам вовсе не нужен. Да двери-то не закрывай! — крикнула вслед. — И сенечные тоже. Настежь раствори и калитку.
— Зачем?
— Надо. Полагается.
Падали первые дождевые капли. Холодные, крупные, стучали по лаковому козырьку фуражки. Дубровинский сновал под окнами дома, не решаясь удалиться от него даже на несколько десятков шагов и замирая на месте, когда кто-либо появлялся на улице. Ждал, пусть пройдет. Не то обратит человек внимание на его взволнованность, начнутся расспросы. Как отвечать? Ему не хотелось, чтобы досужие языки тут же разнесли по городу весть: политическая рожает.
Он любил общение с людьми, но только не в той части, которая касалась интимных сторон личной жизни. Сконфуженно краснел и терялся, когда посторонние заставали его одного даже за трапезой или встающего с постели. Ему казалось, что все это у него получается неуклюже, отталкивающе; что стол усыпан крошками, слишком сильно пахнет квашеная капуста и у вилки расколота костяная ручка; что подушка после сна измята, словно изжевана, нижняя рубашка продралась на локтях и сами руки выше запястья уж очень худые и желтые.
Себе такие подробности жизни ничуть не мешают и просто совсем не заметны, но негоже все это выставлять напоказ. А есть ведь и столь затаенные личные чувства, что светлы и радостны, словно солнечный день, лишь когда недоступны чужому, любопытному глазу. И тут же исчезает их волшебная сила, как у фотографической бумаги, если коробку с нею оставить открытой на свету…
— Иосиф Федорович, ну… — донеслось сверху. Из окошка, высунув голову со сбитой набок белой косынкой, шептала Евдокия Ивановна, — ты не пугайся. А сбегай скорее за Андреем Потаповичем. Чего-то малость не так…
Он не помнил, как добежал до дома Шулятникова. Стучать в калитку не пришлось, врач в стареньком рабочем пиджачке, с клещами и молотком в руках, как раз ладил на ней задвижку. Выслушав сбивчивый, торопливый рассказ, он побросал свой инструмент, переменил одежду, схватил все, что полагается на выход, и потащил Дубровинского рядом с собой, повторяя:
— Не рвитесь, дорогой мой, вперед, не рвитесь! Главное, сохраняйте спокойствие, ясность мысли. Уверяю вас, минуты здесь значения не имеют. Все будет хорошо.
И не позволил потом подняться наверх.
— Андрей Потапович, но, может быть, я чем-нибудь…
— Да, знаете, Евдокия Ивановна права. Лучшая помощь мужа при трудных родах жены — это когда он страдает в другом помещении. Или на улице.
Дождевые капли сыпались теперь все чаще. Укрыться от них можно было, войдя во двор, там навес, под которым хранится всякая хозяйственная утварь. Можно постоять и в сенях, приткнувшись плечом к стене, увешанной прошлогодними березовыми вениками. Но в этом было нечто оскорбительное. Не для себя, для Ани, для будущего ребенка, появления которого, убоявшись промокнуть, отец ожидает среди разного хлама.
С той ясностью мысли, овладеть которой советовал ему Шулятников, он во всем этом разобраться не мог, а совершенно непроизвольно все-таки остался за воротами, под открытым небом, и принялся мирно ходить взад и вперед, словно часовой, уже не считаясь с тем, что привлекает чье-то внимание.
Ему мерещились беспрерывные стоны и крики, пробивающиеся сквозь толстые бревенчатые стены дома.
Он промок основательно, до дрожи во всем теле.
Потом дождь прекратился, выглянуло солнце, какое-то очень уж яркое, слепящее, и вместе с ним на улицу высыпала веселая детвора.
Теплее стало и ему. Просохла одежда.
Из сеней окликнула хозяйка дома, с заботливой укоризной напомнила, что надо бы ему поесть. Чего же так, с утра без крошки во рту? Дубровинский бросился на голос.
— Что там? Как там Аня? — спросил он, пытаясь самый точный ответ прочесть в глазах хозяйки.
— Да ничего, ничего. Не торопится, — певуче сказала она. — Я уж на всех обед сготовила. Андрей Потапович и Евдокия Ивановна сели к столу. Отлучиться-то им домой вроде бы и нельзя. Пойдите покушайте тоже.
— Ей плохо? Очень плохо?
— Да ведь как вам сказать… Радость в этом деле после приходит. Худенькая, тощенькая она. Силы, как у котенка. Придется еще ей помучиться. Что тут поделаешь? Доля наша такая.
Он вбежал в сени, метнулся наверх, по лестнице в свою половину. Но откуда-то сразу возникла Евдокия Ивановна, ухватила его за рукав.
— Куда ты, проворный? Ай, вот сейчас ты и вовсе уже ни к чему! Задремала бабонька. Дай спокою. Силу свою ты ей все равно не добавишь, а напугать видом своим напугаешь. Обедать мы сели у хозяюшки вот, внизу. Притомились, по правде, ноги дрожат. Андрей Потапович даже попросил к обеду водочки. Составь компанию. А щи такие вкусные…
— Не хочу! Не буду!
Он освободился от крепких рук Евдокии Ивановны, выбежал на улицу.
И опять ходил и ходил, потеряв представление о времени.
Створка окна распахнулась вновь, уже когда над городом поползли вечерние сумерки. Тягуче били церковные колокола. Сквозь их медленный торжественный перезвон к Дубровинскому сверху долетели глухо сказанные слова:
— Ну, слава тебе, господи! Кончилось дело. Заходи. Поздравляю!
Звала Евдокия Ивановна. А сама держалась рукой за горло, крутила головой. Вот, дескать, и досталось же!
Тяжело переступая непослушными ногами, Дубровинский поднялся по крутой лестнице.
Хотя Евдокия Ивановна и сказала ему: «Поздравляю!» — стало быть, все обошлось благополучно, — он не мог преодолеть в себе ощущения крайней нравственной измученности. Словно бы это он, именно он один и никто другой повинен в столь долгих страданиях жены.
Она лежала, закрыв глаза, без кровинки в лице, словно бы и не дышала. Необычно плоским и оттого пугающим было на постели одеяло. Казалось, нет под ним ничего, а на подушке отдельно неживая голова.
В дальнем углу, у большой, сплетенной из ивовых прутьев бельевой корзины копошилась квартирная хозяйка. Наклонясь, ей давал какие-то наставления Шулятников. Он был без пиджака, а рукава сорочки закатаны до локтя. По всей комнате на стульях разбросаны смятые простыни, полотенца.
— Можно подойти?
Скорее даже взглядом, а не словами спросил Дубровинский Евдокию Ивановну.
— А чего же! — сказала та поощрительно. — Только, как в музее пишется: «Руками не трогать».
Он дотронулся губами до лба Анны, боясь ощутить смертный холод. Но лоб был теплый, и в шорохе ее слабого дыхания он услышал:
— Ося, милый… мне… так хорошо…
— Вот и наговорились, довольно. Уходи! — Евдокия Ивановна локотком толкала его в бок. — Да в корзину-то хоть загляни. Эк, ведь как люди глупеют! Ради чего все старались?
Дубровинский шагнул к корзинке. Шулятников и хозяйка квартиры отступили, давая ему возможность разглядеть среди белых марлевых лоскутков маленький розовый комочек.
— Сын… — перебарывая радостное волнение, проговорил Дубровинский. — Боже мой… Сын!
— Ладно, хватит с тебя на первый случай и дочки, — ворчливо отозвалась Евдокия Ивановна. — Только, смотри, крестной матерью я ей буду. Не зря же день целый здесь пропласталась. Отлежится твоя краля, и наречем имя человеку. Спешить в этом не станем.
14
И не спешили. Да и где тут спешить, если у матери не было молока, а через несколько дней тревожного ожидания Евдокия Ивановна, постоянно их навещавшая, грустно шепнула Дубровинскому: «Молока и не будет. Думай теперь, как тебе дальше кроху вскармливать. Господи, и шести фунтов в ней нет! С чего жизнь началась? Да и за самой тоже хорошенько приглядывай: пока особо хвалиться нечем».
Он послал телеграмму в Орел, своим. Не пугающую, но с намеком, что как было бы славно, если бы внучку повидала бабушка.
Любовь Леонтьевна тут же откликнулась полной готовностью приехать. Однако ей требовалось какое-то время на сборы, да и дорога все же была непростая, в особенности для больной женщины.
Преодолевая свойственную ему стеснительность в таких делах, Дубровинский упрашивал хозяйку дома и Евдокию Ивановну обучить его уходу за ребенком, показать, как это делается. А потом сам кипятил молоко, кормил девочку из рожка через соску, стирал и гладил пеленки. Надо было успеть еще и сбегать в аптеку, заказать и получить лекарство, подать его Анне, мечущейся в жару.
Несколько легче стало, когда миновала опасность наиболее тяжелых осложнений и врач разрешил ей подниматься с постели.
Появлялся отец Симеон, наставительно говорил Дубровинскому, что нельзя забывать о высших обязанностях, что пора окрестить новорожденную. Не дай бог… И так далее…
Начались «семейные» советы, какое имя дать малышке. Хозяйка квартиры листала календари, озабоченно вздыхала: «Имен всяких тысяча, а опять же какое попало давать не годится. Ангелы, они ведь с первого дыхания человеческого уже летают вокруг, хлопочут. Вот из старальцев этих, кто был поближе после рождения, и выбирать надо».
А выбрать никак не могла.
Дубровинскому было ясно: только Марфа. В честь Марфы-посадницы, пламенной защитницы свобод «господина Великого Новгорода». Пусть в этом есть доля наивной символики, но это хорошая символика.
Для Анны бесспорным было другое имя — Юлия. Особых ассоциаций она с ним не связывала, смеялась:
— Ну, месяц июль — вершина лета! Ну, Юлий Цезарь — из всех римских императоров наиболее благородный! А проще всего «Юлия, Юленька» — удивительно звучное женское имя.
Евдокия Ивановна, присутствуя при таких спорах, только загадочно крутила головой: «А я вот знаю имечко!»
И во время обряда крещения столь стремительно подсказала его отцу Симеону, что никто другой не успел даже рта раскрыть:
— Наталия!
Так и записали в метрику. Дубровинский повторял про себя: «Марфа, Юлия, Наталия… Наташа, Таля, Талка… А хорошо ведь — Таля, Таленька?!» Было в этом что-то от начальной весны, тонкого хрусткого ледка, который по утрам схватывается морозцем на безоглядных разливах реки, а днем весь растаивает, и еще от той первой зелени, что таится в «кискиных лапках» тальника-вербы.
Этим уменьшительным именем — Талка — он прямо-таки огорошил Любовь Леонтьевну, встретив ее на почтовой станции.
— Что такое, Ося, какая Талка?
— Да ваша внучка, мама, ваша внучка!
— Ах, боже мой! А я-то ехала, придумывала имя. Талка, Наталка! Значит, Наталия Иосифовна? Принимаю. Веселого бы характера да крепкого здоровья ей!
— Мама, а вы? Как ваше здоровье?
Он пытливо оглядывал ее. За эти два года мать сильно поседела, стала еще сухощавее, а та грусть в глазах, с которой она провожала его на орловском вокзале, не исчезла и теперь, хотя радость встречи так и теплится на губах. Точит ее медленная, изнуряющая болезнь.
— Я чувствую себя превосходно! — сказала Любовь Леонтьевна. — Дорога была длинная, но я совершенно ее не заметила. Вдруг говорят, вот он и Яранск. Ты тоже хорошо выглядишь, Ося!
Как было не улыбнуться в ответ на эту милую материнскую игру! Она понимала, что сына не проведешь своим преувеличенно бодрым восклицанием. Но зачем же добавлять к написанному у нее на лице нездоровью еще и невеселые слова? Понимала, что и сын знает отлично, сколь плохо он выглядит сам. Но пусть же подумает: мать этого не заметила!
Она привезла с собой много разных гостинцев, и в их числе особенные ванильные сухарики, как верх домашнего кондитерского искусства, приготовленные лично тетей Сашей. Прислали свои подарки и братья. Яков вместе с Пересами в ювелирной мастерской их отца изготовил карманный нож, имеющий сверх двух обычных лезвий еще полдюжины разных приборов. Но «гвоздем», несомненно, была красиво инкрустированная рукоятка. Семен подарил шикарный кожаный ремень с гремящей, когда его застегиваешь, медной пряжкой. Шляпная мастерица Клавдия конечно же послала Анне не только сшитую ею самой, но и придуманную ею лично модную шляпку. В дорожных баулах Любови Леонтьевны были и книги. Много книг. И как раз те, которые так давно хотелось прочесть.
Ну, а главное — Любовь Леонтьевна привезла с собой «Искру», номер четвертый. Газету принес Яков буквально за пять минут до отправления поезда. Передал ее заклеенной в конфетную бумажку, на глазах у всех «угостил». От кого получил — не сказал, но успел шепнуть, чтобы не «скушала» ее и вообще была бы осторожна, потому что охранка за этой газетой установила особую слежку.
— Вот, как видишь, цела. И я конфетку не «скушала», и меня шпики вместе с ней тоже не «скушали».
Едва стихли первые радости общей встречи и дорогую гостью уложили поспать — с дороги у нее кружилась голова, — Дубровинский тут же занялся разборкой привезенной матерью литературы. К чтению он приступил с «Искры». Его сразу же увлекла статья «С чего начать». Именно это сейчас нужно было знать каждому.
Перед глазами бежали строки:
«Речь идет не о выборе пути (как это было в конце 80-х и начале 90-х годов), а о том, какие практические шаги и как именно должны мы сделать на известном пути. Речь идет о системе и плане практической деятельности…»
— Да, да, именно практической, — про себя комментировал Дубровинский.
«…выдвинутую нами уже в первом номере „Искры“ программу создания крепкой организованной партии, направленной на завоевание не только отдельных уступок, но и самой крепости самодержавия…»
— Ах, как жаль, что не дошел первый номер газеты! Какая же выдвигалась программа? Подробности?
«…в моменты взрывов и вспышек поздно уже создавать организацию; она должна быть наготове, чтобы сразу развернуть свою деятельность… Принципиально мы никогда не отказывались и не можем отказываться от террора… но наш долг — со всей энергией предостеречь от увлечения террором, от признания его главным и основным средством борьбы… Террор никогда не может стать заурядным военным действием: в лучшем случае он пригоден лишь как один из приемов решительного штурма… непосредственной задачей нашей партии не может быть призыв всех наличных сил теперь же к атаке, а должен быть призыв к выработке революционной организации, способной объединить все силы и руководить движением не только по названию, но и на самом деле…»
— Да, тысячу раз: да! Не метание бомб в царей и министров, а организованное накапливание сил.
«…Нам нужна прежде всего газета, — без нее невозможно то систематическое ведение принципиально выдержанной и всесторонней пропаганды и агитации… когда интерес к политике, к вопросам социализма пробужден в наиболее широких слоях населения… нам нужна непременно политическая газета… Мы в состоянии теперь, и мы обязаны создать трибуну для всенародного обличения царского правительства… Роль газеты не ограничивается, однако, одним распространением идей… Газета — не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор…»
«И вот же она, такая газета!» — хотелось крикнуть Дубровинскому.
«…правильное распространение ее — заставляет создать сеть местных агентов единой партии… Эта сеть агентов будет остовом именно такой организации, которая нам нужна: достаточно крупной… достаточно широкой и разносторонней… достаточно выдержанной… достаточно гибкой…»
Дубровинский вскочил, нервно заходил по комнате. Он уже видел такую организацию. Он видел себя ее агентом. Но Яранск держал мертвой хваткой. Здесь просто негде, невозможно приложить свои силы. А партия зовет. Нет, до чего же необходимо выбраться из этой пустоты туда, где можно делать что-то большее, нежели заниматься лишь переводами и самопросвещением!
Он оглянулся. Любовь Леонтьевна уже поднялась — вот беспокойная натура. Сейчас стоит рядом с Анной, о чем-то советуются. Как радостно, что в доме появилась хорошая наставница и помощница! В народе говорят: беда и выручка.
Кажется, внучка бабушке очень понравилась, по душе пришлась и невестка. Дубровинский приблизился к ним.
— И ничего, ничего, Таленька, что ты крохотка, — вполголоса ворковала Любовь Леонтьевна, склонясь над бельевой корзиной. — Мамочка твоя тоже не богатырь. А мы вас обеих выходим, выходим, вас обеих выкормим, выкормим.
— А мы просо сеяли, сеяли, — шутливо пропел Дубровинский.
— А мы просо вырастим, вырастим, — ответила ему Любовь Леонтьевна. Погрозила пальцем. А сама пропела на другой лад: — Вот такой вышины, вот такой ширины…
И все засмеялись.
Обещание свое Любовь Леонтьевна сдержала. Уже к середине лета Анна поправилась настолько, что могла значительную часть забот по дому взять на себя. Таля, хотя и на искусственном кормлении, тоже преображалась не по дням, а по часам.
Любовь Леонтьевна стала поговаривать об отъезде. Если затянуть до осенних дождей, не выберешься. И в конце августа она тронулась в путь.
«Добралась до Орла благополучно», — так сообщила она в самых веселых тонах.
Письмо заканчивалось припиской Семена о том, что Яков надолго уехал в Пермь учиться, и еще коротеньким рассказом об анекдотически-скандальной истории. В губернии открылось сорок должностей сборщиков денежной выручки от казенных «винополок». И дворянское собрание постановило обратиться с просьбой к министру финансов, чтобы эти должности никому другому, кроме дворян, не предоставлялись. А для сего, для надежности, чтобы не уплыла хотя бы одна такая должность в плебейские руки, собрание обязуется создать сборщицкую дворянскую артель. Семен издевался: взять бы и создать дворянскую артель водовозов! Или ассенизаторов! Но то, видите ли, унизительно, и доходов нет. А выгребать из касс винных лавок мокрые от водки мужицкие пятаки — не унизительно. Потому что доходно. Да еще как! Беда, нелегко будет поделить эти должности: дворян-то в губернии куда больше сорока голов. По древности рода подбирать «артельщиков», что ли, станут?
В это же время пришло письмо и от Конарского. Пользуясь условной тайнописью, он рассказывал, что повстречался с Серебряковой. Помогла она ему во многом. А когда зашла речь о кончине Радина, горько-горько поплакала. Сказала: редкостной души человек. Эти слова можно было полностью отнести и к самой Анне Егоровне. Не удивительна восторженность, с какою о ней отзывался Леонид Петрович.
Дальше Конарский писал, что за последнее время хорошо наладился транспорт «Искры», но по-прежнему остается острая нужда в надежных и умелых ее агентах. Мало переправить газету через границу, важно, чтобы она попала в руки возможно большему числу читателей. И тут же словно бы так, между прочим, но достаточно резко добавил, что если его некогда ввергла в крайнее недоумение женитьба Дубровинского на Киселевской, то теперь, узнав о рождении у них ребенка, он не может не выразить своего глубокого соболезнования…
Были потом и еще какие-то слова, несколько страниц, уже совсем о другом — Дубровинский не смог их прочесть. Отдал письмо Анне.
— Вот посмотри, он выражает нам глубокое соболезнование. Точь-в-точь как пишется в телеграммах, когда уходит из жизни близкий человек. Рождение нашей маленькой Талочки, нашей радости, считает таким же несчастьем, как смерть. Жестоко!
— Оскорбительно! А если сказать и еще грубее, Конарский бросает нам упрек в измене. — Анна скомкала письмо, отшвырнула прочь. — Зачем же тогда он рассказывает о партийных делах? С изменниками, предателями поступают круче! И не выбалтывают им секретов!
Давно уже она не была столь раздраженной. Ее лицо покрылось краской гнева, руки вздрагивали.
Заплакала малышка. Анна подбежала к ней, освободила мокренькую от пеленок.
— Таленька, Таленька! — И хмурилась и улыбалась. — Что же нам с тобой делать? И с собой? Ни к чему не пригодные мы стали. Хуже того — обманщики. Других призывали к борьбе, а сами — в кусты. Вот какие мы!
15
Дубровинский стоял у распахнутого окна, засунув кисти рук за ремень, подарок Семена, которым была подпоясана косоворотка.
День был жаркий, истомный. На теневой стороне улицы мальчишки играли в свайку, в бабки, в городки, а старики, расположившись на лавках близ калиток, вели какие-то свои неторопливые беседы. Треск разлетающихся бит, металлический тонкий звон втыкаемой в землю свайки, задорные ребячьи голоса, порой сердитые окрики стариков — все это сливалось воедино, в обычную, видимую картину обычной жизни маленького городка, где «день прошел — и слава богу!».
Вглядываясь в эту томящую своей внешней умиротворенностью благодать, Дубровинский думал: «А что там, за этими высокими глухими заборами, в каждом отдельном доме, отдельном и в то же время неизбежно связанном с жизнью всей страны? У кого-то сын служит в солдатах. Или уехал искать себе работу на большом заводе, чтобы поддержать семью, а теперь, может быть, бастует, ходит с красным флагом на демонстрации, требуя политических прав. У кого-то отец увезен и посажен в губернскую тюрьму, потому что, задавленный тяготами повседневной нужды, „преступил“ закон. А может быть, дочь, прельстившись на посулы каких-нибудь подлецов насчет шикарной столичной жизни, сбежала в Петербург или в Москву и, опозоренная, не решаясь вернуться в отчий дом, шляется там ночами по подворотням. Тебе это все равно или не все равно? Способен ты об этом думать равнодушно?»
И, как бы отзываясь на его размышления, из полуподвального этажа дома, стоящего напротив, вместе со слабым шумом открываемого окна взлетел ввысь драматически напряженный женский голос:
Меж высоких хлебов затерялося Небогатое наше село, Горе горькое по свету шлялося И на нас невзначай набрело…Но его немедленно пресек, оборвал густой бас:
— Завыла! Ат, стер-ва! Без тебя лихо!
И все сразу погасло. Захлопнулась створка окна. Даже, казалось, городошные биты летели без звука, деревянными брызгами разносили хитро сложенные фигуры на полях своих противников.
— Знаешь, Аня, жестокие слова Конарского мне сейчас вдруг представились по-другому, — проговорил Дубровинский, отходя от окна и помогая жене обмыть малышку, перепеленать. — Нет, нет, они оскорбительны и даже кощунственны, их мысленно повторить — и то тяжело! Но если забыть о словах…
— Ося, их невозможно забыть!
— А вот представь себе, что мы должны бежать из Яранска, бежать, чтобы выполнять в другом месте тайную и опасную работу — вот ведь Конарский пишет же, что людей не хватает, — сможем мы сбежать и укрываться от полиции, имея на руках нашу Таленьку?
— Так нельзя ставить вопрос! Мы можем делать и будем делать то, что можем.
— Но если от нас потребуется больше, чем мы можем?
— Ты это все говоришь лишь затем, чтобы оправдать Конарского.
— Мне бы хотелось оправдать себя. Оправдать нас обоих, Анна.
Она вскинула на него глаза в изумлении и горькой обиде. Почти механически завязывала узелок на свивальнике, шарила рукой по постельке, искала соску-пустышку. Таля похныкивала.
— Оправдать? Значит, мы действительно виноваты?
— Виноватых не оправдывают, а судят и приговаривают к заслуженному наказанию. Оправдывают невиновных.
Анна слегка растерялась. Слова мужа звучали убедительно, и тем не менее они не смягчали той нравственной боли, которую нанес своим письмом Конарский.
— Оправдываться… Перед кем? Перед Конарским, черствым, сухим человеком? Чем это лучше?
— Аня, спор об оттенках в значениях того или иного отдельно взятого слова можно продолжать бесконечно, потому что все новые слова, используемые в споре, опять-таки будут иметь свои особые оттенки. Но ты ведь знаешь, я увлекаюсь математикой. И когда очень сложное уравнение удается сократить и привести к более простой форме, я радуюсь, потому что оно становится нагляднее. Аня, вот одно из самых сложных житейских уравнений в наиболее сжатом виде: ты и я, два деятельных человека, — и наша беспомощная малышка. То есть трое. И нет над нами ни судей, ни прокуроров, ни адвокатов. Только жизнь. Обыкновенная. А жизнь вдруг властно обязывает действовать. Нас, повторяю, не два, а три человека. Но сколько же деятельных в полной мере? Ни одного? Так я сейчас понимаю жестокие слова Конарского. Особенно жестокие еще потому, что он-то, хотя и черствый и сухой, знает, как мы любим друг друга.
В раздумье Анна покачивала кроватку. Хотелось, чтобы Таля заснула побыстрее. С предельной отчетливостью ей стало очевидным, что этот крохотный, беспомощный человечек в определенном смысле действительно делает беспомощными и своих родителей.
— Да, я была неправа, Ося, когда говорила: мы будем делать то, что можем. Надо делать то, что нужно делать. Ты несколько раз говорил о побеге. Предположительно. Теперь это не предположения, а необходимость. Это сама жизнь. Обыкновенная жизнь революционеров. И если она требует бежать — бежим! Будет опасно? Знаю. Но кто может сказать, какие опасности нас ожидали бы, будь мы, как прежде, одни?
Медленно разводя пальцы, Дубровинский несколько раз погладил усы. Это вошло у него в привычку, так поглаживать усы, когда он сразу не мог найти точного ответа. Он понимал: сказаны эти слова Анной не сгоряча, не в запальчивости торопливого спора. Но все-таки необдуманно! Одно дело — искренний душевный порыв к смелому действию, другое — реальная обстановка.
— О побеге, Аня, я думал и думаю постоянно, — заговорил он. — Без цепей, но здесь мы скованы. А побег не прогулка. Прежде всего надо твердо знать, куда бежишь, кто и где тебя укроет. Бежать нам вместе с нашей малышкой — все равно что сразу явиться в первое же полицейское управление.
— Так что же тогда — выйти совсем из борьбы! — вскрикнула Анна. — Ведь этим же, именно этим бьет нас Конарский!
Наступило недолгое молчание. Взглянув прямо друг другу в глаза, они как-то сразу оба пришли к одному решению. Говорить о нем вслух не было надобности. Ясно, что из борьбы выйти ну просто-таки невозможно — вся жизнь тогда теряет свой смысл. Ясно, что и Таля, пока она так мала, да, связывает свободу действий. Во всяком случае, кого-то одного. Значит, надо кому-то из них взять полностью на себя заботы о девочке с тем, чтобы другому полностью также можно было отдаться делу революции. Оба они готовы на такой выбор. Кто и в чем сейчас принесет больше пользы?
Она отошла от кроватки — Таля заснула, — подняла скомканное было письмо, разгладила и принялась читать вслух:
— «…Из наиболее существенных новостей стоило бы, пожалуй, упомянуть об основании в Москве „Общества взаимного вспомоществования рабочих“. Сначала рабочих в механическом производстве, а затем и в других отраслях. Это давняя идея Зубатова. Теперь он пробил ей дорогу, и она начинает осуществляться со свойственными этому господину энергией и размахом. Уже поступают сообщения о том, что под разными названиями, но на тех же принципах возникли „Общества“ в Одессе (и там верховодит прямой зубатовский агент Шаевич), в Киеве, в Николаеве, в Харькове. Тянется рука Зубатова и в Петербург, но тут дело у него пока не вытанцовывается. Причин тому по меньшей мере две. Скептическое отношение к этому дворцовых кругов и личных завистников и ненавистников Зубатова. Но главнейшая причина — разъяснительная работа наших социал-демократических организаций. Чему весьма способствует „Искра“, регулярный выпуск которой, как я уже упоминал, — событие истинно величайшей важности.
Еще. Самая последняя новость. В Женеве состоялась конференция, смысл которой — подготовить объединительный съезд всех наших разобщенных, раздираемых принципиальными разногласиями социал-демократических организаций. Камнем преткновения, как ты знаешь, давно уже стали отношения к „экономизму“, бернштейнианству и прочим вывертам в марксистском рабочем движении. Определились словно бы два полюса. Один — группа „Освобождения труда“, „Искра“ — „Заря“; другой — главным образом вертихвостское „Рабочее дело“. Представь себе, удалось выработать и принять согласованную резолюцию, целиком опирающуюся на позиции „Искры“ — „Зари“. И я бы хотел здесь вскрикнуть: „Ура!“ Но Кричевский, Акимов, Мартынов в своем „Рабочем деле“ явно стали давать задний ход. Боюсь, сорвут милые „рабочедельцы“ предстоящий съезд.
И самое-самое последнее. В той же Женеве эсеры выпустили первый номер своего журнала „Вестник Русской революции“. Еще одна палка — или бомба? — в колеса революции!
Ну, а это уж просто так. Царь Николашка повез в Париж благоверную. По слухам, лечить от серьезного психического заболевания, держа сие в глубокой тайне от отечественной медицины. Не хватало несчастной России на троне еще сумасшедших владычиц!»
Анна опустила руку, в которой держала письмо.
— Вот что делают нервы, — проговорила она и принужденно улыбнулась. — Еще немного, и я могла не только порвать это письмо, а сжечь его. И мы бы тогда не узнали много более важного, чем мнение Конарского о нашей семейной жизни.
— Ему действительно не следовало об этом писать, — сказал Дубровинский. — Он все хорошо понимает, кроме этого.
— Мы иногда тоже ее не понимаем, Ося! Во всяком случае, я. Мне в этом и стыдно и не стыдно признаться. Стыдно, когда я опираюсь на железную логику, и не стыдно, когда… — Она и хмурилась и улыбалась. Вдруг кинулась, обвила руками шею мужа и, нервно шепча ласковые слова, стала целовать, будто провожала его в дальнюю и неведомую дорогу. — Ося, Ося, ну, скажи мне, что это ведь можно!
Теперь уже она пыталась высвободиться, но Дубровинский не отпускал. И она покорилась.
Им обоим было так хорошо.
Потом, поправляя сбившуюся прическу, словно бы с каким-то заглядом вдаль, медлительно спросила:
— Ося, вправду твой побег сейчас совсем бесполезен?
Он ответил не сразу, несколько раз погладил усы.
— Пока он бесцелен.
Анна прошла к раскрытому окну. Села на подоконник, придерживаясь за косяк. Оглядела белесое от зноя небо, темнеющий вдали за городом окраек леса, прислушалась к уличным шумам. И зажмурила глаза, повернувшись лицом к Дубровинскому, оставшемуся в глубине комнаты, — после яркого солнечного света она здесь не видела ничего.
— Ося, обдумай сейчас все, как если бы ты был один, — с торжественностью в голосе и не открывая глаз, но все равно ища его взглядом, проговорила она. — И решай. Потом мы снова будем думать вместе и вместе решать. Но знай одно совсем твердо: ни я, ни Таленька ничем не связываем твои решения. Ты уедешь или уйдешь, если это необходимо. Сейчас ты можешь сделать больше, чем я. Делай. Все другое будет неправильным.
Она не дождалась ответа.
А когда встревоженно открыла глаза, увидела, что муж стоит, наклонясь над кроваткой дочери, и без звука, едва шевеля губами, ей, спящей, что-то говорит.
16
Нудный моросящий дождь вперемежку со снегом падал и падал, не переставая, третьи сутки. И хотя по календарю день прибавился очень значительно, а булочники уже прикидывали, велик ли будет спрос на «жаворонков», весной в Петербурге еще и не пахло. Погода больше подходила для поздней осени. Слякоть, промозглый туман и тянущий с Невы, насквозь пронизывающий ветер. Облепленные мокрой снежной кашей вокзальные фонари не столько светили, сколько просто обозначали место, где они стоят.
Носильщики в белых парусиновых фартуках с огромными медными бляхами на груди бежали вдоль состава, заглядывали в окна, в тамбуры вагонов первого и второго классов, не ждет ли их там кто-нибудь, побоявшись выбраться в серую муть, заполнившую и стеклянные своды вокзала. Пассажиров вообще было немного.
— Барин, па-азвольте-с! — счастливо закричал один из наиболее резвых носильщиков, оказавшийся возле пульмановского спального вагона как раз в тот момент, когда из него на перрон легкой походкой ступил, дымя папиросой, благообразный интеллигент, в очках, одетый в пальто с бобровым воротником и в бобровой шапке. — Па-азвольте, где ваши вещички? Мигом…
И тут же отшатнулся, глядя с восторгом и с испугом.
— Ты что, братец?
— Виноват, ваше… ваше… ст… прес…вод… — не зная, как титуловать стоящего перед ним, бормотал носильщик и то подносил руку к козырьку картуза, то, будто обжегшись, отдергивал. — Господин Зубатов… Сергей Васильевич…
Зубатов неспешно снял очки, наклонил голову к правому плечу, к левому, добродушно улыбнулся:
— А я, братец, тебя не припомню. Извини! Что же касается вещей, их у меня есть кому поднести. Спасибо!
Позади Зубатова высился усатый жандарм. Он держал в руках толстый кожаный портфель и дорожный баул из плотной шотландской материи.
— Так вам где же всех… — заторопился носильщик. — А вас кто же не знает, Сергей Васильевич?
— Не преувеличивай, братец, — сказал Зубатов, внутренне польщенный. С прежней неспешностью достал партмоне, из него вынул серебряный полтинник и подал носильщику. — Это тебе в возмещение неоправдавшихся надежд.
— Сергей Васильевич! Милостивец! — забормотал носильщик. И сунул скорее полтину в карман: этак вернее, вдруг «милостивец» передумает — много дал. — А я, Сергей Васильевич, виноват, вас еще гимназистиком помню. В сторожах тогда я служил, а вы с Мишей Гоцем все вместе… Потом еще, когда вы уже поступили, виноват, в эту…
— Память у тебя, братец, отменная, хорошо, — перебил Зубатов. И мимолетным движением приложил палец к губам. Добавил отечески: — А язычок распускать не следует. Поцелуй свою женушку!
И пошел, печатая новыми галошами четкие следы на снежной изморози. Жандарм сердито зыркнул на носильщика. Тот остался стоять столбом, глупо помаргивая заслезившимися от волнения глазами. И вправду, не черт ли дернул за язык? Надо же было ляпнуть такое! Да такому еще человеку… Самому Зубатову!..
Он напрасно тревожился. Вся мера наказания, которую определил властительный начальник охранного отделения, заключалась лишь в мягком предупреждении пальчиком. На настроении Зубатова слетевшие с языка носильщика слова о Мише Гоце почти не отразились. Ну, было, было. Действительно, в гимназии вместе с Гоцем организовали кружок — теперь к нему вполне бы подошло название «марксистский», — читали нелегальщину, писали прокламации. Факт биографии, никем не осуждаемый и, вероятно, всем, вплоть до государя, известный. Так же, как известно, хотя, быть может, и не всем, что Гоц, верховодивший в кружке, был арестован по безымянному доносу. Да, его, Зубатова, доносу. Но доносу, сделанному не от беспричинной подлости человеческой, а как следствие твердо изменившихся взглядов на формы и методы преобразования общества, чему он ныне посвящает всю свою энергию. Не будет бахвальством для себя сказать: и жизнь. Теперь он, разумеется, не стал бы строчить анонимку. А тогда, по мальчишеству, ну было, было. Ах, старикан, старикан! Вон чего вспомнил…
Мягкая улыбка теплилась на лице Зубатова, пока он шел по мокрому перрону, садился в извозчичьи санки, а расторопный жандарм прикрывал его ноги меховой полостью, пахнущей псиной и сыростью, да и потом он все улыбался, когда в брызгах воды, ошметках слипшегося снега, вылетающих из-под копыт рысака, мчался по Невскому.
У него оставалось в запасе некоторое время, чтобы устроиться в гостинице, переодеться с дороги и с полчасика блаженно посидеть в номере за чашкой чая, прежде чем явиться к министру. Может быть, удастся переброситься несколькими словами и с Гапоном. Телеграмма ему была послана, однако к поезду он не пришел. Впрочем, понятно: священнослужитель встречает начальника охранного отделения на вокзале, это не только носильщику — кой-кому и еще в глаза бросится! Скорее всего Георгий Аполлонович ждет в гостинице. Повидаться с ним надо бы непременно, поддержать его, что-то с седыми бородачами в Духовной академии у него не ладится. Дураки! Не понимают новых веяний времени. А Гапон их немедленно схватывает. И к ним приспосабливается очень удачно. Вернее даже, их подчиняет себе. Огонь-человек, взглядом насквозь прожигает каждого. Право, не одолей его «святость», взял бы к себе первым помощником.
До чего же противен снежно-дождливый Петербург! А в Москве — прелесть. Играет солнышко, морозец, с которого и уходить-то не хочется. Особенно роскошным выдался тот день…
Зубатов зажмурился… Высокое небо, в нем светлая паутинка тоненьких-тоненьких облаков. Снежные языки наплывом свисают с крыш. Но не с угрозой — упадут! — а словно разглядывая и прислушиваясь, что там происходит внизу. Голубиные стаи, трепеща белыми крыльями, носятся над первопрестольной. Гудят торжественно и призывно соборные колокола. Золото церковных макушек и золото хоругвей, медленно плывущих по улицам, трехцветные знамена, бесчисленные венки на руках — не траурные венки, а благодарственные, с белыми, тисненными золотом лентами, — как все это наполнено тихим сиянием! Хоры ангельских голосов, они незримы, — может быть, с неба льются эти звуки? Течет, течет река народная. Необозримая, спокойная. Подсчитано: пятьдесят тысяч человек. Идут, несут венки к памятнику царю-освободителю Александру II. Несут в своих сердцах любовь к великому самодержцу, щедро отзывавшемуся на нужды народные и тем подтвердившему могущество и доброту самодержавной власти, а мученической смертью своей оставившему горький укор всем тем, кто не сумел сберечь эту драгоценную жизнь…
Он сидел, зажмурясь, и видел эту картину словно бы и сам, а в то же время и глазами этой торжественно текущей толпы. Вторым, исключительно своим собственным, зрением он видел только себя. Это он, это его разум и его воля явью сделали то, что многим другим, чванно стоящим над ним, представлялось фантастическим, невозможным. Хуже — пагубным и ненужным, ибо, по их мысли, лучшим управителем народных безликих масс был, есть и во веки веков останется страх и еще раз страх! И вот победа, полная, несомненная, его, зубатовская, победа. И уже не вызывает, а приглашает министр. Любопытно, как поведет разговор Дмитрий Сергеевич? О чем, главным образом? Расскажет ли, как оценил мирную манифестацию сам государь и было ли ему доложено, чьими стараниями состоялась она столь успешно?
Зубатов оборвал цепочку лепящихся один к другому вопросов на вожделенно промелькнувшей мысли о том, что приглашение к министру может ведь означать и приглашение во дворец…
Гапон и на самом деле оказался в гостинице. Если бы не посторонние, он тут же, завидев входящего Зубатова, сорвался бы из тихого и темного уголка, где сидел в нетерпеливом ожидании, и бросился бы обнимать своего друга и покровителя, но приходилось подавлять движение души ради соблюдения «дистанции», и Гапон постучался в зубатовский номер, улучив момент, когда коридор совсем обезлюдел. Они обнялись и поздоровались очень тепло, но Зубатов трагически развел руками:
— Дорогой мой Георгий Аполлонович, увы, мы располагаем временем намного меньшим, чем я рассчитывал. Хотелось бы поговорить с вами нестесненно, и это мы позже сделаем. А сейчас позвольте мне, и вас прошу, быть очень кратким. Еду к Сипягину. Именно поэтому я и телеграфировал вам, чтобы нам встретиться до визита к нему. Знаю, но не в должных подробностях, о ваших невзгодах. Готов защитить вас где надо, в том числе и у министра. Но вооружите меня.
Мягкое кресло ерзало вместе с Гапоном, он едва удерживал себя в нем, то откидывался на спинку и встряхивал длинными черными волосами, то рывком наклонялся вперед и поглядывал на Зубатова исподлобья.
— Вы мудрейший и прозорливейший человек державы Российской, государственный деятель, избравший путь…
— После, после, Георгий Аполлонович, — мягко остановил его Зубатов. — Сейчас только то, что касается лично вас.
— Многие в академии, Сергей Васильевич, недовольны тем, что я хожу по приютам для слабых и немощных, разумеется, обездоленных бедняков, посещаю ночлежные дома, где смрадно и грязно, а постели — боже, какое это рубище! — кишат насекомыми. Я захожу в подвалы, населенные рабочими семьями. И те же грязь и смрад, нечистоты преследуют меня. Нет света, сыро, холодно. Голодные детишки плачут, и, случается, у них же на глазах умирают мать или отец! — Лицо Гапона покрылось белыми пятнами, голос вознесся до крика, он вскочил, высоко подняв обе руки ладонями вперед. — Неисчислимы страдания народные. Их нужно знать. Их нужно понять. Нужно, чтобы кровь страдающего человека огнем протекла по твоим жилам, прошла через твое сердце, сжимая и раня его, а мысли проникли бы в твой мозг и овладели им, вложили бы в уста твои слова и гнева и утешения, слова печали и призыва, а больше всего — веры, веры, веры!
— И это все ставится в вину? В серьезную вину? Или это не больше, как пустое недовольство вами умственно ограниченных людей? — спросил Зубатов.
Постучав, коридорный внес чай. Сообразил: не вовремя. И, пятясь, удалился.
— Христос изгнал торгующих из храма! — возопил Гапон. — Им кажется, я собираюсь сделать то же самое. Но прежде, чем я это сделаю, они должны успеть изгнать меня.
— Должно быть, их смущает, а на церковном языке, сколько я знаю его, вводит в соблазн то, что вы открыто посещаете некоторые непотребные места, — заметил Зубатов, стремясь ослабить ярость Гапона.
— Они видят во мне социалиста! Они разработанный мною проект создания кооператива безработных, в котором каждая строчка дышит заботой, как избавить лишившихся заработка людей и их семьи от голода, назвали вредной затеей, несвойственной задачам и целям воспитанников Духовной академии! — кричал Гапон. — Они считают, что именем Христа я всех зову в социализм!
— Мне очень нравятся «марксята» своим революционным темпераментом, — с прежней подчеркнутой невозмутимостью проговорил Зубатов, — но они хотят совсем другого.
— Истинно! Огонь и вода. Душа и тело. Не озлоблением, а кротостью…
— Георгий Аполлонович, простите, я вас перебиваю, но мне пора… Я обещаю вам — нет, почему же: твердо обещаю! — вы можете быть совершенно спокойны.
Гапон просветлел. Сделал несколько угловатых движений, знаменующих крайнюю степень взволнованности. Наконец прижал руку к сердцу — утишая боль его или в знак признательности Зубатову? — и поклонился. Настолько низко, насколько обязывало уважение к старшему и по годам и по общественному положению; и не настолько низко, чтобы уронить достоинство и святость черного подрясника, в котором он явился к Зубатову.
— Нет слов для благодарности, Сергей Васильевич! Да сопутствует вам в делах ваших счастье! Та волна благородного рабочего движения, что в сердцах народа связана с вашим именем, да разольется по всея необъятной России!
— Аминь! — полушутя, полусерьезно сказал Зубатов. — Я уже счастлив, Георгий Аполлонович, тем, что вижу в вас неизменного единомышленника.
— Ах, Сергей Васильевич! — вдруг снова воздел руки к небу Гапон. — Если бы вы, встав во главе этого движения, оставили свою службу в полиции! Нужнейшую, полезнейшую! Но не совместимую с избранным вами путем. В этом, скорблю, я не единомышленник ваш. Не начальственный перст указующий, не светлые пуговицы полицейских мундиров истинная защита… Бо́льшая самостоятельность… Но — простите, простите меня, Сергей Васильевич!
Шумя длинным подрясником, Гапон выскочил из номера. Он чуть не вышиб поднос с чайным набором из рук коридорного, который было осмелился вновь с ним появиться.
17
Министр внутренних дел Сипягин молча взглянул на большие кабинетные часы именно в тот момент, когда к нему приблизился Зубатов, сияя привычной спокойной улыбкой. От этого взаимные приветствия получились несколько скомканными, и Зубатов догадался, что это было сделано Сипягиным с определенным расчетом. Знай, мол, начальник московского охранного отделения, что ты сейчас хотя и на вершине личного успеха и явился сюда тоже без опоздания, но время министра, каждая его минута — государственное время.
— Прошу!
Всего одно лишь слово. И жест, разрешающий сесть.
Едва Зубатов опустился в мягкое кресло, тут же дверь распахнулась, и появились все добрые его друзья. Директор департамента полиции Сергей Эрастович Зволянский, начальник особого отдела Леонид Александрович Ратаев и свежеиспеченный товарищ министра фон Валь, до недавнего времени виленский, а раньше — курский губернатор.
Этот, впрочем, не относился к друзьям. Зубатов даже избегал называть его по имени-отчеству. Фон Валь платил ему тем же. А было только и всего, что некогда Зубатов в одном из своих вполне конфиденциальных донесений в департамент полиции отозвался весьма непохвально о деловых качествах курского губернатора, его феноменальной и злой способности запоминать даже самые малейшие обиды. Теперь фон Валю, владеющему портфелем товарища министра, многое тайное стало явным…
— А, великолепный Зубатов! — проговорил он, подавая руку, но становясь к Зубатову боком.
— Великолепному фон Валю! — ответил Зубатов.
И не пожал протянутую руку, а только прикоснулся ладонью к ладони. Сегодня он вполне безопасно мог это сделать, ибо титул «великолепный», которым наградил его фон Валь, хотя и произнес это слово с явной иронией, как нельзя более подходил к случаю. Зволянский и Ратаев приветствовали Зубатова просто и сердечно.
— Не вижу Пирамидова, — скорее как вопрос, но ни к кому не обращаясь, произнес Сипягин.
Зволянский пожал плечами: дескать, я предупреждал его, но почему он опаздывает, мне неведомо. Фон Валь и тут не преминул вонзить тонкую шпильку в Зубатова.
— Петербургский коллега нашего именинника хочет этим доказать свою неспособность ко многому.
Сипягин хмуро поглядел на фон Валя. С утра дьявольски болела голова, теперь стало еще отдавать и в правое плечо. Погода препоганая, белый свет не мил. И не сидеть бы здесь, в этом кабинете, а поваляться дома на диване, стянув полотенцем голову, но — поручение государя. Зубатов приглашен, назначено точное время. А ничто так не поднимает престиж начальника в сознании его подчиненных, как точность во всем и особенно во времени.
— Не будем дожидаться Пирамидова, — сказал Сипягин и локтем сдвинул в сторону приготовленные на подпись бумаги. Поморщился, превозмогая ломящую боль в висках. — Господа! В вашем присутствии мне хочется душевно поздравить Сергея Васильевича Зубатова с тем исключительным успехом, который имела подготовленная им в Москве манифестация и возложение венков к памятнику незабываемому, в бозе почившему, монарху нашему. Это грандиозно, впечатляюще. Поздравляю вас, Сергей Васильевич! — и через стол слегка наклонился всем корпусом в сторону Зубатова. — Сверх того, я уполномочен его императорским величеством передать следующие его слова: «Трогательны любовь и доверие народные к самодержавной власти. Поощряйте всех, способствующих развитию этих великих чувств. Интересен московский опыт создания рабочих обществ. Присмотритесь к нему».
Он замолчал многозначительно, словно бы давая возможность каждому присутствующему тщательнее взвесить царское слово и определить, насколько оно относится лично к нему. Зубатов, радостно воссиявший в начале речи Сипягина, теперь сидел несколько озадаченный, но по-прежнему хранил на лице улыбку победителя. Думал напряженно: министр поздравил его с успехом мирной рабочей манифестации, но в словах государя нет ни звука лично к нему, к Зубатову, относящегося. Общие фразы. Как это понимать? Не доложено царю, не сказано царем или сказанное не передано сейчас министром? «Поощряйте всех, способствующих…» И мы пахали! Не для того ли приглашены сюда Зволянский, Ратаев, фон Валь и где-то запоздавший Пирамидов, чтобы в их присутствии засвидетельствовать это? Что ж, Сипягин не промах! Зубатову достаточно и устного поздравления министра, а высшие награды и монаршее благоволение, разумеется, лишь самому министру. Ну, ничего, дорого то, что по всем правилам утвержден устав «Московского общества взаимного вспомоществования рабочих», что его, зубатовские, идеи ширятся и захватывают все больший круг умов, а имя Зубатова в тысячу раз популярнее, чем имя Сипягина. И настанет пора — настанет! — когда от имени государя говорить будет он, Зубатов.
Столь долгая пауза делалась невыносимой. Зубатов поднялся, ломающимся от волнения голосом произнес:
— Уважаемый Дмитрий Сергеевич, с почтительным чувством самой искренней благодарности я принимаю ваши душевные поздравления, так же, как и слова, сказанные его величеством. Добавить к этому мне нечего. Труд мой, мои старания у всех на виду.
Короткое замешательство. Ответ Зубатова прозвучал так, точно бы слова императора Николая относились исключительно к нему, и он принимает их с благодарностью. Но переспрашивать ведь не станешь, что имел он в виду, и не станешь при столь ловком ответе поспешно заявлять о своих правах на широкую долю монаршего внимания. Все принялись поздравлять Зубатова.
На этом его визит к министру мог бы и закончиться. Но фон Валю очень не хотелось, чтобы удачливый начальник московского охранного отделения покинул кабинет этаким гоголем. И он как бы совершенно между прочим заметил:
— Да, да, все было прекрасно. Однако в то время, когда необозримая народная река текла к памятнику царя-освободителя, на Тверском бульваре с гнусными антиправительственными лозунгами демонстрировала кучка социал-демократов. И, кажется, безнаказанно? — Он искоса посмотрел на Зубатова.
Этого уже спустить было нельзя. Зубатов взъелся.
— Вы позволили сказать «кучка»? — вопросил он елейно. — Гм! Нет, пожалуй, цепочка или колонна. В колонне по бульвару идти удобнее, нежели кучкой. Я действительно не потребовал у Трепова отряда конной полиции для ее разгона. И потом никого не стремился арестовывать. А мои люди даже лоточников с горячими пирогами послали туда. День хотя был и оттепельный, но на свежем воздухе аппетит быстро разыгрывается.
— Сергей Васильевич, — осторожно шепнул Зволянский, намекая: держитесь в рамках.
— Сергей Васильевич! — строго сказал Сипягин. — Вы могли бы ответить без ерничества.
— Простите, Дмитрий Сергеевич, я внес в определение фон Валя только некоторые уточнения. И еще не успел ответить по существу, — теперь он весь повернулся к Сипягину. — Видите ли, Дмитрий Сергеевич, разгонять ту, относительно небольшую по числу участников демонстрацию ни в коем случае не следовало. Известие об этом тотчас докатилось бы до нашей мирной манифестации и, страшно подумать, как взволновало бы ее. Чувство рабочей солидарности и тому подобное… Торжественность настроения, во всяком случае, была бы начисто нарушена. По этой же причине не было и последующих арестов. А мои люди не только содействовали продаже горячих пирогов для «кучки» демонстрантов, но сумели постепенно растворить ее в маленьких переулках, заметив, однако, всех, кого следовало.
— По-моему, разумно, — вставил Ратаев.
— Обстановку учитывать следует, — подтвердил и Зволянский.
— Обстановку, господа, обстановку! — возбужденно воскликнул фон Валь. — Только за последний месяц что мы пережили? Дерзкие демонстрации рабочих и студентов в Киеве, в Батуме, в Ростове-на-Дону, в Вильне, здесь, в столице, в Финляндии. Для всех по способу Зубатова не напасешься горячих пирогов.
— По способу Зубатова патриотическая манифестация рабочих в Москве, кроме вас, никому не доставила огорчения, — нежно улыбаясь фон Валю, заметил Зубатов. — И по способу же Зубатова именно за это время в Киеве тихо, спокойно арестовано десять самых деятельных «искровцев», можно сказать, под корень срезан Южный областной комитет социал-демократов и накрыта в Кишиневе типография, где печаталась «Искра». Ничего лишнего я не прибавил, Сергей Эрастович? — обратился он к Зволянскому.
— Мне не хотелось бы плескать керосин в огонь, — примирительно сказал Зволянский.
— А я плесну, — весело заявил Ратаев. — Дело в том, что есть существенная разница между демонстрациями и манифестациями. Сергей Васильевич законно гордится организованной им мирной манифестацией, но демонстрации-то ведь организуются другими….
— Фон Валем, например, — успел вставить Зубатов, — когда он — вспомните-ка Вильну — приказывал пороть рабочих розгами.
— В вас, Зубатов, не стреляли, а в меня стреляли! — вскипел фон Валь. — Именно в этой самой Вильне.
— И именно после того, как вы приказали выпороть рабочих, — уточнил Зубатов. — А что касается меня, не исключено, что и в меня будут стрелять, но не по моей просьбе.
Морщась от боли и хватаясь за виски, Сипягин перелистывал приготовленные ему на подпись бумаги. Он давно бы уже посоветовал спорщикам выйти из кабинета, но почему-то боялся остаться один. Сверх мучительной головной боли давила еще и сердце непонятная тоска. В тиши пустого кабинета она совсем одолеет. Бросить бы все к черту и уехать домой, а надо все же дождаться Пирамидова. Хотя бы для того, чтобы всыпать ему как следует за опоздание. Пренебрегать точно назначенным временем явки к министру не дано даже начальнику петербургского охранного отделения. Он мог бы позвонить в самом крайнем случае.
А эти молодцы — Сипягин повел измученным взглядом в сторону Зубатова и фон Валя, — эти молодцы грызутся между собой. И не просто по личной друг к другу антипатии, чего вообще-то отрицать тоже нельзя, очень они разного склада ума, — грызутся, стремясь подчеркнуть свою власть: фон Валь нынешнюю, а Зубатов — ожидаемую, предстоящую.
Да, этот может пойти далеко! Талант, ничего не скажешь. Вполне резонно было бы Ратаева, бабника, завзятого театрала и патологического любителя балета, из особого отдела департамента полиции вытолкнуть, а Зубатова поставить на его место. Сунуть бы Ратаева на заграничную охрану и пусть там куролесит с француженками, тем более что блестящего Рачковского в Париже пора сменить. Он, в упоении своими успехами при французском президенте, совсем выпрягся из служебных оглобель, и не только министр внутренних дел ему не начальник, а и сам черт не брат. Сунуть бы в Париж Ратаева, но за него, чтобы оставить здесь, горой стоит Зволянский. Тоже ни рыба ни мясо. Зубатов отлично подошел бы и на должность самого директора департамента полиции, но снять Зволянского ради Зубатова — воспротивится Витте, могущественнейший из министров. А обострять с ним отношения никак невозможно. Тем более что Сергей Юльевич не только покровительствует Зволянскому, но и решительно недолюбливает Зубатова, недолюбливает за его затею с организацией рабочих обществ, определенно мешающих развитию торгово-промышленного капитала. Да что там, на Зволянского, не будь разных помех, еще лучше бы выменять Зубатова на фон Валя, но этого гуся, что называется, силой навязал фон Плеве, только и видящий, как бы самому поскорее усесться в это вот самое министерское кресло. Двадцать лет готовится к этому. Директором департамента полиции фон Плеве при Толстом уже послужил, товарищем министра при Дурново был. Теперь — статс-секретарь Финляндии. Очередная ступень, разумеется, только в министры. Но ведь и фон Валь подумывает об этом! Сипягин зло скривил губы: можно ли поручиться, что и Зубатов не думает о том же самом? Но дудки, дудки, господа претенденты на высшие должности, пока что каждый сверчок знай свой шесток! Любыми перемещениями нарушать служебное равновесие сейчас очень опасно. Можно и самому пошатнуться. А если уж поощрять иными путями, так умных, а не дураков.
Сипягин поднял голову.
— Наговорились? Установили истину? — спросил, потирая виски. — Не буду судьей в вашем споре. Но вот некоторые факты и соображения, господа, на ваше размышление. В Киеве арестован десяток «искровцев», в Кишиневе разгромлена типография «Искры», наиболее опасного для государства издания, но «Искрой» по-прежнему наводнена вся Россия. Мы пудами перехватываем ее на всех границах, а она тем не менее их перешагивает, и все в больших количествах! Профессор Боголепов, министр народного просвещения, за то, что ввел правило сдавать в солдаты студентов, участвующих в беспорядках, убит студентом же. Но генерал Ванновский, заменивший Боголепова и вернувший всех студентов, ранее сданных в солдаты, своим сердечным попечением о них разве внес какое-либо успокоение? Стрельба из револьверов становится их любимым занятием, и это, господа, горький, ужасающий факт. Под корень срезан эсдековский Южный комитет. Но сколько их, этих комитетов, еще не срезано в разных других местах! Они плодятся, как комары в мокрое лето, эсдековские, эсеровские и черт еще знает какие! Стараниями Зубатова созданы общества взаимного вспомоществования, и нет сомнения в их полезности, как для рабочих, так и для государства, но читаны ли вами, Сергей Васильевич, все прокламации, статьи в той же «Искре», где проклятью предается ваше имя, а заодно и всех вас поддерживающих? Отлучение писателя графа Толстого от церкви вызвало в прошлом году лишь любопытство и кривотолки, но недавнее исключение писателя босяка Максима Горького из числа почетных членов Академии наук произвело взрыв. Служение музам нынче меряется революционным аршином. Мюнхен, Лейпциг, Берлин, Женева, Лондон, Париж, не называю Финляндию, — разбойничьи гнезда революционеров, но по международному праву — святые убежища для скромных схимников, служителей высоким идеалам. Какая рука способна до них дотянуться? Вот, господа, некоторые факты! А выводы?
Он последовательно посмотрел на каждого и снова принялся листать бумаги, всем видом своим подчеркивая, что ждет ответов. Как принято на военных советах, первым высказывает свое мнение младший по чину. Здесь младшим был Зубатов, но он явно не собирался экзаменоваться, может быть, по праву «именинника». И тогда заговорил Ратаев:
— Нарисованная Дмитрием Сергеевичем, точнейше нарисованная, весьма реалистичная картина в то же время напоминает многозначительную сказку о семиглавом змее-горыныче. Можно сколько угодно по одной отрубать все его головы, но они станут вновь отрастать. До тех пор отрастать, пока змей не будет поражен в сердце. Мы без устали рубим головы змею в пределах Российской империи, а сердце его, как теперь очевидно, находится там. — Он неопределенно махнул рукой в неопределенную даль. — И статский советник Петр Иванович Рачковский, находясь тоже там довольно долго, оказался не таким богатырем, чтобы пронзить сердце змея. Или хотя бы каким-то образом выманить змея сюда.
— А действительный статский советник Леонид Александрович Ратаев смог бы это сделать? — быстро спросил Сипягин.
— Ну, я, право, не знаю… Это так неожиданно, Дмитрий Сергеевич, — в растерянности пролепетал Ратаев. Вот влопался! Возьмет и пошлет на замену Рачковского. Но — промелькнула мысль — так ли уж будет это плохо? Чуть-чуть пониже должность, но жалованье там не меньше, а Париж не хуже Петербурга, работа легче, увлекательнее, и для жизни безопаснее. — Там нужен настоящий богатырь! Но не Рачковский, конечно…
— Беда в том, что, если воспользоваться сравнениями Леонида Александровича, у змея не только семь голов, но и по меньшей мере столько же сердец, — осторожно заговорил Зволянский. — И похоже, что отрубленные головы тотчас же отрастают, а пронзенные сердца заживают…
Фон Валь не дал ему договорить.
— Прекрасно! — закричал он. — Превосходно! Значит, процесс неостановим? У революции тысяча сердец, и все они бессмертны? Когда прикажете заказывать для нас гробы, Сергей Эрастович?.. Не люблю сказок! Надо брать примеры из действительной жизни, а не из бабкиных сказок… Когда я был курским губернатором, мне часто доводилось посещать образцовые помещичьи хозяйства. И вы знаете, Зволянский, если прилежно обрабатывать хлебные поля, на них не останется ни единой сорной травинки. Ни единой!
— В действительной жизни мы имеем дело не с травой, а с людьми и с идеями, разрушительными идеями, — задетый за живое наставительным тоном фон Валя хотя и мягко, но огрызнулся Зволянский.
— Ну так в действительной жизни этих людей надо стрелять и вешать! — с начальническими раскатами в голосе отрезал фон Валь. — В меня стреляли. А что касается идей, всякие идеи, в том числе и разрушительные, тоже умирают вместе с людьми, которыми они владели.
— Скорость распространения идей несколько выше, чем постройка виселиц, — вдруг проговорил Зубатов, дотоле упорно молчавший.
— Чепуха! Есть примеры истории. Разинщина, пугачевщина — они были остановлены крутыми мерами! — бушевал фон Валь, в запальчивости даже не отдавая себе отчета, на чью реплику он сейчас откликается.
— А вы не припомните, в каком это было веке? — играя, как кошка мышью, спросил Зубатов.
Фон Валь опешил. Сбился, ошеломленный не столько, пожалуй, неожиданностью вопроса, сколько тем, что Зубатов наконец заговорил.
— После рождества Христова, но до второго пришествия спасителя, — съязвил он. — Эпоха, в которую и мы с вами живем. — И гордо отвернулся, показывая этим, что далее пререкаться с каким-то жалким начальником охранки он считает ниже своего достоинства.
— Позвольте, Дмитрий Сергеевич? — с изысканной вежливостью попросил разрешения Зубатов. Сипягин устало кивнул. — Теоретически можно перевешать все человечество, за исключением последнего человека, которому придется повеситься уже самому. Но тогда, разумеется, второе пришествие спасителя окажется бесполезным, ибо земля будет безлюднее, чем в шестой день сотворения мира. Не отрицаю необходимости в применении и крутых мер, но Дмитрий Сергеевич очень ясно показал на многих примерах, что вопреки всем нашим усилиям революционное движение в России ширится и ширится. Обычными полицейскими средствами его не пресечь. Чтобы обезвредить одного революционера, мы бросаем два десятка наших людей. Нас скоро просто не хватит по числу. А между тем положение совсем не безнадежно. — Лучась усмешкой, он прикрыл глаза. — Что движет силы революции? Неудовлетворенность народа самодержавной властью? Отнюдь! Народ поддержит ее с ликованием, если самодержавная власть станет поддерживать и защищать народ! Рабочий или деревенский мужик как личность не стремится к власти, она для него прямая обуза, но если власть ни в чем не поддерживает, а лишь угнетает, тогда, естественно, зарождается мысль: «А ну вас к черту! Дай я сам попробую». Тем более он будет думать так, когда его подогревают с одной стороны жестокие притеснения предпринимателей, с другой — пламенные речи поборников революции. Но, господа, к счастью нашему, то есть к счастью отчизны, революционеры воздействуют пока лишь на отдельных рабочих, ну на группы рабочих… — Зубатов открыл глаза и словно бы продиктовал: — Правительство должно — и может! — привлечь на свою сторону массы. Подчеркиваю: массы! Сейчас еще «большинство» для революционеров неприступно. Масса — она сама задавит революцию. «От добра добра не ищут», — говорится в народе. Получая достаточное удовлетворение из рук правительства, зачем массе идти против него и слушать каких-то говорунов, призывающих к борьбе, к восстаниям? Рабочий и деревенский мужик — они по природе своей трудолюбивы, а не воинственны. Не надо лишь доводить их до той грани, когда они в слепой ярости схватятся за оружие.
Фон Валь издевательски громко вздохнул. Зубатов еще возвысил голос:
— Побольше веры в массу, господа, она не выдаст! Будем ее прикармливать, и она наша. Гоняясь за революцией, мы массу жмем так, что у нее горб трещит. Но горб трещит уже и у нас. То, что произошло девятнадцатого февраля в Москве у памятника царю-освободителю, да будет вечна слава его, доказывает, как послушен и управляем русский народ, исполненный веры в силу и справедливость самодержавной власти. Неловко мне напоминать, но очевидно же для всех, с какой охотой и с какими светлыми надеждами повсеместно вступают рабочие в открытые, законные общества взаимного вспомоществования. — Он весь устремился к Сипягину. — Дмитрий Сергеевич! Это стало осуществимым только благодаря вашей поддержке. Но можно — обстановка созрела вполне — пойти и еще дальше. Полиции совершенно стать в стороне и вмешиваться в рабочие дела только в случае прямой уголовщины и проявления враждебной политики. Скажу еще резче: смотреть сквозь пальцы даже на забастовки, раз в них нет ни уголовщины, ни явной политики. Вы спросите: кто же тогда, если уж и не полиция? Институт инспекторов, учреждаемый верховной самодержавной властью, только ей подчиняющийся и ею вдохновляемый в своих действиях! Если бы эта моя мысль вами, Дмитрий Сергеевич, была принята благосклонно, я убежден, было бы сделано много добра — и без какой-либо принципиальной политической уступки! — а революции нанесен такой удар, какого не в силах сделать самые жестокие репрессии.
Он замолчал. Воцарилась звенящая тишина. Только скрипело перо, которым министр подписывал бумаги.
— Надо понимать, что Зубатов после осуществления всех предлагаемых им реформ примет на себя почетные обязанности председателя общества покровительства домашним животным. Охранному отделению делать будет нечего, — подперев жирные щеки ладонями, самодовольно проговорил фон Валь.
И бросил беглый взгляд на Сипягина. Тот спокойно поскрипывал пером.
— Если моя скромная работа в нынешней роли заслуживает какого-либо признания, я попрошу тогда дать мне возможность значительно расширить летучий отряд филеров, — невозмутимо отозвался Зубатов. — Привлечение рабочих масс на сторону правительства еще не означает, что революционные идеи и их проповедники тут же иссякнут полностью. С ними придется продолжать долгую борьбу. Но тогда — с несомненной уверенностью в полной победе.
Сипягин отложил перо в сторону. Потеребил пальцами седеющие бакенбарды. Заговорил очень сухо:
— Благодарю, господа! И резюмирую. В новых предложениях Сергея Васильевича есть много привлекательного, как и в любых мечтаниях и фантазиях. К этому больше пока ничего не добавлю. Устав рабочих общества утвержден, всемерно поощряйте их деятельность. Штаты охранных отделений нужно увеличить, революционная зараза продолжает расползаться, факт несомненный. Сергею Эрастовичу следует быть поэнергичнее. И при надобности, не стесняясь, применять силу и силу. Евангельский завет «Ударившему тебя в правую щеку подставь левую» со скорбью приходится читать иначе: «Ударившего тебя в правую щеку бей без жалости по обеим щекам». Ну, а виселицы… — Он помедлил. — Думаю, здесь нет предмета для спора.
Это все можно было понять уже как завершение общего разговора. Зубатов приготовился встать и попросить позволения удалиться. Но, заметив его движение, Сипягин сделал знак рукой. Ему и всем остальным.
— Сергей Васильевич, вот передо мной весьма нелестное заключение Пирамидова относительно поведения некоего Гапона. Поскольку Гапон — лицо духовное, все бы это, естественно, следовало направить в синод обер-прокурору Победоносцеву, однако здесь есть ссылка на существующие якобы между Гапоном и вами связи. Что вы можете сказать?
— Только одно, Дмитрий Сергеевич: Гапон действительно мой человек. Очень талантливый, очень полезный, а в будущем — чрезвычайно обещающий. Могу лишь удивляться Пирамидову, почему он прежде не спросил меня. Зная же…
— Довольно, — сказал Сипягин. И крест-накрест перечеркнул бумагу. — Даже волос не упадет с его головы.
Еще несколько раз поставил свою подпись.
— Сергей Эрастович, а этот вопрос, пожалуй, к вам. Вот на препроводительной вятского губернатора вы пишете: «На благоусмотрение его высокопревосходительства». Но ваше-то мнение, ваше? Речь идет о Дубровинском, высланном в город Яранск под гласный надзор. Мне это имя попадается уже не первый раз.
— Простите, Дмитрий Сергеевич, — виновато сказал Зволянский, — но этот Дубровинский, мягко говоря, забросал вятского губернатора жалобами и прошениями по самым различным поводам, а губернатор, в свою очередь, забрасывает ими нас. И поскольку в данном случае губернатор не внес никаких рекомендаций…
— Их должен внести лично министр? — сердито спросил Сипягин. — А ваше мнение?
— Это уже повторное прошение Дубровинского относительно перевода для отбытия оставшегося срока ссылки в одну из южных губерний. На первое его прошение, поданное в прошлом году, ответ не был дан ввиду…
— Я спрашиваю: ваше мнение? — уже с угрозой в голосе повторил Сипягин.
— Посчитал бы справедливым отказать. Срок ссылки Дубровинского заканчивается в июле тысяча девятьсот третьего, то есть через год с небольшим. Стоит ли? — Зволянский не мог разгадать, какое именно его мнение хотел бы слышать министр.
— Позвольте, Дмитрий Сергеевич, — вмешался Зубатов. — Относительно Дубровинского. Я бы сказал: это мой «крестник». Он из Курска. Был по моим проследкам арестован в качестве одного из руководителей «Московского рабочего союза». Весьма деятельная фигура. Но мне глубоко симпатичная.
— Из Курска? — что-то припоминая, переспросил фон Валь. — Помилуйте, Дмитрий Сергеевич, так не этот ли самый Дубровинский меня однажды поставил в идиотское положение?
— Я не был бы удивлен, — вполголоса сказал Зубатов. Но не решился слишком затянуть паузу и закончил: — Потому что Дубровинский, которого я знаю, это сделать способен с любым.
Сипягин измученно откинулся на спинку кресла.
— Ну, расскажите, — попросил он фон Валя. — Для разрядки. Это, наверное, будет весело. Сегодня какой-то ужасно мрачный день.
— Я не умею рассказывать анекдоты, — замялся фон Валь, — да это, собственно, и не анекдот. Но, пожалуй, такое я не забуду и через тысячу лет. Когда я был еще курским губернатором, получаю невероятно гневное письмо за подписью некоего Дубровинского. В нем говорилось о бесчинствах, которые творил волостной старшина Польшин в селе Кроснянском. Этот Польшин, выбивая недоимки, обливал распятых на стене мужиков ледяной водой из колодца до тех пор, пока они не теряли сознание. И это, припомните, во времена страшного голода. Общественное мнение и без того накалено. Вся эта история может просочиться в печать, в мировую прессу. Разумеется, я распорядился о проверке. Факты подтвердились, и Польшин понес строжайшее наказание. Это прошло во все газеты. Что ж, отлично. А позже выяснилось, что Дубровинский — сопляк, всего лишь ученик реального училища. У меня же тогда почему-то фамилия эта ассоциировалась с каким-то крупным деятелем. Теперь смейтесь, Дмитрий Сергеевич! Мать сопляка Дубровинского шила прекрасные шляпки, в том числе и для моей супруги. Вот откуда вошла в мое сознание эта фамилия.
— Возможно, что вы читали также и Пушкина, — сочувственно заметил Зубатов, — у него есть повесть о наводящем страх на всю округу благородном разбойнике Дубровском. А это почти Дубровинский.
Фон Валь в ответ прошипел что-то непонятное. Сипягин рассмеялся. Заулыбались и все остальные, применяясь к смеху министра.
— Ну, хорошо, господа, — отсмеявшись, сказал Сипягин и вновь склонился над бумагами, — а что же делать с Дубровинским? Вот, я вижу, приложено свидетельство врача яранской больницы: «…страдает начальным периодом бугорчатки легких… повторным лихорадочным состоянием и прогрессирующим истощением… Для предотвращения развития болезни я нахожу необходимым для Дубровинского переезд на жительство в какую-либо южную губернию…» Прошение самого Дубровинского написано весьма корректно, вятский губернатор действительно никаких рекомендаций не вносит, однако и порочащих поведение поднадзорного сведений также не приобщает. Вот еще отзыв яранского исправника: «Дубровинский ныне состоит в браке с поднадзорной же Киселевской, имеет ребенка…»
— Это уже хороший признак, — масляно щуря глаза, проговорил Ратаев. — Так сказать, определенный поворот революционера к новому роду деятельности. Приятному и в значительной степени отвлекающему от участия во всяческих рискованных акциях.
— Я бы, Дмитрий Сергеевич, непременно удовлетворил эту просьбу, — сказал Зубатов. — В Яранске он для революции практически бесполезен, но и для нас также. В новом месте мы его из поля зрения все равно не выпустим, а какие-то ниточки, тянущиеся от него или к нему, дотоле нам неизвестные, там легче могут быть обнаружены. Кроме того, удовлетворение просьбы Дубровинского произведет хорошее впечатление на многих «марксят», пока обретающихся на свободе.
— Резонно, — согласился Сипягин. — Но вы, Сергей Эрастович, кажется, против?
— Нет, почему же, — отозвался Зволянский. — Это была и моя мысль. Я тоже поддерживаю. Но в какую из южных губерний? Не бросить бы нам щуку в реку! Для здоровья Дубровинского, если именно это принимать во внимание, безусловно были бы полезны и Одесса, и Кишинев, и Екатеринослав, но…
— Астрахань! — торжествующе и зло вскрикнул фон Валь. — Астрахань! Мы сразу убиваем двух зайцев. Во-первых, это юг, но, право же, такой юг, который для чахоточного ничем не лучше северного Яранска. Во-вторых, там столь же глухо в политическом смысле, как и в Яранске. Да, действительно, мы вроде бы бросаем щуку в реку, в матушку Волгу, — кивок Зволянскому, — а на самом деле кладем ее жариться на горячем каспийском песке.
— Цинично, но — святая истина! — после короткого раздумья сказал Сипягин. И начертал на прошении Дубровинского пространную резолюцию. — И еще один вопрос, господа. Из Берлина от Аркадия Михайловича Гартинга получено отрадное сообщение, что ему удалось внедрить в берлинскую группу «Искры» нашего человека — Ростовцева, — и мимоходом уточнил, — да, да, врача Житомирского. При его исключительных способностях очаровывать простодушных эсдеков и при условии, если бы в Париже сумел и Рачковский…
Открылась дверь, и, позванивая шпорами, вошел дежурный офицер. Сделав всего несколько шагов от порога, он остановился, вытянул руки по швам, но не щелкнул, как положено, каблуками. Сипягин поморщился. Он любил порядок во всем.
— Ваше высокопревосходительство, — глухо произнес офицер, — Пирамидов…
Сипягин в раздражении ударил ладонью по столу. Черт знает какая разболтанность! Этот Пирамидов является только к шапочному разбору…
— Ваше высокопревосходительство, его высокоблагородие… полковник Пирамидов… убит…
Рука Сипягина сползла со стола, безвольно повисла сбоку мягкого кресла, ставшего вдруг невыносимо горячим и тесным. Мучительная головная боль, терзавшая его весь день, пронзила виски острой иглой, стали двоиться фигуры людей, перед ним сидящих, потемнели дальние углы кабинета.
— Кто? Где? Подробности? — отрывисто спросил Сипягин.
— При спуске на воду броненосца «Александр III». Порывом ветра сбросило флагшток. Убито и пострадало несколько человек. Его высокоблагородие скончался по дороге в больницу, — теперь уже не запинаясь, докладывал дежурный офицер.
— Чепуха! «Сорвался флагшток…» Этак и весь броненосец ветром размечет, — прошипел фон Валь. — Подстроено мерзавцами…
Прошло минутное оцепенение и у Сипягина. Он поднялся, вытянулся, туго сжатыми кулаками уперся в стол, покрытый зеленым сукном.
— Господа, фон Валь прав! Безусловно, это не роковая случайность, это — политическое убийство, — властно проговорил он. — Я прошу вас, всех прошу, каждому соответственно своему служебному долгу принять зависящие экстренные меры к безусловной поимке преступников и жесточайшему наказанию. Помолимся о душе невинно убиенного! — Он осенил себя широким, размашистым крестом. Молча перекрестились и все остальные. — Обратив сердца в камень, к делу, господа! Все прочее после.
Оставшись один в кабинете, Сипягин прошел к окну, откинул бархатную штору. Тускло светились фонари сквозь дождливо-снежный перепляс, рысили по улице редкие извозчичьи упряжки, брели пешеходы, окутанные липкой белой слякотью, словно саванами. Бездонный, темный, зловеще-загадочный город. Что в нем таится, в каждом отдельном доме? Что подстерегает за каждым углом? Думалось ли всего каких-нибудь полчаса или час назад начальнику санкт-петербургского охранного отделения, что в момент всеобщего ликования на корабле, вдруг из серой туманной мути сверху обрушится на него — дико даже представить! — сорвавшийся от удара ветра флагшток и сам он, грозный Пирамидов, уже никогда больше не увидит даже этой отвратительной, все скрывающей серой мути?
Сипягин стоял, привычном ходом мысли нащупывая: если преступника сразу не схватили, где именно, в какой враждебной среде его надо искать?
И в тот час, в злобном ослеплении мстительным чувством, он тоже не думал, что менее чем через два месяца в веселый, светлый день апреля студент Балмашев, один из тех ста восьмидесяти трех студентов, которых при садистском поощрении Сипягина сдавал в солдаты «за участие в беспорядках» министр просвещения Боголепов, что этот студент, вернувшись из солдатчины, уже как боевик-террорист партии эсеров, точным прицелом всадит в него револьверную пулю.
Часть третья
1
Светлые и чистые начала заложены в самой природе души человеческой. Никто и никогда не принуждает человека к добру, стремление сделать счастливым другого столь же естественно, как и желание чувствовать себя осчастливленным. В отчаянных схватках со злом добро неизменно выходит победителем. Другого исхода борьбы народ не приемлет. Иначе была бы потеряна вера в жизнь.
Когда парень из крепостных крестьян в одиночку поджигал усадьбу помещика, это была борьба за свободу. Но эта борьба скорее походила на вспышку отчаяния и заведомо имела непременный конец — розги, звенящие кандалы, долгий страдальческий путь в каторжную Сибирь и там безвестную могилу. Высекая из кремня искры, этот крепостной парень ни на что другое и не рассчитывал. Но и удержать себя тоже не мог. Да, он знал: один в поле не воин… плетью обуха не перешибешь… Но если ты все-таки один! Ужели терпеть?
Собрав под боевые знамена уже многие тысячи, Емельян Пугачев приказывал уверенно: «Руби столбы — заборы сами повалятся!» Подрубленные «столбы» — помещики — падали, и рассыпались «заборы» — вся подневольная их охрана. Но в глубине поля, обнесенного помещичьими «оградами», высилась каменная крепость — самодержавие. И если плетью обуха не перешибешь, то и обухом топора, даже такого, как пугачевский, не сокрушишь каменную крепость. Конец оказался все тот же: кровавые плахи, гремящие цепи и скорбный путь по Владимирке. Так нужен ли, нужен ли был этот трагически завершившийся взрыв народного гнева? Он был неизбежен.
Уже не в лаптях, не с вилами и рогатинами, а при боевом оружии и во всем блеске парадных мундиров выстроились на Сенатской площади войска под командованием тех, кому история повелела стать известными под именем декабристов. Это был не обыденный дворцовый заговор. Все они были честны, мужественны и миссию свою видели не в личном возвышении, а в том, чтобы помочь страдающему народу. Прекрасный порыв души! И вот привычный исход новой попытки неравной борьбы с самовластием: плети, виселицы и надсадные тачки в забайкальских рудниках. Особенно горький исход еще и потому, что эти искренние, умные люди стремились помочь народу, совсем не опираясь, в свою очередь, на поддержку народа. Они это понимали, но все же вышли на Сенатскую площадь — к тому обязывал нравственный закон.
Волна возмущения захлестывает смелых борцов. Коль непригодны все средства открытой борьбы, то око за око и зуб за зуб! Дрожите, тираны! И рвутся одна за другой самодельные бомбы заговорщиков «Народной воли». И эшафот за эшафотом воздвигается в мрачных дворах Петропавловской и Шлиссельбургской крепостей.
А народ по-прежнему глухо ропщет на свою тяжкую долю, но не смеет расправить могучие плечи и ударить как следует. У него много вдохновенных, храбрых защитников, без колебаний кладущих на плаху свои головы, но нет организатора, вождя, способного поднять на борьбу в целом массы народные. Разными тропами, ведущими или к открытой вершине, или к опасной пропасти, раздробленно, несогласованно движутся силы освобождения. Одни утверждают, что нет никакой надобности пролетариату захватывать власть, бороться за права политические. Другие твердят: рабочий класс еще темен, свет в окне для социальной революции — только интеллигенция. Третьи видят главную силу в крестьянстве. Четвертые кричат: террор и только террор. Пятые… Каждый находит своих горячих сторонников и раскалывает освободительное движение. Есть могучая армия революции, но нет у нее в достатке оружия, пригодного к бою, перепутаны все рода войск, не выработан план генерального наступления.
И вот провозглашен «Манифест Российской социал-демократической рабочей партии». Создана и сама партия. Ни устава пока, ни программы, но сами по себе возникающие на местах ее комитеты, никем еще не объединенные, уже приобретают высокий авторитет среди рабочих. Довольно разброда, шатаний, мелкой кружковщины. Каменную стену самодержавия не пробить револьверными пулями, ее можно опрокинуть только единым мощным ударом всех средств наступления. И меньше всего револьверными пулями. Нужно организовать пролетариат, народные массы. Кому это должно сделать? И кто это сделать способен? За спинами тех, кто несет в народ устное слово правды, неотступно следуют зловещие тени филеров, сыщиков, провокаторов. Рабочий класс искусству революции надо учить, душители революции своему ремеслу обучены.
Снова неравенство сил. Однако у революции есть теперь печатное слово. Тысячи и тысячи прокламаций, листовок, газета «Искра». За каждым листком бумаги, набатно поднимающим народ на борьбу, полиции не угнаться. Арест террориста-эсера — это, может быть, один не убитый им царский сановник. Провал агента — распространителя «Искры» — сотни и тысячи рабочих, не втянутых в огонь революционной борьбы. И если прежде к эсдекам полицейские власти относились более снисходительно, чем к эсерам, пугающим бомбами, теперь эсдеки-«искровцы» предстали в глазах этих властей не менее грозной опасностью…
От Волги тянуло нестерпимыми запахами рыбы, смоленых лодок, раздавленных арбузных корок. К этому примешивался еще и горький дымок маленьких костров, над которыми, вздетые на березовые рогулины, висели прокопченные котелки. В них варилась рыбацкая похлебка. Поодаль, уже совсем на выходе из города, на порыжелом косогоре раскинулся цветастый цыганский табор. Оттуда доносился медлительный гитарный перезвон, стук бубна и рыдающий в тоскливой песне женский голос. Визжала резвящаяся детвора. Тоненько вел на наковальне свою какую-то мелодию легкий молоток искусника кузнеца.
Необыкновенно большой диск закатного солнца низко стоял над рекой, выстилая на ее мелкой ряби широкую багровую дорожку. Постанывали длиннокрылые чайки. Наступал осенний, октябрьский вечер, но он не приносил с собой прохлады. Гнетущая южная духота плотно лежала над городом.
Забросив полотняный пиджачок на плечо, Дубровинский устало брел у самого уреза воды. Здесь, может быть, хоть чуточку, да посвежее. Грудь, лицо, спина — все было мокро от пота. Он забирался рукой под рубашку, пытался немного оттянуть ее, дать доступ воздуху — не помогало. Дышать было нечем. И Дубровинский припоминал, как врач Шулятников, по весне провожая его из Яранска, сказал невесело: «Федот, да не тот ваша Астрахань. Эка ведь дали вам юг! Ладно еще не в Среднюю Азию загнали. Слякоти, конечно, будет поменьше, чем в наших вятских краях, и это хорошо, только солнцем тамошним, бога ради, не обольщайтесь. Оно не для вас». А куда в Астрахани денешься от солнца, если оно пылает все лето в бездождном небе и прожигает насквозь? Н-да, для укрепления здоровья он здесь ничего не выгадал, туберкулезный процесс все больше прогрессирует, зато…
Зато — Дубровинский веселее зашагал по берегу Волги — здесь есть на чем развернуться. Есть настоящее дело. Именно этого, видимо, не предугадали в департаменте полиции, выбирая для него место на юге. Тут не отмечалось тогда ни стачек, ни забастовок, ни демонстраций, совсем второй Яранск. Но в Астрахани был рабочий класс, люди, замученные непосильным трудом на рыбоперерабатывающих предприятиях. Нужна была только искра, из которой возгорается пламя. И сложным, трудным путем из-за рубежа через Марсель — Батум или через Вену — Тавриз в Баку, а потом Каспием в Астрахань стали поступать сюда транспорты с газетой «Искра». Ее следовало кому-то получать и переправлять дальше по Волге, в Самару, откуда она растекалась по всей центральной и восточной России. Ничего, что временами похрипывает в груди, душит кашель, а ноги по ночам наливаются странной ватной усталостью, это все можно преодолеть. Дело-то, дело какое! На таком деле неизвестно откуда и силы берутся.
Дубровинский еще прибавил шагу. Пока солнышко совсем не окунулось в Волгу, нужно успеть разыскать необходимого человека. Ах, как жаль, что уехала в Тверь Лидия Михайловна! «Жаль», конечно, не то слово. Наоборот, очень хорошо, что уехала, срок ее ссылки в Астрахани закончился. Останься она здесь, и сразу у полковника Маркова возникли бы сомнения: какая неволя во имя чего ее удержала? В Твери Книпович себя уже показала: тамошний комитет выступил с заявлением о полной солидарности с «Искрой». Но с отъездом Лидии Михайловны он, Дубровинский, теперь остался во главе всех социал-демократических сил Астрахани. Нравственная его ответственность возросла. Что ж, надо так надо. Все заботы по пересылке в Самару поступающих из Баку транспортов с «Искрой» он взял на себя. Участники созданного им «искровского» кружка ведут широкую агитационную работу среди рабочих. И вот уже в Астрахани впервые на улицах появились красные флаги, а на машиностроительном заводе была объявлена двухнедельная забастовка, окончившаяся победой бастующих. «Искровский» кружок — на пороге превращения в социал-демократический комитет.
Дубровинскому припомнилось, как вскоре же по прибытии в Астрахань он обратился в жандармское управление с просьбой позволить устроиться куда-либо на канцелярскую работу. Жить на что-то ведь надо! Полковник Марков отнесся сочувственно, пообещал навести нужные справки, запросить соответствующие инстанции и уже месяца через три — какая быстрота решений! — вызвал к себе и объявил: «Можете поступить письмоводителем в губернскую контрольную палату».
Намекнул при этом, что он в хороших отношениях с новым начальником особого отдела департамента полиции Зубатовым, тот, в свою очередь, в тесной дружбе с новым директором департамента полиции Лопухиным, а Лопухин в большом доверии у нового министра внутренних дел фон Плеве — вот все и получилось очень гладко.
Прикидываясь наивным, Дубровинский спросил: «А что же московское охранное отделение, с кем осталось?»
И Марков снисходительно заулыбался: «Свято место пусто не бывает. Взамен Сергея Васильевича назначен подполковник Ратко, — с особенным удовольствием полковник Марков подчеркнул, что Ратко всего лишь подполковник. — Ну, а до Сергея Васильевича скоро будет и вовсе рукой не достать. Ума — палата! Смотрите, как по всей России его идеи с благодарностью принимаются рабочими. И вам бы, марксистам, лучше поддерживать истинно живое, чем пытаться вдувать жизнь в мертвые буквы своих книжных теорий. „Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма…“ Вот именно, господин Дубровинский, очень точное определение — „призрак“. А призраки, как известно, лишь плод возбужденного воображения. Был — и растаял».
Он, этот жандармский полковник, оказался начитан, по памяти цитировал «Коммунистический манифест», да еще вон с какими комментариями.
«Не знаю, не читал», — отозвался Дубровинский.
Полковник Марков тогда медленно повертел головой, как бы дирижируя невидимым оркестром. Действительно, за время ссылки стоящий перед ним узкогрудый, явно чахоточный человек ни в чем особо предосудительном замечен не был. В этом благотворная сила такого вида наказания, очень многие после ссылки начисто отходят от революционной деятельности. Почему бы и Дубровинскому не приобщиться к их числу? Пусть себе на здоровье работает в контрольной палате! Это и признак милости со стороны власть предержащих, а милость растапливает даже самые грубые сердца, — и возможность тщательнее наблюдать за его поведением, ибо в контрольной палате есть люди охранного отделения.
Так, видимо, думал тогда полковник Марков, зная, что в таком городе, как Астрахань, не просто укрыться от бдительного ока филеров. Знакомство с Книпович не прошло незамеченным. Частые встречи на квартире поднадзорного Замараева, где собирались еще семь-восемь таких же поднадзорных, прогулки по глухим уголкам городского сада Буткова в той же компании — все это наверняка отмечено. А глухо потаенная работа над получением и переотправкой транспортов «Искры», в которую Книпович вплоть до своего отъезда никого, кроме Дубровинского, не посвящала, неужели и это прослежено?
Так или иначе, а недавно первый гром грянул. Разом сделаны тщательнейшие обыски у многих, а его, Дубровинского, прямо из городской управы, где размещалась контрольная палата, увезли на ночь в жандармское управление, потом переправили в тюрьму. Это, что называется, не фунт изюма: поднадзорного ссыльного — в тюрьму.
Наутро к нему в камеру явился сам полковник Марков.
«Это что же, господин Дубровинский, — строго спросил он, — значит, вопреки всему прежним опять занимаетесь?»
«Не понимаю вас. И вообще ничего не понимаю. Схватили на работе. Обыск на квартире. Ничего не нашли. И не могли найти. А меня в тюрьму…»
«Да, но у Сережникова нашли целую кипу всяческой нелегальщины, и Сережников именно на вас указал».
Что можно было ответить? Лишь развести руками.
«Но вы же не можете отрицать, что поддерживали тесное знакомство с Книпович, а теперь с Замараевым и прочими — что я стану вам всех перечислять? — и постоянно общаетесь с ними!»
«Я был бы безмерно признателен вам, господин Марков, если бы вы лично почтили меня введением в круг своих самых близких знакомых, был бы рад подружиться и с губернатором, господином Газенкампфом, войти своим человеком в лучшие семьи города, но вы же отлично знаете удел всех поднадзорных: если они не волки, поддерживать знакомство только между собой. А я не волк, мне хочется поговорить с людьми, попеть вместе с ними песни, выпить по чашке чая, укрыться от нестерпимого зноя в саду…»
Жандармский полковник покряхтел, чувствуя явную иронию в этих словах.
«Хм! Знакомство… Конечно, без всякого знакомства как же… — И в глазах его можно было прочесть сомнение, а действительно дают ли филерские проследки достаточное основание предъявить конкретное обвинение? — Можно и поговорить и попеть песни. Но о чем говорить и какие петь песни?»
«Всех разговоров я не могу припомнить. Обыкновенные разговоры. А песни — поем „Во поле березонька стояла“, и „Выйду ль я на реченьку“, и „Коробушку“, да мало ли какие песни в народе поются! Спросите соседей, мы поем, ни от кого не таимся».
«Да-с, при открытых окнах, а затем закрываете ставни, и наступает полная тишина», — сказал Марков. Но сразу же осекся, понял, что нечаянно проговорился.
Как было не воспользоваться этим!
«Конечно, господин Марков, когда подслушивают через закрытые ставни, трудно голоса разобрать…»
Его передернуло.
«Господин Дубровинский, ну на черта вам все это!» — Хотя в камере они были одни, но Марков почему-то оглянулся и понизил голос.
«Тюрьма?»
«Вас выпустят. Хитрить не стану: прямых улик против вас нет. Но имейте в виду…»
И это прозвучало угрозой.
«Буду иметь в виду, обязательно!»
Да, прямых улик у полковника нет, оставить поднадзорного надолго своей властью в тюрьме он никак не сможет, а некоторые льстивые слова этого матерого жандарма не стоят и расколотого пятака. Можно представить, какие обзоры — секретные, разумеется, — посылает Марков в особый отдел департамента полиции! К счастью великому, при обысках нашли разнообразную политическую литературу, доставленную с транспортом «Искры», за исключением как раз самой «Искры». Очень похоже, что в жандармском управлении пока и не подозревают о перевалке страшащей правительство газеты совсем у них под носом. Но похоже, что независимо от этого кой-кому будет предъявлено серьезное обвинение и из разряда ссыльных человек может тогда перейти в разряд каторжан. Новый министр внутренних дел фон Плеве характером и делами своими оказался покруче Сипягина. Значит, надо ухо держать востро.
…Ну вот наконец и тот, кто так нужен. Седобородый, плечистый мужик. Неторопливо постукивает молотком по узенькой деревянной лопатке, конопатит паклей рыбачью лодку, а на пригорке сбоку словно бы эхом отдается тонкий, серебристый перезвон наковальни цыгана-кузнеца. Дубровинский внимательно огляделся. Берег чист. Там и сям копошатся люди, ладят лодки, купаются, женщины полощут белье — мимо всех этих людей он проходил, к ним приглядываясь, — берег чист от филеров. Упустили. В этом сомнения не было. Можно спокойно начинать разговор.
— Бог на помощь! — сказал он, опускаясь на теплый, усеянный маленькими ракушками песок.
— Спасибо! — откликнулся седобородый, не оставляя работы.
— Тимофей Степаныч?
— Всегда так кликали. — И уже внимательно посмотрел на Дубровинского. — Зачем понадобился?
— Да как сказать, — Дубровинский перегребал пальцами сыпучий песок, — так просто. Наслышан я о тебе, мореход, говорят, хороший. Ф-фух, и устал же я! Молодой, а ноги не тянут.
— А нынче — что, она, молодежь, вся такая! — пренебрежительно махнул рукой Тимофей Степаныч. — Вот дед, например, у меня…
— Эге! Дед-то и у меня в восемьдесят лет пятерик на горбу по четыре версты таскал, — поторопился Дубровинский, чтобы в рассказах о добром старом времени захватить первенство. — Пойдет, бывало, в баню париться, два веника берет с собой и оба исхлещет, потом только и годятся курятник подметать.
— Ну не скажу, чтобы так и мой дед насчет попариться, — сдался покоренный Тимофей Степаныч, — вот насчет тяжестей, чего там пятерик — по крепкому мужику на концах оглобли повисали, а он их подымал, как на коромысле, и восходил от Волги на берег. Да не такой, как здесь, а что твоя церковная колокольня.
— Так ведь мой дед по четыре версты с пятериком отшагивал, — возразил Дубровинский, сожалея, что, кажется, промахнулся с каким-то жалким «пятериком».
— Был, был народ могутный, — вдруг отказался от дальнейшего состязания Тимофей Степаныч. — Чего дальше с ним станет, я и не знаю. На своих сыновей пожалиться, правда, грех. Ничего себе ребята. А вот ты от крепкого корня чего же такой хилый? Как звать-то?
— Леонидом, — ответил Дубровинский, захваченный врасплох. — А хилый, потому что чахотка точит.
— Зато образованность получил, — заметил Тимофей Степаныч, — поди, гимназию кончал. А то и винивирситет. По рукам видно.
— Какой там университет! Реальное и то не закончил. — Дубровинский все пересыпал теплый песочек, поглядывая на солнце, вот-вот оно окунется в Волгу. Задержится ли тогда старик? А круто поворачивать тоже не годится.
И он стал выдумывать длинную историю о своем тоскливом детстве, как потом мотался в поисках работы по разным городам. А куда поступишь при таком здоровье? Только в контору, пером скрипеть. Так это только еще пуще чахотку себе наживать. А плата какая? Женился, семья — деньги нужны.
— Так чего же ты, Леонид, в песочке этом клад найти, что ли, надеешься? — перебил Тимофей Степаныч и стал потихоньку собирать свой инструмент. — Все одно за какую ни есть работу, а браться надо.
— Работаю, — уныло сказал Дубровинский, — да ведь надо чего-то и прирабатывать бы.
— Ко мне, вижу, маслишься, — Тимофей Степаныч присел с ним рядом, — так ведь зря совсем. Что я тебя с собой на выход в ерики возьму? Не возьму. Со своими ребятами плаваю. И снасти у тебя нету. К нашему рыбацкому делу ты вовсе не гож. От меня ты ничего не приработаешь.
— Да нет, Тимофей Степаныч, я совсем о другом. Куда там мне в ерики! А заработать — еще и тебе дам.
— Ишь ты! — недоверчиво протянул Тимофей Степаныч и щепочкой почесал бороду. — Эвон как перевернул! Сам без денег сидишь, а другому дашь заработать?
— Так тут дело какое, — с осторожным подходцем стал объяснять Дубровинский. — Есть у меня приятель один, персиянин. Мелкой торговлишкой занимается. Ну вот надо с моря товар получить. А сам он неумелый, я, видишь, тоже. Про тебя слышали: лучший мореход.
— Хаживать-то в Каспий не раз я хаживал, это мне дело пустяк, даже в грозы, — с бахвальством заявил Тимофей Степаныч, — а по нонешней погоде — тьфу! — И вдруг посмотрел подозрительно. — Погодь, Леонид, а за каким же таким товаром в море идти? Откуда он в море товар? Контрабанда?
— Нет, какая же контрабанда, Тимофей Степаныч! Из Баку на «Светозаре» груз идет. Контрабанду так еще на персидской границе бы перехватили или в Баку взяли бы при погрузке. Товар законный.
— А зачем тогда за ним в море идти? Как полагается, любой товар со «Светозара» на берег доставят.
— Да не хотел персиянин этот, чтобы знали о товаре в Астрахани. Тихонько выгоднее его завезти.
— Ой, хитришь чего-то ты, Леонид! Не контрабанда, так ворованный. Стало быть, полиция выследила? С этим ты прочь от меня!
— Хорошо заплатил бы персиянин.
— Ну вот чего, Леонид, — строго сказал Тимофей Степаныч, — меня ты никакими деньгами на подлое дело не купишь, и ежели товар этот не твой, а какого-то там персиянина, держись от него подальше. Совет мой, а сам ты решай как знаешь.
Красный шар солнца уже плескался в мелкой ряби волн, и сизая дымка от него растекалась по горизонту. Дубровинский раздумывал озабоченно. Как быть? Из Баку от Никитича получено тревожное сообщение. По условному коду, который оставила Книпович, телеграмма читалась так: «На „Светозаре“ идет транспорт „Искры“, прицепился шпик, надо ночью принять груз еще на морском рейде». Задача не из легких. Телеграмма послана Ивану Ивановичу — ревизору рыбного управления. Слежки за ним нет, но большой помощи от него тоже ждать нечего. Он, Дубровинский, при таких обстоятельствах сам поплыл бы с одним знакомым рыбаком в море, но рыбак этот, как на грех, тяжело заболел, а любому из поднадзорных после недавних арестов и обысков и думать нечего выходить в море. Железные правила конспирации не позволяют делать это. Да и без опытного проводника вообще невозможно отправляться на встречу со «Светозаром». А в запасе всего двое суток. Что будет с грузом, если не суметь его снять еще в море?
Казалось, все подготовлено. И «персиянин», который в назначенное время и к назначенному месту подъедет на телеге, что бы забрать мешки с газетой. И две «веселые девахи», которые в корзинах с «покупками» и под платьем перенесут весь груз от «персиянина» на квартиру Анны Михайловны Руниной, местной жительницы. А там она вместе с поднадзорной Ольгой Афанасьевной Варенцовой, худенькой, но удивительно энергичной женщиной, все перепакует в отдельные посылки, под видом «кавказских чувяков» разошлет по другим приволжским городам. Главным образом в Самару, где сейчас создано бюро Русской организации «Искры». Все хорошо, все налажено, и вдруг рвется последнее звено. А ведь ревизор рыбного управления очень рекомендовал единственно Тимофея Степаныча, правда тут же оговорившись, что не знает, можно ли ему довериться полностью. Что делать?
Тимофей Степаныч, покряхтывая, медленно поднялся, обчистил ладонями со штанов прилипший к ним песок. Сунул под мышку узелок с нехитрым своим инструментом, тронул Дубровинского за плечо.
— Чего приуныл? Задумался — хорошо. По всему вижу, Леонид, ты не сквалыга. Ну подпутал тебя на нечестное дело какой-то там персиянин, — откажись! Не погань свою душу. Без этого проживешь. — Он, сощурясь, посмотрел на горящие в последних лучах солнца главы церквей, высящихся над белыми стенами кремля. — У нас в роду такой завет более трехсот лет из поколения в поколение передается. От разинских казаков мы происходим. Потому обязательно среди мужиков в семье нашей Тимофеи да Степаны. Зачинателю рода нашего эвон там, у кремлевской стены, голову отрубили. А кровь его к нам перешла. Не позорим ничем. Вот так, парень. Живем небогато, но честно. Ребята мои со мной и в дельту и в море ходят, а невестки на рыбном заводе, как сельдь залом, сами насквозь просолели. Такая жизнь наша. А ничего, хорошая жизнь. Только, правду сказать, невесток жаль. Обе красавицы были писаные, а теперь все тело у них солью разъеденное…
Они рядком прошли не очень далеко по берегу. Тимофей Степаныч все рассказывал о своем житье-бытье. Потом остановился. Серые сумерки заслоняли поворот реки. А на откосе пылали цыганские костры, бренчала гитара, повизгивали высокие женские голоса.
— Ну, куда тебе, Леонид? — спросил Тимофей Степаныч. — Мне уже здесь в гору подниматься. А насчет твоего разговору — не совет мой, а так — подайся вон к ним. Они тебе хошь коня, хошь бабу украдут. Только смотри: самого, коли при деньгах, из пиджачка чтобы не вытряхнули.
— А ежели у меня не контрабанда и не ворованное, Тимофей Степаныч? — сказал Дубровинский. Надо рисковать. Иного выхода нет. Осталось только двое суток. Ведь не продаст же, не продаст этот честный старик. Только и всего самого плохого, что и теперь откажет. — Ежели, Тимофей Степаныч, притом я и платы тебе никакой не предложу? А встреть на рейде «Светозара» и привези мой груз просто за так.
— Антиресно, — удивился Тимофей Степаныч, — это как же след понимать?
— Да уж это вроде бы легче понять, чем раньше тебе я рассказывал.
— Угу! — с неудовольствием протянул старик. — Выходит, испытывал?
— Как по-другому начинать мне было?
— Ну, а, к примеру, я тебе сразу этим вот кулаком на сторону скулу своротил, чем бы тогда все кончилось?
— Тимофей Степаныч, выходит, тоже испытываешь? Отвечаю. И драться со старшим не стал бы. И в полицию жаловаться не побежал бы, по натуре своей, да еще и сам понимаешь почему. А кончился бы наш разговор, думаю, так же вот, как сейчас. Разве что глаз бы у меня сильно подтек, кулак у тебя ого-го!
— Ловок, ловок ты, Леонид! — тихо рассмеялся Тимофей Степаныч. — Стало быть, ударить тебя сейчас мне уже выгоды нет. А в полицию, тоже дознался ты, я не пойду. Остается: плыть, не плыть к «Светозару»? Ну, по честности я тебе скажу, ни в жисть бы все одно не поплыл, пообещай ты мне сейчас деньги. Ладно, давай рассказывай, как и чего. Только сперва: кто тебе на меня показал?
— Ты уж прости, Тимофей Степаныч, по нашим правилам говорить это не полагается.
— Ишь ты! По правилам… — Он покрутил головой. — Ну, коли не Иван Иванович, так и не знаю кто. А тебя расспрашивать не стану. Нельзя так нельзя.
До квартиры своей Дубровинский добрался, когда уже все небо было густо осыпано звездами. Крупными, по-южному чистыми. Дышалось ему намного легче, чем днем. По пути он сделал большой зигзаг. Надо было известить «персиянина», что дело сделано, потом тихо стукнуть три раза в нижний левый угол окна дома, где жила Варенцова, чтобы и она не тревожилась.
А на своей улице, у перекрестка, его поджидал филер. Стоял, прижавшись к забору, и глядел совсем в другую сторону. Заслышав шаги за спиной, он было метнулся за угол.
— Эй, эй! — вполголоса, но с загадочной требовательностью окликнул его Дубровинский. — Погодь минутку! Нужен.
Тот подчинился, явно сбитый с толку тоном оклика. Э-эх, ведь не положено же попадаться на глаза тому, за кем следить приставили!
— Чего тебе? — спросил филер, разыгрывая простодушие.
— Упустил? — сочувственно спросил Дубровинский.
— Чего «упустил»? — Филер еще пытался прикинуться просто прохожим.
— Ну, «чего-чего»! Я ж понимаю. Так ты не страдай. Запиши: ходил купаться на Волгу. Не веришь — сунь руку мне под рубашку, вон под ремнем до сих пор еще мокрая. А ночь сегодня какая хорошая! Эх, и высплюсь я!
— Ночь хорошая! — подтвердил и филер. — Ну, спасибо тебе!
Дома Дубровинского, позевывая, встретила хозяйка. Вздула огонек в керосиновой лампе, подала ему туго сложенный серый листок.
— Долгонько же вы гуляли сегодня, — с упреком сказала она. — А я все не ложилась. Телеграмма вам. Господи, уж не беда ли какая?
В телеграмме из Орла написано было: «Ося золотой мой сегодня восемь утра родилась наша дочка согласись назвать ее Верочкой хочу видеть тебя быть с тобой чувствую себя хорошо целую Анна».
Хозяйка все еще смотрела встревоженно, лампа подрагивала в ее руке — телеграммы всегда представлялись ей недобрыми вестниками. А Дубровинский счастливо рассмеялся. До чего же хороший сегодня день! И ночь какая хорошая! Аня, дорогая Аня! Скорее, скорее послать ей ответ. Он чмокнул хозяйку в щеку, шепнул: «Дочка, дочка родилась у меня!» — и выбежал на улицу.
У перекрестка все еще маячил филер, выполняя свои собачьи обязанности. Оба они изумленно глянули друг на друга.
— Эй! Ты еще тут? Слушай, запиши, — бросил на ходу Дубровинский. — Объект пошел на телеграф. Дочка у него родилась. Ты понимаешь: дочка? Вторая дочка. У тебя-то есть дети? — Он нащупал в кармане какую-то монету, кинул филеру. — Лови! А завтра купи детишкам по конфетке.
Филер подхватил монету, растерянно подергал кепочку на голове, повернулся было спиной, но потом досадливо махнул рукой и, придерживаясь затемненной стороны улицы, поспешил за Дубровинским.
2
Астраханская зима оказалась ничуть не лучше яранской. Может быть, даже и тяжелей. С Каспия дули леденящие ветры, наметая на улицах города плотные сугробы. Они, конечно, не достигали такой высоты, как в Яранске, и быстро размягчались во время оттепелей, но этот мокрый снег как раз и добавлял простуду. Дубровинскому не раз вспоминалась кислая мина на лице Шулятникова: «Астраханское солнце — оно не для вас». Если бы только солнце! Здешний врач был равнодушнее: «Что же я могу сделать для вас, уважаемый? Лечиться от туберкулеза к нам не ездят».
А, нечего забивать себе голову думами о болезни! Жить интересно. И работать здесь, в Астрахани, интересно. Есть осязаемые результаты этой работы. Транспорты «Искры», поступающие через Баку, удается переправлять без провалов, порой при крайней степени риска, но, впрочем, и при определенном умении не растеряться.
Частые сходки рабочих, короткие митинги на небольших предприятиях, уличные демонстрации с красными флагами, расклеенные по городу листовки — все это бесит, нервирует полицейские власти. Но из зачинщиков никто не попадается. Это тоже надо уметь — так организовать выступления. И самому выступать. В парике, переодетому, под надуманной фамилией или кличкой.
Поступают радостные сообщения о том, что один за другим социал-демократические комитеты подтверждают свою солидарность с политической позицией «Искры». Революционный шквал охватывает всю Россию. Вот что значит созданная Ульяновым общерусская партийная газета!
И Дубровинский удовлетворенно перечитывал письмо жены, в котором она намеками сообщала, что именно у них в Орле состоялось заседание организационного комитета по созыву Второго съезда партии и на этом заседании приняты практические решения. Ах, скорее бы, скорее состоялся съезд! Ведь тогда все «искровские» кружки станут могучей силой. Единство рабочего движения — это важнее всего.
Приятной вестью было и то, что здоровы обе малышки. Таля, толстушка, уже топает бойкими ножками по дому и лопочет множество только ей да матери понятных слов. А сама Аня, дорогая Аня, не отошла от подпольной работы. Это же очень трудно — с двумя детьми!
Единственно, что горько, — старший брат Григорий окончательно порвал с ними со всеми. Уволился из армии в офицерском чине, женился на богатой, живет в ее доме, в том же Орле, а даже глаз к родным не кажет. «Вы все для меня перестали существовать с тех пор, как Иосиф примкнул к внутренним врагам отечества. Он совратил и остальных моих братьев, а вы, мама, вы не прокляли их!» — так отрезал Григорий матери при случайной встрече на улице.
Что же, это его дело. Хочется только верить, что на крайнюю подлость — выдачу братьев — он не пойдет. Его жестокие, злые слова, пожалуй, даже в чем-то порядочнее, чем тихая исповедь Минятова перед охранкой.
Из прежнего орловского кружка многие отступили. Никитин, Семенова заявили: помогать будем во всем, но в огонь революции бросаться не сможем. Устали. Настоящий огонь где-то еще впереди, а они уже об отдыхе думают, о прохладе. Володя Русанов честно признался: меня привлекают науки, тянет исследовать северные моря. Что ж, ученые революции тоже нужны. И Володя Русанов ей никогда не изменит, но сейчас одним человеком как бы поменьше. А вот Иосаф Машин и Сергей Волынский после первого же ареста и строгих допросов предпочли обыкновенную жизнь. Да-а, сколько добрых друзей отвалилось!
Он попробовал все это примерить к себе. Может ли что-нибудь заставить его отступить, сказать: я устал? Аресты, допросы, сырые и душные одиночки, звенящие кандалы, тяжкий путь по этапу в далекую ссылку, наконец, виселица? Ничем этим не сломят его. Нет у него подлого страха смерти! Жить очень хочется, но подлого страха смерти нет.
И что значит вообще усталость, на которую с такой готовностью ссылаются многие?
Может одолеть физическая усталость в пути, в работе, когда захочется присесть или как следует выспаться. Покориться такой усталости необходимо.
Но как можно поддаться политической усталости? Устать политически — значит признать, что твой противник превосходит тебя, что в схватках теоретических нет на твоей стороне неотразимо убеждающих доводов, а коль дело идет к тому, чтобы и помериться силами, вплоть до вооруженной борьбы, — устать политически — значит признать, что иссякли и способности твои быть умелым организатором. Этого рода усталость — сверх всего, еще и предательство по отношению к твоим товарищам. Смерть в неумелом бою так или иначе, но может быть прощена. Усталость как право на выход из общего строя — позор. И только позор.
Он посмотрел в окно. Смеркается. Сегодня вечером в городе будут проводиться разрешенные собрания. По отдельности — земцев, дворян, представителей купеческого сословия. Собрание рабочих назначено лишь одно — у бондарей. Цель этих сборищ: послать благодарственные адреса царю в связи с его «высочайшим» манифестом, уже торжественно прочитанным по многу раз во всех церквах России.
Царь подписал манифест, обращаясь «за помощью» к лицам, «облеченным доверием общественным». Вот так. Не к народу он обращается, нет. Да и за какой «помощью» он станет обращаться к народу, который, негодуя, бурлит повсеместно? Помощь царю нужна. Только иная — против народа. Он печалится, что «смута» волнует многие умы, отрывает народ от производительного труда, губит молодые силы, столь необходимые для процветания родины. И тут же — «пресекать всякое уклонение от нормального хода общественной жизни». Не подумайте, дескать, что печаль моя — моя слабость. Родитель мой, незабвенный Александр III, мне завещал, и я даю священный обет хранить вековые устои Российской державы. Стало быть, любимые дети мои, ни о какой свободе и не помышляйте…
К сегодняшним собраниям комитет хорошо подготовился. Отпечатано несколько сот листовок. Их расклеят, разбросают по всему городу. Если удастся — и в помещениях, где созываются собрания. И все-таки этого мало. Нужна живая речь. Нужно спорить с каждой фальшивой строкой манифеста.
Дубровинский глянул в зеркало. Усики, привычно тянущиеся книзу, можно распушить или закрутить колечками. Есть парик, меняющий весь овал лица. Подклеить бородку. Впрочем, арестовывать прямо на собраниях сегодня никого не будут, это ясно. Остается одна забота: уйти от слежки потом.
Хм! Собственно, не столь уж большая беда, если и выследят. На то он и политический ссыльный, чтобы публично заявлять о своих несогласиях с правительством. Тогда ни к чему и маскарад. Только выступать надо сдержанно, чтобы не остервенить местное начальство и не дать ему повода хлопотать перед высшими властями о дополнительном наказании. Тем более что до окончания срока ссылки остается всего-то четыре месяца. Но что толку в сдержанности?
Выбирай, Иосиф: идти на собрание к бондарям так, как есть, и сравнительно малым рискуя; идти туда переодевшись, с горячей речью, и тогда уже с большим риском; или вообще остаться дома, совсем без всякого риска?
В помещении, где собралось более ста человек, горела одна-единственная, подвешенная над столом председателя лампа-молния, а дальние углы мастерской, заваленные клепкой и обручами, тонули в темноте. Дубровинский примостился у стены с таким расчетом, чтобы все слышать его смогли хорошо, а сам бы он не очень бросался в глаза. И главное, на крайний случай, чтобы удобнее было выскочить в дверь.
Председательствовал сухощавый, жилистый частный пристав. Рядом с ним сидели, очевидно, «облеченные доверием общественным» приходский священник, хозяин мастерской, чиновник не то акцизный, не то почтового ведомства и, к удовольствию Дубровинского, ревизор рыбного управления. Собрание, когда вошел Дубровинский, уже было открыто, вступительная речь произнесена, и священник мягким, вползающим в душу голосом читал первые слова манифеста:
— «Божьею милостью, мы Николай Вторый, самодержец Всероссийский, царь Польский, Великий князь Финляндский, и прочая, и прочая, сим объявляем возлюбленному народу нашему…»
Стояла глубокая тишина, рассекаемая только хрипловатым, простудным кашлем, который слышался то там, то сям и отдавался негромким эхом в готовых, стянутых обручами бочках.
Тишина сделалась особенно придавленной, немой, когда священник, драматизируя свой голос, передавал печаль царя по поводу всяческих «смут», мешающих его усилиям трудиться во благо народное. Зашевелились плечи, головы, когда резко, тоном анафемы зазвучали слова о решимости царя «пресекать всяческие уклонения» и самому придерживаться строго заветов своего родителя в охране вековых устоев. Казалось, вот-вот сорвется или общий стон, или вскрик гневного протеста. Но священник уже читал снова мягко и вдохновенно, щедро сияя улыбкой, должно быть, такой, какой ему виделась улыбка самого императора, слова манифеста, содержащие обещания важных реформ. Вновь замерли все. И вновь к концу чтения недоуменно зашевелились головы и плечи.
Едва священник опустился на свое место, поднялся председатель. Он попросил сидящего рядом чиновника огласить текст ответного благодарственного адреса. Ясен был замысел: не дать ни единой минуты для каких-либо раздумий. Чиновник встал, держа лист бумаги, пробегаясь свободной рукой по светлым пуговицам мундира. Задвигались оттиснутые к сторонке музыканты — маленький духовой оркестр пожарной команды, чтобы вслед за прочтением ответного адреса сыграть государственный гимн. Нельзя было упустить даже мгновения. И Дубровинский крикнул:
— Можно вопрос, господин председатель?
Пристав дернулся, вглядываясь в полутьму — кто это там осмелился? — а чиновник непроизвольно опустил руку с бумагой. Дубровинский, подделываясь под астраханский рабочий говорок, столь же громко спросил:
— А из тюрьмы выпускать будут? Кто за забастовки посажен. Опять же тех, кого на улицах с красными флагами похватали. Они все ведь тоже царские дети.
И гулом одобрения отозвались собравшиеся.
Пристав махал руками, не зная, что делать. Отвечать? Непременно завяжется спор, и кто скажет, до какой степени он разрастется! «Пресекать» немедленно? Дадут ли эти бондари? Да и к чертям тогда полетит вся торжественность собрания. По губам можно было понять, пристав бормочет: «Ах, сволочь! Ах, сволочь!»
А Дубровинский между тем подливал масла в огонь:
— Вот еще про реформы. Насчет веротерпимости. Это как? Поясните. Сказано: кому хочешь можно молиться — и аллаху и святой троице. А почему не мулла прочитал манифест, а наш православный батюшка? Как оно далее будет?
Теперь, поддерживая его, с особым сочувствием кричали мусульмане, которых в Астрахани — и среди бондарей тоже — было немало. Кто-то очень кстати добавил:
— Стало быть, и молоканам, духоборам тоже свобода? Всех вернут по домам?
Пристав трясся от ярости. Делал знаки городовым, сидящим в рядах среди рабочих: «Успокойте!»
— И насчет пересмотра законов. — Весь этот гул перекрывал Дубровинский, чувствуя, однако, как от нервного напряжения горячий пот заливает лицо, шею, спину. — Это чтобы крестьянам легче выходить из общин и покончить вовсе с круговой порукой? Насчет того еще, как нравственность в обществе перестраивать. Это об какой нравственности? И кому же все это препоручается? К слову: вам с господином губернатором и вместе с батюшкой тоже? Или препоручается нашему брату, рабочему, с мужиками деревенскими? В манифесте об доверии сказано. К кому и от кого доверие? Поясните, пожалуйста!
В мастерской все ходило ходуном. К Дубровинскому с разных концов пробирались городовые, но бондари на их пути становились стеной. Казалось, сейчас вспыхнет драка. Пристав растерянно обращался за советом к сидящим рядом с ним за столом. Поп что-то ему подсказывал.
— Эй, ты! — рявкнул он. — Ты давай подходи к столу. Назовись, как полагается, тогда и задавай свои вопросы.
— Да чего, Адам Еремеевич, можно и с места, — вдруг вступился сидевший с края за столом ревизор рыбного управления.
И пристав опешил, будто ревизор в него выстрелил. Но Дубровинский поспешил этим замешательством воспользоваться.
— А у меня нету больше вопросов, — заявил он. — За манифест царю нашему, конечно, большое спасибо. Вон он как старательно потрудился. Будто из гнилой клепки добрую бочку под красную рыбу железным обручем стягивал. Только из такой бочки рассол все одно сразу вытечет. — Дружный смех прокатился по мастерской. — Слов красивых и трогательных в нем много. Ну, а нам-то и мужикам деревенским они совсем как мухи на стеклах жужжат. Не бастовать, не выходить на улицу с флагами? Да чем же тогда, прости господи, хозяевам нашим лбы прошибешь? Ведь и до пули, ей-богу, до пули так доведут. Понятно, не из-за угла, а в открытую! — Крики одобрения покрыли его слова. — Веротерпимость. Оно, понятно, каждый, помолясь, к столу за еду садится. Теперь, выходит, молись хоть сто раз на дню и по любому уставу, а верней все-таки по-православному. Во избежание. Вот тут бы как раз в манифесте добавить еще: садясь за стол с молитвой, было бы чего и поесть. И домой приходить, не волоча ноги, после того как тринадцать часов на радость хозяину над бочатами повеселишься…
И опять новые крики. Пристав в отчаянии только всплескивал руками. Приказано свыше: собрания проводить душевно, без запугиваний. Откуда черт принес этого говоруна? В лицо даже разглядеть невозможно. Ох, и отольются же ему горькими слезками его веселые слова!
— Законы пересматривать надо, — между тем продолжал Дубровинский, превозмогая режущую боль в груди. Она всегда появлялась, когда ему приходилось говорить громко и долго. — Только не один и не два каких-то закона, а все до единого. И препоручить это нам, рабочим, а по деревенским делам — самим мужикам. Потому как не царевых милостей от законов мы ожидаем, а полной справедливости. Будут рабочие комитеты, будут крестьянские комитеты, они во всем и разберутся. Вон про свободный выход мужиков из общин говорится. А может, иначе? Мужикам свободно остаться в общинах, а с земли — от веку крестьянской! — попросить всех помещиков выйти! И разбить навсегда ихнюю, дворянскую, круговую поруку! Ну насчет нравственности, тут не знаю. Ежели нравственность, чтобы рабочий человек к рабочему человеку относился по честности, нам такую нравственность перестраивать нечего. Есть она. Скажите, ребята, заведись среди нас подлец — разве спустим подлость ему?
— В реку его! В Волгу! — выкрикнули десятки голосов. — Подлецов не потерпим!
— А ежели о нравственности другой, — уже совсем издеваясь над сидящими за столом, закончил Дубровинский, — о домах с красными фонариками, в эти дома не бондари ходят, а господа в ботинках лаковых!
— Ма-алчать! Хватит! — заорал пристав, стуча кулаком по столу.
Он вдруг осознал, что за разгон такого собрания его, может быть, и не похвалят, но если речи и дальше будут продолжаться в этом же духе, — выгонят с треском со службы. Счастливая мысль пришла ему в голову.
— Господа! Господа! Адрес государю считается принятым, — бросая в гудящую толпу никому не слышные и не нужные слова, проговорил он и сделал знак музыкантам.
Тонко запела труба. Слабым рокотом откликнулся барабан. Священник, теребя наперсный крест и трепеща от испуга, прерывисто возгласил бархатным тенорком начальные слова гимна:
— Боже, царя храни! Сильный, державный, царствуй на славу нам…
— Само-дер-жавие до-лой! — врезался голос Дубровинского.
И он стал быстро пробираться к выходу, угадывая, что сейчас, пожалуй, в дело пойдут и шашки городовых. Сперва плашмя, а там…
Фальшивя, в трубы дули музыканты. Несколько женских голосов нестройно подтягивало попу. А в мастерской творилось невообразимое. Городовые рвались к дверям, стремясь настигнуть Дубровинского, а бондари их держали в плотном кольце, хохотали, свистели и не давали возможности пустить в ход не только шашки, но и кулаки.
На пустыре, отделявшем бондарную мастерскую от окраинных домов города, за Дубровинским все-таки увязалось два шпика. Но такая возможность была предусмотрена. И в первом же темном переулке на шпиков набросились, словно бы озоруя, парни из социал-демократической организации.
До дому Дубровинский добрался уже без новых треволнений, «свой» филер отсутствовал, вероятно, придя к здравой мысли, что сочинять донесения по начальству можно и не торча бесконечно под заборами на ветру, дождях и метелях.
Утром Дубровинский поднялся с постели словно избитый, так болела грудь и поламывало ноги. Но зато с полным удовольствием прочитал он в «Прикаспийской газете» короткий отчет о состоявшихся накануне патриотических собраниях, на которых были приняты благодарственные адреса царю, хотя вместе с тем довольно-таки злорадно — в рамках дозволенного цензурой — отмечалось, что город оказался буквально наводненным противоправительственными листовками, а собрание рабочих бондарей, по существу, превратилось в революционную сходку, где произносились неопознанными лицами совершенно непристойные речи.
Тут же, в хронике «По всей стране», сочувственно сообщалось об успехах, которые имеют создаваемые общества взаимного вспомоществования рабочих в самых различных отраслях промышленности. Особой похвалы удостаивались Вильна, Минск, Одесса. Но это могло быть и спасительным якорем редактора газеты. Быть прихлопнутым «насмерть» тяжелой рукой власть предержащих не всегда самое лучшее.
3
Свое назначение начальником особого отдела департамента полиции Зубатов принял как вполне естественный и желанный для него шаг на пути к заветной цели. Предложи ему сам государь пост вице-директора или даже сразу пост директора департамента полиции, он поколебался бы — согласиться ли? Ну, разумеется, если сам государь… Что же касается такого предложения со стороны министра… Да, отказался бы! Во всяком случае, не побежал бы на цыпочках по первому зову.
На сей счет у него давно сложилась собственная неколебимая точка зрения.
Директор департамента, конечно, должность высокая и с перспективами дальнейшего продвижения. Но… Вот хотя бы Петр Иванович Дурново, почти десяток лет протрубил на этой должности, потом еще вокруг до около лет шесть, прежде чем стал товарищем министра, в коем сане он, по существу, безвестно и бесславно ныне пребывает. Вот хотя бы достойнейший Вячеслав Константинович фон Плеве, который продиректорствовал давным-давно три годика, а после, кем только не побывав, лишь на двадцать втором году своей служебной карьеры забрался в министерское кресло. И то главным образом потому, что был убит Сипягин.
Быть этаким першероном, медленно тянущим по булыжной мостовой фантастически тяжелый воз, не в его, зубатовском, характере.
Да и в конце концов что такое в обычном понимании министр внутренних дел? Главный полицейский, не больше. В длинной цепи всех предшественников фон Плеве не было еще ни одного, кто стал бы подлинным и самым близким советником государя. Не станет им и Плеве. Медлительные першероны никогда не бывают способны взлететь на самый обрыв утеса, подобно бронзовому скакуну Фальконе под Петром Первым, составив единое целое с памятником великому императору. Правда, царь Александр III сидит верхом именно на таком першероне. Но ведь это скорее не памятник, а карикатура и на покойного царя и на все его царствование.
К тому же директор ли департамента, министр ли внутренних дел, они по несчастному положению своему — подписывателей заготовленных другими бумаг — лишены многих прелестей непосредственного участия в, быть может, ими же самими задуманном деле. Конечно, и Сипягин, а теперь фон Плеве хватают ордена и денежные награды либо титулы за отлично поставленный в империи политический розыск. Кем поставленный? Зубатовым! Ну, а его, «зубатовские», рабочие организации, словно масляной пленкой прикрывшие и сгладившие крутые волны революционных движений? Куда в истории все это денешь? С каким рвением идею создания рабочих обществ ныне — после Сипягина — поддерживают фон Плеве и великий князь Сергей Александрович! Но не с таким ли рвением все они и противились этой идее, пока она была только в зародыше? Сколько ему, начальнику московского охранного отделения, пришлось по этому поводу исписать бумаги, доказывая жизненность задуманного! И не малый ли риск уже в практических делах — потому что практические дела не в руках министров, а только в собственных руках, — не малый ли риск часто он брал на себя по принципу: либо пан, либо пропал! А это такая жизнь, такая деятельность — она интересна.
Не авантюры, упаси бог, а нечто похожее на сложную, увлекательную, хотя и опасную игру. Вот если так, то быть начальником особого отдела департамента полиции со всех сторон хорошо. Руководство его, «зубатовскими», организациями по-прежнему остается за ним, и он будет все ширить и ширить это движение. И весь политический сыск опять-таки у него, а это, помимо всего прочего, красивая игра. Более того, теперь его личные возможности в ней увеличиваются. Ныне ему подначальны не только охранные отделения внутри Российской империи, но и заграничная агентура. А там, именно там, в эмиграции, укрывается мозг русской революции. И преинтересно будет с ним посостязаться.
Словом, как бы ни было, пусть самый маленький, но зато и самый важный шаг сделан. Гапон на его месте, наверно, в экстазе воскликнул бы: «Господи, благодарю тебя! И дай мне теперь скорее стать истинной опорой государевой!»
А жена, Александра Николаевна, лишь растерянно ахнула:
— Сережа, тебя в Петербург? Да как же мы там! Какая у нас там будет квартира?
И растерянно оглядывалась по сторонам. Действительно, сколько же сил и таланта женского она вложила, чтобы сделать московскую квартиру подлинным раем! Теперь начинай все сначала. Дадут казенные стены, кой-какую и мебель казенную, но неповторимую прелесть «своего» жилья никто не создаст, кроме милых рук Сашеньки. Создала. Снова все создала, может быть, даже и лучше, чем прежде.
Он сидел сейчас уже в не новом для него петербургском служебном кабинете, перебирая в памяти многие большие и малые события минувшего после убийства Сипягина времени. Сидел и ожидал телефонного звонка от фон Плеве. Было предупреждение: «Его высокопревосходительство желает вас видеть, оставайтесь пока на месте, еще позвоним».
Несколько странно. Обычно Плеве при надобности по телефону разговаривал непосредственно сам. Но, кажется, он сейчас во дворце с докладом. И можно только догадываться… Неужели?
Впрочем, зачем же ломать голову, когда можно бестревожно сидеть, покуривая свой любимый «Катык», и, коль на плечах нет абсолютно неотложных дел, предаваться воспоминаниям.
…Что там Сашенька — Евстратка Медников обмер, когда узнал, что его, Зубатова, забирают в Санкт-Петербург, а начальником охранного отделения назначают Ратко.
— Куда же я, Сергей Васильевич? — в тревоге спросил он, хлопнув себя ладонями по жирным ляжкам. — С Василием Васильевичем мне не сжиться. Прямо скажу: дурак. А мне под дураком ходит непереносимо. При тебе налажено было дело, шло, как мои эти часики «Павел Буре». И мне же глядеть, как прахом станет все рассыпаться.
— Ну, что ты, Евстратий, мне льстишь! Да, было налажено. И дальше пойдет хорошо. Ратко совсем не такой уж дурак. Притом ведь не кто другой, а я становлюсь над ним начальником!
Можно было бы и еще немного поиграть с Евстраткой, больно уж потерянный вид был у него, но во всякой забаве должно соблюдать чувство меры. А с такими преданнейшими людьми в момент их душевного волнения следует обращаться с особой чуткостью.
— С собой беру тебя, Евстратий, с собой, — сказал он, теперь уже забавляясь по-иному той плутоватой радостью, какой засияло широкое лицо Медникова. — Была возможность у меня, давая согласие на свой переезд, похлопотать и о своих друзьях, которым и я премного обязан своими удачами. Этого никогда не забываю. — Пришлось выдержать еще небольшую паузу, прежде чем сказать: — Начну с поздравления, Евстратий Павлович. По высочайшему повелению ты отныне дворянин, надворный советник. Давно я уже добивался этого. И вот как раз…
Медников не дал и договорить, бросился в ноги, стал плакать навзрыд. Едва удалось поднять его и чисто по-братски обняться. А тот все хлюпал носом и бормотал:
— Да, господи, вот уж истинно: из грязи в князи! Сергей Васильевич, святой ты человек! Ну есть еще кто на земле святее? Да разве ж я забуду? Ну, кем я был? Городовым пузатым, таскался замороженным филером по следу шпаны всякой, и вот… Помещиком стал, теперь и дворянин, надворный советник… Где край твоей милости, господи?
— Нет края, Евстратий. Ты помнишь: господь не оставил даже Иуду своей милостью.
— Ты чего же это говоришь, Сергей Васильевич! — в страхе закричал Медников. — Как это из подлых подлое имя тебе вспоминается? На казнь поведут тебя — тьфу, что я сбрехнул, отсохни язык мой! — так прежде пусть меня казнят.
Искренне, честно поволновался тогда Евстратка. Ну да за дворянство можно было поволновать его. Пусть хорошенько запомнит, кому он всем обязан!
Теперь вот и пенсия ему обеспечена — две тысячи четыреста рубликов в год. Не шутка, если сопоставить с прежним довольствием городового. Да к этому ведь и жалованье идет — шесть тысяч в год!
Тут тоже пришлось изобретать. На штатной должности в охранке московской его еще можно было держать. Ну, а в столице, в департаменте полиции, с его грамотенкой — только смешить людей и вызывать кривотолки. Спасибо, Алексей Александрович Лопухин поддержал. Секретным предписанием разрешил «ввиду особых заслуг перед отечеством» зачислить Евстратку по вольному найму заведующим наружным наблюдением всей империи. Как говорится, не баран чихал. Зволянский ни за какие коврижки на такое бы не решился. Милый человек был Сергей Эрастович, но директором департамента полиции давно уже надо было сделать Лопухина. Тут ничего не скажешь, фон Плеве умеет подбирать людей.
Да, Евстратка было чего еще учудил: в своей рабочей комнате рядом с портретом убитого Судейкина повесил портрет Курнатовской. А через комнату Медникова к нему, Зубатову, проводят на беседы всех арестованных.
— Евстратий, что это значит? С какой стати Марию ты выставил?
Медников загадочно подмигнул:
— Красивая женщина! Разве не так, Сергей Васильевич? Сяду в кресло — она напротив меня. Глаз отнять не могу.
Он хитрюга. Вертит вола, сразу замысла своего не раскрывает. А ведь неспроста это сделал. «Красивая женщина!» Много женщин красивых. Хоть бы та же разлюбезная его сожительница Екатерина Григорьевна, которую он теперь за собой и в Петербург притащил. Ну, повесил бы рядом с Судейкиным портрет Пирамидова, это еще понятно — два начальника петербургского охранного отделения, подряд погибших от руки внутренних врагов мученической смертью. А зачем же раскрывать Курнатовскую, живую и такую деятельную? Чтобы революционеры и ее убили? Пришлось сердито все это высказать Медникову. И что же?
— Оно так, ежели по-простому рассуждать, Сергей Васильевич, — поглаживая толстые ляжки, объяснил Евстратка. — Но революционный народ не простой. Вот проведут кого мимо дорогой нашей Марии Николаевны, что он подумает? Ежели и разу с ней не встречался, скажет себе: не звери здесь сидят, красоту понимают. И моментом ключик в сердце у него повернется. Случай другой: лично знает ее либо от других наслышан. Какая мысль тогда у него? Хотят охранники доказать, дескать, что вот они, провокаторы наши, любуйтесь, к вам, в революцию, допущены. Но мы, революционеры то есть, на это не клюнем, потому мы не дураки и знаем: вы, охранка, тоже не дураки, чтобы своих людей нам запросто открывать. И тогда как дальше мысль у них продолжается? Наша она! То есть революционная женщина Мария Николаевна! А охранка прошиблась, по-глупому хочет в наших глазах ее очернить. Вот ты и вдумайся, Сергей Васильевич, ведь это, по их соображению, все одно, что с Судейкиным рядом, скажем, студента Балмашева, убийцу сипягинского, выставить…
— Это уж ты хватил через край!
— Не через край, Сергей Васильевич, точно в меру. Мария Николаевна от души посмеялась. Согласная. Без нее самой разве бы я выставил? Пройдет время — сымем опять.
И ведь в точку попал Евстратка, не переменили «марксята» к Марии Николаевне своего отношения. Ну как можно расстаться с таким мастером своего дела!
По прямой связи мысль Зубатова перенеслась к «святая святых», к «Мамочке», с которой пришлось проститься. Эту уж никак в Петербург с собой не возьмешь! В Москве она настолько глубоко пустила корни, что как раз в ущерб делу было бы пересаживать ее в другую землю. У нее работа совсем иная, чем у Евстратки. Только бы и Ратко, как бывало прежде, сумел сберечь «сию тайну велику». Появился там теперь еще толстяк в золотых очках, чиновник для особых поручений Меньщиков, человек, в свое время ловко внедрившийся в «Северный рабочий союз» и проваливший его, но любопытства неимоверного, сует свой нос куда надо и не надо. А «святая святых» потому так и называется, что, кроме него самого, Зубатова, да еще Евстратки, о ней ни единая душа живая ничего не ведала.
Прощание с «Мамочкой» было очень трогательным. Сидели в ее маленькой, обитой красным бархатом гостиной только втроем: он, она и Евстратка. Пили чай с душистым клубничным вареньем. Коньяк был налит в тонкие, высокие рюмочки просто лишь символически, к ним едва прикасались губами. «Мамочка» понимала, каких она теряла хороших друзей. Не в начальстве же только дело! И они понимали, от какого душевного и преданного человека теперь отдаляются. Не в ее же только великолепном таланте дело!
Евстратка тогда умиленно сказал:
— Что же, Аннушка, скоро двадцать лет верой и правдой служишь ты? Ведь еще с Бердяева как раз ты начинала.
Она поднесла вышитый платочек к глазам. Не по-бабьи, выгоняя слезы ручьями, и не кокетничая великосветски, когда и глаза-то совершенно сухие. Поднесла потому, что это было просто необходимо.
— И еще хоть двадцать лет прослужу государю нашему, дай бог ему здоровья крепкого, — негромко отозвалась она, покусывая губы. — Да вот с кем теперь, голубчики мои? Не сойди вовремя с должности Николай Сергеевич, не приди вы, родные, взамен его, так ли бы мне удавалось все? Николай Сергеевич и кричать на меня дозволял себе. А ведь как аукнется, так и откликнется.
Надо было успокоить ее, ободрить похвалой, держа еще самое главное про запас. Это ведь не Евстратка!
— Золотая Анна Егоровна! — Хотелось бы от души сказать «милая», но все-таки разница в их возрасте целых семь лет. — Золотая Анна Егоровна, не думайте вы сейчас о Бердяеве, сами знаете, недалекий он был человек. Не понимал, что вы одна, может быть, больше сотни других сделали.
— Вам-то виднее, Сергей Васильевич, — уже веселее отозвалась она. — Перед вами все карты разложены, а я всегда играю втемную. Тьфу! От Николая Сергеевича, картежника, свое сравнение взяла. Вы простите, знаю, картами не балуетесь. Кроме Машеньки Курнатовской, у меня подручных нет.
— Ты, Аннушка, оттого и «святая святых», — вмешался Медников, — что все своими руками делаешь. Иначе как бы тебе без провала двадцать лет продержаться? А так, перебрать, сколько ты этого зловредного народа высветила!
— Да уж чувствую и сама — немало. «Красный Крест» очень в деле мне пригодился. — Она чуть-чуть вздохнула. — И все-таки конца и краю работе нашей, работе моей нет.
— А полный конец… он и не нужен, — засмеялся Медников. — Выскреби все подчистую — что тогда останется нашему брату делать? На разводку поберечь такой народ обязательно надо.
Ну и Евстратка! Как сказано в священном писании: «устами младенцев глаголет истина». Что касается оставления «на разводку», это одно из основных правил сыска. Никогда нельзя срезать подчистую, чтобы не начинать потом все сначала. Но брякнуть так обнаженно, даже когда нет решительно никого посторонних, что и вообще-то надо любую «смуту» не выводить до конца, иначе чем же потом заниматься, — на это только он и способен. Пришлось перевести разговор на более возвышенный лад, отвечающий действительности. И хоть несколько ранее, чем было задумано, открыться.
— Ваша поистине жертвенная и прекрасная служба, Анна Егоровна, ваш ни с чем не сравнимый талант и глубочайшая преданность престолу не оказались безответными. Высочайшим повелением вам установлена совершенно особая пенсия. — Надо было и здесь выдержать маленькую паузу. — Пять тысяч рублей в год, золотая Анна Егоровна! Это чтобы вам и детям вашим жить до конца дней в достатке и спокойно.
Серебрякова медленно поднялась. Встал и он с Медниковым. «Мамочка» повернулась — в гостиной не было икон, — повернулась к углу, который должен бы считаться передним, и так же медленно и торжественно перекрестилась. Потом подошла, положила свои полные, мягкие руки ему на плечи — только тогда он, пожалуй, впервые заметил, какие глубокие и ласковые у Анны Егоровны глаза, — еще помедлила и поцеловала в губы, так, как женщины целуют только любовников. Даже сейчас пробегает по всем жилам это счастливое ощущение — горячего, проникающего поцелуя.
— Родной мой, родной, спасибо! Царю, вам, ему, — кивнула и Медникову. — А я что же? Верьте, как верили.
Стали прощаться. И вдруг «Мамочка» пролилась слезами. Уже совершенно бабьими слезами.
— Только пусть мои дети никогда об этом не знают, — проговорила она. — Не стыжусь того, что я делаю. А не хочу, не могу, чтобы им… Пусть останусь им я тоже «святая святых».
А у порога и совсем разминдальничалась. Вспомнила почему-то о Радине.
— Похожа я, должно быть, на бумагу-липучку, — сказала она, вытирая слезы. — Летят, летят ко мне и попадаются. Мухи попадаются. И не жаль, что лапками потом дергаются, не понимая, как увязли. Чего жалеть — мухи. Но вот Леонида Петровича, будто бабочку цветистую, вспоминаю. Очень уж чистый и доверчивый был. За эту доверчивость его, вот перед богом откроюсь, как вас сегодня, Сергей Васильевич, от всей души я поцеловала. Как никого больше. А он стоял удивленный и куда-то в себя глядел. Так и ушел. И после мне никогда ни намека. До самой смерти своей.
Вот и возьми ты ее, эту «Мамочку», за рубль двадцать! Целовала, «как никого больше». И теперь вспоминает, «будто бабочку цветистую». А дело свое между тем очень чисто сделала.
Согласиться, что ли, с ходячим афоризмом, что «из всех загадок на свете только одна останется во веки вечные неразгаданной, это — женщина»?
И тут же память Зубатову подсказала другую такую загадку — Маню Вильбушевич.
Ну, это совсем другой темперамент, чем у Анны Егоровны, и годы — тот рубеж, когда они еще восторженно девичьи и уже стали зрело женскими, — и деятельность совершенно иная, не тихое плетение паутинки в темном углу, а стремительный полет!
Кого? Осы? Пчелы? Сокола? Ястреба? В этом и суть загадки.
Да, это он, Зубатов, тайно содействовал проведению в Минске первого съезда русских сионистов. Казалось, именно это течение оттянет многие революционные силы к себе, и Маня Вильбушевич сыграет в нем роль крохотной Жанны д’Арк. Тогда по отчетливо образовавшемуся ядру проще будет ударить, что называется, наотмашь. Идея не состоялась, еврейский пролетариат остался глух к призывам сионистов. Пришлось косвенно помогать Бунду, ибо эта организация в другой форме и под другими лозунгами, но все равно входила бы как клин в рабочее движение. Маня и там представлялась подходящей фигурой, но ее сразу же затмили и оттеснили «киты», вошедшие в Центральный комитет, а в целом Бунд тогда еще не оказался крепким клином, он во многом был солидарен с эсдеками. Как было не нанести ему сильнейший удар? Как не противопоставить ему «независимцев» и наконец-то дать Вильбушевич широкий простор?
Здесь и начинаются «женские» загадки Мани, имея в виду, разумеется, прежде всего ее вулканический характер. Политик ли только она или к тому же, мягко говоря, и душевно неуравновешенный человек? С какой кипящей страстью поддерживала в Минске, в Вильне его, «зубатовское», рабочее движение! И многого достигла. С какой неизменной теплотой отзывалась она о лучших своих друзьях и соратниках, допустим, о Евгении Гурвич, о Григории Гершуни! Ведь это она писала: «То, что императору Николаю Первому силою закона принуждения, репрессии нужно было добиваться десятками лет, ваше движение сделает в три-четыре года с удивительным успехом. Эх, кабы поставить все это на здоровую почву, да правительство дало бы несколько реформ, нужных, как воздух!» Не очень удачно сравнение с устремлениями Николая Первого, но бог с ней, не такой уж знающий она историк, а вот призыв к правительству неотложно дать несколько реформ — ах, совсем не тех, что дарованы государем в нынешнем феврале! — это верная мысль. Вообще в том письме было много такого, что прямо просилось внести уже от своего имени в докладную записку начальству. Умница! Но вот прошло не так уж много времени, и Маня…
Рука Зубатова невольно потянулась к ящику стола, в котором он держал особую папку с наиболее важной перепиской. Развязал шелковые тесемки, спокойно и медлительно раскурил очередную папиросу и выбрал из папки несколько листков.
…И Маня — эта самая Маня — пишет: «Почему я молчала так долго, спросите вы. Сейчас поймете. Я пишу это письмо с таким же радостным чувством, как будто бы я хоронила своего лучшего друга… (Какая злая ирония! С чего бы? Оказывается, „в Минске, в Гродно разочарованы Зубатовым, все недовольны, что поддались на его добрые речи, открылись ему, а он, вероятно, простой карьерист“. Ну-с, и вы, Вильбушевич, тоже теперь полагаете, что Зубатов простой карьерист?) Самое разумное, что вы можете сделать, — это сказать всю, всю правду. Я поверю вам. Мне нужно знать, что делать, в какую сторону повернуть. (А зачем же непременно повертывать?) Может быть, тон моего письма вас оскорбит. (Угадала! Но, право, на нее почему-то сердиться нельзя.) Однако уж если на то пошло, то вы меня заставили пережить такие минуты, когда была очень близка от того, чтобы приехать к вам и… убить вас. Вы улыбнетесь, но я как-то так создана, что со мной играть нельзя, за это приходится тяжело расплачиваться. (Улыбнуться-то улыбнулся, а все же и подумал: нет, это не „крохотная“ Жанна д’Арк, это скорее в натуральную величину Шарлотта Корде, приедет и пронзит кинжалом, не постеснявшись, как и Шарлотта, ворваться для этого хоть в ванную комнату.) Я верю вам и жду письма. Маня Вильбушевич».
«Жду письма…» Дождалась. Снова и снова ей все разъяснил, успокоил, что вовсе он не «простой карьерист», что единственная цель его жизни, в противовес марксистам, соединить рабочее движение не с социализмом, а с самодержавной властью, ибо социализм — это утопия, несбыточная мечта, а самодержавие реальная сила.
Так Вильбушевич пишет теперь — он взял другой листок: «Вы, может быть, и будете великим двигателем рабочего движения, но, не будь вас, оно все равно должно пойти по мирному пути. (Вот так „поворот“! Нет уж, дудки, дорогая, не будь меня, и никогда не пошло бы рабочее движение по мирному пути, его целиком прибрали бы к своим рукам марксисты, цель которых — уничтожить самодержавие!) Но я с вами связана другими нитями. Быть предателем честный человек может только тогда, если он предаст в руки честного же человека. А потому мне ваша душа дороже всего в мире… (Спасибо, спасибо, и за оценку и за откровенность! Но словцо-то какое выбрала: предательство! Честный честного предает честному — так, что ли? Великолепно! А если предаст нечестного, тогда почему же предательство? Ах, Маня, Маня, до чего же лихо закручены твои мозговые извилины! Но „предавай“, если ты к этому готова. Такой грех беру на свою душу. А без предательства с Бундом просто не сладишь. Он марксистам становится рогаткой, ну а мне — костью в горле.) Страдающая Маня Вильбушевич».
Сложно было на такое ответить. А все же ответил: главное — держать рабочее движение в наших руках. И вот, пожалуйста, новый ход:
«Все в партии ждут моего ареста, так как я очень уж много с рабочими путаюсь. Если вы мое предложение находите целесообразным, напишите мне, я вам буду телеграфировать, когда меня арестовать. Не правда ли, уж очень я своеобразный провокатор?»
Правда, Маня, истинная правда! Бунду необходимо иметь государство в государстве. Но, кроме Бунда, кому это нужно? Арестовал, посадил Маню в тюрьму. С шумом, скандалом, с тем, чтобы потом дать отличную возможность столь же шумно и со свойственным ей блеском выкрутиться. А дальше?
Дальше: «Рабочее движение, ваше рабочее движение, ныне во всей России на небывалой высоте. Чье еще имя известно больше, чем ваше? (Она не льстит, она всегда искренна, но видит через гигантское увеличительное стекло.) А где же законы, закрепляющие движение, где реформы? (Это, Манечка, я и сам постоянно спрашиваю!) Я все больше убеждаюсь, что параллельно с законами для рабочих должны идти аресты. Но аресты людей больших…»
Н-да, и еще «поворот». Теперь, выходит, на свободе должна остаться Вильбушевич, а в тюрьму сядут руководители бундовцев. Потому что с «независимцами» все уже покончено. С какой теплотой она отзывалась прежде о Гершуни и о Гурвич, с такой же злостью она их ныне разоблачает! Надо арестовывать. В гоголевском «Ревизоре» хорошо сказано: «Оно, чем больше ломки, тем больше означает деятельности градоправителя». Арестовал по подсказке Мани еще Шахновича, Менделя, Ботвинника, а Маня словно бы входит во вкус, называет новые и новые имена. Становится ясным: отбрасывая других, она хочет сама оказаться на верхней ступени. Однако для нее это тоже провал. Во мнении своих товарищей.
Приходится Маню спасать. Она очень нужна. Но ведь Маня слепо верит только в него, в Зубатова, а он не может раскрыть ей всю свою игру. О, Вильбушевич в этом смысле далеко не «святая святых»! А Маня между тем рвется к министру…
«Отказывать мне в этом вы не имеете морального права. Или обязаны объяснить почему. Работаю я только лично на вас, во имя вашей личной славы или ради той великой идеи, вашей идеи, которая меня увлекла? Разве фон Плеве ею не увлечен? Я должна это знать…»
Проще устроить ей встречу с министром, чем убеждать в бесполезности такой встречи. Плеве спросил: «А кто она такая?» — «Это одна из самых лучших моих провокаторов и одна из самых лучших организаторов нужного нам рабочего движения среди еврейского пролетариата в западных губерниях». — «Чего же она от меня хочет?» — «Маленькое женское честолюбие: убедиться, что о ней знаете лично вы». Точно таким честолюбием обладает и сам фон Плеве.
Разговор был недолгий. Плеве сказал, что слышал о ней много хорошего и что собственные его впечатления от знакомства с ней тоже очень отрадные. Затем поинтересовался, имеет ли она сообщить ему что-либо новое сверх того, что он получает от своей агентуры. И Вильбушевич, естественно, посмотрела на фон Плеве как на идиота. Откуда ей знать, что получает министр «от своей агентуры»! Это она и высказала с достаточной ядовитостью, а затем принялась восхвалять его, зубатовские, идеи, то и дело склоняя во всех падежах «Сергей Васильевич». Вышло черт знает что! Он, предварительно расхвалив ее, привел к министру лишь для того, чтобы теперь она расхваливала министру исключительные достоинства «Сергея Васильевича»! Об этом он ей выговорил очень сердито: зачем это сделано? И Маня, не моргнув глазом, ответила: «Мне хотелось проверить — провокатор вы или нет». — «Не больше, чем вы, Вильбушевич». Расстались кисло.
А фон Плеве все это, конечно, крепко запомнил. Он любит его, Зубатова, всячески поощряет, стремится удовлетворить все его просьбы, но уж если «сердце красавиц склонно к измене и к перемене, как ветер мая» (Зубатов вполголоса даже пропел эти слова), так склонности сердца министров точнее можно сравнить не с «ветром мая», а с «метелью января».
Во всяком случае, совсем недавно, когда зашла речь о Гапоне, о желательности теснее приблизить его, фон Плеве сощурился: «Он столь же способен, как Вильбушевич?» И это был камешек в огород не Гапона. Пришлось проглотить пилюлю, отозваться на эти слова министра как ни в чем не бывало: «Это несопоставимо, Вячеслав Константинович! Хотя бы уже потому, что Гапон — ныне священник Александро-Невской лавры. А в сознании рабочей массы все, что связано с лаврой, имеет свой особый оттенок, своеобразный ореол святости. Quod licet Jovi, non licet bovi. Извините, но эту латинскую поговорку для данного случая я несколько бы переиначил: „Что не под силу быку, то одолеет Юпитер“». Это фон Плеве оценил: «Мне вообще-то ваш Юпитер нравится, и вы, Сергей Васильевич, распоряжайтесь его талантами, как вам желательно. Знаю, он ваш последователь и ваш любимец, но попамятуйте при этом, что в Москве решительно его недолюбливает Трепов и, более того, сам великий князь Сергей Александрович. Вам ли и Гапону ли вашему состязаться с генерал-губернатором из царской фамилии?»
Ну, Трепов не фигура как обер-полицмейстер московский. Впрочем, на первых порах он помогал, а, в общем, скотина порядочная, и от него можно всего ожидать. Другое дело Сергей Александрович… Он докладывает царю непосредственно. Великий князь сперва колебался, давать или не давать ход зубатовским обществам. Но потом соблазнился. Особенно покорила его сердце прошлогодняя мирная манифестация рабочих к памятнику Александру Второму. Но почему косится он на Гапона? Видит в нем не Юпитера, а быка? Тогда, для данного случая, кто же Юпитер?
Зубатов сладко потянулся в кресле. Курить больше не хотелось. И нельзя было покинуть кабинет. Что-то очень уж долго задержался Плеве во дворце.
Позвать бы Медникова да посоветоваться с ним, может быть, съездит Евстратка лично в Одессу и переговорит с Шаевичем. Или пусть привез бы Шаевича сюда. Что там происходит? Третий месяц длится в Одессе стачка, постепенно охватывая рабочих едва ли не всех предприятий города, перекидывается уже и в другие города, а что же Шаевич — руководитель всех «зубатовских» обществ юга? Почему и эти общества вдруг стали примыкать к забастовщикам? Извращается сама суть движения! Что же именно проморгали там полицейские власти, почему не сумели вовремя взять на себя роль примирителей в конфликте рабочих с предпринимателями? Это же значит уступить свои позиции эсдекам, эсерам и еще черт знает кому! Страшна не сама эта стачка, хоть и широк ее размах, страшен пример, основа, на которой она возникла в противовес его, зубатовскому, движению.
Да, послать бы Медникова, но Евстратка на несколько дней выпросился съездить к себе в имение — самый разгар сенокоса, и хлеба подходят уже. Ну ничего, будь то вспышка, взрыв, она каждый час бог весть к чему могла бы привести, а когда эта история в Одессе тянется третий месяц, словно хроническая болезнь, можно немного и еще потерпеть.
На минуту Зубатов представил себя стоящим у шахматной доски. Он любил эту игру. Но не с партнером, а в одиночку, с самим собой. Расставлял фигуры и делал поочередно ходы за белых и за черных, добросовестно выискивая лучший вариант и для той и для другой стороны. Логически это было нелепо. Делая наилучший ход, допустим, за белых, он уже как бы заранее предопределял, что черные не найдут достойного ответа. Если же они, сделав свой наилучший ход, тем самым опровергнут замысел белых, значит, их, белых, предшествующий ход вовсе не был наилучшим. Невозможно самого себя одновременно и обыграть и признать победителем. Но, подходя к шахматной доске, он сознательно отбрасывал этого рода логику и наслаждался лишь красотой одномоментно складывающихся комбинаций, иногда даже забывая о конечной цели игры и выделяя в ней лишь «поведение» отдельных фигур. Играл не ради спасения или гибели короля, а чтобы полюбоваться ходами, скажем, только белой королевы.
Ему сейчас представились на шахматной доске четыре фигуры: Серебрякова, Вильбушевич, Медников и Гапон. Все эти фигуры переставляет только он, Зубатов, а все же интересно, во-первых, определить, кто из них ферзь, ладья, слон или конь, а во-вторых, какие наилучшие ходы станет подсказывать им беспрестанно меняющаяся на доске обстановка. И тут же они обрели каждый свое человеческое поведение уже в хитрой житейской игре…
4
Но мысленно просмотреть это ему не удалось. Открылась дверь, и появилась Александра Николаевна. Свежая, сияющая, с маленьким букетом душистых левкоев в руке. По пути к столу раздернула пошире гардины на окнах. Зубатов поднялся ей навстречу.
— Сашенька, вот неожиданность! А я звонил домой, хотел предупредить тебя, что, вероятно, задержусь немного. Коля мне ответил, что ты уехала на Васильевский остров и обязательно к обеду вернешься.
Они поцеловались. Как всегда, по нескольку раз, чуть-чуть касаясь губами и весело посмеиваясь.
— Была и на Васильевском. Но твоя агентура дома плохо поставлена, как видишь, Коленька не смог предугадать мой дальнейший путь. Что тебя, Сережа, сегодня задерживает? А я ведь как раз думала увезти тебя пораньше и всем троим укатить куда-нибудь к морю. Там и пообедать. Дома мы даже ничего и не готовили. Коленька еще раз ошибся.
— Мысль чудесная! Охотно принимаю. Но, может быть, у моря не пообедаем, а поужинаем? Боюсь, что увезти меня сейчас тебе не удастся. Ожидаю возвращения Вячеслава Константиновича. Он во дворце у царя. И мне приказано его дождаться.
— О-о! «Приказано»! С каких это пор?
— Шучу, конечно, Сашенька, шучу. Но мне так кажется, во дворце идет серьезный разговор. И для меня небесполезный. Дело в том, что мои замыслы все время натыкаются на сопротивление Витте, а это — сила. Он вхож к государю более чем кто-либо другой. Сказать тебе откровенно, его и Вячеслав Константинович боится…
— Чего же ему бояться? — перебила Александра Николаевна, ища на столе местечко, где бы поставить букетик. — Сергей Юльевич занимает такой пост, что менять его на кресло, принадлежащее Плеве, нет никакого смысла.
— Менять — да. Но сесть сразу в два кресла Витте не прочь. Обычно в таких случаях садятся на пол. А Витте ловок, он останется в своем кресле, а на кресло Плеве положит свою шляпу.
— Прости, милый, я тебя перебила. Ты начал рассказывать что-то важное.
— Витте до крайности недоволен моими обществами рабочих. Он в них видит страшное зло для успешного развития отечественной промышленности: эти общества, дескать, вяжут по рукам и ногам предпринимателей. И не только отнимают у них какую-то долю доходов — а это, Сашенька, действительно неизбежно, когда удовлетворяются некоторые требования рабочих, — они отнимают у предпринимателей нравственный авторитет. Обиженный ими рабочий теперь не кланяется в ноги хозяину, а сразу идет со своей жалобой в полицию, в наши охранные отделения, авторитет которых возрастает. Можно понять ярость Сергея Юльевича, он и министр финансов, и капитал его личный тоже находится в выгодном обороте. Однако как не понимает он, что мои общества — это спасение для России, для вековых устоев самодержавной власти, без которой — хаос, революция. Сашенька, я даже не могу представить — что! Совершенно непостижимый для меня новый мир. Россия без самодержавной власти… В тот же день я пущу себе пулю в лоб!
— Не говори такого! — Александра Николаевна в страхе прикрыла ему губы своей ладонью.
— Не буду, Сашенька! — Зубатов поцеловал ее ладонь. — Не буду, но только потому, что твердо верю: самодержавной власти царя конца не будет. Продолжу. Витте не один. Я сказал: «Витте — сила». Именно потому, что он не один. У меня тоже сильная поддержка, но ведь я только начальник особого отдела департамента полиции при министерстве внутренних дел. Ты чувствуешь, как затухает звук моего голоса, пока я произношу свой длинный титул? Власть! Всего одно короткое слово. Именно его в моем длинном титуле не хватает. И я не вхож во дворец. Сегодня там Вячеслав Константинович. Жду от него хороших для себя вестей, потому что за последнее время все уши ему прожужжал насчет того, что мы мало используем свои возможности. Не знаю, с каким настроением отправился сегодня Плеве во дворец, жаль, с ним до этого не повидался, приехал Меньщиков из Москвы, потом я возился с донесениями Ратаева из Парижа, но Вячеслав Константинович ко мне благоволит и, я думаю, не упустит случая доложить государю мои соображения.
— Конечно, как свои соображения, Сережа? — полувопросительно проговорила Александра Николаевна.
— О боже, разумеется! — рассмеялся Зубатов. — Но ты помнишь знаменитое: «Клевещи, клевещи, что-нибудь да останется!» Это можно перефразировать: «Выдавай, выдавай за свое, что-нибудь и Зубатову останется!»
Александра Николаевна носком туфельки вычерчивала на ворсе мягкого ковра геометрические фигуры. Взгляд ее был устремлен в окно, за которым в блеске августовского солнца виднелся белый лепной карниз какого-то богатого дома.
— Помнишь, Сережа, — сказала она, — как я перепугалась, когда узнала, что тебя переводят в Петербург? Люблю Москву до беспамятства. И еще наш райский уголок под Владимиром, наше поместье, в котором можно хоть на время отрешиться от всех этих забот, интриг и постоянной борьбы со своими недоброжелателями. Но сегодня, гуляя по Васильевскому вместе с Зинаидой Николаевной, — она уловила недоумение в глазах мужа, — да, да, с супругой Плеве, нас свел простой случай, — я поняла: ты должен быть в Петербурге и только в Петербурге. И я приказала себе: любить Петербург. И еще приказала: полюбить обоих Плеве.
— Знаю, ты их не любишь! Спасибо за самопожертвование. Но ты как будто чего-то не договорила.
— Жестокие они и беспощадные люди.
— И ты своею любовью их рассчитываешь умилостивить? Так сказать, на всякий случай. Что ж, не отказываюсь. Но, Сашенька, это процесс медленный и фантастический — взаимная любовь двух семейств, тайно соперничающих между собой. А что касается жестокости — все люди, кто у власти, жестоки. И я в том числе. Иначе невозможно. Иначе нужно надевать монашескую рясу и в тихой келье перебирать четки. Впрочем, многие факты истории подтверждают, что как раз духовные лица оказываются и наиболее жестокими людьми. Но это так, вскользь, я о себе. Жесток я, Сашенька! Не садист, но жесток, непреклонен. Ведь счета нет людям, которых я так или иначе послал на тяжелые лишения, а может быть, и на смерть. Доделывали это другие, но крестики мелом на дверях помечал я.
— Не наговаривай на себя. Это вынужденное — ставить мелом крестики на дверях, но твои рабочие общества — верх гуманности!
— Ну, разумеется, это верно. В идее. А что показывает жизнь? Мои общества под ударом с двух сторон. И если я не в силах повергнуть врагов, стоящих выше меня, то врагов с другой стороны — разного рода революционеров — я буду преследовать беспощадно. Это и обязанность моя перед государем, дороже которого для меня в мире нет ничего, и моя единственная реальная сила и власть.
Тонкий солнечный луч ворвался через узкую щель в сдвинутых гардинах и упал на ковер, высветив на нем хитро вытканный золотой цветок. Может быть, по этой далекой ассоциации Александра Николаевна вдруг спросила:
— А что это за толстяк в золотых очках? Он из Москвы, но прежде там, в Москве, я его ни разу не видела.
— Боже мой, Сашенька, ты мне задаешь такой вопрос, что и сам Зубатов, величайший мастер розыска, ответить не сумеет! В Москве великое множество толстых людей в золотых очках, которых ты ни разу не видела. Это и все его признаки?
— Не смейся, Сережа. Когда я вошла в вестибюль и приблизилась к зеркалу, чтобы поправить прическу, там неподалеку стояли двое: этот в золотых очках и кто-то в мундире. Они разговаривали не очень громко, но я слышала все. И этот, в золотых очках, осуждал тебя, говорил, что ты вдохновитель провокаторства как дьявольского метода работы. Оно теперь пронизывает всю деятельность охранных отделений, и это ему противно.
— Противно? Так пусть подаст прошение об увольнении! Могу уволить и без прошения. Вся наша работа не ангельский небесный хоровод. Он прав, мы скорее черти, чем ангелы. Чертям же дозволено применять любые методы, включая и такое, когда рогатый и лысый черт превращается в прелестную девушку и соблазняет воина, чтобы затем отнять у него оружие. И пусть Леонид Петрович Меньщиков — теперь я догадался, о ком ты говоришь, — идет служить по другому ведомству. Я позабочусь, чтобы там противно ему не было. Но провокаторство я поощрял и буду поощрять. Без этого мы слепы.
— До чего же сложна жизнь! Все это так старо. И вдруг иногда выдается как нечто новое. — Александра Николаевна страдальчески приложила ладони к вискам. — Ну в самом деле, Сережа, что этот Меньщиков, даже для себя, неужели только сейчас сделал свое открытие? Ведь это же какое-то мелкое интриганство!
— Всякому свое. Кто на какое способен. Меньщикову, может быть, и хотелось бы затеять против меня грандиозную интригу, да кишка тонка. А что касается его нелюбви к провокациям, то у кого-кого, а у Меньщикова рыльце больше других в пушку. Когда я говорил о рогатом и лысом черте, я имел в виду как раз его. Он, войдя в доверие к некой Варенцовой, затем продал ее и всех ее товарищей. Правда, без любовных интриг…
Зубатова не покидало игривое настроение. Все, что он говорил даже прямолинейно и грубовато, тем не менее было сдобрено мягкой улыбочкой, стремлением не огорчить жену, а просто лишь позабавить.
— Чего же он хочет? — с досадой вырвалось у Александры Николаевны.
— А чего хотел, например, Кременецкий? Вот, по-моему, примерный ход его мыслей. Убили Пирамидова. Кременецкому, как преемнику Пирамидова, надо показать, что он способнее убиенного. И он разыскивает не отдельную личность, террориста, а находит целый склад бомб. Здесь уже зашевелится мысль и о том, что быть лишь начальником петербургского охранного отделения для него маловато.
— Его ведь и перевели куда-то. Сейчас в Петербурге Созонов.
— Да. Между прочим, Яков Григорьевич мой человек. Но ты или забыла, Сашенька, или я тебе не рассказывал. Склад бомб оказался фальшивым. Его устроил сам Кременецкий и сам же потом «нашел». И поехал в Иркутск. Только не губернатором, а полицмейстером. И то по доброте Вячеслава Константиновича, его всегдашнего покровителя.
— Доброта и фон Плеве — в моем представлении это как-то не вяжется.
— Хорошо вяжутся только теплые носки и рукавички. Ну, а в истории Плеве — Рачковский — Ратаев? Тут и сам черт ногу сломит! Во всяком случае, я до сих пор всего не понимаю. А попробую все же как-нибудь разобраться до самых глубин. Для собственного удовольствия, для проверки своих умственных способностей. И потому еще, что ведь с заграничной охраной мне постоянно приходится иметь дело. Могут подковать за милую душу.
— Да о Рачковском во всех гостиных, Сережа, болтают.
— В том-то и дело, Сашенька, что просто болтают. Но можешь ты мне объяснить, например, для чего было Рачковскому писать письмо Марии Федоровне? Писать матери царя после того, как он сам же устроил встречу царице Александре Федоровне с этим прохвостом Филиппом?
— Я ничего не могу объяснить, Сережа, потому что о письме Рачковского все как-то избегают говорить.
— Естественно! Боятся. Ведь это задевает внутреннюю жизнь царской семьи.
Они все время тихонько, взявшись под руку, словно на прогулке в саду, бродили по кабинету. Очень приятно было ступать по мягкому ковру, воображая, что под ногами расстилается цветочная поляна. Солнце светило теперь совсем широко, во все окна. Делалось даже несколько жарковато. Зубатов отвел жену на теневую сторону кабинета, усадил на прохладный, обитый сафьяном диван, уселся рядом.
— Вижу, глазки твои горят любопытством, — сказал он, беря пальцы Александры Николаевны и зажимая их в своей ладони. — Изволь, я тебе сейчас нарисую картину. Но с уговором… Нет, Сашенька, — заявил он поспешно, заметив, как дернулась ее рука, — я знаю, ты не проболтаешься. Уговор другой: дай мне потом ответ, какой угодно, на тот самый вопрос — зачем Рачковский посылал письма? Итак, ты помнишь, в прошлом году царь с царицей ездили в Париж, формально в гости к президенту Лубэ. Но главная цель была, несомненно, другая. Царица, как ни скорбно, ну… нервнобольная. Наши медикусы бессильны. Да и вообще все заграничное лучше. А Рачковский во Франции, извини, чуть не сказал я, «царь и бог»; Рачковский с Лубэ запросто, для него отведена постоянная комната в Сен-Клу в президентском дворце; Рачковский личный друг кардинала Рамполло, которого, пользуясь своими огромными связями, Рачковский прочил на престол папы Римского, только бы скорее Лев XIII отдал богу душу, ибо все это России выгодно. Так вот, Рачковский при своем ореоле всеведения и всемогущества привел в Компьенский дворец, где останавливались наши августейшие особы, знаменитейшего спирита и гипнотизера Филиппа. Сеансы прошли великолепно. Филипп вызывал для Александры Федоровны духов из загробного мира, она с ними беседовала и получала ценные советы. Филипп гипнотизировал царицу, и это тоже благотворно сказывалось на ее душевном состоянии. А государь, конечно, был безмерно рад. Он осыпал своими милостями и Рачковского и Филиппа. Потом даже привез Филиппа в Петербург. Но вслед за тем Рачковский прислал вдовствующей императрице письмо, о коем, Сашенька, я говорил тебе вначале. Напоминаю: жду твоего ответа.
— Но я не знаю, Сережа, что было написано! — воскликнула Александра Николаевна.
— Ах, да! В этом письме Рачковский высказывал предположения о пагубности влияния Филиппа на царицу, что, дескать, своими способностями гипнотизера он может довести ее бог знает до чего, а спиритические его сеансы настроят Александру Федоровну еще более мистически и сделают совершенно душевнобольной. И наконец, Филипп — орудие в руках масонов.
— Уди-вительно! — протянула Александра Николаевна. — Нет, я не могу ответить.
— А уговор? Наш уговор? Иначе, Сашенька, я и не стал бы рассказывать.
— Право, я стала в тупик… Он сам, Рачковский, что ли, душевнобольной?
— Здоров, как бык! Но ты гениально ответила. Первая мысль и у меня была такая же.
— А истина в чем?
Зубатов беспомощно пошевелил руками. И это означало: я же с самого начала предупреждал, что тоже ничего не понимаю. Есть, вероятно, в этом некий хитрый ход Рачковского, но разгадать его не просто.
— Думаю, Сашенька, не надо объяснять тебе, что было дальше. Ты это знаешь. Как и все.
— О-о! После того, что ты сейчас рассказал, я совсем ничего не знаю!
— Хорошо. Совершенно очевидно, что, прочитав письмо Рачковского, Мария Федоровна показала его царю. Ну, а государь, разумеется, разгневался и вызвал Плеве. Назвал Рачковского подлецом и потребовал нарядить следствие. Вячеславу Константиновичу это и кстати. Он же бешено ненавидит Рачковского, впрочем, взаимно. И следствие началось. Рачковскому при этом подсыпать соли постарался наш с тобой друг Ратаев.
— Ага! И поехал в Париж вместо него, — добавила Александра Николаевна. — Но почему же Рачковскому все это с рук сошло? Ведь он же, кажется, теперь в Брюсселе?
— Именно, — подтвердил Зубатов. — А следствие прекратили. Стало быть, нашлись силы помогущественнее даже, чем у Вячеслава Константиновича.
Александра Николаевна вскочила, приложила ладони к вискам, постояла с закрытыми глазами. Зубатов наблюдал за ней с удовольствием: работает мысль у малышки.
— Господи! Страшно выговорить, — медленно произнесла она. — Рачковский задумал свалить фон Плеве и занять его место, но в чем-то он просчитался?
— Сашенька, — растроганно сказал Зубатов, — когда я займу свое место при государе, я тебя сразу же назначу министром внутренних дел. До чего же Россия нуждается в умных министрах! Но теперь ты яснее видишь размах в интригах, которые затевает какой-нибудь Меньщиков и…
Зазвонил телефон. Это был совсем особый аппарат, по нему можно было соединяться только с домом, Лопухиным, фон Валем, самим фон Плеве и Гессе, комендантом дворца. Никелированный колпачок звонка нетерпеливо подрагивал под частыми ударами невидимого для глаза молоточка. Пока Зубатов шел к аппарату, снимал тяжелую трубку с рифленой рукояткой и давал ответный сигнал, Александра Николаевна замерла в ожидании: кто спрашивает?
— Слушаюсь, — сказал Зубатов.
И повесил трубку. Крутнул несколько раз ручку телефона, давая отбой.
— Плеве? — спросила Александра Николаевна.
— Да, разумеется, — рассеянно ответил Зубатов. — Сашенька, поезжай домой, подготовь Колю. Думаю, через часок я заберу вас и вместе, как условились, поедем к морю.
— Что-нибудь нехорошее? — озабоченно спросила она. — Такой короткий разговор. Ты сказал всего одно слово.
— Длинный разговор будет в кабинете министра, — засмеялся Зубатов. И поцеловал жену в лоб. — Ну, поезжай, ангел мой!
5
Он не очень встревожился. Позвонил все же сам Плеве. Но произнес, правда, тоже только два слова: «Жду вас». Без всякого обращения, с полной уверенностью, что никто другой даже случайно не мог бы поднять телефонную трубку. Зубатову даже подумалось, что под хорошее настроение Плеве он может ему рассказать анекдот. Трубку взяла жена: «Жду вас» — удивление — «Слушаюсь» — и так далее…
С блуждающей на лице веселой улыбкой Зубатов вошел в кабинет министра. Фон Плеве стоял за столом, наклонив голову, не то читал какую-то бумагу, не то просто разглядывал зеленое сукно. Он был при всех регалиях, кои полагалось надевать при поездках во дворец. Кабинет министра был огромен. И в дальнем его углу, переминаясь, малиново позванивая шпорами, стоял фон Валь в парадном мундире командира отдельного корпуса жандармов.
— Здравия желаю, Вячеслав Константинович, — проговорил Зубатов, приблизясь к столу. И изготовился пожать руку фон Плеве, когда тот протянет ее.
Но министр не подал ему руки. Вместо этого он поправил белоэмалевый с черной окантовкой крест, туго притянутый к накрахмаленному воротничку.
— Что происходит в Одессе? — спросил Плеве, уставя на Зубатова холодные серые глаза, уже по-старчески водянистые. — Я спрашиваю начальника особого отдела департамента полиции.
«Ого! Круто берет. Не называет даже по имени-отчеству. Случилось что-то неожиданное», — подумал Зубатов. Но, не гася своего выражения лица, бестрепетно проговорил тоном официального доклада:
— Ваше высокопревосходительство, в Одессе вот уже третий месяц длится стачка рабочих, постепенно захватывающая все новые предприятия. Об этом я имел честь неоднократно докладывать директору департамента полиции Алексею Александровичу Лопухину и лично вам…
— Мне не нужны пустые слова, Зубатов. Я спрашиваю вас по существу, что происходит в Одессе. — Нижняя губа у Плеве отвисла, и он не сразу смог ее подтянуть, как-то странно дергал из стороны в сторону.
— Я не понимаю, ваше высокопревосходительство, — сказал Зубатов, действительно не понимая, какого именно ответа от него добивается министр, но угадывая, что любой ответ все равно обрушит на него волну начальственного гнева. Значит, нужно сохранять спокойствие, ясность мысли и не потерять своего достоинства. — Покорнейше прошу уточнить ваш вопрос.
Но что же, что произошло во дворце? Предвестники недоброго уже замечались несколько дней. Однако казалось, это может коснуться кого угодно другого, но не Зубатова, у которого сделано решительно все, что только можно было сделать. Да, Одесса как раз вызывала наибольшую тревогу, но кто же не знал в министерстве об этом! Почему спрашивают только с него?
Фон Плеве леденил Зубатова своим неподвижным взглядом. В нем уже читалось готовое решение. Но для того, чтобы объявить вслух, необходимо было все же как-то обосновать его.
— Кто принимает участие в одесской стачке? Я ставлю вопрос в упор.
— Не значит ли это, ваше высокопревосходительство, что в одесской стачке принимаю участие лично я? — уже чувствуя, что его словно бы покачивает пьяная волна, сдержанно проговорил Зубатов.
Позванивая шпорами, приблизился фон Валь.
— На вашем месте, Зубатов, я бы соблюдал необходимые приличия.
— Пожалуйста, фон Валь, становитесь на мое место, — огрызнулся Зубатов, сделал коротенький шаг в сторону, и лицо его покрылось багровыми пятнами. — Это место я с удовольствием вам уступлю. Вы, вероятно, сумеете и точнее меня ответить.
— Да, отвечу, — сухо сказал фон Валь. — В одесских забастовках принимают участие все рабочие ваших обществ.
Плеве невольно поморщился. Вмешательство фон Валя превращало разговор в балаган: Зубатов не упустит случая дать сдачи.
— Вы напрасно сожалеете, фон Валь, что вами не создано никаких обществ. Как видите, это довольно-таки беспокойно. Вести допросы значительно легче. — Зубатов слегка наклонил голову в сторону министра. — Простите, ваше высокопревосходительство! Если вам удобен был именно такой ответ, я его подтверждаю.
— Вам ничего иного и не оставалось сделать, — мрачно сказал фон Плеве.
И распрямился. Внутри у него все клокотало, но он понимал, что и Зубатов вышел из своего обычного равновесия. Стало быть, надо вести дело так, чтобы самому ни в чем не сорваться, а вызвать на это Зубатова. Тогда и удар будет сильнее, и выглядеть будет он справедливее. В ушах министра еще звучали слова, недавно сказанные князем Мещерским: «Помилуйте, Вячеслав Константинович, граф Витте спит и видит себя в вашем кресле, а этот любимчик ваш Зубатов всегда ради Сергея Юльевича сумеет любой промах полицейского ведомства повернуть так, что лично ответственным за него останетесь вы и только вы». Теперь он с ненавистью вглядывался в Зубатова. Предсказание князя Мещерского подтвердилось. Царь только что во дворце высказал крайнее недовольство одесскими событиями и поставил это в вину ему, фон Плеве. Каких же усилий стоило, чтобы гнев государя отвести от себя и обратить на истинного виновника!
— Вы, может быть, соблаговолите подтвердить тогда и то, что одесская стачка носит чисто революционный характер? И объясните, как это согласуется с участием в ней рабочих из ваших, как вы всегда утверждали, мирных обществ? — заговорил снова фон Плеве.
— Подтверждаю и это, — холодно сказал Зубатов, но губы у него сохли от волнения. Куда гнет Плеве? Какой им заранее предопределен конец разговора? И в какой момент надо ему, Зубатову, пойти ва-банк, если все равно не ждать благоприятного исхода? — Вы, ваше высокопревосходительство, настоятельно называете рабочие общества моими. Пусть так. При этих условиях участие рабочих моих обществ в революционной стачке согласуется единственным образом: у меня не было и нет достаточной власти, чтобы этого не произошло.
— Власти? — Фон Плеве прорвало. Такого хода со стороны Зубатова он никак не ожидал. И теперь, уязвленный в самое сердце, не смог сдержаться, закричал: — Какой вам власти захотелось? Уж не министра ли внутренних дел?
— Власти достаточной, чтобы заставить предпринимателей уважать устав рабочих обществ, которые вы благосклонно назвали моими, но которые разрешены свыше и действуют при поддержке вашей и великого князя Сергея Александровича. Будь у меня власть, тогда и не было бы стачки вообще и тем более революционного характера. Дмитрий Сергеевич Сипягин…
— Довольно! — вне себя ударил кулаком по столу фон Плеве. — Вы что — предрекаете мне судьбу Сипягина? Он убит, и я не знаю, насколько чиста в этом ваша совесть!
— Вы скрытый революционер, Зубатов! — взорвался фон Валь. И аксельбанты на его груди так и заплясали.
— Такой же, как и вы! — Зубатова тоже понесло неведомым ураганом. — Вы даже опаснее, потому что все время льете масло в огонь революции, который я стараюсь погасить.
— В вас не стреляли, а в меня стреляли, и это лучшее доказательство…
— Вы слишком часто напоминаете об этом, фон Валь! Если бы вас убили, вы, вероятно, хвастались бы этим и еще больше.
Фон Плеве стучал кулаком по столу. Его не слушали.
— Одесскую забастовку начал Шаевич. Это ваш человек. Проверено!.. — кричал фон Валь.
— Вы проверили то, что в каждой подворотне известно, — перебивал его Зубатов. — Но вы не проверили, при каких обстоятельствах эсдеки перехватили инициативу. Не проверили, кто из местных властей…
— Вы забываетесь! Вы служите…
— Служу не вам, фон Валь! Я служу его величеству государю императору Николаю Александровичу. Служу во имя охранения вековых устоев самодержавия, и все, что я делал, я делаю и буду делать…
Министр наконец заставил обратить на себя внимание. Он вышел из-за стола и оказался между спорящими.
— Вы все провалили, Зубатов! — жестко сказал он, плечом отстраняя фон Валя. — Все ваши идеи оказались ложными, а вернее, такими и были задуманы. Не напоминайте о великом князе. Именно Сергей Александрович доложил государю, что ваши общества, ваши, Зубатов, содержат в себе посевы революции. Вы создали рабочим легкую возможность вместе собираться, а остальное уже не требует большого труда. Призывы ваши к миру… Вешать надо было! Вешать больше, расстреливать, отправлять на каторгу! Революция должна быть подавлена в зародыше, террор бомбистов немедленно пресечен! Вы в юности своей путались с Михаилом Гоцем, а ныне Гоц — один из лидеров партии эсеров…
— Ваше высокопревосходительство, я не позволю оскорблять себя такими подозрениями. — В голосе Зубатова зазвенели высокие нотки. Он уже с трудом владел собой. — Все, что я делал, делаю и буду делать — все только с вашего ведома…
— Вы больше ничего не будете делать! — вскрикнул фон Плеве и вернулся к столу. — Именем его величества с этой минуты я вас отрешаю от должности, занимаемой здесь, и от государственной службы вообще. Ступайте под домашний арест!
Зубатов побелел. Вот это расправа! Но государь? Нельзя же, чтобы государь остался в неведении.
— Вячеслав Константинович, я буду иметь возможность… — начал он.
Но Плеве демонстративно отвернулся, заложив руки за спину, и отошел к окну.
— Вы будете иметь возможность дома спокойно застрелиться, — кривясь в ядовитой усмешке, посоветовал фон Валь. — Это прекрасный выход из положения.
Не помня себя, Зубатов замахнулся на фон Валя, чтобы дать ему пощечину, но опустил руку. Твердо печатая шаг, вышел из кабинета министра и хлопнул дверью так, что в окнах едва не посыпались стекла.
Он шел длинным полутемным коридором, в конце которого, расчерченные на неправильные квадраты, переплетались рамы, светилось небольшое оконце. Издали эта рама похожа на решетку. Он идет пока под домашний арест. Не окажется ли он потом за настоящей, железной решеткой? Плеве жесток и мстителен. И, чтобы выгородить себя во мнении государя, пойдет на все. Тупица и бурбон фон Валь, возможно, неспроста бросил свои ядовитые слова. Всесильный Зубатов, где у тебя защита? Кто тебя поддержит? Где твои друзья?
Теперь оконный переплет ему вдруг представился шахматной доской. И он, белый король Зубатов, затиснут в ее угол двумя черными ладьями в образе фон Плеве и великого князя Сергея Александровича. Темп! Выиграть бы всего лишь один темп, прорваться под защиту своего ферзя, императора Николая, и король-Зубатов ушел бы из-под угрозы мата. Но этого темпа не выиграть, к ферзю не прорваться, и нет даже уверенности, свой ли это ферзь. И где-то совсем вдали и совсем теперь бесполезные стоят другие белые фигуры: Серебрякова, Вильбушевич, Медников, Гапон. После того как будет мат объявлен королю, их тоже просто сбросят с доски. Шахматные фигуры, дотоле подвластные только ему! А если это люди, выпестованные лишь им? Какая судьба теперь их ожидает?
Было не до того, чтобы разгадывать их судьбы.
И все равно не смог бы он наверно угадать, что темпераментная Маня Вильбушевич, неистовая поборница рабочих обществ в среде еврейского пролетариата и никем не раскрытый его агент, в ближайшее же время покинет Россию — уедет в Америку, затем в Палестину и поведет там вполне безмятежную жизнь. Не угадал бы он и того, что именно «человек в золотых очках», Леонид Петрович Меньщиков, чиновник особых поручений московского охранного отделения, через шесть лет тоже уедет за границу, на запад, и там либерально-эсерствующему редактору журнала «Былое» Владимиру Львовичу Бурцеву, избравшему своей неодолимой страстью разоблачение всякого рода провокаторства, раскроет «святая святых — „Мамочку“». Но тем не менее Анна Егоровна Серебрякова и после того весело будет проводить время на «заработанные» ею денежки вплоть до 1923 года, когда ее в перелицованных одежде, имени и фамилии раскроют чекисты и предстанет она перед народным судом. А преданнейший Евстратка Медников, согласный пойти на казнь вместо своего покровителя, верой и правдой будет служить фон Плеве, пока того — через год — не подкосит насмерть бомба эсера Созонова, а затем послужит и еще длинной цепочке министров внутренних дел — князю Святополк-Мирскому, Булыгину, Дурново и Столыпину… Ну, а Гапон, отодвинув в тень само имя Зубатова, подхватит его замыслы, видоизменит, разовьет их. И дальше… Дальше получит то, чего заслуживает.
Не разгадал бы в тот час и собственной судьбы Зубатов. Но в день, когда всему миру стало известно, что император Николай II подписал манифест об отречении от престола, Зубатову, одному из малозаметных помещиков Владимирской губернии, ведущему кокетливую переписку все с тем же Бурцевым относительно многих тайн охранного отделения, выдавая себя при этом за ягненка, припомнились свои слова, сказанные жене за несколько минут до последнего разговора с фон Плеве: «Россия без самодержавной власти? В тот же день я пущу себе пулю в лоб!» Припомнилась и зловещая рекомендация фон Валя: «Вы будете иметь возможность дома спокойно застрелиться. Это прекрасный выход из положения». Теперь все рушилось окончательно и бесповоротно. Последняя ниточка, дававшая ему иллюзорную надежду, что вдруг он все-таки понадобится, оборвалась.
Он хладнокровно взял револьвер, повернул барабан, чтобы убедиться, что боек не ударит в пустое гнездо, поцеловал фотографическую карточку Александры Николаевны, всегда стоящую на его письменном столе, перекрестился, поднес револьвер к виску и спустил курок.
6
Верочка так старательно молотила ножонками по воде, сидя в широком эмалированном тазу, что брызги разлетались по всей комнате. Анна намыленной ладошкой терла ей спинку, а Дубровинский тут же окатывал из кувшина теплой водой. Хохотали все трое. Неизвестно, кому из них купание доставляло наибольшее удовольствие.
— Ну ты посмотри, Аня! Кажется, у Веруськи шестой зубик прорезался? Открыла рот и…
— Вправду! — подтвердила Анна, проверив пальцем. — Скажи пожалуйста! У сестрички зубки прорезаться стали позднее. Зато растет такой толстушкой, что сама рука тянется шлепнуть ее.
— Эх, до чего же посмотреть на нее хочется! Знаешь, Аня, все-таки пущу здесь как следует корни — и поедем в Орел. С мамой повидаться, с тетей Сашей, с Семеном. Где-нибудь в середине сентября…
И отпрыгнул в сторону. Ударив по воде враз обеими ручонками, Верочка чуть не половину таза выплеснула ему на рубашку. Анна заливалась веселым смехом, показывала мимикой — приготовь простынку.
— Может быть, Ося, нам и насовсем в Орел перебраться? Теперь мы птицы вольные. А дома и стены во всем помогают. Надо поговорить с товарищами.
Она вытирала девчушку, та под простынкой что-то бубнила.
— Эта мысль, Аня, у меня мелькала еще в Астрахани. Я ведь там и в полицейском управлении отметился: выбыл в Орел. Но для дела, сам понимаю, здесь, в Самаре, я как-то нужнее. Притом дома стены не всегда помогают.
— Имеешь в виду брата Григория?
— Не только. Сама знаешь, трудно сохранять конспирацию, живя вместе в большой семье.
— Да, это все верно, Ося, — задумчиво проговорила Анна и понесла Верочку к кровати, принялась одевать. — Но, понимаешь. Таленьку так и оставить в Орле, при бабушке? Горько! А взять сюда — получится тоже большая семья.
Дубровинский издали любовался, как ловко жена управляется с дочкой. Вот уже и одела совсем, готовится кормить, на левой руке держит ее, правой — помешивает кашу в кастрюльке, а Верочка даже и разу не пискнула.
Он любовался, а между тем думал. Как быть теперь? Малышки станут притягивать к дому, словно магнит. Но одно дело в ссылке, хотя бы в той же Астрахани, где за черту города без риска оказаться в тюрьме все равно нельзя было удаляться; другое дело — здесь, в Самаре, на относительной свободе, под негласным надзором полиции, с единственным формальным ограничением: на пять лет воспретить проживание в столицах. Теперь как раз, выполняя сложные и опасные поручения партии, нехорошо задерживаться долго на одном месте, чтобы не мозолить глаза полицейским властям. Самое лучшее ездить и ездить. Но ведь не станешь бесконечно мотаться по белу свету вместе с женой и детьми! Все равно это не конспирация!
Что же придумать, чтобы всем было радостно, хорошо?
Пренебречь запрещением жить в столицах и подумать о переезде в Москву или Питер? Там, конечно, охранка поглазастее, еще зубатовской выучки, зато и потеряться с ее глаз тоже больше возможностей, чем в маленьком городе. А главное, там пороховая бочка самодержавия. Есть где развернуться…
— Ося! — позвала Анна. — Хочешь, покорми Веруську? И уложи спать. Сам поспи. А я тем временем постираю.
— Очень хочу, — с готовностью отозвался Дубровинский. — Но давай вместе покормим. И постирать я тебе помогу.
— Ну уж нет! — запротестовала Анна. — На последнее я никак не согласна. Ты же всю ночь сегодня не спал.
— Но я должен был написать Варенцовой обстоятельное письмо, — возразил Дубровинский. — Сегодня из Астрахани привезет наш агент литературу, с ним надежнее всего отослать и письмо. А спать я не хочу, разгулялся.
Они подсели к столу. Дубровинский принял закутанную в тонкое одеяло девочку к себе на руки, чувствуя, как под легкой тканью часто стучит ее сердечко. Вылив из кастрюльки на блюдечко очень жидко сваренную манную кашку, Анна пробовала с ложечки, не горячая ли. Девочка нетерпеливо причмокивала розовыми губками. Отведав первую порцию, Верочка вдруг завертела головой и пустила пузыри.
— Плутишка! — воскликнула Анна, когда и после второй ложечки повторилась та же история. — Ей хочется послаще. Ося, я замечаю, когда кашку варишь ты, Веруська ест с удовольствием!
— Вот и хорошо! Надо, чтобы этому маленькому человечку уже с первых месяцев жизни было приятно.
— Да, а когда этот человечек станет подрастать, у него начнется золотуха, заболят зубы.
— Это врачи говорят!
— Знаю, знаю, ты не любишь врачей! А я полностью с ними согласна. Таля у бабушки растет здоровенькой. И почти совсем без сладкого.
— Зубы надо чистить! А золотуха у ребят если и случается, так не от сладкого — от плохой пищи.
Шутливо пикируясь между собой, они все же накормили Верочку, не добавив сахару в кашу. Потом Анна понесла малышку укладывать спать, а Дубровинский, засучив рукава, взялся за стирку пеленок, чепчиков и подгузничков, отмокавших в тазу.
Он не успел закончить, как в дверь постучали. Дубровинский торопливо вместе с табуреткой отставил таз в угол комнаты, отвернул рукава и крикнул:
— Войдите!
А сам стеснительно уставился глазами в пол, щедро, по неумелости, забрызганный мыльной водой.
— Николай Иванович! Что случилось? На вас лица нет!
Дубровинский сразу забыл обо всем, едва взглянул на вошедшего. Николаю Ивановичу Боброву, служащему казначейства, опытному искровскому агенту, поручалось встретить транспорт с литературой из Астрахани и проследить, чтобы он безопасно был доставлен на квартиру инженера-путейца Резнова, совершенно надежную квартиру. Явно стряслась какая-то беда.
— Что случилось, Николай Иванович? — повторил Дубровинский.
— Иосиф Федорович, простите… Здравствуйте! Анна Адольфовна, тоже здравствуйте! — кивнул Бобров в ее сторону. А сам держался рукой за левую половину груди. Видимо, очень спешил, бегом поднимался к ним по лестнице на второй этаж. — Несчастье… Не знаю, как и сказать… Словом, на взвозе от пристани стою, дожидаюсь… Вижу, подымается с корзиной человек… Точно по приметам, как вы описали. Значит, Трофимов… И корзина с правильными приметами… Тут бы мне к нему, паролями обменяться — откуда ни возьмись, за спиной городовой. Похлопал по плечу. И начинает о ком-то расспрашивать, не проходил ли здесь, дескать. Меня в жар: не о Трофимове ли спрашивает? Но слово за слово, понял: нет, не о нем. А пока мы с городовым объяснялись, Трофимов уже завернул с набережной за угол и исчез. Соображаю, чувствует он себя беспокойно: никто с паролем к нему не подошел у пристани. Стало быть, думаю я, сейчас он рассчитывает только на себя. Адрес Резнова знает, конечно, и корзину все одно ему занесет. Но вдруг там, возле резновского-то дома, какой-нибудь шпик вертится? Или еще какая неожиданность подстерегает? Надо пойти и мне туда. Дошел до первой улицы. Нет никого. В какую сторону свернул Трофимов? Я наугад налево. Глядь, он и вправду поодаль, там. И надо же, оглянулся! Прибавил ходу. Наверно, заприметил, как я с городовым разговаривал, и посчитал меня за филера. И вот идем, с одной улицы на другую сворачиваем, а я обычным шагом никак догнать его не могу. Подбежать бы — обязательно назло кто-нибудь мешает. Ударится и Трофимов в бег, тогда все пропало. Мне бы, чудаку, лучше так и оставить его: иди как знаешь. А я все думаю: нагоню. Так мы и мимо резновского дома прошли. Ну, ничего, пропаримся, да все же сойдемся. А Трофимов вдруг на Дворянскую круто свернул. И понимаете, Иосиф Федорович, вперся со своей корзиной в гостиницу…
— Боже мой! — воскликнул Дубровинский. — Это что же, в «Большую центральную»? Самая шикарная гостиница. А вид у Трофимова…
— Да уж, конечно, не под эту гостиницу! Себя кляну, дал маху, а он — так и почище моего! С отчаяния, наверно. Хоть куда-нибудь на время от филера скрыться, чтобы отдышаться, одуматься. Молодой, видать, в нашем деле, опыта нет никакого.
— И что же? Неужели взял номер?
— Тот-то и дело, что взял! Раза два мимо подъезда я потихонечку прошелся и видел сквозь стекла, как с корзиной он на второй этаж поднимался. А в «Большой центральной» этой подряд все служащие, охранкой купленные. И вот вам новый промах товарища: вижу, идет Трофимов по лестнице, сам, понимаете, сам несет свой багаж, а коридорный гоголем шагает рядом. Выходит, побоялся Трофимов дать ему в руки корзину. А это уже обязательно подозрение! Видано ли в «Центральной», чтобы постояльцы отказывались от услуг!
— Вы правы, Николай Иванович! Надо что-то экстренно предпринимать. Но что?
— Голова кругом, Иосиф Федорович! Пока мчался к вам, думал и ничего не придумал. Куда ни кинь, все клин. Если, к примеру, вскоре же с корзиной своей выйдет из номера Трофимов — подозрение! Зачем на час всего номер снимал? Тут же хвост к нему прицепится. Выйдет один, без корзины, вроде бы погулять, а сам на явку пойдет, советоваться, как быть дальше, — ну тут же заглянут коридорные в корзину. Останется на ночь в гостинице, тоже уверенности нет, что не нагрянут дорогие гости к нему. Две зацепки есть против него для размышлений у шпаны этой, охранкой купленной: вбежал растрепанный и корзину наверх сам потащил. Просто вижу, как они сейчас между собой шушукаются. Может, конечно, и мнится все это. А вдруг стукнут? И притом мы не знаем, как Трофимов дальше себя поведет.
— Это самое главное! Ни минуты медлить нельзя! Но что делать?
Дубровинский в волнении заходил по комнате. Бобров стоял и горестно всплескивал руками: «Эх, и надо же такому случиться!»
Укачивая Верочку, Анна с тревогой вслушивалась в их разговор. Опасность, грозная опасность нависала — охранке только бы ухватиться за ниточку. А как предотвратить беду? Самара — совсем еще незнакомый им город, чуть больше месяца, как они в ней поселились, по улицам и то без полной уверенности ходят, не заплутаться бы. Теперь надо товарища выручать, всю организацию выручать: ведь неизвестны последствия, если Трофимов попадется. До сих пор транспорты с «Искрой» доставлялись благополучно. Охранка с ног сбилась. Считают, наверно, что только по железной дороге «Искра» приходит сюда… Верочка, слава богу, заснула.
— Ося, я все слышала, — сказала Анна, подойдя к нему, — я ничем не могу пригодиться?
Он остановился: «Чем она может помочь?» И вдруг его озарило.
— Да, да! Веруська спит?
— Спит.
— Прекрасно! Тогда так. Вы, Николай Иванович, как там хотите, а оставайтесь, приглядывайте за Верочкой. Проснется — вы тоже отец, сами знаете, что надо делать. Аня, покажи Николаю Ивановичу, где сухие пеленки. И пойдем, пойдем скорее!
— Иосиф Федорович!
— Ося!
Враз вскрикнули оба, Бобров и Анна. В непонятном ей замысле мужа было что-то пугающее. Главное, как же Верочка?
— Идем, Аня, идем! — торопил Дубровинский. — Тебе все расскажу по дороге, а Николаю Ивановичу — когда вернемся. Ясно же, Трофимов в гостинице долго не задержится, раз убежден, что за ним филер пристроился. И либо сам попадется вместе с литературой, либо бросит корзину в гостинице и скроется. А это тоже не радость.
Схватив пиджак, взял Анну за руку, накинул ей на плечи праздничный цветистый платок и потащил из комнаты.
По дороге Дубровинский забежал в палисадник и с разрешения хозяйки нарвал два букета цветов. Один отдал жене, другой понес сам. Они вышли на улицу, влились в людской поток.
— Мысль у меня очень простая, — объяснил Дубровинский, прихорашивая пышные белые астры. — Мы встречали Трофимова на пристани и прозевали. Он, не зная нашего адреса, решил поселиться в гостинице. Мы искали, искали по городу и все же нашли его. Трофимов меня знает в лицо и, я думаю, сообразит, как себя надо вести в этом случае.
— Ося, а я-то зачем? — Анне все еще было немного страшновато. — Как бы неосторожным словом мне не испортить все дело!
— Не испортишь, — успокоил Дубровинский. — Когда приезжего встречает семейная пара да еще с цветами, это сразу снимает подозрения. А потом ты понадобишься у дома Резнова, приглядеться, не торчит ли там какой-нибудь шпик.
— Николай Иванович и то растерялся, где же мне…
— Ничего, Аня, ничего!
Он кликнул извозчика, проезжавшего мимо, подсадил Анну, вспрыгнул сам.
— Гони, голубчик, в «Телегинскую», — распорядился озабоченно. — Как ты считаешь, с парохода не знающий города в какую гостиницу верней всего может поехать?
— Так ведь, барин, это кому как, — ответил извозчик, вытаскивая из-под себя ременный кнут и помахивая им. Конь рванулся крупной рысцой. — Это не угадаешь. По достатку. Ну, в «Телегинскую», ясно, кто попроще, все-таки ближе к пристани и подешевле. А тузы всякие, — он через плечо посмотрел на своих седоков, на «тузов» никак не похожих, — те уж беспременно только в «Большую центральную» едут.
Дубровинский громко выговаривал Анне: вечная копуша, никогда ничего вовремя не приготовит, за ворота выйти — полчаса перед зеркалом вертится. Упустили прибытие парохода. Где теперь найдешь Павла Семеныча? Какое огорчение ему причинили! Анна, войдя в роль, еще громче, чем он, всю вину валила на мужа, тупицу, который никогда ничего толком объяснить не умеет.
Так, в перебранке, они доехали до гостиницы Телегина на Соборной. Дубровинский выпрыгнул из экипажа, подал руку Анне. Она фыркнула и отказалась. Извозчик покачал головой: дамочка с характером.
Минут через пять Дубровинский вышел из подъезда обескураженный, разводя руками. Анна тут же набросилась на него:
— Нету? Так я и знала! Павел Семеныч с причудами. Ему если в гостиницу, только в самую лучшую. Уж на чем, на чем, а на этом он скупиться не станет.
— Давай, голубчик, гони в «Большую центральную», — вздохнув, попросил Дубровинский.
По дороге они «помирились» и вошли в гостиницу вместе. Дубровинский бережно поддерживал Анну под руку. Весело переговариваясь, приблизились к полированному барьеру, за которым величественно восседал тучный, лоснящийся портье.
— Послушайте, — небрежно обратился к нему Дубровинский, — в каком номере остановился у вас только что с пароходом прибывший, немного эксцентричный, чудаковатый господин?
Он не знал, какой фамилией мог назвать себя Трофимов, и потому, перебрасываясь незначащими репликами с женой, словно бы между прочим сообщал портье некоторые его приметы. Тот, склонив голову набок, слушал со снисходительной улыбкой.
— Не с корзиной ли? — спросил, теперь и совсем откровенно посмеиваясь. — А позвольте: его фамилия?
— С корзиной? — удивился Дубровинский. И пропустил второй вопрос мимо ушей. — Нет, не думаю. Впрочем, это как раз в его духе. Он способен.
— Да, конечно, с корзиной! — воскликнула Анна. — Я просила тетю послать побольше самой лучшей тарани.
— Лидочка, ты прелесть! — сказал Дубровинский и поцеловал ей ручку. — Итак, в каком он номере?
— В двадцать седьмом, — ответил портье, становясь вежливо-серьезным. — Второй этаж, направо.
— Пожалуйста, распорядитесь, — Дубровинский многозначительно поднял палец, — распорядитесь подать туда шампанское, шоколад и ананас. Есть апельсины?
— Все, что прикажете, — с полной готовностью ответил портье.
Анна поспешила добавить:
— И миндаль. — Словоохотливо объяснила: — Нет, вы представляете: заехать сразу с парохода не к родным, а в гостиницу! Вот самолюбие! Вот чудачество! Как это можно?
— Ничего, Лидочка! Мы его все равно утащим к себе. Извозчика я не отпускал, — сказал Дубровинский.
Сделал благодарственный жест рукой — портье в ответ поклонился, и они стали подниматься по лестнице.
Трофимов на их стук отозвался не сразу, и Дубровинский с тревогой подумал: не пытается ли он каким-нибудь образом избавиться от своего опасного багажа. А окликнуть его, назвать себя сквозь массивную дверь было бы неосторожностью. По коридору ходили неведомо какие люди. Наконец щелкнул замок. В узкой щели показалось бледное лицо Трофимова.
— Павел Семеныч! — радостно закричал Дубровинский, заметив приближающегося коридорного. — Мы вас ждем у себя, Лидочка пирогов напекла, а вы — скажите пожалуйста! — в гостиницу! Ай-я-яй! Ну, с приездом вас! С приездом! Да позвольте же вас обнять и поцеловать!
Коридорный пробежал мимо, и Дубровинский, освободив из своих объятий вытащенного из номера Трофимова, озорно подмигнул. Теперь можно было и войти в помещение. Еще ошеломленный неожиданностью этой встречи, Трофимов не знал, что делать. Заметался по комнате.
— Иосиф Федорович, — бормотал он испуганно, — бога ради, уходите! Зачем вы здесь? За мной от самой пристани тащился хвост, я совершенно изнемог, вбежал сюда. Вот-вот может нагрянуть полиция. Я в отчаянии. Как быть с литературой? Бросить здесь? Сжечь? Топка голландской печи выходит в коридор. Или попытаться вынести? Но бежать отсюда надо как можно скорее.
— Так и сделаем, Павел Семенович! Успокойтесь, прошу вас! — Дубровинский оглядывал номер: где же корзина? — Сделайте веселое лицо. И пойдемте. Но прежде в честь приезда вашего мы выпьем шампанского. Сядьте к столу, шампанское сейчас принесут. А насчет хвоста — это был наш человек.
— Да что вы? — озадаченно вскрикнул Трофимов. — Нет, нет, тот, что преследовал меня, явный шпик. В этом я убежден. После я вам все объясню. Дайте скорее совет: как поступить. И уходите. Не хватало, чтобы еще и вас здесь застали!
— После и я вам все объясню, Павел Семеныч! Забрели вы, прямо скажем, в очень неподходящую гостиницу, извините за вольность, словно бы сели нагишом в муравейник. Но ничего, только, пожалуйста, спокойнее и веселее. Где корзина?
— Я задвинул ее под кровать. Бросил бы здесь и ушел, но боюсь, нет ли среди литературы чего-нибудь точно наводящего на след. Варенцова укладывала, не предполагая, конечно, что такое может случиться.
Анна захлопала в ладоши:
— Браво, браво! Несут шампанское. — И кинулась на шею Трофимову. — Какой вы противный! Ну расскажите же, расскажите, как там поживает тетя? Здорова? Все молодеет? Прислала с вами таранки?
Коридорный в белом фартуке, с полотенцем, переброшенным через руку, согнутую в локте, расставлял на столе ведерко с замороженным шампанским, тарелки с шоколадом, очищенным миндалем, нарезанным ананасом. Из буфета, стоящего у стены напротив кровати, прикрытой шелковым покрывалом, достал три нарезанных алмазной гранью бокала, обмахнул их полотенцем.
— Прикажете открыть? Или обожаете сами? — обратился к Дубровинскому, с некоторым сомнением оглядывая очень уж просто одетую компанию, но в то же время сделавшую столь изысканный заказ.
— Открой, голубчик! — попросил Дубровинский. — Только поосторожнее, мадам всегда очень боится. И поставь четвертый бокал.
— Ой! Ой! — зашептала Анна и прикрыла уши ладонями, наблюдая, как коридорный раскручивает на горлышке бутылки тонкие проволочки.
Хлопнула пробка, ударилась в потолок и покатилась по полу. Пенную струю шампанского коридорный ловко направил в бокалы.
— В четвертый не наливать? — осведомился он у Добровинского.
— Наливай! Наливай, голубчик! — И подал ему бокал. — Выпей с нами. Радость у нас необыкновенная. Такой человек! Слава отечества! Два года с ним не видались. Да на пристани проворонили. Хорошо хоть здесь сразу нашли. — И погрозил пальцем Трофимову: — Ну нет, все равно я тебя сейчас к себе увезу. За здоровье твое! И с благополучным прибытием!
Подняли бокалы торжественно. Анна ласкала Трофимова глазами. Коридорный тоже старательно тянул руку вверх. Черт их разберет, интеллигентов! Кто шпана — в цилиндре и при лайковых перчатках, а кто инженер или даже миллионер — в косоворотке. Эти — явные чудаки. Выпить вместе с ними просят. Почему и не выпить?
— Благодарствую, здоровья вам крепкого, господа! — сказал коридорный, ставя пустой свой бокал на самый край стола и не решаясь наряду с другими закусить шоколадом.
Анна это заметила, отломила половину плитки, сунула ему в руку. Сама принялась грызть миндаль.
— Будут еще приказания? — спросил коридорный, пятясь к двери.
— Будут, — беспечно махнул рукой Дубровинский. — Через десять минут зайдешь, снесешь вниз багаж и за номер рассчитаешься. Да посмотри, не уехал ли там мой извозчик?
Вытащил из бумажника кредитку, с лихвой покрывавшую не только оплату номера, стоимость ресторанного заказа и услуг, но и самые сверхщедрейшие чаевые, и небрежно бросил ее на стол.
— Что вы, Иосиф Федорович! — в испуге проговорил Трофимов. — Как можно в чужие руки отдавать корзину? Я ее сам вниз снесу.
— Нет, увольте, Павел Семеныч, то, что вы ее наверх сами внесли, неизвестно чем еще обернется. — Дубровинский приподнял, взвесил на руке корзину. — Ого! Тяжеленько. Могу себе представить, как она вас напарила, пока вы от филера убегали. Вернее, не от филера, а к филерам. Ими вся эта гостиница набита. Вот только сойдет ли сей груз за таранку? — спросил сам себя озабоченно, еще раз приподнимая корзину. — Сушеная рыба весит легче. Скажите вслух при коридорном, что на дне лежат еще банки с икрой.
— Хорошо, я скажу! Но, бога ради, Иосиф Федорович, и особенно вы, Анна Адольфовна, уходите скорее, коль здесь так опасно. Виноват во всем я, мне и исправлять свою оплошность.
— Фью! — не обращая внимания на слова Трофимова, вдруг свистнул Дубровинский и хлопнул себя по карману. — А я тоже хорош! Единственную кредитку отдал коридорному. Чем же с извозчиком буду рассчитываться? У вас нет денег, Павел Семеныч?
— Найдутся. Что вы, Иосиф Федорович!
— Тогда и гора с плеч. — Он взял тарелку с нарезанным ананасом, предложил жене: — Угощайся, Аня! Правда ведь вкусно? Не помню даже, когда я ел ананасы. И ел ли вообще?
— Ося, а что если я возьму этот миндаль с собой? — нерешительно спросила Анна. — Чего же зря добру пропадать!
Дубровинский рассмеялся. Лихо истраченная им кредитка ощутимо скажется на бюджете ближайших дней. Ему припомнились округленные в изумлении глаза Анны, когда он так равнодушно бросил бумажку на стол. Горсточка орехов этой потери не уравновесит, но Аня так любит миндаль.
— Возьми, конечно! Только чуточку и оставь. Тот, кто подчистую все съедает с тарелок, уважением здесь не пользуется.
Постучался коридорный.
— Ваша милость, все готово. Постоялец из восемнадцатого, купец уфимский, извозчика вашего хотел отбить, но я сказал: «Мои господа тебе лучше заплатят». Несть можно вещи?
— Неси, — разрешил Дубровинский.
И коридорный подхватил корзину.
— Эка ты неловкий, брат! — закричал Трофимов, подбегая к нему. — Бери осторожнее. Там на дне стеклянные банки с икрой.
— Не извольте сумлеваться. Доставим в сохранности.
А сам почесал в затылке. Видимо, что-то его беспокоило, хотелось и сказать и не сказать. Будь бы он один с кем-то из трех с глазу на глаз, а в такой компании… Он опустил корзину, совсем уже было рот открыл, да передумал, вновь кинул ее себе на плечо, распахнул дверь и побежал вниз по лестнице.
— Барин, куда теперь? — спросил извозчик, когда все уселись в экипаж, а корзина была устроена между ними. — Я ведь полдня целых с вами езжу, — добавил он со значением.
— Не обидим. Давай гони на Сенную, — сказал Дубровинский особенно громко, так, чтобы услышал коридорный, все не отходивший от экипажа и отбивавший поклоны.
Подковы звонко зацокали по булыжной мостовой. Верх экипажа был откинут. Дубровинский усадил Трофимова рядом с Анной на обитое кожей, пружинящее сиденье, а сам, к ним лицом, пристроился на узенькой скамейке за спиной извозчика. Ему хорошо была видна убегающая назад улица, подъезд гостиницы и коридорный, почему-то столбом вросший в землю на месте, где они с ним расстались. Позади катились и еще экипажи, пролетки, сами они обгоняли ломовиков, и гостиница, фигурки людей возле нее, отдаляясь, становились все мельче.
И тут, в какой-то момент, когда совсем бы исчезнуть гостинице из поля зрения, а самому ему спокойно откинуться назад, Дубровинский заметил, как к муравейно-маленькому коридорному быстро подошли трое, и он энергично замахал руками, должно быть что-то им объясняя.
— Голубчик, знаешь, сверни сейчас на Почтовую. — Дубровинский постучал в спину извозчика. — Надо заехать к Ивану Ивановичу.
— На Почтовую так на Почтовую, — согласился возница. — Только ранее надо бы сказать. Крюк большой загибать придется. А мне — так хоть всю Самару наскрозь проехать.
— Заплатим, — сказал Дубровинский.
И принялся сочинять какую-то нелепую, но веселую историю, заставляя своих спутников заливисто хохотать, где от души, а где и по прямой подсказке.
На Почтовой он забежал в незнакомый двор, постоял там несколько минут и вышел разочарованный: «Нету дома Ивана Ивановича!» Потом дал извозчику еще один адрес, и экипаж, тяжело поскрипывая рессорами, покатился по пыльным улицам. А где именно, Дубровинский не представлял — Самару он знал еще плохо.
— По Саратовской поедем? — спросил извозчик, оглядываясь.
— Можно и по Саратовской, — небрежно сказал Дубровинский.
И тут подумал: неожиданно кстати. Резнов живет как раз на Саратовской. Только в каком ее конце они выедут на эту улицу? Переглянулись и Трофимов с Анной. Она уже изнемогала от беспокойства: скоро проснется Верочка. Ах, надо ли еще мотаться по городу!
— Не поехать ли нам прямо домой? — предложила она. — А друзей своих мы потом соберем. Я что-то очень устала.
Дубровинский понял намек. Великолепно. На Саратовской всегда можно перехватить другого извозчика. А сойти все же надо где-нибудь, не доезжая до резновского дома.
— Выезжай на Саратовскую! — приказал он извозчику. — А там я покажу куда. Лидочка, извини, мы тебя с Павлом Семенычем действительно замотали.
На Саратовскую выехали со стороны Успенской. Номера домов все нарастали. Скоро будет № 108, дом Резнова. Осталось, пожалуй, квартала три…
— Поворачивай направо! — Дубровинский облюбовал красивый деревянный особнячок. — Вот и наш дом. Приехали! Павел Семеныч, расплачивайтесь, ваша очередь. Лидочка, дорогая, руку дай!
Они постояли у калитки, делая вид, что все еще продолжают свою веселую болтовню и потому не входят во двор, а когда извозчик скрылся за углом, Трофимов виновато проговорил:
— Нельзя мне, Иосиф Федорович, такие дела поручать. Какую ужасную ошибку я допустил! Не приди вы на помощь, не знаю, чем бы все это кончилось.
— Ошибки только вы один делаете? — спросил Дубровинский. — И часто?
— Не знаю, но сегодня я понял: наверно, только я один, — с искренним огорчением ответил Трофимов.
— Хвалить сегодня я вас не могу. Но и бранить тоже. Сколько товарищей наших в тюрьмах сидят, в ссылках томятся. А почему? Каждый из них сделал ошибку. Мы сегодня выпутались из беды, значит, ошибки не сделали. А урок получили хороший. Берите корзину и несите Резнову. Номер дома вы знаете. Долго стоять нам здесь на одном месте негоже. На Саратовскую выйдем все врозь, редкой цепочкой, вы посередине. А потом мы с Анной подхватим лихача и — к себе. Только дайте еще немного денег взаймы.
Дома у них в полном отчаянии бегал Бобров с Верочкой на руках. Она проснулась вскоре после ухода родителей, то и дело пачкала пеленки, и, когда оставленный Боброву их запас почти весь иссяк, ему стало не по себе. Что делать, если Дубровинских схватила полиция? У ребенка животик болит, ему есть хочется…
Это было по-настоящему смешно. Но в то же время по-настоящему и грустно.
Бобров ушел, Верочка на материнских руках успокоилась сразу, ее обмыли, покормили. А потом целую ночь напролет разговаривали. Вдруг по-особому ясной предстала сложность их нового бытия. Случись, действительно арестовали бы их — что сталось бы с Верочкой? А если привезти сюда еще и Таленьку?
Заколдованный круг замыкался. Рискуя собой — любой из них, — они в еще большей степени рискуют детьми.
7
Чемодан был не очень тяжелый. Но когда Книпович спрыгнула с подножки вагона, повисшей довольно высоко над станционной платформой и потянула из тамбура чемодан на себя, у нее вдруг поплыла земля под ногами, закружилась голова. Лидия Михайловна ухватилась за поручень, пытаясь удержаться, не упасть под колеса. Спускавшийся вслед плечистый, розовощекий парень в поддевке и картузе с лаковым козырьком успел подставить ей плечо, и чемодан ударился углом о землю, и накладной замочек на нем открылся. Крышка приподнялась.
— Эка незадача! — проговорил парень. — Хорошая вещь повредилась. А ты как, мамаша, сама-то не шибко поцарапалась?
Она боялась отпустить поручень вагона. Звенело в ушах. Багровые пятна туманили зрение.
Так было с нею лет семь назад в петербургских «Крестах» после длительных, выматывающих душу допросов. Тогда ее положили в тюремную больницу и врач сказал: «Нервное перенапряжение высшей степени. Этак недолго винтикам и совсем разойтись, — пальцем повертел у виска. — Отпустят вас на свободу, совет настоятельный: ведите спокойный образ жизни. Дом, семья и ни-ни». Но потом, когда отпустили, был и новый арест, и та же тюрьма, и выматывающие душу допросы, и четыре года астраханской ссылки, и города Самара, Петербург, Екатеринослав, и снова Астрахань, и, наконец, Полтава и Тверь — словом, самый обычный образ жизни революционера — без дома, без семьи. И ничего, держалась, «винтики» не расходились. Что же это сейчас так шатнуло?
— Спасибо, человек хороший, я не ушиблась, — с трудом выговорила она, не сводя глаз с чемодана. — А ты не помог бы закрыть его? Видишь, как ощерился! Мне бы только до извозчика донести.
— Чего же не закрыть, если насовсем замок не сломался, — с готовностью отозвался парень. — Ты погодь, не отходи от вагона, мамаша. Или, лучше еще, присядь на платформу, а я мигом.
Кинув на землю болтавшуюся у него на руке холщовую котомку с какими-то пожитками, парень занялся чемоданом. Вытащил из кармана нож-складничок и стал ковырять им замок.
Лидия Михайловна между тем со страхом следила, как, вышагивая мерно по платформе, к нему приближается молодцеватый жандарм.
В чемодане опасного ничего нет. Но только в том случае, если при ударе не образовалось какого-нибудь изъяна, выдающего второе дно. А там — под видом каких-то проектов — гектографированные резолюции съезда, ее собственные, хотя и сделанные эзоповским языком, памятные записи, словом, все необходимое для действенной пропагандистской работы. Что нужно этому жандарму? Праздное любопытство или определенная подсказка филера ведет его сюда? Как поступить? Убежать она все равно не сможет, в ушах звон и ноги ватные, да и пассажиры разошлись, в толпе не затеряешься. По существу, сейчас только трое остались на оголенной платформе: она, заботливый парень и этот выщелкивающий свои медленные шаги жандарм.
— Ну-с, что за происшествие? — басовито спросил жандарм, становясь за спиной парня.
— Нахалы! Толкнули в спину мамашу, чемодан из тамбура и загремел. Слава богу, сама цела осталась, — ответил, не поднимая головы, парень. — А вы, почтеннейший, сапогом придавите крышку. Третьей руки мне не хватает. В шарнире замок разошелся. Стерженек обратно никак не могу втолкнуть.
— А в чемодане что?
— Что полагается!
— Покажь.
Парень глянул на жандарма из-под низу, проговорил сокрушенно:
— Женский предмет какой-нибудь в руках подержать захотелось? Э-эх! Да еще при мамаше? Ну, ройся, а я отвернусь.
Носком сапога жандарм откинул крышку чемодана. Скривился, понимая, что действительно трясти прямо на платформе какие-то тряпки зазорно, а заставить отнести все это для досмотра в дежурку нет оснований. Только всего и подозрений, что чемодан развалился? Тетка стоит у вагона больная, измученная. Стонов, нытья не оберешься. И окажешься тогда дурак дураком. Он молча, так же носком сапога, бросил крышку обратно, придавил ее всей ступней.
Провожая Книпович до извозчичьей стоянки, парень сказал сочувственно:
— Редко, поди, мамаша, ездишь. Вот она, голова-то, и закружилась с непривычки. Бывает! А как сейчас, отошла? Куда надо, доберешься одна?
— Доберусь. Спасибо! А это ты верно, домоседка я. В кои веки выбралась к дочери погостить, да и опозорилась.
— Это не позор! Ну, прощай, мамаша!
И подал ей руку.
Она улыбнулась ему ласково. Было что-то очень трогательное в слове «мамаша», которое парень произносил и почтительно, и гордо, и в то же время совершенно по-свойски. Перед глазами вдруг встала невероятно длинная дорога из Твери через Выборг, Гельсингфорс, Любек, Гамбург в Женеву, потом в Брюссель, в Лондон, опять в Женеву, оттуда через Берлин, Вильну, с короткой остановкой в Москве снова в Самару. А всего-то прошло полтора месяца. Как было голове не закружиться! И надо сразу же собираться к отъезду в Киев. Там нетерпеливо ждет делегатов съезда избранный заочно членом Центрального Комитета партии Глеб Кржижановский. Тут же переедут из Самары Мария Ильинична и Анна Ильинична. Работы — океан.
Извозчик в который раз, уже сердито, спрашивал: «Куда ехать?» Она очнулась, назвала адрес, близкий от явочной квартиры, и блаженно откинулась в легкой дреме, на кожаную подушку. Экипаж, покачиваясь на выбоинах дороги, мягко покатился. Зашелестели колеса.
«Эй, дяденька!» — врезался пронзительный мальчишечий голос.
И Книпович бессознательно подалась вперед, чтобы остановить извозчика. Он удивленно оглянулся.
— Нет, нет! Поезжайте! Это я просто так.
Ей стало смешно. На съезде она значилась делегатом от Северного союза под кличкой «Дедов», а Владимир Ильич в своем кругу, шутя, называл ее «Дяденькой». И это ей понравилось, стало привычным, как будто и на самом деле она для всех была уже не «тетенькой», а «дяденькой».
Да, но голова-то закружилась, пожалуй, не столько от длительной езды, сколько от напряженной обстановки на съезде, от духовного соучастия в той борьбе, которую вел со своими противниками Владимир Ильич, вот уже подлинно не знающий усталости человек. Сколько раз в этой борьбе всяческие крикуны, прожигая Ленина злыми глазами, считали себя победителями, но все-таки в конце концов истинным победителем вышел он. Не по протокольным записям съезда, не по ореолу исключительности положения в партии, который все время витал над головой Плеханова, а по силе аргументации, по тактической гибкости и в то же время принципиальной стойкости.
Сквозь дрему Книпович виделось лицо Владимира Ильича, то сосредоточенно-деловитое, даже суровое, то пышущее страстью и гневом, то бесконечно усталое, посеревшее от бессонных ночей, но никогда не желчное, не злорадное, не кривящееся в самодовольной усмешке, как у Мартова или Троцкого, когда те в моменты наиболее острых схваток взбегали на трибуну.
А рабочий паренек, который так славно помог ей у вагона, добродушно полагая, что имеет дело с совсем неловкой, из дому боящейся выйти «мамашей», вот подивился бы, узнав, где она побывала и какая забота лежит сейчас у нее на плечах. Забота немалая: выступить самой в кругу самарских искровцев, но сперва договориться с Дубровинским, чтобы он также объехал несколько городов с рассказом о состоявшемся съезде, и объехал бы как можно скорее, пока там не побывали со своими фальшивками мартовцы.
Она было совсем задремала, разморенная ласковым осенним теплом и монотонным поскрипыванием рессор экипажа, но тут потянулись знакомые окраинные улочки с покосившимися от времени домами, возле которых, словно в деревне, копошились куры, разбрасывая лапами мелкий мусор.
Тишина. Покой. Какая-то оцепенелость. Совсем не то, что осталось где-то там, позади. Первое, что надо сделать, послать за Дубровинским. А пока он придет, разобраться в своих записях и прежде всего покопаться в памяти. До чего же все спрессовано! И главное и второстепенное.
Елена Павловна, хозяйка явочной квартиры, встретила ее радушно, как давнего доброго друга. Помогла умыться и потащила во двор пузатый медный самовар.
— Там, на вольном воздухе, скипячу. А за кем, говоришь, Егорушку мне спосылать?
Она овдовела два года назад — муж, сцепщик вагонов, попал нечаянно под паровоз — и души не чаяла в своем единственном сыне. Лидия Михайловна хорошо знала эту семью. Очень надежные люди. А Егорушка, хотя и подросток еще, ну просто прирожденный конспиратор. Ему — намек, и он все сделает как надо.
Дубровинский пришел на закате солнца, когда Книпович и переоделась, и попила чайку, и вскрыла второе дно у чемодана. Она сидела и разбиралась в своих кабалистических заметках.
— Лидия Михайловна! Откуда вы? Свежая, сияющая!
В простом, может быть, даже несколько простоватом лице Книпович для Дубровинского было всегда что-то особо подкупающее. И говорить с ней легко. Можно и пошутить и отвлечься в сторону, а если нужно очень всерьез — так всерьез по-настоящему.
— Это я-то свежая? — расхохоталась Лидия Михайловна. — Да я, дорогой мой Иосиф Федорович, так измотана, что на себя в зеркало поглядеть боюсь. Это вам с яркого уличного света показалось. Но все равно принимаю, чтобы не спорить нам. Да и уставать-то, правду сказать, недосуг. Вам я сейчас тоже такое поручение дам, что всякую вялость, коли завелась, как рукой снимет. Прямо со съезда я, Иосиф Федорович!
— Так я и понял! Но…
Он оглянулся. В комнате с невысоким беленым потолком, сплошь у окон заставленной домашними цветами, кроме них, не было никого. Дверь прикрыта. Из-за нее глухо доносился равномерный стук. Должно быть, хозяйка на кухне рубелем катала белье. А Егорушка носился по улице — выполнял свои сторожевые обязанности.
— Вы уже о съезде что-нибудь слышали? — спросила Книпович. — По глазам вижу: да! Но сперва большой вам привет от Крупской. А как здесь Ульяновы? Как Мария Александровна? Если бы вы знали, как Владимир Ильич по ней скучает! Не сегодня-завтра сюда должен приехать Дмитрий Ильич. Мы ведь ехали в Самару разными путями.
— Спасибо за добрые слова, Лидия Михайловна! Особенно за привет от Надежды Константиновны, с ней лично я ведь еще незнаком. Все Ульяновы, знаю, живы, здоровы. Но не томите, Лидия Михайловна!
— Для того и позвала вас. Трудный будет рассказ. И трудная для нас всех работа. Вы-то что и от кого уже слышали? — Книпович подперла щеку рукой, озабоченно вглядываясь в Дубровинского.
— Разные слухи по Самаре ползут. Ими и пренебречь бы, — ответил Дубровинский. — Но на днях получил я из Таганрога письмо от Мошинского. Он же был делегатом! Письмо очень короткое, но ворчливое. Пишет: произошел на съезде раскол и в этом расколе больше других повинен Ленин.
— Чья бы коровка мычала, а его бы молчала! — воскликнула Книпович. — Ну не зря Владимир Ильич зачислил его в «болото» вместе с некоторыми другими!
— Как — в болото? — не понял Дубровинский.
— А так! Вертелись эти голубчики то туда, то сюда. Вроде бы центр, беспристрастность, а на деле «болото». Обопрись на них — и сам в трясину провалишься. Правду сказать, поддерживал Мошинский и правильные позиции. Ленину даже приходилось от бундовцев его защищать. А как дошло до самой острой борьбы, он к мартовцам переметнулся.
— Значит, на съезде действительно произошел раскол? — с волнением спросил Дубровинский.
— Раскол! Раскол! — повторила Книпович. — Да, конечно. Я не сильна в этимологии. Для меня это слово звучит скорее как «откол». Хотя, в общем, что в лоб, что по лбу! Словом, наше, искровское, направление оказалось в большинстве, а от него, нет, все-таки откололись — именно откололись — мартовцы.
— И опять я не понимаю, Лидия Михайловна! Что значит, «мартовцы»? — проговорил Дубровинский, потирая лоб. — Ведь Мартов — тоже один из редакторов «Искры». Он всегда писал очень хорошие статьи.
— Друг мой! Это я виновата. Не могу говорить по порядку. Все еще кипят во мне съездовские страсти. А вы здесь, на месте, конечно, живете совсем другими представлениями. Буду стараться не забегать вперед.
— Нет, забегите, Лидия Михайловна! Хотя бы только в одном забегите! — Дубровинский поддался ее возбужденному настроению. — Есть у нас все же после съезда единая партия? Или их стало две? Или вообще нет никакой партии, снова только кружковщина и кто во что горазд?
— Есть у нас партия! — торжественно сказала Книпович. — Та самая, которая была провозглашена пять лет назад. И теперь она приняла свою программу, Устав, ряд важнейших резолюций. Съезд дает нашим местным организациям прямые указания к действию.
— Тогда почему же раскол? Кто они такие — отколовшиеся? Чего они хотят? И как же: откололись — и остались в партии? Ведь эти понятия взаимно исключаются одно другим!
Нет, никак не получался у Книпович спокойный и последовательный рассказ. То срывалась сама она, то сбивал ее своими нетерпеливыми вопросами Дубровинский.
— Есть и такие, Иосиф Федорович, что совсем отделились, это бундовцы. Им хотелось иметь государство в государстве, быть едиными представителями еврейского пролетариата. Вы только вообразите! Трое активных, сознательных рабочих на одном заводе: русский, татарин и еврей. Готовится забастовка. Русский и татарин советуются с комитетом РСДРП, еврей — с бундовской организацией!
— Чистейшей воды сионизм! Бундовцы и всегда-то твердили, что автономия их не устраивает. Им нужна, видите ли, федерация.
— А на съезде они этот вопрос поставили ребром: или — или. Никто, конечно, их требований не поддержал, и они ушли. Вполне официально. Съезд мог только выразить свое сожаление. Ведь этим нанесен тягчайший ущерб делу объединения всех революционных сил. Бундовцы и откололись и не остались — поначалу-то они признавали общепартийную программу, принятую всем съездом. Но оказались и другие, тоже признавшие общепартийную программу, а потом все время яростно боровшиеся против самого главного, чего добивался на съезде Владимир Ильич. Они остались в партии, потому что надеются взять верх. Их меньше, нас больше. Мы, твердые искровцы, знаем: у нас во главе Ленин. А у них — я даже и не представляю, кто со временем выйдет вперед. Может быть, Мартов, может быть, Троцкий. Сейчас, похоже, Мартов.
За окнами постепенно сгущались сумерки. Тихая улочка совсем замерла. Егорушка, собрав еще нескольких мальчишек, расчертил на пыльной дороге «классики». Ребята увлеченно прыгали на одной ножке, выбивая глиняный черепок из одной клетки в другую.
Дубровинский сидел, стиснув виски ладонями. Рассказ Книпович отозвался у него в душе острой болью. Да как же это можно: раскалывать партию на две противоборствующие силы, когда перед нею жестокий и неумолимый противник — самодержавие, капитал, — жаждущий именно этого! И конечно же рабочие массы теперь частью пойдут за большинством партии, частью за меньшинством, как идут, например, за зубатовцами. В чем же все-таки глубинная причина раскола? Он поднял помрачневший взгляд на Книпович.
— Вы ждете ответа: чего же хотят мартовцы, если они полностью признали общепартийную программу, разработанную Владимиром Ильичем? Мне трудно сказать. Это слепота, непонимание или хуже — искренняя убежденность. Но ведь тогда… — Книпович непроизвольно повторила жест Дубровинского, стиснула ладонями виски. — Словом, резкая разница во взглядах, Иосиф Федорович, определилась, когда мы стали обсуждать Устав. Программа партии, понятно, это программа ее борьбы, ее и далекие и первоочередные цели. И тут бывали временами злые споры, но в целом она не вызвала сомнений. Газета «Искра», брошюра Ленина «Что делать?» людей хорошо подготовили. Но что же такое сама партия? Из кого она состоит? Устав — не двухпудовый трактат, где в море слов можно утопить самую главную мысль. Здесь иногда требуется всего лишь одна или две фразы, но настолько чеканных, что превратно их истолковать было бы уже никак невозможно. И я просто диву даюсь, как Владимиру Ильичу удалось это сделать, — Книпович взяла со стола свои заметки. — Вот параграф первый: «Членом РСДРП считается всякий, принимающий ее программу, поддерживающий партию материальными средствами и оказывающий ей регулярное личное содействие под руководством одной из ее организаций». Вам хотелось бы изменить эту формулировку?
Дубровинский задумался. Несколько раз, чуть не по слогам, вполголоса повторил то, что прочитала Книпович. Спросил с недоумением:
— Неужели так сформулировал Владимир Ильич? Вы прочитали точно? Понимаете, как-то расплывчато…
— Ну так предлагайте другое! Я ведь об этом вас и просила. Что именно здесь вы находите неверным?
Опять наступило молчание. Дубровинский поглаживал усы. Не разводя пальцы, как обычно, на обе стороны, а поглаживая поочередно, то правый, то левый ус.
— Что же вы? — нетерпеливо спросила Книпович.
— Не могу сразу ответить, — с запинкой проговорил Дубровинский. — Первая мысль у меня была: это не Владимир Ильич. Он же всегда в своих статьях так предельно ясен. Но если вы утверждаете… Ну… Тогда, вероятно, были основания для споров… Членов партии я здесь еще вижу, а самой партии, состоящей из таких членов партии, простите… как-то нет… Надо бы Владимиру Ильичу с его особенным слогом, пожалуй…
— Что — «надо бы»? Споры были жаркие, злые, но формулировка все-таки принята съездом!
Дубровинский молча смотрел в сторону. Поглаживал усы.
— Тогда вам, может быть, лучше нравится это? — с иронией спросила Книпович: — «Членом партии считается всякий, признающий ее программу и поддерживающий партию как материальными средствами, так и личным участием в одной из партийных организаций».
В дверь постучала Елена Павловна, спросила, не закрыть ли ставни. Темнеет. Можно будет свет зажечь. А Егорушка на улице поиграет. Книпович поднялась, чтобы переставить с подоконника лампу на стол. Встал и Дубровинский.
— Вы знаете, насколько я всегда откровенен с вами, Лидия Михайловна, — проговорил он, немного нервными движениями рук оправляя рубашку под тугим ремешком. — И кажется, во мнениях мы с вами тоже никогда не расходились. Буду честен: мне действительно больше нравится вторая формулировка. Тут есть определенность, сжатость, сила. И в самих словах и в той мысли, что стоит за этими словами. Чувствуется четкая организованность, дисциплина. Я, право, не понимаю, отчего бы…
Держа в одной руке ламповое стекло и коробок со спичками, а другой изловчаясь спичкой чиркнуть по нему, Книпович горько расхохоталась.
— …отчего бы Владимиру Ильичу не согласиться с такой формулировкой? — быстро добавила она. — Дорогой друг, теперь вы простите меня! Я ввела вас во искушение. Именно эта формулировка была предложена Лениным и отвергнута съездом.
— Как?! — только и смог вымолвить Дубровинский.
— Да, вот так. И мне отрадно знать, что ваша постоянная деликатность по отношению ко мне и убежденность в правильности того, что делает Владимир Ильич, не помешали вам оценить эту маленькую провокацию по существу.
— Жестокая проверка.
— Ну, не сердитесь! Долго, даже в шутку, я все равно не смогла бы вас мистифицировать.
— Да, здесь не до шуток.
Засветился ровный желтенький огонек лампы. Книпович в раздражении швырнула спичечный коробок так, что тот скользнул по столу и упал на пол.
— Инциденты и инцидентики, конечно, были и до этого, — сказала она, — народ собрался шумный, боевой. Все взвинчены опасными переездами через границу, мотаниями по разным странам и городам. Ведь начинали в Брюсселе, а закончили в Лондоне. И обстановка работы весьма своеобразная. Торжественное открытие съезда. Волнующая речь Плеханова. И все это в пыльном складе, воняющем шерстью, старым тряпьем и с адовыми полчищами блох. За каждым делегатом по пятам, как комнатные собачки за хозяйками, ходят полицейские или переодетые сыщики. Думалось поначалу, вот это все и сказывается на настроениях. Дерганье какое-то. Владимир Ильич нас, искровцев, еще в Женеве собирал и предупреждал, что некоторых принципиальных разногласий нам все равно не миновать. Предвестники этого появились уже на выборах бюро по руководству съездом. Ленин предложил избрать три человека, Мартов — девять. Владимир Ильич боролся за деловитость, дисциплину, а Мартову нужна была показная щедрость во всем. Программу приняли искровскую, я говорила, а сколько было баталий! Троцкий вился ужом, восставая против включения пункта о диктатуре пролетариата. «Экономистам» хотелось все свести к стихийности рабочего движения — партия лишь на подхвате. Кое-кто начисто отвергал крестьянство как революционную силу. Поляки и бундовцы запутывали вопрос о праве наций на самоопределение. Но обошлось. Владимир Ильич здесь вышел полным победителем. Вы бы видели его в деле! Какая неотразимая логика! А Мартов изнемогал от желания взять крупный реванш. Делегаты уже хорошо понимали: Плеханов — генерал, а бои, самые тяжелые бои ведет Ленин. Мартов же — совсем не главная фигура съезда. Вот он тогда в противовес внесенному Лениным проекту Устава и предложил свой в нем параграф первый…
— Так что это было — просто личным выпадом или особой, мартовской, теорией? — не выдержал Дубровинский. Он зримо представлял себя участником съезда, и ему хотелось вырваться на трибуну и бросить в бурлящий страстями зал спокойные (иначе говорить он не умел), спокойные, но убеждающие слова в поддержку Ленина.
— Ужаснее всего бывает, когда неверная теория соединяется еще и с личной неприязнью, — ответила Книпович, тоже вся во власти своих переживаний на съезде. — А Мартов ведь красноречив. У него было много не менее красноречивых союзников. И совсем не красноречивых, но готовых голосовать вместе с ним, если Мартову нужно было нанести удар нам, твердым искровцам. Боюсь оказаться недоброй вещуньей, Иосиф Федорович, но в этом долгом и остром споре Мартов показал, что никогда уже не станет, как был, нашим единомышленником. Он жаждет иметь в России какую-то другую партию. Совсем не ту, за которую борется Владимир Ильич. А называть ее тем не менее хочет тоже социал-демократической и рабочей партией.
— Открыть двери в партию всем, без всяких обязательств перед нею, без твердой партийной дисциплины, — угрюмо проговорил Дубровинский. — Какие пустые слова: «оказывающий ей регулярное личное содействие под руководством…» Значит, чтобы стать членом партии, не надо даже входить в партийную организацию. Достаточно оказывать партии «регулярное содействие». А что такое «регулярное»? И что такое «содействие»? Кто определит степень «содействия», если член партии не входит ни в какую партийную организацию? Всяк сам себе?
— У сторонников Мартова прорывалось желание во всем подражать западноевропейским социал-демократам. Сидеть в пивных, потягивать сей сладостный напиток и в полный голос беззаботно болтать о том, что хорошо бы добиться для рабочих поблажек от предпринимателей. А наши отечественные сипягины и плеве между тем будут преспокойненько ловить и сажать в тюрьмы таких, мартовских, социал-демократов.
— Мартовских-то социал-демократов, может быть, и оставят на свободе, — с прежней угрюмостью в голосе сказал Дубровинский. — А боевой, революционной партии пролетариата, какая видится всем нам, жить не дадут. Задушат. Если бы на Зубатова не обрушилась немилость царская, вижу, с какой радостью он приложил бы к этому свою ласковую и беспощадную руку. Ну, а уж членом «мартовской» партии, пожалуй, объявил бы и себя. Подумать только, как будет ликовать наше правительство, когда узнает все подробности о съезде!
— Их решено опубликовать — все резолюции и протоколы, — заявила Книпович. — Нам нет нужды таиться! Наша партия не заговорщики. Она борется с самодержавием в открытую. Конспирация необходима лишь для того, чтобы не погибали наши люди в тюрьмах и ссылках. Все будет опубликовано, как только делегаты съезда окажутся на местах и в полной безопасности.
— А сейчас?
— Сейчас мы должны вести пропаганду только устно. Объездить как можно больше городов, как можно больше провести встреч, митингов, собраний. Съезд состоялся! Вот что главное! — Она энергично взмахнула рукой. — Съезд принял программу, организационный Устав и еще ряд важных резолюций. Об этом надо рассказывать честно, правдиво, зная, что мартовцы тоже не будут терять времени. И, кстати, я не уверена, что они даже по-своему станут рассказывать честно.
Лампа немного коптила. Дубровинский привернул фитиль. В комнате пахло теплым керосином. От этого давящего запаха постукивало в висках. Книпович устало поправляла прическу, заводила за уши выбившиеся пряди уже седеющих волос.
— Мы все привыкли читать «Искру», — проговорил Дубровинский. — Она и теперь, после съезда, будет направлять нашу работу?
— Да. Ее политическая линия одобрена, и газета объявлена центральным органом партии. Больше того, в состав редакции избраны Плеханов, Ленин… Но я не могу остановиться… и Мартов…
— Мартов? После всего этого!
— А что было делать, Иосиф Федорович? Выборы в редакцию «Искры», в Центральный Комитет и Совет партии походили бог весть на что. Кричали. Перебивали друг друга. Вскакивали с мест. Свистели, шикали, бешено аплодировали. Выступали с заявлениями и тут же отказывались от них. Даже великолепный, остроумный Плеханов терялся. В старой редакции «Искры» было шесть человек, но — знают же все — Аксельрод, Засулич и Старовер совсем не работали. Еще в начале съезда Владимир Ильич условился с Мартовым, что в новой редакции достаточно троих, действительно работающих. А когда дело дошло до выборов, Мартов от слов своих отрекся. Понял, что в редакции он окажется один против двоих. И потребовал сохранить прежнюю шестерку. Тогда-то, наоборот, их будет четверо против двоих! Иосиф Федорович, это было жалкое зрелище, когда он выступал! А ему еще подыгрывал Троцкий. Но выборы все же состоялись. Выбрали не «шестерку», а «тройку». И знаете что? Мартов тогда выкинул новую штучку — отказался! Гадко, оскорбительно отказался. Заявил, что вся партийная власть теперь передается Плеханову и Ленину, а он не желает состоять при них в качестве «третьего». — Книпович перевела дыхание. — Вы можете быть удовлетворены, Иосиф Федорович, Мартова в редакцию «Искры» выбрали, но Мартова в редакции нет.
— Я удовлетворен!
— Ах, если бы на этом все и кончилось! Но предстояли ведь еще выборы Центрального Комитета и пятого члена Совета партии. Мартов с Троцким и тут постарались внести сумятицу и нервозность. Правда, их союзников, бундовцев и двух «экономистов», на съезде уже не было. Мартовцы оказались в меньшинстве. И результаты выборов хороши, избраны именно те, кому доверяет наше большинство. Но и на этом все не закончилось!
— Что же было еще?! — Дубровинский опять помрачнел.
— Что еще будет — вот вопрос! А было… Тоже порой и кричали и спорили. И разделялись голоса, когда принимали резолюции. О них в подробностях я вам потом расскажу. Существенно то, что съезд состоялся, заключительную речь Плеханов произнес под общие аплодисменты, а борьба с мартовцами будет продолжаться. И мне кажется, неизвестно, сколь долго и с какой жестокой степенью обострения. Мартов публично, в полный голос заявил: «Все решения законны. Меньшинство подчиняется всем постановлениям съезда». Это было там. И на словах. А что будет здесь? И на деле?
Дубровинский задумчиво тер лоб рукой. Слабый свет лампы бросал серые тени от руки на его впалые щеки.
— Ужасно! — вполголоса пробормотал он. — Ужасно, что не нашлось пути к общему согласию. Может быть, следовало поспорить лишний день, разобраться поглубже во всех противоречиях?
— Нет. Каждый дополнительный день только усугублял бы противоречия, — возразила Книпович. — Мартов закусил удила, Владимир Ильич одно время был до того потрясен его поведением, что просто заболел. Решил и сам отказаться во имя общего согласия — не входить в состав редакции. Нам пришлось уговаривать его. Он не выступил с таким заявлением. Но пойди Владимир Ильич на этот шаг, Мартов-то немедленно взял бы свои слова обратно! И «Искра» — целиком в его руках. Он тотчас же ввел бы туда прежнюю группу редакторов. А одного Плеханова они вчетвером как-нибудь смяли бы.
— Выйти Ленину из редакции? Что вы, Лидия Михайловна! Этого у меня и в уме не было! Возможен другой вариант…
— А какой же другой, если не отдавать руководство партии меньшинству? — перебила Книпович. — Ведь сразу же по окончании съезда Владимир Ильич вместе с Плехановым предложили Мартову вернуться в редакцию. Да, да, со всей его свитой! Черт с ними! Даже на это пошли! Поставили только единственное условие, чтобы в Совет партии от «Искры» из числа двух ее представителей хотя бы один обязательно принадлежал к большинству. Так Мартов и на это не согласился. Ему хотелось полностью захватить в свои руки и Совет партии!
— Ужасно! Ужасно! — повторял Дубровинский. — Это хуже, чем открытый разрыв с партией. Но вы ничего не сказали, Лидия Михайловна, о Центральном Комитете и Совете партии.
— Центральный Комитет — это строго конспиративно. В отличие от «Искры» ему ведь придется работать главным образом в России, под бдительным оком полиции. Поэтому из числа трех товарищей, избранных в его состав, названа была только одна фамилия. Того, кто находился уже за границей. Это Глебов. — Книпович улыбнулась доверительно. — А для нас с вами — Носков. О нем я вам раньше рассказывала. Он, как и вы, занимался транспортом «Искры», только через другую границу. Второй член Центрального Комитета — Кржижановский. Его вы хорошо знаете. И с вами я говорю уже по его поручению, считая вас теперь агентом ЦК…
Книпович протянула руку. Дубровинский без слов крепко пожал.
— Третий — Ленгник. Членам ЦК партийное большинство вполне доверяет, — продолжала Лидия Михайловна. — Это были наши кандидатуры. А о Совете партии… Он безусловно останется за границей. Его основная задача: согласовывать и объединять деятельность ЦК и редакции центрального органа. Восстанавливать их состав, если он полностью выбывает. Понимаете, аресты и другие причины… В него входят по два представителя от ЦК и от «Искры». А пятый, тот, что избран на съезде, — Плеханов. Теперь вам ясно, почему Мартов не принял предложения Ленина?
— Больше чем ясно!
— Следовательно?
— Надо ездить, ездить, рассказывать правду! — Глаза Дубровинского горели живым огоньком. — Если я гожусь, если мне будет доверено, я готов поехать куда только потребуется.
— Доверено, Иосиф Федорович. Это как раз мне и поручено передать вам. Напоминаю: в вашем будущем рассказе о съезде может называться только одна фамилия из числа избранных членов ЦК — фамилия Глебова. Сам съезд — для всех — состоялся в Париже. Дата не имеет значения… Конспирация!
— А если мартовцы, побывав где-либо раньше меня, уже все расконспирируют?
— Тогда это чистое предательство! Все делегаты связаны словом рассказывать одинаково. Разве что — провокаторы? Товарищи из Московского Комитета приводили потрясающие факты зубатовской хватки. Называли даже несколько имен подлецов, причастных к провалу «Рабочего союза». Но, кажется, к нам на съезд провокаторы никак не могли проникнуть.
Дубровинский пожал плечами.
— Что касается зубатовского мастерства выслеживать — в нем я не сомневаюсь. Точно, выслежен его филерами и «Рабочий союз». А провокаторов, как говорите вы, в нашем окружении, я убежден, не было. И вообще в существование этих злых духов я верю весьма приблизительно. Не попадались мне. Настоящего черта всегда можно узнать по копытам, хвосту и рогам.
— Вы очень доверчивы, Иосиф Федорович! Прошу, относитесь к возможностям провокаторства серьезнее.
— Постараюсь, Лидия Михайловна! Куда я должен направиться прежде всего?
— Прежде всего, как только подъедут остальные делегаты, нужно здесь провести совещание. А потом поезжайте в Курск, в Орел, в Брянск, в Калугу, в хорошо знакомые места. Вам ничто не мешает это сделать? Здоровье? Семья?
— Я здоров как бык. А семья никогда и ни в чем не была мне помехой.
Они попрощались. На скамеечке у ворот сидел Егорушка, побалтывая ногами. Заметив вышедшего на улицу Дубровинского, мальчик игриво махнул ему рукой: иди, мол, дядя, все спокойно. Сам юркнул в калитку — должно быть, порядком продрог.
Ночной холодок сразу охватил и Дубровинского. Он пожалел, что не взял с собой летнее пальто. Похвалиться-то похвалился, что здоров как бык, а зябнет, будто дряхлый старикашка. Так и ползает по телу колючая дрожь. Туберкулезное обострение? А может быть, следствие разговора с Книпович? Он так подумал, и дрожь усилилась. Да, это нервы!
Итак, впереди долгая и трудная борьба. К эсерам, «экономистам», бундовцам, рабочедельцам теперь прибавились еще мартовцы. И они не какая-нибудь заноза, а тяжелый топор, расщепивший живое дерево партии. Ну что же: драться так драться!
Занятый этими думами, Дубровинский все убыстрял свой шаг, хотя при быстрой ходьбе у него всегда как-то теснило в груди. Он разогрелся, распахнул пиджачок. До дому путь был не близкий. И хорошо размышлялось так, в одиночестве. Никто ему не мешал. Разве лишь из иной подворотни затявкает собака.
Перебирая в памяти взволнованный, не очень-то последовательный рассказ Книпович о съезде, Дубровинский шел и составлял для себя расписание поездок, внутренне счастливый тем, что эти поездки — поручение Центрального Комитета партии своему агенту. И еще тем счастливый, что ныне он может ехать уже нестесненно, если сумеет, даже и без плетущегося по пятам филера. Ехать, куда ему только будет угодно… Хоть и в Москву и в Петербург! Пусть с риском, что поймают и вновь…
Вдруг обожгла мысль: «А как же Аня с Верочкой?»
Подсказка собственной совести — не стать домоседом — теперь превратилась в директиву партии. Да, да, мудрить больше нечего. В Самаре с ребенком оставаться Ане одной невозможно. И в Орел к родным ей надо ехать не в гости, а насовсем. В гости, может быть, иногда он сам будет наведываться к ним. Только так.
И острой болью защемило сердце: а часто ли судьба дарует ему такую возможность…
8
Еще со школьных лет он полюбил поезда, вокзальную сутолоку. Паровозы казались ему живыми. Они жарко дышали дымом и паром, блестящими поршнями, словно руками, прилежно крутили колеса, а на промежуточных станциях подбегали к высоким колонкам, из свисающих сверху широких труб, захлебываясь, пили студеную воду. В вагонах хорошо спалось и хорошо думалось, особенно на второй полке, — никто не мешал, не садился на ноги. Днем, свесив голову, можно было подолгу глядеть в окно, любоваться на проплывающие мимо пашни и перелески. Нигде не была столь вкусной еда, как в вагоне. Порой хотелось показать свою удаль, у водогрейки наполнить чайник побыстрее, а потом тянуться вдоль состава медленным шажком с тем, чтобы вспрыгнуть на подножку, когда поезд уже начнет набирать скорость. И какие же всегда интересные встречи, разговоры в вагонах! Будто нарочно туда собираются люди с необыкновенной судьбой. Ах, дорога, дорога, как ты желанна, дорога!
За годы ссылки он очень стосковался по ней. Почти с детской, неосознанной радостью садился в поезда, увозившие его из Самары то в Саратов, то в Брянск, то в Калугу, в Курск, в Орел — в любые места, куда теперь призывали партийные обязанности. И хотя именно они заполняли все его думы, оставалось времечко и для того, чтобы беззаботно поваляться на полке, или, присоединившись к доброй компании, попивать горячий чаек.
В этот раз вагон мотало почему-то особенно сильно. От окна, от всего заплывшего ледяной коркой стекла дуло прямо в грудь. Дубровинский вертелся на жесткой полке, пытаясь заслониться от холода. Но кроме маленькой подушечки-думки — подарка матери — при нем ничего не было. А пальто не столь уж велико, чтобы его и подстелить под бок и накрыться им же. Надо было купить билет во второй класс, да показалось, что ночку-другую можно и так скоротать. К тому же он очень потратился, перевозя семью в Орел.
— Ты плюнь на все и появляйся у нас почаще, Ося! — просила тетя Саша, отправляя его в обратную дорогу и набивая сумку всяческой домашней снедью. — Этого тебе ни мать родная, ни супруга любезная, ни братья строгие не скажут. Потому что все они с высокими понятиями. Книги читают, которые и читать-то нельзя, и ходят туда, откуда не всегда люди домой возвращаются. А тетя Саша, она что? Она думает, как ей шляпку покрасивее сшить да побольше получить с заказчицы. И еще думает: хорошо, когда в доме весело.
Он поцеловал ее в тугие, налитые щеки. Ну, тетя Саша, тетя Саша! До чего же ты славная в своей простодушной воркотне. Книги такие, что читать нельзя, и вправду ты не читаешь, больше любишь Дюма, Диккенса, Мавра Йокаи. И ходить туда, откуда не всегда домой можно вернуться, тоже не ходишь. Но в шляпных коробках и в разных других тайничках сколько всякого понапрятано? Да и шляпки шьешь ты не ради корысти, все твои «прибыли» тратятся на «смутьянов» Дубровинских. Дери, дери, тетя Саша, за шляпки побольше с богатых заказчиц, деньги нужны на дело революции! Ну, а кто же не любит, когда в доме весело? При тебе всегда весело. Вот и держи, милая тетя, в доме этот теплый огонек!
Сон не приходил, и оттого ночь тянулась нескончаемо. Можно было только позавидовать густому храпу, доносившемуся с обоих концов вагона. А ведь и сам он, бывало, лишь бы повалиться на постель, все равно мягкую или жесткую, теплую или холодную, сразу засыпал как убитый.
Позевывая, с фонарем прошел кондуктор. Заметил, что Дубровинский лежит с открытыми глазами. Остановился возле него.
— Не спится, барин?
— Насчет барина не знаю, спится ему или не спится, а я вот что-то никак заснуть не могу, — отозвался Дубровинский.
— Виноват! — сказал кондуктор. — А по шапочке барашковой на голове посчитал я — не доктор ли?
— Болит что-нибудь?
— Так ведь оно какое же здоровье! Вот этак все на холоде да в тряске. Да я не к тому. — Он помялся, видимо, хотелось просто поговорить с интеллигентом, уяснить нечто ему непонятное. — Ростовские сказывали ребята, слух такой прошел, будто врачи в Москве на свой съезд собрались, а полиция их разогнала. Правда ли?
— Всех разгоняют, не только врачей. Чему же удивляться?
— Так ведь доктора — это дело-то какое! Они ведь о жизни людей заботятся. А тут, рассказывают, полиция привела военный оркестр: как заговорят они чего-то не то, махнет полицмейстер — музыка заиграет, говорить нельзя. Доктора от обиды в крик — опять музыка! Читать резолюцию стали, куды тут, когда медные трубы гремят. Так под марш веселый и проводили. По-благородному. Издевательство. Неужто правда?
— Истинная правда. — Дубровинский приподнялся на локоть. — Это был десятый пироговский съезд. Собрались самые знаменитости. Высказывали недовольство охраной здоровья, условиями, в каких содержатся больницы, особенно земские. Вот полиции и не понравилось, что правительство недобрым словом поминали.
— Они же ради жизни человеческой старались, — повторил кондуктор.
— А другие, кого полиция разгоняет да в тюрьмы сажает, те тоже разве не ради жизни человеческой стараются?
— Ну, это ежели вы про революцию, тут я…
Он приподнял фонарь, поправить в нем нагоревшую свечу, а сам украдкой бросил пристальный взгляд на своего собеседника. Нет, не филерский взгляд, осторожный — не перехватил ли, мол, сам чего в разговоре? Дубровинский это понял и хотел успокоить кондуктора, но тот щелкнул створкой фонаря и, даже не попрощавшись, зашагал по вагону.
«До чего же запуган народ! — подумал Дубровинский. — А наше слово все еще медленно до широкого круга доходит».
Ему припомнились свои поездки по подмосковным и приволжским социал-демократическим организациям с рассказом о Втором съезде партии. Везде слушали с затаенным дыханием. Радовались, что создана стройная система руководства революционной борьбой. Есть программа, Устав партии, избраны центральные органы. С гневом осуждали недостойную возню, что затеяли на съезде мартовцы. Все резолюции на этих собраниях были приняты в поддержку искровского направления — они посланы Ленину. Казалось, это общее мнение русских организаций заставит мартовцев отказаться от своих вывихов. Но вскоре выяснилось, что они в тех комитетах, от которых были посланы на съезд, протащили резолюции с безоговорочным признанием позиции меньшинства. Хуже того, через свою агентуру расшатывают сложившиеся мнения даже у сторонников большинства.
Дубровинский беспокойно закинул руки под голову, воротником прикрыл стынущую щеку. В памяти промелькнула другая картина. Поездка в Киев по срочному вызову Кржижановского.
Вызов нашел его в Курске. Именно в день, когда он после встречи с членами тамошнего комитета вернулся духовно разбитым. Не чувствовалось прежнего единодушия. Неясность положения всех угнетала. По рукам ходил гектографированный оттиск «Отчета сибирской делегации», написанного Троцким и в коренных своих положениях осуждавшего ход съезда.
Что означает вызов в Центральный Комитет?
Кроме Кржижановского, там оказался и второй член ЦК, тот самый, чья единственная фамилия была названа на съезде, — Глебов.
— Мы в своем кругу, знакомьтесь, — представил их друг другу Кржижановский, — Владимир Александрович Носков. А это один из наших наиболее деятельных агентов — Дубровинский Иосиф Федорович.
— Да, я знаю. Крупская самые похвальные слова о вас говорила. — Носков крепко пожал ему руку.
Как водится, сперва несколько минут поболтали, припомнили общих знакомых. Кржижановский посетовал, что Книпович больна и не сможет участвовать в разговоре. Вновь кооптированные члены русской части ЦК все в разъездах, ведут разъяснительную работу по итогам Второго съезда.
— Ну, а мы с Владимиром Александровичем только что вернулись из Женевы, и я, Иосиф Федорович, готов поделиться с вами наипоследнейшими известиями, ибо знаю, какое смятение здесь происходит в умах, — сказал он, весь так и светясь спокойной уверенностью. — Кстати, передаю вам привет от нового члена ЦК Гальперина, он вас помнит по Астрахани.
Дубровинскому тоже стало как-то легко. Похоже по всему, что Кржижановский с Носковым привезли добрые вести. Оба сидят, весело переглядываются.
— Глеб Максимилианович, не томите, — попросил Дубровинский. — Могу подтвердить, что смятение в умах приняло очень тревожный характер. В комитетах начинается грызня. Сверх «Отчета сибирской делегации», который читали многие, поговаривают еще о какой-то резолюции мартовцев…
— Знаю, знаю, — перебил Кржижановский, — резолюция тайного совещания семнадцати сторонников меньшинства. Не стесняясь, они объявляют себя оппозицией. Однако из партии не выходят. Рвутся переделать ее на свой лад, захватив командные посты. А для сего — бойкотировать Центральный орган, подчинить своему влиянию все местные организации и через них давить на ЦК, в общем, вытеснить большинство со всех занимаемых им позиций.
— Но ведь это в конечном счете непременно приведет к образованию двух партий! — воскликнул Дубровинский. — Принципиальные разногласия вынудят к этому.
— Принципиальное-то разногласие, собственно, одно: параграф первый Устава, — заметил Носков, по-волжски сильно окая. — Я был как раз в комиссии, которая занималась на съезде Уставом. Зубы изгрыз на этом.
— В том-то и штука, Иосиф Федорович, что не одни принципиальные, а и личные разногласия создали было столь тягостную обстановку. — Кржижановский посмеивался слегка сощуренными глазами.
— Вы говорите: «было»? — с недоумением спросил Дубровинский. — Как это понимать?
— А очень просто, — заявил Кржижановский. — Все удалось уладить. Мне не очень-то удобно выпячивать свою персону в присутствии Владимира Александровича, но, скажем скромнее, в этом деле мне просто повезло.
— Мое присутствие обязывает меня сказать, что мир между Лениным и Мартовым восстановлен только благодаря стараниям Глеба Максимилиановича, — поторопился Носков.
— Ах, если так, это же чудесно! Как говорится, гора с плеч! Но расскажите тогда подробнее, — попросил Дубровинский.
— Извольте! — охотно согласился Кржижановский. — Надо только при этом понять и Мартова. Не оправдать его, отнюдь нет, а только понять. В редакции «Искры» до съезда он работал ничуть не меньше Плеханова и Ленина. А ведь главенствовал-то там все же Плеханов — патриарх! А рядом с Плехановым — Ленин. Что ж, так и оставаться бесконечно на вторых ролях? Жестокий спор о первом параграфе Устава решился в его пользу. Вот он и почувствовал силу, перспективу занять ведущее место в партии. Коль так, это перешло на личности. Неумеренные слова, выражения. Какие только прилагательные с его стороны в ход не шли! В пылу страстей он даже обзывал Владимира Ильича Бонапартом, хотя, по правде, Ленин всегда носил обыкновенную, а вот сам Мартов действительно треугольную шляпу.
— Естественно, что Ленину при таких условиях разумнее было войти в ЦК и выйти из редакции «Искры», — вставил Носков.
— Видите ли, Иосиф Федорович, тут Плеханов, при величайшем к нему моем уважении, не очень изящно станцевал на проволоке, — продолжал Кржижановский. — Нами, всем обновленным составом ЦК, был выработан, резко сказать, ультиматум в лоб оппозиции. Смысл его: хорошо, забирайте к себе в редакцию обратно милую вам меньшевистскую четверку, получайте для оппозиции одно место и в Совете партии, кооптируйте двух своих в ЦК, то же самое и в администрацию Заграничной лиги; даже создавайте, если угодно, отдельную литературную группу с ее представительством на будущем съезде. Щедро ведь, да? А взамен — мир в партии и дружная работа. Так что бы вы думали? Георгий Валентинович пронюхал о готовящемся нами ультиматуме и в день, когда мы готовы были его послать, единолично кооптировал помянутую четверку! А отсюда редакция сразу и полностью в их руках и, по Уставу же, автоматически большинство в Совете. Зачем им после этого идти хотя бы на малейшие уступки? И на наш ультиматум они ответили так издевательски, что, право, язык не поворачивается цитировать что-нибудь из их письма.
— Простите, Глеб Максимилианович, мне не совсем понятно, что же тогда вам удалось уладить и почему у вас такое счастливое выражение лица? — спросил Дубровинский, невольно принимаясь поглаживать усы.
— А удалось мне то, что буквально через три дня после этой истории с ультиматумом Владимир Ильич и Мартов обменялись взаимными письменными заявлениями приблизительно одинакового характера. Не сомневаюсь, дескать, и не сомневался в добросовестности и искренности имярек и был бы рад убедиться, что обвинения, поднятые им против меня, покоились на недоразумении. Каково? А ведь Мартов было распалился так, что потребовал третейского суда над Владимиром Ильичем: он, мол, на съезде Заграничной лиги выставил меня лжецом и интриганом. А Владимир Ильич, в свою очередь, вызвал на этот суд Мартова, потому что Мартов действительно и лжец и интриган, да при этом еще возымел наглость первым взывать к суду. Теперь все это отпало, воцарился мир.
Недоумение не покидало Дубровинского. Какой-то странный мир! Ну, извинились друг перед другом за неумеренность в словах, а на каких же принципиальных позициях остался Мартов? Плеханов? И вся редакция «Искры»? Выяснены личные взаимоотношения, а борьба вокруг путей, по которым должна пойти партия после съезда, — эта борьба тоже теперь прекращается? На какой конкретно основе?
Он закидал Кржижановского своими вопросами. Тот выслушивал, удовлетворенно кивая головой, и во взгляде его было: да остановись же, бога ради, все так просто!
— Когда на Бородинском поле гремели пушки, мужик, одетый в солдатский мундир, выискивал противника, чтобы его убить. Когда над этим полем в голубом небе плывут спокойные облака, мужику должно браться за соху, борону и сеять хлеб. Вся наша пропаганда теперь должна быть пронизана ощущением наступающего мира в партии, а стало быть, и усилением наших возможностей в борьбе с самодержавием. А что касается принципиальных позиций, они уж не столь драматично расходятся, чтобы добрые друзья не смогли их согласовать.
И Кржижановский легко, свободно откинулся на спинку стула.
— А я мог бы, пожалуй, добавить то, что Крупская, разумеется, не конфликтуя с Лениным, пока продолжает работу в качестве секретаря редакции. Да и сам Владимир Ильич, выйдя из состава редакции, напечатал в «Искре» две статьи, — поспешно сказал Носков, зная, что Ленин после того прекратил все отношения с «Искрой» и что Крупская долго на работе в редакции никак не задержится.
— Словом, мир, мир, мир! — торжественно провозгласил Кржижановский. — А вам что, Иосиф Федорович, это разве не очень нравится?
— Мне это нравится больше всего, — ответил Дубровинский. — Самое радостное для меня — в партии мир. Ненавижу дрязги, склоку, возню вокруг священного нашего дела. Да, меня томили всяческие сомнения. Но теперь я окрылен.
— Вот и действуйте под таким настроением!
…Дубровинский повернулся на другой бок. Дьявольски дует из окна. Этак недолго простуду схватить. И не заснуть никак — все быстрее бы пролетело время. Какая холодная нынче зима! Даже в Ростове намело снегу, будто в Яранске. В вагоне ночью без сна тягуч каждый час. А вообще — годы летят… У какого-то поэта встретились строчки:
Годы летят, как бездомные птицы, В тщетных поисках света исчезают во мгле, Для чего лишний год на земле человеку томиться, Если ад все равно для него на земле?Интересно, все еще где-то томится сам этот поэт или добровольно ушел в мир иной? Никто так жадно за жизнь не цепляется, как воспеватели страданий, смерти, тлена. Еще любопытно: с особым смаком читаются вслух такие стихи не натощак и в одиночестве, а в большой, беззаботной компании, когда на столе стоит много вкусного, сытного, хмельного.
А хорошо бы сейчас выпить горячего чая! Пожевать чего-нибудь. Зря не запасся ничем в Ростове. Мошинский совал в карман пальто кусок копченой колбасы. И надо было взять. Но делал он это как-то очень уж покровительственно. Переменился Иосиф Николаевич, переменился, в Яранске был куда душевнее. Следовало ли ездить к нему? Поручения партии не было. По южным комитетам ездят другие. Но захотелось просто посоветоваться со старым товарищем. Говорят, старый друг лучше новых двух.
Дубровинский еще раз повернулся, подтянул ноги. Может, так будет теплее? Вагон бросало по-прежнему, частую дробь выбивали колеса на стыках рельсов.
Разговор с Мошинским был, конечно, полезен. Рассказ Книпович — одно. Кржижановского с Носковым — другое, Мошинского — третье, а взятое все вместе — четвертое. И это четвертое на языке математики называется приведением к одному знаменателю. А в числителе у Мошинского много: он руководитель эсдековского Союза горнозаводских рабочих, в его округе чуть ли не за сто шестьдесят тысяч шахтеров и металлургов, был делегатом съезда. Книпович рассказывала: все время колебался он то туда, то сюда — «болото». Напомнил ему об этом — Мошинский засмеялся:
— На съезде много было острословов. Это ленинское нежное словечко. Плеханов шпильки запускал потоньше. Троцкий играл словами, будто мячиками, а Мартов кусался зло, но тоже остроумно. Да что тут перечислять! Собрались умы! А «болото», на мой взгляд, — чистое, светлое озеро. Грязь-то оказалась на берегах. Драки не среди «болота», а на берегах происходили.
— Но прав-то был ведь Ленин!
— В докладе съезду я прямо написал, что мы свою организацию строим по плану ленинской книги «Что делать?», а с «Искрой» согласны абсолютно во всем, кроме разве того, что руководящим центром партии нельзя признать хотя и общерусскую газету, но издающуюся за границей.
— Так здесь же издавать ее нельзя! Прихлопнут сразу и всех сотрудничающих в ней пересажают.
— Газета издали — подспорье. А вся основная сила — на местах. Нам виднее, когда и что поддерживать, когда и что подталкивать, когда на время замирать. Центральный Комитет, безусловно, нужен, но с ограниченными правами, опять-таки исходя из принципа: больше автономии, больше свободы действий местам.
— И выйдет: «Однажды лебедь, рак да щука…»
— В вопросах партийного руководства, я полагаю, Юлий Осипович Мартов разбирается лучше, чем Иван Андреевич Крылов.
— Потому вы и голосовали за первый параграф Устава в редакции Мартова, хотя драка по этому поводу происходила на берегу, а вы были светлым, чистым озером?
— Видите ли, Иосиф Федорович, — уже с явным раздражением сказал Мошинский, — если бы Устав партии можно было полностью составить из басен Крылова, русских поговорок и хлестких образных словечек, так бы и сделали. Но даже великие мастера подобного острословия Плеханов и Ленин в этом случае говорили на деловом языке.
— И на деловом языке вы считаете, что прав был Мартов.
— Иначе я не голосовал бы вместе с ним.
— Но это привело к расколу партии!
— А почему Мартов должен был подчиниться Ленину?
— Иосиф Николаевич, это ведь тоже не деловой язык. Тогда можно спросить: а почему вы подчинились Мартову?
— Потому что как личность он мне нравится больше, чем Ленин. И формулировка Мартова мне нравится больше. Пролетариат, интеллигенция сами создают свою партию, и всяк, кто разделяет ее программу, ее взгляды, имеет право называть себя членом партии. А Ленину нужен строгий отбор, дисциплина, постоянная работа в партийной организации. Но конспиративная партия не земская управа, куда служащим необходимо приходить и уходить по часам, получая от казны жалованье. Даже самое малое, но добровольное содействие партии со стороны отдельных лиц обязывает нас считать их членами партии. Хотя бы за тот риск, который они несут.
— И подвергают во сто раз большему риску профессиональную часть партии.
Мошинский поднялся. Обнял за плечи. Просто, дружески, как это у них бывало часто в яранской ссылке.
— Иосиф Федорович, ну что это мы, право, как петухи, запрыгали друг перед другом, — проговорил он с легким укором. — Уж если Мартов и Ленин помирились, нам-то что с вами делить? Или согласие, которое воцарилось там, мы станем разрушать здесь? Ну посудите сами, что происходит на белом свете! Давно ли в Кишиневе разгромлена полицией тайная типография нашей «Искры»? Я подчеркиваю, Иосиф Федорович, нашей. Ибо нет другого печатного органа, который объединял бы всех социал-демократов вокруг себя. Суд по делу этой типографии был безмерно жестоким: товарищей приговорили к лишению всех прав состояния, пожизненной ссылке в Сибирь. И вот уже разгромлена Тифлисская организация, арестована вся редакция газеты «Квали». Тяжелые провалы в Екатеринославе. Правительство открыло гонения на земцев, узрело в их стремлениях некоторые признаки конституционности. Немецкая социал-демократическая фракция рейхстага делает официальный запрос о деятельности русской тайной полиции в Германии. Если дошло до запросов в парламенте, что же тогда повсюду за границей вытворяет агентура фон Плеве? В Женеве по его указке местные власти арестовали Бурцева и Красикова как анархистов. Женевское озеро, что ли, собирались эти «анархисты» взорвать?! Просто Бурцев пудами накапливал разоблачительный материал против действий охранки. Красиков же был делегатом и вице-председателем нашего съезда. Хороши «анархисты»! Их под арестом продержали, конечно, недолго, но смотрите, в какой близости от наших руководящих центров орудуют царские шпики. Зубатова нет, есть Лопухин и Макаров; Рачковского нет, есть Ратаев; Сипягина нет, есть фон Плеве. И зубатовские общества среди рабочих еще существуют, потому что, отыгравшись на Зубатове, высокие власти сообразили: прикрой их сразу — станут социал-демократическими. А друзья-эсеры постреливают из-за угла. Метили в наместника Кавказа князя Голицына, а в Белостоке и полицмейстером Метленко обошлись. Лишь бы страхом террора земля русская полнилась. Социалисты-революционеры, а стреляют по революции. В Петербурге поп Гапон весьма подозрительно обхаживает рабочих. Не в подмену ли Зубатову себя прочит? И вот среди такой карусели нам еще влезать во внутренние распри!
— Все это я знаю, Иосиф Николаевич, к вашему рассказу мог бы многое и от себя добавить. Но ведь эти распри, как вы их называете, мешают главному.
— Ничему не мешают. Все возвращается на круги своя.
— Нужен съезд, чтобы все привести в полную ясность. Разделяться так разделяться! Объединяться так объединяться!
— Не нужен съезд! Не надо наступать на больные мозоли. Новый съезд вскоре после Второго — новый взрыв затухающих страстей. Дайте поработать времени. Согласны? Разойдемся мирно, дружески. И подумаем. Разожгу керосинку, вместе чаю попьем. Тряхнем стариной!
С него несколько слетела высокомерность, с которой он до этого вел свой разговор. Вот бы сюда Леонида Петровича Радина! Возможно, удалось бы и в самом деле найти общий язык, как это бывало в Яранске. Чаю попить? Времени нет, можно опоздать на поезд.
— Спасибо, не хлопочите, Иосиф Николаевич! Спешу на вокзал. А подумать о ваших словах, конечно, подумаю.
— Голодным уходите? Иосиф Федорович! — Он побежал куда-то, на кухню, что ли, и принес французскую булку, половину колечка копченой колбасы. — Возьмите с собой!
Но это он выговорил опять уже покровительственно, словно бы сожалея, что недавно предлагал своему собеседнику полное равенство. И не протянулась к его щедрому дару рука. А Мошинский еще спросил совсем сухо, казенно:
— Да, вы ведь теперь отец большого семейства! Все здоровы?
— Вполне…
— Значит, не останетесь? Ну, как вам угодно. — И крикнул в глубь квартиры: — Яков, проводи Иосифа Федоровича.
Тотчас возник молодой человек интеллигентного вида, с гладко зачесанными назад темно-русыми волосами.
— Житомирский, — представился он. — Извините, не подслушивал, но разговор ваш слышал, говорили вы достаточно громко. А появляться без нужды не считал признаком хорошего тона. Однако если Иосиф Николаевич меня вызвал, будем знакомы.
И по дороге к вокзалу с такой же непринужденностью объяснил, что родом из Ростова, приехал сейчас из Берлина, там закончил медицинское образование и вот, побывав по делам в России, собирается уже восвояси, а точнее, «вочужаси», поскольку всегда очень тоскует по земле родной.
— Да что же вас гонит тогда «вочужаси»?
— Полагаю, нам нечего таиться друг от друга: встретились мы не где-нибудь, а на квартире Мошинского. Так вот, приезжал я сюда по поручению Ленина, кое-что удалось мне сделать для пополнения партийной кассы. Надо издавать новую газету, в противовес свихнувшейся «Искре». Позиция Мошинского мне решительно не нравится. Быть делегатом съезда и не понять смысла борьбы, которую ведет Ленин, — это не просто оказаться в «болоте», это стать жирной, квакающей лягушкой. Из Берлина, где шумят Рязанов с Троцким, буду перебираться в Женеву, там больше настоящей политической жизни, там Ленин, а я ведь большевик. Вы не думаете махнуть за границу?
— Думаю махнуть по России. Это сейчас мне представляется наиболее важным…
…Нет, не заснуть все равно! Только зря бока пролеживать и корчиться на жестких досках от холода. Дубровинский спустился на пол. На нижних полках разместилось большое семейство. Люди переезжали из Ростова куда-то на Дальний Восток, весь проход и багажные полки были натуго забиты их узлами, свертками, корзинами, самодельными чемоданами. У каждого свой матрасик, подушка, одеяло. Дородная женщина, явно глава семьи при худеньком, забитом муже, вместе с двумя малышами расположилась даже на пуховой перине.
Дубровинский присел на краешек ее постели. С вечера так, коротенько они перебросились несколькими словами. Какая неволя повела их из теплых краев в такие дали? Женщина прицыкнула на скачущих у нее за спиной малышей, рассудительно ответила: «Неволя-то была для нас здесь. Едем волю искать. Бог даст сыщется». Сухонький, тихий муж ее работал мастером-литейщиком на Таганрогском заводе. Начались там волнения — расценки на четверть сразу снизили, многих поувольняли — ну и забастовали оставшиеся. Правды, ясно, не добились. К тому еще нашлись и из рабочих такие шкурники, что погашенные домны вновь разожгли. Подкупили хозяева. А тех, кто крепче других держался, потом выгнали. Вот почитай два года и маялись на случайной поденщине. А теперь решили заехать в самую что ни на есть даль и глушь. Чтобы и глаза не видели беды здешней. Не найдется литейной работы на новых местах, уйдем в лес, в тайгу — она, матушка, как-нибудь да прокормит. Зато в таежной-то глухомани хоть поганых рож полицейских видеть не будешь.
Пришлось ей возразить. Не убегать куда глаза глядят надо, а сообща действовать, бороться с хозяевами. Женщина безнадежно махнула рукой: попробовали, поборолись. А пока солнце взойдет, роса очи выест…
Он сидел, пригревшись на теплой, мягкой перине — зябли только ноги в штиблетах, — и соединял в памяти разговоры с Кржижановским, Носковым, Мошинским и совсем недавний — с этой женщиной. Да, бесчисленные забастовки, стачки, демонстрации, студенческие волнения — все это главным образом стихийное, неуправляемое. Тысячу раз прав Ленин, ставя во главу угла организованность рабочего движения, и прежде всего — организованность, дисциплину в самой партии. Но «пока солнце взойдет, роса очи выест». И правы, наверное, с такой точки зрения Кржижановский, Носков и Мошинский, призывающие пренебречь чем угодно, но сохранить мир в партии. Даже путем уступок. Даже путем односторонних уступок.
Эта мысль теперь не давала Дубровинскому покоя. Третий съезд… Нужен — не нужен? Книпович из Киева пишет, что в комитетах по этому поводу началась страшная разноголосица и что Ленин настаивает на беспощадной войне с меньшевиками. Но хорошо ли видно оттуда, из-за границы, что происходит здесь? Худой мир все же лучше доброй ссоры!
Беспорядочно защелкали колеса на входных стрелках. Поезд сбавил ход и остановился. Сквозь заледенелые стекла светились желтые пятна станционных фонарей. Скрипнула дверь, и в потоке морозного воздуха вошел новый пассажир. Раздергивая одной рукой вязаный шарф, которым у него было закутано горло, другой он пытался приткнуть куда-нибудь свой дорожный мешок. Вздохнул шумливо:
— Эх-ма, только войны с япошками нам и не хватало!
В сонной тиши вагона эти слова прозвучали пугающе. Они как бы продолжили тягостные мысли Дубровинского, хотя и не имели с ними прямой связи. Войны ожидали, но как-то не всерьез и во всяком случае не через три же дня вслед за сообщениями о разрыве дипломатических отношений Японии с Россией. А в Ростове так и разговора об этом не возникало.
— Откуда вы знаете, что война началась? — спросил Дубровинский.
— Брат у меня здесь телеграфистом. Пока поезда ждали, сидел я у него, была проходящая телеграмма атаману казачьего Войска Донского. Мобилизация объявляется. Весь флот наш в Порт-Артуре потоплен. Этой вот ночью подло напали. Ночь там раньше нашей на семь часов начинается. Так-то, — ответил вошедший и потащился дальше по вагону.
Теперь мысли Дубровинского приняли иное направление. Да, хотя Япония и поступила вероломно, напав на наш флот втихомолку, сама эта война выгодна царскому правительству. Она всколыхнет волну где искреннего, а где и показного патриотизма, отвлечет на время значительные народные силы от революционной борьбы. Стало быть, необходимо немедленно писать, печатать листовки, разоблачать истинный смысл этой навязанной России войны. Надо требовать мира, мира! Долой войну! Долой самодержавие!
Придя твердо к этой мысли, он тут же отбросил все до того томившие его сомнения. Именно с учетом этой новой обстановки мир в партии должен быть обеспечен как можно скорее и любой ценой.
9
Теперь, одержимый этой целиком захватившей его идеей, Дубровинский мотался из одного города в другой. Душевно радовался, когда в партийных комитетах встречал поддержку, а там, где сталкивался с противодействием, вступал в горячие споры. Он делал это, глубоко убежденный в том, что своими усилиями способствует сохранению единства в партии, что сама жизнь неизбежно подтвердит правильность избранного им пути и Ленин, верным соратником которого считал он себя, первый же впоследствии поблагодарит его.
Дубровинский не предполагал даже, что в то самое время, когда он произносит свои страстные речи в защиту любого мира в партии, Крупская по поручению Ленина доверительно обращалась к нему: «Дорогой товарищ! Вы ничего не пишете нам, и мы знаем лишь из писем товарищей, что вы настроены мирно и думаете, что путем уступок можно добиться еще мира в партии…» И далее продолжала: «Меньшинство не успокоится, пока не возьмет в руки все и не задушит большинства». А в конце письма от имени Ленина убедительно просила поехать в Екатеринослав с тем, чтобы восстановить там после тяжелого провала социал-демократическую организацию, дотоле надежную сторонницу большинства.
Если бы он знал все это, он сразу умерил бы свой примиренческий пыл и тотчас направился в Екатеринослав. Но письмо Крупской, перлюстрированное охранкой на границе, до него не дошло, как не дошло по той же причине и второе письмо, где Крупская, подчеркивая, что его очень ценят как хорошего организатора, еще настоятельнее передавала просьбу Ленина направиться в Екатеринослав.
Не получив этих писем, не узнал Дубровинский и того, что безудержный восторг, с каким рассказывал Кржижановский о своей поездке в Женеву и примирении Мартова с Лениным, совсем несоразмерен с истинными результатами его миссии. Это о нем, о Кржижановском, Крупская писала, как о члене ЦК, который, задавшись целью примирить большевиков с меньшевиками, «шел на всяческие уступки, превышая даже свои полномочия».
Обмен записками между Мартовым и Лениным, чему придавал такое решающее значение Кржижановский, лишь переводил конфликт, возникший между партийным большинством и меньшинством, из категории личной ссоры в принципиальные разногласия. Для Мартова этот обмен записками настолько не стоил ничего, что даже открытое письмо Ленина «Почему я вышел из редакции „Искры“?» он отказался напечатать, полагая себя теперь полным хозяином положения в новой «Искре».
И хотя к этому времени сам Кржижановский, находясь в регулярной переписке с Владимиром Ильичем, стал достаточно хорошо понимать, что меньшевики вовсе не собираются идти на подлинное сближение, что к ним переметнулся и Плеханов, что Заграничная лига и Совет партии принимают по важнейшим вопросам только угодные им решения, повлиять существенно на примиренческие настроения в ряде местных партийных организаций он уже не мог. А Дубровинский, не проникшийся глубоко сознанием всей сложности резко изменившейся обстановки, но облеченный полномочиями агента ЦК, продолжал увлеченно агитировать против созыва Третьего съезда.
Он только что вернулся из Курска, где в полицейском управлении обменял свой паспорт на новый, положенный лицу, имеющему после ссылки определенные ограничения. И там совершенно нелепо судьба свела его с Григорием, тоже получавшим паспорт — офицером запаса! — на пятилетний срок.
Невозможно было уклониться от разговора с братом, да Иосиф и не стремился к этому. Он первым поздоровался, но Григорий, щегольски одетый, чуть уловимо кивнул головой, завел руки за спину. Словно бы так удобнее было разговаривать.
«Семью-то вовсе бросил? Один пробиваешься или на стороне другую завел?»
«Григорий, я мог бы тебе ответить грубо. Но я скажу спокойно, так как есть. Пока нам просто удобнее жить врозь».
«Сам, мол, снова сяду, а жену поберегу?»
«Девочек тоже. Когда жандармы приходят обыскивать, арестовывать, они очень пугают маленьких».
«Ну, а что все твое племя сидит на шее матери да тетки, совесть не мучает?»
«Мне кажется, Григорий, что тебя могла бы совесть мучить больше, чем меня, ты ведь собственной персоной сидишь на шее жены!»
«Шалишь! По закону у нас с ней имущество общее. Мог бы и ты не ходить таким обтрепышем».
«Вероятно! Только тогда других бы обтрепышей прибавилось. Закон общественного развития: когда богатеет один, нищают десятки. Чтобы самому заметно разбогатеть, одной шкуры с другого снять мало».
«Пусть не будет дураком!»
«А мне не хочется быть скотиной!»
«Вот и поговорили».
«Поговорили».
Они разошлись было в разные стороны. Но Григорий на минутку остановился.
«Слушай, Иосиф, замени ты себе фамилию. У вас это запросто делается. Как назвал себя, так потом и приживется. Не позорь наш род!»
«Не опозорю. А фамилию отцовскую зачем же менять? Она и честь и гордость. Кличек подпольных у меня много, но это совсем другое. Умру, на камне высекут: Дубровинский».
«Если камень положат!»
«Ну, может, хоть в памяти на малое время у кого-то останется. Прощай!»
«Прощай, существо с многими кличками: Шарик, Бобик, Барбос!»
…Этот мучительный разговор не выходил теперь из ума. Брат родной, воспитывались вместе, в одной семье, а поди ж ты как держится! Не генерал ведь и не полковник даже. Состоит в запасе, но парадный офицерский мундир с золотыми погонами обязательно надевает, хочет этим подчеркнуть свою приверженность власть предержащим. Его не переубедишь.
А как он зло отозвался о кличках! Приравнял их к собачьим. Не подумал, что собачьи-то клички больше подходят к таким охранителям царского трона, как он сам.
В Самаре Дубровинского поджидал Лядов. Они знали друг о друге понаслышке, а лично встретились впервые. Дубровинскому было памятно, что Лядов организовал первый московский «Рабочий союз». Тот, на пепелище которого, под корень разгромленного охранкой, Дубровинский вместе с Дмитрием Ульяновым, Радиным и Владимирским создавали потом заново второй союз, под прежним названием. По делу «Рабочего союза» семь лет провел Лядов в верхоянской ссылке. Освободившись, работал в Саратове, а последнее время в заграничной организации «Искры». Сухощавый, с небольшой курчавой бородкой, словно бы привязанной узкой тесемкой к ушам, но зато с огромнейшей копной черных волос на голове, он сразу понравился Дубровинскому своей прямотой и деловитостью. Назвал пароль, означавший, что он посланец заграничной части ЦК, назвал и себя.
— А вы, Иосиф Федорович, теперь не «Леонид», а «Иннокентий», так, кажется? — спросил, надевая очки в тонкой стальной оправе.
— Как «Леонид» я слишком уж примелькался, — подтвердил Дубровинский. — Хорошие вести привезли, Мартын Николаевич?
— Не очень, — сказал Лядов. — Отсюда хотелось бы увезти вести повеселее. И многое как раз зависит от вас.
— Все, что в моих силах, я делаю. И не без успеха.
— Вот именно это Владимира Ильича беспокоит. По его личному поручению я объехал многие комитеты, и, знаете, там, где побывали вы, отмечаются примиренческие настроения. Что вы делаете, Иосиф Федорович?
— Делаю то, что необходимо для единства партии. Способствовать углублению разногласий я не могу и не стану! Но вы мне оказываете большую честь, Мартын Николаевич, утверждая, что комитеты, в которых побывал я, стоят на позициях сохранения мира в партии.
— Не придирайтесь к неточным словам, Иосиф Федорович! Вы же прекрасно понимаете, о чем я говорю.
— Я придрался лишь для того, чтобы нагляднее показать, как возникают именно такого рода разногласия — из-за неточных выражений. Возникают по пустякам. А потом обе стороны стремятся и раздуть до степени принципиальной, чтобы оправдать свое упрямство.
— Вы говорите: «обе стороны». Стало быть, и большинство и меньшинство вы ставите на одну доску, конфликт между ними считаете пустяком, а позицию Ленина неоправданным упрямством? — Глаза Лядова сердито поблескивали сквозь стекла очков.
— Судя по всему, эти меньшевики — сволочь порядочная, — ответил Дубровинский, стараясь не выйти из полемического равновесия. — Допускаю, что страсти на съезде разжигали они, но черт же с ними, ради единства партии им можно было бы и уступить, не доводя дело до раскола.
— Так в чем же именно еще Ленин должен был уступить? — Лядов горячился. — Параграф первый Устава мартовцы провели в желательной им редакции…
— Не хочу быть судьей над тем, что было, — перебил Дубровинский. — Я озабочен тем, что есть сейчас. Владимир Ильич заявил о выходе из редакции «Искры». Если бы он взял это заявление обратно, он взял бы снова редакцию в свои руки. Аксельрод, Засулич — они же все равно работать не будут. Старовер, ну что же, Старовер… А Мартова, ручаюсь, Ленин подчинил бы. Вместе с Плехановым. Как было всегда. А теперь и Плеханов на стороне меньшинства.
— Не так все это просто, Иосиф Федорович, как вы полагаете. В теперешней «Искре» тон задает уже не Мартов и не Плеханов даже, который увлечен работой в Совете партии. В редакции появились Дан и Мартынов, оппортунисты, оба с железными характерами. Вернись Ленин снова в редакцию, его по всем вопросам майоризируют, ни в чем не дадут проявить себя. И тогда большинство потеряет свои позиции и в ЦК и в редакции. Лучший выход — созыв съезда. Пусть еще раз там открыто переругаются, но оборвать эту двойственность, когда решения Второго съезда меньшинством истолковываются по-своему и именем съезда творится черт знает что!
— Но это, Мартын Николаевич, просто безумно! С двойственностью в партии еще можно справиться. Созвать новый съезд — значит заведомо создать вторую партию. И я не знаю, какая из них тогда станет первой!
— Та-ак! — Лядов побарабанил пальцами по столу. — А Владимир Ильич очень рассчитывал на то, что здесь, в России, вы крепко поможете провести правильную партийную линию.
— Именно так. Правильную линию я и провожу, — твердо заявил Дубровинский. — Единственно правильную линию — прочного мира в партии. Других решений быть не может. И мне хочется, чтобы и вы и Ленин с этим согласились.
— С этим прежде всего не согласится меньшинство, — теряя терпение, возразил Лядов. — Они примут мир на единственном условии: полное их господство, полный отказ от революционности рабочего движения. Словом, долой царское самодержавие, да здравствует самодержавие буржуазии! Такого ли согласия хотите вы и от Ленина?
— Вы преувеличиваете, Мартын Николаевич! Большинство всегда останется большинством и сумеет поставить меньшинство на свое место. Речь ведь о методах: сокрушить или убедить, отторгнуть совсем или приблизить, иметь еще одного врага или союзника.
— При таком ходе мыслей вы все еще причисляете себя к сторонникам большинства, Иосиф Федорович?
— Да, Мартын Николаевич! К сторонникам большинства, и в единой, а не расколотой партии!
— И вы считаете, что любого человека возможно убедить в ошибочности его мнений?
— Уверен!
— Так отчего же мне это не удается по отношению к вам?
И молча уставились друг на друга, оба пораженные неожиданностью вытекающих из этого логических выводов.
Первым заговорил снова Лядов. Настойчиво, требовательно:
— Иосиф Федорович, редакция «Искры», Совет партии, Заграничная лига практически захвачены меньшевиками, в русской части Центрального Комитета тоже нет достаточной твердости, но все же в целом ЦК еще способен воздействовать на обстановку: партийные комитеты на местах, как я сам убедился, в большинстве своем поддерживают предложение Ленина — созвать съезд. Нельзя медлить, нельзя упускать дорогое время. Промедление работает против нас. И я ставлю вопрос в упор: как агент русской части ЦК вы намерены или нет проводить в местных организациях кампанию по созыву съезда?
Дубровинский помедлил с ответом. Несколько раз погладил усы.
— Нет! — наконец сказал он решительно. — Пропагандировать эту идею я не стану. Той же цели, какая видится Владимиру Ильичу в созыве съезда, я добьюсь иными средствами. И если подлинное единство партии здесь, в местных организациях, в сердцах рабочих масс будет достигнуто, заграничному меньшинству не останется ничего другого, как сложить оружие. Этого требуют интересы партии, и я от них отказаться не могу. Передайте Владимиру Ильичу, что я во всем, во всем разделяю его взгляды, но в данном случае он неправ.
Лядов встал, посмотрел на Дубровинского с тревогой. Сдернул очки. Вновь нацепил.
— Короче говоря, Иосиф Федорович, вы убежденно идете на разрыв с Лениным?
— В интересах партии я готов на все. Но я иду не на разрыв с Владимиром Ильичем, я иду, насколько это окажется в моих силах, спасать единство партии.
— Единство партии своими действиями вы не спасете, а раскол только усугубите. Владимиру Ильичу я передам, что мы потеряли еще одного из числа очень надежных товарищей. Всего вам лучшего! — Лядов подал Дубровинскому руку и пошел к двери. На пороге задержался. — Вы ничего не добавите, Иосиф Федорович?
— Нет. Мне нечего добавить.
— Я мог бы задержаться в Самаре еще на несколько дней. Как вы смотрите на то, чтобы устроить рабочий митинг, допустим, где-нибудь за Волгой? Мы выступим оба. И послушаем, что скажут рабочие.
— Митинг организуем. Присутствовать на нем буду и я. А выступите вы один. Повторяю: я за мир в партии, но не путем публичных схваток. Тем более с вами. И тем более при таких обстоятельствах…
Всю ночь Дубровинский провел в мучительных раздумьях. Перебирал в памяти разговор с Лядовым и не нашел в нем ни единой фразы своей, от которой ему следовало бы отказаться. Страшнее всего представлялся неизбежный разрыв с Лениным. И холодок отчаяния сдавливал сердце. Ну кто же, кто еще более дорог ему, если не Ленин, не Владимир Ильич, которого и в мыслях иначе называть не хочется, как только по имени-отчеству! Но разве не случается, что даже самый острый ум в какую-то тяжелую минуту не найдет верного решения? А Владимир Ильич там, в эмигрантском окружении, издерган, затравлен…
Дубровинскому пришлось приложить немало усилий, чтобы за короткое время, которым располагал Лядов, организовать рабочий митинг. Помог большой опыт и отлаженная система связей с заводами. Рисковать никак было нельзя. Лядов выполнял важнейшее поручение партии. А сам Дубровинский, хотя и проживал в Самаре по законному паспорту, но по-прежнему находился на особом счету у полиции.
День был субботний. Совершенно по-летнему грело солнце.
Под вечер, когда набережная Волги заполнилась народом, устроили катание на лодках. Гармошка, песни, хохот, состязания в скорости. На косогоре, натыканные словно столбы, кой-где маячили городовые — для острастки. Сновали переодетые шпики — на всякий случай. Не донесется ли откуда со стороны подозрительная речь. Но все было чинно и благородно. Лодок на Волгу выплыло больше двухсот, где тут шпикам угадать, какая из них «крамольная». Одни придерживались тиховодья близ пристани, другие озорно выплывали на самую середину реки. И, по мере того как сгущались сумерки, «крамольные» лодки постепенно отходили все дальше. Уже совсем в полной темноте причаливали к противоположному берегу. Там, местами, еще лежали зимние льдины, звонко рассыпающиеся под ударами каблуков. Рабочие патрули встречали лодки. Спрашивали пароль и показывали направление, куда надо идти.
В глубине заволжского леса пылали костры. Из города их не было видно. В отблесках пламени поляна с обступившими ее безлистыми еще деревьями казалась подвижной, живой, то убавлялась настолько, что становилась темной, то вдруг распахивалась невообразимо широко.
Назвавшись Иннокентием, а Лядова представив как Лидина, Дубровинский открыл митинг.
— Перед вами сейчас выступит делегат Второго съезда партии, — объявил он.
И отошел в сторону, сел у костра. Давая ему место и доброжелательно поглядывая на него, рабочие потеснились.
Дубровинский напряженно вслушивался в неторопливый, спокойный рассказ Лядова. Станет или не станет он говорить о расколе в партии? Не захочет ли все-таки Лядов вступить с ним в открытую схватку перед лицом рабочих? А стало быть, внести смятение в их умы.
Но Лядов, к его удовлетворению, сосредоточил свое выступление целиком на решениях съезда, на программе партии и ее очередных задачах. Дубровинский успокоился. Сидел, подбрасывая тонкие сухие ветки в костер и наблюдая, с каким жадным вниманием обращены лица рабочих к оратору. А говорил Лядов неторопливо, обстоятельно, не допуская в своей речи каких-либо неясностей, заранее отвечая на возможные вопросы. Уже совсем завершая беседу, Лядов сказал, что, вероятно, и в рабочем кругу ходят слухи о серьезных разногласиях в партии, возникших на съезде.
— Да, это верно, — тут же подтвердил он. — Но все, что я сейчас вам говорил, я говорил от имени большинства партии, возглавляемого Лениным. Так партия понимает свои задачи, так партия будет отстаивать ваши интересы, товарищи рабочие. Готовы ли вы связать свою судьбу с большинством партии? Тогда, если на ваших сходках, митингах, в частных беседах о партии, о ее задачах и целях, станут говорить вам другое — знайте, это говорит меньшинство. Давайте ему решительный отпор! И еще знайте, что газета «Искра», которая всегда была так вами любима, ныне выходит без участия Ленина. Наоборот, она ведет борьбу против Ленина, а следовательно, и против ваших интересов.
Ему не дали закончить, дружно зашумели:
— Нам не надо «Искры» другой!
И наперебой стали просить у «товарища Иннокентия» слова для выступления. Лядов прищурился, отходя и становясь рядом с ним. В его глазах был немой вопрос: «Неужели вам и теперь не ясно?» Дубровинский в ответ слегка шевельнул плечом, что означало: «Здесь не место для нашего спора. А мнения своего я не изменил».
Выступающих оказалось много. Говорили страстно, горячо. Просили передать Ленину и всем его сторонникам, что на самарских рабочих можно твердо положиться. Не нашлось никого, кто внес бы разлад в этот дружный разговор.
Расходились, когда небо стало отбеливаться. Поплыть в город сразу всей «флотилией» было рискованно. Недреманное око полиции наверстало бы свой вчерашний промах. И вот на веслах потянулись лодочки вдоль берега, одни вверх, другие вниз по течению, чтобы пересечь Волгу не в виду города. Только те, кому казалась совершенно нестрашной встреча с полицией, пустились напрямую.
Дубровинский с Лядовым добирались самым далеким, но вполне безопасным путем. Сидя в лодке и полоща кисти рук в прохладной воде, Лядов не уставал повторять:
— Ах, хороша получилась маевочка! Будет о чем рассказать Владимиру Ильичу. А вы что-то очень осунулись, Иннокентий?
— Сам не знаю. Устал. Пока шла беседа, не замечал времени. А уселись в лодку — звон в ушах, так бы и повалился.
— Вы нездоровы? — встревоженно спросил Лядов. — Прилягте на носу лодки. Я вам дам под голову пиджак.
Гребцы, рабочие тоже заволновались, стали предлагать и свою одежду.
— Что вы! Что вы! — замахал руками Дубровинский. — Это со мной иногда бывает. А бледность и усталость согнать — пустяк. Дайте-ка я сяду на весла, с полчасика погребу.
Однако ни бледности, ни усталости не согнал. Только измучил себя еще больше. Он взмахивал веслами, откидывался всем корпусом, энергично подтягивая залощенные рукоятки на себя, а в груди у него похрипывало. Струйки горячего пота текли по спине.
Причалили далеко за окраиной города и несколько верст тащились пешком. Пригревало утреннее майское солнце. Лядов был оживлен, делился замыслами новых поездок. Дубровинский отмалчивался. Так они и расстались. Прощаясь, Лядов спросил:
— Что же все-таки я должен буду передать от вас в Женеве нашим товарищам, Владимиру Ильичу?
— Если для партийного большинства имеет значение и еще один человек, я — этот человек. А Владимир Ильич для меня — наибольший авторитет.
— Вот и чудесно! — облегченно вздохнул Лядов. — Стало быте, весь наш прежний разговор можно считать как бы несостоявшимся? Вы за созыв съезда партии?
— Я за мир в партии, — упрямо сказал Дубровинский. — За партию большевиков, в которой вообще нет меньшинства. За единую, нерасколотую партию. В интересах этого я и буду работать.
— Чего стоят тогда ваши слова об авторитетности Владимира Ильича? — теперь уже с гневом выкрикнул Лядов, оглядывая бледного ссутулившегося Дубровинского.
— Если бы здесь вместо вас стоял он, — проговорил Дубровинский, отмахивая мокрую от пота прядь волос со лба, — он бы меня понял. Или я понял бы его. Вот в чем его авторитет!
— А я вас убедить не сумел?
— Нет, не сумели. Потому что меня не поняли. А мы ведь с вами вместе, Мартын Николаевич!
Слабо пожал руку Лядову и свернул в ближайший переулок.
Добравшись до дому, он вымылся прохладной водой до пояса, сменил рубашку, пожевал хвост вяленой рыбы, прикусывая зачерствевшим хлебом. Было не до того, чтобы согреть на плите чайник. Бросился на постель, благостно предвкушая, как сейчас погрузится в крепкий сон.
И вдруг его подбросила, заставила сесть на кровати беспокойная мысль. Он же к утру этого дня обещал железнодорожникам написать листовку против войны и передать для размножения на мимеографе! Вот-вот за ней должны прийти. Это так необходимо! Вереницей через Самару ползут солдатские эшелоны на восток, на убой. Духовенство, купечество, городские власти встречают и провожают воинские поезда с хоругвями, с музыкой, с фальшивыми патриотическими речами. И так будет по всему их долгому, крестному пути на место казни безвинных — иначе не назовешь чужие сопки Маньчжурии и выгодную царскому самодержавию бойню. Правительство хорошо понимает, что взоры трудового народа так или иначе, но будут обращены туда, к полям сражений, — ведь во славу отечества проливается кровь отцов, сыновей, братьев! — а это ослабит революционный накал. Правительство так же хорошо понимает другое: надо гнать на войну главным образом темные, забитые крестьянские массы. Солдат, призванный из рабочих, да еще из крупных пролетарских центров, — опасный солдат. Он и в ряды действующей армии занесет семена революции.
Открыть, открыть глаза на правду всем этим людям, тоскливо выглядывающим из холодных теплушек и едущим в гибельную неизвестность! Надо рассказывать солдатам правду.
Дубровинский подсел к столу и принялся торопливо набрасывать текст прокламации.
10
И снова ставший уже совершенно привычным перестук вагонных колес. Обязательство «ездить и ездить», которое, он как агент ЦК, дал Книпович, а прежде всего сам себе, не позволяло ему праздно проводить время. А на душе лежала непонятная тяжесть.
После того как, не достигнув согласия с Лядовым, но памятуя наставления Носкова, он, Дубровинский, начал новый объезд комитетов, обычной, спокойной уверенности в своей правоте у него не стало. Да, в Харькове его поддержали. Без всяких споров приняли резолюцию, призывающую к миру в партии и осуждающую стремления созвать Третий съезд, как ничем не оправданные. А потом пошли Орел, Курск, родные города, где к слову своего земляка товарищи всегда относились с особым доверием. И вдруг резкий отпор. Бурные обсуждения, а резолюции единогласны. То же самое и в Екатеринославе, в Одессе, в Николаеве. Известно стало, что Кавказский и Сибирский союзы, Тверской и Петербургский комитеты — все высказались за созыв съезда. Так где же истина? Неужели же он неправ? И не мир сейчас нужен партии, а яростный, открытый бой?
Дубровинский сидел у окна вагона, но в окно не смотрел, настолько опротивело ему беспрестанное мелькание перед глазами — на протяжении целого лета и осени! — похожих один на другой березовых перелесков, поросших бурьяном холмов и лоскутных крестьянских полей.
Теперь он ехал в Петербург для встречи с Землячкой, бывшим членом ЦК. Ехал в отчаянной душевной неустроенности. Было такое ощущение, будто бродит он среди леса по хорошо протоптанным тропам. Тропы сходятся, разветвляются, пересекаются между собой, любая из них вызывает к себе доверие — иди и выйдешь! — но выйти из лесу все же не удается. День пасмурный, нет никаких надежных примет. Вернее бы всего держать только прямо и прямо. Но тропы вьются, изгибаются, глядишь — шел, шел и вновь оказался на том же месте.
В Орле, помимо конспиративного собрания членов партийного комитета, состоялась и «семейная конференция четырех». Нечаянно-негаданно в ней, помимо Семена и Анны, принял участке Яков.
— Яша! Как ты здесь оказался? — войдя в дом и сначала даже глазам не поверив, закричал Дубровинский. — Снова бежал?
Ему было известно из писем близких, что младший брат отличился: дважды бежал из своей архангельской ссылки, и все неудачно. Первый раз был пойман на третий же день, а при второй попытке «погулял» на воле почти целый месяц. Но зато назначили ему самый глухой угол Мезени. Яков озорно подмигнул.
— Не по-твоему, Ося, — сказал он. — Ты из Яранска и то не решался… Ну, ну!.. — Заметив, что эти слова братом воспринимаются с болью, поправился: — Знаю, нынче время другое. Теперь есть куда бежать, всюду укроют. И есть чем в подполье заняться, кроме листовок. Но сейчас — интриговать не хочу — мне повезло: попал под амнистию.
И оба расхохотались. Нет худа без добра! У государя родился сын Алексей, наследник трона. Вот и посыпались милости царские: пороть розгами крестьян и солдат отныне перестанут (не помогает); с мужиков из голодных губерний сняты недоимки (кроме горстки волос, все равно взять с них нечего); евреям мануфактур-советникам разрешено жить повсеместно, а не только в черте оседлости (казне больше дохода дадут), то же и отставным нижним чинам (вдруг опять их штыки понадобятся); губернаторам дано право сокращать сроки ссылки…
— Это не нам, это губернаторам выгода, — смеялся Яков. — Им ведь ссыльные — кость в горле. Либо прав человеческих себе добиваются, либо из ссылки бегут. То ли дело теперь! Амнистировали, из своих владений выставили — и гора с плеч! Пусть опять охранка ловит, а министерство юстиции заново приговаривает. Авось не в мою губернию, а в другую пошлет.
Вечером за чашкой чая обсуждали положение, сложившееся в партии.
— Ты, Иосиф, побольше нашего повидал на белом свете, — сказал Семен, — тебе виднее. Но «Шаг вперед, два шага назад» я прочитал. И нет у меня никакого желания якшаться с этим вертихвостским меньшинством. Бегать сзади, дергать за полы, упрашивать: «Погодите! Минуточку одну! Давайте еще раз объяснимся…» Они думали, когда на разрыв пошли? И черт с ними! Не понимаю, какой смысл ты видишь в том, чтобы обязательно удержать всех вместе! — Яков помешал ложечкой в стакане. — Вот чай у меня. Горячий, крепкий, вкусный чай. Ну, а если ты сюда полстакана холодной воды подольешь? Что, от этого он лучше сделается? Ленин очень точно определил, какой должна быть социал-демократическая партия. Съездовское большинство — именно такая партия. Зачем растворять в ней меньшинство, если оно того не хочет? Мы ведь не стремимся влить в нашу партию, скажем, эсеров!
— Ты берешь крайности, Яков! Эсеры — полностью враждебная партия, — возразила Анна. — В меньшинстве же оказались такие люди, как Мартов, Аксельрод, Засулич. Теперь и сам Плеханов.
— Именно это и обязывает меня противодействовать созыву съезда, поскольку новый съезд — желание только одной стороны. Пусть даже той стороны, к которой я и сам принадлежу, — сказал Иосиф.
— Тогда ты вряд ли к ней принадлежишь! — запальчиво выкрикнул Семен. — Тебе, брат, есть над чем подумать.
Да, он много думал. И до этого и после. Все время думает. И остается твердо при своем убеждении.
Тогда в Орле он задержался ненадолго. Хотелось душою отдохнуть в кругу семьи. И не получилось. Только, пожалуй, какая-то новая боль обожгла. Словами ее не определишь. И средств избавиться от нее тоже не сыщешь. Нет их, средств таких. Анна это поняла. Прощаясь, сказала: «Ося, родной мой, а может быть, не надо тебе…»
И не договорила, заплакала.
На этот раз он едет с комфортом. Купе второго класса, и он один. Была спутница, тощая, но шикарно одетая дама. Ее в Москве провожал также весьма респектабельный господин. Они в смятении долго перешептывались у окна. Надо понимать так: «О боже, с посторонним мужчиной только вдвоем! Настанет ночь…» И господин, давя круглым животиком подобострастно тянущегося перед ним кондуктора, что-то тому наговаривал, совал в лапу. Когда поезд тронулся, дамы не стало. И превосходно. Как хорошо иногда оказаться мужчиной, внушающим опасения дамам! Эх, так бы от него шарахались жандармы! Ведь въезд в Санкт-Петербург ему запрещен, а он едет…
…Нигде, нигде, кроме Харькова, он не встретил поддержки. Правда, Мошинский писал, что Горнозаводский комитет, которым он руководит, и еще Крымский стоят на позициях меньшинства. Возможно, сыщутся и другие комитеты. Но это ведь капля в море. И не с кем из надежных друзей встретиться, чтобы сообща донести до сознания всех членов Центрального Комитета, а прежде всего Ленина, что нельзя враждовать с новой «Искрой», не разрушая единства партии.
Попытка связаться с Кржижановским не удалась.
И какой же радостной неожиданностью было приглашение, полученное от Глебова, — хорошо помнился этот псевдоним Носкова — срочно приехать в Вильну. Зачем? Все равно! Главное, наконец, будет возможность поговорить обстоятельно с членом ЦК, членом Совета партии и товарищем, наиболее близким к Владимиру Ильичу. Вот она когда наступит, долгожданная ясность!
Разговор состоялся в одном из тихих кафе на столь же тихой узкой вильненской улочке и завершился чтением некоторых документов.
По-волжски напирая на букву «о», Носков говорил:
«Рад до чрезвычайности с вами снова встретиться, товарищ Иннокентий, Иосиф Федорович! И заявить вам это не только от себя лично. Но прежде всего позвольте охарактеризовать обстановку в ЦК: она тяжелая, очень тяжелая. Ленгник и Эссен в тюрьме. Гусаров — это наша большая ошибка при кооптации — не принимает никакого участия в работе и дал нам понять, что работать в качестве члена ЦК он не будет. Кржижановский официально подал в отставку…»
«Ах, вот как!»
«Да. И отставка его принята — что же делать? Землячка, по ее заявлению, выведена из состава ЦК, ибо по Уставу в нем она оставаться не может, поскольку перешла на работу в Петербургский комитет. Таким образом, из девяти членов ЦК осталось только четыре».
«Действительно, тяжелые потери! Тяжелая обстановка!»
«Она особенно тяжела еще и оттого, что, как вы знаете, партия наша жестоко расколота. Есть несогласные между собою „Искра“, ЦК и Совет партии. Есть резко несогласные во взглядах на партию члены Центрального Комитета, а точнее, Ленин…»
Трудно укладывалось в сознание, что рассказывает это Носков, который не так уж давно в Киеве вместе с Кржижановским рисовал радостную картину полного мира и согласия. Тот самый Носков, о котором, вернувшись со съезда, Книпович с удовольствием говорила: «Членам ЦК партийное большинство вполне доверяет, это были наши кандидатуры». Можно понять, что разногласия вновь обострились. Но как же понять, что Носков, по существу, противопоставляет одного Ленина всем руководящим органам партии? А как же «Шаг вперед, два шага назад»? Там еще нет предвестников столь драматического размежевания: один против всех…
Носков с оттенком глубокой грусти в голосе продолжал:
«Вижу, Иосиф Федорович, вы потрясены. Нам, находящимся в самом бурлении страстей человеческих, выносить это во много раз тяжелее. И наступают порой моменты, когда приходится разговаривать с Лениным языком ультиматумов. Но единство партии превыше всего. Вы с этим согласны?»
«Незачем спрашивать, Владимир Александрович! Только этим я и озабочен».
«Мы следим за вашей работой и очень довольны ею. И посему не далее как в день, когда я послал вам приглашение приехать сюда, ЦК в полном составе, за исключением одного — вы, разумеется, понимаете — Ленина, единогласно постановил… — Носков взял руку Дубровинского, крепко пожал, — постановил пунктом первым: кооптировать трех товарищей из числа своих ближайших сотрудников — Владимира (это Карпов), Марка (это Любимов), Иннокентия, то есть вас. Я жму вашу руку, руку друга, честного человека и борца за единство партии! Надеюсь, вы не опротестуете наше постановление?»
Вот, оказывается, для чего он приглашен сюда. Войти в высший руководящий орган партии в кризисную пору, когда по-гамлетовски стоит вопрос: быть партии или не быть? Что за чепуха! Конечно, быть! И если так, если…
«Если мне доверяют, как члену партии, я не имею права отказываться. В чем будут заключаться мои новые обязанности? Хотя не скрою, тяжело принимать их против желания Ленина».
«Пусть это вас не волнует. А положение сейчас таково, что практически в России работать некому. И Ленин и я — мы „заграничники“. Главная же работа как раз на местах. И нужны здесь умелые люди, твердой воли, верной направленности. Дорогой Иннокентий, постановление ЦК, о котором я вам сказал, кладет конец всяческим дрязгам и разнобою. Прежде всего мы отмечаем единомыслие подавляющего большинства членов партии в отношении нашей программы и тактики. Далее, мы находим фракционное дробление глубоко противным интересам пролетариата и достоинству партии. Выражаем свою убежденность в необходимости и возможности полного примирения враждующих сторон. Обращаем внимание на существенные недостатки в работе „Искры“, известную односторонность. Есть ли у вас по всему этому возражения?»
«Ни малейших! Именно так и я думаю. Но, Владимир Александрович, а каковы конкретные пути к установлению единства и мира в партии? Многие комитеты в растерянности. „Искра“ выступает против созыва съезда, а от Центрального Комитета идут письма…»
«Стоп! Стоп! — перебил Носков. — Совсем не от Центрального Комитета, Иосиф Федорович, а от отдельных лиц и некоторых близких к ним группировок. Позиция ЦК совершенно ясна и непоколебима. В настоящее время и при данных обстоятельствах съезд явился бы серьезной угрозой единству партии».
Слушать это отрадно. Все, что он, Дубровинский, делал, — делал правильно. И если многие комитеты все же приняли неверные резолюции, теперь, облеченный правами члена ЦК, он приложит все усилия к тому, чтобы решения эти пересмотреть. Предстоит трудная борьба, но в то же время и легкая уже самим сознанием своей правоты. Единственно, что тревожит: а как же Ленин, как же Владимир Ильич? Носков словно бы угадал его мысли.
«Центральный Комитет в теперешнем своем составе, — говорил он убеждающе, — окажется сильным, монолитным, способным организованно руководить деятельностью партийных комитетов. Наш следующий шаг, я полагаю, до́лжно будет сделать в направлении приобщения к работе в ЦК и товарищей из меньшинства. Иначе как же добиться подлинного единства в партии? С этим упрямо не хочет согласиться Ленин. Что поделаешь? Ленин — выдающийся теоретик, знаток марксизма, Ленин — великолепный литератор и пропагандист, наконец, превосходен его дар острого полемиста, это совершенно незаменимый человек в партии. Но на своем месте. А именно в редакции газеты. Лично я несколько раз предлагал Ленину вернуться в „Искру“, где он принес бы огромную пользу. Увы, безуспешно. Поэтому заведование всеми делами ЦК за границей, включая и поддержание связей с русской частью ЦК, отныне передается мне, а товарищу Ленину поручается только обслуживание литературных нужд ЦК, не больше. Тут он будет, словно рыба в воде!»
«Но ведь в ЦК тогда Владимир Ильич уже не сможет остаться?»
«Безусловно! Так следует по Уставу. В этом сила партии. Нам жаль было потерять в ЦК и Землячку. Но что поделаешь? Дабы товарищи на местах хорошо почувствовали, что значит Устав, что значат указания ЦК, мы вынуждены были в качестве показательного примера распустить Южное бюро, развернувшее особо широкую агитацию за созыв Третьего съезда. Это все, Иосиф Федорович, я очень прошу вас иметь в виду, прошу теперь как члена ЦК, представляющего спаянное общими взглядами и твердой дисциплиной большинство».
«Центральный Комитет может на меня положиться, Владимир Александрович!»
Потом они долго бродили по вечерней Вильне, забрались в городской сад на дальние его дорожки, где еле слышна была музыка военного оркестра, игравшего бодрые марши. Носков рассказывал, сколь тяжела духовная жизнь в эмиграции. Может быть, и партийные распри усиливаются именно потому, что все до чертиков намозолили друг другу глаза. Начинается день с взаимных приветствий, а заканчивается бурными ссорами.
«Приезжайте, Иосиф Федорович, окунитесь в наше житье-бытье, тогда вам многое увидится иначе!»
«Ради этого у меня нет желания ехать. Люблю работать. Постоянно, целенаправленно. Здесь люди меня понимают. Хотя, что касается съезда…»
«Ну, теперь-то вы вооружены обязательным постановлением Центрального Комитета!»
«Да, теперь другое дело!»
Позднее, на конспиративной квартире, Носков дал ему прочесть полный текст постановления ЦК, объяснив, что в «Искре» оно будет опубликовано только в той его части, в которой не затрагиваются личные взаимоотношения.
«Мы щадим, насколько это возможно, самолюбие Владимира Ильича», — сказал Носков.
А в постановлении было сказано: «…Печатание его произведений наравне с произведениями остальных сотрудников ЦК происходит каждый раз с согласия коллегии ЦК… Решено напомнить товарищу Ленину об исполнении его прямых обязательств перед ЦК как литератора. Собрание констатирует печальный факт слабого участия его в литературной деятельности ЦК…» Обычно так разговаривают с человеком, который существенного значения для судеб партии не имеет. Ценится только бойкое перо литератора. Читать это было тяжело. Однако Носков опять успокоил:
«Если бы вы, Иосиф Федорович, видели и читали письма, какие нам пишет Ленин, вы бы как раз свирепо отругали нас за дамский стиль постановления. И поделом! Но не умею быть резким. Не та натура!»
«А вдруг Ленин не подчинится столь все-таки жестокому решению?»
«Ручаться за него не смею. — Носков развел руками. — Невозможно предугадать, что он еще затеет. Подчинится — не подчинится. Важно, чтобы комитеты подчинились решению ЦК и прекратили губительную возню вокруг созыва съезда!»
Это легко тогда было сказать Носкову, и легко было ему, Дубровинскому, с ним согласиться…
Вот поезд прошел уже и Бологое, близок Петербург, город, знакомый только по многим письменным связям. Самарские товарищи предупреждали, что в Петербурге «хвост» может прицепиться сразу при выходе из вагона. Очень сомнителен кондуктор. Без конца заглядывает в купе. То пол подмести, то пыль со столика смахнуть, то чаю предложить, то выколотить пепельницу, хотя мог бы запомнить, что пассажир не курит. Возможно, это все еще остатки тревожной взвинченности полицейских властей и их тайных прислужников. Взвинченности, вызванной убийством фон Плеве, а незадолго перед тем смертельным ранением финляндского генерал-губернатора Бобрикова.
Ах, что делают эти эсеры! Своим безрассудным террором ставят под удар и социал-демократов. Правда, назначенный вместо Плеве министром внутренних дел князь Святополк-Мирский ознаменовал свой приход заметным ослаблением цензуры и открытых преследований. Царит зима, но либеральная интеллигенция ликует: наступила «весна Святополк-Мирского». А этот «весенний» князь ведь в прошлом шеф отдельного корпуса жандармов! Он гладил по головке зубатовцев, теперь гладит иную их разновидность — гапоновцев. Ставка в политической игре у правительства все время одна — отгородить рабочие массы от революционных влияний. Охраннику Зубатову это не удалось. Не получится ли у попа Георгия Гапона?
Но «весна Святополк-Мирского» «весной», а тюрьмы не пустеют и штаты филеров не сокращены.
За окном стлалась бесконечная снежная равнина. Одиноко рогатились на ней черные, безлистые кусты. Где-то вдалеке плещется холодное Балтийское море. Дубровинскому вдруг представилось, что ему сейчас на полном ходу поезда до́лжно спрыгнуть в одном пиджачке с подножки вагона в глубокие снега, пробрести по всей этой необозримой равнине, затем в смоленой чухонской лодке переплыть штормовой Финский залив и там, наконец, сойти на берег, где ждут товарищи. Ждут, чтобы вместе двинуться в такой же, а может быть, и еще более опасный и трудный путь. Он зябко повел плечами, но непроизвольно приподнялся: надо так надо.
…Эта ужасная разобщенность, когда черпаешь все представления о положении в партии из нерегулярно получаемых номеров «Искры», не всегда объективных писем своих друзей да из всяческих недостоверных слухов, — эта разобщенность становится убийственной.
Прямо-таки обжигала сознание фраза, прочитанная в приложении к «Искре». Писали уральцы, пермяки и уфимцы совместно: «С выходом Ленина из редакции „Искра“ сразу повернула кругом. Еще не высохли чернила, которыми Ленин писал и учил о том, какой большой вред приносят партии ее внутренние враги — ревизионисты, оппортунисты и экономисты, — как пошли в „Искре“ писать о тактичности по отношению к этим внутренним врагам». А Плеханов тут же гневно и издевательски их отчитал как политических невежд.
Все это не очень похоже на подлинные поиски мира в партии. Больше смахивает на откровенное стремление к усилению позиции одной стороны. Теперь кооптировано в Центральный Комитет еще пять товарищей: Розанов, Крохмаль, Александрова, Квятковский, Сильвин. Они введены, особенно первые трое, не на собрании всех членов ЦК, а путем частных переговоров, которые вел главным образом один Носков. Насколько это законно?
Квятковский, Сильвин — оба староискровцы, ее агенты, они и теперь остались верны прежней политической линии. Но Розанов, Крохмаль, Александрова не просто сторонники меньшинства, это злые противники большинства. Новые и новые люди включаются в состав Центрального Комитета, а желанное согласие не наступает, грызня усиливается, и порой даже трудно понять, кто чего добивается. Как это все для партии оскорбительно!
И как тягостно на душе, когда ищешь, ищешь и не можешь найти верного решения, абсолютно верного, чтобы сразу оборвать склоки и отдаться полностью чистому и святому делу революции! Если разговор с Землячкой не внесет никакой ясности…
Постучался в дверь кондуктор.
— Подъезжаем к Санкт-Петербургу, господин хороший. Носильщика кликнуть?
А глаза лукавятся, бегают. Знает же, нет у пассажира никакого багажа, кроме маленького саквояжа.
— Одного мало. Двух позови.
— Советую остановиться в «Англетере», приличные номера.
— Именно там для меня и заказаны.
Кажется, отлично поняли друг друга. Придется на всякий случай ухо востро держать.
Короткий зимний день близился к концу. За окном лежала унылая, серая муть.
11
На привокзальной площади Дубровинского обдало ледяным ветром. Он поднял воротник послужившего долго демисезонного драпового пальто, левой рукой зажал у подбородка. Небрежно повел взглядом по сторонам, будто он коренной петербуржец, и сделал было знак рукой проезжавшему мимо извозчику. Но, когда тот натянул вожжи и наклонился, чтобы откинуть меховую полость с сиденья, Дубровинский вдруг отмахнулся и быстро вскочил в вагон подкатившей конки.
Прислонясь спиной к холодной стенке вагона, он понаблюдал, кто вошел за ним вслед. Один из подозрительных покинул конку уже на второй остановке. Нет, этот явно был не шпик. Но еще двое, похожие на приказчиков из мелочных скобяных лавок и оказавшиеся в разных концах вагона, явно были связаны друг с другом. Временами они подавали какие-то еле уловимые сигналы движением плеч, головы. Дубровинского захватил азарт. Если это действительно филеры и приставлены именно к нему, он их тоже поводит! Ничего, что в незнакомом городе. Своя проверенная тактика пригодится и здесь.
Прежде всего не торопиться. Он уткнулся носом в воротник и словно бы задремал. А сам уголками глаз не выпускал «приказчиков» из поля зрения. Но вот один из них в конце Литейного проспекта поднялся с места, прошагал мимо, ничем не выказав своему приятелю, что оставляет теперь его одного, и спрыгнул у перекрестка. А через несколько остановок сошел и второй. Даже не кинув взгляда на Дубровинского.
Он весело подумал: «Эк, до чего же я стал недоверчивым! Приготовился как следует помотать филеров, а придется теперь помотаться самому: ведь я еду, кажется, совсем не в ту сторону, куда надо!» Спросил у тучной соседки, восседавшей рядом и бережно охранявшей поставленную на колени большую корзину, должно быть, со стеклянной посудой:
— Как вернее добраться на Охту?
Она с трудом повернула голову, закутанную в пуховый платок, отозвалась удивленно:
— Да зачем же ты, батюшка, в эту конку влез? Давно ведь, от самого Николаевского вокзала, замечаю, в ней едешь. Что бы хоть пораньше спросить?
— Так городовой мне посоветовал.
— Ах, пес шелудивый! Это тебе теперь надо…
И принялась подробнейше объяснять правильный путь на Охту. Получалось: две пересадки на конках да еще пешком немало придется пройти.
— Возьми лучше извозчика, — в конце посоветовала она. — Только за чужегородного не выдавай себя: обдерут стервецы. Вид у тебя не питерский. Так ты руби прямо: «Адрес такой-то. В гостях засиделся. А дома жена ожидает — шею намылит мне». На этот счет извозчики сочувственные, они своих баб пуще смерти боятся. Тут вот, за углом, как раз будет и стоянка извозчичья.
Он поблагодарил соседку, вышел из вагона и, внутренне посмеиваясь, поступил по ее совету.
Однако извозчик лишь нахально скривил губы. Справился, ехать ли через Васильевский остров или через Выборгскую сторону? А когда Дубровинский с деланной сердитостью приказал ему ехать прямо, он протянул: «Стало быть, поеду через Выборгскую» — и назвал цену, от которой екнуло сердце. Но что поделаешь, коли «вид не питерский»!
Санки резво тронулись с места, снежная пыль завихрилась из-под полозьев. И тут Дубровинскому словно бы какое-то шестое чувство подсказало, что следом за ними минутами двумя позже с этой же остановки тронулся второй извозчик. Он осторожно оглянулся. Да, так и есть, позади саженях в ста сечет копытами прикатанную дорогу серый в яблоках рысак. Может быть, случайное совпадение? Стало не по себе. Ведь он громко назвал извозчику почти точный адрес. Но слежки-то ведь не было. «Приказчики» вышли из вагона конки давным-давно. А на этой остановке вообще, кроме него самого, вроде бы никто не сходил. Постарался припомнить. Нет, сошел еще старик с палкой, но он сразу же заковылял на другую сторону улицы. Тревога напрасная?
А серый в яблоках между тем все время неотступно следовал за ними, как бы предумышленно отставая значительно, когда выбирались на прямую, то оказывался совсем невдалеке, если круто сворачивали в какой-нибудь переулок.
— Слушай, братец, куда я тебе сказал ехать? — пьяным голосом окликнул Дубровинский извозчика, придя к твердой мысли, что «хвост» все же за ними прицепился, хотя и неведомо каким образом. По-столичному, должно быть, филеры сумели передать его от одного к другому. Припомнилось, как похоже на это удирал он от погони, и на извозчике тоже, тогда в еще мало знакомой Самаре.
— То есть как куда? — переспросил извозчик. — На Охту.
— А мне совсем на Охту и ненадобно. Давай гони по Невскому.
Подумалось, там легче будет в толпе затеряться.
— По Невскому? Прокатить? А до Невского, барин, знаешь сколько отсюдова? — Извозчик сбавил рыси у коня. — Плати деньги вперед. Так не повезу. Знаем вашего брата, гулящего.
— Тогда и я не хочу. Ну тебя к черту! — Дубровинский вытащил серебряный рубль, больше, чем цена, за которую сторговались ехать до Охты, положил на облучок. — Давай поворачивай за угол, я сойду, никуда с тобой не поеду.
Ему показалось, что в переулке стоит большой дом с проходным двором, а о петербургских проходных дворах он немало наслышан. Только бы не оказался скотиной сам этот извозчик. Но рисковать надо.
Он соскочил с санок, вбежал во двор и крякнул в досаде. Четырехэтажный домина со множеством подъездов охватил каменным кольцом чуть не целый квартал, а ворота только одни. Если «серый в яблоках» — погоня, от нее теперь уже никуда не уйдешь! В распоряжении от силы две-три минуты.
Почти механически, не думая, Дубровинский бросился в один из дальних от ворот подъездов. Взлетая по ступенькам промерзшей лестницы, он на мгновение все же приостановился. Заметил, как мимо ворот резвой рысцой пронесся «серый в яблоках». Ах, не лучше ли было бы притаиться там, поблизости, и, воспользовавшись коротким замешательством филера — ведь он же сейчас видит, что первый извозчик едет пустой! — попытаться ускользнуть за угол, обратно?
От быстрого бега тяжело стучало сердце. Дубровинский поднялся на следующий этаж, все еще не зная, для чего это делает. С лестничной площадки сквозь запыленные стекла глянул вниз. В просвете ворот появился торопливо шагающий мужчина. В шапке-ушанке. Ступил во двор и замер, обшаривая взглядом все подъезды.
Из одного вдруг вынеслась веселая ватага мальчишек, шесть или семь человек. Дубровинский облизнул сохнущие губы. Какое счастье, что мальчишки не появились раньше, что он не бросился в тот подъезд, откуда они выбежали, и двор именно в самое нужное время оказался безлюдным!
Шпик поманил ребят пальцем. Что-то быстренько им объяснил, похлопал себя по карману, и мальчишки, словно стайка воробьев, порхнули врассыпную, по одному в каждый подъезд. Вот негодяй, купил ребят, сочинив для них бог весть какую историю!
Деваться некуда. Решают секунды. Вся надежда на то, что парнишку, который прибежит сюда, удастся перекупить. Или воззвать к его ребячьему благородству: «Не выдавай!»
По нижним ступенькам лестницы уже топотали ноги маленького, не ведающего, что он делает, сыщика.
И тут распахнулась какая-то дверь с медной табличкой, скупо блеснувшей в полутьме, появилась девушка, по виду горничная, должно быть посланная за покупками, и в замешательстве от неожиданной встречи грудь в грудь спросила:
— Вы к доктору? Входите!
Дубровинский вошел.
«Совсем как у Достоевского получилось, — промелькнуло у него в голове. — Только Раскольников укрылся в пустой квартире, а я нарвался на доктора».
Обдало приятным теплом, запахом лекарств. Из внутренних покоев выплыла седая полная женщина.
— Как вы вошли? Я не слыхала звонка, — проговорила она удивленно. — Прием вообще-то закончен.
— Мне открыла ваша горничная, — сказал Дубровинский. — Простите! Но мне дурно. Тошнит. Кружится голова.
— Ах, боже мой! — воскликнула женщина. И отступила в глубь коридора. — Аркаша, скорее, выйди сюда, пациенту плохо!
Появился тоже совсем седой, пришмыгивающий пятками и горбящийся старик. Он то и дело поправлял на переносье пенсне.
— Сима, так помоги же ему! — ворчливо сказал он. И схватил Дубровинского за руку, прощупывая пульс. — Не могу я осматривать пациента сквозь одежду. — Пробормотал вполголоса: — Пульс неровный, но сильный…
Вдвоем они стащили с Дубровинского пальто, пиджак, увели в приемную и уложили иа диван, прикрытый белой накрахмаленной простыней. Седая Сима зажгла лампу, уже начинало смеркаться. Дубровинский чувствовал себя отвратительно, предугадывая, как будет разоблачена его наивная симуляция. Хорошо, если не заподозрят еще в нем жулика, вора, обманно ворвавшегося в квартиру, и не вызовут дворника. Может быть, по-честному, лучше сразу признаться? Неужели такие добрые люди способны…
— Когда это у вас началось? При каких обстоятельствах? — спрашивал между тем доктор, расстегивая ворот рубашки Дубровинского. — Сима! Приготовь камфору… Боли под левой лопаткой нет? А здесь?
Дубровинский отвел его руку, приподнялся, сел, привалясь к спинке дивана. Ну? Открыться или нет?
— Извините, доктор, но я здоров, — тихо сказал он. — Если бы я мог побыть у вас с полчаса?
Пенсне свалилось с носа старика, повисло на шелковом шнурке. Он ловил его и не мог никак поймать. Наконец водрузил на положенное место. Повернулся к жене, копошившейся у столика с зажженной спиртовкой.
— Сима! — крикнул обрадованно. — Оказывается, так сказать, анамнез здесь совершенно другой. Подойди к нам. Не надо ничего спрашивать. Но пациенту нашему нельзя сейчас выйти на улицу. Ты понимаешь, Сима?
— Аркаша, я все понимаю. — В руке она держала шприц и клочок ваты.
— Фрося не расскажет? Нет, не расскажет, — глядя в потолок, сам с собой рассуждал доктор. И поощрительно тронул Дубровинского пальцами. — Можете быть спокойны. Хотите полежать — полежите. Если станут звонить…
— Звонить не станут, — сказал Дубровинский. — Но я не знаю, как мне выйти из этого двора.
— Ага! Слышишь, Сима? Ничего не спрашивай у пациента. Оденься и просто погуляй. Может быть, там, на улице, во дворе, ты поймешь что-нибудь. Симе хочется погулять, но если бы она знала, на кого это похоже…
— Среднего роста в шапке-ушанке.
И Дубровинский коротко объяснил, что произошло с того момента, как он вбежал в подъезд.
— …Возможно, мальчишки еще шныряют по лестницам, а этот человек их дожидается.
— Ну вот видите, Сима уже приготовилась, — удовлетворенно сказал доктор, вытягивая шею по направлению к передней, где стояла вешалка для верхней одежды. — Сима слышала все, у нее тонкий слух. Она не знает, как это делается, но она все сообразит. — И церемонно поклонился. — Разрешите покинуть вас? Мы ведь не можем разговаривать о погоде, а не разговаривать совсем глупо! Вы любите Мопассана? Даже если не любите, все равно возьмите с полки этот томик. Пока Сима не вернется, вам лучше читать и не думать. Когда мне нужно не думать, я читаю Мопассана. Хотя, впрочем, я ведь старик…
Он ушел куда-то в другую комнату. Дубровинский усмехнулся: вот это повезло! Привел в порядок одежду, постоял, оглядел кабинет. Вряд ли этот дряхлеющий Аркаша имеет достаточную практику, очень уж здесь все скромно, небогато. Окраина города, третий этаж. И конечно, нигде на службе он не состоит. Да, трудненько им, должно быть, живется. Книжная полка туго набита. Но, боже мой, если судить по корешкам, какая пестрота! Чего только нет! И медицинские справочники, и философские трактаты, и труды по математике, естествознанию, а беллетристика — Вергилий, Байрон и Соллогуб, Шелли, Эдгар По и Амфитеатров, Гоголь, Сенкевич и Арцыбашев. Удивительный вкус!
Вот Ф. Решетников — «Подлиповцы». Дубровинский взял книжку, раскрыл ее. Что такое? Размашистая подпись на титульном листе: «Дорогому другу Аркадию от любящего Федора». Н-да! Ну, а «Северная флора» М. Козьмина? Тоже подписана: «Глубокоуважаемому Аркадию Наумовичу Весницкому от автора». Вот как! А что же тогда Арцыбашев? И эта книга с дарственной надписью: «Спасибо, доктор, вы очень мне помогли, пожалуйста, примите на память о Галине К.». Он стал подряд перебирать разнокалиберные томики. Все с надписями. Одни от авторов, другие от благодарных пациентов. Высокограмотных или еле владеющих пером. Дарят кому что любо! И трогательно и чуточку странно. Такая у доктора Весницкого чудаческая «такса»? Но почему же именно книги?
В прихожей щелкнул замок. Послышались тихие голоса. А затем на пороге появился Весницкий вместе с Симой. Она сияла. И от мороза, чуть-чуть подрумянившего ей щеки, и от хорошего настроения.
— Сима, ты ничего не говори, — предупредил Весницкий, поднимая руку. — Ты можешь только сказать, что путь свободен.
— Но почему, Аркаша, я не должна…
— Наш пациент не смог даже почитать Мопассана, как я советовал. Он беспокойный. Я вижу у него в руках этого Святловского, которого мне подарил этот ипохондрик Ручейников. А Святловский вовсе не чтение, и еще при таких обстоятельствах. Извините, — он поклонился Дубровинскому, — вы можете здесь отдохнуть, сколько вам хочется, и можете уже сейчас пойти, куда вам хочется. Сима никогда не ошибается.
— Не знаю, как и благодарить вас, Аркадий Наумович, и вашу супругу, — растроганно сказал Дубровинский. — Вы меня выручили из очень большой беды. Разумеется, я немедленно ухожу. Огромнейшее вам спасибо!
Весницкий дернул плечами, подхватил на лету упавшее пенсне.
— Вы еще взволнованны, — заметил он. — Я не знаю, далек ли ваш путь, но не везде на лестничных площадках открываются двери как раз тогда, когда это очень нужно. Сима, я вижу, тебе хочется еще погулять. А на дворе темнеет. Лучше, если тебя проводит наш пациент.
— Аркадий Наумович, вы все время повторяете «наш пациент», — сказал Дубровинский. — В этом случае я, как пациент, обязан заплатить вам за визит.
— Простите… Должен же я как-то называть человека, если он сам не пожелал отрекомендоваться? А за визит мне платят книгами. По своему выбору.
— Аркаша, не надо ставить человека в неловкое положение!.. Потом, он не знает, что у нас вся квартира уже забита книгами. Он видел только твой кабинет.
— Так надо было ему об этом сказать?! И я теперь от него ничего не получу! Идите и гуляйте, пока не вернулась Фрося. Тогда опять придется разговаривать. А разве я знаю, как разговаривать при ней с пациентом, у которого ничего не болит и у которого нет ни имени, ни фамилии?
— Меня зовут Иннокентий, — сказал Дубровинский. — Для моих лет этого достаточно. Мне не хотелось бы выглядеть старше. А книгу я вам непременно пришлю или при случае занесу. Провожать меня, умоляю, не надо, но если бы вы мне рассказали, как отсюда добраться на Охту, я был бы счастлив.
— Он говорит: «был бы счастлив»! — воскликнул Весницкий. — Всякий посчитал бы себя счастливым, потому что до Охты отсюда меньше чем за два часа не дойти, а извозчики на этих наших улицах редко попадаются. Идите вот так…
12
Землячка, примерно ровесница ему по годам, но выглядевшая значительно старше, может быть, потому, что очень уж была неулыбчива и тугим зачесом волос у висков напоминала строгую учительницу, встретила Дубровинского ядовитым вопросом:
— Московский поезд приходит засветло. Где же вы так долго шатались?
Ему захотелось ответить не менее ядовито, но он сдержался. Рассказать о том, в какую было попал он историю и как из нее выпутался? От этой сердитой женщины похвалы все равно не заслужишь. Скорее, получишь еще один выговор. И он ответил сдержанно:
— Петербург — город для меня незнакомый, и я, Розалия Самойловна, считал себя обязанным соблюдать осторожность.
Она пригласила его к столу, накрытому свежей льняной скатертью, села, положив подбородок на сцепленные кисти рук, а локтями упираясь в столешницу. Спросила:
— Есть хотите? — И, не дожидаясь ответа, добавила: — За занавеской на окне стоит молоко. Хлеб там же. Чай не обещаю. Хозяйке нездоровится. Поешьте, а потом будем разговаривать.
— Спасибо, я не голоден, — сказал Дубровинский. Он говорил неправду, но этим отвоевывал себе какую-то частицу права на самостоятельность, сразу же властно отобранную у него Землячкой.
— Вас не удивляет, Иосиф Федорович, мое настойчивое желание повидаться с вами?.
— Нет, если вас не удивляет точно такое же стремление с моей стороны.
— Что же, это уже лучше. Сожалею, что наши пути не скрестились в Баку. Вы там сумели побывать со своей примиренческой резолюцией до моего приезда.
— И, как вам известно, Розалия Самойловна, моя резолюция была принята.
— Совершенно верно. А известно ли вам, что недавно в Тифлисе состоялась конференция всех кавказских комитетов, в том числе и Бакинского, и принята моя резолюция? Отвергающая вашу. Резолюция с призывом агитировать за созыв Третьего съезда?
Наступило короткое трудное молчание. Землячка жестким, холодным взглядом всматривалась в Дубровинского.
— Именно это мне пока неизвестно, — наконец проговорил Дубровинский. — Но мне известно другое. Все усилия ЦК предотвратить дальнейший развал партии опрокидываются такими вот поездками, как ваша. Происходит неприглядная борьба, в которой отдельные члены партии противостоят Центральному Комитету в целом, как своему руководящему органу. Имею в виду и лично вас, Розалия Самойловна.
— Любопытно! — чуть насмешливо отозвалась Землячка. — Незаконно кооптированный член ЦК обвиняет в свершении незаконных действий выведенного незаконно из состава ЦК другого товарища.
— Вы трижды произнесли слово «незаконный». Нам трудно будет продолжать разговор, Розалия Самойловна, пока вы не возьмете свои слова обратно или не докажете, что они справедливы.
— Из этого следует, как я понимаю, что вы убеждены, допустим, будто я законно выведена из состава ЦК? И ваша убежденность основана на доказательствах?
Язвительный тон, каким говорила Землячка, коробил Дубровинского. Все время получалось так, что ему приходится объясняться, оправдываться. Он пошел на открытое обострение.
— А вы что же, Розалия Самойловна, хотите этим сказать, что я фальшивый человек?
— Нет! С фальшивым человеком я не искала бы встречи, — с не меньшей резкостью, чем и Дубровинский, проговорила Землячка. — Вы просто чересчур доверчивы. Добавлю: и наивны. Еще добавлю: и честны. Лишь поэтому я надеюсь, что мы закончим свой разговор не так, как начали.
— Вы сами пожелали выйти из состава ЦК, — стараясь не сорваться вновь, начал Дубровинский. — Вы подали об этом заявление. Вы перешли в Петербургский комитет, а по Уставу…
— Не продолжайте, Иосиф Федорович! Вы повторяете формулировки Носкова. Они им были отточены до вашей кооптации в ЦК, и вы их приняли на веру. Мое заявление?.. Не было заявления! Однажды на коллегии, измученная изнурительным спором с Носковым, я воскликнула: «При таких обстоятельствах я не могу продолжать работу в ЦК!» И это оказалось записанным в протокол как мое заявление о выходе из ЦК. Разумеется, запись мне не показали. В Петербург я поехала не по своему желанию, а именно по поручению коллегии ЦК и без предупреждения, что с меня автоматически снимаются полномочия члена ЦК. Наконец, обо всем этом не поставили в известность Ленина. А он-то ведь тоже член ЦК и член Совета партии! Вы говорите: по Уставу. А я говорю: подтасовано под Устав. Точно так считает и Владимир Ильич. Но его протестом пренебрегли. Вы все еще продолжаете утверждать, что я выведена из состава ЦК законно?
— Эти подробности мне не были известны, — с усилием выговорил Дубровинский, ошеломленный столь неожиданным для него поворотом. — Вероятно, в таком случае…
— Надо было еще побороться? — подсказала Землячка. — Боролись достаточно. Дальнейшая борьба все равно ни к чему. Центральный Комитет теперь в руках меньшевиков, а я большевичка. И не примиренка, как вы, Иосиф Федорович! Я подписала женевское воззвание двадцати двух большевиков к партии, и это наша политическая платформа. На ней мы стоим законно — слышите, Иосиф Федорович? — законно агитируя за созыв Третьего съезда! И нас поддерживает большинство. Надеюсь, этот факт вы не станете оспаривать?
— Сам факт оспаривать не стану. Оспариваю закономерность его возникновения. Так же, как вы оспариваете законность моей кооптации в ЦК.
— Не только лично вас! Но и других. Для того чтобы кооптация была законной, требовалось единогласие всех членов ЦК.
— Кооптация проведена единогласно, Владимир Ильич воздержался от подачи голоса.
— Неправда! Он не воздерживался, он протестовал.
— Совет партии признал июльское постановление ЦК законным. Общее собрание всех социал-демократов, находившихся в Женеве, также одобрило его.
— Совет партии узурпирован меньшевиками. Резолюцию общего собрания принимали одни меньшевики.
— По большинству голосов, — попытался уточнить Дубровинский.
— Нет! В чистом виде одни меньшевики. Большевики покинули это собрание.
— Не потому ли, что на собрании они оказались в меньшинстве и должны были бы подчиниться воле большинства? — Дубровинскому почудилось, что наконец-то он берет верх в споре.
— Именно поэтому! — отрезала Землячка, отнимая у него возможность торжествовать победу. — Иосиф Федорович, большинство — это не собрание эсдеков в Женеве. И не теперешний Центральный Комитет, Совет партии, Заграничная лига и редакция «Искры». Большинство — русские комитеты партии! Большинство — вся партия! Этот факт вы признали сами. И это большинство с нами, с Лениным, с большевиками, а не с меньшевиками и примиренцами.
— Однако, по вашим словам, странное создается положение, — теряясь, пробормотал Дубровинский. — Большинство — это вся партия, а руководящие органы как бы уже и не партия, поскольку они не в ее большинстве. Тогда что же они такое?
— У партии сейчас нет руководящих органов! Они порвали с партией. Признать за ними руководящее начало — значит вернуться опять к кружковщине. Отказаться от организованности. Потерять революционность. Потерять авангардную роль в рабочем движении. Отдаться во власть оппортунизма. Вымаливать покорно у предпринимателей подачки. И мечтать, что когда-нибудь и что-то само по себе образуется. Мягонькая конституция и так далее. Волки будут пасти мирное овечье стадо… Вам этого хочется, товарищ член Центрального Комитета? Ведь вы так старательно боретесь против досрочного созыва съезда партии! А только съезд единственно и может положить конец сползанию руководящих органов партии с революционных позиций. Ленин назвал это «Шаг вперед, два шага назад». Вам хочется сделать третий шаг назад? А потом и вообще повернуться спиной к будущему и, припрыгивая, побежать под гору?
Дубровинский выпрямился. Эти слова били больно и оскорбительно. Он испытывал такое чувство, будто сидит со связанными руками, а Землячка наотмашь хлещет его по щекам. И закричать даже нельзя. Потому что бьет она справедливо. Но только почему же она не хочет понять, что поиски средств к установлению мира, взаимодоверия в партии вовсе не отказ от революционности?
— Это жестоко, Розалия Самойловна! И незаслуженно, — сказал Дубровинский, внутренне приготовившись грубо оборвать ее, если разговор будет продолжен в таком же тоне, и уйти. Что ж, что на ее стороне много бесспорных истин, он по-своему тоже прав. — Как член ЦК, я не считаю себя самозванцем. Как член ЦК, я обязан выполнять постановления коллегии. Как член партии, я верю в политическую целесообразность решений Центрального Комитета.
— Вы знаете народную поговорку, Иосиф Федорович: «Кого люблю, того и бью»? — В холодном взгляде Землячки словно бы промелькнули теплые искорки. — Жестоко? Может быть. Незаслуженно? Может быть. Именно потому, что вы не самозванец, я и разговариваю с вами. Но для того, чтобы вы не считали себя обязанным выполнять неискренние и политически вредные постановления, я вам даю прочесть вот это.
Она поднялась, ушла в глубину комнаты и вернулась с тоненькой брошюрой. Положила ее на стол перед Дубровинским, а сама, кутая плечи в тонкую шаль, стала в стороне. Проговорила бесстрастно-ровным голосом, глядя мимо Дубровинского:
— Очень возможно, что в России вы читаете это одним из первых.
Брошюра называлась «Заявление и документы о разрыве центральных учреждений с партией». Вверху, над заголовком, стояло: Н. Ленин. Начиналась она словами: «В № 77 „Искры“ три члена Центрального Комитета, говорящие от имени всего ЦК, вызывают на третейский суд тов. N „за ложное заявление с целью дезорганизовать партию“. Это якобы ложное заявление сделано „через члена ЦК, не принимавшего участия в выработке декларации“, т. е. через меня…»
Дубровинский жадно пробегал строчку за строчкой:
«…Я обвиняю 3-х членов ЦК, Глебова, Валентина, Никитича, в систематическом обмане партии»,
«…они употребили власть, полученную ими от II съезда партии, на подавление общественного мнения партии…»,
«…спекулируя на доверие к себе, как к членам высшего партийного учреждения, вводили в заблуждение комитеты…»,
«…заявляя комитетам о своей принципиальной солидарности с позицией большинства… входили тайно от партии и заведомо против ее воли в сделку с меньшинством…»,
«…Они разрушили всякую основу партийной организации и дисциплины, предъявив мне (через т. Глебова) ультиматум о выходе из ЦК или прекращении агитации за съезд».
А Землячка между тем холодно и бесстрастно говорила:
— Товарищ N, о котором пишет Владимир Ильич, — это я. Как со мной разделались «три члена ЦК», я вам уже рассказала. В какое положение, как член ЦК, поставлен Ленин, вы видите. Обратите внимание на некоторые цитаты во второй части этой брошюры: цитаты из писем Носкова-Глебова к членам русской «коллегии» ЦК. Вы входите в эту коллегию. Вам известны эти письма?
Перед глазами Дубровинского плыли строки: «Обращаю внимание на выраженное желание Совета о пополнении… Придется выбрать кого-нибудь вместо Ленина, что он объявит, конечно, незаконным. Я бы предложил выбрать в Совет Дана или Дейча…»
Он поднял голову, прочел эти строки вслух. Спросил в тревожном недоумении:
— То есть как Дана или Дейча? Их тоже кооптировать в ЦК? Этих громил?
— Что вы меня об этом спрашиваете! — сказала Землячка, не двигаясь с места. — Вы член ЦК, а не я. У вас, а не у меня есть какие-то права предлагать кооптацию. Но вы почитайте дальше, что пишет Любимов-Марк Носкову…
Дубровинский с усилием читал: «По поводу декларации получилась такая каша, что трудно разобраться. Ясно одно: все комитеты, кроме Харьковского, Крымского, Горнозаводского и Донского, — комитеты большинства… Полное доверие ЦК получил от очень незначительного числа комитетов… По настроению же комитетов ясно видно, что на съезде пройдут постановления в духе 22-х, т. е. смещение редакции и передача в руки большинства, изменение Совета партии и т. д.»
— А вы, Иосиф Федорович, бьетесь, чтобы повернуть комитеты на свою — на чью, свою? — сторону, — говорила Землячка, угадывая, какое смятение охватывает душу Дубровинского. — В цитатах встретятся знакомые вам утешения, с которыми ЦК обратился в упрямые комитеты. Дескать, ЦК никакого меньшинства в свой состав не кооптировал. А Розанов, Крохмаль, Александрова? Входят они сейчас в состав ЦК или не входят?
— Входят, — как ученик учителю, ответил Дубровинский. И снова вслух прочел: — «…если говорить об уступках, то они могут быть только со стороны меньшинства и должны заключаться в отказе от фракционной полемики ЦО, в распущении тайной организации меньшинства, в отказе от кооптации членов в ЦК… Только при этих условиях возможно восстановление мира в партии…» — Дубровинский отодвинул брошюру. — Розалия Самойловна! Это письмо Центрального Комитета мне знакомо. Но ведь именно так и я понимаю, пропагандирую идею примирения в партии. То есть, оставаясь на принципиальных позициях большинства…
— Иначе говоря, Иосиф Федорович, — перебила его Землячка, — вы полагаете, что Центральный Комитет ведет честную и открытую борьбу в тех коренных интересах партии, которые отстаивает большинство?
— Только так! Никакого заигрывания с меньшевиками!
Землячка подошла, перевернула в брошюре страничку.
— Читайте еще: «…Предстоит на днях собрание всего ЦК вместе с нами, и затем мы назначаем конференцию наиболее близких комитетов… Мы, конечно, вполне уверены, что овладеем ЦК и направим его как нам желательно…» Не глядите на меня так растерянно, Иосиф Федорович! При вашем грозном «никакого заигрывания с меньшевиками» они уже тем временем овладели ЦК, и вы работаете совсем не на мир в партии, как вам кажется, а на всемерное укрепление сил меньшинства. Так с кем же вы, Иосиф Федорович? Я вынуждена в упор поставить вам этот вопрос!
Поглаживая усы, Дубровинский молчал. Все, чем он жил увлеченно последние месяцы, рушилось. Мир в партии, который был ему так желанен и виделся как нечто вполне реальное и зависящее лишь от малых уступок со стороны Ленина, оказался фальшивой приманкой меньшевиков. Разговаривая о мире, они тем временем любыми путями захватывали ключевые позиции в руководстве партией. А он слепо верил Носкову, Гальперину, Красину. Как же они-то попались в ловушку? Или и они теперь полностью на стороне меньшинства?
— Положение сейчас таково, — продолжала Землячка, понимая, что немедленного ответа от Дубровинского на свой вопрос она не получит, — все руководящие органы партии в руках меньшевиков, подавляющее большинство комитетов, а значит, всей партии — с большевиками. Если промедлить, печатная пропаганда «Искры», директивы ЦК, старания всех его представителей, как вы, капля за каплей, начнут отравлять и комитеты. Вы понимаете? Боевая революционная партия пролетариата постепенно перестанет существовать. Рабочее движение будет предано.
— Какой же выход теперь? Именно теперь? — Дубровинский поднял на Землячку страдающие глаза. — Отбрасываю все, что было! — Он ребром поставил ладонь правой руки на стол и сделал движение, словно бы отрезал нечто лишь ему одному видимое. — Как член ЦК, я отныне не подчиняюсь июльскому постановлению, я буду вести и в ЦК и в комитетах агитацию в пользу созыва съезда. Но вдруг этого мало! Что могут значить мои старания, когда между всеми руководящими органами партии и самой партией легла такая глубокая пропасть! Да и в Центральном Комитете даже один я погоды не сделаю.
— Там есть еще Квятковский и Сильвин, — заметила Землячка. — Но, разумеется, этого недостаточно. Работайте! Работайте с такой же энергией на укрепление партии, с какой вы работали на ее разрушение. А что касается успеха в агитации за созыв съезда, этот успех все равно теперь не будет зависеть ни лично от вас, ни от Центрального Комитета в целом. Могу заявить вам: ныне создано Бюро большинства и принято решение об издании большевистской газеты «Вперед». Владимир Ильич возглавляет всю эту работу. А одним из членов Бюро являюсь и я. В нашем распоряжении достаточное количество комитетских резолюций, чтобы от имени большинства комитетов, как это положено по Уставу, объявить о созыве съезда. И мы это вскоре сделаем! Вам, как члену ЦК, разумеется, никаких указаний я дать не могу. Но от вас никаких указаний тоже не приму. На этом, если хотите, можем расстаться.
Дубровинский поднялся, медленно подошел к двери, где, зацепив за какой-то гвоздик, при входе повесил пальто, и стал одеваться. Чуть наклонив голову к плечу, Землячка молча наблюдала за ним.
— Прощайте, Розалия Самойловна! — сказал Дубровинский, вертя в руках шапку. — Сегодня вы мне открыли глаза на многое. Указания, как члену ЦК, я сам себе сделаю. Но мне хотелось бы услышать от вас просто дружеский совет: где и в чем я мог бы принести наибольшую пользу? Мне подумалось, мы расстаемся единомышленниками.
Землячка приблизилась, подала ему руку.
— Я боялась, что вы уйдете, не произнеся этих слов. Но теперь к тому, что было мною сказано, я могла бы, пожалуй, добавить следующее. Особо беспокойное положение создалось здесь, в Петербурге. Нет, не в Комитете. Тревожно то, что происходит в рабочей среде. А Петербург — главная сила российского пролетариата. Разлад в партийном руководстве помешал нам в должной степени распространить свое влияние на питерских фабриках и заводах. Там усердствует сейчас поп Гапон. А это хуже зубатовщины. И трудно представить, как будут дальше развиваться события. Есть уже случаи, когда партийных агитаторов рабочие прогоняли со своих гапоновских собраний. Они слепо верят этому попу. К тому же все время вокруг Гапона вьются эсеры. Сумятица в умы рабочих вносится невыносимая. Нас, нашего большевистского слова в Питере просто не хватает. Остальное не мне вам подсказывать. Знаю, что вам строжайше запрещено проживать в столицах. Да и город для вас незнакомый. Если угодно, дам адрес, где можно устроиться без прописки. Даже сегодня. — Она назвала улицу, номер дома, пароль, с которым следовало обратиться к хозяину. — Отсюда это не так далеко. Но прежде выпейте молока. Оно на окне за занавеской. Там же и хлеб. Вы очень голодны, я вижу. Прощайте!
Повернулась и ушла куда-то в глубь квартиры, оставив Дубровинского одного.
13
Слабый свет лампады, теплящейся перед иконой Георгия-победоносца, разноцветными мигающими искорками отражался на стеклянных елочных украшениях. Пахло растопленным воском и еще чем-то, совершенно домашним, но свойственным лишь большому, торжественному празднику. Был третий день рождества.
Давно прошла пора ужина, даже самого-самого позднего. Все перетомилось в печи. Тонко попискивал на кухне самовар, в который то и дело подбрасывались хрусткие березовые угли. А дверь большой комнаты, где находилась рождественская елка и куда удалился хозяин дома священник Гапон, чтобы перед трапезой помолиться, все оставалась закрытой. Дети его, сын Алексей, дочь Мария, изголодавшиеся, бродя по соседней комнате с накрытым столом, в тревоге поглядывали на дверь, но открыть ее не решались. Слишком уж строго прозвучал приказ отца: ему не мешать. Он вернулся откуда-то на себя не похожий, осунувшийся, с горящим взглядом, прошагал мимо. За последнее время с ним такое стало случаться часто.
Гапон не молился. Сбросив давящий под мышками кашемировый подрясник и оставшись в исподнем, он повалился в мягкое кресло. Уставился неподвижным взглядом на икону святого, имя которого сам он носил, а думал совсем о другом. Настолько земном, что порою в воспламененном сознании Гапона скачущий на коне Георгий-победоносец виделся как бы его, гапоновским, отражением в зеркале.
В ушах звучали слова, которыми только что завершилось заседание «штабных».
— Хотите сорвать ставку, ну, срывайте! — повторил Гапон вполголоса и приподнял правую руку, как это сделал там, голосуя.
А сам зажмурил глаза в томительном предчувствии какого-то крупного поворота своей судьбы, поворота, свершаемого по его же плану, но не так и не тогда, когда было бы нужно.
Изгнанием Зубатова из полицейского мира не окончилось затеянное им дело. Одесская забастовка, грозившая перерасти в кровавый бунт, была подавлена вооруженной силой. Виновник государю назван, наказан — козел отпущения нашелся, — и можно на досуге разобраться, рубить ли все под корень или погодить. Приостыв, фон Плеве размышлял: «А что, если это только Одесса? И просто роковое стечение обстоятельств. Нельзя отрицать определенного успеха „зубатовских“ обществ в Москве. Разделаться с ними решительно… Рабочие, приученные легально собираться вместе, куда, к кому потянутся? Да конечно же к эсерам и эсдекам, особенно к последним, открыто провозгласившим создание рабочей партии! Но партии, не желающей идти на поклон к самодержавной власти, готовящейся вступить с нею в бой. Что же, вызов принят. Надо ли только спешить подбрасывать им силы, которые пока еще не в их руках? Повременить!»
Фон Плеве не был удивлен, когда спустя всего лишь два месяца после одесских событий к нему на прием попросился Гапон. Явился с проектом устава рабочего общества «совершенно иного характера, нежели созданные господином Зубатовым». Это привлекало. В уставе предлагаемого «Собрания русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга» и тени не было претензий на какую-либо активную роль в защите их интересов перед хозяевами промышленных предприятий. Только забота «о трезвом и разумном препровождении членами „Собрания“ свободного от работы времени, с действительной для них пользой как в духовно-нравственном, так и в материальном отношении». Главное, что полиция при этом как бы оставалась совсем в стороне и в то же время имела полную возможность любого вмешательства в деятельность «Собрания». И Плеве дал свое благословение. Даже негласно заглянул в первую новооткрытую Гапоном «чайную» на Выборгской стороне. Более того, в нужное время подсказал начальнику Санкт-Петербургского охранного отделения, чтобы тот возместил «Собранию» все расходы по оборудованию этой «чайной», да не забывал бы об этом и в дальнейшем. Тот вручил пакет с кредитками Гапону, сославшись на неведомого купца-благотворителя, который попросил передать деньги без упоминания его имени. И Гапон, понимающе принимая пожертвование, пообещал, что будет молиться за благодетеля.
А в дружески-почтительном письме своему наставнику Зубатову между тем рассказал: «Мы держимся выжидательной политики: хочется возможно более гарантировать свою автономию, свою самостоятельность. Не скрываем, что идея своеобразного рабочего движения — ваша идея, но подчеркиваем, что теперь связь с полицией порвана, что наше дело правое, открытое, что полиция может нас только контролировать, но не держать на привязи». Зубатов ответил ласково: «Дай-то вам бог, дорогой друг, преуспеть в тех великих свершениях на благо отечества, в каких мои усилия были жестоко пресечены».
Читая этот ответ, Гапон грустно-сожалительно усмехнулся. Умен, умен, Сергей Васильевич, ничего не скажешь. Да только как же при своем большом уме он не предугадал, что будет «жестоко пресечен» всенепременнейше! Мыслимо ли вознестись начальнику охранки до стояния рядом с троном государевым, обойдя толпы слепяще-именитых, чиновных и титулованных особ! А заодно и лиц, звонких титулов, быть может, не имеющих, но при солидных капиталах. Эх, Сергей Васильевич, тут уж, как ты ни верти, долго в равновесии не удержишься! Циркач и тот способен ходить лишь по короткой проволоке. Протяни ее на полсотни сажен — ух как начнет раскачиваться! И либо лопнет, либо просто циркача сбросит, а результат будет один — тот, что у тебя, Сергей Васильевич. Порадел в защиту интересов рабочих, значит, наступил на хвост предпринимателям. Середины там, где деньга звенит, не найдешь. Копейка, та, что в кармане рабочего, одновременно в карман хозяину уже не попадет. Вот и сломал себе голову. Капитал и похитрее и посильнее тебя оказался. А рабочему ты тоже не брат. Посчитай, скольких людей в тюрьму да на каторгу упек? И у всех на виду. Это ведь тоже не забывается.
В экстазе Гапон тогда по целым ночам простаивал на коленях перед иконой Георгия-победоносца, моля святого умудрить его разум. А помолившись, отдохнув, рационалистически строил лестницу своего возвышения. Более надежную, чем ту, по которой пытался взобраться Зубатов. Ласково поглаживал подрясник, серебряную цепь с наперсным крестом; вместе с именем божьим в его златоустых речах эти грубо вещественные приметы священнического сана придавали ему в народе магическую силу. «Батюшка наш» превосходно годился для защиты простого люда перед богом. Почему бы народу не признать его верным защитником и перед царем? Что же касается «золотого тельца», посягать на него и не надо. Оставить пока совсем в стороне междоусобные раздоры труда с капиталом. Души людские! В души людские стучаться следует, их возвышать, нравственно совершенствовать.
И Гапон мысленно видел, как раскидываются широко по земле русской отделы его «Собрания», как рабочие приобщаются к трезвенной жизни, к чтению книг, к слушанию патриотических лекций, к мирным беседам за чайным столом. Все начинается с молитвы и молитвой кончается.
Тут же видел он и себя. Но не приходским священником, читающим каждое воскресенье проповеди в храме, наряду с евангельскими чтениями скользящими мимо ушей богомольцев, а пастырем великим, из храма божьего вошедшим в каждый дом и в каждую жизнь человеческую; видел себя проповедником, молва о котором гремит по всей земле и слову которого послушна вся паства. Тогда, не стремясь, подобно Зубатову, к попранию авторитета чиновных и денежных тузов, а соединяя в делах своих только идею всесильного бога и всесильного царя, идею, сильными мира не отвергаемую, ибо им отвергнуть ее и нельзя, — разве не станет возможным вознестись надо всеми. Стать как бы властительным кардиналом Ришелье при безвольном Людовике XIII… Кружилась голова от дерзких мыслей.
Все обещало успех. Питерские рабочие, недоверчиво относившиеся к полицейским «зубатовским» обществам, охотно записывались в гапоновское «Собрание». В помещениях «отделов», негласно содержимых на средства охранки, было чисто, светло, и велись разговоры, не бередящие душу нуждами каждого дня. Промышленники и государственный их опекун граф Витте на эту затею смотрели снисходительно, кой-кто из предпринимателей даже подбрасывал «отделам» понемногу деньжат. Уставом «Собрания» было предусмотрено, что из средств общественной кассы взаимопомощи не могут выдаваться пособия в случае стачки, а стало быть, подчеркивалось полное невмешательство «Собрания» во взаимоотношения рабочих с предпринимателями. Полиция ответно не вникала во внутренний распорядок деятельности «отделов», этим ведали избранные самими рабочими правления, правда состоящие почти целиком из интеллигентных лиц духовного или светского звания и порядка ради утверждаемые градоначальником.
С наступлением «весны Святополк-Мирского» начались и еще большие послабления. Возможным стало обсуждение газетных статей, подчас носивших довольно острый характер, а потому и привлекавших повышенный к ним интерес. Жены рабочих с радостью отмечали, что их мужья стали поменьше заглядывать в бутылки, а, возвращаясь с собраний в «отделах», приносят умные мысли.
Но откуда же, как взялось все это доброе? Кто вдохновитель? Кто приоткрыл створки окна и осветил хотя и малым пока лучиком света безрадостную рабочую жизнь?
Так имя Гапона постепенно оказалось у всех на устах. И большим счастьем считалось встретиться, поговорить с ним лично, почувствовать пожатие его теплой руки.
Успех был потрясающ. И даже попытка распространить свое влияние на вторую столицу, закончившаяся тем, что Трепов в Москве арестовал его и выслал, а Плеве извинялся перед великим князем Сергеем Александровичем и обещал не расширять поле деятельности «Собрания» за пределами Петербурга, ничуть не обескуражила Гапона. Пожалуй, еще больше разожгла его пыл. Вот он каков, что заставил сшибиться лбами могущественного министра внутренних дел и генерал-губернатора из царской фамилии! И если этот же самый генерал-губернатор при благосклонном содействии этого же самого министра в свое время словно метлой легко смахнул Зубатова, тут дело не пошло дальше обмена письмами. Потому что Гапон есть Гапон.
Недолгую грусть причинила и бомба эсера Сазонова, вырубившая под корень фон Плеве, заботливого покровителя Гапона. Князь Святополк-Мирский оказался еще более покровительствующим. Он тоже понимал, что Гапон есть Гапон.
Но по мере того как ширился размах перелицованного Гапоном зубатовского рабочего движения, естественно, возникали в его глубинах и страстные противоречия. Противоречия между покорностью судьбе, самодержавной воле царя, куда гнул Гапон, и стремлениями вырваться из-под этого гнета, к чему властно призывал сам дух времени, пронизанного революционными идеями. От них можно было закрывать окна и двери — они проходили сквозь стены. Читалась просветительская лекция об открытии Колумбом Америки, а по окончании лекции кто-то задавал вопрос: «Почему сразу же у Порт-Артура японцы потопили всю нашу эскадру? Верно, что она к войне не была подготовлена? А на этом, ясно, высокие чины себе руки погрели». Почтенный доктор рассказывал о том, как важно соблюдать личную гигиену, а его спрашивали: «Когда установят восьмичасовой рабочий день? Война совсем народ разорила. Все дорожает, а прибавка-то будет ли? Доколе нас будут штрафами мордовать?» И все чаще, хотя пока еще миролюбиво, поговаривать стали рабочие, что не худо бы к кому-то повыше обратиться со своими повседневными нуждами, попросить защиты от произвола хозяев. А это не отвечало задачам гапоновского «Собрания», не дозволялось уставом.
Партийные агитаторы, проникавшие в круг завороженных Гапоном рабочих, стремились ставить вопрос острее, решительнее. Заканчивали свои выступления призывом: «Долой самодержавие!» Их слушали внимательно, сочувственно вздыхая, но когда в конце речей в зал летели огневые, хватающие за душу призывы, им ответно, с не меньшим возбуждением кричали: «Царя не трожьте! Он наше прибежище!» Однако брошенные агитаторами слова так или иначе тлеющими искорками западали в сознание рабочих.
Собирались «штабные», ответственные руководители отделов «Собрания». Обсуждали, как им дальше строить свою работу. Увлекала безбрежность возможностей к ее расширению. Но эта же безбрежность и страшила, когда думалось о толпе, способной вдруг превращаться в неуправляемую стихию, в слепую силу. А «Собрание» в своем численном составе разбухало уже до таких пределов, когда становилось толпой…
Гапон потер пылающее от внутреннего жара лицо, забрался тонкими, длинными пальцами в густую гриву, встряхнул ее несколько раз. Да, решение принято! Но что будет потом?
Ему припомнилось одно из собраний в особо любимом им Нарвском отделе, председателем которого был рабочий Петров, преданный ему так же фанатично, как стремянный Васька Шибанов мятежному князю Курбскому из знаменитой поэмы Алексея Толстого. Гапон тогда держал речь в настолько переполненном зале, что вся людская масса, стоящая на ногах, казалась спрессованной в один черный пласт, на котором пестрели отдельные лица. Говорил он о том, что нужно больше привлекать в «Собрание» женщин, открывать им здесь глаза на мир. Ибо по темноте вековечной женщины часто отвращают и мужей своих от жажды просвещения. А негоже, когда семья разделена в круге общих забот. Тишина царила такая, что, снижая свою речь временами до проникновенного шепота, он все равно слышал, как каждое его слово отдается даже в самых дальних углах. Но тут кто-то отчаянно, страдальчески вскрикнул — может быть, от духоты и жары в сердце кольнуло? — произошло короткое движение в сторону двери. Бесполезное, бессмысленное в такой тесноте. Толпа как бы замерла на одно мгновение, а потом вся вдруг шатнулась. Сама по себе, не подчиняясь чьей-то отдельной воле. Он поднял руку: «Братья! Остановитесь…» Но голос его потонул в треске ломаемых дверей и оконных рам, в звоне выбитых стекол, в глухих стонах, истошных воплях. «Так возникают Ходынки», — в ужасе подумал он, чувствуя свое бессилие что-либо сделать. Смертей, к счастью, тогда не случилось, а в больницу свезли многих.
Гапон опять и опять восстанавливал в памяти недавний разговор со «штабными». Он был неизбежен, такой разговор. Тем ли он только кончился?
Один из мастеров Путиловского завода, Тетявкин, уволил четырех рабочих, членов «Собрания», без всякого объяснения причин. Взял и уволил, пригрозив расчетом и еще троим, кинул издевательски: «Не нравится? Идите в свое „Собрание“, оно вас поддержит».
И рабочие пошли искать защиты. Сперва к Карелину и Иноземцеву, выборным руководителям «Собрания», а потом и к нему, к Гапону, выше которого, кроме царя и бога, никого для них уже не было.
Но устав «Собрания» — внутренний его закон, о котором знали и рабочие и конечно же знал и мастер! В уставе ясно сказано, что «Собрание» во взаимоотношения рабочих и предпринимателей не вмешивается. Так и жили. Мало ли по городу случалось увольнений? И всяких других споров на заводах и фабриках? Это «Собрания» не касалось, это все понимали. Почему же с дерзким вызовом ныне мастер увольняет сразу четверых, грозит тем же еще троим и тут же настойчиво посылает их в «Собрание» за поддержкой?
Тяжело было идти для объяснений к Тетявкину. Просить его взять уволенных обратно на работу. Но сломил гордыню.
Тетявкин хамить не стал, от стыда прикрыл лицо руками. Сидели, разговаривали только вдвоем.
«Батюшка! Не погуби, скажу как на исповеди, — признался мастер. — Не от меня это. Сделал я, как мне велено главной администрацией. И проси не проси, батюшка, глух я теперь, словно дерево».
«Для чего же им было такое приказывать?»
Тетявкин замялся. А потом сказал с какой-то отчаянностью:
«Разве мне своим умом проникнуть в ихние мозги? А ежели предположить только, что получится? Сотнями, тысячами рабочие записываются, батюшка, в ваше „Собрание“. Это же становится сила великая. А куда она повернет? Вот и дают понять: далее ходу не будет».
Дали понять. Это точно. Поговаривают, будто Смирнов, директор Путиловского, в сговоре с администрацией других заводов. Дело не в четырех уволенных. Коса на камень нашла — вот в чем суть. Или ты, Гапон, сам остановись, или тебя остановят.
Он крутил головой, потрясал сжатыми кулаками. Остановиться — все одно что приковать себя к позорному столбу. В «Собрании» ведь тысячи людей, тысячи! Будут миллионы! Он показывает путь, и за ним идут: как слепые за поводырем идут, как затерянные в пустыне за явившимся к ним спасителем. И от этого он никогда, никогда не откажется! Не может бог отказаться от власти над всем миром, которая ему самим существом его дана. Не может царь отказаться от власти над народом своим, которая ему богом дана. Не может он, Гапон, отказаться от власти над этими тысячами, которая ему их верой в него дана!
Попроситься на разговор к самому князю Святополк-Мирскому? Но ведь тайное всегда становится явным. Узнай рабочие, кто им в этот раз руку подал — охранка, полиция, — отшатнутся от него, от Гапона, как от лжеца и обманщика. Да еще подаст ли руку полиция? Принимая свое решение, наверняка не обошел их господин Смирнов. Нет и нет! Пусть на глазах народа священника Георгия Гапона, как Христа, распинают!
Но Иноземцев заговорил на совещании «штабных», что вот, мол, собираются же на банкетах либералы и шлют государю верноподданнические адреса. В них между тем вписывают и покорнейшие просьбы свои. А саратовское земство обратилось даже с пространной петицией, и принята она благосклонно. Почему бы не послать и от «Собрания» такую петицию?
Туп человек! Не может этот Иноземцев понять, что если Смирнов действовал в сговоре с другими заводчиками, он обеспечил себе заранее защиту и на верхах. А надеяться, будто петиция, миновав всех чиновников, попадет прямо в руки царя и царь без совета с ними примет решение, на это дураки пусть надеются. Торопиться нельзя. Надо сначала все хорошенько разведать, найти верный ход.
Средь «штабных» смятение началось: зачем медлить? Куй железо, пока горячо! Ждут ведь рабочие, взглядов не спускают: «Что же вы, головка „Собрания“ нашего, за нас вы или против нас?»
Карелин поднялся: «Товарищи! Издевательски нас называют зубатовцами. Но зубатовцы себя оправдали тем движением, что было от них в Одессе. А мы оправдаем себя подачей петиции. Иначе не будет доверия нам».
Вон куда метнул! Намекнул: на разрыв с тобой пойдем, батюшка, если и еще станешь противиться. Выиграем дело без тебя — что скажет народ про тебя?
— Хотите сорвать ставку, ну, срывайте! — еще раз вслух повторил Гапон.
Он сидел, зажмурив глаза. Снежный ком покатился и будет теперь неудержимо катиться под гору, прилепляя на себя все, что попадется ему на пути. До каких размеров он дорастет? Где, какая богом назначена ему остановка? Ишь Карелин: «Зубатовцы в Одессе себя оправдали…» Смотря с какой стороны на это взглянуть. А Сергей Васильевич навсегда закатился. И рабочие в зубатовцы уже не идут: вера потеряна. И сама полиция, даже в Москве, к ним с прохладцей. Оправдала Одесса совсем не зубатовцев, а революционеров. Зубатовцы для них лучину нащепали, а огонь-то они зажгли.
Гапон со стоном упал ниц перед иконой, бил усердно лбом в пол, покрытый пушистым ковром. Потом откинулся всем корпусом назад, воздел руки резким движением, словно стремясь взлететь:
— Господи! Не оставь меня милостию твоей! Святой Георгий, укажи мне путь истинный!
Он покорно опустил голову, и длинные волосы рассыпались у него по плечам, сползли на грудь. Так, на коленях, точно бы в забытьи, простоял он долго. И вдруг опять рывком вскочил, забегал по комнате.
— Назад ходу нету, — бормотал он, расстегивая ворот рубахи. — А коли уж только вперед — никто другой!.. Нет, никто другой! В сияние вечной славы или на плаху — все едино, Гапон!
Дверь приотворилась. На ковер упала желтая полоса яркого света, резанула глаза. Гапон вздернул головой, будто его ожгли каленым железом. Экономка Елена, заправлявшая всем его домом после смерти жены, что-то испуганно шептала, спрашивала.
— Вон отсюда! — закричал он, топая ногами. — Вон! Дверь гвоздями заколоти! И потом чтобы даже дыхания твоего в доме не было!
Всю ночь он провел то в молитвах, то в путаных размышлениях, носился из угла в угол по комнате или тяжелым камнем падал в кресло и сидел не шевелясь. Потом примащивался под лампадой за небольшим столиком, где лежали псалтырь, серебряный крест, поминание, просфоры, стопка чистой бумаги, и писал, писал торопливо, размашисто, тут же рвал и кидал на пол. Это были наброски петиции государю императору от имени рабочих Санкт-Петербурга и отдельно — личных обращений к царю, к графу Витте, к князю Святополк-Мирскому, к Фуллону, петербургскому градоначальнику.
Под утро все написанное Гапон сгреб в кучу, истоптал ногами и, скорчившись в мягком кресле, забылся коротким, тревожным сном. Ему привиделась черная пропасть, в которую он сорвался, летит, летит и никак не может достигнуть дна…
Встретил новый день он уже, как всегда, оживленный, резкий в движениях, в разговоре. Завтракая, ничем не напоминал Елене о своей вчерашней необузданной вспышке гнева. Она делала вид, что и вправду ничего не было. Изорванную, затоптанную бумагу Гапон сам подобрал и сжег в плите.
Днем он собрал всех «штабных» и объявил, что петицию государю надо готовить, но совсем не поминая в ней случая с уволенными рабочими. Глядеть на эту беду надо шире. Попросил «штабных» вступить в связь с эсерами и эсдеками: «Все равно они в это дело впутаются, так уж лучше заранее знать, с какого боку подходить станут. Может, и мысль какую от них занять». Постучаться в сердце к писателю Максиму Горькому — очень отзывчивый человек. А еще обратить наибольшее внимание на «Союз освобождения» — либеральный, интеллигентный, сдержанный. Обязательно посоветоваться там с мадам Кусковой и господином Прокоповичем.
— Если от их «Кредо» целое направление в политике пошло и сам Ленин, умнейший из социал-демократов, с ними в схватку вступил, чего-то они стоят, — сказал Гапон. — А для нас это самые близкие люди. Не к восстаниям, не к оружию призывают, а к мирному разбирательству.
— Все это так, отец Георгий, — уступчиво заметил Карелин. И тут же драматически воскликнул: — А уволенные рабочие? С ними как? Отступиться от защиты их нам невозможно! Позор на наши головы ляжет. Устав там не устав, а вступиться за правду, за справедливость мы обязаны, иначе отвернутся от «Собрания» рабочие. Момент такой — накаленный. Смотрят все, как мы испытание, вызов этот, брошенный нам, выдержим: призовем народ покориться или станем стеной за правду стоять?
— Нам самим стеной стоять! Но в ту стену, что перед нами поставили, зря лбами не биться. Во лбу крепость не велика. А вот внутри черепа — сила. Этой силой, мозгами своими, и надо теперь шевельнуть. Все я обдумал. В петицию случай с уволенными не пишем. Мал он один сам по себе. А насчет самовольства мастера Тетявкина сегодня же послать три депутации от рабочих. К директору Путиловского, к градоначальнику и к фабричному инспектору. Спокойные, без крику и шуму депутации. Правда шуму не требует, она ясностью своей побеждает.
— А не победит? — усомнился Иноземцев. — Что тогда?
— Забастовать! — холодно проговорил Гапон. — Тогда забастовать. Готов на это народ? Готов. А нам от народа не отделяться.
Депутации вернулись ни с чем. И градоначальник Фуллон и фабричный инспектор Литвинов-Фаминский хотя приняли их и выслушали, но вмешиваться в распоряжения дирекции Путиловского завода отказались.
— И принять на работу и уволить с работы — право предпринимателя. Закон не нарушен, — сказал фабричный инспектор.
А градоначальник и вовсе отмахнулся:
— Меня подобные дела не касаются. Ступайте к фабричному инспектору, за соблюдением законов он поставлен следить.
Директор завода Смирнов продержал депутацию у себя в приемной больше двух часов. К нему по вызову заходили конторские служащие. Он разговаривал по телефону. Пил чай. Потом просто так сидел, покуривая. Наконец нажал кнопку звонка. Приказал секретарю впустить рабочих. Встретил их у порога и дальше порога не пустил. Вел разговор стоя, коротко, грубо.
— Зачем явились? На Тетявкина жаловаться? Все правильно!
— Нет, неправильно, господин директор! За что их уволили?
— Вам-то какое дело? Кто вы такие, чтобы допрос мне учинять?
— Мы депутация от «Собрания»…
— К чертовой бабушке ваше «Собрание»! — побагровев, вскрикнул Смирнов. — С каких это пор оно мною командовать стало? Просвещаетесь в нем — и просвещайтесь! А в дела заводские лезть не смейте. По уставу вашему это вам не дано. Марш на работу, не то вычесть прикажу за прогул!
— Мы обязаны заявить от имени «Собрания» требования…
— О «Собрании», я сказал, и слышать не хочу. Никаких его требований не принимаю. Повторяю: они незаконны.
— Подумайте, господин директор. Народ через нас, затаив дыхание, хорошего ответа вашего ждет…
— Мой ответ: работайте, а смуту не разводите. Это очень хороший ответ. Все!
Повернулся к депутации спиной и пошел к своему столу.
На следующий день у проходной было вывешено объявление, в котором от имени директора завода подтверждалась правомерность действий мастера Тетявкина и указывалось на незаконность попытки представителей «Собрания» вмешаться в это дело. В конце объявления содержался призыв к разумности рабочих, кои не должны поддаваться разного рода науськиваниям.
— Славную встречу Нового года приготовили нам хозяева! Вот это подарочек! — говорили в тот день в цехах.
Была и некоторая растерянность. Потому что наряду со своим жестоким и вызывающим объявлением Смирнов распорядился выдать кой-кому из рабочих праздничные наградные. Главным образом тем, кто отличался «примерным поведением».
Новый год прошел у путиловцев безрадостно, в глухой тревоге, в ожидании чего-то недоброго. Да и во всем Петербурге чувствовалась зловещая напряженность. О возникшем на Путиловском заводе остром конфликте писали все газеты. Это происшествие обсуждалось едва ли не во всех домах.
А в воскресный день, следующий за праздником Нового года и обычный для просветительских лекций во всех отделах «Собрания», связных занятий не получилось. Возбужденно митинговали, говорили о чем попало, а больше всего о тяжелом, изматывающем труде и о произволе хозяев. В первую очередь называли при этом администрацию Путиловского завода.
Гапон в тот день на собрании рабочих Нарвского отдела при огромном скоплении народа слушал отчеты депутации. Он знал уже все. Нужно было, чтобы это слышали и рабочие и теснящиеся возле входной двери полицейские. Он сидел, нервно подергиваясь, теребя цепь наперсного креста и горячим взглядом устремясь в толпу, словно бы проверяя, насколько послушной окажется она ему в роковой час, если этот час наступит.
Вел собрание Карелин. Один за другим поднимались на трибуну рабочие. Гапон знал, что они скажут. Но было важно, чтобы пока говорили они. Пусть щепают лучину, пусть складывают в груду дрова, обливают их керосином — огонь уже зажжет он сам. И это будет не Одесса, где спичку под костер сунули революционеры. Это будет совсем иной огонь.
Он поднял голову и отвлекся от своих мыслей, только заметив на трибуне высокого, слегка сутулящегося человека, с опущенными вниз рыжеватыми усами.
— Варварин, — назвался оратор. — Я говорю от имени партии социал-демократов большевиков. Товарищи! Чаша терпения народного переполнилась. И когда прольется она — а это неизбежно, — прольется кровью. Все видят теперь, что самодержавная власть и власть капитала не останавливаются ни перед чем, чтобы сломить дух свободолюбия в народе. Они не остановятся и перед казнями, перед массовыми репрессиями, если почувствуют, что земля под ними шатается.
Гапона вдруг подбросило. Он звучно ударил ладонями по столу.
— А ты не каркай! — вскрикнул он. — Не пугай народ кровью! Есть у нас сила правды, справедливости, она остановит замахнувшийся меч. Если меч замахнется. Но мы отведем его ранее. Силой слова, силой твердости. Кровь народную сбережем. И сами крови других мы не жаждем…
— Мы тем более не жаждем, — перекрывая голос Гапона, бросил в зал Варварин. — Но убаюкивать сладкими надеждами людей, чтобы потом на них обрушился царский…
— О царе худо не моги говорить! — закричали с мест.
— Царь — прибежище наше!
— До-олой!
Поднялся шум, в котором тонули, исчезали отдельные слова. Карелин звонил в колокольчик. Гапон стоял бледный, скрестив на груди руки, и трудно было понять, радуется он этой буре или осуждает ее. Варварин, отчаявшись в возможности продолжать свою речь, сошел с трибуны. А зал все еще грохотал, дребезжали в окнах стекла. Это уже была перебранка не с Варвариным, а между собой. Он затронул больную струну — о переполненной чаше терпения народного, — и вот заговорили. Не поминая царя, заговорили об этом.
Гапон простер руки вперед, и сразу стал спадать общий гул, дробиться на отдельные истерические вскрики.
— Товарищи! — ясно и кругло прозвучало в затихающем зале это его обращение, мало вяжущееся с облачением священника. — Вот мое слово. Вызвать завтра директора завода господина Смирнова сюда, потребовать от него обратного приема на работу уволенных, убрать прочь мастера Тетявкина. Наша депутация Смирновым не была выслушана. Оскорблена! Пусть он здесь, при всем народе посмеет ответить отказом. А откажет — забастовать! Всем, до единого человека!
— Правильно!
— Как скажешь! Мы все с тобой!
— Бастовать!
— Товарищей своих в беде не оставим!
Поведя в воздухе выставленными вперед ладонями, Гапон остановил бушующую стихию. Четко и внятно спросил:
— Доверяете мне? Доверяете вашим руководителям?
И опять шквально пронеслось:
— Доверяем!
— Тогда ступайте пока по домам своим с богом! А завтра судьба наша решится. Споем, друзья, «Боже, царя храни»!
Он первым запел. Голос от волнения и счастья у него срывался. Как никогда до этого, он почувствовал свою власть над массами рабочих. Что он скажет, то и сделают. Куда поведет, туда и пойдут. Пели все. Призывно, со страстной мольбой обращаясь к богу и царю, как бы соединяя в сердцах своих эти оба понятия воедино.
Гимн был исполнен, и наступила благоговейная тишина. Гапон отпустил всех, благословив троекратным крестным знамением с тою особой торжественностью, с какой умел делать это в пасхальную заутреню только высокопреосвященный отец Антоний, митрополит санкт-петербургский и ладожский.
На выходе из помещения Гапона остановил один из рабочих, подтащил к нему за руку молодого интеллигентного человека с тонкими черными усиками и в каракулевой шапке пирожком.
— Вот, батюшка, инженер с нашего завода господин Рутенберг, Петр Моисеевич, — назвал он его. — Очень хороший человек. Просил, чтобы с вами познакомиться. Вы уж простите, батюшка.
И сразу же отошел в сторону. Рутенберг приподнял шапку.
— Очень приятно! Всегда с величайшим вниманием, отец Георгий, слежу за вашими речами и вашими действиями. Полностью с вами во всем солидарен, о чем свидетельствую и от имени партии социалистов-революционеров, членом которой я состою. Доверяя вам безгранично, прошу называть меня просто Мартыном. Хотя, как изволили слышать, имя-отчество у меня совершенно другое.
— Лучше бы нам в таком случае, господин Рутенберг, не знакомиться, — сухо проговорил Гапон. — Можете быть спокойны, я вас не выдам. Но бомбы социалистов-революционеров нашему делу не подмога.
— Мы не бросаем свои бомбы в кого попало, — возразил Рутенберг. — А когда бросаем, так только по приговору. И небольшой группой, не из возбужденной толпы, дабы не навлечь ответных репрессий на невиновных.
— А у меня толпа. И возбужденная, — с оттенком самодовольства заметил Гапон.
— Стало быть, о бомбах тогда и вспоминать нечего, — отозвался Рутенберг. — Слушал я сейчас выступление социал-демократа этого, как его, Варварина. Не понравилось. И вам с ними, как говорится, пива никогда не сварить. А с нами сварить можно. Поэтому и грустно мне, что вы, отец Георгий, как понял я, отказываетесь от знакомства.
Гапон слегка прищурился. Рядом с Рутенбергом сделал несколько шагов. Еще раз внимательно вгляделся в него.
— Мартыном звать, говорите?
— Совершенно верно!
— Ну, до встречи, Мартын!
И протянул ему руку,
14
Решение Нарвского отдела Смирнов высмеял, требования рабочих назвал бредом сивой кобылы в летнюю ночь. И тогда путиловцы забастовали. Словно вымерли все цехи. Снежный буран бился средь широкого двора, наметал высокие сугробы у сквозных, решетчатых ворот, но даже единого следа человеческого там не отпечаталось. Только у главной конторы завода топтался на морозе усиленный наряд полицейской охраны.
Узнав об ответе Смирнова, именно таком, какого только и можно было ожидать, Гапон пробормотал: «Ну, ну, давай потягаемся!» И лично сам отправился к градоначальнику Фуллону.
— Угрожаете, отец Георгий, распространением забастовки на все петербургские заводы? — строго спросил Фуллон. — Уважая ваш духовный сан, я не советовал бы вам становиться во главе столь неприглядного и непатриотичного дела.
— Выше правды нет ничего, что принадлежало бы отечеству, а правда бессовестно попрана, — заявил Гапон. — Им бросайте свой упрек в непатриотичности, господин градоначальник, тем, кто попрал эту правду. А у рабочего люда теперь не осталось иного пути, кроме как братски подать один другому руку. Если требования путиловцев не будут удовлетворены, через два дня забастуют все заводы. Сие не от меня. Сие от той неправды, которой и вы, господин градоначальник, напрасно потакаете.
— Ультиматум, отец Георгий? — криво усмехнулся Фуллон. — Война?
— Мое оружие — крест, на котором был распят Христос. И еще слова справедливости, — сдержанно ответил Гапон. — Если это война, так не нами она объявлена. Наоборот, она объявлена нам. Мы свое право отстаиваем не пулями и не штыками, а покорным повиновением государю, в защиту которого верим.
— На покорность все это не очень похоже. — Фуллон встал, давая тем понять, что дальнейший разговор бесцелен. — Не думаю, чтобы подобной покорностью государь остался доволен.
— Тогда пусть услышит он сам наши верноподданнические просьбы, а мы услышим не ваш, господин градоначальник, а его собственный ответ, — сказал Гапон и вышел не прощаясь.
После этого снежный ком покатился под гору с непостижимой быстротой. «Штабные» заседали почти непрерывно. С утра и до позднего вечера проходили собрания рабочих в помещениях всех отделов. В тесноте, в спертом воздухе, обливаясь по́том, люди по многу часов выстаивали на ногах, слушая зажигательные речи ораторов и духоподъемные сообщения о том, как грозно ширится всеобщая стачка.
А на улицах вокруг отделов творилось что-то невообразимое. Тысячные толпы грудились, жадно ловя каждое слово тех, кому удалось побывать внутри помещения, вобрать в себя жар, переполнявший собрания. Зрела единая мысль, настойчиво подхлестываемая самим Гапоном.
Он и начал свое выступление так:
— Товарищи! — только этим проникающим в душу словом обращался он теперь к народу. — Товарищи! Мы ходили к Смирнову, ничего не добились. Ходили к фабричному инспектору, ничего не добились. К градоначальнику — тоже ничего. К министру юстиции — все равно что ударились грудью в скалу. Или нет уже совсем правды на белом свете? Есть она, есть правда святая! Так пойдем же, товарищи, за этой правдой к самому царю?
— Пойдем! — одним дыханием гудела толпа.
— Примет нас, верных сынов своих, не откажет? — спрашивал дальше Гапон.
— Примет! Не откажет!
— Выскажем ему всю боль души нашей?
— Выскажем!
— И если надо будет, головы сложим, но своего добьемся?
— Сложим! Добьемся!
Он складывал пальцы, как для клятвы, и все поднимали руки, повторяли его движения. Гапон вглядывался в разгоряченные лица рабочих. В них не было злобы, отчаяния, решимости броситься в бой. Они пылали экстазом, безграничной верой в чудо, которое свершится, не может не свершиться, если царь примет и выслушает покорный ему народ. И видел еще, что он, приходский священник, отец Георгий, для них сейчас равен едва ли не апостольскому чину и к каждому слову его относятся как к слову евангельскому.
Отступать уже было нельзя. Снежный ком катился, все набирая скорость, набирая тяжелый, мокрый вес. Гапон забыл о сне, о еде, домой забегал лишь на несколько минут взять что-либо очень необходимое. Вместе со «штабными» он писал, отрабатывал текст петиции. Ездил с первоначальным его наброском к Прокоповичу и Кусковой. Те, не прикасаясь пером к бумаге, указывали пальцами, где и что надо бы поправить. Попросил совета у Максима Горького. Писатель раздумчиво покачал головой.
— Силу большую, отче Георгий, вы подняли, очень большую. Но какой совет я могу вам дать? Я ведь не вашего толка, я сочувствую партии социал-демократов. Я за революцию. А в петиции вашей нет революции. Раболепие.
— Последняя грань еще не перейдена! — воскликнул Гапон. — Если можно без крови, зачем кровь проливать? Прежде чем дверь взламывать, следует в нее постучаться. Если не откроют, тогда уж…
— Пока будете стучаться, собак могут спустить, — заметил Горький. — И тогда взломать дверь уже не удастся. А за дверью давно ведь известно, кто сидит. И что в руке своей держит.
— Почитайте все же, Алексей Максимович!
Горький неохотно взял, почитал, поморщился.
— Сердца рабочих это, отче Георгий, растрогает. Но сердца власть имущих каменные. Не молить — требовать надо. И кому на выгоду народное шествие? Петицию и по почте можно послать.
И опять Гапон кроил, перекраивал бумагу, однако твердо решив для себя: народ ко дворцу царскому он непременно выведет. Без этого тот апостольский нимб, который, сияя, ныне появился вокруг его головы, в сознании народном быстро погаснет. Как был простым попом Георгий Гапон, так и останется. Петицию, направленную почтой во дворец, подошьют в канцелярские папки, а забастовщиков полиция и казаки так или иначе принудят вернуться на свои рабочие места.
Люди волновались, люди жаждали действия. Гапон понимал: скоро речи будоражащие, поднимающие дух иссякнут, и тогда наступит усталость, безверие.
А тем временем начали появляться листовки Петербургского комитета социал-демократов. Они прямо призывали к вооруженному восстанию, к решительной борьбе с самодержавием: «Не просить царя и даже не требовать от него, не унижаться перед нашим заклятым врагом, а сбросить его с престола, — читал Гапон. — Освобождение рабочих может быть делом только самих рабочих, ни от попов, ни от царей вы свободы не дождетесь…»
Он негодовал. Его крупная ставка в рискованной игре могла быть потеряна начисто. Сталкиваясь на собраниях с представителями революционных партий, Гапон умолял:
— Господа, не мешайте!
Один из них — Гапону запомнились опущенные рыжеватые усы и фамилия Варварин — сурово отрезал:
— Это вы, господин Гапон, не мешайте нам! Вы мешаете народу добиваться свободы. Уводите его от борьбы.
— А листовки ваши я приказал сжигать, — побелев от гнева, сказал Гапон. — И если станут бить вас рабочие, удержать их я не смогу. И не буду удерживать.
В крещенский сочельник руководители «Собрания» стали читать петицию во всех отделах. Читали посменно. В зал битком набьется народ, послушают, добавят новые пункты, проголосуют и уступают место другим. Так беспрестанно — днем и ночью — трое суток подряд.
При свете фонаря, взобравшись на опрокинутую бочку у Нарвских ворот, где собралось особенно много людей, Гапон сам читал петицию. В тихом морозном воздухе далеко разносился его голос, крепкий, но уже с хрипотцой от усталости:
— Государь! Мы, рабочие Санкт-Петербурга, наши жены, дети и беспомощные старцы родители, — внятно, выделяя каждое слово, читал Гапон, — пришли к тебе, государь, искать правды и защиты. Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся как к рабам, которые должны терпеть свою горькую участь и молчать. Мы и терпели. Но нас толкают все дальше в омут нищеты, бесправия и невежества; нас душит деспотизм и произвол, и мы задыхаемся. Нет больше сил, государь! Настал предел терпению. Для нас пришел тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук…
И глухими перекатными стонами отзывалась ночь. Гапону казалось, что в звездном сиянии он поднялся высоко-высоко и плывет над землей, рассказывая, как ангел Судного дня, о злодеяниях хозяев. Он делал короткие паузы, чтобы людям острее вошло в сознание описание всех тех несправедливостей, которым они подвергаются. Закончив этот раздел петиции, он стал читать энергичнее, тверже.
— …Всякого из нас, кто осмелится поднять голос в защиту интересов рабочего класса и народа, бросают в тюрьму, отправляют в ссылку, карают как за преступление — за доброе сердце, за отзывчивую душу. Пожалеть рабочего, бесправного, измученного человека — значит совершить тяжелое преступление. Государь, разве это согласно с божескими законами, милостью которых ты царствуешь? — И легкий озноб от ощущения резкости своих слов пробегал у него по спине. — Не лучше ли умереть, умереть всем нам, трудящимся людям всей России? Пусть живут и наслаждаются капиталисты и чиновники. Вот что стоит перед нами, государь!
Глухие стоны стали переходить в сдержанный ропот. Вот-вот могут вырваться вскрики протеста. Но не к восстанию же он призывает народ, как этого хотят добиться господа социал-демократы. Он отметил про себя, что именно с этого места петиция обретает желанный тон.
— …Тут, у дворца твоего, мы ищем последнего спасения. Не откажи в помощи твоему народу, выведи его из могилы бесправия, нищеты и невежества, дай ему возможность самому вершить свою судьбу, сбрось с него невыносимый гнет чиновников.
Гапон видел себя со стороны в длинной распахнутой шубе, с серебряным крестом на груди, взблескивающим в лучах фонаря. К этому кресту прикованы сейчас взгляды всех людей. И может быть, им сейчас рисуется в сознании Христос, восходящий на Голгофу.
— …Взгляни без гнева внимательно на наши просьбы, — они направлены не ко злу, а к добру, как для нас, так и для тебя, государь. Не дерзость в нас говорит, а сознание необходимости выхода из невыносимого для всех положения…
Он помедлил немного и стал перечислять просьбы, обращенные к государю. Созвать народное представительство от всех сословий, избрать учредительное собрание — «главный и единственный пластырь для наших больших ран», затем свобода и неприкосновенность личности, свобода слова, печати и совести, всеобщее бесплатное образование, равенство всех перед законом, прогрессивный подоходный налог, отмена выкупных платежей для крестьян, прекращение войны, отмена фабричной инспекции, свобода союзов и стачек, восьмичасовой рабочий день, отмена сверхурочных работ, участие рабочих в выработке страховых законопроектов, немедленная амнистия политическим заключенным.
Он называл пункт за пунктом, и дружным, гулким эхом на каждый из них отзывалась темная площадь:
— Принимаем!
Гапон внутренне ликовал. Потому что все эти фантастически высокие требования, предъявляемые к правительству, в умах слушающих его рабочих представлялись уже как некий вполне реальный дар, который он, Гапон, приносит народу. И потому еще он особенно ликовал, что программа реформ, испрашиваемых в мирной петиции государю, полностью перекрывала программу борьбы, объявленной социал-демократами. Они, казалось Гапону, теперь переставали быть опасными соперниками. Зачем рабочим примыкать к революционерам, вооружаться и силой в тяжелой, быть может, кровавой борьбе свергать существующий строй, если все, чего они добиваются, будет с готовностью отдано росчерком царского пера на высочайшем манифесте как знак единения государя-самодержца со своим народом.
Он заканчивал чтение голосом, полным достоинства и глубокой скорби:
— Вот, государь, наши главные нужды, с которыми мы и пришли к тебе. Повели и поклянись исполнить их, и ты сделаешь Россию и счастливой и славной, а имя твое запечатлится в сердцах наших и наших потомков на вечные времена, а не повелишь… — Голос Гапона оборвался. Подавляя новый прилив охватившей его нервной дрожи, он вскрикнул: — …а не повелишь — мы умрем здесь, на этой площади перед твоим дворцом! Нам некуда дальше идти и незачем. У нас только два пути: или к свободе и счастью, или в могилу. Укажи, государь, любой из них. Мы пойдем по нему беспрекословно, хотя бы это и был путь смерти. — Тяжелый вздох пронесся по темной площади. Гапон уже не глядел в бумагу, говорил по памяти: — Пусть наша жизнь будет жертвой для исстрадавшейся России. Нам не жалко этой жертвы, мы охотно приносим ее.
Яркий, сильный фонарь теперь освещал только лицо Гапона, резко очерченное и словно вырубленное из куска известняка, столь мертвенно-бледным казалось оно в окружающей все ночной темноте. Он прислушивался, как бы по дыханию толпы пытаясь определить, сколько же человек собралось здесь на площади и примыкающих к ней улицах. Все путиловцы? Все жители этого района? Весь Петербург? Вся Россия? Вот он собрал вокруг себя море народное. Поведет рукой направо — пойдут направо. Скажет: идите налево — налево пойдут. Отпустит с миром по домам — и мирно разойдутся. Власть его над людьми сейчас безгранична.
— Товарищи! Надо ли еще что-нибудь добавлять ко всему тому, что здесь написано?
Уже несколько дней идет чтение петиции, внесены в нее десятки очень важных поправок. И особенно тех, что предлагались эсдеками. Кто требовал их вписать, остались в неизвестности. А история сохранит его имя — имя Гапона.
— Так, как есть, принимаем! — гудела ответно то ли незримая в темноте многотысячная толпа, то ли сама ночь, распростершаяся над Петербургом.
— И мы все пойдем с этой нашей петицией ко дворцу? — Сердце Гапона вдруг кольнула неосознанная тревога.
— Все пойдем!
— Посмеют ли полиция и солдаты нас не пропустить?
— Нет! Не посмеют!
— Товарищи! — Голос Гапона с особой резкостью пронзил темноту. — Я еще раз обращаюсь к вам. Не лучше ли умереть нам, испрашивая у государя ответ на наши требования, чем жить так, как жили до сих пор?
— Лучше умереть!
— Все ли клянутся?
— Клянемся! — Будто штормовая волна ударила, прокатилось в ночи.
— А тем, кто сегодня клянется, а завтра струсит?
— Позор! Проклятие!..
Луч фонаря обежал передние ряды. Люди стояли с поднятыми вверх, стиснутыми кулаками. У многих по щекам катились слезы. Можно бы сделать знак всем разойтись, а самому спуститься на землю, но Гапон стоял неподвижно. Со всей неизбежностью напрашивался еще один вопрос. И неизвестно, толпа ли его ожидала или он нужен был самому Гапону. Сил не хватало, чтобы выкрикнуть его громко. Гапон гаснущим голосом спросил близстоящих, а те, оборачиваясь, передавали его слова в глубины людские:
— А что, товарищи, если государь нас не примет и не захочет прочесть нашей петиции, что тогда?
Некоторое время тихим шелестом была наполнена ночь, а потом враз, будто из одной груди вырвалось:
— Нет тогда у нас царя!
И этим было все сказано. И этим начисто отрезался всякий иной путь, кроме избранного.
Домой Гапон возвращался в состоянии какой-то необычной для него духовной отрешенности. Молиться он не мог. Отдавать дополнительные распоряжения своим «штабным» тоже не мог. Не в состоянии он был и логически продумать, что нужно будет сделать, если в намеченный план действий ворвется что-то непредвиденное. Спроси его: «А какой же у вас, отец Георгий, намечен план?» — он тоже не ответил бы. Потому что план его рассчитан был только на самого себя. А все другие силы, в том числе и противоборствующие, для него как бы не существовали. Он знал: наступит завтра день, и начнется шествие ко дворцу ото всех одиннадцати отделов его «Собрания». А больше не знал ничего.
Впрочем, нет, он знал одно, чего не знали другие. И верил в это слепо. Верил так, как, бывает, верят осужденные на казнь, что вот наденут им мешки на голову и петлей охватят шею, прогремит нервная барабанная дробь, но прежде чем палач успеет вышибить из-под ног скамейку, прискачет фельдъегерь и огласит государев указ о помиловании.
В этот субботний день еще с утра от имени «Собрания» Гапон послал князю Святополк-Мирскому текст петиции. Пусть ведают власти заранее, с чем, с какими верноподданническими чувствами пойдут рабочие просить защиты у своего надежи-государя. Но сверх того Гапон послал еще и личное свое письмо, письмо, адресованное лично царю, с покорной просьбой выйти к народу, чтобы принять от него петицию из рук в руки. А «от него» — это значило от Гапона. Иначе он даже помыслить не мог. Ведь не тот же листок бумаги, что находится у министра внутренних дел, будет передан государю в миг, когда самодержец предстанет на балконе дворца перед морем народным! Он был уверен, он знал, как казалось ему, что имя Гапона, гремящее по всей России, — волшебный ключ, который в столь великий час откроет и двери царского дворца. И рисовал себе картину, как, отделившись от толпы, в благоговейном ожидании замершей на площади, он, сопровождаемый высокими сановниками, поднимается по мраморной лестнице Зимнего и там, наедине, остается с царем.
«Да, я знаком с петицией, — озабоченно скажет государь. — Она отражает действительное положение вещей. Но требования ее непомерно велики. Удовлетворить их нет возможности. И вы сами, отец Георгий, это хорошо знаете. Зачем же тогда вы пришли сюда?»
«Ваше величество! — упадет он на колени. — Вы видите, рабочий люд, опора государства вашего, пришел с иконами, хоругвями и вашими портретами. Народ боготворит своего царя. И свято верит в его доброту и справедливость. Петиция — крик наболевшей души. А когда людям очень больно, они не могут сдержать стонов. Но это не угрозы, не крики революционеров-бунтовщиков. Русский народ понимающ и терпелив. Он будет ждать и еще сколько угодно — в этом порукой жизнь моя, которую я повергаю к вашим ногам, — он будет ждать терпеливо, но ободрите его, ваше величество, своим царским словом, своим обещанием рассмотреть постепенно все его нужды. И только одно, молю вас, сделайте ныне: даруйте свободу заключенным. Они есть во многих семьях, пришедших сюда. Радость, которую принесет им ваше решение, ни с чем не сравнима, она собою перекроет все другие заботы и нужды. Пришедшие сюда с надеждой уйдут с ликованием. И воспоследует благостный мир в душах людских».
Но если спросит царь: «Надолго ли это?»
Сказать: «Пока я жив, государь! Ваше величество, всегда можно призвать меня за эти мои слова к ответу!»
А для себя только: призвать для совета. Ибо должен же понять государь, как велико послушание народа, когда с ним поведет речь самодержец сообразно с мыслью гапоновой.
Все это знал только сам Гапон, и никто другой. В это он фанатически твердо верил. Слепо, не ища доказательств, а верил.
Но зато не знал он того, что в этот день восьмого января знали и делали другие.
Он видел спокойно расхаживающих по улицам Петербурга городовых, сочувственно вслушивающихся в речи ораторов. Но он не знал, что по указанию главнокомандующего гвардейскими войсками великого князя Владимира в подкрепление сильного столичного гарнизона вызваны полки еще и из Пскова, Ревеля, Нарвы, Петергофа и Царского Села, что наготове гарцуют за чертой города казачьи сотни и всем им внушено: рабочие намерены разрушить Зимний дворец и убить государя; иконы, хоругви будут фальшивые, а под полой у каждого — бомба.
Не знал Гапон, что, обеспокоенные появлением дополнительных войск в Петербурге и в предчувствии страшной беды, которая повисла над столицей, депутация литераторов — и среди них Максим Горький — посетила графа Витте и князя Святополк-Мирского с просьбой принять зависящие от них меры против возможного побоища. На что получили ответ успокоительный, но и с откровенным подтекстом: не суйтесь не в свое дело, господа.
Гапону неведомо было также, что, торопливо отпустив депутацию литераторов, князь Святополк-Мирский тут же срочно собрал у себя узкое, из весьма ответственных лиц совещание, на котором был рассмотрен и принят план действий на завтрашний день. Кто-то неловко спросил:
«Но, может быть, разумнее было бы, не допуская огромного скопления манифестантов завтра, уже сегодня дать понять во всех отделах этого „Собрания“, что шествие ко дворцу нежелательно и не может быть допущено?»
Святополк-Мирский холодно возразил:
«И тогда начнется длительный мятеж, с бесчисленным множеством очагов и тайных подстрекателей расширения мятежа вплоть до революции. Эсдеки хотят именно этого. Разве не всем понятно еще, господа, что менее чем за два года гапоновское „Собрание“ от просветительских лекций, предусмотренных уставом, дошло до чудовищных по своей наглости требований, содержащихся в этой петиции! — Он потряс ею и в раздражении швырнул на стол. — В какие бы покорные слова она ни облекалась, — это ультиматум! А при ультиматумах в переговоры не вступают. Или безропотно сдаются, или наносят внезапный и ошеломляющий удар. Только так, господа!»
«Войска готовы выполнить свой священный долг», — добавил великий князь Владимир.
Всего этого Гапон не знал. Но если бы даже открылась ему страшная истина, он презрел бы ее, потому что ничего поделать уже было нельзя. Его несла волна, им же поднятая, волна размаха, направления которой он не предвидел.
Возле самого дома его, неторопливо шагающего по скрипучему снегу, кто-то тронул за руку.
— Отец Георгий, я завтра буду с вами!
Он пригляделся в темноте.
— Кто это? А, Мартын! Что значат ваши слова?
— Только то, что они значат. Город переполнен войсками.
— Город еще больше переполнен рабочим людом, а сердца людские переполнены верой.
Но, войдя в дом, молчаливо съев что-то поставленное перед ним испуганно суетящейся Еленой и удалившись в свою комнату, чтобы помолиться перед сном, Гапон понял, что вера у него самого вдруг иссякла. Он истово крестился, шептал привычные слова молитв, бил земные поклоны перед иконой Георгия-победоносца, и все это без того внутреннего экстаза, который обычно в таких случаях охватывал его. Он молился уже не богу, не Георгию-победоносцу, а только самому себе, своей удачливости.
15
Так, не сомкнув глаз, в тяжелом томлении, он и провел всю ночь. От вида праздничного стола, накрытого Еленой, как она полагала, к его пробуждению, Гапона мутило. Он выпил полный стакан красного церковного вина, позвал детей, поцеловал их, поцеловал Елену и вышел. Крепкий, сухой морозец его освежил. Улицы уже были полны гудящим народом. Люди узнавали Гапона, снимали шапки, в пояс кланялись ему, давая дорогу. Он прошел в церковь, выбрал самое новое облачение, глазетовую ризу, в которой служил рождественскую литургию, подумал: в ней и пойти ко дворцу. Но подбежал испуганный псаломщик. «Батюшка, на дворе ведь не лето! Кто его знает, что еще будет к вечеру?» И заставил надеть шубу.
На паперти его встретил Рутенберг. Окружили рабочие. Гапон растерянно оглядывался: где же руководители Нарвского отдела? Ведь отсюда, виделось ему, должно начаться головное шествие.
— Отец Георгий, помочь вам в чем-нибудь? — угадав его мысли, спросил Рутенберг. — Дайте мне план, я разберусь в нем.
— Какой план? — в недоумении спросил Гапон. — Нет у меня никакого плана.
— Ну, время начала движения, его порядок, маршруты…
— Зачем все это?.. Мы ведь отовсюду пойдем на Дворцовую площадь. Я во главе. Там соберемся. Меня пропустят во дворец. Вручить наши просьбы лично государю. — Гапон тронул карман шубы, в котором лежала петиция.
Подошли и выборные руководители отдела.
— Благословите, батюшка, в путь! — попросил Петров.
— Благословляю! Берите из церкви, из всех часовен, раздавайте иконы, хоругви, кресты. А ты, Петров, рядом со мной.
Рутенберг остановил их. Развернул план Петербурга с заготовленными еще дома отметками.
— Да вы поглядите сначала сюда, — потребовал он. — Чтобы нам первыми войти на Дворцовую площадь, можно бы направиться вот так, а потом так, — водил он пальцем по карте. — Но здесь нет оружейных магазинов. Вдруг в нас начнут стрелять…
— Господь с вами! Не будет этого! — вскрикнул Петров.
— Нет, нет, не станут стрелять, — побледнев, подтвердил и Гапон. Но тут же прибавил: — А вы Мартына послушайте, дело он говорит.
— Пойдем так, — тоном приказа сказал Рутенберг. — В случае чего разобьем двери, витрины, здесь можно будет вооружиться.
А вокруг уже колыхались хоругви, на растянутых белых льняных полотенцах держали иконы, царские портреты.
— С богом! — махнул рукой Гапон.
При виде толпы, вдохновенно следящей за каждым его движением, голос Гапона окреп. Он снова поверил в свою необыкновенную духовную силу, в свою непременную удачу.
— Спа-си, го-ос-поди, лю-уди твоя и бла-го-слови достоя-ние тво-е… — зазвенело в чистом морозном воздухе. В церковной звоннице тонко ударили малые колокола. Тысячи людей подхватили: — По-бе-еды бла-аго-вер-ному импе-ра-тору на-шему Нико-лаю Алек-санд-ровичу над супро-тивные дару-яй…
Процессия выровнялась, подобралась, выдвинув вперед Гапона, «штабных», хоругвеносцев, и начала торжественное шествие к Нарвским воротам. Рутенберга, как и Петрова, Гапон заставил пойти рядом с собой. Чем-то необъяснимым Рутенберг был потребен ему. Может быть, трезвой практичностью. А самого Гапона вперед вело уже то внутреннее возбуждение, которое горячим потоком вливала в него поющая, не в ногу, но твердо ступающая по звонкому снегу толпа. Мельком подумалось, а ведь прав этот Мартын и надо бы заранее разработать такой план, чтобы Нарвскому отделу первому вступить на Дворцовую площадь. Иначе ее могут заполнить другие отделы, и в этом безбрежном людском океане кто потом из дворцовой охраны найдет его, Гапона, чтобы проводить к государю. А ведь в разговоре с государем — весь вожделенный смысл тех дерзостно тайных мечтаний, которые он не смел открыть даже богу в своих молитвах.
— …и тебе-е, осеня-яй кре-естом твоим житель-ство… — ликуя, пела река человеческая, изгибаясь на повороте улицы. Тонко и нежно позади вызванивали колокола. Веселыми зайчиками сверкало солнце на золоченых шпилях хоругвей.
Открылась площадь. Нарвские ворота. И по ту сторону серой стеной шеренга солдат с опущенными наперевес винтовками. Холодно белели примкнутые штыки. Хоругвеносцы сбились со свободного хода. Но Гапон сделал знак рукой: прямо. И чуть примолкнувшее было церковное песнопение взлетело ввысь с прежней силой. Люди пошли быстрее, плотнее прижимаясь плечами друг к другу. Гапон выдвинулся вперед и выставил перед собой серебряный целовальный крест, который дотоле нес прижатым к груди. Он шел, чувствуя, как резкими толчками застучало у него сердце. Вдруг стало легко: шеренга солдат расступилась. Гапон искоса бросил торжествующий взгляд на идущего сбоку Рутенберга.
«Вот! Иначе и быть не могло!» — говорили его глаза.
Но это длилось всего лишь мгновение. Тут же он глухо вскрикнул. Из-за Нарвских ворот появился мчащийся во весь опор кавалерийский отряд с шашками наголо. Он промчался сквозь строй расступившейся пехоты и врезался прямо в шествие рабочих. Молча, не трогая шашками никого, но тесня и давя конями всех, кто попадался на пути, отряд рассек процессию надвое во всю ее длину и, развернувшись в конце, с такой же стремительностью помчался обратно. Тяжким гулом под копытами скачущих лошадей отозвался Карповский мост. Солдатская шеренга снова плотно сомкнулась.
Процессия смешалась, превратилась в беспорядочную толпу. Отовсюду слышались стоны, крики. Смятых, сбитых с ног промчавшейся кавалерией пытались отвести в сторону. У многих на лицах виднелась кровь.
— Что они делают, изверги! — взвился плачущий женский вопль.
— Ай! Руку… руку сломали…
Отступить было нельзя. Задние ряды за поворотом улицы не видели, что происходит впереди у Нарвских ворот, и давили всей силой, заставляя подвигаться вперед. С Гапона слетела шапка. Черные волосы растрепались. Народная лавина несла его, несла хоругвеносцев прямо на сверкающие штыки.
— За мной, товарищи! Свобода или смерть! — выкрикнул Гапон.
Он уже не подчинялся логике и здравому рассудку, обдумывать что-либо просто не хватало времени, а интуиция ему подсказывала: нет, не станут же солдаты так, без предупреждения, без предварительных переговоров стрелять в безоружную, мирную толпу, стрелять в священника… Сейчас солдаты расступятся, откроют путь. Не то их тоже сомнет, сметет толпа…
Раздался залп. Короткий, сухой. И десятки людей повалились наземь. Застонал, ловя воздух руками, Петров. Остекленевшими глазами Гапон смотрел на снег, сразу испестрившийся алыми пятнами. Кто-то рванул его за рукав, заставил упасть вниз лицом. И тут же прогремел второй залп. На этот раз не дружный, долго перекатывавшийся из края в край. Пули со свистом проносились над головой, тупо ударялись неподалеку в мерзлую землю. Отовсюду слышались мучительные стоны, крики, проклятия. Гапон чуть приподнялся, заметил мечущуюся в дикой панике толпу — скорее, скорее где-нибудь укрыться, за поворотом улицы, в ближайших дворах, — но третий залп, еще более беспорядочный и затяжной, снова притиснул к заснеженной мостовой.
Он лежал, чувствуя, как сотрясает его колючая дрожь. И от страха и от сознания безысходности всего происшедшего.
— Жив, отец Георгий?
— Жив. — Ему показалось, что это коротенькое слово вместо него выговорил кто-то другой.
— Не поднимайтесь. Поползли. — Голос Рутенберга.
Заледеневшими пальцами ощупывая притоптанный снег, Гапон пополз на животе вслед за ним. Они то и дело натыкались на сломанные хоругви, на раздавленные иконы и портреты царя, а чаще всего — на неподвижно лежащие трупы или на раненых, бьющихся в тяжелых мучениях. И всюду — кровь, кровь…
Двор, в который вползли они и тут же поднялись на ноги, был полон людьми. Одни стояли, блуждая притупленными взглядами по грудам тел, оставшихся там, посредине улицы. Другие злобно потрясали кулаками и слали проклятия убийцам. Третьи чем могли перевязывали раненых, добравшихся сюда. Их было очень много. Гапона тошнило от вида крови. Лишь несколько минут тому назад светило солнце, ликующе звенели колокола — и вот весь мир мгновенно перевернулся. Предстал самой ужасной, адовой своей стороной.
— Батюшка! Вы здесь? Слава богу! — Это Петров. Лицо у него залито кровью.
— Нет! Нет больше бога! И царя нет! — закричал Гапон, срывая с себя наперсный крест, шубу, рясу, пиная все это ногами. — Нет ничего! Нет ничего!
— Нету царя! И нету бога! — грянуло со всех сторон. — Спасайтесь, батюшка! Спасайтесь!
Его окружили рабочие. Кто-то из них отдал ему свое пальто, другой — шапку и шейный шарф. Торопили:
— Уходите скорее, не ровен час, ворвутся и сюда!
Вместе с Рутенбергом они пробились к дальней стене кирпичной ограды, их подсадили, помогли спуститься на другую сторону. Через канавы и наметы снега они в сопровождении десятка рабочих брели по каким-то задворкам, узким переулочкам, пустырям. Нарвские ворота не были видны; что там делали солдаты, неизвестно. А с других концов города доносились частые выстрелы. Гапон ладонью смахивал горячий пот с лица. Но ладонь окрашивалась кровью. Откуда кровь? Только теперь он почувствовал, что кожа на левом мизинце у него рассечена пулей.
— Везде расстреливают шествия, — сказал Рутенберг. — Георгий Аполлонович, вам надобно остричься, изменить свой облик. Скрыться. Вы понимаете?
— Я понимаю все, — стуча зубами, отозвался Гапон. — Укройте меня, Мартын! Мне они не простят.
Всей группой вошли в какую-то квартиру, где густо пахло квашеной капустой и непростиранными пеленками. Хватал за душу надрывный детский плач. Хозяйка подала длинные тупые ножницы. И Рутенберг принялся кромсать длинные космы угольно-черных волос Гапона. Рабочие, не дозволяя бросать их на пол, принимали из рук в руки. Верили в то, что священник Гапон, ныне отрекшись от царя и от бога, останется навсегда с ними, с рабочими. Остриженный, без подрясника, замотав тряпкой левую руку, в белой полотняной рубахе, Гапон обнимал их, рыдал:
— Товарищи! Братья мои родные! Смерть змеиному отродью! Если меня возьмут и расстреляют, продолжайте все равно борьбу за свободу. Помните: вы и это мне обещали!
Потом спросил Рутенберга:
— Мартын, но куда мне деваться? Меня ведь всюду найдут. Домой мне нельзя.
Он целиком отдавал себя Рутенбергу. Куда тот поведет его, туда он и пойдет. Только бы не попасться жандармам. Он торопил Рутенберга, не давал ему передышки.
И когда они заходили, чтобы на всякий случай запутать следы, то к одним, то к другим друзьям Рутенберга, без всякой к тому надобности Гапон называл себя. Он органически не мог оставаться безвестным. В нервную дрожь его бросала одна лишь мысль о возможном аресте, но еще страшнее казалось ему отделить себя, даже такого, каким он стал теперь, от имени Георгия Гапона, имени, известного всем.
Вечером, понудив пойти с собой и Рутенберга, он выступил «по поручению отца Георгия Гапона» на разношерстном собрании интеллигентов Вольно-экономического общества с горячей речью, цели и смысла которой он и сам бы не смог определить.
А на Невском проспекте в это время отряды казаков еще носились с гиканьем и пальбой, разгоняя кипевшие гневом толпы народа. Гапон понимал, что эта речь его ни на йоту не изменит обстановки, не остановит расстрел и тем более не поднимет рабочие массы к восстанию, но он произнес ее. В ней постоянно им самим упоминалось имя Гапона.
Еще позже, опять вместе с Рутенбергом, он сидел в кабинете у Максима Горького и потерянно вопрошал:
— Что же делать теперь, Алексей Максимович? Ведь стреляют на улицах. Еще стреляют.
Горький приблизился. В глазах у него блестели слезы. Стараясь ободрить сидевшего перед ним совсем разбитого человека, он хотя и ласково, но достаточно твердо ответил:
— Надо идти до конца! Вам — обязательно до конца. Даже если придется умирать.
— Умереть проще всего, Алексей Максимович, — вмешался Рутенберг, заметив, как побелело лицо Гапона. — Скажите лучше, что именно нужно делать?
— Делать? Не знаю… — Он подумал, высоко вздернув угловатые плечи, и повторил: — Не знаю… Только не сидеть сложа руки. Вам же советовали в Вольно-экономическом обществе написать прокламацию, обращенную к рабочим. Пишите, идите пишите.
— От себя? За своей подписью? — вдруг встрепенулся Гапон.
— За своей подписью, — подтвердил Горький. — Вы начинали — вам завершать.
Ночевал Гапон на явочной квартире Бориса Савинкова, куда его отвел все тот же Рутенберг. Снабдил бумагой, пером, чернилами, подсказал несколько важных мыслей, пригодных в прокламацию. А сам ушел, пообещав к утру раздобыть для него фальшивый паспорт.
Оставшись один, Гапон то садился к столу и корябал на листе бумаги бессвязные строки, то вскакивал и, подбежав к окну, с затаенным дыханием прислушивался. Ему мерещились шаги жандармов, явившихся его арестовывать. А ночь не была тихой. Одиночные выстрелы, вихревой галоп конной погони, крики: «Стой!», «Ай, ба-атюшки!» — частенько пробивались сквозь ставни. Гапон непроизвольно крестился.
Пытался представить будущее. Все рухнуло. Он видел себя на дне глубокой пропасти, из которой ему уже ни за что не выбраться на ту вершину, куда он так стремился взойти и сорвался вниз.
К государю доверенным лицом ему теперь никогда не приблизиться. И потому — «нет больше царя»! Все эти великие князья, министры, генералы разгадали ли его «тайная тайных» или просто — и по-своему резонно — посчитали: «Пора остановить попа». Но так или иначе вернуться к мирным увещеваниям рабочих в покорности власть предержащим ему, Георгию Гапону, никак невозможно. Власти этому не поверят, а рабочие за измену убьют. Но что же сошка рангом поменьше — департамент полиции, охранное отделение? Их копеечные подачки и намеки, что он продолжает дело Зубатова, только умнее и тоньше, с большим размахом и в самом желанном направлении. Где же теперь эти Лопухин, Макаров, Созонов? Поиграли — и хватит? Теперь бегают, нюхают, ищут его по следу. Он, его имя сейчас во всех рапортах и докладных записках…
Гапон скрипнул зубами. Его имя сейчас и на устах всех рабочих. К черту! Он с особой яростью мысленно помянул черта. Его, гапоново, имя и на устах у либеральной интеллигенции, у социал-демократов, у социалистов-революционеров — этот Рутенберг ни на шаг от него не отходит. Гапон нужен им всем. Он не вознесся над царскими министрами и генералами, но он подчинит своему влиянию революционные партии, оставаясь вне какой-либо партии, а тем самым становясь над всеми ними.
Кто может сегодня противостоять его авторитету в революционно настроенных массах? А завтра? Завтра, когда телеграф оповестит о петербургских событиях весь мир!
Рутенберг обещал раздобыть через Савинкова фальшивый русский паспорт. Нужен еще паспорт и заграничный. Сидеть в России, будто мышонку в норе, трясясь от страха, ему, Гапону, постыдно. Он должен быть на виду у всех, у всего мира. В Женеве или в Париже…
И, как только он решил это, сразу стали более стройно ложиться на лист бумаги такие фразы: «Родные! Братья товарищи-рабочие! Мы мирно шли к царю за правдой… Самому царю я послал письмо, просил его выйти к своему народу с благородным сердцем, с мужественной душой. Ценою собственной жизни мы гарантировали ему неприкосновенность его личности. И что же? Невинная кровь все-таки пролилась!.. Пули солдат, убивших за Нарвской заставой рабочих, несших царский портрет, прострелили этот портрет и убили веру в царя… Так отмстим же, братья, проклятому народом царю и всему его змеиному отродью… Смерть им всем!.. Я призываю всех — на помощь! Всех студентов, интеллигентов, все революционные организации — всех! Кто не с народом, тот против народа!.. Братья-товарищи, рабочие всей России! Вы не станете на работу, пока не добьетесь свободы… И оружие разрешаю вам брать, где и как сможете. Бомбы, динамит — все разрешаю… Громите царские дворцы и палаты, уничтожайте ненавистную народу полицию… Солдатам и офицерам, убивающим невинных братьев, их жен и детей, — мое пастырское проклятие… Если меня возьмут или расстреляют, продолжайте борьбу за свободу… Помните всегда данную мне вами — сотнями тысяч — клятву…»
Так он писал и перечеркивал, без конца исправлял, отыскивая и вставляя как можно более хватающие за сердце слова. Писал, иногда и сам обливаясь слезами, веря в магическую силу своего пера, веря в то, что эта его прокламация станет достоянием веков.
Он закончил ее на рассвете. Перечитал воспаленными от бессонной ночи глазами. Кажется, получилось. Не хватает, пожалуй, только заключительной строчки и подписи. Какую поставить подпись? Просто Гапон? Георгий Гапон? Он принародно ведь отрекся и от царя и от бога… Но люди от бога так легко не отрекутся. И не все слышали эти его слова. Да, да, именно поэтому…
Схватил перо и торопливо дописал: «Да здравствует грядущая свобода русского народа! Священник Георгий Гапон».
Посмотрел на часы. Двадцать минут восьмого утра. В самом низу прокламации поставил: «12 часов ночи 9 января 1905 года». Двенадцать часов ночи — это тоже умножает ее силу, придает оттенок высокой мистичности.
Удовлетворенно откинулся на спинку стула. Сделано все. Теперь остается только ждать прихода Рутенберга. И вместе с ним обдумать, как безопаснее пробраться за границу.
16
Опять бесконечный перестук колес!..
Соседи по вагону попались не назойливые: едут в Подольск. Заняли все полки. Тихонько разговаривают между собой, вежливо приглашали попить вместе с ними чаю.
Дубровинский сладко потянулся. Выглянул в окно, затянутое серой пленкой инея… Скоро Москва. А перед глазами еще Орел. И встреча и расставание — на все один только день. Но, может быть, это и лучше? Не то, чего доброго, потянуло бы к «тихому берегу».
Мать, конечно, больше всего расспрашивала о здоровье, для нее он по-прежнему беззаботный малыш, который может и ноги промочить и простудить горло, а потом, хитря, не выпить на ночь лекарство, потому что оно горькое. О себе же — ни звука. Хотя совсем исхудала и побелела. Как ей помочь? Все ведь знают и она сама знает: болезнь неизлечима.
Тетя Саша, та не говорит, а просто воркует, до того приятен ей каждый приезд племянника. Но посидеть спокойно и полчаса не может. Срывается и, всплеснув руками, бежит куда-то. Ну что с ней делать, с этой тетей Сашей? Насовала на дорогу столько всяких вкусных вещей, будто он едет не в Москву, а по меньшей мере во Владивосток!
Малышки Талка с Верочкой, ах, крохи! Каждая изъясняется на собственном языке. Верочка выцеживает отдельные слова, скажет, подумает и засмеется. Еще трудненько даются ей длинные фразы. Ну, а Таля — прирожденный оратор. Болтает без умолку, перепрыгивает с одного на другое, но главной мысли не теряет. Молодчина!.. Тараторила, тараторила о каких-то медвежатах, и потом вдруг грустно сказала: «Папочка, а я знаю, ты опять скоро уедешь и мы долго-долго тебя не увидим». — «Почему, доченька?» — «Потому что потому…» И отвернулась, сползла с колен.
Аня, голубушка, а с тобой наедине только и побыли часочек… Больше молчали, просто глядели друг на друга. Он угадывал: Анне тяжело, она сейчас находится в плену прежних его заблуждений — верит в возможность «мирной борьбы» на всех направлениях. И внутри партии, и с самодержавной властью России. Ее потрясло петербургское Кровавое воскресенье, чудовищность расправы с безоружными, покорно настроенными людьми. «Но зачем же потом нужно было на Васильевском острове воздвигать баррикады? — спрашивала она. — Ведь на победу все равно нельзя рассчитывать. Только пролилась лишняя кровь».
И мысли Дубровинского невольно перенеслись к тому страшному дню, Девятого января…
…Безуспешно пытаясь предостеречь рабочих на собраниях гапоновских отделов от нелепого замысла идти с петицией к царскому дворцу, он не считал себя вправе потом, когда шествие оказалось уже предопределенным, остаться в стороне, как господа меньшевики. Василеостровцы, подобно всем, горели фанатичной верой в щедроты царя. Петербургский комитет приготовил листовку. «Это обман, — говорилось в ней. — Провокация». Но люди втаптывали прокламацию в снег, а раздававших ее гневно выталкивали из своих рядов. Особенно старался — Дубровинский был в этом твердо уверен — именно тот тип в шапке-ушанке, который преследовал его с первого часа приезда в Петербург. Стало быть, охранке это шествие выгодно. И надо быть начеку.
Ждать долго не пришлось. Едва процессия с молитвой тронулась в путь, ее встретили винтовочные залпы. Три залпа с равными промежутками во времени, словно бы на учебном плацу. В последний, третий, раз стреляли в спины бегущим. Зачем? Для чего? Просто, чтобы скосить побольше людей?
— Стой! — закричал тогда Дубровинский, хотя волна бегущих несла его вместе с собой. — Стой! Назад! За мной!
Он разглядел витрину большого оружейного магазина. Рванулся в сторону, вышиб стекло и, хватая со стен, с прилавка что попало — револьверы, охотничьи двустволки, кинжалы, клинки, — стал выкидывать на улицу.
— Строй баррикаду! Дать отпор негодяям!
По мостовой катились бочки с рыбой. Дюжие парни, выломав ворота, волокли их поперек улицы. Из окон выбрасывали столы, стулья, шкафы. Откуда-то появилась роскошная барская карета, ее перевернули вверх колесами. В оставшиеся просветы швыряли тюки ситца, сукна, мешки с сахарным песком. Сюда же валили фонарные столбы, опутанные проводами. Еще минута — и над баррикадой взлетел лоскут кумача.
Солдатские шеренги, сделав свое злое дело, остались на своих местах. А между ними и баррикадой лежали сотни распростершихся мертвых тел и корчащихся в муках тяжелораненых. В полный рост, грозя сжатыми кулаками царским войскам, рабочие ходили по залитой кровью улице, поднимали лежащих. Раненых уносили за баррикаду и перевязывали, убитых выложили в ряд перед нею. Запели со сдержанной болью похоронный революционный марш:
Вы жертвою пали в борьбе роковой, Любви беззаветной к народу! Вы отдали все, что могли, за него, За жизнь его, честь и свободу!Солдаты стояли неподвижно. И вдруг из переулка вырвался конный отряд, метнулся к баррикаде, на полном скаку выхватывая из ножен сабли.
— Эй! Р-разойдись! — заорал офицер. И дважды из револьвера выстрелил в воздух. — За-молчать!
— Смирно! Шапки долой! — грозно ответили с баррикады. И тоже кто-то выстрелил вверх.
Потоптавшись нерешительно у мертвых тел, верховые без команды офицера сдернули папахи, пришпорили коней и поскакали обратно.
Так было в тот ужасный день.
До поздней ночи всюду по городу перекатывались толпы людей, уже не молитвенно-покорные, а резко-возбужденные. Их не успевали разгонять бесчисленные кавалерийские разъезды и жандармские патрули. На площадях пылали костры из вывесок казенных учреждений и царских портретов, на перекрестках — подожженные торговые киоски. Вера в царя была убита еще утренними залпами. Страх перед войсками и полицией прошел. И хотя всю первую ночь и следующие за нею сутки не прекращалась стрельба по любым скоплениям народа — даже несущего на своих плечах гробы с телами убитых, — никого эта стрельба не пугала, не ввергала в панику.
— Убийцы! Палачи! Кровопийцы! — кричали толпы карателям.
И нередко стаскивали их с коней, отбирали оружие. Какого-то генерала, ехавшего по Литейному, вытряхнули из саней, заставили расстегнуть шинель и, выдрав красную подкладку, прикрепили ее к древку, как флаг. Генерал стоял, ошалело хлопал глазами, и губы у него мелко тряслись…
Вместе с членами Петербургского комитета, вместе с партийными агитаторами он, Дубровинский, все эти дни находился среди рабочих, там, где с наибольшим накалом бурлили революционные страсти. Он понимал, что безоружные десятки тысяч рабочих не в состоянии будут справиться с армейскими полками, брошенными на их усмирение. Но он с радостью видел и другое: дай этой могучей силе в достатке винтовок, сабель, револьверов, дай ей организующую руку — и самодержавие будет сметено. Вот она, вырвавшаяся на простор стихия народного гнева! Вот она, революция! И горько упрекал себя за то, что своей длительной примиренческой кампанией лично он конечно же только вносил путаницу в умы рабочих.
Да, это Кровавое воскресенье никогда не изгладится в памяти народной. И в его памяти не изгладится тоже. Потому что после Девятого января, как в его жизни бывало уже не один раз, начался новый отсчет времени.
Между прочим, сегодня девятое февраля. Прошел ровно месяц. Что сделано за этот месяц? И главное, что не сделано?
Не сделано… Не высказано отношение ЦК к ультиматуму конференции северных комитетов РСДРП: готов ли ЦК наконец взять на себя созыв экстренного съезда?
Ни Носков, ни Гальперин не пожелали проявить инициативу, дабы собраться всем вместе и определить свою теперешнюю позицию. Что ж, тогда он, Дубровинский, это взял на себя, разослал всем членам ЦК пригласительные письма, назвал день, час и место встречи…
— Ну, прощайте, господин хороший, счастливого до Москвы вам пути!
Дубровинский встрепенулся. Подольск. Выходили его спутники, навьюченные мягкими свертками, сумками, корзинами так, что едва были видны головы.
— Спасибо! Спасибо! — отозвался Дубровинский. И вскочил: — Простите, бога ради! Вам помочь?
— Да нет, не беспокойтесь. Справимся сами.
И все затихло. По ногам ползли волны холодного воздуха из открытой в тамбур двери. Близился рассвет, но за окном на перроне еще горели яркие электрические фонари. В их лучах особо отчетливо вырисовывались монументальные фигуры жандармов, важно расхаживающих с заложенными за спину руками. Дубровинский усмехнулся. Ходят, блюстители спокойствия, не подозревая, что за тонкой стенкой вагона, всего в двух шагах от них, сидит человек, которого они с дикой радостью сцапали бы, знай, с какой целью этот человек едет в Москву.
При содействии писателя Степана Скитальца удалось повидаться с ныне знаменитым своим орловским земляком, тоже писателем, Леонидом Андреевым и заручиться согласием провести встречу членов ЦК на его квартире. Разумеется, не открывая ему этой тайны. Андреев, правда, не на очень хорошем счету у полиции, за ним немало предерзостных выступлений против высоких правящих кругов, но он знаменитый писатель, на квартире которого постоянно толкутся приезжие люди — и литераторы и поклонники его таланта, — и это делает встречу здесь наиболее безопасной.
Очень удачно приходит и поезд в Москву. Не надо будет болтаться по улицам, взять сразу извозчика — и к Тишинскому рынку, неподалеку от которого живет Андреев…
— Виноват… — мягкий приятный баритон. — Вы ничего не имеете, если я займу эту полку?
— Пожалуйста! — охотно отозвался Дубровинский, оглядывая вошедшего пассажира.
В каракулевой шапке пирожком, с изящным дорожным саквояжем в руке и повисшей на согнутом локте тростью, он вызывал симпатию к себе своим внешним видом. Приятный будет собеседник до Москвы. Но когда тот повернулся чуть в профиль и выделились тонкие черные усики, слегка опущенные вниз, Дубровинскому показалось: где-то он с этим человеком встречался.
А новый спутник уже уселся напротив, сбросил пальто, шапку, вязаный теплый шарф и, довольный, растирал руки, озябшие на морозе.
— С кем имею честь?.. — начал было. И вскрикнул изумленно: — Ба! Господин Варварин?!
— Вы ошибаетесь, — сухо сказал Дубровинский. Он никак не мог припомнить, где видел этого человека. — Вы спутали меня с кем-то другим. Ни вас, ни Варварина я не знаю.
— Ну, полноте! Зачем же так? Варвариным вы назвались сами. Держали речь под этим именем на одном из гапоновских собраний. Очень интересную речь. И я многие положения этой речи готов разделить, в особенности теперь, когда такой трагедией обернулась затея отца Георгия. Вы все еще смотрите на меня недоуменно. Подпольщик эсдек на лица мог быть бы и памятливее.
— Рутенберг! — вырвалось у Дубровинского. Теперь он вспомнил. Этот человек на собраниях отделов сопутствовал Гапону, а кто-то из рабочих, перешептывавшихся между собой, уважительно кивнул в его сторону: «Наш инженер, Рутенберг».
— Лучше — Мартын, — сказал Рутенберг. И протянул руку. — Если не возражаете, будем знакомы. Надеюсь, моя принадлежность к партии эсеров этому не помешает. И называть Варвариным, хотя вы не Варварин, теперь я вас смогу? Не спрашиваю о цели вашей поездки, так же как не расскажу и сам, почему я оказался случайно вашим попутчиком. А за исключением этого, смею думать, общие темы для разговора у нас найдутся. Не сидеть же нам буками до самой Москвы.
— Вы правы, Мартын, — согласился Дубровинский. — Скажите, вы садились в Подольске, очень холодно?
— Прекрасная тема для разговора, — засмеялся Рутенберг. — Морозец невелик, но тянет легкий сиверко. А как вы относитесь к назначению Булыгина министром внутренних дел?
— Мартын, вы спрашиваете так, будто после убийства людьми вашей партии подряд двух министров внутренних дел и некоторого сожаления, что Святополк-Мирский ушел в отставку, избежав этой участи, вы хотите знать мое мнение, когда и в Булыгина следует бросить бомбу.
— Вы почти угадали. Святополк-Мирский не стоил бомбы. А отставка для него уже подобна смерти. Быть министром при Трепове, ныне вознесенном до небес, то есть до чина столичного генерал-губернатора, право, даже и Булыгину будет невесело!
— И это надо понимать, что, бросив пять дней тому назад бомбу в великого князя Сергея Александровича, совсем еще недавно бывшего московским генерал-губернатором, вы очередную акцию предпочтете направить сначала против Трепова, а затем уже Булыгина. Если он не поспешит до этого сам уйти в отставку. Так?
— Вы отлично читаете мои мысли, Варварин, — заметил Рутенберг и поправил воротничок. — Нам всем только одно очень грустно: Каляев схвачен, и ему грозит виселица. Но жертвы в борьбе неизбежны.
— Надо бы уточнить: в бессмысленных способах борьбы, — возразил Дубровинский. — Ваш террор только усиливает ответный террор со стороны правительства. Ну сколько еще доказывать эту простую истину!
— Вы сводите наши программные разногласия к одному лишь моменту — отношению к террору, — покачал головой Рутенберг.
— Позвольте, Мартын! — воскликнул Дубровинский. — Но мы вообще не касались содержания программы вашей партии в целом. Если вам угодно, я готов спорить по самому широкому кругу вопросов.
— Был бы и я готов, — немедленно отозвался Рутенберг, — но боюсь, что до Москвы сей спор не завершить, поскольку между нашими партиями он безрезультатно тянется уже долгие годы, а оборвать его на чем попало в тот момент, когда наступит пора покинуть вагон, значит предоставить слепому случаю последнее слово. Прошу прощения, если я дал повод так тенденциозно истолковать свое замечание насчет отношения эсдеков к террору.
И откинулся, зажавшись плечом в уголок. На лице у него блуждала счастливая улыбка: вот, мол, как надо уметь вывертываться из трудного положения. Но он тут же погасил улыбку. Продолжил задумчиво:
— Мы люди не с каменными сердцами. Гибель каждого нашего товарища отзывается глубокой болью. И все-таки террор — чрезвычайно важное средство в борьбе с самодержавием. Оно никогда не сможет выставить на смену столько отдельных личностей императоров и министров, сколько сможет выставить отдельных личностей народ, мы, его партия, пусть последовательно погибая, но прежде уничтожая своих державных врагов. Вот здесь уже последнее слово непременно будет за нами!
— Вы по профессии не инженер ли, Мартын, так деловито строите вы свои математические расчеты, — уже несколько раздражаясь, проговорил Дубровинский. — А сколько отдельных личностей сразу положило самодержавие на улицах Питера девятого января? При условии, что в этот день народ не собирался покушаться не только на жизнь императора или его министров, но хотя бы на душевный покой его городовых.
— Вот видите, даже покорность к чему привела, — вздохнул Рутенберг. — А вы хотите поднять массы народные к восстанию, к открытой борьбе в то время, когда еще не выбиты столпы самодержавия, когда оно не дрожит в ужасе при каждом новом известии о взрыве очередной бомбы. Отрекитесь от своей ложной идеи, пока вы не сбили с толку многие тысячи.
— Мне бы хотелось сбить с толку вас, Мартын, — со злостью сказал Дубровинский. — Не ради прибавления еще одной единицы к тем многим тысячам, которые нам уже верят, а ради того, чтобы вы не стали путаться под ногами, когда неизбежно начнутся восстания. В трагедии Девятого января вы уже сыграли свою недобрую роль. Этот подлый провокатор поп Гапон…
— Ну зачем же так сильно? — перебил Рутенберг. — Право, Варварин, я виноват, что вывел вас из равновесия. А за Гапона обязан вступиться. Назвать провокатором человека, который шел впереди, рискуя жизнью, был ранен, и дело счастливого случая, что пуля попала ему в край ладони, а не в сердце, согласитесь, что называть его провокатором очень жестоко.
— Был ли ранен Гапон, я не знаю…
— Зато знаю я. — Рутенберг тоже теперь говорил с раздражением. — Я шел рядом с ним, я помогал ему выползти из-под пуль, и я помог ему уехать за границу, чтобы не попасть в лапы охранки.
— В объятия, а не в лапы! И царапина на его ладони никак не снимает с него ответственности за тысячи и тысячи безвинно убитых людей, которых вел он и сознательно привел под пули.
— Я сделал бы, Варварин, некоторую перестановку слов в конце вашей гневной речи, — овладевая собой, заметил Рутенберг. — Правильнее: «…которых сознательно вел он. И привел под пули». Расстрел мирного, верноподданнического шествия был для Гапона таким страшным потрясением, как если бы небо упало на землю, а земля провалилась в преисподнюю, в ад.
— Прелестная аллегория! — воскликнул Дубровинский. — Упавшее на землю небо, насколько я понимаю в библейских иносказаниях, равнозначно воцарению рая. Так ведь? Все святые живут на небе! Свидетельствую, улицы Питера в то светлое воскресенье действительно напоминали рай, вдоль и поперек которого на легких крыльях носились ангелы с обнаженными шашками. А что касается преисподней, в нее счастливо провалился только один поп Гапон. Как вы изволили сказать, при вашей помощи. Но поскольку ад опекается его же коллегами, Гапону там, сиречь за границей, будет теперь очень и очень неплохо.
Рутенберг слегка подался вперед, приник к затянутому белой пленкой инея окну, за которым в разливе бледно-розовой зари мелькали убегающие назад озябшие березки с настороженно приподнятыми ветвями.
— Вы спрашивали, Варварин, о погоде? — сказал он, дыханием протаивая пятнышко в пленке инея. — В общем, для первой половины февраля погода в Подмосковье приличная. Любители кататься на коньках…
— Я говорил о провокаторе Гапоне. — Дубровинский старался быть как можно сдержаннее, спокойнее, он понимал, что в трудном споре верх на крике не возьмешь. — Именно о провокаторе. Не имеет значения: получал он деньги в охранке или не получал; даны или не даны ему были инструкции, как организовать шествие и где в этом шествии самому занять место; даны или не даны были инструкции солдатам стрелять по толпе, но не по Гапону; ранен или не ранен был он; ловит или не ловит его полиция — объективно он сделал то, что мог бы сделать только гнуснейший провокатор. А вас его действия приводят в восторг, вы помогаете ему скрыться. Он нужен вам как бомба, которую можно бросить в цель, не считаясь, какую ответную реакцию это вызовет.
— А знаете, Варварин, сравнение Гапона с бомбой мне нравится. — Рутенберг уже улыбался, хотя и натянуто. — Если он, трезво все взвесив, решит теперь вступить в нашу партию, это будет хорошее приобретение. Каждая его прокламация стоит хорошего заряда пироксилина. Вы, социал-демократы, имеете все основания его проклинать: он во многом испортил задуманную вами программу действий. Ну, а рабочие из его «отделов», если хотите, загипнотизированные им, причисляют Гапона едва ли не к лику святых, что при жизни человека случается не часто. Они готовы его портреты вешать в переднем углу, как иконы.
— Когда-нибудь они повесят его самого!
— Надеюсь не доставить вам этого удовольствия. Партия эсеров, хотя с болью сердечной и идет временами на тяжелые жертвы, всегда добровольные со стороны тех, кому случается потом погибнуть, Гапона на смерть не отдаст, если он станет нашим. Он нужен нам живой. Это бомба особого действия. Ей не дадут взорваться и бесследно исчезнуть всплесками дыма и пламени. Она убивает, пока сама существует целехонькой. Вы следите за немецкими, французскими газетами? Есть сейчас, допустим, в Париже кто-нибудь популярнее Гапона? Его фотографиями заполнены все витрины в магазинах…
— Для рекламы товаров эта личность вполне подходящая!
— В целях рекламы товаров используют умерших политических деятелей, при их жизни они служат рекламой идей. Я не знаю вашего положения в партии эсдеков, но ваше столь решительное осуждение Гапона утверждает меня в мысли, что я поступил очень верно, помогая перебраться ему за границу.
— И я не знаю вашего положения в партии эсеров, — в том же тоне, что и Рутенберг, сказал Дубровинский, — но ваша столь решительная защита Гапона утверждает меня в мысли, что для дела революции это весьма и весьма опасный человек.
— Если рассматривать революцию с ваших партийных позиций, — проговорил Рутенберг и блаженно потянулся, похрустывая суставами. — Наши партии соперничают давно. Какая же из них сильнее? Вы, безусловно, скажете: эсдеки. Но, помилуйте, ваша партия — горох, который никак не собрать в одну ложку. Боже мой! Большевики, меньшевики, «болото», бундовцы, «экономисты», примиренцы, искровцы, впередовцы, ленинцы, мартовцы, плехановцы… Конечно, для вас опасен Гапон, ибо тогда непременно появятся еще и гапоновцы. У вас нет вождя. Плеханов? О, это превосходный мыслитель, теоретик! Но вы можете представить его в давно не глаженной рубашке и слившегося с революционной толпой? Есть Мартов. Он страшно хочет быть первым, великолепно кукарекает, и в петушиных боях непобедим, но взлететь выше изгороди ему не по силам, а ход революции нужно видеть с высоты. Есть Ленин. Отдаю должное: весьма умен и энергичен. И он бы мог, бесспорно, стать во главе партии, но это сделать ему вы не дадите сами. Слежу за вашими внутрипартийными баталиями. Ленин любит четкость и ясность во всем, ему видится партия-монолит, а ее одни беспрестанно раскалывают на части, другие же безуспешно пытаются потом слепить глину со сталью. И того же Гапона вам не суметь приобщить к решению своих задач. — Рутенберг слегка пристукнул кулаком по столу, как бы ставя точку в конце. Но не вытерпел, добавил: — А наша партия сильна своей единой волей. И нам необходимо лишь оружие, побольше оружия…
— В числе которого одно из важнейших — Гапон, — теперь уже поставил точку Дубровинский. И встал. — Мартын, вам не кажется, что начинается легкая метель? Вы для такой погоды хорошо оделись. А я, чудак, не сообразил хоть бы взять теплый шарф.
Рутенберг молча повел плечами. Отодвинулся к окну. Там уже медленно проплывали заснеженные каменные дома, окутанные стелющимся из труб сизым дымом. Поезд потряхивало на входных стрелках.
17
Потирая стынущие мочки ушей, Дубровинский привычно бросал косые взгляды по сторонам или вдруг приостанавливался так, чтобы можно было мимолетно уловить движение текущего позади него людского потока. Нет ли слежки, не прицепился ли «хвост»?
После недавнего убийства великого князя Сергея Александровича московская полиция словно осатанела. Чуть ли не на каждом квартале торчат или укрываются в незаметных закоулках тайные агенты охранки. Вот расплодилось поганое племя! И Дубровинский подумал, что, может быть, лучше следовало созвать совещание членов ЦК не в Москве, а в каком-нибудь другом городе. Но кто же мог знать в то время, когда согласовывались сроки и место встречи, что господа эсеры как раз в эти дни совершат свою очередную террористическую акцию и взворошат полицейский муравейник.
Он шел и думал еще о том, что как-то странно сложился разговор с Рутенбергом. Вполне естественно, раз уж они оказались нос к носу попутчиками, что такой — не только о погоде — разговор завязался. Но это не было похоже на обыкновенные пикировки между представителями двух разнопрограммных партий. Казалось, Рутенберг заведомо что-то не договаривает, словно бы хитрым образом стремится прощупать своего собеседника в каком-то существенно важном вопросе. В каком?
Дубровинский размышлял: знал Рутенберг, что его собеседник является членом ЦК, или не знал? И если допустить, что знал, к чему тогда этот настойчивый спор о Гапоне? Проверить, совпадает ли мнение его, Дубровинского, как члена ЦК, еще с чьим-то авторитетным мнением, или это все сугубо личное? Сам-то он, Рутенберг, кто по своему положению в партии эсеров?
Можно было надо всем эти ломать голову сколько угодно и не догадаться, что Рутенберг вступил в партию эсеров совсем недавно, никаких руководящих постов в ней не занимал, но сразу же приобрел вес и влияние именно благодаря своей тесной дружбе с Гапоном. Не догадаться было Дубровинскому и о том, что Гапон, укрывшись за границей, первым делом явился в редакцию «Искры» к меньшевикам, обратившись с просьбой публично объявить о его принадлежности к партии социал-демократов, и это «Искрой» было сделано; что посетил он руководителей Бунда, убеждал их в необходимости примкнуть к той линии борьбы с самодержавием, которую отныне возглавляет он, Гапон; что повстречался Гапон с Лениным и привлек сочувственное внимание Владимира Ильича своей бурной горячностью и гневом возмущения против царя и его приспешников; что как раз в день, когда Каляев в Москве своей бомбой взорвал карету великого князя Сергея, в Женеве состоялось совещание между Гапоном и Рутенбергом, с одной стороны, Плехановым и Аксельродом — с другой, и там Рутенберг, где сам, а где устами подыгрывающего под него Гапона, провел идею созыва конференции различных партий в интересах их сплочения, имея при этом тайную мысль затем подчинить их всех предводительской роли эсеров; что на этом совещании, не выдержав ледяного спокойствия Плеханова к призывам стрелять и стрелять, Гапон запальчиво заявил: «Себя я считаю социал-демократом, но я нахожу, что центром практической деятельности в настоящее время должен быть террор единичный и террор массовый. Если мои взгляды расходятся со взглядами социал-демократов, я предпочту остаться вне этой партии. — Помолчал и добавил: — И вообще не стану связывать себя принадлежностью к какой-либо партии». А гуляя потом с Рутенбергом, признался: «Когда-нибудь к вашей партии я примкну, с вами можно пиво сварить».
Ничего этого Дубровинский не знал, до России вести из-за границы еще не дошли. Он в споре с Рутенбергом ярился против Гапона уже потому, что своими глазами видел на улицах Петербурга груды кровавых тел и сам метался под пулями.
Впрочем, не знал в тот час и Рутенберг, с горячностью защищая Гапона, что всего лишь через год с небольшим именно он сам, Рутенберг, безжалостно расправится с Гапоном как с подлейшим из подлейших провокаторов.
Дубровинский шел и думал: какие развязные характеристики давал Рутенберг положению в РСДРП! Хотя, черт возьми, он во многом и прав! Особенно высмеивая попытки слепить что-то прочное из глины со сталью. Да, да, был этот грех, и очень тяжкий грех — примиренчество. Но сегодня с этим начисто будет покончено. Ради этого и созывается совещание на квартире Андреева: подтвердить, что не Плеханов, не Мартов, а Ленин, именно только Ленин способен вывести партию из кризиса…
Достигнув Садового кольца, Дубровинский еще раз внимательно огляделся: тревожного нет ничего. Было условлено, что связной будет ожидать его на трамвайной остановке, держа в левой руке на кукане сушеную воблу. Надо спросить: «На Самотеку пешком доберусь?» Тот должен ответить: «Трамваем быстрее. Как раз туда еду» — и при этом переложить кукан с воблой в правую руку.
Связного, со спины, Дубровинский увидел еще издали. Подошел, хотел тронуть за руку и задать свой вопрос, но — глазам не поверил — это же был Василий Сбитнев! Тот самый парень с гармошкой, что в поезде, идущем в Курск, беззаботно напевал: «Г-город Никола-пап-паев, французский завод…», когда Ося Дубровинский, ученик реального училища, с рассеченной кирпичом головой уезжал из охваченного холерной эпидемией села Кроснянского. Боже, сколько же это лет пронеслось! Наверное, пятнадцать, не меньше. Куда девался прежний ухарский вид Василия! Согнулся и в плечах словно бы стал у́же, но он — это он, профиль его и бородка, как была, круглая, только теперь с легонькой сединой. Вот встреча!
И, вместо того чтобы произнести условные слова пароля, Дубровинский хлопнул Василия по плечу. Тот обернулся, спросил сухо и недоуменно:
— Вам что желательно, господин?
— Мне? Мне?.. — Дубровинский поощрительно улыбался, слегка забавляясь тем, что Сбитнев по-прежнему смотрит на него сурово, видимо, недовольный — некий привязчивый «господин» может испортить условленную встречу. — Скажите, на Самотеку я пешком доберусь?
— На Самотеку? — повторил Сбитнев. И медленно добавил: — Трамваем быстрее. — Помолчал, словно чего-то выжидая, а потом нехотя обронил: — Как раз туда еду.
И тоже очень медленно переложил кукан с воблой из левой руки в правую. Вокруг них толпились люди, готовясь войти в трамвайный вагон, который, покачиваясь на рельсах, как раз приближался к остановке. Дубровинский сделал Сбитневу знак глазами: «Я понял». И первым вскочил на подножку. Сбитнев затерялся в другом конце вагона.
Пока трамвай катился и вызванивал, отпугивая пешеходов, перебегавших улицу где попало, Дубровинского точил червь сомнения. Неужели он сделал что-то не так? Почему Сбитнев на точно названный пароль отозвался холодно и неуверенно? Ну что не опознал в усатом «господине» желторотого реалиста — это вполне естественно. Ведь он-то, Ося Дубровинский, конечно, больше изменился, чем Василий. Разница возрастов сказывается. И тогда была ночь, слабый свет фонаря. И все-таки…
Он нарочно замешкался в вагоне, выжидая, сойдет или не сойдет на Самотечной площади Василий. Сошел. Значит, сомнения беспочвенны. Быстро настигнув Сбитнева, шагавшего к извозчичьему ряду, выстроившемуся вдоль чугунной ограды, он проговорил:
— Василий, я вас сразу узнал, а вы меня, видать, не узнали. Холерный год в Курской губернии помните?
Сбитнев тихо ахнул:
— Бог мой! Так, словно сквозь марлю, глянул я на вас, знакомое что-то проступило. А никак не подумал бы. Только зачем же по плечу вы меня хлопнули? Издали понятно: свои люди встретились. Это совсем ни к чему. Ведь черт их, филеров этих, знает. Вот я и напружинился. А вы, значит, туда, к Андрееву? Все там спокойно. Людей своих поблизости мы не ставили. Писатель знаменитый, какие у полиции могут быть подозрения? Гостей у него не перечтешь. Тем более сбор днем, в открытую, через парадное. А расставь людей — тут и дворники и околоточные.
— Да, все правильно, Василий. Главное, чтобы извозчик надежный.
— Это гранит. Не из ряда возьмем. Наш стоит в переулке.
Они шли по слабо хрустящему снегу, после легкой утренней метелицы еще не очень притоптанному, и Сбитнев рассказывал, что он за эти пятнадцать лет многое перевидал. Жил и в Одессе, и в Екатеринославе, и в Ростове-на-Дону, и в Воронеже. Работал на верфях, и водопроводчиком, и кровельщиком, и у горячих печей. Два раза в тюрьму садился, был и на Севере, в ссылке. На подпольной работе. А сейчас есть законный паспорт и прописка, все как полагается. И служба: сменным слесарем при насосной станции. Конечно, поручения от Московского комитета…
Сбитнев вдруг засмеялся:
— Извините, товарищ Иннокентий, говорю, будто роль в театре разыгрываю. Привык к ней. Надо. На виду ведь я сейчас у людей. Так в комитете решили. А вообще дома очень увлекаюсь переводами. И с английского и с немецкого.
— Ну, тут мы с вами коллеги! — воскликнул Дубровинский. — Особенно люблю математику.
— А я ненавижу. Предпочитаю историю… Вот мы и дошли.
Он сделал знак рукой, и из переулочка им навстречу тронулась обындевевшая лошадка, запряженная в обычные извозчичьи санки.
— Садитесь на ходу, товарищ Иннокентий, — торопливо проговорил Сбитнев. — Куда везти, он знает. А прощаться не будем, я прямо пойду.
Дубровинский вскочил в санки, бойко заскользившие вдоль Цветного бульвара, и, чуть оглянувшись через плечо, заметил, что Сбитнев почему-то затоптался на месте, бросился было к ближним воротам, а потом быстрым шагом пересек наезженную дорогу, перемахнул через чугунную ограду и затерялся между могучими, осыпанными снегом липами.
18
Было без пяти одиннадцать, когда Дубровинский поднялся по крутой, не очень-то чистой лестнице на третий этаж дома Шустова в Средне-Тишинском переулке, где снимал себе квартиру Леонид Андреев, и позвонил, как было условлено, два раза подряд, а затем, помедлив, еще один раз, коротко.
Открыл ему лакей, одетый небрежно, плохо причесанный, спросил скучающим голосом:
— К кому изволите?
— Из Питера к Леониду Николаевичу, — опять-таки по условию ответил Дубровинский.
И лакей, приняв от него одежду, сдерживая зевоту, показал жестом, куда пройти.
В большой полутемной комнате с редко расставленной мебелью старинного фасона, над которой господствовали орехового дерева огромный шкаф и еще круглый стол с массивными точеными ножками, поместившийся как раз посредине, Дубровинский не сразу разглядел собравшихся. Ему показалось, что их здесь всего лишь двое или трое. Но тут же с разных сторон посыпались восклицания, приветствующие его появление, и, хорошенько осмотревшись, он успокоился. Блестяще! Из одиннадцати членов ЦК не хватает только Любимова, Квятковского и Красина. Но Любимов в Смоленске и не подтвердил возможность своего приезда. А Квятковский, только было названо его имя, и сам как раз позвонил, а затем появился на пороге. Румяный, потирая полные, круглые щеки.
— Виноват, кажется, я последний. — И посмотрел на часы. — Против назначенного времени опоздал на девять минут. Но, знаете, никак не решался войти, все фланировал по улице. Что-то неладно…
— А что именно? — быстро спросил Дубровинский.
— В том-то и дело, что сам не знаю. Ничего определенного, а…
— Случай, когда пуганая ворона куста боится, — отозвался с дивана, стоявшего в сторонке, Крохмаль. — Вам, Александр Александрович, полицией запрещено появляться в столицах, вот и мерещатся на каждом углу филеры. Я, тертый калач, решительно заявляю, что сегодня здесь удивительно спокойно.
— Товарищи, — вдруг вмешалась в разговор Александрова. Она стояла у окна и, отогнув край шторы, смотрела вниз, на улицу. — Сейчас проехал на извозчике, не останавливаясь, Красин. Правда, я видела только спину, но убеждена, что это он. Его воротник, шапка. Почему он мимо проехал?
— Это серьезно, Екатерина Михайловна, — сказал Гальперин, вразвалочку подойдя к окну и вместе с Александровой через щелку в шторе оглядывая улицу так, словно на ней могли отпечататься следы проехавшего Красина. — Воротник и шапка у Леонида Борисовича весьма примечательны, и человек он в высшей степени осторожный.
— Так что же нам, разойтись быстрее? — с нервическим оттенком в голосе спросил Розанов и пересел от стенки к столу, забарабанил пальцами. — Иосиф Федорович, вы договаривались о квартире, решайте.
Дубровинский погладил усы, задумчиво сделал несколько шагов по комнате. Шаги были неслышны, их заглушал толстый ковер.
Припомнился недавний разговор со Скитальцем, когда тот уверял, что нет в Москве более безопасной квартиры, чем квартира Андреева, и сам писатель потом, давая радушное согласие, сказал энергично: «Милости прошу, дорогие, милости прошу! Будете как у Христа за пазухой. Занимайтесь сколько вам угодно и чем угодно, только, — он засмеялся весело, заразительно, — не взорвите нечаянно дом. Где тогда жить я буду? Ну, да вы народ разумный, не эсеры свирепые». Припомнилось и предостережение Сбитнева, что, мол, не надо бы на народе хлопать его по плечу: «Черт их, филеров этих, знает». И еще: почему так заметался Сбитнев, когда остался один у чугунной ограды Цветного бульвара? Не иначе, заметил в тот миг слежку и попытался шпика увлечь за собой. Стало быть, не очень-то в Москве безопасно. Красина нет до сих пор. Вероятно, в самом деле проехал мимо. Человек он многоопытный. Что ж, разойтись? Ну, а если тревога необоснованна? И проехал мимо кто-то другой? Когда и как удастся опять всем вместе собраться? Явных признаков слежки в глаза никому не бросилось. Все правила конспирации соблюдены, появлялись поодиночке, собирались в течение часа, приходили с разных сторон…
— Товарищи, я думаю, начинать нам свое заседание в паническом настроении негоже, — сказал Дубровинский, твердо остановясь посреди комнаты. — Розанов спрашивает: не разойтись ли быстрее? Кто еще присоединяется к нему?
Ответом была тишина. Только Носков в дальнем углу комнаты слегка кашлянул.
— В таком случае, товарищи, прошу всех к столу, — пригласил Дубровинский. И сам, подавая пример, взял стул и уселся. Вытащил из бокового кармана согнутую пополам тетрадь, бросил перед собой. — Поговорить нам нужно о многом, но коль мы не свободны от некоторой тревоги, я призываю всех говорить сжато. Лично я вношу в повестку дня два вопроса…
— Может быть, нам следовало сперва определить, кто будет председательствовать сегодня? — перебила его Александрова и посмотрела на Носкова. — Против вас, Иосиф Федорович, я ничего не имею.
— И я не имею, — сказал Гальперин. — Но я предлагаю в председатели Владимира Александровича, поскольку…
— Позвольте, Лев Ефимович, — заслонился ладонью Носков, — к чему это?
— …поскольку вы единственный член ЦК, избранный еще на съезде, — поторопился вставить Розанов.
— Не кажется ли вам, товарищи, что мы пока занимаемся суесловием? — проговорил Сильвин. — А время идет.
— Мы уже начали было, и можно бы продолжать, — немного стеснительно сказал Карпов, самый молодой из всех собравшихся. — Но если правильнее вести собрание Владимиру Александровичу, пусть ведет он.
— Давайте проголосуем, — предложил Квятковский. — Выдвигалось две кандидатуры…
— Если говорить точно, выдвигалась только одна кандидатура, Носкова, — вскипела Александрова. — Ее назвал Гальперин, а что касается Дубровинского, она никем не выдвигалась. Мои слова еще не означали…
Вошел лакей Андреева, теперь уже и причесанный и застегнутый на все пуговицы, в белых перчатках. Остановился у двери, картинно склонив голову к плечу.
— Леонид Николаевичч просил передать вам, господа, — проговорил он торжественно и как бы удваивая букву «с» и «ч», — что он чувствует себя не вполне здоровым, лежит в постели и не может вас лично приветствовать. Он также просил передать вам, господа, что вся его квартира находится в полном вашем распоряжении. Что прикажете подать, господа: чай, кофе, коньяк, ликер? С чем бутерброды?
Это прозвучало так неожиданно и так контрастно по отношению к бурно завязавшемуся спору о председателе, что все неудержимо захохотали. А лакей стоял, пытаясь изобразить у себя на лице виноватую улыбку, и искренне терялся в догадках: что же он такое сморозил, отчего все так дружно смеются? Он ведь очень точно выполнил приказ хозяина.
— Спасибо, спасибо, дорогой! — через силу, борясь со смехом, наконец выговорил Гальперин. — Передай нашу благодарность Леониду Николаевичу. А нам ничего не нужно. Впрочем, если можно, через часок подай по стакану чая и бутерброды с икрой и сыром.
Лакей поклонился и вышел.
— Ну что же, вернемся к нашим баранам? — спросил Крохмаль. А сам, прикрыв ладонью губы, все еще посмеивался.
— Мы на баранов и похожи сегодня, — сердясь, заметил Сильвин.
— Дабы не терять впустую время, председателем объявляю себя, — изображая это как шутку, сказал Дубровинский. Ему хотелось как-то предотвратить новую вспышку нелепого спора. И главное, приступить к работе. — Сегодня для дела так будет лучше. Есть ли возражения? Прошу извинить меня, Владимир Александрович!
Александрова подняла руку:
— Я против. Но не потому…
— Кто еще против? — спросил Дубровинский. И оглядел собравшихся. — Против больше нет. Владимир Александрович, пожалуйста, ведите наше заседание. А я буду докладывать. И готов потом написать протокол. Первый вопрос: об отношении ЦК к созыву Третьего съезда.
— Это давно решено и засвидетельствовано в соответствующих документах! — вскрикнула Александрова. — Вопрос снимается с повестки дня!
— Кто еще против? — в той же интонации, как и первый раз задавая подобный вопрос, Дубровинский обратился сразу ко всем. Выждал немного: — Против больше нет. Я приступаю…
— Чем вызвана постановка этого вопроса? — не унималась Александрова.
— Ведите же заседание, товарищ Носков! Или действительно вы, Дубровинский! — взорвался Сильвин. — Это же черт знает что!
Носков застучал кулаком по столу, призывая к спокойствию, и сделал знак Дубровинскому: «Говорите!»
— Екатерина Михайловна спрашивает, чем вызвана постановка этого вопроса, — начал Дубровинский. — Мой рассказ давно бы уже подходил к концу, если бы она же сама всеми силами не оттягивала время…
— Я протестую! — заявила Александрова.
— И я, — поддержал Гальперин. — Иосиф Федорович, не надо обижать других!
— Хорошо, я буду обижать сам себя, — согласился Дубровинский. — Выполняя июльское постановление ЦК, я объездил едва не половину России, добиваясь в местных комитетах резолюций, направленных против созыва съезда. За самыми скудными исключениями, успеха я нигде не имел. Невозможно было убедить товарищей, что съезд не нужен в то время, когда руководство партией практически парализовано разъединяющими его разногласиями. Больше того, не очень-то честной борьбой за сферы личного влияния…
— Что означают эти намеки? — не выдержал Гальперин.
— Они означают, Лев Ефимович, то, что, получив среди прочих товарищей меткую ленинскую кличку «примиренца», я ее отныне носить не хочу. Под примирением в партии я понимал иное: вдумчивое, товарищеское, честное обсуждение существа расхождений во взглядах с тем, чтобы потом их сблизить на принципиальной, верной основе. Но примирение с тем, чтобы большинство партии капитулировало перед меньшинством, не потому, что меньшинство стоит на более верных позициях, а потому, что оно временно располагает силой, добытой интригами, — такого примирения…
— Я вас лишаю слова, Дубровинский! — Носков вскочил и опрокинул стул. Не стал его поднимать, оттолкнул ногой. — Или называйте имена, или извинитесь перед всеми, ибо ваши намеки задевают честь каждого!
— Имена я назову, — сказал, побледнев, Дубровинский, — и готов извиниться перед теми, кто по деликатности своей может в чем-то напрасно посчитать виноватым и себя. Но перед собой я извиняться не буду, ибо честь моя задета поделом. И первое имя, которое назову, это — Дубровинский. Слишком долго я упорствовал в том, что считал безоговорочно правильным лишь потому, что это обычно облекалось в форму постановления ЦК, куда я тогда только-только был кооптирован…
— Мы можем и вновь вывести вас из ЦК! — крикнул Гальперин.
— Как вывели, например, Землячку? — продолжал Дубровинский.
— Теперь я понимаю, откуда ветер дует, — злорадно вставила Александрова.
— Но настроения на местах, образование Бюро комитетов большинства, моя встреча и обстоятельный разговор с Землячкой, — не делайте такие страшные глаза, Екатерина Михайловна, — то, что я прочувствовал во время кровавой питерской бойни и сегодня в случайном разговоре с одним из мозговитых эсеров, наконец, заявление Ленина о разрыве центральных учреждений с партией…
— На это заявление можете не ссылаться. — Носков, стоя на ногах, нервно теребил лацканы пиджака. — Мы его получили, нам темперамент Ленина не в новинку, и мы найдем, как ему ответить…
— Ответить надо решительной нашей поддержкой агитации в пользу созыва Третьего съезда. — Теперь поднялся и Квятковский.
— Правильно! Правильно! — в голос воскликнули Сильвин и Карпов.
— Это вопрос особый — о съезде, ненужном и вредном. — Гальперин потряс поднятыми вверх руками. — Мы к нему еще вернемся. Здесь прозвучало имя Ленина в связи с его безобразнейшим заявлением. Поэтому, прежде чем нам продолжать разговор о чем-либо другом, мы должны принять решение ЦК, сурово осуждающее поступок Ленина, делающее его лично ответственным за обострение внутрипартийных отношений. Надо поставить его на место…
— На полагающееся Ленину место его поставит съезд, за который мы ныне обязаны бороться, — сквозь нарастающий шум голосов продолжал Дубровинский. И встал. Уже никто не сидел. Носков возбужденно бегал по комнате. — Товарищи, как представитель большевистского крыла в ЦК я прекращаю поиски внутрипартийного примирения, любые, кроме открытого и честного примирения на съезде. И личное дело Носкова и Гальперина, вероятно, и Александровой, как они к этому отнесутся. Меня просили назвать имена, я называю. Никаких других решений, только решение в поддержку Третьего съезда должны мы принять сегодня. Не спрашиваю: кто «за». Спрашиваю: кто «против»?
Последнюю фразу он выкрикнул в полную силу голоса. И эта его решительность, необычность процедурной постановки вопроса как-то враз оборвали шум и беготню.
— Повторяю: кто «против»?
Воцарилось короткое тягостное молчание, а затем медленно поднялись три руки: Крохмаль, Розанов, Александрова…
И в тот же миг на пороге двери, ведущей в переднюю, появился лакей, испуганный, растерянный. Он едва успел выдавить слово «Полиция!», как чья-то рука в кожаной перчатке его уже оттолкнула, и комната наполнилась жандармами и дворниками, обычно при обысках исполнявшими обязанности понятых.
Дубровинский бросился к столу, чтобы схватить, порвать оставшуюся там лежать тетрадку с подготовленными проектами постановлений, и не успел. Как не успели уничтожить свои записи на отдельных листках бумаги и все остальные.
— Господа! — громыхнул тяжелым басом офицер. — Прошу оставаться на своих местах. Не двигаться. Не делать каких-либо попыток к сопротивлению. Имеющим оружие сдать его мне. Вы все арестованы. Отдельного корпуса жандармов штабс-ротмистр Фуллон.
По его знаку дворники расставили стулья в ряд. Фуллон красивым, плавным жестом предложил арестованным сесть. Полицейские надзиратели прошлись вдоль ряда, спрашивая об оружии. Все только отрицательно покачивали головой.
— Мы протестуем против такого вторжения, господин штабс-ротмистр, — заговорил Дубровинский, когда полицейские надзиратели и дворники отошли в сторону. — Мы собрались, чтобы побеседовать о новых успехах в организации профессиональных союзов в Англии. И в этом нет ничего предосудительного…
— Разумеется, разумеется, господа! — отозвался Фуллон и, позванивая шпорами, приблизился к столу. — Профессиональные союзы в Англии — это чрезвычайно интересно. И вы еще будете иметь достаточно времени, чтобы об этом побеседовать. — Он взял тетради Дубровинского. — Судя по вашему движению к столу, когда мы входили в комнату, эти записи принадлежат вам, заявляющему столь энергичный протест. С вашего разрешения, позвольте взглянуть. — Развернул тетрадь и прочел вслух: — «Предвидя возможность ликвидации самодержавия путем народного восстания в ближайшее время и считая своей задачей стремиться к такой форме ликвидации, мы берем на себя пропаганду в широких рабочих массах идеи народного восстания и призываем народ к вооружению…» Так-с! Ах, какие канальи, эти профессиональные союзы в Англии, чем они занимаются! — И скомандовал надзирателям: — Обыскать всю квартиру и, буде кто еще обнаружится, доставить сюда.
— Этот черновик, господин штабс-ротмистр, никакого отношения к сегодняшней нашей встрече не имеет, — заявил Дубровинский. — Я не помню, откуда это переписано.
— И не трудитесь вспоминать. Мы достаточно осведомлены о ваших политических взглядах, если не ошибаюсь, господин Дубровинский. У вас есть при себе паспорт? Предъявите.
Дубровинский молча протянул ему паспорт.
— Вот видите, в Москве проживать вам запрещено, а мы почему-то встретились с вами именно здесь, — усмехнулся Фуллон.
— Здесь я проездом, — отозвался Дубровинский. — А встретиться с вами мы могли бы и в Питере, где градоначальником, если не ошибаюсь, служит ваш батюшка.
— Совершенно верно, — подтвердил Фуллон. — Приятно слышать, что вы об этом осведомлены. Теперь я попрошу и остальных, надеюсь также членов ЦК РСДРП, предъявить свои документы.
— Среди нас нет никого, кто имел бы отношение к Центральному Комитету, — быстро сказал Крохмаль, давая понять остальным, как следует держаться.
— Тем лучше, — проговорил Фуллон. — Ваши документы… Гм! Яголковский Флориан и так далее. И кто же вы по своей специальности? Что привело вас сюда и откуда?
— Я инженер-технолог. Как видите по прописке, живу в Пятигорске.
Фуллон прикрыл глаза. Так посидел, подергивая губами в веселой усмешке, как бы соображая, стоит или не стоит ему открывать уже сейчас свои карты, и все же решился:
— До инженера-то вы, господин Крохмаль, еще не доучились. И напрасно. А то, что бежали из киевской тюрьмы два с половиной годика тому назад, нынче же из архангельской ссылки, вряд ли приведут вас в прелестный город Пятигорск, где прописан ваш, то есть инженера Яголковского, фальшивый документик.
Следующим был взят паспорт у Гальперина. Фуллон его долго оглядывал, сопоставляя наклеенную на паспорт фотографическую карточку с другой фотографией, извлеченной из бокового кармана своего мундира, и, наконец, удовлетворенный, засмеялся:
— Стало быть, вы из Сидранска, Юлиан Иосифович? — спросил и, получив подтверждение Гальперина, продолжил: — И по фамилии Черепушко. Но из киевской тюрьмы вместе с господином Крохмалем ведь сбежал не Черепушко, а Гальперин. Как вы можете объяснить это?
— Никакого Крохмаля и никакого Гальперина не знаю, и ни в какую тюрьму никогда я не бывал заключен; надеюсь, так же, как и вы, господин Фуллон, — невозмутимо ответил Гальперин.
— Значит, теперь у вас есть надежда посидеть в тюрьме! — весело воскликнул Фуллон. — Следующий!
— Маринич Владимир Михайлович, сотрудник газеты «Одесские новости», — Квятковский подал свой паспорт.
— Возможно, возможно! — посмеивался Фуллон, складывая паспорта в стопочку. — Только что-то Маринича среди членов ЦК вашей партии не припомню. Следующий!
— Михаил Иванович Прокушев, студент, — сказал Розанов и протянул документ.
— Очень приятно! — Фуллон взял паспорт, не читая положил на стол. — А, извините, прилежанием в школе не отличались? Случалось бывать и во второгодниках? Для студента годочки-то несколько велики. Следующий!
— Теслюков Василий Дмитриевич, исполняющий дела секретаря при прокуроре житомирского окружного суда, — заявил Носков. — Паспорта при себе не имею.
— Напрасно! — сочувственно сказал Фуллон. — Хоть чужой, поддельный, а документ всегда надо иметь. Вдруг полиция поинтересуется. Так ведь недолго и в беспаспортные бродяги попасть. А тогда… — и повертел растопыренными пальцами. — Следующий!
— Беспаспортный бродяга, — сказал Сильвин.
— Я тоже, — присоединился Карпов.
— И я! — заносчиво воскликнула Александрова.
Фуллон слегка опешил. Это уже было дерзостью, неприкрытой насмешкой над ним. Видимо, он очень заигрался с этой публикой, позволил себе выйти из официального тона, обрадованный тем, что Дубровинский и по паспорту оказался Дубровинским, а Крохмаля и Гальперина он опознал по приметам, тщательно описанным в охранном отделении. Ему сейчас бросили вызов. Поднимать перчатку он не станет. Генерал Шрамм предупредил сразу, посылая на операцию по захвату главных деятелей РСДРП, приверженцев Ленина, что следствие будет серьезным и что руководить этим следствием будет лично он сам. Пусть Шрамм и сбивает с них спесь. Он умеет. Что же касается сопляка, вторым назвавшегося беспаспортным бродягой, вот-то, наверно, был бы он поражен, если сказать, что именно он, спасибо ему, потащил за собой филерский хвост к этому дому. А остальное уже не было трудным. И Фуллон, загадочно показывая пальцем на Карпова, произнес только:
— Благодарю вас! — А затем совершенно сухо предупредил: — Господа, вы все будете обысканы. Имеющим документы лучше сдать, не дожидаясь этого.
Из внутренних покоев вернулись полицейские надзиратели и привели с собой Андреева. Он вошел хмурый, сбычившийся, шаркая по полу домашними шлепанцами. Его красивое лицо, с цыганским разлетом густых черных бровей, отражало крайнюю степень презрения к вышагивающим позади него агентам охранного отделения. Чувствовалось, что его так и распирает желание садануть их под ребра согнутым локтем.
— Господин полицейский чин, — глуховатым, бухающим голосом проговорил Андреев, — эти ваши архангелы стащили меня больного с постели…
Фуллон поднялся, сказал с достоинством:
— Имею честь представиться, Леонид Николаевич! Отдельного корпуса жандармов штабс-ротмистр Фуллон.
— Не имеет значения, отдельного или не отдельного и штабс или не штабс, — сказал Андреев, обдергивая на себе длинную, неподпоясанную рубаху с расстегнутым воротником, не то стыдясь, не то, наоборот, гордясь своим затрапезным одеянием. — Что нужно штабсу от писателя Леонида Андреева?
— Не имеет значения — писатель или не писатель Леонид Андреев, — задетый за живое, ответил Фуллон, переменив спокойный тон на начальственные раскаты. — Вы арестованы как соучастник тайного совещания противоправительственных заговорщиков.
— Угу! Что еще мне приписывается? — хрипловато пробубнил Андреев. И вдруг озарился наивной детской улыбкой: — В ночном горшке под кроватью ваши подручные обнаружили гремучую ртуть?
— Шутить, Леонид Николаевич, у вас не отнимается право, — сказал Фуллон. — Но свободы лишить вас я обязан. До последующих распоряжений высших властей.
Выдержать это было невозможно. Дубровинский вскочил со стула, подбежал к Фуллону:
— Господин штабс-ротмистр, Леонид Николаевич не имеет решительно никакого отношения к нашему совещанию. Он даже не видел ни разу ни одного из нас, кроме меня, и то, когда я, совершенно незнакомый ему человек, имел дерзость попросить разрешения собраться вот здесь. Мы все свидетельствуем, что Леонид Николаевич болен и не показывался в этой комнате. Арестовывать знаменитого писателя лишь за то, что неизвестные ему…
— Господин Дубровинский, — оборвал Фуллон, — ваше свидетельство ни к чему, все это будет проверено следствием, в том числе и сколь незнакомы хозяину квартиры собравшиеся у него люди. Что же касается таланта Леонида Николаевича, перед коим и я преклоняюсь, смею напомнить: не менее знаменитый писатель Максим Горький, как вам должно быть известно, ныне также находится под арестом. И простите, Леонид Николаевич, если заимствую ваши слова, не за то, что обнаружено у него в ночном горшке под кроватью.
Он открыл портфель, вытащил из него бумагу и принялся составлять протокол о задержании группы подозрительных лиц и о произведенном у этих лиц, а также в квартире писателя Андреева обыске. Полицейские ощупывали карманы арестованных, выбрасывали на стол их записные книжки, портмоне, ключи, проездные билеты, все до мельчайших предметов, найденных там. Прибыли и еще чины в жандармских шинелях. Фуллон распорядился, чтобы они с понятыми приступили к осмотру и всех наружных помещений, слазили на чердак, открыли сараи и особо проверили поленницы дров, сложенных у забора.
— Леонид Николаевич, бога ради простите меня! — вдруг спохватился Фуллон, отрываясь от бумаг и обращаясь к Андрееву. — Я вас держу, так сказать, в неглиже. Будьте любезны, оденьтесь. И теплее. На дворе метелица, а вам и так нездоровится.
— Так вы что же намерены делать с нами, штабс? — брезгливо спросил Андреев. — Со всеми нами?
— Имею указания. С вашего разрешения, господа, в Таганскую тюрьму. С вашего разрешения, до суда прямо в Таганскую тюрьму. Там и вести дальнейшее следствие будут. А что после? Сами знаете, время у нас нынче суровое.
Дубровинский стиснул кулаки, ощутив на запястьях словно бы холод и тяжесть цепей. Таганская тюрьма — знакомая уже тюрьма — в Москве самая скверная. Да не в том еще дело, что она просто скверная и что конечно же посадят в нее надолго, торопиться со следствием не станут. Стисни зубы, собери всю волю в комок — и дни потекут, дни нравственных страданий от вынужденного бездействия, дни мучительного ожидания свободы. Дело в том, что из этой Таганской тюрьмы вряд ли скоро удастся подать голос товарищам. Хотя бы Красину или Любимову, единственным уцелевшим от ареста членам ЦК, а ведь сегодня, пусть в буре и грызне, принято важное решение.
Каким образом Ленин, для которого это не безразлично, узнает о нем?
Бесспорно, так или иначе, независимо от любого решения ЦК, а съезд все равно состоится, для партии он жизненно необходим.
Но разве партии все равно, остались ли некоторые ее доверенные представители при прежних своих заблуждениях или честно отказались от них и готовы теперь взять на себя все самое трудное и опасное!
Как об этом узнает партия?
Книга вторая
Часть первая
1
Небо, и всегда магнитно притягивающее к себе взгляд человека, на этот раз казалось особенно глубоким. Может быть, потому, что был поздний вечер и давно отцвели блеклые краски зимней зари. Может быть, потому, что высокие сосны, обступившие заснеженную аллею парка, заслоняли собою горизонт и только самый купол неба оставался открытым. Может быть, и потому, что много дней подряд озоровала вьюжная непогодь, заставляя отсиживаться в тоскливых стенах санаторной палаты, а теперь вдруг наступила торжественная тишина.
Жгуче горели далекие звезды, но если постоять даже немного, совершенно не двигаясь, можно было заметить, сколь быстро проплывают они над головой. Это текла в неизвестность река времени.
Врачебные предписания жестки. Перед сном небольшая прогулка на свежем воздухе, на ночь теплое молоко и микстура, унимающая кашель. Конечно, все это приятно. Точный распорядок дня, вкусная, обильная пища, мягкая постель с накрахмаленным бельем, ласковый говорок сестры милосердия, приносящей в палату лекарства, тихий, задумчивый парк. Но все это не для души, не для сердца. Что толку, если кашель становится реже, не так одолевает одышка, подушка под утро остается сухой, не промокшей от проливного пота, и ноги при ходьбе не дрожат; что толку от этого, постылой кажется сама жизнь, если она ради только вот такого приятного, размеренного существования.
И это в то время, когда ты можешь и обязан помочь товарищам, общему делу, когда вся Россия еще кипит революционной страстью.
Этот вечер можно гулять допоздна, нарушив режим. Все равно завтра отъезд. И хотя добрый хозяин врач Сатулайнен будет грустно покачивать головой, убеждая остаться в санатории по крайней мере на месяц (ведь лечение все же идет успешно), поддаться такому соблазну нельзя. Радости это не принесет. Гурарий Семеныч Гранов тоже вздохнет, он в крепкой дружбе с Обухом, и тот, конечно, в частном письме нарисовал картину весьма драматическую. Ох уж эти врачи! Если бы не доктор Обух, не его железные настояния, разве бы он, Дубровинский, поехал сюда, под эти тихие сосны, пить на ночь теплое молоко! Впрочем, Гурарий Семеныч, милый человек, только вздохнет, а уговаривать больше не станет, он прежде всего хороший психолог и знает, что бесполезно лечить тело, если страдает душа. Шесть недель, проведенных здесь, показались бы совершенно непереносимыми, если бы не ежедневные беседы с этим чудесным стариком, преданным делу революции не меньше, чем заботам о здоровье своих пациентов.
Всяк должен быть на своем месте. Обух — прекрасный оратор и образованнейший врач, наибольшую пользу приносит, вращаясь в близких ему интеллигентных кругах Москвы. Ему пока нет надобности уходить в глухое подполье. Гурарий Семеныч, умелый конспиратор, особенно по части передач нелегальной литературы и укрытия товарищей от преследования полицейских ищеек; он сам побывал однажды в их лапах и в ссылке и теперь работает здесь, в Финляндии, где революционеров порой и видит петербургское жандармское око, да зуб неймет, — здесь свои государственные законы. Ну, а Дубровинскому, «Иннокентию», должно быть только в самой гуще борьбы, безразлично, какими последствиями потом ему будет это грозить. Характер свой не переделаешь. Да и зачем переделывать? Работать надо всегда в полную силу. А лучше, если сверх сил.
И быстрой чередой пронеслись в сознании события минувшего года, с той поры, как захлопнулась скрипучая дверь общей камеры Таганской тюрьмы, а потом, через восемь месяцев, вновь распахнулась, и в глаза ударил слепящий свет октябрьского дня; народные толпы, выкрикивающие радостно: «Свобода! Свобода!»; в растерянности стоящие у тюремных ворот городовые; они, привычные к свирепому разгону любого скопления людей, не знали, как держать себя теперь, после царского манифеста, провозгласившего неприкосновенность личности.
Но этот светлый день тут же померк и заполнился бьющим в лицо злым ветром, когда пронеслось: «На Немецкой улице железным ломом убили Баумана…» И тяжкий стон вырвался, казалось, даже из камней мостовых. Вот он, манифест, вот кому — черносотенцам пожалована полная свобода! Провожать Николая Эрнестовича в последний путь собралась вся пролетарская Москва, гневная, негодующая. И все тот же ледяной ветер взвивал красные флаги, перехватывал дыхание, когда, взявшись за руки, цепью, с непокрытыми головами, они, друзья Баумана, шли впереди гроба. А скорбная медь духового оркестра проникала в самое сердце:
Вы жертвою пали в борьбе роковой, Любви беззаветной к народу! Вы отдали все, что могли, за него, За жизнь его, честь и свободу…Дубровинский остановился. Слова похоронного марша, словно далекое эхо, доносились не то из торжественной ясности морозного неба, не то из глубин застывшего в неподвижности леса. Мерещится? Конечно, мерещится, когда неспокойно на душе, когда скорее хочется быть снова там…
За вами идет свежих ратников строй, На подвиг и на смерть готовый…Это прямо относится к нему.
И закашлялся, хватил большой глоток холодного воздуха. Сразу заныл коренной зуб. Гурарий Семеныч убеждал повозиться с ним, залечить как следует. Да ведь разболелся он в самые последние дни. Не откладывать же отъезд из-за этого! Лаврентьева в свое время предупреждала: «Товарищ Иннокентий, сомнителен ваш зубик. Зайдите-ка еще разок месяца через четыре. Зайдете?» Да, так было. Именно четыре месяца назад…
…Давняя зубная боль, резкая, ноющая, вернулась к нему словно бы нарочно как раз в ту минуту, когда он остановился, разглядывая в полутьме гравированную медную табличку на парадной двери одного из домов на Николаевской улице: «Дантист Ю. И. Лаврентьева».
Моросил мелкий ноябрьский дождик, так свойственный Петербургу. Фонарь на перекрестке казался мохнатым желтым шаром, от которого к стеклам окон в ближних домах тянулись узкие радужные лучики света. Из водосточной трубы, закрепленной неподалеку от крыльца, журча, выплескивалась тонкая струйка, долбила однотонно кирпичную отмостку.
Пешеходы шагали торопливо, неровно, припрыгивая в замешательстве перед глубокими лужами. Иногда на рысях проезжали легкие экипажи с поднятым кожаным верхом. Жидкая грязь с шипением разлеталась из-под колес.
Он привычно повел головой направо, налево: нет ли чего подозрительного? — долгие годы подполья выработали охранительный автоматизм — и нажал кнопку электрического звонка. Оглядываться особой надобности не было, улица тихая, явка «чистая», и, окажись этим вечером у порога квартиры Лаврентьевой по делу, касающемуся только его самого, он вошел бы в дом с совершеннейшей бестревожностью. Однако на этот раз было нечто особое. Он пришел сюда для встречи с Лениным, первой личной встречи за несколько лет заочного знакомства, и не мог даже и мысли допустить, что вдруг приведет за собой «хвост». Именно поэтому в тот миг, когда дверь чуть-чуть приотворилась, он еще раз окинул улицу внимательным взглядом.
В узкую щелочку, через цепочку, женский голос объявил, что время позднее и прием больных закончен. Он на это отозвался словами пароля, сообщенного ему утром Красиным, и цепочка, тоненько звякнув, тотчас слетела.
Его встретила уже сама хозяйка квартиры, подала руку, теплую, мягкую. Повела в прихожую и показала, куда повесить промокшее пальто. Снять помогла горничная, та, что открывала дверь.
«Иннокентий», — назвал себя он, непослушными от холода пальцами приглаживая волосы и думая, что эта прихожая и вешалка очень напоминают вход в квартиру доктора Весницкого, у которого здесь же, в Питере, год назад перед встречей с Землячкой ему довелось укрыться от преследования филера. Он тогда пообещал Весницкому подарить со своим автографом какую-нибудь книгу, но слова не сдержал. Как это нехорошо! И как бы это исправить?
«Юлия Ивановна, — представилась хозяйка. — Вас ждут. Но, может быть, несколько минут вы согласитесь посидеть в этой страшной комнате?»
Откинула тяжелую портьеру, за которой находился зубоврачебный кабинет. Мерцали в электрическом свете какие-то склянки, никелированные инструменты. На столике рядом с бормашиной громоздилась толстенная книга — стоматологический справочник.
«Мне приходилось сиживать, и не минутами, а долгими месяцами в комнатах куда пострашнее этой, — сказал он, поддерживая веселый тон хозяйки. — И я охотно провел бы сейчас необходимые минуты ожидания именно в таком вот целительном кресле».
Он слегка коснулся ладонью щеки. Лаврентьева приняла этот жест за шутку, улыбнулась и, кивнув головой, исчезла. Из-за портьеры донеслось тихое: «Настенька, приготовьте чаю, покрепче и погорячее. С лимоном. Подайте сюда. Нет! Подайте в столовую, когда наш новый гость перейдет туда».
Одолевал кашель. Зуб поднывал нестерпимо. Это началось в Таганской тюрьме, незадолго до выхода на волю, а потом добавил еще кронштадтский ледяной ветер. Надо бы, конечно, давно обратиться к дантисту, да ведь все некогда. А сейчас вот и врач здесь и кресло… Он легонько потрогал гибкий шланг бормашины, и зуб, точно испугавшись, сразу притих.
Почему Лаврентьева предложила немного подождать? Занят с кем-то другим Владимир Ильич? Или, скорее всего, отдыхает? Ленин ведь сегодня прямо с вокзала. Женева, Стокгольм, Гельсингфорс — добрую неделю в дороге. Вероятно, очень устал, изнервничался. Да еще чуть ли не в первый час по приезде повидался и очень обстоятельно побеседовал с Красиным, с Лядовым. Успел побывать и на Преображенском кладбище, где похоронены жертвы Кровавого воскресенья.
И вспомнилось…
…Улица, запруженная народом, не знающим, что творится там, впереди. Возбужденные голоса, золотые хоругви, качающиеся далеко, во главе колонны. Праздничными, цветастыми платками окутанные головы женщин. Детишки, весело припрыгивающие на морозе. Опять и опять возникающая мелодия гимна: «Боже, царя храни!.. На славу нам, на страх врагам…» И потом эта же толпа, рассеченная надвое конными казаками, словно спелая рожь под замахом косца. Сверкание обнаженной стали. Проклятия, стоны, кровь. Всюду кровь…
Да, тогда бы немного еще, и лежать ему под копытами лошадей. Впрочем, «немного» — постоянный спутник каждого революционера, его добрый гений. И разве всего лишь две недели назад не это же самое «немного» опять сберегло ему жизнь?
…Кронштадт. Луна на ущербе, глухая ночь, пустынная окраина, где только что прошли каратели, прочесывая все закоулки и стреляя без оклика в любого, кто возникал у них на пути. Далекий, неясный шум у казарм, окруженных прибывшими из Петербурга войсками, последние минуты восстания. Восстания стихийного и грозного, как извержение вулкана. А все же сломленного, подавленного силой оружия. Пушки против винтовок, пулеметы против штыков.
Начали матросы хорошо. Петербургский комитет партии решил кронштадтцев поддержать всеми мерами. Он, Дубровинский, тайно пробрался на мятежный остров, чтобы сообщить об этом восставшим. «Рабочие Питера на вашей стороне, товарищи! А Кронштадт — неприступная крепость. С его фортов разговаривать будем с приспешниками самодержавия языком тяжелой артиллерии. К бою! Победа будет за нами!» Матросы ответили громовым: «Ура!» Захватили радиостанцию, отдали приказ всем кораблям присоединиться к восстанию. И вдруг ужасающая весть. Старшина, которому приказали подготовить пороховой погреб к подаче снарядов, заперся в нем изнутри. Дверь автоматическая, и открыть ее снаружи невозможно. Разве что взорвать погреб вместе с предателем-старшиной! Но что это даст? Немо глядят расчехленные пустые дула орудий на Ораниенбаум, откуда уже черной тучей движутся карательные полки…
И вот он после тяжелого, проигранного боя, увертываясь от бесчисленных патрулей, прокрадывается сквозь весь город к окраине. Впереди открытое шоссе, ведущее к морским причалам. Там свои — надежное укрытие. Но вдруг из-за угла еще один отряд карателей с винтовками наизготовку. Мелькнула чья-то тень перед ними, и острые языки пламени с сухим треском прорезали туманную полутьму. Офицер отделился от солдат, вышагивающих по-прежнему ровно, приблизился к упавшему человеку, пошевелил его ногой. «Штатский!» — с досадой выкрикнул, догоняя отряд…
Вздрагивающей рукой Дубровинский провел по волосам. Закашлялся. Что это: жарко натоплено здесь, в квартире Лаврентьевой, или от нахлынувшей слабости бросило в пот?
…Тогда он тоже был в «штатском», но в кармане пальто лежал револьвер, важные и потому особо опасные документы, которые следовало передать в Петербургский комитет. Что делать? Вступить в неизбежно гибельный бой? А бежать некуда. Привлеченные выстрелами, спешат сюда каратели. Тяжелый топот слышится за спиной. Какая-то доля минуты — он окажется у всех на виду. И тогда — залп.
Подтолкнула неведомая сила. Вот телеграфный столб. Обхватить его руками, шатаясь пьяно…
А штыки поблескивают совсем рядом, и холодное дуло офицерского браунинга тычется снизу в подбородок: «У-у, нарезался, сволочь!» Тогда: «В-ваше вскок-благ-родие, с ребятами м-мы х-хороший п-подвальчик разбили… Р-рекой тек-кло… в-виноват, в-выпил малость… Ур-ра царю б-батюшке!.. К б-брату иду… Д-дорога на п-причалы эта?» Браунинг еще свирепее потыкался в подбородок: «А ну, шагай! — Брезгливо и грозно: — Живее! Да по линеечке. Морда!»
Какое «немного» тогда удержало палец офицера на спусковом крючке?
Особенно сильно разболелся зуб именно после этого. Кажется, офицер весьма основательно долбанул в челюсть. Да еще и нервное напряжение…
2
«Товарищ Иннокентий? Иосиф Федорович! Вот когда мы с вами встретились. Рад, рад, чрезвычайно!» — веселый, сильный, стремительный голос.
Дубровинский быстро повернулся.
Да, да, пожалуй, именно таким и представлял себе Ленина. Вот он, задержавшийся у порога, а все еще как бы в движении. Обширный круглый лоб, тронутый ранними морщинами, резко очерченный подбородок, в глазах же — юношеская мягкость, этакая умная усмешечка.
А Ленин протягивал руку, как-то очень уж оттопыривая большой палец и слегка склонив голову к плечу.
«Товарищ Ленин…»
«Ну, я думаю, мы достаточно хорошо знаем друг друга, чтобы разговаривать проще».
«Здравствуйте, Владимир Ильич! Возможно…»
«Простите! — Ленин стиснул пальцы в кулак и вновь раскрыл ладонь. — Простите. И позвольте прежде всего рассеять одно досадное недоразумение. В ожидании вашего прихода я решил набросать статейку для ближайшего номера „Новой жизни“, отличной газеты, попросил нашу милейшую хозяйку несколько повременить с чаем и, очевидно, имел неосторожность сказать какие-то слова, из которых следовало, что я прошу вообще меня не беспокоить. И вот картина: я бестревожно пишу свою статью, а вы здесь, среди этих орудий пыток, меня дожидаетесь. Идемте! Идемте, Иосиф Федорович, будем пить чай и разговаривать. Я вас перебил на слове „возможно“. Итак — возможно…»
«Возможно, Владимир Ильич, вам все же не следовало прерывать работу. Мне, например, сегодня совершенно некуда торопиться. Могу подождать сколько понадобится».
«Эка, батенька, это уже хитрость! И шитая белыми нитками. Статья тоже никуда не уйдет, я ее все равно допишу, а беречь время каждому необходимо. И вам в том числе. Иначе у меня сложится о вас дурное мнение. А до сих пор оно было очень хорошим».
Ленин стоял, улыбаясь, заложив руки в проймы жилета и покачиваясь на носках. Потом подшагнул, взял его за рукав и повел, чуть приотстав, в столовую. Здесь свет был менее ярок, мебель темнее, дальние углы вообще неразличимы, господствовала какая-то особая тишина, при которой и разговор складывается душевнее, доверительнее.
Чай уже стоял на столе. Тут же лежала стопка бумаги, по-видимому, наброски незаконченной статьи. Ленин сдвинул листки в сторону.
«Вспоминаю, как развеселила нас Маняша своим письмом в трудные женевские дни перед съездом. Там, в ее письме, между прочим, были приблизительно такие строчки: „Появился наследник. Назвали Леонидом. Не налюбуемся на него, подает очень большие надежды“. Это когда вы были в Астрахани. А Мария Ильинична в своих оценках строгая».
«Возможно, в Астрахани я и подавал какие-то надежды», — сказал Дубровинский. Похвалы Ленина его смутили, заставили покраснеть.
«Опять „возможно“? Вы были отличным агентом „Искры“ и превосходным организатором многих важнейших дел. — Ленин подался к нему всем корпусом. — Чего я никак не скажу относительно вашей позорной, примиренческой позиции. Вот вам аттестация напрямую, для начала нашего личного знакомства. Я говорил бы злее, но вы честно исправили свои ошибки. А теперь рассказывайте, каким образом Красин пытался вызволить вас из мерзейшей Таганской тюрьмы, да не успел. Он от такого рассказа уклонился».
«Да что же, Владимир Ильич, дело давнее».
«Ну, положим, три недели всего. Давнее! А все-таки? Действительно собирались к вам сделать подкоп?»
«Копали, Владимир Ильич».
«А поподробнее?»
Ленин угощал его. А сам, с удовольствием охватывая ладонями свой стакан — в этой комнате было прохладно, — поторапливал:
«Жду, Иосиф Федорович!»
«Перед тюремной стеной со стороны Москвы-реки…»
И он коротко, сжато рассказал, как арендовал Красин на пустыре перед тюремной стеной участок земли. Объявил о создании общества по производству бетонных изделий, назначил себя директором общества, появились у него и приказчик с помощником, рабочие — все как полагается. А затем огородили участок высоким забором, возвели большой деревянный сарай — словом, создали необходимую маскировку. И повели подкоп под тюремную баню. Туда раз в неделю водили заключенных небольшими группами, и можно было исхитриться попасть в такую группу только бывшим членам Центрального Комитета, сидевшим в тюрьме. Все шло на лад. Под видом родственников «на свидание» захаживали товарищи с воли, сообщали, как продвигается работа, уточняли план побега. Однажды явился даже сам Красин…
Веселые огоньки прыгали в глазах Ленина. Было заметно, что ему по сердцу смелая затея с подкопом под тюремные стены. Но тут он не выдержал, вскочил. Прошелся по комнате, засунул руки в карманы. Потом рывком выхватил правую.
«Глупость! Мальчишество! — проговорил, останавливаясь и покачиваясь на носках. — Узнаю Леонида Борисовича! Начать так толково, а затем пойти на бессмысленный риск с угрозой провала вообще всего дела. Теперь я понимаю, почему он вам как-то стеснялся рассказывать об этом предприятии».
«Владимир Ильич, мне думается, он стеснялся просто потому, что свой замысел, как инженеру, ему не пришлось довести до конца. Октябрьский манифест…»
«…вырванный у царя волей народа!»
«Да! Но он все же открыл двери тюрьмы прежде, чем можно было добраться до нас под землей».
«У вас очень доброе сердце, Иосиф Федорович, — сказал Ленин сердито, однако не гася веселого блеска в глазах. — Вы все стремитесь сглаживать, а не обострять. Это не всегда полезно. Это чаще всего вредно».
«Принимаю упрек, Владимир Ильич. Мое примиренчество…»
Ленин протестующе поднял руку.
«Стоп! Знаю, вас подтолкнули. Но условимся не вспоминать больше об этом. Если бы вас не закатали в тюрьму, мы с вами встретились бы еще в Лондоне, на съезде. И полными единомышленниками. Так или не так?»
«Владимир Ильич, легко делать ошибки, тяжело в них признаваться, еще тяжелее сваливать вину на другого. Меня подтолкнули… Однако, будь я тогда потверже в своих убеждениях, такого бы не случилось».
«Ну что же, хорошо! Хоть я и адвокат, но защищать вас от вас же самого больше не буду. Прошу только иметь в виду, дорогой Иосиф Федорович, что царская тюрьма — штука мучительная, однако угрызения собственной совести — наказание мучительнее всякой каталажки. Поэтому наказывайте себя. Сурово. Но не бессердечно. Исправили ошибку, загладили вину — не прячьте глаз, не опускайте голову».
«Стараюсь делать именно так».
«Только „стараюсь“. Стало быть?..»
«А свой собственный счет все же веду. Это откладывается даже не в памяти у меня, а как бы во всех клеточках тела. И совершенно против воли моей, по каким-то неведомым мне законам природы».
Ленин тихонько рассмеялся.
«Законы природы… Есть много, и очень разных, законов. Одни полагается исполнять со всей прилежностью, другим — сопротивляться, ибо не все законы природы полезны и хороши для человека. Не признаю законов, которые способствуют накапливанию, по вашему определению, дорогой Иосиф Федорович, во „всех клеточках тела“ этакой, знаете, отравляющей грусти и сожаления о содеянном. Не заполняйте отравой „всех клеточек тела“! Храните в памяти, в сердце, в душе, черт возьми, удачи свои! Да, да, прежде всего удачи!»
Несколько раз прошелся по комнате, задевая плечом разлапистый филодендрон, занимающий лучшее место у окна. Остановился, ладонью успокаивая кожистые, разрезные листья, и снова зашагал. А он, Дубровинский, молчал. Слова Ленина ему были приятны той открытой дружеской простотой, которая сразу сближает, делает излишними многие общепринятые церемонии, И все-таки что-то сдерживало. Может быть, некоторая разница в возрасте — все же семь лет, разница в житейском и политическом опыте? Или просто обаяние личности, этот лучащийся душевной теплотой взгляд, от которого тем не менее почему-то робеешь? Ах, как жаль, что такая встреча не состоялась значительно раньше! Не было бы сделано и многих ошибок.
За окнами, внизу, по булыжной мостовой тяжело прогрохотала телега. И сочный молодой голос, казалось, прорезался сквозь стекло: «Э-эй, мила-ая!» Ленин откинул штору, вгляделся в темноту.
«Мрак. И огоньки вдалеке, будто в рассказе Короленко, — проговорил он, отходя от окна. — До чего же памятны мне все прошлые питерские ночи! Темные. И с обязательными огоньками вдалеке. Вы не представляете себе, Иосиф Федорович, как я томился и свирепел в этой самой благополучной и благонравной, филистерской Женеве! А в особенности в Стокгольме, на пути сюда, ожидая, когда я смогу пересечь границу, чтобы включиться в кипящее, живое дело. Знаю, самодержавием гайки отвинчены ненадолго, только бы ослабить чрезмерное давление пара, за которым может неизбежно последовать взрыв. И все же! Надо немедленно использовать преимущества, созданные переменой обстановки. Легальная газета! Восьмидесятитысячный тираж! Взяться как следует — и сто тысяч! И все на родной земле, без необходимости организовывать сложнейший транспорт, как для первой „Искры“, по морям да по волнам».
«Помехи встретятся и сейчас…»
«…и предостаточные! Готов к ним. Но вы счастливчик, Иосиф Федорович, да-да, счастливчик, — несмотря на все старания российской охранки закатать вас покрепче и подальше, революция, эта хорошая наша революция, развивалась и все время развивается у вас на глазах, при вашем непосредственном участии».
«Есть и заграничная охранка, Владимир Ильич, и я боюсь, что она уже передала вас с рук на руки нашей».
«Вполне вероятно! Даже больше, чем вероятно. — Ленин резко повернулся на каблуках. — Петр Иванович Рачковский, который ныне процветает здесь в качестве вице-директора департамента полиции, будучи деятелем заграничной охранки, не спускал и там своих всевидящих глаз, но взять меня — руки коротки. Не позволяли тамошние законы. В отличие от вас, которому постоянно приходилось работать под сенью законов российских».
«Потому мне и не удалось сделать ничего существенного. Ведь тюрьмы и ссылки — невозвратимая потеря времени».
«Ерунда! — Ленин сделал несколько шагов к столу. И повторил: — Ерунда на постном масле! У революционера, если он действительно революционер, не бывает, не может быть невозвратимо потерянного времени. И вы не наклепывайте на себя — вы тоже не теряли. У вас его отняли. А это совсем другое дело. Вы скажете: вот придира к словам! Что в лоб, что по лбу. Потерян или отнят у человека кошелек с деньгами, результат тот же самый — денег-то нет. Но в первом случае виноват только сам разгильдяй, недотепа, который не умеет беречь свое достояние, и обращать ему свой гнев не на кого больше, кроме как на самого себя. Во втором случае виновен грабитель, насильник, и пострадавший не только сам обязан со всей яростью вступить с ним в борьбу, но и призвать на помощь весь честной народ. Как видите, разница есть. Итак, злитесь, и как можно свирепее, на тех, кто отнял у вас время. А насчет потерянного… Неужели в тюрьме и в ссылке, полагаете сами, вы бездельничали?»
«Нет, разумеется, в прямом смысле не бездельничал, — сказал он. И закашлялся. — Прочитал множество книг. Достаточно хорошо изучил немецкий язык, могу свободно переводить».
«Ну вот видите! — удовлетворенно воскликнул Ленин. Присмотрелся: — А что это вы покашливаете? И за щеку держитесь? Простужены? Зубы болят?»
«Да так… пустяки!» — Он отнял руку от щеки. Сделал это почти совсем автоматически, подсознательно боясь, что его ноющий зуб может оказаться, хотя бы и на короткое время, предметом разговора. Боль, на которую и жаловаться даже как-то неудобно. А кашель — и тем более дело давнее. Привычное.
«Препоганая штука, — не согласился Ленин. — И нелепейшая, если человек с зубной болью находится на квартире дантиста, но по совершенно другому поводу. Мы сейчас обратимся к заботам нашей любезнейшей хозяйки».
«Да что вы, Владимир Ильич! Терять время?»
«Опять спор о потере времени! — Ленин вынул из кармана часы, взглянул на циферблат, с досадой щелкнул ногтем по крышке. — Гм, гм! Времени у нас действительно маловато. Но зубы, если болят, совсем не пустяки. В десять часов вечера назначено расширенное заседание Петербургского комитета, мне крайне необходимо высказать там некоторые соображения к завтрашнему пленуму ЦК относительно созыва Четвертого съезда партии. И мне еще хотелось бы расспросить вас о Кронштадте. Но пусть сегодня вами займется Юлия Ивановна. Нет, нет, никаких возражений! Лечитесь! Революционер должен быть „зубатым“. В прямом и переносном смысле этого слова».
Дубровинский стал горячо возражать, доказывая, что он вполне способен продолжать разговор. Другое дело, если сам Владимир Ильич, по существу, прямо с поезда, первый день в России, в Петербурге…
«Те-те-те! — перебил Ленин. — Эк, куда вы клоните! Вот именно в первый день я и должен всюду поспеть. На свежий взгляд, на свежую голову все видится, слышится, делается лучше. Первый день — это всегда самый большой и самый важный день. Если бы все дни подряд были только первыми! И коль вы действительно способны продолжать разговор — расскажите подробнее, что произошло в Кронштадте? Вы были, я знаю, участником этих событий».
Ленин уселся за стол, боком к Дубровинскому. Несколько раз провел рукой от виска к затылку, приглаживая мягкие редкие волосы.
«В Кронштадте, Владимир Ильич, произошла тяжелая и горькая ошибка. Восстание там зрело давно, было неизбежным…»
«…и необходимым! — вставил Ленин. — Как и по всей России!»
«И необходимым, — подтвердил Дубровинский. — Но точно разработанного плана — по дням и часам — не было. А приблизительные сроки — имелся в виду самый конец октября — это для боевых действий губительно. Восстание получилось стихийным. И вот — много убитых, раненых. Почти четыре тысячи арестованных, которым грозила виселица, если бы не забастовали все питерские рабочие».
«Вы сказали: „ошибка“. Люди не понимали, во имя чего берутся за оружие, или не знали, как действовать?»
«Кронштадт был раскален еще с прошлого года, когда по приказу командования чуть не насмерть запороли розгами матроса Кандыбина. А мы не сумели взять руководство в крепкие руки, не сумели провести свой план. Стихия опередила нас».
«Прошла ровно неделя между вашим выходом из Таганской тюрьмы и началом кронштадтского восстания, — как бы про себя отметил Ленин. — А в тюрьме вы просидели восемь месяцев. — И громче, резко: — Да, вы правы, это скверно, архискверно, когда стихия опережает нас! „День за год!“ — вот лозунг, которому обязаны подчиняться борцы в период революции. Они должны быть впереди стихии, угадывая ее возможный взрыв, и, во всяком случае, при взрыве немедленно становиться во главе движения! Тут я с вами согласен полностью. Итак, восстание началось раньше, чем предполагалось в Петербургском комитете. Что непосредственно послужило тому причиной?»
«Комендант крепости генерал Беляев арестовал нескольких солдат и матросов, настроенных революционно, и приказал заточить в один из фортов. Судить. Они были схвачены на глазах у матросов, свободных в тот вечер от службы. Матросы потребовали выпустить арестованных, ссылаясь на царский манифест. Офицер охраны ответил грубым отказом: „Царем-де манифест не для вас, шелудивых, писан“. Матросы бросились к нему: „Не оскорбляй, ваше благородие!“ Он стал стрелять в упор. Убил двоих. И тогда началось…»
Ленин порывисто ударил ладонью по столу.
«А что иное оставалось делать матросам? Мы допускаем чудовищно много различных ошибок. Однако подавление кронштадтского восстания — это не победа самодержавия, и горькие наши потери в этом восстании не роковые потери. Кронштадт — закономерная фаза одного большого сражения, которое пролетариат дает царизму. Разве мог не быть Кронштадт после „Потемкина“ и после Кровавого воскресенья здесь же, на улицах Питера? И разве не был уже после Кронштадта матросский Владивосток? А вы слышали, сегодня начались волнения на „Очакове“ в Севастополе! Будут! Черт возьми, будут и еще восстания, целая цепь таких неизбежных и необходимых восстаний, вплоть до самого последнего и решительного!»
Задумался, постукивая пальцами по столу. Взгляд сделался суровым. Настроение Ленина передалось и Дубровинскому.
«Да, Владимир Ильич, последнего, и решительного, и возможно, близкого…»
«…которое я охотно оттянул бы до весны! Подготовиться! Подготовиться лучше. — Ленин потер лоб рукой. — Но разве нас спросят? Так же, как не спросили и в Кронштадте. Идея смелой, открытой революционной борьбы уже вырвалась из тесных рамок подпольных кружков, овладела массами. Их надо направить точно, ими надо руководить».
«Устной пропаганды и агитации для этого недостаточно. Поспеть на все собрания и митинги просто физически невозможно. А кроме того, люди думают, беседуют ведь не только на собраниях».
«Вот именно! Потому я так и рвался в Питер, где нынче открылась прекрасная возможность через газету, нашу газету, разговаривать с миллионами. И завтра же, не откладывая, завтра же нам следует собрать расширенное заседание редакционной коллегии! „Новая жизнь“ должна начать новую жизнь! Но вернемся, Иосиф Федорович, еще раз к Кронштадту. Объясните точнее, что же все-таки в наибольшей мере и конкретно послужило там причиной неудачи? Исключительно ли некоторая преждевременность начала восстания?»
Он, Дубровинский, сидел, нервно подергивая кончики усов. Как объяснить Ленину, если самому себе до последнего времени он не в состоянии со всей определенностью ответить на такой вопрос? И в тот миг, когда после его речи там, на митинге, внезапно ударили первые винтовочные залпы, когда невозможно было понять, кто же принял на себя главное командование, где штаб, какими силами располагают восставшие. И позже, когда прогремели последние выстрелы, скосившие у него на глазах ни в чем не повинного «штатского», а ему, Дубровинскому, тоже грозило смертью холодное дуло офицерского браунинга. И даже, когда, вернувшись из Кронштадта, он с воспаленными от бессонницы глазами дни и ночи проводил на рабочих собраниях, добиваясь решительной поддержки арестованных, писал листовки, прокламации от имени Петербургского комитета РСДРП, призывая к всеобщей политической стачке, чтобы силой гнева народного предотвратить кровавую расправу над участниками восстания.
И это удалось. Забастовало сто сорок тысяч человек. Правительство перепугалось. Военно-полевой суд с его обязательными смертными приговорами был заменен военно-окружным судом, что означало тюрьмы и каторгу, но все же сохранение жизни подсудимым. Это определенная победа революции. А в чем наиболее существенная причина ее поражения там, в Кронштадте?
«Вижу, вам затруднительно ответить, — сказал Ленин. — Вам не хочется повторить полюбившееся весьма общее слово „ошибка“, а иного определения вы не найдете. Так? И поэтому вы не можете назвать мне ни одной конкретной причины».
Нет, конечно, не так, не совсем так думает он сам, как говорит сейчас Ленин, жестоко заостряя свой вопрос. Но действительно резкое слово «ошибка» нависло, роковым образом нависло над событиями, лишая их объективной оценки. И приходится только слушать.
«Все дело, дорогой Иосиф Федорович, очевидно, в том, что вы приравниваете частное к целому. По отношению к назревшей революции как к целому отдельное восстание, если оно плохо подготовлено и проведено, может стать серьезной ошибкой. И искать причину неудач в таком случае следует именно в самом лишь восстании, но отнюдь не в революции вообще. Анализ всегда должен идти вглубь. Пойдемте вглубь. Кронштадтское восстание — одна из частиц, составляющих назревающую революцию. Давайте теперь примем его как нечто целое, а затем уже по отношению к этому целому поищем допущенные ошибки. В чем они? В чем они, частные, конкретные ошибки? Это важно для того, чтобы понять, где наше самое слабое место, тот больной нерв, который пронизывает каждую клеточку и сковывает движения всего организма в целом».
Он, Дубровинский, прикрыл тогда глаза ладонью. Он любил точные науки — логику, математику. Но со своей повседневной работой революционера-подпольщика никогда их не сопоставлял, действовал, как ему казалось, интуитивно, применяясь к обстоятельствам. А ведь жизнь в любом своем проявлении действительно подчинена и некоторым общим законам. Ленин предлагает своеобразный математический ключ…
«Итак, какими вооруженными силами было подавлено восстание? — допытывался Ленин. — Внутренними же, кронштадтскими, или присланными из Петербурга?»
«Главным образом присланными из Петербурга, — ответил он. — Не появись войска так быстро, некоторые, вначале верные правительству части кронштадтского гарнизона непременно затем присоединились бы к восставшим».
«И оружия хватило бы? Ответили бы на пушечный огонь карателей не винтовочными выстрелами, а тоже пушечным огнем?»
«Владимир Ильич, Кронштадт — абсолютно непобедимая крепость. Если бы она была восставшими до подхода карательных войск захвачена полностью, и в первую очередь надежно захвачены пороховые погреба, не знаю, какая сила могла бы ее одолеть».
«И упустили! — с досадой сказал Ленин. — А по каким путям так быстро подоспели каратели? Кронштадт — остров. Почему сразу же не были закрыты главные пути? Не это ли еще одна из самых существенных ошибок?»
«Да, это так, — поколебавшись, ответил Дубровинский. — Но как именно все это получилось, разобраться сейчас в подробностях невозможно».
«И не будем пока разбираться в подробностях. Разберемся в самом основном. Не научились мы еще по-настоящему думать и заботиться о военной стороне восстания. Да, да, о военной! Вот в чем штука! И сегодня в беседе со мной Красин, наш ответственный техник, финансист и транспортер, полностью тоже подтвердил это. Но ведь время течет, оно не ждет, вспыхнут и вспыхивают беспрестанно другие восстания. И вам, Иосиф Федорович, придется участвовать в них непременно. Не только агитатором. Быть может, руководителем! Не забывайте о военной стороне дела».
Ленин снова поднялся и заходил по комнате, заложив руки за спину.
«Вы в Кронштадте подвергались большой опасности, Иосиф Федорович?» — спросил, останавливаясь.
«Нет, — сказал Дубровинский. — Опасности для меня лично не было никакой».
«„Дяденька“ рассказывала, как вы, будучи в Астрахани агентом „Искры“, выступали на собрании бондарей в столь раскаленной обстановке, что полиция вполне могла под благовидным предлогом проломить вам голову. И во время кровавого побоища девятого января, я знаю, вы, случалось, лезли прямо под пули. Разумная осторожность совсем не лишнее качество для революционера».
«„Пуля — дура“, говаривал Суворов. Что же касается Астрахани, Книпович преувеличивает. Женщинам это всегда несколько свойственно».
Ленин весело рассмеялся.
«Ну нет. Лидия Михайловна неспроста сделалась „Дяденькой“. Мужская кличка ей дана была не зря!»
И сразу стал серьезным. Присел у стола на краешек стула, подвернув под себя правую ногу.
«Газета! Брошюры, листовки, печатное слово во всех видах! Вот что нам сейчас больше всего необходимо, — заговорил он, временами прикладывая сжатый кулак к губам. — Руководить партией, пролетариатом России при теперешнем гигантском росте рабочего движения можно только печатью. „Новая жизнь“ в Петербурге — отлично! Но этого крайне мало. Не представляю Москвы, где очень сильная партийная организация, без хорошо поставленной крупной рабочей газеты. И может быть, даже двух газет! Иосиф Федорович, вот вам предложение: возвратиться в Москву и заняться там организацией печати. Ответственно, крупно. Вас в Москве хорошо знают, вы Москву хорошо знаете, вам и карты в руки. Согласны?»
Вопрос Ленина, хотя и подготовленный всем ходом разговора, тем не менее словно обжег Дубровинского стремительностью, с какой был задан. Непроизвольно он схватился за щеку.
«Ах, все-таки зубы? Ну, ничего, как говорится, до свадьбы заживет. При содействии нашей любезной хозяйки, — шутливо сказал Ленин, заметив движение Дубровинского. И потер руки: — Вы согласны. Я рад!»
«Я еще ничего не ответил, Владимир Ильич. Застигнут врасплох».
«Нет, вы ответили. Глаза ваши ответили. Итак, послушайте теперь мой вам совет: „Новая жизнь“, сказал я, отлично. Подтверждаю. Но посудите сами — в роскошном доме, в кабинетах мягкие ковры… Да разве заводской рабочий со своей еще малограмотной корреспонденцией осмелится зайти в такое помещение? А это самые наижелательнейшие авторы! Хроника по примеру буржуазных газет заполнена великосветскими сплетнями. Очень это пролетариям интересно! Полно декадентов, надо всеми господствует поэт Минский. Дорогой Иосиф Федорович, начиная дело в Москве, постарайтесь всего этого сразу же избежать. Там Соколов, Голубков, Шанцер, Васильев-Южин, отличные товарищи! Пугает денежная сторона дела? Все издержки обещает взять на себя Максим Горький. Поможет и Савва Морозов, Шмит. Что еще? Завтра сюда приедет Шанцер, и мы тогда окончательно по всем деталям договоримся. А теперь — руку, Иосиф Федорович!»
И протянул свою, раскрытой ладонью вверх. Дубровинский крепко пожал ее. Ленин вынул часы, посмотрел с сожалением на стрелки. Потом защелкнул крышку, подержал часы, как бы взвешивая.
«Пора идти, дьявольски быстро бежит время, — сказал, собирая со стола листки недописанной статьи и засовывая их во внутренний карман пиджака. — Пора идти».
Дубровинский поспешно встал.
«Прежде вас на улицу выйду я, Владимир Ильич. За углом пропущу вперед и пойду по другой стороне».
«Что?! — вдруг совершенно несвойственным ему басом воескликнул Ленин. — Провожать меня? Ни в коем случае! Да, батенька мой, я получше вас знаю все питерские подворотни! И все проходные дворы. Притом в России нынче „свобода“, а у меня вполне пригодный паспорт, к которому не то что Петр Иванович Рачковский, а и сам новоиспеченный министр господин Дурново не придерется. И одет я, как видите… — Он пробежался пальцами по отворотам старенького пиджака, пристукнул каблуками грубых растоптанных штиблет. — Наконец, я вооружен!»
«Нет, нет, все равно! Никак невозможно допустить, чтобы в Петербурге в первый же свой день и вы оказались на улице без провожающего».
«Вот как? — иронически проговорил Ленин. — Так-таки и невозможно допустить? А ведь сюда-то я пришел один!»
И, распахнув дверь, громко позвал хозяйку дома. Лаврентьева откликнулась откуда-то издали, но очень быстро появилась на пороге.
«Юлия Ивановна, ухожу! Но преогромнейшая к вам просьба. Посмотрите сейчас же товарища Иннокентия. У него зверски болят зубы. А завтра предстоит весьма трудный и хлопотный день. Пожалуйста, помогите!»
«Конечно, конечно! — с готовностью заявила Лаврентьева. — Товарищ Иннокентий мне и сам об этом намекал, да я не поняла. Такого ведь никогда еще в моей практике не бывало, чтобы свои приходили ко мне лечиться».
«Стало быть, плохо лечите, — сказал Ленин. — Ну, ну, не сердитесь, Юлия Ивановна! И простите эту топорную шутку».
«Когда признаются, прощаю».
Ленин пожал руку Лаврентьевой.
«А признайтесь и вы тогда, что встретили меня с большим подозрением. Пароль неверно я выговорил. Провокатор — подумали?»
«Да что вы?»
«Шучу, все шучу! Но Лядов, знайте, так-таки рассказал, как вы заставили сначала в щелку двери поглядеть, опознать меня, и только тогда позволили ему войти в комнату. Было?»
«Было».
«И совершенно правильно сделали! А теперь тащите скорее товарища Иннокентия куда полагается! Мне тоже надо поторапливаться. Не привык опаздывать. Ну, Иосиф Федорович…»
Подошел к нему, стиснул руки у плеч, постоял, улыбчиво вглядываясь в его немного обескураженное лицо.
«Знаете, я очень, очень рад встрече с вами!»
Дружески встряхнул. Отступил, проверил у себя пиджак — все ли застегнуты пуговицы. И скрылся за дверью.
Лаврентьева пригласила:
«Товарищ Иннокентий, прошу вас. Сюда. В кресло. Садитесь. У вас какого характера боль?»
Он объяснил. Но, прежде чем отдаться ее умелым рукам, спросил:
«Юлия Ивановна, простите, вам приходилось когда-нибудь выдергивать здоровый зуб вместо больного?»
«Бывало, — сказала Лаврентьева. — Не по злой воле. Но вы не тревожьтесь. Буду предельно внимательна».
«А как тогда с вами разговаривали пациенты?»
«О-о! Готовы были избить меня. Правда, такие ошибки я допускала в жизни своей всего два раза».
«Вас не удивит, если я признаюсь, что однажды „выдернул“ Владимиру Ильичу здоровый зуб вместо больного, а он, видите, сколь дружески подал мне руку».
«Нет, не удивляет, — сказала Лаврентьева. — Как не удивит и то, что если я нечаянно ошибусь и сегодня, вы меня только стеснительно поблагодарите. Все дело в характере человека. Что вам простил Владимир Ильич?»
«Мои примиренческие ошибки. Это куда больнее выдернутого зуба».
И оба рассмеялись.
«Простите, Юлия Ивановна, а ненароком доктора Весницкого вы не знаете?»
«Аркадия Наумовича? И его милейшую Симу? Боже мой, очень даже хорошо знаю! Завтра как раз я буду у них».
«Тогда, если это вас надолго не обезоружит, — он потянулся к стоявшему рядом столику, где были расположены никелированные инструменты и громоздился стоматологический справочник, — тогда, допустим, я сделал бы на этой книге небольшую надпись, а вас попросил бы завтра передать книгу Аркадию Наумовичу. Боюсь, что у меня самого не найдется для этого времени, а оставаться после сегодняшнего вечера должником перед ним я больше не могу. Он все поймет».
«Я тоже все поняла. Но в таком случае вы останетесь моим должником. Когда и какой оставите вы мне автограф? — сказала Лаврентьева, поигрывая блестящим шпателем: — Откройте рот!.. О-о! Это за один раз не лечится…»
3
Дубровинский медленно вышагивал по узкой аллее санаторного парка, прислушиваясь, как приятно похрустывает снежок под ногами. И время от времени вскидывал голову, оглядывая черное небо с жгуче горящими звездами. Искал в нем что-то нужное ему и не находил — мешали вершины высоких сосен. Внезапно величественную тишину прорезал далекий паровозный свисток. Тонкий, визгливый, он очень долго ввинчивался в морозную ночь, потом вдруг рассыпался беспорядочной очередью коротких, пугающих сигналов и снова протяжно взвыл, застонал, но словно бы торжествуя. Дубровинскому представились две черных полоски рельсов, стремительно бегущая по ним железная машина, на пути которой оказалось живое существо, может быть, красавец олень, и злая, бездушная сила, прокатившаяся над ним…
…Уже ушли и Соколов, и Голубков, и Муралов, а он, Дубровинский, все не мог покинуть просторную комнату редакции газеты «Вперед». Он им шутливо сказал: «Капитан, по морскому обычаю, покидает тонущий корабль последним. Мне надо бросить на него последний взгляд». Голубков возразил: «Наш корабль не тонет, а лишь временно становится у причала. Другое дело, что сами мы пока уходим с него». И он согласился: «Ты прав, моя метафора никуда не годится. Но все равно мне хочется побыть здесь одному хоть несколько минут». Теперь он бродил по опустевшему помещению, по нескольку раз перебирая стопки черновых рукописей, исчерканных типографских гранок, чистых оттисков, не решаясь, сгрести ли их без разбору в охапку и бросить в топку голландской печи или так и оставить, наведя только самый необходимый порядок. Меньше трех недель понадобилось для того, чтобы разными хитростями преодолеть все юридические препоны и оформить разрешение на издание нового печатного органа РСДРП, найти типографию, готовую выпускать не очень-то желанную правительству газету, снять подходящую квартиру под редакцию, обеспечить финансовую сторону дела и наладить связи с рабочими корреспондентами. Очень пригодились практические советы Ленина относительно содержания и политической направленности газеты, очень помог организационно «техник, финансист и транспортер» Леонид Борисович Красин, щедро подкинули деньжат писатели Горький и Гарин-Михайловский, к этому Квятковский и Лушникова, сестра Красина, добавили свои усилия по сбору средств от сочувствующих. И честь открыть первый номер газеты выступлением «От редакции», которое начиналось словами: «В широком кругу партийной работы мы берем на себя выполнение специальной задачи…», а завершалось торжественно: «Как снежная глыба, оторвавшаяся с вершины гор, с неудержимой силой сносит все на своем пути, так вихрь революции снесет остатки позорного прошлого, расчистив путь культурного развития освободившемуся народу», — эта честь принадлежала ему, Дубровинскому. А потом уже бессонная, круглосуточная работа в редакции до черного тумана в глазах. На протяжении пяти дней…
Он поворошил редеющие волосы. Нет, конечно, «корабль» не тонет. За свои пять дней во вскипающем море революции, как и другие большевистские газеты, этот «корабль» проделал немалый путь; он, подобно «Потемкину» и «Очакову», призывно нес на мачте красное знамя борьбы. Теперь это знамя по решению Федеративного Совета переходит к «Известиям Московского Совета Рабочих Депутатов», единственной газете, которая во избежание разнобоя будет выходить во время восстания. А восстание… Он посмотрел на часы. Вот-вот уже загудят гудки на всех фабриках и заводах, объявляющие начало всеобщей политической стачки, неизбежным продолжением которой и явится решительная схватка с самодержавием.
Так решили вчера вечером. Меньшевики, как всегда, готовы стрелять не более как восковыми пулями, эсеры же — любители одиночных выстрелов — осуждали идеи массового движения пролетариата. А оно нарастало, разливалось стихийным потоком. И невозможно было его отдать воле слепого случая. Восстал 2-й Ростовский полк, а поддержать его не сумели. Московский комитет колебался — что делать? Не подождать ли указаний от ЦК из Петербурга? — и важный момент: всколыхнуть весь гарнизон, — был упущен. Но жизнь продолжалась. Начать восстание потребовали сами рабочие, они направили своих делегатов на общемосковскую конференцию большевиков. Противиться требованию рабочих — означало уронить авторитет партии в их глазах. Это наконец поняли и меньшевики и эсеры. Наступила пора взять всю ответственность на себя, на объединенные ныне общей целью революционные силы. Так было решено вчера вечером.
Под окнами проскрипели слаженно отбивающие такт шаги нескольких сотен людей. Грянула песня:
Мы разрушим вконец Твой роскошный дворец И оставим лишь пепел от трона! И порфиру твою Мы отымем в бою И разрежем ее на знамена!Забивая последние слова песни, протяжно заревели гудки. Сперва где-то в Замоскворечье, затем отдались в другом конце города, подкатились близкой рокочущей волной и слились воедино. Он прикрыл глаза. Три дня назад, когда в помещении реального училища Фидлера он, Дубровинский, вел заседание Московского комитета, приехавший специально из Петербурга представитель ЦК Саммер рассказывал: «В Петербурге обстановка очень тяжелая. Арестован почти весь состав Совета рабочих депутатов. Теперь там во главе практически Троцкий. А его взгляды известны. Вообще идут повальные аресты. Только что опубликованный царский указ о праве губернаторов и градоначальников собственной властью объявлять введение чрезвычайного положения уничтожил последний миф о „конституционных свободах“. Питерские рабочие, измотанные долгой забастовочной борьбой, вконец изголодавшиеся, после разгрома своего Совета и в связи с нависшей угрозой чрезвычайного положения морально подавлены, утратили боевой дух. У них нет в достатке оружия. А город и окрестности наводнены отборными войсками. Реальное соотношение сил сейчас таково, что питерцы не смогут начать восстание. Единственное, что смогли они сделать, — это объявить новую всеобщую политическую стачку». Кто-то глухо спросил: «Ну а потом как же быть?» И Саммер, нервно покусывая ногти, промолчал.
Стало понятно. Давать какие-либо указания он не уполномочен, да их и невозможно дать, его задача — только проинформировать Московский комитет о том, что делается в Петербурге. А высказывать свое личное, необязательное мнение… Чем оно окажется лучше, нежели дума любого из сидящих здесь и точно знающих обстановку в Москве?
И ему, Дубровинскому, в тот час припомнилось озабоченное, посуровевшее лицо Ленина при их первой встрече, когда Владимир Ильич, размышляя о возможном близком восстании, сказал: «…которое я охотно бы оттянул до весны. Но разве нас спросят?» Вот и не спросили. А когда революционная стихия обгоняет, надо становиться во главе. Руководить ею, управлять, не бросая на произвол судьбы. Приводить в действие боевые организации партии. Это единственная на все случаи директива ЦК. Тогда и еще сказал Ленин: «Не забывайте о военной стороне дела». Она не забыта, она просто слаба. В данный момент слаба! Если бы до весны…
Гудки оборвали свой торжественно-тревожный рев. Стачка началась. Сейчас настежь распахнуты ворота всех московских фабрик и заводов и рабочий люд под красными знаменами бурлящими волнами разливается по улицам города. Итак, что же делать с этими кипами бумажных листов? Сжечь? Значит, признать возможность закрытия газеты «Вперед» навсегда, не поверить в силы восстания. Ну нет! Он, Дубровинский, уходит выполнять другие обязанности, а редакция остается. Ждать своего часа. Ее охраняют дружинники. И ничего не случится.
На открытом воздухе мороз сразу перехватил дыхание, судорожный кашель заставил остановиться. Вдоль улицы, направляясь в сторону Пресни, рысил казачий отряд. Навстречу ему откуда-то выскочила ватага мальчишек, озорно помахивая красными лоскутками, прицепленными к длинным палкам. Не сбавляя рыси, казаки налетели на мальчишек. Одних сбили с ног, затоптали в сугробы, у других повыхватывали из рук палки и на ходу ободрали с них, швырнули наземь клочки кумача. Словно лужицы крови, они заалели на снежной дороге. Тонко взмыл в морозную мглу затухающий ребячий вскрик: «Ма-ама!» Не владея собой от гнева, он выхватил из кармана револьвер и выстрелил несколько раз вслед скачущему отряду. Пули никого не настигли, было далеко. Возле мальчишек собралась, бурлила толпа.
«Как они еще живы остались…»
«Двоим копытами ноги переломали. Сволочи!»
Надо было идти, пробираться в Симоновскую слободу, там, по решению Московского комитета, надлежало ему возглавить руководство забастовщиками. Но он вернулся обратно в редакцию. Не снимая пальто, присел к столу и набросал листовку: «Товарищи рабочие! Новое злодеяние царских опричников свершилось в час, когда еще не смолкли заводские гудки. Пролилась первая кровь — кровь детей наших. На Большой Никитской…» Он писал торопливо, страстно, соображая между тем, что печатать листовку придется в типографии Сытина на Пятницкой улице, а это — почти на пути в Симоновку, и, значит, времени он упустит немного.
Возле типографии Сытина тоже толпился народ. Но здесь зрелище было явно веселое. Люди образовали плотное кольцо, а внутри его, под дружный хохот, металось нечто пестрое, разноцветное. Дубровинский протиснулся вперед. Что такое? Ярко-голубая шляпа, один рукав пальто желтый, другой зеленый, само пальто — зебра, с фантастически нелепыми сиреневыми полосками, а лицо, лицо человека — чистое индиго. Он метался и прыгал не то от злости, не то от безмерного унижения. Пахло свежей типографской краской.
«Товарищи! Чему смеетесь? Что за издевательство?»
Дубровинскому подумалось, что это какой-нибудь юродивый по недогляду забрался в типографию и сам себя так потешно размалевал.
Но в этот момент синий человек повернулся спиной, представив взору надпись на ней, сделанную размашисто, ярко: «Шпик! Выкрашен за предательство». Вон что! Ловко типографщики выставили его на суд народный!
Дубровинский узнал Блохина, знакомого сверловщика с завода Густава Листа, агитатора — теперь, видать, и дружинника — до отчаянности решительного парня:
«Подлюга, пролез прямо в печатный цех. И еще с револьвером. Пришибить на месте хотели, да передумали: пусть-ка сперва полюбуется весь честной народ на него. Ну! Сыпь теперь в таком виде до милой своей охранки!»
Шпик взвизгнул и напролом бросился в толпу, разрывая кольцо.
«Черт! Измажет краской!» — женщины шарахнулись в сторону.
В типографии полным ходом работало несколько печатных машин. Возле них прохаживались дружинники, внимательно оглядывая каждого входившего в цех.
«Товарищ Иннокентий?»
Подбежал мастер, радостно потряс руку и принялся рассказывать, как в цех с утра, когда еще печатались «Известия», явился сам хозяин Иван Дмитриевич Сытин, а при нем хорошие, пишущие люди, господа Благов, Дорошевич, Петров. И тут же — пристав с околоточным.
«„Вы тут чего катаете, такие-сякие?“ — это пристав. Мы ему: „А ничего. Вот револьвертик и селедочку-сабельку пожалуйте нам, ваше благородие“, — говорил мастер. — И обснимали. И его и околоточного. Проводили до двери вежливо: „Наше вам! Еще в таком виде заглядывайте, мы и еще обснимаем, оружие всякое нам вот как нужно!“ А хороших людей посадили к сторонке, свежие, со станка газетки им в руки: „Читайте, наша, рабочая, Совета депутатов рабочих“. Дорошевич и Благов читают сурьезно, а посмеиваются: „Это что же мы, арестованы, что ли?“ Ну, вроде бы и так. Петров гриву свою поповскую пятерней чешет, бубнит: „Вдохновенная газета, вдохновенная! Напишу в нее непременно…“ А Иван Дмитриевич, сказать бы так, сердится: „Где же вы краску с бумагой взяли?“ Ну, краска здесь была, а бумагу со склада. „Да кто же вам дозволил?“ Московский Совет. „То есть как Совет? Хозяин-то я!“ Нет, Иван Дмитриевич, раз вы у нас под арестом, стало быть, сейчас хозяева мы. „Эх! — говорит. — Будто я всегда не с вами? Давайте чем надо помогу!“ Пронзил такими словами. Кончили мы печатать, до двери их проводили с почетом. Совсем другого рода люди. А это чего у вас в руках, товарищ Иннокентий, листовочка? Пожалуйста. Как раз в набор и… Товарищ Иннокентий! Вас чего-то пошатывает… Падаете…»
От духоты, от тепла разморило. Не сосчитать, сколько ночей перед тем не спал. Очнулся на широкой скамье, в комнатушке, где тоже пахло краской, а за стеной гудели машины…
Добрался до фабрики Цинделя глубокой ночью. Долго объяснялся с рабочей охраной, пока пропустили. В конторе горел яркий свет. Экстренное заседание Замоскворецкого Совета уже закончилось, люди разошлись, застал только Землячку и Цветкова. Подумалось: Землячка опять начнет с упреков за опоздание. Но она подошла и, не поздоровавшись даже, сказала:
«Большая беда: Федеративный Совет арестован. Все, до единого человека. Шанцера и Васильева-Южина взяли с квартиры в Косом переулке».
«Собрались у Арцишевских. Информационное бюро, — добавил Цветков. — Обсудить план совместных действий с эсерами. Только те ушли — полиция. Словно бы нарочно дала им уйти. А наших взяли».
«Подозрения, конечно, тут неуместны, — сухо остановила Цветкова Землячка. — А вообще-то полиция знала ведь о шаткой позиции эсеров и потому могла их пощадить».
«Дубасов сегодня объявил в Москве чрезвычайное положение, — говорил Цветков, разумея генерал-губернатора. — Значит, теперь станут хватать кого им вздумается. И стрелять в любого. Еще узнали мы, Дубасов запросил по телефону из Питера подмогу, чтобы не дать забастовке перекинуться на Николаевскую дорогу. Тогда ведь связь со столицей окажется полностью прерванной».
«Парализовать эту дорогу! — воскликнула Землячка. — Когда здесь наступит решающий час, по ней ведь могут подбросить полки из Петербурга».
«Не подбросят, — возразил Цветков. — Побоятся ослабить там свои силы. Хуже то, что мы здесь не в состоянии разработать точный план действий. Все время его ломают непредвиденные обстоятельства».
«А вы, Иннокентий, что же молчите?» — хмурясь, спросила Землячка.
Что мог он сказать? Все готовы к решительной схватке, и народ и руководители. Но как именно это будет и когда точно это произойдет, никто не знает. Да и не может знать. Нынешнее восстание — не тайный заговор, а медленно созревшее открытое движение масс. Они не расписаны по десяткам и сотням, как боевые дружины. И нет у них не только оружейных складов, нет даже приблизительного представления о количестве потребного оружия. Его сейчас снимают с полицейских, как это только что сделали в типографии Сытина; его беспрерывно куют — пики и сабли — на всех заводах, где найдется подходящий металл и сыщутся умелые руки, а бомбы начиняют и прямо на квартирах. У них, готовых к восстанию масс, в достатке есть только единственное сильное оружие — вдохновенный революционный порыв и твердая убежденность в победе. Сейчас это — вся Москва. И в то же время это как бы разорванные облака, из которых не грянуть грому, пока они не сольются в единую грозовую тучу. Главное руководство взял на себя Совет рабочих депутатов, и он это делает хорошо, расширяется всеобщая забастовка, ею он управляет уверенно, твердо. Но забастовка не наступательный бой с оружием в руках. Кто и кому, в какой миг подаст сигнал: «Вперед! В атаку!» А без такого сигнала не повторится ли новый Кронштадт?
Опять вспомнились слова Ленина: «Я бы охотно оттянул восстание до весны, но разве нас спросят?» Исполком Совета со всей очевидностью оттягивает восстание. Но ведь не до весны, может быть, только на несколько дней, когда все равно уже не сдержать рвущиеся к сражению массы! Разве это лучшее решение? Правительство же тем временем вводит чрезвычайное положение, передвигает войска, всемерно поощряет разгул черносотенцев, и вот теперь — свирепая волна арестов самых умелых, деятельных организаторов. Рабочие еще не начали бой, а царские власти уже перешли в наступление. Землячка испытующе спрашивает: «А вы молчите?..»
«Розалия Самойловна, нет непредвиденных обстоятельств, о которых говорит Цветков; они, эти обстоятельства, были предвидены. Ясно, что сложа руки правительство не будет сидеть…»
«Да я не о том», — запротестовал Цветков.
«И я не о том. Мы, я говорю, мы не должны сидеть сложа руки! Надо идти в полки гарнизона, пока нас не опередили. Надо как можно быстрее вооружаться, пусть мастера день и ночь куют оружие и делают бомбы, пути назад уже нет. Надо так охранять наши руководящие центры, чтобы аресты их стали невозможными. Надо на всех митингах и собраниях говорить об одном: решительном наступлении! Этого хотят рабочие. И останавливать их сейчас — значит сдаваться врагу. Если мы начнем наступление энергично, пламя восстания неизбежно перебросится и на Питер, оно охватит всю Россию. Если мы начнем поздно, или неуверенно, или вообще не начнем…»
Землячка молча подала руку.
«У большевиков расхождений во мнениях нет, — сказал Цветков. — Именно так, как и вы, говорил нам сегодня Лядов. И Владимирский. Вы уже слышали? Он приехал из Питера по поручению ЦК, будет редактором „Известий“. А нам всем, что же, конечно, надо идти в полки, на рабочие собрания, на митинги…»
«У вас глаза красные, Иосиф Федорович, вам надо сегодня поспать», — смягчаясь, сказала Землячка.
«Спасибо, я отлично выспался».
И потом еще двое суток без сна. В народе, в народе, среди рабочих, речи, речи… И всюду горячий отклик на них. Людям понятно: топтаться на месте бессмысленно, а если идти, так только вперед. Но ведь рабочие не солдаты, которые по команде «Тревога!» выбегут из своих казарм и выстроятся на плацу. Даже дружинников не соберешь в одну колонну, нельзя оставить без их прикрытия бастующие заводы, где митингуют рабочие.
В войска, идти в войска. И он наряду с другими ходил и убеждал солдат не поднимать оружие против своих братьев. Не легко было проникнуть в казармы, и не было гарантии, что потом выйдешь оттуда не со связанными руками. Солдаты слушали внимательно и сочувственно, обещали не стрелять. Но уходили агитаторы, и появлялись офицеры, напоминали о присяге, грозили военно-полевым судом, и наступало замешательство: да, не стрелять в рабочих, и да — оставаться в казармах.
Один полк вышел. С оркестром, играющим «Марсельезу», направился к типографии Сытина. Рабочие ему навстречу выслали свою делегацию. А генерал Малахов прискакал раньше. Остановил полк, произнес горячую речь, поклялся выполнить все требования солдат, тем временем окружил их драгунами, отвел в Александровские казармы, запер там и разоружил. Эсеры, мастера метать бомбы в кареты министров, Малахова упустили, хотя в Федеративном Совете заверяли, что их боевые дружины будут выполнять самые трудные и опасные поручения. Как поведут себя в решающий момент войска?
Листовки, прокламации. Без них немыслим разговор с сотнями тысяч рабочих. Ведь каждый день и даже каждый час приносил с собой нечто новое. И об этом надо было тут же рассказывать. Печатно. Доходчиво. И суметь разбросать, расклеить листовки по всему городу. Помощников находилось много, но и озверевшая черная сотня бродила по улицам табунами и вместе с полицией дико расправлялась с распространителями листовок.
Писал и в «Известия». Газета все время меняла свои адреса и печаталась то у Сытина, то у Мамонтова, то у Чичерина. Закрепись она в одном месте, и типографию тотчас же оцепили бы правительственные отряды.
Он, Дубровинский, говорил Владимирскому, устало протиравшему стекла очков, когда работа над очередным номером газеты была закончена.
«Михаил Федорович, помните нашу первую встречу? Здесь же, в Москве? Тогда рассуждали мы о просветительских кружках, как организовать их побольше. Давно ли было это? А теперь вот она — грозная сила рабочего класса!»
«Стало быть, хорошо просвещали в кружках, — щурясь, улыбался Владимирский. — Сила огромная, сила грозная. И все же недостаточно организованная! Для этого нужно время, а его-то как раз и не хватает. Знаете, эти дни — штормовой ветер, обгоняющий в море парусные корабли».
А тем временем стычки рабочих с полицией на улицах города становились все чаще. Полиция вместе с войсками разогнала большой митинг в летнем театре «Аквариум», многих схватили и увели. Куда — неизвестно. У Страстного монастыря на спокойно идущую группу рабочих напали черносотенцы и принялись их избивать. Рабочим на выручку подоспели дружинники. А черносотенцев поддержали прискакавшие откуда-то драгуны. Завязался сабельный и револьверный бой, кровь залила площадь. В тот вечер заговорили уже и пушки. Дубасов ярился, рассчитывая самыми жестокими ударами врасплох что-то выиграть, пока добьется подкреплений из Петербурга. Да, пожалуй, он в этом не ошибся. Стрельба картечью по училищу Фидлера, где собралось много дружинников, показала, что с револьверами победно сражаться против артиллерии невозможно. И невозможно сидеть в обороне, когда в упор в тебя стреляют из пушек. Докуда же оставаться самим в бездействии, если сотнями убивают? Девятое декабря… Как это кровью своей похоже на петербургское Девятое января!..
В ночь на десятое вся пролетарская Москва уже строила баррикады…
…Он встретился с Лядовым. Отовсюду доносились приглушенные расстоянием звуки ружейной перестрелки.
«Мартын Николаевич, но что же — баррикады? Ведь это значит стоять на месте!»
«Так постановлено Исполнительной комиссией нашего комитета и исполкомом Совета. Восстание, понимаете, Иосиф Федорович, уже восстание, а не стачка! Рубикон перейден. И надо иметь для начала какие-то опорные пункты».
«Все это верно. А как же управлять ими, где будет находиться руководящий центр?»
«Такого центра не будет. Он практически неосуществим. Немыслимо рассчитывать на его указания, когда обстановка в каждом отдельном месте ежечасно меняется. Руководить борьбой будут районные Советы. А с Московским Советом и с нашим комитетом поддерживать связь — уж насколько окажется возможным. Вам, Иосиф Федорович, поручается Симоновский подрайон. Вы его в особенности хорошо знаете».
…Рабочие Симоновскую слободу провозгласили Симоновской республикой. Когда он сидел за столом президиума собрания, где обсуждалось это предложение, радость переполняла его. Вот оно, заветное слово «республика», наконец произнесено. Не в мыслях, не в далеких мечтах, а в яви. Нет для Симоновской республики царя! Нет никакой иной власти здесь, кроме власти самих рабочих, Совета их депутатов. Слобода, нет — республика! — от города, где патрулируют отряды драгун, отделена надежным заслоном двойных баррикад. Порядок в республике поддерживается идеальный. Провозглашен восьмичасовой рабочий день, гарантированы все гражданские свободы. Лавочники и трактирщики торгуют так, как им предписывает Совет. Женщины, старики, подростки, невзирая на трескучий мороз, с утра до ночи крепят баррикады, на которых посменно дежурят вооруженные рабочие, давая отпор пытающимся прорваться сюда полицейским нарядам. Республика ширит оборонную мощь, ей в поддержку Комитет партии присылает две дружины: студенческую и Кавказскую. Все хорошо. Если бы еще к ним примкнули солдаты, что в Крутицких казармах! А на Симоновском валу большие пороховые склады…
Замысел рушится. Солдат разоружают драгуны, и подступиться к пороховым складам нельзя. В переговоры охрана склада не вступает, а взять силой — может последовать взрыв, который снесет всю слободу. Как это похоже на Кронштадт…
Уроки, уроки… А дни идут. Красное знамя республики вьется на ветру над Советом. И все остается на месте. Баррикады стоят глухими заслонами, а что там, за этими глухими заслонами? По всей Москве трещат ружейные выстрелы, стреляют дружинники и со своих, симоновских баррикад. Что же все-таки дальше? Настроение у рабочих приподнятое, боевое, дух восстания властвует надо всем, но восстания неподвижного. Так стояли декабристы на Сенатской площади, пока их не окружили железным кольцом…
Впрочем, прежние уроки памятны не для того, чтобы «не делать», а для того «как делать». Очень вовремя, но лучше бы раньше, еще до самого первого дня восстания «Известия» напечатали «Советы восставшим рабочим». Безусловно, главное правило — не действовать скопом. Тысячную толпу легко расстрелять одной сотне казаков. Но и в сотню казаков нетрудно попасть, если действовать против нее одному-двум дружинникам, быстро перебегая из двора во двор. Стрелять из окон, с балконов, отовсюду, откуда сразу же можно уйти и скрыться. Баррикады — лишь для того, чтобы задерживать движение войск, полиции, заставить их остановиться, но не для того, чтобы насмерть оборонять кусочек улицы. Восставшим принадлежит вся Москва, а не только ее краешек, что за баррикадой. Вперед, в наступление!.. Вспоминаются, узнаются мысли, слова Ленина…
И вот они самые грозные, самые горячие дни. Рабочая, пролетарская Москва уже в наступлении. Бои, не смолкая, гремят круглосуточно. А как все-таки отойдешь далеко от своих баррикад, от хранилищ боевых припасов, если тут же тебя отрезают войсковые части? Нет постоянной связи, точной информации. Стрельба, стрельба, рвутся бомбы, где-то ухают пушки…
…Не время митингам, собраниям, но там, где началось замешательство, надо быть самому.
«Товарищи! Куда вы бежите? Стой!»
Пять-шесть дружинников. В руках револьверы… Бегут…
«Остановитесь!»
Один рванулся в сторону, машет рукой, зовет за собой: «Айда, ребята, уходи, все пропало!» Подлец такой, трус!.. Настиг его, схватил за ворот, тот выстрелил в упор и все же промахнулся… Сбил с ног, вышиб револьвер… Пальто на нем расстегнулось, стал виден полицейский мундир… Провокатор!..
Выстрелы… Это подоспел быстрый, отчаянный Блохин. Правильно!.. Провокатор лежит на снегу, раскинув руки.
А в конце улицы звонкий цокот копыт, скачут драгуны… Афишная тумба… Маузер бьет хорошо, отдает в локоть, в плечо. Один драгун повалился с лошади. Теперь часто-часто стреляют в них и дружинники. С ними опять тот же Блохин. Молодчина! Отряд драгун поворачивает назад… Подходит кто-то. Лицо и сияющее и виноватое: «Товарищ Иннокентий, взял провокатор было нас на испуг, и сами не знаем как… Больше не поддадимся, не отступим». Нет, нет, не может быть места панике!..
…И все-таки отступили. Иначе было нельзя. «Симоновская республика» — насколько поднимали боевой дух рабочих эти слова, настолько же разжигали они ярость царских властей — убить республику в первую очередь! Можно сражаться одному против десяти, десятерым против трехсот — невозможно. Отступили на соединение с Пресней…
…Потом уже Мартын Лядов рассказывал: «Не удалось нашим петербургским товарищам взорвать Николаевскую дорогу, опоздали, по ней прежде успели пройти эшелоны Семеновского полка». Крупнокалиберная артиллерия полковника Мина стала сметать на Пресне один квартал за другим.
А до этого, когда еще можно и должно было сражаться, меньшевики приказали своим выйти из боя, эсеры вслед за ними сделали то же самое. Но многие дружинники все равно бились до самого последнего часа. Они лучше, чем их лидеры, понимали, что бросить рабочие массы на произвол судьбы, когда те по-прежнему горят верой в победу, — это измена, дезертирство, это подрыв доверия к партии; совесть этого не простит…
Полторы тысячи казаков, драгун и гвардейцев полковника Мина, тяжелая артиллерия не заставили Пресню сдаться, капитулировать. Принято было иное решение: прекратить вооруженную борьбу, спрятать оружие так, чтобы оно не попало в руки врага, сохранить боевые кадры, дать им возможность надежно укрыться… Листовка Комитета РСДРП разъясняла: «Новая схватка с проклятым врагом неизбежна, близок решительный день. Опыт боевых дней многому нас научил…» Да, это верно. Под шквальным огнем со всех сторон дружинники без тяжелых потерь вышли из окружения. Один телеграфист потом показывал запись депеши, переданной московским градоначальником фон Медемом в Петербург: «Мятеж кончается волей мятежников, а к истреблению последних упущен случай…»
…Он уходил в числе самых последних, сквозь проломы в заборе, по грудам щебня, засыпанного снегом; свистели пули над головой; промокли и заледенели ноги в штиблетах, пальто прожжено у ночных костров, душил мучительный кашель. Здесь же, на Пресне, он встретился с Яковом, братом. Совсем неожиданно. Когда рушились баррикады и разговаривать было некогда. Обнялись: «И ты здесь? Уходи! Где тебя искать?» Яков, весь в копоти, в угольной пыли, покручивая пустой барабан револьвера, качнул головой: «Не ищи. Уеду, наверно, в Одессу». — «А я останусь в Москве. Не могу…»
Постоянная квартира может оказаться под подозрением. Надо менять. Помог укрыться старый орловский друг Алексей Никитин, случайно встреченный ка улице. «Лидия Платоновна будет рада видеть тебя, — сказал Никитин. — Теперь мы в Москве. Здесь служу. Понимаешь, после ссылки в таких делах уже не участвуем, но тебя приютим. Будь спокоен». А повсюду царил кровавый террор Дубасова, Римана, Мина. Ловили на улицах, вытаскивали из домов по самому ничтожному подозрению или злобному доносу. Избивали. Расстреливали. По постановлению военно-полевого суда. И просто так. Тюрьмы, полицейские дома были переполнены арестованными.
Они лежали здесь — в углу, В грязи зловонного участка, И кровь густая, словно краска, Застыла лужей на полу. Их подбирали, не считая, Их приносили без числа, На неподвижные тела Еще не конченных кидая.Эта священная кровь ничем иным не смоется, только новой схваткой с врагом. Оружие — винтовки, бомбы, револьверы — на время убрано в запас, но остается и останется действующим всегда еще одно могучее оружие — слово…
4
Аллея вывела на дальний край парка. Впереди открылось чуть всхолмленное, в снежных застругах поле. Теперь над ним лежала уже глубокая ночь. Дубровинскому подумалось: нехорошо, что так надолго ушел он, никого не предупредив. Гурарий Семеныч, наверно, беспокоится. Милый, милый старик!
А небо, небо до чего же просторное! Такое ли оно в Финляндии, как и над Орлом? И над Яранском? Пожалуй, такое же и не такое. По-особому жгуче горят сегодня звезды, дрожат, перемигиваются, кажутся расплавленными капельками, которые сейчас сорвутся и упадут на землю. А где же Персей, где Кассиопея? Так редко удается разглядывать звездное небо. Может быть, и там уже перемены? И нет звездочки Ани, и его звезда тоже погасла. Как все это было давно! Немного наивно и сентиментально. Яранск, зимняя ночь, его рука на плече Ани, и выбор навсегда «своей» звезды.
…Газета «Вперед» закрыта распоряжением генерал-губернатора. Закрыты и все другие газеты, поддерживавшие стачечников и восставших. Трудно приспособиться к новой обстановке, когда как будто бы еще существуют легальные возможности добиваться создания новой газеты и жить, не уходя в глубокое подполье, а в то же время губернаторам и градоначальникам предоставлены диктаторские права. Хочу — и арестую. Хочу — и предам военно-полевому суду.
…Редакция газеты, и люди, и дела ее сохранились, товарищи жаждут продолжения работы. Найдено другое помещение. Но договорились на «старом пепелище» встретить Новый год.
А Москва по-прежнему переполнена войсками, полицейскими нарядами.
Это была все же хорошая ночь. Полная искренности, задушевности. Лядов держал стакан с красным вином в руке и, рассматривая его на просвет, говорил медленно, задумчиво:
«Это цвет крови, пролитой в тяжкой борьбе, закончившейся поражением. Мы справляем сегодня поминки по нашему восстанию. Когда стрелки часов сойдутся вместе, прежде чем воскликнуть „С Новым годом!“, мы встанем и постоим минуту в молчании. Священна память тех, кто отдал свои жизни за дело народное. Но мы жестоко оскорбим их память, если вслед за тем нас охватит уныние». И тихо запел:
Не плачьте над трупами павших борцов. Воздайте им лучший почет…И все присоединили к нему свои голоса:
Шагайте без страха по мертвым телам, Несите их знамя вперед!Стрелки часов сблизились. Минута торжественного молчания — и веселый перезвон стаканов: «С новым, тысяча девятьсот шестым годом!»
«Да будет он годом наших побед!» — возгласил Голубков.
«Да здравствует солнце! Да скроется тьма!» — добавил Соколов.
Смело, товарищи, в ногу! Духом окрепнем в борьбе…Спели. И он, Дубровинский, пел и припоминал яранскую ссылку, как шесть лет назад встречал Новый год в квартире Радина. Тогда эту песню, написанную Леонидом Петровичем, не довелось спеть. Помешал пьяный городовой. Один пьяный городовой. Так пусть же она прозвучит сегодня здесь свободно и ликующе, когда там, за окнами, над каждой пядью московской земли властвует чрезвычайное положение и в ночи рыщут повсюду патрули.
Заговорили разом все. Весело, возбужденно. Готовить немедленно, с первого же дня нового года, очередной выпуск газеты. Подвести итоги происшедшим событиям, рассказать рабочим о значении восстания, о том, что реакцией победа в нем не одержана. Споров не было. Говорили дружно, согласно.
А он молчал. Молчал потому, что в остатки «свобод» после введения военной диктатуры больше не верил. Попытка открыто продолжать печатную агитацию — дамоклов меч над головой всех, кто в этом будет занят.
«А что же вы, Иосиф Федорович?»
«Дорогие товарищи! Мы были крепки в борьбе, должны быть мужественны в оценке реальной обстановки. Иллюзии нам следует отбросить. Выпуск газеты? Об этом обязательно следует думать. Но прежде всего, и немедленно, надо запасаться „фальшивками“ и уходить в надежное подполье. Оказаться сейчас в тюрьме — не самый лучший вывод из уроков восстания. Наш день вернется! Но готовить его нужно самим!»
Иначе не мог он сказать, он глубоко был убежден в этом. Выпустить боевой номер газеты на виду у разъяренных властей, конечно, заманчиво. А есть ли гарантия, что это удастся сделать? Это не поражение и не позор — уйти в подполье. Партии не привыкать к работе в строгой конспирации. Поражение и позор — доверчиво поддаться врагу. Притом как раз тогда, когда с досадою он полагает, что упустил главарей. Но Голубков, и Соколов, и Квятковский заволновались: «Теперь — и отступать? Есть новая квартира для редакции, бумага есть, найдем и типографию…»
Кружилась голова, теснило дыхание, путались мысли. То ли от долгого спора и нервного напряжения, то ли опять обострялась проклятая болезнь. Перед рассветом, не ссорясь, сердечно и дружески расстались. Он и Лядов пошли по домам, таясь от шпиков и патрулей, а остальные решили перетаскивать дела редакции на новую квартиру.
Он лежал в жестоком, сотрясающем ознобе. Над ним склонясь, сидел Обух, вертя вокруг пальца брелок, прикрепленный к часовой цепочке, говорил: «Собьем немного температуру, дорогой Иосиф Федорович, и сразу же в санаторий, в Финляндию, чтоб не достала вас рука российской полиции. Это мое категорическое требование, как врача, и это настоятельное пожелание комитета, переданное через меня. Готовьтесь».
«Я не могу, я должен прежде увидеться с Голубковым».
«Это невозможно. Вся редакция, в том числе и Голубков, вчера арестована. В новом своем помещении…»
«Как! Арестована? А я поеду в санаторий? Вы шутите, Владимир Александрович!»
«Да, поедете! Поедете обязательно. И если вам так уж хочется тоже сесть за решетку, — садитесь более здоровым. При нынешнем состоянии, оказавшись в тюрьме, из нее вам не выйти. Если вы этого не понимаете — понимают товарищи. Вы нужны для дела, а не для отсидки в заключении…»
Но он тогда не послушался Обуха и, как только смог подняться с постели, уехал в Петербург. Он полагал себя обязанным туда вернуться. После тяжелого провала Петербургский комитет формировался заново, и он вошел в его состав. А в санаторий все же привела очередная вспышка болезни, с которой только усилием воли бесполезно было бороться…
Однако пора в палату. Этак недолго схватить новую простуду. Тогда попробуй убедить Сатулайнена, что тот не имеет права задерживать его у себя в санатории. То есть такого формального права у него, конечно, и нет, его «право» — платит или не платит больной, но Сатулайнен — гуманнейший человек и за доходностью своего заведения не гонится, он просто будет действовать как честный врач. Другое дело, что деньги за лечение внесены из партийной кассы, и уехать отсюда таким же беспомощным, каким привезли сюда, — значит пустить крайне нужные партийные средства на ветер.
И Дубровинский, еще раз окинув взглядом сверкающее золотой россыпью небо и чуть задержавшись на созвездии Персея, повернулся и зашагал обратно. Теперь он шел быстрее. Все было передумано, все прошедшее заново оценено, расставлено в сознании по своим местам, и каждый шаг теперь — он как бы отсчитывал их про себя — был направлен уже к новым целям.
Еще издали сквозь припорошенные снегом кусты, окружавшие серое в ночи здание санатория, он разглядел окно своей палаты. В нем в одном горел свет. Странно. Кто-то дожидается? Почему? Дубровинский заторопился. В полутемном вестибюле молчаливый служитель принял от него пальто и еле заметно повел плечами, что означало: «Ах, как вы нарушаете наши правила! Все уже спят».
Сдерживая рвущийся из глубины бронхов сухой кашель, он открыл дверь в палату и отступил назад. Вот это называется легок на помине! У стола, закинув нога на ногу и оживленно жестикулируя, сидел Обух, а визави, и весь — внимание, упираясь раскрытыми ладонями в подбородок, тянулся к нему Гранов Гурарий Семеныч.
— Кого я вижу! — радостно закричал Дубровинский. И захлебнулся в кашле.
— А что я слышу? — Обух поднялся, строго поглядывая на него. — Иосиф Федорович, я рассчитывал не на это. К тому же Гурарий Семеныч рассказал мне о каких-то ваших прожектах насчет отъезда. Но, впрочем, здравствуйте!
— Здравствуйте, здравствуйте, Владимир Александрович! — Они обнялись по-мужски, крепко. Так постояли. Дубровинский чувствовал, что Обух умышленно не отпускает, прислушивается к его дыханию. — Какими вы судьбами здесь?
Обух медленно разжал руки, изучающе оглядел Дубровинского с головы до ног. Погладил свой слегка круглящийся животик. Отступил к столу. Посмотрел на Гранова.
— Гурарий Семеныч, вот такой кашель — постоянно! Вас я не спрашиваю, Иосиф Федорович, потому что вы скажете: «Шел быстро, у самого крыльца хватил немного холодного воздуха».
— Вы угадали, Владимир Александрович, именно это я собирался сказать. Вы лишили меня такой возможности, — проговорил Дубровинский, делая Гранову знаки глазами: не выдавайте. — Хорошо, пусть это скажет Гурарий Семеныч.
Гранов растерянно разводил руками. И все рассмеялись. Дубровинский повторил свой вопрос.
— Что означает ваш приезд, Владимир Александрович?
— Что означает ваш отъезд, Иосиф Федорович? — копируя интонацию Дубровинского, спросил Обух. — Сперва выясним это.
— Не могу, ну просто не могу, поверьте мне, Владимир Александрович. — В голосе Дубровинского зазвучала даже какая-то надсадность. — Не буду хитрить. Да, и покашливаю, и все прочее. Но все это не в такой степени, чтобы держать себя бесконечно здесь, на мягкой, удобной постели. Из тюрем и из ссылки я не пытался бежать, и зря не пытался; отсюда же, если я добром не уеду, непременно сбегу.
— Болезнь вас ничему не научила, Иосиф Федорович, — осторожно заметил Гранов.
— Меня всему научила жизнь, — возразил Дубровинский.
— Ясно, — сказал Обух. — Если Иосифа Федоровича жизнь всему научила, нам с вами, Гурарий Семеныч, его не переучить. Решено: он здоров. Но это я говорю только вам, дорогой товарищ Иннокентий, в Петербургском комитете я буду объективен, как врач. А теперь готов ответить на ваши вопросы.
Он одернул жилет, потрогал ладонью животик, мягко ступая, прошелся по комнате. Ткнул пальцем в постель, как бы проверяя, достаточно ли пружинит матрац, и первый уселся за стол. Раскрытой ладонью показал: и вы оба, прошу, садитесь!
— У меня пока один, все тот же вопрос, Владимир Александрович, — напомнил Дубровинский.
— В столицу меня привели сугубо личные заботы. Но у меня была явка, и я не мог не повидаться с товарищами из Петербургского комитета. А узнав от них, где находитесь вы, не мог не приехать сюда. По собственному к вам расположению. И по просьбе товарищей из комитета: просветить вас относительно некоторых событий последнего времени. Но кто же мог знать, что вы затеяли побег отсюда, и именно в день моего приезда! Поэтому я ничего вам рассказывать не стану, все узнаете в Питере сами, пожелаю спокойной ночи и с вашего позволения удалюсь вместе с Гурарием Семенычем. Он обещал приютить меня в своей квартире.
— Ну нет, Владимир Александрович, — запротестовал Дубровинский, — этак подразнить и уйти! У меня все равно спокойной ночи не будет. Отниму спокойную ночь и у вас. Но вы же знали, к кому едете! Я вас не отпущу. Рассказывайте!
— Воля ваша. — Обух вынул из бокового кармана носовой платок, встряхнул его и тут же скомкал. — Начну с грустных сообщений. Присуждены к смертной казни руководители восстания на «Потемкине» и на «Очакове».
— О потемкинцах я уже слышал, — с горечью сказал Дубровинский. — Значит, очаковцев тоже не миновала чаша сия.
— В Сибири свирепствуют Ренненкампф и Меллер-Закомельский. Арестованных тысячи, расстрелянных и повешенных сотни. В Бобруйске военный суд приговорил тринадцать человек к расстрелу и пятнадцать — к каторжным работам. Вообще предположительно только в январе казнено четыреста человек. Ну, а кронштадтцы виселицы избежали. Забастовка питерских рабочих от смерти их спасла. Объявлен приговор: разные сроки — каторга. Не знаю, порадует ли вас, если скажу, что за это же время эсеровскими боевиками убиты советники Полтавского и Тамбовского губернских правлений. Филонов и Луженовский, в Тифлисе — генералы Баранов и Грязнов, в Варшаве — начальник Привислинских железных дорог Иванов, а в Питере — начальник мастерских Путиловского завода Назаров, а в Севастополе чудом спасся от бомбы адмирал Чухнин, коему я как раз не пожелал бы чуда, поелику сам он пролил реки матросской крови.
— Меня этот мартиролог мало интересует. Эсеровское «око за око» победы революции не принесет, а волна ответного террора царских властей становится только круче, выше, губительней. Вооруженное восстание, если оно хорошо подготовлено…
— А вы знаете, Иосиф Федорович, что по поводу московского восстания соизволил заявить Плеханов? — перебил Дубровинского Обух. — В нумере четвертом своего «Дневника Социал-Демократа» он в принципе утверждает: «Не нужно было браться за оружие». То есть надлежало развивать профессиональное движение, искать поддержки у непролетарских партий, не бойкотировать Думу и так далее.
— Ну, Плеханов давно уже собирается делать революцию так, чтобы не помять своей хорошо выглаженной рубашки, — сказал Дубровинский, вдруг по какой-то ассоциации вспомнив свой прошлогодний разговор в поезде с Рутенбергом. — А я и московское и кронштадтское восстания видел своими глазами…
— Не только видели…
— …и знаю: была неподготовленность, растерянность, несогласованность действий, множество разных ошибок. Но это же, если рассматривать в «принципе», как Плеханов, — единственно правильный путь!
— Можете не убеждать меня, Иосиф Федорович, поскольку при случае я и сам точно так говорю. Поберегите свою энергию для будущих публичных выступлений, коли вознамерились покинуть санаторий. А я вашему вниманию сейчас предложу только что вышедший нелегальный нумер первый «Партийных известий». — Обух засунул платок в карман и вытащил многократно сложенную газету. — Вот, почитайте на досуге статейку Большевика «Современное положение России и тактика рабочей партии». Полагаю, она целиком совпадает с вашими мыслями. Не уполномочен раскрывать псевдоним, но догадываюсь, и вы тоже, думаю, догадаетесь, что написана статья Лениным. Его темперамент, его стиль, его железная логика. И кроме того, примерно это же самое говорил он лично в Москве на заседании нашей литературно-лекторской группы, где честь имел присутствовать и я.
— Владимир Ильич был в Москве?
— Да, вслед за тем, как вы уехали из нее. Сожалел, что не встретился с вами, но еще больше сожалел, что вас одолела тяжелая хворь. И сейчас, в Питере, я снова виделся с ним. Он просил передать вам пожелания быстрейшего выздоровления.
— Почему вы не с этого начали, Владимир Александрович! — воскликнул Дубровинский.
Обух развел руками: дескать, и сам не знаю, просто как-то так сложился разговор. Но, заметив, что лицо Дубровинского сразу несколько посветлело, и понимая, что участливость Ленина его очень растрогала, добавил:
— Владимир Ильич на ваши доводы вряд ли сдался бы так быстро, как я. На моем месте он не позволил бы вам отсюда уехать.
— Уехать — да! И я бы подчинился. А потом сбежал. Послушайте, Владимир Александрович, в такое время разве я…
— Знаю! Сказка про белого бычка? Позвольте тогда уж лучше я продолжу. Что сейчас больше всего волнует умы? Предстоящие выборы в Думу. Решительный бойкот с нашей стороны…
— Боже мой, как же иначе? — воскликнул Дубровинский. — Пролетариату одновременно стремиться к восстанию и захвату власти и поддерживать существующую власть своим участием в выборах. Чепуха!
— Меньшевики считают, что виттевская Дума отличается от булыгинской и есть резон на первых стадиях выборов не отказываться от участия в них, — заметил Гранов, дотоле молча сидевший в стороне. — Дума теперь не совещательная, а законодательная…
— И главное — Государственная! — с издевкой отозвался Дубровинский. — Вот если бы она была объявлена как Пролетарская или Рабочая, и объявлена не царским манифестом, в котором с росчерком «Николай» пишется «свобода», а читается: «Патронов не жалеть и холостых залпов не давать» за подписью «генерал Трепов», — вот если бы Дума была рабочая…
— Иными словами, Совет рабочих депутатов, — вставил Обух. — Вот тогда бы разногласий с меньшевиками у нас не было. Но, Иосиф Федорович, берем в расчет то, что есть, и, готовясь к объединительному съезду с меньшевиками, будем ожидать жестоких споров и в этом вопросе. А что касается Трепова, сей бравый генерал очень последователен, накануне семнадцатого октября он заявил: «Сначала будет кровопролитие, а потом конституция». И сдержал слово: крови пролито уже немало. Что же вам еще рассказать? Вновь в Питере появился Гапон. Хлопочет перед Дурново об открытии своих «отделов». Витте, после амнистии Гапона, этим его подразнил, а разрешения все-таки не дал. Гапон теперь и вьется вокруг министра внутренних дел. Дурново, может быть, окажется покладистее.
— Витте хитрее, прозорливее, — хмуро заметил Дубровинский. — Он понимает, что сызнова с Гапоном девятое января не повторишь. А Дурново…
— Дурной — во! — вставил Гранов. — Так, я слышал, острят рабочие.
— Ну, положим, Дурново не глуп, — возразил Дубровинский. — У него могут быть свои расчеты.
— Безусловно, — поддержал Обух. — И самое очевидное — раздробить с помощью Гапона крепнущее рабочее единство. Прежней силы у этого попа, конечно, нет, но внести изрядную смуту в умы он еще может. Особенно сейчас, перед нашим съездом.
— А есть уже какие-то предположительные сроки созыва съезда? — спросил Гранов.
— Были названы очень точные сроки: десятое декабря, — сказал Обух. — Но господа меньшевики, как вы знаете, предпочли собраться отдельно и раньше. А наши собрались, как и было назначено. В Таммерфорсе. И получилось вместо съезда две конференции. Можно ли поручиться, что меньшевики опять не выкинут какую-нибудь штуку? Хотя теперь и образован объединенный ЦК и объединенный Центральный Орган «Партийные известия», первый, свеженький нумерок коих я имел удовольствие только что вручить Иосифу Федоровичу. Новые сроки? Знаю, Владимиру Ильичу страшно не хочется их отдалять. Мне показалось, он видит самое начало апреля и теперь усиленно готовится…
— Начало апреля! — Дубровинский потеребил, погладил усы. — Д-да, сейчас февраль на исходе. Но я вполне мог бы успеть объездить, пока идут выборы делегатов, несколько организаций.
Обух встал, посмотрел на часы, крякнул: «Ого-го!» Гранов тоже поднялся, стал тихонечко продвигаться к двери.
— Ну что же, Иосиф Федорович, пора вас оставить одного, — сказал Обух и поощрительно кивнул Гурарию Семенычу: да, да, правильно. — Постарайтесь выспаться. Боюсь, если продолжить и еще наш разговор, он будет подталкивать вас на все менее обдуманные поступки, чего при вашем состоянии здоровья делать бы не следовало.
— Но поездка, в которую я собираюсь, вы сами свидетель, очень обдуманна! И главное, необходима.
— Когда главное — главное, врачу не остается возможности давать советы, — сказал Обух, тоже продвигаясь к двери. — Впрочем, Иосиф Федорович, все же позволю себе один маленький совет: поезжайте, если можно, на юг. Но не в Астрахань!
Гурарий Семеныч немо показал Дубровинскому на прикроватный столик, где стояли склянки с микстурами, что означало: «Не забудьте принять перед сном», — поклонился и вышел первым.
Оставшись один, Дубровинский быстро разделся, выпил лекарство и бросился в постель, зашелестевшую прохладными накрахмаленными простынями. Усмехнулся: «Постарайтесь выспаться… Чудак Владимир Александрович! Когда стараешься уснуть, как раз ничего и не получается. Лучше просто лежать и думать. Не так уж впустую пройдет время».
Не все рассказанное Обухом было для него абсолютными новостями. Кое-что он и здесь вычитывал из газет, а кое-что сообщал Гурарий Семеныч, у которого были свои связи с Петербургом. О том, что в интересах более успешной подготовки Четвертого съезда образован объединенный ЦК большевиков с меньшевиками и создана объединенная газета «Партийные известия», в которой Ленин принимает живейшее участие, Дубровинский знал и ранее. Что меньшевики с самого начала «объединенных» действий поведут свою привычную политику закулисной игры, об этом можно было догадываться. Но о плехановском «не надо было браться за оружие» Дубровинский услышал впервые.
Он любил Плеханова, любил читать его речи, статьи, всегда оригинальные, острые, светящиеся глубоким умом и каким-то особенным литературным изяществом. Любил даже тогда, когда убедился, что Плеханов уже не поддержка, а помеха, тормоз в борьбе с самодержавием. Теперь поучающие слова Плеханова потрясли. Они отдавали цинизмом, они по сути своей принижали революционный дух восставшего народа, те жертвы, кровь которых священна, ту благородную ярость, с какой московские пролетарии строили баррикады и отстаивали на них каждый час провозглашенной ими самими свободы. А ведь пламя восстания пылало не только в Москве, но и по всей России. Оно и сейчас не погасло, и слова Плеханова тоже будут стучаться в сознание многих, внося в него раздвоенность и неуверенность, обрекая и ход предстоящего съезда на обязательную драку. Из кожи вон станут вылезать меньшевики, доказывая, что ленинская программа действий никуда не годится.
Дубровинский беспокойно повернулся в постели. Откинул одеяло. Очень сильно натоплено. А может быть, гуляя, схватил простуду? Градусник лежит рядом, на столе. Ну и пусть лежит. Неизвестно, как отнесутся в Петербургском комитете к его идее: поехать в те города, где наиболее сказывается меньшевистское влияние и где он сам когда-то навязывал примиренчество с ними. А теперь даст им бой. Обух, как врач, советует поехать на юг. Вот он и поедет прежде всего в Екатеринослав, если доверят товарищи. Крупный рабочий район. Там в особенности силен был размах политической стачки, как и в Москве, образованы Советы и шли долгие, упорные сражения с правительственными войсками. Нельзя допустить, чтобы перед съездом там взяла верх меньшевистская пропаганда. Решено!
Он устроился поудобнее на подушках. И все равно до утра глаз не сомкнул.
5
Парикмахер, уже седенький, часто-часто пощелкал ножницами, словно стремясь на лету поймать какую-то незримую мушку, и, приблизив их к затылку Дубровинского, состриг, а может быть, просто сделал вид, что состриг, один неправильно торчащий волосок. Отступил, оглядел своего клиента, все так же артистично поигрывая ножницами, и нашел еще волосок. Нагнулся, шепотком спросил доверительно:
— Освежить? Или помыть головку вам, уважаемый?
— Да, прошу вас, помойте, — согласился Дубровинский.
Хорошо было сидеть в покойном кресле, блаженно вытянув ноги, а в зеркале наблюдать, как под проворными руками парикмахера падают на пеньюар, плотно окутавший худую шею, космы срезанных волос. Давно не сиживал он вот так, оцепенело, почти отрешенный от окружающей обстановки, задавшись единственной целью выглядеть поприличнее. Даже покрасивее. Конечно, вымыть голову можно и дома. Но лучше сделать это здесь. Все-таки, надо думать, лицо не останется таким серовато-землистым с темными кругами под глазами.
А парикмахер, верткий, коротенький, готовя теплую воду и расставляя возле раковины флаконы с какими-то снадобьями, между тем с прежней таинственностью в голосе ворковал:
— Знаете, уважаемый, волосики-то рановато у вас сыпаться начали. Прошу прощения, на макушке лысина изрядно просвечивает и со лба тоже наверх уголками идет. Говорят, от беспутной жизни, хе-хе-хе, от излишнего увлечения дамочками такое бывает. Но то же самое и от умственного напряжения. А я полагаю, прежде всего от недогляда за собой. Есть превосходные патентованные средства не только от перхоти, секущей волосики, но и для ращения таковых. Если бы вы, уважаемый, соблаговолили посещать меня регулярно этак с полгодика по два раза в неделю, мы бы из вашей головки сделали чудо.
— Ваше предложение мне очень нравится, и я его принимаю, — сказал Дубровинский. — Но при условии, что я буду продолжать беспутную жизнь. Это успеху вашего предприятия не помешает? Без дамочек мужчине и роскошные волосы ни к чему!
— Вот именно! — с упоением воскликнул парикмахер. — Вы очень точно изволили сказать. Можно ли терять попусту цветущие годы? «Отдать по молодости жар души любимым, а в старости подсчитывать грехи!» Вы не читали такие стишки? Прошу прошения, сочинителя не запомнил. А вдохновенно ведь, не правда ли? Прошу, наклоните головку.
И принялся поливать истомно пахнущими растворами, ловкими движениями пальцев взбивая пышную пену. Смывал ее, отжимал между ладонями волосы и снова намыливал. Дубровинскому казалось, что стараниям брадобрея не будет конца. Видимо, тот решил: клиент действительно клюнул на удочку и будет исправно ходить к нему по два раза в неделю. Посетителей у него, должно быть, не так-то много, улочка тихая. Дубровинский сидел и наслаждался.
А парикмахер несколько раз провел своими мягкими ладонями и по лицу, а потом принялся обсушивать и растирать всю голову мохнатым полотенцем. Дунул в расческу, занес ее высоко, определяя, куда опустить, и, мгновенно разметав волосы направо и налево, сделал ровнейший пробор, нежно отблескивающий бриолином. Уже не спрашивая согласия клиента, как само собой разумеющееся, он принялся брить его, то и дело звонко отбивая светлое лезвие бритвы на туго натянутом ремне.
От горячего компресса бросило в легкую испарину, но ее тут же снял душистый прохладный крем. Пальцы парикмахера, как ласковые котята, резвились, перебегали с одной щеки на другую, заставляя иногда поеживаться от легкой щекотки. И наконец, еще один горячий компресс, трепетная пробежка жесткой щеточкой по усам и радостное восклицание, как у циркового артиста, ловко ставшего на ноги после двойного сальто-мортале: «Ать!»
Дубровинский удивленно взглянул на свое отражение в зеркале. Черт побери, вот это действительно искусство! Ничего не скажешь, красавец мужчина! Откуда-то взялся румянец, разгладились морщины, не стало и темных кругов под глазами. Вернулась молодость. Только пиджачок потертый, косоворотка…
— Сколько я вам обязан? — спросил Дубровинский, готовясь щедро заплатить.
Парикмахер стоял, скрестив на груди руки, и любовался своим произведением.
— Во сколько сами оцените, господин Дубровинский, — сказал он. И поклонился: — С прибытием в родные края. Давненько не бывали.
— Вы меня знаете? — в недоумении спросил Дубровинский. Отказываться не имело смысла, приехал он в Орел вполне легально. — А я, помнится, ни разу еще не пользовался вашим несравненным мастерством.
— Ах, господин Дубровинский, спросите лучше, кого я в нашем городе не знаю! — с пафосом откликнулся парикмахер и принялся салфеткой смахивать какие-то невидимые пылинки с зеркала. — А вас отправляли в далекую неправедную ссылку столь юного, что в моих заботах вы еще не нуждались. Так же как друзья ваши молодые, господа Минятов, Никитин, Пересы. Где они? Был арестован и господин Родзевич-Белевич. Слышно, теперь на Кавказе. А господин Русанов? Сочетался счастливым браком и ныне в Париже, в знаменитейшем Сорбоннском университете. Впрочем, вы сами лучше знаете, виноват! Буду чрезмерно рад почаще видеть вас в этом кресле. Смею гордиться: сам притеснитель ваш и охранитель общественного спокойствия, начальник губернского жандармского управления стрижется, бреется только у меня.
И Дубровинский расплатился с ним не более щедро, чем сделал бы это в любой другой парикмахерской.
Солнечный мартовский день снова его ослепил, когда он вышел на улицу. Из подворотни текли широкие мутные ручьи, по разбитой навозной дороге тащились тяжело груженные подводы, звучно чавкали конские копыта, а возницы, поберегаясь летящих в стороны брызг, измученно шагали рядом с санями. В небе стоял птичий гомон, сновали галки, сороки, вертелись нарядные скворцы на крылечках своих домиков, высоко вознесенных на тонких шестах.
Весеннее настроение целиком захватило и Дубровинского. Он шел, нарочито забредая в неглубокие лужицы, благо на ногах были надеты галоши, шел и не чувствовал привычной одышки, давившей его на быстром ходу. Иногда ему даже хотелось запеть и, если бы это вовсе не отдавало ребячеством, подразнить озорным пересвистом новоселов-скворцов. Единственное, что чуточку царапало коготком, — это хвастливая фраза парикмахера насчет начальника жандармского управления, стригущегося и бреющегося только у него. Не произнеси он этой последней фразы, и разговор мог бы сложиться на большей, его, Дубровинского, откровенности. Почему бы вообще не завести с ним доброго знакомства? Парикмахеры всегда больше всех знают. Теперь закрепление знакомства с ним исключено.
Вдруг он спохватился. Иду, спешу домой, а при себе никаких гостинцев. Ну, мать, и Аня, и тетя Саша, конечно, на это и внимания не обратят, хотя хороший обычай всегда остается хорошим обычаем, но девочки-то, девочки! Их непременно надо порадовать. Только чем? Ах, какой он совсем еще неумелый отец! Книжки? Рановато. Таленьке, правда, уже скоро пять исполнится, она пожалуй, картинки будет разглядывать, а Веруське всего три с половиной — этой игрушки, куклы, наверно, интереснее. Подарить обеим малышкам по платьицу? В размерах ошибешься. Не придутся по росту, только одно огорчение. Да и денег не хватит. В бесконечных поездках так поизрасходовался, что просто неловко и домой-то совсем без копейки показываться.
Он зашел в бакалейную лавку, купил по кульку грецких орехов и сладких рожков, халвы, длинных конфет, перевитых разноцветными бумажными лентами, две плитки шоколада. Подумал и попросил лавочника прибавить еще три, поменьше. Деньги таяли. В другой лавке он приобрел большую куклу с фарфоровой головой, радостно смотрящей на мир неподвижными голубыми глазами, гуттаперчевую рыбку и многокрасочную книжку со зверюшками на каждой странице. Сверх того несколько переводных картинок. Рассчитывался он за них, уже перетрясая на ладони последние медяки.
Ему несколько раз пришлось позвонить, прежде чем на внутренней лестнице послышались торопливые мелкие и такие знакомые шаги.
— Аня! — крикнул он через дверь, не дожидаясь вопроса. — Аня, это я приехал!
— Боже мой. Ося, ты?
Дверь распахнулась. Анна бросилась ему на грудь, прижалась щекой к его щеке, без конца повторяя:
— Ося, золотой мой, ну как же я рада! Как я рада! Ты так неожиданно…
— Прости, не послал телеграмму. Времени не хватило.
— Девочки чуть не каждый день спрашивают: «А где папа?» Вот запрыгают, завизжат от восторга! — Она отпустила его, вгляделась пристальнее. — А ты похудел, очень похудел за этот год. И лечение тебе не помогло? Ося, золотой, все равно надо лечиться! Да что же я у порога — входи скорее, входи!
На их голоса, едва они переступили порог в передней, горошком выкатились Таля с Верочкой. Обе в одинаковых платьицах, а волосы стянуты у старшей зеленой шелковой лентой, у малышки — розовой. Верочка остановилась в замешательстве, сунула пальчик в рот, но Таля узнала сразу.
— Папа! Папочка! — тоненько взвизгнула. И подпрыгнула на носочках.
Тут же оказалась она у отца на руках, не взглянув даже на принесенные гостинцы. Теребила усы мягкой ладошкой, разглаживала морщины на лбу.
— Папа! Папочка, ты насовсем приехал? — спрашивала она, дыша у него над самым ухом.
— Да, да, — говорил он, ничуть не хитря. Ему в этот миг казалось, что иначе и быть не может.
И подхватил свободной рукой Верочку, уцепившуюся за полы его пиджака. Ну давно, давно ли в Самаре помещалась она в маленьком тазике для купания и озорно молотила ножками по воде! А вот уже вытянулась, покрупнела и что-то настойчиво лепечет, болтает на своем особом языке.
Он совершенно растерялся. Начал было рассказывать, как он ехал в поезде, и тут же понял, что это совсем ни к чему. А сам искал глазами: где мать, где тетя Саша? Анна догадалась.
— Любови Леонтьевне сегодня нездоровится, — сказала она. — Ося, пройдем к ней.
В комнате матери тяжело пахло лекарствами. Над кроватью дрожал маленький солнечный зайчик. Любовь Леонтьевна, закутанная в потертую клетчатую шаль, тихо лежала, повернув голову к стене. Не то спала, не то разглядывала солнечный зайчик. Сердце Дубровинского замерло. Дышит ли она? Лицо бескровное, белое, почти как седина в волосах. Он сделал несколько осторожных шагов.
— Ося? — неуверенно и еле слышно спросила Любовь Леонтьевна, не поворачивая головы. — Не верю! Скажи мне, если это ты.
— Это я, мама. — Дубровинский подбежал к постели, опустился на колени, обнял мать, чувствуя под рукой, какими сухими, угловатыми стали у нее плечи. — Прости, если я тебя разбудил.
— Ну, выспаться я успею, впереди много времени, Ося, — проговорила Любовь Леонтьевна и улыбнулась только глазами. — Хорошо ли ты себя чувствуешь?
— Отлично, просто отлично, мама! — Снять хотя бы часть душевного бремени с матери, взять его на себя. Пусть ей думается, что сын вполне здоров и силен. А что касается ее самой, как уж повелось от веку, он обязан сказать неправду. — Но ты просто молодчина, мама, ты нынче выглядишь куда лучше, чем в прошлом году.
Она поняла сына. Опять в измученных болью глазах у нее засветилась улыбка. Поддержать эту игру?
— Да, мне полегче стало, Ося, — подтвердила Любовь Леонтьевна, стараясь и говорить погромче. Запнулась. А надо ли им друг перед другом хитрить? Осю тоже ведь точит губительная болезнь. У него есть еще шансы перебороть свой недуг, если к этому отнестись серьезно, а ей, она знает, осталось недолго. — Месяца через три, Ося, мне станет совсем хорошо.
— Чем я могу помочь тебе, мама? — спросил Дубровинский, внутренне сопротивляясь страшному предсказанию. Он все стоял на коленях, поглаживая ее безвольную, холодную руку. — Скажи откровенно, как сказала сейчас. Я для тебя все сделаю, мама!
— Делай все так, как велит тебе совесть, Ося! Слушайся только ее голоса, она теперь старше меня. Ты это обещаешь?
— Совесть мне подсказывает, мама, что я должен остаться здесь.
— Нет, Ося, нет! Этого уже мне моя совесть не позволит. Хорошо, что ты приехал, так хорошо, но если тебе надо сегодня, сегодня и уезжай. — Она теперь говорила свободнее, как бывает, когда человек пересилит боль. — Не обманываю тебя: я еще встану. Даже сейчас, если хочешь, встану. — Любовь Леонтьевна сделала короткое движение, пытаясь оторвать голову от подушки. — Вот видишь, я бы могла, Ося, ты помешал. Аня, скажи ему, что еще позавчера я ходила, а такое, как сегодня, случалось не раз. Полежу и встану.
— Любовь Леонтьевна говорит правду, Ося, — сказала Анна. И спросила: — Может быть, мне пойти приготовить поесть? Ося с дороги голодный.
— Ну, конечно! Иди, иди, Анечка. — Любовь Леонтьевна проводила ее глазами. — Трудно ей, Ося, с детьми. И я не помощница, только обуза, и Саша по своей доброте и беспечности совсем разорилась: по уши в долгах. Тебе я сказала потому, что все это ведь не скроешь, с любой бедой лучше лоб в лоб столкнуться, чем дождаться, когда она тебя нежданно-негаданно из-за угла в спину ударит. Но ты не подумай: просим твоей помощи. Ося, молю, делай свое святое дело. И еще молю: пообещай мне, что ты поедешь снова лечиться. Это нужно тебе. Это нужно делу. Это нужно мне, Ося, мне! Ты обещаешь?
— Да, обещаю, мама… — Дубровинский поцеловал ей руку. — Но только, когда мне позволит совесть. Сейчас я не так-то плох. Особенно после того, как подстригся. — Ему хотелось разговор перевести в шутку.
— Хорошо, Ося, не станем спорить. Просто помни мои слова.
Из столовой послышался сочный голос тети Саши: «Ося приехал, говоришь? Да где же он? Подать его сюда!»
Дубровинский поспешил к ней навстречу.
Анна приготовила только холодные закуски, чай. Девочки в нетерпении прыгали возле стола, каждой хотелось занять место рядом с отцом. Так они и расположились — Таля справа, Верочка слева, и обе беспрестанно смеялись, заглядывая ему в лицо. Таля отчаянно болтала ножками, и тетя Саша грозила ей пальцем:
— Талка, оторвутся ноги — пришивать не стану. — А сама любовно расспрашивала: — Ося, ну как ты без нас живешь? Все время ездишь и ездишь? Такие страсти везде происходят! Газеты читаешь, уже волосы шевелятся, а пойдешь на базар…
— Не ходите на базар, тетя Саша, — засмеялся Дубровинский. — Пусть оттуда Аполлинария вам только овощи и фрукты свежие приносит, а не новости. Базарные новости, как гнилое яблоко, всегда с червячками.
— А! Аполлинарию я давно уволила, — взмахнула полной рукой тетя Саша. — Мне нравится по дому все делать самой.
— Особенно когда денег нет, — вполголоса сказала Анна.
Но тетя Саша услышала.
— Не порть настроение Осе! — закричала она. — Зачем нам деньги, когда мы сами золото! Возьму и мастерскую продам, дом этот — деньги будут. А червяков на базаре пусть другие покупают, тетя Саша не такая дура, чтобы курицу от вороны не отличить. Или ты, Ося, скажешь, что в Москве никто баррикады не строил и из пушек в людей генералы там не стреляли? Или там, откуда ты приехал сейчас, в какой-то Горловке, и в какой-то Авдеевке, и еще разве я все знаю где, — разве казаки не рубили там головы, будто на огороде капусту? Можешь ты мне объяснить, когда всего этого больше не будет?
— Могу, тетя Саша! Когда свергнем царя.
— А! Будто я те прокламации не читаю, которые сама в шляпных коробках прячу, пока за ними не придут, — хорошо хоть не жандармы! Ты мне скажи: зачем всякие баррикады строить? При царе разве Дума не Дума?
— Нет, тетя Саша, не Дума! Это чистейший обман. Именно в том расчете, чтобы народ не строил баррикады.
— Ну вот, Анна! — торжествующе воскликнула тетя Саша. — А ты все время доказываешь, что Дума — Дума. Ося получше твоего знает, он сам, наверно, прокламации против этой Думы пишет, не такие, как я в шляпных коробках прячу.
— Ося тоже может ошибаться, — по-прежнему вполголоса сказала Анна, — что с ним случалось не раз.
— Вы посмотрите на нее, — тетя Саша в волнении чуть не опрокинула чайную чашку, — что она говорит о своем муже! Он может ошибаться!
— Говорю не о муже, а о Дубровинском, — еще тише сказала Анна. И потянулась через стол: — Ося, не сердись, право! Это у нас в доме стало привычным.
— Папочка, а как зовут мою куклу? — вдруг спросила Верочка, озабоченно следившая за разгоревшимся спором, и теперь, найдя момент, вклинилась в него.
Дубровинский не успел откликнуться на слова жены, вопрос малышки его рассмешил. Он не готов был на него ответить. Заранее не подумал, что ведь у каждой куклы обязательно должно быть имя.
— Ее зовут… А как тебе хочется?
— Н-ну… — Верочка повертела пальчиками. — Н-ну, папочка, ты сам скажи.
И весь разговор как-то сразу переменился, стал мило домашним. Особенно старались сестренки, довольные тем, что наконец завладели общим вниманием. Они весело тараторили, перебивая друг друга. Рассказывали о том, что зима стояла холодная, но все равно каждый день ходили гулять с мамой или с бабушкой. И катались с ледяной горки на саночках. А когда потеплело, играли в снежки. И еще рассказывали, как бегали к почтовому ящику, опускали письма, и как мама плакала, когда домой долго не приносили писем. Анна виновато улыбалась, пытаясь остановить маленьких болтушек, но этим только сильнее разжигала их азарт.
— Аня, прости, писал я действительно редко. Опасался. Наблюдают за мной.
— Знаю, Ося! Все знаю.
Следя за тем, чтобы, разговаривая, не забывали поесть, тетя Саша сама подавала пример. Аппетитно намазывала хлеб маслом, сверху прикрывала либо ломтиком колбасы или сыра, либо россыпью красных бусинок кетовой икры и подсовывала бутерброды то девочкам, то Дубровинскому.
— Ося, ты, пожалуйста, больше кушай. Я вижу — тебя надо просто кормить и кормить. Побалуешься с малышками после. А сантименты с женушкой оставь себе и совсем на ночь. Вот тебе куриное крылышко, от вчерашнего обеда осталось…
И когда закончилось чаепитие, Дубровинский, забыв обо всем на свете, несколько часов баловался со своими дочурками. Играл в лошадки, вместе с ними рисовал ромашки, домики, солнышко и мокрым пальцем переводил картинки, купленные утром. Потом девочки утащили его на улицу гулять. Вернулся он донельзя усталый.
Сантиментов с женой перед сном, таких, какие виделись тете Саше, у Дубровинского не получилось. Разговор с Анной сразу сложился серьезный.
— Удивительное у меня сейчас состояние, — сказал Дубровинский, наблюдая, как она расстилает свежую простыню, взбивает подушки, — тикают часики, в доме полный покой, а я все время будто еду куда-то, иду, говорю, выступаю на митингах, спорю с меньшевиками, эсерами… Смешно, тело мое здесь, а дух витает в пространстве.
— Даже как метафора, Ося, это не очень смешно. — Анна бросила в угол кровати подушку, сама присела на край постели, придерживаясь за нее руками. — Ты болен, и Любовь Леонтьевна права, тебе нужно лечиться, а для этого дух не должен отлетать далеко от тела.
— Значит, попросту тело должно поспевать за полетом духа! Но, без шуток, стану лечиться. Меня беспокоит здоровье мамы.
— Это неотвратимо, Ося. Ты ведь слышал, она говорила: месяца три. Примерно так и доктор считает. Хуже всего то, что последнее время ее особенно сильно угнетает мысль о наших денежных затруднениях. Тетя Саша настолько кругом задолжала, что и вправду подумывает закрыть свою мастерскую. Она все делает весело. Весело все распродаст. А потом?
— Я ничего не посылал вам, Аня, — с горечью сказал Дубровинский. — Еще от вас принимал поддержку, посылки получал. Это я должен исправить.
— Ничего не надо исправлять. — Анна просительно смотрела мужу в глаза. — Мы ведь, помнишь, еще в Яранске твердо условились, что с детьми останется тот, кто меньше окажется полезен для дела революции. Осталась с детьми я и поступила правильно. А это значит, что другой должен быть свободен от всяких забот о доме, о семье.
— Негоже быть плохим сыном, мужем, отцом, — сказал Дубровинскнй, мысленно представив все те сложности и тяготы жизни, в которых оказалась его — его! — семья. Она ведь тоже имеет право на заботу, как всякая семья. — На некоторое время, Аня, я останусь здесь. Товарищи меня поймут. В Москве мне предлагали заняться переводами Бебеля. У меня там совершенно не было времени. Эту работу я выполню в Орле. Банкротства тети Саши мой заработок, конечно, не предотвратит, но все же немного вас поддержит.
— Только на твое лечение, Ося, и ни на что другое! На другое ни я, ни Александра Романовна никогда не согласимся.
— Не будем делить шкуру неубитого медведя, — улыбнулся Дубровинский. — Надо сначала сделать перевод. Труд Бебеля называется «Женщина и социализм». Думается, будет и тебе интересно вместе с Бебелем заглянуть в будущее. Ты ведь станешь мне помогать в работе? Вот и решится задача, на какие надобности истратить деньги, заработанные вместе.
Анна с сомнением покачала головой.
— Не в этом дело, Ося. — И в голосе ее почувствовалась нервная дрожь. — Ты все ищешь, как уклониться от поездки в санаторий, который тебе совершенно необходим. Ты словно нарочно стремишься именно туда, где болезнь твоя обостряется. Нет, нет! Ося, не подумай, что я тебя уговариваю избегать опасностей. Это было бы недостойно! И тебя и меня. Но опасности бывают разные. Зачем начиная с питерского Кровавого воскресенья ты всегда бросаешься в самые бессмысленные опасности?
— Я тебя не понимаю, Аня, в первый раз не понимаю, — сказал Дубровинский. Его ошеломили не столько слова жены, сколько тон, каким они были произнесены. — Что ты имеешь в виду?
— Кому был нужен Кронштадт? Кому была нужна эта Симоновская республика? И вообще все, что произошло в Москве? Разве это все тебя не подкосило? И все эти опасности не были бессмысленными?
Дубровинский прикрыл ладонью глаза. Болью в висках отдавался каждый из этих вопросов. Хотелось слова жены обратить в шутку, но слишком серьезно было то, о чем она говорила. Анна между тем продолжала:
— Восстала команда броненосца «Потемкин» — восстание жестоко подавлено. Восстали матросы Кронштадта — их всех под суд. Восстание на крейсере «Очаков» усмирили в одну неделю. А после — казни, казни… Немногим больше недели продержалась декабрьская Москва. Известно ли точно, скольких из восставших расстреляли, либо повесили, либо загнали на каторгу? Ну, ответь мне, ответь, какой в этом смысл? Ося, я бы тебе не сказала всего этого после Кронштадта, но после Москвы не могу не сказать! И особенно теперь, когда знаю, с какими поручениями, с какой агитацией в преддверии съезда ты выступал на Екатеринославщине и недавно в Курске.
— Ушам своим не верю, Аня, — с трудом выговорил Дубровинский, — ты осуждаешь мою работу в партии, работу именно после того, как я стал исправлять свои ошибки.
— Неизвестно, Ося, когда ты допускал наиболее серьезные ошибки, прежде или теперь! Если ты отстаиваешь тезисы Ленина о необходимости подготовки народа к новым вооруженным восстаниям….
— Аня! Но… ты говоришь устами меньшевиков!
— Я говорю своими устами, Ося! И мне, поверь, Ося, поверь, очень грустно, если это не совпадает с твоими нынешними принципами. А мы всегда так хорошо понимали друг друга и размышляли одинаково.
— Да, конечно… Теперь ясен и вопрос тети Саши: «Дума — это Дума или не Дума?»
— Ну, где твои многие прежние товарищи? Они уходят, уходят…
И оба замолчали. Анна принялась вновь взбивать подушки. Дубровинский сидел, понурившись и поглаживая усы. К физической усталости, которая его так сильно одолела к концу дня, прибавилась еще и душевная подавленность. Он думал. Может быть, горячность Ани объясняется тем, что она просто издергана жизнью, ощущениями надвигающейся нужды, заботой о детях, о нем, наконец. В Орле засилье меньшевиков, и даже на съезд поедет их делегат. Конечно, это они навязали Ане свои раскольничьи идеи. Но как же Аня, такая умная и чуткая, могла им поддаться? Не надо сейчас продолжать спор. Пусть Аня успокоится, и тогда она сама признает свою неправоту. А все-таки…
Ему показалось, что потолок в комнате опустился, словно бы сдвинулись стены, и явственно стал пробиваться откуда-то запах угарного газа, сдавило веки.
— Утро вечера мудренее, — сказал он, поднимаясь и расстегивая вдруг сделавшийся тесным ворот рубашки. — Взойдет солнышко и уберет из всех уголков тоскливые тени. Заживем еще весело!
Анна повернулась к нему, в глазах у нее стояли слезы, губы вздрагивали.
— Сама не знаю, почему я так, сразу… — Она крепилась, чтобы не расплакаться. Сцепила кисти рук. — Понимаешь, Ося… Больно!.. Больно за тебя… И за все… Ну да ладно!.. Ладно, когда-нибудь потом… Ложись, милый… Отдыхай… Не сердись на меня… — Бросилась к нему, стала порывисто, жадно целовать. — Не сердись… Так трудно мне, так трудно!..
И в постели все гладила ему волосы, нежно обдувала их и шептала: «Не сердись, не сердись, Ося, милый!» Он не сердился. Анна быстро заснула. А он долго лежал с открытыми глазами, чувствуя у себя под головой ее горячую руку, и мысленно повторял ее слова: «Ну, где твои многие прежние товарищи? Они уходят, уходят…»
Что-то слишком часты бессонные ночи. Тяжело.
6
Все создавало, казалось бы, состояние полной душевной удовлетворенности. Сытный обед из пяти блюд, кроме закусок: легкая прозрачная ушица, жареная перепелка, бифштекс без крови, омлет со спаржей и мороженое с толченым миндалем. Набор лучших вин, соответствующих каждому блюду, а вначале под зернистую икорку и семгу, конечно, водочка. Отличная гаванская сигара — затяжка пряным дымом и глоток крепкого кофе. Музыка — по собственному заказу — «Реве та стогне Днипр широкий», «Расскажи, расскажи, бродяга» и какая-то опереточная чушь; сволочная скрипка даже слезы выжимает. Сияние электрических люстр и их искрометное отражение на гранях хрустальных фужеров с шампанским. Возбуждающий запах питий и яств, свойственных лишь такому шикарному ресторану, как у Кюба; и еще смешанный запах мускусных французских духов и женского русского тела. Ах, этот запах!..
Если бы все это было в Париже, и год назад! Как отдохнула бы душа! А теперь Гапон сидел и угрюмо, испытующе вглядывался в Рутенберга, соображая, что за окнами плещущего весельем ресторана лежит метельная петербургская ночь и, вернувшись домой, будешь до утра слушать только погребальный вой непогоды. И думать, думать. Черт, опять сорвалось!
Ему вспомнилось, как свободно распахивались перед ним любые двери и в Женеве и в Париже, как внимательно выслушивали его, героя дня, и Жорес, и Вальян, и даже властительный Клемансо. Главари всех революционных партий России, скрывающиеся за границей, охотно вели с ним деловые переговоры и стремились в своих партийных интересах использовать его — Гапоново! — имя.
Да, было, все было. Он тогда, скинув осточертевшую поповскую рясу и облачившись в легкую тройку, сшитую самим всевышним портновского мастерства, ходил и любовался на свои портреты, глядевшие отовсюду. Сердце екало: неужели это я? Один восторженный мальчишка, капитан гвардии, воскликнул: «После Гапона России нужен только Наполеон!» И покраснел, как вареный рак, срезанный: «А почем знать, может, именно я и буду этим Наполеоном. И не только для России!» Сорвалось…
А первый раз сорвалось в страшный день 9 Января. Обошли! Все обошли. И князь Святополк-Мирский, и градоначальник Фуллон, и командующий войсками великий князь Владимир. А больше любого из этих — Власть и Мешки с деньгами. Это они, все вместе, пресекли ему путь в приближенные к трону. Они дураки, а тут оказались умнее его, Гапона. Где же им было позволить, чтобы простой волосатый поп вошел в полное доверие государево и правил бы ими! Да и не только ими, а всем народом, слепо доверяющим защитнику и радетелю своему.
Тут, конечно, была и его большая ошибка: не извлек урока из судьбы Сергея Васильевича Зубатова. Эх, он, мол, не сумел, а я сумею! Сердце так подсказывало. С Зубатовым была только полиция, а с Гапоном — бог. Не верил в него, а понадеялся. Потому что «бог» — это когда неведомо какая сила в тебе самом образуется и ведет от одной удачи к другой. Это когда твоя незримая сила захватывает других и заставляет их преданно следовать твоей воле. Бог тоже обошел. Сила Гапонова сработала, чтобы поднять сто тысяч людей, а бог переметнулся на другую сторону и залпами войск прижал их снова к земле. И тем уже начисто оторвал его, Гапона, от жгучей мечты подняться по мраморным ступеням дворца, чтобы навсегда занять место первого советника государева. До залпов это было хоть и фантастично, но все же возможно, после залпов — начисто исключено. Потому что до залпов приверженный ему народ возликовал бы, узнав об этом, а после залпов, войди он во дворец, навеки проклял бы его.
И осталось: не с царем, так против царя! Вместе с народом, впереди него, пойти в революцию. Поручик Наполеоне Буонапарте, чтобы стать императором Наполеоном, тоже пошел в революцию.
Но и тут сорвалось. Хорошо, что царские власти, грозя арестом, объявили розыск его, Гапона, как главного виновника смут. Это его возвышало в глазах сотен тысяч рабочих, тех рабочих, которые, смерть презрев, пойдут за своим вождем. Это возвышало его и над всеми революционными партиями, потому что он смог, а они не смогли. Да вот и тут снова прошибся. Была бы одна партия, и быть бы ему, Гапону, во главе ее, кто там ни стоял бы до него. У кого такая великая слава? Кому за каждое печатное слово заграничные газеты готовы платить как за слово божье, если бы господь стал писать в газеты? Да ведь партиям числа не оказалось, хотя мелочь не в счет. Стань социал-демократом, как и объявил, — эсеры недовольны: ему помогали, а он им шиш под нос. Стань эсером — социал-демократы в умах и в сердцах человеческих такую силу забрали, что одним только ликом и голосом своим их не переборешь. Да и сами социал-демократы разные. Ленин — одно, Плеханов, Аксельрод и Мартов — другое. Каждый бьет своей ученостью. Разговаривать с ними о программе действий — все равно что семинаристу-двоечнику отвечать на вопросы ректора. Их себе не подчинишь. Только если подняться над всеми партиями. Ну и собрал в Женеве всех. Собрать-то удалось. А закончить дело? Этот хитрюга Рутенберг думал, что Гапон под эсеров играть станет, а Гапон играл под себя. Не вышло. Сорвалось. Ленинские большевики сорвали. Ему отведена роль простая: прибивайся к какой партии хочешь, а потом исполняй ее поручения, не верховодь, а подчиняйся сам. Фигу им!
А когда нету веры в бога, нету веры в царя, нету веры и в Гапона всесильного, коим больше уже не станешь, — на черта тогда писать прокламации разные ради кого-то другого. Портретики твои в витринах от солнца выгорят, газетки заграничные не то что как богу, как щелкоперу простому платить не станут, потому что долго в одну дудку не продудишь, надоест она, а в высоких и мудрых теориях революции тут же запутаешься. Сегодня Гапон — наставник, учитель, завтра окажется круглым дураком и невеждой. Сегодня Гапон во фраке и в рубашке с гофрированной грудью кушает устриц и ананасы на приеме у премьера Клемансо, завтра пойдет жрать дешевую луковую похлебку в эмигрантской столовой. Женева, Париж, кому-то радости, а тебе — шиш! И в России забудут. Разве только вспомнят: «А, это Гапон, что под расстрел водил народ». Вся тебе и цена. Без партии над народом не встанешь, а с партиями — кто-то встанет, да не ты. И ежели ты народу не нужен, зачем нужен народ тебе? Вались они все, полудохлики эти, к чертовой бабушке!
Дураков на свете еще хватит. Дураков обыгрывать нужно! Подвели российские власти и Гапона под амнистию — дураки! Но спасибо им: можно кинуть все эти Женевы и Парижи постылые, открыто ходить по улицам Питера. А душе помлеть от удовольствия: наведайся в любой из прежних «отделов», полудохлики-рабочие станут в пояс тебе кланяться, бабы — ручки целовать. Дураки!
Витте, дурак, разрешил было сызнова «отделы» открыть — как же, манифест! — да тут же и прихлопнул. Не совсем дурак. Понял, чем это лично ему при случае обернется. Сгрыз Зубатова, а на том же, только с другой стороны, и сам загореться может.
Это ладно, это даже лучше, ежели дурак Дурново будет дольше тянуть с разрешением на «отделы». Ему, Гапону, в достатке хватит времени, чтобы рабочему люду показать свое усердие. Все как надо. Петр Иванович Рачковский, вице-директор департамента полиции, дока, не такой дурак, как другие, не зря семнадцать лет на заграничной охранке сидел, по уму не уступит Зубатову; этот сразу позвал: «Георгий Аполлонович, было дело, хорошо мы с вами сотрудничали. Показалось вам: можно банк сорвать. Не сорвали. К тузу не пришла десятка. А жить можно припеваючи. Дело-то идет к тому, что твердая власть возвращается и спокойствие в государстве восстанавливается. Неужели вам хочется 9 Января повторить?» Здесь он дурак, потому что захотелось бы — и повторить можно, так повторить, что и народ опять ляжет и царь усидит, да Петр-то Иванович свалится. Но это между прочим. Главное, что столковаться с ним легко. И цену дал хорошую.
А Рутенберг — хитрюга. Этот думает, что Гапон на них, на эсеров, в охранке работать станет. А того не понимает, что нельзя Гапону сейчас на одну сторону работать. Только на обе. И побольше на ту, чем на эту, потому что там сила, там власть, а здесь только бомбы. До власти-то эсерам, как зубами до локотка, не дотянуться. Петр Иванович дела требует. Без Рутенберга — глава же эсеровских боевиков! — большого дела не сделаешь. А мелочи — кому они надобны? Рутенберг вьется. Опасно. Никак его не поймешь. И кажется… Черт, опять сорвалось?
Гапон угрюмо, испытующе вглядывался в Рутенберга.
— Ну, был я, снова был у Рачковского, — сказал он, потянувшись к чашке с холодным кофе, где оставалась только черная гуща. Отхлебнул и сморщился. — Понимаешь, тут есть смысл подумать. Пусть врет. Дескать, он стар, и некому заменить его. Мне предлагает: будут деньги, большие чины. Это же курам на смех! Гапон — вице-директор департамента полиции. Можно и деньги иметь и перед рабочими оставаться чистым. Надо смотреть шире, надо дело делать. Витте и Дурново — два сапога пара. Витте рабочим хочет показать, что он добрый, это, мол, Дурново один во всем виноват. А нам чего жалеть? Кто попадется. Надо смотреть широко.
— Ладно, — неопределенно отозвался Рутенберг. — Отдает провокаторством. А о ком они тебя спрашивали?
— Спрашивали о Чернове. Знают: главарь всей вашей партии. А больше ничего. О тебе спрашивали. Тоже знают: боевыми дружинами занимаешься, а изловить, говорят, на деле не можем. Без улик смысла нет арестовывать. Но я им про партию ничего не сказал. И про всех.
— Так я и поверил тебе, — возразил Рутенберг, вертя между пальцами погасшую сигару. — Если к ним пошел, как же ты не расскажешь? Ты ведь многое знаешь. Зачем тогда им нужен ты, если не рассказывать?
— Их тоже понимать надо, они, черти, с подходом. Говорят: «Вы бы нам вот этого, то есть тебя, соблазнили бы». Ей-богу, так сукины дети и сказали. Они Боевую организацию очень боятся. Сколько ихних вы подкосили. Думаешь, Дурново в штаны не кладет, когда по улице едет, а кто-то вдруг наперерез кинется. Хоть просто баба с корзиной репы. Я им говорю: «Большие деньги нужны, не меньше ста тысяч». Говорят: «Хорошо». Грязно все это, конечно, а по мне хоть пес, лишь бы яички нес. Для дела.
— Не вижу «дела» для партии, — с прежней строптивостью проговорил Рутенберг. — Деньги взять? Это и банк ограбить можно либо почту. Грабежом, знаешь сам, я не занимаюсь.
— Зачем «грабить»? Они нам на тарелочке поднесут. — Гапон огляделся кругом. Столик стоял так хорошо, что подслушать постороннему было невозможно. — Деньги — это себе. Рисковать да не заработать! А «дело» для партии: выдать им, Рачковскому, «заговор» против царя. Витте и Дурново. Разве на такое не клюнут? Тебя «соблазняю», с ними свожу. Разве на такое не клюнут? А они при этом тоже откроются, я ведь не дурак, чтобы за одни деньги купиться, я войти к ним должен в полное доверие.
— Кажется, ты вошел уже. — Легкая ирония прозвучала в голосе Рутенберга.
— Нет, пока еще не вошел как надобно. И не войду, если тебя не соблазню. Они понимают: Гапон не филер, от Гапона больше можно взять. Так мы им дадим, и от них тоже возьмем. Грязно?.. Грязь я приму на себя. От тебя только одно потребуется: встретиться с Рачковским. Ну и наговорить ему что угодно. Проверить им трудно: у них, знаешь, сейчас сильных своих людей нет. Понятно, мне тоже надо тогда войти в Боевую организацию, знать про все не так, как в Женеве. Лишнего-то я им ничего не скажу, но если проверять станут — могут ведь запустить своего провокатора? — так Гапон на самом деле состоит в Боевой организации и ко всем планам причастен.
Рутенберг задумался, прикрыв ладонью глаза. Гапон пробежал взглядом по пустым тарелкам, снял с вазы апельсин, принялся ногтями обдирать кожуру. Он прикидывал: если Рачковский подослал своего человека наблюдать за ними, картина со стороны ничего получается — Рутенберг слушает, разговаривает спокойно и вот теперь погрузился в глубокое раздумье. Может быть, и не сорвалось еще?
— А едят они как хорошо, если бы ты знал! — сказал он громко. — Что у нас было сегодня? Трактир вонючий! Как они меня угощали!
— Да, — очнувшись, проговорил Рутенберг, — пожалуй, я повстречаюсь с Рачковским. Только — двадцать пять тысяч. И не меньше.
— Двадцать пять не даст, — с сомнением сказал Гапон. — Оттолкнешь только. А надо дело делать. Десять — и то хорошо.
— Так ты же о ста тысячах говорил! — воскликнул Рутенберг. — Себе цену я тоже знаю.
— Сто — это когда делом докажешь, — разъяснил Г апон, — а за первую встречу десять дадут — хорошо. Ведь только встреча, ничего больше. — И засмеялся: — А обедом покормят сами. Получше этого.
— Ладно, — согласился Рутенберг, — но ты им скажи все же: двадцать пять. И еще: не арестуют они?
— Не дураки, понимают. Ты им нужен не за решеткой. Брат твой сидит в «Крестах». Хочешь, скажу, чтобы и его освободили?
— Пусть посидит. Молодой еще, — отказался Рутенберг. — Освободят — мне труднее будет. Подозрения у рабочих. Против тебя тоже есть подозрения. Ты это имей в виду.
— Против меня? У рабочих? — возмутился Гапон, и черные его глаза блеснули злым огоньком. — Какие могут быть против меня подозрения? Они меня за святого почитают! И я святой. Что эту грязь на себя беру, так для дела. Мы войдем туда, чтобы весь этот департамент со всеми секретными бумагами и всякими списками к черту взорвать! И убьем Дурново и Витте! Не может против меня быть подозрений! Я чист!
— Непонятно, куда девались пятьдесят тысяч франков, что ты от Сокова получал. И еще тридцать тысяч рублей от бакинского купца. Называют Петрова твоим соучастником. Непонятно, почему Черемухин застрелился? Ты расскажи, чтобы я знал и мог ответить на такие вопросы. Может, это провокация охранки?
Гапона передернуло. Сбросив со стола руки, он яростно сжал кулаки. Сволочи, не в бровь, а прямо в глаз метят. Только кто? В самом деле рабочие или Рутенберг, эсеры?
Да, да, было. Черт его знает, этого Сокова, кто он, а привез из Японии в Париж сто тысяч франков пожертвований для закупки эсерами большой партии оружия и динамита. Польщен, что удостоился знакомства с ним, с самим Гапоном. Как было удержаться, не выморщить у него половину. Не на что-нибудь — на помощь петербургским рабочим. А Петров, «Васька Шибанов стремянный», тоже сбежавший в Париж, Сокову подтвердил: что был он председателем Нарвского «отдела», и ранен был 9 января, и приехал сюда с полномочиями от рабочих. Но никаких полномочий никто ему не давал, повторял он просто его, Гапоновы, слова. Петрову, для рабочих, передал малую толику, а львиную долю спустил в парижских ресторанах и проиграл в рулетку в Монте-Карло.
Тридцать тысяч рублей получил не от какого-то «бакинского купца», а от охранки. Путаница с ними дьявольская получилась. Рабочие знали про эти деньги, как «от купца», а выбивал их из охранки, чтобы не замарать имя Гапоново, приятель, либерал Матюшинский. Да и прикарманил себе двадцать три тысячи, сам сбежал с любовницей. Пришлось в погоню за ним посылать верных рабочих Кузина и Черемухина. Настигли ребята, а Матюшинский уже успел промотать две тысячи. Отдал остальные Кузину, а Кузина тут же охранка арестовала и деньги отобрала. Вернул их Рачковский уже лично ему, Гапону. Тут они осели. Но Петров как-то дознался об этом и шарахнул, подлец, статью в «Биржевые ведомости». Видите ли, он разуверился в отце Георгии Гапоне! Хорошо, удалось этого Петрова на рабочем собрании с грязью смешать, разделать, как мерзавца самого последнего, виновного в крови, пролитой 9 Января. Удалось заранее подсунуть и револьвер Черемухину, чтобы тот всадил в изменника Петрова пулю прямо на собрании. А Черемухин, дурак, крикнул: «Нет правды на земле!» — и пустил вместо Петрова себе пулю в лоб.
— А какая провокация? — медленно проговорил Гапон и, не мигая, посмотрел в глаза Рутенбергу. — Вся тут штука только в Петрове. Стоял близко ко мне, человек завистливый, видел, как ко мне в Париже отовсюду деньги текли, жаждал сам поживиться. Не дал я ему, он и обозлился. Выдумал Сокова, японцев и охранку. Ты же знаешь сам, на том собрании, когда Черемухин застрелился, не Петрову, а мне поверили. Вот и весь сказ.
— Так с чего бы Черемухину стреляться?
— Ну, Мартын, в душу человеческую не заглянешь! — Гапон развел руками. — Крикнул он: «Нет правды на земле!» Стало быть, подлость Петрова его потрясла. Ведь Петров был председателем «отдела».
— А нельзя понять так, что его твоя подлость потрясла? Ты был покрупнее председателя «отдела»! Но на тебя рука у Черемухина не поднялась. Простой рабочий, честный человек, мог ведь рассудить: «Пусть глаза мои мерзость эту не видят». Не боишься, если и все рабочие в тебе разочаруются?
Гапон усмехнулся, взял шоколадную конфету, развернул и целиком засунул за щеку. Сделал знак музыкантам: «Давай по моему заказу». Пианист коснулся пальцами клавиш, и скрипка страдальчески запела. Табачный дым легким сизым туманом заволакивал ресторанный зал. Мерцали огоньки в хрустальных подвесках люстр, в бриллиантах разнаряженных женщин. Одна из них, с роскошно взбитой прической и глубоким декольте, издали томно смотрела на него.
— Рабочие, Мартын, не разочаруются, — покачал головой Гапон. — Все, что делаю, делаю для них. А я вот начинаю разочаровываться. После, скажем, подлеца Петрова. — И вдруг, ткнув пальцем в сторону красавицы, спросил: — Скажи, Мартын, мог бы я на такой жениться?
— Ты ведь женат! — воскликнул Рутенберг. — Недавно женился.
— Это когда из дому пойти неохота. Прежняя моя экономка. Баба! — Он окинул ленивыми глазами стол. — И первая жена была тоже баба. А я теперь вкус к женщинам имею. У них тело совсем по-другому пахнет. И кожа не такая шершавая, как у баб. — Простонал протяжно: — Сволочь, скрипач этот, как он душу умеет вытягивать! Либо морду ему разобью, либо дам золотой — не знаю…
— Я, пожалуй, пойду, — сказал Рутенберг, — пока ты морды бить не начал. В Париже тебе вольно было скандалы устраивать. А с русской полицией тебе, может, и ничего, мне же не хочется связываться.
— Постой! — Гапон схватил его за руку. — Мы не договорили.
— А чего договаривать? Сказал уже: приду пообедать с Рачковским. Только деньги вперед, двадцать пять тысяч.
— Ты же согласился на десять!
— Тебе казенных денег жалко?
— Ладно, буду уговаривать. Только за такую сумму и заплатить сразу надо.
— То есть?
— Ну, подсказать, где бомбы делают, подбросить планы какие-нибудь, шифрованные письма. Не за обед же с тобой будут они платить такие денежки!
— А люди? Наши люди.
— Людей предупредить можно. Сделать так, чтобы из-под самого носа у полиции ускользнули. Все будет чисто. А на фальшивках тут не проедешь.
— И получится: я Рачковскому все расскажу, передам документы, а он меня тут же арестует вместе с деньгами, как твоего Кузина, — с сомнением сказал Рутенберг. — Адрес моей квартиры ты, конечно, им дал.
— Что ты! — воскликнул Гапон. — Стреляй потом в меня, если Рачковский тебя арестует!
Поднял руку, хотел перекреститься, но сообразил, что делать это в ресторане негоже. Прижал руку к сердцу. Рутенберг встал, поклонился и пошел, сторонясь проворно бегающих кельнеров. Минутой позже из-за дальнего столика, покинув компанию, поднялся хорошо одетый мужчина и тоже последовал к выходу.
Гапон жевал апельсиновую дольку и то хмурился, то светлел лицом. Нет, кажется, не сорвалось…
7
На следующий день он побывал у Рачковского. В подробностях пересказывать свой разговор с Рутенбергом не стал. Объявил только, что дело сделано, Рутенберг подается, но стоить будет дорого, двести тысяч, не меньше. Рачковский прищурился, спросил: «А что я буду иметь за эти двести тысяч?» И Гапон с жаром заявил, что тот получит списки всей Боевой организации эсеров, которая как раз сейчас готовит бомбы и на Витте и на Дурново. Вскользь намекнул, что боевикам ничего не стоит по пути убрать и Рачковского. А если Рачковский под корень подрубит эсеров, он тогда сможет тщательнее заняться и эсдеками. Потому что в чем в чем, а в отношении вооруженного восстания эсдеки, особенно большевики, настроены куда решительнее, чем эсеры. Ему, Гапону, достоверно известно, какие проекты резолюций готовит Ленин к предстоящему съезду эсдеков. Рачковский только снисходительно усмехнулся: «Будто бы мне, Георгий Аполлонович, эти проекты не известны!» И еще раз усмехнулся, когда Гапон шепнул «на всякий случай» адрес Рутенберга. А на свидание с ним Рачковский согласился. И просил передать, что будет ждать Рутенберга ровно через неделю в ресторане Контана, в отдельном кабинете на двоих. Пусть только тот назовет фамилию Иванова.
Эта неделя Гапону очень пригодилась. Он созвал в Териоках тайное собрание рабочих из своих прежних «отделов», нарисовал светлую картину их возрождения и дальнейшей деятельности, даже с еще большим размахом, и рабочие подтвердили все его прежние полномочия.
— Девятое января, дорогие товарищи, не повторится, — сказал он в конце собрания, — больше кровь рабочая никогда не прольется. Довольно! Не дадим. Мы получили жестокий урок. Зато теперь учителями стали сами.
Рабочие окружили его плотной толпой, хотели качать. Он упросил не делать этого. Зачем? Он такой же, как все.
Через неделю Гапона посетил раздраженный Рутенберг. Швырнул в угол на кресло пальто и шапку, шарф не снял. Прошелся несколько раз по комнате, концы шарфа мотались, на полу оставались мокрые следы — день был оттепельный. Гапон позвал жену, велел ей приготовить чай.
— Не надо, — остановил Рутенберг. И, дождавшись ухода Елены, сказал сердито: — Кто кого за нос водит: ты меня или тебя Рачковский?
— А что? — невинно спросил Гапон.
— А то, — язвительно сказал Рутенберг. — Приезжаю, как назначено, в девять часов к Контану. Народу полно. В раздевальной спрашиваю лакея: «Где заказан кабинет Иванову?» Тот, как и полагается в таком шикарном заведении, помчался сломя голову спрашивать. Вернулся: «Сейчас узнают». Входит обер-кельнер: «А большая должна быть компания?» Говорю: «Два человека». Обер-кельнер уходит: «Сейчас спрошу». А я жду. Появляется ферт какой-то, просит лакея одеться. А сам топчется, так и этак меня оглядывает и, глазом кося, через зеркало прическу свою поправляет. Ушел. Второй выходит. У этого прямо на лбу клеймо: сыщик. Тоже минут пять одевался. Ну, я со злости прикрикнул на лакея: «Долго мне еще ждать?» Тот сверкнул пятками, а обратно уже шагает вразвалочку: «Никакого кабинета на Иванова не заказано». Вот так! Сам Рачковский не приходит, а мне смотрины устраивает! Он мне нужен, спрашиваю тебя, или я ему нужен?
— Не пыли, Мартын, — миролюбиво сказал Гапон. — Их ведь тоже понимать надо.
— А ради чего рисковать головой буду? Заподозрят меня товарищи в сношениях с охранкой — разговор короткий. Сам знаешь. Если и дальше так — никаких мне ста тысяч не надо!
— Зря ты, зря. — Гапон уже заволновался. — Извинится Рачковский, когда повстречаетесь. А как же дело упустить такое! Сто тысяч — это само по себе. Надо смотреть шире. Мы до Витте и Дурново доберемся. Скосим обоих. Вот и никаких подозрений.
— Да ведь ты говорил раньше, что заговор против Витте и Дурново надо просто придумать, чтобы Рачковский на это клюнул, — сказал Рутенберг, словно бы пытаясь поймать Гапона на противоречиях. — А теперь толкуешь: «скосим». Если убивать их, зачем нам с охранкой связываться? Честь свою марать! Выследим, как Сипягина, Плеве или князя Сергея, — бомба — и все!
— А потом, как Каляев, на виселицу? — Глаза Гапона забегали, ему стало тревожно: не хочет ли Рутенберг отказаться от своего обещания вступить в дело. Тогда с чем же вновь он, Гапон, придет к Рачковскому! Никакого доверия не будет. — Вы ведь своих не жалеете. С бомбой посылаете на министра, все равно что прямо на казнь. А нам надо продать заговор против Витте и Дурново, не совсем пустой, конечно. Подготовить как полагается, чтобы поверил Рачковский, чтобы и арестовал кого следует. А мы им побег устроим, это плевое дело — устроить побег. Еще лучше из-под самого носу, перед арестом людей увести. Все тогда и свалить на полицию: вот она как лапотно работает. Ну, Витте можно пока и не трогать. И Дурново уберем, когда в его адову кухню проникнем. С этим торопиться не надо. Сейчас момент пропустить нельзя. От Рачковского, верно, говорю, не сто тысяч — больше можно вытащить. — Нервная дрожь передернула его. — Не то давай даже так, получишь все деньги, все сто, и скроешься, а Рачковского я сам убью. Ты и от своих и от полиции в стороне. А мне надо укреплять у рабочих доверие.
— Так ведь тебя же обязательно отправят на виселицу! Не понимаю я. Будь последователен.
— А побег? Неужели, если схватят меня, через своих ты побег не устроишь? Я же для дела на такой риск пойду. Видишь, я на любое согласен, — торопливо убеждал Гапон. Что-то все холоднее становилось лицо Рутенберга. — Думаешь, не сумею? Из рабочих, кто понадежнее, подговорю. — И понял, что сделал промах. — Словом, об этом не думай. Рачковского я беру на себя.
Рутенберг опять зашагал по комнате, теперь как-то грузно ступая по мягким половикам. Останавливался, тер лоб рукой и снова молча шагал. Гапон не отрывал от него взгляда, ему вдруг представилось, что Рутенберг может не только отказаться, но еще и разоблачить его перед рабочими, перед всем миром. Одно дело — статья Петрова в «Биржевке», которого было легко обвинить в завистничестве, это даже прибавило шумной славы всей истории, другое дело — если выступит в подпольной печати Рутенберг, фигура у эсеров очень видная, тогда считай себя приговоренным. Черт, не зря ли на него поставил! Хотел сразу крупно сыграть, по мелочи и Рачковский в игру не вступил бы. Отказаться Рутенберг, сволочь, может, а выдать — неужели? Все-таки долгое время были друзьями.
— Слушай, Георгий, — сказал Рутенберг, круто поворачивая к нему, — я на это дело пойду. Болтаешь насчет убийства тобою Рачковского — вздор! Витте и Дурново — не мне и не тебе решать, — это решать будет партия. А вот получить деньги от них — дело стоящее. Только Рачковский больше пусть не финтит. Хочет от меня получить «заговор», так пусть со мной и разговаривает. Но теперь я и за двадцать пять не пойду.
У Гапона едва не сорвалось с губ радостное: «Господи!» — так он был ошеломлен этими словами. Вот как! Значит, все дело в жадности и трусоватости Рутенберга. А это хорошие союзники. Полиции он меньше боится, чем своих. И правильно. Виселица ему будет грозить в том случае, если он бросит бомбу, допустим, в карету Дурново, а от своих жди ножа в спину уже за один неосторожный визит к Рачковскому. Он потер большим пальцем правой руки шрам, оставленный у него на левой руке пулей в день Кровавого воскресенья. Это он сделал так, чтобы обратить внимание Рутенберга.
— Больше как двадцать пять Рачковский не даст, — вздохнул Гапон. — Даже десять уже хорошие деньги. Важно начать, а потом мы с него много денег вытянем. Ты мне поверь. Что сказать Рачковскому, когда придешь теперь на встречу? В каком ресторане Рачковский должен заказывать кабинет?
— В рестораны я больше не пойду. С тобой был, филер потом увязался, к Контану пошел — там тоже сразу два агента обнюхали. Место я сам за городом подыщу.
— Да ты что! — всплеснул руками Гапон. — За город Рачковский убей не поедет.
— Дело его, — сухо сказал Рутенберг. — Не у тебя же, и не у меня на квартире, и не на наших партийных явках встречаться! А деньги пусть накануне с тобой передаст.
Он ушел, а Гапон долго еще оставался неподвижным, обмякшим. Здорово нервы потрепал Рутенберг! Зато до конца открылся. Ставку на этом деле теперь крупную сорвать можно. Только Рачковский не пошел бы на попятную, если сказать ему, что Рутенберг ломается, запрашивает цену все большую.
И вдруг Гапон почувствовал, что ему смертельно хочется выпить, садануть залпом стакана два водки. Именно русской водки, а не какой-нибудь там французской дребедени. Он позвал жену. Та появилась встревоженная, так грозно он крикнул: «Елена!» И застала его на коленях, истово отбивающим поклоны перед иконой Георгия-победоносца. Она остановилась в замешательстве, давно не видела мужа в молитве. Услышав ее шаги и невольное восклицание, Гапон вскочил.
— Водки, Елена, водки! — проговорил, подбегая. И принялся трясти ее за плечи. — Целый графин! Чистой! Без всяких трав и корешков…
— Да бог с вами, Георгий Аполлонович, что это вы так? — Она никак не могла привыкнуть к своему новому положению не экономки, а жены и в такие минуты не очень понятной ей возбужденности мужа терялась. — Вечер ведь поздний, ужин я приготовила, стынет, дети сидят, ждут, голодные. Пойдемте, Георгий Аполлонович!
— Сказано: водки! Сюда! Ужин свой ешьте сами! Слышишь? — и замахнулся кулаком.
Вся в слезах, Елена торопливо принесла большой графин, высокую рюмку. Молча поставила на стол и выбежала. Гапон схватил рюмку, яростно хлестнул ее об пол — зазвенели осколки — и крупными глотками принялся пить прямо из горлышка, обливая себе подбородок и грудь. Повалился на диван и тут же заснул, как оглушенный.
Ночью ему стало худо. Он добрался до кухни и там под краном с холодной водой держал голову так долго, пока не бросило в дрожь. Постукивая зубами, Гапон вытер лицо. Глянул в зеркало, пробормотал строчку из заученных еще в семинарии стихов: «Эфиопы, как смоль, черные, и как углие глаза…» Дрожь не покидала его. Гнетущая стояла в доме тишина. Ему сделалось страшно. Тишины, одиночества, своих собственных, отраженных в зеркале, жутко горящих глаз. Пошатываясь, он прошел в спальню, влез под одеяло к Елене. Она спросонья испугалась, но потом узнала, стала гладить, отдавая все тепло свое. Гапон принимал любовный шепоток жены, но в посвежевшей голове теснились другие мысли: ему вспомнился вечер в ресторане Кюба, и казалось, что ласкает его не Елена, а та женщина, осыпанная дорогими украшениями, что посылала ему издали томные взгляды.
Завтракал Гапон в отдельном кабинете этого же ресторана. Проходя через пустынный утром общий зал, он невольно посмотрел на столик, за которым тогда сидела красавица, примерещившаяся ему в постели жены. «Сегодня дело сделаю, — подумал он, — и надо будет через обер-кельнера узнать, кто она такая. Авось…» Рачковский и с ним один из его агентов-телохранителей дожидались за накрытым столом. Гапон извинился, сказал, что нездоровится, провел очень тяжелую ночь, и Рачковский сочувственно пожал ему руку. Агент тут же исчез.
— Итак, какие новости у вас, Георгий Аполлонович? — спросил Рачковский, снимая салфетки с заранее поставленных блюд, сразу вызвавших у Гапона сладкое чувство легкого голода. — Прошу вас! Чем бог послал.
— Новости, Петр Иванович, превосходные.
И, вникая во вкус и аромат различных настоек и закусок, медленно жуя, Гапон со всей обстоятельностью передал содержание беседы с Рутенбергом, переиначивая ее, где это было нужно, на свой лад. Он сказал, что даже не представлял себе, сколь широк размах заговора Боевой организации эсеров и сколь трагичны для государства могут быть его последствия. Невиданное счастье в том, что удалось соблазнить Рутенберга…
— Но, — развивал свою мысль Гапон, — он не так прост, чтобы все выложить мне. Он настаивает на личной встрече с вами, хотя и обижен до крайности неловкой выходкой ваших людей в ресторане Контана, и требует деньги вперед, через меня.
Рачковский задумчиво тискал вилкой ломтик лимона, выдавливая из него сок и затем обмакивая в этот сок тонкий пластик семги. Подержал на весу, любуясь, как нежно-розовый цвет семги от лимона становится еще нежнее и светлее.
— На месте Рутенберга я, пожалуй, поступил бы точно так же. И это делает ему честь, — заметил он. Опрокинул в рот наперсточную рюмку калганной настойки и закусил семгой. — Впрочем, это делает честь и вам, Георгий Аполлонович. Без вас нам в этот стан врагов нелегко было бы проникнуть. На все условия Рутенберга я в принципе согласен. Пять тысяч больше или меньше — особого значения не имеет. Однако дайте точный ответ: что принесет с собою наш приятель при встрече? Вы этого сейчас не можете сказать? Тогда повидайтесь с ним еще раз. Я не расположен играть втемную.
И Гапон про себя чертыхнулся. Своей сверхосторожностью Рутенберг все жилы из него вытянет! Значит, опять предстоит мучительный разговор, затяжная торговля. Хотя в общем дело сделано. А Рачковский продолжал:
— Теперь позвольте, Георгий Аполлонович, вновь вернуться к моему лично вам предложению. Право, много думать над этим нечего. Что вам сулит будущее? Ничего! Если вы не займете должного и подобающего вашему таланту положения у нас. А возможности неограниченны. В ожидании вашего согласия держу должность чиновника особых поручений. Она необходима в качестве первой ступени. И тогда, через малое время, я подаю в отставку, указывая на вас как на наиболее достойного преемника. А там вы при ваших способностях — уже и директор департамента полиции! Ну, посудите сами, после Зволянского, за неполных четыре года, Плеве, Лопухин, Гарин, Коваленский, ныне Вуич… Боже мой! Не на ком добрую память остановить, мелькают, как тени бесплотные. Плеве ушел в министры, Лопухин перед государем сподличал, остальные — тополевый пух. Отчего и вам со временем не стать министром? Посмотрите, как возвысился Трепов! Не подставь Плеве ножку Зубатову, ого-го куда бы шагнул Сергей Васильевич! Впрочем, Плеве сделал то же и в отношении меня. Но теперь я уже стар, чтобы строить себе дальнейшую карьеру. А вы… — Рукой он прочертил в воздухе кривую вверх.
— Дорогой Петр Иванович, я чрезвычайно растроган и вашей откровенностью и вашим теплейшим участием в моей судьбе, — сказал Гапон, торопливо вынимая платок и прикладывая его к сухим глазам, — и я знаю, что путь, который вы предлагаете, наилучший. Однако прежде всего должны быть вновь разрешены на законном основании ранее созданные мною «отделы». Позвольте и мне ответить вам полной откровенностью. Революционные партии, и главным образом эсдеки, — а это сила, вы не можете отрицать, — уже сейчас всячески пытаются чернить меня в глазах рабочих. Что будет, если я стану чиновником департамента полиции? Не вам мне объяснять! Но если восстановятся «отделы» и я вновь стану во главе их, такое сочетание…
— Вы хотите целиком повторить Зубатова, — мягко перебил его Рачковский. — Вряд ли это убедительный пример.
— Но вы не точны, Петр Иванович! — воскликнул Гапон. — Сергей Васильевич создавал свои организации, служа в полиции, а я их должен воссоздать ранее поступления в департамент.
— Признаться, существенной разницы не вижу, — заметил Рачковский. И словно бы прозрел: — Те-те-те, вы дальновидны! Хороший ход! Мнением рабочих вам действительно сейчас нельзя пренебрегать. Идет! По этой вашей заботе, минуя Вуича, я буду опять беспокоить непосредственно Дурново…
— Успеть бы предотвратить заговор против него, — сказал Гапон.
Рачковский тут же подхватил:
— Да, да, вы не теряйте времени. А я готов повстречаться с Рутенбергом, — он заглянул в памятную книжку, — хоть в пятницу. И даже за городом. Я согласен.
Они еще недолго поговорили, уже о разных пустяках, закончили завтрак и расстались.
Дома Гапона ожидал рассыльный с запиской Рутенберга в запечатанном конверте. Гапон спросил пароль, чтобы убедиться: посыльный свой. В записке значилось: «Приезжай в Озерки во вторник с поездом, отходящим из Петербурга в 4 часа пополудни. Буду ждать близ мостика на главной улице. Вези с собой 30 тысяч. В крайнем случае как аванс 15 тысяч. Или — все к черту! Мартын». А ниже добавлено: «Записку верни». Не стесняясь посыльного, Гапон выругался площадной бранью. Присел к столу, сжимая гневно кулаки. Трус? Или жадюга? Посыльный стоял, терпеливо ожидая ответа. Что делать? Бежать за советом к Рачковскому? Тогда и тот может послать к черту. А вторник — завтра. И ничего иного не остается, как ехать в эти проклятые Озерки и вдолбить наконец Рутенбергу в мозги, что он дурак или подлец.
— Приеду, — сказал посыльному глухо. Но прежде чем вернуть записку, снял с нее копию.
Вечер он провел в одиночестве у Кюба. Заинтересовавшая его дама не появилась, обер-кельнер ничего определенного о ней не смог рассказать, кроме того, что она приезжает довольно часто и всякий раз с новыми спутниками. Значит, оставалась надежда…
Из кабинета хозяина ресторана, попросив проводившего его туда метрдотеля удалиться, он позвонил на квартиру Рачковскому. Сказал, что едет в Озерки и хорошо бы за спиной иметь парочку толковых агентов, но только, боже упаси, своим усердием чтобы они не помешали делу. Рачковский пообещал выполнить просьбу. Сказать же ему что-либо относительно ультиматума Рутенберга у Гапона язык не повернулся. В конце разговора Рачковский спросил: «А вы слышали: вчера в Твери убили генерала Слепцова? Действуйте энергичнее. Боюсь за Дурново». Черт! Может быть, удалось бы под эту тревогу выколотить у него немедленно хотя бы десять тысяч? Да очень уж неловко, будет шито белыми нитками.
Сходя с поезда в Озерках, Гапон вдруг спохватился: надел шубу ту, что потеплее, а револьвер переложить в нее забыл. Хотя, конечно, он и не понадобится, а все-таки с оружием в кармане как-то веселее. И тут же успокоился. Солнце еще не закатилось, приветливо поблескивали в его лучах оконные стекла. Кое-где с крыш еще свисали последние тонкие сосульки. Шумела детвора у подтаявшей снежной горки. По льду речки скользили два лыжника, словно спеша насладиться последними благами уходящей зимы. Еще день-другой — и полностью обнажится земля. По главной улице тянулись вереницы гуляющих. А за спиной поодаль шли два «студента», оживленно беседуя между собой. Гапон всей грудью втянул влажный воздух — воздух весны.
«А хорошо в Озерках, — подумал он, — надо будет на лето где-нибудь здесь снять себе дачу».
Широко улыбаясь, ему навстречу шел Рутенберг. В легком летнем пальто и фетровой шляпе. Они обменялись приветствиями, полюбовались на резвящуюся у снежной горки детвору и побрели вдоль улицы. Говорили о погоде, Рутенберг спрашивал, спокойно ли было ехать в вагоне, не хочется ли перекусить. Гапон ответил:
— Я бы выпить не прочь. Да и присесть где-нибудь. Свалял дурака, напялил шубу тяжелую. В пот кидает.
— А меня, наоборот, холодок пробирает, — поежился Рутенберг. — Выезжал из дому, казалось, тепло.
— В трактир зайти, что ли, куда-нибудь, — сказал Гапон, сбивая на затылок меховую шапку. — Есть тут подходящее место?
Рутенберг сделал кислую мину.
— В трактире людно, не поговоришь. Да зачем бы я тогда позвал тебя именно в Озерки? У меня здесь конспиративная квартира. А ты с «хвостом» приехал. Пожалуй, лучше просто по улице погуляем. Квартира мне еще пригодится.
Гапон в шубе изнемогал. Он представил себе, что это будет за разговор на улице, когда отовсюду смотрят люди. Черт, надо же было выпросить у Рачковского агентов! И, выходит, круглых болванов, если Рутенберг сразу заметил. Вся надежда, что хватит у них все же догадки не плестись по пятам до самой дачи, если пойти туда.
— Нет никого, Мартын, — принялся он убеждать Рутенберга. — У меня на это глаз тоже опытный. А потом, для чего за мной «хвосту» таскаться?
— Знал же Рачковский, что ты ко мне едешь!
— Не знал! Не знает! Я ему не сказал. — И стал оглядывать улицу, повертываясь кругом. — Вот видишь, ничего подозрительного. — Два «студента», болтая, прошли мимо, скрылись в переулке. — А у тебя на даче нет посторонних?
— Никого. На замке. Вот ключи, в кармане. — Рутенберг показал ключи. — Ладно, пошли!
Дача стояла в глубине длинного двора, заполненного молодыми сосенками. Здесь особенно приятен был смолистый запах наступающей весны. Рутенберг с трудом повернул ключ в дверном замке.
— Приржавел. Редко пользуюсь. Летом будем почаще сюда приезжать. Милости прошу! По лестнице наверх. — И замкнул дверь изнутри.
Их сразу охватила та особая, ласковая теплынь, которая свойственна лишь хорошо протопленному деревенскому дому. Гапон в своей тяжелой шубе медленно поднимался по ступеням, нахваливал:
— Губа у тебя не дура, Мартын! Дачка хорошая. Кто хозяин? Чего же сам здесь не живет?
— Да вот так, понастроили, а сами от питерской вони и суеты оторваться не могут. «И шум, и блеск, и говор балов…» Статской советницы Звержицкой дача. У местной полиции вне подозрений: кому попало мадам не станет сдавать внаем.
Комната наверху и совсем очаровала Гапона. Прекрасный вид: в широком окне стеной стоящие молодые сосенки и под ними полыхающее зарево предзакатного солнца. А на полу — ковер. Хотя и потертый. Мягкая мебель. Удобный, широкий диван. И возле него на низеньком столике целая батарея бутылок с пивом.
— Не худо, не худо, Мартын! — повторил Гапон, швыряя шубу, шапку на диван и облегченно вздыхая. Отыскал на столе штопор, откупорил одну из бутылок и стакан за стаканом, жадно глотая, опорожнил ее до дна. — Пиво отличное, но похолоднее бы.
— Не сообразил, — сказал Рутенберг, прохаживаясь по комнате, — надо бы оставить внизу, в кладовке. Да бегать потом за ним по лестнице… Деньги принес? Когда приедет Рачковский?
— А по-моему, ты просто юлишь, Мартын, духу на дело у тебя не хватает, кишка, что ли, тонка? — благодушно сказал Гапон, откидываясь на спинку дивана. Ему стало удивительно хорошо от выпитого пива. И шуба не давила на плечи. И Рутенберг сегодня словно вареная курица, хватит с ним торговаться, надо кончать. — Ну, приедет Рачковский. Хочешь — даже сюда приедет! В пятницу. И деньги привезет. Говорю тебе: он порядочный человек. Не доверяешь ему — тогда и мне не доверяй! — Заметил дверь в соседнюю комнату, запертую большим висячим замком. — А это что у тебя? Что там, за дверью?
— Вот видишь, Георгий, — засмеялся Рутенберг, — не я тебе, а ты мне не доверяешь! А за дверью разное хозяйское барахло, которое в этой комнате мне ни к чему. Так мадам Звержицкая туда убрала и собственноручно крепостной замок повесила, ключ от коего, вероятно, как амулет, носит на шее.
Гапона все еще мучила жажда, а пиво оказалось на диво вкусное, крепкое, с покалывающей язык горчинкой. Он открыл вторую бутылку и тоже выпил досуха. Алкоголь бросился ему в голову, стало необыкновенно легко начистоту объясниться с Рутенбергом.
— Я тебе прямо скажу, Мартын, ты дурак и трус, — заговорил Гапон, возбужденно размахивая руками. — Дурак ты потому, что тебе большие деньги сами в руки плывут, а ты канитель разводишь. Трус потому, что Рачковскому не веришь, а они сейчас, после убийства Слепцова, дрожат ведь, и приди ты к ним, тебя как пригрели бы! Хочешь, я пугну их еще и Дубасовым, скажу, что на Дубасова за московские расстрелы тоже готов приговор? А? В дополнение к Витте и Дурново. Будет хорошо! Только ты не тяни сам, ради господа!
— Тебе хорошо говорить, ты давно с ними снюхался, — сказал Рутенберг, расхаживая по комнате, — тебя они защитят. И у рабочих ты в полном доверии. Ты выдавать товарищей привычный. А я все думаю: если назвать Рачковскому заговор, указать людей — их повесят, мне же, как провокатору, свои пулю в лоб пустят.
— Сто раз тебе повторял: все будет шито-крыто. Своих боишься, ну давай сделаем так, что и тебя вместе с другими арестуют.
— А потом вместе с другими станут судить и повесят? Спасибо. Тебе все равно и такое!
— Повесят?.. — забормотал Гапон. — Такого не может быть! А черт его знает!.. Хорошо, не годится. Вот ты и пойди скорее к Рачковскому, вместе с ним и придумайте.
— Где деньги? Сколько он с тобой послал? — Рутенберг остановился. — Вижу: опять ничего! Тебе хорошо, ты богач. Ты и в Париже деньги лопатой греб, и от Сокова пятьдесят тысяч получил, и виттевские деньги — тридцать тысяч, те, что от «бакинского купца», прикарманил. Сколько тебе за меня Рачковский заплатит?
— Не знаю. Сколько даст. А может, и ничего не возьму, может, я туда сам на хорошую должность уйду, значит, брать мне сейчас нельзя, — проговорил Гапон, откупоривая третью бутылку пива. — Ты пойми, какие дела мы тогда с тобой делать станем! Мне бы только «отделы» снова открыть, тогда меня ни с какой стороны не возьмешь.
— Чуть что — Девятое января снова устроишь? — с насмешкой спросил Рутенберг.
— И устрою! — подтвердил Гапон. — Не такое — побольше еще! Тогда я другие цели имел. И шиш заработал на этом.
— Положим, не шиш, — возразил Рутенберг. — Девятое января ты выгодно продал.
— Почему «продал»? — возмутился Гапон. — Тогда я ничего с них не брал; говорят тебе: другие цели имел.
— Продал тем, что и раньше служил ты охранке и теперь снова ей служишь. Какая разница, за ту кровь рабочую ты тогда взял деньги или теперь?
— Ее, крови рабочей, на всех хватит. В Кронштадте, в Москве, на «Потемкине» не я восстания поднимал.
— Так там восстания были с оружием, только сил не хватило, чтобы победу одержать, а ты людей, как баранов, на бойню привел. — Рутенберг повысил голос. — Тебе кровь рабочая — плюнуть раз! Черемухин застрелился — не на тебе эта кровь?
— И дурак! — Гапон тоже стал кричать. — Ему Петрова застрелить было надо, с тем и револьвер я ему давал, Черемухин мне поклялся — убьет, а сам, дурак, себе влепил пулю.
— Понятно, ты боялся, что Петров не только то, что в «Биржевке» — насчет тридцати тысяч, а и про всю твою парижскую жизнь распишет.
— Ну и что! Ну и что! — кричал Гапон. — Таскался я по кабакам? Так и Петрову их показывал. В рулетку играл? Мои деньги, мое дело — и выигрывал и проигрывал. Что я, мало для рабочих сделал? Вон они все как любят меня! Я знаю, на кого и когда надо ставить!
— А если бы рабочие узнали, рабочие из «отделов», про связи с Рачковским? — Рутенберг ожесточился и словно бы нарочно подливал масла в огонь.
— Ничего они не узнают, а если бы и узнали, скажу, что все делаю только для их пользы!
— А если бы узнали, что ты все про меня рассказал Рачковскому, другими словами, выдал меня, что ты взялся соблазнить меня в провокаторы, чтобы выдать уже через меня всю Боевую организацию? Это как?
— Никто этого не знает и узнать не может.
— А если бы я опубликовал это? Бурцеву в Париж написал бы, он, знаешь сам, как за провокаторами охотится.
Гапон опешил, застыл с бутылкой пива в руках.
— Ты этого не сделаешь, — сбавив тон, проговорил наконец и поставил бутылку. — Ты все шутишь и, не знаю зачем, бьешь меня по нервам. Но ты подумай, Мартын, если бы ты это и сделал, я бы в ответ напечатал во всех газетах, что ты сумасшедший, что ты, как Петров, просто подлый завистник. И мне бы поверили. Потому что я — Гапон! Ведь никаких доказательств и никаких свидетелей у тебя нет.
Рутенберг молча прошелся по комнате. Гапон смотрел на него победителем.
— А ты знаешь, Мартын, на днях Тихомиров представлялся самому царю. Не кто-нибудь — бывший глава народовольцев! — сказал он с насмешкой и потянулся к бутылке.
— Слыхал, — ответил Рутенберг. — Рассказывают, серебряную чернильницу получил он от царя с благодарственной надписью: «За верную службу». Тебе, наверно, тоже скоро такую чернильницу пожалуют!
— Что ж, можно будет про черный день в ломбард ее заложить, — рассмеялся Гапон. — Давай все-таки к делу вернемся.
— Давай вернемся к делу, — сказал Рутенберг.
— Только сперва, где у тебя тут клозет? Гонит пиво…
Рутенберг подошел к двери в смежную комнату, потянул большой висячий замок. Он свободно оказался у него в руке вместе с пробоем. Дверь стремительно распахнулась изнутри, и Гапон в ужасе попятился, ощупывая карманы — где револьвер? — и вспоминая, что он на беду забыл его дома.
— Вот мои доказательства и мои свидетели, — сказал Рутенберг. — Они тебе и клозет покажут и пожалуют серебряную чернильницу…
Повернулся и пошел вниз по лестнице.
— Мартын! — глухо вскрикнул Гапон.
Но его уже окружили рабочие, хватали за плечи, за полы пиджака: «А-а-а, га-дина!..» И хлестали руками, словно плетьми, наотмашь, по чем попало. Гапон узнавал некоторых из них в лицо, это были рабочие из его «отделов». Подлый, подлый Рутенберг! Ах, как раздел он его… Гапон бросился на колени, умоляюще прижал ладони к сердцу.
— Товарищи! Клянусь! Все это неправда! Я ведь ради вас… Послушайте… ради идеи… Вспомните…
И захлебнулся в судорожном рыданий, стуча головой об пол. Он заметил у одного из рабочих веревку с петлей на конце.
8
Звонарь кладбищенской церкви «переводил» колокола: один удар в малый колокол, другой — вслед за ним сразу же — в самый маленький. Потом минута тишины, и снова два удара. Погребальные два удара. При выносе тела в последний путь. Они, эти тонкие, быстро замирающие удары, были похожи на стон. Они падали на землю сверху, как слезы. И заставляли плакать. Выходя на паперть, женщины прикладывали к глазам платки. Однотонно и беспрестанно твердил хор: «Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!» Сухо гремели цепочки кадила, ладанный дым восходил голубыми клубами. Весь полагающийся по уставу церковный причт в лучшем своем облачении, соответствующем обряду похорон. Гроб, осыпанный цветами, несли четверо мужчин на широких льняных полотенцах. Из живых цветов были свиты венки.
Ближе всех к гробу шел Григорий с женой. Он надел свой офицерский мундир, хотя по сроку увольнения в запас и не имел права этого делать. Жена его выступала в траурном платье строгого покроя, но сшитом из дорогой материи и по специальному заказу. Они подчеркнуто оттесняли и тетю Сашу и Анну с ее дочерьми.
На лице Григория вместе с действительной скорбью было написано и чувство горделивой самоуверенности. Вот он, самый старший из братьев и меньше других любимый матерью, единственный идет за ее гробом. И все расходы по похоронам, таким торжественным и пышным, что о них долго будет говорить народ, он принял на себя. Пусть видят люди и знают, что такое верное служение отечеству и что такое крамола. Где они, эти революционеры, что не явились даже попрощаться с матерью, проводить ее на вечный покой? Мотаются под чужими именами по белу свету, с собаками не найдешь…
Колокольный перезвон, казалось, гас по мере того, как погребальная процессия удалялась от церкви по узкой дорожке, ведущей к раскрытой могиле. Сияло горячее летнее солнце, в кустах акации и сирени порхали, перекликались птицы, редкими волнами набегал прохладный ветерок. Анна шла, держа за ручонки Талю и Верочку, и все невольно оглядывалась: не появится ли хотя бы в последнюю минуту Ося? О смерти матери она сообщила ему в Петербург телеграфом. Но ведь Ося мог оказаться в отъезде, он много ездит, и товарищам не так-то просто найти его. Уж он-то, получив скорбную весть, оставил бы все и примчался отдать сыновний долг матери. Приехали бы и Семен с Яковом. Но Яков сейчас пока живет в Одессе и, конечно, без всякого адреса, а Семен и вообще неведомо где. Зачем Григорий стремится публично подчеркнуть свою любовь к матери и представить равнодушными братьев?
Таля и Верочка, с черными лентами, вплетенными в волосы, поглядывая на взрослых, тоже всхлипывали. А потом, забывшись, начинали весело припрыгивать на дорожке, усыпанной хрустящим речным песком. Им еще неведомо, что такое смерть.
Процессия остановилась, священник, в последний раз помахав кадилом над гробом, поставленным на две табуретки, пригласил родных попрощаться. Ветер шевелил «венчик» на лбу Любови Леонтьевны, «подорожную» в ее сложенных крестом руках. Григорий приблизился первым, постоял, приподняв голову так, чтобы все окружающие заметили его именно в эту минуту, опечаленного, но мужественного и единственного, потом нагнулся, быстро припал губами к венчику и отступил, давая место другим. Облилась слезами тетя Саша, она гладила сухие, холодные пальцы покойной, поправляла в них «подорожную» и несколько раз поцеловала в губы.
— Сестричка, сестричка моя милая, — шептала она, раскачиваясь над гробом, — вот и ушла ты от нас, навеки ушла. Спи спокойно! О чем ты просила меня, все я сделаю…
Наступил черед Анны и малышек. Таля вдруг в страхе попятилась, косясь на открытую могильную яму, тоненько закричала:
— Бабушка спит! Зачем ее туда опускать хотят? Зачем землей засыпать? Отнесите домой…
Разревелась и младшая. Анна торопливо простилась с Любовью Леонтьевной и отвела девочек в сторону. Они уцепились за ее платье, испуганно вздрагивая и при каждом ударе молотка, когда гроб стали заколачивать гвоздями, и потом, когда на него в яму посыпались тяжелые глыбы земли.
На поминальный обед Григорий тоже не пожалел денег. Столы для родных и городской знати, друзей Григория, были накрыты в нескольких комнатах, а сверх того кухарка то и дело выходила во двор с полной корзиной и раздавала нищим и юродивым куски рыбного пирога и в протянутые горсти насыпала сладкую кутью. Угощала вином.
— Помяните новопреставленную рабу божию Любовь. Сыночек ее Григорий преданно вас просит…
Анне тяжело было глядеть на слишком уж быстро начавшееся застольное веселье. Всего несколько с печалью сказанных добрых слов об усопшей, несколько рюмок без чоканья, чинно, торжественно, и языки развязались. Говорили о чем вздумается, пили без приглашения, выбирая вина по своему вкусу, пробуя и оценивая их крепость, ели так, как едят, должно быть, только на поминках, много, плотно, до отвала. Если и теперь называлось имя Любови Леонтьевны, то мимоходом, лишь как оправдательный повод наполнить и выпить очередную рюмку. Девочки ерзали на стульях:
— Мама, ну пойдем же домой, ну пойдем!
Анна незаметно выбралась из-за стола. Вслед за ней выскользнула за дверь и тетя Саша. Обмахиваясь платком и поглядывая на высоко стоящее в небе солнце, предложила:
— Давай, Анна, возьмем извозчика и уедем в Костомаровку. Успеем засветло. Пусть девочки там, на воздухе, успокоятся.
В Костомаровке на лето тетя Саша сняла дачу. Хозяева запросили дорого. Она махнула рукой: «А, все равно в трубу вылетать! Так хоть с дымом и пламенем! Поживем последнее лето на природе…»
— А как же Ося? — спросила Анна. — Он обязательно должен приехать. Мне нужно его дождаться.
— Он может не приехать и еще несколько дней, — возразила тетя Саша.
— Ну нет! — вырвалось у Анны. Она подтолкнула девочек. — Таля, Верочка, ступайте с бабушкой. Собирайтесь, а я забегу на вокзал, как раз должен подойти московский поезд.
— Только не задерживайся! — крикнула ей вдогонку тетя Саша. — Нам собираться, что голому тесемкой подпоясаться!
По вокзальной платформе важно расхаживали два усатых жандарма. Небрежно и даже с легкой издевкой козырнули Анне, она их тоже узнала: эти жандармы приходили обыскивать дом тети Саши в тот раз, когда Ося был арестован в Москве на квартире Андреева. Тревожно екнуло сердце. Не его ли они снова подстерегают здесь? Но ведь Ося сейчас живет открыто, по законному паспорту, и не состоит под надзором. Так, во всяком случае, он сам считал после выхода из тюрьмы и до нынешнего отъезда в Питер.
А за это время многое изменилось…
Ушел в отставку председатель кабинета министров Витте. Изобличенный в казнокрадстве, был вынужден уйти со своего поста и свирепый министр внутренних дел Дурново. А в эти оба кресла сел еще более грозный Столыпин, поклявшийся с корнем выдрать источники смуты. С приходом Столыпина в департаменте полиции закатились звезды Вуича и Рачковского. Теперь там княжат люди нового министра — Трусевич и Курлов. Первое, что сделал Столыпин, придя к власти, — издал циркуляр, адресованный всем губернаторам, об усилении репрессий. Только и слышно теперь: аресты, аресты, суды, расстрелы, виселица, ссылка на каторгу. Под столыпинские циркуляры все подходит. Какая у Оси гарантия, что любое его выступление на рабочем собрании или в неконспиративном партийном кругу не будет подведено под столыпинские циркуляры? Почему не приехал Ося? Ходят, ходят по платформе жандармы, явно подкарауливая добычу. Кого? Не спросишь…
Анна вошла в зал третьего класса, отыскала свободное местечко. Задумалась. Не зря ли она появилась здесь, на вокзале, укрепляя тем самым предположения жандармов о приезде мужа, если они подстерегают именно Осю? Уйти? Или, наоборот, попытаться каким-то образом его предупредить? Каким? Или остаться, хотя бы с тем, чтобы видеть, за кем охотятся жандармы, если не за Осей? До прибытия поезда еще минут пятнадцать, станционный колокол прозвонил сигнал о его выходе с последнего перед Орлом разъезда. Нет, теперь уходить не стоит!
Она продвинулась в самый уголок, а мысли бежали, бежали… У Верочки прохудились башмаки, и, пока стоит сухая погода, их надо бы отдать в починку, на даче можно и босой побегать и в легких тапочках. А Таля жаловалась: головка болит. Это, конечно, от многих волнений за последние дни. Но, может быть, она схватила простуду? После выноса тела Любови Леонтьевны в доме гуляли отчаянные сквозняки. Надо бы измерить температуру. Ах, как в такие тревожные дни недостает Оси!
Закончив перевод книги Бебеля, он сказал: «Я должен отвезти рукопись издателю сам, договориться об оплате. Думаю, долго не задержусь». И задержался. Пошел уже третий месяц. А за это время только и всего, что получен денежный перевод, — конечно, на лечение он себе и рубля не оставил, — да еще два коротких письма.
В первом, вспоминая расставание, он написал: «Когда, дружище, ты станешь менее доброй и более злой?» Ах, Ося, Ося, ты когда станешь менее добрым, более злым? Его все время терзают угрызения совести, что он не помогает воспитывать детей. Не надо! Эту тяжелую ношу охотно и радостно она взвалила на свои плечи. Как Ося не может понять, что ее мучает совсем другое? Не на тот путь революции стал он — вот что горько!
Во втором своем письме он привел выдержку из речи Плеханова на последнем съезде: «Заметьте, мы с Лениным, с одной стороны, очень близки, а с другой — далеки друг от друга. Ленин говорит: мы должны доводить дело революции до конца. Так. Но вопрос в том, кто из нас доведет до конца это дело. Я утверждаю, что не он». И Ося высмеивает эти слова. Но как же не ясно ему, что прав-то Плеханов! Ведь съезд, созыва которого так добивался Ленин, в составе ЦК из десяти человек избрал лишь трех большевиков, а в редакцию Центрального Органа вообще не избрал ни одного большевика. Глас народа — глас божий! И снова Ленин недоволен, он требует созыва Пятого съезда, он хочет непременно добиться победы. И вот уже принимаются резолюции на местах против ЦК и в поддержку Петербургского комитета, который сейчас в руках большевиков. На горе партии появился этот Ленин с постоянной своей неуживчивостью! И Ося теперь верит ему, а не Плеханову — отцу русской марксистской мысли!
Анна тяжело перевела дыхание, припоминая свои бесчисленные споры с мужем, пока он жил дома и занимался переводом Бебеля. В конце концов она ему сказала: «Ося, больше я тебя не стану ни в чем разубеждать, это за меня сделает время. Но только в одно поверь, прошу тебя: я — твоя жена, и нет у тебя более преданного друга». Он ответил: «Аня, родная, а разве я в этом когда-нибудь сомневался?» Да, все это так. Оба они в одном поезде, пока поезд стоит. Но когда трогается — ехать им хочется в разных направлениях. И кому-то надо выпрыгивать из вагона. Вот почему ей временами кажется: пусть лучше поезд уходит вообще без них…
Поезд… И испугалась. Что же она здесь сидит? Со своими смятенными мыслями. Вот уже мелькают вагоны. Прибыл. Скорее на платформу! Вдруг там Осю эти жандармы…
Она метнулась к двери. И увидела, как жандармы еще на ходу поезда с разных концов вскочили в вагон второго класса. Анна тоже побежала к вагону. Может быть, Ося сумеет сказать ей хоть бы несколько слов.
Горячий ветер нес душные запахи мазута и угольного дыма от паровоза, трепал ее прическу, кто-то, проходя с багажом, больно ударил ее по ногам углом чемодана. Она ждала, застывшая в тревожном ожидании.
И вот появился один жандарм, спрыгнул наземь. Вслед за ним неторопливо, с достоинством, спустился хорошо одетый молодой человек, в пенсне, с острой бородкой. Замаячил в тамбуре второй жандарм. Волна безудержной радости прилила к сердцу Анны. Она едва не вскрикнула: «Слава богу, не Осю!» И тут же укорила себя: как можно радоваться чужой беде?
Первый жандарм покосился на нее.
— Мадам, а вы что — благоверного своего встречаете?
— Нет, нет! — поспешно сказала она.
И поняла, что допустила большую оплошность, придя на вокзал. Теперь жандармы знают, что Дубровинский должен вот-вот приехать в Орел. А разве знает она, охотятся за ним или не охотятся? И что теперь надлежит ей делать? Кого и за что сейчас арестовали? Человек этот ей незнаком…
Всю дорогу до Костомаровки она мучилась сомнениями. Их не заглушало даже ликование девочек, радовавшихся тому, что они надолго покинули город и будут с мамой целыми днями бродить по лесу. Извозчик гнал коня крупной рысью, не подстегивая его кнутом, а только ловко щелкая им в воздухе. Пыль серыми клубами вырывалась из-под колес. Коляску подбрасывало на ухабах, скрипели рессоры, и тетя Саша, хватаясь за поручни из медных прутьев, вскрикивала:
— Анна, гляди за детьми! Не выпали бы! Ах, боже мой, я, кажется, продавила сиденье!
На даче их поджидала «бонна» Гортензия Львовна, тетя Саша наняла ее заочно, по рекомендации одной из своих заказчиц. Не спросила, ни сколько ей лет, ни какими именно талантами она обладает. На даче нужен человек на все руки. И печь протопить, и обед приготовить, и белье выстирать, и за девочками приглядеть. А Гортензия Львовна оказалась старухой. Она знала три языка, играла на пианино, которого на даче не было, могла, правда, не очень охотно, поставить самовар и поджарить яичницу, в крайнем случае сварить суп и манную кашу, но решительно отказалась от стирки белья и тем более от топки печи. На ночь она вынимала искусственные зубы и опускала их в стакан с водой, пугая этим девочек. Волосы заплетала в косичку размером с мышиный хвостик, а поверх накладывала высокий шиньон.
— Ах, разве я знала, что это будет такое! — воскликнула тетя Саша, понаблюдав Гортензию Львовну за работой. — Но не могу же я человека сразу уволить, если сама наняла на все лето. Она дворничиха? Не то! Кухарка? Не то! Экономка? Тоже не то! Гувернантка? Говорю вам, не гувернантка! Будем ее считать бонной?
После городской сутолоки дача казалась тихой пристанью. В ближайшем лесочке грустно куковала кукушка. На другом конце поселка петух старательно выводил свое «ку-ка-ре-ку!». Жучка, «снятая внаем вместе с дачей», ластилась к ногам девочек. Они тут же затеяли с ней игру. «Бонна» колдовала над самоваром, и тетя Саша подсказывала ей, что из привезенных покупок поставить на стол сейчас, а что приберечь на завтра.
— И договоритесь, Гортензия Львовна, с соседкой, — наставляла она, — чтобы девочкам приносили обязательно и утром и вечером парное молоко. Это самое лучшее лекарство на свете. — Ах, если бы Ося жил здесь и пил каждый день парное молоко! Знает он или нет, что тетя Саша, снимая дачу, так рассчитывала на него?
И Анна, помогая ей в хлопотах, тоже подумала: «Ну почему бы Осе не дать самому себе передышку хотя бы на год? Подкрепить здоровье, успокоить нервы. Сколько его товарищей не выдержало, одни отошли совсем, другие соблюдают меру, ищут более безопасные формы борьбы. А эта постоянная жертвенность — к чему она приведет?» И еще ей подумалось, что со смертью Любови Леонтьевны оборвалась одна из главных ниточек, привязывавших Осю к дому. Дети? В какой-то степени — да. Но Ося знает, как знал и с первого дня, что они окружены самой сердечной заботой. Жена? С ней, только как с женой, он не способен разговаривать. А с другом? Он жаждет дружбы не такой, которая лишь остерегает. А подталкивать Осю на новые опасности она не может, ну просто не может, и все…
Но где же все-таки Ося?
9
Он постучался ночью в окно лишь на четвертые сутки тревожных ожиданий.
Тихо, чтобы не разбудить детей, Анна надела платье, прокралась к двери и вышла во двор. Дубровинский стоял, прислонясь к березке. С ее листьев сыпались им на плечи капли прохладной росы.
— Ося, ты получил мою телеграмму? Ты все знаешь?
— Да, знаю. Телеграмму мне только вчера привезли в Москву, найти меня было не просто, — сказал Дубровинский, стараясь оберечь жену от сыплющихся капелек. — Мама, мама! Это было неизбежно, и все же — как больно! Прямо с поезда я пошел на кладбище. Отыскал могилу. Долго стоял над нею. Потом — сюда.
— А полиция за тобой не следит, Ося? В день похорон у меня на глазах жандармы арестовали кого-то прямо в вагоне. Я так боюсь за тебя! Ты заходи домой! Как ты догадался, что мы здесь?
— Смешно сказать, Аня, но меня в Костомаровку послал парикмахер, у которого я подстригался весной. Он попался мне на улице. Обрадовался. А я — не очень. Неприятная личность. Он все в подробностях описал мне. Похороны мамы. И какую именно дачу сняла тетя Саша. Мне не нравится его болтливость. Но я поверил ему. Дети здоровы?
— Здоровы. Пойдем, Ося, в дом. Ты ведь устал и голоден.
— Поднять всех на ноги! Если тебе не холодно, до утра побродим по лесу? — Анна согласно кивнула, и они, взявшись за руки, медленно побрели по тропинке. — Я так давно не был летом в настоящем лесу! Когда я шел сюда, в низинках скрипели коростели, на высоких полянках били перепела, и мне подумалось: станем стариками, уедем куда-нибудь далеко-далеко, в зеленую тишину. Хотя бы даже в Сибирь, которой сейчас так пугают.
— Пугают не зря. Там в ссылке погибло много хороших людей.
— Когда мы состаримся, в Сибирь уже не будут ссылать. Туда люди поедут сами и с радостью, потому что это прекрасная страна. О ней с восторгом недавно мне рассказывала Наташа, а она из тех мест. В гибели хороших людей виновата не земля сибирская, виновата ссылка. Она убивает душу, а если убита душа, остальное уже не имеет значения.
— Ося, а ты уверен, что в Сибирь перестанут ссылать раньше, чем для нас с тобой наступит старость?
— Конечно, Аня! Мне нынче в августе исполнится всего лишь двадцать девять лет. Ты просто не подумала, что впереди у нас огромнейшее время, а дни самодержавия сочтены.
— Да, я не подумала, — сказала Анна.
Она подумала, но о другом. Революция подавлена, самодержавие перешло в наступление, уничтожает последние остатки объявленных свобод; и если Трепова в народе называли зверем, то Столыпина зовут «вешателем». Но эту мысль она оставила при себе. Ей не хотелось с первых минут встречи затевать спор, который, она знала, не будет закончен согласием. Надо заставить себя и Осю говорить о чем угодно, только не о политических событиях.
— А кто такая эта Наташа? — спросила она рассеянно, полагая, что этим уведет разговор в сторону. — Что она рассказывала о Сибири?
— Да тут получилась немного забавная история, — ответил Дубровинский и надломил ветку орешника, пропуская вперед жену. Они вступили в лесную чащу. — В Москве проходила областная конференция. Предполагалось, что приедет Ленин. Но его задержали неотложные дела в Петербурге. Он попросил, чтобы поехал я, — потому и скорбная телеграмма твоя, Аня, искала меня так долго. Вхожу и слышу — за спиной у меня переговариваются: «Ленин. Это Ленин». Представь мое положение в такой момент! Оборачиваюсь, но я ведь не знаю, кто сказал эти слова. И негоже вслух заявлять неведомо кому: «Товарищи, вы ошиблись!» А по ходу конференции выступать мне как представителю Петербургского комитета совершенно необходимо. Обсуждается наш конфликт с Центральным Комитетом. Вопрос наиважнейший. Люди ждут выступления Ленина. Каково говорить мне! Называюсь Макаровым — паспорт у меня на Макарова сейчас — и вижу на многих лицах полнейшее недоумение. Но выступил все же, Наташа потом сказала, что я хорошо, убедительно выступал, мне аплодировали…
— Да кто же такая эта Наташа? — снова спросила Анна, верная своему замыслу не разжигать спора, хотя ее заинтересовала совсем не Наташа, а конфликт Петербургского комитета, значит, Ленина, с Центральным Комитетом, значит, со сторонниками Плеханова и Мартова.
— Это Конкордия Самойлова. Она была докладчиком по итогам съезда.
— И что же рассказывала она о Сибири? — спросила Анна, уловив момент, когда Дубровинский запнулся, разглядывая в полутьме, где лучше обойти густую заросль шиповника.
— О Сибири? Она, знаешь, из Иркутска, училась там в гимназии. Совсем поблизости от этого города кедровая, вековая тайга. А красавица Ангара, озеро Байкал… — Он поманил жену за собой. — Сюда, Аня! Дай руку, — помог ей перешагнуть через валежину. — Ты знаешь, что означает «думское» министерство? Это же в чистом виде кадетское министерство! Дума, в которой засилье кадетов, если бы даже дать ей такое право, конечно, назначит министров, вполне угодных верховной власти. Стало быть, мы, поддерживая лозунг этого «министерства», практически будем поддерживать кадетов, Трепова, царя! Вот ведь до какой нелепости можно дойти…
И он с жаром стал рассказывать о том, что Петербургский комитет, а за ним и многие другие организации приняли резолюции принципиального несогласия с тактикой ЦК по отношению к Думе. А коль скоро ЦК ныне выражает волю лишь меньшинства партии, создается неизбежный конфликт между ее большинством и центральными учреждениями. Этот конфликт не может быть разрешен иначе, как созывом экстренного Пятого съезда…
Увлеченный своим рассказом, он шел и шел в глубь леса. Анна едва-едва успевала за ним.
Летние ночи короткие, начинался рассвет, со стороны деревни донесся призывный звук рожка — это пастух собирал на выгон коровье стадо.
— Ося, а я подосиновик нашла! — вскрикнула Анна. — Смотри, какая у него красивая красная шляпка! Вот девочкам будет радость: папа пришел, грибов набрал!
Дубровинский остановился. Плечи, ноги — мокрые от росы. Аня тоже вся мокрая. А тепло, хорошо! Он несколько раз глубоко вздохнул всей грудью, так, что кольнуло в правом боку. И засмеялся. Вот уж действительно позвал в лес, а сам и леса не видит. Стал глазами обшаривать поляну и тоже заметил близ корня старой березы гриб на необыкновенно толстой ножке.
— Не хвастайся, Аня, и я нашел подосиновик. — Он подбежал, сорвал его и подал жене. — Эк, толстяк какой! Банкир!
— Да это же не подосиновик, тебе повезло, это белый гриб, боровик! Ты, оказывается, ничего не смыслишь в грибах. Этак наберешь и мухоморов! — Анна забавлялась его растерянностью. — А еще мечтаешь под старость жить в лесу! Ося, Ося!
— Ну и что же, — проговорил он. — Ты ведь будешь со мной… И выбросишь найденные мной мухоморы.
— Если бы ты позволил мне это всегда делать! — вырвалось у Анны.
— Ты не считаешь правильной позицию Петербургского комитета? — Дубровинский понял ее иносказание. — Почему? Пятый съезд совершенно необходим, надо же в конце концов добиться такого положения, чтобы партией руководило ее большинство.
— Да, конечно, Пятый, Шестой, может быть, даже Десятый, — с раздражением сказала Анна, — словом, до тех пор собирать съезды, пока Ленин не станет во главе партии, а умницы Плеханов, Мартов и Аксельрод не будут разбиты в прах.
— Ленин и сейчас стоит во главе партии, — возразил Дубровинский, — но будет лучше, когда вместе с ним во главе партии окажется и Центральный Комитет, а меньшинство — эти твои «умницы» — не будут диктовать свою волю большинству. Если бы ты видела и слышала, Аня, с какой душевной болью говорит Ленин о своем разладе с этими людьми, — действительно, умницами! — как он стремится привлечь их на свою сторону…
— Для этого нет надобности испытывать душевную боль, — перебила Анна, — достаточно кой в чем пойти им навстречу.
— Это как раз то, что в свое время делал я. По недомыслию. Не знаю человека более чуткого и внимательного, чем Владимир Ильич, и когда ты…
— Ося, прости, я вовсе не хотела принизить его как человека. Если это нечаянно прозвучало так, беру свои слова назад, я знаю, как ты его любишь и веришь ему. Ты с возмущением цитировал Плеханова: «…вопрос в том, кто из нас доведет дело революции до конца; я утверждаю, что не Ленин». Ося, может быть, я много беру на себя, но я утверждаю то же самое, что и Плеханов.
— Придет время, когда и Плеханов возьмет свои слова обратно.
— Тогда возьму и я свои слова. Но, Ося, мы, кажется, отошли так далеко, что не успеем вернуться, все встанут, поднимется тревога…
И последующий разговор она умело перевела на разные маленькие заботы по дому.
Девочки пришли в восторг, увидев входящего во двор отца. Гортензия Львовна скрылась в дальней комнате и там перед зеркалом долго прихорашивала свой шиньон. Тетя Саша, всплакнув и посмеявшись от радости, бросилась к соседям покупать на обед курицу. Тем временем Анна приготовила утренний чай.
— Ося, тебе надо хорошо отдохнуть, — сказала она, когда завтрак был закончен. — Я постелю на веранде.
Он согласился. Но тут же к нему прибежала Таля, стала совать в руки азбуку с картинками и просить, чтобы он рассказал, что в ней написано.
— Таленька, а ты хочешь сама прочитать?
— А я не умею, — сказала Таля.
— А я научу, — сказал Дубровинский.
Они увлеклись составлением трудного слова «мама», потом принялись писать его, но тут появилась Верочка с куклой и потребовала поиграть с нею в лошадки.
После обеда, где коронными блюдами были лапша с курицей и пышный омлет, все, кроме Гортензии Львовны, пошли снова в лес. Девочки визжали и смеялись, с ними вместе смеялся и Дубровинский, целиком уходя в их счастливый мир.
Анна корила себя за то, что утром не смогла удержаться, вступила в ненужный спор, отравив тем самым Осе несколько хороших часов. Нет, нет, пусть, что ли, старость скорее приходит! Тогда в самом деле можно будет вот так просто бродить по лесу и собирать грибы.
— Папа, ты с нами теперь насовсем? — спросила Таля, когда усталые и обожженные солнышком они вернулись с прогулки.
— Я долго-долго буду с вами, золотые мои малышки, — ответил Дубровинский. А сам определил: пожалуй, еще дня четыре он дома с ними может побыть. Товарищи поймут его.
Но прошло только два дня. Тетя Саша ушла в город, пообещав вернуться к вечеру и привезти чего-нибудь вкусного. Уложив девочек спать, хотя летнее солнце еще высоко держалось на небе, Анна занялась штопкой их чулочков. Гортензия Львовна во дворе поливала цветы. Дубровинский, сидя на лавочке возле куста жасмина, в полудреме наблюдал, как толкутся в теплом воздухе комары — верный признак устойчивой хорошей погоды.
Он услышал: скрипнула калитка, потом прошуршали по тропинке чьи-то быстрые шаги, раздались приглушенные голоса. Появилась Гортензия Львовна.
— Иосиф Федорович, — позвала она шепотком, прикладывая палец к губам, — вас хочет видеть некий господин. Себя не называет, а настаивает: «Очень важно!»
У калитки, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, стоял уже знакомый Дубровинскому по двум встречам седенький орловский парикмахер.
— Прошу прощения, господин Дубровинский, — быстро сказал он, с тревогой поглядывая на калитку, — боюсь, что у вас очень немного времени. Но раньше я никак не мог, дабы не навлечь подозрения. Приехал в Костомаровку на извозчике, но отпустил его у въезда в деревню. По тем же соображениям. Советую и вам как-нибудь там сторонкой, по лесочку, по кустикам, пешком — и сами знаете куда! Но только, бога ради, не на вокзал. А главное, скорее. И простите, пожалуйста!
— Спасибо за совет, — холодно проговорил Дубровинский, не зная, как отнестись к столь странному появлению этого малоприятного ему человека. — Вы, может быть, точнее объясните, что это значит?
— Ах, господин Дубровинский! — воскликнул парикмахер. — Ну что это может значить еще, кроме того, что сегодня у меня, как всегда, подстригался и брился сам достойнейший начальник губернского жандармского управления, а ваш притеснитель!
— И вам он в силу дружеской откровенности рассказал, что собирается меня арестовать? — с легкой иронией спросил Дубровинский, все более утверждая себя в мысли, что перед ним бездарный агент охранки.
— Это сказал он не мне, — обиженно ответил парикмахер, и губы у него затряслись. — Он это сказал некоему своему подчиненному, который прибежал в мою мастерскую, где господин начальник сидел с намыленной бородой. Прибежал, чтобы сообщить ему, что получено насчет вас срочное телеграфное указание. А от кого указание, полагаю, вам лучше моего известно. Виноват, если не к месту и времени вас потревожил, — и быстро пошел к калитке. — Умоляю: простите!
Какую-то долю минуты Дубровинский стоял ошеломленный. А потом бросился догонять парикмахера. Остановил на выходе со двора.
— Нет, это вы мне простите, — в волнении пожимая ему руку, сказал он. — Дважды простите! Сейчас. И давнюю мою подозрительность. Я очень, очень вам благодарен! А сами вы достаточно ли были осторожны?
— Не беспокойтесь, господин Дубровинский. Стричь я умею, — с достоинством ответил парикмахер. — А меня не остригут!
Услышав какой-то необычный, прерывистый и приглушенный шум возле калитки, Анна вышла на крыльцо, но застала Дубровинского уже одного. Гортензия Львовна по-прежнему в дальнем углу двора из лейки поливала цветы.
— Ося, с кем ты разговаривал? — спросила она. — Или мне это показалось?
И догадалась. Побледнела и обессиленно опустилась на ступеньки крыльца.
— Аня, ради бога, не тревожься, я сейчас должен уйти, — торопливо ответил Дубровинский. — Адрес в Питере у меня прежний. Вынеси, пожалуйста, пиджак. Боюсь, не разбудить бы девочек. Скажи им, что я снова приеду. И позови в дом Гортензию Львовну. Мне не хочется, чтобы она видела, как я перепрыгну через забор.
Конные стражники ворвались во двор менее чем через полчаса после его ухода.
Жучка с отчаянным лаем бросилась им навстречу.
Офицер спрыгнул с седла, занес витую плеть над головой и, выбрав удобный момент, так рубанул ею, что собака, тонко взвизгнув, перевернулась в воздухе. Скуля, поползла под террасу.
Проснулись девочки, испуганно заплакали, завидев входящих в дом людей с тяжелыми шашками на боку.
Звенели шпоры, поскрипывали сапоги. Все уголки дачи были моментально осмотрены.
— Мадам, где ваш муж? Куда он девался? — спросил офицер, нетерпеливо постукивая носком сапога.
— Вы же знаете, господин ротмистр, что на такие вопросы бессмысленно ждать от жены нужного вам ответа, — сказала Анна. — Гортензия Львовна, пожалуйста, уведите, успокойте детей. Этим господам ничего не стоит пустить в ход и в доме свои плети.
Ротмистр побагровел, надвинулся было грудью на Анну и отступил на шаг.
— Отлично! В таком случае, мадам, я приступаю к обыску и предупреждаю: если в ваших вещах найдется хоть что-нибудь недозволенное, бессмысленно вашим детям будет ждать от меня ответа, куда девалась их мама! — Он круто повернулся на каблуках и приказал своим подчиненным: — Обыскать! Да со всей тщательностью! Вы поняли — со всей!
И прямо на пол полетели платья и белье из гардероба; полотенца, салфетки, нитки для рукоделия из комода; с постелей — одеяла, простыни и наволочки; с буфетных полок — жестяные коробки, в которых хранились гвоздика, перец и лавровый лист.
Вдребезги разбилась чашка. Кто-то постарался, сдернул и швырнул на пол оконные занавески.
Заложив руки за спину, ротмистр прохаживался по комнатам. Оглядывал стены: нет ли в них тайника? Рванул приотставшие в одном месте обои, разворошил ногой лежащие в уголке детские игрушки, раздавив при этом кукле фарфоровую руку. Зло окинув взглядом разоренную комнату, он скомандовал:
— Отставить! Поехали! — и, бренча шпорами, вышел во двор.
— Я протестую! — гневно сказала Анна, преграждая ему дорогу. — Это бесчинство, дикий вандализм, я требую составить протокол.
— У вас остается превосходная возможность пожаловаться, мадам! А вандализм — это когда взрывают дачу его превосходительства господина Столыпина.
— Не Дубровинский же ее взорвал! Это делают эсеры, террористы!
— Дубровинский, мадам, желал бы взорвать и нечто большее, чем дачу его превосходительства, — весь самодержавный строй России!
Он оттолкнул ее, вскочил в седло. И через минуту весь отряд галопом помчался обратно, к Орлу.
10
Жизнь в Петербурге шла обычным чередом.
Работали в общем-то все фабрики и заводы, а Финляндская железная дорога бастовала. Магазины были полны товарами и покупателями, а на перекрестках улиц стояли нищие и протягивали руки: «Подайте кто сколько может!» По Невскому проспекту катились экипажи с пышно разодетыми дамами, а на окраинах Питера изнеможенные женщины в грязных дворах растягивали веревки и сушили на них до дыр застиранные рубашки своих мужей. По вечерам в истомном летнем воздухе плыл нежный церковный благовест, жарко горели восковые свечи перед иконами, а по соседству молодцы из «Палаты Михаила Архангела» с иконками на шее с железными ломиками в руках громили скудные еврейские магазинчики. Разносчики газет на все лады выкрикивали: «Вот свежие новости: закончено следствие по делу о Московском вооруженном восстании, бунтовщики будут жестоко наказаны. Предано суду двести шестнадцать человек. Читайте газету „Речь“, самую лучшую газету!» А другие им отзывались: «Читайте новую рабочую газету „Эхо“! К тысяче ста московским пролетариям, расстрелянным карателями, прибавится еще двести шестнадцать жертв судебной расправы. Читайте газету „Эхо“, рабочую газету!» В Таврическом дворце заседала Государственная дума, бурно обсуждался аграрный вопрос, а в Петергофе под председательством императора Николая заседали Трепов, Победоносцев, Столыпин и другие осыпанные орденами сановники, на свой лад оценивая ход обсуждения аграрного вопроса в Думе и определяя момент, когда станет выгоднее разделаться с нею.
Жизнь в столице шла, казалось бы, обычным своим чередом, но к городу между тем стягивались крупные силы войск всех родов оружия, включая артиллерию.
Эшелоны останавливались на запасных путях, не выгружаясь. Их держали в боевой готовности с расчетом быстрой переброски. Куда? Казалось, скорее всего, чтобы не дать забастовке рабочих Финляндской железной дороги распространиться на остальные дороги. Но могло быть и другое. В Кронштадтской и Свеаборгской крепостях давно шло брожение среди моряков и солдат. Оно особенно усилилось после того, как поступили сообщения из Севастополя об убийстве там главного адмирала Чухнина. Не для устрашения ли этих твердынь припасена тяжелая артиллерия?
У сестер Менжинских вечерами собирались члены Петербургского комитета и его военной организации — «военки». Это было удобно. Правда, квартира в цокольном этаже и окна выходят прямо на улицу. Однако в этом заключались и определенные выгоды. Ну кто может подумать, что, по существу, у всех на виду происходят конспиративные встречи? А окна можно густо задернуть тюлевыми занавесками и уставить горшками с геранью и фуксиями.
— Да, — задумчиво говорил Мануильский, руководивший кронштадтской военной организацией, — восстания зреют, но время для них далеко не настало. Конечно, эсеры, с вечным своим стремлением к фейерверкам, готовы в любую минуту кинуть спичку в пороховой погреб. И может быть, власти полагают, что присутствие возле Питера значительной силы войск отрезвит горячие головы?
— Весьма вероятно, — с ним соглашался Егор Канопул, представитель кронштадтской «военки». — Но тогда какой смысл охватывать кольцом весь город? Резоннее сосредоточить их в один кулак и этот кулак показать Кронштадту и Свеаборгу.
— Внеси свое предложение главнокомандующему, — иронически отзывался Шлихтер. — Только подумал ли ты, что ни из Кронштадта, ни из Свеаборга по дальности расстояния этот кулак виден не будет? Азарт же восстания, если оно вспыхнет, и совсем заставит забыть о нем. Свойство вполне человеческое.
— Вернее говорить о восстании не «если оно вспыхнет», а «если эсеры его разожгут», — напоминал Мануильский. И вопрошал сестер Менжинских: — Ну, а вы что скажете?
Вера Рудольфовна пожимала плечами. Людмила была ближе к военной организации, ей не хотелось уклоняться от ответа.
— По-моему, — говорила она, — власти предполагают, что большие беспорядки могут начаться в самом Питере. Особенно если будет распущена Дума. А это ведь не за горами.
И действительно, в разгар прений по аграрному вопросу, когда численно господствующие в Думе кадеты гнули к поискам выгодных для помещиков компромиссов, социал-демократическая фракция добивалась немедленного наделения крестьян землей без каких-либо выкупных платежей, а в целом Дума не считала возможным снять этот вопрос с повестки дня — самодержавие сказало свое решительное «нет!». Правительство опубликовало сообщение, в котором жестко подтверждалась незыблемость существующих аграрных отношений. Дума «дерзновенно» вознамерилась было вопреки этому все-таки выработать новый земельный закон, и тут же царским указом была распущена. Совещание в Петергофе готовило именно эту акцию и, предвидя, что она может вызвать серьезные волнения в столице, готовило и другое — беспощадное их подавление силой армии. Вошедший в полное доверие царя Трепов изнемогал от нетерпения вызвать питерский пролетариат на улицы и вновь пустить в ход свое знаменитое «патронов не жалеть». Но он знал, что это приносит должный эффект лишь в том случае, когда всплескивается неорганизованная народная стихия: разрозненные восстания легче бить поодиночке.
Дубровинский пришел на квартиру Менжинских раньше других. Дверь ему открыла Людмила. Она была одна. И очень взволнованна. Улыбчивое, круглое ее лицо осунулось, под глазами залегла синева. Всегда красивая, аккуратная прическа — волосы были густы и длинны — сейчас несколько сбилась набок, а Менжинская и не замечала. Теребя пальцами мочку левого уха — сережек она не носила, — правую руку подала Дубровинскому, быстро стиснула и отпустила.
— Случилось что-нибудь особенное, Людмила Рудольфовна? — спросил он, сразу уловив встревоженность в ее взгляде.
— Да, — коротко ответила Менжинская. — Свеаборг восстал.
— Подробности?
— Почти никаких. Минеры отказались выполнить приказ о минировании подступов к крепости. Их арестовали. А вчера в ночь артиллеристы разгромили гауптвахту и выпустили арестованных. Поднято красное знамя. Возможно, захвачена большая часть крепости. Идет обстрел Комендантского и Лагерного островов, на которых находится комендант и верная правительству пехота. Вот все, что я знаю.
— А Шлихтер? Наша делегация?
Менжинская молчала, нервно покусывая сохнущие губы. Дубровинский разглаживал усы, обдумывая положение. О том, что в Свеаборге могло вспыхнуть восстание, стало известно уже несколько дней назад. И Ленин тут же написал проект постановления Исполнительной комиссии Петербургского комитета о необходимости тщательно выяснить положение дел на месте и принять меры к отсрочке восстания. Если же отсрочить восстание никоим образом не удастся — взять на себя руководство, иначе эсеры превратят революционный взрыв в простую авантюру. Выехали Шлихтер, Лядов, Землячка. От них ни слуху ни духу. Может быть, делегация еще в пути? Или, добравшись до места, оказалась бессильной что-либо сделать?
— Сегодня в Гельсингфорс уехала сестра, — прерывая молчание, сказала Менжинская. — Вера была в Куоккала. Владимир Ильич попросил ее немедленно поехать в Финляндию и разыскать Шлихтера. В крепости есть надежные люди, подпоручики Емельянов и Коханский. Они, конечно, встали во главе. Но им надо помочь. Нельзя теперь восстание оставлять на произвол судьбы. Нельзя, чтобы его посчитали обыкновенным бунтом против начальства. Восстание — это революция! Владимир Ильич сказал, пусть вся наша делегация им помогает. А мне страшно, Иосиф Федорович!
Она прямо посмотрела Дубровинскому в глаза. Но в ее взгляде растерянности не было — только глубокая боль.
— Не тревожьтесь, Людмила Рудольфовна, — сказал Дубровинский и взял ее за руку, — ваша сестра — человек смелый и опытный.
— Боже мой! Да я не об этом! — воскликнула Менжинская, стискивая пальцы Дубровинскому. — Хотя, конечно, за Веру тоже боюсь. Лучше бы я поехала вместо нее! Но если восстание не подготовлено, чем все это кончится? Опять военно-полевыми судами и расстрелами.
— Вы правы, Людмила Рудольфовна, — мягко сказал Дубровинский, проникаясь ее душевным состоянием. — Но что случилось, то случилось. И надо думать теперь о том, чтобы знамя восстания увидела вся Россия, весь мир. Тогда и неизбежные жертвы не будут бессмысленными.
— Если бы человеком управлял только рассудок! Может быть, это и глупо, но мне иногда сердце приказывает такое, что я забываю о здравом смысле, — она отняла свою руку. — Вот взяла бы сегодня и поехала вместе с вами в Кронштадт! Мне спокойнее, когда я вижу обстановку своими глазами.
Дубровинский улыбнулся. С сестрами Менжинскими он познакомился недавно, через Ольгу Афанасьевну Варенцову, с которой вместе когда-то отбывал астраханскую ссылку, а теперь вместе входил в петербургскую «военку». Обе Менжинские — учительницы по образованию и по призванию — преподавали в воскресно-вечерних школах для рабочих, обе, может быть, как раз в силу своей профессии были общительны и речисты. Но старшая сестра, Вера, казалась Дубровинскому несколько суше, строже, а Людмила, почти его ровесница, покоряла своей удивительной непосредственностью и простотой. С нею ему всегда было легко разговаривать. Всякий раз Дубровинский расставался с Людмилой, унося ощущение, будто он вел диалог сам с собой, подчас и очень сложный, трудный, но такой, в котором после долгого спора непременно находилось радующее его решение.
— Почему и вы стремитесь поехать в Кронштадт?
Он знал уже, что в «военке» получено сообщение от Мануильского, требующее срочных указаний, как быть, — обстановка накалена эсерами до крайности; знал, что Петербургский комитет принял решение немедленно послать туда его, Гусарова и Малоземова. Им вместе с Мануильским на месте определить план действий и точный час начала восстания. Оно готовилось исподволь, планомерно, с весны, и предполагалось стать одним из главных звеньев в цепи всеохватного выступления революционных сил. Но Свеаборг сломал все замыслы. Чувство братской солидарности теперь обязывало кронштадтцев его поддержать, а питерский пролетариат должен был поддерживать и Кронштадт и Свеаборг.
— Зачем вам ехать, Людмила Рудольфовна? — повторил Дубровинский. — Вы здесь для связи нужнее. А в Кронштадте я однажды бывал уже в переделке и знаю, что это такое.
— Вот потому-то я и стремлюсь поехать туда! Вы знаете — я тоже хочу знать, видеть. Иначе мое воображение склонно все преувеличивать. Четыре дня тому назад Егор Канопул перед отъездом в Кронштадт заходил к нам с Шорниковой — она тоже из нашей «военки», — и мне почему-то Шорникова тогда ужасно не понравилась. Мне хочется посмотреть на нее в Кронштадте теперь.
— Доверьте это моим глазам, Людмила Рудольфовна, — сказал Дубровинский. — Вы ведь не раз убеждались, что видим мы одинаково. Канопул — человек строгой морали, а если вас в Шорниковой тревожит нечто другое, не поддавайтесь подозрениям. Провокаторы, конечно, существуют, но я, например, не верю, чтобы они когда-нибудь могли оказаться рядом со мной. В этом, кстати, недавно меня убедил один парикмахер.
— Подозрительность и осторожность — вещи разные, — покачивая головой, заметила Менжинская. — Но я сейчас не стану спорить с вами…
В прихожей раздался короткий звонок. Менжинская побежала открывать дверь. Явились Гусаров и Малоземов, оба прямо из Куоккала от Ленина. С ходу принялись рассказывать, что Владимир Ильич обеспокоен, достаточно ли хорошо выполняются его указания насчет того, чтобы все районные партийные организации установили беспрерывные дежурства на конспиративных квартирах и были готовы по призыву Петербургского комитета поднять рабочих на всеобщую забастовку в любой назначенный час. Ленин полагает, говорили они, что такая забастовка поможет расширить и углубить восстание после того, как к нему присоединится и Кронштадт. А посему действовать надо без промедления.
— На обратном пути мы узнали, что на помощь свеаборжцам выступила финляндская Красная гвардия и остановила движение поездов между Або, Выборгом и Гельсингфорсом, — рассказывал Гусаров. — Стало быть, подвоз правительственных войск будет туда затруднен. А в «военке» получено сообщение от Мануильского, что кронштадтцы поднимутся сегодня в одиннадцать вечера. Эсеры стараются устранить большевиков от руководства, что называется, локтями оттолкнуть и этим могут внести разлад и в войска. Тогда получится простой военный бунт, а не начало общего восстания. Надо нам ехать сейчас же.
— А на чем перебраться через залив? Что-нибудь подготовлено? — спросил Дубровинский. — Прошлый раз, когда приходилось иметь дело с Кронштадтом, было хорошо — морозы. По льду прошел. А на пароходах сейчас филеров — пруд пруди.
— Сообщение привезла Шорникова, — ответил Малоземов. — Она же взялась нас проводить и в Кронштадт.
— Вот видите. — Дубровинский взглянул на Менжинскую и ободряюще ей улыбнулся. — Ну, что же, товарищи, ехать так ехать.
Маленький буксирный пароход, на который через склад, заваленный ящиками и бочками, тайно провела и посадила всех Шорникова, от Ораниенбаумской пристани отвалил только в половине одиннадцатого. Дубровинский с тревогой вглядывался в смутные очертания медленно приближавшегося острова. Вот они трое, в легоньких штатских пальто и даже без какого-либо оружия при себе, едут руководить восстанием солдат и моряков, которое в эти минуты, может быть, уже началось, и на их совести будет потом лежать исход сражения. Что сейчас делает Мануильский? Шорникова смогла объяснить только, где найти Канопула. Она отсоветовала брать с собой револьверы, убедила, что можно натолкнуться на правительственные патрули, а в Кронштадте оружия хватит. Все как-то не так. Спешка, неподготовленность. А в Ораниенбауме происходит что-то подозрительное, с берега доносятся странные шумы. Похоже, что туда вступает большая войсковая часть. Ни раньше и ни позже. Словно бы по подсказке…
Ворчала пенистая струя под винтом за кормой парохода, першило в горле от едкой гари. А ночь, хотя и короткая, летняя ночь, ложится над заливом. Но, может быть, это и лучше?
В крепости сухо защелкали редкие винтовочные выстрелы. Дубровинский зашел в капитанскую рубку.
— Нельзя ли прибавить ходу?
— Товарищ, понимаю, — сказал капитан, посасывая погасшую трубку, — но ход у нас такой, как есть, не взыщите. А вам мой совет: поближе подойдем — берите у меня шлюпку с борта — и на веслах. Да не к пристани. К северному берегу. Потому раз стрельба качалась — на пристани этак просто и не выйдешь. А нам где попало не причалить.
Вода похлюпывала у них в ботинках, когда, приткнув шлюпку среди густых камышей, они стали взбираться на берег. Стрельба между тем продолжалась, то усиливаясь, то почти совсем утихая. Знакомым по прошлому году пустырем Дубровинский вывел своих спутников к сухому доку. В указанном Шорниковой месте их остановил военный патруль. Не понять сразу: свой или нет? Рискуя, Дубровинский назвал пароль. Пропустили.
Егор Канопул, нервничая, метался в маленькой каморке — пристройке к какому-то складу. Остановился, вздохнул облегченно.
— Ух! Не спрашиваю, почему долго! Могли бы ведь и совсем не добраться. Шорникова — молодец. Эх, баба! Это ведь она вас доставила! Ну, к делу! — Он развернул свои широкие плечи, несколько раз сжал и разжал кулаки. — Положение таково. Начали в Четвертом и Пятом морских экипажах. Во главе наш матрос, большевик. Захватил форт «Константин». Это здорово, главная наша опора. Там сейчас и Мануильский. Эсеры взяли на себя поднять пехотные полки. А вестей пока никаких. Объединенное командование создать не удалось. Весь день с ними шло препирательство — и словно в стену горохом! Мы-де, эсеры, герои, смельчаки, а вы, демократы, всегда осторожничаете. А сейчас стихия, братцы, захватывает. До утра мы должны взять все в свои руки. Иначе…
— Общий план? — коротко спросил Дубровинский.
— Общего нет, сорвали эсеры, — сердито ответил Канопул. — По их рассуждению, только выстрели — и эхо тут же по всей России прокатится; кинь спичку в хворост — и сразу костер загорится. А хворост-то, может быть, сырой, его подсушить бы надо сперва. Вы, мол, эсдеки, подымайте рабочих, дружины из них создавайте, а мы и полки обеспечим и военные корабли. Да вот пока не заметно… Ну, ладно! В гарнизоне-то у всех с прошлого года изъято личное оружие. Восстали почти с голыми руками. Мануильским теперь план такой предлагается. Захватить арсенал. Это дело поручим Иннокентию с матросами. Ими командует Лобов. Задача Гусарова и Малоземова — пропагандировать пехоту. Провалят эсеры, если мы сами не возьмемся. А я к Мануильскому. Там решим — может, кто-то из нас на корабли подастся. Опорный пункт — форт «Константин». Нет возражений? — Он встал, выдернул ящик стола. — Вот тут револьверы, патроны, берите! И — шагом! А лучше бегом! — Усмехнулся: — Братцы, не в бирюльки будем играть. Есть у кого что своим передать — вслух скажите. Оставшиеся передадут. У меня: обещался я Шорниковой. Ну, если чего, пусть не поминает лихом…
В небе уже алела заря. Короткая летняя ночь пролетела. Красные кирпичные стены арсенала показались Дубровинскому тяжело уходящими в глубь земли. Наверно, так оно и было, чтобы исключить возможность подкопов. Железные ворота с врезанной в проходную тяжелой калиткой. Глухо, мертво.
Дубровинский постучался. В приоткрывшийся «глазок» выглянул дневальный, спросил неуверенно:
— Чего надо?
— Оружие, — твердо сказал Дубровинский. — Слышишь, повсюду идет стрельба? Вся крепость уже в руках твоих братьев, солдат и матросов — офицеры арестованы. Свеаборг и Ревель тоже восстали, в России революция. Открой ворота.
— Не могу, прав не имею, — колеблясь, ответил дневальный, — чичас дежурного надзирателя вызову.
— Значит, ты офицеру своему больше веришь, чем нам, вот этому красному знамени? — Дубровинский показал на кумачовое полотнище, вздетое на штык одного из дружинников. — Придет офицер и прикажет стрелять в нас. Этого тебе хочется? А потом, когда арсенал все равно будет занят восставшими, какими глазами станешь ты смотреть на убитых? Получится, что ведь ты убивал. А сам, поди, из крестьян или рабочих…
— Да эт чего, эт понятно, — забормотал дневальный. — Слушал я митинги. Правда все… А присяга?
— Кому? Кто кровью народной всю русскую землю залил? Кто в тюрьмы, на каторгу…
— Стой, — сказал торопливо дневальный и оглянулся, — по двору кто-то идет… Надзиратель… Никольский…
— Так открой же, открой, пока он далеко еще! — в нетерпении выкрикнул Дубровинский, думая между тем, что, если ворота не откроются и завяжется перестрелка, штурмом эти глухие, высокие стены не взять.
Минуты, минуты решают. Что делать?
Но в этот напряженный момент заскрипело железо, и калитка приотворилась. На просвет Дубровинский увидел офицера, борющегося с солдатом в проходной, и вместе с Лобовым бросился вперед.
А дальше куда? В какую сторону? По булыжной мостовой двора от караульного помещения к ним навстречу бежало несколько матросов с винтовками в руках. Сейчас начнут стрелять? Или… Матросы кидали бескозырки вверх. Надзиратель, уже связанный, лежал на земле, ругался на чем свет стоит. Никто на него не обращал внимания. Лобов подвел отряд к ближнему складу.
— Ключи, ключи! — сам не ведая от кого, нервно требовал он и тряс тяжелый замок на двери склада. — Лом хотя бы…
Лом и кувалда нашлись. Войдя в азарт, Дубровинский наряду с дружинниками пытался разбить замок. Железо визжало, но почти не поддавалось их усилиям. Горели ладони, обильный пот струился по лицу.
— Э-ах! Э-ах! — Бил ломом он с придыханием, чувствуя разрывающую боль в груди. — Э-ах!..
Почти враз с глухим скрежетом вывалился из пробоя изувеченный замок и прогремел короткий далекий залп по ту сторону двора. Тотчас же вслед за ним началась частая, беспорядочная стрельба, постепенно приближаясь к арсеналу. Кто с кем? Дубровинский и Лобов недоуменно переглянулись.
— Там вроде бы Енисейские казармы, — проговорил Лобов, — за енисейцев эсеры ручались.
— Туда с Гусаровым пошел Малоземов, — качнул головой Дубровинский. — Неужели это их так встречают? Ну, что тут имеется?
Дружинники, недовольно ворча, перебрасывали малопригодное им хранящееся здесь оружие: сабли, морские кортики. Склад в основном был заполнен корабельными орудиями. Нашелся, правда, густо смазанный жиром пулемет. А к нему — ни одной ленты…
— Надо ломать замки на других складах, — сказал Лобов. — Найдется что-нибудь и получше.
— Это так, — согласился с ним Дубровинский. — Но кого нам вооружать? Где люди? Вывозить отсюда оружие? Куда? На чем? Свое дело мы сделали. Что ж другие? А сидеть нам тоже нельзя. Восстание только тогда живет, когда оно набирает силу, когда оно расширяется.
Ему припомнилась холодная ночь здесь же, на этом острове, и целый ряд тяжелых зимних дней и ночей на московских баррикадах. Начали и тогда решительно, смело, но остановились. А если бы уже тогда развернуть хорошо подготовленное наступление… Конечно, все это не прошло бесследно, не пройдет бесследно и нынешний день, но он еще не решит судьбу России. И все равно этот день революции нужен, даже такой…
Матросы ломали замок на двери другого склада. Стрельба теперь доносилась с разных сторон. Трудно было угадать, как развиваются события. А время шло.
— Товарищ Иннокентий, — сказал Лобов, озабоченно поглядывая на небо. Солнце уже стояло высоко. — Товарищ Иннокентий, надо бы разведку, что ли, нам спосылать. И в «Константин» и в полки, где эсеры работают. Нехорошо — стрельба идет. Значит, согласия общего не нашли, сила на силу поперла. А у кого она больше? Ты знаешь?
— Не знаю, — ответил Дубровинский. — В одном наша сила больше — в правде, за которую боремся. Давай, товарищ Лобов, посылай людей. — Он посмотрел на надзирателя, все еще лежащего возле проходной. — А с ним что будем делать? Так ему и валяться на ветру и на солнце? Человек все же.
Лобов почесал в затылке. Толкнул на лоб свою бескозырку.
— Велю пристрелить, что ли? — сказал нерешительно. — Он ведь не постеснялся бы.
— Вели лучше притащить его сюда, в тень, — сказал Дубровинский. — Лежачего убивать рука не подымется. Да и не велика эта птица. Мичман, кажется. Поговорить с ним попробую.
Мичмана приволокли, но поговорить с ним Дубровинскому не удалось. Он мрачно прохрипел: «Всех вас на виселицу!» — и стиснул зубы, закрыл глаза, превратился в камень. На кителе у него болтался Георгиевский крест, должно быть, с японской войны. Лобов разводил руками: «Ну, а теперь что?» И у Дубровинского все же не повернулся язык, чтобы ответить: «Стреляй!»
Его поманили к пулемету, с которого смазку уже сняли.
— Может, за ограду нам выкатить?
Но он не знал и Лобов не знал — для чего?
Со складов был сбит второй замок. Матросы разбирали, просматривали оружие. А время шло. И перестрелка в городе продолжалась. Она постепенно приближалась к арсеналу.
Наконец вернулся один из связных. Вбежал весь мокрый от пота.
— Добрался я до эсеровского комитета, — рассказывал он, задыхаясь, — там все в панике. Иркутский и Енисейский полки за нас отказались выступить, агитаторов похватали, заперли, что с ними — неизвестно. На пристани выгружается Финляндский полк и еще идут пароходы с войсками.
— А Малоземов с Гусаровым? — спросил Дубровинский, предчувствуя недобрые вести.
— Всех похватали, эсеровских агитаторов тоже…
— К «Константину» можно пройти?
Связной безнадежно покрутил головой.
— Куда там! Иркутский полк все пути пересек, а к ним еще квартирмейстерская школа подтягивается. Форт наш, можно сказать, в плотной осаде…
Продолжить ему помешал грохот полевых пушек, ударивших где-то в стороне «Константина».
Дубровинский помрачнел. Вот так же, кольцом, охватывали в декабре семеновцы Пресню, а дружинники метались внутри, не зная, как спастись от свинцового ливня. Форт «Константин» уже окружен, к нему на соединение не пробиться. И все равно это будет лишь оборона. То же, что было в декабре. Много ли толку от этих лежащих на складах орудийных стволов, сабель и кортиков, даже от винтовок и пулемета, когда восставших горстки и раскиданы они по всей крепости, а карательные войска превосходят их в десятки раз. Подтянуты из Петербурга точно к моменту, словно царские власти о сроках восстания знали лучше, чем сами повстанцы в Кронштадте. Держится ли Свеаборг? Что Ревель, который поднять обещали эсеры?
Вокруг Дубровинского столпились матросы. У всех на лицах тревога, немая ярость, готовность к бою. Лобов перекатывал барабан револьвера, проверяя, все ли гнезда в нем заполнены. Ждали слова Дубровинского. Он заговорил, чувствуя, как тяжело это:
— Товарищи! Кронштадтцы подняли знамя восстания, чтобы поддержать своих братьев в Свеаборге. Верю, что и ревельцы не остались глухи к их призывам. Питерские рабочие, наверное, объявили всеобщую забастовку. Но силы наши здесь оказались раздробленными, а царских войск много, они прибывают еще, и всей крепостью, всем островом нам не овладеть. Это ясно. Вот уже по форту «Константин» бьет артиллерия. Нас тоже захватывают в кольцо. Остаются считанные часы. Мы готовы здесь, не отходя, сложить свои головы. Но это ли нужно для революции? Стоять и быть убитыми? Призываю: сберечь жизни для будущих битв. Но не бежать отсюда постыдно и не сдаваться на милость царских властей, пощады ждать от них нечего! Надо прорываться. Если случится, так и с боем. Как считаешь, товарищ Лобов? Как, товарищи, считаете все вы?
— Правильно! — сказал кто-то из матросов. — Митинговать не время. Командуй, Лобов!
Тот приказал распахнуть ворота, быстро занять позиции с внешней стороны у стен арсенала. Все залегли в настороженном ожидании. Оно было недолгим. Солдатские цепи с винтовками наизготовку возникли на дороге, отрезая восставшим путь к отступлению. Впереди, поигрывая перчатками, шел офицер.
— Пли! — крикнул Лобов.
Раз за разом ударили два залпа. Солдатские цепи смешались и поредели, разбросав в стороны руки, повалился офицер. Лобов еще раз крикнул: «Пли!» — и на мостовой остались только убитые и тяжелораненые. Матросы вскочили: победа! Но радость тут же угасла. Перекрестным огнем по ним издали застрочили два пулемета.
— Измайловцы бьют, лейб-гвардейцы, — со злостью выговорил Лобов. — Товарищи, вперед! Быстро! Не то окажемся здесь в ловушке. Отходить к своим казармам!
Пулеметы на время притихли. Дубровинский успел перемахнуть через открытое пространство и примостился за гранитной плитой, косо лежащей возле фонарного столба. По ней тотчас с визгом щелкнула пуля.
Он видел, как, отстреливаясь, торопливо ползут вдоль кирпичной стены матросы, как, дернувшись всем телом, некоторые из них остаются лежать неподвижно. Видел, как, поднявшись во весь рост, погрозил кулаком в сторону приближающихся измайловцев Лобов и тут же упал с простреленной ногой. Его подхватили, поволокли на себе два матроса. Дубровинский пытался прикрыть их огнем из револьвера. Но вскоре у него патроны кончились.
Кончились патроны и у дружинников, они все реже отвечали на плотные залпы лейб-гвардейцев. А стоило начать перебежки, пулеметы противника вновь прижимали бегущих к земле. Потери среди них росли.
Продолжать бой становилось бессмысленным, он превратился в беспорядочный отход и жестокое истребление, по существу, безоружных людей. Каждый боец теперь действовал лишь в одиночку. Кто и как сумеет.
Захватив арсенал, измайловцы прекратили свое продвижение, били с колена по одиночным целям. Дубровинский в рассыпной цепи с другими матросами медленно отползал все дальше и дальше.
Стрельба в крепости, у форта «Константин», постепенно стихала. На горизонте не было видно обещанных эсерами кораблей, идущих с поддержкой из Ревеля. Восстание, как и в прошлый раз, захлебнулось.
Вот и знакомый пустырь. Дубровинский залег в какую-то рытвину. Надо дожидаться темноты. А тогда?
Каким образом перебраться через залив? На пристани сразу же схватят. Ах, если бы попасть на вчерашний буксирный пароходик! И ему вспомнилась шлюпка, прошлой ночью брошенная в камышах…
…Он сидел у Менжинской и слушал ее сбивчивый рассказ о том, что произошло здесь за эти два дня. Во время заседания на конспиративной квартире Харика арестована почти вся петербургская «военка», вместе с другими арестован и Вячеслав, брат Людмилы. По счастливой случайности не оказалось на этом заседании Шорниковой. И еще более счастливый случай предотвратил арест Крупской, а может быть, и Ленина, которые искали встречи с товарищами из «военки», чтобы узнать, как обстоят дела в Свеаборге. А Вера оттуда еще не вернулась. Но теперь-то известно, что в крепость делегация не смогла проникнуть и повлиять там на ход событий. Восстание стихийно вспыхнуло, и по необходимости его возглавили Коханский и Емельянов. Теперь они преданы военно-полевому суду. Значит, их расстреляют. Восстание подавлено. В Кронштадте…
— Да что же я? — остановила себя Менжинская. — Об этом вы мне расскажите. Знаю, правительство ликует. Ходят слухи, что арестованы там чуть ли не две тысячи человек. Неужели это правда? Что с нашими товарищами?
— Я ничего о них не знаю, Людмила Рудольфовна, — ответил Дубровинский, с трудом пошевеливая кистями рук, распухшими от глубоких ссадин, царапин и кровавых мозолей. Целую ночь он боролся со штормовыми волнами в заливе, ища место, где бы с меньшим риском можно было причалить к берегу. — Боюсь, что все наши товарищи тоже арестованы.
— А вы? Как вам-то удалось оттуда выбраться? — Менжинской только теперь представилось, какой большой опасности подвергался и Дубровинский в Кронштадте.
— Это укор моей совести, что я не разделяю сейчас судьбы товарищей, — отозвался он угрюмо. — Но ведь не знаешь, где и что тебя ожидает. И после того как избежишь ареста, не хочется мечтать о нем. Думаешь: может быть, и еще на что-нибудь пригодишься.
Взгляд Менжинской упал на руки Дубровинского. Она вскрикнула, взяла их, положила на свои ладони. Спросила озабоченно:
— Вам очень больно? Как это случилось? Дайте я перевяжу! — И вскочила, подбежала к комоду, стала копаться в ящиках. — Но как все это случилось? — повторила свой вопрос Менжинская, тем временем бережно бинтуя руки Дубровинского. — Вас били?
— Нет. Просто я оказался интеллигентом больше чем надо…
Прозвенел в передней звонок. Менжинская насторожилась, толкнула Дубровинского в соседнюю комнату.
— Спрячьтесь! Не знаю, кто бы это мог быть? Никого не ожидаю. Разве Варенцова? Нет… Неужели Вера? Боже мой! Но у нее свой ключ.
Вернулась она вместе с Шорниковой. Та остановилась у входа, припала плечом к косяку. Ее простое, миловидное лицо было наполнено отчаянием.
— Людочка, золотая, — через силу выговорила она и ладонью прикрыла глаза, — страшная весть из Кронштадта. Все наши, кто уехал туда, арестованы, их будут судить, а Егор Канопул уже расстрелян…
— Канопул расстрелян? — Услышав слова Шорниковой, Дубровинский вбежал, схватил ее за плечи. — Это… правда?
Шорникова испуганно отшатнулась.
— Вы… вы здесь? — У нее застучали зубы.
— Да, мне удалось скрыться, — сказал Дубровинский. — И этим я обязан вам. Спасибо! Шлюпка с того парохода… Что с вами?
— Ничего… ничего… Пройдет. Такая неожиданность…
Он, ласково держа ее за плечи, отвел немного в сторону.
— Я должен вам сказать… Егор словно предчувствовал. Он просил передать вам, если что с ним случится, не поминать его лихом. Обещался он вам…
Шорникова горько всхлипнула, вырвалась и, пошатываясь, скрылась за дверью.
— Вот видите, Людмила Рудольфовна, как вы были неправы прошлый раз, дурно подумав о ней, — проговорил Дубровинский, провожая Шорникову сочувственным взглядом. — Как все это трагично! Убитая горем, не выдала бы она и себя неосторожно…
Вечером полковник Герасимов, начальник столичной охранки, положил на стол только что назначенного вместо Рачковского директора департамента полиции Трусевича коротенькую записку: «Прошу из „военки“ и из Комитета с.-д. пока никого не арестовывать, иначе я провалюсь. Акация». Трусевич поднял глаза вопросительно:
— Акация… Это Шорникова?
— Да, — подтвердил Герасимов. — Нам следует ее поберечь. Она в Кронштадте сделала большое дело. А Дубровинского, «Иннокентия», арестуем попозже. Он никуда не уйдет.
И Трусевич в знак согласия наклонил голову.
11
Арестовали Дубровинского только спустя два месяца.
Уже закончились суды над участниками Свеаборгского и Кронштадтского восстаний. Испили эту горькую чашу 2390 человек, из них 82 были расстреляны, остальные приговорены к каторжным работам и ссылке в отдаленные места Российской империи. На каторгу отправили и Гусарова с Малоземовым, Мануильского выслали в Архангельскую губернию. Всеобщая забастовка в поддержку восставших, собравшая под свои знамена свыше восьмидесяти тысяч человек, потеряла свой стратегический смысл — расширять и углублять вооруженную борьбу, начатую в Свеаборге и Кронштадте.
Вся монархическая печать трубила как о главнейшем событии в общественной жизни о подготовке выборов во вторую Думу, подчеркивая, что «доброе правительство» дает по-прежнему возможность участвовать в Думе представителям революционных партий. А между тем последовал царский указ о введении военно-полевых судов повсеместно, министерство внутренних дел опубликовало циркуляр о запрещении собраний, митингов, сходок, и шеф отдельного корпуса жандармов предписал всем губернским управлениям, чтобы «при усмирении волнений стрельба вверх впредь не имела места».
Жандармские руки тянулись к Ленину. Но он находился в Куоккала и оказывался под защитой финляндских законов; арестовать его, равно и других проживающих там русских революционеров, было не просто по формально юридическим основаниям. Оставалось вести за ними филерские проследки и подкарауливать добычу, когда она появится по эту сторону границы. Однако, к досаде охранки, Ленин никак не проявлял стремления быть арестованным, он очень осторожно и умно посещал Петербург, партийные и рабочие собрания, а чаще товарищи ездили к нему в Куоккала либо в Териоки, где особенно удобно было устраивать заседания. Резко антиправительственная газета «Пролетарий» с грифом «Москва, орган Московского и Санкт-Петербургского комитетов РСДРП» на самом деле издавалась и печаталась в Выборге, и Ленин был ее вдохновителем и руководителем.
Повышенный интерес охранка проявляла и к Крупской, Красину, Кржижановскому, Богданову, Лядову, сестрам Менжинским, но взять кого-либо из них не хватало достаточных оснований. Политические партии как таковые все еще были разрешены официально.
Относительно же Дубровинского у Трусевича, помимо точной сводки филерских проследок, лежала еще и общая справка особого отдела, характеризующая «Иннокентия» как революционера «безусловно вредного в политическом отношении направления».
Трусевич размышлял. Нужна какая-то зацепка для ареста, хотя бы мелочь. А там уже добавить. К кронштадтским волнениям Дубровинского не пристегнешь, время упущено. Просьбу Шорниковой нельзя было не уважить. Да нет и особой надобности пристегивать этого «Иннокентия» непременно к кронштадтским событиям. Там и без него собрана хорошая жатва. Будет важнее схватить его на новом деле, потому что эсдеки-большевики складывать руки не собираются, а «Иннокентий» при всей своей чахоточной тщедушности без устали мотается между Москвой и Петербургом, выполняя поручения Ленина. Эсеры опустили паруса, большая их часть потянулась к кадетам, другая, поменьше, хотя и пыжится «до последней бомбы» продолжать террор, успела даже скосить генерала Мина, так мастерски усмирившего декабрьское восстание в Москве, но тоже выдыхается. Меньшевики, и всегда-то склонные ко всяческим соглашеньицам с либеральствующими силами, теперь готовы слиться с ними в «единой конституционной партии», стань основным ее ядром эсеры или кадеты. Меньшевикам принадлежит и недурная идея о проведении всероссийского, чисто рабочего съезда, который, по их мысли, вполне возможно, признает ненужным деятельность вообще любых революционных партий. Гм, и это будет тогда, по существу, третья ступень после Зубатова и Гапона в попытках взять в свои руки рабочее движение. Но кто персонально из меньшевиков взойдет на эту третью ступень? Ленин рвет и мечет против такого предложения. Естественно. Он убежден, что будущее принадлежит большевикам. И пролетарской революции.
А что касается этого «Иннокентия»…
Трусевич надавил кнопку звонка.
Дубровинский только-только закончил свою речь на собрании партийных рабочих Нарвского района, рассказывая им о той борьбе, которую ведет Ленин за созыв экстренного съезда партии и против нелепой выдумки Плеханова и Аксельрода насчет «рабочего съезда», как дверь помещения распахнулась и ворвались полицейские. Под покровом черной осенней ночи они прокрались так незаметно, что стоявшие на охране дружинники не успели подать сигнала тревоги.
Свет погас. Впотьмах завязалась отчаянная драка, и кое-кто все же сумел прорваться сквозь полицейские заслоны, а Дубровинский, как и многие другие, был схвачен и со скрученными за спиной руками доставлен сразу в «Кресты», тюрьму, известную своим особо жестоким режимом.
С допросами не торопились. В первый же день Дубровинский назвался Макаровым. Предъявил паспорт. Ротмистр мило улыбнулся:
— Вы на этом настаиваете?
И, словно кошечку, погладил паспортную книжку.
— Ну, разумеется! С какой бы стати мне называть себя иначе? — ответил Дубровинский.
— А вы не придаете значения, господин не-Макаров, что тем самым вы добровольно затягиваете следствие? — с нежностью спросил ротмистр, совсем не придирчиво разглядывая паспорт. — Нам придется наводить справки там, где якобы выдан вам этот документик. Оттуда сообщат, что он подложный. Что вы тогда скажете? Придется открыть чистую правду. Почему бы не сделать это немедленно? Надеюсь также, что вы не станете отрицать своей принадлежности к руководству Петербургским комитетом РСДРП и что на незаконно созванном собрании рабочих вы произносили подстрекательскую речь?
— Отрицаю! И никаких показаний давать не стану.
— Ваше право, — охотно согласился ротмистр, — и ваша, возмутителей общественного спокойствия, обычная практика. Что же, счастливо провести вам время до выяснения вашей личности!
— Меня поместили в переполненную, душную камеру вместе с уголовниками. У меня легочная болезнь, я задыхаюсь от недостатка воздуха. Требую, чтобы меня освободили, — решительно заявил Дубровинский.
— И это ваше право. Однако до выяснения личности ничего изменить мы не сможем, — отозвался ротмистр. — Простите, может быть, неуместную шутку, но пока мы не знаем достоверно, кто вы, отчего нельзя полагать и вас уголовником? А касательно болезни вашей и недостатка воздуха, — если тюремный врач сие удостоверит, вам предоставят дополнительное время для прогулок. Впрочем, думаю, вы о всех наших порядках хорошо осведомлены, бывали уже в заключении.
Ротмистр не «думал», в департаменте полиции хорошо знали, с кем имеют дело. И отказ Дубровинского давать показания был для властей в известной степени на руку. Можно «медленно поспешая» выяснять его личность, можно вести бесконечные допросы, также всячески их растягивая, а опасный революционер тем временем будет сидеть в тюрьме.
Дубровинскому же тяжелее всего было переносить полную отрешенность от мира. Подать каким-либо образом голос на волю и добиться свидания с товарищами значило раскрыть себя и выдать других. Читать в тюрьме дозволялось только монархические газеты, а из них что узнаешь?
Он припоминал Сущевский полицейский дом и Таганскую тюрьму. Тогда было куда вольготнее. Одиночная камера — это же верх блаженства! Книги — почти какие угодно. Приносила передачи душевная и заботливая Мария Николаевна Корнатовская. Где она сейчас? И Анна Егоровна Серебрякова? Жаль, постепенно разрушились с ними связи. Кажется, они больше теперь тяготеют к эсерам. И все же разве забудется когда-нибудь их теплое человеческое участие?
Вспомнился и второй арест. Непроходящее чувство досады. Так нелепо накрыла полиция в доме Андреева! Тяжких восемь месяцев бездействия. Но революция шла на подъем, и тюремное начальство из личной осторожности опасалось жестоко притеснять политических. Рядом были друзья. Красин даже затеял отчаянную авантюру с подкопом. Приезжала на свидание Анна. Все это было возможно, когда Дубровинский для всех был Дубровинским. А теперь он — Макаров…
Теперь он Макаров и тем самым делает свои тюремные дни и ночи еще тяжелее. Режим в «Крестах» и всегда отличался необыкновенной строгостью, после же прихода к власти Столыпина стал и совсем невыносимым. Тюремщики знали, что революцию вновь загоняют в подполье и всяк сидящий здесь — кандидат на виселицу или на каторгу. Чего церемониться?
Осматривал врач. Покачал головой: «С вашим здоровьем да за такие дела…» И разрешил лишних полчаса на прогулку. Вот и все щедроты.
Особенно угнетали ночная духота, густой храп, от которого, казалось, сотрясаются стены. Лежа без сна, Дубровинский перебирал десятки вариантов возможного развития событий там, за стенами тюрьмы, чувствовал себя обязательным их участником. Иначе жизнь теряла смысл.
Побег — и такая мысль не раз приходила в голову — побег из «Крестов» практически невозможен. Остается ждать завершения следствия, суда, приговора. Так, может быть, все это поторопить, назвав себя собственным именем? Полиция до истины все равно докопается. А «манифест 17 октября», распахнувший было двери всех тюрем, еще раз уже не повторится. Впереди не ослабление карательных мер, а их усиление.
Но он не беспокоился о личных для себя последствиях. Важно было, пока живешь, пока есть силы, не оставаться в бездействии. И неосторожным поступком не причинить ущерба общему делу.
Иной раз ему виделось, что цель борьбы уже достигнута. И думал о молодых, о новых поколениях, ради счастья которых он сейчас томится в этой грязной, душной камере, а многие из его товарищей сложили свои головы; и думал, что истинные радости будут ожидать молодых только в том случае, если они не остановятся, а пойдут дальше своих отцов. Идти только вперед и вперед, пока не остановится сердце.
Анне одной тяжело. Конарский когда-то в яранской ссылке возмущался тем, что он, Дубровинский, революционер, обзавелся семьей. Но ведь и сам Конарский ныне женат. Когда приходит любовь, она не спрашивает, чем ты занят. Егор Канопул, предвидя возможную гибель, последние слова оставил любимой, и Шорникова — решительная женщина — надломилась, услышав страшную весть. Им, женщинам, любовь достается труднее. И все-таки правы сестры Менжинские, что полностью посвящают они жизнь свою революции. И хорошо — почему-то мысленно представилась Людмила, — что не теряют они при этом своего, чисто женского обаяния. Нет, нет, служение какой угодно высокой идее не может, не должно отнимать у женщин красоту и нежность!
Наступало утро. Он поднимался с жестких нар, измученный бессонницей, в липком поту от духоты, под гогот и матерщину уголовников. При каждом вызове к следователю он повторял требование: перевести его в одиночку или в общую камеру к политическим заключенным. Тот же прежде мило улыбавшийся ротмистр теперь выслушивал его все суше и суше. Отвечал сдержанно: «К сожалению, господин не-Макаров, одиночки все заняты, а в общую камеру к политическим до выяснения вашей личности я поместить вас не могу. Согласен, соседи ваши далеко не ангелы, но… Вот если бы вы помогли нам…»
И Дубровинский наконец назвал свое имя. Только это. По-прежнему отказавшись давать какие-либо показания. Пять месяцев тихой, упорной борьбы не сломили его, назвал он себя не как побежденный. Просто он отчетливо понял, что подлинная его фамилия давно известна и что подольше подержать его в «Крестах» полицейским властям только выгодно.
Теперь уже как Дубровинского его по этапу передали в Москву «для доследования по совокупности дел». Но здешние тюрьмы оказались переполненными еще больше, чем петербургские, и Гершельман, московский генерал-губернатор, на рапорте Климовича, начальника охранки, наложил размашистую резолюцию, из коей следовало, что «до вынесения приговора мерой пресечения для Дубровинского может быть избрана подписка о невыезде».
Он выехал из Москвы в тот же день, когда перед ним распахнулась дверь тюрьмы. Ему хотелось скорее заиметь «свой» вид на жительство, а «выправить» его возможно было только в Курске. Он получил новый паспорт в том же полицейском управлении, где однажды столкнулся с братом Григорием и тот потребовал от него замены отцовской фамилии.
А в дом родной, в Орел, сумел он заехать всего лишь на несколько часов — и снова в Москву. Пока он сидел в «Крестах», по всем партийным организациям начались выборы делегатов на съезд, и Московский комитет очень рассчитывал на его деятельное участие в этой большой работе.
«Ося, береги себя!» — умоляла его Анна.
«Берегите себя», — говорил и Обух, которого Дубровинскии навестил сразу же по возвращении в Москву. Врач так долго ворчал, что Дубровинский не выдержал, сбросил пиджак, рубашку и провел пальцами по выпирающим из-под кожи ребрам.
«Владимир Александрович, — сказал он, — ну посмотрите сами. Да, я тощ, как лошадь после голодной зимы у замотанного нуждой мужика. Но значит ли это, что на такой лошади уже и пахать нельзя? Только работа на пашне спасет и мужика и лошадь. В тюрьме мне было голодно, теперь, на подножном корму, я отъемся, и все будет отлично. Прослушайте меня, вижу — вы к этому клоните, и перейдем к серьезному разговору».
«Ну что же, Иосиф Федорович, — проговорил Обух, закончив осмотр, — все как полагается. И следов не осталось от вашего лечения в санатории. Знаю, советов моих вы все равно не послушаете. Перейдем к серьезному разговору: не попадайте снова в тюрьму!»
Но он попался. Ровно через месяц. Он, счастливый тем, что избран московскими большевиками делегатом съезда. Ему казалось: он соблюдает такие испытанные меры предосторожности, что никакая слежка не страшна. И действительно, весь этот месяц, выполняя поручения Московского комитета, он проводил рабочие собрания и выступал на митингах под различными кличками и фамилиями — при случае и гримируясь. Ночевал, постоянно меняя квартиры. Никому не писал, кроме одного раза домой и второго в Питер, Людмиле Менжинской, с просьбой сообщить товарищам, что он свободен. И все же не ушел от «недреманного» ока охранки.
Его схватили на собрании в Замоскворечье совсем так, как полгода назад в Питере. Скрывать свое имя здесь не имело никакого смысла, и следствие было очень коротким, по «совокупности дел».
В Лефортовский полицейский дом, куда, опять-таки в общую камеру, втиснули Дубровинского, явился сам начальник охранного отделения подполковник Климович. Он вызвал арестованного в кабинет смотрителя и, оставшись наедине, сказал доверительно:
— Господин Дубровинский, справка, которую мы готовим, весьма и весьма неблагоприятна. Каждый ваш шаг за многие годы выверен нами с предельной тщательностью. Позвольте не подтверждать мои слова предъявлением проследок. И вот создается любопытная ситуация: мы о вас знаем все, и вы знаете, что мы о вас знаем все. Но вы тем не менее всегда упорствуете в нежелании давать правдивые показания, очевидно памятуя пословицу «не пойман — не вор». А может быть, все-таки достаточно нам играть в кошки-мышки?
— Не понимаю, к чему вы клоните, — сказал Дубровинский. — Однако если вы меня причисляете к ворам…
— О боже мой! Какой вы придира! — воскликнул Климович. — Прошу прощения за неловкие слова. А клоню я к тому, господин Дубровинский, что если вы, не называя никаких других имен и в любой удобной вам форме, удостоверите в своих показаниях неучастие некоей Шорниковой в кронштадтских собраниях, я готов буду составить более мягко свою справку.
Дубровинский остолбенел от неожиданности. Так, напрямую, цинично, предлагать ему сделку с совестью! Но почему именно речь о Шорниковой? Вдобавок о ее «неучастии»? Если бы наоборот…
— Не знаю никакой Шорниковой, — сказал он медленно, — и о кронштадтских событиях, кроме газетных публикаций, ничего я не знаю. И наконец, торговыми делами с полицией никогда не занимался и не собираюсь заниматься.
— Ну вот видите, какой у нас получается разговор! Шорникову вы знаете, и я знаю, что вы ее знаете; и вы знаете, что я знаю, что вы ее знаете. Словом, как раз по Киплингу. Однако вы становитесь в позу и говорите красивые, но, извините, фальшивые слова. Хотя естественнее было бы спросить: «А для чего вам, Евгений Константинович, это нужно?» Извольте, отвечу. Шорникова — родственница одного моего доброго друга. Увы, бывает и такое. И ваше свидетельство, даже брошенное вскользь, дает мне большие шансы отвести от нее беду. Мы ведь тоже люди. Вот я насколько с вами откровенен.
«Ага! Вы хотите, чтобы, защищая Шорникову, я тем самым выдал себя, признал бы косвенно свое участие в Кронштадтском восстании!» — едва не вырвалось у Дубровинского.
Но он овладел собою. Промелькнула и другая, обжигающая мысль: «а что, если правду говорит этот охранник? Если он, Дубровинский, может помочь Шорниковой, поскольку это совпадает с интересами Климовича, и откажется, побоявшись поставить себя под удар? Тогда как?»
— Могу подтвердить только то, что говорил уже раньше, — трудно было произнести такие слова. Если бы Климович не обещал ему некую личную выгоду, он, пожалуй, подумал бы и еще. А так странно: признать себя виновным и после надеяться на какие-то уступки со стороны Климовича. Нет! Тут что-то неладно.
— Вы боитесь выдать свою причастность к кронштадтским событиям. — Климович с грустью подчеркнул слово «свою». — Хотя, опять-таки по Киплингу, вы знаете, что я знаю, что вы хорошо знаете, что я хорошо знаю о вашей причастности во всех подробностях. Жаль бедную женщину, но — бог вам судья!
— Точнее, не бог, а военно-окружной суд, — через силу усмехаясь, проговорил Дубровинский. Его всю ночь знобило, и теперь лихорадочный жар, слабость разливались по всему телу.
— Не стану мстительно сожалеть. Но поскольку вы попались не с оружием в руках, ваше дело, господин Дубровинский, не будет рассматриваться в суде, оно решится в упрощенном порядке Особым совещанием, образованным согласно статье… Впрочем, вас не основы законов волнуют. Тяжесть наказания? Предполагаю: высылка под гласный надзор полиции в северные районы губерний азиатской России сроком на четыре года. Таково будет мое ходатайство перед градоначальником, его превосходительством Рейнботом, а что затем определят высшие инстанции, предсказать не могу. Честь имею!
Климович ушел. Дубровинского увели в камеру. Он лежал, растомленный высокой температурой, закинув руки за голову, испытывая на голых досках тюремных нар боль во всем теле, и думал, что действительно получается как бы по Киплингу: Климович все знает о нем, и он все знает о Климовиче, а тем не менее признание на бумаге — дело совсем иное.
И еще он угнетенно думал, что в отношении Шорниковой поступил нехорошо: к тому горю, которое она перенесла, узнав о расстреле Канопула, теперь может прибавиться и личное ей обвинение, а стало быть, грозит тюрьма, каторга или ссылка. Но мог ли он вступить в базарный торг с охранником, не унизив достоинства партии!
Ему казалось, что он о Климовиче знает все, так же как все и Климович знает о нем. Но он не знал, что Климович не знал, как относится к Шорниковой Дубровинский, единственный из руководителей Кронштадтского восстания, преданных этой женщиной, и пока уцелевший от военно-полевого суда. Не подозревает ли Дубровинский Шорникову в провокаторстве? Климовичу по просьбе его петербургского коллеги Герасимова, теперь уже генерала, надлежало выяснить только это. Ответ он прочитал на лице Дубровинского. Остальное было простой игрой в кошки и мышки.
12
Анна измучилась в бесконечных хождениях по канцеляриям. К большому начальству пробиться она не смогла. Свидания с мужем тоже не дозволялись. Однако пути к обмену с ним записками она все же нашла с помощью «барашка в бумажке». А действовать надо было очень энергично и быстро, так считали в Московском комитете РСДРП. Уже по всем ступеням административной лестницы, обрастая должными резолюциями, пошло предложение охранного отделения о высылке «одного из наиболее вредных для государства деятелей революционного направления Осипа Дубровинского» в Сибирь. Уже на рассмотрении самых высоких чиновников департамента полиции лежал проект соответствующего решения Особого совещания. Стоило этому проекту передвинуться еще на несколько столов, быть перепечатанным на орленой бумаге, получить санкцию грозного министра внутренних дел Столыпина — и ничего в судьбе человека изменить не удастся.
А Дубровинский между тем находился на койке в приемном покое Лефортовской полицейской части, потому что даже по утрам его жгла высокая температура, к вечеру становясь и совсем убивающей. При всей суровости режима ему не могли отказать в переводе на больничную койку, однако попытки тюремного врача Савицкого, человека отзывчивого и гуманного, как-то и еще облегчить положение Дубровинского, не имели успеха. Он при встрече сказал Анне, что если последует решение Особого совещания, проект которого подготовлен Климовичем, ее мужа могут по этапу направить в Сибирь, не считаясь с состоянием его здоровья.
— Ах, знаете, мадам, как бесчувственны в наше время люди! — скорбно восклицал он. — Разумеется, при очень значительных обострениях болезни ему окажут некоторую медицинскую помощь. Но если такие обострения возникнут на тяжелом и неблизком пути в Сибирь? Кто о нем позаботится? И какое может быть лечение в его положении? Болезни нужно не лечить, а предупреждать их развитие.
— Господин Савицкий, я очень благодарна вам! Все, о чем вы сейчас говорите, я знаю. Посоветуйте, что именно я должна еще предпринять. Нравы начальства вашего вам лучше меня ведомы.
— Одних только моих врачебных свидетельств мало, мадам! Добейтесь назначения консилиума, добейтесь замены Сибири какой-либо южной губернией. Добейтесь, — он даже понизил голос, хотя они были совершенно одни, — добейтесь замены ссылки в Сибирь высылкой за границу. Для лечения.
— Это возможно?
— Это совершенно невозможно, мадам! Но вы добейтесь.
Анна сделала невозможное. Она заручилась разрешением московского градоначальника Рейнбота пригласить для осмотра врача Обуха, ранее лечившего больного. И Обух вместе с Савицким составили должное медицинское заключение. Более того, Обух по давней своей дружбе с Тимофеевым, почетным лейб-медиком двора его императорского величества, убедил того послать еще и личное свое письмо Рейнботу, в котором Тимофеев умолял выслать Дубровинского за границу, «чтобы дать ему возможность хотя бы напоследок подышать чистым, теплым воздухом».
И это не было ни жалостливыми словами, ни хитрой уловкой. Врачи профессионально понимали, что тюрьма или Сибирь очень скоро сведут Дубровинского в могилу.
Не было жалостью и постановление Особого совещания, скрепленное подписью всесильного министра, о разрешении назначенному к ссылке Дубровинскому выехать за пределы страны для лечения.
Председательствовал на заседании Особого совещания стремительный, категоричный товарищ министра внутренних дел Макаров — эхо Столыпина. Выслушав вялый доклад директора департамента полиции Трусевича по длинному списку лиц, подлежащих разного рода репрессиям, и наклонами головы с Трусевичем во всем соглашаясь, он остановил свое внимание на фамилии Дубровинского.
— Позвольте, Максимилиан Иванович, здесь у меня иное мнение. Ведь это именно тот гусь, которого мы лет десять не выпускаем из своего поля зрения, которого арестовываем уже в четвертый раз и который, без сомнения, является весьма вредной фигурой!
— Так точно, Александр Александрович! — подтвердил Трусевич. — Но относительно смягчения меры наказания, помимо настоятельного ходатайства его самого, его жены и врачебного консилиума, имеется соответственное представление также московского градоначальника Рейнбота. Отклонить? Дубровинский действительно человек опасный.
Макаров выпрямился в кресле, сощурил глаза, что всегда у него было признаком этакого внутреннего озарения, дозволявшего принимать самые неожиданные решения.
— Нет! — сказал он и от удовольствия даже прищелкнул пальцами. — Поддержим Рейнбота. Более того. Назначить Дубровинскому ссылку не четыре года, а три года. Выслать не в азиатскую Россию, а в Вологду. Наконец, разрешить ему вместо ссылки выехать за границу. Пусть лечится! Вы удивлены? Но скажите, что такое Дубровинский и где он для спокойствия государства опаснее? Дубровинский не теоретик марксизма, подобно Ленину. Он организатор, человек практического склада. Притом удивительный фанатик! А живя за границей, он быстро превратится в завсегдатая тамошних кафе и ресторанов, в обычного болтуна, и не больше. Здесь же он будет без конца создавать центры притяжения революционных сил. Вы уверены, Максимилиан Иванович, что сумеете удержать Дубровинского в ссылке? Было бы правильнее всего предать его военно-полевому суду. Но возможный момент мы упустили. Пренебречь состоянием его здоровья — значит возбудить без нужды общественное мнение. Господа, а мы обязаны, где это полезно, все же соотносить с ним наши действия. Если бог примет душу Дубровинского в Женеве или в Париже, это в любых отношениях, право же, лучше, нежели его душу примут черти в Вологде или Сибири. А вам, Максимилиан Иванович, следует дать за рубеж специальное указание превосходному Гартингу, чтобы с первых же дней он посадил на хвост Дубровинскому толкового агента.
И уже в середине мая, уплатив положенный сбор, Дубровинский получил проходное свидетельство. Это казалось фантастикой. Фантастикой еще и потому, что его словно бы подстегивали сжатыми сроками выезда в то время, когда и сам он страстно желал этого, чтобы успеть как делегату попасть на съезд, который намечалось провести в Копенгагене, но открыли его, по слухам, как будто бы в Лондоне.
На сборы давалось всего три дня, без права отлучки из Москвы. Дубровинский представлял себе, что эти три дня он будет жить точно в фонаре, просматриваемом филерами насквозь. Нельзя было давать им в руки нити, связывающие его с товарищами. Он не решился даже поселиться по старой дружбе у Никитина, а попросил приюта у Сильвина, зная, что за Сильвиным так и так установлена слежка. Не посылал никому и писем. Анна помогала ему в сборах. Она понимала, что теперь долго, очень долго его не увидит.
— Ося, может быть, мне съездить в Орел и привезти сюда девочек? Или вызвать с ними тетю Сашу? — спросила она, помахивая нагретым утюгом и соображая, что надо бы прикупить еще пару-другую белья. А денег просто в обрез.
Дубровинский задумался. У него сладко кружилась голова. И от свежего воздуха в просторной квартире Сильвина, особо свежего после тюремной камеры. И от слабости, которая все время томила после того, как врачам удалось сбить высокую температуру, остановить кровохарканье. И от счастливого ощущения свободы, которой все-таки он уже пользуется и которая совсем неограниченно откроется ему через несколько дней, как только он окажется по ту сторону границы. Повидать малышек еще раз перед отъездом, послушать их милую воркотню? Но — и обязательно слезы. И увезти с собой долгую боль расставания.
— Нет, Аня, это будет жестоко, — сказал он. — Я и так их обманываю своими коротенькими появлениями. Пусть лучше привыкают думать о папе, который все ездит и ездит неведомо где.
— Я тоже должна привыкать к такой мысли, Ося? Во всяком случае, на ближайшие три года я себя к этому приготовила. А потом мы, кажется, с тобой заберемся в лесную глушь? — Анне хотелось этот разговор обратить в шутку. — Впрочем, ведь это к старости! Плохо долго быть молодой!
— И мне иной раз делается смешно, Аня, когда я подумаю о своей старости. Мне нынче исполнится всего тридцать лет. А допустим, обер-прокурору святейшего синода господину Победоносцеву восемьдесят. Он стар, ничего не скажешь — стар. Но этих его лет я достигну только в тысяча девятьсот пятьдесят седьмом году. Ты можешь представить и себя и меня в таком возрасте? И можешь представить Россию в тысяча девятьсот пятьдесят седьмом году? Сколько еще нам нужно быть молодыми? Не ходить же целых пятьдесят лет в стариках! Но когда я оглядываюсь на прожитые годы, Аня, я вижу, как я долго живу. Такая длинная жизнь человеческая. И все же, Аня, давай назначим уход наш под зеленую листву не раньше середины века.
— Согласна! Но скажи, Ося, тебе достаточно будет с собой шести воротничков к сорочке? — Она помахала утюгом, засмеялась. — Мне хочется, чтобы ты выглядел там, как Плеханов.
— Тебе хочется, чтобы я походил на него только в части крахмальных воротничков?
Анна ничего не ответила, принялась гладить белье. Потом, словно бы между прочим, проговорила:
— Мне здесь, в товариществе «Мир», предлагают должность секретаря. Как ты смотришь на мой переезд в Москву? В Орле нам будет труднее.
— Да. — Он не знал, как отозваться на это. — Но там все же тетя Саша…
— Тетя Саша окончательно прогорела. Она решила все распродать с молотка — другого выхода нет — и уехать в Москву. После аукционной распродажи ей неприятно будет мозолить глаза орловской публике. С долгами она, может быть, и рассчитается, но вновь хотя бы самую маленькую мастерскую ей уже не открыть. А я, кстати, и шляпы шить не умею.
— Но как же с квартирой? Где вы будете жить?
— Есть выход, Ося. В Козихинском переулке можно снять по сходной цене большую квартиру. Две комнаты займем сами, а остальные три, уже от себя, станем сдавать нахлебникам.
— И я опять не смогу вас поддерживать, — с горечью проговорил Дубровинский. — Все это страшно меня угнетает. Не я о вас, а ты обо мне постоянно заботишься. Вместо Сибири я уеду в Лондон. И это ведь тоже только благодаря твоим хлопотам, Аня!
— Но мы же условились навсегда, Ося, что каждый делает то, в чем он сильнее другого! И еще. Ты твердо обещал мне, что станешь лечиться. Когда ты начнешь выполнять это свое обещание?
— Начал уже! Дышу свежим, не тюремным воздухом — значит, лечусь. Поеду по Европе — тоже лечение.
— Да, и станешь жить впроголодь, а ночи проводить в жестоких спорах. Там найдется с кем спорить! И это будет все твое лечение, Ося. Но я тебя ни от чего не отговариваю. Ты ведь тоже не можешь отговорить меня не думать о тебе? Когда ты будешь в Лондоне? Дней через семь-вссемь?
Она замолчала. Дубровинский прижался щекой к щеке и понял: Анна беззвучно плачет.
13
В Лондон приехал он на пятый день. Везло ему неимоверно. И на границе, где без всяких проволочек обменяли ему проходное свидетельство на паспорт. И на пути в Англию, где отличное знание немецкого языка во многом избавляло от разного рода житейских трудностей, которых не оберешься, будучи «безъязыким». И наконец, совсем уже приятная неожиданность: на вокзале Черинг-Кросс, где в человеческом водовороте так легко было утонуть, его встретил Житомирский.
Если бы тот не окликнул: «Товарищ Петровский» — псевдоним, под которым Дубровинский был избран делегатом на съезд, в толпе встречающих он Житомирского не узнал бы. Когда-то, почти три года назад, мимолетное знакомство на квартире Мошинского, и только. Тогда Житомирский казался совсем юнцом да и теперь не очень посолиднел, но все же в его жестах и речи приобрелась какая-то округлость с оттенком наставительности.
— Удивлены? — спросил он, отнимая у Дубровинского небольшой чемодан и свободной рукой показывая, в какую сторону идти. — Я тоже удивлен. В этакой суматохе нелегко узреть нужного человека. К тому же, признаться, я не особенно и ожидал вас сегодня, приехал на вокзал так, на всякий случай. Не на ковре ли самолете примчались вы в Лондон?
— Пожалуй, — сказал Дубровинский, с любопытством оглядывая открывшуюся перед ним вокзальную площадь, по которой медленно проползали двухэтажные омнибусы, — когда очень стремишься к цели, ковер-самолет всегда оказывается тут как тут.
— Браво! Вы оптимист! — заметил Житомирский. — У меня чаще бывает наоборот: когда спешишь, как назло, не только ковра-самолета — обыкновенного «ваньку», извозчика, не сыщешь.
— Я очень благодарен вам, — растроганно сказал Дубровинский. — Встретить меня — на это я никак не рассчитывал.
— Все проще пареной репы. Во-первых, мы получили телеграмму от московских товарищей, из коей можно было понять, что вы наконец освобождены из заточения и выезжаете сюда. Во-вторых, я как-то сразу, еще в Ростове, возымел к вам симпатию и запомнил вас в лицо. И в-третьих, я вхожу в состав хозяйственной комиссии съезда именно от фракции большевиков. Все это вместе взятое и привело меня на Черинг-Кросс. К тому же, как вы, может быть, помните, я врач по профессии, а вы, я знаю, серьезно больны и…
— Сейчас вполне здоров.
— Понимаю. Испили живой водицы. Иными словами, свободы. Здесь вы ее почувствуете еще больше. Ради смеха подойдите к любому полисмену и — вот вам первая фраза по-английски — спросите его, как проехать в «Бразерхуд черч». Если он задумается, добавьте: «На конгресс русских социал-демократов». И он вам объяснит самым точнейшим образом, при этом обязательно похлопает по плечу.
— Почему похлопает обязательно?
— Потому что все лондонские полисмены читают газеты и, следовательно, знают о нашем съезде. И наконец, каждый английский полисмен считает себя на голову выше любого из русских дикарей.
Они влезли в пестро размалеванный рекламными надписями омнибус и поехали. Житомирский чувствовал себя словно рыба в воде — видно было, что к лондонскому укладу жизни он вполне притерся. Дубровинский спросил его, куда они сейчас едут, и Житомирский ответил как само собой разумеющееся:
— Да прямо в эту самую «Бразерхуд черч». Не спрашиваю, нуждаетесь ли вы с дороги в отдыхе, вы же сами заявили, что здоровы вполне. А сегодня последний день съезда. И мы, вероятно, попадем лишь к самому концу заключительного заседания.
— Ну, тогда мне еще раз повезло! А я дорогой примирился с мыслью: не успею.
— Съезд мог бы кончиться и раньше, но его затянули меньшевики долгими спорами и о порядке дня да и вообще скандалами по любым вопросам, — сказал Житомирский, устраиваясь с Дубровинским поближе к раскрытому окну. Май месяц, но в омнибусе было по-летнему жарко. — Съезд мог бы и еще продолжаться, потому что повестка его не исчерпана, однако и денег нет, положение в этом смысле сверхтяжелое, и помещение должны освободить, а где же так быстро найдешь новое… Кстати, сегодня все заседание ведет Владимир Ильич. Тяжелый день. Принимаются резолюции. Предстоят выборы в Центральный Комитет. Меньшевики костьми лягут, чтобы не допустить туда Ленина.
— А нам надо костьми лечь, чтобы Ленин был избран! — сердито сказал Дубровинский.
— Само собой. Но этого мало. На меньшевистское «лечь костьми» против Ленина не худо и нам «лечь костьми», скажем, против Мартова и Дана. Око за око, зуб за зуб.
— Значит, и на этом съезде нет доброго согласия.
— А какое же может быть согласие, если в партии по-прежнему остаются фракции! — воскликнул Житомирский. — Меньшевики стакнулись с бундовцами, зато на нашей стороне поляки, латыши и литовцы. И в целом побеждаем мы. Но с боем, с боем, Иосиф Федорович! Вот, скажем, об отношении к буржуазным партиям. Казалось бы, чего яснее. Главной движущей силой и гегемоном буржуазно-демократической революции является пролетариат, а его союзником — крестьянство. Так нет же, и теперь, на съезде, меньшевики добивались, чтобы руководящую роль признать за либеральной буржуазией, то есть толкнуть рабочую партию в объятия кадетов.
— Словом, поправить Маркса! Устроить ему ревизию!
— При открытии съезда Плеханов заявил: «К счастью, в нашей партии почти нет ревизионистов, оппортунизм слаб». Ленин в ответ ему: «Оппортунизм слаб. Пожалуй, если считать слабыми произведения самого Плеханова!»
— А резолюцию какую приняли?
— Нашу! Да и по всем другим вопросам прошли или проходят наши проекты резолюций. В крайнем случае с некоторыми поправками. И о думской тактике, и о профессиональных союзах, и о рабочем съезде — тут меньшевиков с особым треском провалили, и об организационном уставе. Теперь никакого двоецентрия, редакция Центрального Органа партии будет назначаться ЦК и ему подчиняться. Единственно, в чем, кажется, нас подомнут меньшевики, так это насчет партизанских выступлений и вообще подготовки к вооруженному восстанию. Они призвали полностью сложить любое оружие, кроме, так сказать, языков, и распустить все рабочие боевые организации.
— Как? При любых условиях? А если народные массы вновь всколыхнутся и восстания станут неотвратимыми?
— Все равно, при любых условиях. Словом, черносотенцы нас бить могут, а мы их — не смей. По моим расчетам, как раз сейчас голосуется эта резолюция. Жаль, конечно, Иосиф Федорович, что попали в Лондон вы под самое закрытие. Наряду с большой важностью, которую имеет этот съезд и ваше в нем участие, он просто еще и интересное зрелище…
— Наши внутрипартийные битвы всегда интересны, но не как зрелище. В этом, товарищ Житомирский, с вами я не согласен.
— Кстати, здесь я Отцов. Так и называйте при людях, на случай — попадет потом мое имя в лондонскую печать. И вы твердо держитесь своей новой клички — Петровский. Это постановлено съездом и касается всех, хотя, в частности, нас с вами и не должно бы касаться. Мы после съезда в Россию возвращаться не будем, а здесь безопасно, не арестуют… Ну, а насчет зрелища — это же для красного словца. Представляете себе, к примеру, такую картину. Маленькая, уютная церковка, строгая готика — впрочем, вы это сами увидите, — внутри, поскольку она англиканская, великолепный двухсоттрубный орган, и вдруг из уст седеющего и похожего на патера Плеханова звучат такие слова: «Мы люди не робкие, у нас нет никаких оснований чувствовать страх перед своими противниками. Однажды Бисмарк, споря с Либкнехтом, заявил: „Мы, немцы, никого не боимся, кроме бога!“ Либкнехт ему ответил: „А мы, социал-демократы, не боимся даже и бога!“ Так вот мы, меньшевики, еще бесстрашнее: мы не боимся не только бога, но и большевиков, которые страшнее бога!» И в этот момент на хорах кто-то из гостей нечаянно, а может быть, и с умыслом надавил на басовые клавиши органа.
— Забавно, — сказал Дубровинский, — прелестный анекдот. А политический смысл?
— Политический смысл, по Плеханову, прост. Большевиков и их сторонников сто семьдесят восемь, а меньшевиков со своей свитой сто пятьдесят четыре, но тем не менее, мол, большевики будут биты.
— И не вышло?
— Нет. Пошли по шерсть, а вернулись сами стрижеными. Но вот вам вторая картинка. Уже не анекдот. Меньшевики навалились на нас, дескать, мы окаменели, в то время как сами они являют пример удивительной гибкости…
— Беспринципности! Приспособленчества и виляния!
— Погодите. Роза Люксембург в своей речи и говорит: «Но ведь твердокаменность есть та форма, в которую неизбежно выливается тактика на одном полюсе, когда она на другом полюсе принимает бесформенность студня, расползающегося во все стороны». Здорово? Аплодисменты и свист. А на другом заседании Либер припомнил это. И давай оправдывать возможность соглашения с любыми — не революционными — партиями в зависимости от обстановки. Поляки кричат: «Сидеть на двух стульях?» Либер: «А на каком стуле сидит Люксембург?» Опять и свист и аплодисменты. Радуются: срезали Розу. Но Плеханову мало, он добивает: «Либер спросил, на каком стуле сидит Люксембург. Наивный вопрос! Люксембург не сидит ни на каком стуле. Она, подобно Рафаэлевой Мадонне, витает в облаках…» Плеханову всегда аплодисменты. Театр! И университет. Глубокая философия. И танцы на проволоке с японским веером. Выходит Ленин на трибуну. Он серьезен, говорит, что мы допускаем совместные действия с частью буржуазии, но лишь тогда, когда она, эта часть, принимает нашу политику, а не наоборот. Вопрос о том, какие и с кем совместные действия от случая к случаю допустимы, ради какой цели. И дальше: «Плеханов говорил о Розе Люксембург, изображая ее Мадонной, сидящей на облаках. Полемика изящная, галантная, эффектная. Но я бы спросил Плеханова: Мадонна Мадонной, а вот как же вы думаете по существу вопроса? О самостоятельности классовой борьбы пролетариата. Плохо ведь это, если Мадонна понадобилась для уклонения от разбора вопроса по существу». И снова свист, аплодисменты. В этот раз никто на клавиши органа не надавливал. Тяжелая схватка, борьба по коренным позициям…
И, все более увлекаясь, Житомирский стал рассказывать, как трудно проходят заседания съезда из-за постоянной обструкции меньшевиков и бундовцев. Дубровинский хмуро вслушивался в его слова. Он знал, что съезду легким не быть, но картины, какие порой с оттенком непонятного злорадства рисовал Житомирский, превосходили все предположения. Хорошо, что принимаются проекты большевистских резолюций, но главное, пожалуй, в том, как после съезда эти резолюции станут выполняться меньшевиками. Было же время, когда он сам фанатично верил в возможность прочного мира с ними, старался достичь его, а в результате толок воду в ступе. Как много теперь ему надо наверстывать!
Мимо окна омнибуса проплывали дома, тесно сдавленные, почерневшие от дыма и пыли. Пробиваясь навстречу потоку экипажей, прошествовала какая-то манифестация, этак человек в семьдесят, с небрежно намалеванными плакатами на длинных палках. Стоящий на перекрестке полисмен равнодушно посмотрел на них и столь же равнодушно приостановил движение экипажей, чтобы дать манифестации дорогу. Они прошли, не вызывая к себе и со стороны публики ни малейшего интереса. Похоже было, что и сами-то они идут без какой-либо страстно желанной цели, так, словно щепочка плывет на речных волнах.
— Что это? — спросил Дубровинский. — Куда они идут?
— А, это английская свобода, — объяснил Житомирский. — Куда идут? Да просто по людным улицам. Будут ходить, пока не наступит обеденное время. Оно здесь святое. Надписи на плакатах я не успел разглядеть. Может быть, призывают свергнуть правительство. Или желают здоровья королю. Или требуют повышения заработной платы. Или поддерживают наш конгресс. Здесь доступно выходить с плакатами на улицы по любому поводу. Но стоять нельзя. Вот они и ходят. Стоять и произносить самые зажигательные речи можно только в Гайд-парке. Там для ораторов есть специальный уголок. Приноси с собой ящик, бочку, взбирайся и митингуй. Авось кто-нибудь подойдет и послушает. У хроникеров английских газет глаза на лоб лезут, когда они видят, как проходят наши заседания в «Бразерхуд черч». Впрочем, вы и сами скоро увидите!
Они вошли в здание небольшой церквушки, выложенной из красного кирпича, как раз в тот момент, когда Ленин, председательствующий на съезде, дочитывал последние строки резолюции о партизанских выступлениях и ставил ее на поименное голосование. После яркого уличного света Дубровинскому помещение показалось узким, темным ущельем, по склонам которого с обеих сторон сидели люди. Теперь они вскакивали, шумно сбегали вниз и бросали в ящики перед столом президиума записки. Житомирский подтолкнул Дубровинского, отобрал у него чемодан.
— Дайте. Потом я отвезу вас к себе на квартиру. А вы голосуйте. Для ясности: наши сидят справа, меньшевики слева, а посредине бундовцы, латыши, литовцы и поляки.
И Дубровинский с бьющимся сердцем — впервые присутствует на съезде! — поставил на листке бумаги свой псевдоним «Петровский», протиснулся к столу и опустил записку в ящик. Выйдя из-за стола президиума, в этот же ящик бросил свою записку Ленин. В следующий момент они встретились глазами, и Ленин еще издали воскликнул:
— Иосиф Федорович! — Пробрался к нему. — Заждались мы вас здесь, заждались. — Он тряс Дубровинскому руку и озабоченно вглядывался в его лицо. — Досталось, батенька, в российских кутузках вам подходяще? А впрочем, здесь нам тоже достается! Но ничего. Все хорошо. Все даже очень хорошо! И то, что плохо, тем уже хорошо, что мы знаем, где именно зарыта собака! А что в России за последние дни? Сильно свирепствуют власти? Как они отпустили вас за границу? Щуку бросили в реку!
— Признаться, Владимир Ильич, и я удивлен. До сих пор не могу поверить, что за мной по пятам не ходят филеры. А власти в России свирепствуют. Перед самым отъездом узнал я, что иркутский генерал-губернатор Селиванов предал военно-окружному суду семьдесят человек по единственному обвинению — принадлежность к комитету РСДРП.
— Да! Хотя в Иркутске нет крейсеров «Очаков» и «Память Азова». Селиванову хочется стяжать лавры покойного Трепова, а Столыпину — забежать вперед Плеве и Дурново. Вы представляете, департамент полиции разослал во все пограничные пункты списки лиц, принимающих участие в нашем съезде, чтобы задержать их при возвращении на родину! Каково? Надеюсь, списки неполные. И тем не менее опасность ареста реальна для многих. Охранка не дремлет. Но и мы не спим. Наши товарищи умно готовят отъезд делегатов. Простите, совсем забыл спросить вас о здоровье. Товарищ Обух рассказывал, что вам необходимо серьезно лечиться.
— Владимир Александрович склонен к преувеличениям. Сейчас я абсолютно здоров. И готов к любой работе.
— Работа найдется, меньшевики и бундовцы тосковать не дадут. Извините, голосование кончилось, и мне должно вернуться на свое место. Вслушайтесь в музыку съезда.
Ленин потряс колокольчиком, призывая соблюдать тишину, и объявил, что надлежит принять резолюцию о профсоюзах. Нет смысла открывать прения, поскольку проект утвержден в комиссии значительным большинством. И показал на рядом сидящего с ним в президиуме Дана.
— Но от товарища Данилова поступило заявление, что резолюцию о профсоюзах вообще не следует принимать. Мотивировки никакой. Как быть?
— Мотивировка понятна: затянуть заседание! — крик справа.
— Выслушать объяснения! — крик слева.
И общий топот, шум. Резкие возгласы: «Отклонить! Отклонить! К делу! Голосуйте!»
— Хорошо, я голосую, — сказал Ленин. — Не резолюцию, а предложение Данилова. Отклонить? Бесспорное большинство. Теперь голосуется резолюция…
— Дайте мне слово для протеста!
— Товарищ Череванин, вы должны знать, что протесты подаются письменно. — Ленин с неудовольствием посмотрел в его сторону. — А вы что кричите, Хрусталев?
— Комиссия не вправе предлагать съезду резолюции!
— Таково было решение съезда. На всех заседаниях резолюции принимались именно так!
— С общего согласия! — закричал с места Плеханов.
— Но я только что спрашивал съезд, и он решил голосовать без обсуждения! — возразил Ленин. — Прошу голосовать поднятием рук. Кто — за?
Поднялось множество рук справа, и вместе с тем невероятный шум, топот и свист на левой стороне зала. Напрасно Ленин звонил, стучал ладонью по столу, его не слушали. Тогда он достал часы, посмотрел на них, записал на листке бумаги время, засунул руки в карманы и сделал вид, что готов ждать сколько угодно. Прошло три-четыре минуты. Шум понемногу стал утихать. Ленин высвободил правую руку, поднял ее.
— Вторично спрашиваю съезд, намерен ли он открывать дискуссию? Голосую. Кто — за? — Руки, очевидное меньшинство, поднялись только на левой стороне. И Ленин объявил: — Дискуссия отвергнута. Голосуется резолюция… — Снова множество поднятых рук. — Резолюция принимается… — И снова шквальный грохот и свист на левой стороне не дал ему закончить. Он наклонился к Дану: — Чего же вы хотите?
— Это хотят они, делегаты, — насмешливо ответил Дан. — А я ничего не хочу. Я вносил предложение вообще не принимать резолюции.
— Но это же невыносимо! — Ленин снова стал трясти колокольчик. — Товарищи меньшевики, прошу тишины. Чего вы хотите?
Ответом был беспорядочный шум, сквозь который прорезались отдельные выкрики: «Голосовать поименно!», «Вам послан письменный протест!», «Соблюдайте регламент!»
В свою очередь не выдержали и большевики: «Довольно!», «Прекратите безобразие!», «Председатель, переходите к следующему вопросу!»
На стол президиума лег лист бумаги, испещренный подписями. Ленин глянул в него, иронически усмехнулся и поднял над головой.
— Поступил письменный протест от комитета фракции меньшевиков. Подчиняюсь регламенту, — сказал он. — Объявляю поименное голосование. Хотя смысла в этом, кроме явной потери времени, я не вижу. — Теперь возбуждение перекинулось в центр и на правую сторону. — Товарищи, успокойтесь! Формальный протест меньшевиков по принятому съездом регламенту обязывает голосовать вторично. Прошу подавать записки!
И пока шло бессмысленное голосование, давшее в итоге всего лишь пять записок «против» и девятнадцать «воздержавшихся» при ста пятидесяти пяти проголосовавших за утверждение резолюции, Дубровинский нашел возможность еще раз подойти к Ленину.
— Так проходят и все заседания съезда, Владимир Ильич? Это ужасно!
— Бывали случаи и похуже, — ответил Ленин, устало оглядывая бурлящий зал. — Сейчас вы наблюдали еще самую обыкновенную и глупую обструкцию, созданную на пустом месте. А вот когда мы обсуждали отчет думской фракции, Плеханов вполне серьезно назвал большевиков авантюристами. Меня же приравнял к лжепророку Ионе, как известно, неверно предсказавшему судьбу Ниневии. Вот так. Другие не стеснялись называть наши речи «гнусной демагогией», а на польских товарищей прикрикнули однажды: «Лодзинские мандаты, молчать!» Не горячитесь и не выхватывайте шпагу, Иосиф Федорович, против нее меньшевики все равно поднимут лишь суковатую палку. Все это совершенно нормально. Для меньшевиков, разумеется.
— Но в конечном счете выигрыш принадлежит нам?
— Этот съезд — крупный шаг вперед. Важно в дальнейшем не потерять позиций.
— Мне говорил Отцов, что предстоят очень тяжелые выборы в Центральный Комитет, — сказал Дубровинский.
— Ах, Отцов все знает! А впрочем, конечно, знает. Договорено, что в ЦК войдет пять большевиков, четыре меньшевика, остальные шесть человек бундовцы, поляки, латыши и литовцы. Но пять и четыре — это цифры, а не фамилии. Борьба разгорится против фамилий. Но против вас, Иосиф Федорович, никто не вздумает голосовать. Все знают, что вы явились прямо из тюрьмы, а выступлений ваших на съезде не слышали.
— Вы сказали: против меня, то есть…
— Да, да! Вы не ослышались. Именно на вас, Иосиф Федорович, мы имеем самые серьезные виды. И я полагаю, не надо объяснять — почему.
— Я непременно должен баллотироваться, Владимир Ильич? — ошеломленный напористыми словами Ленина, проговорил Дубровинский. — Конечно, вместе с вами?
— Со мной — ни в коем случае. В члены ЦК меня провалят. А надо действовать наверняка. Достаточно, если меня выберут кандидатом. Уж кто-кто, а Ленин — самая неприятная кость в меньшевистском горле. Простите, меня призывают председательские обязанности.
Он занял свое место и, дождавшись спокойствия, огласил предложение бюро о том, чтобы из протоколов удалить все оскорбительные заявления и все оскорбительные места из всех речей.
— Думаю, товарищи, что здесь никто не потребует дискуссии и поименного голосования.
Не потребовали.
И очень быстро приняли организационный устав, внеся в предложенный комиссией проект совершенно незначительные поправки.
Дубровинский видел, как по рядам меньшевиков и бундовцев ходят многочисленные записки, как делегаты этих фракций больше перешептываются между собой, нежели вслушиваются в то, что говорится с трибуны. Расчет их оказался верен. Бесцельным поименным голосованием они зажали выборы в самый скудный остаток времени. Все знали: при любых обстоятельствах к семи часам вечера зал должен быть освобожден. Меньшевиков это теперь не беспокоило, свою роль они заранее отрепетировали и полагали, что предстоящая сумятица отразится потерями исключительно на стороне большевиков.
И этот момент наступил. Часы показывали без четверти шесть, когда измотанный донельзя Ленин попросил поляка Тышко заменить его в качестве председателя.
— Приступаем к выборам Центрального Комитета, — проговорил Тышко, кося сочувственным взглядом на побледневшего от усталости Ленина. — Имеется ли предложение организационной комиссии? Насколько мне известно, соглашение не состоялось.
Воцарилась настороженная тишина. Ведь через час съезд должен быть закрыт…
Меньшевики растерянно переглядывались: не слишком ли пересолили? Сумятица им нужна была попозднее, при обсуждении кандидатур.
В комиссии было достигнуто полное соглашение насчет численного состава ЦК в пятнадцать человек, теперь бундовцы требовали: четырнадцать! Ход, рассчитанный исключительно на разжигание страстей. Меньшевики торопливо поддержали предложение бундовцев и без скандала смирились, потерпев вместе с ними при голосовании поражение. Они экономили время, чтобы все его малые запасы отдать возне вокруг кандидатуры Ленина.
И снова были обескуражены: Ленина большевистская фракция в состав ЦК — членом ЦК — не назвала. Заряженная и наведенная меньшевиками на определенную цель пушка не выстрелила.
Тышко между тем объявлял порядок выборов и призывал делегатов голосовать, не теряя ни одной минуты.
Время бежало стремительно. Не оставалось другого выхода, как спешно выделить из всего состава только семьдесят пять человек — по одному от каждых четырех делегатов, — поручить им совсем в другом, очень тесном помещении подсчитать голоса и вообще завершить всю техническую сторону дела.
Торжественно и мощно под сводами церкви прозвучал «Интернационал». Пели, вкладывая в слова пролетарского гимна всю душу. Закончив, стали медленно расходиться. И была заметна неловкость во взглядах многих, кто склочностью своей во время долгих заседаний немало поспособствовал тому, что делегаты покидают помещение, а съезд, по существу, продолжается. Его лишь где-то поздней ночью буднично и формально объявят закрытым их немногочисленные представители.
Дубровинского увел с собой Житомирский. Он снимал небольшую комнату неподалеку от «Бразерхуд черч», и, кроме кровати, там стояла коротенькая тахта, на которой, свернувшись калачиком, и устроился Дубровинский.
Он отказался от ужина, не хотелось ему вести и долгие разговоры — томили впечатления минувшего дня, в которых было бы лучше разобраться наедине с самим собой. А Житомирский, вороша кипу бумаг, вытащенных из туго набитого портфеля, охал и ахал, колдовал над списками, рассказывая, какая адова работа предстоит ему в ближайшие дни. Вдвоем с Литвиновым они должны будут отправить на родину чуть ли не сто делегатов и гостей съезда от большевистской фракции, из них около сорока человек нелегальных. А денег нет; а маршруты надо избирать самые разные, чтобы малыми группами легче было просачиваться через границу, на которой повсюду расставлены жандармские сети; а паспорта далеко не у всех в должном порядке. Неизбежны аресты товарищей, и это ужасно, ибо заранее невозможно предугадать, кому именно грозит такая опасность.
Потом он затолкал все бумаги в портфель, оставил его на столе и убежал куда-то. Вернулся после полуночи, разбудил заснувшего было Дубровинского, заставил подняться и горячо пожал ему руку.
— Поздравляю, вы избраны в Центральный Комитет! Все прошло так, как и предполагал Владимир Ильич. Он также избран — кандидатом. В общем, победа за нами. По всем линиям преобладание большевиков. Но и меньшевики своих парусов не опустят. Словом, на завтра Владимир Ильич собирает в последний раз большевистскую фракцию. Вас он просил присутствовать обязательно, если позволит здоровье.
— Не дразните, Яков Абрамович! Вы же врач и видите, что я совершенно здоров! К чему такие слова?
— Положим, этого я не вижу. А слова не мои — Владимира Ильича.
Совещание фракции большевиков состоялось в том самом помещении, где проводил ночное заседание съезд. Казалось, все стены насквозь здесь были прокурены табаком, так еще неистребимо силен был кислый, противный запах, от которого Дубровинскому сразу сдавило грудь. Казалось, эти стены наряду с табачным дымом впитали в себя и бурные страсти, вскипевшие при расшифровке записок, когда выяснилось, что пять кандидатур в члены ЦК получили равное число голосов, а избранными из них могут быть только трое. Ах, какой заманчивой представилась было тогда меньшевикам возможность выбить именно большевистских кандидатов! И — сорвалось.
Теперь здесь было тихо, спокойно, хотя теснота сказывалась существеннее, чем ночью. Вместилось в комнату не семьдесят пять, а свыше ста человек. Переговаривались негромко, дружно, звучал смешок, веселые словечки — настоящие товарищи, единомышленники.
Ленин, осунувшийся, с темными кругами под глазами, но энергичный, деятельный, как всегда, поднялся с места.
— Нам предстоит сегодня обсудить итоги съезда, товарищи, — сказал он, весь подаваясь вперед и выбрасывая правую руку. — Они теперь достаточно определились. Нам также следует продумать планы на будущее, обдумать нашу общую работу, здесь, за границей, и дома, на местах. Нам надо помнить, что партия, будучи единой, все же остается разделенной на две фракции и борьба с оппортунистами из среды меньшевиков должна продолжаться со всей беспощадностью, со всей идейной непримиримостью и ясным пониманием того, что меньшевики будут все значительнее уклоняться от правильных позиций. И нам для руководства дальнейшей практической работой следует образовать Большевистский Центр, ибо в Центральном Комитете меньшевики могут, как это не раз бывало, выкинуть любую безобразную штуку. — Остановился, прислушиваясь, как отзовется на его слова аудитория. Прошелестел дружный говорок общего одобрения. Ленин продолжил: — Вношу предложение избрать председателем сегодняшнего заседания нашей фракции члена Центрального Комитета товарища Иннокентия. Его многие знают лично. А для тех, кто не знает, я скажу, что товарищ Иннокентий только вчера приехал из России, а точнее — вырвался из тюрьмы…
И снова полным согласием с его предложением отозвались десятки голосов.
— Тогда не станем напрасно время терять, — проговорил Ленин, делая рукой пригласительный жест. — Товарищ Иннокентий, займите место председателя!
Он вышел из-за стола и, отыскав себе свободный край скамьи, уселся в общем ряду со всеми делегатами.
Часть вторая
1
Ни в Петербургском комитете РСДРП, где уже прокатилась очередная волна опустошительных арестов, особенно усилившихся после разгона Думы, ни в Куоккала на даче «Ваза» не знали и, конечно, знать не могли, какое именно предписание вышестоящего начальства под грифом «совершенно секретно» получил в эти дни генерал Герасимов, начальник столичного охранного отделения. Не знали там, разумеется, и того, что постепенно в особой папке директора департамента полиции Трусевича накопилось изрядное количество агентурных сообщений, подталкивающих его к самым решительным действиям.
Седой, с длинными тощими бакенбардами, Трусевич, перебирая эти сообщения, вызывал к себе сотрудников, ведающих заграничным сыском. С их помощью картина в представлении Трусевича получалась достаточно ясная. После горячих и длительных схваток на Лондонском съезде идейную победу над меньшевиками одержал Ульянов, иначе — Ленин, и его сторонники. А это опасно, большевизм — это очень опасно. С меньшевиками положение проще, они стремительно, любой ценой катятся к полной легализации, стало быть, вскоре примкнут к либеральной буржуазии и поплетутся вместе с нею в чаянии постепенных реформ. Цель же Ленина непреклонна — свержение самодержавия, захват власти пролетариатом. Он не остановится на полпути. Партия, которую он создает вопреки всем разрушающим силам, растет, как горная лавина. Если верить их газете «Борьба», партия эсдеков уже насчитывает сто пятьдесят тысяч человек. Бессмысленно, совершенно бессмысленно заниматься арестами мелкой сошки и оставлять на свободе главаря. Да, черт побери, не сумели схватить Ленина вовремя! А после Лондонского съезда его следы затерялись.
Трусевич вновь и вновь перелистывал донесения агентов. Спору нет, хорошо поработали некоторые. Вот, например, начальник виленского охранного отделения сообщает, что от Вильны делегатом съезда был Хлыст, один из его самых толковых сотрудников. Что ж, кой-кого теперь больно стегнет этот Хлыст. А Гартинг, золотой человек, хотя и прожженная бестия, описывая в мельчайших подробностях весь ход Лондонского съезда, докладывает, что врач Житомирский — партийная кличка «Отцов» — даже был введен в состав комиссии, ведавшей отправкой делегатов на родину, и как раз большевиков. Ха-ха, господа социал-демократы, пустили и еще одного козла в огород! Если Гартинг-Ландезен-Гекельман, глава заграничной агентуры, — золото, так Житомирский, как рядовой агент, по меньшей мере серебро!
Правда, этот «Отцов» ленинский след пока потерял, но ведь Ленин — фигура, которая не нуждается в заботах какой-то «комиссии». Взял сам купил билет и куда ему надо уехал. Но тем не менее именно Житомирский, молодец, снова нашел живую ниточку. Эта ниточка — Дубровинский, по кличке «Иннокентий», к которому Житомирский сел на плечи, едва тот сошел с поезда на вокзале Черинг-Кросс. Чахоточный негодяй, четырежды уже побывавший в тюрьме, там бы и сгинуть ему, а ныне ни много ни мало — член Центрального Комитета, Иннокентий давно стал одним из ближайших сподвижников Ленина. А коль так, по пословице, — куда иголка, туда и нитка. А ниточка-то после съезда явственно потянулась в Финляндию! Стало быть…
И вот действительно Гартинг доносит, как обычно немного жеманничая даже перед собственным начальством, что «по полученным из совершенно секретного источника сведениям, не подлежащим оглашению, Ленин проживает в Финляндии». Бог с ним — «секрет»! Кому Гартинг набивает цену? Все своему любезному Житомирскому?
Но главное — Ленин теперь может быть взят под неусыпное, зоркое око генерала Герасимова.
Трусевич перелистывал бумаги. И вот уже проследки филеров петербургского охранного отделения. Да, подтверждается: очень похожий на Ленина живет в Куоккала на даче «Ваза», принадлежащей некоему Энгестрему, служащему финляндского речного пароходства, а в наиболее близком к Ленину окружении находятся Лейтейзен, Книпович, Рожков, Богданов и этот самый Дубровинский. Последние два сейчас и околачиваются постоянно на той же самой даче.
Впрочем, что — филерские проследки! Велик ли прок из того, что теперь будет известен каждый шаг Ленина и его приятелей? Все равно сделать эти шаги последними не так-то просто! Вот тебе и «самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочая и прочая…». Трусевич тихо выругался. А «великий князь финляндский» на «подвластной» ему земле не имеет права по своему усмотрению дать повеление департаменту полиции арестовать опаснейших революционеров. Для этого необходима санкция целого ряда инстанций вплоть до сената. Финляндия же насквозь пропитана социал-демократическими настроениями. Пока пробьешься сквозь густой частокол этих всяких инстанций, глядишь, поднадзорных и снова след простыл.
Действительно, эта самая Финляндия нечто вроде домашнего аквариума. Защищенные прозрачным стеклом, в нем плавают и резвятся золотые рыбки. А российская полиция при этом в роли кота. Он может ходить вокруг аквариума, не сводя голодных глаз с этих вкусных рыбок и облизываясь, может даже лапой с выпущенными коготками водить по стеклу сколько будет угодно, однако добычи все равно ему не отведать, пока хозяин аквариума не пожалеет кота и не выхватит сам для него рыбку сачком. А Ленин превосходный юрист, он все понимает и вряд ли захочет доставить удовольствие коту, так сказать, добровольно выбросившись из спасительного финляндского аквариума на петербургский пол. Границу он, конечно, не пересечет. Значит, надо как-то изловчиться и взять его при помощи финляндских властей на месте, в Куоккала. Тут, близ Петербурга, сделать это все-таки чуточку проще. Худо, если он заберется в самую глубь Финляндии.
Надо повнимательнее заняться и Дубровинским. Эта рыбка, собственно, лежала уже на сковородке, и один бочок у нее поджарен, однако премудрый товарищ министра Макаров решил поберечь масло, и, видимо, зря: Дубровинский нахально принялся за прежнюю работу, вместо предполагаемой дальней эмиграции удобно разместившись под самым Петербургом. И наверняка тайно наведываясь сюда. Если бы схватить его здесь, больших забот он не доставит — фюйть! — сразу на ледяной север — и концы в воду. Приговор ведь остается в силе. Только пусть столичное охранное отделение пошевелится как следует. Александр Васильевич Герасимов давненько не был занят серьезным делом — потревожить его генеральское спокойствие.
И Трусевич, внутренне гордясь превосходством своего гражданского сана над военным чином Герасимова, подписал «совершенно секретное» распоряжение генералу собрать все необходимые для ареста Ленина сведения и возбудить в установленном порядке перед финляндскими властями вопрос о выдаче Ленина российской полиции. Подписал и вздохнул, расправляя тощие бакенбарды: «Сколько еще понадобится времени, чтобы эта бумага обрела свою реальную, грозную силу!»
Именно об этом вот предписании департамента полиции на даче «Ваза» не знали ничего. Но, как вполне обоснованно и предполагал Трусевич, Ленин хорошо понимал, что взять его на финляндской территории нелегко. Однако недавний разгон II Государственной думы, арест ее социал-демократической фракции и аресты многих членов Центрального и Петербургского комитетов партии — это столь недобрые признаки все более свирепеющей реакции, что к ним следует отнестись с предельной настороженностью. Ленин знал: существуют законы, но любые законы могут быть круто и быстро изменены и даже просто по-хамски нарушены. Он рвался в Питер. И сдерживал себя.
А тут еще сказывалась безмерная усталость после Лондонского съезда. Отоспаться бы как следует! Залечь по-медвежьи на добрых полгода — вспоминались шушенские рассказы Сосипатыча — и отоспаться в полнейшей тишине!
Стояло прекрасное, жаркое лето. Временами, как по заказу, перепадали маленькие дожди. После них воздух делался особо вкусным, нежным, а к вечеру и вовсе томительным, хмельным. Была пора белых ночей, когда в любой самый поздний час наверняка можно увидеть под зеленым сводом листвы медленно бредущие бог весть куда влюбленные пары либо одиночек, сосредоточенно, по-философски вперяющих взор в прозрачные небесные дали. Плохо людям в белые ночи, неведомая сила заставляет их подолгу оставлять свои постели несмятыми.
А Ленину спалось хорошо. Едва солнышко садилось на вершины высоченных прямоствольных сосен и лучи его начинали путаться и дробиться среди плотных крон, Владимир Ильич украдкой, в ладошку, принимался позевывать, а потом заявлял и вполне откровенно:
— Надюша, не могу. Пойду лягу… Доброй ночи!
Крупская хитренько подмигивала ему:
— А может быть, сперва пройдемся по лесу? Чайку попьем!
— Да, да, пройдитесь. И чайку попейте. А я, с вашего разрешения, лягу уже сейчас.
И скрывался в комнате, служившей ему с Надеждой Константиновной и спальней и рабочим кабинетом.
Но уснуть не всегда удавалось. Как раз под вечер приезжали товарищи из Петербурга, чаще всего Людмила Менжинская. Привозили нерадостные вести. О продлении царским указом «чрезвычайной охраны» в Москве и Петербурге еще на полгода, а значит, и о новых массовых арестах, военно-полевых судах и «столыпинских галстуках», как прозвали в народе казни на виселицах. О провале типографий Московского и Екатеринославского комитетов, а значит, и о сокращении печатной пропаганды. О неудачных попытках восстания на броненосцах «Три святителя» и «Синоп».
Бывали, правда, и добрые сообщения. Например, о фантастически смелом побеге из Севастопольской тюрьмы Антонова-Овсеенко, а вместе с ним и еще двадцати заключенных партийцев. Или рассказ Людмилы Менжинской о встрече со своим братом Вячеславом по выходе из одиночки Литейного полицейского дома, до суда поселившимся нелегально в Териоках. Он вновь и с большим успехом, преодолев последствия длительной голодовки в тюрьме, занялся организацией партийной боевой техники и транспортировкой газеты «Пролетарий» из Выборга в Петербург и вообще по России. О себе Людмила говорила меньше, хотя львиная доля работы по переброске «Пролетария» лежала именно на ее плечах.
После таких вестей Ленин, возбужденный, просиживал ночь напролет, поблескивая внимательными глазами, и разговор завершался лишь тогда, когда приезжие исчерпывали весь запас привезенных ими даже самых мельчайших новостей. А потом, как и ему не ответить на их бесчисленные вопросы? Главным образом относительно Лондонского съезда. И относительно предстоящих выборов в третью Думу. И относительно характера революционной борьбы вообще, после третьеиюньского государственного переворота, начисто уничтожившего последние остатки «свобод», объявленных в октябре 1905 года.
Надежда Константиновна видела, понимала: это родная стихия Владимира Ильича. Без встреч с товарищами, без живой связи с партией, загнанный снова в жесточайшее подполье, он не может. Ему надо знать все, что происходит на огромных пространствах России — от Петербурга до Владивостока, от Архангельска до Астрахани и до Закавказья. Ему надо знать, что пишут о русских событиях за границей и как там идет подготовка к созыву VII Международного социалистического конгресса, в котором он хочет непременно принять участие. Ему надо бросаться в бой с самодержавием, столыпинщиной, с кадетами, октябристами, с эсерами, анархистами и, может быть, злее всего с меньшевиками, потому что именно в их среде без конца формируются все новые и новые разновидности беспринципного отступничества. Ему надо бороться со всеми этими идейными и организационными вывихами. Ему надо спорить с упрямыми, убеждать колеблющихся, ободрять уставших. Ему надо писать рефераты, статьи, редактировать газеты. Ему нужно забираться в философские глубины основоположников диалектического материализма, чтобы разбить неких доморощенных махистов, компрометирующих своими лженаучными трудами большевистскую фракцию, к которой он принадлежит. Ему нужно дышать воздухом революции, ее теории и ее действия. Но ведь надо же человеку иногда хоть немного и отдохнуть!
И Крупская, войдя всей душой в эти большие, бесчисленные заботы, живя ими, стремилась, как только могла, наладить и отдых Ленину.
Дача «Ваза» была не уютна, но очень просторна. Двухэтажная, срубленная из сосновых бревен, снаружи обшитых тесом, а изнутри гладко выструганных, она сохраняла в комнатах приятный смолистый запах. На веранде, выходившей прямо на юг, в полдень стояла неимоверная жарища, не спасали никакие занавески, зато перед закатом солнца и в сумерках здесь можно было поблаженствовать — все створки окон распахивались настежь, и тонкая лесная прохлада заполняла помещение. Веранда была излюбленным местом для общих сборов, и за чайным столом, и для игры в шахматы, прекрасно отвлекавшими на время от тяжелых сложностей политической обстановки.
«Постоянное население» дачи состояло из Владимира Ильича, Надежды Константиновны и Елизаветы Васильевны — матери Крупской. Они располагались на всем нижнем этаже. Наверху жили супруги Малиновские — «Богдановы», Александр Александрович с Натальей Богдановной, да еще Дубровинский. Приезжим отводился в столовой диван, а на случай большого наплыва гостей отдавалась под ночлег и веранда.
Минувшей зимой здесь проживало также семейство «Линдовых» — Лейтейзенов. Детишки постоянно вертелись у двери комнаты загадочного для них «дяди Ивана», который, не разгибая спины, целыми днями что-то строчил за письменным столом и входить к которому без стука не было разрешено никому, кроме тети Нади. Теперь, когда Линдовы съехали, стало значительно тише, спокойнее, однако Ленин частенько с удовольствием вспоминал осаждавшую его детвору. Она временами хотя и мешала до чертиков, но больше все-таки настраивала на веселый лад.
А в общем-то во всех отношениях Куоккала была райским местечком.
— Спасибо товарищу-господину Энгестрему за прелестнейшую вазу, предоставленную им под цветы революции! — шутил Владимир Ильич, адресуя это владельцу дачи, назвавшего свое куоккальское владение «Вазой» в честь города, где он родился.
Энгестрем искренне и глубоко сочувствовал прогрессивным деятелям и как умел поддерживал революционеров, сдавая, в частности, им в аренду и эту дачу, по существу, за бесценок.
Одно время здесь обитала даже группа эсеров-террористов, готовившая свои страшные снаряды. Сохранились кой-какие признаки этого. Обнаружив их, Ленин посмеивался:
— Гм, гм, в этой вазе, оказывается, не только цветочки — бывали и ягодки. Волчьи ягодки!
Стояло прекрасное лето. Прекрасное для всех, кому оно представлялось лишь как самое благодатное время года, и не иначе. Для жителей же «Вазы» на этот раз лето имело еще и некоторые совсем другие особенности.
2
Ленин с Богдановым закончили партию в шахматы. Александр Александрович просмотрел двойной шах, потерял ферзя, затем проходную пешку, получил эффектный «висячий» мат и теперь злился на всех, кто находился поблизости от их стола. На Дубровинского: почему он стоял за спиной у Ленина и кашлянул в тот момент, когда Владимир Ильич занес было руку над белопольным слоном, тронув которого ослабил бы свои позиции, а кашель его остановил и заставил подумать. На Крупскую: почему та несколько раз настойчиво повторила приглашение пойти погулять, зная, что игра обострена до крайности. На свою жену, которая занялась прической и не подошла к столику, не помурлыкала на ухо веселую песенку, что всегда при тяжелом положении на шахматной доске очень ему помогало. И даже на Елизавету Васильевну, которой вообще не было на веранде, злился за то, что она могла бы приготовить чай пораньше, тогда пришлось бы в игре сделать перерыв и затем, на свежую голову, не допустить столь ужасного хода ладьей, приведшего к потере ферзя.
Теперь Богданов сидел прямо, строго, как на деловом, официальном совещании, одетый хотя и в заношенный тонкий летний костюм, но по всей форме, при галстуке, а в наглаженных манжетах поблескивали стеклянные запонки. Он сидел и не мог оторвать взгляда от доски, все еще сомневаясь: а правильно ли ему объявлен мат?
— Красиво получилось, — заметил Дубровинский. И кашлянул.
— А вам, Иосиф Федорович, известно неписаное правило шахматной игры: не подсказывать? — с раздражением отозвался Богданов, так и не меняя позы. — Владимир Ильич и сам достаточно сильный шахматист.
— Я подсказывал? — изумился Дубровинский. — Да я не отличаю пешку от короля!
— Помилуйте, Александр Александрович. — Ленин рассмеялся. — Ни голоса Иосифа Федоровича я не слышал, ни жестов его никаких не видел. Он ведь стоял у меня за спиной. Но если вам угодно, мы можем партию переиграть. С какого хода, вам показалось, я начал действовать по подсказке?
— Есть способы… — дрожащим от досады голосом начал было Богданов и вдруг нервно повалил на доске все оставшиеся фигуры. — Беру свои слова назад, просто я играть не умею. А перед вашим мастерством, Владимир Ильич, я преклоняюсь, однако оно еще не дает вам оснований великодушно предлагать побежденному заново переигрывать партию с половины.
— Это была шутка, — сказал Ленин. — Простите, Александр Александрович, если она вас обидела!
— Нет, нет, тупоголовые люди не имеют права обижаться! — Богданов встал, отыскал взглядом жену: — Наташа, ты долго еще намерена прихорашиваться? Ты слышала: Надежда Константиновна приглашает пойти погулять.
И быстро выбежал во двор. Его догнала, взяла под руку Наталья Богдановна, замурлыкала тихую песенку. Надо же успокоить человека.
Ленин, Крупская и Дубровинский шагали рядком, немного приотстав. Владимир Ильич уперся руками в бока, и пиджак у него, свободно наброшенный на плечи, растянулся, как парус.
— Отлично! — сказал он. — Какой волшебный вечер!
Низкое солнце сквозь путаницу ветвей било прямо в глаза, вынуждало прищуриваться.
Сохраняя тот же порядок, всей компанией вышли за калитку, повернули направо. Говорили о погоде, нахваливали июнь. В воздухе серым столбом толклись комары, предвещая хороший день и на завтра.
Вдруг Дубровинский остановился, выхватил из кармана платок, приложил к губам. Его одолел кашель, тяжелый, затяжной. Он сгорбился, узкие плечи у него вздрагивали. Ленин и Крупская продолжали тихонько идти по обочине дороги, заросшей мелколистным белым клевером.
— Знаешь, Володя, — с тревогой сказала Крупская, — у нашего Иннокентия горлом идет кровь. Он это скрывает, сам тайком стирает платки. Его совсем доконала тюрьма, а потом еще и трудная поездка в Лондон, все эти хлопоты и муки при переезде через границу…
Ленин молчал, разглядывая столбом толкущихся комаров, легко меняющих в пространстве место своего замысловатого танца.
Да, конечно, Иннокентия в особенности подкосило последнее, по счету уже четвертое тюремное заключение. А ведь еще во время самой первой — яранской — ссылки врачи определили у него серьезное заболевание легких. Он не щадит себя нисколько. В тюрьме ли, в ссылке ли, работает до полного изнеможения, занимается самообразованием. На свободе — беспокойный, смелый, энергичный человек. Выполняет труднейшие поручения партии. Изъездил пол-России. Ночевки где попало, и пища какая попало. Споры, разговоры на местах тоже всегда очень трудные, потому что по пустякам он не ездит. А теперь и на родину не может вернуться.
— Володя, я очень беспокоюсь за Иннокентия!
— Да, Надюша, да, — сказал Ленин, прислушиваясь к надсадному кашлю, с которым все еще никак не мог справиться Дубровинский. — В памяти у меня печальная судьба Ванеева. Точно такая же история, точно так же не щадил он себя. Анатолия сгубил сибирский Север. Для Иосифа Федоровича наш юг стал тоже совершенно несбыточен. А в Швейцарию, и с тем только, чтобы лечиться, он ни за что не поедет. Он хорошо понимает, что нужен здесь как член Центрального Комитета.
— Сейчас ему необходим хотя бы просто хороший отдых. Полное спокойствие, — заметила Крупская. — Лето нынче сухое, теплое.
— Да, да, — с оживлением подхватил Ленин, — в прошлом году, когда он все-таки полежал в финляндском санатории, ему стало значительно лучше. Надо заставить его вновь полежать!
— А попробуй заставь! — вздохнула Крупская. — Вам обоим настоящий отдых крайне необходим. Безлюдье, полное безлюдье, хотя бы недели на две, чистый воздух, сон и еда…
— Мне, Надюша, например, нужно только как следует выспаться, ничего больше!
— Послушай, Володя, наша милая «Дяденька», Лидя, давно уже настойчиво приглашает приехать к ним в Стирсудден. Абсолютнейшая тишина, лес, море, цветы, и не будет бесконечных набегов из Петербурга. Возьмем с собой Иосифа Федоровича. Ему побыть у моря тоже очень полезно.
— Гм, гм… Что же, Надюша, это идея! Выспаться, побродить по хрустящему песку возле моря, покататься на велосипедах — отлично! — Ленин потирал руки. — К тому же Лидия Михайловна — прекраснейший человек.
— Пишет: сейчас у них вся дача утопает в цветах. И море уже достаточно теплое, чтобы купаться. Свежий олений окорок…
— Да, да! Только, черт возьми, как все же от Питера оторваться? И надо бы непременно еще кое-что написать.
Богдановы стояли, дожидаясь их уже совсем на выходе из поселка, где открывалась красивая длинная поляна — обычное место вечерних прогулок. Подоспел и Дубровинский. Он дышал тяжело, нервно и все разглаживал рыжеватые свисающие усы. Крупская смотрела на него обеспокоенно.
— Вам плохо, Иосиф Федорович? — вполголоса спросил Ленин.
— Очень люблю смотреть на закат с этой поляны, — сказал Дубровинский. Он сделал вид, будто не расслышал вопроса Владимира Ильича.
Солнце почти совсем скрылось за дальним леском, осталась только маленькая золотистая полоска. Она как бы покачивалась и становилась то чуточку шире, то вовсе узенькой. Потом сразу исчезла. И небо начало медленно наливаться густой багровой зарей.
Богданов указал пальцем туда, где спряталось солнце.
— Какая гармония! Какой равномерно работающий механизм у природы!
— Заря будет цвести всю ночь напролет, перемещаясь к востоку. Так будет продолжаться еще недели две, — проговорила Крупская.
— Люблю белые ночи, — отозвалась Наталья Богдановна.
— Мне почему-то сегодня вспоминается Сибирь. В Шу-шу-шу белых ночей не бывает, но закаты, знаете, там великолепнее здешних. Зачаровывают! — сказал Владимир Ильич. И улыбнулся чему-то далекому. — Помню, на озере Перовом однажды так на закат загляделся, что не заметил роскошнейшего селезня под самым носом — выплыл из камышей. Сосипатыч не выдержал, бабахнул из своего скрадка. Под большим углом. А потом прибежал перепуганный: не хлестнула ли дробь и по мне? Ружье у него, так сказать, особой «широтой взгляда» отличалось.
— А вы замечаете, какая величавая тишина устанавливается в природе сразу после того, как скроется солнце? — спросил Богданов, не отрывая взгляда от горизонта.
— Замечаю, — сказал Ленин. — Так же, как замечаю и совершенно противоположное. Иногда после захода солнца начинается сильный ветер. Природа не терпит однообразия.
— Она всегда очень изобретательна, — поддержала Крупская. — Посмотрите, лес — сплошная темная стена. А ведь каждое дерево в нем не похоже на другое.
— Это же самое можно сказать и о людях, — заметила Наталья Богдановна.
— Время течет, все меняется. Но в бесконечном круговороте природы тем не менее нет прямых повторений, — проговорил Дубровинский.
Богданов неопределенно покрутил головой.
— Мм… Разнообразие… Движение… Круговорот… А вечный ли и обязательный круговорот? — Он прищелкнул пальцами и, словно маятником, несколько раз качнул рукой, опустив ее вниз. — Толкните сильно, к примеру, качели. С угла на угол, как попало. Они вначале станут совершать достаточно разнообразные движения, но постепенно войдут в строжайший ритм, а затем наступит состояние покоя. Обязательное состояние покоя!
— Ну и что же из этого следует? — с любопытством спросил Ленин. И высоко поднял плечи. — Какие выводы делаете из всего этого, Александр Александрович? Кажется, не в первый раз я задаю вам подобного рода вопрос по сходным же случаям.
— Именно из этого только примера я не делаю еще никаких выводов. Но со временем реки и моря на Земле высохнут. Солнце погаснет. И сама Земля прекратит вращаться в ледяном пространстве Вселенной. Движение — теплота. Но поскольку в безднах пустоты мирового пространства царствует температура абсолютного нуля, то отдельные незначительные источники тепла — звезды — подчинятся своей судьбе: излучив все тепло, погаснут, остынут. Вселенная постепенно войдет в холодное, мертвое равновесие. Иными словами, движение полностью прекратится. В данном случае годится и пример с качелями. — Богданов уже немного сердился, слова его звучали сухо, недружелюбно. — А в должной форме, Владимир Ильич, мои теоретические взгляды на мироздание изложены в моих печатных трудах, которые вы читали и на которые я имел в свое время честь получить ваши опровержения.
— Так, — сказал Ленин, — все остановится, и это будет конец. Но по законам логики, которую и вы очень любите, если чему-либо предвидится несомненный конец, этому концу должно предшествовать и столь же несомненное начало. Ныне Вселенная находится в движении, чего не отрицаете и вы. Но вы утверждаете: движение полностью прекратится, наступит конец. Прекрасно! Давайте в этом случае обратимся к началу. Было начало? И кто же тогда, вначале, запустил, раскрутил, привел в движение всю эту громадину? — Ленин откинул голову, поднял руку, описывая ею большой круг. — Не будем сейчас призывать для разъяснений ни Энгельса, ни Канта, ни Гегеля, ни любезного вам Маха. Не станем сейчас забираться в самые глубины наших с вами философских расхождений. Ответьте, Александр Александрович, лично вы, и только на один этот простейший вопрос!
— Ах уж эта философия! — тоскливо воскликнула Наталья Богдановна. — Неразрешимый, надоедливый спор о творце! Проще верить в известного всем бога, чем искать какую-то равнозначную ему замену.
— Наташа, не вмешивайся! — строго сказал Богданов. И вдруг просветлел, прищелкнул пальцами, найдя в словах жены что-то выигрышное для себя. — Владимир Ильич не впервые и в разных вариациях задает мне этот свой «простейший» вопрос, явно не надеясь получить на него столь же «простейшего» ответа, ибо я церковноприходскую школу закончил весьма и весьма давно. Что нам спорить о начале и конце мироздания? Таковых актов творения не было и не будет. Но я хотел бы знать, в свою очередь, кем и как определялась бы материальность мира и всех вытекающих из этого естественных законов, если бы не существовало человечества? По отношению к кому или чему мир был бы объективной реальностью?
— Стало быть, мир стал материальным лишь с того момента, как человек об этом догадался? — полуутвердительно спросил Ленин.
Но Богданов пропустил его слова мимо ушей с таким победоносным видом, будто изрек до этого совершенно неоспоримую истину.
— Философия! — Он снова прищелкнул пальцами. — А почему бы действительно и не пофилософствовать? Но ближе к земле. Мы революционеры. Почему, борясь против несовершенств нашего общественного строя, мы все усилия сводим главным образом к практическим действиям? Прокламации, речи на митингах и собраниях, наконец, стрельба! А он, этот враждебный народу общественный строй, и народная революция — все это рождается ведь тоже на философской основе. Не насилуем ли мы ее в какой-то одной части? Не заменяем ли произвольно истинную философию другой, несвойственной естественному развитию жизни общества, а следовательно, и формам борьбы? Не ищем ли мы ложных толчков и взрывов там, где должно стремиться к равновесию, подобно тому, как происходит в природе? — Богданов вдохновлялся все больше. — Это не аксиома: допустим, это гипотеза. Но почему бы не рассмотреть ее всесторонне, а практику затем пристраивать к философски достаточно обоснованной теории?
— Философскими проблемами, конечно, следует нам заниматься серьезнее, — проговорил Дубровинский. Он долго молчал, прислушиваясь к спору. Стоял, все поглаживая усы и иногда прикладывая скомканный платок к губам. — В самом деле, полезно было бы нам очень точно определить свои философские позиции. Но «стрельба», как определили вы, Александр Александрович, будет все равно продолжаться, не дожидаясь выяснения философских основ революции. «Стрельба» — это квинтэссенция философии народа, восстающего против нестерпимого гнета.
Ленин надел пиджак, разгладил у пояса рубашку и пошел по дорожке к поселку.
— Владимир Ильич, что же вы уходите? — окликнул его Богданов. — Вам не нравится наш разговор?
— А вы хотите, чтобы я с вами и сегодня подрался? — остановившись вполоборота, спросил Ленин. — Извольте, я готов! Хотя Иосиф Федорович достаточно хорошо вам ответил.
Богданов, уже снисходительно улыбаясь, стал тоже бочком, принял шутливую позу дуэлянта.
— И я готов, Владимир Ильич! Начинайте!
Но Ленин молчал, сосредоточенно глядя куда-то вдаль, на пылающее зарево заката. Подтянулись и все остальные.
— Так что же вы, Владимир Ильич? — победительно спросил Богданов. — Давайте скрестим наши философские шпаги!
Ленин пальцем доверительно потрогал лацкан пиджака Богданова. Заговорил медленно, а потом все стремительнее и стремительнее.
— Скажите, Александр Александрович… я все соображаю… я все занят вот какой мыслью. Теперь, когда Россия вновь стоит перед выборами в Думу, нам надо твердо определить свою позицию. Да, да! Мы должны на этот раз в особенности решительно выступить против бойкота, невзирая на то, что вторая Дума подло разогнана и закон избирательный ныне установлен совершенно антинародный. Обстановка-то коренным образом изменилась! Мы сейчас загнаны в жесточайшее подполье. Хотя и скудные возможности легальной борьбы при посредстве думской трибуны использовать нам сейчас крайне необходимо. Как вы считаете?
Богданов развел руками, как бы обращаясь ко всем за сочувствием и поддержкой.
— Владимир Ильич, — с оттенком обиды в голосе сказал он, — мне непонятна такая подмена предмета нашего спора. К этому разговору я не готов. Хотя, замечу, не вижу, что именно коренным образом изменилось. А я всегда стоял и буду стоять за бойкот, ибо это одна из составных частей активной борьбы с самодержавием без применения оружия. Но вы не находите, Владимир Ильич, что уклонились от моего вызова?
Ленин весело рассмеялся.
— А вы не находите, Александр Александрович, что сейчас у меня с вами и были скрещены, как вам хотелось, именно «философские шпаги»? Отношение к выборам в Думу — вопрос революционной тактики. А вы сами сейчас заявляли, что революция зиждется на философской основе. Так ведь? Простите! И мне желательно знать: ваша «философская шпага» способна только приятно звенеть или при надобности может оказаться и хорошим боевым оружием? Союзника!
— Ну вас, Владимир Ильич! — сердито сказал Богданов.
На обратном пути беседовали уже мирно, о чем придется, а больше всего о прекрасной погоде.
У калитки Надежду Константиновну остановила, отвела в сторону женщина, финка, приносившая ежедневно на «Вазу» молоко.
Пряча под фартук грубые от работы, красные руки и умоляюще упрашивая Крупскую «сильно поверить» ей, на нетвердом русском языке она рассказала, что, пока господа гуляли, возле их дачи все время вертелся, прятался за деревьями какой-то неприятный мужчина. А потом она сообразила, что этого мужчину замечала и раньше. То у вокзала, то в пригородных поездах, каждый раз одетого иначе. Видела однажды, как он шептался с полицейскими. А на другой день полиция арестовала двоих, таких же вот порядочных людей, дачников, и увезла их в Петербург. К добру ли он опять появился? И почему он вертится именно возле этой дачи?
— Мои мальчики гофорили, тот этот просил их, просил, как зовут мужа вашего и который кашляет, рышими усами, и показыфал фотографические карточки, — закончила она.
— Да мало ли на свете разных бродяжек! — с искусственной беспечностью отозвалась Надежда Константиновна. — Но вам, дорогая, большое спасибо за предупреждение. Впрочем, очень возможно, что мы отсюда вскоре уедем в Петербург. Там спокойнее.
Елизавета Васильевна приготовила хороший ужин. После долгой прогулки ломтики хлеба, поджаренного с яйцами, взбитыми на молоке, казались особенно вкусными. Сообразно пристрастиям каждого, чай в граненых стаканах играл оттенками разных цветов — от светло-золотистого до темно-коричневого. Он бодрил, освежал. И хотя время давно перевалило за полночь, было похоже, что это еще день, трудовой светлый день, и, встав из-за стола, надо будет разойтись не к постелям, а углубиться привычно в книги, рукописи, дела.
Дурное настроение у Богданова прошло. Он припоминал отдельные моменты недавней шахматной партии. Во всех промахах и ошибках винил теперь только себя, а нелепую потерю ферзя объяснял хитро задуманной комбинацией, которую в этот раз осуществить не удалось, но ее жизненность доказать он берется.
Наталья Богдановна, стремясь поднять престиж своего мужа, рассказала, как Александр Александрович, работая в библиотеке над материалами для книги «Эмпириомонизм», вызвавшей почему-то резкое неудовольствие Владимира Ильича, однажды заказал такое количество разнообразнейших трудов по философии, что библиотекарша сказала: «Вы еще совсем молодой, а уже всех философов мира знаете!»
Ленин раскатисто хохотал и говорил, что с ним тоже в библиотеках приключались забавные происшествия. Всего лишь пять лет тому назад в библиотеке Британского музея с него взяли официальную подписку, что он никак не моложе двадцати одного года. И лишь тогда допустили в читальный зал. Что поделаешь, английские правила! А насчет «Эмпириомонизма», так он весьма давненько приготовил Александру Александровичу свое «объяснение в любви».
Надежда Константиновна в таком же веселом ключе рассказала, как врач, первым определивший у нее заболевание базедкой, долго пенял ей: «В ваши годы — и такая с вами оказия!» А потом замучил расспросами о родственниках, близких и дальних, о перемене местожительства, о химическом составе воды, которую пила в разные годы, и, наконец, о таких обстоятельствах, которые не только к базедке, но и к медицине-то вообще не имеют ни малейшего отношения.
Поддерживая Крупскую, Дубровинский заявил, что «расспросный зуд» — профессиональная слабость любого врача. И привел в пример отправку по домам делегатов Лондонского съезда. Представителями в хозяйственной комиссии от большевистской фракции сидели рядом Литвинов и Отцов. К Литвинову кто обратится — раз, и готово! А Отцов не только спросит, куда и на какой транспорт приобрести товарищу билет, но закидает еще и вопросами, а с кем вместе намерен он путь держать, и где потом в России жить собирается, и есть ли родственники у него…
Все смеялись. Владимир Ильич хохотал громче всех.
— Вот, вот, именно: есть ли родственники! Без этого вопроса, ручаюсь, ни один врач не обойдется, о чем бы ни шла речь. И вы, Иосиф Федорович, попали, конечно, не к Литвинову, а к Отцову?
— Потому и рассказываю. А я ведь и жил с ним в одной комнате.
— Ну ничего. Отцову такое любопытство можно простить. Врач он, кажется, весьма неплохой.
Надежда Константиновна посмотрела на часы.
— Ого! Не пора ли…
— «Не пора ль, Пантелей, постыдиться людей…» — продекламировала Наталья Богдановна.
— Да, да, — подхватил Ленин, — «…и с молитвой за дело приняться. Промотал хомуты, промотал лошадей…» С удовольствием примусь за дело! Спать, спать! И сколько угодно!
Все дружно поднялись из-за стола.
— А я хотела предложить немножко другое, — сказала Крупская. — Если бы Иосиф Федорович и мы с тобой, Володя, сумели собрать самое необходимое за два часа, мы бы уже сегодня уехали в Стирсудден к Лиде и спать могли бы там. Лидия просто изнемогает от желания угостить нас оленьим окороком.
— Вот как? — несколько озадаченный, проговорил Ленин. — Разумеется, собраться за два часа нетрудно; когда надо, я умею собираться за пятнадцать минут. И поехать к Лидии Михайловне — превеликая радость. Но почему все же такая спешка?
— Женский каприз, — смеясь, сказала Крупская.
— Объяснение не годится, Надюша, — сказал Владимир Ильич.
— Ну тогда — необходимость.
— Это лучше, — заметил Дубровинский, — хотя и хуже.
Надежда Константиновна коротко рассказала о своем разговоре с молочницей.
— Гм, гм!.. — Ленин прищурился. — Ерунда! Серьезной опасности не вижу! Взять нас здесь — руки коротки! Хотя нет, разумеется, и причин тянуть, отказываться от свежего оленьего окорока. Вы как думаете, Александр Александрович?
— Полностью поддерживаю Надежду Константиновну, — заявил Богданов. — Уезжайте. Немедленно уезжайте. Сегодня у полиции руки коротки, завтра они могут вырасти. Или мы не знаем российской действительности?
— Черт возьми! Но Куоккала — удобнейшее место для связи с Питером! — сказал Ленин, расхаживая по комнате.
— Вы не можете, Иосиф Федорович не может, а мне пока ничто не мешает появляться даже в Петербурге, — проговорил Богданов. — В Куоккала для связи с Петербургом останусь я и Наташа.
Ленин еще походил, повторяя свое: «Гм! Гм!» Остановился. Наотмашь повел рукой:
— Едемте! Но это не бегство в испуге, это поездка на отдых. Вы готовы к такой поездке, Иосиф Федорович?
— Да, — ответил Дубровинский. — Времени, назначенного Надеждой Константиновной для сборов, мне больше чем достаточно. Только, кажется, Надежда Константиновна ошибается. Через два часа проходит поезд в сторону Петербурга, а не Гельсингфорса.
— Совершенно верно, — подтвердила Крупская. — Именно в сторону Петербурга.
И Ленин, смекнув, сразу же подхватил:
— Дорогой Иосиф Федорович, ну, разумеется, Надюша рассудила правильно! Коль ехать даже на отдых, так все равно обязательно соблюдать конспирацию. Да, да! Не только поэтому, но и поэтому, Наталья Богдановна, Александр Александрович, вы нам окажете честь — проводить до станции? И посадить — без «хвоста»! — в вагон.
— Проводим и отправим, — сказал Богданов. — Счастливого пути!
— Спасибо! — сказал Ленин. И потер руки. — Но знаете, Александр Александрович, все время сейчас меня сверлит-таки одна мысль: мы с вами должны еще обязательно скрестить свои «философские шпаги»! По-настоящему!
Через два часа они веселой ватагой, громко, на всю улицу разговаривая и перекликаясь, неся небольшие саквояжи в руках, направились к станции.
Ночь походила на день, было совершенно светло, только чуть прохладнее, чем с вечера. Полыхающая багрянцем заря переместилась над лесом. Теперь она горела на северо-востоке, в той стороне, куда нужно было ехать. И откуда пока что ожидался поезд на Петербург.
3
Холодный ветер «биза» гнал к берегу мелкую, отлогую волну, бросал ее на гранитную отмостку и заставлял взлетать вверх пыльными брызгами. Чугунные решетки, ограждавшие подходы к озеру, слезились. Под ними образовались широкие лужицы, и ветер накрывал их тонкой рябью.
По склонам гор, вдалеке охватывающих Женеву вместе с озером свободной подковой, медленно волочились клочковатые облака. Проплывали над городом. И тогда еще и сверху сеялась влажная муть, соединяясь с курящимся вдоль набережной туманом. Город казался безлюдным. Лишь иногда на короткое время в улицах появлялись одиночные пешеходы, спешащие куда-то по самым неотложным делам, катились редкие кебы с поднятым кожаным верхом.
— Д-да, Иосиф Федорович, погодка сегодня совсем не женевская, — проговорил Ленин, приподымая воротник пальто и раскрывая зонт. — Сожалею, что потащил вас на прогулку. Но, право, здесь зимой не всегда бывает так скверно, а мне хотелось блеснуть перед вами способностями гида, поскольку вы в Женеве первый раз!
— Погода действительно неважная, — подтвердил Дубровинский, принимая приглашение Ленина сообща воспользоваться одним зонтом. — Однако я, Владимир Ильич, не очень огорчен. Случалось попадать и не в такие оказии.
— А я огорчен чрезвычайно. Боюсь, не простудить бы вас. Может быть, нам лучше вернуться?
— Только в том случае, Владимир Ильич, если простуда может к вам прицепиться. А я одет достаточно тепло и, как это ни странно, люблю гулять под мелким дождичком. Надо мне понаблюдать Женеву и слякотную. В день моего приезда сюда я потрясен был обилием света. Хотя, правду сказать, и яркое солнце, и эти роскошные горы, и озеро — все мне показалось каким-то чужим.
— Вот именно: чужим! — подхватил Ленин. — У меня вообще было такое чувство, словно я в гроб ложиться сюда приехал. Не удержался, сказал при Надюше. Она сделала вид, что не расслышала и что ей невыразимо приятен этот вояж. Что делать, будем считать: всем нам приятен. Это лучше, чем терзаться глупой тоской. Глупой потому, что тоска подобна ржавчине, которая разъедает самую прочную сталь. В первый наш приезд сюда Женева была мне больше по душе.
— Наверно, дело было не в самой Женеве, а в той атмосфере, какая вас окружала тогда, — заметил Дубровинский. — Тогда у вас здесь вырастали крылья, а теперь эти крылья подбиты.
— Гм, гм! «Подбиты»! — слово не нравится, от него веет какой-то безнадежностью. Но вы правы: тогда революция шла на подъем, а сейчас мы вынужденно отступили. Для нового разбега. — Он рассмеялся. — Видели бы вы, как я пробирался ночью по льду Финского залива! Мрак абсолютный. Два пьяных проводника, крестьяне, финны, как водится, молчаливы, ни слова ни со мной, ни между собою. Идут. А лед трещит, ломается. И тут я понял, что значит поговорка «Пьяному море по колено!». И пожалел, разумеется, не в прямом смысле, что сам я не пьян. Тогда бы, очевидно, было и мне все равно. А так — уходит лед из-под ног, и думаешь невольно: «До чего же бессмысленно приходится погибать!» Но знаете, в то же время и злость взяла. Обыкновенная хорошая злость на то, что ноги промокли. Побежал. Лед шевелится, но бегу, и чувство такое — спасение только впереди. Оправдалось. Выскочил из беды. Подошли проводники. Впервые заговорили: «Смекнул барин. Когда лед проваливается, стоять на месте нельзя». Просто и мудро, не правда ли? После я много раз повторял эти слова. Здесь, в Женеве, лед тоже потрескивает. А потому стоять нам нельзя. — И опять рассмеялся. — Идем, как видите, невзирая на скверную погоду!
— А помните, Владимир Ильич, как мы с вами гостили у Лидии Михайловны в Стирсуддене?
— Помню, — сказал Ленин, — хотя прошло уже сто лет, а точнее — семь с половиной месяцев. Помню и как мы с вами были там водовозными клячами, каждое утро прикатывали по нескольку бочек и поливали цветы, которых у милой Дяденьки бесчисленное множество. А вот вкус оленьего окорока совершенно забыл. Как вы находите, женевская конина не вкуснее?
— В пересчете на франки и сантимы, которых все время не хватает, конина, безусловно, вкуснее!
— Это мне напоминает афоризм Конфуция: самое трудное — поймать кошку в темной комнате, особенно тогда, когда ее там нет.
Ленин остановился, поглядывая на плещущее мелкими волнами озеро, на дальние цепи гор. Ветер дул ровно, с прежней силой, а моросящий дождь прекратился, и несколько приподнялись, посветлели бегущие над озером клочковатые облака.
— В качестве самозваного гида какие сведения могу я вам сообщить, Иосиф Федорович, об этой самой Женеве? — проговорил Ленин, складывая зонт. — Сколько-нибудь обстоятельные наиболее ранние упоминания о ней мы находим только у Юлия Цезаря. Стало быть, не грех называть Женеву старушкой. Насчитывает она примерно сто десять тысяч жителей, включая и нас с вами. А вообще эмигрантов здесь более чем предостаточно. Скучать не придется, если принимать все эмигрантские склоки за веселые спектакли. Что сказать об этом озере? Его длина… Вы еще не совсем закоченели, Иосиф Федорович?
— Наоборот, очень хорошо прогрелся, — ответил Дубровинский, интуитивно догадываясь, что Ленин предложил ему прогулку совсем не ради того, чтобы показать город и Женевское озеро. Его мысли заняты сейчас совершенно другим, а разговориться при ходьбе как-то легче. Конечно, главная его забота — это «Пролетарий», регулярный выпуск газеты — одна из важнейших целей их приезда сюда. В Финляндии стало небезопасно. — Владимир Ильич, меня беспокоит настроение Богданова. Вот мы, три редактора, казалось бы, работаем слаженно. И однако…
Ленин быстро повернулся к нему. Сунул зонт себе под мышку и сделал короткий жест свободной правой рукой.
— …и однако мы с вами в этой слаженности оба уже замечаем серьезную разобщенность. Да, да, Иосиф Федорович, будем называть вещи своими именами. Разобщенность! Мы должны приложить все усилия, чтобы лед, на котором стоим, не дал трещин, как в Финском заливе. Когда лед начинает трескаться, стоять на месте нельзя! Мы должны двигаться. Но пойдет ли вместе с нами Александр Александрович, коего я чту как одного из умнейших людей, увы, одержимых непереносимыми глупостями!
— Наш здешний первый номер «Пролетария» складывается неплохо, — заметил Дубровинский. — Но я, как и вы, предчувствую, что миру и согласию с Богдановым наступит конец. Не знаю только, скоро ли?
— Видите ли, Иосиф Федорович, — Ленин взял его под руку, повел дальше по набережной, — положение партии опять существенно меняется. Мы утрачиваем последние крохи легальных возможностей. Наши газеты убиваются правительством сразу же после их рождения. Открытые собрания, митинги заканчиваются массовыми арестами. В этих условиях Дума остается все-таки мало-мальски сносной трибуной для публичного выражения наших взглядов, защиты нашей программы. Но Александр Александрович, который сам же руководил деятельностью депутатов второй Думы, теперь закусил удила и превратился в яростного бойкотиста. Он, умиленно рассуждавший о стремлении звездного мира войти в состояние покоя и равновесия, взрывает земную, думскую политику большевиков, к коим и себя причисляет.
— У меня с ним вчера был тяжелый разговор как раз по этому поводу, — сказал Дубровинский. — Он упрямо стоит на своем. И тут же уверяет, что на общей работе в газете это не отразится.
— Отразится, Иосиф Федорович, и еще как отразится! Партии нужен теперь правильно выходящий политический орган, выдержанно и сильно ведущий борьбу с распадом и унынием, — партийный орган, политическая газета. Это я не устаю повторять всем, кого мы приглашаем сотрудничать в «Пролетарии». Писал Алексинскому. Большевик, депутат второй Думы, осужден за это вместе с другими на каторгу. Бежал, скрылся в Австрии. Надежный товарищ? Нет! Вертит хвостом и присоединяется, по существу, к Богданову. Дает самочинно адрес и связи для пересылки «Пролетария» в Россию. Кому? Меньшевику Мандельбергу. Как прикажете это понимать?
— Не самочинно, а по одобрению Богданова.
— Все может быть! Писал Луначарскому, Горькому — ответы благоприятные, сотрудничать с нами готовы оба. Алексей Максимович согласен систематически давать беллетристику, и это архиважно — сделать газету живой, увлекательной в чтении, но… И тут «но», Иосиф Федорович! Луначарский с ушами увяз в философии эмпириокритицизма, которая отличима от богдановского эмпириомонизма ничуть не больше, чем желтый черт от черта синего. А Горький, как это ни прискорбно, им сочувствует. Во что со временем преобразится их сотрудничество?
— Мне думается, Владимир Ильич, единственное, что можно сделать, — это совершенно не касаться философских проблем в нашей газете.
— Именно так и я полагаю, Иосиф Федорович! И в ответном письме Алексею Максимовичу я посоветовал не связывать философию с направлением партийной работы, с большевизмом. Но вот вопрос: сами мы не проявим инициативы — нас вынудят это сделать те же Богданов, Луначарский, Базаров, дудящий с ними в одну философскую дуду. Ведь они сплошь и рядом публично высказываются в этом плане. Вы проштудируйте внимательно их статьи из недавней книги «Очерки по философии марксизма». Это же махизм чистейшей, вернее, мутнейшей воды!
— Да, я читал и с вами полностью согласен.
— То-то и дело, что мы с вами между собою согласны, а с Богдановым, Базаровым и компанией согласиться не можем, но работать с ними должны. Борьба против махизма и этих «русских махистов» должна быть развернута беспощадная, истребительная, но вестись должна со всесторонним учетом обстановки, так, чтобы «Пролетарий» и большевики, как фракция партии, не были задеты. А что прикажете делать, когда Богданов и компания переполняют чашу сию своими махистскими выступлениями, выдаваемыми за марксизм? Что прикажете делать, когда переметнувшийся душой и телом к меньшевикам Плеханов, вся политическая тактика которого верх пошлости и низости, — в марксистской философии оказывается на коне и отстаивает правое дело, обвиняя большевиков в поощрении махизма? Да, да, в поощрении, ибо и Богданов и Луначарский — большевики! Долго ли мы сможем оставлять такие обвинения без надлежащего отпора?
— Действительно, вся штука в том, что отпор давать мы обязаны не меньшевику Плеханову, а большевикам Богданову и Луначарскому, — задумчиво проговорил Дубровинский.
— А лично для меня штука еще и в другом. — Ленин был возбужден чрезвычайно, шел, жестикулируя зажатым в руке сложенным зонтом. — Штука в том, что я в Анатолия Васильевича верю и знаю, что придет пора, когда он сам станет стыдиться нынешних своих убеждений, одолевших его от чрезвычайно тонкого ума и чувствительного характера! Это не больше как болезнь, и болезнь излечимая. Но оборвать ее развитие я не в силах, пока она не пройдет какой-то свой цикл, пока не минует кризис. И я должен остаться, и я буду оставаться безжалостным к этому больному, как был безжалостен к заболевшему меньшевизмом Георгию Валентиновичу, а теперь хочу пожать ему руку. Потому что я тоже верю в него.
— Вы верите, что Плеханов полностью порвет с меньшевизмом?
— Верю в то, что он порвет с подлостью меньшевизма! А это уже много. С благородным противником, с партийным меньшевиком, — Ленин нажал на слово «партийным», — с высокоэрудированным в теории и философии марксизма ученым, наконец, с Плехановым-человеком я лучше предпочту иметь дело, чем с зазнайкой и махистом Богдановым, кичащимся своим большевизмом, а объективно борющимся против него.
— У меня уже временами начинает вскипать нечто такое…
— Нет! Будем продолжать общую работу, Иосиф Федорович! Будем, пока это возможно. Проявим необходимую терпимость, сдержанность, что совсем не исключает самой жестокой философской драки с исказителями марксизма. Пока за рамками газеты.
— А если эта драка все же неизбежно ворвется и на ее страницы? Тогда, пожалуй, выиграют только меньшевики…
— Точь-в-точь, как и вы, сомневается Горький. А в одном немецком журнале уже написали, что разногласия в вопросах философии между Плехановым и Богдановым — принципиальные разногласия меньшевиков с большевиками. Но написавшие это дурак или дура нам только помогли. Теперь и Богданов не сможет отказаться от публикации редакционного заявления «Пролетария», что попытка представить такие разногласия как фракционные несостоятельна, что в среде и той и другой фракции есть сторонники обоих философских направлений. А что касается меньшевиков, так они выиграют только в том случае, если мы решительно не отделим себя от философии Богданова и компании. Поверьте, если философская драка пойдет вне фракций, то все позиции меньшевиков неизбежно будут полностью сведены к политике, и только, а тут им смерть! — Ленин легонечко наконечником зонта ткнул в мостовую. — Кстати, вы не прочитали еще гранки моих «Политических заметок»? Там в конце я сделал некоторые поправки.
— Нет, не читал, Владимир Ильич! Знаю лишь по первому набору.
Увлекшись разговором, они незаметно для себя сошли с набережной и брели по узкой улочке, где порывов ветра совсем не чувствовалось, но пахло застойной сыростью, скопившейся возле чугунных оград. Ленин вынул из кармана пиджака свернутые в трубочку гранки своей статьи, отыскал нужное место и вполголоса прочитал:
— «Мы умели долгие годы работать перед революцией. Нас недаром прозвали твердокаменными. Социал-демократы сложили пролетарскую партию, которая не падает духом от неудачи первого военного натиска, не потеряет головы, не увлечется авантюрами. Эта партия идет к социализму, не связывая себя и своей судьбы с исходом того или иного периода буржуазных революций. Именно поэтому она свободна и от слабых сторон буржуазных революций. И эта пролетарская партия идет к победе». Так я заканчиваю, Иосиф Федорович, свои «заметки», и, я думаю, это имеет прямое отношение к нашему сегодняшнему разговору касательно предстоящей борьбы. Если вам не нравится, критикуйте!
— Готов, — шутливо отозвался Дубровинский. — Мне не нравится, что это написали вы, Владимир Ильич, а не я. И еще мне не нравится, что нас, кажется, занесло в какой-то совсем глухой переулок.
— Ого! Слышали бы денежные тузы, что живут в этих особняках, — Ленин широко повел рукой, — слышали бы они, как непочтительно вы отзываетесь об их аристократической улице! А что касается того, каким образом занесло нас сюда, каюсь: сила привычки. Именно через эту улицу мы с Надюшей после вечерних прогулок у озера захаживаем в наше любимое кафе «Ландольт». Так вот, не поддаться ли и нам этому непроизвольному влечению? — Он вынул часы, посмотрел и щелкнул крышкой. — Впрочем, что же я? От пансиона сегодня мы отказались, и нас сейчас дома с обедом поджидает Надюша. А в «Ландольт» заглянем попозже. Хотя, честно говоря, если туда наряду с нашими товарищами набьются эсеры, пускаться с ними в политические споры мне надоело хуже горькой редьки еще с первой эмиграции!
— А надо, — сказал Дубровинский. — Горькая редька очень полезна.
— Вот вы в Женеве ее досыта и отведаете! Вам ее здесь начнут подавать и с российским квасом и с прованским маслом. Взмо́литесь: дайте хрена! Хотя, как известно, хрен редьки не слаще. Но — не пугаю, Иосиф Федорович! Скорее, заманиваю в здешнюю эмигрантскую кухню. Постарайтесь в ней занять место повара. Другим больше нравится мыть посуду. А также перемывать чужие косточки.
— Будем вместе держаться, Владимир Ильич! Постараюсь не подвести.
— Меня? Подводите меня сколько угодно! Дело, которое мы с вами делаем, не подводите!
— Напоминание о прошлом?
— Нет. Кто старое помянет, тому глаз вон! Это на будущее. В настоящем же нам следует ускорить шаги. По словам Надюши, опоздание к обеду равносильно карманной краже. Краже времени у хозяйки дома. А для мужчин нет ничего позорнее, как обворовывать женщину!
Они опоздали немного. Стол был уже накрыт, в квартире приятно пахло корицей и лавровым листом. Крупская встретила их немым покачиванием головы. Дубровинский принялся извиняться, а Ленин, хитренько подмигивая из-за спины Надежды Константиновны, показывал ему жестами, как тот, дескать, залезает в чужой карман. Но тут же присоединился к Дубровинскому и сказал, что полностью всю вину за опоздание принимает на себя, потому что, увлекшись разговорами, забыл совершенно о соловье, которого баснями не кормят. К тому же они забрели далеко от дома, а на обратном пути дул сильный встречный ветер. Здесь Ленин весело расхохотался.
— Прошу, однако, Надюша, не истолковывать этих слов превратно, в ущерб нашему мужскому достоинству, а расценивать их с точки зрения прикладной математики, в которой наш Инок, Иосиф Федорович, дьявольски силен. Это он объяснил мне по дороге, каким образом, меняя галсы, плавают против ветра парусные корабли. И, разумеется, прибывают в гавань с некоторой задержкой.
Крупская, принимая от Дубровинского пальто и шляпу, корила, почему он по такой холодной погоде ходит без перчаток. И Дубровинский честно признался, что их у него попросту нет. Забыл в вагоне. А тратиться на покупку новых жаль.
— Ну как же можно! — воскликнула Крупская. Тут же побежала в другую комнату и, вернувшись, принялась засовывать в карман пальто Дубровинского пару кожаных перчаток. — Володя, я взяла твои запасные.
— Надежда Константиновна, что вы делаете! — взмолился Дубровинский. — Я сгорю от стыда!
— Погасим, сгореть не дадим, — успокоил Ленин. — Очень правильно сделала, Надюша!
Он взял под руку Дубровинского и повел к столу. Выбрал для него место поудобнее, посадил, а сам удалился на кухню, помогать жене.
— Иосиф Федорович, — крикнула из кухни Крупская, — будьте добры, сдвиньте со средины стола блюдо с хлебом, туда мы сейчас водрузим суп.
И появилась, неся прихваченную полотенцем через ушки дымящуюся ароматным паром кастрюлю.
— Обед у нас сегодня из пяти блюд, — торжественно объявила Надежда Константиновна, готовясь разливать суп в тарелки. — Вначале, как полагается, закуска. Она мысленная. На выбор. Соответственно избалованным вкусам каждого: семга с лимоном, паюсная икра, ветчина, яйцо под майонезом, холодный гусь или устрицы. Вообразили?
— Мне хочется горькой редьки, — заявил Дубровинский. — Владимиру Ильичу она порядком надоела, а я к ней должен привыкать.
— Браво, Иосиф Федорович! — хлопнул в ладоши Ленин. — Но в таком случае из солидарности я обязан составить вам компанию.
— Ну-у, — разочарованно протянула Крупская, — а я-то старалась! Даже как-то неловко теперь мне брать для себя не только устрицы, а самую обыкновенную ветчину. Разве уж маленький-маленький кусочек. — Она сделала вид, будто аппетитно закусывает. — А теперь я наливаю суп. Вполне реальный. Он с мясом, но без мяса. Потому что мясо из супа будет вам подано на второе, а с учетом мысленно съеденной закуски — на третье. Четвертым будут макароны с маслом, если вы не потребуете присоединить их как гарнир ко второму, которое третье. И наконец, на пятое я предлагаю простоквашу с корицей и сахаром. Итак, милости просим, кушайте и нахваливайте!
— Прекрасно! — отозвался Владимир Ильич, приступая к еде. Суп ему и в самом деле понравился. Особенно после долгой прогулки на свежем воздухе.
— Очень вкусно, — подтвердил и Дубровинский.
Надежда Константиновна загадочно улыбнулась. Но, убедившись в том, что в словах Владимира Ильича и Дубровинского нет никакого лукавства, что их похвалы совершенно искренни, она открылась:
— А знаете, незадолго до вас заходил Александр Александрович. Я пригласила остаться на обед, разговор происходил на кухне, и надо же было видеть выражение его лица, когда он понял, что его ожидает! Он сказал: «Извините, Надежда Константиновна, но у нас дома Наталья Богдановна тоже готовит обед». А я не стерпела намека, договорила: «…и он, конечно, как всегда, лучше вашего!» Александр Александрович расфыркался и убежал, потому что я зацепила его под ребро. Он ведь любит поесть изысканно.
— Да, такую слабость за ним я еще в Куоккала замечал, — сказал Дубровинский. — А я, например, в этих самых разносолах ничего не смыслю.
— Что же касается меня, так после тюрьмы только Надюша с Елизаветой Васильевной и поставили меня на ноги, — добавил Ленин. — Ем теперь лишь то, что они прикажут. А это всегда бывает вкусно. Но чего ради, Надюша, приходил Богданов?
— Ответ из Вены от Троцкого получил, — сказала Крупская. — Сотрудничать в «Пролетарии» не желает. Ссылается на чрезмерную занятость другими делами.
Ленин тихонько опустил ложку. Сощурясь, весело поглядел на Дубровинского.
— Вы не находите, Иосиф Федорович, что это, пожалуй, и хорошо, когда Троцкий занят другими делами?
— Вполне согласен с вами. Обойти его приглашением было нельзя, а иметь такого сотрудника было бы и того хуже.
— «Внефракционный эсдек». Однако чурающийся большевиков и подпевающий при каждом случае меньшевикам! — уже сердито проговорил Ленин. — Продаст — недорого возьмет! Других новостей Александр Александрович не принес?
— Он был вообще в дурном настроении, — ответила Крупская, распределяя по тарелкам второе и выбирая для гостя кусочек получше. — Вскользь бросил колючее словечко насчет того, что ты, Володя, приписываешь ему в философии Маха и Авенариуса, тогда как он Богданов и только Богданов. Он, дескать, никого не повторяет, а создает свою собственную марксистскую философию.
— Если философия «собственная, богдановская», значит, это уже опровержение, ревизия марксистской философии, — заметил Дубровинский.
— Примерно так и я сказала Александру Александровичу, от чего настроение у него испортилось еще больше, — отозвалась Крупская. — Володя, я кладу тебе с хрящиком. Это полезно.
— Спасибо, Надюша! Мне уже приходилось объявлять философу Богданову «иду на вы», когда только что появился его «Эмпириомонизм». Но это была легкая дуэль на шпагах, как любит называть наши споры Александр Александрович. Теперь я буду стрелять из пушек. Вероятно, получится объемистая работа, у меня постепенно накапливаются черновые наброски, и это будут «критические заметки об одной реакционной философии». Определением «реакционной» я сразу вышибаю опору из-под ног у тех, кто хотел бы себя и Маха прилепить к Марксу и Энгельсу. А в целом книга, очевидно, получит название «Материализм и эмпириокритицизм». Название всегда должно быть строгое и точное… — Он что-то поискал глазами на столе, и, догадавшись, без слов Надежда Константиновна придвинула ему баночку с горчицей. — Спасибо, Надюша! Люблю эту приправу к вареному мясу. Да, о Богданове! Хорошо, если бы мамочка с Маняшей разыскали в Питере мое «объяснение в любви» Александру Александровичу. Сам не знаю, куда девались эти тетрадки. Они очень бы мне пригодились. Вижу, без большой драки не обойтись!
— Александр Александрович еще пригрозил, — сказала Крупская, — ну, в общем, не пригрозил, а заявил достаточно зло, что, если ты, Володя, вздумаешь связывать его философские взгляды с партийной деятельностью, он привлечет тебя к партийному суду!
— Браво! Сейчас я всеми силами стараюсь этого не связывать. Но мера терпения есть всему! Готов предстать и перед судом. Не зря ли только Александр Александрович мечтает об этом?
— Мечтает, наверно, найти судьей какого-нибудь Шемяку, — проговорил Дубровинский.
— Гм, гм! Так я и соглашусь на кого попало! — воскликнул Ленин. — Шемяку… А впрочем, как раз Шемяку бы и хорошо. Ведь в роли бедного брата оказываюсь я! Вы знаете сказочку о Шемяке, Иосиф Федорович?
— Нетвердо. Знаю, что «Шемякин суд» — несправедливый суд.
— Совершенно верно, — подтвердил Ленин. — Но, как всегда, в народных сказках есть особая изюминка. Хотите, расскажу? Жили-были два брата, богатый и бедный. Бедняк попросил у богача взаймы лошадь куда-то там съездить. Богач лошадь дал, но без хомута. Что делать? Бедняк привязал сани к хвосту лошади и поехал. А подворотню вынуть забыл. Сани уперлись, он стегнул кнутом, лошадь скакнула и хвост начисто оторвала. Богач бедного — в суд. К прославленному Шемяке. Едут вдвоем, остановились переночевать у попа. Бедняк ночью с полатей возьми да и свались прямо на колыбельку с ребенком. Задавил малыша. Поп в ярости. Теперь уже втроем едут к Шемяке. Бедняк в отчаянии, кругом виноват. И на въезде в город решил покончить с собой, спрыгнул с моста, чтобы разбиться об лед. А в это время понизу ехал парень и вез покойника старика, который только что у него прямо на санях скончался.
— Володя, кажется, старик был живой, — поправила Крупская.
— Есть разные варианты, Надюша, этот больше в тон всей сказке, — ответил Ленин. И продолжил: — Бедняк-то и упал как раз на него. Парень в крик: «Убийца! Убить тебя самого!» И теперь уже вчетвером едут к Шемяке. Ясно, дела у бедного плохи. Завязал он в платок гирю чугунную и на суде издали показывает Шемяке: вот, мол. А тот по-своему определил: солидная взятка ему предлагается. И выносит по очереди приговоры. По иску богатого брата. Оставить в наказание бедному лошадь до тех пор, пока у нее заново не вырастет хвост. По иску попа. Отдать попадью, пока у нее от бедняка не родится ребенок. По иску парня. Должен парень убить бедняка, но только тем же способом, каким тот «задавил» старика, то есть спрыгнуть на него с моста. Богач почесал в затылке, а лошадь отдал. Поп за попадью триста рублей бедняку отвалил. Струсил прыгать с моста и парень, тоже крупными деньгами откупился. Едет обратно бедняк веселый, посвистывает. Вдруг догоняет его посыльный Шемяки. «Ты, говорит, судье большой узелок показывал. Ну-ка гони ему эти денежки!» Бедняк платок развязал. «Вот, говорит, чего я приготовил ему: гирей по лбу дать, ежели судить он станет неправильно. Могу вернуться и дать! Потому что суд-то его был неправильный». Перепугался посыльный, поскакал обратно. Да и снова бедняка догоняет, ему же кучу денег везет. «За счастливое свое избавление от смерти, говорит, тебе Шемяка послал». Вот так!
Дубровинский расхохотался. Крупская тоже прыскала в платочек, очень уже темпераментно изображал Ленин всю эту забавную историю с Шемякиным судом.
— Право, остроумен народ русский, — отсмеявшись, проговорил Дубровинский. — Сколько тут поворотов!
— А вы, Иосиф Федорович, обратите внимание на главное, — сказала Крупская. — Как наказывается народом несправедливость. Хотя ты и в мою пользу судил, а неправильно — все равно в лоб получай!
— И еще одна изюминка, — добавил Ленин. — С чего все началось? С жадности и коварства богатого: лошадь бедняку ссудил, а без хомута. Словом, если Александр Александрович мне свою философскую лошадь хочет подсунуть без хомута, а потом тащить на суд к Шемяке — подставляйте тогда свои свинцовые лбы, любезные! От меня ни попадьей, ни деньгами не откупитесь!
Надежда Константиновна расставляла чашки с прохладной простоквашей, присыпала ее молотой корицей, сахарным песком. Вдруг спохватилась:
— Да, а я совсем и забыла вам рассказать. Принесли письмо от Людмилы Менжинской. Из Питера.
— Что же пишет «Милая-людмилая»? — спросил Ленин.
— В общем, все прекрасно. Она ведь никогда не унывает. Вячеслав Рудольфович после того, как сбежал от военно-окружного — не Шемякина! — суда и уехал из Финляндии, укрывается где-то в тинистой, самодовольной Бельгии. Мечтает снова сотрудничать в «Пролетарии», перебраться в Женеву…
— Надюша, тогда следует добавлять: в райскую Женеву, — с легкой иронией вставил Ленин.
— Хорошо, буду добавлять. Вера по-прежнему в питерской «военке». Только очень уж зажата сыщиками «военка», поодиночке полиция людей все время выхватывает. Видимо, внедрился ловкий провокатор…
— Эту мерзость в помойных ямах надо топить! — в сердцах вырвалось у Ленина. — Так. Ну, а что же лично о себе сообщает наша «Милая-людмилая»?
— О себе? Ничего. Ее правило: пишу, следовательно, жива. И, следовательно, весела, здорова. Но вот об Иноке десятки вопросов. Я вам покажу это письмо, Иосиф Федорович. Отвечайте на него сами.
— Вопросы не мне заданы, Надежда Константиновна, с какой стати я буду отвечать, — сказал Дубровинский.
— Это уже казуистика! — рассмеялся Ленин. — Самая лучшая информация — из первоисточника! А Людмиле Рудольфовне я покровительствую, она моя особая симпатия. Если бы эти десятки вопросов ею были заданы обо мне, я бросил бы все на свете и немедленно засел бы за ответ! Да, да! И вы, не вставая, садитесь! Надюша, принеси, пожалуйста, письмо! А за обед — большое-пребольшое спасибо!
Он поднялся и стал расхаживать по комнате, засунув руки в карманы. Временами задерживался у окна, задумчиво оглядывая улицу. Там снова побрызгивал реденький дождь и ветер шевелил вершины безлистых деревьев. Пролетела стайка маленьких серых птиц. Они расселись по карнизам крыши ближнего дома, прицепившись к лепным украшениям стен.
— Надюша, я помогу тебе, — сказал Ленин, — а потом, под вечер, вместе с Иноком сходим все же в «Ландольт».
— И опять бессонная ночь? — сказала Крупская.
— Да, но кое-какие мысли для будущей книги мне хочется проверить в остром споре. Ночей же впереди у меня еще миллион!
Крупская только немо развела руками. А Владимир Ильич, скосив взгляд на Дубровинского, углубившегося в чтение письма Менжинской, осторожно составил тарелки в стопку и потащил их на кухню.
4
Хотя было уже и позднее парижское утро, окна в комнате оставались плотно зашторенными. Слабый электрический свет от полуприкрытого вуалью трехрогого бра, прикрепленного в простенке между двумя фотографическими портретами в профиль и анфас какой-то красавицы, едва достигал уютного уголка, где в бархатных креслах за круглым столиком, накрытым для кофе, устроились Житомирский и глава заграничной агентуры охранного отделения Аркадий Михайлович Гартинг. Все здесь было каким-то по-особому затейливым, мягким и даже немного фантастичным, напоминавшим сказки из «Тысячи и одной ночи». Не абсолютным богатством своим, а хитрой выдумкой, которую в должной мере способен оценить лишь сам хозяин и очень близкие ему люди. Роскошь не напоказ, а для себя и, может быть, для любовницы. Комната для блаженства, прежде чем перейти в спальню.
Были в доме и другие апартаменты, строгие, деловые, даже совсем непритязательные, но Житомирский позвонил у входной двери в такой именно час, когда Гартинг все еще нежился в постели и колебался: вставать или не вставать? Жена гостила у подруги в Лионе, и горничная Люси с вечера привычно ему заменила жену. Люси вошла без стука и, убедившись, что Гартинг не спит, мило ему улыбнулась. Но, как полагается уже горничной, одетой для утренней уборки, доложила:
— Месье, приехал из Женевы ваш друг Лео. Так он сказал. Прикажете его принять? Где?
И Гартинг заставил Люси наклониться, чтобы несколько раз поцеловать ее в припухшие губы, а потом, откидываясь на подушки, устало сказал:
— Рядом. Сейчас я выйду к нему. А кофе подашь, когда я позвоню.
Однако некоторое время еще повалялся в сладкой истоме, припоминая минувший вечер и другие, похожие на этот вечера, всегда стараниями Люси чем-то неповторимые. Он не был «бабником» в грубом значении этого слова, но маленькие амуры на стороне его неудержимо влекли своим разнообразием. Субретки, это — фи! — а связи с дамами высшего общества достаточно канительны, особенно если, кроме амурных радостей, другого от них ничего не получишь. Повитать в облаках хорошо, но жить приходится на земле. Люси счастливо оказывалась золотой серединой, и, право, было бы неплохо, пока не иссякла ее фантазия, освободить ее от обязанностей горничной, все-таки по самой природе своей не всегда эстетичных.
Этим полна была голова Гартинга, когда он, надев пестротканый шелковый халат и подпоясав его мягким витым шнуром с длинными кистями, в шлепанцах на босу ногу, вышел к Житомирскому.
— Милый Яков Абрамович, надеюсь, вы мне простите столь затрапезный вид, — проговорил он, подавая руку и слегка притягивая Житомирского к своей груди. — Но мы ведь с вами в простых отношениях. И, кроме того, если бы вы только знали, как мне досталась эта ночь!
— Бессонница, — участливо сказал Житомирский. — Ужасно! Как врач, я представляю.
— Работа, — вздохнув, уточнил Гартинг. — И многие заботы. Весьма и весьма не просто разрешимые.
Усаживая гостя на лучшее место и прихорашивая свои седеющие волосы, Гартинг словно бы между прочим спросил:
— Вы находите, что я не совсем скверно выгляжу?
— Это могла бы подтвердить и любая, самая красивая женщина, — простодушно сказал Житомирский, зная слабости Гартинга, но не зная, что именно сейчас попал ему не в бровь, а в глаз.
Гартинг засветился счастливой улыбкой. Он понимал, что его агент приехал из Женевы в Париж не для того, чтобы вдвоем беспечно поболтать за чашкой кофе, но говорить о серьезных делах ему решительно не хотелось. А говорить лишь о себе и вообще о женщинах нет никакого смысла, когда во всех жилочках еще чувствуется Люси, называть же впрямую имя ее нельзя. Будет отдавать неприглядным хвастовством, а главное — опасно посвящать этого гуся Житомирского в свои интимные тайны. Сколько уже было в жизни случаев, когда, казалось бы, надежнейшие агенты переметывались на другую сторону и потом какому-нибудь щелкоперу вроде Бурцева раскрывали всю подноготную своих прежних покровителей! А предстать перед просвещенным миром в кольчуге рыцаря, у коего обнаружен, скажем, отравленный меч, еще туда-сюда, но быть вытащенному совсем голышом из любовной постели — уж извините! Он прикрыл глаза и медленно стал гасить улыбку.
Житомирский между тем думал. Этот прожженный авантюрист Гартинг, иначе Ландезен, иначе Гекельман, и в воде не тонет и в огне не горит. В каких только запутанных и скандальных историях он не побывал, а все выходит чистым! Ну, если и не совсем, то, во всяком случае, достаточно чистым, чтобы вот уже четвертый год, свалив блестящего Ратаева, занимать сытое и теплое место заведующего заграничной агентурой. Им, этим «заведующим», может грозить только немилость высшего начальства да интриги собственных коллег. Никого из них еще не подорвали бомбой революционеры. А каково рядовым агентам?
Правда, эсдеки-большевики револьверы в ход пускают не часто, но и по головке предателей тоже не гладят, свирепые же эсеры с тем сладострастием, с каким мечут свои снаряды в царских чиновников, расправляются и с провокаторами. История с попом Гапоном еще долго будет бросать в дрожь. А выгоды? На всю остальную агентуру, наверное, тратится меньше, чем на содержание одного Гартинга. Находясь в эсдековском стане, не поблаженствуешь, как, например, в этом доме. Не будешь лениво подыматься с постели, когда солнце уже близится к полудню, а потом, развалясь, посиживать в струящемся шелковом халате, предвкушая хороший завтрак. Кстати, позаботится ли сейчас об этом Гартинг?
Что это — зависть? Да, зависть. Гартинг со свойственной ему ловкостью и мыльно-масляной наглостью сумеет достигнуть и еще больших высот, хотя, впрочем, нет ничего, пожалуй, заманчивее заведования заграничной агентурой. Он-то сумеет — ты чего достигнешь? А и податься некуда. Гартинг из своих рук, дудки, не выпустит. И дураков он не любит. Ему докладец представь такой, чтобы осталось только перебелить на другой бумаге да собственную, Гартинга, подпись поставить. Но ведь ему, начальству, об этом вслух не скажешь. И Житомирский изобразил на лице своем полнейшую душевную удовлетворенность.
— Ну, а вы как живете, милейший Яков Абрамович? — спросил Гартинг. И позвонил в маленький серебряный колокольчик. — Сейчас нам подадут кофе. Но, может быть, хотите подкрепиться и существеннее?
— Хочу, — твердо сказал Житомирский. Он знал: чуть-чуть поделикатничай, и Гартинг своего предложения уже не повторит. А разговор затянется надолго. Да и отчего же не поесть, коль можно, за чужие деньги? — Вы спрашиваете, Аркадий Михайлович, как я поживаю. Отлично. Как всегда, отлично.
— А если всерьез? — В словах Житомирского Гартинг уловил фальшивую нотку. — Будем придерживаться давнего правила: между нами все начистоту.
— Ну, тогда — отлично, как не всегда. — Житомирский засмеялся. Не проведешь старого воробья на мякине. И он развел руками. — Разве могу я пожаловаться, что в эту минуту мне плохо у вас? А если совсем всерьез, Аркадий Михайлович, так, поверьте, привык я к своему образу жизни. И дело даже не в том, что сплю на скрипучей кровати, а обедать хожу в эмигрантскую столовую, дело в том, что партийные интересы стали моими кровными интересами. И я самоотверженно грызусь на стороне большевиков со всякой шпаной.
— Как же иначе! Да вам бы голову оторвать, если бы вы стали подличать! — Гартинг приподнялся в кресле и хлопнул ладонью по широкому поручню. — Они не оторвали бы, это сделал бы я. На актерской игре далеко не уедешь. Только на честности. — Он поудобнее расположился в кресле. — Это у меня вы можете вертеть хвостом. И то до поры до времени — рискуя уйти куцым.
Неслышно с подносом возникла Люси. Проворно разложила на столике салфетки, без стука переставила сахарницу, высокий молочник, чашки и приготовилась разливать в них кофе. Все у нее получалось мило и грациозно. Житомирский не смог скрыть своего восхищения.
— О, мадемуазель! Вы…
Но Гартинг сухо его перебил:
— Люси, принесите, пожалуйста, для месье что там найдется из холодных закусок. Пулярку, сыр, паштет… И кофе заварите свежий.
Люси понимающе улыбнулась, чуть присела, и тут же все лишнее исчезло со стола. А вслед за тем словно бы растаяла и сама она в дверном проеме, прикрытом легкой драпировкой.
— Лошадь, — проворчал Гартинг, когда Люси скрылась за дверью. Это было сказано на всякий случай. И всем корпусом повернулся к Житомирскому. — Вы по своим делам оказались в Париже? Или…
— А я ведь уже объяснил, Аркадий Михайлович, что для меня теперь нет разницы между своими и партийными делами. В Париже я с серьезным поручением. Но именно к вам привело меня, если угодно, чисто личное дело. Во всяком случае, по нашей — нашей! — терминологии, партийным его не назовешь.
— Жалованье выдавать еще рановато. Вы очень нуждаетесь?
— Внеочередной доклад, Аркадий Михайлович, внеочередной. А степень моей нуждаемости, надеюсь, вы сами определите, когда его прочтете.
— Черт побери! Я должен был бы тогда приказать этой лошади принести еще и коньяк, — отозвался Гартинг. — Но в третий раз сызнова заваривать кофе не стану. Вы меня совсем разорите. Почему вы не предупредили заранее?
— На ипподроме я забываю обо всем…
Гартинг лукаво погрозил Житомирскому пальцем.
— Возможно, я несколько преувеличил.
— Безусловно! Пони… И даже, может быть, еще миниатюрнее — игрушечная лошадка.
— Ваш доклад, — потребовал Гартинг. И, заметив движение Житомирского: — Оставьте карман в покое. Расскажите своими словами. Читать я буду, когда Люси откинет занавески. В чем заключается внеочередность? Умер кто-то из лидеров?
— Нет. Здоровы все, как лоша… виноват — быки. Разве только Дубровинский, «Иннокентий», — он безнадежно болен чахоткой — ближайший претендент на место в мире ином. И когда это свершится, мне будет его искренне жаль.
— Заденет врачебное самолюбие?
— Человек симпатичный.
— В мире ином тоже нужны симпатичные люди, — заметил Гартинг.
— А в этом мире Дубровинские могли бы построить вполне реальный социализм, — не как возражение Гартингу, а как продолжение своей мысли произнес Житомирский. И пояснил: — Это наша партийная программа.
— Ну да, — лениво пробормотал Гартинг. — Социализм, коммунизм, борьба против несправедливости, эксплуатации одного человека другим. Недавно мне дали почитать записки Евстолии Рагозинниковой. Эсерка, террористка. Ей бомбу швырнуть в ближнего своего — все равно что, извините, высморкаться. А пишет она, дай бог память… — Гартинг возвел глаза к потолку, припоминая. — «…Пусть иногда люди будут отвратительны в своей правде, но ложь, самая хорошая ложь хуже самой ужасной правды. В чем бы правда ни проявлялась — она всегда хороша. Будучи правдивыми — всегда, везде, при всяких обстоятельствах — люди скорее поймут жизнь, поймут, „что“ это такое, и смело будут идти вперед, искореняя по дороге зло, твердо будучи уверены, что это действительно зло. Сам по себе человек — дивное, хорошее существо. Но с малых лет уже человека учат лгать. Подумали ли люди, чего они этим достигнут?..» Не правда ли, забавно?
— Рагозинникову повесили?
— Повесили. Выполняя ее призывы к искоренению зла. Или это не зло — швырять бомбы в своих ближних? А что касается правды, меня действительно с малых лет учили лгать. Рагозинникова спрашивает: чего этим люди достигнут? Ответ: мы с вами мило беседуем, а Рагозинникова — на виселице. Все дело в точке зрения. Земля — шар. Когда на одной стороне день, на другой — ночь. Но земля вертится…
— Простите, Аркадий Михайлович, — Житомирскому хотелось скорее перейти к делу, и он уловил момент, когда Гартинг чуть приостановил свою речь. Но тут же и его самого понесло: — Ну что — точка зрения! И повороты земного шара… Архимед, хвалясь своим открытием теории рычага, заявил: «Дайте мне точку опоры, и я сдвину землю». А такой точки опоры в природе-то нет! Рагозинникова — «дивное, хорошее существо», как бомба, начиненная эсеровскими бреднями в каком-то лишь одном миражно-утопическом направлении, требует: «Говорите все только правду, и воцарится благоденствие на земле». Да это все равно что призывать всех стать, скажем, рыжими. Она вряд ли хотя бы одного лгуна успела превратить в говорящего только правду, а ей уже петлю на шею накинули. Но вот когда Ленин пишет: «Дайте нам организацию революционеров — и мы перевернем Россию», — это реально, Аркадий Михайлович, очень реально. Программа нашей партии в действии, и организация революционеров — не миф.
— Вам нравится говорить «нашей» партии, — не то с упреком, не то поощрительно напомнил Гартинг.
— Мне нравится и принадлежность к нашей партии, — с такой же неопределенностью отозвался и Житомирский. — И это обстоятельство побудило меня привезти вам свой внеочередной доклад.
— Ах, да! Так рассказывайте, что там особенного стряслось, в «вашей» партии, если никто из ее лидеров даже не умер!
— «Стряслось» не то слово, Аркадий Михайлович. События развивались издавна и вполне закономерно. А вот кульминационный момент свершился на этих днях. Точнее, пятнадцатого мая.
— Я жду.
— Ну, обстановку к началу выхода «Пролетария» в Женеве вы знаете. Натянутые отношения Ленина с Богдановым и так далее. Однако все-таки рассказ свой я предварю цитаткой из февральского письма Ленина Горькому, которое мне удалось просмотреть прежде, чем оно попало к адресату. — Житомирский вытащил из бокового кармана пиджака пачку листков бумаги, отобрал один из них и, щурясь на слабый свет бра, прочитал: — «…Вы явным образом начинаете излагать взгляд одного течения в своей работе для „Пролетария“. Я не знаю, конечно, как и что у Вас вышло бы в целом. Кроме того, я считаю, что художник может почерпнуть для себя много полезного во всякой философии. Наконец, я вполне и безусловно согласен с тем, что в вопросах художественного творчества Вам все книги в руки и что, извлекая этого рода воззрения и из своего художественного опыта и из философии хотя бы идеалистической, вы можете прийти к выводам, которые рабочей партии принесут огромную пользу. Все это так. И тем не менее „Пролетарий“ должен остаться абсолютно нейтрален ко всему нашему расхождению в философии…» Изволите видеть, писатель Горький лезет в философию; Богданов, ученый муж, вообще считает себя особой, царствующей на философском троне, а Ленин — лидер партии…
— «Нашей» партии, — с ехидцей вставил Гартинг.
— Да, нашей партии! Ленин бежит от философии, как черт от ладана. По мнению Богданова, конечно. Да если бы только так. Если бы только в своей среде. Но ведь и меньшевики, и эсеры, и все прочие тычут пальцем в глаза: на какие философские основы опираются большевики? На Маха, Авенариуса, Беркли, Юма…
— Остановитесь, Яков Абрамович! Для меня это — что в стену горохом. Философские течения не изучал и изучать не буду. В докладе соберите хоть всех философов мира, а на словах объясните попроще. У Ленина переменились взгляды?
— Решительно! Не на сам предмет и не на определенную философскую школу; он как был убежденным материалистом, таковым и остается — переменился его взгляд на тактическое использование философии как серьезного оружия партии.
— М-м! — промычал Гартинг. — Н-да, Ленина мы знаем как твердокаменного, что касается основных целей, и как самого гибкого тактика, когда речь идет о текущем моменте. И каким же образом ныне всплывает на поверхность именно философия?
— А таким. Богданов — большевик. И, кроме того, он вместе с Лениным и Дубровинским ведет «Пролетария». А философия Богданова — эмпириомонизм — перепев Маха на русский манер…
— Фу, черт! Какое мне дело до Маха! Проще.
— Мах и, следовательно, Богданов проповедуют идеализм. То есть отрицание материальности мира, веру в некую высшую силу…
— Гм! Пролетариату, понятно, такая философия не подходит. А Богданов — сам большевик. Ловко. Большевикам надо или разделять его философию, или Богданова не считать большевиком.
— Совершенно верно. Но Богданова поддерживают и Базаров, и Луначарский, и Алексинский, и Берман, и Суворов. Да что тут перечислять!.. Говорил я, даже Горький на ощупь к ним тянется. И, выходит, Ленину следует бить не просто по Богданову и его сторонникам, а под корень срубить их немарксистскую философию. При том еще обстоятельстве, что Плеханов — меньшевик, а с богдановской философией на ножах.
— Узелок!
— Если бы только один! Но пока — об этом. Ленин — гибкий тактик, но при случае способен, как Александр Македонский, разрубать гордиевы узлы и мечом. И он решил обрушить на своих противников капитальнейший философский труд. В известной степени забросил газету, свое в ней участие, чем вызвал неудовольствие даже у спокойнейшего Дубровинского. У меня, дескать, сейчас «философский запой».
— Не у Дубровинского — у Ленина «запой».
— А я разве сказал: у Дубровинского? — Житомирский всплеснул руками. — Разумеется, у Ленина. Но коли на то пошло, он своим «запоем» увлек и Дубровинского.
— И вас, кажется, тоже.
— Если хотите, да. И я вам скажу, философия интереснее медицины. Во всяком случае, она приносит людям меньше смертей.
— Похвальное признание!
— Продолжаю. Для того, чтобы закончить свой философский труд и, как мечом, рубануть им по гордиеву узлу, завязанному нашими русскими махистами, Ленину не нашлось в Женеве достаточно материалов, и он укатил в Лондон, где, работая в Британском музее, провел почти весь май. А в это время Богданов, Луначарский и прочие для всей эмигрантской публики объявили реферат «Приключения одной философской школы», разумея под ней «плехановскую школу», а целя и в Ленина.
— Ага! С расчетом в отсутствие Ленина скомпрометировать его философские позиции? — уточнил Гартинг. — Это мне нравится.
— Когда я здесь, у вас, мне тоже нравится. Но в Женеве, на реферате, я не аплодировал ни Богданову, ни Луначарскому.
— А кому же?
— Дубровинскому…
Вошла Люси, неся на подносе груду холодных закусок, свеже-заваренный кофе, и разговор оборвался. Житомирский принялся ей помогать, перебрасываясь чуть фривольными репликами. Беспечно рассказывал ей что-то о хорошей своей знакомой в России, которую зовут почти так же — Люсей. Но, разумеется, та Люся, ее красота и изящество форм никак не могут сравниться с прелестями этой Люси. Вот что значит различное ударение и разница всего на одну букву в женском имени! Гартинг сидел, деревянно поглядывая на них, будто у стола хлопотала не смазливая, плещущая весельем девушка, а измученная годами и трудной службой старуха, притом совсем ему незнакомая.
Житомирский не спешил. Ему хотелось и поесть со вкусом, основательно, и подольше задержать кокетливо прислуживающую Люси, задержать просто так, ради приятности общения с ней, и к тому же несколько подразнить Гартинга. Сообщение оборвалось на интересном месте, а продолжать его при посторонних, тем паче при служанке, не годится. Хотя «служанка» эта здесь конечно же не посторонняя!
Но Гартинг не пожелал оставить Люси, после того как она приготовила бутерброды для Житомирского (сам он от еды отказался) и разлила кофе по чашкам.
— Теперь мы и сами управимся, — сказал он. — Вы свободны, мадемуазель. — И, дождавшись ее ухода, напомнил: — Итак, аплодисменты достались Дубровинскому.
— На реферат собралось довольно много публики. Во-первых, тема сама по себе интересна, речь о возвышенном, о духовном начале, а не о рваных портках у рабочих. Во-вторых, автор реферата — лицо широко известное, притом великолепный оратор и полемист. И в-третьих, пахло неизбежным скандалом, ибо все понимали, что кто-то же станет и возражать референту, но будет им стерт в порошок. Начал Луначарский. Я много раз слышал его речи, но на этот раз он был в особом ударе. И, право, мне хотелось ему аплодировать вместе с другими, столь красиво и убедительно он говорил. А когда овации стихли и казалось, в последующих выступлениях могут быть поддержаны только мысли докладчиков, попросил слова Доров…
— Это еще что такое? — недоуменно спросил Гартинг. — Впервые слышу о Дорове…
— Все тот же «Инок», «Иннокентий», мой добрый друг Дубровинский. А назвался он для этого раза Доровым, думаю, не ради конспирации, чего тут конспирировать, Иннокентия многие знают в лицо, а по свойственной ему стеснительности. Выступал он по поручению Ленина, по его тезисам, присланным из Лондона. Поэтому он не мог позволить назваться собственным именем, не присваивая себе мыслей Ленина, и не мог заявить, что он, Иннокентий, член Центрального Комитета и редакции «Пролетария», просто зачитывает разработки Ленина и тем самым заявляет о личной своей несамостоятельности в философских вопросах. А Доров — было как бы именем собирательным. Говорит он сам, говорит Ленин, говорит большевистская фракция! И тут уж я зааплодировал. Уму и таланту Ленина, уму и таланту Дубровинского, который проявил себя с таким блеском, что обратил референта, по существу, в луну, а сам остался солнцем.
— Боже, какие неумеренные восторги! — Гартинг покачал головой.
— Люблю Дубровинского, ничего не поделаешь! И когда он отсюда, от этой муторной эмигрантской склоки, сбежит в Россию, — а он непременно сбежит, характер у него такой, ему делать живое дело надо, — мне будет остро его недоставать. А в России он сразу же сядет в тюрьму. — Житомирский вылил себе в чашку остатки кофе, сливок, с удовольствием отхлебнул. — В докладе у меня все философские позиции и реферата и выступления Дубровинского изложены в подробностях. А для себя я списал присланные Лениным из Лондона «десять вопросов референту» и знаю также те поправки, что сделал Дубровинский. Понимаю, что пересказывать все это сейчас ни к чему. Добавлю, что «вопросы» Ленина словно гвоздями к столбу прибивали референта, а Дубровинский своим молотком весьма умело заколачивал эти гвозди. Но главный смысл происшедшей баталии свелся к тому, что Дубровинский твердо заявил: большевизм не имеет ничего общего с философским направлением Богданова, то есть с махизмом, что он, Доров, и Ленин являются безоговорочными сторонниками диалектического материализма и в философских вопросах солидаризируются с Плехановым.
— А-а! Сие действительно существенно, — протянул Гартинг. — Это хороший клин во взаимоотношениях между лидерами. Вогнать бы его и поглубже.
— Простите, Аркадий Михайлович, я не успел закончить. А дело в том, что вслед за выступлением Дубровинского сорвался с места сам Богданов. Я сидел, наверно, в трех саженях от трибуны, но мне казалось, что брызги богдановской слюны попадают мне в лицо. Серьезных аргументов в его речи не было, да и быть не могло, он просто ругался, хотя и в превосходном, безукоризненно цензурном стиле. Есть давний ораторский прием, когда ты сам не можешь подняться выше — старайся притоптать противника. В грязь его рылом, в грязь! Иногда это и удается. И вот Богданов о Луначарском: «Выехал рыцарь. В венке из роз. А ему был нанесен удар сзади». Последние слова уже о Дубровинском. Вот, дескать, каков в нашем философском турнире оказался противник. Мы с копьем, он — с дубиной. Мы ищем его перед собой, на открытой арене, он бьет дубиной по копью из-за спины. Вслед за Богдановым с бранью, близкой уже к нецензурной, ринулся на трибуну Алексинский. Этот даже приплясывал и размахивал кулаками: «Кто такой Доров, чтобы делать подобные заявления, и кто такой Ленин, чтобы козырять его именем как высшим авторитетом?» Словом, к удовольствию многих, предполагаемый скандал разразился в полную силу. И это не все. Алексинский в тот же вечер собрал большевистский кружок, конечно, не всех нас, а кого ему было выгодно, и приняли там резолюцию, отвергающую и суть выступления Иннокентия и вообще даже его право на это. А позавчера Ленин вернулся из Лондона, узнал обо всем и решительно порвал все отношения с Алексинским, с Богдановым же хотя его еще и связывает необходимость совместно работать, чтобы издавать «Пролетарий», но… — Житомирский крестообразно перечеркнул воздух рукой.
Гартинг встал, сладко потянулся, поигрывая кистями поясного шнура, прошелся по комнате. Оттянул гардину на одном из окон и сморщился от яркого света, ударившего в глаза.
— Любопытный докладец вы мне привезли, Яков Абрамович, — сказал он, возвращаясь к столу и заглядывая в пустой кофейник. — Любопытный. Если наших милых эсдеков, кроме тактических, организационных и политических разногласий, станут драматически раздирать, все углубляясь, еще и философские, мировоззренческие противоречия… — Он опустился в кресло, закинул ногу на ногу. — Ваши предположения?
Теперь поднялся Житомирский и молча сделал несколько кругов по комнате. Было очень приятно ступать по мягкому, ворсистому ковру.
— Вся эта богдановская канитель, — заговорил он, продолжая ходить, — опасна для партии тем, что привлекает внимание революционных сил к вопросам религии, к богоискательству и богостроительству, она уводит их от главных целей борьбы, а среди непросвещенного люда, нужного революции и нуждающегося в революции, сеет растерянность и ставит на развилку многих дорог. Куда податься? На митинг, в церковь…
— Или в кабак, — вставил Гартинг.
— Или в кабак, — согласился Житомирский. — А что касается предположений — увольте, Аркадий Михайлович. Единственное, что с уверенностью могу утверждать, желанные вам предположения не сбудутся. И нам с вами, за ненадобностью, в отставку не уйти. Ну, а партии нашей, нашей большевистской фракции, к обострению внутренней борьбы не привыкать. Перемелется в ней и Богданов со своей философией, коли снова завертелись ленинские жернова. Они, вы знаете, уже немало чего перетерли в абсолютную пыль. О сроках тоже умолчу. Потому что не станет Богданова — взамен него появится кто-то другой. Не удивлюсь, если, например, в редакции «Пролетария» произойдут коренные перемены; не удивлюсь, если видную роль начнет играть «Григорий», сиречь Зиновьев, Радомысльский; не удивлюсь, если на первое место вскоре выдвинется борьба с ликвидаторами и отзовистами. Важен финал. А о финале предположений не делаю.
— Да вы не мелькайте перед глазами, — вдруг рассердился Гартинг. — Или остановитесь, или сядьте и расскажите толком, что это за новая фигура — «Григорий»? Ведь, собственно говоря, на Лондонском съезде он проявил себя по отношению к Ленину не самым лучшим образом.
Житомирский послушно уселся на свое прежнее место. Пожал плечами.
— Ленин взрывчат, но и терпелив. И напоминаю: гибкий тактик. Пример: его отношение к Плеханову. От нежной любви и обожания к решительному разрыву, а ныне к новому сближению, хотя пока в вопросах философских. Еще пример: мой друг Дубровинский. Работящий искровский агент, организатор, один из крупных инициаторов Московского и Кронштадтского восстаний, словом, сущий клад для партии и — примиренец, на побегушках у меньшевиков. А теперь — правая рука Ленина. И без какой-либо внутренней фальши. Третий пример: Богданов. Его давно и без конца яростно, в открытую критикует Ленин. Но все же до последнего, «сам-три», работает с ним. Потому что он любит умных людей и потому что он верит в возможность силой убеждения поправить человека, когда тот ошибается. Что как раз в свое время и случилось с Дубровинским. А «Григорий» умен, энергичен, неплохо владеет пером. На мой взгляд, не прочь забежать и вперед. Но Ленин не самолюбив. Он не обиделся, когда Дубровинский исправил по-своему некоторые из его «десяти вопросов референту». Это оправдывалось делом. И если «Григорий» только таким образом станет забегать вперед… Но здесь я поднимаю руки. За дальнейшее насчет этого вьюна я не поручусь.
— Так, — медленно выговорил Гартинг, — это очень и очень следует учесть. — И снова потянулся к пустому кофейнику. Хотелось есть. Зря отказался от бутербродов. — Значит, вы полагаете, что борьба группы Ленина с ликвидаторами и отзовистами окажется трудной и затяжной борьбой?
— Легкую борьбу и борьбой считать нечего, а затяжной будет она неизбежно. Во всяком случае, продлится до тех пор, пока государевой милостью третья Дума не будет разогнана, подобно первой и второй…
— Не кощунствуйте, — остановил Гартинг.
— В устах большевика такие слова не кощунство. Мне можно, — возразил Житомирский. — А характеристику состояния этих течений — ликвидаторства и отзовизма — с позиций самого последнего времени я обстоятельно излагаю в докладе. Вкратце сие выглядит так…
— Не надо, — отмахнулся Гартинг. — Вкратце я и сам знаю. Подробности извлеку из вашего доклада, верю, как всегда, превосходного.
У него в животе голодные трубачи трубили сбор, вызывать же Люси и еще раз заказывать завтрак и потом тянуть за этим завтраком мочалу теперь уже малоинтересного разговора с Житомирским ему не хотелось. Пора бы и вообще привести себя в порядок, одеться по сезону и закатиться куда-нибудь в зеленые пригороды Парижа — весенняя благодать скоро сменится знойным летом. Всем видом своим он принялся подчеркивать, что изрядно устал, и Житомирский стал прощаться. Но Гартинг был человек тонкого воспитания и не мог допустить, чтобы даже столь обыкновенный и привычный гость ушел от него необласканным.
— Милый Яков Абрамович, — проговорил он растроганно, — что же мы расстаемся, словно два унылых службиста! Давайте придумаем что-нибудь на вечер. Только бы не попасться нам вместе кому не следует на глаза.
— Сожалею, — сказал Житомирский, — но потому я и зашел к вам в столь ранний час, что к вечеру уже уеду из Парижа.
Гартинг тоже высказал сожаление. Повел под ручку Житомирского к двери. И спохватился.
— Бог мой! — хотя и по-русски, но с французским прононсом вскрикнул он. — Мы совершенно забыли вернуться к разговору о ваших нуждах.
— Это была шутка, Аркадий Михайлович, — сказал Житомирский. — Мне жалованья моего вполне хватает.
— И все-таки вы получите наградные, — заверил Гартинг.
Оставшись один, он некоторое время рассматривал доклад Житомирского и не звонил. Люси должна проводить гостя. Потом потряс серебряный колокольчик.
«Какой это прекрасный агент! — подумал Гартинг, пробегая глазами по ровным, четким строчкам доклада. — Никогда ни единого слова исправлять у него не требуется. И какое глубокое знание обстановки! Любопытно только: не поддерживает ли он, подлец, прямую связь с департаментом полиции, чтобы набить себе цену и при случае подкузьмить меня?»
— Ме-сье-е! — вопрошающе пропела Люси, появившись в просвете двери и обеими руками оттягивая портьеры за спину, отчего красиво округлилась ее маленькая грудь.
— Что, если я тебя съем сейчас? — сказал Гартинг. — Умираю от голода!
И подошел к ней, угрожающе пощелкивая зубами. Люси счастливо закрыла глаза.
5
«Фреям, личное.
Итоги врачебного исследования: на границе острого процесса, „финал“ в случае какого-нибудь заболевания — бронхита, инфлюэнцы и т. п.; ежели этого не будет, излечим вполне при условии: Давос, питание, туберкулин.
Задерживаюсь единственно из-за махистско-отозванской напасти. Положение: комитеты (преимущественно рабочие) на позиции „Пролетария“, но им трудно противостоять спевшейся банде профессионалов-пропагандистов (численность ничтожна), бряцающих „лозунгами“ и шмыгающих по районам за голосами. Приходится ежечасно отражать наскоки, требования „дискуссии“ и бесшабашное вранье. Оставить публику на произвол судьбы немыслимо. Исключительно на полемике с бесшабашнейшим фразерством наших кликуш оживает московская публика…»
Дубровинский отложил письмо в сторону. Потискал грудь кулаками, тогда на некоторое время более свободным становилось дыхание. Как ляжет на петербургские улицы осенний туман — ну просто беда! — хоть каждую ночь лепи себе горчичники.
Он перечитал написанное. Не зря ли с такой протокольной точностью пересказал он суждения врачей, да еще с этого и начал свое письмо. «Фреи» — Владимир Ильич и Надежда Константиновна — всполошатся, начнут его торопить с возвращением в Женеву, а потом погонят в Давос. Было уже такое однажды, с Финляндией. И в Шварцвальде пару недель ранней весной провел. Да! Да! Помогает. Но если совсем честно, то формулу «излечим вполне при условии: Давос…» следовало бы дополнить словами «как минимум, в течение года». Туберкулез — это штучка! Но и смешно и глупо помышлять о лечении, требующем «минимум» целого года практического безделья. Однако совсем умолчать о диагнозе тоже нельзя. Неохотно давая свое согласие на поездку в Россию, Ленин одним из главных условий поставил: «Иосиф Федорович, обязательно там покажитесь врачам». Показался. Осмотрели! Обух и Епифанов. И вот, пожалуйста. С точки зрения медиков, люди должны прежде всего думать о своем здоровье. А дело делать когда?
Не слишком ли обострены в письме выражения насчет разгула всяческих оппортунистов? Пожалуй, нет. За долгие годы тяжелой грызни с этой виляющей хвостами братией в политический обиход вошла именно такая, резкая и жесткая, обнажающая самую суть предмета терминология. Перейди на мягкий, деликатный словарь, и у Владимира Ильича может создаться иллюзия, что по сравнению с эмигрантскими склоками здесь, в России, наступила относительная тишь да гладь и доброе согласие.
Конечно, сам по себе здесь воздух чище, среди рабочих живет твердая вера в грядущую победу революции. Сколь ни свирепствуют власти, подавляя дух свободы, борьба не прекращается. И дико, когда палки в колеса суют свои же! Называющие себя своими! Ну, для кого разумно мыслящего, казалось бы, не ясно, что призывы к полнейшей легализации есть не что иное, как обречение партии на неизбежную и полную ликвидацию! У господина Столыпина виселиц хватит. Уж если депутаты эсдеки Костров, Зурабов, Жиделев, Салтыков и Комар арестованы и осуждены в ссылку и на каторгу, сколь будет проста расправа с «непривилегированными» партийцами, пытающимися работать легально! Ах, господа Потресов, Мартов, Дан, Аксельрод и прочие, прочие «меки» — меньшевики, — какую угрозу создаете вы партии! Докатиться до такой степени падения, хотя бы тому же Аксельроду, что высказать Плеханову откровенную мысль — «не выходить пока из партии и не провозглашать ее бесспорно гибнущей, а все-таки считаться с такой перспективой и потому не связывать своего дальнейшего движения с ее судьбой»! Вот так. Предать все, что было достигнуто партией в долгой и трудной борьбе в условиях жесточайшего подполья и строгой конспирации, отказаться от гегемонии пролетариата, посчитать, что самодержавие уже превратилось в буржуазную монархию, а этого достаточно — и сдаться на милость победителя?
Чем лучше другая крайность — отзовисты, бойкотисты, ультиматисты? Ох, до чего же меток на слова Владимир Ильич, называя их ликвидаторами наизнанку! Ломоносов когда-то заявил императрице Екатерине, что его отставить от Академии наук невозможно, разве что академию отставить от него. Ликвидаторы хотели бы массы отставить от партии, поскольку самой партии при столыпинском режиме в открытую долго не просуществовать, отзовисты же хотят партию отставить от масс, полностью загнать ее в глухое подполье и превратить в некую секту, организацию заговорщиков. Сколь ни малы возможности думской трибуны, но все же под ее легальным прикрытием депутаты-эсдеки говорят от имени народа, защищают интересы российского пролетариата. Отозвать их из Думы, объявить Думе бойкот — значит заглушить живой голос партии в схватках со своим державным противником.
А работа только в подполье… Почти подряд потерпели провалы нелегальные типографии в Петербурге, Калуге, Киеве… Охранка не спит… Провален Московский комитет, арестованы самые деятельные члены петербургской «военки», арестованы члены ЦК Рожков и Гольденберг. Широким замахом сызнова прошлась по России полицейская коса.
Люди… Нужны новые люди. Богданов, Луначарский, Алексинский, Лядов лелеют идею о создании школы пропагандистов и агитаторов, с ними, разумеется, во главе. Только из кого и для кого хотят они создать такую партийную школу? Кто и чему в ней станет учиться?
Ему вспомнилось, как по ходу заседания редакции «Пролетария», вскоре после тяжелой стычки на философском реферате, Богданов ультимативно внес проект резолюции, в котором утверждалось, что философия эмпириокритицизма ни в коей степени не противоречит интересам большевистской фракции, и как тогда вскипел Ленин, и как тогда вместе с Лениным они отклонили богдановскую резолюцию, а Богданов расфыркался и заявил о выходе из редакции, но, приостыв, все же остался. И опять-таки только до августовского пленума ЦК, где вновь разгорелись прежние страсти. Вот он, Богданов, рвущийся в идейные наставники партии, а на деле — дезорганизатор и вождь оппортунистов!
Пленум ЦК… Да, это были тоже нелегкие дни. Тут уже «меки» подкатили мину с зажженным фитилем. Реорганизовать ЦК и превратить его в информационное бюро. ЦК мешал им, потому что он оставался в основе все-таки большевистским, даже после арестов той его части, которая работала здесь, в России. «Карфаген должен быть разрушен» — вот их конек. Дойти до такой низости: тайно подговорить бундовцев примкнуть к ним на пленуме, чтобы обеспечить в этом черном деле нужные голоса. Эзра, бундовец, потом исповедовался: «Меки были в этом инциденте жалки, и я не могу им простить этого их отсутствия мужества; одно из двух: или они не должны были так стремительно выскакивать со своими планами, или, раз они уже выскочили, они должны были иметь смелость не скрывать этого. Ведь в конце концов шила в мешке не утаишь!» Правильно. Однако сколько они тогда крови попортили.
Им не хотелось восстанавливать Центральный Орган партии — газету «Социал-демократ»; они, ликвидаторы, понимали, что наряду с «Пролетарием», газетой Петербургского и Московского комитетов, Владимир Ильич возглавит работу и в «Социал-демократе»! И все-таки вопреки их стремлению восстановили издание «Социал-демократа». И в его редакцию избрали Ленина.
Они с жаром поддерживали даже Богданова, когда речь зашла об отношении к думской фракции. Им было родственнее и милее поддерживать отзовистов, нежели Ленина, большевиков. Тоже не вышло.
Они не постеснялись, подобно агентам охранки, тайно выпытывать, собирать, а потом раздувать всяческие грязные сплетни о большевиках и со злорадством выплескивать эту клевету на пленуме. Мартов сочинил огромное препохабнейшее письмо, содержание которого стало известно едва ли не базарным торговкам…
Дубровинский вскочил. Ударил кулаком по столу.
— И хорошо сделал Владимир Ильич, что потребовал привлечь Мартова к партийному суду, — проговорил он вслух. — Только зря потом проявил некоторую мягкость относительно сроков.
«Впрочем, нет, конечно, не зря, — подумал он, снова усаживаясь и придвигая к себе незаконченное письмо, — иначе бы, пожалуй, и не прийти к согласованному решению о созыве Всероссийской конференции. А нужна конференция чрезвычайно. Ну что же, главное по ее подготовке сделано. Здесь, в Петербурге. А сверх того удалось объехать ряд городов на юге России. Будут посланы делегаты. Спрашивали на местах: „А куда и когда выезжать?“ Знать бы самому! Скорее всего, конечно, в Женеву! А сроки? Надо сначала надежные щели на границе найти, чтобы делегаты вместо Женевы не попали прямо в Сибирь, на каторгу. Бесконечными арестами, полицейским террором люди запуганы до крайности. Удивительно, как еще до сих пор он сам не попался в хитрые сети охранки. Видимо, все-таки жизненный опыт…»
Он взял перо, повертел его, обмакнул в чернильницу.
Оставаться в Питере нет крайней нужды, здесь уже довольно прочно дела утвердились. Черед за Москвой. И там должно ему самому побывать. Правда, там опаснее всего, но и нужнее всего.
И наконец, повидаться с Анной, с детьми. Что — редкая переписка? Да еще с оглядкой на каждое слово, чтобы при перлюстрации писем в «черном кабинете» жандармы не выудили бы каких-нибудь нужных им сведений. Девочки, милые девочки, наверно, задергали Анну вопросами: «А когда папа снова приедет?»
Да, да, надо в Москву, и не откладывая. Хотя вся душа здесь, в России, и делается именно здесь живое дело, но приходит пора возвращаться в Женеву, заканчивать подготовку конференции там. Он, Иннокентий, сейчас отвечает за работу русской цекистской «пятерки», а из «пятерки» на свободе ныне только он один. Кто может рассказать о действительном положении в России лучше него? Всяческая и из разных рук течет сейчас к Ленину информация.
За плотной переборкой, отделяющей его комнату от комнаты хозяина квартиры, настенные часы глухо пробили восемь раз. Вот-вот должна прийти Катя, сообщить последние новости. Она после разгрома питерской «военки» уцелела, по сути дела, одна, заменяет там Веру Менжинскую. Молодец, ей за сорок лет, полнотела, но энергична, быстра, очень во всем помогает…
В прихожей прозвонил звонок. Дубровинский торопливо сунул письмо в карман пиджака и пошел открывать дверь. Звонок был условный: Дубровинский снял засов и тихо ахнул. Рядом с Катей стояла Людмила Менжинская.
— Бог мой! Какими судьбами? — Дубровинский повел их обеих в комнату, поближе к свету, а сам говорил только с Людмилой. — А поворотись-ка, сын! Экой ты смешной какой! — нарочитым басом загудел он. — Стойте, стойте! Дайте мне разглядеть вас хорошенько…
— Не смейся, не смейся, батьку! — Простодушно поворачиваясь то направо, то налево, Менжинская пальцем прикоснулась к усам Дубровинского. — А вы и впрямь Тарас Бульба — эка усищи какие отрастили.
— Да только усами и могу погордиться — сам на сушеную воблу похож. А вы нисколько не изменились, Людмила Рудольфовна. Письмо мое вы получили? Из Женевы. Январское…
— Письмо — нет. Ответ ваш получила.
— Не умею письма писать, — сознался Дубровинский. — То есть такие письма… Как вам сказать…
— …Человеческие!
— Да, пожалуй, так. И домой тоже больше все о деле пишу. Неловко на бумаге разводить разные антимонии. Потом, и времени на это как-то все не хватает. Так и вошло в привычку.
— Это верно. Жить — времени всегда не хватает. Тогда разрешите сразу о деле?
— Нет. Сперва разденьтесь, дайте я вам помогу, согрейтесь, на дворе холодно. Посидим. Да вы еще мне и не ответили: какими судьбами вы здесь оказались? Я ведь… — Он осекся, едва не сказал «много раз о вас вспоминал и расспрашивал даже»: — …я ведь ничего о вас не знаю.
— А я о вас, Иосиф Федорович, знаю все. Потому и пришла. Поговорить только о деле. А найти вас здесь, в Питере, помогла мне наша новая «военщица». — Она тронула Катю за рукав. — Вот, Люся.
— Э-э! — Дубровинский весело хлопнул в ладоши. — Этак вам недолго и меня превратить в Ивана Петровича!.
— То есть? — не поняла Людмила.
— А я и на Люсю отзываюсь, — объяснила Дубровинскому Катя. — Это моя прежняя кличка. — И Людмиле: — А ты разве забыла, как теперь меня называть?
Она со смехом стала трясти Менжинскую за плечи. Дубровинский укоризненно покачал головой: хороша конспирация! Ладно, получилось это в своем кругу. А при посторонних бы?
— Ну, чего же мы стоим, как часовые? Посидим, раздевайтесь, — повторил он, предлагая свою помощь.
Но Катя решительно отказалась. Она лишь распахнула пальто и поправила несколько выбившиеся из-под шляпки белокурые волосы.
— Мы совсем ненадолго, — проговорила она. — Во всяком случае, я, а Людмила как хочет.
— Мы уйдем вместе, — сказала Людмила. — Мне хотелось только взглянуть на вас, Иннокентий, — со значением нажала она на это слово, — и передать привет от Вячеслава. Князя Старосельского, — опять с нажимом и лучась своей немного озорной улыбкой, добавила она.
— Вот как, Вячеслав Рудольфович стал уже князем? — продолжая игру Людмилы, воскликнул Дубровинский. — И ясновельможный пан посылает привет низкому холопу? Откуда? Из каких родовых земель?
— О, ясновельможный пан, князь Старосельский захватил ныне покинутые вами земли древней Гельвеции. Да-с, и поселился на берегу озера Женевского.
— Да что вы! Шла речь о его приезде, но я никак не думал, что это свершится так быстро, пока я здесь.
— Надо знать моего братца, — шутливо вздохнула Людмила. — В Брюсселе ему не посиделось, и он махнул через Париж в Цюрих. И уж если Брюссель ему показался теплой печкой для сытых котов, так Цюрих — печкой, на которой для них еще и перинка подостлана. Но прежде чем осесть в Женеве, он еще пешком прошелся по Италии. Добрался до Рима, и не знаю, куда бы еще двинулся, если бы там его не настигла Вера. После разгрома «военки». Ей тоже на время нужно было уйти в тень.
— Что значит «пешком»?
— А у ясновельможного пана не было лошадей. И денег на их покупку. И на покупку железнодорожных билетов тоже. Кстати сказать, и на оплату ночлега и сносного обеда в траттории. Вячеслав утверждает, что походка у человека становится легче, когда он пешком идет натощак. Ничто ему тогда не мешает любоваться красотами природы, архитектурой древних городов, сокровищами музеев. И взоры в надежде на манну небесную все чаще обращаются вверх. Ну, а сестрица моя его быстро вернула с неба на землю. Привезла в Женеву. Сотрудничает и ведет техническую работу Вячеслав в «Пролетарии». А Вера здесь. С прежней квартиры мы съехали, поводов для ареста полиции пока не даем. Наловчились. Я, например, легальнейшим образом читаю лекции в культурно-просветительном обществе.
— Это хорошо, ну, право же, очень хорошо, что Вячеслав Рудольфович вновь с нами, — обрадованно сказал Дубровинский. — И на прежнем деле, привычном ему еще по Финляндии.
— Он удовлетворен, просто цветет. Алексинским не нахвалится, с которым…
— А вот это уже плохо, Людмила Рудольфовна, очень плохо! — Лицо у Дубровинского похолодело. — Неужели он подпал под влияние этого злобного крикуна?
Менжинская смутилась, беспомощно взглянула на Катю. Та, несколько в сторонке, стояла, поправляла непослушные, рассыпающиеся кудряшки и нетерпеливо постукивала носком туфли.
— Алексинский не просто крикун, он негодяй! — гневно вырвалось у Кати. — И я тебе объясню, почему, если мы, как условились, больше здесь не задержимся. Но я могу уйти и одна, и тогда тебе все расскажет Иннокентий.
— Да, да, мы уходим, — спохватилась Людмила, — и сама не знаю, чего я так разговорилась. Но об Алексинском ничего не надо рассказывать, я все знаю, и Вера знает — дело не в нем, дело в Вячеславе. Он немножко увлекающийся, восторженный. — И поправилась: — Впрочем, как и я сама. Возьмем и пойдем пешком через всю Италию. И нужно, наверно, какое-то время, чтобы…
Она не нашла нужного слова, прищелкнула пальцами. Дубровинский ее выручил:
— …чтобы набить мозоли на пятках и тогда понять, что, сколько ни ходи, закинув голову кверху, манна с небес не посыплется.
Все рассмеялись.
— Вот и поставили точку, — объявила Катя и принялась застегивать пальто на пуговицы. — У меня для товарища Иннокентия только одно сообщение. Очень горькое. На будущей неделе качнется военно-окружной суд над нашей Боевой организацией. Судят Ярославского и других, кого в августе не подвели под дело «Тридцати семи». — Прерывисто, скорбно вздохнула.
Дубровинский помрачнел. Раскручивается все еще та пружина, что начала давить с момента разгрома кронштадтского и свеаборгского восстаний. Военно-окружной суд — значит, хотя и не расстрелы, но ссылка и каторга на длительные сроки. Эта угроза висит и над Менжинским. Хорошо, что он успел и сумел вовремя скрыться. За рубежом он в безопасности. Но все-таки среди своих есть же какая-то подлая рука — и подлая душа! — которая выдает и выдает товарищей. Кто?
— Тяжелую весть принесли вы, Катя, тяжелую. Что можно сделать? — Задумался. — Ничего… Только накапливать ярость. И не сидеть сложа руки.
— К Юленьке на квартиру — это в Удельной — уже несколько раз приходили жандармы. Выпытывают: «Мадам Менжинская, где ваш муж?» Будто жена окажется предательницей! Дети плачут, боятся, — сказала Людмила, покусывая губы. — Теперь жандармы грозят Юлию привлечь за укрывательство и за соучастие.
— Надо всем вам быть вдвойне осторожными.
— Научились. Ну, прощайте, Иосиф Федорович! Понадоблюсь я или Вера — известите нас через Катю. — Людмила уже опять улыбалась. — Люсей я ее больше не назову.
Подала руку Дубровинскому, легонько стиснула ему пальцы и отдернула руку.
— Почему такая горячая? Вам нездоровится? — спросила с тревогой.
— Просто играет кровь, — ответил Дубровинский с нарочитой небрежностью. Он-то знал, и врачи Обух и Епифанов знали, что началось очередное обострение легочного процесса и температура к вечеру неизбежно повышается. — Передайте мой поклон Вере Рудольфовне. А к вам, Катя, у меня вот какая просьба. Завтра я уеду в Москву. Связь на всякий случай в Москве через Вейсман Анну Ильиничну. Вернусь я сюда в конце ноября. К этому времени, а точнее — давайте сразу договоримся — на… мм… на двадцать девятое ноября, заранее купите мне билет до Бреста-Литовского. Там дальше я знаю, как мне ехать. А в Петербурге я появлюсь только для того, чтобы пересесть на этот поезд.
— Не беспокойтесь, товарищ Иннокентий! Все приготовим, — понимающе сказала Катя. — И очень хорошо, что заранее, без спешки, без трепки нервов. — Через плечо оглянулась. — Значит, до встречи в конце ноября? Счастливого вам пути!
6
Прямо с поезда Дубровинский не пошел на явочную квартиру, а долго бродил по кривым московским переулкам. Выпил чайку в извозчичьем трактире близ Трубной площади. Проехал на трамвае пять-шесть остановок, потом опять побрел пешком, резко меняя направление. Тихо кружились редкие снежинки, таяли, не долетая до земли. Беззлобно переругивались дворники, надвигалась малоприятная для них борьба с осенней слякотью. Утренняя Москва все больше наполнялась обычными для большого города шумами.
Дубровинский не спешил, однако долго мотаться по улицам было тоже совсем ни к чему, если слежки действительно нет. Не то как раз напорешься на нежеланную встречу. Он решил провести день или два у Никитина, пока тот найдет возможность передать хотя бы записку Анне. Наверняка за ней установлено наблюдение и навестить ее в доме будет нельзя. Ну ничего, Аня что-нибудь придумает.
Никитин очень обрадовался появлению Дубровинского. Принялся угощать его остатками вчерашнего ужина, разогретого на керосинке. Объяснил, что сам он сейчас на положении больного — «да нет, нет, ничего серьезного» — и с недельку может не выходить на службу, а потому Анна Ильинична уехала в Харьков, повидаться со своим братом.
— Ты с ней лично еще не знаком, Иосиф, очень жалею. Прекрасный человек. Душевный, деятельный. Одному мне тоскливо, пусто. — Он виновато повел плечами. — А с Лидией Платоновной дороги наши разошлись. Знаешь, как надломилась она тогда, еще после тюрьмы и ссылки, так и не расправилась. Не могу похвалиться, что сам целиком вернулся к нашему делу. Мотаться по белу свету, как ты, и под постоянным страхом ареста, суда я тоже теперь не способен, но помогать помогаю. Так, чтобы без улик. Не посчитай это трусостью, но на большее меня просто не хватит. И это, может быть, все же лучше, чем совсем ничего. Как ты считаешь?
— Я не совсем понял тебя, Алексей, насчет перемены в твоей семейной жизни, — сказал Дубровинский, принимая от Никитина тарелку с котлетами, вкусно пахнущими поджаренным луком. — Анна Ильинична Вейсман — твоя жена?
— Видишь ли, Иосиф, — глядя несколько вбок, ответил Никитин, — в законном, церковном, браке с Анной Ильиничной я не состою, как не состоял и с Лидией. Это мой принцип. Наш принцип, — поправился он. — И если только единственное слово «жена» означает чистоту любовных отношений между мужчиной и женщиной — да, Анна Ильинична моя жена. Так было у меня и с Лидией. Мы тогда в вятскую ссылку были назначены врозь, а упросили начальство соединить нас вместе, пусть даже в местности, где похуже. Но ведь любовь — это не вся жизнь человека. А когда иссякла и любовь, что осталось? Лидия сама сказала: «Мне спокойнее быть одной». И ушла. А я один не могу. Мне нужен поблизости человек, с которым есть о чем разговаривать, что-то общее делать, жить одними заботами. И хорошо, когда такой человек — жена. То есть когда она еще и любит тебя как женщина. А Лидия сейчас в Щиграх, работает зубным врачом. Иногда мы с ней встречаемся, мило беседуем. Но о чем — я не знаю.
Он несколько убавил пламя керосинки. На ней теперь стоял и, весь сотрясаясь, бурлил эмалированный чайник. Никитин повел рукой вокруг себя, как бы приглашая гостя внимательнее приглядеться к обстановке. Они устроились на кухне не то с пропыленными, не то с закопченными стенами, на которых зацепленные за вбитые криво гвозди там и сям беспорядочно висели кастрюльки, сковородки, плохо простиранные полотенца. Клеенка на столе потрескалась, облупилась, вся в желтых пятнах, припаленных перегретым утюгом.
— У Анны Ильиничны руки еще не дошли, — снова заговорил Никитин, — а Лидия и меня к этому приучила. Но это ей не в укор, потому что не этим определяются отношения между близкими людьми. Штука в том, что все это я увидел только, когда Лидия ушла. А Нюра, Анна Ильинична, этого не видит и сейчас. Она пока, слава богу, видит только меня. Забавно?
— Вообще-то, конечно, забавно, — проговорил Дубровинский, помогая Никитину в его хлопотах за столом, — но мне бы, Алексей, и в голову не пришло на этих мелочах строить далеко идущие выводы.
— Ну, вы, философы, привыкли мыслить категориями вечности и бесконечности, — усмехнулся Никитин. — У вас не сковорода, а материальное тело, не Эмиль Циндель, а капитал, не безработный Иван Петров, а пролетариат. Знаю, дошло и до нас, как ты с махистами в Женеве резался. Хилые богдановские книжки любопытства ради я тоже читал и философию как таковую не отвергаю. Даже сковороду материальным телом признаю. Но в ней прок вижу лишь тогда, когда нужно разогреть котлеты.
— «Печной горшок ему дороже, он пищу в нем себе варит», — напомнил Дубровинский. — Не про тебя, Алексей, поэтом эти слова были сказаны?
— Нет, — покачал головой Никитин, — не про меня. То есть не в полном смысле про меня. Потому что тот, о ком говорил Пушкин, печной горшок только горшком и считал, а я его все-таки считаю и материальным телом. Именно поэтому от меня ушла Лидия, и именно поэтому я не смог начисто отойти от революционного подполья. А помнишь, как мы начинали?
— А знаешь, чем кончил, например, Костя Минятов?
— Минятов — подлец! Ты спросил, чтобы и меня поставить с ним рядом?
— Тогда бы я и спрашивать не стал. Спросил для того, чтобы предостеречь тебя от излишней доверчивости. Когда солдат после боя уходит к реке отмываться и оставляет все оружие далеко от себя на пустом берегу, а с собой берет только, допустим, шомпол — солдат ли он? И еще: солдат ли он, если попросит постеречь свою амуницию незнакомого мальчишку?
— Это не совсем так, — возразил Никитин, — огнестрельное оружие я не оставлял на берегу, его в целости отдал товарищам. А сам сейчас служу в саперах, с лопаткой. Ну, если хочешь, в обозе кашеваром. Вот видишь, — он засмеялся, — разогрел котлеты, приготовил чай. Накормил и тебя. Философы тоже — я сейчас убедился — едят так, что за ушами у них пищит. А насчет доверчивости — после вятской ссылки я все время на свободе. Первое время пытались жандармы делать налеты, обыскивать, а теперь отступились. Улик никаких. Об Анне Ильиничне и говорить нечего, в доме теперь она дирижер. Да что же это мы, все обо мне да обо мне! Ты как в Москве? Тебя же выслали за границу.
— Положим, выслали меня в Вологодскую губернию, а выезд за границу — хлопоты жены, хлопоты товарищей. В Москве я, разумеется, нелегально. Два с лишком месяца мотаюсь по российским городам и весям. Дерусь с ликвидаторами и отзовистами, с махистами тоже. За границей, в эмиграции — там грызня среди теоретиков, а здесь живая борьба двух громад, народа и власти: быть или не быть революции.
И Дубровинский стал увлеченно рассказывать о работе в «Пролетарии», о постоянных склоках, разжигаемых меньшевиками и эсерами, о состоявшемся пленуме ЦК и о готовящейся общероссийской конференции, которая должна дать всем партийным кадрам ясную ориентировку в новой обстановке, дать ключ к решению тактических задач.
— Недавно был у нас Мартын Лядов, — перебил Дубровинского Никитин, — он говорил, что в русской цекистской «пятерке» первую скрипку играть приходится тебе, что, дескать, кроме первой, практически вообще нет других скрипок в вашем квинтете, но зато найдутся оркестранты, которые натрут тебе смычок вместо канифоли мылом. И мне подумалось, не сам ли Мартын носит в кармане мыло.
— Ты угадал, Алексей! Моя задача сейчас: провести выборы делегатов от Центральной промышленной области, — я не уверен, что делегатом от нее не будет избран тот же Лядов, он здесь опередил меня со своей отзовистской агитацией, но на выборах будет ему жарко. Поговорить с людьми и я сумею. А главное, к чертям собачьим эмигрантскую жизнь, пройдет конференция в Женеве, и я вернусь сюда. Мне надо работать здесь. Только здесь. И не одна первая скрипка станет играть, и не только цекистский квинтет — вся Россия станет единым оркестром. Мылом не смычки натирать — шеи будем оппортунистам мылить. Ладно! А сейчас к тебе просьба. Помоги мне повидаться с женой и детьми…
Они встретились только на третий день. На Тверском бульваре, не очень далеко от Большого Козихинского переулка, в котором после переезда из Орла сняла себе квартиру Анна.
Повязав себе щеку платком, словно у него болели зубы, а они и действительно немного поднывали, Дубровинский пристроился на заранее указанной ему Никитиным скамейке. Было договорено, что Анна выведет девочек, оставит их одних в сторонке погулять, а сама всего на несколько минут приблизится к мужу. Иначе невозможно: узнают дети отца — завизжат от радости, зашумят, и неизвестно, чем все это потом кончится. Риск должен быть разумным и минимальным.
День выдался пасмурным, сырым, но не дождливым. Оголенные вершины деревьев словно вонзались в низкое, мглистое небо. Пешеходные дорожки были засыпаны толстым слоем пожухлой, слабо шелестящей под ногами листвы. Скамьи с литыми чугунными ножками стояли незанятыми, блестели от влаги, редкими каплями падавшей на землю с решетчатых спинок. Дубровинский зябко поеживался, кашлял. С вечера у него неуклонно поднималась температура, он обливался потом, а к утру бросало в озноб.
Торопливо прошагали по аллее две подружки-гимназистки. Захлебываясь словами в смешливой болтовне, они еще прибавили шагу. Побежали, разбрасывая ноги немного в стороны и поднимая позади себя табунки встревоженных, шевелящихся листьев. Потом цепочкой, на далеком расстоянии друг от друга, прошло несколько женщин с пустыми корзинами, должно быть, за утренними покупками в елисеевский магазин. Шмыгая пятками, сквер пересек белобородый старик, постоял у оградки, пропуская резво катящийся по рельсам трамвайный вагон, перекрестился и побрел дальше, вдоль улицы. Сырость леденила Дубровинского.
Анна с девочками появилась в дальнем конце аллеи, когда у него уже совсем исчезла надежда дождаться, увидеть их.
Таля и Верочка, взявшись за руки, шли и попеременно припрыгивали на одной ножке. Одеты они были хотя и в крепкие еще, но очень заношенные пальтишки. Дубровинский узнал: на Верочке — прежде Талино пальто, а на старшей — перекроенная и перелицованная Анина жакетка. И сама Анна выглядела так, словно несла на плечах что-то тяжелое, сутулилась и пригибалась, когда девочки обгоняли ее, а она хватала их, не позволяла далеко отбегать от себя.
Дубровинский хорошо слышал детские голоса. Верочка немного шепелявила, должно быть, выпали передние молочные зубы. Анна поглядывала в его сторону, ворошила носком ботинка опавшие листья. И это было немым знаком: ближе мы не подойдем. Она затеяла игру с детьми в считалочки. Таля показывала пальчиком поочередно то на сестренку, то на маму, то на себя, а когда считалочка заканчивалась, кто-то один, кому выпало «голить», отбегал на несколько десятков шагов и там пританцовывал. Девочки заливисто хохотали. Потом Анна подозвала их, поставила рядком, повернула спиной к себе, наклонясь, что-то им объяснила, и девочки в ногу, медленно и торжественно отбивая шаги, стали удаляться по аллее. Дубровинский понял: сейчас он может поговорить с Анной.
— Ну, как ты живешь? — враз спросили они друг друга, встретясь на быстром ходу и приостанавливаясь.
— Хорошо, все хорошо, — ответили оба.
Но Дубровинский видел, что у Анны нервно подергиваются губы, чего никогда раньше не было, и Анна заметила, какие черные круги лежат у Иосифа под глазами.
— Как тетя Саша?
— Совсем разорилась, вся в долгах. И я ничем не могу ей помочь.
— Как братья?
— Семен не знаю где, давно не виделась с ним и писем не получала, он нелегальный. А Яков все в ссылке. Теперь в Красноярске. Бежать оттуда, как с Печоры, не собирается. Красноярск — город большой, много рабочих, есть смысл оставаться. — Анна отвечала торопливо, поглядывая вслед девочкам. — Они дойдут до конца, сосчитают шаги и вернутся. Ося, зачем ты приехал?
Это был не вопрос «Зачем? С какой целью?» — это был сдавленный возглас страдания. Тяжело жить в разлуке, но знать все же, что дорогой человек в безопасности. Куда тяжелее бегло увидеть его вблизи, а затем, может быть, расплатиться за эти короткие минуты горем, невообразимо большим и длительным — вдруг выследят и арестуют.
— Так нужно, Аня, — мягко сказал Дубровинский, — иначе я не могу.
— Нет, нет, Ося! Ты не прав. Я все отчетливее понимаю, что ты не прав. Надо искать другие пути борьбы. И их находят. Нельзя всю жизнь таиться в глухом подполье, когда есть возможность открыто…
— Аня! Такой возможности не существует.
— Девочки повернулись… Они могут узнать тебя, сообразить, с кем я разговариваю… Уходи… Прощай!.. Боюсь, что и вообще за нами слежка… Ося, милый, прощай!.. — Анна не решилась даже поцеловать его, наугад скользнула ладонью по его руке и, пошатываясь, пошла навстречу Тале и Верочке.
— Аня, прости, я тебе ничем не помогаю… Я сумею, стану помогать… — успел он проговорить ей вдогонку.
— Не нужно, не нужно… Мы проживем… — Анна отрицательно затрясла головой.
Эти мгновения расставания — свинцово-серое небо, пожухлая тополевая листва, торжественно шагающие в ногу девочки, устало-бледная Анна — неотступно стояли перед глазами Дубровинского. И пока он весь, словно разбитый, с особо резкой болью в груди тащился до квартиры Никитина. И потом, когда ездил по городам средней России, выступая с горячими речами на собраниях партийных рабочих, всюду встречая сочувствие. И когда настал назначенный срок возвращения в Женеву и он сошел с поезда на Николаевском вокзале Петербурга, чтобы пересесть в другой поезд, отходящий с Варшавского вокзала.
Крепко морозило, от этого стеснялось дыхание, резало в груди, особенно на быстром ходу, но это казалось уже несущественным. Главное, все, что можно было сделать, сделано. Теперь с чистым сердцем — снова в путь.
С отъездом из Питера все в порядке. Вышагивая по перрону, Дубровинский тронул боковой карман. Билет незаметно ему втолкнула в карман Катя, встретившая его при выходе из вагона. Шепнула: «Ваш багаж я перевезу заранее на Варшавский, и там погрузим на место. Приезжайте к самому отходу поезда, чтобы зря не толкаться на виду. Все хорошо, все спокойно». И подхватила носильщика, с ним затерялась в людском потоке, решительная, энергичная, расфуфыренная владелица крупного магазина или жена фабриканта. Дубровинский только повертел головой: «Ай, Катя! Но ей это очень идет, в ее характере».
Он подумал, прикидывая по часам свободное время, не съездить ли на станцию Удельную, к Менжинским. И отказался от этой мысли. Времени хватит, и соблазн повидаться с Менжинскими велик, но вокзалы, особенно Финляндский, не такие места, где без особой надобности следует показываться. И еще подумалось: Людмила Рудольфовна знает, что в этот день он будет в Петербурге. Может быть, она и сама его разыщет. Жаль, не успел спросить Катю.
Ночью в поезде не отдохнул, попались шумные, веселые соседи. Пели песни, декламировали стихи. Молодая девушка, похоже курсистка, предложила ему только что вышедший в свет сборник сатирических стихов Саши Черного, как всегда политически острых, и Дубровинский ими зачитался. Теперь, придя на привычную ему квартиру, он сразу же бросился в постель и крепко заснул. Освеженный хорошим отдыхом, Дубровинский открыл глаза, как раз когда приблизилась пора собираться в дорогу.
«Эх, пообедать я теперь уже не успею, — подумал он, — придется в поезде тащиться в вагон-ресторан либо ехать на сухомятке. Ладно, куплю чего-нибудь в вокзальном буфете».
Постучался к хозяевам, отдал им ключ от входной двери, ревниво спросил, думая о Менжинских: «Не приходил ли кто, пока тут нежился в постели?» Нет, никого не было.
На ближайшем углу он взял извозчика. Сказал: «Поезжай так, чтобы не раньше чем за полчасика до отхода экспресса на Варшавский приехать нам». Извозчик согласно подмигнул, и конь неторопкой рысью защелкал подковами по промерзшей мостовой.
Расчет оказался точным. Состав уже стоял у главной платформы, и посадка в него, самая первая волна, текла широко. Это очень хорошо: быстро пересечь привокзальную площадь и влиться в общий поток.
Он взбежал по каменным ступеням, оттирая прихваченное морозцем ухо, толкнул дверь, и блаженным теплом ему пахнуло в лицо.
— Товарищ Иннокентий, — негромко кто-то окликнул его сзади и тронул за рукав, — одну минуточку!
Совсем незнакомый. Зимнее пальто с каракулевым воротником, каракулевая шапка пирожком и серый шейный шарфик. Глаза внимательные, добрые. И чуть виноватая улыбка.
— Господин Дубровинский? — Совсем тихая радость в голосе. — Вы арестованы.
7
От бессонницы одолевают ли тягучие, путаные мысли, одна мучительнее другой, или эти мучительные, тягучие мысли приводят к бессоннице — начала этому не найти. Думы и думы. Неотвязные, непрестанные. Они терзают усталый мозг, давят, сжимают острой болью сердце.
Никогда еще Дубровинский не испытывал столь сильного душевного потрясения. Его не в первый раз арестовывали. Допросы, тюрьмы были ему не в новинку. Безмерно угнетало то обстоятельство, что схвачен был он тогда, когда, казалось, уже ничто не грозило. Три месяца разъездов по России. Где только он не побывал, с кем только не встречался! — и благополучно. Ни разу не подметил он за собой явной слежки. Как это случилось? В чем допустил он роковую ошибку?
Нет оправдания перед товарищами, которые его ждут в Женеве, нет оправдания перед собой, ибо неверно сделанному шагу вообще не может быть оправдания. Где и как он оступился? И самое тяжкое — нет оправдания перед делом, которому посвящена вся жизнь, потому что, выпадая на какое-то время из борьбы, он тем самым наносит ущерб и общему делу.
Уже в ту минуту, когда незнакомый человек в каракулевой шапке и с добрыми глазами назвал его по фамилии и мягко объявил, что он арестован, Дубровинского обожгла мысль: предан! Это не случайность, не кропотливые проследки охранного отделения.
И потом, будучи втиснутым в переполненную камеру петербургского Дома предварительного заключения, он думал об этом. И на допросе, где с ним просто поговорили, подчеркнуто не стремясь что-нибудь выпытать, словно и так им все хорошо было известно, он тоже думал: кто? И при оглашении указания департамента полиции о его высылке до конца ранее обусловленного срока в наиболее северные уезды Вологодской губернии Дубровинский повторял про себя: «Значит, до середины апреля 1910 года, на целых пятьсот дней! Кто отнял у меня эти так нужные дни?» И, находясь на этапе, с бесчисленными остановками арестантского поезда, при которых путь до Вологды растянулся на три недели, томясь среди звероватых уголовников и задыхаясь в смрадно-прокисших теплушках, где люди вповалку лежали на тряских, только соломой прикрытых нарах, он перебирал в памяти каждый день, проведенный в России, искал разгадку неожиданного своего ареста.
Кто? Кто?
Если бы это случилось в первые дни, можно подумать — выследили на границе. Но он беспрепятственно ездил. Беспрепятственно… Может быть, им хотелось схватить его при уликах, позволяющих применить к нему более строгие меры, нежели отбытие ранее назначенного срока ссылки, а он никак не давал такого повода, и вот, чтобы не упустить совсем, в последний час… А все же — кто?
Он ненавидел подозрительность, он привык свято верить в людей, в товарищей, он не мог заставить себя оценить как предательские чью-то улыбку, опущенные глаза, слово, жест, непонятный поступок. И не мог запретить своим мыслям опять и опять возвращаться на один и тот же круг. Это его точило физически больше, чем перемежающаяся температура и грудь раздирающий кашель, это изнуряло нравственно больше, чем в открытую заявленная ему перемена партийных позиций прежними его друзьями.
Иногда непроизвольно вставало перед мысленным взором запомнившееся с детства, со школьной зубрежки закона божия, трагическое видение «тайной вечери». Его обступали десятки людей, с которыми он общался, и требовательно вопрошали: «Не я ли, господи?»
Он вглядывался в их лица. Никитин? Нет… «Минятов — подлец! Ты спросил, чтобы и меня поставить с ним рядом?» Это сыграть невозможно. И сколько лет честной откровенности!
Катя? Она в его доверенный круг вошла недавно, только здесь, в этот его приезд в Россию. Но она так покоряюще обаятельна своей непосредственностью, простотой. Катю знает и ей доверяет Петербургский комитет, она секретарь Боевой организации, ее знает Людмила Менжинская, ее муж достает фальшивые паспорта, и эти паспорта никого не подводят. Она вручала билет и отвозила багаж… Но так грубо никто из агентов охранки не стал бы работать!
Людмила? Анна? Да как могли в сознании даже случайно промелькнуть эти имена! Ужаснись: среди кого ты ищешь Иуду?
Нет никого…
А все-таки… Все-таки не повесился Иуда и посейчас, гремя полученными сребрениками, бродит по Гефсиманскому саду, выискивая, кого бы еще продать…
Дубровинский тер лоб рукой. Говорил: «Довольно! Думай не о том, чего не исправить, думай о том, что тебе предстоит делать. Сейчас ты должен…»
И назначал себе мысленное участие в горячих спорах на конференции, которая, наверное, проходит именно в эти дни.
В Вологду этап прибыл в крещенский сочельник. Начальник губернского жандармского управления бегло просмотрел сопроводительные документы. Ну, уголовников, естественно, в тюрьму. Политиков немного, и все — под гласный надзор. Особых предупреждений нет.
— Взять, как полагается, подписки и распустить, пусть себе пока ищут квартиры, — распорядился он. — А куда им дальше каждому следовать, определим у губернатора после праздника.
Взгляд его задержался на фамилии Дубровинского. Встречалась она и раньше в циркулярных письмах, в обзорах деятельности революционных партий. Фигура крупная и деятельная.
— А этого давайте поставим на всякий случай и под негласное наблюдение. Кашу маслом не испортишь. Кто здесь у нас отбывает ссылку из числа прежде находившихся с ним в определенных связях? Проверено?
— Так точно. Водворена в мае этого года Варенцова Ольга Афанасьевна. Прежние связи — по астраханской ссылке.
— Ну и за ней надо приглядывать.
Варенцова разыскала Дубровинского в первый же день. Помогла устроиться на хорошую, теплую квартиру, к заботливым хозяевам.
— Эка, золотой мой, как за дорогу вы уходились! Да при вашем здоровье, — ворчливо говорила она, когда все с наймом жилья уладилось. — Теперь лежите, отлеживайтесь. А потом я покою не дам. Разве что на край света загонят вас. Мне-то назначена сама Вологда. И я тут уже развернулась. Чего же скучать? Насчет вас мне из Питера передавали, очень там тревожатся. И знаю еще, что жена ваша перед департаментом полиции хлопочет, чтобы выдворили вас опять за границу, как серьезно больного.
— Не те времена, Ольга Афанасьевна. Анна будет биться за меня до последнего, только надежды нет. Однажды она сделала невозможное. Но делать невозможное удается не больше, как один раз. А петербургским товарищам и вам большое спасибо! — Ему подумалось, как он был несправедлив, помыслив дурно, хотя и мгновение одно, о Кате, о других петербуржцах.
— Словом, так, с постели не поднимайтесь, пока вам окончательное место не назначат, а назначат плохое — протестовать. Куда же вы с этаким кашлем? Доктора я вам завтра же пришлю. Просите поддержки, чтобы в Вологде вас оставили.
Доктор, специалист по легочным заболеваниям, осмотрел, прослушал, взял необходимые анализы.
— Моя бы власть, я бы вас в ссылку года на два в Давос отправил, а не в Вологду, — заявил он решительно. И пояснил: — Давос — это в Швейцарии. Слыхали? Полезен. Весьма, чудодейственно полезен. У вас при вялом туберкулезном процессе хроническое воспаление легких. Сжигание организма на медленном огне. А всякий маленький огонек способен, как известно, разгореться при случае в большое пламя. Я готов дать необходимое официальное заключение на предмет оставления вас в нашем городе под постоянным врачебным наблюдением.
Но заключение больничного доктора, направленное вместе с прошением Дубровинского, легло на стол губернатора как раз в тот день, когда к нему явился с докладом начальник жандармского управления и показал телеграмму из Петербурга: «Высланный в Вологду видный член ЦК РСДРП „Иннокентий“, Дубровинский, по имеющимся сведениям, должен получить триста рублей для побега за границу. Примите предупредительные меры».
— Вот как! — раздраженно заметил губернатор. — Этот чахоточный — и бежать? Назначаю ему ссылку в Усть-Сысольск. Отправить без промедления!
— Дойдет ли? — усомнился начальник жандармского управления. — Палят морозы за сорок. Болезнь его вообще несомненна, а до Усть-Сысольска пешком шагать от Котласа еще двести верст.
— И пусть шагает. — Губернатор встал. — Сегодня же произвести обыск квартиры, Дубровинского арестовать, заключить в тюрьму и, властью мне данной для исключительных случаев, при направлении по этапу к месту ссылки заковать в полные, ручные и ножные, кандалы. Как лицо, склонное к побегу.
— Слушаюсь.
Губернатор щелкнул ногтем по телеграмме, сказал уже совсем иным, похвальным тоном:
— А точность, точность какая: «триста рублей». Сие означает: проникло око сыска в самую сердцевину. Не так ли?
— Совершенно верно. Полагаю, что так.
Дубровинский в недоумении смотрел, как перетрясают жандармы его скудные пожитки, бродят по всей квартире. Его подняли с постели поздним вечером. Он только что принял лекарство, смягчающее кашель, и теперь, сидя полуодетый, ожидал, когда кончится обыск и ему можно будет снова укрыться теплым одеялом.
Обыск оказался бесцельным. Дубровинский подписал протокол, устало попросил:
— Оставьте меня поскорее в покое, господа. Я должен лечь.
— Ляжете вы в другом месте, — сухо ответил жандармский офицер. — Вот предписание препроводить вас сегодня же в губернскую пересыльную тюрьму.
— Не понимаю…
— Тем лучше, — оборвал офицер.
В тюрьме Дубровинский тоже не смог добиться никаких разъяснений, кроме тех, что его высылают в Усть-Сысольск и здесь он должен ожидать недели полторы, пока сформируется этап. На этот раз его поместили в одиночную камеру. Он потребовал дать ему бумагу, конверты, книги, свежие газеты. Лелеял тайную надежду получить от Варенцовой весточку с воли.
— Бумагу, книги, газеты, все что угодно вы будете иметь, когда прибудете к месту назначения. Передачи запрещены.
Он тщетно ломал голову: что это значит? Три недели, проведенные в покое и в тепле, казались далеким и фантастическим сном. Голые, источающие холодную сырость стены, твердый, пропахший прелью матрац и противная тюремная похлебка — вот единственная каждодневная реальность. И когда ранним утром, несколько раньше обычного, визгнул замок и в дверном просвете показались конвойные, Дубровинский вздохнул с облегчением. Любой, самый тяжелый путь все-таки лучше, чем мучительное, тоскливое и непонятное ожидание в этой промозглой одиночке. Но радостное ощущение предстоящей свободы передвижения тут же сменилось гневом. Ему объявили, что поведут в кузницу надевать кандалы.
— Вы не имеете права! Это — варварство, средневековье! — в возмущении закричал он.
— Зато вы имеете право, господин Дубровинский, — нетерпеливо перебил его начальник конвоя, — вы имеете право протестовать, жаловаться, произносить бранные слова. А я обязан выполнить приказ. И без проволочек. Потому что этап на Усть-Сысольск уже подготовили к выходу.
Кандалы, хотя и выложенные изнутри полосками грубой кожи, больно давили своей тяжестью. Кольца, охватившие ноги, оказались несоразмерно велики, сильно спадали вниз и терли щиколотки при каждом шаге. Дубровинский пытался их подтягивать цепью, соединявшей с ручными оковами, но быстро немели пальцы, и цепь выскальзывала. Он не знал, как к ним приспособиться на ходу, — в этапе только он и еще кто-то из уголовных оказались закованными, а конвойные подталкивали, торопили: «Не отставать!»
И пока партия арестантов, пересекая длинный унылый пустырь, ощетиненный редкими былками сухой полыни, добрела до зарешеченного вагона, в котором их должны были привезти на станцию Коношу, а там отправить по тракту уже за подводами, Дубровинский весь облился горячим потом, хотя на дворе стоял крепкий мороз и воротник, ресницы, усы, сразу обросли лохматым инеем. Гремя промерзлым железом, он едва поднялся на подножку вагона, дотащился до ближней скамьи и почти упал на нее. Стучало сердце, похрипывало в груди, а когда немного схлынула охватившая его усталость, он почувствовал, что ноги кандалами сбиты до крови. Едва шевельнешься — и острая колючая боль прохватывает насквозь.
Он подозвал начальника конвойной команды. Тот не был уже так сердит и категоричен, как утром, когда боялся, что задержится с выходом этап и ему тогда крепко влетит от начальства, выслушал Дубровинского, но ответил совершенно равнодушно:
— Бывает. Не по ноге пришлись. Либо кузнец чего недоглядел. Опять же и у вас еще привычки нет. Дойдем до Усть-Сысольска, там снимут. Вас не на каторгу — в ссылку.
— Зачем же меня заковали?
— Ну… Для безопасности… За склонность к побегу. Начальству виднее.
— Мне не дойти! На ногах, вероятно, образовались ссадины, раны. Мне нужен врач.
— Дойдете! Все сначала так говорят. И раны — дело обычное. После затянутся. А врача в конвойной команде нет, не полагается. В Сольвычегодске, ежели что, посмотрит.
— И сколько нам идти?
— Как пойдем, как погода. Метель, пурга закрутить может. До Сольвычегодска надо бы дней за десять добраться, а до Усть-Сысольска потом клади еще целый месяц, а не то и полтора.
Дубровинский прикрыл глаза, провел языком по сохнущим губам. Десять дней, месяц, полтора, год целый — какая разница, все равно ему не дойти. А между тем манящее слово «побег» так и впечаталось ему в душу, заслонив все остальное.
Весть об аресте Дубровинского до Людмилы Менжинской дошла только через неделю и просто ошеломила. Как? В самый последний момент, за двадцать минут до отхода поезда? Как это могло случиться? Прежде всего она бросилась расспрашивать Катю. Встретились у нее на квартире. Катя выглядела измученной, одета была небрежно, и всегда аккуратно завитые светлые букли перепутались как попало. Она то тискала, то поглаживала свои полные, мягкие руки.
— Ума приложить не могу, — говорила Катя, — вместе с товарищами из комитета сто раз ломали голову. На меня ложится тень. Билет я покупала, не сама, конечно, а все равно я отвечаю. Паспорт для Иннокентия муж доставал. Как всегда. Багаж взялась я перевезти на Варшавский вокзал. И опять же — меняла извозчиков, меняла носильщиков, словом, все по правилам. И на вокзале даже не была. Ну никак мои следы полицию навести не могли! А места себе и сейчас не найду. Не могу и подумать, что Иннокентий хвост за собой сам из Москвы притащил…
— Ну тогда как же?
— Не знаю… Не знаю…
Они долго строили вместе разные предположения, но так ни до чего и не додумались. Людмила принялась обходить членов Петербургского комитета. Любой разговор сводился к одному: вызволить Иннокентия из беды нужно непременно, и как можно быстрее.
Известили Анну, пригласили в Петербург, разработали вместе план действий. Она заручилась медицинским свидетельством о тяжелой болезни мужа, написала ходатайство — разрешить вместо ссылки выехать на лечение за границу — и даже пробилась лично к Зубовскому, новому вице-директору департамента полиции. Он принял ее, прочитал бумаги, вежливо пообещал: «Рассмотрим в самое ближайшее время».
А Дубровинский в этот час в арестантском вагоне уже проезжал Тихвин, направляясь в Вологду. И даже ни одного раза с ним никому не удалось повидаться.
Становилось ясным: на снисходительность департамента полиции Дубровинскому рассчитывать нечего. Петербургский комитет принял решение: организовать побег. Осуществить это там, на месте, вызвалась Людмила.
Больше месяца ушло на подготовку маршрута в объезд Москвы и Петербурга. Нужно было сфабриковать паспорта, обычный и заграничный. Нужно было, наконец, установить явочные квартиры и связь с самим Дубровинским, убедиться, способен ли он по состоянию своего здоровья совершить побег.
А связи не было. Варенцова с тревогой сообщила в Петербург, что вологодские власти или сами что-то почуяли, или получили из столицы жесткий приказ, но Дубровинский почему-го неожиданно арестован, посажен в одиночку со строгой изоляцией, и дальнейшая его судьба пока неизвестна.
— Ну, так я должна как можно скорее попасть в Вологду, — заявила Людмила. — А там будет видно.
Февральским вьюжным днем, уверенная в безусловной удаче, Менжинская выехала в Вологду. За окном крутились, бродили по открытому полю белые снеговые столбы, падали и рассыпались мерцающими искорками — иногда сквозь тучи проглядывало солнце. В вагоне было тепло, просторно, многие полки не заняты, попался веселый кондуктор, он охотно бегал на остановках за кипятком, и это все тоже создавало хорошее настроение. С собой Людмила везла триста рублей денег и паспорт на имя дворянина Васильковского, приготовленный Катиным мужем. Паспорт был сработан грубовато, но Людмила его все же взяла. На всякий случай. В маршруте, заученном ею на память, значилась остановка в Вильне, и там на явочной квартире Дубровинскому должны были паспорт заменить — тоже на всякий случай. Об этом знал только Буйко, член Петербургского комитета, разрабатывавший план побега, и знала Людмила.
Чувствуя за собою вину, хотя и невольную, Катя всячески старалась помогать Менжинской. С самого первого разговора, когда лишь возникла мысль о побеге, она поддерживала эту мысль, давала советы. Она помогла Менжинской собраться в дорогу, отдала свою муфту — на севере холодно, надо беречься, — зашила ей в подклад жакетки и паспорт и деньги, предназначенные для Дубровинского, и проводила до вокзала. Людмила ехала в отличном настроении и вспоминала Катю с чувством доброй признательности.
А в это время ее обгоняла телеграмма генерала Герасимова, адресованная Вологодскому жандармскому управлению, и в ней говорилось: «Вчера выехала в Вологду без наблюдения для свидания Дубровинским Людмила Рудольфовна Менжинская. Ее приметы: 32 года, темная шатенка среднего роста, полная, лицо полное, круглое; одежда — меховая шляпа вроде панамы, плюшевый жакет меховым воротником, синяя юбка, меховая муфта…»
Поскольку эта телеграмма была не первой, касающейся подробностей предполагаемого побега Дубровинского, в ней уже не делалось никаких указаний, что надлежит предпринять местным властям — они и сами с усами. Генерал же, подписывая каждую очередную телеграмму, с удовольствием приговаривал: «А молодчина эта „Ворона“, внедрилась к эсдекам ничуть не хуже „Акации“. Везет этому Дубровинскому на милых покровительниц».
В Вологде Варенцова прямо-таки подкосила Людмилу известием:
— Иннокентия-то нашего четыре дня тому назад в кандалах по этапу в Усть-Сысольск отправили.
И обе долго молча смотрели друг на друга. Все рушилось. Зима, кандалы, двести верст за подводами до Усть-Сысольска — и тяжело больной человек. Какая тут может быть речь о побеге!
— А раньше, с дороги, никак сбежать невозможно? — наконец спросила Людмила.
— Да как же это сделать? В кандалах! До прибытия на место их не снимут. И в пути заклепки ногтем не сковырнешь. Только в кузнице. Теперь ждать весны, — потерянно сказала Варенцева. — А на севере весна по-оздняя.
— Тогда мне нужно обогнать этап, — быстро решила Людмила, — дождаться где-нибудь в Котласе или Сольвычегодске и…
— Что «и…»?
— Там видно будет.
Варенцова только покачала головой.
— Ничего и там не будет видно. — И задумалась. — Но Котлас ты, пожалуй, не зря назвала. Живет там в ссылке Сергей Кудрявый. Парень хороший, горячий. И все-таки Котлас к Усть-Сысольску в пять раз ближе, чем Вологда. Что из этого следует, пока и сама не знаю. Но Кудрявому осторожное письмо написать стоит. И давай, голубушка, торопиться не будем. В этих делах поспешность хуже всего.
Однако торопиться пришлось. Уже через несколько дней Менжинская поняла, что за нею установлено тщательное наблюдение. Значит, вместо прямого своего участия в подготовке побега она только будет наводить полицию на след. И значит, решила она, следы эти должны быть ложными, потому что отступить, сложить руки она не может, ну просто не может.
И вслед за первым — «осторожным» — письмом вместе с Варенцовой она сочинила второе, совсем уже неосторожное письмо Сергею Кудрявому, из которого следовало, что всякие замыслы насчет побега Дубровинского провалились, ничего в этом смысле предпринимать не следует: Дубровинский опасно болен, всякий риск должен быть исключен, и пусть он терпеливо ждет окончания срока ссылки в назначенном ему месте, а сама она возвращается в Питер. Это письмо, делая вид, что таится, Людмила сумела опустить в почтовый ящик на глазах у филера.
Выждав еще несколько дней, заполненных бессмысленным хождением по городу, искусно знаменующим собой отчаяние и растерянность, Людмила села в поезд и уехала в Петербург. На платформе, у подножки вагона, в свете ярких электрических фонарей, она долго прощалась с Варенцовой, утирая платком слезы. И когда проверещал кондукторский свисток, означавший отправление поезда, она все еще не могла с ней расстаться, поднимаясь в тамбур, через плечо повторяла:
— Из Питера сразу, сразу же напишу.
А Варенцова ответно кричала:
— Не простудись! Спать ложись на верхнюю полку.
Их расчет оправдался. В департамент полиции пошла срочная телеграмма с сообщением, что «из перлюстрированного письма Менжинской явствует: от попытки организовать побег Дубровинского она отказывается. Сегодня вечером выехала в Петербург».
Ночью в Череповце Людмила тихонько сошла с поезда. Все было вычислено заранее. Через несколько минут ожидался встречный владивостокский экспресс, и у нее едва-едва хватило времени, чтобы успеть приобрести на него в кассе билет.
— Послушайте, — сказала она, разыгрывая возмущение. И склонилась к зарешеченному окошку, чтобы кассир хорошенько разглядел и запомнил ее лицо. На всякий случай. — Послушайте, я ведь просила билет до Екатеринбурга!
— Милая барышня, именно такой билет я вам и вручил, — спокойно возразил кассир, — я не мог ошибиться.
Она повертела билет, извинилась. И, пощелкивая каблуками, побежала к выходу. Стены вокзала подрагивали, к платформе подкатывал владивостокский экспресс. Других пассажиров на восток не было.
Вологду проезжала Людмила тише воды, ниже травы. Лежала на верхней полке, закутавшись в плед с головой, обмирая при каждом поскрипывании двери, не могла дождаться, когда же ударит третий звонок. Потом не могла дождаться и Вятки. Здесь она, изорвав на мелкие кусочки билет, приобретенный в Череповце, пересела на поезд, идущий до Котласа, и только тогда свободно вздохнула.
8
В окно кто-то постукивал. Не громко, но очень настойчиво. Дубровинский приподнялся с постели. Ночь. Метет метель. Воет ветер в печной трубе. В доме тишина, с хозяйской половины доносится густой храп. Может быть, сызнова арестовывать? Но тогда бы не церемонились, а ломились прямо в дверь.
Он спустил ноги с кровати, превозмогая в них острую боль, подошел к окну. Сквозь заплывшее льдом стекло разглядел закутанного в тулуп высокого мужика. Тот реденько и упрямо постукивал меховой рукавицей в раму. Дубровинский изнутри ответил ему таким же легким стуком.
Странно, странно… И все-таки на ощупь, не зажигая огня, надел пальто прямо на нижнее белье и вышел в сени. С трудом оттолкнул придавленную снегом наружную дверь. Мужик в тулупе дожидался.
— Товарищ Иннокентий, здравствуйте! — торопливо проговорил человек в тулупе. — Меня зовут Сергей Кудрявый. Входить я не буду. Только, ох, не простудить бы вас! Но я быстренько. Вот здесь вам записка от Менжинской, вы все из нее поймете.
— Людмилы Рудольфовны? — недоумевая, спросил Дубровинский. И не подумал даже, что это может быть и Вера, а записка прислана из Петербурга. — Она здесь? Где?
— Нет, уже уехала. Здесь ей нельзя действовать, человек она новый, приметный. В Котласе, не знаю, чудом каким полиции она не попалась. И потом, ее будут же искать в Петербурге. Надо, чтобы она у охранки там маячила на глазах. Да и что же это я, — спохватился Кудрявый, — продует вас. Уходите в тепло. Словом, так. Послезавтра оставьте днем знак, что согласны, ну хотя бы шапку свою на подоконнике положите. И тогда в ночь под первое марта я за вами скрытно на подводе приеду. То есть не сам я, но это все равно, что и я.
— «Согласен»? На что согласен?
— Да на побег! А! Записку-то вы еще ведь не прочитали! Билет на поезд, деньги, одежда в дорогу — все будет при мне. Менжинская с Варенцовой приготовили. А вывезти отсюда мне поручили. Так не забудьте, послезавтра — шапочку на подоконник. И не забудьте — в ночь на первое марта. Время терять нельзя. По распутице будет хуже. Извините, что поднял с постели. — Кудрявый махнул рукавицей и исчез в метельной ночи.
Дубровинский вернулся в дом и просидел без сна до утра, не зажигая лампы, чтобы огоньком в неурочный час не вызвать чьего-нибудь подозрения. Ощупывал ноги. Они распухли, кровоточили, особенно правая. Не помогали и бинты с какими-то мазями. Фельдшер пересыльной тюрьмы сказал: «Загноились раны. Это же самая сильная зараза, когда кандалами ноги сбиты, растерты. Гангрены бы вам не нажить. Тогда оттяпывать ноги придется».
Этого даже вологодские власти испугались. Разрешили остаться в Сольвычегодске. Кузнец срубил заклепки с кандалов. И тоже покачивал головой: «Чего только с людьми не делают! Истинно как со скотом!»
Бежать… Но как бежать, когда по дому, в просторной обуви, трудно сделать несколько десятков шагов? И что будет, если при побеге поймают? Дубровинский сидел, впотьмах разглаживая на колене переданный ему Кудрявым листок бумаги, и ему казалось, что он слышит просительный, чуть картавящий голос Людмилы: «А как же можно вам здесь оставаться?»
Забрезжил рассвет. Напрячь зрение — и у окна можно различить крупно начертанные буквы. Он поднялся, постоял, раздумывая, затем снял с гвоздя у двери свою шапку, положил ее на подоконник, пристукнул ладонью — пусть лежит два дня! — и только тогда углубился в чтение письма.
…Теперь он подъезжал к Вильне, затратив целых десять дней на кружной путь по маршруту, определенному Менжинской. Не выходить бы из вагона, так бы ехать и ехать, измотали окончательно пересадки и ночевки где попало; как бревна, тяжелые и непослушные ноги горят: возможно, и в самом деле начинается гангрена, а в Вильне делать остановку надо обязательно. Заменить паспорт, получить инструкции, как безопаснее перебраться через границу. С той липой, что в кармане, не только на границе — любой городовой, пожалуй, задержит, доведись по его требованию предъявить документы.
Пока что везло, придирчивых проверок не было. Ну, а после Вильны с новым паспортом — Менжинская подчеркивала: абсолютно надежным — он будет и вовсе кум королю.
Он не мог не думать о ней. Разве хватило бы у него физических сил и духовного взлета решиться на самостоятельный побег в столь тяжкой для него обстановке, если бы не ее невидимая воля, не тщательнейшая, хотя и дерзкая, до крайней степени дерзкая, подготовка побега! Только вспомнить, только представить себе, как, зарывшись в солому на дровнях, чуть не целую ночь, по узкой дороге, переметенной плотными снежными сугробами, боясь вполне вероятной погони, тащились тогда до Котласа, и то мороз по коже пробегает. Душил кашель, от холодного воздуха резало в груди, и казалось, вот-вот обратишься в ледышку. А если бы не решился на это, какая гибель — тяжкая, медленная — тогда бы ожидала?
Скоро Вильна… Это далеко не конец пути, а хочется уже и отдохнуть, не от общей усталости и саднящей боли в ногах — от нервного напряжения, от необходимости бесконечно придумывать какие-то легенды о себе, применяясь к своим случайным дорожным спутникам.
Вот и сейчас молодой человек, некий Владислав, очевидно, из «хорошей семьи», со вкусом одетый, донельзя болтливый, втягивает в разговор о политике. Что ж, его можно понять, в купе они только вдвоем, и дать волю своему красноречию молодому человеку — он адвокат — просто больше не перед кем. Но он частенько и спрашивает: «А ваше мнение, Иван Николаевич?» — так пришлось назваться. И любопытствует, хотя и вежливо, ненавязчиво, кто он такой, куда и по каким делам едет. Обрадовался, что «Иван Николаевич» свободно владеет немецким языком и в оригинале читает Гейне, цитирует его стихи на память.
— Иван Николаевич, вот вы преподаватель математики. Сухая, отвлеченная наука, мир сложных уравнений и теорем. Может быть, это и наивно, — он снял пиджак, повесил его на крючок возле двери, в вагоне было жарко, — но мне работа мысли математика представляется потоком цифр, беспрерывно текущих через мозг и почему-то гремящих и колючих. Мысль математика настолько материальна, что она не может, как вам сказать, — прищелкнул пальцами, — не может не царапать живые ткани человеческого тела. Но вырваться из черепной коробки именно по причине своей чисто физической сцепленности с веществом мозга и унестись свободно в неведомые дали она тоже не может. Мысль математика, как камень, который на веревочке раскручивают над головой.
— Стало быть, она уже находится за пределами черепной коробки. — Дубровинский рассмеялся. — А веревочка может и лопнуть, и тогда камень улетит.
— Да, но… Далеко ли? Впрочем, дело не в этом. Я хотел сказать другое: как у вас, у математика, соединяются в вашем мышлении наука и любовь к поэзии?
— Не ко всякой. Я люблю Гейне и за красоту его поэтических образов, но все же не столько за красоту образов, сколько за глубину и страстность его гражданской мысли. А наука, она ведь тоже служит человеку.
— Например, доктор Гильотен в свое время изобрел машину для безболезненного отрубания голов у некоторой части человечества.
Дубровинскому захотелось ответить: «А у господина Столыпина, например, фантазии хватило только на виселицы. И что — это лучше?» Но он сдержался и заметил:
— Я имел в виду и науку и ту поэзию, которая действительно служит человечеству. И, вероятно, вы, Владислав, не станете отрицать, что человечество нуждается в новых идеях, оно не может оставаться в неподвижности, и тогда не все равно, какими будут они, эти новые идеи.
— А вы читали литературный сборник «Вехи»? — спросил Владислав. — Недавно появился. Прелюбопытнейшая штука. Там в хвост и в гриву лупят Белинского, Чернышевского, Добролюбова, а вы, я вижу, Иван Николаевич, их поклонник.
— Я математик, — уклонился от дальнейшего спора Дубровинский. — И сборник «Вехи» не читал. Но чем же плохи Белинский, Чернышевский и Добролюбов?
— Для «Вех» тем, что эти господа поддерживают атеизм и материализм, а посему лишают личность моральной опоры в религии и тем самым обрекают человечество на нравственную гибель. Мне же Белинский и так далее не очень нравятся тем, что они бы, оставайся еще живы, славу нашу в современной поэзии, скажем, Сологуба и Гиппиус, насмерть захлестали бы своими статьями. А ваше мнение — разве проблемы пола не самое важное в жизни? Нет человека. Есть мужчины и женщины. Для чего бог их создал раздельно?
— А в самом деле: для чего? — спросил Дубровинский. — Ваше мнение?
— Для радостей жизни, — сказал Владислав. — А привлекая наибольшее внимание к общечеловеческим проблемам, мы тем самым отнимаем у мужчин и у женщин многие радости. Вы не читали Бебеля «Женщина и социализм»?
— Нет, не читал, — сказал Дубровинский, внутренне усмехаясь. Чем дальше в лес, тем больше дров. — Но мне недавно попалось на глаза прелестное стихотворение Саши Черного. Все я не запомнил. А вот отдельные строчки, — он нараспев прочитал:
Проклятые вопросы, Как дым от папиросы, Рассеялись во мгле. Пришла Проблема пола, Румяная фефела, И ржет навеселе. Заерзали старушки, Юнцы и дамы-душки И прочий весь народ. Виват, Проблема пола, Сплетайте вкруг подола Веселый «Хоровод»!Как вы находите? Остроумно? Не правда ли?
— Я нахожу прежде всего это грубым! — обиженно сказал Владислав. — Извините, мне необходимо выйти.
Дубровинский немного помедлил и тоже вышел из купе. В коридоре, у окна, покуривали двое мужчин. Табачный дым потоком Воздуха тянуло к Дубровинскому. Он невольно поморщился и обошел курильщиков, стал поодаль от них у другого окна. Снег на полях заметно осел, а на пригревных склонах даже невысоких холмов кой-где образовались и черные проталины. Узорчатые пластинки тонкого наста поблескивали на солнце режущими глаза огоньками.
«А там, в Сольвычегодске, еще зима-зимой, — подумал Дубровинский. — Мороз, метели. И солнце какое-то ледяное».
Давясь радостным смехом и таща что-то в стиснутом кулачке, пробежал наголо остриженный карапуз, за ним вдогонку кинулся прыщавый юнец, должно быть, его старший брат. Они затеяли возню, толкая стоящих у окна мужчин и вызывая этим их неудовольствие. Появилась поджарая дама, одетая в дорожный халат. Прикрикнула строго на малыша и потащила его за ручонку, но он вырвался, проюлил между ног прыщавого юнца и скрылся в одном из соседних купе. Дама вызвала мужа, тоже худосочного, с неприятно отвисшей нижней челюстью, и тот отправился вдоль вагона в поисках своего непослушного чада. Дубровинскому канитель и толкотня в коридоре надоели, и он вернулся на свое место.
Вскоре пришел и Владислав. Поправляя прическу, тут же завел новый разговор.
— Вы следите за ходом заседаний Государственной думы, Иван Николаевич? — спросил он. — И как вы находите последнее выступление Кузнецова по поводу борьбы с пьянством?
Дубровинский не следил и в его положении не мог следить за ходом думских заседаний, но он знал, что Кузнецов эсдек, меньшевик, избран депутатом по рабочей курии от Екатеринославской губернии, знал его лично и мог предположить, какую речь произнес Кузнецов.
— Это одно из самых страшных зол, и с ним надо бороться со всей беспощадностью, — сказал Дубровинский. — Поощрение пьянства — это поощрение самых низменных свойств души человеческой.
— А государственные доходы?
— Они не уравновешивают наносимого государству ущерба. Ущерба отдельным людям — тем более.
— Позвольте, но ведь правительство всеми мерами борется с пьянством! Поощряется не пьянство, а продажа вина. Это разные вещи. Кузнецов же доказывает, что вообще нет никакой борьбы и надо, как наиболее радикальное средство, ввести в России «сухой закон». Но это не реалистично! Веселие Руси — есть пити!
— Пити есть и великая скорбь Руси, — возразил Дубровинский. — Один скачет, а другой плачет.
— По профессии я адвокат, но я готов защищать на суде только преступника, а отнюдь не преступление. Убийца может быть оправдан, но убийство — никогда!
— Иными словами, следует бороться со злом, потакая его носителям? Я вас правильно понял, Владислав? — с легкой иронией спросил Дубровинский.
— В данном случае я оправдываю правительство и осуждаю распущенность человеческую, носящую имя пьянство!
— Недавно вы утверждали, что вообще человека нет, а есть мужчины и женщины, и для них главная проблема — проблема пола. Как мы теперь должны расставить все эти понятия?
Владислав вдруг легко рассмеялся.
— Вот оно, в чистом виде математическое мышление. Вы к какой-нибудь партии принадлежите?
— А к какой партии вам хотелось бы меня причислить?
— Разумеется, к нашей, я «октябрист», но это немыслимо, у нас с вами, чего ни коснемся, взгляды резко расходятся. А не хотел бы причислить я вас — так это к эсерам!
Теперь уже Дубровинский рассмеялся.
— Рад доставить вам удовольствие, эсером быть не собираюсь.
— Отвратительная партия! Кровавая, беспринципная, интриганская партия! Один Азеф в ней чего стоит!
— Да, да! — Еще в первые дни по прибытии в Вологду Дубровинский от Варенцовой узнал, что под Новый год ЦК партии эсеров печатно известил о разоблачении им провокаторской роли Евно Азефа, одного из наиболее деятельных членов ЦК, разрабатывавшего самые отчаянные террористические акты, включая покушение на фон Плеве, Дурново, Трепова, великого князя Сергея и даже на царя; знал, что до этого долго шел эсеровский партийный суд над Бурцевым, редактором журнала «Былое», по убеждению руководителей эсеровской партии оклеветавшего Азефа. В словах Владислава звучал какой-то новый оттенок, что-то связывающее с событиями недавних дней, но что именно, Дубровинский не мог догадаться. Он повторил неопределенно: — Да, да! — И прибавил: — Вот случай, когда один и тот же человек убивал и своих друзей и врагов, служил богу и дьяволу. По вашей теории свершенное им зло следует осудить, а самого его оправдать. Однако нелюбимые вами эсеры его осудили. И осудило правительство.
— Как бы не так! — воскликнул Владислав. — С чего вы взяли? В том-то и штука, что Дума на прошлой неделе большинством голосов признала удовлетворительными и исчерпывающими объяснения правительства по делу Азефа. Сиречь, он прощен! Вы не следите за работой Думы, Иван Николаевич!
— Правительство и Дума прощают Азефу убийства крупнейших государственных деятелей? — Дубровинский продолжал свою игру. — Невероятно!
— Прощают, — подтвердил Владислав. — И я использую ваше сравнение. Прощают, очевидно, потому, что одни политические убийства уравновешивают собою другие убийства. И, может быть, тоже к выгоде правительства. — Сделал поощрительный жест рукой: — Иначе кто же согласится быть провокатором!
Он сладко потянулся, глянул в окно.
— Кажется, скоро Вильна, — сказал Дубровинский. — Мне там сходить. Не скажете, который час?
— Отчего же. — Владислав сдвинул обшлаг накрахмаленной рубашки и спохватился: — Ах, да, я снял часы, когда выходил в туалет! — На столике не было ничего, на диване тоже. — Пожалуй, я их сунул в карман пиджака.
Но в пиджаке, висевшем на крючке у двери, часов не оказалось.
Владислав в растерянности развел руками.
— Ничего не понимаю… Куда же они могли деваться? Не иголка. Массивный золотой браслет…
Вдвоем обшарили все уголочки, расправили складки диванных чехлов. Без пользы. И в туалете — вдруг память подвела? — пропажа не сыскалась.
— Странно, странно, — повторял Владислав. Лицо у него стало сухим, неприветливым.
Дубровинскому тоже стало неловко, на какое-то время в купе он оставался один. Он припоминал. По коридору пробегал карапуз, что-то держа в зажатом кулачке. Но кулачок у него был стиснут раньше, чем он добежал до раскрытой двери купе. Потом за карапузом гонялся прыщеватый юнец.
Передвигались мужчины с папиросами, уклоняясь от возни, какую затеяли эти два брата. Кажется, и тощая дама вмешивалась в их потасовку. Но можно ли бросить на кого-либо из них хотя бы тень подозрения? Во всяком случае, он, Дубровинский, этого не может сделать!
— Иван Николаевич, я должен буду вызвать кондуктора и заявить ему о свершившейся краже, — сказал Владислав. И это похоже было и на простую просьбу помочь своим советом и на серьезную угрозу объявить своего спутника похитителем часов, если тот добровольно их не вернет.
— Право, не знаю, что в таком случае вам следует предпринять, — медленно проговорил Дубровинский. — Похоже, что ваши часы действительно украдены… — Ему опять вспомнился карапуз и возня в коридоре. — А может быть…
— Что может быть? — нетерпеливо спросил Владислав.
— Ну… какое-нибудь недоразумение…
Если часы, балуясь, схватил и утащил в свое купе стриженый карапуз или его старший брат, так их родители сразу должны были бы всполошиться и побежать по вагону: «Чья вещь?» Но никто не ходит с расспросами. Да и часы-то, как утверждает Владислав, положены им были в карман пиджака, а оттуда малышу их попросту не достать. Не мог ли Владислав эти часы выронить, допустим…
— Недоразумение? — Владислав криво усмехнулся. — Например, у меня вовсе не было никаких часов? Или я бросил их в клозет? Или подарил… — Он затянул эту фразу так, что ее окончание явно предполагалось «вам», но Владислав все же выговорил: — …кому-нибудь.
— Тогда поступайте как знаете, — тоже слегка раздражаясь, сказал Дубровинский.
Кондуктор схватился за голову, когда Владислав объяснил ему, что случилось. Заохал, завздыхал:
— Да как же это так? Да господи!.. Все пассажиры едут такие хорошие… Срам-то какой… Вы уж позвольте, пройду я по вагону, всех поспрашиваю…
И через несколько минут сообщил совсем убитый:
— Не-ет, никто… В одном купе за оскорбление чуть по шее не надавали.
— Тогда так, — решил Владислав, разговаривая только с кондуктором, и ударил по столу ладонью, — в Вильне, кроме вот… Ивана Николаевича, никто не выходит? Зови сразу жандармов. Пусть сделают поголовный обыск, составят протокол и так далее. Черт знает что! В вагоне первого класса порядочным людям стало ездить нельзя! Закрой тамбурные двери на ключ. За все я отвечаю. Министру путей сообщения напишу…
Он кипел яростью. Кондуктор, угодливо кивая головой, побежал выполнять его требование.
Дубровинский угрюмо молчал. Положение становилось безвыходным. Обыск — чепуха! Проверка документов — а она теперь неизбежна — вот что страшит. Паспорт никуда не годится. Его можно показывать дворникам, но уж никак не железнодорожным жандармам, да еще на такой станции, как Вильна. Да еще в связи с подозрением в крупной краже. Задержат, в этом сомнений нет, начнется выяснение личности. И тогда уже Сольвычегодском не отделаешься…
Как поступить? Остаются считанные минуты… Скрыться нет ни малейшей возможности… Дубровинский искоса глянул на Владислава: что, если это подсаженный агент охранки и вся история с пропажей часов им просто разыграна? Все эти разговоры… Зажат в кольцо!..
Вдруг в памяти всплыл морозный Кронштадт, скрип солдатских сапог, винтовки, опущенные наизготовку, и холодный ствол револьвера, которым офицер потыкал ему в подбородок. Какая фортуна тогда сберегла ему жизнь? Риск! И только риск… Не дерзни прикинуться пьяным — и был бы расстрелян. Когда риск дает хотя бы единственный шанс на спасение — надо рисковать.
— Послушайте, Владислав, — проговорил он совершенно спокойно, понимая, что терять ему уже нечего, — я не тот, за кого себя выдавал. Но и не вор. Не эсер, которых вы так не любите. Я социал-демократ и принадлежу к той части нашей партии, которую называют большевиками. Бежал из ссылки. Если хотите, могу показать вам гнойные раны на ногах от кандалов. Вы, вероятно, заметили, как трудно мне и сейчас передвигаться. А я должен еще перебраться через границу. Дальнейшее вам понятно. Все это я сейчас говорю лишь для того, чтобы потом, когда жандармы поведут меня, не огорчить вас тем, что «преподаватель математики» оказался простым любителем математики. И поэзии. А вы вели с ним разговор и спорили, как с человеком вашего круга, вашего уровня образованности, и в чем-то даже с ним соглашались. Выводов я не делаю.
Рельсовые пути стали множиться, вагон зашатало на стрелках. Начинались окраины Вильны.
9
Засунув руки в карманы и проводив недовольным взглядом Житомирского, Ленин несколько раз прошелся из угла в угол. Потом, остановившись у неплотно прикрытой филеночной двери, ведущей в смежную комнату, окликнул:
— Надюша, ты слышала, что сейчас рассказывал Яков Абрамович?
— Слышала, Володя! Слышала, — отозвалась Крупская. И вышла к нему. — Это ужасно, если действительно так.
— Он говорит, что ампутация неизбежна. Правой ноги, во всяком случае. Наиболее благоприятное течение болезни — да, да, благоприятное! — трофические, незаживающие раны. Мало того, он намекнул, что в той антисанитарной обстановке, в которой содержался Иннокентий, закованный в кандалы, могло произойти заражение крови некоей хронической совершенно неизлечимой болезнью. Медленное разрушение организма. И это в дополнение к туберкулезному процессу, также достаточно разрушительному. Не слишком ли много для одного человека?
— Яков Абрамович говорил, что это не только его личное мнение, что он показывал Иосифа Федоровича и другим, эмигрантским врачам.
— Именно так. — Ленин выдернул руки из карманов, сцепил их за спиной. — Одному Житомирскому, хотя он и хороший врач, я не поверил бы. Но по существу, консилиум… А сам Иннокентий слепо надеется на мази и бинты, верит в свою удачливость…
Он подошел к окну, сердито постучал об пол носком ботинка. Ему припомнилось, как несколько дней тому назад у них в квартире появился Дубровинский. Вместе с Житомирским. И тот весело закричал: «Владимир Ильич, смотрите, какого я вам гостя привел!» Не дал даже рта разинуть Дубровинскому, принялся сам рассказывать, как Иннокентий сбежал из Сольвычегодска, как кружил по России, прежде чем добрался до Вильны, и как чуть не провалился на совершенно нелепой пропаже часов, похищенных кем-то у его спутника по вагону. Но спутник этот оказался человеком в высшей степени порядочным и в критический момент заявил, что часы нашлись, а весь шум он поднял напрасно. Даже проводил Иннокентия до привокзальной площади и помог ему сесть на извозчика. Это ли не фантастическое счастье? В Вильне снабдили надежными документами и в последний час сумели сообщить, что надо ехать не в Женеву, а в Париж. Не то пришлось бы еще помотаться Иннокентию по белу свету. При его состоянии здоровья. Житомирский предложил ему и жилье у себя, по старой памяти, и врачебный уход, что сейчас архиважнейшее…
— Володя, а если бы Иосифа Федоровича показать Дюбуше? Он был в Одессе в девятьсот пятом, очень помогал нашим товарищам, им просто не могли нахвалиться.
— Гм! Гм! Это идея, Надюша, — с удовольствием проговорил Ленин, поворачиваясь к ней. — Но, боюсь, Иннокентия силой к нему не затащишь. Он твердит: «Я здоров, совершенно здоров и хочу быстрее включиться в серьезное дело». Отвергает даже мысль о поездке в Давос, хотя об этом и спорить было бы грешно, настолько болезнь его очевидна.
Крупская задумалась. Конечно, после всех передряг, которые испытал Дубровинский в России, ему сейчас и эмигрантская жизнь, тем более в Париже, кажется чуть ли не верхом блаженства. Притом он видит, как страшно измотан Владимир Ильич непрекращающейся борьбой с разного рода «жуками-короедами» в партии, и он хочет прийти ему на помощь. Чувство товарищества, искренней дружбы у Иннокентия высоко развито. Общероссийская конференция в Париже, которую ликвидаторы яростно стремились сорвать, прошла до крайней степени напряженно. Иннокентий страдает от сознания своей «вины» — сидел в тюрьме и не принимал участия в конференции, хотя именно ради лучшей подготовки этой конференции он и настоял на поездке в Россию. Он не может простить себе ареста на Варшавском вокзале, ареста нелепого, загадочного, и безнадежно потерянных четырех месяцев. А впереди, по мысли Владимира Ильича, — близкая необходимость созвать совещание расширенной редакции «Пролетария», чтобы решительно порвать с богдановским махизмом и отзовизмом не только в смысле философском, но и организационно. Инок знает, как тяжело таскать на ногах железные кандалы. А махистско-отзовистские кандалы на ногах партии не легче…
— Володя, может быть, тебе съездить сперва одному? — предложила Крупская. — Или вместе с Наташей — Гопнер? Она очень хорошо знает Дюбуше еще по Одессе. Ужасно замкнутый человек, молчальник, но Наташа умеет с ним разговаривать.
— Превосходно! — отозвался Ленин. — Поеду с Наташей. Но только для того, чтобы договориться, когда показать самого Инока. Заочно — ни единого слова о болезнях. Это было бы бестактно!
И в тот же день, заручившись согласием Дюбуше, повез Дубровинского. Маститый доктор молча прочитал все, какие были у него, медицинские заключения, жестом попросил снять рубашку и принялся считать пульс, подавливать под мышками, тщательно выстукивать и прослушивать грудную клетку, особо внимательно осмотрел раны на ногах. Почесал пальцем у себя за ухом. Перевел немой, немного сердитый взгляд на Ленина. И вдруг раскатисто захохотал:
— Месье Ленин, ваши товарищи врачи — хорошие революционеры, но как врачи они ослы! Мне известно, что предполагает месье Отцов.
Ленин глянул на Дубровинского, сразу как-то порозовевшего, на Дюбуше — и тоже расхохотался.
— Браво, браво, месье Дюбуше! Мне тоже известно, что предполагает Яков Абрамович, и я рад, что это только предположение осла! Преогромнейшее вам спасибо! Вы сняли камень с души. Но чем и как лечить товарища Иннокентия?
Дюбуше медленно улыбнулся, нижняя губа у него несколько вывернулась. Он постучал по ней стетоскопом. Промассировал согнутыми пальцами веки, откинулся на спинку стула и наклонил голову к плечу, как бы прислушиваясь. Потом сказал резко, отрывисто:
— Завтра же в Давос. Остановить легочный процесс. Довольно серьезный. На этих ногах по Давосу еще можно ходить. А раны потом я закрою. Но уже сейчас я напишу своим друзьям в Давос, что им надлежит делать с вашими ногами, месье Иннокентий.
— Прежде чем поехать в Давос, мне необходимо… — начал Дубровинский, ошеломленный напором врача.
— Если вам не ехать завтра в Давос, зачем было приезжать ко мне сегодня! — с прежней резкостью в голосе заявил Дюбуше. И чуточку мягче повторил: — Только немедленно, только немедленно.
— И на какое время? Какая продолжительность…
Дюбуше опять его перебил:
— Если я скажу: на год? Или на полгода. Для вас это будет иметь значение? Поезжайте в Давос. Вот все, что я вам говорю.
Вечером, за чайным столом у Ленина, улучив минутку, когда Владимир Ильич вышел в соседнюю комнату, чтобы принести свежий экземпляр газеты «Социал-демократ» с напечатанным в ней началом его статьи «Цель борьбы пролетариата в нашей революции», Крупская просительно сказала Дубровинскому:
— Иосиф Федорович, вам совершенно необходимо привести себя в работоспособное состояние. И теперь, поверьте мне, самое подходящее время. Ну выдержите и еще раз одиночное заключение! В Давосе. Даю слово, если будет действительно крайняя необходимость в вашем присутствии здесь, я напишу вам немедля. Не ввергайте Владимира Ильича в дополнительные тревоги. Если вы не уедете, он будет очень мучиться.
Дубровинский не успел ответить. Вернулся с газетой Ленин. Перегнув ее вчетверо, положил перед Дубровинским.
— Прочитаете в санатории, — сказал он, — и я хотел бы потом, когда будет напечатана и вторая половина статьи, узнать о ней ваше мнение. Здесь я раздеваю меньшевиков, и прежде всего Мартова, догола в его безобразнейшей и бесстыднейшей постановке вопроса: «За что бороться?» Он, видите ли, хочет бросить тень на плетень и доказать, что большевики — да, да! — большевики совершенно игнорируют роль крестьянства в революции. Можно этак вот кувыркаться? Впрочем, вы сами увидите. Кстати, из Давоса…
— Но я еще не решил, Владимир Ильич! Дайте мне хотя немного пожить в Париже, осмотреться, наконец, обстоятельно побеседовать с вами, чтобы определить…
— Э, батенька мой. — Ленин хитро прищурился, давая этим Дубровинскому понять, что видит его насквозь. — Побеседовать обстоятельно мы сможем и сегодня. Обстоятельность не в многодневном многословии. А ближайшую и наиважнейшую задачу нашу мы уже определили: совещание в «Пролетарии», сиречь совещание Большевистского Центра. Дюбуше пообещал вам в целости сохранить ноги, мне хочется, чтобы у вас в целости сохранилась и голова. А без серьезного и немедленного — да, да! — немедленного лечения, тут я вполне присоединяюсь к Дюбуше, ваша голова может оказаться простым украшением тела, в то время как она должна работать. Работать и работать, Иосиф Федорович! В нашу упряжку вступает много новых людей или хорошо известных нам ранее, но с новыми обязанностями. Пришел деятельный «Григорий» — Зиновьев, приходит улыбающийся «Марк» — Любимов и мрачный «Игорь» — Горев. Что это — Лебедь, Рак и Щука? Или кони, которые сообща с нами повезут тяжелый воз?
— Понимаю, — сказал Дубровинский, — негоже, если я на этом возу окажусь бесполезной поклажей. Ну что же…
Он перегнул несколько раз газету, врученную Лениным, засунул в карман пиджака и попросил Надежду Константиновну налить ему чашку чая. Погорячее и покрепче.
10
Все выглядело здесь неправдоподобным, не таким, как в обыкновенном, шумном и бурлящем мире, к которому привык Дубровинский. До этого он больше чем полгода провел в Швейцарии, но, увлеченный работой, самой страны как-то и не замечал. Женева для него была не больше чем городом, где в безопасности от преследования царских властей нашла себе место редакция «Пролетария». Знаменитое Женевское озеро, как по первому впечатлению ему не понравилось, — сыро, дует промозглый, холодный ветер «биза», — так и потом, уже в летнюю жаркую пору, все равно не пришлось по душе. Много воды, горячего сияния солнца — и только. Даже горы из уличных тесных ущелий почти не были видны. Ленин и Крупская частенько приглашали его на загородные прогулки, он отказывался: «Некогда. И ходок я плохой».
Теперь он ежедневно тихим, «медицинским» шагом бродил по усыпанным песком дорожкам маленького санатория доктора Лаушера, доброго друга Дюбуше. Снег здесь сошел не очень давно, а выше, в перекрестном нагромождении горных хребтов, он оставался и вечно не тающим. И этот снег сверкал невиданной, необыкновенной белизной.
Дубровинскому хорошо помнились пушистые русские снега на открытых равнинах, возле родного Орла; помнились наплывы снеговых языков, свисающие с крыш Яранска после долгих метелей; помнились сыпучие сольвычегодские снега, в которые, чуть свернув с дороги, лошади проваливались по самое брюхо. В Финляндии снег был необыкновенно скользким. И всюду-всюду он имел какой-то цвет. От нежно-голубого до серо-стального. Здесь вместо цвета была абсолютная белизна.
И зелень швейцарских лесов, травы представлялась столь необыкновенно глубокой и яркой, что у Дубровинского порой шевелилось неосознанное сомнение: не зрение ли виновато, не оптический ли это обман? Такая густая, сочная зелень живому растению не может быть свойственна. И синь озер была такова, что, думалось, пополощи руки в этой воде, и они сделаются голубыми.
В одном из рекламных проспектов бюро путешествий Дубровинскому бросились в глаза строчки: «Швейцария пленительна своими пейзажами… Ее горы, долины, озера сказочно живописны…» Очень точно: не как в жизни, а сказочно. Не созданы природой, а нарисованы кистью смелого и щедрого живописца. Эти пейзажи не тянут к себе, они пленительней на расстоянии, издали. Спустись вниз, к озеру, войди в него — и сразу исчезнет очарование: вода окажется обыкновенной водой. И ветка сосны, когда она, сломанная, лежит на ладони, оказывается совсем такой же, как и в окрестных лесах Яранска.
Туберкулезные больные, словно в религиозном трансе, лежат по целым дням в удобных шезлонгах, укутанные теплыми пледами, в дымчатых очках, подставив лицо весеннему солнцу, жадно дышат воздухом необыкновенной прозрачности и чистоты, воздухом, убивающим микробы, а человека возрождающим к жизни. В уютной столовой за обедом или завтраком и на закрытых верандах, когда солнышко упадет в горы и оттуда пахнет слабым морозцем, а спать еще рано, только и разговоров, что о чудесных выздоровлениях. Весь персонал санатория одет в белое. Накрахмаленные пелеринки шелестят таинственно, словно в них скрыта волшебная сила — прикоснись, и ты исцелен. Женщины улыбаются ангельски, и это тоже обещание жизни. Весь мир здесь — это только ты сам, твои ощущения ослабленного биения сердца, вяло текущей по жилам крови, хрипловатого дыхания в легких. Что происходит там, в долинах, где как попало разбросаны совсем игрушечные домики под острыми черепичными крышами, или там, за высокими снежными перевалами в далеких и чужих странах, — все это никому не интересно.
Дубровинский невыносимо тяготился всем этим. Долгим, бездумным лежанием в шезлонге. Скучными, однообразными разговорами за столом. Посещениями кабинета врача, где делались уколы туберкулина и прочие манипуляции. Даже ангельские улыбки Кристины, ассистентки доктора Лаушера, не приносили ему радости, — они, эти улыбки, были похожи на белизну горных вершин, на глубокую синь озер, они были приятны, милы и как бы нарисованы.
Раны на ногах, несмотря на строгое соблюдение предписаний Дюбуше, затягивались медленно. И все же Дубровинский предпочитал ходить и ходить, а не валяться в постели.
Слова, вскользь брошенные Дюбуше, что лечиться надо длительно и серьезно, подтвердил и Лаушер. Он снисходительно пожал плечами, когда Дубровинский сказал ему, что таким временем для безделья не располагает и не располагает такой суммой денег, чтобы лечиться год или полгода, что просит применить к нему наиболее энергичный способ лечения, но дать возможность уехать из санатория уже через месяц.
— Вы можете это сделать и через неделю, — ответил Лаушер спокойно, — потому что работоспособность человека, больного туберкулезом, почти всецело находится в его собственной воле. Как это ни парадоксально, туберкулезный процесс, ускоренно сжигая человеческий организм, вместе с тем своеобразно усиливает его энергию. Но это, вы понимаете, не увеличивает продолжительности его жизни.
— Об этом я предпочитаю не думать, — проговорил Дубровинский. — Лучше месяц прожить в действии, в работе, чем год пролежать в шезлонге. К тому же мне давно обещали близкую смерть, а я живу. Правда, не так, как мне хотелось бы, но ведь есть же, очевидно, герр Лаушер, какая-то золотая середина, скажем, между неделей и бесконечным нахождением в санатории.
— То есть рассчитываете не излечиться от болезни, а лишь восстановить некоторую свежесть? — уточнил Лаушер.
— Вот именно, — обрадовался Дубровинский. — Снять чрезмерную тяжесть с плеч, оставить ту, что человеку еще нести по силам.
— Это противоречит врачебной этике, — сказал Лаушер. — Вообще не понимаю, как можно было до такой степени, как у вас, сознательно разрушать свое здоровье?
— Герр Лаушер, я не скрываю, что я русский революционер, а им приходится чаще сидеть в тюрьмах, нежели отдыхать в санаториях.
— Простите, герр Иннокентьев, но, очевидно, только варварские организмы русских могут вообще выживать при таких условиях!
— Простите и вы, герр Лаушер, но я бы сказал иначе: только организмы русских революционеров могут выживать в таких варварских условиях! Но что поделать? Для вас революция — звук пустой, а для нас — цель жизни!
— Не хотел вас обидеть, герр Иннокентьев, я просто не точно выразился. «Варварские» для данного случая — имел я в виду — не изнеженные современной цивилизацией. А то, что вы революционер, и даже офицер революции, и даже приговоренный к тяжелому наказанию, я знаю от моего друга доктора Дюбуше. Через два месяца, обещаю, вы будете чувствовать себя значительно лучше.
Они вежливо улыбнулись друг другу. И Дубровинский написал письмо Ленину, в преувеличенно радужных тонах изображая, сколь успешно идет лечение и как быстро он набирается сил. Впору уже и удрать бы из санатория. К чему бесцельно тратить деньги? Это было на одиннадцатый день по приезде в Давос.
Ленин очень быстро прислал ему ответное письмо. Забравшись в конец наиболее пустынной аллеи, Дубровинский читал:
«Дорогой друг! У нас гостит Покровский. Обыватель чистой воды. „Конечно, отзовизм глупость, конечно, это синдикализм, но по моральным соображениям и я и, вероятно, Степанов будем за Максимова“. Обижают, видите ли, кристальных негодяев разные злые люди! Эти „маральные“ обыватели сразу начинают „мараться“, когда при них говоришь об исторической задаче сплочения марксистских элементов фракции для спасения фракции и социал-демократии!
Выписала этого мараку оппозиция, — мы его не выписывали, зная, что общее свидание отсрочивается». — («Вот как, — подумалось Дубровинскому, — „свидание“, то есть совещание, еще не подготовлено, и сроки точно не определены, а милейший „Максимов“ — Богданов себе из России уже выписывает подкрепление»). И стал читать дальше: — «От Линдова и Орловского…» — Ага, Лейтейзена и Воровского! — «…пока неблагоприятные вести: первый-де болен, второй может приехать только в Питер. Впрочем, на мои письма прямо к ним ответа еще нет. Подождем.
Похоже на то, что Власов…» — Гм! Рыков! — «…теперь решает судьбу: если он с глупистами, обывателями и махистами, тогда, очевидно, раскол и упорная борьба. Если он с нами, тогда, может быть, удастся свести к отколу парочки обывателей, кои в партии ноль…»
Дубровинский опустил руку с письмом, вздохнул прерывисто. Да, конечно, в Давосе воздух легкий, и по ночам спится хорошо, реже стал кашель — словом, блаженство, а каково Владимиру Ильичу, которого грызут и точат сейчас со всех сторон? Богданов — «Максимов» землю роет, чтобы на пленуме, на совещании расширенной редакции взять верх или в крайнем случае пойти на раскол, объявив виновником Ленина. Нет, не по-товарищески было соглашаться поехать сюда! Одно дело — невольно выпасть из общей борьбы, оказавшись в тюрьме, в кандалах; другое дело — уехать, в конечном счете заботясь о себе лично. Он обвел взглядом молодые сосенки, стоящие в тишине и образующие узкую аллею, деревца, исторгающие смолистый, нежный аромат весны, и эти деревца не показались ему, как всегда, необыкновенно зелеными.
Ближе к концу письма он прочел еще несколько строк:
«…Лечитесь серьезно, слушайтесь докторов во всем, чтобы успеть хоть до пленума чуточку оправиться. Пожалуйста, бросьте мысль об удирании из санатория: у нас безлюдье полное и, если Вы себя не выправите (а это не легко, не делайте себе иллюзий, для этого надо серьезно лечиться!), то мы можем погибнуть…»
Н-да, а Владимир Ильич считает вот так…
Весь остаток этого дня и еще несколько дней он провел в томлении. Послушно выполнял все предписания Лаушера, поражал соседей по столу отменным аппетитом, хотя ел, насильно заставляя себя проглатывать пищу, много гулял, а еще больше — вечерами — писал.
Писал письма Анне и девочкам. Не утаивая от них, что здоровье у него изрядно-таки пошатнулось, но тут же бодря надеждой, что очень скоро он выздоровеет совершенно. Начнет работать, заниматься переводами и тогда сможет помочь им денежно. Дочкам обещал повидаться с ними, а пока — прислать интересных книжек с рисунками. Тетю Сашу просил о нем не беспокоиться, все добрые ее советы он помнит. Трудно подбирались слова. Он знал: его письма к Анне прежде будут прочитаны охранкой.
Писал в Петербург Людмиле Менжинской. Еще более осторожно. Благодарил ее за милый подарок. Выражал легкую досаду по поводу того, что на российских железных дорогах не с каждым поездом удается уехать, даже когда заранее куплен билет. Спрашивал, почем ныне продается некий заграничный товар и какая русская фирма этим товаром торгует. Подписался первым попавшимся именем. А обратного адреса не указал, полагая, что Людмила сообразит, куда и как ей ответить, если есть что ответить. Мучительный вопрос: «Кто предатель?» — Дубровинского терзал с прежней силой.
Писал Житомирскому. Со всей откровенностью знакомил его, как врача, с точкой зрения Лаушера на течение болезни и на ее возможный исход, что касается легочного процесса. Тревожно вопрошал: остается ли он, Яков Абрамович, при своем мнении, что в раны на ногах внесена опасная инфекция? Высказывал негодование по поводу того, что в Париже вопреки французским законам существует русская агентура охранного отделения, коей сведения доставляют провокаторы. Нет ли резона через французских социалистов, депутатов сделать об этом запрос в парламенте? Хорошо бы эту мерзость вывести на чистую воду!
Снова писал Ленину, доказывая, что нет никакой надобности валяться в санатории и тратить средства партийной кассы на лечение, когда дышать давосским воздухом вполне возможно и живя в недорогом отеле. А сам потаенно при этом думал, что из отеля потом совсем уехать будет как-то проще.
И тщательно готовился к совещанию, набрасывал проект предположительного своего доклада о задачах большевиков в партии. Так виделось и Ленину, когда они при расставании в Париже определяли, кому и чем заняться.
Прошло совсем немного времени, и возле своего прибора на обеденном столе Дубровинский обнаружил заклеенный конверт с адресом, написанным столь знакомым ему стремительным почерком Ленина.
«Дорогой друг! — писал он. — Получил сегодня Ваше письмо. Ни в каком случае не бросайте санатория. Ни в каком случае не переезжайте в отель. До plenum’а Вам необходимо серьезно выправиться, а это неосуществимо иначе как в санатории. Мы здесь страшно изнервничались в борьбе с этой глупой, мелкой, подпольной и гаденькой склокой: отстранились от собрания БЦ (ибо невыносимо становится), — и вызвали этим тройную истерику и Марата и Домова! Ну, наплевать! Но Вы нужны вполне здоровым ко времени собрания, и поэтому лечитесь серьезно и отнюдь не покидайте санаторий…»
И дальше Ленин писал, что в России очень плохо, сплошные провалы и о многих из тех, кто был желанен на совещании, ни слуху ни духу.
Рассеянно поднося ложку ко рту и иногда проливая суп на салфетку, засунутую за воротник, Дубровинский уносился мыслью в Париж. Надо ли было Владимиру Ильичу доводить до истерики «Марата» — Шанцера и «Домова» — Покровского своим нежеланием созывать отдельное заседание Большевистского Центра прежде совещания расширенной редакции «Пролетария»? Не поспешил ли он со своим «отстранением»?
Дубровинский оглядывал сверкающие чистотой стены, распахнутые окна, двери, сквозь которые втекали теплые волны весеннего воздуха, и ему вспоминался зимний вечер в финляндском санатории, когда он вопреки предостережениям Обуха принял твердое решение незамедлительно включиться в партийную работу. Правильно тогда он поступил? Правильно. А теперь на нем лежит куда большая нравственная ответственность. Он и член ЦК и член «узкой» редакции «Пролетария» и, наконец, тесно связан чисто человеческой дружбой с Владимиром Ильичем. Ведь именно это обстоятельство побуждает Ленина писать столь заботливые письма, а самому брать целиком на свои плечи неимоверную тяжесть все усиливающихся партийных раздоров. Но тогда это же обстоятельство со всей силой обязывает и его, Дубровинского, не пребывать здесь в благодушном покое!
Под таким настроением он тут же написал новое, очень горячее письмо Ленину.
И опять — как только почта сумела обернуться столь быстро! — держал в руках пакет с его ответом.
«Дорогой друг! Получил Ваше письмо и протестую самым решительным образом. Пусть мы сделали с Покровским ошибку (я готов это допустить и вину всецело взять на себя, ибо уговорил Григория я), но из-за этого Вам уезжать верх нелепости. С Покровским уже не поправишь теперь. Вызывать Мешковского до Власова и до областников (Щур цел и ручается, что от Москвы отзовист не пройдет, Лядов и Алексинский… — он теперь на Капри — тоже не пройдет. От Питера будет, говорят, антиотзовист) не к чему. Теперь — необходимо: дождаться plenum’а БЦ. Иначе склока будет расти, — а мы ее все же пресекли. Несомненно, что на собрании с Покровским Богданов дал бы десяток новых обид и втянул в них Покровского, теперь же одной обошлось. А эта была неизбежна: не преувеличивайте, право! „Озлобление“ и Никитича и Лядова и Покровского, вчерашних нейтральных, не случайно, а неизбежно: наросло дело. Наросло, и нарыв начинает взрывать, а утерпеть при вонючей склоке кругом не всегда утерпишь.
Но Вам ехать безумие. Мы здесь дотерпим еще месяц, будьте спокойны, без ухудшения дела. Вам же трепать нервы (Париж треплет нервы здорово) до собрания — верх нелепости.
Протестую 1000 раз: обязательно оставайтесь в санатории до самого plenum’а. Экономить 200–300 frs. глупо. Если Вы останетесь в санатории, мы будем иметь к plenum’у хоть одного вполне своего человека со вполне здоровыми нервами и не втянутого в мелкую склоку (здесь Вас втянут, будь Вы семи пядей во лбу). Если Вы уедете, Вы увеличите число взвинченных без пользы для дела.
Протестую решительно: ни в коем случае не уезжайте, а оставайтесь непременно в санатории до самого plenum’а.
От Власова вестей еще нет. Надо потерпеть. От Линдова было письмо: согласен приехать в принципе через 1–2 месяца. Это как раз выйдет. Орловский не отвечает. Как раз через месяц все будем в сборе и тогда увидим, а пока поправляйтесь толком и хоть Вы-то не нервничайте, христа ради…»
Но что же делать? Что делать? Владимир Ильич не хитрит, он пишет обо всем откровенно, начистоту и не скрывает ни сложности, ни трудности положения. И тем не менее твердит неустанно: лечитесь, лечитесь. Ожидает потом человека «со вполне здоровыми нервами». Придется попросту их подтянуть, потому что уже и не помнится, когда они были здоровыми и какое вообще бывает состояние у человека со здоровыми нервами.
Хорошо, конечно, что подтверждаются предположения о надежном составе приезжающих на совещание областников, представителей с мест. Хорошо, что и «Мешковский» — Гольденберг, один из «русской пятерки» ЦК, арестованный в прошлом году вместе с Рожковым, вышел из тюрьмы и приедет в Париж. Человек он не очень решительный в действиях, но большевик убежденный и, как член ЦК, избранный еще на Лондонском съезде, имеет авторитет. Хуже то, что «Никитич» — Красин сошелся на этот раз с Покровским и Лядовым, так резко качнувшимися в сторону…
Ночь он почти не спал. А наутро, измученный, вялый, с радостным изумлением увидел у своего столового прибора новое письмо Ленина. Прошел всего лишь один день — письмо вдогонку. Что это значит? Что изменилось? И к лучшему ли? Дубровинский торопливо разорвал конверт.
«Дорогой друг! Вчера приехали Марат (целиком с оппозицией) и Власов (с нами). Власов дал обещание через несколько дней поехать к Вам. Значит, ждите и ни в коем случае не двигайтесь, чтобы не разъехаться. Власов настроен по-Вашему: с нами принципиально, но порицает за торопливость, за победу Покровского etc. Значит, не бойтесь: Власов отныне будет у власти, и ни единой несообразности мы теперь не сделаем.
Власов упрекает нас за неуменье обходить, обхаживать людей (и он тут прав). Значит, и тут не бойтесь: Власов отныне все сие будет улаживать.
Мешковский, областники выехали. Значит, все сделаем. Значит, не беспокойтесь, лечитесь серьезно. Ни в коем случае не двигайтесь из санатория.
Если Вы не вылечитесь вполне через три недели (недели через три вернее, ибо точно еще неизвестно), то Вы нас погубите. Не жалейте нескольких сот франков, это нелепо. Лечитесь, гуляйте, спите, ешьте обязательно, ибо для партии нам нужно здоровое имущество.
Сегодня было собрание парижской группы. Женевская объявила разрыв с БЦ и парижскую призвала к тому же. Марат держал речь за Женеву: Власов говорил против него. Это хорошо: Женева начала раскол, и Марат без ведома БЦ натравливал группу на БЦ, не внеся в БЦ этого вопроса.
Они сами начинают, сами себя сажают в лужу.
Всего хорошего. Лечитесь, лечитесь и будьте спокойны!
Ваш Ленин».Да, много нового произошло лишь за один этот день. Действительно, богдановцы сами себя сажают в лужу. Пищат о грядущем расколе и сами же открыто, грубо начинают раскол.
Вялость с Дубровинского слетела, будто и не было тяжелой, бессонной ночи. Захотелось скорее, скорее в Париж, ввязаться в драку, что началась там сейчас, еще до открытия совещания. И усмехнулся. Теперь никак не уедешь. Владимир Ильич нашел верный способ удержать его в санатории по меньшей мере на три недели. Коли «Власов» обещал приехать в Давос, отсюда до его приезда никуда не двинешься.
И все-таки он снова завел разговор с Лаушером о возможном в ближайшие дни отъезде, подчеркнув, однако, что и ходом лечения он доволен, и удобствами, милой атмосферой, и что все это стоит вообще-то очень недорого. Но важные и неотложные дела призывают…
Лаушер был в отличном настроении, похвальные слова Дубровинского и еще его разогрели. Он с особой внимательностью выстукивал и выслушивал больного, а сверх того проверил нервные рефлексы, остроту зрения и слуха. Так и этак повертел у него кисти рук, заставил написать на листе бумаги несколько незначащих фраз и долго вглядывался в неровный, прыгающий почерк Дубровинского.
— Давно у вас это, герр Иннокентьев? — спросил он, приглашая Дубровинского сесть на мягкий диван. И сам уселся с ним рядом.
— Такой почерк? Право, не знаю, — Дубровинский пожал плечами. — Не обращал внимания. В школе на уроках чистописания получал пятерки. Сейчас отметок мне не ставят!
— О да! Итак, вы все же собираетесь уехать. Важные и неотложные дела? — Добавил со значением: — Революция!
— Ну, не совсем так. — Дубровинский рассмеялся. — А впрочем — революция! И я уже почти не кашляю, не мучает меня и ночная температура.
Лаушер, сухой, седоватый, но с черными кустистыми бровями, возвел глаза к потолку, где вокруг хрустальной люстры носились вперегонки две пестрых бабочки, влетевшие в открытое окно. Закусил нижнюю губу, как бы обдумывая, что ему возразить на слова странно упрямого пациента.
— Герр Иннокентьев, вы любите новеллы Эдгара Поэ?
Дубровинский неопределенно развел руками. Неловко было признаться перед этим просвещенным доктором в малой начитанности, что касалось беллетристики, но времени всегда оказывалось так мало. Впрочем, «Бочонок амонтилиадо» — о нем много спорили книголюбы — бегло просмотрел в какой-то поездке. Не понравилось. Написано сильно, однако отдает психологическим садизмом. Может быть, есть у этого писателя и другого характера произведения…
Лаушер уловил сомнения Дубровинского.
— А я люблю чрезвычайно, — заявил он. — Конечно, многие его произведения — плод больной, подчеркиваю, больной фантазии, — я люблю его очень своеобразные иносказания. Например, такая новелла. Врач месмерическими пассами вводит в сомнамбулическое состояние умирающего человека. Идет диалог. Вопросы врача, ответы умирающего, затем — уже мертвого. Понимаете, тело, скованное каталепсией еще до смерти, остается неизменяемым, в нем приостановлены волей гипнотизера все биологические процессы, а дух живет и опять-таки по воле врача продолжает вести беседу. Проходит много дней. Наконец, врач решает закончить свой опыт. Соответствующими пассами он снимает состояние каталепсии, возвращает организму свободу протекающих в нем биологических процессов. И что же? Прямо на глазах врача тело, дотоле ведущее с ним беседу, обращается в смердящий тлен.
— Вы намерены со мной проделать такой же опыт, герр Лаушер? — полушутливо перебил его Дубровинский.
— О нет! Примером из этой несколько неэстетичной новеллы я хотел только сказать, что время беспощадно делает свое дело. Месмерической силой, которой, увы, в природе не существует, возможно остановить даже биологические процессы. Но только стоит снять такое, волей человеческой же созданное состояние — и время мгновенно возместит себе с присущей ему точностью все, что было у него до этого принудительно отнято.
— Ага, стало быть, вы предрекаете мне, герр Лаушер, по излечении моем прилив сказочной богатырской силы, поскольку на протяжении моей болезни, иначе говоря, у времени, бациллы Коха эти силы принудительно отнимали, — с прежней полушутливостью заметил Дубровинский, хотя и угадывал смутно, что Лаушер в своей аллегории видит нечто совсем иное.
— Особенность таланта Поэ такова, что его иносказания можно толковать на самые различные лады. Соответственно личным свойствам читающего, — не поддерживая беззаботности тона Дубровинского, проговорил Лаушер. — Мне эта новелла вспомнилась по другой ассоциации. Герр Иннокентьев, вы силой собственной воли погрузили себя в состояние той трансцендентальной каталепсии, которую придумал Поэ, вы силой духа как бы замедляете физические последствия тлеющей в вашем организме болезни. Не только туберкулеза — о, если бы только туберкулез! — и не этих, достаточно неприятных ран на ногах. У вас общее истощение — не малокровие, нет! — общее истощение, буду жестоко откровенен — запасов жизни. Вы силой воли, «месмерическими пассами» можете эти запасы удерживать еще сто лет, но если нервы ваши, — они совсем не железные, — если воля ваша начнет сдавать и состояние «каталепсии» не удержится, произойдет то, что произошло в новелле. А вы офицер русской революции. И мне ваш теперешний почерк не нравится.
Дубровинский сделался серьезным. Вон какую судьбу обещает доктор. Так что ж теперь, жить сто лет под «месмерическими пассами»?
— Герр Лаушер, — сказал он, — я очень благодарен вам за откровенность. Сто лет для меня слишком много. Но если на остатках своей воли хотя бы еще год или два я смогу быть — не офицером! — солдатом революции, я буду счастлив.
Одна из бабочек, сновавших вокруг люстры, ударилась о хрустальную подвеску и, трепеща подбитыми крылышками, упала на пол. Лаушер бережно поднял ее, положил на подоконник. Приоткрыл дверь, позвал: «Фрейлейн Кристина, сделайте инъекцию и все остальное, как обычно», — и, не оглядываясь на Дубровинского, вышел.
11
Даже под тонкой простыней допекала жара. Приближалась самая середина лета, ночи с их недолгой темнотой не давали хорошего отдыха. Крепкий сон приходил обычно под утро, а тут солнце прямо сквозь шторы влезало в окно и заставляло метаться по постели в поисках прохлады.
Для Житомирского это были самые тяжелые часы. Вставать не хотелось, морила духота, а валяться без толку значило лишь обливаться потом и належивать головную боль. Он удивлялся, как это Дубровинский, в той же самой душной и жаркой комнате, — ночью спит или не спит? — без оханья и бесчисленных зевков поднимается на рассвете, освежает лицо холодной водой и садится к столу. Где-то ухватил пудовый том скучнейших трудов немецкого физика и по заказу делает перевод на русский язык. Оплата самая скудная, но Дубровинский рад и этому: можно посылать кое-какие деньги домой. Он неохотно делится семейными заботами, но все равно со стороны видно, как угнетает его мысль о доме, о детях, вступивших в тот возраст, когда, по поговорке, на них «одежда горит». А заработка матери на все нужды не хватает.
Вообще, на удивление, Дубровинский умеет сдерживать себя, отделываться шуточками и улыбками, когда вполне допустимо было бы орать на своих противников, как это делают многие из его же друзей. Поводов взрываться едва ли не каждый день сколько угодно. А не взрываться, так хотя бы в тихом бешенстве бегать одному по комнате. Дубровинский и этого себе не позволяет. Прелюбопытнейший индивид с точки зрения психологической.
Он не то чтобы простодушен и неосторожен — в конспирации немало искушен! — он трудно верит в подлость человеческую. Тяжкое испытание душевное пришлось ему выдержать, когда валом накатились многие разоблачения. И не мог он тогда не почувствовать очень остро, болезненно, что партию и его лично провокаторы то и дело продают и предают.
Да, конечно, подозрения у него давно начинали тесниться, но он их отгонял как недостойные. Ему все казалось, что в любом провале черную роль играет некто ему, Дубровинскому, неведомый и невидимый, что не может этого сделать тот, кто смотрит ему открыто и честно в глаза. Со сдержанным гневом он читал бурцевские разоблачения Азефа, потом подтвержденные и самими эсерами. Азеф для него психологически был злодеем из сказки, словно людоед Карабас-Барабас. Не меньше, чем на самого Азефа, гневался он и на руководителей эсеровской партии, слепо впустивших в свою среду этого оборотня.
И когда всплыл со дна морского на поверхность блистательный Гартинг, вытащенный отчасти и усилиями самого Дубровинского, которого осенила превосходная мысль обратиться к французским социалистам, чтобы те подняли в парламенте скандал по поводу существования в Париже иностранных тайных полиций, и Клемансо вынужден был публично заявить, что таковых полиций больше не потерпит, предложит их сотрудникам покинуть республику, — Дубровинский Гартинга представлял ведь лишь умозрительно. Друг другу в глаза они никогда не глядели. Разоблачение и изгнание Гартинга было отнюдь не потрясением для Дубровинского, а победой, стало быть, и чувством удовлетворенности. Но поди ж ты, и к чувству озлобленности тоже прибавилось что-то. Гартинг встал в один ряд с Азефом. Хотя оба они от Дубровинского находились и вдалеке.
А тут раз за разом, уже прямо в душу ему вонзились три сообщения.
Оказалась раскрытой Серебрякова Анна Егоровна. «Святая святых», «Мамочка» у Зубатова — среди эсдеков, большевиков, она почиталась надежнейшим человеком. Дубровинский глухо стонал, припоминая, как ее и Корнатовскую называл Леонид Петрович Радин «фанатичными революционерками», с какой нежностью сама Серебрякова говорила о Радине. И продала охранке.
Обе они с Корнатовской так сердечно заботились и о нем, Дубровинском, на всю жизнь для него на губах их поцелуи расставания. А в тюрьму посадили его и разгромили московский «Рабочий союз» тоже они. И Дмитрия Ульянова продали. И вообще всю семью Ульяновых. И нет счета всем подлостям Серебряковой. А глаза у нее были чистые и честные.
Такими же глазами смотрела на него и «Акация» — Шорникова, когда он с разбитыми, окровавленными руками, придавленный сознанием поражения Кронштадтского восстания и неизбежными вслед за тем массовыми казнями, пробрался в Петербург на квартиру Менжинских. Шорникова рыдала, рассказывая о расстреле Егора Канопула, который посылал ей свое последнее прости и которого она продала как последняя негодяйка. Продала и Дубровинского, «обеспечила» ему самую жестокую тюрьму — «Кресты» и вологодскую ссылку.
«Люся» и встречала и провожала его в Петербурге и своими мягкими, теплыми руками пожимала его озябшую руку и, встревоженно заглядывая в глаза, расспрашивала о здоровье. И это именно Люся заковала его в кандалы, увела в морозные снега Сольвычегодска, оставила незаживающие, гноящиеся раны на ногах и вызвала новое обострение туберкулезного процесса. Она продала и питерскую «военку». И еще многих. Вячеслава Менжинского…
Вот когда эти три разоблачения дошли до Дубровинского и не поверить в них было нельзя, дошли, не давая времени даже распрямиться после каждого очередного удара, он внутренне как бы окаменел. Не для людей — для себя. Посторонние могли и не заметить в нем никаких перемен, этого напряженно-гневного состояния, но он-то, Житомирский, как врач, разгадал, что там, в мозгу у Дубровинского, тихо свершается. Он слышал даже его слова, сказанные глухо: «Убить эту женщину!..»
Об этом на всякий случай пришлось сообщить ротмистру Андрееву, временно заменившему Гартинга. Временно потому, что Андреев рылом не вышел, чтобы заведовать всей заграничной агентурой. И потому еще временно, что Клемансо, с шумом выпроводив из Франции только Гартинга, — будто тем самым прихлопнул всю здешнюю «тайную полицию», — уже вел дружеские переговоры со Столыпиным относительно новой, приемлемой для обеих сторон кандидатуры. Как было не сообщить о восклицании Дубровинского Андрееву!
Эсдеки не охочи прибегать к бомбам и револьверам как к средству возмездия, у Дубровинского и тем более мягкий, добрый характер, но слишком силен заряд динамита, который сейчас по стечению обстоятельств вложен в него, и точно предсказать, как он поступит, невозможно. В тихом омуте черти водятся! А будет ужасно, если Люсю — или Катю — уберечь там, в Питере, не сумеют.
Дубровинского угнетают еще и мокнущие раны на ногах, которые он, Житомирский, может быть, и напрасно объявил признаком опасной болезни, желая тогда, в первый день их встречи, немного напугать его и теснее привязать к себе, когда он им, Житомирским, будет вылечен. Но вмешался со своими непрошеными заботами Ленин, повез больного к толстяку Дюбуше, и врач Отцов превратился в «осла». Слава богу, хотя остался «хорошим революционером». Но, впрочем, раны, несмотря на правильное лечение, назначенное Дюбуше, пока заживают плохо. Это — следствие нервного перенапряжения. Дубровинский никак не может отделаться от ранее внушенной ему тревоги, и это, в свою очередь, усиливает скрытую нервозность. Жаль человека!
Житомирский перекатывал по подушке одурманенную духотой голову. Веки у него слипались, но это был не сон, а сдавливающее дыхание забытье, словно при падении в глубокую-глубокую и жаркую яму.
Но иногда он все же различал фигуру Дубровинского, сидящего как-то косо за столом, отчего его худые плечи казались особенно острыми. Этакая рань, а он уже за работой! При том еще обстоятельстве, что сегодня ему выступать с докладом о задачах большевиков в партии.
Вообще заседания расширенной редакции «Пролетария» проходят тяжело. И Дубровинский и Ленин возвращаются с них позеленевшими. Тут не топают ногами и не свистят, как было на Лондонском съезде, все в рамках приличия, но от этого по существу своему еще острее становится борьба и отзывается она на душевном состоянии больнее. Заседания продолжаются уже четвертый день и, наверно, растянутся еще на неделю, если Богданов упрямо будет выдавать «порося за карася» и доказывать, что богостроительством занимался совсем не он, а только Луначарский (да и то, может быть, не занимался) и что вообще нет лучшего марксиста, чем сам Богданов, не имеющий решительно никакого отношения к философии Маха, а отзовизм и ультиматизм для настоящего времени — наиболее правильная тактика партии.
Он еще поворочался в постели. И решил: вставать пока нет надобности. На заседаниях обязаны и могут присутствовать только члены Большевистского Центра, члены редакции «Пролетария» и представители с мест. Ведут протоколы Крупская и Любимов. Ему, Отцову, как члену финансово-хозяйственной комиссии, иногда появляться вполне допустимо, но там по праву официальных участников совещания постоянно присутствуют и Зиновьев и Таратута, тоже члены этой комиссии, а на него Богданов с Шанцером поглядывают косо. Считают, что именно он играл главную скрипку, когда отдаленным российским комитетам, зараженным отзовизмом, немного задержали субсидии.
Зачем ему эти косые взгляды? Протоколы и резолюции он прочитает и после, а разные пикантные подробности даже интереснее в чужом пересказе. Да и кому их потом передавать, эти подробности? Гартинга, сластены на такие вещи, нет, а Андреев — рогожная мочалка.
Житомирский помолотил ногами, сбрасывая с себя жаркую простыню, и вяло окликнул Дубровинского:
— Иосиф Федорович, вам сегодня делать доклад, а вы все над переводами корпите.
— Нет, не над переводами — над проектом резолюции по моему докладу, — отозвался Дубровинский, не поворачивая к нему головы. — Вчера вечером с Владимиром Ильичем мы набросали основу. Мне надо теперь несколько развернуть ее.
— А в двух словах? Главнейшая задача большевиков в партии? Как это у вас формулируется? — с прежней вялостью в голосе спросил Житомирский.
— В двух словах, Яков Абрамович, попробуйте вы сформулировать, я не умею. Но если хотите, вот заключительный абзац: «…задачей большевиков, которые останутся сплоченным авангардом партии, является не только продолжение борьбы с ликвидаторством и всеми видами ревизионизма, но и сближение с марксистскими и партийными элементами других фракций, как это диктуется общностью в борьбе за сохранение и укрепление РСДРП».
— Значит, сближение и с Плехановым?
— Да, и с Плехановым. Что, для вас это новость?
— Нет, не новость. Я думаю о том, как это взорвет Богданова, сиречь «Максимова».
— Будем полагать, не больше, чем принятые уже резолюции. Об отзовизме и ультиматизме. О богостроительстве. О партийной школе на Капри. Всюду Богданов с рогатиной против Ленина, и всюду рогатина у него выбивается. Как не взрываться! Понимает же, что верх ему не взять.
— Тогда чего же «Марат» — Шанцер рядом с ним бьется?
— Об этом, Яков Абрамович, спросите самого Шанцера. Может быть, потому бьется, что однажды он попытался выступить против богостроительских вывертов Луначарского, а теперь эту свою «вину» перед Богдановым и заглаживает.
— Ну и черт с ним!
Житомирский закрыл глаза и легонько всхрапнул.
Он не спал, и спать ему уже не хотелось, но не хотелось и продолжать самим же затеянный разговор. Он соображал, когда ему лучше побывать у Андреева: сразу по окончании совещания или только после того, как он сам себе составит представление об его итогах. Андреев нетерпелив, рассчитывает выслужиться перед столичным начальством потоком срочных донесений и частенько, не проверив факты, «не заглянув в святцы, бьет в колокол». А когда ему надерут уши за это, все зло вымещает на своих агентах. Опять-таки, задержись с докладом, разгон: «От консьержки узнаю больше, чем от тебя!» Эх, вспомнишь Гартинга, золото был человек!
Надо все эти дни вертеться около Ленина и Крупской.
12
В кафе «Капю», в отдельном небольшом зале, откупленном для совещания расширенной редакции «Пролетария», стояла, как и во всем Париже, давящая духота. Она казалась, пожалуй, еще более тягостной потому, что нельзя было проводить заседания при распахнутых окнах, и еще потому, что сама по себе атмосфера, в которой проходили дебаты, день ото дня раскалялась сильнее.
Богданов и Шанцер подчеркнуто появлялись в самый последний момент, так, чтобы сразу пройти к своему, облюбованному ими столику. Это избавляло их от необходимости здороваться с каждым из участников заседания и вступать в какие-либо далекие от полемики разговоры, болтать о том о сем, как это обычно бывает в кулуарах. Богданов в тщательно отглаженном костюме и накрахмаленном воротничке, туго стягивающем умеренно полную шею, садился строго и прямо, приставляя легкую тросточку к креслу, и тут же начинал поправлять манжеты. Чуть снисходительная улыбка почти никогда не покидала его лица, а взгляд небрежно перемещался от председательского стола к столу, за которым произносил речь очередной оратор.
Шанцер усаживался рядом с Богдановым, но держал себя не скованно, а свободно, рисовал на листе бумаги цветы, виньетки, тихонечко барабанил пальцами по столу, всем своим видом оттеняя как бы полную ото всех независимость и готовность немедленно кинуться в драку, заслышав клич: «Наших бьют!»
И он бросился в драку уже на первом заседании при обсуждении повестки дня, когда и клича-то никакого никем еще не было брошено.
Все началось совершенно спокойно. Выборы председателя: попеременно Ленин и «Мешковский» — Гольденберг. Приступив к исполнению своих обязанностей, Ленин дал слово «Власову» — Рыкову, и тот зачитал список из двенадцати вопросов, подлежащих рассмотрению совещания. Этот перечень, естественно, начинался определением: «Конституирование собрания». Что это: совещание, конференция, пленум? Чего: редакции «Пролетария», БЦ (Большевистского Центра)? Его правомочность? И так далее. «Донат» — Шулятиков поддержал предложение Рыкова. Однако Шанцер вскочил и предложил свой порядок дня — девять вопросов, — и первый из них занозисто обозначался: «Конституирование и вопрос об исключении двух членов БЦ (между прочим)».
Каменев попытался притушить этот огонек, предвестник большого пожара, и мягко сказал, что особых различий в предложенных проектах он не усматривает, но все-таки было бы лучше сперва рассмотреть в широком плане принципиальные разногласия.
Тогда Богданов, чеканя слова, будто учитель на уроке диктанта, встал и заявил:
— Согласен, что принципиальные разногласия необходимо разбирать сначала, но раньше всего надо рассмотреть вопрос — это вопрос об исключении меня и Зимина. — Он сделал небольшую паузу, чтобы присутствующие почувствовали, что он ставит «Зимина» — Красина в один ряд с собой, хотя и знал: проступок Красина перед БЦ — выдача эсерам партийных секретов — предполагалось сделать предметом особого обсуждения. — Это вопрос об исключении меня и Зимина, так как, может быть, мне незачем будет присутствовать на собрании. Конечно, если вопрос будет отодвинут, мы с Маратом, — он кивнул головой в сторону Шанцера, — не отказываемся присутствовать, но не сможем сохранить нужного хладнокровия.
И не сохраняли.
Дубровинский вносил резолюцию «Об агитации за отдельный от партии большевистский съезд или большевистскую конференцию», и в его проекте резолюции отвергалась такого рода агитация, как неминуемо ведущая к расколу партии сверху и донизу. Партийный съезд должен быть единым, всех фракций. Поднимался Богданов и высокомерно говорил:
— Резолюция Иннокентия, апеллирующая к партийности, неуместна. Она написана не для этого собрания, а рассчитана на агитацию вне большевистских кругов.
— Нам говорят: не надо большевистского съезда, это мешает партийности, означает гибель партии, — торопливо присоединялся к Богданову Шанцер. — Такое утверждение равняется утверждению, что наша фракция излишня, что мы расплылись в партии, что между Лениным и Мартовым нет разницы.
Проголосовали. За резолюцию Дубровинского все, и только двое — Богданов и Шанцер — против.
Зачитывался проект резолюции «Об отзовизме и ультиматизме», подготовленный Лениным:
— «…Расширенная редакция „Пролетария“ заявляет, что большевизм, как определенное течение в РСДРП, ничего общего не имеет с отзовизмом и ультиматизмом и что большевистская фракция должна вести самую решительную борьбу с этими уклонениями от пути революционного марксизма».
И вскипала резкая полемика.
— Отзовизм! — восклицал Шанцер. — Надо посмотреть, нет ли вины самой думской фракции, была ли она на высоте своей задачи. Мы требуем, чтобы борьба с отзовизмом велась корректно, исключительно идейным, а не организационным путем.
— Вы признаете, что ваша цель — вышибить отзовистов и ультиматистов. Однако вы забываете, что и сами были бойкотистами. Вспомните Котку. А теперь «Пролетарий» отходит от большевизма и скатывается на позиции центра! — теряя учительский тон, нервически гремел Богданов. — Но у вас не хватает мужества сказать: мы с Плехановым, а вы — убирайтесь к черту!
— О Коткинской конференции Максимов напутал, — спокойно разъяснял Ленин. — Тогда весь Большевистский Центр был против бойкота. Фракция же была за бойкот, но раскола не было, ибо не было группы, которая его хотела бы. Через год фракция оказалась на нашей стороне. Максимов говорит, что мы станем заседать с Плехановым. Конечно, станем, так же как с Даном, с Мартовым в редакции «Социал-демократа», нашего ЦО. Мы в сделку с Плехановым против Луначарского не входили. Но, когда Плеханов вышибает Потресова, я готов протянуть ему руку. А вот лояльность отзовистов на конференции была достигнута бешеной борьбой — мы ставили им ультиматумы. Я заседаю в ЦК и с Мартовым. А вы, Марат, член фракции «божественных» отзовистов. Говорю не о добрых намерениях, а о политической линии. Большевизм должен теперь стать строго марксистским.
— Мы имеем отзовизм, который говорит: не надо думской фракции. А «Пролетарий» говорит — надо. Отзовисты говорят: фракция неизбежно оппортунистична. Мы же говорим — она движется вверх. Мы привлекаем партию к работе над фракцией, — отзовисты же упрекают нас за это. Вот противоречия! А вы путаетесь между ними. — Дубровинский был сух, он давно уже потерял веру в возможность переубедить Богданова.
— Марат говорил, что думская фракция сама породила отзовизм. — Гольденберг пытался остановить обострение спора. — Но что же именно вы сделали для улучшения ее деятельности? Чем вы помогли фракции? — И тут же срывался: — Если смотреть на отзовизм как на развивающееся движение, то раскол был бы неизбежен. Но ваши дела дрянь. Борьба с вами не на жизнь, а на смерть не есть раскол.
— Нас нельзя упрекать, что мы не работали, ибо не было условий для работы из-за того, что вся работа взята одними вами, — путаясь в словах, бормотал Шанцер.
— Мы выбраны съездом и уйти сами не можем, надо нас выгнать! — кричал Богданов, воздевая руки вверх. На крахмальных манжетах злыми огоньками вспыхивали фальшивые рубины в запонках. — Здесь издевательство! Вы хотите нас двоих, — он глядел на Шанцера, забывая, что раньше в число «двоих» он включал не его, а Красина, — вы хотите нас двоих держать в плену, а потом выгнать. Вы должны исключить нас сейчас!
Но заседание шло своим чередом. В соответствии с утвержденной повесткой дня рассматривался пока не личный конфликт с «Максимовым», а принципиальный вопрос о борьбе с отзовизмом, и об этом принималась резолюция. Против нее голосовали только Богданов и Шанцер.
Собрание переходило к очередному пункту — «О богостроительстве». Докладчик говорил:
— Вопрос о богостроительстве становится общественным явлением. Нынешняя эпоха контрреволюции всколыхнула тенденции, оживляющие религиозные настроения. Повышенный интерес к вопросам религии является отражением подавленности духа после подавления революции. В этой атмосфере ясно выступает подмена большевизма богостроительством. Теперь они уже приравнены друг к другу. Это течение, особенно ярко пропагандируемое в статьях Луначарского, есть течение, порывающее с основами марксизма, наносящее вред революционной социал-демократической работе по просвещению рабочих масс. Ничего общего с подобным извращением научного социализма большевистская фракция не имеет.
Тотчас же, немного остывший после предшествующих схваток Богданов учительски диктовал:
— Напоминаю резолюцию «Пролетария» по вопросу о нейтральности, внесенную по поводу запроса женевской группы. — А сам испепеляющим взглядом упирался в Дубровинского. Он не мог простить ему своего и Луначарского публичного поражения на прошлогоднем философском реферате в Женеве. Тогда Алексинский несколько выручил, собрав женевскую группу большевиков, осудившую под его, Богданова, подсказку выступление Дубровинского, но «Пролетарий» тем не менее такой протест не напечатал, сославшись на свою раннюю резолюцию о нейтральности в философских вопросах. — Когда Луначарский попросил места для объяснения, ему отказали, основываясь на нейтральности. А потом сочли нужным все-таки напечатать статью «Не по дороге»; я нахожу, что она тоже относится к области философии.
Шанцер понимал, что ему промолчать невозможно, а говорить — вызвать раздражение Богданова. Потому что статью, которую он, Шанцер, в свое время написал против Луначарского, именно Богданов, как член редакции «Пролетария», не допустил напечатать. И именно ссылаясь на нейтральность.
— У Луначарского много религиозной терминологии, — сказал он осторожно. — Бороться с ней мы обязаны всегда и всюду. Поэтому я считаю нужным внести резолюцию, говорящую не о Луначарском, а о богостроительстве.
— Помню наши споры в редакции по поводу статьи Марата, — ероша волосы, вступил Зиновьев. — Тогда Марат говорил, что мы в плену у богостроителей. Говорил, но печатно все же не выступил, побоявшись Максимова. Теперь Марат оказался сам пленником богостроителей. А резолюция о нейтральности была принята вовсе не в смысле равнодушия к философским вопросам.
Дубровинский принял вызов Богданова, но на его колючий, обозленный взгляд ответил обычной своей мягкой улыбкой:
— Из слов Марата вытекало бы, что редакции «Пролетария» нужно вынести одобрение за борьбу против богостроительства. Но у Марата вышло иначе. Теперь ему приходится высказываться. И он это делает, но как? Максимов все время повторяет, что он большевик, что он наш, а сам мешает нам бороться с богостроителями. Нужно урегулировать дела фракции. Нужно или связать руки Максимову, или развязать нас от Максимова. Иначе работать нельзя.
— В протокол! В протокол! — закричал Богданов. — Существо дела в том, что требуется почва и повод для агитации — и вот вы ее теперь нашли. Будущее покажет, кто во всей этой истории лучше выражает марксизм.
Он еще несколько раз по ходу прений брал слово: для оглашения своих заявлений, для справок, для внесения изменений в проект резолюции. Но при голосовании демонстративно просидел, крепко сцепив кисти рук. Против проголосовал только один Шанцер.
Дискуссия о партийной школе на острове Капри началась с такой формулировки:
— Вопрос о школе сводится к вопросу о расколе нашей фракции. Эта школа стремится сделаться политическим центром. Она является выражением безнадежности в смысле того, что рабочие могут вести какую-нибудь повседневную работу. И это есть не что иное, как центр, и даже более сильный, чем ЦК, ибо ЦК не имеет двадцати агентов, а школа хочет их иметь. Она есть центральный комитет того идейного раскола, от которого страдает партийное дело. Организация школы на Капри группой инициаторов, и прежде всего Максимовым, шла с самого начала помимо редакции «Пролетария» и сопровождалась агитацией против нее.
— Мы топчемся на пятачке. Это — невыносимое положение. Нам надо освежить силы. — Богданов потребовал слова, едва дождавшись зачтения проекта резолюции, в которой заявлялось, что большевистская фракция никакой ответственности за каприйскую школу нести не может. — По какому же случаю шум? По двум обстоятельствам: дело важное, и вокруг него модно затеять скандал. Это задевает мою честь. Говорят, из школы образуется другой центр. «Раскол, раскол!» Но ведь это зависит от нас же! Если БЦ согласится и пришлет контролера, если Ленин там будет читать, разве может тогда школа сделаться организацией более сильной, чем Большевистский Центр?
— При условии контроля не понимаю, как можно быть против школы! — Шанцер драматически всплеснул руками. — Здесь говорят, что мы, что я хочу устроить раскольничий центр. Но я не имею права покинуть свой партийный пост, я избран съездом, и значит — будем работать вместе. Я не хочу раскола, а мне все швыряют новым центром. Меня интересует сохранение единства большевистской фракции! — Он чуть смешался, когда Ленин с места бросил реплику: «Была Троя!», но все же продолжал: — И на этой точке зрения буду стоять, пока не убеждусь в противном…
И тогда заговорил Ленин:
— Товарищ Максимов напрасно горячится, ибо не было ни одного раскола без крайних обвинений, и всегда инциденты раскола путали с вопросами чести. Помню сцены с Кричевским в 1901 году, с Мартовым в 1905 году и в 1907 году с Плехановым — и все набрасывались на меня с криками о чести. Дело не в чести, а в том, что в процессе борьбы люди дезорганизуют свою фракцию и организуют новую. Так делает и Максимов. И он же нам говорит о приглашении Ленина в школу, о контроле — смешно! Ясно, что школа — новый центр, новое течение. Марат говорит, что он своих постов не покинет. Да вы же, товарищ Марат, целиком поддались фракционной страсти, определяемой политической борьбой «божественных» отзовистов!
— Это клевета, — белыми губами пробормотал Шанцер.
— Что такое фракция? — продолжал Ленин. — Это союз единомышленников внутри партии. Тот пост, который вы заняли от партии, у вас может отнять только партия. Мы теперь ругаемся — это оттого, что у нас нет союза единомышленников. На ваш партийный пост никто не посягает, и его не к чему припутывать. У нас раскол фракции, а не партии. А о чести здесь говорить нечего. Надо признать то, что есть: два центра, два течения и школа как факт.
— Надо выяснить, кто разрушил Трою — большевистскую фракцию? — Вся наглаженность с Богданова слетела. — Говорят, что мы стремимся под большевистским флагом проводить антибольшевистские тенденции. Но можно ли отождествлять фракцию с Лениным? Большевистский флаг и Ленин не одно и то же!
И кто-то насмешливо отозвался:
— Максимов спрашивает, отчего погибла Троя? От коня, товарищ Максимов! Вот и вы, как троянского коня, хотите ввести в нашу фракцию каприйскую школу. Голосовать резолюцию!
Проголосовали «за» абсолютным большинством. Против — Богданов и Шанцер.
13
Дубровинский вышел на трибуну и закашлялся. Столь затяжного кашля у него по возвращении из Давоса еще не было. Четвертый день сидения в тяжелой духоте и нервном напряжении, а ночи без сна. И одно еще дело выступать в прениях, другое — самому быть докладчиком. А Богданов с Шанцером все больше рвут и мечут, создают склочную обстановку и все откровеннее показывают свою неприглядную изнанку.
Он вытер губы платком, мельком бросив взгляд на него — нет ли пятен крови? Нет, не было. Разгладил свисающие усы.
— Прения по отдельным частным вопросам уяснили, что единства взглядов в данном собрании нет. Я говорю о задачах в партии той части нашей фракции, которая отметает отзовизм, ультиматизм, богостроительство, и выражаю мнение большинства здесь присутствующих, — начал он, чувствуя, что постепенно полностью овладевает собой. — Практически линия поведения большевиков в партии намечена уже давно. Большевики поставили себе целью всесторонне поддерживать ЦК и для этой цели жертвовали некоторыми узкими фракционными интересами. Уже два года тому назад, на Лондонском съезде, фракция выбрала свой путь.
Богданов сидел и саркастически кривил губы. Совсем так, как когда-то в Женеве, слушая выступление Дубровинского на реферате Луначарского. И в этой кривой улыбке сейчас было: «Опять ты лезешь с суконным рылом в калашный ряд».
— С тех пор с полной ясностью определился поворот к контрреволюции, — продолжал Дубровинский, редко покашливая. — Если в период второй Думы мы ставили задачу непосредственного свержения самодержавия, то после ее разгона задачей была не непосредственная борьба, а организация, сплочение партии. Меньшевики боролись против партийности, атака шла все более быстрым темпом… — Он напомнил несколько общеизвестных примеров. — …Началась реформистская критика основ марксизма. Перед большевиками выдвинулась необходимость охранения принципов и организации рабочей партии. И в настоящий момент перед нами задача — сохранение этого единства. На почве организационного отчаяния меньшевики бросаются сначала в профсоюзы, затем в кооперативы, затем дело сводится к узкопропагандистским — просветительным обществам в рамках современного полицейского государства. В то же время они начисто отказываются от нелегальной организации…
Богданов умышленно громко передвинул стул, наклоняясь к Шанцеру и что-то весело шепча ему на ухо. Дубровинский вновь ощутил нервную дрожь — предвестье того, что он готов сорваться и, отступив от текста доклада, может грубо одернуть фиглярствующего Богданова. Но пересилил себя и продолжал размеренно:
— Ликвидаторство быстро обнаружило свою внутреннюю несостоятельность. В среде меньшевиков намечается расслоение. В этом отношении чрезвычайно характерно выступление Плеханова, одного из лучших представителей ортодоксального и революционного марксизма…
— В протокол! Эти слова Иннокентия обязательно в протокол! — вскрикнул Богданов, прерывая разговор с Шанцером.
— В прочности марксизма Плеханова никто усомниться не может. И то, что он вышел из редакции меньшевистского ликвидаторского «Голоса Социал-демократа», весьма характерно, — отрезал Дубровинский. — В тот же двухлетний промежуток времени другое крыло нашей партии, левое, с самого начала поставило целью соединение нелегальной деятельности с легальной в целесообразной пропорции. Под этой формулой кроется содержание не только организационное. Эта формула означает соединение методов действия нелегального и легального с идеями марксизма. Именно на проведении этой задачи в жизнь мы и столкнулись с теми элементами внутри большевистской фракции, от которых надо отмежеваться. Что же предстоит нашему собранию…
Словно бы, кроме них, никого больше и не было в зале, Богданов и Шанцер в полный голос заговорили между собой, давая понять Дубровинскому, что с этого момента его доклад они и слушать не желают.
Дубровинский, сдерживая себя, заканчивал:
— …в каждом крыле партии идет дифференциация. У меньшевиков слышны пока лишь отдельные голоса протеста против их меньшевистской тактики, у большевиков размежевка идет отчетливее и энергичнее. Максимов утверждает, что отзовисты ныне в большинстве. Это не так. В каждом крыле партии есть свои попутчики и свои немарксисты. Большевики должны первые открыто и честно констатировать происшедший в их рядах раскол и разорвать те гнилые веревки, которые пока связывают нашу фракцию.
Он сел, дыша тяжело и вытирая платком со лба испарину. Тотчас поднялся Богданов, поправляя манжеты.
— Иннокентий поставил задачу — очищение партии. Только не спешите ли вы? Раньше Плеханов рассматривался как лидер оппортунистов, теперь вы называете его «лучшим представителем ортодоксального революционного марксизма». — Он, как дирижер в оркестре, сделал плавные, волнообразные движения руками. — Ваша формула: «целесообразное соединение легальной с нелегальной деятельностью» — голословна и абсолютна бессодержательна. Она пригодна только для агитации. Да, изменения происходят. Были большевики, стали необольшевики…
Кто-то из зала бросил иронически: «И появился неомарксизм!»
Богданов ладонью словно бы оттолкнул этот голос:
— Всякий, делающий шаг вперед, заслуживает названия неомарксиста, в хорошем смысле, а ваш необольшевизм — это шаг назад. Вы будете «победителями», если реакция продолжится. В период подъема революции вы потерпите позорное поражение…
Даже Шанцер, снизу вверх поглядывая на стоящего и как бы дирижирующего Богданова, несколько от него отодвинулся.
Сразу понеслись возбужденные, протестующие голоса. И все повернулись к Ленину, торопливо набрасывавшему на листке бумаги тезисы своего выступления.
— Я считаю излишним в сотый и в тысячный раз отвечать Максимову по существу, то есть повторять, что он создает, откалываясь от нас, фракцию карикатурных большевиков или божественных отзовистов, — заговорил Ленин, держа перед собой листок бумаги, но в него не заглядывая. — Все это в «Пролетарии» уже сказано, напечатано, разжевано, подчеркнуто. И я говорю только: скажите печатно, — он нажал на это слово, — скажите печатно то, что́ вы говорите здесь в четырех стенах, — тогда и только тогда вместо недостойной перебранки, которая царит здесь четвертый день, получим мы идейную борьбу. Скажите печатно, что мы «необольшевики», «неопролетарцы» «в смысле новой „Искры“», то есть в сущности меньшевики, что мы «сделали два шага назад», что мы «разрушаем драгоценнейшее наследие русской революции — большевизм», скажите печатно эти вещи, записанные мной из вашей речи, и мы покажем публике еще и еще раз, что вы именно подходите под тип карикатурного большевика. Скажите печатно, что мы — опять цитирую ваши слова — «погибнем политической смертью, будучи в плену у Плеханова, в случае нового подъема», что мы «победим в случае длительной реакции», скажите это печатно, и мы дадим еще раз полезное для партии разъяснение разницы между большевизмом и «божественным отзовизмом».
Богданов дернулся, хотел врубить какую-то свою реплику, но ловко слова у него не сложились, и он только досадливо махнул рукой.
— А раз вы отказываетесь, — Ленин всем корпусом подался в его сторону, — раз вы отказываетесь открыто бороться и продолжаете склоку внутри, — то мы должны добиться открытого выступления с вашей стороны путем прямого выделения вашего из нашей фракции, — он подчеркнул, — не из партии, а из фракции, — выделения для идейной борьбы, которая многому научит партию.
И хотя после этого заседание продолжалось и выступали еще многие и по нескольку раз, в том числе и Богданов с Шанцером, не скупясь перебивать ораторов ядовитыми репликами, и обсуждалась в деталях резолюция о задачах большевиков в партии, предложенная Дубровинским, — это был хотя и бурный, но по смыслу своему уже затухающий спор. Всем было ясно и Богданову самому, что он остается в глухом идейном одиночестве.
Поглядывая на него виновато, Шанцер написал витиеватую записку председателю, что в общем он за резолюцию, но по ряду причин от голосования воздерживается.
Следующий день совещания начался сразу же новыми обострениями, когда возникла необходимость поставить на поименное голосование вопрос: все ли члены Большевистского Центра обязуются отныне не только подчиняться принятым решениям, но и проводить их в жизнь.
Шанцер, суматошно вскакивая, без конца повторял одно и то же:
— Я не против, но я не понимаю… Что же, я теперь должен вышибать из фракции каждого ультиматиста и отзовиста, и себя в том числе?
Богданов, хмурясь, заявил, что никто не обязан подчиняться незаконным решениям. А все принимаемые решения незаконны, потому что БЦ и редакция «Пролетария» лишь исполнительная коллегия и без большевистского съезда проводить такие резолюции нельзя.
— Предлагаю прекратить комедию, — диктовал он размеренно. — Вы расколотили посуду, склеивать ее тут нельзя. Это могут сделать лишь действительные большевики.
Говорить становилось не о чем. Это был не принципиальный раскол большевистской фракции, а вызывающе грубый откол от нее одного Богданова. Оставалось принять резолюцию:
«Признавая, что в связи со всеми вопросами порядка дня с очевидностью обнаружилось отсутствие принципиального и тактического единства между десятью членами расширенной редакции „Пролетария“, с одной стороны, и т. Максимовым, с другой стороны; признавая далее, что со стороны т. Максимова за последнее время были сделаны шаги, направленные также и к нарушению организационного единства большевистской фракции; констатируя, наконец, что т. Максимов дал отрицательный ответ по вопросу о подчинении постановлениям расширенной редакции „Пролетария“ и о проведении их в жизнь, — редакция „Пролетария“ в расширенном составе снимает с себя отныне всякую ответственность за все политические шаги т. Максимова».
Резолюцию приняли. Всеми голосами против одного — Шанцера.
— Итак, здесь, — Богданов помедлил, оттеняя значение этого слова, — здесь мне делать больше нечего.
Поправил манжеты, встал и направился к двери.
Расходились поздно. Однако солнце еще играло на стеклах окон в верхних этажах домов, — дни были самые длинные. Под вечер пролился наконец долгожданный дождь, схлынула духота, и улицы Парижа казались особенно радостными и светлыми.
За столиками, вынесенными из многочисленных кафе на свежий воздух под полосатые тенты, бурлило молодое веселье. Хлопали пробки, позванивали хрустальные фужеры. Скрипачи в подпирающих горло белых воротничках наигрывали польки, вальсы и стремительные галопы. Кружевные, батистовые девушки и кавалеры в легких чесучовых костюмах пританцовывали между столиками.
Дубровинский случайно очутился рядом с Шанцером. Некоторое расстояние им было идти по пути. Шли молча. Потом вдруг Шанцер сказал:
— Моя мать по национальности француженка, а я родился уже в России и русский, конечно, до корней волос. А вот слышу французскую речь именно здесь, в Париже, и у меня возникает некое мистическое чувство. Будто я слышу голос деда своего, будто он идет рядом со мной по этим мостовым, будто мой дед — это я сам. С вами такого никогда не бывает, Иосиф Федорович?
— Подобного? Нет, — рассеянно ответил Дубровинский, весь еще полный переживаниями дня. — Мистике я не подвержен, Виргилий Леонович.
— Да я не в прямом смысле. Так, по ассоциации. Человек — существо тонкое. И вот иногда…
— Человек — существо тонкое, — механически повторил Дубровинский. — Против этого я не спорю.
И опять они шли молча.
— Резолюция, принятая сегодня относительно Александра Александровича, равнозначна устранению его из состава Большевистского Центра, — проговорил Шанцер, угадывая мысли Дубровинского. — Уверен, что Красин точно так же истолкует эту резолюцию и в отношении себя, хотя он в ней и не упоминался. Они, я полагаю, будут апеллировать к партии. И справедливо.
— Вы говорите так, Виргилий Леонович, словно вы прежде них хотите апеллировать. — Дубровинского не очень влекло поддерживать этот разговор. Он чувствовал томящую усталость.
— Во всяком случае, готов к ним присоединиться, если они печатно выступят с протестом, — заявил Шанцер. И уточнил: — Имею в виду принципиальную сторону дела — раскол и вытеснение отзовистов, ультиматистов и богостроителей в особую фракцию. — Он усмехнулся. — Впрочем, богостроители — это вообще миф, как и сама идея бога. Неужели кто-то и где-то может подумать всерьез, что к божественным ликам Христа, Магомета, Брамы, Будды и так далее присоединится еще и пророк Луначарский или Богданов? «Богостроители» никакого бога не строят, а вот Ленин строит богостроителей.
— Так говорили и когда Владимир Ильич боролся с «экономистами», — сухо отозвался Дубровинский. — Прокопович, а в особенности мадам Кускова тогда распиналась, что ее заметки, которым Ленин дал меткое название «Кредо», совсем не носили программного характера и что «экономизма» как самостоятельного течения политической мысли нет. Его, дескать, выдумал Ленин. Но ведь был же «экономизм», теперь всем это ясно! И не получил он губительного распространения, тормозящего развитие революционных сил, именно потому, что эту опасность вовремя заметил Ленин и разгромил идейно.
— Это другое, — возразил Шанцер. — «Экономизм» действительно был. И борьба с ним была правильной.
— Так вы теперь говорите, Виргилий Леонович. Так вы, надеюсь, когда-нибудь скажете и об отзовизме и богостроительстве. Смею думать, что вы и сейчас всерьез не считаете, будто мы в Луначарском, Базарове, Богданове и так далее видим «пророков» и основателей новой религии с возведением этих товарищей в ранг верховного существа. Как это будет звучать? Христиане, магометане, буддисты, луначаристы, богданиане… Не надо играть красивыми словами. Богостроители бога не строят, они строят равнозначную замену ему для затемнения малопросвещенных умов. Чем это лучше? — Дубровинский говорил уже с легким раздражением. — А что касается вытеснения «божественных отзовистов» в особую фракцию, чего вам и Богданову хочется, то — помните слова Александра Александровича? — «действительные большевики» этого не допустят. Только не те большевики, которые видятся ему. Вам хочется раскола вплоть до создания не только особой фракции, но, может быть, и особой партии, а мы полагаем, что ныне откололась, именно откололась, только маленькая частица нашего руководящего центра. И это еще теснее сплотит всех большевиков на местах. Невыносимо, когда из одного центра ведется пропаганда двух, взаимоисключающих направлений.
Они замолчали, вслушиваясь в веселые шумы вечернего Парижа. Какого-то господина в блестящем черном цилиндре с тросточкой на полусогнутой руке Дубровинский нечаянно задел локтем, но, прежде чем сообразил, что все же надо извиниться, господин первым галантно произнес: «Пардон, месье!» — притронулся к цилиндру и проследовал дальше. Шанцер проводил его улыбчивым взглядом: вот она — настоящая Франция!
— Не зарекаюсь, Иосиф Федорович, — первым заговорил он, — не зарекаюсь. Я не телеграфный столб, и если кто-то мне в конце концов докажет — вы, Ленин, жизнь, — что я заблуждался, что борьба с отзовизмом и богостроительством так, как она сейчас ведется, была единственно правильной, — принесу публичное покаяние. Всегда восхищаюсь работой мысли Ленина, его удивительным умением продираться сквозь цепкие заросли всяческих внутрипартийных дрязг и склок и выходить на чистую, открытую дорогу. Но пока я все же с Александром Александровичем. Разделяю его политические взгляды и его политическую борьбу. Однако сам себя не отчисляю из Большевистского Центра и буду выполнять ту работу, которую мне поручат.
— Имея иные политические взгляды?
— Да. В рамках партийной законности и действуя открыто, не заговорщически. — Он оживился. — Слушайте, Иосиф Федорович, а сами вы разве не поступали так?
— Мое примиренчество — вечный укор моей совести, — сказал Дубровинский. — И я никогда не оправдывал и не буду оправдывать его тем, что втянут был в него заговорщиками.
— А вы уверены в том, что все из тех, кто поддерживает на совещании, по вашему мнению, правильную линию, так никогда от нее и не отдалятся? Способны вы это разглядеть сквозь даль грядущего времени? Опираясь на мистику. Так сказать, по предчувствию. Или… без мистики, постичь холодным анализом? — Он сунул руку Дубровинскому. Тот непроизвольно пожал ее. — Прощайте! До завтра! Мне — на эту улицу.
Дубровинскому вспомнилась прочитанная еще в юности повесть какого-то норвежского писателя из жизни викингов. Там некий мудрый старик был наделен даром ясновидения, он различал над головами своих друзей и врагов ангелов смерти за несколько дней до того, как смерть забирала этих людей в свое лоно. Вопросы Шанцера обожгли, словно огнем. Мистика. Предчувствия. Холодный анализ…
Он зажмурил глаза. Да, Шанцер, конечно, одумается. Но ему вдруг представилось, что над головами Зиновьева, Каменева и Рыкова трепещутся какие-то неясные тени. Голоса их слышны точно бы в сопровождении очень тихого, двоящего звуки эха, издалека возвращающего совсем в иной окраске произнесенные сейчас слова. Вспомнилось, как четко они объявляют свои позиции и как неуверенно, путаясь, их защищают.
Житомирский писал доклад Андрееву и чертыхался. Он знал, что Гартинг в его реляциях, по существу, лишь заменял подпись и адресовку, почти не затрагивая текста самого сообщения, и в таком виде, от своего уже имени, пересылал высшему начальству. И это было знаком доверия и к точности работы агента, и к безупречности его стилистической манеры. Гартинг был ленив и сибарит, но и умен притом же. Этого у него не отнимешь. При необходимости он мог бы и сам сочинить доклад с не меньшим блеском. Андреев корову пишет через «ять», и тонкости мышления у него нет совершенно, идет по паркету, а стучит каблуками, словно по булыжному камню. Его, Житомирского, донесения перепластывает по-своему, теряя начисто все их изящество, и даже бесспорные факты приспосабливает к собственным недалеким рассуждениям, а потом колючие замечания по этому поводу, сделанные из Петербурга, тычет в нос ему. Вот взять бы и наворочать в духе филерских проследок: «Сего числа…» А из этого делайте сами выводы, ва-ше бла-гор-родие, черт вас побери!
Но пока что приходится кормить свинью апельсинами. Андреев болван болваном, а напиши ему не так, как Гартингу, сразу заметит разницу.
Он с обычной своей обстоятельностью изложил весь ход только что закончившегося совещания, между тем думая: «Черт, зря торопит этот оболтус! Надо бы с большего отдаления ко всему присмотреться». И стал мысленно, сам для себя, проверять некоторые выводы.
Вместо поначалу предложенной недели заседали десять дней. Это почти съезд. А участников после ухода Богданова и за минусом секретарей, ведущих только протоколы, всего лишь одиннадцать. Стало быть, разговор очень глубокий. Он будет иметь важные последствия.
Прошли все ленинские резолюции. Писали и докладывали разные люди, но всех их объединяла мысль Ленина. «Двоецентрию в одном центре» нанесен серьезный удар, большевизм очищается от наносов всяческого мусора. Конечно, Богданов не сложит оружия, каприйскую школу закрывать он не собирается, а коль скоро страницы «Пролетария» для его выступлений окажутся недоступны, постарается создать свою новую групповую газетку. Ей как будто бы и название уже придумано — «Вперед». С дерзким вызовом Ленину. Потому что именно так называлась основанная им в 1905 году весьма влиятельная газета.
Зиновьев и Каменев очень настаивали, чтобы органом ЦК РСДРП стала «Правда», выходящая в Вене. Она полностью в руках Троцкого. А Рыков вместе с Каменевым и Томским вообще предлагают прекратить издание «Пролетария». Это не прошло, «Пролетарий» остался. Но кто же в его редакции, кроме Ленина, при таком раскладе сил? Зиновьев, Каменев, Шанцер! Вряд ли легкие дни ожидают там Ленина.
Об отношении фракции к думской деятельности спорили долго и много. Но эти споры, в общем, касались только практической стороны дела, потому что в принципе отзовизм и ультиматизм были и до этого осуждены. Наряду с нелегальной работой большевикам важно сохранить и легальные возможности. В первую голову использовать думскую трибуну. Это, пожалуй, одна из главных побед Ленина на совещании. Ротмистру Андрееву этого не понять, ему хочется, чтобы большевики поглубже забирались в подполье, а охранка в роли кота будет там ловить их, как мышей. А ты вот поймай нас на думской трибуне! Незаметно для себя Житомирский перешел на точку зрения «Отцова», того своего второго естества, в котором он принадлежал к большевистской фракции.
Внесены изменения и в структуру руководства Большевистского Центра. Образована исполнительная комиссия из редакции «Пролетария» и членов пленума БЦ, входящих в хозяйственную комиссию. По теперешнему раскладу, это Ленин, Зиновьев, Каменев, Шанцер, Таратута и — гм! гм! — Любимов. Он же, этот Любимов — «Марк», с Таратутой и Крупской образовал хозяйственную комиссию. А товарищ Отцов в ней, выходит, свое отслужил. Выставлен, правда, по единственному соображению — сокращение численности. Образован и секретариат по сношениям с Россией: Крупская и тот же — гм! гм! — Любимов.
А вот Русский большевистский центр из трех человек, живущих в России, — главный маховичок у машины, коей работать по-настоящему, и работать под пристальным оком полиции, в предвкушении тюрьмы, ссылки и каторги, а при некотором повороте событий и под угрозой «столыпинского галстука», — эта «тройка» еще не очень ясна. Бесспорно, Гольденберг, вероятно, Ногин и… и… Не так густо с людьми, членами БЦ, в России. Очень рвется туда Дубровинский, ему заграница — кость в горле, но Ленин явно его бережет.
И правильно. Как и в прошлый раз, сядет в тюрьму он там непременно, даже без новых придирок, — не закончен срок ссылки, и к этому еще очень задевший самолюбие властей побег из Сольвычегодска. А здоровье его совсем-совсем не блестяще. Жаль человека!
Житомирский вслух опять чертыхнулся. Вспомнилось коленце, выкинутое Андреевым.
Сразу же по окончании совещания Дубровинский перебрался на квартиру к Котляренко. Сказал: «Яков Абрамович, вас я очень стесняю, а у Дмитрия Михайловича квартира попросторнее, есть совсем отдельная комнатка. Притом на меня теперь возложена брошюрная комиссия, все издательское дело — толчея начнется ужасная, типографской краской стены насквозь провоняют. А Котляренко привык, он ведь заведует экспедицией „Пролетария“». Разубеждать Дубровинского, если он что-то твердо задумал, все равно что с гипсовой статуей разговаривать. Но переехал на новую квартиру и тут же исчез. Куда — загадка. Даже Котляренко не знает. Подождать бы, разведать как следует. Так нет, Андрееву втемяшились давние слова Дубровинского: «Убить эту женщину!» Он решил, что Инок кинулся в Петербург сводить свои счеты с «Люсей». И отбарабанил в департамент полиции телеграмму. А Инок-то оказался в Берлине. Зачем? Очень возможно, по секретному поручению Ленина. А кстати, побывал и у тамошних врачей. Раны на ногах ему все еще душевного покоя не дают. Что там было и было ли, никому по-настоящему неведомо, но берлинский агент с бухты-барахты сообщил в Париж: «Иннокентий покончил с собой, отравился». И снова Андреев шарахнул в Питер срочное донесение: «Видный член ЦК…» А Дубровинский вернулся жив-живехонек. И не похоже, чтобы он вообще принимал какой-нибудь яд. Так вместо того, чтобы признаться перед начальством честно, что все эти сообщения о Дубровинском принесла сорока на хвосте, Андреев затребовал строгие объяснения не с кого-нибудь, а с него же, с Житомирского… ч-черт!
Но, между прочим, что Иосиф Федорович перешел на другую квартиру, даже и хорошо. В этой обстановке чего-нибудь особенного от него не вытянешь, а с туберкулезным больным, хотя и прекраснейшим человеком, жить в одной комнате долго не очень заманчиво. Врачу, понимающему это, тем более.
Он поставил точку в конце своего доклада и подписался агентурной кличкой «Жак».
А сам подумал, что если этого балбеса Андреева в скором времени не заменят другим человеком, толковым и вызывающим к себе его, Житомирского, симпатию, он, пожалуй, предпочтет навестить Бурцева и добровольно раскрыть ему кое-что из «парижских тайн», захватывающих не менее, чем в знаменитом романе Эжена Сю.
Сколь ни добросердечны и ни гуманистичны большевики, но провокаторов и они бешено не любят. И неизвестно, как может обернуться дело в случае его, Житомирского — «Отцова», провала у них. А при кретине Андрееве провалиться дважды два — четыре.
14
На звонок Дубровинского дверь открыл сам Ленин. Он слегка попятился, полагая, что вернулась с покупками Елизавета Васильевна, а тут оказался хотя и «свой», но все-таки «чужой» человек и захватил его врасплох в рубашке с расстегнутым воротом. Не меньше, пожалуй, был озадачен и Дубровинский. Он никак не ожидал, что застанет семейство Ленина еще за распаковкой дорожных вещей, и тоже попятился, бормоча извинения. Дескать, на неделе он снова зайдет, ему хотелось…
Ленин не дал ему договорить, втащил за руку через порог, и расхохотался.
— Да входите же, входите! У вас такое испуганное лицо, будто вы по ошибке попали не в обиталище обыкновенных людей, а в клетку с тигром. Если вас шокирует мой вид, я моментально могу преобразиться в респектабельного хозяина квартиры, как того требует уважение к гостю.
— Но незваный гость, как известно…
— Те-те-те! — остановил его Ленин. — Ужасно не люблю эту поговорку. При всей ее хлесткости и исторической справедливости в наше время она оскорбительна. И к тому же вы гость званый. — Он крикнул через плечо: — Надюша! Маняша, сестрица! — И когда те появились из двери, ведущей в дальнюю комнату, вытолкнул им навстречу Дубровинского: — Полюбуйтесь! Инок отпирается, что мы его не приглашали быть нашим гостем в Бомбоне. Каково?
Мария Ильинична, тоже одетая совсем по-домашнему, охнула и потянулась поправлять прическу на затылке. Крупская, держа в руках багажные ремни, переводила взгляд с Дубровинского на Владимира Ильича и пробовала угадать, кого же из них ей надо поддерживать. И решила по-своему:
— Иосиф Федорович, развяжите, пожалуйста, узел, который вы сами завязывали, — проговорила она и повела за собой. — Я сейчас не здороваюсь с вами, потому что вы помогали нам упаковывать вещи при отъезде в Бомбон и потом как-то неожиданно исчезли, мы с вами не попрощались. Стало быть, можно считать, что тот день как бы все еще продолжается, и вы как бы еще не ушли, и на вашей обязанности лежит не только завязывать, но и развязывать узлы. — Крупская показала ему на увесистую пачку книг: — Вот это ваша работа, Иосиф Федорович?
— Похоже, моя, — подтвердил Дубровинский, развязывая узел. — И, значит, либо это искусная подделка, либо вы совсем не читали в Бомбоне книги.
— Эти, увы, не читали, — сокрушенно призналась Крупская. — Но не подумайте, что мы там за месяц полностью одичали и забыли все, чему нас выучили в гимназии. Наоборот, мы с Маняшей очень много читали. И знаете что? Только французские книги, чтобы хорошенько разбираться во всех прелестях языка. Познакомились с учителем тамошней школы, обаятельнейшим стариком, похожим на Виктора Гюго, и страстным любителем родной литературы. Он проверял наши способности постигать тончайшие оттенки образной французской речи. Ну, Володя, разумеется, тоже много читал. Только на этот раз, как и всегда, главным образом рукописи, корректуры и письма.
— Словом, то, без чего отдых для него был бы неполным, — вставила Мария Ильинична.
— Маняша, у меня напрашивается желание продолжить твою мысль словами: «также неполным был бы и без хорошего, вкусного обеда, а вечером — прекрасной деревенской простокваши». Которую, кстати, я приучил тебя и готовить и есть. И которая, между прочим, наряду с высочайшими целебными свойствами имеет свои тончайшие вкусовые оттенки, в зависимости от того, как и кем она приготовлена, — сказал Ленин, с боку на бок переворачивая связку книг и вглядываясь в их корешки.
— Можно подумать, Володя, что ты расхваливаешь свои таланты, — заметила Крупская, — если бы я не видела сама, как ты был удивлен, когда заквашенное тобою молоко почему-то прокисло, а не свернулось, не стало достаточно плотным.
— Во-первых, Надюша, в качестве образца высшего мастерства я имел в виду Елизавету Васильевну, затем тебя, Маняша никуда не годится, затем финскую молочницу — помнишь, в Куоккала? А во-вторых, теоретику абсолютно необходима и практика, — отпарировал Ленин, все еще что-то выискивая в связке книг. — Вы как полагаете, Иосиф Федорович?
— Вспоминаю, как мы с вами воду возили на даче у Лидии Михайловны Книпович, — сказал Дубровинский. — И спорили теоретически, до какого уровня надо наполнять бочку, чтобы при толчках на неровностях дороги вода не выплескивалась.
— Да, да, да! — обрадовался Ленин. — А какой-то мальчишка нам объяснил, что надо просто не забывать класть в кадушку плавающий деревянный кружок, о чем нас не догадалась предупредить Лидия Михайловна!
— Но что же мы толчемся на ногах, точно в ожидании поезда? — сказала Крупская. И толкнула носком ботинка круглую картонную коробку в угол комнаты. Показала на стулья. — Прошу всех, садитесь!
— Надежда Константиновна, — умоляюще проговорил Дубровинский, — разрешите мне уйти. Я ворвался так некстати и даже не успел объяснить Владимиру Ильичу, как это произошло. Но меня сбил с толку Зиновьев. Он приехал из Аркашона еще на прошлой неделе и заверил меня, что вслед за ним и вы должны вернуться в Париж. И я полагал, что…
Ленин наконец отыскал то, что ему было нужно. Щелкнул пальцем по корешку книги и передал связку Дубровинскому.
— А ну, развяжите-ка еще свой узелок, батенька, — попросил он. — Резать бечевку не хочется: она может пригодиться. Кто вас обучал этому искусству — так завязывать узлы? Вам бы служить матросом на парусном корабле! — Заставил Дубровинского сесть. — Вы полагали, дорогой Инок, что после долгого безделья в Бомбоне мы забыли, как ходить по парижским улицам, и оттого, возвратясь, нос никому не показываем. Похвальная проницательность! А Григорий Евсеевич давно замечен на такой своей особенности: очень любит высказываться от имени других. И не всегда попадая в точку. Развязали? Браво! Спасибо! Меня интересует томик Чернышевского.
— Все-таки я чувствую себя очень неловко, особенно перед Надеждой Константиновной и Марией Ильиничной, — сказал Дубровинский, вручая Ленину книгу. — Им надо с дороги и переодеться и отдохнуть. Мария Ильинична после операции…
— Если бы вы, Иосиф Федорович, поехали с нами в Бомбон, вам пришлось бы видеть нас постоянно в этаком виде, — возразила Крупская. — Да и в Стирсуддене, у Лидии Михайловны, на женщинах наряды не были роскошнее. Не говорю о «водовозных клячах». Быстро вы стали парижским модником, месье!
— И доколе будут мне напоминать об операции! — воскликнула Мария Ильинична. — Да вы знаете, Иосиф Федорович, что в последние дни там, на бомбонской прелестной природе, я свободно вышагивала пешком по шесть-семь верст и прекрасно себя чувствовала.
— Надо при этом добавлять, Маняша, что все это благодаря гению Дюбуше, который делал тебе операцию, — вмешался Ленин. — Иначе наш Инок может насплетничать профессору, что мы не оценили его таланта в должной мере. А теперь я жду отчета, как вы, Иосиф Федорович, оцениваете талант Дюбуше? Потому что не только наши врачи оказались «ослами», но и берлинские тоже. А сейчас покажите ваши ноги! Предчувствую, они лучше, нежели были до этих проклятых кандалов.
— Готов показать, — согласился Дубровинский. — Но это могло бы обидеть месье Дюбуше. Потому что его имя, его репутация не могут подвергаться сомнению. Он действительно сделал чудо. И оно свершилось бы значительно раньше, так он сказал, если бы у меня не было нервов. Впрочем, почти то же самое говорили и Лаушер и берлинские врачи.
— Стало быть, беда вас постигла несколько преждевременно. Поживете еще в Париже, и нервы у вас здешняя публика начисто вытянет, — пообещал Ленин. — Вот тогда никакие болезни вам не будут страшны!
Он перелистывал том Чернышевского, бегло водя пальцем по страницам, а сам весело хохотал и с лукавой искоркой в глазах подмигивал Дубровинскому, все еще немного обескураженному своим не ко времени появлением. Мария Ильинична, сделав умоляющий жест рукой: пожалуйста, не обращайте внимания, — тихонечко наводила порядок в комнате. Надежда Константиновна извлекла из маленькой плоской шкатулки несколько фотографических снимков и принялась их комментировать:
— В Бомбоне сыскался, право, совсем недурной фотограф. Вот поглядите, Иосиф Федорович, мы тут вчетвером, в его павильоне. А он все время волновался и восклицал: «Мадам, месье, прошу сидеть спокойно и не улыбаться!» Он очень боялся, что снимок тогда получится неотчетливый, и, кроме того, был убежден, что смеяться можно везде и сколько угодно, только не на фотографической карточке — это неприлично для таких солидных господ. А это — отдельно: Володя, мама, Маняша, ну и, конечно, я. Володя нашел секрет, как быть серьезным: когда фотограф прячется под черное покрывало и наводит на резкость перевернутое вверх ногами изображение своего клиента, нужно со своего места сквозь объектив пытаться разглядеть, в каком положении в этот момент находится сам фотограф. Не перевернулся ли и он вверх ногами.
— Тогда получается необыкновенно умное и сосредоточенное выражение лица, — добавил Ленин. — Фотограф, вручая мне отпечатанные снимки, даже спросил: «Месье, не собираетесь ли вы покупать акции алжирской компании? Рискованно!» Я ответил, что да, хочу начисто разорить эту компанию. И он сказал: «О!»
— А мама, как видите, задумалась, что выгоднее: пользоваться всем нам полным пансионом у мадам Лекре за десять франков в день или пять франков отдельно платить ей только за обед, а завтракать и ужинать на остальные. У нее же, конечно, — продолжала свои комментарии Крупская.
— Фотограф спросил… — поблескивая веселыми глазами, начал Ленин.
— Он ничего не спросил, Володя, он просто посочувствовал: «Мадам, я все понимаю». А вот почему у Маняши так выпячены губы, пусть она сама объяснит.
— Мне хотелось показать фотографу язык, — призналась Мария Ильинична, — такое было озорное настроение. Он то и дело называл меня девочкой. Я поправляла: «Мадемуазель». Он говорил: «Пардон, мадемуазель» — и тут же снова повторял: «Девочка».
— Что же сказать мне о самой себе? — Крупская и так и этак поворачивала карточку.
— Фотограф спросил… — проговорил Ленин.
— И опять он ничего не спросил, Володя. Это я его спросила: «Месье, это ваша тетя? Почему вы доверяете мне ее снимок?» Он галантно поцеловал мне ручку и сказал: «Мон ами! Моя дорогая тетя, вот уши вашего племянника, наказывайте и разрешите вас переснять». И я не могла огорчить его, заверила, что пошутила, что получилось все прекрасно, что это будет самым лучшим воспоминанием о Бомбоне. — Она вздохнула: — И пересолила. Фотограф так растрогался, что отказался за этот снимок взять с нас плату.
— Надюша, ну, а на велосипедах снимок получился действительно прелестный, — заметил Ленин и вложил закладку в томик Чернышевского. — Жаль, что маэстро никак не согласился поехать с нами в Шампо и запечатлеть нас на фоне крепостной стены и прочих древностей, к коим вообще-то я не имею особого пристрастия, но, памятуя о составляющем их труде и об искусстве, всегда возвышающих человечество, мне порой хочется этим древностям поклониться до земли. Я понимаю, — не оправдываю, разумеется! — понимаю вандалов, которые взрывали, предавали огню, дотла разрушали враждебные им города. Для них не существовало ни красоты труда, ни красоты легенды, фантазии, ни прошлого, ни настоящего, что принадлежало другим; история для них начиналась только с них самих, настоящее заключалось в уничтожении прошлого, а будущее предоставлялось заботам потомков. Но скажите, — мы видели это в Шампо, — как это назвать: крестьяне потихоньку разобрали одну из частиц полуразрушенной крепостной стены и камни пустили в дело — построили загон для поросят. Надюша поинтересовалась у крестьянина, что было бы с поросятами, если бы не существовало этой старинной крепости? Тот лишь пожал плечами: глупый вопрос! Нашли бы для постройки другие камни. Тогда вмешался я: «Когда ломают старую рухлядь и создают взамен что-либо более прекрасное, новое — это хорошо…» Крестьянин смекнул и не дал мне закончить: «Ах, месье, жареный поросенок — это так хорошо, а я и даже мой дед никогда не были владельцами этого замка!» Попробуйте легко опровергнуть такую логику и поставить этих крестьян хотя бы в самый далекий ряд с бессмысленными разрушителями древней культуры.
— Бланди-ле-Тур просто превосходен, — сказала Крупская. — Эти феодальные руины так естественно вписываются в окружающий пейзаж, что глаз не оторвешь. Ляжешь на травку под деревом, трепещет, шумит листва, небо кажется сперва высоким-высоким и бездонно глубоким, а потом ты словно бы и сам уносишься в эту голубую высь и плаваешь там среди облаков. Все земные заботы прочь от тебя отлетают. Эх, Иосиф Федорович, ну, право, так жаль, что не смогли вы с нами поехать! Конечно, лечение под наблюдением Дюбуше необходимо, но побыть на природе — это ведь тоже лечение.
— Да у меня и другие причины были, Надежда Константиновна, — как-то вскользь бросил Дубровинский. И с большей заинтересованностью обратился к Ленину: — А что вы искали у Чернышевского, Владимир Ильич?
— Так, одна озорная история вспомнилась из моих давних перепалок с Плехановым. Еще в Стокгольме.
— Что-нибудь по поводу его тогдашнего политического балагана?
— Да, он пожонглировал словами «народное творчество» и «народовольчество», перекидывая легко эти понятия от действительно революционного крестьянства к эсеровским кликушам, а я ответил ему цитатой из Чернышевского по памяти. Насчет «Чхи! чхи!.. Чичикова». И все проверить было недосуг. А тут недавно Георгий Валентинович мне напомнил. Уже не с обидой, поскольку лед тронулся и Плеханов сам протягивает нам руку. Но ведь, право же, ловко высмеивает этаких жонглеров Чернышевский. Хотите, прочитаю?
— Это, наверно, насчет манеры Сенковского, барона Брамбеуса? — полувопросительно сказала Мария Ильинична. — Ох, прочитай, Володя!
— «Искусство критики его, — начал Ленин, раскрывая том Чернышевского, — состоит обыкновенно в том, чтобы ловить неправильные фразы в разбираемой книге и потом повторять их несколько раз; если заглавие книги не совсем удачно, то посмеяться и над заглавием; если же можно, то подобрать какие-нибудь подобнозвучные, или подобнозначащие, слова заглавию или фамилии автора и повторяя их несколько раз, перемешивать, например, „Московского Наблюдателя“ называть то „Московским Надзирателем“, то „Московским Соглядатаем“, то „Московским Подзирателем“». — Ленин поднял голову: — Совершенно по-плехановски! «…По этому очень незамысловатому рецепту остроумный разбор „Мертвых душ“ мог бы быть написан следующим образом. Выписав заглавие „Похождения Чичикова, или Мертвые души“, начинать прямо так: „Прохлаждения чхи! чхи! кова“ — не подумайте, читатель, что я чихнул, я только произношу вам заглавие новой поэмы господина Гоголя, который пишет так, что его может понять только один Гоголь… Я отдохнул и продолжаю: Чхи… Это грузинец: у грузинцев ни одна фамилия не обходится без чхи! чхи!.. Итак, „Преграждения Чичикова, или Мертвые туши“… Не знаем, о тушинцах ли, соседях грузин, говорит автор, или о тушинском воре, или о бурой корове, или о своих любимых животных, которых так часто описывает с достойным их искусством…»
Ленин расхохотался. И все тоже не смогли удержаться. Бывало действительно у Плеханова в его филиппиках иногда нечто весьма похожее. А Владимир Ильич к тому же очень удачно подражал его интонациям.
— Чернышевский заканчивает так: «Лет двадцать тому назад находились читатели, которым это казалось остроумием», — Ленин захлопнул книгу. — Превосходно сказано! Да вот штука, Николай Гаврилович не оказался точным: не только двадцать лет тому назад, но и по сие время многие читатели такую критику находят верхом остроумия. Почему мне и вспомнилась та давняя перепалка с Георгием Валентиновичем. О ней с сочувствием тогдашнему Плеханову в Бомбон прислал мне письмо один из слушателей каприйской школы.
— Все становится на свои места, — сказал Дубровинский. — Из этой «школы» мы будем получать еще и не такие письма.
— Такие такие и такие не такие, — Ленин вновь расхохотался. — Вот и я заговорил на плехановский лад, каламбурами. А действительно, с Капри многие от Богданова, Алексинского и компании собираются удирать. Раскусили. И поэтому нам надо где-нибудь под Парижем, например, у Лонжюмо, создать свою, большевистскую школу. Только так! — Он искоса взглянул на Марию Ильиничну. — Маняша, а ты что вдруг нос повесила?
— Кольнуло в бок, — призналась она. И испугалась: — Да нет, не там, где резали. Просто, бывает, в бок кольнет. Прошло уже!
Наступила короткая пауза. Крупская обняла Марию Ильиничну за плечи, притянула к себе.
— Маняша, Маняша! — проговорила она.
— В Россию, Мария Ильинична, не собираетесь? — спросил Дубровинский, помогая ей преодолеть смущение от неожиданного поворота разговора.
— Ну как же! Собираюсь! Недели через две, через три я непременно уеду. Экзамены сданы. Операция позади, — подчеркнула она. — Полная счастья жизнь впереди…
— И строгий брат Владимир сбоку, — наставительно сказал Ленин. — Неизвестно еще, как посмотрит он на твой отъезд. Очень возможно, что отправит снова в Бомбон. На деревенскую простоквашу.
— Если позволит кататься там на велосипеде — подумаю, — с шутливым притворством сказала Мария Ильинична. — Единственный предмет, по которому я не сдала экзамен.
— В твоем состоянии, Маняша, с велосипеда падать нельзя, что у тебя получается всегда превосходно, — заметила Крупская. — А ты, между прочим, уже в Бомбоне к нему прилаживалась.
— Обыкновенная черная зависть, — сказал Ленин. — Когда двое по целым дням носятся на велосипедах, а третий может в конце дня только пыль с них стирать, вот и зарождается это скверное чувство. Борись с ним, Маняша, борись и катайся пока на трамвае. Экзамен по велосипеду придется сдавать в будущем году.
— А если без шуток, Маняшу вообще-то я понимаю…
И Крупская вдохновенно стала расписывать, какая это прелесть — быстрая езда на велосипедах по узким дорожкам, пролегающим среди созревающих хлебных полей, от запаха которых слегка щекочет в горле. А еще лучше, пожалуй, когда разгоряченной ворвешься в тенистый лес и деревья, словно бы испугавшись, тебе открывают свободный проезд, даже там, где нет никаких тропинок. И с чем сравнить наслаждение, когда по отлогому берегу какой-нибудь маленькой речки подъедешь к самой воде, начнешь купаться! А велосипед послушно лежит на боку, поблескивая на солнце стальными спицами, и ждет тебя, чтобы вместе подняться и умчать еще дальше. Умное и доброе существо. Здесь, во Франции, как-то особенно он полюбился. В Швейцарии на прогулках велосипед только работал, молча, иногда даже сердито, будто требуя с тебя за каждый оборот своего колеса особую плату, а здесь велосипед — распахнутая душа, весельчак.
— Насколько я заметил, швейцарцы по сравнению с французами и сами скуповаты, — проговорил Дубровинский. — Мне в Давосе рассказывали прелестный анекдот. Когда господь бог закончил сотворение мира, у него в запасе осталась еще одна горсть всевозможных благ земных. Он бросил их вниз и угадал в то место, где ныне расположена Швейцария. И вот в наши уже времена он решил посмотреть, как живут на земле люди после изгнания из рая, когда в гневе сказано им было Адаму: «В поте лица своего будешь есть хлеб свой!» Обошел многие страны, убедился — действительно, не легко людям насущный хлеб достается. Добрался до Швейцарии. Присмотрел сельский дом какой побогаче. Вошел, назвался, спрашивает, довольны ли хозяева судьбой своей. «Да, господи, как быть нам недовольными? Леса прекрасные, земля плодоносная, в озерах рыбы полно, пастбища, каких нигде больше не сыщешь, и климат чудесный. Чего еще желать? В молитвах каждый день хвалу тебе воздаем». — «Сильны ли кони, много ли коровы молока дают?» — «И кони сильны, и молока много коровы дают. Вот отведайте», — наливают кружку густого, вкусного молока. «Не болеют ли дети, сами здоровы ли?» — «Все здоровы, воздух наш целебный, со всего света больные лечиться едут к нам». Растрогался бог, видит люди счастливы, словно по-прежнему в раю живут. Может быть, снять с них свое проклятие? Попрощался, благословил хозяев, пошел к двери. А хозяин бежит за ним: «Остановитесь, господи! Вы забыли один франк за молоко уплатить».
— Браво! — расхохотался Ленин. — Теперь я понимаю, почему в Швейцарии банкиров больше, чем булочников или зеленщиков. Не люблю Швейцарию эмигрантскую, Швейцарию банкирскую и ту, в которой даже с создателя мира берут один франк за стакан молока, — люблю Швейцарию обыкновенную, трудовую, что «в поте лица своего ест хлеб свой». И еще: прогулки в летние швейцарские горы мне очень нравятся. Не альпинист, но так и тянет взобраться на Монблан, на Юнгфрау. Где вы еще найдете такие горы!
— Не дразните, Владимир Ильич, — попросил Дубровинский, оглядывая свои сухие, длинные пальцы, — сами знаете, ходок я плохой, но посмотришь, как легко вы всегда шагаете, и самому вприпрыжку побежать хочется.
— И побегаете, дорогой Иосиф Федорович, еще как побегаете! Не любитель пустых добреньких слов, но ведь сила человеческая во многом и от самого человека зависит. Вы как думаете?
— Думаю… Когда бочка рассохнется и вода во все щели хлещет, первое, что надо хозяину сделать, — потуже стянуть обручи. Человек, пожалуй, в этом смысле напоминает бочку, отличаясь разве лишь тем, что обручи он сам на себя наколачивает. Герр Лаушер, например, это же утверждает. Но предвидит и такую картину: обручи наконец не выдерживают, лопаются и бочечные клепки враз разлетаются во все стороны.
В прихожей прозвонил звонок, и Крупская бросилась открывать дверь: «Мама! Она ключ забыла взять с собой». За нею устремилась и Мария Ильинична. Ленин поближе подсел к Дубровинскому, внимательно вгляделся в него.
— Иосиф Федорович, эти ваши слова… Они меня беспокоят. Не столько сами по себе, хотя они и очень спорны, сколько тем, что скрывается за ними. Усталость! Вам совершенно необходимо было как следует отдохнуть, а вы отказались. Почему?
— Помилуйте, Владимир Ильич! — возразил Дубровинский. — Да кто же, как не я, в Давосе больше месяца бездельничал! Пора и честь знать.
— Старого воробья на мякине вы не проведете. — Ленин отрицательно качнул головой, прислушиваясь к голосам в передней. — А, это Елизавета Васильевна. Они все, женщины наши, идут на кухню. Мы остаемся одни. Это не поможет вам, Иосиф Федорович, сказать откровеннее, что вас томит? В Давосе вы не долечились, наша война с Богдановым причинила вам новые раны, надо бы хотя чуточку после этого «на травке», как говорит Надюша, дух перевести. А вы остались в Париже, работали как вол. И дело не только в назначениях Дюбуше, привязавших вас к городу. У вас нет денег. Да?
Дубровинский молча разминал пальцы. Как ответить на этот вопрос? Нет ничего труднее, как произносить слово «деньги». И все тут гораздо сложнее, чем просто «нет денег». Нет — для какой надобности? И сколько их надо иметь, чтобы каждый день о них не думать? Голодная-то смерть не грозит! И с квартиры хозяйка не гонит. Ну, а в России, дома? Анна в письмах своих об этом умалчивает, но он давно научился читать ее письма и между строк. Да и не очень высокого класса нужна математика, чтобы здесь самому сделать необходимые расчеты.
— Вы наше партийное имущество, товарищ Иннокентий, — мягко заговорил Ленин, догадываясь, почему не отвечает Дубровинский, — и мы все должны заботиться о его сохранности. У нас в кассе достаточно денег, чтобы продолжать оказывать вам поддержку в лечении и…
— Владимир Ильич, об этом не может быть и речи, — тихо сказал Дубровинский, — ни одной копейки из партийной кассы больше я не возьму. Не могу. Ну… не могу! Мне это очень трудно объяснить…
— Не объясняйте, — остановил его Ленин, — я вас понимаю. Но как же быть? Ведь вам нужно и домой посылать деньги. Вероятно, немалые. А заработок ваш весьма и весьма скуден и, главное, случаен. И хотя вы «совершенно здоровы», но вы… больны! Давайте, Иосиф Федорович, сообща искать выход.
— Он есть. Искать работу. Работать, — повторил монотонно: — Искать работу. Работать.
— Н-да! — Ленин встал, заложил руки за спину. — Если бы я мог вам приказать! — И круто повернулся. — Но это не все, что вы говорите, Иосиф Федорович, не все! Вас что-то и еще томит. Но не вторгаюсь.
— Я получаю из дому письма, — после некоторого колебания сказал Дубровинский. — Хорошие письма. Наполненные тревогой и нежностью, заботой обо мне. О детях трогательно пишет Аня, о милой тете Саше, пишет о московской погоде. А больше, — он помедлил, — больше, пожалуй, ни о чем.
— То есть? — Ленин в недоумении приподнялся на носках. Затем легонько стукнул каблуками по паркету. — Анну Адольфовну перестала интересовать ваша партийная борьба?
— Нет, — пытаясь найти более точный ответ, Дубровинский несколько раз повторил это слово с разными оттенками в голосе. — Нет. Просто она сейчас со мной не согласна. Не вступая в спор, ни в чем меня не опровергая. Не согласна молча. И я не знаю, как разрушить такое молчание. Аня очень любит меня и письма пишет очень искренние, очень хорошие. Но мы с нею словно бы поменялись местами. Было время, я ошибался, теперь ошибается она.
— Время, — сказал Ленин и в раздумье снова несколько раз приподнялся на носках. — Очевидно, нужно дать поработать времени.
— Мне лучше бы находиться не здесь, а в России. И Ногина и Гольденберга то и дело там арестовывают, русская «пятерка» зачастую оказывается превращенной в единицу, а иногда и в ноль. А там ведь, именно там настоящая моя работа! — Он помолчал. — Там я все-таки мог бы видеться с детьми, с Анной. И время, о котором вы говорите, работало бы вместе с нами. Я верю: Анна поймет. Она честнейший человек.
— Да! Да, все это совершенно правильно, Иосиф Федорович, — понимающе сказал Ленин. — И для вас и для меня в России была бы самая настоящая работа, не в пример здешней бесконечной грызне и склоке, которая, между прочим, тем хороша, — да, да, тем хороша! — что открывает подлинные лица всех этих склочников и скрытых врагов делает видимыми. Но снова ехать в Россию вам, сбежавшему из ссылки, — чистое безумие. Вы вновь, как и Ногин, окажетесь за решеткой. И это не самый лучший способ — сквозь решетку — разговаривать с женой и детьми. Тем более вести партийную работу. А нам с вами предстоит здесь, допустим, где-нибудь в январе, добиться созыва пленума Центрального Комитета, на котором поставить ребром вопрос о перегруппировке в партии, о генеральном размежевании с ликвидаторами, — Ленин стиснул пальцы в кулак, — и прочнейшем сплочении всех подлинно партийных сил. Партия в опасности, Иосиф Федорович! В серьезной опасности. И тогда, когда ее стремятся растащить по кусочку, по фракциям, по группочкам, и тогда, когда хотят прилепить к ней что попало, всяческую мерзость. Вы мне сами пересылали в Бомбон письмо Троцкого…
— Он ухватился за предложение Зиновьева повести с ним переговоры насчет превращения «Правды» в орган Центрального Комитета и теперь уже сам жмет во всю силу, — подтвердил Дубровинский. — Мне гадко было читать его письмо.
— Прихлопнуть большевистского «Социал-демократа» и сделать венскую газетку Троцкого Центральным Органом партии! Какова подлость! Мы, дескать, вне фракционной борьбы, мы над нею. Знаем мы этих «нефракционеров»! Нет, Иосиф Федорович, нам с вами судьбой обречено бороться вместе. Пока что здесь! А относительно… — Голос Ленина снова стал мягче. — Словом, призовите время себе в союзники. Уверяю, все образуется…
Их позвала Надежда Константиновна:
— Володя! Иосиф Федорович! Идите сюда, посмотрите, какую прелесть принесла мама! Чем вы там заняты?
— Мы обсуждаем с Иноком, как нам провести совместный отдых будущей весной, — откликнулся Владимир Ильич. — Идемте, нельзя портить хорошее настроение женщинам!
И потащил Дубровинского за собой.
15
Весна вступала в Париж. Еще не та, сильная и бурлящая, подобная веселому карнавалу в природе, когда все меняется ежечасно, все осыпано цветами и светится, ликует, поет. Вступала весна пока еще не очень опытная. Она словно бы только пробовала, испытывала свои способности: то нацелится горячим солнечным лучом в окно, то коснется яркой зеленью нежных кустов сирени, то отзовется необычно ранним перекликом птиц.
И вот уже прокатились, промчались по Сене полые воды, затопив было изрядную часть Парижа. Вот и пообсохли совсем загородные лесные дороги, маня любителей дальних прогулок своим неповторимым ароматом перепревшей прошлогодней листвы. Установились ровные, теплые дни.
Ленин с утра, как только встал с постели и умылся, тотчас принялся чистить, протирать маслом велосипед Надежды Константиновны. Лично его велосипед в такой заботе не нуждался, был даже как следует не обкатанным, только из магазина. Оно и неладно бы: самому ездить на новенькой машине, а жене — на потрепанном драндулете. Да что поделаешь, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Взыскал с виконта по суду денежки! Наказал капиталиста! Собственных пришлось добавить всего несколько франков.
И, ловко орудуя щеточкой и маслеными тряпками, Владимир Ильич не без юмора мысленно восстановил картину аварии близ Жювизи, едва не стоившей ему жизни.
…Будто испуганный конь, шарахнувшийся в сторону черный автомобиль. Пронзительный визг тормозов… И тут же сильнейший толчок в заднее колесо велосипеда — ведь можно же, оказывается, успеть и соскочить с седла! — а потом на земле какая-то мешанина из лакированных трубок и тонких белых спиц… Растерянное, побледневшее лицо владельца автомобиля, прыгающая от страха нижняя губа: «Месье, месье, вы не убиты?» Болван! Не может отличить велосипед от человека! «Как видите, убит не я — убит мой лучший, верный друг». Автомобиль мгновенно исчезает. И если бы не благожелательная публика, успевшая запомнить приметы машины, пожалуй, и самому Шерлоку Холмсу не отыскать бы этого аристократа. Свидетели катастрофы, простой народ, расспрашивали совсем иначе: «Месье, вы не ушиблись?», «Не надо ли помочь?» А после: «Месье, это был хороший велосипед?», «Месье, вы в Жювизи наблюдали полеты аэропланов? Скажите, кто из авиаторов сегодня особенно отличился? Кто выше всех поднялся?»
Милые, добрые люди!
А зрелище было действительно великолепное. Захватывающее зрелище. Летательные аппараты, оставляя за собой широкую ленту голубого дыма, взмывали вверх с такой чудовищной быстротой, что уже через несколько минут становились похожими на стрекозу в небе. Удивительны ловкость и мужество авиаторов, остающихся наедине с воздушной стихией. А ведь совсем не просто потом и опуститься на землю! Ах, как пострадал этот бедный Лангле! С какой отчаянностью боролся он на виду у всех со своим вдруг закапризничавшим аппаратом! Но вышел-таки победителем, хотя унесли его с поля всего забинтованного, на носилках! Завидная смелость! Совершенно нелепыми представляются после этого всякие там наземные катастрофы, автомобильные, велосипедные. А впрочем…
А впрочем, никуда и от них не уйдешь. Вон Митя, брат, нынче зимой возле своего Серпухова ухитрился даже из саней вывалиться так, что нога и плечо в ключице оказались сломанными.
Перепугавшийся конь на земле ничуть не безопаснее заглохнувшего в воздухе мотора.
Из кухни доносились перезвон посуды, запах крепкого кофе. Выглянула Крупская.
— Володя, может быть, позавтракаем? Все уже на столе.
Рядом с нею появилась Елизавета Васильевна. Приглашающе поманила рукой. И стиснула ладонями голову. Уже несколько дней мучилась она мигренью.
Ленин посмотрел на нее сочувственно. Вытер тряпицей испачканные, промасленные руки. Прислонил велосипед к стене, окинул критическим взглядом.
— Да, Надюша, да! У меня тоже все готово. Но, знаешь, если бы его в мастерской сумели покрыть свежим лачком…
— Он и так совершенно как новый!
— Да, но все-таки…
Он с удовольствием поплескался под умывальником, намыливая руки несколько раз до самого локтя и медленно сгоняя пушистую пену в таз с водой. Плескался и рассказывал попутно, какие мелкие изъяны удалось ему обнаружить при чистке велосипеда и каким образом он их устранил.
— А не прокатиться ли нам сегодня перед обедом, Надюша? В лесу сейчас прелесть как хорошо! Жаль, не сможет поехать с нами Елизавета Васильевна. На свежем воздухе она сразу бы порозовела.
— Мама совсем изнемогла от этой головной боли, — сказала Крупская. — И действительно, хорошо бы поехать ей с нами. Только как?
— Представляю себя на велосипеде! — усмехнулась Елизавета Васильевна, разливая кофе по чашкам. — Нет, мои милые, я уж просто полежу у раскрытого окна. А вы мне привезите из лесу какой-нибудь весенний цветочек.
— Привезем! — пообещала Крупская. И спохватилась: — Да, Володя, но ты сегодня, кажется, опять собирался работать в библиотеке?
— Библиотека подождет! — заявил Владимир Ильич, усаживаясь за стол и принимая от Елизаветы Васильевны приготовленный ею бутерброд с печеночным паштетом. — После хорошей прогулки по лесу я все наверстаю. Единственное, что я абсолютно обязан сделать сегодня, — это написать и отправить домой письмо. Иначе почта не успеет доставить его к маминому торжественному дню.
— Тогда я переоденусь, — обрадованно сказала Крупская. — И выедем сразу же! А пока я буду собираться, тем временем ты, Володя, успеешь написать письмо.
Но уехать им не удалось. Пришел Зиновьев. Хмурый, озабоченный, ероша под бобрик подстриженные волосы, каким-то далеким голосом он поздоровался и попросил чашку кофе. Выпил залпом, стоя. Показал немым жестом на дверь комнаты, в которой обычно Ленин работал и где по недостатку другого места стояли две железные койки — его и Надежды Константиновны.
Обычно все разговоры велись тут же, на кухне, в общем кругу. Жест Зиновьева означал, что сейчас ему хотелось бы перемолвиться наедине.
Ленин помешкал немного, сожалительно посмотрел на готовые к поездке велосипеды и пригласил Зиновьева войти в соседнюю комнату.
Они присели к некрашеному столу, заваленному рукописями, стопами книг. Ленин подвинул в сторону будильник, звонко отщелкивающий свои доли минут. Зиновьев ворошил волосы, нервно покусывал губы.
— У меня, Владимир Ильич, из головы нейдет вчерашняя наша баталия, — признался он, ладонями хлопнув себя по коленям. — А когда несколько отдаляешься от самого события, многое становится виднее.
— Так, — сказал Ленин, слегка наклоняясь вперед и приготовившись слушать Зиновьева. В памяти всплыло вчерашнее заседание Заграничного бюро ЦК, на котором с особой остротой говорилось о новой волне примиренческих настроений по отношению к ликвидаторам, — духота прокуренного помещения, чего он не любил больше всего на свете, визгливые вскрики, перебранки, галдеж несогласия. — Что же именно из «некоторого отдаления» вам стало виднее, Григорий Евсеевич? Вернее, что вам с близкого расстояния не удалось разглядеть?
— То, что мы с вами поставили на одну доску всех, кто в любой, даже весьма определенной форме высказывал свои колебания по отношению к ликвидаторству.
— Гм! Гм!.. «С вами…» Это определение сейчас в вашей интонации звучит, как взятое из словаря заговорщиков. А мы вчера доказывали истину не в заговоре с вами, а как убежденные — каждый, каждый! — в своей правоте большевики. Во всяком случае, так выступал я. И был удовлетворен, что вы наряду со мной отстаиваете нашу, большевистскую точку зрения. Теперь вас по обыкновению начинают томить сомнения. Расскажите, кто, по-вашему, вопреки истине оказался «поставленным на одну доску»? И с кем?
— Ну, хотя бы… Любимов и польские представители. Я встретил сегодня Марка. Он этим угнетен. Единственный наш, от большевиков, представитель в Заграничном бюро, член ЦК…
— Так, — Ленин выпрямился. — Так, разница и в самом деле была: польские представители ломили напрямую, а Марк вертелся. Но судить должно всегда по результатам, а не по поведению в какой-то отдельный момент. Тем более что ломить напрямую — куда благороднее, чем вилять хвостом.
— Марк, безусловно, как вы говорите, «вертелся», я с этим согласен, Владимир Ильич. Но ведь именно это и помешало понять его позицию. А она была не совсем уж плохой. Даже совсем не плохой.
— Отвратительной! — воскликнул Ленин. И вскочил. — Отвратительной! Разве вам не ясно, Григорий Евсеевич, что он, всячески извиваясь и маскируя свою подлинную точку зрения, тем не менее тянул на сторону Горева, «Игоря», — этого меньшевика, разрушителя партии, к несчастью, на пленуме избранного в ЗБЦК, — он защищал его так, как вы сейчас защищаете Марка! Да, да, точно так, как вы сейчас защищаете! Марк — ликвидатор. И это отлично видится с любого расстояния, близкого и далекого. А то, что он наш, и ныне единственный, представитель, — это особенно скверно!
— Владимир Ильич, я повторяю, Марка я встретил сегодня, с ним разговаривал. Он угнетен вашей вчерашней беспощадностью. — Зиновьев прикладывал руки к груди, смотрел на Ленина осуждающе. — Вопросы партийного объединения — вопросы очень тонкого свойства. Тут непременно следует принимать в расчет психологические всплески каждого отдельного человека в каждый отдельный момент.
— Если принимать в расчет «всплески» каждого, в партии окажется столько фракций, сколько в ней числится членов партии, — язвительно проговорил Ленин. — Да, да, ровно столько, потому что личность человеческая сугубо индивидуальна. Каждый человек в мире — неповторимое явление. И я счел бы величайшей бедой для себя состоять членом такой партии, которая отвергала бы это. Но, дорогой Григорий Евсеевич, партии для того и создаются, чтобы совершенно несхожим между собой по характерам людям решать сообща жизненно важные для всех них — для всего трудового народа! — задачи. В каждый отдельный момент независимо от «психологических всплесков» каждого! Марк же вчера, а из ваших слов я понимаю, и сегодня тоже, хочет быть только индивидом, забывая о своих обязанностях члена партии, большевика.
— Об этих своих обязанностях Марк никогда не забывал, — возразил Зиновьев, — но он стремится в настоящий сложный момент их выполнять… ну как вам сказать… с необходимой осторожностью. Разумеется, по отношению к другим.
— С такой осторожностью, при которой невозможно понять, что он защищает — партию или ее ликвидаторов. Впрочем, это вы не смогли понять. Я понял. И от своих обвинений не отказываюсь.
— Почему бы вам тогда не обвинить и Дубровинского? Он ведь тоже сейчас не вполне разделяет ваши позиции!
— Оставьте! — Ленин резко повернулся на каблуках. — Да, не разделяет. От бесконечной веры в честность борьбы, в возможность сблизиться с меньшевиками на принципиальных основах. С ним однажды такое уже бывало — примиренчество! — и вот новый, смягченный рецидив. Но это не ликвидаторство. И не то примиренчество, к которому тянетесь вы. А Иннокентия, кстати, я знаю тоже несколько больше, чем вы.
— Вы обижаете меня, Владимир Ильич, — хмуро сказал Зиновьев, поворачиваясь лицом к окну, за которым в некотором отдалении тихо раскачивались тонкие ветви сирени. — Хорошо, не станем касаться Иннокентия. Но я никак не могу согласиться с тем, что Марк должен остаться при убеждении, будто он в нашем представлении ликвидатор.
— Да, да, он ликвидатор, и никто иной! Он покровитель еще более вредного ликвидатора Игоря! Он — этот шаткий кустик сирени, на который вы, Григорий Евсеевич, с таким удовольствием любуетесь. Красив, изящен! Но опереться на этот кустик невозможно. Повалитесь и расшибетесь. Да, да! А перед вами, если я вас обидел, я готов извиниться.
Он выбрался из тесноты, от стола, в узкое пространство между кроватями и заходил, возбужденный, — устойчивая привычка, приобретенная в тюрьме.
Зиновьев барабанил пальцами по столу.
— Вчера в пылу полемики, Владимир Ильич, вы говорили чрезмерно резкие слова. А резкие слова не всегда бывают самыми точными.
— Чаще — бывают, — заявил Ленин с прежней решимостью. — Во всяком случае, теперь, когда речь идет о спасении партии, когда вопрос поставлен ребром — быть или не быть объединенной партии, — резкие слова гораздо лучше и действеннее многих. Они определеннее очерчивают позиции спорящих…
— В споре рождается истина, — нетерпеливо вставил Зиновьев. — И неплохо бы дождаться ее рождения!
— Да простится тогда и мне такой каламбур: бесспорно, что в споре рождается истина, но спорно весьма, что истина рождается в любом споре. А резкие слова не убивают, они помогают тому, кому адресованы. Если он хочет их понимать. Именно хочет! А Марк понимать не хотел! И потому вертелся. Вы назвали рядом с Марком польских представителей. Им я говорил те же резкие слова. Они их поняли прекрасно, хотя с ними и не согласились. Ценю. Это открытая позиция. И она в тысячу раз лучше, чем двусмысленная позиция Марка.
— Марк хотел и хочет понять! — вскрикнул Зиновьев. — Но с большевиками мы сами, большевики, должны разговаривать не так, как с нашими противниками.
— Совершенно верно, до тех пор, пока они большевики. А не противники наши.
— Все это чересчур, чересчур! Надо Марку разъяснить хладнокровно… — с упрямой монотонностью в голосе начал Зиновьев.
Ленин медленно приблизился к столу. Хлопнул ладонью по стопе чистой бумаги. И отступил, заложив руки за спину.
— Прекрасно! Извольте, разъясним. В письменном виде разъясним, что позволит и пишущему и читающему обдумать каждое слово. Разъясним как большевики, как члены редакции Центрального Органа партии, ответственные за судьбу партии не менее, чем член ЦК Любимов, Марк.
Он протянул Зиновьеву лист бумаги, придвинул поближе к нему чернильницу. Сам примостился на уголке стола, взял и себе письменные принадлежности.
— Вам не нравилось, Григорий Евсеевич, что Марк оказался поставленным на одну доску с представителями поляков. Что же, считаете вы, поляки тоже нуждаются в разъяснениях?
Зиновьев вертел перо в руках. Что-то его не устраивало в предложении Ленина. Он покусывал губы, переводил взгляд то на окно, за которым раскачивались тонкие ветви сирени, то на чистый лист бумаги, лежащий на столе.
— Так как вы считаете, Григорий Евсеевич? — спокойно спросил Ленин.
— Представителям поляков разъяснять нечего, — с неохотой ответил Зиновьев. — Они не согласны были с нами вчера по самому существу дела. Но они не протестовали против оценки их поведения, сколь резко ни прозвучала вчера эта оценка. И поэтому, я полагаю, о позиции польских представителей до́лжно сообщить непосредственно в главное правление польской социал-демократии. Пусть товарищи сами там разбираются.
— Согласен!
— Такое письмо написать могу я, — сразу оживившись, проговорил Зиновьев. — И мы его подпишем оба. А Марку пишите вы. После сегодняшнего утреннего разговора с ним мне не найти удачных формулировок.
— Согласен, — снова сказал Ленин и обмакнул перо в чернильницу.
В дверях показалась Крупская. Осторожно спросила:
— По всем признакам, Володя, ты еще не скоро освободишься. Вероятно, прогулка наша до обеда не состоится? Тогда я пойду по разным домашним делам. Маме сегодня что-то совсем нездоровится. Надо помочь ей.
— Да, Надюша, да, ступай, — ответил Ленин, весь поглощенный работой.
Перо его, как и всегда, стремительно летело по бумаге, временами в конце слова забывая поставить твердый знак. Он останавливался, перечитывал еще не законченную строку, исправлял, чтобы немного погодя опять к ней вернуться. Наконец удовлетворенно перебелил письмо, а черновик скомкал, бросил в корзину. Расправил плечи, сел прямее.
Зиновьев тоже положил перо. Свое письмо он не переписывал и не сделал в нем ни одной поправки.
— Прочтите, — предложил Ленин.
Поднеся близко к глазам лист бумаги, Зиновьев стал читать:
— «Дорогие товарищи! Вчерашний обмен мнений с Вашими представителями в общепартийном учреждении показал нам, что Ваши делегаты обнаруживают колебание в проведении решительной борьбы за партийность и против ликвидаторов, вступая на путь „примиренчества“, объективно служащего службу только ликвидаторам.
Колебание в такой важный момент перелома в партийной жизни, по нашему глубокому убеждению, пойдет на пользу только врагам партии.
Мы вынуждены будем проводить линию партийности без Ваших делегатов, или, может быть, даже против них. Об этом мы сейчас же доводим до Вашего сведения в нескольких словах. Подробно же мы объяснимся с Вами в ближайшие же дни, вероятнее всего, — в печати.
Надеемся, Вы поймете, почему именно к Вам, организации, с которой мы так близки идейно-политически, мы обращаемся в первую голову. С товарищеским приветом. Члены редакции ЦО — большевики». И дальше, Владимир Ильич, идут наши подписи.
— Отлично, — сказал Ленин. Взял письмо, окинул его быстрым взглядом. — Очень правильно! Хотя местами и несколько жестковато. Не затронет ли национальные чувства? И еще. Может быть, тут же нам следовало упомянуть, приводя это как факт борьбы против единства партии, о безобразнейшей позиции Игоря. О его гнуснейшей попытке сорвать решение январского пленума ЦК путем противодействия закрытию всех фракционных печатных органов. Как вы думаете?
— В письме обещается в ближайшие дни подробно выступить в печати. Все это мы тогда сделаем там.
— Ага! Ну что же — подписываю! — сказал Ленин.
Он расчеркнулся на письме, и вслед за ним Зиновьев.
— Теперь читаю я. — Ленин схватил перо, поправил еще одно слово. — «Уважаемый товарищ! Вчерашнее совещание окончательно убедило нас в том, в чем мы почти не сомневались и до него, именно что Вы совершенно не представляете большевистского течения, представлять которое в ЗБЦК Вы претендуете.
Имея все основания считать себя представителями большевистского течения, по письмам русских единомышленников и по данным о политике заграничных большевиков, мы заявляем, что Ваши колебания в политике, Ваше желание допускать…» — Он еще сделал поправку: — Нет! «…терпеть пребывание в ЗБЦК ликвидатора и заговорщика против партии Игоря, прикрывать срыв им партийного объединения…» — Ленин поднял руку с вытянутым указательным пальцем: — Вот тут абсолютно необходимо еще раз напомнить Марку о подлейшем поступке Игоря, ибо если и это его не отрезвит, то что еще? Что еще должно ему разъяснить? Я продолжаю. Здесь в скобках: «(вместо того, чтобы разоблачить Игоря, потребовать от ЦК ультимативно его удаления и решительно вступить на путь борьбы с ликвидаторами и отстаивания союза большевиков и партийных меньшевиков, союза, который один только мог бы еще, может быть, спасти дело объединения)…» — скобки закрываются — «все это Ваше поведение убеждает нас, что, вольно или невольно, Вы являетесь игрушкой в руках ликвидаторов.
Мы оставляем за собой право довести наше заявление до сведения большевиков, а при надобности и всей партии и печати. Члены ЦО большевики…» Мною уже подписано. Прошу, Григорий Евсеевич!
И по столу пододвинул лист бумаги к Зиновьеву. Тот долго, очень долго вглядывался в него, перечитывал, постукивал пальцами. Ерошил жесткие волосы.
— Но это же… это же, Владимир Ильич, скорее обвинение безусловному политическому противнику, а не разъяснение нечеткой позиции товарищу, — проговорил он наконец, вставая и недоуменно разводя руками.
— Да, это обвинение, — подтвердил Ленин. — Однако в достаточной мере и разъясняющее суть ложной позиции Марка, которого мы еще продолжаем считать нашим товарищем, о чем очень определенно свидетельствует обращение к нему в начале письма. Да, конечно, мы обвиняем товарища! Но объясняем и почему. И предупреждаем о том, что мы намерены предпринять в дальнейшем, если он будет по-прежнему гнуть свою линию, вернее изгибаться от дуновения любого ветерка. И оставляем ему протянутую дружескую руку, если он сам захочет принять ее. А не руку Игоря.
— Все это следует значительно смягчить. Вы нашли мое письмо полякам жестковатым местами. Ваше письмо Марку все сплошь очень жесткое.
Теперь оба они стояли. Зиновьев, как-то бочком навалясь на стол, на груды книг и тесня их так, что они вот-вот могли свалиться. Ленин стоял, всем корпусом откинувшись назад и ухватившись за прутья железной спинки кровати.
— Вещи надо всегда называть своими именами, Григорий Евсеевич. И не след сопоставлять наши письма по тону, ибо написаны они в совершенно различные адреса. Вы настаивали, чтобы Марку были даны разъяснения. Даны! Неужели теперь и вы сами нуждаетесь в этом?
— Ищу точной меры словам — и только!
Книги посыпались на пол. Зиновьез пытался их подхватить на лету, это не удалось. Ленин помог восстановить на столе порядок.
— Как видите, Григорий Евсеевич, точная мера должна соблюдаться и в движении, в действиях, — проговорил он, улыбаясь. — Не мои слова вызвали эту катастрофу, а ваши неправильные действия.
— Вызванные вашими словами. — Зиновьев тоже улыбался, но как-то недобро кривя губы. И вдруг заговорил уже совсем сердито: — Если вы хотите навсегда оттолкнуть Марка, таким письмом вы этого можете добиться легко.
— Вот как! — воскликнул Ленин. — Члена Центрального Комитета, большевика, и можно оттолкнуть от большевизма? Да настоящий большевик тут же полезет в драку, если прочтет несправедливые слова о нем! А если они справедливы, как могут они его оттолкнуть? Они лишь дадут ему пищу для серьезнейших размышлений. «Оттолкнуть»! Вот вы же сейчас лезете со мной драться!
— Защищаю человека!
— А истину?
— Истина сложна, Владимир Ильич. Пока она раскроется и высветится во всей полноте, человек может уйти.
— Гм, гм!.. «Сложна…» А «человек» может «уйти»… Многие уже уходили! Только потому ли, Григорий Евсеевич, что истина для них оказалась слишком «сложна» и никак «не высвечивалась во всей полноте»? Не вернее ли предположить, что их просто не устраивала наша истина?
— Мы говорим сейчас не вообще, а об определенной личности!
— Именно так! Именно, хочу я сказать, Марка наша истина сейчас и не устраивает. Иначе он бы с нею согласился. Иначе бы он боролся за нее вместе с нами, а не против нее, вместе с ликвидаторами.
— Ну, я не знаю, как вам еще доказать… — Зиновьев раздражался все больше. — Так мало осталось товарищей, на которых можно во всем положиться. Надо держаться за каждого!
— Когда товарищей остается мало, они должны быть только такими, на которых можно во всем положиться. Держаться за них не следует — это и тому и другому связывает движения. Надо идти рядом, плечом к плечу. И свободно! А кто метит в кусты, такого вообще удерживать не годится: он может не добежать, со всеми последствиями.
— Хорошо, Владимир Ильич, — сказал Зиновьев. И нервная дрожь отозвалась у него в голосе. Он еще раз перечитал письмо. — Пусть так. Хорошо. Но вы отдаете себе ясный отчет в том, что таким решительным тоном мы ставим Марка как бы на карту? Либо выигрываем его, либо проигрываем окончательно. Третьего не дано!
— В карты люблю играть иногда, но не на деньги и тем более не на товарищей, — резко ответил Ленин. — А в том, что я делаю, я всегда отдаю себе ясный отчет. Большевикам не в первый раз приходится бороться в столь тяжкой обстановке, когда все кости трещат. Более тяжкого положения, чем сейчас, в партии еще не бывало. У вас нет желания, Григорий Евсеевич, разделить со мной эту тяжесть, нет желания подписать это письмо! Не подписывайте! Оно пойдет за моей подписью только!
Он сказал это, и воцарилась сразу какая-то странная тишина. За окном немо качались тонкие бледно-зеленые ветви сирени. На кухне кот, любимец семьи Ульяновых, грыз косточку, постукивая ею об пол. А где-то в конце улицы глухо урчал автомобильный мотор. За стеной, на половине Елизаветы Васильевны, часы пробили двенадцать. Но все эти звуки никак не разрушали напряженную тишину комнаты, тишину — предвестницу крупной ссоры.
Ленин стоял, согнув руки в локтях, а локти положив на спинку кровати. Прищурясь, он выжидательно всматривался в Зиновьева.
Тот постукивал пальцами по столу. Потом скрестил руки на груди. Обвел глазами углы комнаты. Поерошил волосы. Опять сложил руки вместе. И очень быстро, передернув плечами, наклонился к столу, схватил перо, подписал письмо, вложил его в конверт — стопка конвертов лежала рядом с чернильницей — и начертал адрес Любимова.
— Я сам занесу его в почтовую контору, — сказал и вышел, не попрощавшись.
16
Оставшись один, Ленин устало зашагал туда и обратно в узком пространстве между кроватями.
Ни в чем нельзя по-настоящему положиться на этого человека. Твердит о своей приверженности большевистской линии в партии, а сам на деле гнет совсем в другую сторону. Извольте находиться с ним в одной упряжке! А в этой упряжке после январского пленума оказались еще и «старые друзья» Мартов и Дан — редакция Центрального Органа партии! Хорошо еще, поляк Варский поддерживает.
Январский пленум… Он мог бы стать действительным союзом двух фракций, объединить на общей политической платформе большевиков и меньшевиков-партийцев, при тесном сотрудничестве поляков и латышей. Так нет, опять-таки не без помощи того же Зиновьева туда притащили всех — ликвидаторов, отзовистов, примиренцев, богдановских «впередовцев» и прочая и прочая. Явился и подлейший карьерист, «нефракционный» Троцкий в надежде — опять-таки при милом соучастии Григория Евсеевича — протащить идею превращения своей венской газетки в Центральный Орган партии. Решили числом задавить, басистыми голосами перекричать. Ну что ж, пришлось сражаться. Три недели тягчайшей борьбы. С вынужденными уступками, в коих, к сожалению, Дубровинский, по доброте своей сердечной, им подыгрывал, но и с серьезными победами. Каких неимоверных усилий стоило добиться хотя бы недвусмысленного признания ликвидаторства и отзовизма проявлением буржуазного влияния на пролетариат!
Были и другие полезные решения. Но все эти решения теперь саботируются. Договорились на пленуме закрыть все фракционные газеты, оставив только единый Центральный Орган партии «Социал-демократ». Большевистский «Пролетарий» закрыт. «Социал-демократ» испорчен, а с приходом туда Мартова и Дана — воткнули-таки их! — работа стала совершенно каторжной. Ни дня без склоки, без истерик и угроз со стороны этих господ меньшевиков, с которыми ныне порвал отношения и Плеханов. Большевистского «Пролетария» нет, а ликвидаторский «Голос Социал-демократа» преспокойно выходит. Вот вам и решения пленума о закрытии, в пользу единства партии, всех фракционных печатных органов!
Большевистский Центр все в тех же интересах сближения фракций распущен. Но «голосовский» меньшевистский «центр», не нося формально такого названия, существует и всюду, где может, сует палки в колеса. Заграничное бюро ЦК перетрясли, от большевиков — на паритетных началах! — вошел в него единственным представителем Любимов — Марк, а он, пожалуйста… И Зиновьев уговаривает делать перед ним реверансы!
Коллегия членов ЦК в России — Русское Бюро ЦК… И прежде трудно складывавшаяся «пятерка», которая стараниями полицейских ищеек редко имела в своем действительном составе больше двух человек, теперь совсем обессилена. Но именно там, в России, вдали от этой тяжелой и подлейшей эмигрантской грызни, там, где теперь во всю свою силу продолжает свирепствовать жесточайший столыпинский террор, но где, несмотря на все это, живет и будет жить святое дело пролетарской борьбы, вот там сейчас всеми мерами надо закрепить и упрочить свои позиции, не дозволить ликвидаторам, расшатавшим верхи, разрушать партию еще и снизу! Решено было приблизить руководство к местным организациям, оставшимся ныне в полной растерянности и разобщенности, создать крепкую, работоспособную коллегию из семи товарищей, избранных в ЦК на Лондонском съезде. С этим на пленуме все согласились. А между тем персональный состав не определили. Коллегия, как и ЗБЦК, на паритетных началах, однако своих представителей господа ликвидаторы и их союзники не выделили. Ударились в демагогию: пусть большевики-цекисты, приехав в Россию, обратятся за советом к местным работникам. Что это, как не губительная затяжка во времени, как не стремление засаботировать партийную работу? Что это, как не стремление оберечь от возможных провалов свои кадры и вытолкнуть под безжалостную столыпинскую руку одних большевиков? Что это, наконец, поскольку Ленина вытеснить совсем из ЦК невозможно, как не стремление удалить ЦК от Ленина, придав русской эмиграции все права ЦК, зная, что Ленин вынужден остаться в эмиграции, и зная, что Заграничное бюро уже практически в их руках?
Ну, нет, и здесь еще поборемся!
Как и полагалось по договоренности, двое большевиков-цекистов уже уехали в Россию — товарищи Ногин и Гольденберг. И вот Гольденберг уже там арестован. В явной опасности Ногин. Полицейские власти бесчинствуют, хватают без всяких видимых поводов, без улик, сажают в тюрьмы и ссылают лишь за одну принадлежность к большевистской фракции партии. Нет даже комедии суда. Установление личности и закрытое постановление Особого Совещания. Тяжело!..
Но все равно нельзя сдавать позиции ни на йоту!
Он все ходил и ходил, то всовывая руки в карманы, то закладывая их за спину. Десятки мучительных вопросов не давали ему покоя.
Кому теперь должно поехать в Россию вместо Гольденберга? Быть может, тоже на провал, а значит, и в тюрьму, на каторгу. Все время рвется Иннокентий. Зиновьев выпячивает его примиренчество. Да, на пленуме Иосиф Федорович никак не мог преодолеть в себе до конца надежды на всеобщее и честное соглашение. Его пленил пример Плеханова, осознавшего неверность своих партийных позиций, ему казалось, что вслед за Плехановым то же произойдет и с Мартовым и даже с Богдановым, тем более что Покровский, Лядов и Луначарский уже заколебались, уже разочаровались в своем кумире и, кажется, готовы попросить пардона. Что ж, это будет в добрый час! Но ехать ли в Россию Иннокентию?
Не имея работоспособной Русской коллегии, каким образом бороться там, не месте, с Потресовым и компанией, организовавшими практически свой, ликвидаторский, «центр»?
И если им удастся в ближайшее время объявить официально о создании легальной социал-демократической партии, то есть партии просителей-реформаторов, какой страшный удар тогда будет нанесен революции, нелегальной РСДРП! О, тогда его высокопревосходительству господину Столыпину руки и вовсе будут развязаны, он оборудует своими виселицами все города!
Как обезвредить подлую деятельность Дана и Мартова в Центральном Органе партии? Как вышибить их оттуда, без чего невозможно сделать «Социал-демократа» ведущей идейной силой партии? И как еще более приблизить к работе в печати Плеханова, который в этот тяжкий момент, оставаясь хотя и меньшевиком, все-таки честно воюет за сохранение партии?
Каким образом окончательно вывести на чистую воду Богданова с его мерзейшей философией махизма и богостроительства? Как развенчать и выставить на публичное обозрение неприглядные, тощенькие теории «впередовцев» о загоне партии начисто в мертвое подполье?
Как разгромить троцкистскую фракцию, самую вредную из всех меньшевистских фракций? Ибо убежденные ликвидаторы прямо излагают свои взгляды, и рабочим легко разобраться в их ошибочности, а милейший господин Троцкий обманывает рабочих, ловко прикрывает зло крикливыми фразами о спасительном обращении с петицией к черносотенной Думе, дабы та поспособствовала рабочим обрести свободу объединения в профессиональные союзы.
Из кухни сквозь полуприкрытую дверь доносились голоса. Крупская кого-то тихо убеждала зайти попозже, потому что Владимир Ильич сейчас работает… Ленин усмехнулся. Дорогая! Как незаметно, а настойчиво она все время его оберегает! Ему представилось: вот она вернулась из магазина, сумка с провизией оттягивает ей руку. А в квартире тишина. Значит, Зиновьев ушел. Надя заглядывает в щелку двери. Видит мерно шагающего человека. Стало быть, человека работающего, ибо она хорошо знает, что этому человеку, когда он работает, обязательно надо шагать. И вот — от ворот поворот любому гостю! Ах, не его оберегать, ему Надюшу надо бы поберечь, не позволять ей носить тяжелые сумки…
— Прошу прощения! — крикнул он. И широко распахнул дверь. — Работу я уже закончил. С кем ты ведешь переговоры, Надюша?
— Да вот Иосиф Федорович с Яковом Абрамовичем в гости пожаловали, — весело откликнулась Крупская. — А я было совсем уже отправила их обратно. Согласились.
— Вот «примиренцы»! — воскликнул Ленин, входя на кухню. — Сразу и согласились? Без всякой борьбы?
— Не надо так шутить, Владимир Ильич, — просительно сказал Дубровинский, пожимая протянутую Лениным руку. — Из всех неприятных слов для меня это самое неприятное. Бывал такой грех, и не раз, на последнем пленуме повторилось, в чем я сейчас себе оправдания никак не найду, но, право же, поверьте, Владимир Ильич, я стремился всегда не к «примирению непримиримого», а просто к донельзя желанному миру в партии. И не понял сразу с достаточной силой, что, пытаясь соединить несоединимое в верхах, тем самым помогаю разрушителям низов.
— Сказал без злого умысла, — Ленин развел руками, — навязло словцо в зубах. Хотя, впрочем, позвольте заметить, в наше сложное время, увы, путь к миру лежит через жестокие войны. И бесполезно пробовать соединять масло с водой и приклеивать куски льда к деревянной стене. Этот ваш рецидив примиренчества труднее простить потому, что ныне и положение в партии острее, и потому, что ваш авторитет в партии стал выше. Но, не прощая, зла на вас не таю. Верю: этот последний урок вам достаточен. Да, Иосиф Федорович? Яков Абрамович, дорогой доктор, здравствуйте! — Ленин подал ему руку. — Надеюсь, вы на меня не очень обиделись, «примиренец» досталось вам рикошетом.
Житомирский беспечно отмахнулся.
— Владимир Ильич, — сказал он несколько нараспев, — я следую всегда превосходной пословице: хоть горшком назови, только в печку не ставь.
— Знаете, а по-моему, этот принцип не из лучших. Уж если называться горшком, так нужно и выполнять все его обязанности, — заявил Ленин. — Надюша, мы сумеем покормить товарищей?
— Да, конечно, — гостеприимно отозвалась Крупская. — Сейчас соберу что-нибудь. Время как раз обеденное.
Поставила на стол молоко, хлеб, подсоленный жареный миндаль.
— Понадоблюсь — кликните. Буду в маминой комнате.
— Спасибо, Надежда Константиновна, не хлопочите, — сказал Дубровинский. — Мы с Яковом Абрамовичем уже пообедали в нашей столовой.
— После нашей столовой всегда особенно сильно есть хочется, — заметил Ленин. И принялся рассаживать гостей. — Прошу без стеснения! Чем богаты, тем и рады. Рассказывайте, что нового?
Дубровинский налил себе полстакана молока, выпил. Разглаживая вислые усы, вздохнул.
— Да что тут нового, Владимир Ильич… Опять Алексинский публично набезобразил. Вчера поздно вечером ввалился в кафе на авеню д’Орлеан. Еще какие-то «впередовцы» с ним. И давай шуметь, орать, что Ленин стремится расщепить партию на лучины. От его несговорчивости, мол, и возникли разные группировки. Вообще произносил такие слова… — Дубровинский с отвращением покрутил головой. — Противно, Владимир Ильич! Противно! Эта здешняя обстановка…
— Так, так, — сказал Ленин, и в глазах у него заиграла злая ирония, — значит, «стремится расщепить партию на лучины»? Партию — на лучины! Во всяком случае, из Алексинского лучину, которая может гореть и светить, никак не сделаешь. А деревянный гвоздь затыкать бочки с ночным золотом из него «впередовцы» уже вытесали.
— Да черт с ним, с Алексинским! — Житомирскому спокойно не сиделось. Он то и дело дергался на стуле, словно бы его в спину кто-то подкалывал. — Психически неуравновешенный человек. Больной…
— Больной фракционностью! — уточнил Ленин. — Притом самой отвратительной — «впередовской» фракционностью!
— Ваш диагноз, Владимир Ильич, безупречен, я слагаю с себя регалии доктора. — Житомирский поднял руки вверх. — А вы слыхали: эсеровский вождь Чернов написал водевильчик? Называется «Буря в стакане воды». Это по поводу нашего январского пленума. На будущей неделе собирается разыграть в своей эсеровской эмигрантской колонии. Пригласительные билеты уже заготовлены. Предполагается организованный свист и улюлюканье по адресу социал-демократов, и в первую очередь, конечно, большевиков.
— Негодяй! — вскипел Ленин. — Об этих литературных потугах господина Чернова я слышал предостаточно. А вот то, что он выступает теперь в роли гроссведьмы, скликая на шабаш всю эсеровскую нечисть, — это ново. Ну что ж, пусть потанцуют на своем Брокене, пусть потешат душеньки над черновской «бурей в стакане воды», а мы свою бурю все же устроим на море! На море — да, да! Устроим! — Он резко выбросил руку вперед. — И насчет январского пленума пусть особо они не злорадствуют. Они в нем увидели только склоку. А мы там все-таки идейно разбили наголову и ликвидаторство и отзовизм и приняли обязывающую резолюцию о борьбе на два фронта. Добьем теперь и практически! Очистим партию! От пустозвонства Троцкого, от махизма Богданова, от оппортунизма Потресова, от прочих «больных». Все это в России доведем до рабочих масс, они воочию должны увидеть, что через все накипи развитие партии, социал-демократического — революционного! — рабочего движения неуклонно идет и идет вперед. — И повернулся к Дубровинскому: — А вы что так горько задумались, Иосиф Федорович?
Дубровинский сидел, ссутулясь, тихонечко ладонью растирая узкую, впалую грудь. Взгляд его был устремлен неподвижно куда-то на угол стола, где клеенка пробилась насквозь и осыпалась. Обращение Ленина вывело его из задумчивости. Он тронул усы, заговорил глуховато:
— Да я все о том же. Не по мне, Владимир Ильич, эта жизнь эмигрантская. Душно! Особенно между открытыми схватками. Дни текут томительно, медленно.
— Согласен. И все же очень небесполезно, — строго сказал Ленин. — Происходит важная внутренняя работа. В патрон, уже содержащий порох, мы здесь заколачиваем пыж и насыпаем картечь.
— И тем не менее не могу! Хочу к живому делу, хочу насыпать в патроны порох, наконец, делать этот порох! Хочу в Россию!
— А мне, — закрыв глаза и голосом, полным дружеского сочувствия, проговорил Ленин, — а мне разве не хочется в Россию?
— Вам нельзя, Владимир Ильич. Это пока совершенно исключено.
— И вам нельзя, — тихо сказал Ленин, — и вы хорошо знаете почему. Если вас поймают…
— Не поймают!
— …если вас поймают, по нынешним драконовским законам, независимо ни от чего вас могут закатать уже не в Сольвычегодск, а куда Макар телят не гонял.
В разговор вмешался Житомирский. Он все время с удовольствием грыз подсоленный миндаль.
— Вам бы в Швейцарию лучше, Иосиф Федорович, снова в Давос. Повторить курс лечения и не убегать раньше срока. Не забывайте, что туберкулез — болезнь коварная. Вы держитесь на нервах. Извините, Владимир Ильич, что я опять о болезнях. Но как врач я обязан…
— В данном случае, Яков Абрамович, вы обязаны не только сказать это, но и решительно повлиять на Иосифа Федоровича. Вы совершенно правы: ему надо поехать в Давос. Сейчас, как никогда, партии нужны сильные, здоровые люди, — проговорил Ленин. — Послушайтесь совета, Иосиф Федорович!
Дубровинский отрицательно покрутил головой.
— Я здоров.
— Вы больны, — настойчиво сказал Житомирский. — Поверьте мне, вы серьезно больны. Вам надо лечиться.
— Здоров в достаточной степени, чтобы поехать в Россию и заниматься там делом, к которому я привык и люблю, которое, мне кажется, я умею делать несколько лучше, чем барахтаться в здешнем болоте. — Вялость окончательно слетела с Дубровинского, он говорил решительно, страстно: — Я все обдумал и взвесил. Гольденберг арестован. Как член Центрального Комитета, я имею право настаивать, чтобы в Русской коллегии теперь мною заменили его. Одному Ногину там сейчас очень трудно, тем более что меньшевики и все прочие по-прежнему не шьют и не порют.
— Пороть они всегда готовы то, что сошьют большевики, — сердито сказал Ленин и повторил слова Дубровинского: — Одному Ногину там сейчас очень трудно, — он, слегка пожимая, взял худую, с крупными синими жилами руку Дубровинского в свою руку, — тем более, что Ногин тоже ведь крутил примиренческую веревочку, и не ясно, сумел ли уже выбросить ее, как вы. Ему одному очень трудно. Но, Иосиф Федорович, без вас мне будет здесь очень трудно. Мы так отлично с вами сработались, едва не с полуслова понимаем друг друга.
— А разве, работая в России, тем самым, Владимир Ильич, я не буду вам помогать? — возразил Дубровинский. — Ведь все, что сейчас мы делаем здесь, мы делаем для России.
— Гм, гм… Да…
Ленин по-прежнему держал руку Дубровинского в своей руке. Горячая. Опять, наверно, очередная вспышка температуры. Врач Житомирский прав. Иннокентию — даже мысленно Владимир Ильич привык называть его так — надо лечиться, и основательно. Однако прав и сам Иннокентий: в России он будет чувствовать себя здоровее, потому что Давос — это только месяц или два, а остальное время — Богданов, Алексинский, Мартов и иже с ними. Политическая грызня и просто безобразные выходки. В России у Иннокентия семья, возможность хоть изредка видеться с нею.
Где настоящее дело: здесь или там? И здесь и в России. И снова прав Иннокентий: все, что делается здесь, делается только для России.
Ему представились разоренные нищетой и голодом деревни. Беднота, тянущая беспросветную лямку страдальческой жизни на лоскутках земли, где, по Толстому, «и куренка выпустить некуда». Дымящие трубы заводов и фабрик, приносящих баснословные прибыли их владельцам, а в стенах этих заводов и фабрик выматывающий жилы ручной труд с нищенской оплатой, и если даже машина — она не помощник, а погонщик рабочего. Убивающее душу бесправие. Призрачные тени объявленных когда-то «свобод». И тягчайшее, опаснейшее подполье для тех, кто сражается за действительную свободу, кто хочет вырвать Россию из мрака. Провал за провалом. Аресты, военно-полевые суды, жесточайшие кары. Но ведь нельзя же сдаваться! Нельзя ослаблять борьбу!
Да, да, Иннокентий прав, стремясь поехать в Россию. С нею есть постоянные связи. Из партийных организаций, порой из самых далеких краев, приходят письма, приезжают за советом посланцы рабочих. Убито или обречено на тяжкие страдания много товарищей, но партия не убита, она живет. Потому что партия — это и отдельные люди, ее составляющие, и это сила их коллективной сплоченности. Именно сплоченности. Вот это надо в России сейчас сберечь, сохранить, приумножить для продолжения и усиления борьбы, когда наступит момент открытой схватки. Инок — великолепный организатор, пропагандист. Он сумеет поднять, всколыхнуть тех, кто устал. Он отлично знает людей, на которых можно всегда опереться. Он введет в работу новые силы. И остатки примиренческих настроений с него слетят начисто, когда он вступит в живое дело и кожей своей ощутит, что судьба единства и боеспособности партии решается там. Да! Хоть и жаль, очень жаль, что его не будет тогда здесь, рядом, столь хорошего друга, товарища…
— Иосиф Федорович, но попамятуйте, и в Питере и в Москве вы настолько известны охранке, что показываться там для вас сейчас небезопасно. В высшей степени небезопасно!
Ленин снял свою руку с руки Дубровинского, как бы подчеркивая этим, что предоставляет ему полнейшую свободу для размышлений. А сам только советует, кое на что обращает его внимание.
— Ни в Петербурге, ни в Москве я долго задерживаться не собираюсь, — сказал Дубровинский и усмехнулся, — но хотя издали, где-нибудь на бульваре, на дочурок своих я должен посмотреть и хоть немного поговорить с Анной. А цель моя в России видится так: объехать в первую очередь города, где еще сохранились наши большевистские организации, способные к энергичному действию, объяснить им современное положение в партии. Трезво, правдиво. Там, где разрушены, восстановить связи. А когда сформируем там, на месте, Русскую коллегию в полном составе, обдумаем, как целесообразнее повести нам и сообща всю практическую работу. — И опять усмехнулся: — Я ведь главным образом практик, это мне более свойственно.
— Пересечь границу будет не просто, — заметил Житомирский. — Гольденберга как раз на границе охранка уже взяла под наблюдение. А остальное…
— Хороший паспорт, немного грима, немного актерского мастерства, побольше решительности. У меня это иногда получается, — сказал Дубровинский. — А если попробовать через австрийскую границу, на Краков, так можно, пожалуй, пусть «без комфорта», и по «полупаску» пройти. Контрабандисты устроят. Даже фотографической карточки для этой штуки не потребуется. И стоит совсем недорого.
— Не только «полупаски», но и людей продать там могут недорого, — с сомнением проговорил Житомирский. — Ох, уж связываться с этими контрабандистами! И все же вы правы, Иосиф Федорович, через Краков — наиболее верный путь.
— Вы рассуждаете как о совершенно решенном деле, — сказал Ленин.
— Оно должно быть решено только так, — сказал Дубровинский. — Нет ведь спора: послать отсюда кого-то в Россию абсолютно необходимо? Этим человеком буду я. Владимир Ильич, поймите меня: я здесь истомился!
— Очень хорошо понимаю, — проговорил Ленин. Лицо у него сделалось торжественно-грустным. Он знал превосходно, на какую опасность идет Иннокентий, добиваясь поездки в Россию. Знал, что никто другой сейчас не окажется там, в России, столь полезным, как Иннокентий. И знал, что, если отъезд состоится, а он теперь состоится, конечно, долго, очень долго и здесь будет не хватать Иннокентия.
Он встал:
— Иосиф Федорович, немного пройдемся? До кафе? Возможно, встретим и еще кого-нибудь из товарищей. Надо основательно посоветоваться.
Житомирский осведомился, не будет ли он на пути в кафе, так сказать, третьим лишним? Дубровинский ответил, что, наоборот, Яков Абрамович очень может помочь своим деловым подсказом: у него по прежней работе в хозяйственной комиссии большой опыт. Ленин, смеясь, прибавил, что врач бывает третьим лишним только у постели больного.
— Надюша, извини, мы уходим! — крикнул он. — Совсем ненадолго. Если погода не испортится, мы сегодня непременно с тобой покатаемся.
И стал боком, пропуская гостей вперед.
17
Вернулся он не скоро, совсем под вечер. Пришел вместе с Зиновьевым. Возбужденный незаконченным спором. Нервничая, стащил с себя пиджак, швырнул на спинку стула. Схватил другой стул, крутанул перед собой, поставил на него ногу, согнутую в колене.
— Но вы убеждены, что на этот раз Марк говорил вам все совершенно искренне? Вы убеждены, Григорий Евсеевич, в том, что эти его слова впоследствии уже не разойдутся с делом?
— Да, убежден, Владимир Ильич, полностью убежден! — с жаром сказал Зиновьев. — Жалею, что вас не оказалось при нашем разговоре. Марка нужно было слышать, Марка нужно было видеть, чтобы понять, какая нестерпимая обида, что я и предполагал, нанесена ему нашим письмом. Он прибежал ко мне, едва владея собой. Нужно было через сердце пропустить наш двухчасовой диалог!
— Обида — вполне естественно. Но если человек обиделся, это еще не значит, что человек исправился. Готов исправиться.
— Ликвидаторство — только шелуха его слов. Шелуха легко сдувается ветром. А несправедливо нанесенная обида надолго впивается в душу железным ржавым гвоздем, — проговорил Зиновьев.
Ленин вдруг расхохотался.
— Ах, черт возьми, «железным»! И «ржавым» еще! Не меньше? — Он перестал смеяться. — Но без красивых слов, чего вы все-таки хотите, Григорий Евсеевич?
— Хочу одного. Чтобы Марк знал: его разговор со мной не был пустым, бесполезным. Ему верят. Вот и все.
Ленин убрал ногу со стула, повернул его удобнее и грудью навалился на спинку, исподлобья разглядывая Зиновьева. Тот кипел еще. Обида, о которой он говорил, ссылаясь на Марка, горела и в его собственных глазах.
— Полагаю, вы Марку уже ответили так, как сейчас заявили, — сказал Ленин.
— Да! Но письмо ему утром подписали мы оба.
— Иными словами?
— Необходимо послать ему второе письмо. И тоже за двумя подписями.
— Вы это тоже ему пообещали. — Ленин не спрашивал, говорил утвердительно. И сухо, осуждающе.
— Разумеется! Никакими другими способами нельзя снять обвинение, несправедливо возведенное на человека. Повторяю и подчеркиваю: выслушав убедительные объяснения.
— Итак, вы распорядились мною, Григорий Евсеевич, не спросив меня, — холодно сказал Ленин. — А если я не подпишу?
Зиновьев растерялся. Холодность Ленина обескуражила его.
— Владимир Ильич… Вы ставите меня в ужасное положение… И… и… гуманность… Истина, наконец, этого требует!
— Да-а, действительно положение, — сказал Ленин. — Если я не подпишу второе письмо Марку, — я должен буду написать первое письмо вам. Аналогичное утреннему. Так ведь складываются теперь обстоятельства и наши с вами отношения, Григорий Евсеевич? Вы с этим согласны?
— Владимир Ильич, меньше всего хотел бы я ссоры с вами, — укоризненно проговорил Зиновьев. — Моя вина и моя ошибка лишь в том, что я не привел Марка для объяснения сюда, я полагал, что вы мне поверите.
— Так, — невесело усмехаясь, сказал Ленин. — Теперь вы ставите меня в ужасное положение. Вы заявили, что не ищете ссоры со мной. Стало быть, вы хотите, чтобы начал ссору я?
Лицо Зиновьева налилось багрецом.
— Мне остается только покинуть ваш дом! — сказал он, сдерживая дрожь в голосе.
— Да! И мне — показать вам на дверь, — сказал Ленин. Сцепил кисти рук, поднес их ко лбу, отбросил решительно. — Но я не сделаю этого лишь потому, что нам с вами работать приходится все-таки вместе. Пишите. Но, бога ради, только два слова!
Через минуту Зиновьев протянул ему лист бумаги с неровными, прыгающими строчками: «Уважаемый товарищ! Берем назад наше письмо и сожалеем по поводу предъявленного Вам несправедливого обвинения в поддержке ликвидаторства в ЗБЦК. 10 апреля 10 года. Григорий».
Ленин прочел и молча расписался. Зиновьев всунул бумагу в конверт, поднялся торопливо.
— Я сам занесу в почтовую контору, — сказал он.
Вошла Крупская. Притворила за Зиновьевым неплотно захлопнутую дверь — с улицы вползала сырая прохлада, — опустила на окнах шторы. Владимир Ильич вышагивал по комнате из угла в угол, стремительно, круто поворачиваясь у стены. Так бывало, когда его слишком уж выводили из душевного равновесия. Надежда Константиновна это знала.
— Володя, я все слышала, — тихо проговорила она. — Ты поступил очень правильно. Григорий Евсеевич ведет себя безобразно. Надо было дать ему это почувствовать. А совершенно испортить с ним отношения сейчас действительно не время. Тогда ты в редакции, да и вообще, останешься совсем один против всех этих разрушителей партии.
— Надюша, у меня, оказывается, уже насквозь протерлись подметки, — сказал Ленин сердито и очень громко, так, будто он заговорил первым. — Черт знает, как скверно работают парижские сапожники! Ставят, вероятно, не кожу, а картон.
— Я тоже думаю, что Марк хотя сейчас и отказался поддерживать ликвидаторов, но когда-нибудь после, не на этом, так на другом подведет. Он способен. Так же, как и Григорий Евсеевич. А что поделаешь? Такой момент. Из двух зол выбирать приходится меньшее.
— Помню, Алексей Максимович Горький рассказывал, с какими подошвами ботинки носят грузчики на пристанях. Позавидовать можно! Мне бы на целый год хватило! — еще более громко сказал Ленин.
— Это письмо…
Он вдруг всплеснул руками, метнулся к столу.
— Батюшки! — воскликнул, беря перо и придвигая поближе чернильницу. — Я так и не написал еще письмо домой! Этот новый стиль и старый стиль календаря… Европа и Россия… Боюсь, не опоздало бы мое послание.
— Володя, ты очень расстроен. Немного отдохни. Потом напишешь.
— Нет, нет, ни в коем случае! — Потряс головой и сразу засветился, весь уйдя мыслью в первые же строки письма: «Дорогая мамочка! Надеюсь, ты получишь это письмо к 1-му апреля. Поздравляю тебя с днем ангела и с именинницей — и Маняшу тоже. Крепко, крепко обеих обнимаю. Письмо твое с новым адресом получил на днях, — перед тем незадолго получил и Митино письмо…» — Надюша, закончу, немного пройдемся вместе? До почтовой конторы? Спасибо! — И снова его перо побежало по бумаге: «…Я не знал, что старая квартира ваша была так далека от центра. Час езды по трамваям — это беда! У меня здесь полчаса езды по трамваю до библиотеки, — и то я нахожу это утомительным. А ездить каждый день по часу туда да час обратно — из рук вон. Хорошо, что теперь вы нашли квартиру близко к Управе. Только хорош ли воздух в этих местах? Не слишком ли…»
— Ты не забудь, Володя, ответить Марии Александровне, что встретиться нам с нею в Стокгольме нынче очень даже возможно, поскольку ты наверняка поедешь в Копенгаген на социалистический конгресс. А там рукой подать, — сказала Крупская, одеваясь для вечерней прогулки.
— Да, да, Надюша, разумеется! «…не слишком ли там пыльно, душно? За письмо историку большое спасибо; ему уже отвечено…» Да, сколько времени с мамочкой не видались! «…Насчет нашего свидания в августе было бы это архичудесно, если бы не утомила тебя дорога. От Москвы до Питера необходимо взять спальный, от Питера до Або тоже…» Распишу маршрут в подробностях, чтобы мамочка с Маняшей меньше наводили справок. «…От Або до Стокгольма пароход „Буре“ — обставлен отлично, открытым морем идет 2–3 часа, в хорошую погоду езда как по реке. Есть обратные билеты из Питера. Если бы только не утомительность железной дороги, то в Стокгольме чудесно можно бы провести недельку!..»
— Володя, я через пять минут буду готова. Не задерживаю?
— Ничуть! «…У нас пока насчет дачи ничего не вырешено. Колеблемся: не лучше ли пансион вроде прошлогоднего, с полным отдыхом Наде и Е. В., или дача, где им придется самим готовить; Е. В. сильно это утомляет…» — Владимир Ильич подумал, написать или нет, что вот и сейчас Елизавете Васильевне нездоровится. И не написал. Не надо зря расстраивать. — «…У нас весна. Вытащил уже Надин велосипед. Так и тянет гулять или кататься. Крепко тебя обнимаю, моя дорогая, и желаю здоровья. Маняше — большущий привет. Твой В. У.» Ну вот, и я готов!
— Мне бы тоже надо было ответить Менжинской, — сказала Крупская, закалывая булавкой легкий газовый шарфик на шее, — ну ничего, напишу завтра.
— А от кого письмо? Вера Рудольфовна или Милая-людмилая? Что пишут?
— Пишет Людмила. Сердится на брата: «И что его к „впередовцам“ занесло?» Ожидает скорого раскаяния и возвращения блудного сына в родительский дом.
— И я тоже, Надюша, этого ожидаю. Вячеслав Рудольфович, как и все Менжинские, чист душой. Горяч, не всегда последователен, но разберется. За него я готов поручиться. Что еще пишет?
— О работе своей в страховой кассе, в просветительском обществе. Как всегда, с улыбочкой. Ну и, конечно, справляется, как «беглец» Иосиф Федорович поживает.
— Не пришлось бы ему снова воспользоваться ее опытом устраивать побеги, — задумчиво сказал Ленин.
К почтовой конторе они шли неторопливо, умышленно избрав кружной путь, подальше от гремящей трамвайной линии. Короткая и тихая улочка Мари-Роз томилась весной. Вечером это сказывалось в особенности. Болтали о том о сем, а больше о России, как дома, в Москве, отметят «мамочкин день», какая там сейчас погода. Должно быть, вовсю текут ручьи, и галки весело галдят на заборах…
На почте Владимир Ильич выбрал, купил самую красивую марку с каким-то крылатым чудищем, похожим на химеру с собора Нотр-Дам. Опуская письмо в ящик, он вдруг рассмеялся. Рисунок на марке подсказал ему такое сравнение:
— Надюша, этот ящик, словно память попа в страстную неделю, когда валом валят к нему исповедоваться. Каких только тайн тогда попы не набираются!
— Ну нет, Володя, это неточно, — возразила Крупская. — Попу на исповеди всегда рассказывают только что-либо стыдное. Тайны исповеди — самые неприглядные. Тяжелые грехи! А в письмах, что опускаются в этот ящик, люди делятся между собой самыми простыми и честными житейскими заботами.
— Гм, гм… Возможно, ты права, — Обернувшись, Ленин еще раз посмотрел на почтовый ящик. — Хотя пари готов держать, что и в нем сейчас есть много такого недоброго и стыдного, о чем писавший не решился бы рассказывать вслух.
Он угадал. На самом дне ящика лежало письмо Житомирского. Местное. В двойном конверте. На верхнем конверте обозначен некий промежуточный адрес. Но в конечном счете письмо должно было попасть в руки месье, а в российском звучании — действительного статского советника, чиновника особых поручений Красильникова, нового заведующего заграничной агентурой охранного отделения.
Письмо начиналось так: «Многоуважаемый Александр Александрович! Очевидно, в самые ближайшие дни будет решен окончательно вопрос о точных сроках отъезда в Россию члена ЦК РСДРП, большевика Дубровинского („Иннокентия“). Мною для него разработан маршрут, который Вам позволит легко определить…»
— Знаешь, Надюша, — говорил Владимир Ильич, бережно помогая Надежде Константиновне переступить через трамвайный рельс. Теперь они шли по другой, более короткой дороге. — Знаешь, меня не только эта история с Марком сегодня так выбила из настроения. Ничего доброго — ты права! — не жду ни от него, ни от Григория Евсеевича с его постоянным стремлением всюду выскакивать очертя голову. Но ведь работать действительно с кем-то надо! Уезжает Иннокентий — вот что существенно. Удержать его невозможно.
— И не следует удерживать. Поступает он правильно.
— Да, в России он очень нужен. Чрезвычайно нужен! Но без него нам с тобой здесь, в этой маете, среди всяческой накипи, по-особому долго будет тоскливо. Ну, с кем, с кем еще, — Ленин рукой обвел широкий круг, — в трудный час можно будет поговорить и посоветоваться со всей откровенностью, дружески?
Тихая улочка Мари-Роз была теперь совсем пустынной. Пахло весной, цветущей сиренью. В окнах домов ни единого огонька.
Часть третья
1
Необходимость… Это слово, звучащее как жестокий приказ со стороны, вместе с тем одно из рождающихся в самых сокровенных глубинах души человеческой и подсказываемых только собственной совестью и чувством долга перед товарищами. Необходимость — это когда в расчет не принимаются никакие препятствия и никакие опасности, даже смерть. Такая необходимость обязывает человека стать предельно собранным и точным в своих действиях, чтобы они не оказались бессмысленными. Жертвой, а не подвигом. Необходимость может вылиться в обреченность, если нет сил, нет веры в успешный исход давно ведущейся тяжелой борьбы, и необходимость может озаренно найти в себе необыкновенные мужество, твердость — раскрыться дотоле неведомым силам. Идти и идти вперед неустанно, идти до конца своего, зная, что каждый сделанный тобою шаг, как бы он ни был мал, прокладывает дорогу идущим вослед.
Именно так, не помышляя о подвиге, но подвиг свершая всей своей жизнью, а при необходимости и смертью, шли, сменяя друг друга, поколения революционеров. Начальная строка похоронного марша «Вы жертвою пали в борьбе роковой» имела продолжение — «любви беззаветной к народу. Вы отдали все, что могли, за него, за жизнь его, честь и свободу». А дальше еще: «…но знаем, как знал ты, родимый, что скоро из наших костей подымется мститель суровый и будет он нас посильней». И «жертва» здесь понималась не как бесцельная потеря в борьбе, а как высокая необходимость на пути к непременной победе.
«Но знаем, как знал ты, родимый…» — и нет осуждения тому, кто не дошел немного, у кого остановилось дыхание минутой раньше, чем он мог бы еще хоть раз наполнить грудь свою воздухом борьбы. Не отступить, не сдаться, не изменить общему делу — вот жесткий нравственный закон революционера. Единственный и обязательный для каждого. Все остальное неограниченно в его личном распоряжении.
Этот закон хорошо ведом и самодержавным врагам революции. А потому они не жаждут найти в среде революционеров предателей — отдельные уроды не в счет, — они ведут свое черное дело иначе. Они медленно убивают опасного для них человека. Убивают духовным одиночеством, отрешенностью от товарищей по борьбе, убивают отдаленными ссылками, холодом, голодом, отсутствием врачебной помощи, убивают любыми другими способами, когда нет хотя бы формального основания затянуть веревочную петлю на шее бунтаря.
Товарищ министра внутренних дел Макаров имел обыкновение перед тем, как соберутся члены Особого Совещания, лично просматривать некоторые материалы, предназначенные к обсуждению на заседании. В частности, касающиеся лиц, персонально известных ему хотя бы по фамилии.
Он это делал отнюдь не в целях соблюдения большей объективности и не для того, чтобы инспекторски проверить точность и доказательность работы своих подчиненных, его одолевало обыкновенное любопытство: узнать в подробностях, по каким дорожкам проходила известная ему личность за то время, пока «дело» о ней вновь не легло к нему на стол. Чтение таких материалов редко настраивало его на благодушный тон. Как правило, он вскипал внутренней яростью: «А, голубчик, все неймется тебе! Повадился кувшин по воду ходить, там тебе и голову сломить!» И затем, уже на самом заседании, ревниво прослеживал, чтобы мера наказания арестованному была определена более жестокая, чем испрашивалась в проектах, подготовленных департаментом полиции.
На этот раз перед Макаровым лежало четыре «дела». Верхнее из них — Дубровинского. Оно было, пожалуй, наиболее пухлым.
За небольшим столиком, приставленным к большому столу Макарова, едва вмещаясь в мягком кресле, сидел тучный, с обрюзгшими щеками директор департамента полиции Нил Петрович Зуев. Он недавно переместился с должности вице-директора на этот пост взамен ушедшего в отставку Трусевича и лез из кожи вон перед начальством, чтобы оправдать его доверие, тем более что Трусевич, несмотря на свою долголетнюю службу, под конец не оказался в чести у Столыпина. В задачу Зуева до открытия заседания входило сидеть, молчать и давать Макарову необходимые справки, если таковые понадобятся.
В окна сочился тусклый, бессолнечный свет. Октябрьское небо было затянуто тяжелыми тучами. Зуев сдерживал зевоту. Он плохо выспался, как всегда, при резкой перемене погоды, а утром поел жирных блинов и теперь чувствовал, как все тело его дрябнет и расплывается.
Макаров, поблескивая стеклами очков, читал вполголоса:
— «…По имеющимся в департаменте полиции и по преподанным в циркуляре от двадцать восьмого апреля сего года нумер такой-то строго проверенным данным, для восстановления дезорганизованной работы РСДРП во второй половине мая месяца заграничным партийным центром предположено было командировать в пределы Империи весьма серьезного и активного, обычно пребывающего за границей, партийного работника, носящего псевдоним „Иннокентий“…» Почему «обычно»? Нил Петрович! Сколько я знаю, Дубровинский после побега из Сольвычегодска находился за границей всего немногим более года.
— Неточность выражения полковника Заварзина, — пробормотал Зуев, стряхивая сонное оцепенение. — А возможно, он имел в виду и те еще полтора года, что Дубровинский провел в Женеве до ссылки в Вологодскую губернию.
— Дубровинский обычно действовал в России, — строго сказал Макаров. — Вот в чем суть. За границей отсиживаются теоретики. И еще болтуны. А Дубровинский — человек прямого, практического дела. И Заварзину незачем было подменять его естество. — Он снял очки и еще строже посмотрел на Зуева. — Право же, вспомнишь Зубатова. После него нет достойного начальника в московском охранном отделении!
— К сожалению, Александр Александрович, и в Санкт-Петербургском — тоже, — стараясь попасть в тон Макарову, проговорил Зуев.
Макаров читал:
— «…На основании вышеизложенного, по моему распоряжению было организовано тщательное наблюдение, каковым появление Дубровинского в Москве было отмечено четвертого июня сего года. Неотступным наблюдением выяснилось, что он по прибытии в Москву поселился в гостинице Карпенко и Николаева, прописавшись по паспорту потомственного дворянина Познанского…» Хм, дворянина! Небось не дворника, а дворянина! «Дальнейшим наблюдением было установлено, что наблюдаемый конспирирует себя и, опасаясь слежки, ограничил свои сношения по городу встречами с женой, братом своим Семеном и посещениями старого своего знакомого, служащего Московской городской управы Алексея Яковлевича Никитина, и проживающей совместно с последним некоей Анны Ильиничны Вейсман…» Боже, какие тонкости!.. «…Десятого июня, собираясь выехать из Москвы и, видимо, намереваясь законспирировать свой отъезд от предполагаемого им наблюдения со стороны агентов вверенного мне отделения…» — Макаров грохнул кулаком по столу: — Ч-черт, лопухов, а не агентов! Полезли ему сразу в глаза! «…Дубровинский отправил через посыльного гостиницы свой плед и чемодан-мешок из цветной парусины на Курский вокзал „на хранение“, а сам оставил гостиницу и прожил до дня ареста, двенадцатого числа того же месяца, без прописки у вышеупомянутого Никитина».
— Не очень вразумительно, — заметил Зуев. Ему показалось, что Макаров сделал паузу, про себя перечитывая написанное.
— «…На другой день после оставления гостиницы находившиеся на Курском вокзале его вещи были взяты из камеры хранения ручного багажа братом его Семеном, каковой, заметив наблюдение…» Опять: «заметив»! Нил Петрович, не делаю выводов, делайте сами!
— Слушаюсь!
— «…заметив наблюдение, бросился бежать и был задержан вместе с вещами. В чемодане-мешке оказались несколько пар белья и остальные предметы домашнего обихода, сверху лежал совершенно новый план города Петербурга…» Вот так улов! «…Семен Дубровинский при опросе заявил, что задержанный вместе с ним чемодан принадлежит лично ему, но указать содержание не мог. Принимая во внимание то обстоятельство, что факт задержания вещей…» Подштанников и плана Петербурга! «…должен был сделаться известным наблюдаемому и привел бы его к еще большей осторожности в отношении деловых связей и встреч с местными партийными деятелями, дальнейшее наблюдение за Дубровинским не представляло интереса, и по моему распоряжению он был задержан двенадцатого июня агентами охранного отделения на улице». Послушайте, Зубатов это допустил бы? Зарезать курицу, которая искала гнездо, где бы снести золотое яичко!
— Возмутительно! — сказал Зуев.
— Сделайте серьезное внушение Заварзину, а этих его лопухов лишите наградных к рождественским праздникам! «Явилось бы весьма желательным, если не представится возможным привлечь Дубровинского к формальному в порядке 1035-й статьи Устава уголовного судопроизводства дознанию…» Идиот! Без всяких улик? Подштанники и план Петербурга! «…возбудить о нем переписку в порядке Положения о государственной охране на предмет высылки не в Вологодскую губернию, куда подлежит он водворению, а в отдаленные места Сибири как весьма опасного и вредного фанатика-революционера, пребывание которого в рядах представителей революционных организаций Европейской России и за границей недопустимо». Открыл Америку! «Обыск у находившихся в сношении с арестованным Семена и Анны Дубровинских, а также у Никитина результатов не дали, и все поименованные лица оставлены на свободе без дальнейших для них последствий». Ну-с, Нил Петрович? Заграничная наша агентура работает отлично, а Заварзин здесь мух ловит.
— Прошу прощения, Александр Александрович, но бывали и у него большие удачи, — несмело возразил Зуев, понимая, что гнев Макарова может с Заварзина обрушиться и на него, если признать, что московское охранное отделение никуда не годится.
— Бывали, бывали, — раздраженно проговорил Макаров, листая бумаги. — Но этот гусь, Дубровинский, от военного суда-то опять ушел! А сколько лет он у меня в памяти и в печенках сидит?.. На кронштадтском деле тоже, как угорь, из рук выскользнул. Не смекнула тогда Шорникова уликами его наделить.
— Да, конечно, — сказал Зуев. А сам подумал: «Действительно, заварзинские агенты — лопухи, могли бы, скажем, бомбу подсунуть, коли этот братец Семен признал чемодан своим, а описать его содержание не сумел. Была бы серьезная зацепка».
— Вот вам донесения Красильникова, — листая бумаги и зачитывая из них выдержки, поучал Макаров. — Точность. Ясность мысли. Превосходное изложение. Зримая картина. Я бы сказал: второй Гартинг. — И махнул рукой. — А вот московские допросы. Дубровинский, видите ли, даже в принадлежности к большевистской фракции РСДРП не признался поначалу. Диву даюсь, что не стал еще долго упрямствовать, выдавая себя за дворянина Познанского. — Он еще полистал бумаги: — Ах, сообразил, что паспорт Познанского хотя и подлинный, да убитому крестьянами принадлежал, от крови всегда лучше подальше. Так-с! А что же ответила мадам Дубровинская? Превосходно! «Не видела мужа с 1907 года, с той поры, как он был выслан за границу». А Никитин? «Видел, но никаких политических разговоров не было!» Отлично! А эта, совместно с Никитиным проживающая? «Познакомилась впервые у Никитина, разговоров вообще не вела». Не скажу, чтобы основательно были эти материалы подготовлены, Нил Петрович! А в тюрьме Дубровинский сколько времени уже находится?
— Четвертый месяц на исходе, — прикинув на пальцах, ответил Зуев. — Вы предлагаете, Александр Александрович, провести дополнительное расследование? Приобщить новые материалы?
— Какие? Заключения врачей о трагическом состоянии его здоровья? Это было уже три года назад, когда его назначили к высылке в Вологодскую губернию. А он жив, понимаете, жив до сих пор. Ходатайство супруги о высылке ее хворого мужа опять за границу? Было тоже тогда, и я поддался на удочку. В этих делах такового пока нет, но, уверяю, оно будет. Не знаю женщины настойчивее мадам Дубровинской. Что еще? Доброжелательное представление градоначальника Москвы? Слава богу, нынче его не последует. Николай Иванович Гучков разумнее Рейнбота и уже целиком повторил заварзинские пожелания. Дело Дубровинского мы вынесем сегодня на заседание, но я прошу вас, Нил Петрович, — Макаров погрозил пальцем, — все сказанное мною намотать себе на ус для дальнейшего. И если к вам в департамент начнут поступать различного рода просьбы упомянутой мадам, врачей или еще кого-нибудь о смягчении административных мер, примененных к Дубровинскому, оставляйте все без последствий. При этом, если хотите, можете ссылаться на меня или на Петра Аркадьевича Столыпина, не входя к нам ни с какими записками.
— Будут ли замечания по предложенному проекту постановления Особого Совещания? — осторожно осведомился Зуев.
Макаров вгляделся в бумагу и вдруг сдернул очки. Толкнул их по столу, покрытому зеленым сукном.
— Позвольте! Почему на три года и с зачетом времени, проведенного Дубровинским по законному разрешению за границей? Вы что, Нил Петрович, в своем уме?
— Да, я вижу теперь… Мне думалось, поскольку нет серьезных улик… И прошлый раз, принимая решение, вы смягчили…
Зуев растерялся, он и сам не понимал, как это все в бумагах получилось.
— Не сравнивайте времена, Нил Петрович, — жестко сказал Макаров и постучал пальцем по кромке стола, — девятьсот десятый год не девятьсот седьмой, либерализму ныне пришел конец. А побег из Сольвычегодска? Кроме того, Дубровинский нас бесстыдно обманывал, он рвался тогда за границу не лечиться, а для того, чтобы принять участие в Лондонском съезде, он рвался к Ленину, с которым связан давно, он рвался к политической борьбе, там, где важно было закрепить верха партии. И я тогда поверил, я тогда был прост, полагая, что прах Дубровинского будет действительно погребен за границей. — Он стукнул кулаком по столу: — Нет! Прах его будет погребен в ссылке! Исправьте проект. Первое: «Выслать Дубровинского в Туруханский край под гласный надзор полиции на четыре года». Второе: «Постановление Особого Совещания от 14 апреля 1907 года о высылке Дубровинского в Вологодскую губернию оставить без исполнения». А енисейского губернатора особо предупредить, что наблюдение за Дубровинским должно быть установлено самое строгое, исключающее у него даже мысль о повторном побеге. До Красноярска отправить по этапу, а там — на усмотрение губернатора.
— Заковать на этапе снова в кандалы как лицо, склонное к побегу? — спросил Зуев, делая карандашом пометки в своей памятной книжке.
Макаров поколебался. Вопрос оказался для него неожиданным.
— Предупредить об этом. Пока — не больше, — ответил он после небольшого молчания. — У него едва зажили прежние раны, — здесь я верю врачам, — и если раны вновь откроются, местные власти с Дубровинским наплачутся. Хватит и нам с вами потом хлопот и забот рассматривать бесконечные протесты и заявления.
2
На последнее перед отправкой этапа свидание с семьей Дубровинский шел в состоянии и физической и духовной изможденности.
Это состояние впервые возникло у него в часы, когда он только что пересек границу. Почему-то не было радости, удовлетворения хорошим началом. Наоборот, вдруг стиснула сердце совсем непонятная тревога. Словно бы ему изменило привычное «седьмое» чувство, помогавшее угадывать слежку и ловко уходить от нее.
Прежде филеры для него были как бы частицей охранного отделения, глухо скрытой за семью замками, были скорее символом, нежели реальными личностями. И хотя он не раз сталкивался со шпиками нос к носу, все-таки слежка за ним велась издали, где-то там, за спиной. Похоже, бывало, при ясном, солнечном небе иногда поползет стрелка барометра-анероида налево, знаешь — это предвестник дурной погоды, пока еще таящейся за горизонтом, — и думай, где, как тебе укрыться от нее. В этот раз ему казалось: филеры с первого шага окружили со всех сторон, идут с ним рядом, попадаются навстречу, глазеют из-за каждого угла, маячат в ночных подворотнях. И он, обозлясь, иной раз останавливал кого-нибудь язвительным вопросом: «Все ходишь?» — а отрезвев, понимал — остановил совсем случайного прохожего.
Именно потому, не зная твердо, выслежен он или нет, он не решился пойти ни на какие ответственные связи, имея в памяти добрый десяток надежных адресов. Он не хранил при себе ничего нелегального и поселился в гостинице по нефальшивому, хотя и чужому, паспорту, никак не предполагая, что все обстоятельства передачи ему этого паспорта малознакомым ему Романом Малиновским охранке стали известны едва ли не в тот же час, когда он сделался его владельцем. Задержался в Москве всего лишь на неделю, чтобы повидаться с самыми близкими людьми, чтобы немного освоиться с Россией тысяча девятьсот десятого года, прежде чем начать в ней свою партийную работу.
Она, эта Россия, представала по первому взгляду уже не такой, как в тот приезд, когда его схватили на Варшавском вокзале. Верноподданнические газеты теперь дружнее и куда восторженнее писали о промышленном подъеме страны, выделяя имена наиболее удачливых предпринимателей, писали о предстоящем сборе богатейшего урожая, ставя и это в прямую зависимость от мудрой и твердой столыпинской политики; хвалились «закономерным» упадком забастовочного движения и радостно уведомляли своих читателей о новых арестах в среде революционных партий, предсказывая их полное уничтожение в самое ближайшее время, после чего навсегда воцарится долгожданный и желанный покой.
Дубровинский чувствовал себя маленькой рыбкой, плавающей в пространстве, огороженном паутинно-тонким, но частым неводом. Ночью ему не спалось, днем он не знал, чем заняться, а бесцельно проводить время он и совсем не умел. Усилились боли в груди, появилась странная, непроходящая усталость в ногах, даже поутру, когда он поднимался с постели. Он ловил себя на мысли, что те «месмерические пассы», о которых в Давосе рассказывал герр Лаушер, он сейчас делает над собой, чтобы сохранить твердость воли и самообладание. И когда ему стало ясно, что невидимый невод охватывает его все туже и не выскользнуть из кольца, а видимые филеры действительно целыми стаями бродят вокруг него, понял: Семен арестован с вещами; он не стал дожидаться, когда ворвутся жандармы и потащат из квартиры Никитина, разжигая праздное любопытство у соседей. Он спокойно вышел на улицу…
А тюремная одиночная камера и допросы — все это уже не имело значения, это обычная и неизбежная полоса самой тягостной жизни перед тем, как отправиться в ссылку. Куда? Он приготовил себя к Сибири. И не удивился, когда ему огласили именно такое постановление Особого Совещания.
Важно было, что он на допросах не навел жандармских ищеек на след кого-либо из своих товарищей, работающих в подполье. Горько было сознавать, что сам он надолго выпал из их рядов, не успев сделать решительно ничего существенного здесь, в России. И нужно было думать и думать теперь, как снова вернуться в общий строй.
А Сибирь далека. Туруханский край словно бы и еще дальше, и где там «край» этого края, в котором придется жить долгие четыре года, пока неведомо.
Побег…
У барьера, делившего комнату свиданий пополам, с обеих сторон была невообразимая толчея, и Дубровинский, не сумев вырваться вперед в число первых, когда стражник отворил дверь, теперь несколько растерянно искал глазами Анну. Она ведь собиралась на прощание привести и обеих девочек.
— Папа! Папочка! — вдруг сквозь галдеж прорезался детский голосок.
Дубровинский сразу узнал его: Таля! И тут же увидел над барьером в самом уголке ее испуганное круглое личико. Рядом стояла Анна и помогала ей приподняться повыше.
Стражник старательно заработал локтями, расталкивая арестантов и давая место Дубровинскому, видимо, из чувства личной симпатии.
— Ося, здравствуй, родной мой!
Анна казалась спокойной, как и всегда во время таких коротких и суматошных свиданий, но Дубровинский видел, как трудно дается ей это. Он пожал ей пальцы.
— Папочка, а ты опять уезжаешь? Надолго? — со звенящей тоской произнесла Таля. И по щекам у нее покатились слезы. — Мама сказала: не знает.
— И я не знаю, Талочка, — ответил Дубровинский. — Постараюсь вернуться скорее. Мне так скучно без вас. Поеду в лес, к реке, стану рыбу ловить, грибы собирать. Помнишь, как в Костомаровке?
— А тебе разрешат? Арестованным это можно? — с тревожной напряженностью в голосе спросила Таля.
— Там я буду уже не арестованным, и мне все будет можно, — успокоил он. И спросил Анну: — А что с Верочкой? Почему не пришла? Захворала?
— Нет, — сказала Анна. — Верочка тоже пришла. И тетя Саша. Но они там, — махнула рукой назад, — они там сидят. Верочка плачет, и тетя Саша никак не может ее успокоить.
— Она боится входить в тюрьму, боится, что ее посадят, как тебя, за решетку, — объяснила Таля отцу.
— Прошлый раз, когда мы вернулись от тебя, Верочка ночью во сне так страшно кричала, что я хотела наутро ее к доктору отвести, показать, — стараясь, чтобы этих слов не услышала дочь, сказала Анна. — А сегодня все время твердила: «С папочкой хочу попрощаться, пойдем, ну скорее пойдем!» — пришли — и в горькие слезы: «Давай обратно пойдем, я боюсь!» Но ты не волнуйся, Ося, с детьми это бывает. Тетя Саша сумеет ее развеселить. Что я должна для тебя сделать?
— Ничего, Аня, милая! Ничего, — сказал Дубровинский, оглядывая ее бледное лицо с темными кругами под глазами. — Береги себя и береги детей. А у нас с тобой все еще впереди.
— Да, я знаю, все впереди, — рассеянно сказала Анна. — Вчера из Департамента полиции получила отказ заменить Сибирь высылкой за границу. Но я снова буду писать, когда тебя водворят уже на определенное место.
— Бесполезно. Аня, не теряй на это свои духовные силы. Разве они еще раз поверят? И если бы даже поверили, я не уеду за границу.
— Буду писать, — упрямо сказала Анна. — Все равно буду писать. Тебе необходимо лечиться в Давосе. Они не имеют права отказывать.
— Мне нужно работать здесь, в России, — возразил Дубровинский. — А право они имеют на все, — он понизил голос до свистящего шепота, — на все, кроме запрещения мне снова сбежать из ссылки.
— Тихо! — Анна приложила палец к губам. — Талочка, ты помнишь стихи, какие мы учили вчера? Почитай папе.
Таля не сводила глаз с отца. Когда он летом приходил к ним домой, он не был таким худым и усталым, и разговаривать, играть с ним, читать стихи было легко и приятно. Какие стихи и зачем читать здесь, когда кругом толкутся плачущие люди и быстро выкрикивают путаные слова?
— «Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хозарам…» — начала она сбивчиво и отмахнулась рукой, потупилась. — Нет, не буду! Папочка, я не могу…
Анна принялась гладить ее по голове, утешать.
— Ну, ладно, ладно, Таленька, папа вернется, и ты тогда ему почитаешь. Ося, я узнала, младший живет в самом городе, может быть, ты с ним увидишься? А монтер просил передать, что проводку он сделал хорошую.
И Дубровинский догадался, что речь идет о Якове, сосланном в Енисейскую губернию, куда-то на Ангару, но находится он сейчас в самом Красноярске, и о Семене речь, к которому полиция больше пока не привязывается. Хорошо. А могли ведь и против Семена создать дело. Сейчас все просто, любого рода придирка, доказывающая принадлежность к партии, использующей нелегальные формы работы, и — административное постановление Особого Совещания, ссылка…
Ему припомнилось: совсем недавно арестовали и назначили к высылке одиннадцать человек, служащих комиссии образовательных экскурсий, эсдеков. Среди них Елагин, тот самый, с которым они пятнадцать лет тому назад встречались, создавая «Московский рабочий союз». Он арестован и сослан единственно за чтение газет «Пролетарий» и «Социал-демократ», найденных при обыске, других улик не было.
Злая искорка мелькнула в глазах Дубровинского: стало известно, что и этих людей предала Серебрякова, провалила уже после того, как сама была разоблачена в провокаторстве. А эти люди то ли еще не знали об этом, то ли ей слепо верили. Их можно понять: трудно было не поддаться ее обаянию, душевности…
Тесно прижавшись к барьеру, Анна рассказывала о разных семейных заботах, рассказывала с веселой улыбкой, так, чтобы у мужа создалось впечатление о полном достатке и благополучии в доме, чтобы поехал он в тяжелую и дальнюю ссылку не угнетенный еще и сознанием того, что жена и дети его остаются в бедственном положении.
А Дубровинский неотрывно смотрел ей в глаза и понимал, что веселая улыбка на губах Анны — искусственная, что сверх маленьких забот на ее плечи легли заботы и почти неодолимые, с которыми ей все труднее будет справляться теперь. Из-за границы, хотя и скудно зарабатывая на переводах, он изловчался помогать семье. Какие у него могут быть заработки в глухом, пустынном Туруханском крае! Собирая в эту дорогу, Анна передала ему несколько пар белья, шерстяных носков, теплые перчатки. Она сказала: «Это мы вместе с тетей Сашей приготовили». А тетя Саша сама в долгу, как в шелку.
— Ося, пусть тебя там наша судьба не тревожит, — говорила Анна, — дети уже большие, все будет хорошо…
Да, конечно, все будет хорошо. Аня сумеет вырастить девочек, для нее дети сейчас — вся радость жизни, оставшаяся радость жизни. И еще работа. А то, что когда-то их сблизило в холодном, завеянном снегом Яранске? Те общие мысли о будущем, о совместной борьбе за это прекрасное будущее? И это все тоже осталось. Он с радостью это понял из не очень долгой, но совершенно честной, откровенной беседы с нею в первый же день приезда своего из Парижа.
Дубровинский переступил с ноги на ногу, чувствуя в них болезненную тяжесть, словно бы от повисших, гремящих кандалов. Вероятно, вот такие мысленные кандалы порой еще сковывают Анину душу, когда ведешь с ней разговоры о партийных делах. Революционер, закованный в цепи, остается революционером, но шагать ему трудно, трудно идти вперед. Анну, так уж сложилось, окружают меньшевики, ликвидаторы. Она непременно вырвется из-под их недоброго влияния, станет прежней единомышленницей, — так, только так! — но на это потребуется время… Прав, утверждая это, Владимир Ильич…
Надзиратель хриповатым баском объявил: «Свидания окончены!» — и стражники стали отгонять от барьера с одной его стороны арестантов, с другой — посетителей.
С еще большей силой взметнулись прощальные возгласы — все знали: этап отправляется завтра, встреча последняя, — тонко, истерично взвизгивали женщины, отчаянно плакали дети. И все эти перепутанные голоса перекрывала грубая брань и окрики стражников.
Дубровинский стоял, вцепившись руками в кромку барьера, то же делала Анна, — до них еще не добрались стражники, в бока толкали отступающие к выходу люди, сказать что-либо связное было уже невозможно. Они лишь громко повторяли имена друг друга и друг друга подбадривали кивками головы. Таля испуганно закусила губу и всем телом прижималась к матери.
В эту минуту, неведомо как пробившись сквозь охрану, перед барьером возникла Александра Романовна с Верочкой на руках. Ее настиг стражник, потянул за плечо.
— Мадам, не безобразничайте!
Она, несмотря на свою полноту, легко увернулась, одарила стражника счастливой улыбкой.
— Да я совсем даже не на минуту, я на одну полминуты всего! Вы, господин старший, в детстве всегда говорили милым родителям своим «до свидания». Девочка еще не успела это сказать отцу. Скажет сейчас — и мы удалимся.
Вера потерянно вскрикнула:
— Папочка, не уезжай! Останься навсегда с нами!
И обхватила тонкими ручонками Александру Романовну за шею, судорожно забилась в горьком-горьком плаче.
— Ося, послушай, что тебе велит тетя Саша, — успела сказать Александра Романовна, — не верь пословице: держи голову в холоде, а ноги в тепле. В этой самой Сибири держи в тепле и ноги и голову. Мы уходим, господин старший, уходим.
— Ося, я жду тебя! Жду!
— Аня, тетя Саша, малышки мои, прощайте! — крикнул им вслед Дубровинский.
И сам не знал, почему у него вырвалось это обжигающее какой-то безнадежностью слово «прощайте».
Он шел по длинному, узкому коридору, от стен которого веяло холодом, пахло сырой известкой, и все думал об этом, неладно сказанном слове. Разве он хочет, разве он склонен покориться судьбе? Разве напугают его тоскливое одиночество долгой ссылки и сибирские морозы, о которых ходят жуткие легенды? Разве над сибирской тайгой не то же голубое небо днем и не те же яркие звезды ночью?
Люди есть всюду, и он будет среди людей. Новая ссылка, тяжелая ссылка — это не значит, что борьба закончена. Те дороги, которые ведут в «Туруханку», ведут и из нее. Тетя Саша сказала: «Держи в тепле и ноги и голову». Милая тетя Саша, в тепле надо еще держать и душу свою. Вот если она остынет, если она…
Завтра начинается путь, как свидетельствуют учебники географии, длиною в шесть тысяч верст.
А не по учебникам? По этапу?
3
Окованные стальными подрезами полозья визжали особенно пронзительно, когда на дороге попадались глубокие выбоины и кони, хрипя от натуги, вытягивали тяжелые сани наверх. Весь Енисей от берега до берега и сколько хватало взгляда вдаль был всторошен и переметен плотными сугробами с крутыми завитками по самому их гребешку. Серый морозный чад низко нависал над рекой, и сквозь него не пробивалось солнце, едва-едва обозначенное мутным пятном над самым горизонтом.
Дорога — таково их извечное свойство — змеилась, вилась среди ледяных глыб и завалов и приближалась поочередно то к одному, то к другому берегу. Левый берег пологий, поросший мелким густым тальником, чуть подалее от реки переходил в открытую тундру, и оттуда тянуло жесточайшим холодом, возницы ежились, кутались в оленьи дохи и прикрывали носы стоячими воротниками. Близ правого берега, крутыми, скалистыми обрывами подступавшего к Енисею, казалось немного теплее, но это скорее всего лишь потому, что высокие берега чем-то напоминали стены дома, а когда мороз палит за пятьдесят, разница в два-три градуса уже никакого значения не имеет.
Этапный обоз был невелик, менее десятка подвод. Незадолго перед этим над всей северной тайгой целую неделю бушевала пурга. Она забила, перемела дороги невообразимыми толщами сыпучего снега, и теперь возница на передней подводе местами отыскивал проезд совсем наугад. Останавливал заиндевелого коня, тяжело носящего боками, поднимался на ноги в головках и подолгу соображал, куда повернуть, чтобы окончательно не сбиться со следа.
А дни были короткими, всего четыре-пять часов от зари до зари, остальное время — глубокая черная ночь и жгучие, без света, звезды. Чем дальше уходил обоз от Красноярска, потом от Енисейска — хотя и небольшого, но все же города, — тем реже становились селения. Они тут уже назывались не деревнями, а станками. Если шли казенные, почтовые обозы, на этих станках менялись лошади, а ехал кто-то на собственных запряжках — здесь можно было пожить несколько дней, дать отдых и себе и коням, подкормить их, переждать самую худую погоду.
Тут никто никуда не спешил, разве промчится по неотложному делу начальство в легкой кошеве, на паре рысаков, запряженных цугом, потому что рядом по узкой канаве-дороге лошадям бежать невозможно. И время пути здесь определялось не днями, а верстами, которые тоже высчитывались лишь приблизительно.
Пословица «Поспешишь — людей насмешишь» здесь звучала иначе: «Поспешишь — да в дороге и сгинешь». По наезженному следу можно пуститься и в ночь, ежели она тихая и ежели от станка до станка кони дойдут без кормежки. А если верховая метель или даже злая поземка, выщербляющая, словно шрапнелью, дыбом стоящие льдины, и между станками семьдесят верст, да еще с гаком? И негде притулиться в затишье, развести костер, оттаять калачи и согреть чаю, негде — на реке! — добыть ведро воды, чтобы напоить коней. Попробуй, когда пурга валит с ног, прорубить трехаршинный лед…
Дубровинский совершенно потерял счет времени. Он знал и помнил, что из московской пересыльной тюрьмы его вместе с другими, назначенными к высылке в Сибирь, отвели на товарную станцию, где приготовлен был арестантский вагон, пятого ноября. Он помнил и знал, что в красноярскую пересыльную тюрьму их этап, много раз переформированный в пути, прибыл ровно через месяц. В тесно набитой камере встретил он там и новый, тысяча девятьсот одиннадцатый год. Двадцать четвертого января, после недельного «отдыха» и осмотра в енисейской пересыльной тюрьме, обоз двинулся дальше на север, чтобы одолеть оставшиеся до назначенного места ссылки последние тысячу двести верст сверх пройденных уже четырехсот. Был ли конец февраля или уже начался март, он толком не знал и как-то быстро покорился этому.
Спросил возницу, спросил конвоира, сопровождавшего обоз. Один сказал: «Кажись, середа». Другой поправил: «Пятница». И оба уставились на Дубровинского: «Какая тебе разница?»
А действительно, какая разница? Лежи и лежи, зарывшись в солому на визжащих по снегу санях. Думай, спи, если спится, а защиплет пальцы ног, срывайся скорее и, пока не задохнешься, беги за санями вприпрыжку, не то отморозишь. Оттереть ноги под открытым небом ведь не удастся.
На ночевках собирались все вместе в одну избу — возницы, ссыльные, конвоиры — и тут, у пышущих жаром железных печей, прогретые чаем из брусничных листьев и какой-нибудь крепкой похлебкой, завязывали общий разговор. Политическим стесняться было некого и нечего. Рассказывай что угодно, затевай любые споры, призывай к свержению самодержавия, угрожай ему новыми близкими восстаниями — конвоиры все это пропускали мимо ушей. Их обязанностью было только доставить политиков в сохранности к месту ссылки. Они знали: вот за эти споры да разговоры и поехали люди в далекую «Туруханку». Ну, и пусть говорят, отводят душеньку, все одно все их слова здесь, будто дятел носом по сухостоине — постучит и полетит дальше, а тайга как была тайгой, так и останется. Знали и ссыльные: за любые речи дальше «Туруханки» их уже не загонят. Некуда. Возниц же интересовало одно: обиходить коней и самим поесть поплотней да выспаться.
Но пока чаевали сообща, они тоже были не прочь покалякать за столом, погордиться этими своими родными местами, потому что для них здешняя пурга была не пурга и мороз не мороз. Тайга-матушка обильна, щедра, и жизнь в ней распрекрасная. А что кто-то с дороги сбился в метель и не отлежался под снегом, застыл; кого-то летом в малинниках медведь задрал; кого-то на рыбалке штормовой волной Енисей потопил; кому-то цинга начисто зубы вывалила; у кого-то с голодухи едва семья не вымерла, охотничьей удачи по осени не было — все это дело обыкновенное, кому уж чего на роду написано, и Сибирь вовсе тут ни при чем. Они похохатывали над ахами и охами политиков, попавших сюда впервые, добродушно острили, что, мол, их Туруханский край не то что бог, но и сам черт забыл, а мужик этим и попользовался — живет в нем кум королю. И на жалобы, что морозы жестокие, отвечали: «Энто зря, господа хорошие, зима здеся только двенадцать месяцев в году, а остальное время — лето».
В этих вечерних беседах Дубровинский оживлялся. С ним в «Туруханку» следовало по этапу еще семь человек — пять эсдеков и два эсера. Было о чем поговорить, было о чем и резко поспорить. Эсдеки с жадностью слушали спокойные, обстоятельные, чуть согретые юморком рассказы Дубровинского о Лондонском съезде, о совещании расширенной редакции «Пролетария», о январском пленуме, о всей той бесконечной борьбе, которая твердо ведется Лениным за создание подлинно революционной партии. Эсеры, угнетенные усиливающимся развалом в своей среде, особенно после скандального разоблачения Азефа, перебивали Дубровинского и нервозно кричали, что тот преувеличивает значение социал-демократической партии, большевиков и тем более Ленина, что будущее России зависит от них, от эсеров, и что — будь проклят Азеф! — есть Чернов и Борис Савинков.
Случались такие ночевки и на станках, где уже образовались давние колонии политических ссыльных. Тогда изба заполнялась и совсем до отказа, а беседы за чайным столом превращались в собрания, митинги. Дубровинский никогда не подчеркивал, что он член Центрального Комитета и член Русского бюро ЦК, он называл себя просто Иннокентием, и этого было достаточно, чтобы завладеть всеобщим вниманием. Дубровинского не знали в лицо, но знали, кто такой «Иннокентий». Конвоиры ворчали. Их беспокоило не содержание разговоров и не резолюции, которые записывались на клочках бумаги, — затягивавшиеся надолго собрания им мешали спать.
Наступало утро. Но без рассвета. Горланили за стеной петухи. Гремели ухваты, чугуны, которые хозяйки, готовя на завтрак какое-то варево, заталкивали в глинобитную огромную печь. Позевывая, поднимались возчики, конвоиры, выходили сначала во двор, а потом шли умываться над широкой лоханью, стоявшей в углу, близ порога. Кряхтели, почесывались, перебрасывались незлобно бранными словами насчет мороза, который закручивает все крепче: «Вона как трещат стекла в окнах». Садились к столу, ели медленно, много. Леший его знает, когда еще удастся поесть! Потом начиналась медленная запряжка лошадей, с внимательной проверкой супоней, подпруг, гужей, в порядке ли сани, не лопнули бы от морозца подреза, не хлябают ли подковы. В дорогу, язви тебя, нельзя пускаться как попало — наплачешься!
— Эй, по местам давай! — наконец командовали конвоиры. — Поехали!
И надо было натягивать шубу, туго подвязывая большим платком воротник, по скрипящим ступеням крыльца спускаться в глухую черноту северного утра, падать в сани и сразу зарываться в солому, чтобы не растерять понапрасну даже малой доли домашнего тепла, запасенного на ночевке.
Лежа в санях и чувствуя, как быстро пробирается холод под шубу и особенно к ногам, Дубровинский думал: а что было бы с ним, если бы в Красноярске не повидался он с Яковом и тот не прислал бы ему вдогонку, уже в Енисейск, эту шубу и оленьи унты.
Там, в пересыльной тюрьме, попутчики по этапу с удивлением спрашивали: «Товарищ Иннокентий, что же вы и до самого места собираетесь ехать вот в этой короткой куртке, шапочке пирожком и в штиблетах с галошами?» И он ответил не то чтобы уж совсем беззаботно, а в общем весело: «Пришлют шубу и шапку, я надену их, а ежели не пришлют, то и так поеду. Добрался же я сюда из Красноярска». Ему тогда повезло, январь в округе Енисейска оказался на редкость не очень суровым, и он тогда еще не знал и не мог предположить, что такое настоящее дыхание зимы в приполярных сибирских широтах, в этой самой всех пугающей «Туруханке». Какое же огромное спасибо Якову!
С ним он встретился незадолго до отправления этапа из Красноярска. Он совершенно потерял на это надежду. Один в пересыльной тюрьме, без права выхода на волю, другой хотя и здесь же, в этом городе, но под чужой фамилией, прячется от зоркого полицейского ока. Как одолеть эти преграды?
И вдруг открылась дверь камеры, надзиратель позвал: «Дубровинский, на свидание». И отвел не в общую «залу», а в какую-то крохотную конурку, где — он глазам не поверил — сидел и дожидался Яков. Надзиратель сухо сказал: «Десять минут, господа! Строго десять». И удалился, бренча ключами, оставив их только вдвоем. Дубровинский понял: надзиратель подкуплен. И риск для Якова большой. Узнай тюремное начальство, кто он такой, и не выйти уже ему из этих стен.
Они обнялись, заговорили торопливо:
«Ну как ты, Яша?»
«Не Яша — Аркадий Николаевич Розов, служащий фирмы „Ревильон“, — засмеялся Яков. — Иначе бы мне с тобой не повидаться. Я ведь приписан к Кежме на Ангаре. Сбежал оттуда. Что там делать? А в Красноярске решил остаться, здесь много рабочих, депо, железнодорожные мастерские, в которых после восстания девятьсот пятого года остались навечно следы от пуль Меллера-Закомельского. Знаешь, это напоминает мне баррикады на Пресне в Москве, когда артиллерия Мина обрушила на них свой огонь. Тут тоже революция подавлена, но не убита. Есть с кем вести партийную работу».
«Ты тянешься к меньшевикам, Яша, почему? Верно ли это?»
И Яков снова засмеялся:
«Тянусь я к тем, кого вы, большевики, называете партийцами-меньшевиками. А верно ли это, не знаю. Мне кажется, верно. Очень уж тяжко в подполье, а если наша партия полностью станет легальной…»
«…Тогда, Яша, не будет никакой партии. Тогда уж лучше сразу записываться в кадеты! Нужно ли это доказывать? У меня самого, ты знаешь, бывали колебания — характер мой! — все ищу пути внутрипартийного примирения. Обожгусь — отдерну руку! Но нельзя же без конца так баловаться с огнем. Ленин, с которым я…»
«…и которого мне недостает, Ося, — теперь перебил его Яков. — Ленин статьями своими и меня убеждает. Однако есть ведь и житейская обстановка, она тоже давит на сознание человека. Но я подумаю над твоими словами, подумаю. Во всяком случае, с теми меньшевиками, которые стремятся к расколу партии, я никогда не пойду. Будь спокоен».
«Тогда что же тебе мешает стать уже сейчас большевиком?»
«Узнаю брата! Сразу: вынь да положь! Ничто не мешает. И ты считай меня таковым. Не разводить же нам политическую дискуссию в этих стенах да еще в пределах отпущенных только десяти минут. А без шуток, Ося, подумаю, серьезно подумаю. И знай: за дело революции, понадобится, я жизнь отдам. Надеюсь, в этом мы с тобой не расходимся?»
«В этом, Яша, проще всего не разойтись».
«Ну и ни в чем другом не разойдемся! Помнишь, на баррикадах Пресни мы с тобой были вместе?»
В дверном замке заскрипел ключ. Они стали прощаться. Яков успел спросить о здоровье Анны, своих племянниц, о том, как поживает тетя Саша. И тут же прибавил, что забыл передать привет от своей «тети Саши», которую он, правда, называет Шурочкой, а все другие Александрой Дмитриевной Муниц, поскольку ей пока нельзя переменить паспорт на фамилию Дубровинской. И снова они обнялись.
Вошел надзиратель, немо развел руками: пора.
«Ты хорошо ли одет в дорогу?» — спросил от двери Яков.
«По-честному, неважно. Я полагал, что в здешней тюрьме продержат меня до открытия навигации».
«Новый крупный этап прибывает, — доброхотно объяснил надзиратель, — а у нас и без того переполнение, не поперек же людей друг на друга складывать».
…Дубровинский ежился, подтягивал ноги к животу, стараясь поглубже зарыться в солому, но не так уж толст был ее слой, и там, внизу, от днища саней еще сильнее тянуло ледяным холодом. Когда же, когда настанет конец этой дороге?
Он проделывал окошко в соломе, переворачивался на спину. Если это было утро или вечер, ночь, в черном небе качались крупные звезды, днем все застилал серый морозный чад. Его шуба, унты… Конвоиры и возницы поверх таких же овчинных шуб были одеты в просторные дохи и в унты ноги всовывали не в шерстяных носочках, как у него, а в жарких чулках из собачьих шкур.
Подолгу бежать за санями, разминаться он не мог, начинались острые режущие боли в груди и всего обдавало испариной, что на морозе страшнее всего. После такой пробежки его одолевала неимоверная усталость и сразу кидало в какой-то странный сон: ему мерещились бог весть какие далекие картины, и в то же время он отчетливо слышал и скрип полозьев и хрипловатый голос возницы, понукающего коня.
Он видел себя в поезде совсем еще мальчишкой, спешащим из Кроснянского на именины тети Саши. Василий Сбитнев со своей песенкой: «Г-город Ник-кола-пап-паев, французский завод…» И короткий, предупреждающий жест, в конце вагона появился шпик. Холодок, пробежавший по сердцу: вот кого они ищут!
Костя Минятов, с простодушной улыбкой рассказывающий, за что его исключили из университета. И его Надеждочка, отплясывающая возле рождественской елки. А под кроватью — ящик с прокламациями. Все хорошо!
Снежная баба во дворе, веселая возня мальчишек и обжигающее известие, принесенное Родзевичем-Белевичем: разгромлен «Союз борьбы», Ульянов арестован. Тревога, острой болью защемившая сердце.
И собственный первый арест. Не то допрос, не то беседа с Зубатовым. Записка от Корнатовской, запеченная в кулебяку. Встреча с Серебряковой, слезинки в ее глазах.
Яранская ссылка, грустные и в то же время полные веры в будущее рассказы Радина. Его отъезд в Ялту и телеграмма, присланная оттуда: «Не стало Леонида Петровича». Свет словно бы потускнел. Трагической иронией звучат строчки стихов Гейне: «Во сне с государем поссорился я — во сне, разумеется; въяве так грубо с особой такой говорить считаем себя мы не вправе». А вот слова самого Леонида Петровича: «Смело, товарищи, в ногу! Духом окрепнем в борьбе».
И Астрахань, берег Волги, усыпанный арбузными корками, рыбак, похожий на Стеньку Разина; Самара, беседы с Книпович, вернувшейся со Второго съезда, авантюрное бегство из-под носа гостиничных шпиков с корзиной, набитой прокламациями. Эх, снова бы так лихо проскакать на извозчике!
Мороз обрывал эти далекие видения, заставлял бороться с сонливостью: можно заснуть так, что потом потащат тебя на руках. Вставай скорее и опять и опять беги за санями…
Так изо дня в день. Снега, снега, торосы, затянутая туманом даль, мглистое небо днем и бездонно черное ночью, да бесконечные метели, приходящие на смену сухому морозу. И неумолчный скрип саней. Он мерещится даже в заезжих избах, когда садишься за вечерний стол, когда, распаренный теплом железной печки, блаженно вытягиваешь ноги и собираешься окунуться в бестревожное забытье, не думая, что спать нельзя. Этот скрип выматывает душу.
4
В село Монастырское, центр политической ссылки Туруханского края, обоз притащился на семьдесят третьи сутки пути. Отсюда ссыльных должны были развезти по разным станкам.
Но что-то не ладилось и в без того неторопливом административном механизме. Каждый день поутру Дубровинский обязан был являться в канцелярию всевластного здесь «отдельного» пристава Кибирова, отмечаться в специальной книге и выслушивать одно и то же: «Сегодня оказии нет, отправки не будет. Устраивать сходки и митинги запрещено». Но митинги и сходки получались как-то сами собою. То в ту избу, куда на время поместили Дубровинского, набивались люди «на огонек», то его уводили «в гости» к себе, и таких гостей набиралось достаточно, чтобы разговоры приняли политическую направленность. А Дубровинский, знающий так много, для всех был интересен. Истомленный тяжелой дорогой, он все равно не отказывался от выступлений. Докладывал, разъяснял, спорил.
Полиция в дома не врывалась, не разгоняла эти сходки, но свой какой-то черный список на них вела. И однажды Дубровинского вызвали к самому «отдельному».
— Вы были предупреждены о недопустимости организации сходок и митингов, участия в таковых? — строго спросил Кибиров, вместо приветствия лишь едва кивнув головой.
— Именно за это — неподчинение властям — я и сослан сюда, — ответил Дубровинский.
— А я вас спрашиваю: были ли вы предупреждены?
— Неоднократно. Но это меня не касается. Все, что я делаю, делаю на виду.
— Так, — зловеще произнес Кибиров. — А вы что же, не собираетесь по окончании положенного срока покидать эти места? Или полагаете, что о вашем поведении здесь будут даны благоприятные сообщения? Ссылка, господин Дубровинский, назначается не только для изоляции неблагонадежных лиц от той среды, в которой они возбуждают дух недовольства властями предержащими, но и для исправления образа мыслей этих неблагонадежных лиц.
— На добрые обо мне сообщения я не рассчитываю и не нуждаюсь в них, — сказал Дубровинский. Его начинало выводить из себя чванство пристава. — А что касается срока ссылки, надеюсь его сократить без вашего участия. И оставаясь при неисправленном образе мыслей.
— Сиречь побег? — насмешливо спросил Кибиров. — Обычно все прибывающие вожделенно думают о побеге и все эти свои думы скрывают. Вы говорите с похвальной откровенностью. Готов и вам ответить тем же. Имею относительно вас особое предупреждение. Для личного наблюдения за вами будет приставлен отдельный стражник, прибытия коего для сопровождения вас в Баиху мы и ожидаем.
Все стало ясно. Дубровинский повел плечами.
— Какая честь! Но я предпочел бы иметь для личного наблюдения врача, а не стражника. Из сопроводительных документов вы должны знать, что я болен. И тяжело.
— Подразумевается, что все ссыльные здоровы, — отрезал Кибиров. И сделал знак рукой: можете идти.
Стражник явился только на четвертый день после этого разговора. Весь запорошенный снегом, он пришел в дом, где поселился Дубровинский, поздним вечером, назвался Степанычем и объяснил, что очень уж тяжела сейчас дорога до Баишенского, откуда он едва-едва пробился в Монастырское, — такие были снегопады. Немного сутуловатый, с окладистой, но не длинно отпущенной бородой, с глубокими оспинами на скулах, он как-то сразу расположил к себе Дубровинского тем, что заговорил просто, доверительно, не стремясь выказывать над ним свое превосходство в силе — и чисто физической и в силе данной ему власти.
— Тамошний я, — рассказывал он, расположившись здесь же, где и Дубровинский, на ночлег, — живем в Баихе давненько. А чего же? Жить можно. Особо если на жалованье. А тебе, Осип, — он уже знал, как его зовут, — по первости трудновато достанется. Вижу: тощой ты и вообшше складу хилого. Да ничего, обвыкнешь за четыре-то года.
Они пили горячий, обжигающий чай, и Степаныч угощал Дубровинского вяленой нельмовой тешкой — жирной брюшиной. Ножом, похожим на кинжал, кромсал на крупные куски как следует еще не оттаявшие пшеничные калачи.
— Ешь, — уговаривал он, — не стесняйся. С рыбьего жиру худо не будет да ишшо с нельмы, царь-рыбицы. Тебе говорю, очень даже пользительно. Зубы крепит. Ишшо не шатаются?
— Десны стали слабые, — Дубровинский жевал тешку. И действительно, этот жир ему не был противен. — А вы, Степаныч, что же, только ко мне и приставлены? Так, по пятам, и станете всюду ходить?
— Перво, Осип, давай уговоримся: не «выкай» ты меня, душа не терпит. Друго: чего я за тобой по пятам ходить стану? Аль ты сказанул это шутки ради? На моих заботах вашего брата в Баихе будет с тобой семеро. Ино дело, что насчет тебя предупреждение от пристава. Сбежит, сказал, голову тебе срублю. Ну, вот сам теперь и соображай, что к чему.
— Так уж и срубит голову, — усмехнулся Дубровинский.
— Само собой, для красного словца сказано. А только жисть он мне тогда все одно шибко попортит. С его тоже будет немалый спрос. Да это все что — сам ты не за понюх табаку в побеге сгинешь. И выйдет: ни тебе, ни людям. Ты из мысли своей это начисто выкинь.
— Выкидывать подожду.
— Знаю: где-то ты убегал уже. А только с Туруханкой нашей никаки други места не сравнивай.
— И отсюда люди убегали, — Дубровинский слегка поддразнивал Степаныча, явно расположенного к нему.
— Убегали, — согласился Степаныч. — И порознь и гуртом. Да прямо скажу, телом куды покрепче тебя. А вышло — шишло. Летом на пароходе ты отсюдова не уплывешь, подумай сам, как ты на него проберешься и кто и где тебя там спрячет. На лодочке плыть противу течения Енисея почитай полторы тысячи верст — ну это курам на смех. Где нигде, а на глаза людям таким, что выдадут, ты попадешься. А за выдачу три рубля от казны полагается — деньги. Зимой побежишь, и еще хуже. Тут уж ты поселения людские никак не минешь. И дороги ведут через них, и поспать в тепле, и пожрать нужно. А мороз, а пурга? Ты в этапе хлебнул этого вдоволь? Так там тебе ни о чем заботы не было, повезли — привезут. Побеги-ка сквозь здешнюю пургу один, пеший! И костей твоих никто никогда не сыщет, со льдом в море их весной унесет.
— Запугал, совсем запугал, Степаныч. В одиночку не побегу.
Дубровинский выдерживал свой ровный, чуть насмешливый тон в разговоре, а Степаныч все больше входил в азарт. Ему и в самом деле хотелось попугать этого политика, замученного долгой дорогой, но с какой-то негаснущей доброй улыбкой на лице, попугать, а в то же время и по-серьезному предостеречь. Хилый, хилый он, да ведь леший его знает, какую штуку может выкинуть, не зря, поди, пристав грозится срубить голову, коль его проворонишь.
— А куды — не в одиночку? — Степаныч суетливо разводил руками, словно карты игральные по столу раскладывал. — Было три года назад. Фамилия ему — Дронов, а вроде как Емельян Пугачев собрал со всех станков вашу ссыльную братию, человек тридцать, и ударил этим войском по Туруханску. Оружия у них, ясно, шиш на постном масле, а кого-то из охраны в Туруханске все-таки убили. Ну вот, пожег он присутственные места с казенными бумагами, из тюрьмы повыпустил и политиков и уголовников. Объявил, слышь ты, наш край Туруханской республикой. Ну и что?
— Что? — переспросил Дубровинский, не дождавшись продолжения рассказа.
Степаныч только отмахнулся. Молча стал наливать чай себе, Дубровинскому. Взял кусочек колотого, головного сахара, обмакнул в чай, пососал.
— Спрашиваешь что, — наконец заговорил он. — А чего другое? Вот ты въехал сюда не в республику эту самую, нет ее и в помине, как было, в ссылку приехал. Нет и Дронова и всего его войска мятежного, прибыли казаки из Красноярска — с ходу всех перестреляли. Вот те и республика! Попробовали дроновцы, которые в живых еще остались, отступить. А куда? В тундру. А куда потом? Еще дальше, в Америку. Ты вот ученый, Осип, тебе рассказывать не надо, где она отсюда, Америка эта самая, находится. Ни верстами, ни днями, черт до нее путь от Туруханска не мерил, а морозами, пошибче, чем даже эту землю нашу, все побережье океанское окостенил. Ну и… в обшшем побегали. Вот тебе и расклад простой: направо пойдешь — коня потеряешь, а куды без коня; налево пойдешь — рук лишишься; а прямо — головы не сносить.
Встал из-за стола, погладил живот, сытно отрыгнул и присел на корточки у железной печки, стал раскуривать самокрутку. Дубровинский потрясенно молчал. Рассказ Степаныча не напугал его, хуже — он убивал своей безнадежностью и какой-то неоспоримой доказательностью. Так неужели придется прожить здесь целых четыре года, подавив в себе даже мечты о побеге?
Он мысленно представил себя бредущим по ночам вдоль черной снеговой равнины Енисея, вздыбленного ледяными торосами. Сечет в грудь, в лицо злая пурга, сбивает с ног, пустая котомка, где был какой-то запас сухарей, болтается на боку — есть нечего. Негде и обогреться, переночевать. И всякая встреча, попутная подвода, неизвестно — враг тебе или друг. Сюда с этапным обозом пробивались семьдесят три дня. Сколько дней нужно, чтобы пешком одолеть этот путь? Он почувствовал, как тесный и горячий обруч сдавил ему грудь.
— Ладно, Степаныч, торопиться не стану, — скорее себе самому, чем стражнику, сказал Дубровинский, тоже отодвигаясь от стола и заглядывая в угол, где стояла железная койка, — надо бы полежать.
Степаныч выдул в топочную дверцу длинную струю густого табачного дыма. Сочувственно кивнул головой.
— И то, на тот свет никогда торопиться не следует, для того света у каждого времени хватит, — он распрямился, цыркнул через зубы слюной на пол. — А я подумал, где бы лучше в Баихе тебе поместиться. Шибко тесно на станке люди живут, чтобы отдельную, скажем, тебе квартеру. А с кем другим из политиков вместе — подумай. Есть Трошин, шу-умный мужик, заводной, из эсеров он, спокою тебе, ежели с ним, не будет. А квартера ничего, и хозяева ладные. Есть Гендлин и Коган. Те и так вдвоем уж. Но ребята славные, балалаечники. Каждый вечер по струнам лупят, живут весело. Кажись, из меньшевиков. Но попросишься, — думаю, примут. Есть Трифонов. Из большевиков. Молодой, двадцать второй год ему, но суровый. Было — под расстрел едва не попал. Есть Денисов, Шадрин. И вот еще Филипп Захаров. Один. Этот с Трифоновым одногодка. Крестьянского происхождения, тихий, неразговорчивый, больше сам послушать любит. А поди ж ты, на пять лет его сюда закатали. Революцию делал! Я бы, Осип, тебе на него показал. Изба, конечно, так себе, — Степаныч сладко потянулся, словно бы прислушиваясь, не похрустывают ли у него суставчики. Засмеялся: — Этот самый Филипп не то чтобы рыжий, а волосом своим прямо-таки золотой. На станке за ним прозвище — «солнышко». Девки заглядываются. А он на этот счет ни-ни. Толкнемся к нему?
— Нет, вези меня, Степаныч, к такому хозяину, где можно пожить одному. Мне пока даже «солнышко» будет лишним, — устало сказал Дубровинский, откидывая на постели сшитое из разноцветных клинышков ватное одеяло. — А сейчас спать. Утром надо рано ли подниматься?
— Подыму, — успокоил Степаныч. — Когда будет надо, тогда и подыму. А завезу я тебя, однако, тогда к Савельевым, к деду Василию. Не откажет. Старик хороший.
Он подошел к окну, заметанному толстым слоем инея, поцарапал ногтем. Покрутил головой, щелкнул языком, тихо выругался. По стеклу снаружи туго хлестала жесткая крупа разыгрывающейся метели.
5
Огромные ледяные поля, толкаясь и с жестким хрустом врезаясь друг в друга, двигались медленно, безостановочно уже вторые сутки. Случалось, что льдины становились на ребро и вовсе переворачивались, взблескивая острыми, голубоватыми гранями. Иные из них врезались в берег и там пропахивали глубокие борозды, выворачивая камни, разламывая осевший с осени плавник, который жители поселка не успели повытаскать и распилить на дрова. Льдины тащили на себе и совсем живые деревья, ярко-зеленые сосны и кедры, на высоком подъеме воды вырванные с корнями.
Лед на Енисее двигался вторые сутки. И вторые сутки жители Баихи, стар и млад, стояли, сидели на берегу, любуясь грозной силой реки. Они отходили, чтобы вздремнуть, поесть и сделать необходимые домашние дела, а потом снова тянулись сюда, боясь упустить радующий сердце момент, когда от берега и до берега откроется совершенно чистая вода и по ней, словно лебеди, покачиваясь, поплывут лишь отдельные мелкие льдины. Значит, конец той трудной поре, когда из поселка никуда податься нельзя, ни по реке, ни по берегу, когда все раскисло, раздрябло, и только отрада уткам и журавлям, прилетевшим на оттаявшие тундровые озерки и болота. Можно стаскивать лодки, начинать неводить — свеженькой рыбкой побаловать душу.
Горели костры. Не ради того, чтобы погреться, — для этого одежку надень потеплее, — костры жгли потому, что таежному человеку сидеть возле их пламени и всегда бывает как-то по-особому весело, а тут из праздников праздник. Играла гармошка. Девчата с парнями на самом высоком бугре отплясывали «подгорную», крутили кадриль. Мужики проверяли рыболовную снасть, а бабы уже нетерпеливо отчищали золой и солью котлы, чтобы первая ушица удалась повкуснее.
Общая радость захватила и ссыльных. Может быть, даже в большей степени, нежели старожилов Баихи. Закончится ледоход, и вскоре пойдут по реке пароходы, повезут почту, посылки из дому, от друзей. Зимой все это доставлялось от случая к случаю, а распутица и совсем отсекала от мира. Гендлин с Коганом присоединились к гармонисту и на своих балалайках так ловко подыгрывали ему, что он млел от удовольствия — слух у него был неплохой. Захарова — «солнышко» — девчата чуть не силком затащили на круг и, поглядывая с лукавинкой на его смущенное, в редких веснушках лицо, заставляли вместе с ними крутиться в кадрилях. Трифонов со стороны наблюдал за танцующими. С ним в компании держались Шадрин и Денисов. Трошин переходил от одного костра к другому, врезался в любые разговоры, сразу же поворачивал их на свой лад и потом говорил один, заколачивая кулаком в воздух незримые гвозди.
Дубровинский на обрубке лиственничного бревна сидел рядом с дедом Василием. У него сладко кружилась голова. И от бесконечного движения льда перед глазами и от томящего чувства приливающей силы. Остаток зимы здесь, в Баихе, достался ему тяжело. И не очередной туберкулезной вспышкой, которая на удивление ему самому была недолгой, — угнетала обстановка, такая отрешенность от всего привычного, какой он никогда в жизни еще не испытывал. Даже в тюрьмах.
Он мог свободно разгуливать по поселку, заходить в любой дом, с кем угодно и о чем угодно разговаривать. Но с кем и о чем? Главное, для чего? Убить время? Он был всегда человеком практического действия, перед ним всегда была какая-то определенная ближняя цель. Здесь он словно провалился в пустоту. Вести организационную работу? Кого и как организовывать? Открывать дискуссии? С кем и о чем? Писать политические статьи? Куда и кому их посылать? Заняться переводами? Он в ссылку с собой не сумел захватить почти ничего. А валяться на постели, слушать вой пурги и, когда наступали оттепельные дни, бесцельно шататься по улице он просто не мог. Единственное, что оставалось для души, для того, чтобы заставить мозг работать целенаправленно и напряженно, — это составлять и самому же решать сложнейшие математические задачи, в том числе и такого рода, которые считаются вообще нерешаемыми. Да еще по случайно захваченному с собой немецко-английскому словарю овладевать английским языком.
Еще в Париже он стал испытывать злую тоску от бессилия сделать что-то большое, важное. Потому он так и рвался в Россию к серьезной работе. Здесь он опять был «не в России», и тоска от бессилия стала грызть еще сильнее.
Заходил Трошин. Своим крепким красивым баритоном произносил длинные монологи о необходимости новой волны террора против властей. Дубровинский иронически замечал: «Не собираетесь ли вы изготовить бомбу и бросить ее в Степаныча?» Трошин, рассерженный, удалялся.
Шадрин и Денисов держались в сторонке, не замыкаясь, но и не навязывая себя в близкие друзья. Они с готовностью брались выполнить любое поручение по связям с политическими ссыльными на других станках и охотно вместе с другими слушали рефераты Дубровинского, с которыми он от времени до времени выступал в этом узком кругу, но собственной инициативы ни в чем не проявляли. Знали, пока срок ссылки не закончится, любые слова, сказанные здесь, дальше Баихи все равно никуда не уйдут, повянут в таежной бескрайности.
Неулыбчивый Валентин Трифонов рассказывал, как он со старшим братом участвовал в ростовском восстании тысяча девятьсот пятого года, как восстание было подавлено и по приговору военно-окружного суда брат получил десять лет каторги, а он — без суда — административную ссылку в Тобольскую губернию. Оттуда бежал, работал в революционном подполье и вновь попадался, и снова бежал. И вот теперь оказался на три года привязанным к «Туруханке». Их с братом судьба была бы и еще горше. Брата, как одного из главарей восстания, расстреляли бы, но они при аресте сообразили назвать себя Евгений — Валентином, а Валентин — тогда несовершеннолетний — Евгением. И брату «по молодости» расстрел заменили каторгой. Он же, Валентин, теперь носит имя брата. Для всех он Евгений.
Гендлин и Коган всегда были рады посещениям Дубровинского. Тут же затевали чаепитие, выпрашивали у хозяйки соленых груздочков, вяленой рыбы, а на заварку шли смородиновые листья, цветы белоголовника и чаще всего березовый гриб — чага. Охотно устраивали свои балалаечные концерты. Оба, и особенно Гендлин, играли виртуозно, а сердце Дубровинского их игра почему-то никак не затрагивала. Скорее, даже вызывала прилив непонятного раздражения. Поговорить они любили, только не о политике: похоже, она им надоела. У Гендлина как-то раз с досадой сорвалось: «Попали ни за что, теперь бы нас не сослали». Оба они были меньшевиками-ликвидаторами и учитывали, что власти к меньшевикам в последнее время стали относиться намного снисходительнее, нежели к большевикам.
Приятнее всего складывались беседы с Захаровым. Но Филипп был очень стеснителен, робок, говорил, что ему прямо-таки неловко своей необразованности, хотя он все же окончил землемерное училище и готовился к поступлению в университет, тогда как у Дубровинского было за спиной только реальное училище. Впрочем, и жизнь. Одиннадцать лет разницы в возрасте и сами по себе кое-что значат, а если еще эти одиннадцать лет…
Филипп иногда нерешительно просил: «Иосиф Федорович, вы меня научите чему-нибудь, что так хорошо знаете сами». И это, пожалуй, самое радостное здесь — передавать человеку свои знания. Филипп — ученик прилежный, понятливый.
Льдины все так же тянулись нескончаемой чередой, но теперь они стали помельче и не так угловаты, иногда между ними возникали оконца чистой воды. Дед Василий, тыча палкой в сторону Енисея, рассказывал Дубровинскому о том, какие здесь бывают заторы, как лед громоздится на берегах, всползая этак сажен на двадцать вверх, а после, когда затор прорвется и вода упадет, спуститься, подойти к реке через ледяные валы бывает никак невозможно. Топорами приходится прорубать дорогу.
— Ух, и силища же в нашем Енисее! — влюбленно говорил он, потряхивая узкой, длинной бородой. — Только не взять ее человеку. Да и то, куда повернуть силу экую? В мельницах жернова, что ли, крутить? Так тут столько мельниц можно наставить, что зерна, собери его со всей России, на неделю работы, поди, не хватит.
— Придет пора, Василий Николаевич, и Енисей во всю свою силу на пользу человека заработает. — Дубровинский и сам не представлял, как это может быть, как обуздать такую стихию, но невольно зажегся мечтой старика.
— Читал тут книжку Трошин, — заметил Василий, — будто синица где-то спичкой море зажгла. Разве вот прилетит такая синица?
— Да нет, Василий Николаевич, — засмеялся Дубровинский, — та синица только похвасталась, а море как раз и не зажгла. Басня это!
— А-а! Сказка, значит? Я наоборот было понял. Так вот тебе быль: купец Шарыпов по Ангаре нарубил полторы тысячи бревен самого лучшего лесу и на пробу погнал самосплавом до океана, чтобы поднять его там на большие чужеземные корабли, продать с большой выгодой. Пройдет дело — порублю миллион! Ну, доплыл лес до Бреховских островов, там и замерз. Не проникли к нему корабли. А шумел Шарыпов: «Заработаю! Новый, богатый путь сибирскому лесу открою!» Выходит, та же синица. Ты подумай, Осип: сквозь лед, да не такой, — Василий вновь ткнул палкой в сторону реки, — а куда толще — на Севере-то! — затеял он в низовья Енисея морским кораблям пробиваться! Чистая блажь человеческая!
Он насмешливо тряс бородой. А Дубровинскому вдруг припомнилась заметка, прочитанная им в одной из московских газет незадолго до ареста. Там говорилось о подготовке экспедиции, одной из целей которой будет проложить надежный торговый путь из Архангельска на восток через льды Белого, Баренцева и Карского морей к устью Енисея. А возглавит экспедицию не кто иной, как Русанов, тот самый Володя Русанов, с которым они вместе когда-то создавали марксистские кружки в Орле. Потом Русанов учился в Париже, вернулся на родину, уехал в Петербург, и повидаться с ним не пришлось. Теперь вот эта ползущая белая лента льда как бы вновь их соединяет. Хотя бы только мысленно. А вдруг Владимир дойдет до Енисея и поднимется вверх по нему? Смешно подумать: до Баихи. Вот была бы встреча! А что? Ведь уходил же в полярное плавание капитан Шваненберг на своей шхуне «Утренняя заря» даже из Енисейска!
— Почему же блажь? — возразил Дубровинский. — Прокладкой Северного морского пути толковые ученые занимаются.
— Ну, наука, она, конечно, все может, — нехотя согласился Василий. — На моей ребячьей памяти еще с кремневками старики на промысел ходили, потом наука пистонки придумала, а теперь молодые ребята и берданками обзавелись. Удобствие — с патронами-то! Зато и зверя всякого, а особо пушного, в тайге стало куда поменьше. Вот и порадуйся той науке! Она одной рукой вроде бы и дает, а другой обратно отбирает.
— Зверя не наука поубавила, — снова возразил Дубровинский. — А жадность человеческая…
— Ну, паря, это ты совсем не туда загнул, — с обидой перебил Василий. — Бьют, конечно, с теми же ружьями новыми зверя больше, да не от жадности, а от нужды. Изба-то у меня уже набок валится. — Он поднял палец кверху. — Еще мой дед ее ставил, а новую могу я срубить? Так и у каждого здесь мужика. А ты — жадность!
— Имел я в виду, дедушка, жадность тех, кто пушнину скупает, — терпеливо дослушав Василия, объяснил Дубровинский. — Барыши им, а не вам достаются. Вот охотников они и понуждают бить зверя побольше.
— Ну, оно, конечно, так! — с прежней неохотой согласился Василий. — Только от этого никуда ты не денешься. Потому нам наука или не наука, чего бы там где ни делалось, — он махнул рукой в сторону юга, подразумевая ту всесильную власть, которая давит оттуда, — нам разницы нету. Думай, как зиму прожить.
Дубровинский не стал продолжать спор. Не в первый раз завязываются у него с Василием разговоры, а конец всегда один: старик покорен судьбе. Хороший он, душевный человек, и жена его, бабка Лукерья Филипповна, очень хорошая. Но весь интерес у них: как зиму прожить. Вот сейчас только лишь весна наступает, а они говорят уже о зиме. Потому что лето человек, и не думая, проживет. И Дубровинский весь как-то съежился от угнетающей мысли, что теперь ведь и он находится в таком же положении: должен думать, как ему новую зиму прожить.
А дед Василий, щурясь на солнце, прикрытое серым облаком, между тем умиротворенно бормотал:
— Под воскресенье, пить дать, свежей рыбы наловим, эх, и уху заварим! Осетра сразу не возьмешь, а муксуна и сельдятки достанем. Черемша по ручьям скоро появится, штука для зубов очень пользительная. Весна! Не пропадем…
По косогору щетинилась, поднималась зеленая травка. Редкими звездочками теплились желтые головки одуванчиков. На тропинке, ведущей к реке, суетилась веселая стайка воробьев. Два рыженьких теленка, задрав хвосты, вперегонки носились вдоль берега. Сочно, раскатисто каркала ворона.
Подошел Филипп, раскрасневшийся, поправляя вокруг пояса сбившуюся в складки рубашку. Поздоровался. Дед Василий посмотрел на него многозначительно, крякнул:
— Разогрели-таки девки тебя. Ну, озорные! Которая больше тебе приглянулась, Лизавета или Марея? С которой любовь закрутил бы?
— Да что вы, дедушка! — Филипп сконфуженно отвернулся. — У меня никогда такого и в уме даже нет. Проходил мимо…
— А чего же, паря, мимо-то? — Дед Василий поощрительно улыбался. — В поселке нашем шесть девок-невест, а своих парней, женихов, и всего четверо. Это, паря, не шуточки. Вековухой кому же из девок хочется оставаться? А годы идут, их не задержишь.
— Годы идут, их не задержишь, — механически вслед за Василием повторил Дубровинский.
И подумал, что ведь ныне ему самому исполняется тридцать четыре, а словно бы прожито целых сто лет — так быстро мелькнули годы. И хотя здесь, в Баихе, для него время как бы совсем остановилось, привязав его только к избе и вот к этому берегу Енисея да еще к книге стражника Степаныча, в которой обязательно надо расписываться каждый день в подтверждение того, что он, Дубровинский, не сбежал, хотя время потеряло привычное значение энергичного действия, но ведь по календарю уже нет в жизни целого года! Он рассыпался на мелкие, однообразные, бесполезные дни…
— Иосиф Федорович! Иосиф Федорович! — наконец дошло до сознания Дубровинского, что его несколько раз окликнул Филипп, завершив свой довольно продолжительный разговор с дедом Василием.
— Да, да, я слушаю, — отозвался он.
И снова увидел туго движущийся лед на реке.
— А я, кажется, решил ту вашу задачу, Иосиф Федорович, — с торжеством проговорил Филипп. — Помните, насчет восьми кубов разного веса?
— Если только «кажется», значит, не решил, — качнул головой Дубровинский.
— Ну, это я потому так сказал, что нет ведь задачника, чтобы в ответ заглянуть.
— Правильное решение, Филипп, — заметил Дубровинский, — решение, в котором уверен, надо защищать, не заглядывая на последнюю страницу, даже если бы у тебя был задачник с ответами. Ну и какой получился результат?
— На память не назову, — признался Филипп, — если позволите, я потом принесу вам свою тетрадку. Там такие получились замысловатые уравнения! Ведь удельные веса кубов тоже были разные, а известных величин всего только три.
— В этом вся и штука. Надо сначала вдуматься, в какой последовательности расставить кубы.
— Точно, Иосиф Федорович! А я было сразу кинулся искать решение независимо от их расположения. Ничего не выходит! Потом вдруг озарило: а почему они все должны стоять в одном ряду? Ведь если каждый ряд будет начинаться с известной величины…
— Можешь не продолжать. Тогда не «кажется», а решил. Но и в один ряд эти кубы можно поставить, только…
— …каждый из известных вроде бы начинает особый ряд! Интересно!
— Погоди, Филипп, — Дубровинский оживился, — вот пойдут пароходы, привезут мне посылки, я из дому и от друзей выписал много книг. Разных. И по математике, и по истории. Преподаватель я никудышный, но будем вместе разбираться. Нет такого, чтобы нельзя было понять.
Дед Василий следил за их разговором с восхищением: ученые! Одно дело — наука, которая существует где-то там, сама по себе, невидимая, другое дело — живые люди! А Осип этот из всех башковитый, с кем из политиков ни вступит в спор — тут же киснут. Раньше Трошин над балалаечниками и Филиппом Захаровым и вообще над всеми держал себя за главного, а Осин тихо, без шума Трошина самого к земле припластал.
— Дедушка, а когда пойдут пароходы? — спросил Филипп.
— Ну, это по-разному. Бывает, что и сразу на хвосте у ледохода от самого Красноярска плывут. А иной год Ангара путь перережет, жди капитан, пока она свой лед в Енисей выпустит, тоже река могучая, с ней не шути. Да уж как там ни сложится, — он радостно потер руки, — а скоро, скоро у нас первый гудочек загудёт. Это праздничек повыше всех других. Словно бы ты долго под замком — и вдруг дверь к тебе распахнулась.
— Да только не всякому в эту дверь выйти можно, — сказал Дубровинский.
И поднялся с бревна. Ему почему-то стало зябко и неуютно и больше не хотелось смотреть на движущийся лед.
— Оно конечно. — Старик понял, что нечаянно причинил боль хорошему человеку, вздумал поправиться: — Время наступит, и тебе дверь откроется. А загудёт первый пароход, как же на берег не побежать? Все пойдут до единого. Хорошо-о! И ты тоже. Сам не побежишь — ноги тебя силком потащат.
Дубровинский усмехнулся. Очень уж убеждающе говорил дед Василий. И в общем-то, пожалуй, правильно. Он шел домой, разговаривал о разных разностях с Филиппом, которого позвал к себе, чтобы наделить его новой самоизобретенной задачей, для решения которой требовались не только строгая математическая логика и определенные знания, но еще и простая, «мужицкая» смекалка в самом подходе к решению, — разговаривал с Филиппом, а сам между тем думал о первом пароходе, о том, что он ему привезет. Так давно ни от кого не было писем!
6
Ночами теперь он внезапно просыпался, ему чудились гудки. Но дед Василий со своей бабкой Лукерьей спокойно похрапывали на другой половине дома, отделенной теплыми сенями. Уж они-то обязательно бы вскочили с постели первыми.
Дубровинский бывал в Петербурге в пору белых ночей, и те ночи были какие-то мягкие, задумчивые, здесь же они врывались в незавешенные окна ярким, раздражающим светом. Позже, к середине июня, ночи станут еще ярче, светлее. Тогда и совсем измотаешься от бессонницы. Странно: солнце, которого так не хватало зимой, теперь кажется лишним.
Истинный гудок парохода застиг Дубровинского за утренним туалетом. Он только что густо намылил щеки и правил на ремне бритву. В сторонке сидел Степаныч, зажав под мышкой «надзорную» книгу, и терпеливо дожидался, когда Дубровинский поставит в ней свою ежедневную подпись. Впрочем, спешить Степанычу было и некуда, утренним обходом ссыльных заканчивалась вся его обязательная служба. Он сидел и подавал Дубровинскому добрые советы, как лучше наводить острие бритвы, чтобы волос, падающий на повернутое кверху лезвие, одной тяжестью своей уже рассекался бы надвое.
И вдруг лицо Степаныча преобразилось, на мгновение стало каменным, нижняя губа отвисла, не выпустив какого-то недосказанного слова, а вслед за тем стражник взлетел со скамьи, хрипло выдохнул: «Пароход!» — и метнулся к двери.
В тот же миг в избу проник густой, сотрясающий стекла гудок, похожий скорее на рев какого-то фантастического зверя, столь живые слышались в нем переливы. Вслед за Степанычем немедленно выбежали и дед Василий с Лукерьей Филипповной. У порога дед оглянулся на Дубровинского, всплеснул руками:
— Паря, да ты чего же? — И седая его борода промелькнула уже за окном.
Дубровинский стоял в растерянности. Мыльная пена засыхала у него на щеках. А гудок, не умолкая, стучался в сердце, в виски, подкатывал к горлу теплым сладостным комом. Казалось, он доносится уже не от реки и заполонил собою всю окрестную тайгу и пасмурное небо, нависшее над землею в этот день. Нужно быть деревянным, бесчувственным идолом, чтобы не поддаться его победному, ликующему зову: «Люди! Встречайте! Встречайте! Вот я снова пробился к вам!»
И, смахнув где рукой, где полотенцем мыло с лица, так, недобритый, Дубровинский тоже побежал к берегу.
Там уже собралось все население Баихи, человек шестьдесят, считая и малышей, которых матери еще держали на руках.
Бесштанная ребятня, словно пароход вез для них необыкновенное счастье, визжала, кувыркалась и вступала в незлобные маленькие драчки между собой.
Девчата, бабы успели повязаться праздничными платками и теперь казались яркими цветами на зеленом берегу, круто переходящем в рыжий глинистый и галечный откос.
Мужики и старики держали себя степенно, как и должны держать себя люди, много повидавшие на своем веку. Но этот опыт и обязывал их тут же давать снисходительные разъяснения всем, даже тем, кто у них ничего не спрашивал, кому принадлежит пароход, сколько лошадиных сил в его машине, когда и где он построен, какой осадки и, предположительно, почему нынче задержался с приходом на целую неделю.
Гендлин с Коганом держали в руках балалайки, с ними совещался гармонист, какую им грянуть музыку, когда с парохода сбросят чалку и он, постукивая шестернями лебедки, начнет подтягиваться к косо врытому в землю толстому столбу-мертвяку.
А пароход, белый, словно облачко гудочного пара, все еще непрерывно мечущегося возле дымовой трубы, сделав красивый разворот посреди Енисея, теперь медленно и важно подплывал снизу. Стоя на мостике, капитан приветственно размахивал фуражкой. Первый рейс всегда и для него был радостью. На каждой пристани, на каждом станке у него были добрые знакомые. Первым рейсом он привозил им какие-то свои дары, а поздней осенью ответно увозил берестяные туеса с черной икрой и связки вяленых балыков.
Прогрохотала якорная цепь, матрос кинул на берег «легость» — тонкую бечевку, к которой был привязан конец металлического троса, — подбирать ее сразу бросилось несколько человек, и широкие плицы, ударив в последний раз, остановили свое вращение.
Трос, закрепленный на мертвяке, натянулся туго, но пароход днищем своим уже лег на камни, а полоса воды между ним и сухим камешником оставалась еще довольно широкой, которую никак не могли перекрыть сброшенные трапы, и в ход пошли рыбачьи лодки, сразу заполнившие свободное пространство. Их на шестах подгоняли подростки, ликуя, что оказались самыми главными.
Струнно-гармонный оркестр наверху заиграл веселую полечку, и все остальные, кроме Дубровинского и Захарова, побежали вниз, к пароходу. Там, на его обносе, уже шла невообразимая суета. Кто-то с лодок пытался взобраться на палубу, кто-то, наоборот, спрыгивал в лодки. Бабы издали, с берега, предлагали пассажирам свой товар — пучки черемши, жареную рыбу, творог, молоко, а пассажиры, не доверяя качающимся лодкам, зазывали торговок к себе.
Капитан в рупор кричал:
— Эй, Степаныч, почту, посылки, человека к себе принимай! Тут при мне почтовик из Монастырского, лежит пьяный, он велел, что адресовано в Баиху, не возить в Монастырь — сбросить здесь. Мое дело маленькое, забирай!
И Степаныч, заочно охлестнув почтовика трехэтажным матом, полез на пароход разбираться в посылках.
— А это и кстати, Иосиф Федорович, — проговорил Филипп, — что почтовый агент напился. Ежели бы везти в Монастырское, так нам не раньше как через неделю почту доставили бы.
— Он сказал: и человека какого-то сюда привезли, — заметил Дубровинский.
— Значит, тоже в ссылку. Больше кого же?
В кормовом пролете парохода, расталкивая взбирающихся туда торговок черемшой и рыбой, появились два матроса, нагруженные чемоданами, узлами, корзинами, дорожной постелью, стянутой ремнями. Они принялись сбрасывать багаж в ближнюю лодку. Женщина в городском пальто и шляпе, хозяйка этого багажа, никак не решалась спрыгнуть вслед за матросами, все примерялась то одной ногой, то другой и отступала.
Тогда кто-то из матросов подхватил ее под мышки и легко, словно сноп соломы, поставил в лодку. Шляпа свалилась с ее головы.
— Боже мой! — вскрикнул Дубровинский. И опрометью бросился вниз, сшибая каблуками мелкие камешки.
Его, бегущего, увидела и женщина. Замахала руками. Едва не опрокинув лодку, слабо приткнутую к берегу мальчишками-перевозчиками, выскочила, пошла ему навстречу.
— Ося! Ося!
Он не мог отозваться: «Людмила Рудольфовна!» И тем более: «Люда! Людмила!» Он ничего не понимал. Почему она здесь? И с большим багажом. Почему она так призывно, на людях кричит: «Ося! Ося!»
Молча подбежал к ней, и они обнялись.
— Вы тоже в ссылку сюда? — спросил Дубровинский сдавленно. — За что? Как это страшно!
— Нет, нет, — торопливо сказала Менжинская. — Потом я все объясню. Но простите, Иосиф Федорович, я всюду и всем называла себя вашей женой. Иначе мне добраться сюда было бы очень трудно.
7
Все было почти так же. И не так. Долго и раскатисто метался над Енисеем чуть хриповатый гудок. Но теперь красивого разворота пароход не делал, он поднимался снизу, пробиваясь против течения. Быстро притерся к самой галечной россыпи, коротко прогрохотала якорная цепь, и трапы, выброшенные из кормового пролета, легли удобным, устойчивым мостиком, по которому сразу гуськом, в ярком свете потянулись матросы, чтобы забрать с берега подготовленный груз, бочки с рыбой, кули с кедровыми орехами. Светило не солнце, хотя по часам время было не позднее, светили прожекторы, направленные с парохода на работающих матросов. Вдоль косогора, неразличимые в темноте, стояли жители поселка, поеживались зябко, вниз не спускались, и струнно-гармонный оркестр не играл веселую полечку. Дул сырой, пронизывающий ветер. Вперемешку с дождевыми каплями пробрасывались крупные снежные хлопья.
Капитан в рупор покрикивал на матросов, торопил их — пароход делал последний рейс, и было боязно, что злая непогодь с морозами прихватит его еще на открытых нижних плесах.
Степаныч ворчал:
— Ну, прощайтеся, и айда по домам. Мне-то ничего, а ты вот, — и повернулся к Дубровинскому, — ты вот живую простуду схватишь. Гляди, трап ослобонился уже. Захаров, вещи бери!
Он подхватил в каждую руку по чемодану, узлы достались Филиппу, и оба зашагали к пароходу. Под каблуками чавкала жидкая грязь. Дубровинский стиснул руку Менжинской.
— Людмила Рудольфовна, не знаю, как мне вас за все, за все отблагодарить!
— Терпением, Иосиф Федорович, только терпением. Другого пока ничего не остается.
Пароход дал два гудка. И тут же третий, отвальный. Матросы развязывали зажимы на трапах. Степаныч уже из темного пролета сердито звал:
— Мадам, извольте взойти чичас же! Сколько еще миловаться!
Дубровинский помог ей ступить на зыбкий, шевелящийся трап.
— Ося, жди! Весной я опять приеду…
Слова Менжинской заглушил железный стук лебедки.
Степаныч с Филиппом спрыгивали в темноту. Прожектор золотым лучом уперся в Енисей, обшаривая место, откуда медленно, звено за звеном подымалась из черной воды якорная цепь. Смачно зашлепали плицы. Теплым маслом и паром дохнуло на берег. Волна плеснулась к самым ногам Дубровинского. Он не мог отвести взгляда от уходящего во мрак парохода, теперь совсем почему-то не белого, как было весной.
В гору поднимались гуськом, часто останавливаясь и оглядываясь на реку. Но там уже только тихо шелестела вода на камешнике и вдалеке чуть светились сквозь моросящий дождь желтые огоньки парохода.
— Тоскливо, Осип? — спросил Степаныч, выждав, когда к нему приблизится Дубровинский.
Филипп немного приотстал. С берега все разошлись. Дома стояли темные.
— Тоскливо, Степаныч.
— Весна-то новая еще когда. Опять-таки приедет ли?
— Спасибо, Степаныч, помог жену проводить, — умышленно пропустив его вопрос, ответил Дубровинский. — Погода такая скверная. Мы бы, может, и сами справились…
— А ты мне вола не верти, Осип, — наклоняясь к нему, проговорил Степаныч. — Провожал я, конечно, и от уважения к человеку, но, окромя того, и по приказу. Теперь уехала она, я тебе откроюсь. Никакая она тебе не жена. Через Василия, через бабку Лукерью знаю: жили вы как посторонние. Потому и сказал: вола не верти. Она та самая, которая уже один побег тебе делала. Из вологодской ссылки, что ли? За этим и сюда приезжала. По начальству все это известно. Ну и мне был крепкий наказ. Следить. Ты пойми, к тебе я ведь был сразу с душой. И насчет побега упреждал: даже не думай. Вот и не думай! Иди домой побыстрее, не то пальтишко дождем насквозь прошибет. А тоска — почему не затосковать? Приезжал мил человек с воли и обратно на волю уехал. А к тебе стражник Степаныч утром с книгой заявится: подтверди, что ты здесь.
Подошел Филипп, тихо посмеиваясь, сказал:
— Наступил на широкую щепку, она по жидкой глине и поползла. Ну, а я потерял равновесие и чуть не до самого низу, как на салазках, и съехал. Проводить вас, Иосиф Федорович?
— Проводи, Филипп.
Степаныч отдалился, исчез в темноте. Дождь уже совсем перешел в мокрый снег, побелела дорога, стали отчетливее выделяться крыши домов. Уныло взлаивали собаки. Грязь налипала на каблуки, идти было трудно.
— Иосиф Федорович, — вдруг сказал Филипп, — возьмите меня к себе на квартиру. Вдвоем зимой будет жить веселее. И уму-разуму от вас поучусь. Человек я спокойный, — и добавил с шутливой убедительностью: — Даже во сне не храплю.
— Для меня сейчас, пожалуй, именно это будет самое главное, — с такой же шутливостью отозвался Дубровинский. — Спасибо, Филипп! Поговорю с дедом. И переезжай.
Но разговор как-то не складывался. Молча дошли они до дома, молча пожали друг другу руки, и Дубровинский по ступеням, залепленным снегом, поднялся на крыльцо. Захаров побрел дальше, с удовольствием размышляя о том, что настойчивую просьбу Менжинской он выполнил, не выдав ее, и что поселиться вместе с Дубровинским и для него самого большая удача.
— Ты, Осип? — сонно окликнул со своей половины дед Василий, когда Дубровинский вошел в сени и принялся стряхивать промокшее пальто, прежде чем повесить его на гвоздь у двери. — Проводил? А у меня, язви его, спину стянуло, пошевелиться не могу. Снег шибко валит?
— Да, и все гуще. Для парохода такой снегопад не опасен?
— Как тебе сказать… Ночью так и так видимость худая, а при метели глаза у рулевого и совсем завязаны, на косу очень даже просто наскочить. Опять же на дровяной пристани в снег, не дай господи, какая му́ка погружаться. Под ногами склизко. Волна бы большая только не разыгралась, уж до того крестец у меня ноет, спасенья нет. Да ничего, доплывут, выбраться бы им только за Подкаменную. Там теплее…
Он долго и неостановимо рассказывал о последних рейсах парохода, то пугая, то утешая Дубровинского. В спор с ним вступила Лукерья. Постепенно они так увлеклись, отклонились куда-то в сторону, что забыли даже, с него начались у них разногласия, и принялись выяснять, кто сказал первым: «Враки!»
Дубровинский прошел к себе, тяжело опустился на табуретку возле стола. Нащупал рукой жировой светильничек, но передумал и зажигать его не стал. Лучше посидеть в темноте, собраться с мыслями. Работа все равно сейчас на ум не пойдет. Лечь в постель — не уснешь. Хорошо бы выпить горячего чая. Но тогда надо самому затевать долгую канитель с самоваром, он почему-то закипает очень медленно, или тревожить Лукерью Филипповну, что уж совсем ни к чему. Ладно, можно обойтись и без чая!
Ему припомнился недавний разговор со Степанычем. «Вола не верти…» А он и Менжинская «вертели вола», в простоте душевной полагая, что отлично разыгрывают свои роли, и зная, что для женщины, приехавшей к ссыльному, на этих глухих станках есть только два определения: или «жена», или «полюбовница». Третьего — товарищ по революционной борьбе — здесь не дано. А добрым именем своим везде дорожить надо.
Им как-то и в голову не пришло даже, что всеведущая охранка уже с момента выезда Менжинской из Петербурга вполне точно знала, с какой именно целью она едет сюда. Степаныч разболтал это только теперь, ничем не рискуя перед своим начальством. Он правильно рассчитал: побег не состоялся и не состоится, так пусть же по душе пришедшийся ему политик думает и о нем хорошо.
Посоветоваться по-настоящему на этот раз Менжинской было не с кем. Петербургский комитет был начисто разгромлен еще в те дни, когда Дубровинский тащился по этапу в Красноярск. Но она твердо памятовала одно: воля всегда лучше неволи. И знала, что члену ЦК Иннокентию, приехавшему в Россию, чтобы заново воссоздать и возглавить здесь работоспособную коллегию, непереносимо оставаться бездеятельным. Его дело потом решить, остаться ли в российском подполье или вернуться в Париж и там продолжать партийную работу — важно вырваться из плена, из этой страшной ссылки, где люди быстро погибают и духовно и физически. Она знала и то, что убежать отсюда, тем более без помощи со стороны, почти невозможно: такая недобрая слава прочно утвердилась за «Туруханкой», но это проверить она должна была лично. Потому что именно там, где никак невозможно, и вступает в силу дикое счастье, удача, А Менжинская слепо верила в свой фарт, в свою удачливость, ту, что помогла ей ловко организовать побег из Сольвычегодска.
Ах, Людмила, Людмила Рудольфовна, светлая, чистая душа! В первый же день на вопрос: «Ну, зачем, зачем вы приехали?» — она ответила просто и искренне: «Ну, а кто же другой мог бы приехать? У меня очень выигрышное положение. Арестовывать меня совершенно не за что, а на правах вашей жены — извините за самозванство, пожалуйста! — я могу разговаривать с кем угодно, могу что надо выведать. И действовать, действовать». Она была твердо убеждена еще там, в Петербурге, потом на пути до Красноярска, что сумеет преодолеть все трудности в подготовке побега. Она не теряла этой уверенности и плывя на пароходе по Енисею, правда потрясенная бесконечностью тайги и сурового безлюдья по его берегам, не теряла уверенности и здесь до тех пор, пока не поняла: для того чтобы сбежать отсюда, прежде всего нужно иметь железное здоровье. Не улететь осенью птице на юг, если у нее сломаны крылья.
Дубровинский стиснул ладонями виски. Что побег? Невозможность побега. Попал он в ссылку совершенно нелепо, не успев в России сделать ничего — вот что всего тяжелее! Но и еще тяжелее, может быть, — это знать о словах Ленина, обращенных к недавнему совещанию членов ЦК, находящихся за границей: «Восстанавливать ЦК в России (после опыта Инока, Макара — то есть Ногина — и других) из старых лондонских цекистов — есть работа на полицию. Попытки собрать теперь кандидатов в России, чтобы восстанавливать там ЦК, могут исходить лишь от сторонников Столыпина. Полиция знает всех кандидатов и караулит их, как доказали провалы Иннокентия и Макара дважды и трижды…»
Все это действительно так. И он, Дубровинский, Инок, своим примиренчеством на январском пленуме, выходит, поработал как раз на полицию, оказался «сторонником Столыпина». Что посеешь, то и пожнешь. Горькая ирония судьбы! Стремиться собрать все силы партии в единое целое и именно этим нанести ей наибольшие потери. Потому что ликвидаторов-меньшевиков и всех других оппозиционеров полиция не ловит, бросает в тюрьмы, гонит в ссылки лишь большевиков, включая и примиренцев. И численный верх в руководящих органах партии теперь захватывают меньшевики. Как прав был Ленин, отговаривая его от поездки в Россию!
От окна тянуло холодом. Лукерья Филипповна не успела позатыкать тряпками щелочки. Непогодь навалилась внезапно. Двойных рам здесь не знают, стекло стоит дорого, а дров не жаль — топи железную печь сколько хочешь. Впереди еще три долгих зимы. Если не побег. И если хватит сил выдержать это тяжкое одиночество.
Одиночество — не безлюдье; люди вот они, здесь, в Баихе, и на соседних станках, общение с ними тоже возможно; одиночество — в устранении от большой работы. Какое практическое значение для партии имеет толчение им воды в ступе с Трошиным, Гендлиным, Коганом? Доброе общение с Денисовым, Шадриным, Трифоновым и Захаровым? Сколь серьезное значение имеют политические кружки из ссыльных, сколоченные при его усилиях, едва ли не на каждом станке? Да, конечно, это помогает людям не поддаваться обывательщине, заботам лишь текущего дня, засасывающим со страшной силой. Но это, говоря грубым языком здешних охотников-промысловиков, все равно что кормить собаку-лайку, у которой перебиты ноги. На белку с ней уже не пойдешь. Настоящий революционер должен не коротать вечера за дебатами вокруг азбучных истин, а действовать, действовать. Или…
Людмила Рудольфовна хорошо его понимает. Удивительна энергия и изобретательность, с какими она здесь пыталась найти путь к побегу. Надежный путь, ведущий вновь к большой работе, а не к новому аресту и тогда еще более строгой ссылке, а может быть, и каторге. Проверены были все варианты: и зимний и летний; пеший и на подводах; на лодке и на пароходе; со щедрыми подкупами и на доверии. Но тщетно: зловещий «расклад», сделанный когда-то Степанычем, оставался непоколебленным: «Направо пойдешь — коня потеряешь, налево…»
С этим она и уезжала. И не утешала надеждой на близкую волю, а только умоляла: «Держитесь, держитесь, Иосиф Федорович, не падайте духом! Верьте, скоро начнется новый подъем революции и все переменится!» Ему ли не верить в это! Не на его ли обязанности добиваться такого подъема! Но пока огоньки революции все гаснут и гаснут.
Он встал, прижался лбом к холодному стеклу окна. И поразился. Снега уже нападало так много, что под его слоем потерялись все ближние предметы, а белые крупные хлопья, как испуганные чайки, летели и летели над землей. Вчерашняя тусклая осень решительно сменилась всевластной зимой. Сумеет ли пароход убежать от нее? Ах, зачем оттягивала Людмила Рудольфовна свой отъезд до последнего рейса!
Тихо ступая по застланным полынью доскам пола, Дубровинский прошелся по комнате. Вот там в углу, за ситцевой занавеской, ее кровать, занятая у кого-то из соседей. Дед Василий с бабкой Лукерьей удивлялись: «Муж и жена, а спать ложатся врозь. Согласья, что ли, нету? Опять-таки между собой не пререкаются, и всякого добра ему супружница сколько с собой привезла. Любит». Не спорить с ними, приходилось только улыбаться. А «добро» — это главным образом книги и книги. Среди них, сказать смешно, даже руководство по кулинарии знаменитой Молоховец. А к нему в придачу, еще смешнее, набор эмалированных кастрюль… Потом и сама Людмила Рудольфовна, хохоча, разводила руками: «Ну, никак не думала, что летом здесь пищу готовят только на костре, а зимой в русской печи. И там и там, конечно, эти милые кастрюльки сгорят. А Молоховец может еще и пригодиться. В ее рецептах не только бланманже и страсбургские пироги». Менжинская на целых три месяца внесла в этот дом свет и веселый смех.
Ему припомнилось, как ее угощали хозяева щедротами Енисея. Принесли чем-то доверху наполненный большой берестяной «чумачок» и деревянную ложку: «Отведайте». — «Что это такое? — в недоумении спросила она. — Черная икра?» — «Цветом черная, а ничего, вкусная. Да вы отведайте». — «Прямо ложкой?» — «Так, а чем же еще? Ну, калачом поддевайте. К пальцам-то она прилипчива». И после долго смеялась Людмила Рудольфовна над «прилипчивостью» икры и говорила, что, оказывается, в туруханской ссылке жить совсем неплохо, если черную икру здесь, словно гречневую кашу, большими ложками едят.
Да, конечно, летом голодно не было, только надоела смертельно все рыба и рыба, пока грибы и ягоды да кедровые орехи не пошли. Зимой похуже. Но в сытости ли дело? Старожилы не плачутся: тайга-матушка кормит. И вообще ее богатства неисчислимы, окажись они только в руках людей, добывающих эти богатства, а не «прилипай», как черная икра к пальцам, к толстым кошелькам перекупщиков. Ссыльных здесь пугает не голод, не свирепые морозы зимой и не «гнус», таежная мошка с комарами летом, — от всего этого защититься можно, — пугает бессмысленность и пустота медленно проползающих дней.
Он все ходил и ходил по комнате, припоминая то забавные, то драматические эпизоды минувшего лета.
Отлучилась в Монастырское на денек-другой Лукерья Филипповна, дед Василий хотел покликать соседку, справить неотложные домашние дела, а главное — хлеб испечь. Стремясь расположить к себе деда Василия и подчеркнуть, что ей, хотя и городской жительнице, по обязанностям жены, такие дела тоже не чужды, Людмила Рудольфовна храбро заявила, что все заботы по дому возьмет на себя. И действительно, с мелочами она управилась быстро, а затем, сверх программы, заглядывая к Молоховец и пустив в ход привезенные с собою пряности и приправы, приготовила отличное жаркое из диких уток, подстреленных дедом Василием на ближнем озерке, и совсем необыкновенное творожное блюдо, которому никто не смог подобрать достойного названия. Дед Василий ахал восхищенно: в жизни он не едал такого.
Ну, а с выпечкой хлеба получился конфуз. Молоховец ничем помочь не могла, простой крестьянский хлеб не входил в ее рецепты. Замешенное с вечера тесто в квашне никак не хотело подниматься. Может быть, ему холодно? И Людмила Рудольфовна с его, Дубровинского, помощью водрузила квашню на полку, устроенную близ печи под самым потолком, где у хозяйки хранилась разная ненужная под рукой кухонная утварь. Растопила русскую печь и сама прилегла на лавку, просто так, да незаметно для себя и задремала. А лавка оказалась как раз под этой полкой, тесто в квашне разогрелось, поднялось и потекло через край… Боже, что тут было! Дня два помирали от смеха. Смеялся даже дед Василий, хотя укоризненно и покачивал головой: грех над хлебом смеяться.
Степаныч подбил вместе с ним сходить на болото. Поспевала морошка. И Людмиле Рудольфовне захотелось тоже составить компанию, посмотреть, как растет эта северная чудо-ягода. Степаныч проверил, кто как нарядился, по-таежному ли, и заметил: «А тебя, дева, мошка на болоте, однако, заест, тебе „личинку“ надеть бы надобно, либо деготьком помазаться. В этой тюлечке не спасешься, в ней только по дому ходить». Тюлевую сетку, запасенную в Петербурге по совету бывалых людей, Людмила Рудольфовна надевала на шляпку, мягкий тюль ниспадал до пояса широкими свободными складками, и, хотя мошка забиралась и под него, дышалось в этой сетке все же легко и прогуливаться по-над берегом Енисея на речном ветерке было приятно. А в «личинке», жесткой и густой волосяной сетке, нашитой на длинный матерчатый колпак, приходилось обливаться горячим потом, зато от нападения мошки защищала она надежнее. Ну, а что касается деготьку… Людмила Рудольфовна предпочитала духи.
Морошка уродилась фантастически богатой. Казалось, бери лопату и сгребай ягоды в кучу, так «рясно» осыпаны были ими нежно-зеленые моховые кочки. Похожая на малину, только прижавшаяся к самой земле и цветом своим огненно-оранжевая, она была сладенько-водянистой, но в этом и заключалась особая прелесть.
«Сибирский ананас!» — восхваляла Людмила Рудольфовна, неведомо почему сравнивая эту скромную ягодку с тропическим аристократом. А мошка между тем «работала» во всю силу, стократ большую, чем в поселке, и под свободно свисающую «тюлечку» к Людмиле Рудольфовне забиралась целыми легионами. Она сначала мужественно боролась с нею, тискала, мяла сетку в ладонях, убивая кровожадных врагов сразу сотнями, потом взмолилась: «Ося, дай мне личинку!» Поменялись. Но в личинке на жарком, безветренном болоте она задыхалась. Степаныч развел дымокур. Все-таки на время «ослобожденье».
А дым щипал глаза, от него першило в горле. И тогда Людмила Рудольфовна, сдаваясь, попросила: «Степаныч, ты не захватил с собой деготьку?»
Домой она возвращалась ликующая, отбросив назад тюлечку, свободно дыша полной грудью, с лицом, расписанным, словно у индейца-команчи. Пахло от нее, как от телеги.
Ей все хотелось узнать, проверить на практике. Она не задумывалась об опасности. В огонь? В огонь. В воду? В воду.
«Людмила Рудольфовна, это для вас тяжело, вам не по силам».
«Ну! Мой братец Вячеслав пешком прошел через всю Италию!»
«А кстати, зачем?»
«Это имеет значение? Просто в Швейцарии однажды проснулся, встал и куда-то пошел. Оказалось, в Италию».
Ответ был вовсе не прост. Этим ответом она защищала не бесшабашное мальчишество, а искреннее движение души. И так уж потом повелось между ними: некоторые свойства характера Людмилы Рудольфовны и ее быстрые решения называть «пешком по Италии».
Компания ссыльных собралась неводить. Требовалось пять человек: трое в лодку, двое на берегу. Их как раз было пятеро. Однако Коган по близорукости отказался: «Очки боюсь утопить — куда я тогда?» Пятым готов был пойти дед Василий. Но «пешком по Италии» вызвалась Людмила Рудольфовна, и отговорить ее было нельзя.
Настоящей рыбацкой сноровкой, кроме Трифонова, никто из них не обладал. Трифонова и посадили в лодку выметывать невод. Филипп Захаров сел в лопастные весла, ему, Дубровинскому, дали кормовое весло, а Гендлин с Людмилой Рудольфовной должны были по отмели тянуть кляч — неводную веревку, пока лодка по реке огибает кольцо.
Серое, сумрачное небо вдали соединялось с необозримой гладью Енисея. Поскрипывали весла в уключинах. Филипп умел очень ровно и красиво грести. Невод был уже весь выметан, и лодка направлялась к берегу. Все шло хорошо. Гендлин весело покрикивал, давая знать, что видит шныряющую вдоль стенки невода рыбу. И вдруг споткнулся, упал, выпустив кляч…
«Люда!» — голоса не было, испуганно сдавило горло.
Сил у нее не хватало справиться одной, а кляч почему-то она примотала себе на кулак, и теперь невод, словно упряжка коней, неумолимо тащил ее в реку, на быстрину. А вода в Енисее не для купания.
Это были страшные мгновения. Видишь, человек захлебывается, тонет, а ты ему не успеваешь подать руку помощи.
Она все же как-то сумела освободиться от веревок и выбралась на берег сама, прежде чем подплыла лодка. Стояла, обжимая мокрую одежду, и постукивала зубами от холода.
«Люда, как же ты так?»
Он сбросил с себя брезентовую куртку, чтобы прикрыть ей плечи.
Растирая ушибленное о камень колено и ковыляя, подходил Гендлин. Трифонов с Захаровым тоже стаскивали с себя рыбачьи куртки. Она вдруг судорожно всхлипнула. И тут же рассмеялась. Махнула рукой, словно прокладывая дорожку через реку, сказала протяжно, с наивной беспечностью:
«Пе-ешком по Енисею!»
И это было все равно что «пешком по Италии»…
Дубровинский снова приник к стеклу и не разглядел теперь за окном уже ничего, кроме пляшущей белой метели.
8
И в Монастырское почта зимой шла как попало, а оттуда на Баиху и вовсе доставлялась только со случайной оказией. Обычно раз в месяц, когда ссыльные, соблюдая черед по разметке Степаныча, выезжали получать полагающееся им денежное «содержание».
Дубровинскому привозили груду посылок. Из дому, от Якова, из Петербурга, от Менжинской. В посылках было белье, сладости, а больше всего — книги и книги. К концу зимы он ими завалил весь стол, скамью, а кое-что раскладывал и просто на полу. Дед Василий причмокивал языком: «Вот это голова! Такое все прочитать?» А Филипп Захаров, помогая Дубровинскому распаковывать посылки, хватался за первую лежащую сверху книгу и спрашивал застенчиво: «Можно, Иосиф Федорович, я погляжу?» И уже не мог от нее оторваться.
Приходил Трифонов, благоговейно перебирал это книжное богатство и уносил с собой то, что ему подсказывал Дубровинский, постепенно превратившийся в библиотекаря.
Письма, что привозила почта, Дубровинский брал со смешанным чувством радости и горечи. Каждое слово, написанное Анной или детской ручонкой, вызывало томительные воспоминания о доме, о семье, но это было и светлой радостью — знать: здоровы. И веселые письма, что присылала Менжинская, напоминали: есть верный товарищ. Письма приносили живительные частицы бодрости. Но прежде чем они смогут войти в твое сознание, нужно вскрыть конверт. А конверт испачкан клеем, полицейским клеем. И то, что ты начнешь читать лишь сейчас, другими уже прочитано и обсмаковано. И сняты копии, и эти копии пришиты в папки охранного отделения.
Однажды на письме из дома, там, где стояла подпись «Твоя Аня», прямо через нее тянулась странная серая полоса. Дубровинский присмотрелся: размазанный жирным пальцем пепел от папиросы. В другой раз — на письме Менжинской — он обнаружил тонкие бороздки, отчеркнутые ногтем душевные слова. С этих пор в переписке у него не стало свободной откровенности ни в личных чувствах, ни в политических сообщениях. Письма домой и в Петербург он стал иногда писать без всякого обращения, подписывался просто: «И. Дубровинский». Он не мог допустить, чтобы ласковые слова проходили через грязные руки полицейских чинов. Но разговаривать с близкими людьми сухо и деловито было не меньшей нравственной пыткой, и часто, положив перед собою чистый лист бумаги, он подолгу не решался прикоснуться к нему пером.
Наибольшей отрадой для него оставалась работа над переводами, особенно научных трудов по математике. Здесь он весь погружался в мир сложнейших отвлеченных понятий, которые очень и очень непросто было перекладывать с одного языка на другой. То равнозначных слов не хватало, то по необходимости взгромождались они в неимоверно длинные фразы, а математика любит лаконичность и ясность. А главное, нельзя было делать перевод механически, следовало в ходе работы познать предмет столь глубоко, как знал его автор труда, и, может быть, даже лучше, чтобы мысленно вступать с ним в споры, делать уверенные примечания «от переводчика». Здесь Дубровинский чувствовал себя снова борцом, сила которого не растрачивается впустую.
Нет, он не переставал интересоваться политическими событиями, прочитывал от строчки и до строчки все газеты — а их много ему посылали, — обменивался новостями с товарищами по ссылке, но все это представлялось еще большей абстракцией, нежели математические формулы, над раскрытием которых он трудился. И отделаться от таких ощущений было нелегко, словно бы он здесь, в Баихе, а весь остальной мир где-то там, за ее пределами, жили каждый по своим особым законам. Так, как плавает рыбка в аквариуме, перенесенная туда из далекого океана. Она может сколько угодно биться носиком о стекло, но ее теперешний океан — всего лишь два ведра пресной воды, ничуть не схожей с привычной ей вольной стихией.
Сообщения об убийстве Столыпина эсером Богровым вселили было слабую надежду, что вдруг настанет крутой перелом, что жестокости столыпинского правления, расстрелы и виселицы, отойдут в прошлое. Но не успели замолкнуть панихидные голоса монархических газет, скорбящих о потере выдающегося государственного деятеля, как заместивший Столыпина в роли премьера Коковцов, а в роли министра внутренних дел — давно ожидавший этого кресла Макаров обрушили на все демократические организации, и особо на профсоюзы, волну репрессий, ничуть не уступающих прежним. И снова рыбки в аквариуме устало застучали носиками в стекло.
Дольше других петушился Трошин. Он ликовал: тактика эсеровского кровавого террора все же приносит свои плоды. Третий министр внутренних дел падает под пулями и бомбами его товарищей по партии, а новую бомбу им изготовить все же проще, чем царю найти толкового министра. Но потом, когда пришли убеждающие слухи, что Богров, подобно Азефу, был агентом охранки и пулю свою в Столыпина всадил не во имя освободительных идей, а опасаясь разоблачения в провокаторстве, и Трошин сник. Со смертью Столыпина ничто существенно в политике не изменилось.
Дубровинский прочитал ему строки из ленинской статьи, напечатанной в «Социал-демократе» и ловко, с передачей из рук в руки, добравшейся до Баихи: «Столыпин сошел со сцены как раз тогда, когда черносотенная монархия взяла все, что можно было в ее пользу взять от контрреволюционных настроений всей русской буржуазии. Теперь эта буржуазия, отвергнутая, оплеванная, загадившая сама себя отречением от демократии, от борьбы масс, от революции, стоит в растерянности и недоумении, видя симптомы нарастания новой революции».
— А вы, эсеры, по-прежнему ищете себе опору у кадетов, — сказал он, — у всех, кто лижет пятки черносотенцам.
— А вы, Дубровинский, — вскипел было Трошин, — со своим пролетариатом вообще никогда революции не свершите! Не мешали бы нам и…
— …и вместо Столыпина премьером теперь вполне мог бы стать не Коковцов, а Чернов или Савинков, — насмешливо закончил Дубровинский.
— Вы… вы… — И Трошин, не найдя слов, выбежал, хлопнув дверью.
С Захаровым и Трифоновым они внимательно и вдумчиво прочитали всю статью.
— Победная революция, — проговорил Захаров, — она ведь будет, конечно, будет. А когда, как вы думаете, Иосиф Федорович?
Порывисто вступил Трифонов:
— Спрашивают «когда» только те, кто в стороне. А ты, Филипп, не жди, сам делай! И сам назначай сроки.
Дубровинский промолчал. Он понимал и Захарова и Трифонова. Характеры у них разные, а видят цель одинаково. Но Филипп, если идти в бой, так нуждается в команде, Трифонов же — хоть сейчас и сам готов командовать. Ну, а он, Дубровинский, что же? Он, человек практического действия, просто не может сделать сейчас ничего. Словно вновь повисли кандалы, и теперь не только на его ногах и руках, но и на всех его устремлениях. Мысль, которую сейчас нет ни малейшей возможности воплотить в живое дело, эта мысль становится не радостью, а нравственным мучением.
Много дней после этого он находился под таким впечатлением. Натянув унты, шапку, уже здесь купленную оленью малицу, выходил на берег Енисея, испещренного высокими гребнистыми застругами. Холодом дышала река, холодная кухта, сбитая с веток деревьев, искристыми льдинками сыпалась на плечи, холодком безнадежности стягивало грудь при одном только взгляде на бескрайную снежную пустыню. Когда? Что «когда»? Хоть что-нибудь! Ужаснее всего это мертвое однообразие…
Под Новый год пришла весть о самоубийстве Лауры и Поля Лафаргов. Это не вмещалось в сознание. Дочь Карла Маркса, зять и последователь Карла Маркса — как могли они это сделать? И снова Захаров и Трифонов спрашивали Дубровинского. И снова он не знал, что ответить. Да, Полю было уже семьдесят лет и Лауре — шестьдесят шесть. Но разве сам по себе преклонный возраст — такая граница жизни, переступать которую почему-то нельзя? Разве их силы совершенно иссякли? Да если бы и иссякли, обязательно ли призывать к себе смерть? К победе над нею испокон веков стремится все человечество, и как же можно добровольно уступать ей многие дни, а может быть, даже и многие годы жизни? Что, жизнь — это частная собственность, которой можно распоряжаться по своему усмотрению, или это — общественное достояние? Человек самой природой не облечен правом устанавливать начало своей собственной жизни. Вправе ли он тогда определять ее конец?
Долгие философские споры в кругу ссыльных товарищей не давали однозначного ответа, всегда возникало какое-то «но»… Дубровинский знал, твердо знал, что любой человек не может, не должен лишать себя жизни. Тем более революционер. Но столь же убежденно понимал, что именно Лафарги неосудимо имели право это сделать! А почему имели — объяснить бы не смог.
Товарищескую встречу Нового года затеяли на своей квартире Гендлин и Коган. Собрались все ссыльные, собралась местная молодежь, не отказался и Дубровинский. Зажатая в угол, стояла рождественская елочка, увешанная бумажными фонариками и шелковыми лентами. Играл струнно-гармонный оркестр. Пели песни, плясали. И когда наступил торжественный час, чокнулись стаканами с водкой. Всем было весело. А Дубровинского одолевала безотчетная тоска. Давила духота и знойный запах пихтовых веток, которыми были украшены стены. Он тихо пробрался к двери, оделся и вышел.
На открытом воздухе его познабливало, хотя мороз для здешних мест и не был очень жестоким, что-нибудь около тридцати градусов. Удивительно много сияло в небе звезд, словно бы даже не оставалось совсем свободного пространства между ними — его заполняла мельчайшая золотая пыль. И оттого, что небо в эту ночь предстало необычным, а сама новогодняя ночь напомнила ему — в который раз — Яранск и немое объяснение в любви с Анной, он остановился и обвел глазами золоченый купол, отыскивая в его бездонной тесноте нужные звездочки. Огромный ковш Большой Медведицы заполнял, казалось, половину свода, и Малая Медведица жалась в сторонке от своей великолепной сестры. Кассиопея и Персей, в отличие от звездного неба Яранска, здесь стояли очень высоко, почти в зените.
Его вдруг охватило чувство полной отрешенности от всех земных забот. Он никогда не был мистиком, и то, что в этот миг свершилось в его сознании, не походило на духовный экстаз. Возникла ясная и спокойная мысль. Все, что там, над головой, все это вечно… Тебя не станет, а звезды по-прежнему будут гореть. Для других, доставляя им радость. Но пока ты есть, они горят для тебя. Разве этого мало? Сама вечность, доколе ты жив, тоже принадлежит тебе. И ты, уходя, не сможешь унести ее с собой. Ты, именно ты оставишь ее другим. Но неизменной ли? Ведь вечность — это движение, пусть не имеющее ни начала, ни конца. И ты, дела твои движутся, вплетаясь в поток бесконечного времени. Они, может быть, по значению своему в миллиарды и миллиарды раз мельче самых мелких пылинок, но вместе с другими составляют жизнь человечества, так, как золотые россыпи звезд составляют Вселенную. Тебе и вообще человеку не дано выпрямить ось земли, чтобы здесь на севере, стало теплее. Но каждому человеку дано, и тебе тоже, выпрямлять иную ось — взаимоотношений между собою. Достаточно ли ты приложил усилий к этому? Во взаимоотношениях людей, когда ты уйдешь, останется хоть какой-нибудь знак от сделанного тобою, именно тобою? Смыслом жизни твоей всегда была революция, торжество справедливости. Оставил ли ты в ней и свой добрый знак? Можешь ли, имеешь ли право уйти в любой миг, воскликнув: «А ты гори, звезда!»?
Дубровинский вглядывался в созвездия Кассиопеи, Персея и не мог с полной уверенностью определить, какие две из этих миллиардов огнистых мерцающих точек когда-то выбрала ему и себе Анна. В той давней ночи, казалось, на небе их было немного. Откуда возникла сегодня эта звездная ярость, золотая метель, окутавшая все небо?
Он горько усмехнулся: «Потеряна твоя звезда, Иосиф!»
Нет, не потеряна! Просто ее очень тесно обступили другие, сегодня явившиеся взору из дотоле не различимых простым глазом глубин Вселенной. Оставайся же, моя звездочка, постоянно в их дружеском кругу!
Мороз покалывал ему щеки, обметывал инеем обвислые усы. А уходить в домашнее тепло не хотелось. Он знал: все равно не уснет и сразу же сядет к столу за работу. Потому что в четырех стенах только работа и работа заглушает непонятную тоску, переходящую в острую физическую боль, словно укол горячей иглой в мозг, если внезапно вскрикнет Филипп во сне или стукнет крупная капля, упавшая на пол из самоварного крана.
И Дубровинский прошел мимо дома, поколачивая друг о друга стиснутые в кулаки зябнущие руки. По лыжне, проложенной охотниками, он добрался до часовни, стоявшей далеко на отшибе от поселка. Когда случалось умереть человеку, приезжал из Монастырского поп и свершал здесь обряд отпевания. Да в теплую пору еще разок-другой служил он короткие молебны в расчете взять со своей паствы хоть шерсти клок. В остальное время часовня стояла с забитой гвоздями дверью. Крыша подгнила, деревянный крест покосился. Чинить ее особых ревнителей не находилось, и стоять бы ей черным мрачным пугалом, если бы не была она кем-то понимающим красоту построена с толком на возвышении — отсюда открывался великолепный вид на дальние окрестности, на заречье, сливающееся с тундрой. А подойти к крутому берегу Енисея, обрывающемуся скалистым утесом, — глаз не оторвешь, летом пенятся медлительные круговороты, зимой громоздятся ледяные дворцы. Дубровинский редко отваживался на большие прогулки, но, когда выходил, его тянуло сюда.
Разваливая ногами снег, он приблизился к обрыву. Внизу лежал морозный туман, и тонкие звездные лучики не в состоянии были его пробить. Туманный полог прикрывал собою весь Енисей и делал его похожим на мертвую, однообразную степь, по которой и конь не пройдет и мышь не прошмыгнет. Долго смотреть на эту серую пустыню было тяжко, и Дубровинский повернул обратно, ощущая, как по спине у него от холода пробегают колючие мурашки.
«Сегодня начался тысяча девятьсот двенадцатый год, — подумалось ему. И механически, безусильно он вычислил: — Стало быть, до конца ссылки остается тысяча одиннадцать дней. Шехерезада, чтобы вымолить себе и сестре своей жизнь, рассказывала жестокому Шахриару сказки тысячу и одну ночь. Но мои сказки Шахриар слушать не станет, он их наслушался достаточно. Потому я и здесь. И мне, чтобы выйти отсюда живым, надо молчать еще тысячу одиннадцать дней и ночей. А впрочем, хочешь — кричи».
Он сложил рупором ладони, как были, в шерстяных варежках, крикнул в морозную темь:
— Эге-ге!
И тотчас от края и до края поселок отдался истошным собачьим лаем.
— Вот и весь ответ. Ты математик. Считай, отсчитывай остающиеся дни. И отмечай: может быть, они не все будут друг на друга похожи.
9
Оставалось девятьсот шестьдесят три дня, когда до Баихи дошли отрывчатые вести о состоявшейся в Праге Шестой Всероссийской конференции.
Оставалось девятьсот пять дней, когда полынной горечью облила рот молва, пришедшая через село Монастырское, о кровавом расстреле пятисот рабочих на Ленских золотых приисках и о словах министра внутренних дел Макарова, сказанных по этому поводу: «Так было, и так будет впредь».
Оставалось восемьсот девяносто шесть дней, когда в руки Дубровинскому попала «Рабочая газета» со статьей Ленина «Голод».
Оставался восемьсот семьдесят один день, когда по Енисею вновь пошли пароходы.
Пражская конференция… Даже из тех сообщений, что приходили сюда, подчас путаных и противоречивых, Дубровинский с горячим волнением сердца узнал: Лениным одержана победа. Партия, которой оппортунисты предрекали неизбежный, убивающий ее насмерть раскол и всеми средствами и силами ее раскалывали сами, — партия наконец стряхнула их со своих плеч. Ликвидаторы, разоблаченные конференцией до конца и ею объявленные вне партии, ныне оскаливают на нее зубы лишь издали. РСДРП стала партией последовательных большевиков, Центральный Комитет — по-настоящему большевистским, и во главе его Владимир Ильич. Работать бы и работать теперь об руку с ним. Но…
Ровно в семь часов утра каждый день появляется Степаныч со своей книгой, кладет ее на стол, бесцеремонно раздвигая лежащие там бумаги, закуривает и говорит: «Распишись, что не убег». Это образец покровительственной шутки. К ней добавляется и забота: «Ну, Осип, как спалось-ночевалось?» Ответишь ли: «хорошо» или «измотала бессонница» — одинаково. Степаныч выколотит трубку о подоконник и крякнет: «Ну давай, оставайся». Вот и все. Вот и весь очередной твой день до нового прихода Степаныча. А еще вместе с Филиппом напилить, наколоть дров, приготовить обед из опротивевшей до чертиков соленой рыбы и редко из куска оленины, вычитывая перед этим вслух роскошные рецепты Молоховец. Потом показывать книжки с картинками соседской ребятне, учить их азбуке, устному счету и угощать кусочками колотого сахара, присланного из дома. Потом с Филиппом и Трифоновым разбираться в более сложных науках. Потом, подлив керосину в семилинейную лампу, сидеть ночь напролет над переводами. Надо зарабатывать себе на жизнь, надо заработать, чтобы поддержать Анну, семью: Таля и Вера уже гимназистки.
Расстрел рабочих на Лене… Как это схоже с петербургским Кровавым воскресеньем! Мирное шествие — и беспощадные залпы по безоружной толпе, убийство женщин, детей. Взрыв негодования, стачки, демонстрации по всей стране. И аресты, аресты — тоже по всей стране. Дубровинский стискивал ладонями виски, пытаясь предугадать дальнейшее развитие событий. Приведет ли все это к новому восстанию? И тогда, как в декабрьские дни на Пресне в Москве, оно будет подавлено пушками новых полковников Минов или завершится победой сил революции? «Нет, нет, — в отчаянии думал он, — решающего восстания сейчас не поднять. Некому. Партийные организации разрушены либо загнаны в глухое подполье, нет предводителей, а слепая стихия — только тысячи и тысячи ненужных жертв».
Ему в Баихе трудно было понять, что толпа рабочих перед конторой администрации Ленских золотых приисков была уже совсем не та, что перед царским дворцом в Петербурге, когда ее, покорную, под пули привел поп Гапон. Рабочие «Лензолота» не били в землю челом — они требовали. И стачки, вздыбившие трудовую Россию, не простое эхо Ленских событий — эти стачки, пусть в самых тяжких условиях, организованы партией. Год тысяча девятьсот двенадцатый не походил на девятьсот пятый. Тогда после высшей точки подъема наступили упадок, усталость, бессилие, теперь начиналось новое, медленное, но уверенное восхождение. А Дубровинскому казалось, что тягучие часы бездействия, которые измучивают его здесь, как морозная мгла «Туруханки», нависли и над всей Россией.
После неистовых славословий столыпинской аграрной реформе — голод, царь-голод, опять охвативший двадцать губерний с населением в тридцать миллионов человек… И это опять повторяется? Перед Дубровинским всплывали страшные картины. Село Кроснянсксе, обрызганная хлорной известью земля. Дощатые холерные бараки. Семья крестьян Дилоновых, в смертной тоске ожидающая, кого из них первым вслед за кормильцем стащат на кладбище. Бунт, подогретый знахаркой, потасовка возле сельской больницы. Как им хотелось жить! Как хотелось спасти их Гурарию Семеновичу! И нет уже никого. Все Дилоновы вымерли. Не тогда, несколько позже, не от холеры — от недоедания, от бедности. Умер Гурарий Семенович в финском туберкулезном санатории, лечил других, а сам от них заразился и потом сгорел очень быстро. Умер фельдшер Иван Фомич, там, в Кроснянском, от разрыва сердца. А скорее от боли сердечной, от бессилия помочь народу, своим односельчанам. Бессилие, когда ты видишь, когда ты должен, но у тебя связаны руки, это страшнее всего, страшнее разрыва сердца, это подобно мучительной медленной смерти.
Такой волнующий пароходный гудок… Солнечный день, правда, с ветром. И все население Баихи на улице. Играет струнно-гармонный оркестр. И пляшут кадриль парни с девчатами, затащив Филиппа на круг, а Шадрин с Денисовым улыбчиво наблюдают со стороны. И Трошин кулаком в воздух заколачивает гвозди. Вернулась, что ли, прошлогодняя весна? Нет только Трифонова: его перевели на соседний станок. Почему? Ведомо только приставу Кибирову. Гремит якорная цепь, летит бечева с мешочком песка, — «легостью», зашитой в ее конце, спущен трап — пароход на этот раз удачно притерся к самому берегу.
Дубровинский оборвал на полуслове разговор с дедом Василием, вскочил. В пролете появилась женщина…
— Супружницу ждешь, Осип? Давай, беги вниз!
— Нет, не жду…
Он знал: никто к нему не приедет. Просил об этом в письмах Анну, просил Менжинскую — не приезжать. И все-таки ждал, как, может быть, ждут дети рождественского деда-мороза с подарками, зная, что дед-мороз — просто милая выдумка и что подарки им, спящим, положат родители. Подарком для Дубровинского был сам приход весны, красивый разворот парохода и его ошалелый басовитый гудок.
А вместо деда-мороза, покачивая жирными бедрами, на берег сошла повариха в белом фартуке, колпаке и принялась яростно торговаться с баишенскими бабами, принесшими свежую рыбу. Непереносимо было смотреть на это. Он сделал несколько шагов в сторону.
— Паря, а чего бы супружнице опять не приехать? — окликнул Василий. — Али гнуса здешнего перепугалась?
— Не по карману, дедушка, — ответил Дубровинский.
И зашагал быстрее. Такое объяснение для старика убедительнее всего. Да в нем и немалая доля истины. Но есть и другая, более существенная: зачем?
Этого не объяснишь даже себе никакими словами. Поддержать в нем бодрость духа? Но он не лампа, в которую можно подливать керосин, он свеча. Сколько есть в ней запасов огня, столько она и будет гореть. Не больше.
Скрасить тоску однообразия? После того как ночь прорежет яркий свет, она становится еще темнее.
Вместе походить по окрестностям ради прогулки, укрепления здоровья? Прав дед Василий: для прогулок страшен летом сибирский гнус. А здоровье — ноги становятся все непослушнее, дыхание тяжелее, и если ты сам хорошо все это понимаешь, ты не должен причинять нравственных страданий другим, кто будет видеть это. Анна ли, самый близкий, родной человек, ставший во всем его прежним единомышленником, или Людмила Рудольфовна — честный, чистый и верный товарищ.
Вести разговоры о несбыточных мечтах, о побеге? Еще сильнее растравлять нервы, когда они и так сплошная боль. Нельзя быть эгоистом. Одиночество нужно переносить одному.
Он не заметил, как оказался возле часовни. Здесь, на солнечном пригреве, весело цвели низенькие одуванчики, словно золотые гвоздики, вбитые в землю; под крышей чиликали, возились воробьи, устраивая семейные гнездышки. Чуть поскрипывали драницы, когда в них ударял переменчивый ветер.
Дубровинский прошел к обрыву. Под низом бурлил Енисей, еще желтый, не осветлившийся после ледохода, бился в камнях мелкий плавник, заречная тундра сливалась с небом. Ему припомнились стихи Гейне. Их в Яранске на память читал Радин, но тогда они оставили его равнодушным, теперь каждая строчка тревожно стучалась в сердце.
Из волн выступает высокий гранит. Сижу на нем, думой объят; А ветер бушует, и чайка кричит, И волны бегут и шумят. Был очень любим я подругой моей И очень друзьями богат… Но где они?.. Ветер бушует сильней, И волны бегут и шумят.Он испуганно отшатнулся. Ему показалось, какая-то неведомая сила толкает его в спину, к узенькой тропе, ведущей вниз, в нагромождение камней, среди которых бьется плавник. Зачем он сюда пришел? Дома его ждет работа. И вечером надо будет вместе с Филиппом решить одну прелюбопытнейшую задачу из области фигурных чисел. Домой, домой!
Даже после того, как опять откроется навигация и пройдет первый пароход в будущем году, останется еще пятьсот шесть дней.
10
Филипп открыл глаза, не отдавая себе отчета — почему. Он спал всегда так крепко, что однажды, подшучивая, Дубровинский вытащил у него из-под головы подушку, потом выдернул простыню и, наконец, войлочную подстилку, оставив на голых досках, Филипп лишь блаженно улыбался во сне.
Было совсем светло, и ему подумалось, что наступило утро, но ходики на стене показывали только половину третьего. Значит, еще ночь, а что светло — так ведь середина мая. Он повернул голову и увидел Дубровинского. Тот сидел на своей кровати в нижнем белье, свесив босые ноги, покато опустив плечи. Лица, обращенного к полу, разглядеть было нельзя, а волосы, открывая большие залысины, были взъерошены так, как не случается это после спокойного сна: наверное, человек метался в постели либо, вскочив, отчаянно хватался за голову.
— Иосиф Федорович, вы не захворали? — тихо спросил Филипп, приподнимаясь на локоть.
Дубровинский вздрогнул всем телом, повернулся к нему, неуверенно разглаживая всей ладонью обвислые усы.
— А? Что? — проговорил он. — Мухи… Мухи ползают по стеклу, царапают, скрипят лапками, спать не дают. Я здоров.
По стеклу действительно ползало несколько мух. Филипп смотрел на Дубровинского с недоумением.
— Так, Иосиф Федорович, их же совершенно не слышно.
— Знаю, знаю, Филипп! Нет, я не заговариваюсь. Это серьезно. Понимаешь, я их слышу. Слы-шу! Поют петухи, лают собаки — и ничего, мне они не мешают. А эти мухи, со своими тонкими, цепкими лапками, они весь мозг мне исцарапали. Слышишь: цик, цик, цик… Одни и те же звуки, совсем одни и те же. Я не могу уснуть. — Он потер ладонями лицо, вяло опираясь о край постели, встал и сморщился от боли, кольнуло в груди. — Герр Лаушер, наверно, сумел бы объяснить…
— Какой «герр Лаушер»? — Недоумение Филиппа возрастало все больше.
— Давосский врач. Мои месмерические пассы, кажется, уже больше не действуют, и скоро наступит момент, когда я внезапно превращусь в тлен.
— Иосиф Федорович! Ну что за мысли у вас? — Филипп вскочил, подошел к Дубровинскому, взял его за руку, холодную и безвольную. — Ложитесь и спите. А мух я сейчас перебью полотенцем.
Дубровинский виновато усмехнулся.
— У этих мух есть двойники, Филипп, и перебить их невозможно. Прости, я разбудил тебя. Ложись, а я почитаю. Или домой напишу письмо. Светло, и лампу зажигать не надо.
— Давайте лучше походим по свежему воздуху, — предложил Филипп.
— Не понимаю, почему нынче с первым пароходом не было никакой почты, — не вслушиваясь в слова Филиппа, говорил Дубровинский. — Должны же быть письма! И телеграмму я жду.
— Ну мало ли что бывает. — Филипп пытался его успокоить. — Не успели почту погрузить в Красноярске, или по ошибке письма на другой станок завезли. Теперь, раз очистился Енисей и пошли пароходы…
— Не понимаю, почему с первым пароходом ничего не было, — монотонно повторил Дубровинский. — А мне осталось всего сто сорок два дня. Если подтвердится амнистия. Или пятьсот шесть дней.
— Да как же не подтвердится амнистия, Иосиф Федорович, если Степаныч эту весть от Кибирова из Монастырского привез. И я сам, когда ездил туда за содержанием, это же слышал как вполне достоверное. И в газетах пишут. Ведь трехсотлетие царствования дома Романовых. Подтвердится амнистия. Скинут вам целый год — не шутка.
— Степаныч сказал на ушко, что насчет меня губернатор для доклада в департамент полиции чуть не каждый месяц нашего пристава запрашивает: здесь ли я, не сбежал ли, — угрюмо проговорил Дубровинский. — Амнистируют по манифесту только тех, кто осужден или сослан за литературные дела. А за мной и всего другого достаточно. Меня арестовали как члена Центрального Комитета, приехавшего в Россию для организационной работы.
— Но относительно вас есть же у Кибирова телеграмма!
Дубровинский отрицательно повертел головой. Устало опустился на табуретку.
— А я ничему не верю. Ничего не стоит одной телеграммой отменить другую. Это уже не раз случалось.
— А вы не поддавайтесь таким мыслям. Считайте: осталось вам всего сто сорок два дня.
— Какая разница: сто сорок два или пятьсот шесть? Месмерические пассы больше не действуют.
— Опять вы о каких-то «пассах», Иосиф Федорович! — уже с легким упреком сказал Филипп. — Вернетесь по зиме домой, и сразу силы прибавятся.
— Все это верно, — невнятно проговорил Дубровинский, нервно перебирая пальцами складки на рубашке, — все это верно. Только домой я не могу возвратиться.
— Почему, Иосиф Федорович?
— Немного побыть дома, конечно, я мог бы, — глядя куда-то в пустоту, сказал Дубровинский. — А потом я должен работать. По поручениям партии. Это моя главная обязанность. Обязанность всей моей жизни. До конца. А я не могу. Я буду работать на полицию.
— Почему «на полицию»?
— Нет, не провокатором, — усмехнулся Дубровинский, и горькие морщины прорезали его лицо, измученное долгими бессонными ночами. — На полицию потому, что очень скоро я снова попаду в тюрьму, в ссылку или на каторгу. Хорошо, если только сам. А если нечаянно увлеку за собой и других? Тебе непонятны «месмерические пассы» врача герра Лаушера и писателя Эдгара Поэ. Когда-нибудь я объясню, что это такое. А сейчас ответь мне, что произойдет с бочкой, если у нее ржавчина от времени переест обруч?
— Клепки рассыплются, — неуверенно сказал Филипп. И замахал руками. — Да что вы, Иосиф Федорович! Зачем так думать?
— А если еще и клепки рассохлись настолько, что даже и крепкие обручи их не сожмут? Если в бочке все равно уже нельзя возить воду, а поганить ее разным мусором жаль? — с какой-то жестокостью продолжал Дубровинский. — Тогда эту бочку лучше сразу в огонь!
Оба они замолчали. Дубровинский, полуобернувшись, смотрел в окно, за которым в небе ширилась полоска желтой зари, предвещая тихий солнечный день. Филипп одевался, натягивал тугие сапоги. Шагнул было к переборке, хотел умыться, но передумал.
— Пройдемтесь по свежему воздуху, Иосиф Федорович, — сказал он просительно. — Такое хорошее утро.
— Нет, не пойду! — резко вскрикнул Дубровинский, взобрался к себе на постель и, как попало прикрывшись одеялом, улегся лицом к стене.
Филипп потоптался на месте, не зная, что ему делать. Он давно, еще с прошлой весны, после того, как прошли первые пароходы, стал замечать, что к Дубровинскому временами подступала непонятная раздражительность. Всегда мягкий, улыбчивый, он вдруг становился угрюмым, замкнутым, отвечал хотя и вежливо, но со сдержанной злостью. А на следующий день извинялся. И с особенной внимательностью вел долгие беседы с ним, с дедом Василием, ссыльными, забегавшими «на огонек». Соседских ребятишек одарял гостинцами, если было чем одарить, читал им книжки, учил их самих читать и рисовать. Но полосы тяжелой хандры между тем повторялись все чаще. Тогда он вслух перебирал политические ошибки, допущенные им когда-либо, и со своей математической логикой строил расчеты: «Что было бы, если бы я…» Филипп хорошо понимал его и как умел успокаивал.
Хуже стало зимой, когда душевная угнетенность принялась и физически точить Дубровинского. Он потерял сон, аппетит, похудел, лицо приобрело землистый оттенок. Непростым было теперь наготовить с ним дров, он дергал пилу рывками, жалуясь, что ее заедает смолистое бревно, а на самом деле пила шла свободно, просто у него не хватало сил. Брался колоть дрова, несколько раз всаживал топор в неподатливый чурбан и останавливался, обливаясь потом, его давила одышка. Но он и слышать не хотел, чтобы всю тяжелую работу на себя взял Филипп. Отказывался показаться фельдшеру в Монастырском — врача там не было, — пренебрежительно говорил: «Столько, сколько он, я и сам о своей болезни знаю, а в Давос он меня не отправит». Работа над переводами, над изучением нового для него английского языка, над составлением и решением математических задач и разработкой собственных теорий в этом мире отвлеченных понятий его изматывала. И в то же время работа была единственным, что его отвлекало от тяжелых дум в бессонные ночи, убивающие куда больше, чем безотрывное сидение над книгами и рукописями.
— Иосиф Федорович, может быть, самовар поставить? — после долгого молчания спросил Филипп.
— Спасибо, Филипп, — глухо отозвался Дубровинский. — Есть мне не хочется.
Часы показывали только четверть четвертого. Рано, конечно. И Филипп не стал настаивать. Но и в девять утра и в два часа дня Дубровинский отказался от еды, хотя к этому времени и поднялся с постели, сел к столу за работу.
С Филиппом он разговаривал неохотно и не сердясь на него, а просто боясь отвлечься от какой-то охватившей его мысли. Только под вечер Дубровинский согласился выпить стакан молока.
— Ну, как хотите, Иосиф Федорович, а гулять сейчас мы с вами пойдем, — обрадованный тем, что Дубровинский немного повеселел, сказал Филипп. — Вот берите пиджак, и пошли.
Он прямо-таки силой заставил его одеться. На дворе было тепло, и в эту пору года еще не успел расплодиться гнус. С лугов тянулось стадо сытых, лоснящихся коров. Хозяйки их встречали возле своих дворов. Пробежала с охапкой желтых лютиков Маша Савельева, крестница деда Василия и его любимица, на ходу бросила: «Ой, Солнышко, да сходите вы за ручей, сколько там разных цветов!»
— Пойдемте, — предложил Филипп.
— Нет, лучше к Енисею, к часовне, там тоже есть цветы, — сказал Дубровинский. — И красивый вид на реку.
Заглядевшись вслед убегающей Маше, Филипп немного приотстал. Дубровинский этому словно обрадовался, сразу прибавил шаг, стремясь и еще увеличить расстояние между ним и собой, шел, оступаясь и долбя землю каблуками сапог, шмыгая пятками, — от долгой и быстрой ходьбы он давно отвык. Филипп догадался: человеку хочется одиночества. Но можно ли, следует ли оставлять его одного? Уж коли согласился он вместе пойти на прогулку…
— Ну и ходок вы, Иосиф Федорович, — с напускной беззаботностью сказал Филипп, настигая Дубровинского, — никак не могу угнаться за вами. А воздух-то, воздух легкий какой! Весна! Чувствуете, как из лесу ветер запах смолки доносит?
Дубровинский не отозвался. И сразу походка у него изменилась, стала вялой, разбитой. На висках проступили капельки пота. Некоторое время они шли молча.
— Филипп, скажи по совести, — вдруг спросил Дубровинский, не глядя на него, — почему ты надумал переехать ко мне? Тебя об этом просила Людмила Рудольфовна?
Сказать? Не сказать? Какой смысл вложен в этот вопрос? Что мерещится человеку: простая забота о нем или тайное наблюдение за больным? Раньше он никогда об этом не спрашивал. Все было ясно. Теперь подозревает: приставлен.
— Да я же из своей выгоды к вам напросился, Иосиф Федорович, с вами мне очень хорошо. — И покривил душой: — Никакого разговора об этом с Людмилой Рудольфовной никогда у меня не было.
— А еще: зимой ты ездил в Монастырское, справлялся, нельзя ли меня перевести туда, там фельдшер и квартиры получше. Об этом тебя тоже просила Людмила Рудольфовна?
Филипп замялся. Он это пытался сделать сам, без чьей-либо подсказки, хотя в памяти и теснился давний неопределенный разговор с Менжинской об этом. Действительно, в Монастырском и фельдшер есть и там квартиры получше, но в канцелярии пристава сделали сразу жесткий от ворот поворот. Дескать, не может быть и речи о переводе Дубровинского из Баихи. Тогда Филипп вернулся из Монастырского и промолчал о своем неудавшемся заступничестве. Считал, на этом и делу конец. Откуда все это узнал Дубровинский? Чего доискивается Иосиф Федорович?
— Не получилось ничего, — отмахнулся он неопределенно, — я даже и забыл о тех разговорах. А посмотрите-ка на Енисей: как он красиво играет золотыми огоньками!
Они уже вышли на поляну возле часовни. Из-под ног брызгами выскакивали мелкие серые кузнечики. Пахло полынью и богородской травой. К этому примешивался более резкий запах соснового бора, окрайком своим притиснувшегося к поляне. По изветшавшему от времени крылечку часовни цепочкой бежали черные муравьи и исчезали в круглых норках, проточенных в песчаных намывах. Дубровинский сделал несколько шагов в сторону обрыва.
— Филипп, почему с первым пароходом мне не было никакой почты? — спросил, не оборачиваясь.
Захаров только пожал плечами — в который раз Дубровинский задает ему один и тот же вопрос. Что за навязчивая мысль его все время томит? А с полной откровенностью высказаться не хочет. Или не может. Чем бы отвлечь его?
— Иосиф Федорович, вы не припомните, как это у Лермонтова: «На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна…»? А дальше? Вот выскочила строчка из памяти!
Он даже прищелкнул пальцами, показывая, что вот-вот поймать бы ее, а не ловится. На самым деле Филипп знал это стихотворение все наизусть, но ничего другого, лучшего ему не придумалось.
— Нет, не помню, — рассеянно сказал Дубровинский, глядя на Енисей, весь в мелких серебристых барашках.
Филипп понял: он тяготится его присутствием, ему хочется побыть одному. Но почему он пошел именно сюда? Полюбоваться с обрыва Енисеем? Ведь весь день голодный.
— Вы не устали, Иосиф Федорович? Тогда погуляйте еще, а я пойду на ужин чего-нибудь приготовлю.
Дубровинский поощрительно кивнул головой. Филипп направился к поселку. А ноги не несли, он корил себя, зачем оставил близ обрыва человека одного. Солнце, правда, стоит еще высоко, но все-таки это поздний вечер, когда даже в природе как-то все цепенеет, а окрест поселка становится и совсем пустынно. Оглядываться он не смел: Дубровинский это может истолковать как недоверие к нему.
У крайней избы навстречу Филиппу вновь попалась Маша Савельева. Похоже, она его заметила издали, и встреча была не случайной.
— Куда же ты девал своего дружка, Солнышко? — постреливая озорными глазами, спросила она. — Не хочешь пройтиться? К ручью. Черемуха томит, однако зацветет скоро.
— Машенька, подбеги до пригорка, — вместо ответа попросил Филипп. Тревога не покидала его. — Оттуда часовню хорошо видно. Что там Иосиф Федорович делает?
— А чего, разбранился ты с ним или чо ли? — игриво упрекнула Маша. И стала серьезной. — Вид у тебя…
— Подбеги.
Маша вернулась быстро.
— Никого, на всей полянке.
Не дослушав ее, Филипп бросился к часовне. Нет Дубровинского. Опушка леса, освещенная низко стоящим солнцем, просматривалась хорошо. И тоже — нету.
Филипп приблизился к обрыву. Енисей здесь наваливался на красноватый, иссеченный глубокими трещинами утес и, отшатнувшись от него, закручивался быстрыми воронками. Ступи неосторожно, и… Чуть ниже спускалась узкая тропинка к реке, и там, взмостясь на выступающие из воды глыбы камней, мальчишки любили удить рыбу. Там погромыхивает галька. Филипп сбежал по тропинке вниз, и на сердце у него отлегло: выискивая, где лучше ступить, Дубровинский тихонько брел вдоль берега.
— Иосиф Федорович! — окликнул Филипп.
Дубровинский как мог прибавил шагу.
— Иосиф Федорович, погодите! — Догнать его было нетрудно. — Погодите! Ну что за место выбрали вы для прогулки? Пойдемте домой! И соорудим мы вместе с вами на ужин…
— Филипп, — страдальчески и с какой-то особенно дружеской доверительностью сказал Дубровинский, — мне хочется немного побыть одному. Именно здесь, у воды, на солнышке, на ветру…
— Солнце скоро зайдет, уже одиннадцать часов, становится прохладно, а вы легко одеты.
— Нет, мне не холодно.
— А утром снова погуляете.
— Хочу сейчас, — сказал Дубровинский нетерпеливо. И в голосе у него прозвучали нотки подозрения: — Нехорошо ходить по пятам за другими.
— Да что вы, Иосиф Федорович, я ведь… — Филипп смутился, не зная, как оправдаться. — А вы один вернетесь? Тропинка здесь крутая, земля осыпается, вам будет трудно в гору подниматься.
— Ничего, поднимусь. Вернусь один, не беспокойся.
— Честное слово? — против воли, как-то по-детски вырвалось у Филиппа.
— Да, честное слово! Шагай!
Продолжать спор становилось уже невозможным. Филипп улыбнулся Дубровинскому, тот ответил ему успокоительным жестом руки.
Воздух в комнате застоялся, Филипп упрекнул себя, что, уходя, не оставил распахнутым окно. Принялся щепать лучину, чтобы разжечь самовар, и раздумал: ночь ведь уже, хотя и светло, даже солнечно. Вернется Иосиф Федорович — выпить по стакану холодного молока. Он любит молоко. Слазить в погребок будет недолго.
От бессонно проведенной ночи и тревожного долгого дня Филиппа одолевала дрема. Он не находил в себе сил противиться ей. Погрозил себе пальцем: «Не спи! Садись к столу и до прихода Иосифа Федоровича реши сочиненную им задачу по отысканию угла альфа…»
Филипп придвинул лист бумаги, подточил карандаш: «…угол альфа в системе координат…»
Ходики показывали без десяти час. Теплынь и духота окутывали ватным одеялом. Филипп безвольно уронил голову на стол.
Горланили петухи. Под окном дед Василий обушком топора загонял в землю колья — отошла доска, поддерживающая завалинку, — удары сыпались часто и звонко. Сквозь стекло горячо грело солнце. Филипп подскочил, ошалело растирая ладонями отяжелевшее от прилива крови лицо.
Глянул на часы. Двадцать минут шестого. Дубровинский еще не вернулся…
11
Он облюбовал себе огромный серый камень с плоским верхом, отделенный от берега узкой, всего в один шаг, полоской воды, и взобрался на него. Камень был теплый. Дубровинский сел, свесив ноги и чувствуя, что пятки у него обрели удобную опору на мелких покатых выступах гранитной глыбы. Вода плескалась очень близко, обдавая спину ледяным холодом, журчала, словно лесной ручей. Но здесь уже сразу начиналась страшенная глубина. Ветер, не резкий, временами застилал Енисей частой рябью, и тогда он по всей своей неоглядной шири, будто ночное звездное небо, вспыхивал бесчисленными золотыми точечками. Солнечный шар, все увеличиваясь в размерах, медленно приближался к горизонту, чтобы, чуть-чуть опустившись за его линию, вскоре подняться снова.
Всегда за серьезной работой, Дубровинский не привык к бездумному созерцанию природы. Сейчас ему нужно было думать и думать, для того и искал он уединения, но плещущий радостью Енисей мешал сосредоточиться, а всецело отдаться только его красотам Дубровинский тоже не мог.
Ему припомнился давний свой разговор с Анной на даче в Костомаровке. Тогда он обещал с нею вместе под старость уехать куда-нибудь в зеленую тишину, может быть, даже в Сибирь. Ведь о вольной Сибири с таким восторгом рассказывала Конкордия Самойлова, и он тогда говорил, что дни самодержавия сочтены, Сибирь перестанет быть пугалом, местом ссылки и ее бескрайные просторы, ее богатства будут приносить только радость народу. Но вот он стал уже стариком, хотя ему только тридцать шесть лет, стариком потому, что физические силы его покидают, туберкулез источил легкие, а в мозгу мучительной болью отдается даже скрип по стеклу мушиных лапок. И прекрасная страна Сибирь — вольная, она действительно прекрасна! — по-прежнему испоганена ссылками и каторгой. И не в зеленую тишину сюда он приехал, а на нравственные страдания — медленно угасать, зная, что твой враг, борьбе против которого ты посвятил всю свою жизнь, так и не побежден.
С царского стола брошена кость — амнистия. Остается сто сорок два дня, если амнистия — что касается его — не фальшивка. Середина октября, когда Енисей давно уже будет скован льдом и над сибирской тайгой засвистят снежные метели. Полторы тысячи верст санного пути. Они для него не окажутся легче этапных. Ждать пароходов? Тогда — целый год. И амнистия, эта презренная царская милость, вообще становится голой костью. А мухи будут ползать по стеклу и размножаться…
Но вот он все же вернется. А куда? Выбор велик. Дубровинский горько скривил губы.
Опять за границу? Даже когда он был здоров и силен, хотя и тогда врачи утверждали обратное, он тяготился душной атмосферой эмиграции. Он от нее сбежал в Россию с большей радостью, чем из Сольвычегодска в Париж. Теперь эмигрантская склока не стала меньше. Пражская конференция, совещание ЦК с партийными работниками в Кракове показали силу единства большевиков. Но ликвидаторы и всякие прочие оппортунисты ведь начисто не исчезли, и Троцкий землю роет, чтобы теперь ему стать в их главе, создать новый противовес Ленину. Для той особо острой борьбы, что ведется Владимиром Ильичем сейчас в эмиграции, он, Дубровинский, со своими оголенными нервами, разбитый уже неизлечимыми бессонницами, решительно не пригоден. Страшнее того, о чем не догадывается даже Филипп, — у него временами как бы полностью выключается сознание, теряется контроль над собой.
Зная об этом, вернуться к работе в России? Сто раз обдумано. Нести на плечах пятипудовый мешок с зерном он уже не в состоянии, а заполнять такой мешок мякиной — обман, который не нужен ни ему, ни партии. Только полиции это будет на выгоду, когда человек, не владея собой, сделает вдруг что-то неверное.
Вернуться из ссылки, просто чтобы вернуться? Пойти по дорожке Лидии Семеновой, Алексея Никитина, а может быть, даже Минятова? Енисей плескался близко, у самых ног Дубровинского, волочил на себе какой-то мертвый коряжник, побелевшие от времени деревянные обкатыши — остатки когда-то зеленых деревьев, щепу, мелкий мусор. Вот это и есть судьба человека, который ни на что больше уже непригоден.
У Володи Русанова был другой путь. Средством служения народу он избрал науку. И стал бы в ней велик и народу полезен. Но его плавание в белом безмолвии Ледовитого океана завершилось, по сообщению газет, безвестной гибелью. Русанов умер как революционер, сильный, мужественный, неся знамя в руках до последней минуты. Он, Дубровинский, лишен и этого, он уже не может выйти в свой «Ледовитый океан» — нет у него силы.
Выбор велик. Но выбирать нечего.
Когда Лафарги принимали свое спокойное решение, им тоже выбирать было нечего. Ушли, видя точно черту, переступать которую уже не имело смысла. Теперь и он вплотную приблизился к такой черте. Это необходимо сделать, пока он еще управляет собой.
Его любит, ждет Анна, ждут дети. Милые, славные девочки помнят отца лишь по свиданиям с ним в тюрьме и по письмам, в которых, кроме обыденных слов, ничего не напишешь. Они и в будущем смогут увидеть его только в тюрьме и читать приходящие из новой ссылки такие же письма.
Ничто не остановит Людмилу Рудольфовну «пешком по Италии» снова приехать сюда. Конечно, от нее Филипп не утаивает, как переломала Дубровинского, особенно за этот год, «Туруханка». Менжинская в Баихе была, видела все и понимает, что обещанная амнистия — скорее всего фикция и эта весна может оказаться не последней. И тогда впереди еще одна, совершенно страшная зима. Последняя?
Нет, никакой новой зимы уже не будет. Просто не будет совсем. Она может наступить и наступит для кого-то другого. По обыкновенным законам природы для него она не придет.
Почему, почему не было почты с первым пароходом? Тревожно. Это возможный признак того, что Людмила Рудольфовна все-таки едет, несмотря на его просьбы не делать этого, едет и лишь опоздала на первый рейс. Что же она увидит? Разве нужны ему сострадание и подбадривающие слова? Даже от самого лучшего друга.
Он достаточно хорошо все взвесил сам. Перед собой хитрить нечего. И не к чему по-мальчишески высчитывать дни. Они высчитаны были уже тогда, когда Малиновский вручал ему паспорт, и еще ранее, когда Житомирский в Париже сказал: «Поезжайте через Краков. Это наиболее верный путь». Да, очень верный путь. Теперь-то все стало известным. Его много раз подло предавали и продавали, но это последнее предательство в особенности отвратительно потому, что не просто доброе имя свое Житомирский погубил — врач осквернил свою благороднейшую профессию.
Письма личные, от Анны из дому и от Людмилы Рудольфовны, все уничтожены. Незачем шарить в них постороннему любопытному взгляду. Записок никаких не оставлено. К чему записки? Объяснять ведь ничего не нужно. Кому следует, тот догадается. А остальные пусть посчитают — несчастный случай. На Енисее это не удивительно. Аню конечно же пощадят, ей товарищи сообщат помягче. Степаныч сочинит удобную себе бумагу: несчастный случай, и ему в вину не поставят. Это не побег. Нехорошо лишь, что Филиппу сказано: «Честное слово!» Но Филипп, славный человек, тоже простит.
Ударил короткий низовой порыв ветра и накрыл Енисей мелкой рябью. Отражение солнца в воде раздробилось на тысячи маленьких огоньков, похожих на звездную россыпь в ночном небе. Дубровинский вдруг различил в этом суматошном мельтешении золотых огней очертания созвездий Персея, Кассиопеи, увидел даже свою маленькую звездочку. Она сверкнула до жгучести ярко и сразу погасла.
Дубровинский сделал движение к ней. Почему? Почему? Кто ее погасил? Звезды ведь горят в небе вечно. И вечно дневное синее небо над миром. Вечен Енисей, бегущий к бескрайному морю. И весна, приходящая ежегодно, как знак обновления жизни, как непреоборимая сила природы.
Что привело его сюда, к Енисею?
— Нет, нет. — Дубровинский, словно бы споря сам с собой, качнул головой. — Нет! — Он пришел сюда только с тем, чтобы наедине спокойно подумать, в шумах веселой и могучей речной волны освободить свой слух от назойливого царапанья мушиных лап по стеклу, так измотавшего за последние дни.
Как хорош этот свежий ветер! Как здесь, над рекой, легко дышится! Весна — целительница.
Он блаженно закрыл глаза, представляя себе уже недалекую пору, когда все вокруг зацветет, нальется пьянящими соками. Стиснул кулаки, вновь развел пальцы — вот она, весенняя сила!
Кажется, слишком резко попросил он Филиппа оставить его здесь одного. Славный парень ушел огорченным, терпеливо ждет его к ужину, может быть, кипятит самовар или сидит за столом, решает коварную тригонометрическую задачу. Мудрая это и нужная вещь — математика. Сумеет ли он найти угол альфа? Вряд ли найдет. Задача придумана с очень хитрым ходом решения.
Надо помочь ему. Всегда надлежит передавать свой опыт молодым. Человеку всегда надлежит работать и работать — действовать!
Он все еще сидел на камне, а ему вдруг представилось, будто он ощутил, как звонко загремела галька у него под ногами, когда он начал подниматься вверх по крутому откосу — диво! — не испытывая привычной тяжелой одышки.
И по открытой поляне ему виделось — шел он своим давним, юношеским, легким шагом. Над часовней трепетало нежное пламя вечерней зари, смыкающейся с зарей утренней. Где-то в поселке счастливо горланили петухи, сонно мычали коровы. Текла обыкновенная жизнь каждого дня, жизнь, как будто и неосознанная, но все равно так необходимая всем.
Филипп насчет угла альфа его понял с полуслова, с намека — способный все-таки парень! Ужинали, смеясь, не завтрак ли это? Вдруг спохватились: к пароходу надо успеть написать много писем. Прежде всего домой: Аня тревожится, ладно ли перезимовалось. По ее словам, Таля и Верочка все еще не могут понять по-настоящему, как выглядит на деле туруханская весна. Им из писем отца она кажется безумно холодной, словно московская зима. А здесь весной совсем не так уж плохо. Особенно когда сползает, как сегодня, давящая тяжесть с груди.
Герр Лаушер рассказывал о месмерических пассах, способных удерживать тело человека в состоянии нетленности даже тогда, когда он стал уже мертв. Недурная, с глубокой философской мыслью выдумка писателя Эдгара Поэ: воля человека сильнее смерти. У Гейне это лучше: «Где же смена? Кровь течет, слабеет тело… Один упал — другие подходи! Но я не побежден: оружье цело, лишь сердце порвалось в моей груди». У Гейне лучше потому, что жизнь у него не абстрактна, как в новелле Поэ, а наполнена духом борьбы за свободу.
Вот это — «еще оружье цело» — и есть самое главное.
Даже если слух об амнистии только фальшивка — полтора года можно выстоять. Должно выстоять! И, возвратясь из ссылки, не обязательно оказаться снова в царских застенках. О, теперь он научен многому сверх того, что знал отлично и ранее!
Важно побыстрее восстановить надежную связь с Лениным, разобраться в реальной политической обстановке, которая здесь представляется словно бы замкнутой глухим кольцом тайги и тундры. Владимир Ильич — великолепный тактик и стратег. Недавняя Пражская конференция — это его большая победа. В горькие дни поражений нужны революции новые силы — «один упал, другие подходи!» — в дни побед развивать и закреплять успехи новые силы нужны еще больше.
Отвратна жизнь в эмиграции, смертельно опасна работа в российском подполье, но жизнь ведь продолжается, и борьба с царизмом неостановима — Владимир Ильич не отступит в этой борьбе.
Дубровинский плотнее стиснул веки. Ленину никогда не бывало легко. Однако он никогда не опускал рук. Товарищ в борьбе не тот, кто лишь сочувствует издали, товарищ тот, кто в борьбе стоит рядом. И до конца.
Он открыл глаза. Ударил слепящий свет звездной россыпи на волнах Енисея. Дубровинский приподнялся, расправил плечи.
«Да! Да! Ты и обязан, и ты еще сможешь бороться. Ты сможешь!»
Почувствовал прилив необыкновенной силы. Звала широкая, распахнутая даль реки и за нею свободные просторы, все в молодой весенней зелени.
Он выпрямился, как воин, после оглушающего удара врага, готовый вновь броситься в битву.
Но каблуки сапог соскользнули с покатого выступа камня, и он не сумел справиться с леденяще холодным потоком воды, мгновенно оттолкнувшим его от берега.
12
Это был день его рождения. Жаркий августовский день. С высоких карпатских вершин в долины спускался чистый горный воздух. Над Поронином, маленьким галицийским городком, царила звенящая, торжественная тишина. Сидя у распахнутого окна двухэтажного дома, построенного из фантастически толстых бревен, оструганных до сверкающей белизны, Крупская перебирала кипы газет, делала вырезки. Медленно, про себя читала:
«Умер Иннокентий. Утонул в ночь с 19 на 20 мая, а до сих пор не удалось сообщить многочисленным друзьям эту страшную весть. Каким ударом будет эта чудовищная неожиданная потеря для многих, многих передовых пролетариев, знавших его или слыхавших о нем.
Иннокентий — это для многих символ какой-то исключительной чистоты, солидного знания марксизма и большого практического ума…»
«В лице И. Ф. Дубровинского наша партия потеряла одного из самых преданных своих работников…»
«Ушел лучший из лучших. В рядах наших опустело место, которое принадлежало достойному из достойных…»
«Иннокентием звали его широкие круги товарищей. „Иноком“ звали мы его в тесном кругу. Сколько любви и уважения вкладывали люди в это слово „Инок“! В этом пламенном политическом работнике вместе с тем было что-то такое, что делало его похожим на человека не от мира сего, на действительного инока, на мученика из тех, что, не задумываясь, руку положат в огонь за дело, в которое они верят и которому они беззаветно служат…»
— Надюша!
Крупская оглянулась. Щелкнули ножницы. На пороге стоял Ленин в белой косоворотке с отстегнутой верхней пуговицей на воротнике. Пиджак у него был переброшен через локоть.
— Надюша, — проговорил он, счастливо улыбаясь, — хорошие вести из России. Хотя вчера «Рабочую правду» в Петербурге власти, как и ожидалось, закрыли, но уже сегодня вышла «Северная правда». Живет, живет архиважнейшая наша газета! Тираж перевалил за сорок тысяч. И вообще все дела решительно идут на подъем. Сдвигается прочь мрачная туча. Проведем здесь совещание ЦК с представителями от российских организаций — и в новое наступление! Самодержавие будет добито. Революция — пролетарская революция! — не за горами. Я слышу ее отчетливые шаги. Мы скоро, очень скоро вернемся в Россию. — Он повесил пиджак на спинку стула. — Чем ты занимаешься, Надюша? Что это за вырезки?
— Знаешь, Володя, я в своих бумагах наткнулась на запись: сегодня Иосифу Федоровичу исполнилось бы тридцать шесть лет. Он при нас никогда не справлял дня своего рождения. И вот я решила перебрать газеты, соединить, положить в один конверт все, что о нем писали после его гибели.
— Да, Надюша, да, отличная мысль. — Лицо Ленина стало скорбным, задумчивым. Он перебирал вырезки. — Не помню для себя столь сильного потрясения, как смерть Инока. Обидная, нелепая смерть!
— Как он погиб, Володя? Столько было разных противоречивых сообщений и предположений!
— Надюша, имеет значение только жизнь революционера, дела революционера, а не его смерть. Смерть всегда нелепа.
Он приблизился к окну. Засунув руки в карманы, долго рассматривал спокойные, мягкие очертания Татр, горных вершин, синеющих у далекого горизонта, за которым простиралась родная земля.
— Хорошо бы Иннокентию на могиле поставить достойный памятник, — проговорил он наконец. — Имя его не должно быть забыто.
И прищурил глаза, обращаясь к этим родным, синеющим далям.
Москва — Переделкино — Ялта,
1966–1974

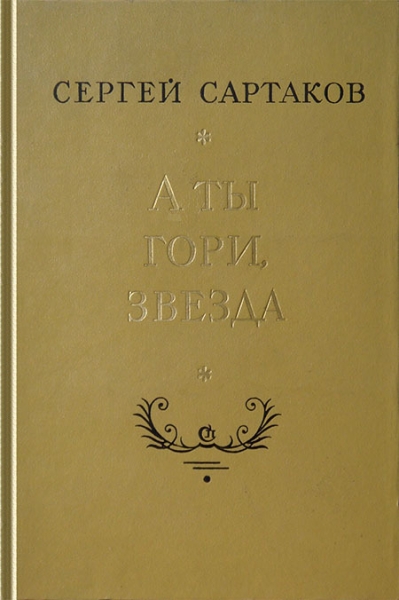

![Мелодия на два голоса [сборник]](https://www.4italka.su/images/articles/534616/primary-medium.jpg)

Комментарии к книге «А ты гори, звезда», Сергей Венедиктович Сартаков
Всего 0 комментариев