Люди у океана
Постановлением Совета Министров РСФСР писателю Ткаченко Анатолию Сергеевичу за книгу повестей «Люди у океана» присуждена Государственная премия РСФСР имени М. Горького 1986 года
ТИХАЯ ТОНЬ
1
Мать стояла в углу на коленях и молилась — то вскидывала маленькую острую голову к сумеречной, медно-желтой иконе, то вдруг надламывалась в пояснице, падала головой, и слышен был тупой стук лба о пол.
— Пресвятая богородица, матерь божья.
Окна в доме были красные — где-то далеко за сопками занимался закат, и смутные тени от качавшихся во дворе ветвей лиственниц, казалось, медленно колыхали занавески, дымными видениями проплывали по стенам.
Отец пил водку, навалясь грудью на стол, широко расставив локти. Сдвинутая клеенка взбугрила ворох рыбьих костей, отгородила от него бутылку. Стекло розово, нежно светилось в слабых закатных лучах, и отец строго, молитвенно смотрел на белую сургучную головку.
Наська неслышно сбросила тапочки у порога, прошла к деревянной лавке у печи, поставила ведерко с молоком. Было тихо и сонно. Она села на лавку, завернула в фартук мокрые, напухшие руки.
В ведерке опадала пена, сухо лопались пузыри, и сильнее, гуще пахло парным молоком. Мать молилась, отец, кажется, прислушивался к ее горячему шепоту, мутно-красно светились окна, и утробно, по-животному охало и дышало за стенами спокойное море. Наська тоже молилась.
Она знала молитвы, но молилась по-своему, раздумывая и разговаривая с собой. «Чего ты хочешь? — спрашивала она себя и отвечала: — Хочу, чтобы хорошо было всем-всем, и мне тоже. Чтобы шторм не побил пароходы, чтобы отец наловил много рыбы, чтобы бог наконец простил за что-то мать, ее «душу грешную», и помог накопить денег, чтобы американцы не напали на Кубу и не убили Фиделя Кастро, чтобы хромой Иван, мой жених, вылечил ногу, простреленную из ружья… Пусть ему будет хорошо, пусть всем будет хорошо. А себе хочу совсем немножко — чтобы Иван не женился на мне, отказался от меня. Тогда отец перестанет бранить меня и мать».
— Пресвятая богородица… Молись за нас, грешных…
Отец протянул короткую, бугристую руку, схватил за горлышко розовую бутылку, поставил рядом с собой. Бутылка погасла, стала тускло-зеленой, лишь у самого дна остро прыгала розовая искра.
Икона отодвигалась в сумрак угла, растворялась, обращаясь в какой-то невидимый дух, а голова матери то возникала над столом, то исчезала, и тогда горячечный шепот доносился снизу, от темного пола.
Тенью шевельнулся отец, сверкнуло стекло, и звонко, чисто забулькала водка.
Во дворе жалобно, просительно замычала корова. «Хорошо поторговал рыбой», — подумала об отце Наська, встала тихонько, опустив голову, пробралась к двери и вышла на улицу.
Закат чуть краснел на густой темени неба, а из моря желто всходила луна. Блики, качаясь, бежали через встревоженную ширь к берегу, по мокрому песку подступали к самому крыльцу. Море было легким, высоким, мягкий прибой толчками бросал на берег воду и сырой теплый воздух. По мокрой траве, как по воде, Наська побрела к стойлу.
Куры постанывали во сне, цепко схватив лапами нашест; гуси едва приметными белыми комьями лежали в углу, спрятав головы под крылья. Жирно пахло отрубями, зерном, навозом; тяжело взлетали и сонно гудели мухи. Одна ударилась в Наськину голую ногу, упала, зло забилась в навозной жиже.
Корова повернула голову, мигнула большим черным глазом, дохнула молочным паром. Наська бросила ей охапку травы, посыпала солью, и, когда наклонилась, корова лизнула ее в щеку шершавым, как терка, горячим языком, обволокла волосы длинной липкой слюной.
Наська провела рукой по мягкой шее коровы, нащупала около уха репейник, осторожно выдрала его и вышла из стойла. Корова шелестела, похрустывая травой, потревоженные гуси тихо гоготали в своем душном углу, будто спрашивали: «Чего-го, чего-го?»
На заборе висела сеть. Наська потрогала ее — она была влажной, веской, холодно поблескивала кетовой чешуей. «Отец сушит сеть ночью», — подумала Наська и привалилась спиной к забору.
Старые дощатые дома черно горбатились вдоль светлого берега, были пустынные, глухие. Ни огонька, ни звука. Люди уже давно не жили в них, ветер выдул в выбитые окна и отворенные двери запах пищи и вещей, стены стали просто гниющим деревом. Летом полы в комнатах мокры от дождей и туманов, зимой под самые потолки вырастают твердые сугробы, а потом и крыши тонут в ревущей пурге. Особенно сиротливо зимой; летом хоть иногда в домах ночуют охотники и рыбаки.
Когда-то село звалось Алексеево — почти все переселенцы были из волжской деревни Алексеевки и с собой привезли на Сахалин память о родине. Потом, когда дома опустели, веселые ночлежники-охотники назвали их — Заброшенки. Так и прижилось это слово.
Поселок бросили люди. Место здесь трудное — открытое морю, отдаленное. Объединились с соседним колхозом, переселились южнее, в большое село.
Но не все. Вон на окраине, за речкой на взгорке, где растут серые огромные лопухи, вспыхнуло красным, как от бессонницы, глазом окно — это засветили лампу в доме Коржовых, отца и матери Ивана, ее жениха.
Наська вспомнила, как весной привезли Ивана с простреленной ногой, как стонал он в лодке, открыв пересохший рот, а когда подняли его, она увидела — брюки, спина намокли: никто не догадался отлить из лодки воду… Потом, летом, в один пустой дом ударила молния, и он загорелся; горел долго, страшно, черные хлопья пепла сыпались на море.
Наська вздохнула:
— Пресвятая богородица…
В избе затеплили лампу. Наська обернулась к окну. Мать неслышно собирала посуду. Отец спал, привалившись к столу, положив лохматую голову на сложенные крестом руки.
2
По быстрой речке шла на нерест кета. Шла плотно, чернея округлыми спинами, переваливая перекаты, взбивая воду в узких проходах, — рыба была вторым встречным течением таежной речки. Кричали вороны, боком подпрыгивая в воде; коршуны кружились над лиственницами; а на песке, широкие, залитые водой, поблескивали медвежьи следы. Было много других следов — лисьих, барсучьих, колонковых…
Наська шагала по мягкой, выбитой во мху тропинке, размахивая завернутой в платок буханкой горячего хлеба. Она несла хлеб на «тонь у коряги» — так называлось место, где ее отец и отец Ивана ловили кету и жили в шалаше.
Она не торопилась: до обеда далеко, солнце только прошло сквозь лиственницы; перепрыгнув через валежину, она садилась на пенек передохнуть, клала на колени узел, набрасывала сверху конец фартука, чтобы хлеб дольше не стыл, и смотрела в речку. Под обрывом, в мелкую лагуну, густо набилась рыба. Там сочились сквозь чистую гальку родники, и там метала икру кета. Икра была рассыпана по дну, икра плавала, скапливалась в медлительных, будто задумчивых водоворотах, и маленькие рыбешки, широко раскрывая рты, жадно глотали ее. Наська думала. Думала обидчиво, что рыбе, может быть, лучше, чем ей, рыба знает, зачем живет, зачем пробивается через перекаты к лесным ручьям…
Она идет дальше, размахивая узлом. Сверху под ноги ей сыплется желтая лиственничная хвоя, ветки ольховника скользят по голым рукам и оставляют на темной коже белые полоски. За кустами мелькнул свежий рыжий бок лисы, перепуганная сойка чуть не ударилась в Наську, бурундук остро просвистел в траве.
Вот впереди что-то темное медленно проступает сквозь зелень и желтизну. Наська приглядывается и узнает старца, брата Василия. Он идет, опираясь на березовый посох, и черная, молодая борода широко разлетается по голой груди. Он улыбается Наське, его большие, чистые глаза добро, молитвенно щурятся.
Наська одергивает платье, потупляется. От Василия пахнет водкой и рыбой, он говорит хриплым смиренным голосом:
— Хлебушко несем, дух хлебный по тайге пускаем… Хлеб наш насущный…
Василий смеется, кхекая, трогает белой узкой ладонью Наськино плечо:
— Девка в соку, хлеб горячий… Грехи, всюду грехи… — Он медленно ведет рукой по спине Наськи, говорит, озирая кусты: — И в этакой глуши соблазн…
Брат Василий уходит, что-то бормоча, потрескивая сухими ветками под тяжелыми ногами. Он уже побывал на «тони у коряги» и теперь держит путь в Заброшенки, к бабам, проповедовать слово Христово.
Странный человек. Жил в каком-то селе, ходил по таежным тропам, «яко тать в нощи», не страшился зверья и все говорил молитвы. Наська боялась его глаз, его частого тихого шепота. И всегда вспоминала тревожащие, томящие загадочностью слова:
«В миру вы испытываете страх, но утешьтесь, я преодолел мир… Входите тесными вратами, потому как широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими. Но тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их».
Что это? О чем? К какой жизни узка дорога?.. Спрашивать — грех, но Наська не могла себя заставить не спрашивать. Она, конечно, грешница. А брат Василий — святой?.. Почему же он водку пьет? Почему с Валентиной, матерью Ивана?.. Наське сделалось стыдно, она много раз назвала себя грешницей и заторопилась, чтобы отстали от нее нечистые мысли. И чего она выдумывает: ведь и святые в Библии… Какой-то Лот жил со своими дочерьми, Иаков — со служанками. Наверное, святым все можно…
«Тонь у коряги» показалась сразу за плотным ельником, дохнула навстречу Наське едким низким дымком. Запахло рыбой — свежей, соленой, тухлой. Отец и Коржов в высоких, до бедер, резиновых сапогах стояли в воде, пластали кривыми сабельными ножами кету. Руки у них были в крови по самые локти, кровь каплями запеклась на щеках отца, склеила скудную бороденку Коржова, от крови розовела вода и темнел песок. Они работали молча, задыхаясь в жаре, исходя усердием.
Когда-то огромная ель упала с обрыва, сломалась и до половины перегородила речку. В первую же весну лед обломал сучья, содрал кору, но не сдвинул тяжелый ствол. Так и лежит он разбухшей, обросшей илом корягой на пути быстрой воды.
Рыбаки смекнули: место удобное. От конца коряги крепким частоколом перекрыли речку до другого берега. В середине частокола устроили «забойку» — решетчатый садок, с узким, похожим на воронку входом. Рыба скопом набивалась в садок, ее черпали сачком, несли по коряге к берегу, выбрасывали на песок.
Отец и Коржов не видели Наську. Они вспарывали последние осклизлые кетины, икру швыряли в два деревянных корыта, молоки и потроха пускали под ноги, в воду. Над ними дико гудели мухи.
Первым воткнул нож в песок Коржов и, наклонившись, сгорбив тощую спину, принялся брызгать в лицо розовую воду. Он вздыхал, крякал. Когда выпрямился и отер ладонью глаза, увидел Наську. Глаза его заплыли морщинами, бороденка разъехалась от улыбки.
— Здравствуй, Настюшка! — сказал он и начал карабкаться на обрыв к шалашу. Посерев лицом, задохнувшись, он сел на пенек у костра, сизо дымившего головешкой, бросил на угли пучок бересты. — Вот ушицы сварим сейчас…
Отец поднялся грузно, но не запыхавшись, спросил, не глянув на Наську:
— Хлеб принесла?
Наська подала узел.
— Долго ты чего-то… — бормотнул он и приказал. — Неси еду.
Наська влезла в шалаш — воздух здесь был кислый от табака, хлеба, соленой рыбы, — собрала липкие чашки, прихватила тяжелый чугунок с каким-то варевом. Потом вернулась и принесла кринку с кислым молоком, бутылку водки, завернутые в газету стаканы.
— Вот и пообедаем, — весело проговорил Коржов, близоруко помигивая, быстро развертывая стаканы. Он уже забыл, что собирался варить уху, и ловко прислуживал старшинке — так он вежливо называл Наськиного отца.
— Скатерть-самобранка, — жестко, недовольно усмехнулся отец, налил в стаканы водку — себе полный, Коржову полстакана.
— По способности, — хихикнул Коржов и сладко, одним длинным глотком вытянул водку.
В чугунке были куски вареной кеты, под ними — слежавшаяся гречневая каша. Доставали ложками прямо из чугунка. Отец брал крупно и медленно, Коржов — часто и поверху.
Наську не пригласили, и ей стало скучно. Она ворошила прутиком в костре, смотрела, как с бледных углей опадали легкие серые хлопья пепла. Когда снова забулькала водка, она сказала:
— Большой спутник запустили, будто бы с собаками и растениями разными…
Отец выпил, понюхал мякиш теплого хлеба, впервые тяжело и удивленно посмотрел на Наську:
— Опять экспедитор, этот тунгус, приезжал? Я сказал: не вожжаться… Если что… — Он придержал у рта ложку. — Смотри у меня!
— Да не смущается сердце наше… — забормотал Коржов. — Мертвые железа убьют души человеческие. Человеку благость и сытость от земли…
— А еще, — отчаянно сказала Наська, — в Южном[1] телевизоры продают, скоро передачи будут.
Отец треснул ложкой по чугунку — так, что от ободка отвалился черный кружок нагара, и жесткие крупинки каши брызнули в огонь.
Наська отошла к шалашу, на скамейку, врытую двумя столбиками в землю.
Небо как-то незаметно посерело, и солнце теперь проглядывало водянистым нежарким пятном. Понизу, заволакивая кусты мутной моросью, наползал туман. Притихли в чащобе работяги дятлы, отсырела кора деревьев. На море, видно, раскачивался шторм.
Стало зябко. Наська спрятала руки под фартук, поджала ноги. Из шалаша пахло табаком и рыбой; со скатов, выложенных еловыми лапами, осыпались желтые иглы, береста, прикрывавшая вход, жирно залапана руками.
Вспомнила Наська осень прошлого года — еще свежие ветки, белую бересту, мягкую траву в шалаше. Все они: отец, Коржов, Иван и Наська — ловили сачками корюшку, черпали прямо из речки. В обед мужики сильно выпили, сидели, спорили: во сколько сотен обойдется улов, если свезти его в город. Наська влезла в шалаш, как в хвойное облако, легла и задремала от запахов, усталости. В полусне она почувствовала: кто-то жестко обхватил ее грудь, часто и влажно задышал в лицо. Наська открыла глаза, увидела Ивана — его виноватую улыбку, хмельные, налитые тяжестью глаза. Она хотела встать. Иван стиснул ей руки, принялся больно заламывать их, нервно гогоча от стыда, неумелой грубости. Наська остервенело толкнула его, выскочила из шалаша и пустилась по тропинке в лес, к дому. Она бежала, пока не захватило дух и пока гнался за ней Иван. Потом долго сидела под кустом стланика, злая и одинокая.
Отец выскреб ложкой кашу в чугунке, сказал так, чтобы Наська догадалась:
— Хватит нам прохлаждаться…
Наська спустилась на песок, принялась разделывать икру. Она брала гладкие, упругие дольки, разламывала их, пропускала икринки сквозь нитяное сито в подставленный снизу таз, ястыки бросала в воду и видела, как бледную, клочковатую плеву жадно рвали острыми ртами пестрые мальки.
Разомлевший от водки Коржов блаженно улыбался, ходил по берегу, не зная, за что взяться. Вспомнив, что старшинка велел ему варить тузлук, побежал по берегу собирать дрова.
Погода мутнела. Туман лип к воде, оседал в оврагах, скапливался в плотных кронах деревьев, стекал каплями на землю, а потом медленно возник «слепец» — мелкий, липкий, нудный дождь. Он двигался по заглохшему лесу волнами — то затихал, то тяжелел, — нес запахи моря и берега, заваленного преющими водорослями. Он был едкий, стылый.
Наська не разгибала спину. Уже два полных таза отец отнес к котлу, прополоскал икру в крепком рассоле, бережно ссыпал в бочонок. Наська все разламывала красные дольки, растирала их на мягком сетчатом дне сита. Лишь изредка она ходила к воде, отмывала сито, заплывшее жирной слизью.
Сумерки наступили незаметно, — казалось, просто сгустился, потемнел «слепец». Наська отпросилась домой. Шла она по темному, расплывчатому, будто опущенному в воду лесу, и перед ее глазами вспыхивали красные, липкие пятна икры, и лужи под ногами были кровавыми.
3
Сахалинский берег у Заброшенок чист, пустынен и открыт. За мертвыми домами начиналась тундра с обтрепанными ветром, изъеденными туманом флюгерами-лиственницами, вытянувшими ветви в глубь острова. Настоящий лес начинался у сопок, где слабел ветер и преснел туман. Песок и песок… Песчаные дюны вокруг домов, песок у воды, песчаный бар чуть поодаль, за тихой лагуной. Серо, угрюмо в непогоду. Но зато простор в хорошие дни. Солнце пылает во всю ширь моря, песок нагревается, струит горячее по-южному марево, далекие берега постепенно наливаются синью, легчают, растворяются в воздухе и воде. И слышно далеко по тихой пустыне. Слышно даже, как за дрожащим в мареве горизонтом, где-то у мыса Терпения, матерятся и хохочут на сейнерах рыбаки.
В такие дни проезжал вдоль берега на моторке Сашка Нургун, «экспедитор», как звал его отец. Сашка возил на север, к Каменным мысам, продукты, почту, всякое другое имущество для геологической экспедиции. И всегда он подворачивал в Заброшенки, просил у Наськи молока, яиц, а за это давал газету или журнал.
Сегодня очень тихое утро, и Наська рано услышала далекий рокот моторки. Она только успела пропустить на сепараторе теплое молоко, собралась отнести в погреб банки со сливками, как…
— Мама, ты сама!.. — крикнула она матери, месившей в квашне желтое, тяжеленное тесто, и побежала к берегу.
Песок был холодный, знобил ноги, но вода не остыла за ночь. Наська вошла по колени в лагуну. Прибежал теленок, рыжий, с белой звездой во лбу, лизнул колыхавшуюся пену, приняв ее за молоко, брезгливо мотнул головой, взбрыкнул и пустился к дому, выбивая в песке глубокие следы. В устье речки у дома Коржовых белым напоминанием о зиме плавали гуси — им тоже не нравилась морская вода.
Глуховатый, слитный рокот постепенно переходил в отчетливое, звучное тарахтенье — моторка приближалась. Она вынырнула из-за высокой песчаной дюны, погнала к берегу веселые, с белыми завихрениями волны.
Сашка Нургун встал, придерживая одной рукой руль, сдернул с головы кепку-жучок, помахал ею, будто хотел проехать мимо. Наська, смеясь, крикнула:
— Варениками угощу!
Сашка любил вареники с творогом — заулыбался, круто повернул руль. Лодка с разбегу врезалась в мягкий песок бара, волна, гнавшаяся позади, наконец настигла ее, подкинула корму, переплеснула бар и расстелилась в лагуне.
Подхватив подол платья, Наська побрела к лодке.
— Бессовестный, — сказала она, подпрыгивая и садясь на забрызганный и нагретый солнцем нос лодки. — Зачем пугаешь?
— Да я так… — Сашка еще шире улыбается, его плоский нос растягивается в лепешку, а глаза пропадают в косых щелках; он встряхивает черным, жестким до блеска чубом. — Как поживаете, баптисты?
Родители у Сашки нивхи, учился он в русской школе и не верит ни в бога, ни в шамана. Сашке нравится подшутить над Наськиной верой и всегда, чтобы она сердилась, называет ее баптисткой.
Наська смотрит с непонятной ей завистью в развеселое лицо Сашки, на его коричневые, голые до локтей руки, радуется свежей матросской тельняшке, красному значку на груди — Сашка собирает разные значки, у него есть даже заграничные — и говорит чуть обидчиво:
— Мы православные.
— Право, славные, — смеется Сашка, — славные и смешные немножко. Вот только одичали шибко. Как нивхи раньше. Если будете праздник медведя справлять, меня пригласите, деревянных божков вам сделаю, знаешь, палочки такие заструганные…
Наське грешно говорить с безбожником Сашкой о вере, она вспоминает, как ведет себя в таких случаях мать, строго поджимает губы и отворачивается.
— Ну ладно… — говорит Сашка и, откинув край брезента, роется в кипах газет, журналов, втиснутых между ящиками с какими-то аппаратами и приборами. Все это пахнет магазином, городом, далекой незнакомой жизнью. — Вот тебе письмецо от подружки, а это от меня «Огонек», читай. — Сашка чуть краснеет, стесняясь собственной доброты, смотрит, сияя, узкими глазками, на онемевшую от радости Наську.
Она бежит к дому, заглядывает в журнал: нет ли чего о Кубе или о спутниках, привычно сует письмо и журнал в солому за забором, потом пробирается на кухню и нагребает полный Сашкин котелок горячих вареников с творогом. Сверху щедро заливает сметаной.
Сашка не торопясь, важно принимает котелок, говорит:
— Хозяйка ты чудная, как моя мама. Выходи за меня замуж, увезу на рыбокомбинат, а может, в экспедицию… Плюнь ты на своих баптистов.
Наська молчит.
— Или так уходи, сама.
Наська молча сталкивает нос лодки с берега, Сашка хватается за руль.
— Привет отцу и Коржову. Они, однако, не святым духом живут, знаю… Как бросишь Заброшенки, я им еще покажу…
Наська стоит в воде на баре, прикрывается платком от солнца.
Сашка, согнувшись, крутит ручку мотора. Его худая спина напружинивается, тельняшка вылезает из брюк, виднеется коричневый поджарый бок. Острый локоть Сашки выписывает частые круги. Мотор всхрапывает, чадит едким дымом, лодка оживает, и Сашка с маху шлепается на сиденье. Он машет кепчонкой, его скуластое лицо расплывается в доброй, немного грустной улыбке.
— Тиф ургг’аро![2] — кричит Наська по-нивхски.
Лодка идет вдоль берега, на север, к Каменным мысам. Наська смотрит вслед и думает: зимой Сашка Нургун будет проезжать здесь на собачьей упряжке, в оленьей дохе с капюшоном, в нерпичьих унтах, такой же веселый и отчаянный. Вот бы хоть раз прокатиться с ним… Наська вспоминает об отце, пугается своей смелости. Лодка стелет длинный след, как ракета, уходит к дымчатому горизонту и там, кажется, вырвется в небо. Наська торопится домой — читать письмо.
На кухне тихо, духовито, бьются о стекла мухи, звонко тенькают капли, падая из умывальника в таз. В переднюю открыта дверь, мать, подсев к окну, что-то штопает, далеко в сторону откидывая руку с ниткой; ее губы беззвучно шевелятся. Так всегда: пока Наська читает письмо, газету или журнал, мать выглядывает в окно — не нагрянул бы отец, — вздыхает и шепчет молитвы.
Давняя Наськина подружка Маша, или, как звали ее здесь, в поселке, Маришка, писала:
«Здравствуй, Наська! Как ты поживаешь в своих Заброшенках? Я уже стала забывать твое лицо и всю тебя. Ведь три года прошло. Мы тогда были глупенькие девчонки. Я помню только, что у тебя белые, точно крашеные, волосы и родинка по подбородке. Мальчишки звали тебя «меченая», а девчонки завидовали: все «меченые» счастливые.
Наська, ты счастливая?
Если да, то страшное твое счастье, я его никогда не пойму. Я грешница. Я не могу жить без клуба, кино, танцев и нарядов — в общем, без людей. Я уже теперь засольный мастер на рыбокомбинате, хочу еще учиться, а ведь мы с тобой только семилетку и окончили в нашем селе. Я скоро выйду замуж — это тоже грех? Нет, наверное, потому что Сашка Нургун говорил — тебя хотят выдать за Ивана.
Я тебя больше не зову, Наська, напиши хоть одно письмо. Неужели ты писать разучилась? Я бы приехала к тебе, но зачем? Володька Шевцов, наш комсорг, рассказывал, что когда он приехал в Заброшенки и хотел поговорить с твоим отцом, так тот его в дом даже не пустил, кобеля науськивал, а тебя в комнате заперли. Отец твой сказал, что он, как пенсионер, живет по закону, и обозвал Шевцова антихристом и бандитом. А ведь он знает Володьку с пеленок и помнит, что Володька, а не кто другой, вытащил тебя из проруби, когда ты влетела туда на коньках.
Наська, вы что, озверели там? Или ты святая и с тебя иконы писать надо? А я как вспомню твою родинку на подбородке, и смешно мне станет, и грустно: мы же с тобой любим кино и шоколадные конфеты.
Передай привет Ивану, все-таки вместе мы «творили» в школьной редколлегии, и он мне первой объяснился в любви…
Пришли хоть маленькую весточку».
Наська сложила письмо плотным квадратиком, спрятала в кармашек с обратной стороны фартука, притихла. Мухи зло, звонко бились в тусклые стекла. Вспомнился Маришкин дом, он напротив, через дорогу. Наська ходит к нему, когда ей очень скучно, смотрит в выбитые окна, прислушивается, дышит запахами сырого дерева, едкого грибка, опилок. Серые тяжелые крысы, горбясь, цокая когтями, озабоченно пробегают из угла в угол. Они боятся лишь кота Пыжика; у норы — горки трухи. Тонко постанывает в холодной трубе ветер. Наська как-то тихо позвала: «Мариша…» — испугалась своего голоса и убежала. Потом долго молилась, просила отпустить ей грехи, умоляла икону сделать так, чтобы Марише было хорошо жить на свете.
Хотелось увидеть подругу. Нет, не говорить с ней, это грех — говорить много с безбожницей. Только увидеть… Наська и молиться и поститься будет, простит всем и все, даже старцу Василию, возьмет на себя любое бремя, выйдет замуж за Ивана…
Наська чуть слышно сказала:
— Мама, я съезжу к Марише.
Мать не повернула головы, лишь на минуту замерла и тут же стала часто вскидывать руку с иглой, будто торопясь закончить свою работу. Наська ждала. Нитка у матери оборвалась, мать что-то пробормотала, не выдержав тишины, поднялась со стула. Неслышно, как по воздуху, подошла к Наське, села рядом.
Запахло чистым бельем, воском, сухим прохладным телом. Так пахнут аккуратные старушки.
Наська смотрела на мать сбоку — видела жидкие волосы, скрученные узлом на затылке, худую, желтую шею, синеву под глазами, молитвенно сжатые и чуть вытянутые губы; глаза ее сухо, не мигая, смотрели в угол, на икону. Наська поняла, мать ничего не скажет. Она не станет мешать, она боится помогать. Она будет молиться.
Мать будет молиться, чтобы Наську не забил до смерти отец.
Наська всхлипнула, в глазах у нее замутилось, поплыли, вздрагивая и чернея, стены, печь. Мать куда-то отодвинулась, растворилась, и только чувствуется ее чистый запах. Наська встала, на ощупь пробралась к двери.
Она долго стояла во дворе, в тени, прижавшись спиной к прохладной стене сеней. Когда глаза ее просветлели, она увидела: волны смыли ее следы на песчаном баре, а из ровной воды моря клубами серого пара тяжело поднималось грозовое облако.
Где-то далеко призрачно рокотала моторка.
4
Прибежала Тонька, сестренка Ивана, рыжая, босоногая, с худыми исцарапанными руками; сказала, сильно гнусавя — она даже летом страдала от насморка:
— Иван зовет.
Наська стала собираться. Поставила на подоконник зеркало, сняла платок и принялась расчесывать волосы. Она стыдилась часто заглядывать в зеркало, да и некогда было за хозяйством, и теперь с интересом смотрела на себя. Глаза спокойные, кроткие — как чуть зеленоватые капли воды; меленький нос в конопушках, будто куличное яйцо, а волосы совсем белые — о них Сашка Нургун сказал: «Самые модные теперь в городе».
Тонька чесала ногтями струпатые ноги, шмыгала носом и, норовя что-то сказать, тявкала, как щенок:
— Вот я, вот меня…
Наська обернулась.
— Вот меня, — выговорила наконец Тонька, — брат Василий будет учить читать. Не надо, говорит, в школу отдавать, сам научу.
— А ты в школу хочешь?
— Не-е, там все безбожные.
— В школе звонок звенит и девочки в чистых платьицах ходят…
Кусочком свеклы Наська чуть-чуть, чтобы никто не догадался, подкрасила обветренные припухшие губы, потрогала пальцем родинку на подбородке, вспомнила: «Меченая»…
— Ну пошли, сестрица.
Тонька бежит впереди, припекая ноги на горячем песке. Улицу всю занесло песком с берега, песок желтыми сугробами привалился к окнам и стенам домов.
Солнце греет плотно, крепко — солнце сахалинской осени. Дни стоят полные света, но невеселые: волны прибивают старые, хрупкие панцири крабов, побитую о камни морскую капусту; лиственницы гуще сеют подсушенную мягкую хвою, и веет из леса грибной грустью. Где-то над морем холодеет воздух, по утрам ложится на землю крупная холодная роса. Грубеет трава на болотах, и жалобно, надсадно стонут выпи от предчувствия дальнего полета. Но солнце греет — греет в награду за длинную сырую весну, короткое лето.
Наська всматривается в дома, они провожают ее пустыми окнами, от них пахнет разогретой смолой, теплой прелью; длинные керамические трубы, по-японски выведенные в стены, кое-где надломились острыми коленами, и под ними на песке жирные пятна сажи.
В доме с кирпичной трубой и русской печью сквозь окно и дверь виднеется на стене цветная картинка. Она посерела, сморщилась, но если войти и присмотреться, то можно разглядеть хмурое грозовое небо, босоногую девчонку, ее круглые страшные глаза, которые видят даже сквозь пыль; девочка несет за спиной малыша с такими же глазами, над ними грязное жуткое облако… Нет, не облако — это сырость разъела бумагу. И только внизу, где кончается картинка, можно прочитать, если провести пальцем по пыли: «Дети, бегущие от грозы». Фамилия художника оборвана, остались буквы: «К. Е. Ма…»
Тонька остановилась, перехватила Наськин взгляд, сказала:
— Здесь председатель жил.
— А ты откуда знаешь?
— Мамка говорила. Еще говорила, он теперь начальник какой-то.
Наська вспомнила Петьку, сына председателя (это он приклеил в своей комнате картинку), его оленьи унты, самые красивые в поселке, его двойки по математике и пятерки по рисованию. Он любил книги о рыцарях и презирал девчонок… Сейчас Петька учится где-то в институте, а отец работает директором большого рыболовецкого совхоза. Знает ли Петька, что картинка до сих пор висит на почерневшей, загнивающей стене?
— А в том доме Селяниновы жили, — сказала Тонька и вытянула руку к узкому проулку, занесенному зыбким чистым песком.
Да, в том доме, с надорванной под окнами доской и выпавшими из пустой стены сухими бурыми водорослями, жили Селяниновы. Большая семья, человек двенадцать. Младшие ходили в школу, старшие все работали. Старик Селянинов часто справлял праздники — именины, свадьбы, удачные заработки, выпивал и хвастался: «Мы, Селяниновы, опора колхоза. Мы — как соль — ко всему приправа». Старик почему-то не любил коров и держал коз, целое стадо белых драчливых коз. Когда их гнали по селу, они бекали и дружно щелкали костяшками ног…
За Селяниновыми — домик врача Когана. Он был похож на всех докторов из книжек и немножко на Айболита — худой, с бородкой, в очках. От него пахло йодом и карболкой, он часто поправлял галстук, будто прижимал руку к груди, и смотрел прямо в глаза. Коган жил один, уехал вместе со всеми…
Дальше, чуть на отшибе, в беленом доме жил капитан колхозного катера Тимошкин с толстой плаксивой женой Аксиньей. Тимошкина побаивались мальчишки: он был всегда небрит, в скрипучей брезентовой куртке, говорил насмешливо и каждому старался крутнуть ухо. А тетя Аксинья по всякому пустяку плакала, бегала к соседям и, вздыхая, передавала разные новости. Теперь от их дома осталась гора золы и пепла с обгоревшей железной японской печкой на самом верху: летом в дом ударила молния. Сашка Нургун рассказал о пожаре Аксинье, она заплакала: ей обидно стало — почему сгорел их дом, а не какой-нибудь другой. Может, это к беде?..
Тонька бежала впереди, мелькало ее старенькое, засиженное сзади платье. Потом остановилась, ожидая Наську, и стали видны ее колени — красные, шелушащиеся: непослушную, крикливую Тоньку заставляли подолгу молиться стоя на коленях.
Наська пошла медленнее около длинного, с прогнувшейся крышей дома. Это — школа. Была школа. Здесь устраивают ночлеги охотники. Потому, наверное, что дом ближе к морю и в четвертом классе не выбиты окна. В холодные дни ночлежники отрывают от забора доски, разжигают в физзале костер. Там много пустых бутылок, консервных банок, гильз. Углы забиты слежавшимся прелым сеном.
Тонька счастливо засмеялась:
— Когда приезжают, чем-нибудь хорошим меня угощают. Один, с бородой, каждый раз мне шоколадку привозит.
Наська вздрогнула от жалости к Тоньке, у нее погорячели глаза.
— Знаешь, Тонь, — в порыве нежной, непонятной обиды проговорила она, — давай приберем одну комнату, в первом классе, и ты будешь ходить в школу, а я — учить тебя.
— А брат Василий как? — удивленно и тупо спросила Тонька.
— Что нам Василий!
— Ладно, — неуверенно согласилась Тонька, и Наська почувствовала страх и грех. «Господи, прости меня…» — прошептала она, и покаянье еще больше смутило ее. Глядя себе под ноги, оглохнув ко всему, Наська пошла дальше, нащупывая ногами дорогу.
Только у речки, окунув ноги в остро текущую воду, она оглянулась, сказала цепко следившей за ней Тоньке:
— Правда, холодная вода?
— Не-е, я купаюсь. Скоро брат Василий папку с мамкой и Ивана искупает.
— Вы что, совсем в баптисты переходите?
— Совсем… — с молитвенной кротостью ответила Тонька.
Наське стало смешно, она дернула Тоньку за слипшиеся сосульками волосы, побрела через речку: хотелось увидеть «брата Ивана».
Дом Коржовых, рубленный из лиственничных хлыстов, под железной крышей, стоял у обрыва и яркими ставнями смотрел за речку, поверх мертвого поселка, на крепкий новый дом Наськиного отца. Вечерами они перемигивались красными огнями керосиновых ламп.
Наська поднялась в гору по горячей песчаной тропинке, остановилась передохнуть, оправила платье. Тонька ждала ее, открыв глухие воротца в заборе, и нетерпеливо брякала цепью со щеколдой. На крыльце сидел брат Василий, умно щурился, что-то говорил; завидев Наську, младенчески светло улыбнулся.
5
Уходил Иван Коржов служить в армию — весь поселок провожал, девки пели, гармонь играла, и бабы по старинке плакали. Вернулся — лишь два живых дома откликнулись, да и то собачьим лаем. Сашка Нургун пожелал солдату удачи и поехал дальше, окатив сапоги Ивана соленой водой.
Зато вечером, вернувшись с промысла, отцы задали пир. Поили Ивана водкой, присматривались к нему, а мать, Валентина, пылая лицом, подбавляла пельменей.
— Кабана забил, — удивляясь своей щедрости, хвалился Коржов.
— Живем благодаря богу… — неразговорчиво вторил старшинка.
Наська тоже смотрела на Ивана, на его новенькую гимнастерку и красные погоны, ловила каждое его слово.
Посмеивался над отцами Иван, корил их «неправильной жизнью» и, глядя на Наську, рассказывал:
— А я взводному командиру про ваше святое бытие поведал, он удивился, с интересом слушал. Потом спрашивает: «Шутишь?» — «Нет», — говорю. «Плохо дело, Иван». — «Почему?» — «По политике у тебя тройка». Это он намекает на мою неустойчивость. «Спруты, — говорит, — затянут, у них очень липкие щупальца». Любил взводный так по-книжному выражаться. «Нет, — отвечаю, — мне Заброшенки — поперек горла, приеду, гляну — и махну куда-нибудь, к народу». — «Ты лучше туда не заглядывай», — просит меня. А мне что, страшно? Как же, думаю, не навестить родных. И вот приехал к «спрутам», — может, и щупальца у вас есть, только мне все ерунда. День-два погощу, и на рыбокомбинат меня Нургун перебросит. Жить по-хорошему надо, правда, Наська?
Наська в забывчивости мотнула головой.
— А я кабана… — застонал Коржов.
Отец тяжело повел уже набрякшими от водки глазами, сказал Наське:
— Живо домой, спать пора, да помолися.
Как ошпаренная выскочила Наська за дверь, успокоилась немного на свежем воздухе; проходя мимо окон, не удержалась, глянула в дом. Старшинка исподлобья, в упор смотрел на Ивана, а тот, запрокинув голову и закрыв глаза, тянул из стакана водку. Судорожно двигался кадык на его худой шее, водка, взблескивая, толкалась в дно стакана. Иван допил, открыл налитые слезами глаза, протянул руку. Старшинка вложил в нее вилку с куском мяса, кивнул Коржову:
— По-нашему!
Иван нервно и счастливо засмеялся.
Утром Наська узнала, что отец и Коржов увели Ивана на «тонь у коряги». Вернулись они через несколько дней, довольные уловом, пропахшие водкой и табаком.
— Отдохнул, как на курорте, — хвастался Иван.
Потом ударил шторм. Никогда Наська не видела такого шторма, как в ту осень. Волны, огромные, черные, с белыми космами, рушились на песок, взбивали брызги и пену, и шипящие водяные языки подбирались к самым домам, будто хотели слизнуть их. Тяжелый туман и клочья туч, рождаясь из моря, неслись над водой, натыкались на берег, переваливали и зарывались в тайгу. Днем было сумеречно, холодно, ночью трепетал в лампе огонь, зверем выла труба. Ухало, тяжко падало на берег море, и схваченные ветром брызги картечью били в стены дома. Мычала корова, тревожно гоготали гуси. Все промокло от текущей с небес воды, все пахло прелью. Наська замирала от грусти, и ей казалось: дождь шел всегда, до ее рождения, всю ее жизнь и будет так же поливать землю после ее смерти; зальет сначала овраги и долины, а потом море выйдет из берегов, накроет сопки. И, как написано в Библии, лишь дух божий станет носиться над водной пустыней. Даже отец притих, не просил водки, молился.
Только на пятый день ослаб ветер в заливе Терпения, но раскачавшаяся вода еще долго ходила высокой мертвой зыбью, море было враждебно и пустынно — ни дыма, ни огонька.
Когда прибой перестал взбивать песок и пену, отец и Коржов, осмелев, вывели из речки лодку; Иван перенес в нее мешки с рыбой, и они втроем отправились сбывать товар.
Раньше сбывали по-разному — то в городе кому-то, то на рыбокомбинате «верному человеку». Случалось, «верный» и сам наведывался в Заброшенки, торговался, скупал оптом и сразу давал деньги. Не пил водку, мало говорил, торопился уехать. Наська знала, что он не любит, если к нему присматриваются, и злила его, лезла чуть ли не в лодку, старалась заглянуть в глаза. Как-то она подсунула ему под брезент, где лежала скупленная рыба, большую дохлую камбалу. В другой приезд «верный человек» сказал отцу, что он не станет вести дело, «если девчонка будет крутиться возле лодки». Наська была отстранена от торга. Но вскоре и «верный человек» перестал появляться в Заброшенках — что-то случилось. Недавно Наська подслушала, как отец, выругавшись, сказал: «Наш-то накрылся…» Теперь сбывали только в городе.
Возвратились они веселые, усталые и важные. Коржов суетился, выбрасывая из лодки пустые мешки, крутил головой, приговаривал:
— Все старшинка… Вот голова. А так бы нам…
Отец был крепко пьян, молчал. Войдя в дом, повернулся к иконе, широко и медленно перекрестился, произнес:
— Благодарствуем, богородице дево.
Коржов, выглядывая из-за его спины, принялся часто перегибаться, шепча молитву мокрыми, напухшими губами. Отец оттолкнул его:
— Уступи молодому.
Иван испуганно глянул на икону, ткнул себя щепотью в лоб и живот; скосив глаза на старшинку, поклонился в низ угла, будто увидел башмаки богородицы; покраснев до ушей, отошел в сторонку и жадно закурил.
Пришла, тяжело дыша, румяная Валентина, помогла накрыть стол. Выпили по большой, за удачу. Иван повеселел, полез за пазуху, вынул газовый, большими цветами платок, накинул Наське на плечи. Она откачнулась:
— Вот еще…
— Бери, дура, — приказал отец.
— Бери, бери, — ласково заговорила Валентина, толстой потной ладонью гладя Наськину спину, словно прицениваясь к товару. — Все мы божьим подаянием живы.
Наська ушла в кухню. Следом пробрался Иван; придерживаясь за косяк, сел на скамейку. Повел тонкой шеей в тугом воротнике новой рубашки, тихо, пьяно засмеялся.
— Думаешь, я вправду?.. — Он вяло глянул в заплывший дымом угол горницы. — Так просто, чтобы спрутам угодить.
Наська смотрела на икону пресвятой богородицы. Видела высокий белый лоб, тонкий жалобный нос, сжатые в задумчивости губы; видела пухлого, с морщинками на лбу и трудной мыслью в глазах младенца на бледных женских руках. Нет, она, пожалуй, ничего этого не видела, а просто припоминала. Сквозь дым и сумерки из угла проступали только глаза — огромные глаза девы Марии. Они расширены от удивления, печали и невинности. Они темны и задумчивы от предчувствия горя, беспомощны и сочувствующи. Они плывут сквозь дым, сухие и горячие, — глаза женщины-мученицы, теряющей свое единственное дитя. Им трудно смотреть на свет: они не могут никому помочь.
Наська сказала, не глядя на Ивана:
— Зачем же ты так?
Иван уже забыл про икону, припав к Наськиному плечу, заикаясь, говорил:
— Не так, по-настоящему… Поженимся, убежим от этих спрутов…
А два дня спустя, на «тони у коряги», в шалаше, он заламывал Наське руки, а отцы пили водку у костра.
Дома Наська плакала в подол матери, замирая от обиды и стыда. Мать молчала. Вечером Наська долго не могла уснуть и услышала, как мать сказала отцу: «Пожалей ее, ребенок ведь. Богом прошу…» И неожиданно зло, надрывно: «Телку к быку не ведешь, пока не дозреет. Жалко небось…» Отец промолчал. Наверное, впервые в жизни. Он курил. Наська видела — красно, трепетно светлела и гасла стена в комнате — и думала о себе: плохо, что она не умеет жить тихо, неприметно, делать добро и никому не мешать. Она не может смириться, грех ходит по ее жилам — то злит, то веселит, а то растревожит так, что хочется поехать к Марише на рыбокомбинат, сходить в кино, сшить новое платье, потанцевать… Потом вернуться и покаяться перед богородицей.
Наська ожидала гнева отца, но с той ночи в доме наступила тишина. О ней будто забыли.
Осень тянулась долго, и как-то сразу, в одну ночь, наступила зима. Снег выпал сырой, тяжелый. На него оседал туман, обливал влагой, леденил и прижимал к земле. Снег сыпался каждый день сквозь тучи, сквозь солнце, рождаясь в самом воздухе. Море стеклянно шуршало ломаным льдом, и рос белый твердый припай, застилая воду, уходя к горизонту. Дома́ в Заброшенках завалило, над крышами горбились снежные бугры.
С утра Наська откапывала крыльцо и стойло, доила корову, топила печь; вечером снова отгребала снег, топила печь, готовила ужин и доила корову. Мать болела, редко выходила во двор: задыхалась от сырого ветра. Отец, Коржов и Иван все дни рыбачили: в устье речки долбили пешнями проруби, продергивали подо льдом сети. Мороженую навагу продавали каюрам, а иногда, подкопив, сами отправлялись в город.
Наське было скучно. Как-то она прокопала дорожку к Маришкиному дому, отгребла от окна снег, глянула в темноту. Пахнуло теплой прелью, тишиной: снег выпал сразу, и ветер не выдул из комнат осеннее тепло. Что-то шуршало, потрескивало, вздыхало в невидимых углах. Наська прислушалась. В доме жили крысы…
Каждый раз Наська ждала весну, ждала с ней чего-то хорошего для себя. Весна пришла тягучая, моросила «слепцом» и скоро надоела своей слякотью и бесконечностью. В феврале начал таять снег, таял в марте, апреле. В середине мая сломался лед и холодными бродячими островами, послушными ветру, странствовал по заливу — то прижимался к земле, то уходил к горизонту.
Было много сивучей. Они вползали на льдины, лежали тяжелыми рыжими мешками, лениво поворачивая маленькие собачьи головы. На закате секачи ревели, вскидывали желтозубые горячие пасти к сырой хмари неба. И тоскливее, холоднее, неуютнее становилось на берегу и в море.
Мужчины собрались на охоту. Утром они столкнули лодку и ушли во льды от устья речки. Скоро из плотного тумана, точно сквозь ватную стену, стали пробиваться тупые выстрелы. Наська считала их, потом сбилась. Один раз отец брал Наську с собой, и она запомнила, как сивучи по-кошачьи топорщили усы, неуклюже елозили по льду, гулко бултыхались в черных полыньях… К обеду все стихло, а еще через полчаса у самого берега послышался говор. Наська почуяла беду, бросилась к воде.
Лодка стояла задрав нос на песок, позади нее покачивались две округлые сивучьи туши. А на брезенте, мокром, задубелом, лежал Иван. Наська увидела его застывшие, обезумевшие от страха глаза, безвольно открытий рот… Он стонал. Отец и Коржов растерянно суетились, поднимали его, сталкивались лбами и опускали, как только слышался вскрик. Сапог на левой ноге у Ивана был разорван и поверху перетянут обрывком сети, жирно набрякшим кровью. Наська стала помогать отцу и Коржову, в жалости и забывчивости приговаривая:
— Потерпи, родненький.
Его отнесли к Коржовым. Там Наська узнала: Иван поскользнулся на льдине и прострелил себе ногу.
6
Наська вошла в переднюю, закрыла дверь и остановилась. Иван спал, скрестив руки на груди и строго нахмурив рыжеватые брови. Глаза запали в темные ямки, давно не бритые щеки, казалось, были подвязаны от подбородка к ушам рыжеватой тряпкой. Пухло забинтованная нога Ивана лежала на скрученном валиком одеяле, напоминала большой разношенный валенок. Между низеньким столиком и кроватью белели новенькие костыли…
Тихонько подойдя к кровати, Наська села на остро скрипнувшую табуретку. У Ивана болезненно дрогнули губы, но он не проснулся. Наська огляделась, прислушалась. Она привыкла к тишине — дома, в поселке. Говорило лишь море — днем, ночью, даже в самую тихую погоду. Сейчас оно хрустко всплескивало под берегом, внизу, и, наверное, от него по потолку пробегали из угла в угол волны расплывчатого света.
На столике, у изголовья, лежали затертые, мелко исписанные карандашом тетрадные листки. Наська наклонилась, прочитала: «Проповедь № 2». Ниже еле различила несколько строчек: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться… Посмотрите на воронов: они не сеют, не ткут; нет у них хранилищ, ни житниц, и бог питает их. Вы не гораздо ли лучше их?..» Наське подумалось: и вправду, брат Василий никогда не работает. Он и сейчас сидит на крыльце, греет, теребит белыми длинными пальцами бороду, пошучивает, а Валентина, оголив до плеч руки и подоткнув подол, копает картошку. Он приходит, когда Коржов на «тони у коряги»… Наську мучали догадки, ей было нехорошо от какого-то внутреннего своего зла; чтобы освободиться, она быстро тронула еще не остывшими с улицы пальцами желтую, точно неживую руку Ивана.
Он проснулся сразу, мутно глянул на нее и, просветлев, проговорил:
— А я ждал, ждал…
Опершись на локоть и подложив под плечо подушку, Иван с застывшей, не своей улыбкой уставился на Наську. Этот взгляд, охватывавший всю ее разом, бесстыдный и чуточку виноватый, был знаком Наське, она побаивалась его.
— Ты что, в баптисты пошел?
— Мне все одно… Пригласили — и пошел. — Иван задергался, тоненько захихикал, сморщился и стал похож на своего отца. — Кому я нужен, калека? В профсоюз не успел вступить. А братья — пожалуйста, сочувствуют, помогают. — Иван кинул взгляд вверх, к полутемному углу передней. — Глянь, икон уже нету, матка сожгла.
Наська присмотрелась. Икон и в самом деле не было, лишь белели пятна по сторонам угла да на фанерном угольнике торчал запылившийся огарок свечи.
— Мы же православные, зачем нам другая вера? — с суеверным испугом прошептала Наська.
— Брат Василий говорит, что иконы и церкви мешают человеку прямо к богу обращаться. А вера та же, понимаешь, только без попов и реликвий.
Опустив глаза, Наська уставилась на волосатые худые руки Ивана, нервно сцепленные пальцы, похрустывавшие суставами, на рукава заношенной солдатской гимнастерки с медными, почерневшими пуговицами.
— Еще брат Василий говорит: тело — дом души, а надо обратить его в храм святого духа на земле. Не очень понятно мне, но как-то это божественно, даже знобко делается. — Голос Ивана звучал смиренно, глаза поблескивали сухо, горячечно.
Наська сказала:
— Какой-то ты неустойчивый, Ваня.
— Мне про это толковал комвзвода в армии. «Ты, — говорит, — Коржов, как медуза — под любую воду подстраиваешься». Он не любил меня. Я — «средний», вперед не лез и в отстающих не числился. Чудак-человек, а может, мне так и нравится, может, у меня здоровья нет вперед всех окоп выкопать. Да мало ли чего.
За дверью послышался голос Валентины, она тяжело прошагала в кухню, загремела посудой. Следом мягко, что-то певуче наговаривая, прошел брат Василий. На кухне они начали о чем-то говорить, переругиваться. Валентина — громко, брат Василий — тихо, похихикивая. Потом снова послышались шаги, легкие, скользящие, чуть скрипнула в передней дверь, и вошел брат Василий.
— Можно к вам, дети мои? — Он почти неслышно проплыл к столику, положил на стопку листов обтрепанную, вздувшуюся тетрадь, сел на край кровати у ног Ивана.
Наська впервые так спокойно и близко видела брата Василия. Он сидел ссутулившись, скрестив на коленях руки, смотрел из-подо лба пристально и вопрошающе. Странный человек… В том, как он вошел, сел уверенно и вместе настороженно, как успокоил свой голос, было много непонятного для Наськи. Черная сатиновая рубаха с глухим воротником, подпоясанная кожаным ремешком, суконные, потертые, но чистые штаны, не новые аккуратные сапоги говорили о воздержании, неприхотливости, и это вызывало робость, смущение перед ним; а глаза, всегда быстрые, пристально-внимательные, свежие щеки с красными прожилками (как у часто пьющих), расчесанная двумя клиньями, взлелеянная борода и без сединки, плотные волосы на голове настораживали, заставляли думать: «Он такой же, как все». Наська упрямо присматривалась к брату Василию, краснела, однако не опускала глаз. Ей хотелось сейчас же «распознать» и больше не бояться его.
Василий медленно отвернулся к Ивану.
— Дорогой брат, — заговорил он, охватив рукой, будто спрятав, бороду и кротко наклонив голову, — помогает ли тебе молитва? — И, не требуя ответа, продолжал: — Бог слышит страждущих и болящих, но помогает верующим… — Минуту молчал, прислушиваясь к собственным мыслям. — И еще скажу тебе, брат: отныне нашим уставом разрешается братьям и сестрам читать книги любые, посещать кинофильмы разные, говорить речи на собраниях общественных… По желанию это все, для молодых и не в ущерб вере. Разъясни это, брат, Насте, пригласи ее в нашу семью. Потеснимся, примем заблудшую овечку, породнимся во Христе.
Встав и чуть поклонившись туда, где стояли костыли, брат Василий пошел к двери. Наська смотрела в его широкую, с покатыми, тяжелыми плечами спину, и ей припомнилось: «Войдите через узкую дверь, ибо широки врата и широка дорога, ведущая к гибели, и многие идут туда. Но узок вход и узка дорога, которая ведет к жизни, и лишь немногие находят ее». И смутно, тоскливо стало у Наськи на душе. В какую жизнь? В какие врата? Истинно ли верующий брат Василий?..
Наська хотела обо всем этом спросить Ивана, глянула на него и раздумала. Иван, немо улыбаясь, смотрел на закрытую дверь, его глаза были полны удивления и благости, и весь он ушел в какую-то восторженную забывчивость. Наське стало жаль Ивана, жаль себя; чувствуя, что в ней снова накипает озлобление против брата Василия, она тихо позвала:
— Ваня…
Иван, придя в себя, как-то свысока, отчужденно посмотрел на Наську, решительно проговорил:
— Слышала, братьям все разрешается.
— Ваня, — злясь, сказала Наська, — ты когда поедешь в больницу?
— А что? — быстро оживился Иван.
— Надо.
— Когда твой отец лодку даст.
— Возьми меня с собой.
Иван резко привстал, забинтованная нога, как позабытая, свалилась с валика, щеки порозовели от боли.
— Убежать захотела, да?.. — В напряженных глазах Ивана был страх, подозрение, нервное исступление. — А ты моя невеста. Забыла? Отец твой обещал, божился… У меня, может, из-за тебя все это… — Он протянул бледную руку к ноге.
— Что ты, Ваня! — перепугалась Наська. — Я на один денек, с тобой вернусь. Увижу Маришу — и домой. Так хочется…
Иван с сомнением и опаской присматривался к Наське, о чем-то думал, подергивая сжатыми губами, потом сказал:
— Побожись.
— Ей-богу.
— Ладно уж. — Иван утомленно откинулся на подушку, закрыл глаза.
— Только поедем с Сашкой Нургуном, не будем у наших просить, да им и некогда. Сашка скоро приедет.
— Засмеет этот комсомолец. Такой языкатый.
— А мы помолчим, Ваня. Смирение — наша защита.
— Ладно уж, говорю.
Иван не открывал глаз. Трепетные волны света бежали по потолку из угла в угол, и на лице Ивана появлялись и исчезали еле заметные блики; казалось, оно вздрагивало от беспокойных, трудных мыслей… С весны не заживает у Ивана простреленная ступня, но отцы редко возят его к врачам, а положить в больницу и вовсе сердито отказываются.
Наська встала, потихоньку вышла из комнаты. На кухне переговаривались Валентина и брат Василий. Тонька нудно выпрашивала у матери конфетку. В пахучих сенях, устланных свежим сеном, копошился, повизгивал жирный поросенок.
Наська шла под гору, потом брела через речку, солнце грело ей плечи и голову, остывшие в доме, и думала об Иване. Она вспомнила, как ждала его из армии. Нет, он никогда ей не нравился. Она дружила с Петькой, сыном председателя, а Иван ревновал ее, обещал поколотить, но это было так давно, и смешно теперь… Наська ждала Ивана, точно свежего ветерка в душный день в Заброшенках. Приедет — и все не так станет. Нет, не совсем не так, а как-то по-другому, чуть лучше. Может, веселее. Ведь в Библии сказано: «Ешь с веселием хлеб твой…» Иван словно бы обманул Наську, и сильнее хотелось ей за это чего-нибудь запрещенного, недоступного. Чтобы вспоминать, замаливать грех, чтобы иметь что-то тайное в душе. А после все равно, после она будет просто жить.
Мать мыла корову около сарая, поливала ее теплой водой, сметала со спины и боков жесткой щеткой мутную жижу. Корова, опустив голову, прислушивалась, умно кося, помигивая глазом.
В своей комнате под кроватью Наська увидела чемодан, открыла его — в нем лежали отглаженные платья, полотенце, мыло и пузырек с какими-то старыми духами. Все пахло свежим, стираным. Наська опустилась на колени перед чемоданом, у нее перехватило дыхание от нежного, благодарного и жалостливого чувства к матери.
7
Грибы можно солить, мариновать, сушить. Их можно продавать на рыбокомбинате, в городе. Грибы берет Сашка Нургун для своих знакомых. Их покупают в Заброшенках рыбаки и охотники. Были бы грибы!
А грибов на Сахалине много, особенно моховиков. С мягкими шляпками, чуть липкими сверху и сырыми, пухлыми снизу, на тоненьких крепких ножках, они поднимают упрямыми лбами прелые листья и лиственничную хвою по сухим мшистым буграм у речек, по склонам сопок, распадков. Живут недолго, но смело и сочно. Живут стойко, пока соленый туман не отравит их, а потом шляпки опускают обмякшие края, опадают, и долго еще зачерствевшие ножки-пеньки чернеют на тусклой зелени мха. Грибной смрад, сладкий и печальный, выносит ветер навстречу запоздавшему грибнику.
Не зевай! Бабы, девчата, ребятишки с корзинками и ящиками за спинами идут на свои «запримеченные места».
Заготовители нанимают грибников, артельно посылают в тайгу. Движутся артельщики вверх по речке, собирают на буграх грибы, относят в мешках к берегу, высыпают в воду. Речка сплавляет их к поселку, к деревянной запруде. Здесь вычерпывают сачками промытые, обколоченные на перекатах грибы, солят, маринуют.
Мать, Валентина и Наська шагают по тропинке в гору. Наська забегает вперед, останавливается, ждет. Мать легко, ловко переставляет худые, в разношерстных чеботах ноги, а когда поднимает голову, видны ее серые, совсем еще молодые глаза. Валентина отстает, дышит с надрывом, и кофта на округлых плечах темнеет от пота.
Наська смотрит вниз, на речку. Даже отсюда заметно — бьется на перекатах кета: вода взбаламучивается, накатывает на берега белую пену. Над рекой кричат, мечутся чайки, грузно слетают к воде вороны, на елях хищно затаились серые орланы-белохвосты. Сегодня около самого поселка видела Наська на песке большие, залитые водой медвежьи следы.
Ход кеты — таежная горячка. Жадно насыщается зверье и птицы. Без устали работают на «тони у коряги» отец и Коржов.
А у женщин — грибной день. В поселке оставили Тоньку да приспустили на длинных цепях дворовых псов. Тонька — плохая хозяйка. Что-нибудь позабудет сделать, что-то сделает не так, бегая по берегу и высматривая проезжих рыбаков из города. Но все-таки подаст Ивану еду, загонит к вечеру коров, бросит курам зерна. Наська не дает Тоньке книжки, говорит — «испачкаешь». А Тоньке обидно, она уже букву «А» пишет, брат Василий научил; буквой «А» она исчертила весь песок у моря.
Наська думает о Тоньке, о том, как купит ей скоро на платье ситцу — большими розовыми цветами по голубому полю — и сама сошьет. Может, купит ей школьную форму… Ах, какие у Тоньки будут глаза!
Выбитая тропинка мелеет, скользит поверху, чуть приминая мох, и скоро совсем растворяется. Лес пустеет, светлеет — темные ели и пихты остались позади, на пологом склоне горы; здесь каменные березы с черными стволами и белыми сучьями, молодые, сыплющие желтую хвою лиственницы. Здесь грибы.
Смотри налево, направо, — у корней деревьев, в кустах багульника, по одному и семьями, глядят на свет моховики. Подойди, поддень снизу пальцами шляпку, и если ножка не останется в земле, — значит, хорош: и солить и сушить можно. В Заброшенках больше сушат, потому что все артели маринуют. Маринованные грибы — в каждом магазине, а попробуй купи сушеных на Сахалине. Их только из Москвы отпускники привозят.
Наська кланяется каждому грибу, торопится, выбирает шляпки покрепче, покрасивей. Мать и Валентина медленно разгребают траву, бережно ощупывают грибы; изредка разгибаясь, закатывают отяжелевшие глаза к небу, мнут руками поясницы, стонут. Но работают жадно — кто больше, кто лучше. Валентина отстает, краснеет, сердится. Наська выхватывает у нее из-под рук, радуется: «Какой красавчик!» — и еще больше злит ее. Валентина знает, что ей помогут набрать полный мешок, и все равно задыхается от обиды.
Солнце негорячее, мягкое, плывет белым пятном в замутненном влагой небе; а земля, когда близко наклонишься к ней, сквозит глубиной. Она тяжелеет ночами от секущих ледяной моросью туманов. Туманы донага раздевают лиственницы, и деревья, будто смущенные, зарозовели каждой своей веткой; желтыми лоскутами прикрывает им корни на зиму спадающая хвоя. Чернеют, черствеют ели. Ветер по утрам уже не разбивается о зеленую плоть леса — длинными струями, от моря до вершин сопок, пронизывает его. И не шумит лес мягко и утробно — голо, опустело посвистывает на ветру.
А днями еще жарко бывает.
Мать и Валентина садятся на старые, подсохшие пни, расстилают у ног платки, выкладывают снедь — вяленую рыбу, яйца, картошку в мундирах, молоко, хлеб помятый. Мать — скупо, словно считая, Валентина — сразу и кучей. Ко всему положила кусок старого сала — кабана забивали к приезду Ивана, — покопалась еще в кошелке и вытряхнула хлебные крошки.
Мать усталым, тоненьким голосом зовет:
— Настюшка, снедать поди! — и крестится легко, с радостью, бледнея лицом, ее рука четко, воздушно творит знамение.
Валентина тяжело заносит руку, но вспоминает о своей новой вере, колеблется: можно ли креститься? — испуганно вздыхает и по привычке часто жует губами слова молитвы.
Наська тоже крестится, подсаживается ближе к Валентининым припасам, решает для себя, что Валентине больше подходит новая вера — она никогда не умела красиво креститься: ее толстая рука от лба переносилась куда-то к самым ногам, едва касалась правого плеча и совсем не доставала левого — мешала пухлая грудь.
Валентина шевелила губами, глядела в небо, Наська стащила с ее платка яйцо и две картошки, принялась поедать: хотелось немного посердить Валентину, чтобы не так скучно было. Валентина заметила пропажу, сказала, пересиливая себя:
— Кушай, Настюшка, поправляйся, сношенька. — Однако не вытерпела, с дрожью губ спросила: — Ты что, голубонька, на комбинат задумала слетать?.. Зачем бы это?
Наське сразу стало нехорошо, тоненькая жилка заныла у нее под сердцем, она пожалела, что так по-детски, глупо подшучивала над Валентиной. Проговорила, сердясь на Ивана и чувствуя, как твердеет, сохнет во рту картошка:
— И не подумала.
— Окстись, Валентина! — торопливо и обидчиво проговорила мать. — Чего ж ей там делать?
Валентина помолчала, краснея от удовольствия, хлебнула молока, звучно икнув, неохотно вымолвила:
— Да мне что. По мне, хочь в Москву.
Ели молча. Пахло грибами, уставшей землей, опустевшим воздухом. Моросила лиственничная хвоя, на ветвях струилась паутина; если она падала на куски хлеба и съеживалась, хлеб казался заплесневелым. Цепенел, завивая в трубочки листья, багульник — соборовался к зиме.
Мать завернула в платок объедки, даже яичную скорлупу не выбросила — пригодится курам, взяла пустую корзинку и пошла, пригнувшись, глядя под ноги, в необхоженный еще березник. Наська тоже поднялась, обдумывая, где бы сразу напасть на грибное место. Валентина подобрала с подола крошки, щепоткой отправила в рот, быстро допила молоко. Она пошла налево, поперек склона, прихрамывая от крутизны; Наська — направо.
Разбрелись, собирали поодиночке. Наське теперь и грибы казались иными, и пахли не так. Лишь бы набрать. Хватала всякие, мягкие, твердые, а когда, передыхая, глянула в корзину, увидела в ней даже пестрый мухомор. Швырнула вниз, он ударился о лиственницу, рассыпался красными брызгами.
К вечеру сошлись вместе, добрали Валентине мешок, Наська отсыпала ей крепких, с мутной пыльцой на шляпках подосиновиков, зыркнула осторожно в глаза. Валентина приняла подосиновики как плату заслуженную, засопела — собралась что-то сказать, но раздумала, взвалила на широкую спину мешок и зашагала под гору, касаясь мешком земли.
Спускаться было не легче: мешки подталкивали, ноги скользили по влажному мху, до дрожи уставали колени. Хотелось просто сесть и съехать меж стволов под гору, к речке. И Наська, где можно было, съезжала, волоча мешок. Мать надсадно кричала:
— Скаженная! Грибы перемесишь!..
Только у речки выпрямились, поправили мешки, пошли тихонько в вечерней стоячей тишине, отдыхая и остывая. Беспокойно посверкивала стремнина, на перекатах тупо билась о камни кета, впереди, за стволами красных лиственниц, серо, плотно и кипуче проглядывало море. В нем, чудилось, варились водоросли и рыбы, и душный запах парно наплывал на берега.
Наська думала о Сашке Нургуне. Он всегда появлялся с моря, даже зимой ездил на нарте по ледяному припаю. Он и завтра появится с моря — сначала звук мотора, потом лодка, еще через несколько минут — широкое Сашкино лицо. И улыбка. Улыбка в любую погоду, в любую беду. Наська как-то спросила: «Почему ты такой веселый, Сашка?» Он, смеясь щелками глаз, сказал: «Мне боги помогают, я им хорошо молюсь. У нивхов богов много, а чертей мало. У русских, наоборот, бог один, а чертей не сосчитаешь. Вот и не успевает ваш бог всем радость делать». Сашка рассказал, что Морской старик Тайхнгад (сотворитель живых существ) — друг его, хозяин гор Пал-ызн — тоже друг. В самый страшный шторм на Куги-Нгалу — в заливе Терпения — его спасают нау-нау, священные стружки предков: он быстро застругивает палочку, бросает ее в воду с наказом плыть к Морскому старику и просить усмирения волн. Млыво — рай, жилище верхних людей — ожидает Сашку в будущем. В этом он не сомневается.
И все Сашка шутит. Ему можно — он ничего не боится. Ему легко. С ним трудно говорить, грешно, но все-таки интересно. И журналы Сашкины… За это Наська насушит ему лучших, белых, грибов, вынесет зимой к нарте, и Сашка, как бусы, наденет их себе на шею. Вместе они посмеются, помолчат, а собаки, обливая юколу слюной, алчно взвизгивая, будут наедаться для дальней дороги, быстрого бега.
Вошли в поселок. Валентина, подобрав подол и вскинув на голову мешок, побрела через речку. Наська и мать повернули в завеянную песком улицу. Навстречу им, обидчиво мыча, шла корова. Тонька забыла загнать ее во двор.
8
Ночью Наська проснулась. Красно, экономно горела лампа. Отец, постукивая ложкой о свою мятую алюминиевую чашку, обливая бороду, ел холодный суп. Мать стояла позади с поварешкой в руке, зябко сдвинув худые плечи. Когда чашка пустела, мать из-за спины отца неслышно подливала загустевшего, сильно пахнущего рыбой супа. Наська вечером ела этот суп, он показался ей очень невкусным. «Как можно столько есть?» — подумала она и почувствовала какую-то тревогу: уловила ее в съехавшей на одно плечо кофте матери, аскетически сжатых губах, в бычьей отупелости, жадности отца.
Во дворе робко взвизгнула калитка, хлопнула дощатая дверь в сенях, тяжело открылась дверь кухни, и на пороге появился Коржов. За ним, по-утиному раскачиваясь, вошла Валентина.
Отец отложил ложку, чуть повернул голову:
— Ну?..
Коржов быстро протопал к столу, вынул из кармана бутылку, поставил к самой руке отца.
— Беда, старшинка, не берет. Говорит, врачи запрещают.
— А ты сразу и сунулся! — У отца кисло перекосились губы.
— С подходом старался.
— С подползом бы… — Отец брезгливо отвернулся, искоса оглядел Валентину. — Ты пойдешь. Да поласковей, пусти все свои флирты. Скажи, время провести желаешь.
— Да как же я… — Глаза у Валентины выкатились, рот приоткрылся.
— А как завсегда.
Отец зло усмехнулся, сунул в руки Валентины поллитру. Она послушно закачалась к двери, что-то одышливо бормоча. Следом за ней вышли отец и Коржов.
Мать перекрестила дверь, сама перекрестилась, растерянно постояла посреди дома. Услышав, что Наська не спит, подошла, села на край кровати. Ежась, кутаясь в платок, сказала:
— Инспектор нагрянул. Строгий, кажись… В школе ночует. Отец в дом пригласил — и слушать не хочет.
Мать снова перекрестилась, зашептала молитву. По спине Наськи забегали колкие мурашки, она подтянула ноги к подбородку, сжалась, замерла. Ей стало жаль Валентину. Она начала молиться за нее. Боже мой, какой стыд! Наське показалось, что вот сейчас придет отец и скажет: «Теперь ты иди». И она, наверное, пойдет. Нет, она умрет от страха. Наська уставилась на мать перепуганными, заледенелыми глазами. Мать поправила на ней одеяло.
— Спи, глупая. Если он не примет Валентину, пойдут запруду рушить. К утру расчистят.
Наська до боли стиснула веки, сунула холодные ладони меж колен и решила спать. Когда спишь, не так страшно. Даже приснится плохое — и то ничего: все равно краешком памяти знаешь, что это просто сон, что он кончится, и не очень боишься. Наська заставила себя спать.
И ей приснился инспектор рыбнадзора. Бородатый, в брезентовой куртке, подвязанных к ремню резиновых сапогах. Он сидел в углу на соломе, в четвертом классе, где всегда ночевали охотники, и ел колбасу с хлебом. К нему подошел Коржов, протянул бутылку водки, проговорил ласково: «Запей, браток, сухой кусок». Инспектор поперхнулся, рявкнул: «Врачи запрещают!» Коржов исчез, точно растворился, и сразу появилась Валентина. «Желаю время интересно провести», — сказала она и повертела в руках ту же бутылку. Инспектор оглядел Валентину, грозно спросил: «Где у вас запруда?» Отец поддал ей в спину, и все трое побежали к «тони у коряги». Бежали долго, задыхались, падали. Отец первый отыскал в шалаше топор, сполз к воде и с маху ударил обухом по садку. Рыба густо вывалила в речку, всплескивая побитыми хвостами, поплыла вверх, к перекату. «Разноси!» — крикнул отец, выпучив белые глаза. Коржов и Валентина принялись рушить топорами колья запруды. Щепки плюхались в воду, громыхали камни; Коржов плакал от печали, отец злобно хохотал, приговаривал: «Вот тебе, товарищ инспектор! Выкусь, товарищ инспектор!» Течение несло обломки кольев и досок, на них садились вороны, каркали: им тоже жалко запруды, около нее всегда много было рыбьих потрохов… Наська глядит на все это откуда-то из тьмы и тумана, ей жутко, но она не жалеет «тони у коряги», со страхом надеется: «Может, это конец Заброшенкам?..»
В комнате было светло. Мать все так же сидела на краю кровати, только теперь не куталась в платок, а неслышно, посверкивая спицами, вязала цветную рукавичку. Пахло ночным теплом. Наська, приходя в себя, долго смотрела на мать. Может, и ее она видит во сне?.. На плите повизгивал горячий чайник, кот Пыжик равнодушно щурился на молоко в блюдце, желтый, недавно вымытый пол отдавал холодком. Нет, во сне по-иному — как в тумане все, как сквозь воду. И мать вяжет рукавичку ей, Наське, к зиме.
В углу на диване спал отец. Он высоко вскинул голову, всхрапывал и, казалось, силился сдуть что-то с потолка. Лицо у него было огорченное и чуть капризное, лишь запущенная, страшной жесткости щетина на щеках напоминала о крутом, замершем во сне нраве отца.
Наська спросила:
— А как же инспектор?
— Его и не было, инспектора, — шепотом ответила мать.
Наська привстала.
— Все Коржов выдумал. Приехал какой-то с ружьем и собакой, он — к нему. Кто, откуда? Тот ему говорит: «Испугался, старик, я до вас доберусь». Прибежал Коржов — глаза на лбу. «Инспектор!» — кричит. И пошло тут, сама знаешь. Всю ноченьку не спали, только к утру тот «инспектор» признался, что подшутил над ними. Отец чуть не пришиб Коржова. Убежал тот куда-то, боится на глаза показаться.
Мать, пугаясь, перевела взгляд в сторону отца.
Наська отбросила одеяло, спрыгнула на пол и по сырым, щекочущим ступни половицам побежала к приоткрытой двери. Там, за дощатой стеной, за горбатым стогом сена и увешанным сетями забором, по гладкому морю плыло солнце яркой сахалинской осени. Наська остановилась на крыльце, стиснула коленями края полотняной рубашки, прислушалась. Солнце плескало водой, сонно смеялось, и когда оно перекатывалось через отмели, сухо шуршал нагретый песок. Промокшие кулики, радуясь ему, пищали и крестили лапами берег.
9
Наська торопилась все сделать. Вычистила и вымела коровник, свежий навоз перебросила лопатой на плетень в огород. Собрала в гнездах еще холодные с ночи куриные яйца. Вынула из бочки слегка подсоленные рыбьи пласты, повесила на шесты вялить. Поймала теленка, вычесала ему свалявшуюся в навозе, подсохшую на боках шерсть. Потом взяла игличку, подсела к сети штопать дыры.
Море, чуть постукивая галькой, замирало в тепле, плотнее припадало к берегу. Затухающая зыбь, колеблясь, струясь, бросала на берег, на дома в Заброшенках, на пустеющий лес веселые, беглые сполохи. Чайки с голодным криком шлепались в воду, выдергивали жестких рыбешек, давясь, выклевывая друг у друга, проглатывали и снова падали вниз белыми грудками. А из-за горизонта, от мыса Терпения, по гулкому сиянию воды эхо доносило раскатистые удары, мегафонные голоса людей.
Наська перебирала сеть, затянутую сухой рыбьей слизью, с нее сыпалась чешуя, куры склевывали блестки; когда проворная клушка остро укалывала босую ногу Наськи, она вскрикивала, взмахивала рукой. От невода пахло огурцами, какими-то южными растениями — так пахнет свежая корюшка, — больничным йодом водорослей, и Наська стала думать о Кубе, бородатом молодом Кастро, перевязанных белыми бинтами кубинских солдатах. Раскатистые, погромыхивающие удары, катившиеся из-за моря, ей казались теперь взрывами бомб, выстрелами пушек. Там в дыму проходили бородатые бойцы, там кто-то умирал под пальмой, красиво, как в кино. И кровь… Наське почудилась кровь — красно, вязко темнившая зеленую куртку бойца. Страшась своего воображения, Наська сказала шепотом:
— Ах, грехи наши…
Она встала и, все еще вслушиваясь в тревожащие раскаты, пошла к калитке. От речки бежала Тонька, смешно раскачиваясь на тонких ногах, оттопыривая острые локти, похожая на прыгающего кузнечика. Наська остановилась. Тонька подбежала вплотную, схватила Наську за фартук, не отдышавшись, выговорила:
— Когда Сашка Нургун приедет? Иван спрашивал.
— Скажи — скоро. Пусть на берег выходит.
Тонька мотнула головой, молча переглянулась с Наськой, показав этим, что ей можно доверять «тайные дела», побежала домой.
Наська просто, спокойно ответила Тоньке, будто для нее поездка на рыбокомбинат привычный пустячок, и теперь стояла в растерянности и удивлении. Лишь сейчас за все длинное, полное нетерпения утро она осмелилась подумать: «Скоро ехать…»
— Пресвятая богородица, помоги… — проговорила Наська, прислушиваясь и ловя в крике чаек, в глухом громыхании новый, едва рождающийся звук. Где-то на севере, за синими призрачными мысами, рокотал, захлебываясь далью, мотор.
Ноги у Наськи стали вялыми — у нее всегда от страха слабели ноги, — она боялась выпустить из рук калитку. Ей надо сделать только шаг, и она овладеет ногами — ведь они у нее очень крепкие, только шаг, — и она войдет в дом, скажет матери, что надо собираться. Наська не двигалась, и ее позвала мать. Она сделала этот трудный шаг, чуть покачиваясь, пошла к крыльцу.
Мать вынесла в сени чемодан, платье и ботинки. Наська переоделась, минуту постояла, потом на цыпочках пробралась к зеркалу, оглядела себя. Взяла черный карандаш, подрагивающей рукой, еле заметно, подвела брови. Еще глянула в зеркало, затихла, услышала тупые толчки своего сердца. Отец спал, отвернувшись к стене, трудно всхрапывая, и по его большому, словно настороженному уху бегала муха.
На берег вышли молча, не глядя друг другу в глаза.
Рокот слышался явственнее, веселее, теперь он напоминал ровное журчание ручья. Наська определила: лодка покажется минут через десять — вынырнет из-за мыса; минут двадцать будет идти к Заброшенкам… Подойдет к песчаному бару, где сейчас белым островом колышутся чайки, спугнет их, врежется острым носом в мокрый песок. Только бы скорей, только бы дождаться…
Мать сказала тихо, просительно:
— Береги себя, Настюшка, и долго не гости.
Пришел Иван, раскачиваясь и зависая на скрипучих костылях, поздоровался, сразу сел на песок. Тонька поставила рядом с ним коричневый побитый саквояж, осмотрела, общупала на Наське новое платье и побрела через лагуну к бару встречать лодку. Иван вытер платком лицо и шею, платок вымок, он расстелил его на горячем песке. Щеки у него были побриты, казались еще более впалыми, глаза от усталости не могли успокоиться, бегали виновато и жалостливо. Иван подсыпал под больную ногу песку и, стараясь справиться со своей слабостью, внушить к себе уважение, строго спросил:
— А батька знает?
Наська заметила, как на его плечах и спине пятнами темнеет, намокает потом гимнастерка, и ничего не сказала. Иван понимающе, по-своему едко хохотнул, чтобы хоть как-нибудь досадить ей, пренебрежительно отвернулся к морю.
Мать подошла к нему, угодливо попросила:
— Вань, ты уж присмотри за ней, нигде она не была, людей, поди, испугается.
Иван посерьезнел, глядя на Наську, выждал минуту:
— Да мне что, пусть слушается.
Лодка вышла из-за мыса, выплеснула в простор свой свежий, звучный рокот. Тонька по-дикарски заплясала на баре.
— Теперь уж скоро, — вздохнула мать.
Наська смотрела в море, сияние застилало глаза, грело, и она чувствовала, как веки набухают теплой влагой. Лодка чертила прямую синюю дорогу от мыса к Заброшенкам. Если смахнуть с глаз слезинки, можно увидеть Сашку — он стоит около ветрового стекла, вглядывается в берег. А вот уже видно широкое Сашкино лицо и улыбка, доверчивая ко всем и всему, чуть насмешливая. Чайки расступались, взлетали, с обиженным и удивленным криком неслись за кормой: наверное, Сашка вез в лодке свежий улов корюшки.
Наська подняла чемодан, глянула в глаза матери и обмерла: мать завороженно, оцепенело глядела в сторону дома, что-то шептала истонченными в ниточку губами и оттуда, от дома, слышалось поскрипывание песка под грузными шагами. Наська бросила чемодан, побежала к самой воде, не помня себя, протянула навстречу Сашке руки. «Скорей, скорей!» — беззвучно выговаривала она, входя в воду. Сашка не понимал ее, взмахивал кепчонкой и улыбался. Лодка медленно пробиралась среди песчаных кос и отмелей.
Мать пятилась к воде, закрывая собой Наську. Из-за ее спины Наська увидела отца. Он шел босиком, в мятых штанах и нижней рубашке, на голове шевелились непричесанные волосы. Он шел словно бы спокойно, как на прогулке, лишь черные пятна вместо глаз выдавали его бешеную злобу. Позади Наськи уже не рокотал, а стучал, бился мотор, он ближе, ближе… Наська хотела помолиться, но не смогла припомнить ни одной молитвы. «Узка дверь… — прошептала она. — Узка дорога…»
Отец остановился против матери, улыбнулся медленно и скупо и, кажется, чуть тронул рукой ее плечо. Мать боком, легко, как ребенок, упала на песок. Отец поманил пальцем Наську, с жалостью сказал:
— Поди-ка ко мне, не мочи зря ноги…
Наська не шевельнулась, не могла шевельнуться — всей спиной, затылком, голыми локтями рук вбирала в себя биение мотора, теперь уже частое, надрывное и горячее. Иван, глядя куда-то мимо нее, суетливо, слепо нащупывал костыли.
— А-а… — простонал отец, багровея лицом и шеей, и шагнул к Наське.
Она увидела его рыжую, волосатую руку, сползший до плеча рукав, белые глаза, вдруг вылезшие из черных пятен под бровями, и с оглушительным звоном в голове упала ему навстречу.
10
Билось сердце… Билось часто, звучно — в груди, голове. Ему было горячо, беспокойно. Билось сердце в самом воздухе, нагревало его, и становилось трудно дышать.
Наська открыла сощуренные, налитые забытьем глаза, чуть шевельнулась, подумала: «Неужели это мое сердце?..» Она прижала руку к груди, замерла. И звук отдалился, перешел в четкий, позванивающий стук; из широкого тихого пространства послышался чистый плеск воды, остро, нехорошо крикнула чайка, и Наська поняла: это стучит мотор. Так железно-твердо, часто может биться только мотор.
Дощатые стены были в мелких щелях, в дырках выпавших сучков — из них остро сочился свет, дули ветерки и сквозили звуки. Сени — как большой темный садок, синь и прохлада за стенами — вода. Дверь на крыльцо заперта, дверь в дом распахнута во всю ширину, и видно через кухню, как на белой стене то вскидывается, то падает резкая тень — это молится мать.
— Пресвятая богородица, помоги нам, грешным…
Наська лежала на чем-то жестком, сыро пахнущем рыбой, под голову была подложена подушка. Голова — тяжелая, горячая. Наська перекатывала ее по нагретой подушке. Хотелось пить. Но страшно было окликнуть мать.
Из темного угла сеней вышла белая курица, — наверное, там у нее было гнездо, — процокала осторожными жесткими лапами к свету, вытянула шею, одним глазом оглядела Наську. Перья у курицы были чистые, поскрипывающие, от них веяло холодком, и Наське захотелось потрогать курицу. Она протянула горячие пальцы, курица нырнула под дверь, проползла на крыльцо, кудахтал, полетела к сараю.
На берегу стучал мотор, слышались голоса. Залаяла собака, злобно, отрывисто. Это Сашкина лайка. Летом он часто возит ее на моторке, зимой она бегает передовиком в нартовой упряжке. Зовет ее Сашка Тынрай, по-нивхски — желтая шерсть. Тынрай никогда не лает на Наську… Мотор звал, будто выговаривал слова, задыхался в жаре под берегом. Наська оперлась на локоть, привстала, минуту держалась, перебарывая звон в голове, смигивая слезы, и опять уткнулась в подушку.
С потолка опустился серый паук с черным крестом на спине, замер над полом, колеблемый струями сквозняков. Наська долго смотрела на паука, он заплывал мутью, исчезал, но, когда снова появлялся, четко виделся крест на его спине. Зачем этот крест?.. Откуда взялся паук?.. Казалось: упадет паук — и оборвется стук мотора. Оборвется навсегда, и навсегда берег оглохнет от тишины.
Во дворе заскрипел песок, кто-то прильнул к щели между дверью и косяком, в сенях стало темней. Наська присмотрелась, увидела расширенные, любопытные и перепуганные Тонькины глаза. Захлебываясь слюной, Тонька зашептала:
— Я Сашке хотела рассказать… Старшинка не подпускает, ругается с Сашкой… Ну, ты не плачь, я, может, расскажу.
Тонька показала синие от брусники зубы и убежала.
Паук юрко пополз вверх, вбирая в себя липкую паутину. Он растворился в сумерках под крышей, и Наська суеверно подумала: «Это добрый паук…»
На белой стене раскачивалась сгорбленная тень матери.
Лодка отвалила в море, волна выкатилась на песок, мотор часто заговорил, радуясь прохладе и простору. Сашка быстро пошел — он долго ждал, теперь всю ночь ему надо ехать, и лишь к утру он причалит к рыбокомбинату. Если не испортится погода. В шторм Сашка ночует в какой-нибудь бухте, жжет на берегу костер, поет русские и нивхские песни. Наська всегда говорила, провожая его: «Тиф ургг’аро! Хорошей дороги!» Сегодня Сашке никто не пожелал добра. Наська будет думать о нем, и если Сашка заночует где-нибудь под гудящей от ветра сопкой, ему не так будет скучно, он почувствует, что Наська не спит.
На крыльцо поднялся отец — она узнала его по неторопливым, бухающим шагам, — сиял громыхнувший замок, пригнул голову, переступил порог сеней. Большой, тяжелый, сделавший все предметы маленькими и незначительными, прошел в дом. Он не глянул на Наську — он никогда не глядел на нее, — но все равно у Наськи привычно екнуло сердце. Отец оставил запах кожи, табака, водки, и Наська знала: пока этот запах не выветрится, она будет вздрагивать от всякого звука.
Мать запричитала чаще, судорожнее. Потом она выговорила жалобно:
— Помолись, доченька.
И опять Наська не вспомнила ни одной молитвы. Она забывала их, когда ей очень надо было помолиться. Мать говорила обычно: «Это у тебя оттого, что страх есть, а веры мало…» Неверующая она, это правда. И все, все здесь неверующие, кроме матери. Им вера нужна, чтобы оправдывать свою дикую, сытую жизнь. В другом месте, среди людей, они забыли бы бога.
Наська вслушивалась в рокот мотора.
Он летел по тихой пустынной воде, отражался от скал, жил и не хотел умирать. Он стелил дорогу длинную и прямую.
Он звучал долго.
И когда Наська закрывала глаза и затихала, ей казалось, что это бьется ее сердце — звучно и беспокойно.
1961
ТЛАНИ-ЛА
1
Среда, 21 июня
Я стою на плоту — высокой деревянной пристани, — внизу шумит отливная вода, железно дрожат листвяжные сваи, а здесь, на скользких досках, — вороха скользкой рыбы, движение, голоса людей, лязг вагонеток. Где-то в заливе стучат «мотодорки», и всюду — вверху и внизу — кричат чайки. Мне трудно разобраться во всем этом. Я первый раз на рыбацком плоту, впервые в нивхском поселке Чайво. Что такое «Чайво»? Нивх, который перевозил меня на лодке через залив, сказал: «Кто знает? Старики рассказывают — травка здесь на косе такая росла, как чай заваривали. Кто знает?..» Это было вчера вечером, а сейчас мой перевозчик работал весовщиком, принимал, взвешивал рыбу, записывал центнеры. Он узнал меня, махнул мокрой брезентовой рукавицей, что-то крикнул. Его коричневое, скуластое лицо сбежалось в морщинки, будто от воды ударил ветер, и я понял — нивх радуется мне. Знакомый — уже хорошо. Почувствовав себя тверже (на скользких досках), я решил для начала вспомнить подробнее вчерашний вечер, чтобы лучше разобраться в этой «грянувшей» на меня новой жизни.
Вагон узкоколейки притормозил на полустанке, по ту сторону залива, в одиннадцатом часу вечера. Я спрыгнул в темноту и растерялся: холодно накрапывал дождь, странно, у самой земли, шумел стланик и где-то за ним, еще ниже, ворчало, погромыхивало, как далекая гроза, море. Приглядевшись, я различил за кустами чуть мелькающий огонек. Пошел к нему. Стали заметны белые срубы, доски, бревна — здесь, по-видимому, строится новый колхозный поселок. Кто-то вышел из сторожки, полыхнув светом открытой двери, прислушался, крикнул:
— Корреспондент?
— Да.
— Вот хорошо! Сейчас, однако, поедем. Греться будешь?
Человек подошел, сунул мне руку — от него запахло табаком, нерпичьим жиром, морской сыростью, — я догадался, что это нивх, рыбак, мой первый чайвинец, сахалинский абориген.
— Можно не греться, — сказал я.
— Хорошо. Опоздать можем. Отлив уже.
Он зашагал в кусты, к морю, и скоро мы были около лодки, на мокром, жидком илистом берегу. Вода уже отступила метров на двести, ее надо было догонять. Я поднял голенища резиновых сапог, взялся за борт лодки. Она пошла легко, гладкое дно ее, как намыленное, скользило по илу. Расплескивались лужицы, и из них, шлепая плоскими животами, выползали камбалы. Мне стало жарко, часто дышал и поругивался нивх. Но это было лишь начало: лодку пришлось толкать и по воде — на отлогом отливном берегу всюду проглядывали мели. Хлынул сильный дождь. Потом низко и широко ахнул гром, заполыхали молнии. Когда лодка закачалась на волнах, нивх спросил:
— Поедем? Или как думаешь, назад?
Залив был черен, шумел бурунами; мигала молния — он рыжел, закипал от беляков — и снова проваливался в темноту. Жутко было в нем. Но и возвращаться не хватало смелости: толкать лодку назад и думать, что зазря пропало столько силы, а выйдешь на твердый берег — и упадешь от усталости, грязный и злой. Я промолчал.
— Тогда поедем. — Нивх перевалился через борт.
Мы оттолкнулись, и первые накаты обдали нас белыми гребнями, но лодка удержалась, нивх завел мотор, крикнул мне:
— Мухруя! Отливай!
Я отыскал банку, принялся вычерпывать воду. Буруны перехлестывались через нос, били мне в спину, вода стекала на дно лодки. Мерцали молнии, над самой головой разверзалось небо. Я черпал и черпал… И даже теперь не знаю, долго или нет мы переезжали залив. Наверное, минут пятнадцать. Я очнулся, когда лодка вошла в тихую воду за пристанью, ударилась носом в берег.
— Вот и начальство идет… — сказал нивх.
Подошел председатель, вернее, надвинулся черной брезентовой глыбой. Поздоровался, начал что-то говорить, а я не мог ничего понять — в голове было глухо от гула волн, — понял только: «Пойдемте в нашу гостиницу» — и потянулся за широкой спиной председателя.
В «гостинице» — застарелом, настывшем от пустоты домике с тремя деревянными топчанами, накрытыми суконными одеялами, — председатель растопил печь, водрузил на плиту чайник, включил радио: создал возможный уют. Выкурил папиросу, пожелал спокойной ночи и ушел. Я даже не глянул ему в лицо, кивал головой и улыбался, — наверное, потому, что не хотел показаться растерянным и жалким. Через несколько минут появился мой нивх перевозчик, поставил бутылку, бросил на стол кусок сушеной рыбы.
— Председатель спиртишки послал, выпей.
Я попросил его разлить, он немного «поотказывался», разделил поровну, мы чокнулись и отпили. Крякнув, как русский мужик, благостно поморщившись, нивх стал заедать рыбой.
— Урд! Хорошо! — заговорил потом. — Бери юколу. У нас только в субботу спиртишкой торгуют. Правильно. В путину с нашим братом по-другому нельзя.
Еще раз, бодрее дзинькнули стаканами, и нивх, сочно смеясь, спросил:
— Знаешь, зачем люди «дзинь» делают? Нет? Я тоже не знал, мне один русский друг рассказал. Вот слушай: когда человек выпивает, глаз спиртишку видит, язык пробует; ухо тоже хочет, понял? Вот для него «дзинь»!
Мы познакомились. Нивха звали Кавун. Я сразу запомнил его имя, потому что по-украински кавун — арбуз.
И вот мой перевозчик на плоту — суетится, ругается с рыбаками, бросающими на весы сетчатые носилки с селедкой, заставляет стряхивать воду, торопит:
— Жива, жива!
Он глянул на меня, еще раз крикнул. Теперь я расслышал:
— Как спал, корреспондент?
— Привет, Кавун! — ответил я.
За вчерашнюю переправу, за гром и шторм я чувствовал себя немножко героем: все-таки не каждому пришлось пережить таких «плотных» пятнадцать минут. Мне хотелось поговорить с кем-нибудь об этом: «…да, конечно, опасно, отчаянно, но не ждать же у моря погоды… Страшновато? Что вы! С детства… не из тех…» Увидев председателя, я пошел к нему, заранее улыбаясь, как бы начиная дружеский разговор о том о сем, не касаясь пока дела, — так, для знакомства, для «узнавания» друг друга. Мне казалось, что он сразу спросит: «Ну как плавание?..» Однако он медлительно выговорил:
— Добро спалось?
Неужели в поселке Чайво главное — выспаться? Чтобы чуть задеть председателя, я рассказал ему, как сушил портянки, пил чай, как взбивал каменно твердую подушку, а потом свалился на топчан и только утром заметил, что раздавил парочку клопов. Поблагодарил за «спиртишку».
Председатель не дрогнул и единым мускулом лица. Он бесстрастно, но для видимости мученически вздохнул, проговорил, глядя на весы с селедкой:
— Вот перейдем в новый поселок, — он кивнул на тот берег залива, — оставим пережитки здесь.
— И клопов?
На этот раз у председателя чуть «дрогнул» мускул под глазом, он вынул из карманов плаща руки, подтянулся, словно бы вырастая надо мной, и уже другим (видимо, своим обычным) голосом сказал:
— Какие вопросы вас интересуют, молодой человек?
Тут я немного растерялся. В самом деле: «Какие вопросы?» Вообще все: жизнь, работа и т. д. Вспомнил наказ редактора: «Главное — производство, достижения». И не захотел сказать ни того, ни другого. Сказал третье, слышанное от «тертых» газетчиков.
— У меня — вольная охота.
— Как говорится, ни пуха… — вежливо, очень вежливо ответил председатель. — А мне работать надо. — Он пошел к дощатой конторке на плоту.
Я остался один, и делать стало нечего: вместе с председателем ушло то необходимое, уже осязаемое чувство причастности, которое начинало связывать меня с этими людьми, их работой. Черт бы побрал клопов! Я оглянулся — на меня никто не обращал внимания. И хорошо. Решил побродить, обвыкнуться.
Внизу, у свай плота, покачивались залитые сельдью рыбницы — длинные плоские кунгасы. На каждой, утонув до пояса в рыбе, стоял каплерщик — круглым неглубоким сачком на длинном шесте он поддевал сельдь, вскидывал над головой сетчатый черпак и выплескивал белую скользкую рыбешку на доски плота. Нивхские и русские девушки, сидя на корточках, перебирали селедку: крупную бросали в одни носилки, среднюю — в другие, мелкую — в третьи. Два молодых нивха подхватывали носилки, ставили на весы (сразу по нескольку штук). Кавун записывал в тетрадку центнеры, носилки перекочевывали на вагонетки, и два других парня катили их по тоненьким рельсам в засольный цех. Тут же ходила мрачного вида женщина — в больших резиновых сапогах, залепленных чешуей, телогрейке, брезентовом фартуке и… городской коричневой шляпке, — она покрикивала на девушек, ругала за что-то парней, сердито взглядывала на Кавуна. Наверное, поэтому девушки особенно дружно и долго смеялись, когда кто-нибудь из каплерщиков ловко накидывал то одной, то другой из них на голову сачок и обливал селедочным водопадом. Женщина поворачивалась к девушкам спиной, но только они затихали, подбегала к носилкам, ворошила рукой селедку, тихо, с шипением говорила:
— Брак! Брак!
«Заврыбобазой», — подумал я и поежился от предчувствия, что придется говорить с ней, «вести дело», в котором она, как нерпа, видит на пять метров в глубину, а я… как слепой нерпенок, буду барахтаться на мелководье.
От этого, наверное, я сразу приуныл, сказал себе: «Пока хватит» — и пошел вправо, на пустой приплоток, где двое мальчишек размахивали удочками.
Погода была яркая: по заливу разгуливал бодрый ветерок, задирал воду, она играла, блестела, прибавляя света поселку и берегам. Четко виднелись широкие песчаные косы посреди залива, черные фигурки рыбаков на них, круто поднимался, зеленел тайгой потусторонний берег, и было до одури много чаек: они вились, орали, падали в воду, дрались и обжирались селедкой. Они воровали селедку с плота, девушки отпугивали их палками.
— Как ловится? — спросил я мальчишек.
— Корошо! — ответил нивх, пнул ногой рыжего рогатого бычка, кругло раздувавшего большую голову, а русский мальчишка стеснительно вытер рукавом мокрый нос. Четыре широкие камбалы прилепились к доскам, вяло пошлепывали хвостами.
— Хочешь порыбачить? — Нивх дал мне удочку — короткую палку с толстой леской, без поплавка. — Сейчас наживу приделаю. — На крючок, из простого заточенного и загнутого гвоздя, он нацепил кусок селедки, плюнул на него, сказал: — Брасывай!
Гвоздь с селедкой ушел в глубину, и я приготовился ждать. Но сразу, едва нажива коснулась дна и ослабла леска, рука почувствовала сильные, мягкие толчки.
— Тащи! — сказал нивх.
Что-то тяжелое плоско моталось на конце лески, как опущенное в воду весло, я подумал — камбала, схватил руками леску, вытащил на плот тяжелую живую лепешку.
— Звездчатка, — солидно кивнул русский мальчишка.
— Что это — звездчатка?
— У нее на спине звездочки, как ракушки. Она не промысловая, ловится по одной. Зато самая вкусная.
— Мы только их кушаем, — сказал нивх.
— А бычки?
— Бычки собакам бросаем. Еще их старики кушают.
У камбалы был белый, нежный живот и темный жесткий верх. Острые ракушки, от жабр до хвоста, рядками облепляли всю спину.
— Шкуру снимаем, — сказал русский.
— Самая вкусная мяса, — подтвердил нивх.
Нивха звали Гриша, он черноволосый, смуглый «с головы до ног»: лицо, руки, босые ноги одного, коричневого, цвета. У Митьки светлые волосы, чуть подсмугленное лицо, а руки неопределенного цвета, наверное, грязные. Гриша худой и маленький, у него очень заметны черные глаза и почти совсем нет носа — две розовые мокрые ноздри. Митька тоже маленький, но толстый, и на лице выделялся нос — им он выражал все свои чувства: морщился, сопел, шмыгал.
Долго мы ловили камбал и бычков, иногда попадалась кумжа, и разговаривали про самое разное: о селедке, сивучах и нерпах, о нартовых собаках, о спутниках Земли и космонавтах. Потом начался прилив, вода потекла в обратную сторону, заметно темнело, с моря подуло холодным туманом, и рыба перестала ловиться.
Пришла Гришина мать, в резиновых сапогах, маленькая, как девочка, повязанная крест-накрест платком, села на корточки, молча собрала рыбу в мешок. Гриша сказал ей что-то по-нивхски, покопался в мешке, вытащил пятнистую, длинную кумжу.
— Бери, корреспондент, иния — кушай, очень вкусна.
Мать ушла, а мы еще немного постояли, чтобы получше замерзнуть и сильней захотеть домой, поговорили о завтрашнем дне: какая будет погода, сколько рыбаки поймают селедки, какие у Гришиной лайки родятся щенята, решили как-нибудь встретиться — и пошли в поселок.
В магазине светились окна, я вспомнил, что у меня ничего нет на ужин, кроме живой еще кумжи, свернул к расхлябанным дверям магазина.
Женщины стояли у прилавка просто так, судачили. Они были прямо с работы — в сапогах и телогрейках, и молодая продавщица в белом халате выглядела красавицей. Привалившись к прилавку, подперев пухлыми кулачками подбородок, она сияла накрашенным ртом и подведенными глазами. Женщины по очереди смешили ее: кому не приятно угодить продавщице?
Ко мне повернули головы, и я сказал:
— Добрый вечер!
Дружно ответили, каждая на свой лад. (Я уже знал, что здесь надо здороваться везде: на улице, в магазине, на плоту, — если не хочешь прослыть невежей.) Продавщица не переменила своей удобной позы, но сама как-то неуловимо, заученно переменилась, позабыла о женщинах, заговорила так, будто мы должны были встретиться:
— Со своей рыбкой? Вот хорошо. И чего это вы весь день не заходили? Я думаю: чем человек питается, ведь у нас столовых и ресторанов пока нету.
— Потому и забыл попитаться.
— В этих местах так: никто и кружки чаю не даст.
Женщины закивали, завздыхали, заулыбались. Бедные, они казались себе такими хитрыми: не обиделись на продавщицу и не показали виду постороннему человеку, что это касается их. Каждая вспомнила, наверное, Машку или Нюрку, которая удавится, но не даст кружки чаю, и еще по разу вздохнули.
Я осмотрел полки. Слева — банки, склянки, мешок муки, бочка с повидлом, ящики с вермишелью, в витрине — маргарин и сахар; не было лишь бутылок, их выставляют в субботу. Справа — драповые и суконные пальто, охотничьи ружья, чулки капрон, пудра, белые босоножки, открытки с космонавтом Гагариным, книги: стопка «Капитанской дочки», два «Толковых словаря русского языка», «Учитесь ходить на лыжах» и какая-то бумажная мелочь. Сколько я видел таких магазинов! В поселках, районных городках, на станциях, начиная со своей родной деревни: там в магазин я прибегал удивляться изобилию. Банки с тушенкой, солянками и рыбой, ружья, гармони и, главное, — запах, запах всего этого не давал покоя нам, мальчишкам; мы из года в год сговаривались обворовать магазин, но так незаметно и выросли. Сколько я видел таких полок! Если их вытянуть в одну — отсюда до Москвы хватит.
— У вас нечего взять…
— А мы поищем. — Продавщица сказала это с полуулыбкой, предлагая мне самому решить: возьму то, что она найдет, или нет. С одной стороны — нехорошо, с другой… в магазине мне страшно захотелось есть, даже тихонько затосковало сердце.
— Дайте банку лосося.
— Что?.. У вас же свежая рыба.
Точно, в руке у меня была рыба — тоже лосось, я забыл о ней. Но куда мне такая рыба? Что буду с ней делать — ни сковородки, ни кастрюли. Разве шашлык в печке изжарить?
— Выручи человека, Тамар, — сказала одна из женщин, очень откровенно сочувствуя мне. — А мы пошли, бабы, сами они лучше договорятся.
— Давно бы так! — проговорила продавщица, полезла под прилавок, вытащила кругляк сырокопченой колбасы.
— Нет, нет… — отступил я.
— Это моя, — быстро нашлась продавщица. — Честное слово. Себе оставила. А они набрались — по пять килограмм тащили. Могу же я себе оставить. Одна живу, готовить супы некогда.
— Правда?
— Вот не сойти мне с места!
Я взял кусок колбасы, а кумжу бросил на прилавок — товар на товар! Это освобождало меня от рыбы, к тому же, я почувствовал, что деньги продавщица не примет.
— Что вы! Оставьте себе!
Я не стал ее слушать, спешно, как рядовой покупатель, закупил хлеб, сахар, чай и, чтобы красивая продавщица не успела предложить еще какого-нибудь «личного» продукта, решительно пошел к двери.
— Может, сырку голландского?..
— До свидания!
Хлопнув так же решительно дверью, я сбежал с крыльца, будто очень торопился. Проходя мимо окна, глянул на продавщицу: она еще улыбалась, но быстро и привычно закрывала мешки, ящики, развязывала одной рукой халат. Кумжи на прилавке не было.
Вечерние размышления
Чайво — что-то связанное с чаем. Чай пьют нивхи очень давно, с тех пор как китайцы стали приплывать на Сахалин, привозить котлы, оружие, ткани и выменивать это добро на пушнину. Однажды у нивхов кончился чай, они попробовали заварить траву, которая росла на косе, и назвали это место — Чай-во. «Во» — селение. А может, все было не так. «Кто знает!» — говорит Кавун.
И двести и триста лет назад нивхи жили на Чайвинской косе. Берег же здесь неуютный — низкий, открытый, поднимется ветер — и песок режет глаза. Летом только чахлый стланик бледно зеленеет на зыбкой тундре да осока на озерах; и туманы — чуть запенится море — сумерками проносятся над косой.
Другой берег залива — словно другой, обетованный мир: высокий, лесистый, густо-зеленый. Но нивхи никогда не жили там: от того, красивого берега, два раза в сутки уходит вода, а значит, и рыба — хлеб нивха.
Здесь ветер, песок на зубах скрипит, зато глубоко у берега; бычок, камбала, кумжа ловятся днем и ночью. Там душно в лесу, мухи — здесь хорошо сушить юколу; там мошка, комары — здесь дымокуров не надо и собаки летом сами кормятся: подбирают на косе рыбу, оглушенную прибоем. Здесь выползают на отмели, а зимой на льдины сивучи и нерпы, в тумане их можно бить палками. Нивх не любит запасать еду впрок, он добывал ее тогда, когда хотел есть.
Теперь нивхи живут вместе с русскими, ходят в магазин, получают в колхозе авансы и, наверное, позабыли, почему их предки поселились на Чайвинской косе. Их уже не пугает высокий зеленый берег, они соглашаются, что, пожалуй, там было бы лучше жить, суше, красивей и для детишек здоровее. И, конечно, тянутся к тому берегу русские — им больше нравится твердая земля. А рыбу ловить можно и здесь, приезжать на Чайвинскую косу.
Если не висит над заливом туман, видны белые срубы на той стороне — это новый поселок. Его строят третий год, понемногу, но все-таки строят, и русские ездят туда выбирать усадьбы.
Что я еще знаю о нивхах? Очень немного. Их всего около пяти тысяч, одна половина здесь, на Сахалине, другая — в низовье Амура. Откуда и куда сначала пришли нивхи, до сих пор спорят этнографы. Их язык не похож на языки других северных народностей. Нивхи загадочны, как и айны — «мохнатые курильницы», населявшие юг острова. (Некогда многочисленные и воинственные, они теперь доживают свой древний век в резервациях на Хоккайдо.) У нивхов есть свой Герой Труда, ученый, музыкант. Есть сказки и легенды. И есть свой поэт — Володя Чанхи.
В Южном я был на вечере сахалинских поэтов и слушал стихи Володи. Он читал сначала по-нивхски, потом, незаметно, не перебивая ритма, переходил на русский, и казалось, стихи звучат одновременно на двух языках. Читал Володя не похоже на всех других, он скорее переживал, словно бы заново творил свои стихи, и оттого взмахивал руками, раскачивался — то напевал слова, то говорил их беглым речитативом. Мне запомнилась его черноволосая голова, смуглое лицо с расширенными глазами, белые зубы, легко пропускавшие шипящие звуки. И понравилось, запомнилось стихотворение «Юкола» — после него мне захотелось приехать в Чайво. Начиналось оно словами:
Где дома теряются в кустах, Где речушка пенится бело, Юкола, качаясь на шестах, Ловит негорячее тепло.Дальше говорилось о том, что где-то на юге, «далеко, тяжелеют от плодов и ломятся сады, а здесь, где солнце так невелико, зреет рыба — красные плоды». Кончалось стихотворение строфой:
А когда деревья и кусты В снег оденет зимняя пора, Юколу, как солнце, на куски Будут резать нивхи у костра.И еще… Когда-то давно, в детстве, я прочитал нивхскую повесть Б. Трофимова «Сын орла». Не помню уже всего, о чем рассказывает автор, но осталось легкое чувство, точно полузабытый напев, сказка о шуме тайги, всплесках рыб, широких плесах Амурского лимана и… первобытной любви нивха Плеуна; вижу его лодку-долбленку, длинный белый шест, туман, по которому плывет лодка, шалаш, пахнущий хвоей. Плеун ночует у незнакомой женщины (муж ее ушел на охоту), а утром уплывает по туману и в туман, и о женщине напоминает ему лишь туесок с пунцовой брусникой… Недавно мне попала в руки повесть «Сын орла», я купил книгу и, пока шел домой, с радостью думал, что приду и сразу прочитаю. Пришел, прочитал несколько страниц и… не стал читать дальше. Мне сделалось жаль того, давнего, детского впечатления.
Было поздно. В окна проглядывал блекло-синий, глубинный, звездный свет. Было тихо — и не потому, что безмолвствовало все вокруг: шуршало, погромыхивало море, скрипели вагонетки на плоту, слышались голоса, — было тихо той особенной, нетронутой человеком тишиной, тишиной дальней дали. Не тихо, а далеко и потому тихо. Это — древность, первобытность. Здесь можно уснуть так, как ты спал на второй день после своего рождения.
Где-то за домами завыла собака, — наверное, с моря потянуло стылым туманом, — настоящая, нивхская. Я это почувствовал сразу: лайка не просто выла, а на разные голоса жаловалась земле, небу, что ей голодно и холодно вот уже тысячи лет, что ей грустно и больно от любви к человеку, она не знает, зачем так долго живет и служит ему. Собака пела, словно шаманила. Потом, не выдержав ее тоски, отозвалась другая, с окраины села. Тихо взлаяла и завыла третья. А вот уже невидимый хор, во все село, звучал над песчаной, затуманенной косой.
И это было такой глубокой тишиной тишины, что я сразу уснул.
2
Четверг, 22 июня
Ночной туман перешел в морось, слякоть, хмарь. Все тонуло в дымной, сырой тьме, люди ходили, окликая друг друга, натыкаясь на заборы, теряя дорогу. На плоту взвывала сирена, желто горели огни.
Я постоял у залива (виднелся только небольшой серый клочок взбудораженной воды, дальше пенные гривы переходили в морось, поднимались в воздух; где-то совсем рядом фыркали и трудно отдувались сивучи), почувствовал, как мой плащ насыщается влагой, и пошел в контору — там едва заметно желтели окна.
Председатель сидел в своем кабинете, маленькой комнатке, где больше одного посетителя не помещалось и стоял против стола один стул. Сам председатель выглядел здесь особенно громоздким — в дождевике, суконной фуражке, резиновых сапогах. Он что-то писал, карандаш прятался в его руке, и чудилось, председатель водит кулаком по бумаге.
Лапенко — крепкий председатель. Об этом все знали в районе. И сюда послали его «на укрепление». Глядя на его тяжелую голову, на красный кулак с карандашом, я решил: такой укрепит. Обязательно. Укрепит во что бы то ни стало, не пожалеет ни себя, ни других. Оправдает доверие.
Он писал и знал, что я сижу на стуле, между стеной и его столом, рядом — так, что слышу сырость его плаща, — однако не спешил заметить меня. Мне тоже не хотелось начинать: помнил свой вчерашний «разговор».
На стене висело двуствольное ружье, рядом — патронташ с латунными патронами. Ружье годами не чистилось, порябело от соленой воды, брезентовый патронташ обтрепался, в нем едва держались гильзы. Но ружье было все-таки хорошее, старинное, с длинными стволами, курковое, ловкое и «терпеливое». Такое не выменяешь и на новое. Я встал, чтобы посмотреть.
Председатель сказал у меня за спиной:
— Купите. — Он засмеялся, заворочался, скрипя столом и стулом. — Вправду. Надоело это старье.
— Охотитесь? — спросил я.
— Нет. Вот из окошка, когда туману нет, стреляю. По сивучам. Вроде спорта.
Я повернулся к стулу, сел, стараясь не свалить ничего на столе. Лапенко, покашливая, смотрел в окно, не торопился говорить, думал, и это делало его прямо-таки неприступным. Он, видимо, давно усвоил эту привычку, понял ее выгоду и так вел себя со всеми, кому хотел внушить «сверхуважение» к себе. Заговорил Лапенко, не поинтересовавшись: «Ну, как спалось?» — сразу и о деле:
— Вот, корреспондент, помогай! Селедка пошла, видел, сколько ее навалили, а рыбозавод подводит: то соли у них нет, то плашкоутов не хватает, то бочка кончилась. Обязаны, понимаешь, по договору.
Лапенко выдвинул ящик, покопался в папках и, пришлепнув к столу бумагу, пододвинул ко мне. Сверху было напечатано: «Договор», ниже следовал текст: «Рыбозавод «Ныйво» обязуется принимать отловленную колхозом «Восток» всю путинную рыбу — сельдь, горбушу, кету, навагу, — кроме прилова…» Далее шел длинный перечень мелких и крупных условий, поручительств, сроков и денежных расчетов. Внизу синели крупные печати, подписи директора рыбозавода и Лапенко.
— Как? — глянул председатель, когда я поднял голову.
— Не выполняют? — спросил я.
— Ага, не выполняют… — чуть передразнил он и, обозлившись, заорал: — Никогда толком не выполняют! А в этом году — зарезали. А здесь, на приемной базе, что делают? Соли не было, только на днях подвезли. А сколько? На неделю не хватит. Видел эту красотку в шляпке? Поговори с ней. Зверь. Нивхи Медведь-баба зовут. Да мне черт ее забери, не целоваться, главное — рыбу прими, твоя забота! Так пока к горлу не приступишь — толку нет. Что я, лично себе солю?.. Вот какой договор!
Я немного оторопел. Это был первый мой председатель, и он сразу и без жалости окатил меня, как селедкой из сачка, ворохом проблем и вопросов. Конечно, чутье мне подсказывало, что он «сгущает краски» (знает — это не помешает), старается озаботить корреспондента, может быть, отвлечь его от всякого другого, сделать хоть маленьким помощником себе.
— Напишу заметку, — сказал я осторожно, словно бы вдумываясь в слова председателя. — Как вы считаете?
— Считаю, правильно, — ответил Лапенко, с чуть заметным удивлением глянув на меня: его, пожалуй, сбила моя неожиданная податливость. — Общее дело делаем, — прибавил он.
Поднявшись, я стал соображать, куда бы сейчас пойти; Лапенко уловил мою нерешительность.
— На тони поеду. Есть желание рыбку посмотреть?
Я кивнул, и мы вышли из конторы.
Холодная морось дымными хвостами проносилась над поселком, прилипала к домам, земле и морю. Моросило в глаза и уши, морось пробиралась в рукава, за ворот, в карманах было сыро, как в нетопленных комнатах. Сквозь курево мороси возникали дома, заставленные вешалами для рыбы, юртами белого плавника, припасенного на дрова, навесами для собак, — все это в полусвете, в дыму, напоминало древнее северное становище.
Зато на плоту было ярко, громко и суетно. Сияющие вороха рыбы, свежие и тухлые запахи моря, плеск воды под осклизлыми досками, мокро поблескивающие куртки и лица в резком электрическом свете, голоса, смех, изредка веселая русская ругань. Начинался обычный рыбацкий день.
— Вот мой личный транспорт, — указал Лапенко, — прошу на переднее сиденье.
У края досок, глубоко внизу, играла на волнах, как поплавок, голубенькая лодчонка с подвесным мотором. Надо было изловчиться и прыгнуть так, чтобы попасть на сиденье. Догадался, что нужно прыгать в то мгновение, когда лодка пойдет снизу вверх, ко мне навстречу. Изловчился и все же чуть не вывалился за борт. Очень поспешно уселся на мокрую доску. Сверху услышал незнакомый, подшучивающий голос:
— Хорошо! Как космонавт!
И сразу передо мной мягко стукнулись в дно лодки два длинных резиновых сапога. Сапоги сжались, сморщились в коленях, я увидел телогрейку, руки, а потом лицо под клеенчатой панамой. Молодой нивх, не в меру скуластый и темнокожий, улыбался мне, пристраиваясь на жестяном бачке. Я подвинулся слегка, он мотнул панамой:
— Нет. На нос много нагрузки нельзя.
Корма ухнула вниз, меня подкинуло, как в люльке, волны плеснулись от бортов — это спрыгнул Лапенко. Лодка увязла в воду по самые боковые брусья, страшно было шевельнуться, я ругнул себя: «Черт занес сюда», но тут Лапенко дернул шнур, затрещал мотор, мы оторвались от пристани, и лодка, выпрямившись, напрягшись, пошла как бы поверх воды.
Нивх улыбался и улыбался. Я заметил уже эту особенность: нивхи очень много улыбаются — друг другу, знакомым и тем, кого видят впервые. Это от какой-то давней, неизлечимой доброты, от радости человеку, особенно новому: на дикой земле нивх редко встречал незнакомого человека.
Я тоже начал ему улыбаться, и не из вежливости, а так — мне было приятно ему улыбаться. Наулыбавшись вдосталь, он сказал:
— Давай знакомиться. Я комсорг, звать Коля Тозгун.
Мы крепко, по-нивхски не торопясь, пожали руки, и теперь с интересом я принялся рассматривать Колю. Это известный человек, мне о нем говорил редактор, кто-то из газетчиков рассказывал о его трудной любовной истории, о нем писала много раз районка. Мы еще радушнее улыбнулись друг другу, но ничего нового я не увидел в Коле Тозгуне — то же скуластое лицо, темная, жестковатая кожа человека моря, и только, может быть, глаза шире, открытее и внимательнее, чем у других нивхов, да одежда — впору, легкая и примерно чистая.
— Слышал о тебе! — сказал я, начиная дружбу и делая сразу маленький вклад — приятное Коле Тозгуну.
Он кивнул своей желтой панамой, ничуть не удивился, — так, по его убеждению, и быть должно, — однако отплатил мне тем же:
— Я твои заметки читал.
И хоть всего-навсего я успел напечатать две заметки и их наверняка не видел Коля, мне сделалось хорошо.
Скоро из тумана, воды и неба проявилась смутная темная полоска. Она была неподвижной — и это, значит, была земля. Полоска удлинялась, распухала, потом на ней появились бугорки, потом стало видно, что бугорки двигаются, а вот уже ясно: бугорки — люди. Над ними — чайки, белые тучи чаек. Их крик прорезался сквозь тарахтенье мотора, дождь и туман, заглушил низкий рокот моря, сделался единственным над водой и мокрым широким островом, края которого, слабея, удалялись во мглу.
Лапенко разогнал лодку, выключил мотор, и она до половины выползла на песок. Коля Тозгун выпрыгнул; взявшись за борт, хотел столкнуть лодку, но сначала спросил меня:
— Дальше поедешь? Или здесь посмотришь?
Я не знал, как быть, где интересней. Не совсем удобно было оставлять председателя — все-таки он меня пригласил.
— Можно здесь, — проговорил Лапенко, — не сразу все. А бригада боевая. Правда, Коля?
— Солдаты! — ответил Тозгун.
Мы столкнули лодку. Лапенко дернул шнур и быстро растворился в тумане, лишь мотор еще минуту стрекотал, будто понемногу уходя в воду.
Пошли по берегу, твердому, укатанному водой, рубчатому, словно для того, чтобы не поскользнуться. Впереди четкой, аккуратной цепочкой люди тащили невод. Они и в самом деле напоминали маленьких солдат — в одинаковых брезентовых куртках и сапогах, в обвисших панамах. Над ними густо кружили и орали чайки.
— Моя бригада, — сказал Коля Тозгун, — комсомольско-молодежная.
— Посмотрим!
Мы приблизились к бригаде. Здесь было несколько парней, три девушки и один старик. Все нивхи. Они чуть ослабили канат, охотно поздоровались, тут же снова натянули лямки. Коля Тозгун принялся помогать. Я взялся голыми руками за канат и сразу понял, почему рыбаки тащат его лямками: он холодный, деревянно-задубелый от соленой морской воды. Коля шел рядом со стариком, и старик быстро рассказывал ему по-русски, чтобы было понятно мне:
— Понимаешь, сивуч попался. Дырку сделал. Селедка ушла, только чуть-чуть вытащили. Понимаешь, пока штопали, прилив-та шибка ушел. Теперь-та не знаю, что будет. Однако посмотри, чайки в воду прыгают. Наверна, есть…
Левое крыло невода вытягивалось вдоль ровного берега, его выхватывали из воды, расстилали на песке. Правое сносило течением, оно выгибалось кругом, в нем скапливалась рыба. Главное теперь — не дать прибиться ловушке боком к берегу, перехлестнуться, запутать дель; чуть прозеваешь — улов вытечет в море. Тащили молча, задыхаясь, горя азартом и нетерпением. Перебегали один за другим, захлестывали лямками канат у самой воды, и, когда удавалось взять дружно, «на ход», старик выкрикивал:
— Урд! Хорошо!
Кутец вплыл, закачался в заливчике, на тихой воде, Коля Тозгун скомандовал:
— Низа, низа держите!
Два рыбака забрели в воду, стали по бокам невода, начали ногами вдавливать нижние подборы в песок. Теперь выбирали оба крыла, плотнее и крепче прижимали улов к берегу. Коля Тозгун, бросив канат, следил за неводом, командовал, кому и что делать. Рыба всей массой, закипая, бурля, выползала на берег.
Кутец напрягся, выгнулся, как дутый ветром парус, канаты дрожали и постанывали, селедка превратилась в белое месиво, чайки, взбесившись, сыпались сверху, хватали рыбу, раздирали, дрались и орали, так орали, что щемило уши.
— Стоп! — крикнул Коля Тозгун.
Значит, довольно тащить, это — точка, предел, дальше может не выдержать невод.
Старик подогнал рыбницу — широкую плоскую лодку, двое рыбаков медленно вошли по пояс в рыбную кипень и сачками-зюзьгами принялись переливать селедку в рыбницу. Вода забеливалась и густела вокруг них: рыба терлась, сбивала чешую, выпускала молоки и икру. Два сивуча подобрались к самому неводу, ныряли и фыркали в белых дымных потоках, сочившихся из кутца.
На доски рыбницы шлепалась селедка, трепетала, сияла, и мелкие светящиеся брызги тонким облаком висели над лодкой. В мелкой селедочной каше вдруг вспыхивал сильный плеск — это падала из зюзьги крупная рыба: кумжа, горбуша или сима. Кто-нибудь из рыбаков перегибался в рыбницу, выхватывал «крупный прилов» — для общей ухи. Особенно радовались, когда попадалась сима, лучший белочешуйчатый лосось с черными пятнышками на хвосте.
Вот старик тащит под жабры симу, — кровь течет по ее белому брюху, капает с хвоста, — подходит ко мне, говорит:
— Хорошая рыбка. Уха — как куропачий бульон, шашлык — как молодой олешек.
Подогнали вторую рыбницу и до краев залили ее селедкой. Кутец опал, смялся, в нем густо переливалась белая жижа, залепившая ячеи сети, и вяло барахтались кроваво-бурые рогатые бычки. Их вытряхнули на песок, они как бы нехотя помотали хвостами и замерли, выпучив черные глаза в небо, будто к чему-то присматриваясь.
Маленькая круглая девушка, шурша брезентовыми штанами, подбежала к самому большому бычку, потрогала ногой широкую рогатую голову, поиграла вялым, вывалянным в песке хвостом и сочувственно свалила бычка в воду; он не торопясь, важно шевельнул плавниками, раздул жабры и ушел к себе домой, на дно залива.
Ухнул выстрел. Это выстрелил Коля Тозгун — сразу из двух стволов. Так он сообщал на пристань об улове, и требовал «мотодорку».
Рыбаки принялись укладывать невод в рабочую лодку, для нового замета. Вскидывали, перетряхивали дель, вынимали из ячей застрявших селедок, поправляли балберы и грузила. Старик стоял на широкой корме лодки, покрикивал, следил за укладкой. Девушки смеялись, бросали в парней рыбешками, одна из них дергала за рукав старика, приставала:
— Запишись в комсомол, да! А то выгоним из бригады, да!
Я подошел к Коле Тозгуну. Он был горячий, взбудораженный, в распахнутой телогрейке и расстегнутой рубашке. На его мокром, словно лоснящемся жиром лице расплылись белые брызги селедочного месива. В руках он держал еще не остывшее ружье.
— Хочешь, пальни, — сказал он мне, показывая на дико орущий базар чаек, облепивших рыбницы.
— Нет. Бесполезно. Ты скажи лучше, как старик попал к вам?
Коля Тозгун долго улыбался, молчал, чтобы мое любопытство стало больше (тогда приятней будет ответить).
— Это мой дед, Навазга. Никуда идти не хочет, с тобой буду, говорит, а то на пенсию пойду. Такой упрямый аткычх[3]. Третий год у нас. Смеются, конечно, молодые. Он терпит. В эту путину моим заместителем его выбрали. Совсем помолодел. Вот беда!
— Семейственность разводишь.
— Еще есть родня. Видел, которая с бычком играла? Девчонка? Это моя аньхи, жена.
— О-о!
— Знаешь, наверно? Меня за нее стреляли. За Вальку.
Я пожалел, что плохо рассмотрел эту маленькую, круглую женщину. Теперь она далеко шла по берегу вместе с подругами — все они были почти одинакового роста, — держала еле видимый канат, а лодка, оставляя позади пунктир балбер, удалялась от берега в туман. Я решил в поселке познакомиться с Валей.
Пока правое крыло невода не примкнет к берегу — делать нечего. Мы садимся на борт рыбницы. Селедка уснула, лишь изредка какая-нибудь, очень живучая, всплескивала хвостом. Морось сеет и сеет. Небо рядом, сырое, водянистое, его можно потрогать рукой. И оттуда, из серого, падают, валятся чайки. Кричат, бессовестно воруют селедку. Кажется, если долго не придет «мотодорка», они опустошат рыбницы.
— Однако, поймаю одну, живую? — сказал Коля Тозгун.
— Как?
— Вот как… — Он снял панаму, поворошил свой жесткий черный чуб, двумя пальцами нащупал волос подлиннее, выдернул. — Смотри, вот тебе и петля, как на зайца. — Из кожаного чехла на ремне он достал нож, отщипнул от борта щепку, к концу ее привязал петлю. — Теперь совсем пустяк. — Взял селедку, отошел несколько шагов, бросил селедку и над ней воткнул в песок щепку с петлей. Вернулся, сел. — Смотри…
Чайки налетели сразу, задрались, терзая добычу, и одна обеими лапами влезла в петлю. Заверещала противно, все другие чайки, забыв о рыбе, взмыли и разлетелись.
Коля Тозгун принес чайку, усадил ее на колени. Она дрожала, нервно крутила головкой. Я тронул ее холодно-белые, сухие перья, она трепыхнулась, клюнула меня в палец. И так остро, что на пальце вспухла капля крови.
— Красиво, правда: и красное и белое, — проговорил Тозгун, мазнув мягкой шейкой чайки мне по пальцу. — Хочешь, мы из этой тьатьр шашлык состряпаем?
Я не знал, шутит он или серьезно, но, жалея чайку, вопросил:
— Отпусти.
Он бросил тьатьр в рыбницу, она быстро побежала по скользкой селедке, остановилась у борта, покачалась, рассматривая нас, схватила селедку и улетела. Меченая, с каплей моей крови.
— Твоя родня будет, — сказал Коля Тозгун.
Где-то за туманом, близко, дудукал мотор — это шла «мотодорка». Она вынырнула в стороне, слабо, как из воды. Повернула к нам. Моторист, пожилой нивх в кожаной мокрой куртке, крикнул: «Давай!» — ловко развернул «мотодорку» кормой к берегу. Мы бросили ему конец, он закрепил его на корме, дернул; первая рыбница повела острым носом, вторая пошла вслед за ней, и моторист махнул нам рукой. Он был деловит, утомлен: сегодня здорово шла рыба, и с островов, невидимых за туманом, часто слышались выстрелы.
Рыбаки примкнули правое крыло невода к берегу, держали его, потихоньку шли за течением, а левое вытягивалось, прибивалось к острову; девушки подхватывали дель, встряхивали, выбрасывали бычков и камбал, расстилали невод на песке.
— Пойдем, — позвал Коля, — теперь трудно будет. Тол-ызн — хозяин моря — ленивый, плохо помогает.
Мы взялись за мокрый, деревянно твердый канат и, торопясь согреться, изо всех своих сил уперлись в песок ногами. У рыбаков на плечах чуть ослабли лямки, старик Навазга сказал нам:
— Урд!
Рыбаки шли и шли, нагнувшись, молча, выдавливая в песке косые глубокие следы. Двухсотметровый невод выстилался вдоль берега, кутец округлялся, медленно вплывал в тихую и мелкую заводь. Канат, будто накаляясь, твердел, и по его дрожи, гудению чувствовалось, что кутец набит рыбой.
Девушки, чуть видимые за туманом, шли следом, смеялись. И этот смех нужен был, тихий, приглушенный и совсем домашний. Он как бы обещал тепло и отдых там, на другом берегу, после холода и воды. Девушки подходили все ближе. Невод вплыл, остановился в заводи, девушки подошли, смешались с рыбаками, перестали смеяться. И снова — после медлительности, размеренности, выжидания — горячка. Тут, если не знаешь, что делать, лучше не мешай. Я отошел в сторону.
Кутец стал мешком, вспух от рыбы, ощетинился: сквозь воду было видно, как из ячей сети торчали, шевелились селедочные головы и хвосты. В невод вогнали пустую рыбницу, в три зюзьги принялись вычерпывать, словно из кипящего котла.
Коля Тозгун взмахивал зюзьгой, точно большой сетчатой поварешкой, командовал двум своим товарищам:
— Взяли!
— Еще раз!
— Х’унда мах![4]
И снова повторял эти слова, не торопясь, упрямо и без передышки. Рыбаки разом, не мешая друг другу, зачерпывали селедку, стряхивали воду и опрокидывали зюзьги в рыбницу.
— Ну, как охота? — услышал я сбоку голос Лапенко. Он подошел незаметно и стоял молча, наверное, уже несколько минут. Я вспомнил, что вчера он пожелал мне «ни пуха», почувствовал легкую насмешку в его голосе, ответил:
— Доволен. И охота и улов.
— Ну, ну, — неопределенно кивнул Лапенко, подозвал Колю Тозгуна, они начали говорить о сегодняшнем улове, прикидывать центнеры. Потом Лапенко, будто вспомнив обо мне, пригласил:
— Поедем. А то теперь до ночи отсюда не выберешься.
Я махнул рукой Коле Тозгуну, пошел вслед за председателем к моторке. Плащ уже не оберегал меня от влаги, сделавшись мокрее и холоднее самого дождя. Чтобы сохранить хоть чуточку тепла, надо было меньше шевелиться, и я, устроившись на сиденье, сразу окаменел. Председатель тоже молчал, не двигался, согнувшись под дождевиком. Говорил мотор — горячо, глупо-радостно, — мы вдумчиво слушали его железную болтовню.
На плоту, огороженном досками и загруженном ворохами рыбы, Лапенко сказал:
— Трудно, брат. Куда девать? В райком звонил…
Через полчаса я подходил к своему дому, пробираясь сквозь туман, держась у заборов, где положены вспухшие, чавкающие доски. Отупев от холода, тяжелея с каждой минутой, я торопился под крышу — там подумаю, как обогреться и что поесть. Откинув деревянную задвижку, вошел в дверь, и мне показалось — в доме кто-то поселился: было тепло, на печке побулькивал чайник, на столе лежал хлеб, кусок вареного мяса — темного, должно быть сивучьего, четыре яйца. В бутылке граммов сто чистой жидкости. Сбросив плащ; я постоял около печки, отогрелся и понял: все это для меня.
Вечерние размышления
Как написать заметку — небольшую, резкую, тревожную? Заметку-«SOS», громкий сигнал «всем, кто меня слышит». Чтобы каждый прочитал, каждому захотелось помочь. Чтобы в райкоме заседание состоялось, решение вынесли… Для начала надо придумать хороший заголовок, потом все само собой пойдет. Заголовков много, они сразу полезли мне в голову. Я начал их записывать: «План — под угрозой!», «Медлить — нельзя!», «Голос рыбаков: «Помогите!» Выбрал последний, стал писать:
«Рыбаки национальной ловецкой артели «Восток» берут богатые уловы. Залив Чайво забит нерестующей сельдью. Одна-две недели решат судьбу путины. Рыбаки понимают это и покидают тони только для того, чтобы обсушиться и отдохнуть. Горячая пища доставляется из поселка прямо в бригады. Ширится соцсоревнование. В первых рядах идет комсомольско-молодежная бригада Николая Тозгуна, с ней соревнуется бригада опытного рыбака Чанхи. Другие бригады равняются на них. Артель «Восток» возьмет полтора плана, если… Как раз в этом «если» все дело. Если так же добросовестно будет выполнять свои обязательства рыбозавод «Ныйво»: своевременно принимать и вывозить отловленную рыбу. Как же обстоит дело сейчас? Из рук вон плохо! На приемной базе в Чайво кончается соль, к началу путины не подготовлены дополнительные емкости под рыбу, не хватает рабочих рук. У бригад с задержкой принимается сельдь, отчего рыба переходит в низкие сорта. Об этом хорошо знает дирекция рыбозавода, но пока не видно действенных мер. Товарищи рыбозаводцы! Круглых печатей под договором совсем недостаточно для успешного завершения плана. Нужна ваша работа. Рыбаки ловецкой артели «Восток» требуют выполнения обязательств. Они обращаются к Рыбакколхозсоюзу, местным районным организациям с тревожным призывом: «Помогите!»
Я перечитал заметку, подумал, прислушался к каждому слову. Кажется, получилось с «накалом». Кое-что исправил, переписал на чистый лист, проверил, нет ли ошибок. Решил завтра же отнести на почту, передать в редакцию телеграммой, но прежде сходить на рыбобазу, познакомиться и поговорить с Медведь-бабой.
Было опять поздно, и опять выли собаки. За мокрыми стеклами стоял туман. Потом подул рывками ветер, и туман сдвинулся, зашелестел. А за ним, то сильно, то слабо, прокатывался по берегам прибой, выли от холода собаки.
Я вспомнил о Коле Тозгуне, о его Вальке. Их любви. В прошлом году в районе много об этом говорили. Каждый на свой лад, с добавлениями и страстями. Но суть оставалась той же: Коля и Валька нарушили родовой обычай, все еще упрямо оберегаемый стариками.
Пожилой нивх, уважаемый охотник, взял в жены девчонку Вальку (юскинд — калым он выплатил за нее, когда она только появилась на свет, а едва исполнилось ей пятнадцать — привел в свой дом). Вскоре охотник умер, и Валька стала аньхи его брата — так велел обычай. Унка просто пришел за Валькой, собрал ее вещички, объявил себя законным мужем. Валька просила отпустить ее. Она уже два года ходила в школу: старик болел, не мешал ей, часто забывая о молодой жене. Унке нравилась Валька, он сказал, что лучше убьет ее. И Валька убежала, спряталась в сельсовете. Комсомольцы взяли над ней шефство. Установили дежурство, приносили еду. Сельсовет для нивха — дом законов, священное место; никто не придет туда с ругательным словом. Но Унка, выпив спирту, приходил, ружьем угрожал. Древние старики, которые не могли ловить удочкой даже бычков, говорили ему: «Позор — отдать жену старшего брата. Беда уступившему, беда поразит весь его род».
Коля Тозгун давал Вальке книжки, уговаривал не бояться. Потом начал брать ее на тоню, в бригаду. Ночевать она ходила к комсомольцам, по очереди, незаметно. Старики, однако, не затихали, им словно нашлось дело: наговаривали, шептались, угощали Унку спиртом. Нехорошее, как туман перед непогодой, скапливалось в поселке, тревожило, все ожидали — что будет? Кое-кто из молодых, послабее, потихоньку уговаривали Вальку вернуться к Унке. Надо было что-то делать: или вызвать из района милиционера и арестовать Унку, или… И комсомольцы постановили на собрании: «Обязать Колю Тозгуна жениться на Вальке, учитывая, что он — холостой и имеет к девушке не только товарищеские чувства». На другой день Коля Тозгун съездил в районный загс и расписался с Валькой. А вечером, когда они шли из клуба, Унка выстрелил в Колю из мелкокалиберки. Пуля попала в левое плечо, ниже ключицы.
И, как говорят нивхи, «получился совсем плохой история»: приехал суд, стал судить Унку. Виноват не виноват? Старики теперь не выходили из домов, болели. Они напугались. «Как так вышло? Человек не зверь, зачем стрелять?» Вспомнили, что предки изгоняли из стойбища нивха, поднявшего нож или ружье на сородича. Такой человек должен один жить, один умереть. Это тоже обычай — древний, правильный. Унка нарушил его. Жену можно купить, можно подарить или украсть, но за нее нельзя драться: человек не олень, не глухарь. Пусть русский судья накажет нивха, который забыл обычай предков. Когда суд дал Унке четыре года условно, старики сказали: «Слабый наказание, пускай Унка совсем уходит из Чайво, четыре лета и зимы живет где хочет, пускай умрет или вернется хорошим человеком».
Сельсовет и комсомольцы хотели помочь Унке, защитить от стариков. Унка отказался, ушел из Чайво. Второй год где-то ходит, живет. Может, вернется?..
И мне хочется, чтобы Унка вернулся. Ему надо жить среди своих. Мир еще очень огромен и непонятен для него.
Высокий туман шуршит над Чайвинской косой, прибой раскатывает по низким лайдам стылые волны, воют, тоскуют о зиме лохматые нивхские лайки. В заливе стучат моторы — пришла большая путинная рыба, она сминает водоросли на отмелях, трется о песчаные берега островов, и мутнеет чистая вода от икры и молок…
Вернись, Унка, нивхская земля зовет тебя!
3
Пятница, 23 июня
Женщину в городской шляпке, резиновых сапогах и брезентовом фартуке я увидел издали. Она стояла около Кавуна, толстая, неподвижная, сунув руки под фартук в карманы телогрейки, а он сучил руками, вертел головой и кричал тоненько и, наверное, нарочито скандально. На весах, в три этажа, были составлены носилки с селедкой. Стояли вагонетки, ребята-носильщики курили и дразнили девчат, выжидая, когда между «начальством» окончится «интересный» разговор.
— Ну, на, смотри! — кричал Кавун, поддернув рукав брезентового плаща и сунув руку в селедку. — Смотри, если глаза твои честные! — Он ворошил рыбу, точно замешивал тесто.
Женщина молчала, не смотрела на Кавуна. Она смотрела в мою сторону и уже знала, что сейчас я подойду к ней. Именно сейчас. Ни вчера, ни позавчера она не ждала этого, потому что к ней я не хотел подходить. А сегодня сразу догадалась. Это чутье у нее от опыта, от долгой жизни. Очень трудно идти, когда на тебя смотрят, когда ты виден каждым своим движением и знаешь, что тебя «изучают». Мне захотелось обмануть недобрую самоуверенность женщины, но я понял, что это просто трусость, и прямо пошел на ее взгляд. Она не выдержала, повернулась к Кавуну. (О, как я обрадовался этой маленькой победе!) Я подошел, немного помолчал, вслушиваясь в их разговор, и как можно равнодушнее сказал:
— Доброе утро, товарищи.
— Во, корреспондент, смотри, какая рыбка, — заговорил Кавун, перемешивая рукой селедку. — Скажи ей. Третий сорт это, да? Из воды рыбка…
Кавун старался доказать, что рыба второго сорта, кричал, потому что не совсем верил своим словам, да и селедка была вялая, подпаренная и сладко припахивала.
Женщина наконец глянула на меня (щеки у нее чуть напудрены, губы подкрашены, и это очень заметно на обветренном, по-мужски забурелом лице; глаза большие, серые, медлительные глаза пожилой женщины — и тоже чуть подведены; в этом угадывалось какое-то особенное, внутреннее упрямство — не поступиться и каплей молодости, задержать ее признаки на год, на месяц), она глянула на меня так пристально и придирчиво, что мне стыдно стало за свою мальчишескую суетливость, щеголеватую одежду.
— Кому доброе утро, а кому не очень чтобы… Ни утра, ни вечера. — И, не переменив тона, сказала Кавуну: — Все. — Она пошла по рельсам к широким воротам засольного цеха.
— Медведь-баба, — сказал ей вслед Кавун, но не громко, чтобы услышал только я.
Вспомнив обо мне или нарочито выдержав паузу, она повернулась:
— Пойдемте, если интересуетесь.
Рельсы убегали, как в шахту, терялись в темном провале распахнутых ворот. Мы шагнули в темноту — и под низкими цинковыми сводами возник новый, красноватый свет. Частые деревянные столбы двумя рядами прострачивали середину цеха, а по сторонам в бетонном полу чернели квадратные провалы — емкости для засолки сельди. Бетон, дерево, холод тающей соли, сырой, йодистый перегар рыбы сразу и резко заключили нас в свою особенную, глуховатую среду.
Слева работали засольщики, гребками сталкивали рыбу в чаны, забрасывали поверху солью, широко размахивая лопатами, будто рассеивая зерно. Справа девушки-укладчицы вычерпывали сачками из рассола «созревшую» селедку, укладывали ее в желтые, пахнущие лесом бочки. Здесь не было того простора, бестолковщины и ругани, как на широком ветреном плоту. Это был уже завод, маленький, примитивный, однако со всеми его признаками.
— Вот, — сказала женщина, — так и работаем. Колхозу что — вали, черпай из воды, а тут хоть в карманы соли. — Она оттопырила полы телогрейки. — Ледник до крыши забили, в бочки малосол закладываем. Скоро сырцом бочки заливать будем…
— Но ведь…
— Понимаю, — перебила она. — Рыба — наше богатство, ценный продукт, страна нас не простит… Но ведь Лапенко второй план тянет, а договор на один, и соли на один, и емкостей тоже… В прошлые годы колхоз и одного плана не брал, без дела сидели, рабочие на суточных жили. Что вы скажете?
— Надо было…
— Правильно, надо было. Но ведь это «надо» денежек стоит. А денежки рыбка дает. А рыбки не было.
— Ну, а колхоз-то все-таки при чем? — наконец удалось выговорить мне.
— Ха! Не одно дело делаем? Главное ему — укрепить, на это послан. Хуже нет этих укрепленцев…
— Товарищ Мамонова!. — позвал женщину рабочий, стоявший у крайнего, свободного чана. — Можно на минутку?
Мы подошли. Дно чана было ровно усыпано солью, сверху набросан сверкающий колотый лед. Холод коснулся моих ног, напомнил о зиме.
— Для чего столько льду?
— Чтобы снизу не подпарилась, — ответил строго, не глянув на меня, рабочий.
Он был из старых сезонников — это угадывалось по его явной нездешности, нагловатой опытности, приносившейся, мятой, но своей спецовке, — из тех, кто каждое лето толпами наезжают в рыбацкие поселки, на отхожий промысел, за легким рублем.
— Такая ситуация, товарищ Мамонова. Последний чан. Вот заполню, а потом что, товарищ Мамонова?
— Отдохнешь. Устал, поди! — безжалостно, видимо хорошо зная рабочего, посочувствовала женщина.
— Отдохну, товарищ Мамонова, — ничуть не обиделся, вернее, не захотел обидеться рабочий. — Только опосля, у жинки под боком. А тут мне работать охота. Суточные не по мне. Это бичам паек. Обеспечьте, товарищ Мамонова.
— Каков, а? — Женщина, оттопырив локти, как бы подбоченившись, быстро повернулась ко мне. — Бичей не любит, а сам кнут кнутом. Герой Труда. Списывайте портрет.
Она пошла на сезонника, он чуть отстранился, она словно прошла его насквозь и вяло зашагала вдоль длинного ряда белых квадратов — залитых селедкой чанов.
— Обеспечьте!.. — не очень уверенно крикнул сезонник.
В конце засольного цеха, у огромных деревянных чанов, стянутых рыжими, сочащимися ржавчиной обручами, Мамонова остановилась, заговорила с молодым худеньким парнем, который при каждом ее слове взмахивал нежными, чистыми руками, будто удивлялся: «Что вы! Не может быть!»
— Познакомьтесь, — сказала она. — Наш засольный мастер. Недавно из техникума.
— Дмитрий. — Парень мягко и мгновенно пожал мне руку, отступил на шаг, словно уступая дорогу, и по-мальчишески рассмеялся: наверное, он привык, чтобы ему все радовались, любили его, и к этому же призывал меня.
Я охотно кивнул, он оценил мое доброе расположение, ответил доверчивым прищуром глаз, и Мамонова улыбнулась ему.
— Дай папироску. — Закурила, жадно проглотив несколько затяжек, чуть подобрела и совсем мирно попросила: — Дима, расскажи корреспонденту, как мы воюем здесь.
— Правда, воюем. — Дима взмахнул руками. — Мы говорим Лапенке: давайте вызовем рефрижератор, сразу весь сырец отгрузим. Ведь некуда уже, конец, пробка. — Он махал и махал руками, не подкрепляя ими слова, просто от излишней подвижности. — Вызывайте, говорит Лапенко, грузите. Понимаете: вызывайте! А у нас захудалого катерка нет, а у нас рабочих нет. Что вы скажете?..
Мне надо было что-то сказать уже потому, что эти люди относились ко мне вполне серьезно: ведь не пошлет же газета кого попало к ним в такое трудное время.
— Лапенке ловить надо, — сказал я, осторожно нащупывая собственное мнение.
— Ловить? — Дима сдернул с головы клетчатый картуз. — Сюда!.. Он второй план тянет. Ему лишь бы сдать, деньги получить…
— А «Ныйво» как? Это же рыбозаводское дело.
— Вы не знаете? Там завал. Хуже, чем у нас: гослов и колхозы рядом. Рыба-то сдурела, прет как из прорвы.
Мамонова докуривала сигарету, жмурилась, по-мужски обжигая пальцы, наконец плюнула на окурок, бросила себе под сапог. Сказала, снова сердясь, словно бы входя в свое обычное состояние:
— Так и работаем. Каждый на себя…
Дима подставил лестницу, полез на ржаво-соленый, рыжий бок чана, но остановился, махнул мне рукой. Теперь я ответил ему более радушной улыбкой — потому что и в самом деле полюбил его. Я мог бы сейчас потолковать с ним «о девочках», кинофильмах, пойти пообедать, и даже выпить. Дима знал это, чуть смущенно улыбался, прося прощения за свою редкую способность нравиться, будто говорил: «Это ничего, меня все любят».
Мы пошли по другому ряду цеха — мимо укладчиц, мимо свежих желтых бочек, из нутра которых пахло лесом. Бочки стояли на весах, под прессами. Селедка укладывалась плотно, голова к хвосту, и когда над бочкой вспухал синий округлый верх, на него медленно опускался деревянный круг пресса и легко, воздушно вдавливал рыбу до краев утора. Подходил бондарь, вставлял днище, набивал обручи. Бочку, тяжелую, мягко-сырую, потерявшую звон и запах, откатывали к стенке цеха, и там мальчишка трафаретом намазывал чайвинскую марку.
Девушки работали быстро, молча, поглядывая друг на друга. Никому не хотелось отстать: лишняя бочка — деньги. Они мало походили на девушек, перебиравших пойманную рыбу, смех которых доносился сюда бестолково и ветрено. Здесь были сезонницы. Совсем молоденькие, школьницы и постарше, грубоватые и бывалые, — они казались одинаковыми в длинном ровном ряду, наряженные в сапоги и фартуки. Пожалуй, только одна выделялась из них — женщина лет тридцати, в новом клеенчатом комбинезоне. Они изредка поднимала голову, подбадривала:
— Шевелись, девочки!
Среди сезонниц я увидел девушку-нивху, удивился, подошел к ней. Она глянула на меня, и я спросил:
— Вы что, не местная?
Она как-то испуганно усмехнулась, нагнула голову, промолчала. Ее руки, опущенные в пустое нутро бочки, начали сбиваться, мокрыми пальцами она надвинула на глаза платок. «Она похожа на Гришу, мальчишку, с которым я ловил камбал», — подумалось мне. Постоял, не зная, уходить или дождаться ответа, чувствуя неловкость. И тут заговорила девушка, соседка, топтавшаяся рядом, у своей бочки. Ей, видимо, захотелось помочь мне, но и не очень угодить. Заговорила сразу и насмешливо:
— Это Коккит, Катька, наша нафкк[5]. Местная. Поработает и с нами уедет. Не хочет в колхозе. Только не агитируйте. Она неподдающаяся. Правда, Катька? Ее Коля Тозгун каждый день критикует — и то повлиять не может. Надоела ей отсталая жизнь, хочется человеку культуры — потанцевать и хорошо одеться. Правда, Катька?
Коккит — Катька спрятала голову в бочку и молчала. Ее детская резковатая фигурка сердито двигалась, тоненькие капроновые ноги раскачивались в широких сапогах, как в ведрах. «Трудно агитировать Катьку», — согласился я и сказал Мамоновой:
— Переманиваете?
Она стояла чуть поодаль, около женщины в клеенчатом комбинезоне, о чем-то говорила. Не сразу поняла меня или не захотела понять, потом сказала с видимой неохотой:
— Нет, сама. Производство переманивает. Хоть плохонькое, а все не колхоз.
— Правда! — тряхнула кудряшками, облепленными селедочной чешуей, Катькина подруга. — У нас производство, и Катька будет рабочий класс!
Девушки подняли головы, засмеялись. Катька упрямо трудилась. Она повернулась ко мне спиной, разом ответив на все мои вопросы и охотно прощаясь. Девушкам нравилась Катькина «вежливость», пожалуй, они сами научили ее этому и теперь сияли, радовались маленькому скандальчику.
— И нечего всякому Тозгуну дезертиркой ее обзывать!
— Да!
— А то за оскорбление личности…
Мамонова направилась к двери, я потянулся за ней, сказав девчатам: «До свидания, ударницы». Они не услышали, галдели, выкрикивали: «Да! Вот так! Не имеете права!» Смеялись. Потом их перекричала бригадирша. Когда я оглянулся от двери — увидел ровный ряд согнутых спин, и лишь раскосая, широкоскулая Катька, выпрямившись, стояла у своей бочки, смотрела на меня и, кажется, усмехалась.
Мы вышли на плот, как бы замкнув тот круг, по которому движется селедка, и сами просолились и охладились. В цехе тихо, тесно и сумрачно — здесь шумно, свежо и широко. Сквозь сырые, раздерганные облака пробивалось солнце, и мокрые доски плота, люди, вороха рыбы, лодки, звучная пузыристая вода — все вспыхивало огненной белизной, как в снопе прожектора. Я спрятал под козырек фуражки глаза, Мамонова приостановилась, но тут же быстро зашагала к девушкам, перебиравшим селедку.
Сразу и все в ней переменилось. Пропала та легкая, чуть ленивая расслабленность, с которой она ходила по цеху, лицо ее затвердело, руки она сунула под фартук в карманы телогрейки, словно боясь дать им волю. Зашагала размашисто, сердито, и стало видно, что она давно уже не заботится о своей походке.
Девушки-переборщицы склонились над рыбой, теснее сдвинули головы, затихли. Минуту Мамонова стояла над ними, потом привычно встряхнула носилки, качнула ногой другие, заговорила тихо, задыхаясь:
— Брак! Перебрать! Вот, вот, что это?.. — И мелкие куцые селедки, точно выпрыгивая из носилок, стали шлепаться на доски плота.
Я решил, что мне пора немного передохнуть, пошел на правый приплоток, где в первый день рыбачил, с мальчишками, сел на деревянный, истертый канатами чурбан, по-моряцки — кнехт.
Когда-то давно, вспомнилось, я вычитал в книжке, что настоящий моряк не сядет на кнехт и не плюнет в воду. Мне это понравилось, я сгонял на пристани друзей с кнехтов, запрещал плевать в воду. Но моряком я не сделался, да и сами моряки, как пришлось убедиться потом, не очень рьяно выполняют книжные романтические заповеди. И все же что-то мешало мне сидеть на чурбане-кнехте, — наверное, нежная, бережная память о детстве. Я слез, сел прямо на доски, привалился к чурбану спиной.
Стал меньше виден тот берег, вытянулись, будто погрузились в воду, длинные песчаные острова — колхозные тони, с лодками, темными точками людей, — шире, необозримее разлился Чайвинский залив. Вода двигалась, сияла, сквозила, дрожала чешуйчатой рябью, и казалось чудом то, что она держится в хлипких, немощных берегах.
Мне надо было подумать. И я думал так: «Вон там, на песчаных островах, люди ловят рыбу, здесь, за моей спиной, люди солят рыбу. В этом их жизнь. Я хожу, смотрю и не очень понимаю и тех и других. В кармане у меня первая заметка. Что мне делать с ней?»
Я чувствовал, как длинно, осязаемо двигались минуты. Сидел, приценивался к мыслям, чего-то ждал. И не удивился, когда за моей спиной зазвучали шаги. Не успев обернуться, услышал:
— Нашелся, корошо! Я тебя долго искал!
Это был Гриша, босиком, в закатанных штанах, тяжелой, длиннорукой телогрейке. На тонкой шее раскачивалась круглая голова, весь он был пропитан водой, — видно, ходил на охоту или ездил рыбачить, — вода большими каплями держалась в его черных ненамокающих волосах. Гриша сел рядом со мной, свесил с плота ноги.
— Понимаешь, — сказал он, — какое дело…
— Не понимаю.
— Понимаешь, тебе записка… — Он запустил руку куда-то под телогрейку, за рубашку, начал копаться и сопеть. Наконец вытащил стиснутую в кулаке измятую бумажку. — Вот, тебе Тамарка прислала.
— Тамарка?..
— Которая продавщица.
Я развернул и разгладил бумажку. Карандашом наискось было написано: «Приготовила Вашу рыбку, приглашаю покушать. Очень даже обижусь, если не придете. Буду дожидаться. Никого из гостей не приглашаю. Тамара». Перечитал еще раз, повертел в руках бумажку, удивился тому, что она — такая мятая, с корявыми буквами — тронула меня, шевельнула во мне интерес, удивила наивностью и неожиданностью.
Гриша молчал, поглядывая на меня и сплевывая в воду. Ему непривычно сидеть просто так, ничего не делая, но он сидел, уважая записку, меня и свое участие в тайном деле. Я сказал ему:
— Приглашает на ужин. Как ты думаешь, пойти?
— Еще бы! Продавщицы корошо живут.
— Вот как. А если я не хочу лучше других жить, тогда как?
— Не знаю.
— Я тоже не знаю. Давай подумаем.
— Давай.
Мы думали, а чайки летали и под нами, и над нами, вода текла сырыми ленивыми тучами вверху, вода шумела в заливе, и казалось, что в небе тоже можно ловить рыбу — надо только уметь забросить невод. Становилось холодно, потому что солнце утонуло в воде — верхней или нижней? — и теперь скоро для чаек и людей наступит ночь.
— Пожалуй, пойду, — вздохнул я.
— Правильна. Иди.
Гриша повел меня, он шагал чуть впереди, выбирая поровнее дорогу, через канавы сначала прыгал сам, ждал меня и вздыхал, наверняка считая себя виноватым за слякоть и мою неловкость. Когда вышли на дощатый тротуар, я спросил:
— Это твоя сестренка у Мамоновой работает?
— Ага. Откуда знаешь?
— Знаю. Что, она бежать задумала?
— Задумала. Говорит, как русские жить хочу. Пусть. Посылку пришлет из города.
— А другие убегали?
— Убегали. Вальке Юркуну сестра спиннинг прислала.
Гриша подвел меня к маленькому бревенчатому домику с низкими сырыми сенями — в стене светилось окошко, — сказал: «Стучи!» И побежал в сторону, вдоль забора. Я постоял, прислушался к тупому топоту его резиновых сапог, посомневался напоследок и постучал в мягкую, обитую собачьим мехом дверь.
Все получилось как надо, как ожидалось. Застучали остро и часто каблуки, звякнул и закачался крючок, и со словами «Кто там?» открылась дверь.
Она немного отступила, дала войти, удивилась:
— Ах, это вы!
Придвинула стул, хотела сама сесть на другой, но раздумала, и правильно сделала, потому что смешно и неловко сразу сесть друг против друга и старательно соображать, о чем говорить. Она пошла за шторку к печке, сказала оттуда:
— Вот хорошо, сейчас поужинаем.
Я снял плащ, повесил у двери, сел, осматривая ее дом-комнату. Здесь было так же, как в Хабаровске или Рязани: занавески, вышивки, огоньковский пейзажик в рамке под стеклом, гитара с красным бантом на кровати. И была еще деревянная детская кроватка. Под клетчатым ватным одеялом спал ребенок, розовый, пухлый, светловолосый и белокожий, как мать. Он простуженно сопел, хмурился, будто во сне поднимал и нес что-то тяжелое. К стенке была приколота большая фотография — хохочущий мальчишка лет четырех.
Она вышла из-за занавески, неся большую ворчащую сковородку, сама горячая, пахнущая кухней. Я кивнул на кроватку, спросил:
— Как звать?
— Петя.
Сдернув со стола газету, она поставила на середину сковородку и повернулась ко мне: ей хотелось увидеть в моих глазах восторг — то, ради чего не совсем замученные домашней работой женщины устраивают обеды. И мне не пришлось «выражать» восторга, он возник сам по себе: на столе стояла колбаса, по краям стола ветчина, сыр, селедка и холодная картошка, а в центре всего самое удивительное — два больших красных яблока. Они лежали около бутылки, отражались и умножались в ее стекле, они светились, и чудилось, были горячими.
«Корошо живут…» — вспомнил я Гришу, рассеянно улыбаясь изобильному столу. Она постояла передо мной, сцепив на животе белые руки, тоже поулыбалась, потом подняла бутылку за серебряное горлышко, подала мне:
— Откройте.
Пробка гукнула, из горлышка пошел дымок, и я налил два стакана шипящей пены. Мы, все еще улыбаясь, молча придвинулись к столу. Протянув поверху стакан и легонько толкнув им мой, она проговорила чуть грустно:
— За знакомство.
Отпили по глотку.
— Тамара, — сказала она. — Зови лучше Тамарка, меня все так зовут.
И это у нее получилось грустно. Почему? Может быть, каждый раз она вспоминала то, единственное, первое свое знакомство.
Допили вино, стали есть. Рыба была сочная, душистая, с хрупкой корочкой — чуть поджарена, чуть подпарена, на сливочном и растительном масле, приготовлена так, как могут приготовить только жители моря, кому рыба заменяет мясо, овощи, а иногда и хлеб.
— Вот это рыбка!
— Сима лучше. Когда сима пойдет, приезжай. Лучшей рыбы не бывает.
— Ты давно здесь?
— Четвертый год. Как мужа посадили…
— Посадили?
— Экспедитором был. Выпивал. Обычное дело… Неинтересно. Давай выпьем.
— Можно.
Она выпила весь стакан, не передохнув, легко, — наверное, приходилось пробовать кое-что и покрепче, — сразу повеселела, загорелась, словно подожгли ее изнутри, даже порозовели голые до локтей руки.
— Знаешь, хочется иногда напиться, — сказала она отчаянно, как и следует после второго стакана, становясь просто Тамаркой из всегдашней Тамарки-продавщицы. Она закинула ногу на ногу, и это была уже третья Тамарка, не очень привычная для нее самой, но очень, должно быть, загадочная и привлекательная для других.
«Теперь она начнет играть со мной», — решил я, и Тамарка стала казаться мне неожиданно интересной. Она попросила папироску, закурила, поморщилась от дыма.
— Где ты сегодня бродил? Думала, что не найду тебя.
— Все там же, — ответил я, — а больше с Мамоновой.
— С Медведь-бабой? Интересно. А ты знаешь про нее?.. Нет? Она любит молоденьких, как ты. Да. Тут было одно дело. Приехал сезонник, ничего парень. Она его к себе. На другой день говорит — племянник в гости приехал. Год прожил у нее племянник, ряшку наел, приоделся. Потом укатил. Теперь, говорят, в Южном на «Москвиче» разъезжает… Как тебе правится?
— Серьезно? — быстро спросил я, выходя из игры.
— Серьезно… — медленно пропела она, пытаясь достать бутылку. — Знаешь, сколько она получает?
— Да ведь она лет десять здесь живет и работает…
— А что здесь еще делать?
— И одна…
— Во, одна… Если б только она — одна… Да ну ее! Давай выпьем, и я тебе спою. Ты свойский парень.
Тамарка принялась пить маленькими глотками вино, а я пошел за гитарой. Петька спал, все так же трудно сопя, но уже не хмурясь; он раскраснелся от жары, табачного дыма и запахов еды, распиравших комнату. Петька участвовал в вечеринке. Я подмигнул ему и взял гитару.
Тамарка перебрала струны, глядя бессмысленно в темное окно, повернула голову ко мне и, так же бессмысленно уставившись на меня, запела:
За что же Ваньку-то Морозова, Ведь он ни в чем не виноват. Она сама его морочила, А он ни в чем не виноват…— Ого! Окуджава? — сказал я.
— Чего — джава?
— Песня Окуджавы, говорю?
— Не знаю. Хорошая песня. Не мешай.
Тамарка пела, а я думал о том, что вот как далеко забралась песня: из Москвы на самый край, в самый глухой и тихий уголок, в туман, в июньский холод, в Тамаркину сумбурную душу.
Тамарка пела, я слушал. А потом…
Потом кто-то сильно застучал в дверь. Я встал. Тамарка отбросила гитару, подошла к двери, прислушалась. Из сеней, как из бочки, донеслось:
— Открой!
У Тамарки сжались губы, нахмурились и тут же растерянно округлились глаза.
— Кто? — спросил я ее.
— Да один, ходит за мной…
— Открой.
— Он пьяный.
Я решил, что делать. Встретиться с ним здесь нельзя, драться — еще хуже. Мне нужно выскочить на улицу. Тамарка поняла меня, я кивнул ей почти враждебно, она послушно откинула крючок.
Дверь рванулась в сени, будто ее хотели снять с петель, и вместе с нею я вывалился в темноту, ткнулся во что-то сырое, качнувшееся, увидел серый просвет, раздваивавший сони, выскочил на улицу, позади хлопнула дверь и звякнул крючок.
В сенях послышалась невнятная ругань, загремело ведро. В черном провале двери заворочалась и обозначилась громоздкая фигура парня. Он потоптался у порога, отыскал меня взглядом, пошел. Я следил за каждым его шагом.
Он остановился против меня. Слышно было его жадное, перегарное дыхание. Он клокотал, словно набирался взрывчатой силы, кулаки пошевеливались у самых колен, как подвешенные. Если он ударит меня в голову (пьяные бьют в голову), то я упаду и буду долго валяться. Он испинает меня ногами. Я решил в самый последний миг нырнуть ему под кулак.
— Чужих баб отбивать. Корр-респондент!.. — сказал он хрипло, и даже как-то грустно.
«Она такая же твоя, как и моя», — молча ответил я ему.
— Может, я с ней сплю, — уже без грусти сказал он.
«Ну и спи, — молчал я, — я-то с ней спать не хотел».
— Говори!
«Нечего мне говорить. И тебе надо было сразу бить, а не расхолаживать себя словесами. Теперь ты уже не такой страшный».
— Ну, держи.
«Давай!»
Рука его поднялась и на уровне плеча понеслась к моей голове. Я выждал, нырнул под кулак и отскочил в сторону. Парень повалился вбок, точно кулак потащил его за собой, но устоял; покачавшись, выпрямился, повел плечами, как бы вправляя их, уставился на меня.
— Подожди, — сказал и пошел ко мне. Остановился напротив, ухнул легкими, сжал кулак. — Ну, еще! — и повалился на меня грудью.
Я снова выждал, поднырнул. На этот раз парень, согнувшись, пробежал несколько шагов за своим кулаком, споткнулся и упал, будто его притянула земля. Долго утверждался на ногах, потом отыскивал меня в темноте. Увидел, пыхтя, всхлипывая, пошел ко мне.
И опять повторилось все сначала.
— Постой! — наконец тихо сказал он. — За что ты, а?
Я молчал.
— Давай не будем. Держи пять.
Ладонь у него была широкая, потная и горячая. Он долго держал, мял, пробуя мою руку, требовал:
— Скажи пару слов.
Нехотя оттолкнул, выругался.
Вечерние размышления
Сразу лег спать.
4
Суббота, 24 июня
На улице было солнце, радостно скулили и взлаивали собаки. Древний аткычх-нивх бросал им из ведра селедку, ходил от столба к столбу, горбатый, в расшитом желтыми узорами заплатанном халате и мягких уточках-унтах из нерпичьей шкуры. Он ничего не говорил собакам, не видел их жадности, бросал каждой по четыре селедки, шел, глядя в землю, дальше. У столба с краю аткычх остановился; навстречу ему поднялся крупный рыжий пес, лениво замахал облезлым, клочковатым хвостом. Аткычх опустил сухую ручонку на дно ведра, вытащил окровавленный кусок нерпичьего мяса, бросил псу. Тот ткнул в него морду, лизнул и чаще замахал хвостом. Аткычх несколько минут довольно смотрел, как пес, ощеривая белые клыки, пожирал пахучее, брызжущее кровью мясо.
Проходя мимо старика, я сказал ему:
— Урш х’унивия! Здравствуй!
Аткычх не ответил — он, наверное, глуховат, — но губы скривились в улыбку, глаза сощурились, и это как-то по-хорошему, по-утреннему настроило меня.
Поселок уже опустел: рыбаки — на тонях, женщины — на плоту. Лишь у детсада пестрела стайка ребятишек да медлительные, ковыляющие старухи выходили к хасам — вешалам, ощупывали темными пальцами юколу, грелись на первом, ярком, еще негорячем солнце.
Я свернул к пристани и увидел впереди Лапенко. Рядом с ним шла празднично наряженная, округло-полная женщина; за руку она вела длинную девочку лет десяти. Решив, что это, пожалуй, жена и дочь председателя, догнал, поздоровался:
— Доброе утро!
Меня осмотрели, словно взвесили и ощупали, потом ответили. И сразу все замолчали. Прежний свой разговор они оборвали, заговорить о чем-нибудь другом и так же просто — трудная наука, постигнуть которую не каждому удается. Выручила погода, сегодня она была такой, что не начать разговор с нее — отказать себе и другим в редком здесь удовольствии.
— Погодка-то крымская, — сказал Лапенко.
— Получше будет — чайвинская! — ответила с усмешкой и отвернувшись жена.
— Вот они и вылезли из берлоги, — Лапенко кивнул на жену и дочь. — В районную столицу захотели. Отвезу к поезду да на стройку загляну. Не хочешь наши Черемушки посмотреть?
— Черемушки? Вы так и называете?
— Нет. Мы их Лиственничками прозовем. Больше нам подходит. Первый нивх от лиственницы зародился — старики говорят. Мы там большу-у-ю посреди поселка оставили, флаг на ней повесим.
— Интересно. Надо глянуть.
— Знаю, как агитировать!
Мы свернули к берегу. Возле своей пристани, вдвинувшись носом в песок и покачивая кормой с подвесным мотором, стояла та же голубенькая лодка, председательский «лимузин».
Сначала сели мать и дочь, потом я, лодка увязла в воде по самые обводы, а когда прыгнул в нее Лапенко, она жалобно хлюпнула и зачерпнула бортом.
— Доедем? — спросил я как можно равнодушнее.
Жена председателя улыбнулась, колыхнула свое тяжкое тело, и лодка еще раз хлюпнула. Я ругнул себя за трусость, решил лучше утонуть, чем снова развеселить председательшу, сам довольно сильно качнул лодку. Лапенко, налаживавший мотор, чуть не свалился за борт, сказал совсем невесело:
— Товарищи, вы к морскому богу захотели?
— Да, к Тол-ызну! — сказала девочка и тоненько, длинно рассмеялась.
И мы поехали. Мотор, как и в прошлый раз, выправил, утвердил лодку, приподнял ее над водой. Но стало казаться — если мотор заглохнет, лодка мгновенно осядет, провалится в распоротые волны, словно бы потеряв крылья. Невольно, будто помогая мотору, я напрягал свои мускулы.
Был прилив — час большой воды, и утонули отлогие берега, косы, низкие острова посередине залива. Мы проплывали над ними, над косяками сельди, над камбалами и медузами. Взбугривая воду, выныривали сивучи — то рядом, то чуть поодаль, — тяжко выдыхали воздух, пучили глаза, поводили усатыми собачьими мордами. Тянулись за кормой, долго не отставали, сверкая гладкими лысыми лбами.
Я вертел головой, смотрел, удивлялся, щелкал фотоаппаратом. Другим это было неинтересно: Лапенко, глядя поверх меня, вел лодку к зеленому берегу, его жена все одергивалась — не помять бы платье, даже девочка, пригнувшись к коленям, старательно переплетала свою длинную жиденькую косичку.
Меня немного злила их сонливая поморская невозмутимость; успокаивая себя, я воображал, как завертят они головами в «великом» городе — районной столице: там теперь даже газированную воду продают.
Берег рос, зеленел, и, когда лиственницы подперли вершинами небо, лодка качнула нас и уперлась носом в скрипнувшую гальку. Вылезли, по желтой глинистой тропе пошли вверх, на отлогую сопку. В ушах приглох стрекот мотора, стало слышно — поют птицы, шумит широко и зелено лес.
А вот и дома — бело, ново они светились в лиственничнике, стояли на сухих мягких мхах, как на зеленых подушках. Шиферные крыши, застекленные веранды, свежий штакетник вокруг двориков. Чисто, просторно. Ветер принес острый, спиртной запах рубленой, пиленой, тесаной древесины.
Лапенко остановился, поднял руку, дал нам настроиться на не сказанные еще им слова, проговорил, почему-то длинно вздохнув:
— Вот так жить будем.
Я понял его вздох: он как бы покорно принимал на свои плечи трудный груз, потому что в следующую минуту ему придется влезть с головой в заботы, разговоры, всякие малые и большие неприятности: поселок рос, однако не так быстро, дома строились, однако не так хорошо.
И все-таки великолепно! Новый, совсем новый деревянный рай для всего Чайво, для каждого нивха, — сказочное, обетованное млыво[6] на земле. Об этом я хотел сказать, но меня опередила жена председателя.
— Загадят, за… — проговорила она и наморщила нос. — Юколу развесят, собачек привяжут, нерпочку варить будут…
— Мам, а вон наш дом! — обрадовалась девочка, что хоть что-то может сказать. Она показала чуть в сторону — там виднелась высокая цинковая крыша.
Лапенко повернулся к ним спиной, сказал мне:
— Иди по этой тропе, выйдешь к дому с красным плакатом. Это наша контора. Я сейчас.
Они пошли прямо, я — вправо. Шел тихо, оглядывался на залив, останавливался, прислушивался к цокоту топоров, визгу пил. Одному не хотелось появляться в конторе. Потом за деревьями приглушенно залопотал поезд, затих на минуту, пошипел и снова залопотал старательно и быстро. Я прибавил шагу, вышел из лиственниц и у конторы встретился с Лапенко!
— Проводил! — сказал он, точно сделал что-то очень важное. — Беда с женским родом. Не женат? И не женись. Ну их к… Давай закурим.
Но закурить он не успел: с двух сторон к нам подошли два человека:
— А-а, — немного растерялся председатель. — Знакомься, — мотнул он мне головой. — Игнат — наш артельный бригадир. — Мне пожал руку сухонький, жесткий человек, заросший до глаз злой, седоватой щетиной. — Иван — трестовский бригадир. — Мне тряхнул руку другой маленький человек, но более медлительный и чисто выбритый.
Обменялись папиросками, все вместе закурили; бригадиры поглядывали друг на друга, наверное готовясь к перепалке, однако выказывали пока всяческое терпение и согласие.
— Хорошо, что тебя взял, — сказал Лапенко. — Может, живой останусь. Не смотри, что эти два тихонькие. Живодеры, с сапогами съедят!
Бригадиры охотно заулыбались, словно получив по медали, но когда Игнат-артельный вдруг перестал улыбаться, Иван-трестовский насторожился и даже нахмурился.
— Жаловаться потом. Сначала посмотрим. Веди к себе, Иван.
Поселок рос в обе стороны, вытягиваясь длинной улицей от берега к тайге, и по краям его работали бригады. Иван повел туда, где виднелись два сруба, а дальше, за ними, трещали и падали лиственницы. Идти было легко, хоть и обволакивал ноги мох — под ним чувствовалась твердая, горная земля. В центре поселка, около дома, буквой «г» стояла одинокая лиственница, о которой говорил председатель. Она была не очень рослая, зато крепкая и свежая, виднелась издали, и ветви ее, зачесанные ветрами с залива, походили на большой зеленый флаг.
Увидев нас, рабочие начали собираться к крайнему срубу, несли пилы, топоры, надеясь на большой перекур. Здесь были и пожилые, и совсем юнцы. Почти все бородатые: пожалуй, лень бриться, к тому же хочется немного одичать, вернувшись домой, удивить родных и знакомых. И вообще — солидности больше. Для них работа в тайге — командировка; они дорогостоящие строители и, зная это, умеют обращать на себя внимание.
Ожидался громкий разговор. Затишье означало крайнее напряжение. Лапенко подошел к срубу, облепленному бригадниками, окинул их разом и коротко, нарочито громко выкрикнул:
— Привет, герои!
Герои довольно дружно ответили и этим подогрели главного своего говоруна и бородача. Он выступил не спеша и важно, помня, что хорошая игра доставит друзьям и другое, чисто зрительное удовольствие, обхватил рукой рыжую роскошную бороду, слегка дернул ее.
— Вот, председатель, принимай меры или прощайся с нами. Сыграем «солдаты в поход» — и нету нас. Мы любим гроши и харч хороший. Ну, гроши наше дело, а харч — позволь, на твоей совести. Обещал рыбку свежую — нету, обещал солонины достать — нету. Чего еще нету? Крупы нету! На банках не потянешь. Город далеко. Твоим-то плотничкам лафа — бабы рядом. А нам ремень затягивай? Как, председатель?..
— Путина, братец, путина! — Лапенко подошел ближе к бородачу, словно желая убедиться, не валится ли тот с ног. — Понимаешь, путина. Рад бы. Задыхаюсь.
— Это нас не касается. — Бородач тоже шагнул к Лапенко. — Человек дороже селедки.
— Путина год кормит, понимаешь? — Лапенко еще придвинулся.
— А вот не понимаю! — остановился бородач.
— Тогда уезжай! — Лапенко шагнул, бородач отступил и уже из-за спины бригадников крикнул:
— Не твое дело! Своим приказывай!
Внезапное бегство бородача смутило его друзей, кто-то сказал: «Критику зажимают», — и тут выступил вперед другой бородач, с менее пышной, но более жесткой бородой.
— Хрен с ней, с рыбой! — проговорил он, словно бы примирясь. — Сами подлавливаем. Ты скажи другое: как материал твой тракторист подвозит? Своим — без сучка и задоринки, нам — дрова трухлявые. А мы соревнуемся. Можешь сразу победу своим приписать. Вот корреспондент здесь, пусть напишет про наши дела.
— Ставьте своего тракториста, — сказал Лапенко, — мой пойдет селедку ловить. Иван, где ты?
Иван-трестовский вышел из-за спины председателя. Все это время он молчал, курил, равнодушно покашливал. Так, наверное, он вел себя всегда — и тихо ему, и выгодно.
— Что же ты, Иван?
— Да мне что. Они…
— Ладно, Иван. — Лапенко, зная ловкого бригадира, не стал наседать. — Передай своему начальству мои слова. Другое дело — продукты. Тут я виноват, запарился. Приму меры.
Лапенко приподнял фуражку, показал свой конопатый мокрый лоб, улыбнулся и чуть смущенно обошел бригадников, каждому пожал руку.
— Желаю успеха, ребята! — сказал он, и мы пошли. Позади было тихо, потом негромко заговорили. Лишь один кто-то, кажется первый бородач, выкрикнул:
— Культ личности!
Снова шагали по длинной улице сияющего, но нежилого еще поселка в другой край, к морю. Дома смотрели пустыми стеклами, отражали и провожали нас. Дома — полные запаха леса, стылые, не знавшие человеческого тепла. К каждой стене, желтой, затекшей медовой смолой, хотелось притронуться, убедиться, что она настоящая, не из сказки.
Лапенко молчал, морщил лоб, что-то обдумывал, в отрешенности разводил и взмахивал руками. Он забыл обо мне, но, когда я, перепрыгивая через кочку, ткнулся ему в бок, обрадовался и сразу заговорил:
— Помнишь, жинка моя сказала — загадим поселок. Хоть она по-другому понимает, а правда: без собаки, нерпы, юколы нивх не может жить. Все к дому потащит. Вот тебе и мухи и вонь. Я вот думал сейчас, что, если хасы за поселком поставить, там рыбу сушить, собачек — в другом месте, тоже подальше, а нерпочек на берегу разделывать? Как?
— По-моему, здорово!
— Да, здоро́во и здорово. Придумал и сам испугался. Попробуй прикажи, уследи. Надо на собрании обсудить.
— Главное — старики.
— И мальчишки. Серьезно. Тут одни мальчишки поселок камбалой, бычками и прочей добычей завалят. Нерпочек палками бьют.
— Пусть школа поможет.
— Попробую, начну. Кому-нибудь надо начать.
Мы подошли к артельной бригаде, и здесь произошло то же, что и у трестовцев: люди побросали топоры и пилы, сошлись возле выведенного под крышу дома, сели на пеньки и бревна. Задымили папиросками, приготовились митинговать. В бригаде было несколько нивхов, у одного я заметил в кармане сложенный сантиметр. Одеты они в телогрейки, брезентовые штаны и кирзовые сапоги — так же, как русские мужики. Ходили чуть согнувшись, низко, по-рабочему опустив руки, садились не на корточки, а закинув нога на ногу. Пожилой нивх с жиденькими усами, тонкими ниточками свисавшими ниже подбородка, крикнул русскому:
— Васька, едрона вош, опять мой табак брал… — и дальше легко выговорил длинное ругательство.
Другие нивхи не улыбнулись и даже, наверное, не услышали его слов: они о чем-то договаривались с бригадиром, спорили, им помогали русские.
Лапенко осмотрел дом — потыкал пальцем в заделанные мхом пазы, глянул в проемы окон, постукал сапогом в стенку веранды, — вышел с другой стороны, сказал:
— Хорошо работаете.
— А получаем как?! — выкрикнул кто-то нетерпеливо, с надрывом, видно заранее приготовившись. Его поддержали — зашумели, заговорили каждый свое, кто-то ударил обухом топора о сухое звонкое бревно — оно загудело, как набат.
Игнат-артельный подступил к председателю, помялся немного, дал ему послушать «народное возмущение» и понемногу начал:
— Такое дело… Обсудили, обмозговали… Мы, значит, не трестовские, нам нет ихнего заработка, командировочных тоже… такое дело… Путина идет. Наши селедку гребут, а мы что — сивые? Посылай на путину. Заработаем — опять сюда. Дома-то подождут, а рыбка уплывает. Денежки тоже. Нивхов спроси. Такое дело…
Пожилой нивх с усами-нитками встал, быстро попыхал трубкой, вынул ее изо рта, сказал, дымя и взмахивая трубкой после каждого слова:
— Правильно. Дом в лес не побежит, чхыф[7] его не скушает.
Лапенко слушал, смотрел куда-то в сторону, на залив, терпеливо ждал. Когда затихли, спросил:
— Так. Кто еще выступать будет?
— Все, — ответил Игнат, — решай.
Глядя на залив, словно приметив там такое, от чего нельзя отвести глаз, Лапенко заговорил:
— Нет, не все. Каждый раз про то же… Да что у меня, нервы железные? — Он повернулся к рабочим, медленно сбросил на землю пиджак, засучил рукава. — Кто смелый — давай топор. Топор мне, а сам становись председателем. Кто хочет? Не хуже любого сработаю… Прошу.
Наступила неловкая тишина. Людям не хотелось шевельнуться, кашлянуть, глубоко вздохнуть. Еле слышно, душновато шумела нагретая солнцем хвоя лиственниц, рядом стучал, шелуша кору, дятел, жалобно попискивала в кусте стланика кедровка. Казалось, люди слушали тихую жизнь тайги, для этого собрались сюда.
Медленно встал пожилой нивх, медленно выбил о пенек пепел из трубки, набил свежего табака, раскурил трубку и неожиданно резко шагнул к председателю:
— Зачем так? Нехорошо так. Зачем кино делаешь? Мы тебя выбирали, сам себя снимаешь. Сам работай. Других потом выберем. Пока не надо.
— А нервы трепать надо?
— Нервы слабый, полечись. Путевку дадим.
Нивх стал курить, возмущенно отвернувшись, а Лапенко поднял и перекинул через руку пиджак. Этого будто ждали бригадники, они оживились, заговорили, стараясь заглушить в себе тишину, принялись поспешно закуривать. Лысый смешливый мужик, бригадный заводила, потихоньку вытащил кисет из кармана у нивха, все еще переживавшего свое возмущение. Тот заметил, схватился рукой за пустой карман, повернулся к лысому:
— Васка, едрона вош…
Бригада громыхнула смехом. Лапенко тоже улыбнулся, взял под руку Игната, повел к брусьям и доскам, сваленным в стороне: посмотреть, в самом ли деле у артельных лучше материал. Он тыкал пальцем доски, пинал их сапогом, дергал Игната за рукав рубашки. Вернулись молча, раздумывая. Игнат, глянув сердито на развеселившихся друзей-товарищей, скомандовал:
— Кончай шабашить!
Бригадники пошли к топорам и пилам, а лысый, вдохнув, слезливо пропел:
— Уплыла рыбка-а.
Игнат двинулся было за ними, но вернулся, спросил:
— Может, чаю попьете?
— Попьем, веди, — сказал Лапенко.
У дома, где жила бригада, нас встретила маленькая рябая баба, болезненно закрасневшаяся перед начальством. Даже не спрашивая, можно сказать, что это жена Игната: сухостью, диковатостью и еще чем-то в характере она походила на мужа. Баба была беременна, к ее ногам, держась за юбку, прижимались чумазые мальчик и девочка. Мальчишка постарше издали посматривал на нас.
Игнат буркнул что-то тихо жене, она шмыгнула в дом, и когда мы вошли за ней следом, на столе уже стояли зеленые эмалированные кружки, чайник, подтаявшее масло в чашке, хлеб и сахар. Чувствовалось, что должность бригадной кухарки приучила ее простецки готовить еду, быстро подавать на стол.
Сахар мы насыпали столовыми ложками, ими же помешивали чай. Баба стеснительно вымолвила:
— Чайных не держим, попереломали, — и ушла на кухню ворочать кастрюли.
Я осмотрел комнату. Вдоль глухой стены тянулись низкие нары с матрасами, разного цвета и свежести одеялами, на которых валялись истрепанные «Огоньки» и распухший том «Битвы в пути». Висела мандолина, на подоконнике — патефон с разбитой пластинкой. Беленая, но уже посеревшая стена была в растертых пятнах, я начал всматриваться. Лапенко повел взглядом за мной, и, прежде чем я успел окончательно догадаться, что означают эти пятна, он трахнул пустой кружкой о стол.
Игнат поперхнулся, из кухни прибежала жена.
Лапенко встал, подвел Игната к стене.
— Дом сожгу и тебя вместе. Понимаешь?..
— Такое дело…
— Какое дело? Люди еще там, а клопы переплыли! Слушай: бензином, керосином, автолом — чем хочешь — вытрави паразитов. Неделя сроку. Не сделаешь — в лес убегай!
Лапенко, красный, пошел к двери.
Через минуту мы шли с ним в сторону берега, он молчал, пыхтел и думал. Мне казалось, что он ворочает свои мысли, как прибой камни во время прилива. Я оглянулся. На крыльце стояла, положив на живот руки, жена Игната. Подумалось с жалостью о ней: она из тех русских баб, которые всегда испуганы и беременны.
Солнце уходило за лиственницы, остывало, холод смелее поднимался от залива, накрывал под деревьями мхи, его чувствовали уже ноги. Волгло, прохладно, как-то зябко пахла хвоя. Не забывалась холодная земля и длинная, нахолодившая ее зима.
Спустились под обрыв, к лодке. Она стояла на сухой гальке, а позади начинался жидкий ил (по нему ночью мы с Кавуном тащили председательский «лимузин»). Вода была еще далеко, но быстро приближалась — широкими, пенными языками натекала на ил. Вспархивали кулики, отлетали, снова садились.
Приткнувшись к борту лодки, Лапенко хмуро, исподлобья смотрел на воду. Он устал. Его тяжелые плечи опали, кисти рук вздулись жилами.
Весь день я собирался поговорить с ним о рефрижераторе, а теперь не знал, как подступиться. Надо бы легко, понемногу, однако ничего не мог придумать и решил всю осторожность вложить в свой голос.
— Что вы думаете о Мамоновой? — спросил я будто просто так.
— Стараюсь меньше думать.
— Нет, серьезно.
— Серьезно.
— Она говорит, что рефрижератор надо вызвать.
— Знаю. Это чтобы я вызвал.
— А если вместе?
— Не станет вместе, обведет. Хватка у нее мужичья. Ты вот что пойми: вызову я пароход, сниму рыбаков на погрузку — уловы упадут. Это полбеды. Беда, если рыбка — раз, и кончится. Пароход пустой уйдет, а мне за вызов тысяч тридцать на холку повесят. Понимаешь? Колхоз разорю. Меня нивхи, как чхыфа, из-за куста убьют.
— Понимаю. Но ведь ей тоже трудно. И не любят ее. А мне кажется — она просто редкая работница.
— Правильно, трудно. Насчет не любят — может быть. А я ее… знаешь, побаиваюсь. Серьезно. И еще скажу — мне бы такого заместителя… Да чего там — сам бы пошел к ней в заместители!..
— У нее завал. Помочь бы чем-то… — сказал я как можно спокойнее, не выказывая прямо-таки потрясшего меня удивления.
— Сегодня суббота? — спросил он. — Ну вот, завтра праздник черпака. Вот она и подтянется. Мои рыбаки запьют.
— В путину?
— Да. Беда наша. Боремся. Выговоры, штрафы, партбюро. Но толку пока мало. Коле Тозгуну удается своих выводить. Обещал завтра работать. Иногда Василий Чанхи своих поднимает. Посмотрим.
— Василий — брат Чанхи, поэта?
— Да.
Мы посидели еще минут десять. Неслышно подошла вода, подняла и закачала лодку.
Лапенко запустил мотор.
Вечерние размышления
Надо написать письмо матери. Я сдвинул на край стола чайник и кастрюлю, сел, положил на клочок газеты чистый лист бумаги. Начал писать:
«Здравствуй, дорогая мама! Вот уже четыре дня я живу в нивхском поселке Чайво. Нивхи — это такая северная народность. Как нанайцы на Амуре. Но и на них не очень похожи — только внешне. У нивхов свой язык, свои обычаи. Совсем недавно они были дикими, бродили по Сахалину, селились в устьях речек, ловили рыбу. Они ихтиофаги — питающиеся рыбой. Медлительные, беззаботные люди. Нивхи ловили рыбу, когда хотели есть, брали ее из рек, как из холодильника. Очень не любили припасать. Если кто-нибудь убивал сивуча, мясо раздавал сородичам, последние куски съедал сам. И голодал вместе со всеми. О нивхах в шутку говорят: «Они не имеют истории, потому что проспали ее».
А что такое история?..»
Здесь я отложил перо. Во-первых, эти «глубины» моей матери ни к чему, во-вторых, я вспомнил то, о чем думал, пока ходил с Лапенко по новому поселку. Там я тоже спросил себя: что такое история? Ответил просто — накопленная материальная и духовная культура. Правильно. Но если понятней, попроще… Я осмотрел новый, свежий, напряженный каждым бревном, каждым гвоздиком дом и сказал: история — это накопленная человеком энергия. Стал уточнять, представлять в образах. Выходило так: если человек положил камень на камень, он накопил какую-то энергию. Если построил шалаш — больше накопил, заключил ее, словно в аккумулятор, в жерди и ветки. Это, конечно, слабо напряженная энергия. Она распадется, потому что любая энергия труда, как бы ослабевая, снова переходит в материал природы. Но исчезает шалаш — остается опыт, и это уже духовная культура, точнее — частица ее. Построив деревянный дом, человек сохранил в нем энергию на много лет; воздвигнув каменный — увековечивал себя. Человек долго накапливал энергию мускулов и разума — и теперь жив, оберегаем и могуществен ею.
И мне думалось: как раз этой истории, истории труда, мало у нивхов. Они не сохранили, не могли сохранить свою энергию, рассеяли ее по диким, немилосердным просторам тайги и морских берегов.
В письме я зачеркнул слова «А что такое история?», стал писать дальше:
«Нивх жил в природе, брал у нее нужное для себя, не спрашивая, откуда все это берется. Теперь он живет в обществе, но общество для него пока та же природа. Он пришел в него со своей первобытной естественностью. Нивха нисколько не удивляет, что дети его от рождения содержатся обществом, что он сам за ту же пойманную селедку получает больше, чем рыбак в русском колхозе. Объяснить ему это трудно, почти невозможно — так же, как, скажем, убедить его в том, что в речке или озере нельзя ловить рыбу…»
И опять остановился. Нет, у меня не получалось письмо. Своей старухе матери я излагал нечто такое, чего сам еще толком не постиг. Да и зачем это матери? Ей важнее — не простыл ли я, не пью ли много водки, постиран ли мой платок и чем я питаюсь. И главное — берегу ли себя. Бедная мама! Ей надо, чтобы я жил, жил, и все. Меньше работал, больше спал, сытно ел. Зачем, для чего — ее мало интересует. В этом она первобытна и права, как нивхи.
Напишу другое письмо. Оставлю лишь начало. А дальше — про еду, носки и т. д. Но потом, сейчас у меня не получится. Моя голова трудно переваривает «пищу впечатлений», а несварение — грустная вещь. Мне надо отдохнуть.
Я ложусь на топчан, и он будто просыпается, поскрипывает, о чем-то говорит со мной. Я затихаю, и он молчит, прислушивается к моему телу, гудящему шумной кровью, насыщенному ветром, холодом, морем. Деревянные, скрещенные ноги топчана тяжко держат меня, напухшего усталостью, просят не раскачивать их. Мы понимаем друг друга — топчан и я.
Эту «игру в топчан» я завожу каждый вечер, чтобы скорей уснуть. Она отвлекает меня от всех других мыслей. Но сегодня я долго ворочаюсь. Может, потому что вечер какой-то новый, непохожий на другие вечера. На плоту не пыхтит насос, не слышно голосов, не стучат в заливе «мотодорки». Только море размеренно, гулко бьет в глухой берег, словно в шаманский бубен. Даже не воют собаки: или их накормили хорошо, или ночь теплая.
Слушаю дикий бой моря, и он понемногу переходит в сон, бьет и бьет в гулкий бубен; пахнет нерпичьим жиром, раскачивается на засаленных хасах юкола, скулят и роняют мутную слюну собаки. Аткычх-нивх бросает им сухонькой коричневой рукой живую, ярко трепещущую селедку. Дует ветер, огромный, сырой, приносит с океана разные вести, рассказывает, что к берегам снова придвинулись тающие июньские льды. Во сне я дописываю письмо матери.
«Дорогая мама! Я заехал так далеко, что дальше и некуда. Дальше — вода, а за ней Америка. Редактор послал меня в командировку, сказал: «На боевое крещение». Вот уже несколько дней я в нивхской стране, крещусь — воды-то здесь много, и холодная. Но ты не беспокойся. Я не утону, не сопьюсь, не заболею. Люди в Нивхии такие же, как и везде, даже еще добрее: им здесь трудно живется. Они не обижают меня, кормят, в кармане у меня чистый носовой платок. Дорогая мама, я вспоминаю твои оладьи по утрам и чай с вареньем вечером. В нашей тихой комнате лениво мурлычет кот и через каждые полчаса сипло бьют старинные часы. Ты говоришь — они о чем-то напоминают. Не слушай их. У меня здесь море бьет в шаманский бубен, гонит от берегов злых духов. Будь здорова, живи долго».
5
Воскресенье, 25 июня
По дому кто-то ходил — тихо, пугливо, крадучись: то будто взлетал — и шелестел воздух, то опускался на пол — и еле слышно шаркал, скользил. Вот цокнула кружка на столе, шумнул в печке огонь. А вот послышался вздох, тяжкий, человеческий. Я отодвинул одеяло, выглянул. За печкой ходила в мягких унтах-мондолках старая женщина. Лицо скуластое, темное, лоб в частых морщинах, коса за спиной туго заплетена, перевязана внизу резным сыромятным ремешком. На ней поношенное, выгоревшее и оттого серое платье, оно свешивалось с ее худых плеч, почти не касаясь тела, и я удивился черной, молодой косе женщины.
Пахло жареной рыбой, свежим хлебом, сивучьим мясом. На столе сушились помытые и перевернутые чашки, сияла кастрюля, на печке насвистывал длинную нивхскую песню горячий чайник. Мне захотелось окликнуть женщину, сказать ей «Доброе утро!», но, подумав, что она испугается, да и по-русски едва ли умеет говорить, решил не задевать ее.
Подбросив в печку дров, она взяла в обе руки большой веник из свежих веток, принялась мести пол; не очень умело — с углов к середине, поднимала и стряхивала веник, и в доме пахло зеленой хвоей. Собрала на ладонь мусор, бросила в огонь и следом сунула в печку веник. Ветки вспыхнули красно, с шумом, запахло горячей смолой.
Женщина подождала — огонь успокоился, оглядела стол, помыслила о чем-то; быстро повернувшись, осторожно пошла к двери. Чуть дохнула дверь, и сразу стихло — точно нивха за порогом поднялась в воздух.
Полежав еще немного, я спрыгнул на пол — топчан коротко скрипнул, сказав мне спасибо, и замер, уснул до вечера. Я вышел за печку, помахал руками, размял ноги, увидел в ведре чистую холодную воду — и… начал жить. Надо сразу взять темп: быстро умылся, натянул штаны и рубашку, схватил чайник с печки, перекидывая его из руки в руку, понес к столу. Сейчас напьюсь, наглотаюсь кипятку…
И тут — топот за дверью, стук кулаком и радостный голос, после которого человек обычно не ждет разрешения войти.
— Можна-а?
Расшатываясь, стараясь попасть в проем двери, порог перешагнул Кавун. Он улыбался, его беспокойные морщины, казалось, не кончались на щеках, лучики шли дальше и сияли вокруг лица. Двумя ладонями он обхватил и подергал к себе мою руку, вынул из кармана полбутылки спирта, широко, с громким стуком поставил на стол:
— Тебе… Вот! Ты меня угощал!
— Что ты, Кавун! Я утром не могу…
— Нет, друг — может. Все может, понимаешь?.. У тебя закуска, смотри какой — сивуч!
Кавун налил спирта в мой стакан, приготовленный для чая, себе плеснул в кружку:
— Сегодня гуляю, понимаешь?..
— А другие?
— Другие гуляют, а еще другие, дураки, работают.
Кавун откинулся к стене, бросил ногу на ногу, швырнул на стол новенькую фетровую шляпу. Он был похож на загулявшего деревенского парня в городском ресторане.
— Тозгун работает? — спросил я.
— Как же. Он комсомолец.
— Скажи, Кавун, что такое праздник черпака?
— Пей, тогда скажу. — Он пододвинул мне стакан.
Я отпил глоток, отдышался, глотнул воды и утер слезы.
— Молодец. Слушай, скажу. Черпак — ковшик. Понял? Ой, смешной какой, русский, а не понимает! Ха-ха!
— Почему черпака?
— Вот смешной! Ты в Чир-Унвде был на речке Тымь? Там нивхи живут. Жалко, что не был. Поезжай, узнаешь. Там кету нивхи ловят для еды. Приезжим нельзя. А кушать всем надо. Приехал кто покушать — черпак, говорит нивх. Бутылка, значит. Выливай бутылку — полный ковшик. Рыбка пошла — праздник черпака.
— Это же плохо, Кавун.
— Чиво плоха? Хорошо. Рыбка-то вся нивхский. Хочем — сами кушаем, хочем — вам даем.
Кавун поднял мой стакан, сунул мне в руку, отхлебнул из кружки.
— Пей, если друг! Тогда еще расскажу. Тебе интересно.
Я попробовал — на этот раз глоток получился куцый, колючий, и пришлось больше выпить воды. Кавун достал из чашки теплое, пахучее сивучье мясо, отрезал, чуть пожевав, проглотил, изобразил на лице удовольствие, чмокнул губами и другой кусок подал мне. Мясо было черно-красное, у кости чуть зеленоватое, пахло жиром, но, когда я откусил и стал жевать, запах пропал.
— Он только в руке пахнет, — сказал Кавун. — Кушай нивхский еда, нивха любить будешь.
— Расскажи, Кавун.
— Теперь могу. Слушай. Приехал настук. Тебе интересно. Корреспонденты любят.
— Что это — настук?
— Старик. Нгастур будет рассказывать. Сказку. Как нивхи давно жили. Пойдешь слушать?
— Пойду. Спасибо, Кавун.
— Вечером приходи. Днем настук молчит, думает, чай пьет. Трогать нельзя, сказка не получится.
— Хорошо.
— Выпей еще.
— Не могу, Кавун.
— Тогда не обижайся. — Он допил из кружки, встал, косо накинул шляпу, посмотрел на бутылку и сунул ее в карман. — Пойду других угощать… Не обижайся, ладно?
Он ушел, покачавшись у двери, а я несколько минут сидел и прислушивался к тому, как бродил во мне спирт, жег пустой желудок, нагревал и сушил кровь. Потом выпил подряд три стакана густого, горячего чая — заглушил алкоголь, — натянул сапоги, сел около печки, покурил, глядя на огонь.
«Надо идти», — сказал себе.
«Куда?»
«На плот, — ответил себе, — куда же еще?»
Плот — центр, голова, сердце — то, ради чего живут здесь люди. На плоту можешь увидеть любого жителя села, узнать новости, сельские сплетни. На плоту можешь влюбиться, назначить свидание, наконец броситься вниз головой в чайвинское течение, если придет такая нужда. С плота уходят рыбаки на ближние и дальние тони, сюда привозят свежую рыбу и отсюда увозят соленую. На плоту начинают жить приехавшие и прощаются с поселком навсегда уезжающие. Отсюда уходят в странствия письма. Здесь каждому есть место, никто не лишний. Здесь всегда мальчишки — самый шустрый и практичный народец; и ветер, солнце, туман и соленые брызги — все, чем богат безвестный на земле Чайвинский залив.
«На плот», — сказал я себе.
Вышел, вместо замка запер дверь на палочку — знак, что жильца гостиницы нет в номере, огляделся, понюхал, чем пахнет небо и земля, решил: как всегда — морем, и по гибким, вымытым дождем доскам тротуара зашагал к заливу.
На плоту было тихо и пусто. Непривычно. На левом приплотике две девушки-нивхи перебирали селедку, на правом — рыбачили мальчишки. Не работал насос, не стучали вагонетки. Я спросил девушек, быстро глянувших на меня и по женской нивхской привычке опустивших головы:
— Чья рыба?
— Тозгуна, — разом ответили они.
— А Чанхи рыбачит?
— Нет.
— Почему — не знаете?
— Не знаем.
Я постоял, соображая, куда бы направить свои стопы, и услышал: напряженно, глухо-утробно работал засольный цех. Он, словно огромный желудок, ворочал, переливал, переваривал рыбу. Я пошел к его темному, урчащему жерлу. У самого входа столкнулся с Димой, засольным мастером. Дима улыбнулся мне улыбкой «люби меня», сказал:
— Холодно в цехе, замерз. — Он взял меня под руку, будто мы успели задушевно подружиться. — Пойдем на солнышко, погреемся, покурим.
Сели на перевернутые и обсохшие селедочные носилки, вежливо обменялись папиросками. Белые худые руки Димы тряслись, он поднял и свел плечи под серым городским пиджаком, как кулик на дожде, но губы все равно ласково кривились: папироске, чайкам, воде, мальчишкам на приплоте, мне — всему, на что переводил свой взгляд Дима.
— Трудно? — спросил я.
— Как сказать… — Дима развел, подержал перед собой руки и, словно вспомнив о своей привычке, замахал ими. — Не то чтобы очень. За день-то ничего, а если ночь прихватишь — науродуешься. Иной раз как карла горбатый ходишь. Сезонники — народ вместо сердца копейка, чуть отвернись — за рублем погонятся. Такую кашу из рыбы замесят. Да и рыбаки наши не теряются, смотри во все четыре. А девчата — тьфу!..
— Что девчата?
— Знаешь, я все-таки из города, умею с девочкой поговорить, а тут — ты ей слово, она — десять, да еще про матушку вспомнит, глазки состроит: «Знаю, чего добиваешься. Приходи, Димочка, ждать буду». Сначала мне нравилось… Хочешь, тебя с одной познакомлю, девочка что надо? — Дима сказал это с такой надеждой и так поспешно, что я понял: ему хочется освободиться от чего-то не очень приятного.
— Не хочу.
— Почему? — обиделся Дима.
— Морально устойчив.
— А-а. Я — тоже. Вот без Мамоновой плохо. Когда она…
— Где же она?
— Отдыхает. Уговорили. Сегодня день легкий. А то не спит, не ест, одной идейностью живет: работа — и все. Смотрю, чернеет баба, только глазами существует. А раз стояла, покачнулась и к чану привалилась. Нет, думаю, надо повлиять на человека. Девчатам рассказал, собрание маленькое устроили. Уговорили.
— Сегодня подберете рыбку?
— Да. Черпак помог.
Под высокими столбами плота гудела вода — она быстро опадала, отлив вытягивал ее в море, и течение усиливалось, точно разгонялось под гору. Посреди залива уже обсыхали песчаные острова, желтели, белели пятнами. От одного, еще мокрого, отошла «мотодорка» с вереницей рыбниц, направилась к плоту.
— Тозгун едет, — сказал Дима, часто попыхивая папироской, и встал. — Ну, пойду. Как бы там мои труженицы… — Он одарил меня своей улыбкой — ни за что, просто так, и пошел, втянув голову в куличиные плечи, хлипко перебирая ногами в узких штанах.
Кто-то дернул меня сзади за рукав, я повернулся — Гриша. Вспомнил, что он давно уже посматривал и подбирался ко мне, но выжидал, когда останусь один. Догадался — принес записку от Тамарки.
— Давай.
Гриша запустил руку за рубашку — бедняга, у него, наверное, были продраны все карманы, — вытащил бумажку. Я прочитал: «Почему не заходите в магазин? Чем питаетесь? Очень даже случилась глупая история. Я не виноватая. Заходите поговорить». На обороте бумажки я написал: «Благодарю заботу. Очень занят. Привет». Сунул Грише:
— Передай телеграмму.
— Можно завтра? — спросил Гриша. — Рыба хорошо клюет.
— Можно.
«Мотодорка», чадя и стреляя дымом, подчалила к плоту, рыбницы, до краев залитые селедкой, притерлись к сваям. Селедка трепетала, вспрыгивала и плюхалась в воду. Бросили веревки, закрепились, крича и матерясь. «Мотодорка» пошла в сторону, легко вскидывая борта на стремительных бурунах. Рыбаки начали договариваться, кому выбрасывать рыбу, смеялись, переругивались, слышался голос Коли Тозгуна. Потом он в один мах выпрыгнул на плот.
Коля был разгорячен, быстр — в том состоянии, когда ему нужно сейчас же что-нибудь делать, куда-то идти, — его темные, обдутые ветром скулы розовели, из-под куртки виднелась тельняшка — чисто, броско; сапоги подняты до пояса, мокрые, яркочешуйчатые; в руке — мятая панама. Он увидел меня, крикнул:
— Здоров, корр!
Подошел, сильно и с удовольствием потряс мне руку, распахнул куртку, опустил голенища сапог и немного успокоился.
— Настук приехал, знаешь?
— Знаю.
— Пойдешь слушать?
— Пойду.
— Хорошо. Я тоже с тобой пойду. Сначала пообедаем, ладно? Валька дома была, что-нибудь, однако, приготовила. Пойдем?
Позади нас хлестко шлепнулась на доски плота и растеклась сияющей лужей селедка. Еще шлепок — и шире лужа. Потом — чаще, глуше, тяжелее. Рыба, полууснувшая, но растревоженная, мелко трепетала, сорила чешуей, плескалась, и чудилось, шел крупный, ветреный дождь. Запустили водонасос, он шумнул, фыркнул и, настроившись на сочный ровный гул, покрыл все другие звуки. Из засольного цеха, сильно вытолкнутые, сами катились, громыхали вагонетки.
Рыба прибыла!
От поселка потянулись девушки в перчатках и брезентовых фартуках; рыбаки из других бригад, самые нетерпеливые, тоже явились на плот — посмотреть, «сколько и какую» поймал Тозгун. Приковылял Кавун в крепком подпитии, хотел стать к весам, его не подпустили. На крыльцо конторы вышел Лапенко, заложил руки в карманы плаща, поглядывал в сторону плота — ему и оттуда видно было, как здесь идут дела. Да и улов — больше «показательный».
Коля Тозгун никому ничего не сказал. Я уже заметил: нивхи не любят «читать нотаций», поучать и больше всего — говорить о других плохо. До этого опускается лишь последний пьянчуга. Так они, может быть, берегут себя или просто стыдятся своих слабостей, не хотят прибавлять к ним многословие — большой грех для нивха. Не знаю. Мне очень хотелось поговорить с Колей Тозгуном о сегодняшнем дне, о его бригаде, о других рыбаках, но я не знал, с чего начать. Когда проходили мимо магазина, где на ступеньках крыльца сидели два нивха и, обнявшись, напевали «Подмосковные вечера», я кивнул в их сторону, проговорил:
— Отдыхают люди.
Тозгун отвернулся, зашагал быстрее и лишь у своего дома, вспомнив, что не ответил мне, сказал:
— Отдыхать все любят, нерпа и то на берег выползает.
— Почему ты работал?
Он промолчал — мы вошли в дом. В первой половине была кухня, дальше — комната. У печки стояла Валька, у нее что-то жарилось, булькало, пыхтело. Рядом, пригнувшись к низкому столику, постукивала чашками пожилая нивха.
— Можно к вам? — сказал Коля, топая и шоркая ногами о половик: так он сообщал хозяйке, что пришел не один.
Валька повернулась, запылала щеками, подхватила край цветастого фартука, закрыла лицо. На ней было легкое платье, капроновые чулки, новые туфли, а на каблуках — белые накаблучники. Голова обвязана шелковым платочком, как у куклы-матрешки.
— Русская баба, правда? — Коля снимал куртку, стягивал сапоги. — Знакомьтесь.
Валька пожала мне руку и ушла к печке.
— А вот моя ымк, мама!
Повернулась женщина — пока ее не окликнули, она стояла спиной, мыла чашки, — и я узнал в ней пожилую нивху, которая утром хозяйничала у меня в гостинице. На минуту растерялся, соображая, как поступить: сказать, что я знаю ее? Поблагодарить? Или… Да, лучше промолчать, решил я: все, что делается в этом поселке, мало походит на привычную мне жизнь, и главное здесь — меньше расспрашивать и суетиться.
Женщина, не подняв головы, пожала мне руку.
В комнате Тозгун пододвинул мне стул, снял с книжной этажерки пачку «Огоньков» и «Крокодилов», бросил передо мной на круглый, застланный дорогой зеленой скатертью стол:
— Читай.
Он переодевался за тюлевой ширмой у кровати, а я осматривал комнату. Здесь все было подчеркнуто по-русски. На окошках герань в горшках, в рамках под стеклами — мутные фотографии: голопузые дети, девушка у фонтана, военный в фуражке грибом, рыбаки с неводом. Рукодельные вышивки; приемник с салфеткой; и во всю стену — высокая никелированная, пружинная кровать; на ней розовое покрывало, бархатные думки, пухлые пуховые подушки под тюлевыми накидками. В комнате пахло помадой, пудрой и одеколоном «Шипр». И только под ногами, в половину пола, лежал необычный, лохматый, темно-бурый ковер — медвежья шкура.
— Хорош чхыф!
— Я убил, — сказал Тозгун, садясь на стул против меня. Он был в тугом сером свитере, легких спортивных брюках — это шло к его суховатой фигуре, смуглой коже и черным волосам. — Медвежонка еще поймал, — прибавил Коля. — Теперь у моего деда, Навазги, живет. Третий год. Скоро, однако, аткычх праздник медведя справлять будет.
— Очень интересно, да?
— Интересно. Все по-старому старики делают. Володя Чанхи в стойбище Лунво ездил, там праздник смотрел, потом в газете напечатал. Хочешь почитать? — Тозгун потянулся к этажерке, достал газету. — Возьми, почитай. Потом захочешь сам приехать.
Вошла Валька — все еще смущенная и от этого совсем девочка, — убрала журналы, накинула на скатерть клеенку. Через минуту принесла хлеб, две большие, жирные очищенные селедки, две тарелки горячего супа, не поднимая головы, что-то сказала Тозгуну.
— Водку будем пить? — спросил меня Коля.
— Не знаю. Как ты?
— Я — нет. Только гостей угощаю.
— Мне тоже не надо.
— Хорошо. Давай кушать. — Он взял одну селедку, другую пододвинул к моей тарелке. — Ешь всю, не бойся. Она — как масло.
— Почему хозяйки с нами не обедают?
— Говорят, обедали. Стесняются. Старая нивхская привычка — сначала мужчин кормят. Ладно. Все равно не придут.
Я не предполагал, что можно сразу съесть такую селедку — она чуть подсолена, мягкая, аппетитно сочная. Кости легко отделялись, мясо жирно растворялось во рту, насыщало, и хотелось еще и еще этой сырой мякоти — древней пищи человека. Тозгун тоже съел всю селедку, глянул на меня, засмеялся:
— Хватит. Пробуй суп.
Суп напоминал русские щи, но был острее, пахучее: из молодой рубленой черемши, сивучьей печенки и каких-то корешков, похожих на недоваренную картошку. Черемша сильно отдавала чесноком, корешки обжигали рот, печенка попахивала жиром. Суп я тоже съел.
Валька принесла и поставила на середину стола большую чашку с чем-то студенистым, застывшим, как холодец.
— Мос, — сказал Тозгун, — самая вкусная наша еда.
Принялись есть мос… Это — холодец из рыбьей кожи и хрящей, сушеных ягод и кореньев. Приправа — теплый нерпичий жир. Его надо наливать из стеклянной банки, по вкусу. Я ел без жира, трудно выношу его запах, а Тозгун подливал к своему краю, размешивал и полные ложки отправлял в рот. Мос ему нравился, он жмурился от удовольствия, причмокивал, у него жирно лоснились губы и подбородок.
— Зачем пить, когда такая еда? — говорил он. — Только еду портить. После выпивки совсем непонятно, чего ешь. Знаешь, такое дело было… Рыбаки, которые из других бригад, говорят: тебе хорошо, Тозгун, ты черпак не любишь, всегда первый на тоню выходишь. Я им говорю: пить буду, все равно первый выйду. Давай попробуем, говорят. Давай. В субботу вместе пили — в воскресенье я один на тоню выехал и мои ребята. Другие забыли, голова болела. У меня тоже в голове черти сидели, водой, ветром их выгнал. Теперь молчат нивхи, не пью — все равно молчат.
— А праздник черпака продолжается?
— Ты в Южный поедешь?
— Поеду.
— С Володей Чанхи познакомься. Он тебе про нивхов расскажет. Он лучше меня знает. Тогда все понятно будет. Я не могу так рассказать. Мы думаем о черпаке, бороться будем. Только трудно. Нивхи любят выпить. Любят долго курить, крепкий чай пить. У Володи стихи написаны. Я запомнил. Хочешь расскажу?
— Расскажи.
— Слушай.
Каждый нивх — охотник, рыбак — Любит водку, чай и табак, Но сказать не спеши ему: «Ай, как плохо!» Спроси — почему? Нивх радости мало видал, Сколько жил — всегда голодал. Много мерз. И на сердце лед Он теперь горячее льет.Понимаешь, нивх стал хорошо жить. А ему еще лучше надо. Скорей надо, за всех своих предков. Он водкой добавляет. Так я стихи понимаю. Так Володя говорил. А нивх не понимает…
Валька принесла в кружках пылающий огнем, густо-коричневый чай.
— Видишь, я тоже такой чай пью. Почему — не знаю.
Тозгун глотал огненный, дымный кипяток, смигивал слезы, длинно втягивал в себя воздух. Я заразился его жадностью, сам хватал чай, стараясь не отстать, глаза у меня заплывали мутью, и мне казалось, что я пьянею.
Тозгун запрокинул кружку, втянул последний глоток, глянул на часы.
— Скоро нгастур начнется, пойдем.
Прошли по кухне, женщины повернулись к нам, стояли около горячей печки и чуть-чуть, для себя, улыбались: они были довольны, потому что довольными сделали нас.
На дворе смеркалось — как всегда, от тумана и облаков. Сеялась стылая морось, с нею шел с океана холод — темный, сырой, пахнущий медузами и гнилыми водорослями. В домах оживали окна, желтели сквозь морось, и к ним, словно к теплу, жались собаки.
Мы перешли через улицу, нагнувшись, протиснулись в душные теплые сени. Коля Тозгун, не стучась, толкнул дверь. Переступили порог и оказались в просторной, во весь дом, комнате. Здесь собралось много народу, воздух горчил от табачного дыма, сразу трудно было что-нибудь разглядеть. Тозгун провел меня по узкому проходу, попросил кого-то подвинуться, и мы сели рядом.
Я начал понемногу осматриваться. Дом большой, без перегородок, хотя когда-то перегородки были — от них остались у стен незабеленные доски. Кирпичная печь-плита жарко топилась, над ней покачивалась копченая рыба. Под потолком висела лампочка. Свет шел к четырем стенам, в углах слабел, и там, будто отогнанная, держалась тьма. В доме высокая железная кровать, фотографии под стеклом, приемник, книги на тумбочке, гармошка — все, что можно увидеть в любом нивхском доме; но было и другое: низкие нары вдоль стен, застланные нерпичьими и собачьими шкурами, зажиренные столбики для выделки кож, юкола над печкой и сама печка — как очаг посреди дома; и это напоминало тораф, старинное нивхское жилище.
Люди сидели где кто мог: на нарах, подвернув под себя ноги, табуретках, кровати, просто на полу — старики, пожилые нивхи, несколько старух; молодые ребята и девушки топтались у двери, входили и выходили. И все курили, делясь папиросами, передавая друг другу трубки, чудилось, вот-вот дым подопрет потолок, подымет дом и, словно накачанный шар, оторвет от земли. Никто не говорил громко, слышался кашель и похрипывание трубок.
Я увидел настука: маленький старичок, светлокожий, с редкими седыми волосами (у нивхов это бывает не часто), — он тихо сидел в углу на нарах, на мягкой рыжей собачьей шкуре, скрестив худые ноги и положив руки на колени. Он показался мне знакомым. Одет настук был неожиданно просто: в теплую клетчатую рубаху, суконные штаны, и лишь на ногах, как сапожки, — сморщенные нерпичьи унты, скупо украшенные желтым орнаментом. Свет как-то странно, пятном, падал в угол, где сидел настук, и старичок был четко виден, точно нарисованный, а дым, колеблемый дыханием людей, делал его легким, призрачным, приподнимал, и он сидел на лохматой шкуре, как на рыжем облаке.
Настук курил, прикрыв глаза, и все курили, поглядывая на него. Он словно бы дирижировал немым оркестром трубок, исполняя какой-то обряд или просто настраивая слушателей, испытывая их терпение.
И это длилось и длилось, и казалось — не будет молчанию конца. Дым плотнел, теперь уже забив запахи жира, шкур и рыбы, и сначала старики, а потом все, кто сидел в доме, сделались призрачными, бесплотными, — наверное, у меня кружилась голова. Еще через несколько минут прошел легкий шум — настук подал рукой знак, кто-то по-русски сказал «тише», и старичок, вынув изо рта трубку и держа ее перед лицом, забормотал быстро, неровно, словно был чем-то недоволен. Голос его мне показался тоже знакомым.
Замер дым, стал слышен огонь в печи — протяжный, дико подвывающий, — и настук повысил голос, заговорил речитативом, будто нанизывая слова на какую-то длинную, никому не видимую нитку, а иногда так растягивал звуки «х’ымдифкэ-э, х’ахар…», что это напоминало пение. Он не поднимал головы и не открывал глаз, он прислушивался к себе, смотрел в себя — оттуда исходили слова, сами, рождаясь из памяти длинной жизни, — он должен точно передать их, и его вовсе не касалось, как их примут, понравятся ли они. Старичок, все больше уходя в себя, начал слегка раскачиваться, из опущенной на колено руки выпала потухшая трубка.
— Нгастур, сказка, — шепнул мне Коля Тозгун, — потом расскажу.
А мне думалось, что я и сам уже понимаю. Гортанные выкрики — погоня за зверем, короткие замирания — броски копья или выстрелы из лука, плавные звуки — бег охотника на лыжах, шипенье, чуфыканье — голос огня, друга и хранителя нивха. Повторяются слова «Пал-ызн», «Тол-ызн» — это боги гор и моря, повелители живых существ. Они помогают, но чаще оставляют в беде человека, и ему нужно самому бороться и побеждать злых духов «уньрков», которыми густо населены леса и воды. И человек побеждает, он давно умер бы, если бы не побеждал. Вот уже слышно имя человека — Киркук, оно повторяется часто, по-разному — резко и твердо, мягко и с замиранием: Киркук, Киркук… Вот называет это имя в сказке женщина, и снова растянутые звуки «х’ымдифкэ-э, х’ахара…».
Я понимаю, все сказки в мире похожи.
Настук заплывает дымом, он был уже плохо виден в своем углу, словно отдалялся, уходил в прошлое, и оттуда, из нивхского прошлого, слышался его голос. Он говорил и говорил, голос его плотнее наполнял воздух, затягивал в себя, обволакивал звуками, и это было похоже на шаманство.
Я очнулся от легкого толчка.
— Пойдем, — шепнул Коля Тозгун.
Свежий воздух ударил в лицо, как мороз зимой, когда выйдешь из теплого помещения. Надо остановиться и привыкнуть. Был поздний, обычный вечер — небо в облаках и вся земля в сырости. Море шипело со всех сторон, сочило ветер на берега. Выли собаки. Я оглянулся: из окон дома, в щели, струйками вытекал дым.
— Слушай, Коля, этот старичок похож на твоего деда Навазгу.
— Это и есть он. Не узнал?
— А как же говорили: настук приехал?
— Это шутили — приехал. Раньше приезжал.
— До утра говорить будет?
— Угадал.
— А на работу как?
— Ничего, придет. Он крепкий аткычх. Ты знаешь, что он рассказывал?
— Про Киркука.
— Правильно. Молодец. Про Киркука и чертей. Сейчас другую сказку рассказывает — почему на земле нивхов мало. Там так. Морской старик Тайхнгад, сотворитель живых существ, когда-то давно собрал зверей, птиц и рыб — по одному от каждых, — и только женского рода собрал, спросил: сколько кто хочет иметь детей. От людей попала одна молодая женщина. Всех спросил Тайхнгад, все захотели много детей. Спрашивает женщину: сколько тебе детей? Она молчит, стесняется сказать. Еще раз спрашивает — молчит. Рассердился старик и сказал: одного хватит, если молчишь. Вот как дело было…
— Интересно. А нивхи верят в это?
— Думаю, нет. Может, старики…
Мы подошли к дому Тозгуна, в окнах еще горел свет, за тюлевыми занавесками ходила Валька, тень бесплотно двигалась, замирала, будто прислушиваясь, Валька остановилась у зеркала, подняла руки к волосам, стала причесываться. Ее силуэт был не просто женским, а женским по-северному, до малейших черточек нивхским.
— Пойдем, выпьем чаю?
— Нет, поздно.
— Ну, бывай!
Я подержал руку Коли Тозгуна, тряхнул, словно отрываясь, и пошел к себе.
Вечерние размышления
У меня топилась печь, сонно посапывал чайник, пахло стланиковым веником. Можно было думать, молчать. Но от усталости, множества впечатлений мысли расплывались как в тумане. Я улегся спать. И потом, уже согревшись под одеялом, припомнил стихи Володи Чанхи. Увидел его в Южном, на вечере поэтов, пожалел, что не познакомился: теперь бы я лучше понимал нивхов. А может, и нет. Чанхи — осторожен, скуп на слова; северяне охотно знакомятся, однако долго выбирают друзей. При случае все-таки попробую поговорить. Ведь только два нивха пока могут рассказать о своем народе — этнограф Паксами и Володя Чанхи: один разгадает легенды и найдет нивху место в истории, другой — поселит нивха в стихах и прозе. Я читал книги северян о северянах. И нередко они смахивали на сочинения наезжих литераторов: не хватало колорита, натуры, не было того истинного духа, который и делает живым героя, народ. Почему? Может, теряют писатели-северяне, пожив в городах, природную суть или не хотят, не умеют сказать свою, «северную», правду? Легче скользить по тихой глади экзотики. Вот и нет второго Плеуна, второго Дерсу Узала… И сейчас, думая обо всем этом, я как бы говорил Володе Чанхи: напиши о нивхах, об их старой и новой жизни, о самом себе — так, чтобы сыро и звучно зашумело море, затрясся стланик-лежебока на соленом ветру, пробились сквозь водные и таежные дали застуженные голоса рыбаков, бешено вспенила перекаты рыба, закачалась на хасах душная юкола. А она уже закачалась и… «ловит негорячее тепло».
6
Понедельник, 26 июня
Я зашел в магазин купить папирос. Здесь было пусто. Тамарка, положив грудь на прилавок и подперев ладонями щеки, болтала с двумя женщинами. Та, что постарше, держала за руку чисто одетого мальчика — он извивался и хныкал. Мальчик дебел, розов, и я догадался: Тамаркин сын, Петька, наш ночной «сотоварищ», а женщина — няня. Тамарка, конечно, не станет водить своего ребенка в детсад, «воспитывать» вместе с нивхскими ребятишками. Я поздоровался и попросил папирос.
Женщины повернулись ко мне. Тамарка заулыбалась, Петька перестал хныкать, с интересом и ревностью уставился на меня: неужели я заслуживаю при его, Петькином, присутствии какого-то внимания? Я решил наказать Петьку; не заметив его, прошел мимо. Петька заорал. Моя «гордость» не понравилась и Тамарке, она сказала:
— Познакомьтесь, это мой сынуля.
— Очень приятно, — ответил я, едва глянув на Петьку.
Сынуля начал буйствовать, терзать платье няни, и женщина повела его к двери. Ее подруга заторопилась следом. Схватив с вазы на витрине большой мятный пряник, я сунул его в руку Петьке. Он сразу затих, позволил вывести себя из магазина и там, вырвав свою руку у няни, припал всей белой физиономией к окошку. Убедившись, что я такой же, как и все другие на земле, и не прикасаюсь к его мамочке, Петька спокойно пошел прогуливаться по улице.
А нам сделалось неловко как-то — нас намеренно оставили вдвоем. Мне подумалось: не разыгрывает ли Тамарка этот «роман», чтобы кому-то что-то доказать? Она вспомнила о папиросах, положила на прилавок две пачки «Прибоя», мы поспорили немного — платить или не платить мне за пряник, — и говорить стало не о чем. Очень не хотелось вспоминать вечер — трудно было найти нужный тон; в душе я просил Тамарку не заговаривать об этом. Она промолчала, и я почти легко сказал ей:
— До свидания!
— Заходите! — крикнула она в дверь.
Оказавшись под солнцем, я пережил такое ощущение, будто только что выбрался откуда-то снизу, где немножко промерз. А солнце сегодня в самом деле светило, и даже слегка грело. Оно было молодое, неустоявшееся, капризное: чуть что — спрячется за облако, да еще заплачет.
Ну что же, решил я, старого солнца здесь не бывает, оно на юге. Надо любить это. Значит — куда-то идти, что-то делать, жить под солнцем. Я направился к плоту. Мне нужно как-нибудь уехать в бригаду Василия Чанхи — не побыть у рыбака, о котором нивхи говорят: «У него нос рыбу ловит», я не мог. Последние три года его бригада брала большие уловы. Василий Чанхи сам выбирает тони, меняет место стоянок, кочует по Чайвинскому заливу. Сейчас он где-то в устье, около моря, километрах в десяти от поселка, и его рыбаки не каждый день приезжают домой.
Издали я увидел председателя. Лапенко прохаживался у самых крайних досок плота, расстегнув плащ и закинув за спину руки. Он наверняка собрался куда-то, ждал лодку. За его спиной было затишье, спад после вчерашнего праздника черпака. Возле двух небольших ворохов рыбы копошились, явно бездельничая, девушки. Кавун вдумчиво и дымно курил, примостившись на ящике у весов (он был тосклив — в голове сидели уньрки), не двигались вагонетки, и лишь засольный цех клокотал и шипел водой, торопился подобрать, переварить рыбу. Мне хотелось увидеть лицо председателя: как он переживает все это? Пожалуй, начнет сдвигать желтые брови, откидывать со лба фуражку, вздыхать, брезгливо кривя рот.
Я подошел и ничего такого не приметил. Даже немного обиделся на Лапенко: щеки у него были побритые, свежее лицо — сонновато и чуть скучающе. Казалось, он только что спал, его разбудили, куда-то вызвали, он рассердился, но пошел и теперь вот ходит здесь и скучает. Глянув на меня, Лапенко, ничуть не оживившись, сказал:
— А-а. Ну, как?..
— Ничего, — ответил я, не зная, что означает «как».
— Порядок.
— Хочу к Чанхи попасть.
— К Чанхи? — Лапенко задумался, что-то прикидывая, покрутил головой. — Знаешь, давай завтра. Я вот к соседям поеду, надо горючего перехватить. Выдохлись. Лодка одна. «Мотодорка» вечером пойдет за рыбой. Не получается.
Меня будто легонько толкнули — я так настроился ехать! — или, еще точнее, плеснули за шиворот горсть холодной воды. А как же солнце! Как я буду сегодня «любить» его? Конечно, про солнце я ничего не сказал, однако заметно поежился, и Лапенко, смеясь, проговорил:
— Понимаю: корреспондентам обязан содействовать. Но сейчас никак. Завтра поедем, вместе. Идет? Или на ночь поезжай…
— А день?
— Да, день… — Лапенко снова задумался, посмотрел скучающе на залив и быстро повернул ко мне голову: — Вот что. Возьми мальчишек, пойди с ними по косе к морю. Посмотри нашу природу. Не пожалеешь. Серьезно. Я сам люблю с ружьишком, когда время есть… А то так и уедешь…
Это уже интересно: появлялась цель, какое-то дело. Вдруг вспомнилось: а ведь я думал — пойти к морю. Жаль будет уехать «так». Почувствовал, что за шиворотом у меня высыхает вода.
— Пожалуй, пойду.
— Ну!
Я спустился на приплоток, где кричали ребята, ловили бычков и камбал. Здесь были и Гришка с Митькой. Они подошли ко мне, бросив удочки: рыбалка тоже надоедает, если весь день торчать у воды, а тут городской человек с фотоаппаратом «Космос», хороший знакомый и ничуть не задается. Мальчишки — эгоистичный народ, в стремлении возвыситься над ближним они используют любой удобный случай. Гришка, по праву «приближенного», поднял в руке фотоаппарат и попробовал на вес.
— Ого! — охнул он и расплылся в такой широчайшей улыбке, что на лице остался один сияющий рот, все другое расплылось, уничтожилось, как вовсе ненужное.
Мальчишки покраснели, зашмыгали носами. Самые гордые не выдержали, отвернулись к удочкам. Я понял: нельзя прямо сказать Гришке и Митьке — пойдем к морю. Потянутся все. Отказать же кому-нибудь — увидеть жутко обиженную мордашку, испортить себе настроение. Я пошел на плот, за мной потянулись Гришка и Митька: они чувствовали «что-то такое». Не оборачиваясь, я проговорил:
— Хочу пойти к морю.
— И мы! — первым сказал Митька: его беспокоила непонятная Гришкина близость ко мне.
— Ну вот что: встретимся за поселком, вон у того крайнего дома.
Гришка и Митька зайцами, чуть пригнувшись, — вот уж маскировка! — перебежали плот, скрылись за первым забором.
Лапенко уселся в лодку, завел мотор и, остро, с треском взрезывая тихую воду, начал удаляться, распластывая залив на два огромных солнечных куска. Лодка под ним исчезла, как бы ушла в воду, но спина его с открытым капюшоном плаща — горбатая, грубо напряженная — еще долго раздвигала воду. Потом стал виден лишь темный, пылающий в мареве клин потревоженной воды, и я отвернулся к поселку.
У крайнего дома, за которым начиналась тундра с низким, плотным кедровым стлаником, меня ждали ребята. Гриша держал в руке брезентовую сумку, затянутую кожаным ремешком, — из нее пахло хлебом и сивучьим мясом, — Митя перекинул через плечо две короткие удочки без поплавков, с плоскими кусками свинца на концах толстых лесок. Оба они были в легких резиновых сапогах: лучшая обувь для всех и на все здешнее лето.
— Готовы?
— Ага.
— Договоримся так: вы будете показывать мне самое интересное, что знаете.
— Ладно, — сказал Гриша. — Интересное есть. Вот здесь близко есть чхыф.
— Медведь?
— Ага. Старик Навазга кормит.
— Которого Тозгун поймал, — сказал Митя. — Теперь он подрос.
Скоро над кустами стланика появился коричневый, наспех, в лапу сложенный сруб, крытый листвяжным корьем. Запахло тухлой рыбой, нерпичьим жиром и еще чем-то терпким, знакомым по зоопаркам — жилищем зверя, подумалось мне. Ребята подбежали к срубу, уткнулись лбами в бревна, отыскивая щели.
Дверь была подперта толстой лесиной, стены глухие, только в крыше вынут одни лист корья — вместо окна.
— Смотри, спит… — Гриша чуть подвинулся, и я глянул в полутьму сруба.
Медведь лежал в углу на мягкой подстилке из веток стланика. Глаза у него были закрыты, а голый, вытянутый нос чутко подергивался: медведь учуял нас, однако вставать ему не хотелось. В деревянном корыте, посреди его жилища, лежали свежие камбалы, бычки и селедка.
— Еще хлеб любит, — сказал Митя.
— Чхыф, чхыф! — позвал негромко Гриша и зачмокал, стараясь, видимо, подладиться под голос старика Навазги.
Медведь открыл один глаз, помигал, послушал чмоканье Гриши, снова закрыл, но не выдержал — вытянул вперед лапы, лениво раскачиваясь, поднялся, передернул шкурой и пошел к щели. Шерсть у него линяла, висела на боках рыжими свалянными клочьями, и лишь голова да передние лапы были чистые, черно и нежно лоснились: казалось, медведь начал снимать зимнюю шубу, а мы ему помешали.
Гриша достал из сумки кусок мяса, просунул в щель:
— Это он лучше хлеба кушает.
Медведь языком достал мясо, съел, мотая головой и чавкая, и сразу оживился: еда ему явно понравилась. Сел на задние лапы, оскалился, а передними стал оглаживать себя по ушам и голове: так он выражал какие-то свои, медвежьи чувства.
— Дай еще, — сказал Митя.
— А нам? — Все-таки Гриша достал еще кусок мяса.
Медведь жадно проглотил, упал на передние лапы и принялся обнюхивать вокруг себя землю: ему почудилось, что он выронил мясо. Затем он поднялся снова, привалился к срубу, передние лапы просунул в щель и сердито хоркнул. Нас опахнуло теплое, вонючее дыхание.
— Хо! Дурак! — сказал Гриша, а я потрогал когти медведя — крупные, загнутые, вцепленные в дерево; Митя дернул меня за рукав:
— Идемте. А то реветь будет. Такой противный.
— Мясо любит. Все мясо любят, — заботливо проговорил Гриша, словно извиняясь, что не может всех накормить мясом.
— Скоро праздник будет?
— Зимой, наверно. Всегда зимой бывает.
— Забавно?
— Когда убивают, интересно. Когда кушают — водку много пьют…
— Вкусное мясо?
— Совсем нет, — хмыкнул Митя, — поросенок вкуснее или курица.
— Чиво? — Гриша сунул руки в карманы, поднял плечики и, показалось, даже наерошил волосы. О сумке он забыл, она упала на землю. — Хо! Лучший мяса не бывает. Понял?
Толстяк Митя собирался что-то ответить, у него от обиды забегали глаза, но на слово он был туговат, и Гриша не стал ждать. Забыв о сумке, не вынимая из карманов рук, он широко, заносясь то правым, то левым боком, зашагал по тропинке в кусты стланика.
Митя поднял сумку, догнал друга и повесил ему на плечо: это означало — свою долю груза неси сам. Они пошли рядом, еще немного поспорили, раза два Гриша сказал «хо!», а потом помирились и вместе стали насвистывать «Солдаты, в путь, в путь…».
Я заметил, вдвоем они говорили на каком-то своем языке, среднем между русским и нивхским, и только ругались всегда по-русски.
Во всю неоглядную широкую косу выстилалась мхом мягкая стылая тундра, по ней — сырые стланики. Два слоя, два зеленых ковра накрывали когда-то намытый морем песок. Все низко, заглажено, будто подстрижено: ни одна ветка не смела подняться выше других — ей пришлось бы дрожать и мотаться на ветру. Стланики были мне в пояс, я по-великаньи возвышался над ними и хорошо видел мальчишек. Теперь они шли без тропы, от полянки к полянке, обегая мочажины и зазеленевшие круглые озерца. На бугорках, где посуше, желтел жесткий ягель — олений корм, фиолетово и мелко цвела шикша; а ниже, на кочках, большими белесыми цветками пятнала мох морошка; если присмотреться, по самой топи вынизывала свои тоненькие стебельки клюква — и цвела красными искорками.
Но ярче, праздничнее цвел стланик — хозяин тундры. Каждая ветка пустила сочную свечу с розовыми хвоинками и красными малютками шишками. Поверху стланик рдел, словно подкрашенный или подсвеченный зарей, у корней — был плотным и темноватым. Маленькие птички с желтыми брюшками садились на ветки, цвиркали и суетливо оклевывали красные шишки.
Гриша и Митя бежали впереди, их головы то показывались, то ныряли в стланик. Я следил за ними, прислушивался к голосам. Потом увидел над тундрой, над розовым и зеленым, высокое прозрачное и белое сияние. Оно струилось, колебалось, текло. Оно подсвечивало небо и, когда солнце терялось за тучами, бледно и лунно озаряло тундру.
Я догнал мальчишек, они сидели в кусте стланика, что-то жевали.
— Уже обед?
— Нет, просто закуска, — сказал Гриша, отщипнул с ветки розовую свечку, быстро снял с нее кожицу и зеленую палочку, похожую на стебель ревеня, подал мне: — Попробуй, вкусно!
— Это едят?
— Едят. Нивхи всегда ели. От цинги хорошо.
Я попробовал. Свечка была мягкой, сочной, чуть сладковатой. И, конечно, сильно припахивала стланиковой смолой. Но если решиться, можно есть. И я съел. Во рту остался стойкий, холодящий запах смолы, будто тундра вошла внутрь меня, и теперь я стану носить ее в себе.
— Во! — обрадовался Гриша. — Хочешь еще?
— Нет.
— Ладно. Все равно цинга бояться тебя будет.
Мальчишки ели первый чайвинский «овощ», хрустели, вырывали друг у друга жирные свечки, а я смотрел в конец тундры, на белое сияние. Можно было спросить у них, что это такое, — они наверняка знают, но спрашивать не хотелось: вдруг что-нибудь совсем простое и сразу пропадет таинственность, навевающая легкую тревогу.
Гриша и Митя побежали дальше, осматривая травянистые кочки, заглядывая под кусты. Я едва успевал за ними. Впереди засинело озеро с островком посередине — колючим, утыканным жесткими перьями осоки. Оттуда тяжело, шлепая по осоке крыльями, взлетела гагара.
— Гнездо! — сказал Гриша.
— Пойду, — вздохнул Митя, не отводя глаз от островка, запоминая место, откуда вылетела гагара. Он быстро разделся, подумав, снял трусы. Голый, он выглядел довольно смешно: голова, руки и ноги чернели от загара, а середина — грудь и живот были молочно-белые, младенчески нежные.
— Эх-ха! — сказал Гриша, радуясь смелости друга и передергиваясь вместе с ним от холода. — Быстрей!
Полосатый Митя забрел в воду, фыркнул, поднял повыше плечи и пошел к островку. Он пыхтел, как паровой катер, проваливался по шею, но плыть ему не пришлось: озеро оказалось мелким. Гнездо Митя нашел сразу: вполз на четвереньках в осоку — и нашел. Сунул в него руки, дрожа голосом, крикнул:
— Тепло!
— Сколько штук? — спросил Гриша.
— Два!
— Бери все!
Митя взял в руки по яйцу, поднял их над головой и побрел назад.
Пока он одевался, прыгая то на одной, то на другой ноге, мы с Гришей осматривали, взвешивали яйца. Голубоватые, с широкими рыжими конопушками, почти как гусиные, и теплые — нет, прямо горячие — так нагрела их гагара. А вот и она низко просвистела над озером, боком отпрянула в тундру и опять остро понеслась над самой водой.
— Жалко, — сказал я.
— Еще снесет, — ответил спокойно Гриша, — они всегда сносят, когда заберешь.
Яйца положили в сумку, двинулись дальше. Теперь Митя бежал резвее, даже обгонял Гришу: ему надо было согреться. Скоро они нашли два куличиных гнезда — в каждом четверка рябых яиц. Забрали все, но, немного поспорив, оставили по одному на расплод, чтобы кулики не бросили гнезда. Тут же они разбили яйца и высосали, щурясь и чмокая. Мне не предложили, полагая, что я все равно откажусь.
Тундра становилась ниже, скуднее, стланик мелко и густо выстилался по самой земле, вместо ягельных полян чаще попадались сырые песчаные проплешины. Потянулись пухлые, зыбкие торфяники, под ними колыхалась вода. А белое, струистое сияние там, в конце тундры, а может быть, за морем поднималось выше и напоминало живой, мерцающий хрусталь, льющийся в небо.
Мальчишки нашли низинку с прошлогодней клюквой, стали ползать, подбирая ягоды. Измазали губы и щеки, подсинились, как чернилами. Принесли мне две горстки. Клюква была водянистая, но совсем не кислая: снег подсладил ее. Я шел, бросал в рот ягоды в жесткой застаревшей кожице, выдавливал холодный сок и смотрел на живое сияние. Море уже дышало большой водой, водорослями и тухлой рыбой.
Оно открылось незаметно, неярко: просто кончилась жидко-зеленая тундра и началась густо-зеленая вода — так же низко и ровно. Лишь пена прибоя и его ровное сырое звучание отделяли сушу от моря.
Мы позабыли о тундре, заторопились к воде и не остановились, пока не увидели все море — от юга до севера, от земли до неба; а за ним и над ним — широкий, яркий свет, теперь сине-белый и холодный. Он сквозил из воды, дрожал в мареве и был похож на северное сияние. Смутно догадываясь, я уже собирался спросить — что это? — и тут Митя проговорил:
— Льды.
— Льды?.. — еще не веря, повторил я.
— Лед плавает.
Да, ледяные поля. Это то, что насылает Тлани-Ла — морской ветер; то, от чего до половины лета трясется, «болеет» чайвинская погода. Угонит береговой ветер льды — теплеет земля, вернется Тлани-Ла — наплывают туманы. А когда растают эти сверкающие, лунные глыбы, уже близка будет осень, на сопках забелеют снегом вершины, и нивхские собаки, учуяв холод, залоснятся новой, зимней шерстью. Прощай, лето! Его нежаркое тепло сохранит лишь кожа ребятишек да сушеная рыба юкола.
Мальчишки подбежали к воде, попрыгали около прибоя, как бы дразня его, и пошли по лайде, оставляя две дорожки следов в мокром песке. Лайда — приливный берег, истерзанный штормами, забросанный плавником, водорослями, ракушками, убитыми рыбами, — самое интересное и нескучное место у моря. Здесь дышали еще живые медузы, ершились морские ежи, корчились звезды, прыгали и забивались под камни серые мокрицы. Здесь можно поймать полуживую, оглушенную прибоем рыбу, подобрать уползающего в воду краба. А сколько всего другого: стеклянные шары-поплавки, куски пенопласта, обломки меди, железа, смоленого дерева — поднимешь и можешь весь день гадать: где, когда, с какого корабля…
Мне махнул рукой Гриша, и вместе они присели на корточки. Пригнувшись, я подобрался к ним.
— Смотри, вон там нерпы, — зашептал Гриша, словно посвящая меня в таинство. — Штук пять. Охотиться надо.
Он начал быстро нашептывать Мите, откуда и как ему заходить, начертил на песке несколько кривых линий, Митя поспорил немного, сказал «иди сам», но все-таки отвалился боком и пополз через лайду, к тундре.
— Ты здесь сиди, — приказал мне Гриша, — выбери палку и сиди. Когда будем бить, подбегай. Понял?
— Понял! — повторил я и чуть не рассмеялся: впервые Гриша так строго обошелся со мной. Он упал на живот и, быстро перебирая локтями, пополз у самой воды. Над ним поднимались, закручивались тугие гривы прибоя, и казалось — вот-вот его накроет волной.
Я перебрался к сухому, промытому до белизны плавнику, выбрал увесистую палку, сел за коряжину. И лишь теперь разглядел нерп. Желтые, едва заметные на желтом песке, они лежали кучкой у тихой лагуны, недалеко от воды. То одна, то другая вскидывала голову, медленно вертела ею и снова опускалась на песок. Подползти к ним почти невозможно — так думалось мне, — надо быть просто невидимкой: вокруг лежбища нерп простиралась чистая песчаная поляна. Устроившись поудобнее, я приготовился ждать — долго и терпеливо.
Шумел, сочно шипел прибой, вскрикивали невидимые чайки, сияли льды, робко горбился блекло-зеленый берег. Все здесь огромно и пусто — это странный мир звуков, света и простора. Чувствовалась вечность. На душе глухо и отрешенно, проникавший от земли холод притуплял ощущения, успокаивал, приобщая к звукам и свету, растворял в пространстве.
Я не видел Мити, а Гриша то появлялся, то исчезал, потом и его не стало видно, и мне начало чудиться, что все это я выдумал сам: мальчишек, нерп, охоту, — что ничего этого никогда не было, да и не нужно. Есть вода, небо, пустая земля и… разом послышалось два тонких выкрика. Я вскочил, еще не зная зачем, схватил палку, вспомнил нерп и побежал к лагуне.
Ребята прыгали у воды, кричали и размахивали палками. Мне подумалось, что они колотят нерпу, но, подбежав ближе, я догадался — они исполняют дикарский танец, прыгают вокруг нерпы, а та скалит зубы и вертит головой.
— Смотри, хорошая! — сказал Гриша, отпугивая палкой зверька, который рывками, боком ссовывался к воде.
Это был нерпенок, нежно-желтый, пятнистый, с большими черными, немигающими глазами и круглой, тугой головкой. Он хищно щетинил черные усы, хватал палку цепкими белыми зубами и жалобно верещал.
Митя вынул из сумки кожаную бечевку, сделал петлю и, накинув нерпенку на хвост, слегка затянул. Гриша поднял палку над головой нерпенка, нацелился. Я придержал его руку:
— Зачем?
Он не понял меня, не опуская палки, спросил:
— Чиво?..
— Жалко. Маленький!
— Чудак! У маленького лучше мясо, — сказал Гриша, а Митя прибавил:
— Еще лучше белек — такой нерпенок, когда молоко материно сосет.
— Ребята, вы что, серьезно убивать будете?
Теперь они оба не понимали меня, досадовали, что я мешаю, ждали, — может, еще что-нибудь скажу.
— Пусть живет, — попросил я.
— Всегда все убивают, — серьезно и строго проговорил Гриша, — отпускать нельзя. Охотник не отпускает: невезение будет. Взрослые смеяться будут.
Гриша поднял выше палку. Я отвернулся. Послышался хрусткий удар, тоненький писк-крик и протяжный, совсем человеческий вздох. Не оборачиваясь, я отошел в сторону, сел на валежину. Принялся смотреть: что станут делать охотники дальше?
А дальше было все просто и деловито: Гриша достал из ножен длинный нивхский нож, вспорол нерпенку живот, вывалил на песок внутренности, осторожно вырезал печенку и отдал Мите. Нерпенка стащил в воду, промыл, прополоскал. Вместе нашли сухую нетолстую палку, заострили ножом конец и проткнули им нерпенка — он как бы повис на палке, — приготовились нести. Из сумки вытряхнули хлеб и сивучье мясо, опустили в нее нежно-красную печенку, завязали сумку шнурком.
— Эх-ха! — сказал Гриша, толкнув ногой нерпенка. — Иния, давай кушать. — Ножом он отхватил часть переднего ласта, снял шкуру и начал жевать белый хрящ. Митя сделал то же самое и так же быстро. Гриша спросил:
— Будешь это?
Я промолчал, словно не услышав. Митя принес мне кусок хлеба и сивучье мясо. Я пожевал немного, во рту было сухо, есть не хотелось.
— Зачем сердишься? — огорчился Гриша. — Нерпу жалко? Их много, мильвон, — он мотнул головой в сторону моря. — Принесем, сварим, тебя угостим.
Да, их пока много, их бьют сотнями и били всегда — до меня, будут бить после меня. Это такое же мясо для нивха, как для русского поросенок, теленок или ягненок. Здесь не научились еще беречь рыбу, птиц, животных — всего много, не считано, не мерено.
Ребята подняли на плечи палку с нерпенком, и мы пошли в поселок. Шли долго, молчаливо по кустам стланика, пухлым сырым мхам; пахло клюквой, стоялой водой, сладкими свечками стланика, и из-под ног вылетали черные птицы. А позади сиял голубой, холодный свет, низко, длинно подсвечивая тундру, разжижал сумерки, и казалось, мы шли по первобытной планете, и совсем трудно было вообразить, что где-то есть большие города, автомобили.
Поселок встретил нас электрическим светом на столбах, и лунное сияние осталось в тундре. Мы вернулись к людям, начали жить их жизнью. Около клуба скапливался народ, сюда тянулись от пристани, из-за домов, в спецовках и фартуках — говорили, смеялись. Я остановился, спросил:
— Что такое?
— Кино привезли.
— А-а.
Меня кто-то дернул за рукав, я повернулся: рядом стояли Коля Тозгун и Валька. Он — в белой рубашке и серых отглаженных брюках, она — в кримпленовом, в обтяжку, платье.
— Не холодно? — спросил я.
— Что ты! После работы как раз хорошо, — сказал Коля. — Сегодня жарко было. Мы Чанхи перегнали, на пятьсот центнеров. У него невод порвался, вся рыбка ушла.
— Завтра к нему поеду.
— Поезжай… Вот беда, — Коля хлопнул рукой по карману, — билета лишнего нету, в кино хочешь, правда?
— Нет, устал немного…
— Ну, мы пойдем, а то звонок уже.
Мои мальчишки незаметно сбежали, я зашагал по тротуару и тут увидел их: оставив где-то добычу, они торопились в клуб — не попасть в кино, пожалуй, обиднее, чем отпустить в море нерпенка. Да и друзья смеяться над ними станут. Я пожелал им удачи.
Впереди по тротуару медленно шла женщина. В сумерках я не узнал ее, но, подойдя ближе, разглядел: это была Мамонова. И не в телогрейке, брезентовом фартуке и резиновых сапогах, а в легком темном пальто, чулках и туфлях. На голове нет коричневой, так старящей шляпки, волосы гладко причесаны. От нее пахло новой одеждой, духами. Я поздоровался, она чуть обернулась, подвинулась на тротуаре:
— А, это вы…
— Отдыхаете? Почему не в кино? — спросил я.
— Тесно сегодня. Завтра уж, если рыбой не завалят.
— Управились немного?
— Да. Однако это не выход. Это передышка. Рыба взбесилась, никогда такой не была. Сегодня невод у Чанхи разнесло. А так бы нам…
— Я вот тоже думал — что делать?
— Рефрижератор, только так…
— Но ведь Лапенко не вызовет.
— Я бы, знаете… — Мамонова остановилась, взяла меня за локоть. — Я бы вашего Лапенко под суд отдала.
— И все-таки это не его дело.
— Правильно, не его как председателя, но его как коммуниста, да просто человека, понимаете — человека. Если у нас пропадет рыба, я в обком, в Москву напишу.
Она опустила мою руку, тихонько пошла, нащупывая ногами ровные доски. Долго молчала, по-мужски, расчетливо закурила, несколько успокоилась.
— Вы говорите — не его дело. Конечно, не его, я лучше вас знаю. Может, это меня и бесит. Поймите, наша беда, если хотите, всеобщая, это самое — «не мое дело».
Она еще помолчала, жадно докурила папиросу, вздохнула, будто освобождаясь от дыма, сунула руку в карманы пальто, зябко поежилась.
— Конечно, сделаем что-нибудь, — сказала тихо и устало, — соли подвезем, чаны открытые во дворе поставим, примем рыбу… Сорт, понятно, будет не тот.
Это была уже не грозная Медведь-баба, которую боялись и не любили на плоту, — просто женщина. Пожилая, усталая. Мне подумалось, что таким, как она, не везет в личной, женской, жизни; она слишком характерна, слишком сильна для слабого, а с сильным не уживется, не потерпит и малой «тирании». Она самолюбива, неуступчива и давно, наверное, живет одна. И понемногу грубеет в одиночестве. Мне захотелось поговорить с ней не о рыбе, просто о жизни — как раз об этом здесь никто, пожалуй, с ней не говорит. Но не так-то легко коснуться сокрытой жизни человека. Сочувственно вздохнув, я осторожно спросил:
— Вы давно здесь?
— Десятый год. Скоро на пенсию…
— А потом? К своим куда-нибудь?
— Знаете, — она оживилась, взяла меня за локоть, — я здесь так намерзлась, поеду на юг, в самую жару, и буду дышать, дышать. Мне кажется, приеду в тепло и столько привезу в себе холода, что там снег выпадет… Смешно. И еще хочу яблоко сама с дерева снять. А к своим — нет. Вот когда работать не смогу и отдыхать надоест, к дочке попрошусь, внучат буду нянчить. Как это песенку поют: «Баю-баюшки-баю…» — я ведь и не помню, забыла…
Мы подошли к ее дому. В окнах горел свет.
— Не выключаю, — кивнула она на окно, — все кажется — дома кто-то есть. Всего вам хорошего.
Молча поклонились друг другу.
Вечерние размышления
Снимая пиджак, я нащупал в кармане свернутую газету, вспомнил — ее мне дал Коля Тозгун. Развернул. Всю третью страницу занимал очерк Володи Чанхи «Путешествие в стойбище Лунво» — это о празднике медведя. Хотел прочитать, однако почувствовал — не смогу, лег спать. И всю ночь мне снились медведи, плакал нерпенок, жался к земле стланик и чисто, лунно сияли льды.
7
Вторник, 27 июня
Был полный прилив, морская вода до краев залила Чайвинскую лагуну, острова, косы, необозримые желтые лайды, вода остановилась у самого леса, в зеленых берегах. Она замерла, напряглась в крайнем своем усилии, уже не поднимаясь, но и не отступая. На полчаса залив стал озером, высоким и тихим.
«Мотодорка» легко двигалась по стоячей воде, ровно тарахтела, и моторист, молоденький парнишка-нивх, подремывал на корме. Он работал всю ночь, а утром, когда я пришел на плот, сказал мне: «Поедем, председатель приказал отвезти». Я спросил его, где Лапенко и почему он не дал свою моторку. «Поедем», — повторил чумазый, промасленный до черноты моторист. Ему не о чем было говорить, он хотел спать, и я быстро влез в «мотодорку». Так и ехали: он дремал, я молчал, смотрел в туман и думал, как бы нам не проскочить тоню Василия Чанхи. Когда моторист совсем уснул, положив голову на руль, я окликнул:
— Правильно едем?
Он помигал, мотнул головой и, видно совсем придя в себя, крикнул, хлопнув ладонью по борту «мотодорки».
— Как собачка, сама бежит!
Фыркали, тяжко дышали сивучи, выныривая и крутя стеклянно-круглыми головами, гонялись за селедкой, обжирались; если настигали косяк, перепуганные сельди, как летучие рыбы, выпрыгивали из воды. И тут же с неба падали чайки, на лету хватали трепещущих, шелестящих воздухом рыбешек.
Вода сдвинулась, слабо и еще нехотя потекла к морю, словно там, в устье залива, ее принялись отчерпывать ковшами; немного проредел туман, и появился берег — отлогий, зеленый, с кустами тальника и тремя белыми палатками.
Моторист сказал: «Приехали» — высадил меня и сразу завернул «мотодорку»; окатив берег волной, погнал ходко, будто свалил нелегкий груз.
На берегу никого не было, я постоял, осмотрел большую мокрую лодку с уложенным на широкой корме неводом и потихоньку зашагал к палаткам. В крайней залаяла собака, я остановился. Из жестяной трубы, выведенной вбок, струился едва заметный, горячий дым. Собака замолкла, качнулась труба, и в раздвинутые полы входа просунулся, согнувшись, человек. Он пожмурился, увидел меня, двинулся навстречу, кривоного и прочно вышагивая. Подошел, подал руку, вздохнул, полез за трубкой и кисетом. Предложил мне. Я закурил папиросу. Он покашлял, словно бы проговорил: «Так и живем. Ты же знаешь, все как было…» Мне захотелось сказать ему: «Откуда мне знать, первый раз здесь!»
Но ничего не сказал. Я знал, что это Василий Чанхи — нивх, который говорит в день всего два-три слова, не любит, когда его о чем-нибудь спрашивают, сердится, если во время замета невода кто-нибудь болтает или смеется. Он мало похож на своего брата Володю, однако глаза у них одинаковые, не по-нивхски широкие, — по ним-то я и узнал его. Василий намного старше, ниже ростом, тяжелее, и кожа у него совсем темная — от ветра и моря. Мы курили, смотрели на залив, покашливая, будто разговаривали. Вода уносила рыжие, пузыристые копны пены, ускорялась, и понемногу оголялся песок у края зеленой поляны. Я молчал, терпел, опасаясь заговорить в забывчивости. Перемолчать этого человека — значит заслужить его уважение.
Он докурил, выбил о сапог пепел, снова окунул трубку в кисет, и мне стало казаться, что я понемногу глохну и немею. Даже покашливать перестал. И вдруг я услышал какой-то еле различимый звук, сначала не понял, потом догадался — Чанхи сказал:
— Чай?
Я кивнул, и он повел меня в палатку. Здесь жарко топилась чугунная печь, густо пахло теплой хвоей: пол был устлан подсохшими еловыми лапами. В больших медных кастрюлях варилась еда, старая сгорбленная нивха, повариха, широким тесаком рубила длинную кумжу. Она не глянула на меня, просто ощутила, что кто-то есть, подвинулась, и мы примостились с Чанхи за печкой, на еловой хвое: ни табуреток, ни чурбанов здесь не было. Заспанная, отупевшая в жаре лайка подняла голову, помигала узкими глазами, встала, подошла и нехотя, будто выполняя неприятную обязанность, обнюхала меня; поморщила нос, передернула шкурой и щедро осыпала нас бурой шерстью.
Чанхи сидел ровно, столбиком, подвернув под себя ноги, а я — сгорбившись, обхватив руками колени. Он смотрел на мелькавший в дырявой трубе красный огонь, что-то видел там, опять курил и мог не двигаясь сидеть весь день. У меня «стонали» колени и спина, не выдержав, я повернулся на бок. Чанхи два раза кашлянул. Старуха схватила две синие кружки, нацедила в них из чайника коричневой жидкости, бросила к нашим нотам низенький нивхский столик, поставила на него кружки.
Чанхи взял кружку, и я взял, он стал пить короткими, отрывистыми хлебками, после каждого длинно выпуская воздух, и я попробовал так же. Чай был покрепче и погорячее, чем у Коли Тозгуна, горько-сладкий от перепревшей заварки и сахара. Пили долго, серьезно, и к концу я налил себя таким жаром, что в глазах вспыхивали красные пятна. Еще посидели, отдыхая и выдыхая из себя жар, закурили. Теперь мне начало казаться, что кожа на лице у меня темнеет, тяжелеет, делается такой же, как у Василия Чанхи. Качнувшись, он что-то бормотнул, чуть глянув на старуху. Она вышла из палатки и сильно ударила в пустое ведро. Я догадался: бригаде сыгран подъем. Встал, молча и не торопясь выбрался на утренний холод и ветер.
Тумана уже не было, залив открылся весь, рябил слабым солнечным светом, рассеянным тучами. Вода заметно опала, обнажились лайды, лодка с неводом стояла на мели. Палатки проснулись, заколыхались, послышались голоса, и в откинутые полы начали выскакивать рыбаки. Те, что помоложе, прыгали, поливали друг друга водой, а старики, умывшись, взяли чашки, пошли к палатке-кухне.
В бригаде русские и нивхи, но ни одной женщины. Я вспомнил: Чанхи не принимает аньхи, считает, что их дело — поварить, рыба не любит тонкого голоса, крашеных губ. В этом было нечто странное: нивхские женщины — хорошие рыбачки. (Видимо, Чанхи хотел иметь сильную, мужскую, бригаду.)
Рыбаки, держа полные миски горячей еды и куски хлеба, усаживались на пеньки, обломки плавника, прямо на траву, бросив телогрейку, — ели, грелись. Ко мне подошел парень-нивх, подал миску, кусок хлеба и ложку, сказал «кушай», улыбнулся и ушел. От супа вкусно пахло, большой кусок рыбы островом плавал в бульоне. Я пристроился на кочке с прошлогодней сухой травой.
Бросая пустые миски и кружки, рыбаки по одному собирались около лодки, приваливались к бортам, курили; потом из палатки вышел Чанхи с трубкой в зубах, рыбаки подхватили лодку, волоком, бегом потащили ее к воде, столкнули, шлепнув днищем, всплеснув брызгами. Двое перебрались через невод, сели на весла, двое стали на корме возле невода. Чанхи махнул рукой, остро резанули воду весла, лодка быстро пошла от берега, распуская топкий шлейф невода. Рыбаки гуськом двинулись по лайде, к тому месту, где должно примкнуть другое крыло невода, а здесь с шестом, упертым в песок, остался питчик — рыбак, держащий конец каната. Это был русский парень, довольно крупный, кряжистый, о таких говорят: «Знает, почем фунт лиха». Одет просто, в клеенчатую спецовку, однако в том, как он держал шест, стоял, скучно смотря на залив, угадывалось что-то нездешнее, я подумал о нем — «приезжий», и он показался мне знакомым. Да, где-то я его видел.
Старуха собирала пустую посуду, я отнес ей свою миску и пошел к берегу. Поплавки невода мигали в растревоженной ряби залива, бежали за лодкой, округло выгибались. Питчик, не шевелясь, сонно жмурился на воду. Я постоял около него, посмотрел, как натягивается и дрожит канат, спросил:
— Трудно?
Он глянул на меня, слегка усмехнулся, помолчал, тряхнув русой шевелюрой, ответил:
— Нет. А вот скучно — из души воротит. — Отвернулся к заливу, медленно проговорил: — Не узнаешь, корреспондент?
Теперь я узнал своего ночного «соперника», Тамаркиного ухажера.
— Привет! — сказал я первое, что пришло в голову.
Он охотно и крепковато пожал мне руку, и это, наверное, что-то значило на языке жестов, но я не совсем понял.
— Ты не сердись за то самое… Дурака свалял…
— Пустяки! — заверил я.
— Вообще… за баб я презираю драться. Их так можно иметь.
Мне захотелось узнать, как оказался в Чайво этот бывалый парень, мало подходящий к здешней «неводной» работе, сельской жизни.
— Откуда сам?
— Вообще… с активки[8], — нехотя ответил он.
— Почему ушел?
— Вообще… если честно… Баб списали, и ушел.
— Как это?
— Просто, дорогой человек. Год или полтора в Бристоле я без бабы не могу. Только морем любоваться — у меня нервы не выдерживают. Из двух поварих на судне одна всегда была моя… Теперь тебе ясно?
Я осмотрел его крупную, как бы из бронзы отлитую фигуру — памятник самому себе, — и мне, конечно, стало ясно. У него мало было соперников; два таких на судне не уживутся.
— И прямо сюда? — спросил я.
— Нет… Сначала в прибрежке побичевал… потом в одно дело влип… Словом, подобрал меня Лапенко в Южном, бухарил.
— Ну и как здесь?
— Вообще… лужа. Тихо, как в раю, отдохнуть можно.
— А заработать?
— Капитал — нет, так — на поездку к маме… Ты бы вчера приехал, посмотрел. За спасибо морскому богу рыбку отдали. Рублики хвостатые в море уплыли.
— Слышал. Невод лопнул.
— Лопнул… А почему? Надо не жилиться, низа поднять, часть выпустить, если прорва набралась. Что ты! Никто и не подумал, жадность забрала. Тяни, полморя зацепили! Чанхи не хуже других фарту захотел. А все Тозгун, комсомолец, виноват. Не может наш руководитель потерпеть от мальчишки. Вообще… дурака сваляли. Погрызлись, конечно. До вечера невод латали-штопали. А Чанхи от расстройства нервов ведро чаю в палатке выдул.
— Сегодня наверстаете.
— Жилы рвать? Я этого не любитель. Смотри, опять как замахнулись.
Дуга невода широко, емко охватила воду, в которой пузыристыми, темными пятнами, сливались и разъединялись, словно тени от облаков, сельдяные косяки. Лодка уткнулась в берег, рыбаки подняли канат, перекинули на плечи, повернулись спинами к воде, двинулись поперек лайды к зеленой траве поляны.
Кивнув питчику, я пошел по берегу: здесь сейчас у парня начнется работа — крыло невода прибивалось течением, выплывало на мель, его надо подхватывать, выбрасывать из воды, — и говорить нам будет некогда.
— Корреспондент…
Я остановился, не зная, послышалось мне или в самом деле окликнул парень.
— Доставь приветик Тамарке. — Он глуповато и задумчиво улыбнулся. — Посоветуй… если я к Тамарке причалю, семью создам… пятое, десятое… Как?..
— Не прогадаешь.
— Ну, бывай.
Он забрел в воду, все еще улыбаясь, схватил красными голыми руками верхний подбор невода и, пятясь, сильно потащил сеть на песок.
Рыбаки примкнули к берегу правое крыло, теперь рывками, будто раскачивая невод, выбирали его, «сушили», в один голос выкрикивали резкий, непонятный звук «О-гай!» — торопились выбрать больше, чтобы течение не занесло кутец и не спутало сеть.
В округлом охвате невода вынырнула голова сивуча, фыркнула; один из рыбаков схватил ружье, выстрелил; жакан плеснул рядом с головой, и сивуч спрятался в воду. Скоро его усатая голова заблестела снова, теперь у самых балбер. Рыбак еще раз выстрелил. На этот раз жакан полоснул сивуча, он страшно гукнул, выгнул спину и перевалился за балберы — ушел на чистую воду. Рыбак вскинул ружье, выстрелил в гущу чаек. Двое с перебитыми крыльями плюхнулись в селедочную пузыристую рябь, закружились, остро заверещали, а потом быстро поплыли от берега, перепуганно вертя головами.
Невод сжимался медленно, трудно. Он был тяжел. Василий Чанхи бросил канат, отошел вверх на лайду, стал всматриваться в выпуклый, напряженный круг невода, определяя улов и решая, как быть с ним дальше. Лицо его, все такое же сонно-скучное, ничего не выражало; вот он махнул рукой. Рыбаки ослабили канат, выпрямились, у берега всплыли балберы, течение начало плавно заносить, продолговато вытягивать невод. Через несколько минут общего молчания, когда никто не торопился что-нибудь сказать и каждый был немного язычником, верящим в бога моря, Чанхи снова махнул рукой. Рыбаки дружно, вдохновенно принялись раскачивать невод, выбирать на сушу.
Мне стало казаться, что Василий Чанхи опять идет на риск — все или ничего. Сразу двести пятьдесят — триста центнеров или… Словом, он верит в свою рыбацкую удачу, думает, что море не обидит его. Понял я и другое: Коля Тозгун делает короткие и быстрые заметы, не хочет надрывать бригаду (жалеет женщин); у Василия Чанхи заметы медленные, тяжелые — все рассчитано на силу, мускульное и нервное напряжение. К нему тянутся люди азарта, верящие в везение, рискующие «по-большому», желающие крупно заработать.
Отсюда, с возвышенной, сухой лайды, мне хорошо виден невод, рыбаки, их разумная суета. Каждая минута сейчас творила, создавала замет, она могла сделать его удачным или погубить. Чанхи стоял теперь в воде, и к нему понемногу приближался кутец невода. Рыба густела, закипала, вода покрылась белой пеной, брызги косо летели в лицо Чанхи, рыба терлась, билась о его сапоги. И лишь можно было догадываться, как он напряжен и осторожен. Живой, клокочущий котел рыбы прибивался к берегу… Я представил вчерашнюю беду. Вот сейчас, в эту минуту, рыбаки поторопились, желая скорей овладеть уловом, поднажали, и невод раздвоился; тесно сбитая, притертая к суше рыба хлынула, растворилась в свободной воде. Рыбаки остались с куском продранной дели в руках, беспомощно злые, обиженные всеми божествами земли и моря, невзлюбившие самих себя; а потом — взрыв ругани и обычное «кто виноват?». Это вчера. Сегодня же… Чанхи, кажется, всей своей шкурой, каждым нервом чувствовал туго натянутую капроновую нить невода. Вот он поднял обе руки, резко опустил их.
— Ккарве![9]
Четверо рыбаков бросились к рыбницам, подогнали, осторожно ввели в невод и емкими зюзьгами принялись вычерпывать селедку. Рыбницы быстро наполнялись, оседали и на глазах становились похожими на больших, остроносых, мелко и дымно трепещущих рыб. Полные, тяжелые, их отвели к берегу. Взялись за крылья невода, теперь смелее подтянули кутец, уплотнили рыбу. Ввели еще одну, пустую рыбницу. И ни голоса, ни команды — только густое дыхание рыбаков, стук зюзьг, плеск воды и рыбы. Невод опустел, съежился, из него выбили бычков, камбал, водоросли, начали наметом укладывать мокрую, вескую дель на корму лодки. Рыбницы отвели к «мотодорке», прицепили одну за другой — они вытянулись и зажурчали на течении, — моторист впрыгнул в «мотодорку», ощупал, опробовал мотор.
Мне надо было ехать этим рейсом, потому что другой будет к ночи, и я пошел проститься с Чанхи. Он курил, смотрел, как рыбаки укладывают невод, не торопил, но когда работа замедлялась, часто пыхал трубкой. Я остановился около него, чиркнул спичкой. Он по кашлю узнал меня, спросил:
— Поедешь?
— Поеду.
— Ну, однако, передай привет Тозгуну.
— Передам.
— Живи!
Чанхи выразил мне особое уважение — нивхи, встречаясь и провожая, говорят друг другу одно слово: «Живи!» — подождал: может, я скажу что-нибудь, и, отвернувшись к неводу, вставил в рот трубку. Он, видимо, считал, что сделал для меня все возможное, обласкал, как мог, теперь уже нехорошо приставать к гостю. Подумав так, я подивился «бурной» общительности Чанхи, но — странно: мне и в самом деле все здесь было понятно, словно кто-то долго и толково рассказывал о самом Чанхи и его бригаде.
Моторист позвал меня, я влез в «мотодорку». Чаще, оглушительнее заработал мотор. Мы боком отпрянули на глубину, и первые минуты, не справляясь с течением, просто отодвигались в залив, потом медленно, дымя мотором, потянулись вверх. Тоня стала удлиняться, вытягиваться в желтую полоску, вот уже открылась вся — от каменистого обрыва до густого низкого леса за палатками.
Это была чанхинская тоня, вернее, одна из чанхинских тоней. Она, даже на мой взгляд, не очень удобна: бугриста, завалена плавником, вдвинута в залив, и поэтому здесь сильное течение, — однако своим берегом она как бы прикрывает жерло, устье залива, и в нее упираются первые косяки сельди. Сколько пробудет здесь Чанхи, нельзя угадать. Сменится режим воды, улетят чайки, подует с другой стороны ветер, исчезнут сивучи — и он уйдет на другое место. Попробует там, перекочует дальше. В прошлом году Чанхи часто кочевал (рыбы было мало), в сутки по два раза снимался. Однажды его искали на «мотодорке» весь день, объехали залив и лишь к ночи нашли на какой-то совсем новой, дикой тоне. У Чанхи пропала рыба, он был так возмущен, что впервые в жизни сказал несколько ругательных слов.
Понемногу перемалывая воду, мы двигались к Чайво. Медленно и широко открывались, поворачивались и опадали позади в холодные буруны берега. Еще медленнее перемещались лиственничные, медвежьи лохматые сопки, а дальние голые вершины Восточно-Сахалинского хребта стояли на месте, под облаками, сияя чистыми жилами снега в трещинах и распадках. Вода, берега, горы… Могучая, древняя дикость. Как здесь еще мал человек, как здесь ценен мотор — вот сейчас, хотя бы этот, на «мотодорке». К нему хочется подвинуться ближе, погреть руки. И сколько здесь еще риска, естественного, но не очень понятного мне, сухопутному человеку. Скажем, заглохнет у нас мотор, и тот якорек, что лежит на носу, не удержит не только наш караван, даже «мотодорку». Течение вынесет нас в море, к тем красивым лунным льдам. Нас станут искать и, конечно, найдут, если… «Вообще»… — вспомнил я любимое слово Тамаркиного парня, — надо меньше об этом думать и со слабыми нервишками сидеть дома.
На плоту было пустовато — рыбу лишь подвозили, — впереди трудная рабочая ночь; люди отогревались в домах, сушили сапоги и робы. Переулки перебегали одинокие собаки. Под навесом, где стояли весы, расхаживал Кавун, перебрасывая гири, отодвигая ящики. У него за спиной потрескивала маленькая железная печурка: здесь будут греться, курить и дремать рыбаки. Увидев меня, Кавун крикнул:
— Иди, грейся немножка!
Я подошел, протянул к печурке руки. Кавун улыбался, суетился около весов, будто хотел плыть на них по заливу, от него чуть попахивало «спиртишкой». Я подмигнул ему. Он заулыбался еще охотней, сказал:
— Понимаешь, ночь-та будет холодный…
На правом приплотке — самом уловистом месте чайвинских мальчишек — одиноко сидел удильщик. Мне всегда хочется подойти к человеку с удочкой, посмотреть, сколько поймал, как клюет, переброситься несколькими рыбацкими словами: в этом интересе — солидарность всех рыбаков земли. Возле удильщика не было ни камбал, ни бычков, и ловил он не на селедку, а на кумжевую икру.
— Клюет? — спросил я.
— Смотря что, — ответил он деловито. — Если бычков имеете в виду — навалом. Пусть их нивхи едят да собак своих кормят. Форельку вот караулю.
Я узнал пожилого сезонника, который работал на засолке и кричал Мамоновой: «Обеспечьте!» Сейчас у него вынужденный отдых, и он коротает его с наибольшей выгодой.
— Любите удить?
— Нет, дома не занимаюсь. У нас рыбка-то — плотвичка да окунек. Детишкам забава.
— Издалека в эти края?
— С Волги, с Углича…
— Аж из Углича? Ой-е-ей!
Тут у него клюнуло, унесло под плот поплавок. Он привстал, нахмурился, плавно повел удилище, затем быстрей, быстрей, и о доски плота ударилась крупная, килограмма в полтора, ярко-пятнистая форель.
— Вот она! Свиделись, дорогуша! — Он повеселел, радуясь, что есть свидетель его удачи, отцепил форель, окровавив руки, и опять закинул удочку. — Вот за что люблю эти туземные края.
— Ну, еще кое за что…
Он внимательно и многоопытно посмотрел на меня, кажется, только сейчас увидел, кто с ним рядом, отвернулся к воде, проговорил, ничуть не потеряв интереса к поплавку:
— Могу вам заметить — я не любитель идейных намеков. Вполне подкован.
— Что вы, я просто так!
— И я так, на всякий интерес. Я общительный, со всяким культурным народом привык разговаривать. Можете вынуть блокнотик и записывать. Диктую. В Угличе есть дом, сад, жинка молодая. На работе состою, зимой тружусь кочегаром в ЖЭКе. А как лето — подавай всю страну. В Москву переброшу свои дряхлые кости, там оргнаборчик, и сюда — на Дальний ближний Восток. Люблю заработать, не презираю хапуг. Водку не пью и, заметьте себе в блокнотик, баб у других не отбиваю. Чистый любитель стран и народов. Могу окончательно пояснить: участник боев на Одере, имею медали и ранения и, обратите внимание, получаю пенсию.
— Это все интересно. Спасибо.
— Потому и рассказал. Заметьте: чтобы писать идейно-художественно, надо знать жизнь.
У него опять клюнуло и унесло под плот поплавок. Он спокойно и точно выполнил удочкой все необходимые движения, однако на доски плашмя и хлестко шлепнулась камбала. Он отцепил ее, пинком сбил в воду.
— Учу молодежь. А то вот поустану, сам возьмусь за творческое дело.
Он уставился в воду и замолчал. Я помедлил, попробовал еще чем-нибудь растревожить его, но сезонник выговорился, а может, обиделся на меня, отвечал нарочито бестолково и коротко. Вскоре, повернувшись ко мне спиной, он смотал удочку и удалился в засольный цех. Я пошел в поселок.
Вечерние размышления
Прочитал очерк Володи Чанхи и словно съездил в Лунский залив, побывал в стойбище Лунво — «селении на месте, где ветер шумит». А ветер шумит по всему побережью, и у меня за окном он напевает что-то древнее, правдивое, северное. Это — Тлани-Ла. Тысячу лет назад он выветривал тепло из нивхских торафов и сейчас холодит, терзает сахалинские берега.
Я слушаю этот ветер и заново, в своем воображении, переживаю лунский праздник медведя.
Задолго до праздника съезжаются нархи — почетные гости. Они собираются в ближайшем от Лунво селении, ждут последнего приглашения. За ними едет на собачьих упряжках старик Ковазик — глава стойбища. Он привозит нархов в свой родовой дом, угощает обильной едой, и с этого дня вместе они начинают готовиться к празднику. Чхыфа — священного зверя, которого посылает людям хозяин гор Пал-ызн, — нельзя убить просто так. Душа чхыфа бессмертна, она уйдет опять в тайгу и станет зверем. Человек может взять себе лишь оболочку — мясо и шкуру, но, чтобы не обидеть всемогущего хозяина гор, он должен не выказывать своей жадности, сделать все медлительно, соблюдая древний ритуал. Об этом знает каждый в стойбище — мужчины, женщины, дети, — и каждый работает: нужны ритуальные украшения, берестяная и деревянная посуда, хорошая еда — и всего много, обильно. Подготовка длится почти неделю. Наконец выбирается место, где будет убит чхыф, сюда прорубается длинная просека, очищенные от коры деревья увешиваются священными стружками «нау», и наступает самый большой день — прощание чхыфа с белым светом. Его опутывают цепями, выводят из сруба — в нем он прожил три года, — несколько раз выкрикивая «хук» (подражая чхыфу), обводят вокруг священного родового дома, у двери которого стоит сам Ковазик. Острой елкой он тычет в бок медведя, указывая нархам, куда надо стрелять. Затем шествие направляется к «лобному» месту. Здесь чхыфа привязывают цепями к двум деревьям, и между гостями начинается короткое состязание в меткости стрельбы из лука: только этим древним оружием можно убить священного зверя. Побеждает один из главных нархов, Козгун. Несколькими стрелами он отправляет бессмертную душу чхыфа к хозяину гор Пал-ызну, оставляя людям шкуру и мясо. Тут же убивают двух собак для сопровождения священного зверя по лесам и сопкам. Все это время женщины (им запрещается касаться медведя) играют на «тятид» — короткими палками бьют в подвешенные на веревках сухие бревна с изображениями головы чхыфа, — напевают нивхские ритмы. У тела священного зверя молодые и старые гости охотно и серьезно соревнуются в нивхской борьбе, показывают силу, ловкость. Затем с медведя снимают шкуру, мясо уносят в родовой дом Ковазика. Все, что видело уход чхыфа в потусторонний мир: ритуальные шесты и деревья, стружки «нау», — сваливается в одну кучу, и это становится священным местом рода, оберегающим его от болезнен и бедствий. На другой день начинается обильное угощение нархов. Хозяин чхыфа мяса не ест, берет себе голову. Постепенно гости разъезжаются, увозя с собой по большому куску мяса. Наконец отправляется в свое селение главный нарх, забрав остатки туши и шкуру. Мясом священного чхыфа гости будут угощать других нивхов, и так, частями, оно разойдется по всему побережью: все узнают, что старый Ковазик устроил еще один праздник медведя.
И старики станут опять говорить: «Это, однако, последний настоящий праздник». Они понимают: молодые нивхи не хотят соблюдать древние обычаи, им это неинтересно. Да и стариковские, теперешние праздники в других селениях больше напоминают простое приглашение «на медведя». И только в стойбище Лунво по старинке соблюдается родовой нивхский ритуал.
Как попал сюда старик Ковазик? После войны он вышел из колхоза Чир-Унвд, сказав, что «не нашел счастья в земле», и поселился в Лунском заливе — на берегу своих предков. За ним потянулись еще четыре семьи, и вновь возникло «селение на месте, где ветер шумит». Главное занятие этих людей — рыбная ловля. Правда, Охотсоюз дает им план на отстрел соболей, план, однако, невелик, они быстро его выполняют и все остальное время бьют нерп, рыбачат в заливе. Место здесь глухое, отдаленное, дорога бывает лишь зимой, и лунвцы редко навещают «цивилизованный мир». Взяв охотничьи припасы, муку, соль, гульнув в районной чайной, они надолго уезжают в свою лесную «обитель». Их дети не ходят в школу. Старик Ковазик говорит: «Зачем грамота? Нивху надо рыбу ловить, зверя стрелять. Каша силу не дает».
Володя Чанхи пишет, что лунвские нивхи интересные люди, «экзотичные», но они плохо живут, отстали от своих колхозных, артельных сородичей. Они упрямые, им хочется жить, как жили дикие предки. Смешные, они не понимают, что все равно не могут так жить, сами не захотят: им нужна мука, ружья, они носят русскую одежду. Их не надо переселять из родного стойбища, лучше помочь им здесь развести голубых песцов, пусть работают на звероферме. Это им нравится. Они сами не заметят, как догонят колхозных сородичей.
В мое окно дует Тлани-Ла. Я вспоминаю, что этот ветер не только угнетал, но и кормил нивхов: прибивал к берегу рыбьи косяки, «присылал» нерп и сивучей, спасал оленей от гнуса, сушил юколу. Он, как хозяин моря Тол-ызн, был и добрым и злым.
8
Среда, 28 июня
Опять туман, морось, мгла. И высокий, под облака, шум, плеск залива. Кажется, можно заболеть без неба и света; проваляться на топчане до полудня, как-нибудь встать и не побриться; грустить весь день и думать «об выпить». Но можно, оказывается, подняться ночью, ко времени, когда пойдет на убыль вода, пробраться сквозь плоть тумана на пристань и уехать в залив ловить рыбу. И думать, что это вполне нормальное дело, что здесь такая земля — так было и будет всегда.
Я иду в контору на последнее свидание с председателем и не могу определить своего отношения к чайвинской погоде. Мой плащ наливается тяжестью, в горле саднит от сырого холода, морось, как липкая паутина, обволакивает лицо и руки. Неласково и неуютно; природа словно выталкивает из себя человека. И все же… Высокие туманы, стланиковые берега, северное сияние льдов не пугают меня, мне не хочется их ненавидеть. Они не сами по себе, они — среда, место, где живут люди, и если тебя примут люди — примет и эта чайвинская земля.
В окне председателя горел свет, тускло, точно сквозь рассвет или сон. Я поднялся на мокрое, разбухшее крыльцо, откинул капюшон плаща и неожиданно спросил себя: «А ты смог бы здесь жить?» И как же засуетилась моя душа: «Да, почему бы и нет. Втянулся бы. Но что я буду здесь делать? Ловить рыбу? А моя профессия? А мама как? Она ведь…» Так и вошел к Лапенко с брожением в душе и теле.
— Ты не больной? — спросил он, присматриваясь и отваливаясь к стене. — Как спал?
— Ничего. Вот погода…
— Погодка да… Но, знаешь, в такую муть зеленую рыба прет, будто чует, что ее трудно взять. Ночью поднажала… Видно, последняя волна, дальше на спад пойдет.
— Хватит вам.
— Нет, мало. Хватит — это не для нас. — Лапенко отодвинул бумаги, удобное уселся на стуле. Он явно обрадовался такому отдыху: листание бумаг едва посильное дело для него. — Если кто-нибудь из рыбаков скажет мне «хватит», я отвечу ему: низкие у тебя потребности, дорогой. И новый поселок не для тебя. Живи здесь, чахни от тумана.
— А вычерпаете все? Залив-то не с двойным дном.
— Э-э, вычерпаем… Во-первых, пока есть, а во-вторых… Вот во-вторых все дело. В море выходить надо, на активный лов. Сейнеры покупать, тралы. Отрываться от берега.
— Правильно! Только скорее, не ждать, пока…
— Э-э, молодой человек… — Лапенко выдвинул ящик стола. — Если б у меня лежал здесь миллион, завтра же купил бы два сейнера, поставил людей, и пусть пробуют море. Все трудно, когда трудишься. Оторвать от берега нивха, может, труднее, чем космонавта от Земли.
— Попросить ссуду у государства…
— А поселок? — Лапенко вытянул руку и сжатым кулаком двинул «Справочник председателя колхоза», чуть стукнул по стеклу. — Может, нам Пал-ызн его достроит? Третий год тянем. — Он убрал на колени кулак, вздохнул, как бы ослабев, проговорил с едва заметной улыбкой: — Хочу памятник себе воздвигнуть. Серьезно. Пока не вселю людей в новые дома — не уеду. А море — посмотрю… Может, и без меня выйдут.
— Не каждому под силу такой памятник.
— Пожалуй, так… И еще у меня одно есть желание. Вот это, я думаю, потруднее.
— Черпак? — попробовал угадать я.
— Почти. Но в другом плане. Вот вообрази: получит осенью нивх деньги — а в этом году порядочно придется, — куда он их денет? Пропьет? Ну, допустим, какую-то часть. Другие куда? Он любит дорогие, красивые вещи. Купит дочери часы, туфли и прочее, сыну — мотор на лодку. Отпразднует, обмоет покупки во всю силу, и к зиме на хлеб не останется. Конечно, зимой работаем, навагу ловим, но тех денег нет, авансы маленькие. И вот берет нивх ружье, подкарауливает нерп, свежует их и ест. Ест вся семья. И уж когда он входит в этот рацион, ему из магазина ничего не надо. Авансы на водку идут.
— Да, это посложней.
— Вот и ломаю голову, аж трещит. Ведь даже самый расхлябанный русский мужик побережется или баба удержит, потому что мясо нерпичье им не по вкусу. Вот и скажи, что делать? Пробовали и так и этак: придерживали деньги, авансы выдавали маленькими частями. Шли на скандалы. Водку продаем раз в неделю.
— Ну и…
— У нас теперь целая бригада непьющая. Коли Тозгуна, там ребята не пьют из принципа. Со стариками трудней.
— А болезни?
— И болезни. Туберкулез. Опять же все быт…
— Ясно. Знаете, я как раз об этом хотел поговорить. О проблемах. Мне сегодня уезжать.
— Кавун отвезет, я скажу. Небось надоело?
— Время вышло, опаздываю. Кажется, десять лет здесь прожил и на двадцать постарел. Правда. Даже борода грубее сделалась.
Лапенко засмеялся, захохотал, сотрясая и распирая свой крохотный кабинет. Каждое свое «ха-ха!» он четко отделял, будто выговаривал, раскачивался и скрипел стулом. Потом поднялся, утер глаза платком, медленно оглядывая меня, застегнул пиджак.
— А ты лучше стал, — сказал он. — Помнишь первый день… «На охоту приехал…» У нас тут своих… — Он снял с гвоздя плащ. — Пойдешь на плот? Мне надо посмотреть.
Вышли, вдохнули тумана. Холод наполнил легкие, и мне показалось, что уже изнутри он коснулся кожи, острой моросью пробежал от головы до ног. Надо глубже и реже дышать, чтобы воздух входил, согревался и осваивался. Частые «дышки» — это «хватание верхушек», глотание тумана. Это — верная одышка с юных лет. Я хотел сказать о своем открытии Лапенко, однако он приостановился, подвинулся на досках тротуара и, когда я зашел сбоку, проговорил:
— Скажи честно, — что обо мне говорят люди? Не считая Мамонову, она мне в глаза говорит. Интересно… А то, как в этом тумане, иной раз…
— Если честно…
Я запнулся, соображая, не увильнуть ли. Мы довольно часто задаем такие вопросы друг другу и очень редко говорим правду: оберегаем чужие самолюбия, нервы, не хотим расстраивать самих себя. Наконец, знаем, что как раз правда едва ли нужна тому, кто спрашивает об этом. Но меня спрашивал Лапенко — человек, который не покачнется от прямого ответа, не закатит мне истерику: «Врешь, на людей клевещешь!»
— Если честно, — кто что… Одни — славу приехал заработать, другие — нажиться. А больше — просто: диктатор, культ…
Лапенко помолчал, обдумывая мои слова, потом широко зашагал, словно убегая от меня. Минуту или две мы шли не разговаривая, мне начало казаться, что я обидел его; вдруг он опять подвинулся на досках.
— Насчет нажиться — врут… — проговорил он тихо и грустно, — боятся, напуганы прежними «сезонниками», я и не знаю, какой тут по счету… А вот что диктатор… Понимаешь, в этом трудно найти середину. Чуть отпусти — скажут: слабак, хлюпик, порядка нет. Скажут: снять надо…
Мы поднялись на плот. Здесь было все так же. Селедка, вода, лязг вагонеток, чайки, будто валившиеся из тумана, мокрые люди. Привычно, знакомо. И все равно интересно, потому что каждый раз открывается что-нибудь новое. Я стою среди слякоти и рыбьей слизи, боюсь поскользнуться и думаю: как находят «мотодорки» в таком тумане пристань? Ни компаса, ни тем более локатора. И никто еще не заблудился.
— Как? — спрашиваю председателя.
— Сам долго не понимал. Говорят, по течению. Течение все рассказывает — где коса, берег. Чайки тоже.
Я смотрю на «песенных» птиц, и мне немного жаль прежнего, городского моего чувства к ним. Здесь я не могу их любить. Они, не уставая, воруют, жрут рыбу, дико орут и поливают сверху пометом.
Стуча и сипя, из тумана выползла «мотодорка», повела к приплотку две рыбницы.
— Смотри, в одной горбуша, — сказал Лапенко; склонившись над водой, он окликнул моториста: — Из какой бригады?
— Старика Кованги!
Лапенко выпрямился, отошел от края пристани.
— Из глубинки, по правому берегу… Все. День-два, и пойдет горбуша.
— Без передышки?
— Но ее столько не будет. Так, вполсилы.
— Потом осенняя кета?
— Еще меньше.
Он явно расстроился, вяло опустил плечи, я удивился его ловецкой неукротимости, ненасытности, сказал, чтобы немного посочувствовать, а скорее напомнить — надо и совесть знать.
— Вам-то плакать? Почти два плана!
Это подействовало так, точно на него вылили ведро воды, холодной, той, что шумит под плотом; сначала он поежился, затем рассмеялся, резко и отчаянно махнув рукой, откинув полы плаща, прохрипел:
— Давай закурим!
Устроились на пустом ящике, положили руки на колени: хорошо вот так — в холод, под туманом — сжаться в малый комок, согреться и покурить. Среди суеты и спешки, в шуме и говоре. И почувствовать: можно не говорить, не придумывать разных слов, просто, раскуривая папиросы, понимать друг друга. Как в иной тихой беседе, когда тебе дают длинно и до конца высказаться.
Из конторки выглянул бухгалтер, позвал председателя. Он встал не сразу, будто недослышав. Бросил окурок, еще минуту помедлил и нехотя поднялся, разминая брезент плаща.
— Ну, всего, если не увидимся.
— Всего.
Внизу стучала, терлась о сваи «мотодорка». Я спустился на приплоток, спросил моториста, куда он пойдет.
— К Тозгуну.
— Можно с тобой?
— Давай.
Пристань пропала сразу, как только мы отвалили от нее. Под туманом была свежая зыбь, она куда-то уносилась, а наша лодка словно стояла на месте. Стучала мотором и не двигалась. Но вот появилась одна, другая чайка средь зыби, быстро уплывая за корму. Потом чайки стали налетать сверху, и мы уперлись в берег.
Колю Тозгуна я нашел у маленького, еле видимого костра из сырого плавника. Он держал над огнем рукавицы, на его широких темных скулах дрожали капли мороси. Здесь же сидел старик Навазга, подвернув ноги. Девчата бегали от костра к воде, грелись. В бригаде был перерыв: четверо рыбаков укладывали невод на лодку, готовили новый замет. Коля поднял голову:
— Уезжаешь?
— Почему так решил?
— Не приехал бы. В такую погодку Навазга собачек в дом забирает. Правда, аткычх?
Старик, кажется, дремал, ничего не понял, но все равно кивнул головой.
— Активный такой, беда! — засмеялся Коля, слегка толкнув Навазгу. — В комсомол просится.
Старик заулыбался, что-то сказал по-нивхски и принялся подправлять заглохший костер. Двумя палочками он нежно подгребал уголья, сбивал пепел, подбадривал пламя. И костер зашевелился, запылал.
— Напиши про него в газету.
— Напишу, когда примете в комсомол.
Прибежали девчата, погрелись, их окликнули с берега, они бросились назад. Поднялся и ушел старик, щурясь от смеха. Коля Тозгун надел рукавицы, спросил:
— Поговорить хочешь?
— Да нет… Проститься приехал. Может, ты что-нибудь скажешь?
Коля снял и положил к огню рукавицы, поморщился от дыма, отодвинулся, сцепил на коленях руки. Он думал, я не торопил, сел на место старика, коротенькими палочками начал трогать головешки. Лодка ушла от берега, пропала в тумане, и туда тянулся теперь, будто сам вползал в воду, невод. Где-то рядом бултыхались и одышливо фукали нерпы. Из тумана донесся протяжный, приглушенный голос рыбака, что значило: невод закруглился и правое крыло пошло к берегу.
— Ты жил, видел? — спросил Коля.
— Жил, видел.
— Ну вот, рассказывать не буду. Сам знаешь.
— Знаю.
— Только приедешь, подожди писать о нашей бригаде. Тут такое дело — Чанхи опять обогнал. Понимаешь, плохо, даже очень. У него бродяги всякие, дублоны зарабатывают. К нему лезут. Он не понимает, лишь бы в передовые выйти. Понимаешь, пьяницы — передовики. Хвалить их будут. Пили и победили. От этого только плохо всем нам…
Коля встал, поднял рукавицы, глубже натянул панаму. Потихоньку двинулись к берегу.
— Понимаешь, рыба слепая. Куда лезет, сама не знает.
— Но люди должны видеть.
— Правильно. А люди план только видят.
У воды остановились, Коля столкнул ногой раздувавшего жабры бычка, тот постоял у берега, не веря в спасение, и вяло, словно пробуя воду, ушел ко дну.
— Знаешь, я прямо в залив хочу залезть, рыбу загонять, чтобы победить Чанхи, — сказал тихо Коля. — Даже морскому старику Тол-ызну помолился бы… Это черт-человек, шаман, однако.
Рыбаки уже тянули невод, в один голос выкрикивали за туманом: «Взяли! Еще раз! Х’унда мах!» Коля прислушался, глянул на часы, повеселел.
— Хорошо метнули. Еще два прилива — и рыба кончится. Может, устоим? Как думаешь?
— Надо. Я тоже помолюсь!
— Н’иг’ыдра! Спасибо! — он тряхнул мою руку и побежал к рыбакам, расплескивая сапогами набегавшую на песок гладкую воду. «Мотодорка» подцепила рыбницы, ждала меня.
На плоту около будки Кавуна поставили длинный стол, и на нем женщины разделывали горбушу. Острыми ножами вспарывали животы, вырезали жабры, сталкивали рыбу в корыто с водой. Руки резчиц по локти были в крови, кровь капельками стыла на фартуках. Мальчишка ведром доставал воду, лил на доски плота. Кавун взвешивал носилки с горбушей, суетился, кричал на кого попало. Мне он сказал:
— Приходи в пять часов. Повезу. Как раз прилив будет.
Из засольного цеха вышла Мамонова, вложив руки в карманы телогрейки, тяжело прошла к столу, к женщинам. На ней та же коричневая городская шляпка, губы чуть подкрашены. Постояла, наблюдая, как длинно и быстро ходят ножи, наклонилась к деревянному корыту, достала рыбину, вытянула в руке и посмотрела на свет. Ни на ком не остановив взора, двинулась дальше, обошла плот, глянула в рыбницы, только что причаленные, что-то ворчливо сказала Кавуну. Тот заговорил мелко и крикливо. Увидев меня, Мамонова слегка кивнула — так приветствуют незнакомого человека на плоту — и медленно пошла к воротам засольного цеха.
Еще из какой-то бригады привели рыбницу горбуши. Рыба шевелилась, веско вскидывалась, не заплывала слизью и чешуей — совсем не была похожа на вязкую селедочную массу. В рыбницу спрыгнул метальщик с крючком на длинной палке. Он принялся ловко поддевать горбушу под жабры, выбрасывать на плот. Шлепаясь на мокрые доски, сине-белые рыбины изгибались, били хвостами, расползались в стороны.
Все, селедке конец. В залив пришла новая хозяйка.
Мне надо было сходить в гостиницу, уложить свой рюкзак, что-нибудь поесть. Я сбежал с плота и, отыскивая в тумане дорогу, зашагал в поселок.
По тротуару кто-то часто, негромко стучал резиновыми сапогами, приближался. Из мглы выделилась маленькая фигурка, я узнал Гришу.
— Подожди, — сказал я, поймав его за плечо. Гриша остановился, открытым ртом хватая воздух и перебирая ногами, как схваченный арканом олененок. — Уезжаю.
— Уезжаешь? Корошо. Чего тут…
— Немножко жаль.
— Чего тут жалеть? Тут только рыба.
Мне захотелось сделать что-нибудь приятное Грише: пусть он помнит меня. Ведь мы можем через много лет встретиться, быть друзьями.
— Тебе прислать что-нибудь из города?
Гриша отвел глаза, его плечо под моей рукой вяло опустилось, он уже не торопился на плот.
— Серьезно. Может, спиннинг с катушкой?
— Дорого стоит… — еще дальше отвел глаза Гриша.
— Ну, подумаешь. Заработаю и пришлю. Когда вырастешь, отдашь долг.
— Ладно, — сказал, вздохнув, Гриша. — Только маленький, дешевый.
— Там посмотрю.
— Ладно…
— Ну, давай пять.
Он чуть прикоснулся к моей руке и бросился бежать, чтобы я не успел раздумать, потом остановился, глянул на меня; убедившись, что я действительно существую и даже улыбаюсь ему, он исчез в тумане.
В моем гостиничном жилище сумрачно и пусто. Пришлось включить свет, растопить печку. В который раз я заметил: стоит человеку взять в руки веские, пахнущие смолой поленья, как он перестает быть одиноким… Кладу крест-накрест сухие дровины, настругиваю длинные курчавые стружки, похожие на священные «нау», знаю — сейчас заговорит со мной огонь, и тихонько напеваю однообразный нивхский ритм — приветствую красноязыкого друга человека. Ставлю на плиту чайник: надо, чтобы кипела вода, булькала, сипела. Задерживаюсь посреди дома, осматриваюсь, решаю — не хватает «аромата», бросаю в огонь ветку стланикового веника и сажусь к столу. Теперь все в порядке. Можно полистать записную книжку, кое-что записать, кое-что вычеркнуть.
Сижу долго, выносливо. Сипит чайник, мягко и упруго поухивает в печи неиссякающий, чистый огонь, туман течет по стеклам ручьями, а спину мою охватывают волны тропического тепла. Но вычеркнуто мало, еще меньше записано: я неопытен, не умею быстро осмысливать, компоновать материал. С некоторым страхом думаю о своем будущем очерке, о встрече с редактором: это «боевое крещение» определит мою журналистскую судьбу. Меня начинают распирать сомнения. То кажется, что глупо будет, если я вздумаю писать обо всем, а через минуту говорю: «Надо шире, охватнее, без этого ускользнет жизнь, сработаю газетную однодневку». Наконец поднимаюсь и открываю настежь окно.
Туман, стоявший у стекол неподвижно, бросается ко мне в дом, клубится, рвется в тепло, но дальше стола пройти не может: опадает моросью, убитый теплом. Слышу море, голоса и плеск, дышу сыростью, солью, беспокойством. Забываю о записной книжке. А туман все рвется в окно. Он умирает уже по эту сторону стола, у меня на руках, потом, окропив мне голову, проходит за спину. Он может поглотить тепло, и я закрываю окно.
Смотрю на часы — половина пятого. Укладываю рюкзак, греюсь чаем, глотаю его коротко и часто. У порога останавливаюсь — не забыл ли чего? — киваю в сторону топчана (он смотрит на меня карим сучком в доске изголовья), запираю дверь на палочку — теперь это будет означать, что гостиница свободна, — и по мокрым ступенькам спускаюсь на мокрые доски тротуара.
Выхожу к воде неподалеку от плота, отыскиваю председательский «лимузин», бросаю в нос рюкзак, присаживаюсь на борт. Кавун шел в тумане по доскам. Я угадал его расхлябанную, с пришаркиванием походку. Но с кем он говорил, нельзя было понять, потому что никто ему не отвечал. Он обозначился мутным пятном, возле него появилось еще одно пятно, поменьше, и вот я уже вижу: Кавун идет с собакой на поводке.
— Зачем собака?
Кавун усмехается, молчит, и, пока он достает папиросы, угощает меня, сладко затягивается дымом, жду ответа.
— Тебе собака.
— Мне?
— Тебе. — Кавун, уже серьезно, хлопает лайку по круглой шерстистой шее. — Хороший собака, не пожалеешь.
— Продаешь, что ли?
Теперь Кавун рассердился, часто засосал папиросу, будто приглушая злость, швырнул окурок в воду.
— Такой собака продать?.. У меня здесь пока есть… — он постучал себя по лбу. — Дарю! Понимаешь?
— За что?..
— Ай-яй! — Кавун шлепнул себя по колену. — Ты пьяный, однако. Чего не понимать? Понравился мне — и дарю! Такой нивхский закон.
— Спасибо, Кавун.
— Держи. — Он сунул мне поводок, заусмехался снова, радуясь моей растерянности и своей щедрости. — Вспоминать меня будешь.
Я осторожно взял поводок, следя за глазами собаки, спросил:
— Он ничего?..
— Ничего. Веди в лодку. Пока довезу, познакомитесь немножко. Звать его Мирл.
Мирл охотно прыгнул в лодку, выбрал посуше место, лег. Я присел возле него. Кавун оттолкнулся веслом от берега, завел мотор.
Ехали в тумане, огибали острова и косы, чуть не столкнулись с «мотодоркой», тащившей две рыбницы. Ехали неспешно, осторожно. И все это время я знакомился с Мирлом. Он положил голову на лапы, мигая коричневым глазом, поглядывал на меня. Он был огромен и красив: в желтых и черных пятнах, с торчащими ушами, с загнутым в кольцо пушистым хвостом. Шерсть у него уже вылиняла, — наверно, хозяин хорошо кормил мясом, — поблескивала. Я шевелил губами, разговаривал с Мирлом. Под конец он позволил, погладить себя между ушами.
Лодка по высокой воде подплыла к самому обрыву, я выпрыгнул, подтянул нос. Перемахнул через борт Мирл, и вышел на берег Кавун. На прощанье помолчали, покурили. Мирл оставил в кустах меты, запомнил место.
— Пойдет? — спросил я.
Кавун потрепал Мирлу холку, проговорил несколько нивхских слов, из которых я понял одно: «Урд» — хорошо.
— Давай так, — сказал он мне. — Сразу бегом. Оглядываться не надо. Беги, пока не устанешь. Так он забудет. Давай…
Я дернул поводок, побежал в гору.
— Живи! — крикнул Кавун.
Мирл рванулся, натянул поводок, и мы скрылись в кустах стланика, под лиственницами.
Впереди, далеко за лесом, погромыхивал поезд.
Вечерние размышления
(через неделю)
У меня в комнате тихо, уютно-сумеречно от пригнутой настольной лампы. За окном ни ветра, ни тумана.
Я мерю свои четыре половицы между столом и дверью, а Мирл лежит у раскладушки, во сне подергивает носом, длинно вздыхает. Я хожу и думаю о своей беседе с редактором — она то успокаивает меня, то обидно тревожит. Я чего-то не понимаю или придумываю себе непосильные трудности. Неужели всем так не везет с первыми корреспонденциями?..
Еще в поезде я начал писать очерк. Через три дня показал редактору.
— Не пойдет, — сказал он. — Много экзотики. Газета — не художественный журнал.
Я написал статью. Редактор огорченно покачал головой:
— Много проблем и отсебятины. Не соответствует действительности. Лично выяснял — звонил Лапенко, Мамоновой. У них нет особых претензий.
— Так и ответили?
— Да.
Я отыскал заметку, которую сочинил в Чайво, переписал ее, выбросил громкие слова, упростил содержание; принес в редакцию.
— Это другое дело, — кивнул редактор. Он попечалился над заметкой, кое-что вычеркнул, подправил и отослал в набор.
Сегодня я прочитал в газете:
«У чайвинских рыбаков
Рыбаки национальной ловецкой артели «Восток» берут богатые уловы. Одна-две недели решат судьбу путины. Колхозники понимают это и покидают тони только для того, чтобы обсушиться и отдохнуть. Организована доставка горячей пищи на тони. В первых рядах идут комсомольско-молодежная бригада Николая Тозгуна и бригада опытного рыбака Чанхи, три года подряд удерживающего первенство. С каждым днем ярче разгорается пламя соревнования. На передовиков равняются отстающие.
Но есть и неполадки, которые мешают чайвинцам в их самоотверженном труде. Рыбозавод «Ныйво», обязавшийся своевременно принимать и вывозить отловленную рыбу, не всегда четко справляется со своей задачей. Были случаи, когда не хватало соли, бочкотары и т. д. Надеемся, что руководство рыбозавода примет надлежащие меры, устранит недостатки».
Редактор вызвал меня, ткнул пальцем в заметку, спросил:
— Видели?
— Видел… Но…
— Сколько дней в командировке были?
— Восемь.
— Отдача маловата. Восемь дней на заводе — знаете что?
— Знаю.
— То-то. Хорошо, что доходит.
Редактор помолчал, погрустил, глядя в окно, за которым сияло чистое теплое небо, а у магазина напротив смеялись легко одетые, смуглые от солнца женщины, сказал мне:
— В общем, для начала ничего. Сойдет.
И он улыбнулся: поддержал начинающего товарища.
1963
БЫЛ ЛИ ТЫ ЗДЕСЬ?..
1
О, привет, привет! Как? По такому снегу? А машину где оставил, в поселке? Я так и подумал. Долез, дополз. Ну, давай сюда, на твердое. Держи руку. У-у, замерз! Откуда в мою глушь, даль, туман и мороз? Из Москвы? Да как ты там оказался? Летом приезжал, неделю жил, после осенью я тебя в Южном видел. И вот… Ладно, потом разберемся. Знакомь со своим дружком, шофер, наверно. Хорошо, рука крепкая — парень вроде ничего. И смеется приятно: сразу вижу, выпить и закусить «не любит». Это тоже мне нравится. Сейчас соорудим, погреемся… и поговорим, как поговорим!
Ну, прошу в дом. Что, осмотреться сначала хочешь? И это правда — как-никак, а родные места. Какой раз приезжаешь? Третий? Значит — родина. Тянет что-то. Посмотри, посмотри. А я постою, помолчу. Видишь, снег какой — прямо горы белые. Домишки наши маленькие стали, будто увязли. Деревья тоже. Летом-то помнишь какие они — под небо. Теперь и не шумят вроде. Глянь на заводишко наш. Он тебе нравился, ну опять же летом — голубой, длинный, стеклянный; вода журчит. Теперь под снегом весь, завалило, да это и ничего: икра проклюнулась, мальки в питомник спустились, дремлют, и света им немного надо. Ты это и сам знаешь. Словом, гляди не гляди — не тот пейзаж. Мне даже как-то неловко, будто застал нагишом: все летом меня видел, когда я в полной форме, дурной от работы, заезженный, как кляча, худой, злой, но проворный, на все меня хватает: могу и обласкать сердечно, и матом обложить, если что не так. Словом, когда у меня порядок душевный. Другое дело сейчас: обленился, сплю, пью, хоть и противно одному к бутылке присасываться. Привык к такой жизни, годы научили. Лето — горячка, зима — спячка. Есть, конечно, и теперь кое-какое дело, но так себе… Потому и говорю: застал ты меня не в форме. Уж не придумал ли ты сам — посмотреть меня зимой? Ладно, не допрашиваю. Все равно рад. Смотри сначала зиму, потом меня. Вон, видишь, между сугробами пар — это наша речка на перекатах дымится, от нее и деревья белые, инеем обросли. Пушистей, чем летом, правда? А чуть подует ветерком — посыплется пороша, легкая, искристая, и долго висит в воздухе, моросит на сугробы. В ней иной раз радуга загорится, пылает среди лиственниц, чудно как-то. А морось едкая, колючая, льдинками лицо сечет. Ну, это уж совсем ни к чему я завел, в художества ударился. Глянь лучше за огород, вон моя лыжня едва виднеется — так все здесь чисто, — это я на речку хожу, речку ты знаешь — Таранайка наша. Где плотина, забойка. Там я рыбалю, проруби долблю. Хорошо корюшка берет. Мы с тобой туда еще сходим. Ты лес посмотри, что на берегу. Тополя как веники-голыши, липы как метлы, а березки как в парной исхлестаны. А вместе все — царство Берендея, русская народная сказка, хоть и Сахалин здесь. Прислушайся. Нет, хорошенько, до звона в ушах. Ну? То-то! Это лед трещит, будто хрустальные стаканы лопаются. Таранайка тебя приветствует.
А теперь в дом. Вон уж наш народ из снежных берлог валит, смотрит, дивится — свежий человек, не с неба ли свалился. Сейчас подойдут граждане Таранайки, обступят, потрогают, послушают: не наважденье ли спросонок? А я нет, не уступлю. Сначала ко мне — проявлю такой эгоизм. Перед вами дверь, прошу, дорогие гости!..
Раздевайтесь, вешайте пальто и шапки. А ноги — ничего, не колотите так: у нас грязи не бывает, пыли тоже. Снег, чистота. Проходите, вот вам стулья. Закурим для порядка. Хорошо. Запахло у меня дымком нездешним, городом запахло. И от вас и от ваших папирос. Даже чуточку сердце кольнуло: подумал о своей дальней дали. Это у меня бывает, подумаю: зачем я здесь, почему?.. Ерунда. Человек любит прибедняться, душу себе бередить. Вот и я иногда… А в общем, нет, креплюсь, да еще как.
Кажется, кто-то пришел, дверь хлопнула. А-а, Машенька из школы. Иди сюда, Машенька! О, как тебя снегом залепило. Жива? Замечательно и прекрасно. Познакомься с дядями, одного ты знаешь, вот этого, — у него нос картошкой, как у тебя, — он тебе книжку еще подарил. Писатель. А другой дядя — шофер, из Южного. Хороший, должно быть, человек, смотри, как тебе улыбается, и в карман полез, наверно конфету даст. Скажи «спасибо», так, молодец. Она у меня и вправду молодец: в школу за семь километров ходит, не боится, раз только косолапый ее напугал: всю осень тут поблизости бродил. Пришлось подстрелить. Посмотри, посмотри, какая у меня дочка. Последняя, зато лучше всех других. Глаза у нее материны, мутноватые: не знаешь, что в них прячется, а в другом во всем — полный я. Узнаю свои кровные черточки, рад не рад. Такая сама себе «дорогу ясную» пробьет. Правда, Машенька? Недаром на свет явилась. Другие дети — не то. Сын Колька — ты знаешь его — школу бросил, у меня на рыбоводном работал кое-как, выпивать научился, за девками… Рад был, когда в армию взяли, молил бога, чтоб к хорошему старшине попал, получил настоящее образование, на всю жизнь. Дочка, старшая, из Москвы не вернулась, кончила финансово-экономический и замуж вышла, так и не вижу ее уже семь лет. И видеть как-то не очень хочется: отвык, не понимаю ее, а может, и потому, что не моя она, не родная. Все от матери своей унаследовала: как бы устроиться, как бы не хуже других жить.
Да вот еще о Кольке. Удружил он мне перед самой армией… Сижу я как-то вечером на скамейке возле дома, газеты перебираю — накопилось недели за две. Тихо, свежо. Люблю такие минуты — усталость спадает быстро, как тепло дневное. Слышу голоса, шаги по сырой траве. Подходит Колька, останавливается чуть на расстоянии, молчит. Догадываюсь — неладно что-то. Спрашиваю: может, беда какая? Нет, говорит, дело очень важное. Поворачивается к кустам, негромко зовет: Рита, иди сюда! Медленно выбирается на поляну Рита, в ситцевом платье, худенькая, пугливая. Я узнал ее — дочка сторожа с рыбозавода. Дрожит от страха, ртом дышит, — наверно, насморк замучил. Колька берет ее за руку, чуть придвигается ко мне, говорит: батя, мы пожениться хотим… Всего я мог ожидать, но только не этого, и рассердился. А мне все казалось, что я на день раньше могу угадать любую мыслишку своего сынка. Захотелось мне снять ремень и… Но глянул на них, и смешно стало, стоят два оборвыша, стыдятся, дрожат и, пожалуй, уже ненавидят друг друга за беспомощность и унижение. Женитесь, этак спокойно говорю я, можете прямо сейчас. Молчат, глаза в землю уперли. Я поднимаю газету, отгораживаюсь, чтобы не рассмеяться. Они пыхтят, вздыхают. Потом Рита отталкивает Кольку, вырывается и бежит к дороге. Через минуту уже не слышно топота ее босых ног. Колька сжимает кулаки, делает еще полшага ко мне, говорит заикаясь: «Ты, ты…» — и тоже убегает. Словом, сын у меня — экземпляр. Как-нибудь после о нем.
Смотришь — жены нет? В район уехала, по делам, а оттуда — в Южный, погостить: у нее там мать, сестра, еще кто-то. Она ведь сахалинка. А здесь, на рыбоводке, — начальство наше, директор. Я подчиненный у нее и заместитель, конечно: старший техник. Так семейно и заправляем. Почему она стала директором? Просто. Мы с ней этой должностью уже несколько раз менялись. Осенью ко мне дружок приехал, вместе когда-то бичевали, ну я и загулял. Недельку мы с ним бусали, не до работы… А тут кета шла, икру надо было брать. Меня по шапке, ее назначили. Правильно. И мне так легче: я работаю, она в конторе сидит. Это все ничего, пустяки. У меня с ней другие разногласия. Ладно, потом доскажу.
Заговорил я вас, уморил. У меня так — не попадайся, набрасываюсь, как пес голодный на еду. Балдею от бессловесности. Ну, пойду, приготовлю закусить, а вы отдыхайте. Вот газеты, журналы «Огонек», «Крокодил» и, представьте себе, «Нева». Выписываю больше за название: слово «Нева» нравится.
Машенька, ты где? Мой руки, и пойдем приготовим на стол. Мы сейчас с тобой, быстро. Ты хлеб, колбасу, рыбу режь, потом в погреб за капустой слазишь. А я картошку начищу. Печка у нас еще горячая, дровишек сухих только подкину. Что? Помочь нам? Нет, нет! Ты уж сиди, отдыхай. Да и тесно втроем здесь будет. Мы разом, поскучай минут двадцать. Правда, Машенька? Так, молодец, хлеб потоньше режь — городские они, в ресторанах бывают в своей Москве. Знаешь, там «Националь» ресторан есть: люстры хрустальные величиной с наш дом, окна под потолок, шик, блеск, столики с полным прибором и официанты красивые, как киноартисты, блюда вкуснейшие разносят, «силь ву пле», «мерси» говорят. Закажешь сто граммов водки, музыку слушаешь, джаз из пяти человек — здорово, культура. Еще выпить захочется. Эх, помню, кутнул я там… Ну, это уже неинтересно. Вот тебе чашка, Машенька, и в погреб ныряй. Набери из той кадушки, что справа, там капуста с укропом и морковью — хрустит, как сено у нашей телки на зубах.
Так мы с Машенькой и управляемся вдвоем, мать у нас — интеллигенция, бумажки подписывает. А если приготовит что, сама не ест. Вот уж и старой стала, пора б и поумнеть. Нет. Жизнь, вишь ты, не удалась, не так задумана была, оттого и посуду не любит, и от дома морду воротит. Ну, опять я о ней… Пустяки. Нас никто не рассудит — ни здесь, в стойбище живых (как говорят нивхи), ни там — в стойбище мертвых. Вот Машенька у меня — это вещь. Конечно, вещь в себе — хитрющая, но ничего, пока я ее понимаю. А дальше видно будет, что из нее произрастет и как стричь это растение.
Правда, Машенька? Клади капусту, сюда, в тарелку — в чашке некультурно. Смеешься? Дай я тебя за косицу дерну, чтоб искры из глаз. Любил так девчонок дергать — потом посмотришь в глаза: злющие, от слез блестят и красивые, как стекла разбитые. Ну, ты не понимаешь этого. Посмотри картошку, ткни ее вилкой, — может, сварилась. И посоли, покруче, по-нашенски. Под водочку. Так. Теперь из стола банку икры достань, ту, что запечатана, она свежей. Ставь ее сюда, сейчас я ее ножом вспорю. Соорудим стол такой, чтоб запомнился им «до дней последних донца»: на самом краю России — Сахалине, на самом краю Сахалина — Таранайке. Стол: Москва — Таранайка. Чтобы писатель потом написал: «Старший техник рыбоводного завода Степан Кочуев потчевал нас необыкновенными, редчайшими, от северной земли и моря яствами. На столе была икра, балык, морская капуста. И, представьте себе, свежее молоко! Здесь, за девять тысяч километров от Москвы!» Да, как будто в Москве коровы доятся. Вот давай, Машенька, постарайся, чтоб такое потом прочитать. Слышишь, он уже пыхтит за стенкой, накаляется, как наша плита, сейчас понесет нас. Но я его опережу…
Скажи лучше, что пить будем? Как у вас в клубе писательском — больше коньяк употребляют? Его, говорят, и после инфаркта можно? У меня выбор маленький: «сучок» и спирт. Предпочитаю последний. Девяносто шесть градусов. Как? Никаких отклонений, кроме потери равновесия, не дает. Да и зачем оно нам здесь — раскачивайся на сто километров в радиусе, никого не заденешь, и ни одного вытрезвителя. Как, писатель? Помнится, мы употребляли? А у друга твоего не спрашиваю: шофер, младший брат, подчинится большинству. Так, слышу приятный рокот ваших желудков. Ставлю на стол девяносто шесть. Знаешь, я к старости замечаю: мало люди меняются. Год прошел — и ничего, «в душе ни одного седого волоса». Даже столица, можно сказать, ни при чем. Она сама по себе, человек — сам по себе.
Слышишь звон бокалов? А вот — буль-буль — что это? То-то. И запах, аромат! У нас ведь нюх особый на все такое, как у лаек, напавших на заячий след. Ты что, встал уже? Нет, погоди. Позову. Выдержка в любом деле — великая вещь. Выдержу тебя. Созрей. Машенька, все у нас на столе? Луку, говоришь, не хватает. Правильно, молодчина. Неси его, да побольше, приправлю селедку, она у нас здесь — лучший фрукт, десяток проглотить можно. Стань теперь здесь, а я отсюда посмотрю. Красного много, белого — капуста, картошка, лук — в норме, рыжего — тоже ничего. Вот зеленого — недостаток. Без него стол как свадьба без гармошки. Что бы придумать? Пожалуй, вот что: тащи с подоконника цветок в горшке. Тащи, тащи. Есть мы его не будем. Поставим посреди стола, пусть напоминает лето, озеленяет нас. Во, хорошо, не надорвалась? У тебя живот крепкий, на добрых харчах растешь. Теперь — то что надо. «И дерево зеленое шумит над головой». Как думаешь, Машенька, они там, за стенкой, готовы? Может, рано еще? Человек как плод, должен для любого дела созреть. Писатель, как ты? О, рычишь зверем! Значит, еще полминуты. Вот когда заревешь белугой…
А-а, пришел, не выдержал. Аж покраснел. Смеешься. Узнаешь Степана Кочуева — он ведь ничего запросто не делает, со значением любит. Ну, зови друга — и за стол. Ты вот сюда садись, справа от меня, он — слева, Машенька сядет напротив меня. Возьмем вас в домашнее окружение, и держитесь: не сдаваться, не отступать, биться до последней рюмки, до последнего хвоста селедки. Смешно? Посмейтесь, а я налью. По первой — полной. Держите. Вилки взяли, к закуске прицелились? Замрите на минуту, прислушайтесь к миру — этому, что за окном, и тому, что за лесом, за Таранайкой, — к миру всей земли. Вот вижу, вам еще больше захотелось захмелиться. Теперь слушайте мой грустный тост: «Рад вам, как космонавтам, на своей далекой, тихой, снежной планете». Выпьем. Вдох, выдох — и… закусим.
Мне нравится эта минута — когда спирт обжег все внутри и человек, затуманенный, чуть ошарашенный, набрасывается на еду. Он плохо видит, еще хуже различает вкус, но ест жадно, быстро — тушит вдруг вспыхнувший пожар голода. Стучат вилки и ножи, хрустит, шипит пища, вздыхают и охают желудки. В этом столько жизни, так она вдруг обнажается — хоть рукой потрогай. И понимаешь: на этой жадности к еде и держится любая жизнь.
О, я вижу, ты сделал большие глаза, вилку опустил. Не по нраву моя философия? О духе, воле человека забыл? Но ведь это моя философия, а я мыслитель местный, таранайский, да еще спирту выпил. Прости.
И прошу — выше вилку! Вот тебе поближе икра, рыба, картошка. Буду молчать. Но только вот что тебе скажу: нравится мне твой друг шофер. Он лучше меня: он совсем мало думает — просто живет. А ты против него и вовсе дикарь. Смотри, как он ест, пьет, какие у него руки. А щеки! Это же мышцы для пережевывания пищи. И нервы — веревки вить можно. Вот он и смутился. Способен, оказывается, — цивилизация слегка подпортила. Но все-таки человек, истинный человек!
Ведь я и болтаю, шучу больше от нетерпения — послушать, узнать то, что вы привезли с собой. Мне все интересно. Начинай, писатель. Во-первых, как ты попал в Москву. Ведь еще прошлой осенью я видел тебя в Южном. Где видел? В кафе. Зашел пообедать, согреться немного: снег с дождем хлестал, погодка была собачья. Смотрю — сидишь с каким-то дружком, дамочки тоже. Почему не подошел? Привычки такой не имею: у вас компания, разговор. Не люблю соваться, заявлять о себе. Глупо, говоришь? Может быть. Потом и сам ругал себя — так хотелось руку тебе тряхнуть, двумя словами обменяться. Взял сто, кивнул твоему затылку. А вышел, чуть не заплакал от обиды на тебя: показалось, что ты увидел меня и отвернулся. Знаю, что сам это выдумал. Но такой я дрянной человек, бревном меня не перешибешь.
Опять перебил, извини. Меня так и тянет то в ту, то в другую сторону. Значит, как ты попал в Москву? Просто, говоришь. Учиться поехал. На кого же? Писательские курсы? Высшие? Что это такое, неужели и на писателей учат? Не знал. А то бы и я тоже… Шучу. Хоть ты и ценишь мой талант слова, писака из меня никакой. В дневник кое-что нацарапать могу, по вдохновению, больше от скуки. Я еще тут насочинял, после покажу. Так, чему же научился — лучше писать стал? Нет? Жалко. Зато культурней сделался: пиджак ненашенский, в клетку ржавую, брючки папиросками «Прибой», ботинки на шине. Поначалу и не заметил. И с лица вроде сбавил. Много трудишься или питание неважное? Жинку не бросил? Нет? И то хорошо. Хотя кто знает, что лучше. Я вот не люблю свою жену — думаю, что и у других такие. А правда, ты переменился, что-то такое появилось… нахальное. Нет, не для меня, вообще. Будто чуть сверху стал смотреть. Тебе не кажется? Нет, говоришь. Конечно, ты понимаешь, что на меня, на Таранайку, на тайгу сверху смотреть нельзя — ничего не увидишь. Но бывает, знаешь, незаметно что-то сдвинется в человеке, он бы и рад назад, а ходу нет — заклинило, как в моторе перегретом.
Ты рассказываешь о Москве: театры, музеи, стадионы. Движение, темп. «Голого короля» в «Современнике» смотрел — здорово, три часа смеха. Выставка в Манеже. И ваш клуб, где стенки расписаны карикатурами и стихами. Конечно, это не вся Москва, это — капелька ее. Но все же — Москва. Я и того не видел, только рестораны помню. И как-то не жалею: подолгу жить в столице не приходилось, с налету брать ее не хотел. А думать об этом думал. И понимаю, почему ты и другие тянутся к Москве. Конечно, я не говорю в тех, кто вокруг магазинов продовольственных селится, осваивает их. О тебе говорю. С тобой труднее. Ну поселись ты на Таранайке, проживи здесь двадцать лет, выпей столько водки, как я, и посмотрю потом — что из тебя за писатель. Хочешь, возьму рангом выше — город Южный, областной центр. Там лучше, просторнее, даже драматический театр есть и пять ресторанов. Кино и прочее. Ты там жил, писал, иногда неплохо получалось. А ведь сбежал, почему? Ты знаешь почему, я тоже знаю: жить можно, писать — трудновато, заскорузнешь, друзьями «грустными» обзаведешься, небо с овчинку станет, земля — с пятачок. Не помогут ни горы огромнейшие, ни моря бескрайнейшие. Экзотика сыграет в ящик. Среды нет — так это, кажется, называется? А четверг не поможет. Среда везде среда. Вот мы из икринок рыбу выводим, понимаешь, рыбу — не писателей, а среду создаем: приток свежей воды, температура, полусвет и разное другое. Наша среда кету и горбушу выращивает. Московская — писателя может вырастить. Конечно, не каждого. Но каждого талантливого. Москва — это вся Россия сразу, как в капле океан; в Москву писатель должен идти, как мусульманин в Мекку.
Что насупился, не согласен? Не совсем? Не нравится, что Москва — вся Россия? Давай еще вот примем, потом поговорим. Держи. Хочешь, водой запей, есть холодненькая. Я не запиваю, горло луженое, несильно пробирает. Так, взяли. Помолчим, постучим громко вилками. Ну вот, отлегло, отпустило и загорелось легким пламенем внутри. Сжигает. Чувствуешь, как понемногу отлетаешь в потусторонний мир… Согласен, не спорю — Москва не вся Россия и никогда ею не была. Но была Москвой. И потому скопила в себе все российское. Знаешь, как сердце: что бы ни случилось где-нибудь в теле — в сердце метка остается. В этом смысле Москва — Россия. Согласен? То-то. Писателю, как кровяному шарику, надо пройти, протечь через Москву. Да и не только писателю…
Перейдем к другому: зачем ты на Таранайку приехал, сейчас, зимой? Ведь к нам даже летом редко кто забирается. Ну, из начальства кто-нибудь, корреспондент, рыбак ошалелый, которому сто километров не расстояние. А из Москвы никто, никогда. Подумай, пока я займусь другим делом. Машенька, допивай чай — и в постель. Хватит слушать, уши большие вырастут и скоро постареешь. Не хочешь быть старой, беззубой, горбатой? Отправляйся спать. Можешь немного почитать, совсем немножко — полчаса. И не хмурь так жутко глаза: ведь тебя только я боюсь, другим не страшно. А то сейчас кое-что о тебе расскажу…
Помнишь, ты ей книжку подарил свою? Она ее в школе всем показала — такая честолюбивая тварь, — похвасталась, что у нее знакомый писатель. Весь класс прочитал от корки до корки, учительница предложила написать автору письмо. Написали, послали. Ты еще в Южном был. Ответил и прислал другую книжку для школы. И как, ты думаешь, отнеслась к этому Машенька? Пришла в слезах: почему ты ей лично не прислал? Понимаешь, ей — и все. После, когда подошла ее очередь в библиотеке, и она взяла почитать эту книжку, — полгода держала у себя, не хотела отдавать. Учительница пожаловалась мне, пришлось отнять и в школу отнести. Что, покраснела? Стыдно? И поругаться со мной не можешь: гости мешают. Трудно тебе, сочувствую. Ладно, отомстишь потом: пол не помоешь или суп не сваришь. А теперь — спать. Так, вымой руки, скажи «до свидания». Спокойной ночи, девочка.
Сдвинем теснее ряды, что ли? Мужская компания — это здорово. Как и женская, говорите, для женщин? Ну, насчет женщин точно не знаю — как у них и что у них. Они ведь в юбках ходят… О нас другое дело, тут я — глубокий психолог, могу на доктора выдержать. Да, мне кажется, когда мужчины остаются одни, они молятся своему великому мужскому богу. Говорят — молятся, пьют — молятся.
Помолимся. Помолчим, и ты расскажешь, зачем приехал ко мне. Только не ври — что повидать, соскучился. Ты, в общем-то, деловой человек, просто так за десять тысяч километров не прикатишь. Нет, я и не думаю тебя «критиковать», разлагать на хорошие и плохие стороны. Мне, может, больше нравится, когда человек ничего не делает просто так (для этого жизнь коротка), когда его нельзя разложить на гласные и согласные. Хочу предупредить: давай сразу и прямо.
Ну?.. Почему притих? Думаешь, как половчее обвести? Так, у тебя заекало в горле, рождаются слова. Вот уже слышу: командировку журнал дал. Значит, очерк писать будешь? Обо мне, Таранайке, моей жене?.. Хорошо. Но это неправда. Извини. Очерк ты мог бы написать, не приезжая сюда: черкнул мне письмо, я тебе — цифры этого года. Остальное известно. Еще что-то сказать хочешь? Потянуло, говоришь, сам не знаешь почему. Наверно, надо для чего-нибудь, говоришь. Может, повесть писать будешь или рассказ. Вот это ближе к делу. Понимаю. Было все, не хватало духу. Духу — начать писать повесть. А дух в письме не перешлешь. Приехал потрогать меня, подышать таранайским воздухом. Помнишь, года два назад мы форелей ловили, потом ужинали на речке, потом долго говорили, дремали. Потом роса выпала, холодно стало, и мы ночью пошли домой. Ты шел, молчал и вдруг сказал: «Знаешь, вот сейчас что-то стукнулось в сердце, и я почувствовал: напишу обо всем этом». Видишь, два года назад… А теперь настала очередь, ты созрел. Но не хватало смелости. Вот за ней ты и приехал. Так?
Ты молчишь, писатель, и даже сердишься. Я устроил тебе допрос, суд. Но представь себе, я знал, зачем ты приехал, поэтому устроил тебе допрос и суд. Я — твой герой, ты будешь обращаться со мной как захочешь, сделаешь из меня то, что тебе вздумается. Но это потом, в повести, а пока я твой товарищ, и, заметь, старший. И не дурак, хотя и выпивоха. Так вот, если дети не могут влиять на родителей до своего рождения, то я, будущий герой твоей повести, хочу до появления на свет повлиять на тебя — своего родителя. И вот почему — я заинтересован. Во-первых, моя жизнь, если ты хорошо напишешь, станет более… ну, как сказать… более жизненной, что ли. Она станет жизнью не только для меня и Таранайки — жизнью для многих. И продлится на многие времена. Во-вторых, я хочу, чтобы ты сказал правду обо мне. Нет, не надо точности: как, что, когда. Не буду придираться. Не надо моей фамилии, хотя дело твое. Нужно это: прижми руку вот сюда, к моему сердцу, послушай. Бьется? Да, бьется, и еще крепко. Зачем оно бьется? Почему, для чего? У одних оно в Москве, у других — в Тобольске, у меня — на Таранайке. Двадцать лет на Таранайке. Если оно у тебя в повести не умрет — дело будет сделано. Хочу, чтобы моя суть осталась на земле, среди людей. Чтобы моя душа не отлетела в небо, как дух, а жила еще долго на земле…
О, у тебя удивленные глаза. Ты не ожидал от меня такой, извини, наглости. Ты думал, я бессловесный герой, материал? Да, может быть, материал, но не бессловесный. Я — как то полено, из которого папа Карло вытесывал Буратино: сам подсказываю, как лучше меня сработать. И если хочешь, думаю, как расчетливее тебя использовать, чтобы не пожалел для меня ни силы, ни времени… Ты опять недоволен? Ну, скажу последнее, и все: я — материал, ты — мастер. Согласен. Но мы будем бороться. Я буду подсказывать и сопротивляться, ты строгать, тесать, рубить и делать из меня вещь на века.
Ты смеешься? От грусти и злости — к смеху? Я тоже смеюсь. Я ждал этой встречи, обдумал ее. А теперь выложил все. Напугал, правда? Но основное, пожалуй, донес. И черт с тобой и с твоим сердитым юмором. Я тоже юморист: как на перекладной, въеду на тебе в рай. В вечное блаженство, в бессмертие. Умирать боюсь? Нет, точнее — умереть. Эгоист, говоришь? Нет, утопающий, хватаюсь за соломинку.
А-а, хватит об этом. Наш друг уснул от скуки смертной. Давай выпьем, да ему надо ехать. К ночи в Южном будет. Поднимай голову и стакан, шофер, бери вилку, совершим последний налет на остатки еды, подчистим, подметем — любое дело надо хорошо делать.
Говори, писатель, слушаю. Я знаю, ты любишь поговорить, ты всегда много говорил: думал вслух, сомневался, проверял свои слова на ком-нибудь. И просто трепался: о бабах, охоте, рыбе и собаках. Ни в чем этом ты никогда не понимал толку; просто умел угадывать — фантазия помогала. Но ты молчишь? Ты всерьез обиделся?.. Тогда и в самом деле на сегодня хватит. Для начала — перебрали. Извини.
Смотри, встал, или, как выражаются, тяжело поднялся наш друг. Шоферам нельзя перепивать. Я говорю о шофере, а думаю — всем не надо много пить: и тебе и мне. Но ты не расстраивайся и не смотри на него так, будто он уже машину размозжил. О себе думай. Ему что! Он пока до Южного доберется — заново народится, свежим мальчиком прикатит. По снегам, по пустоте, по ветру… И ни живой души. Только заяц или лиса перебежит дорогу. Но не вздумай, шофер, гоняться — увязнешь, к утру душа парком отойдет и где-нибудь вверху, на лиственнице, белым инеем закуржавеет.
Выйдем, проводим.
Хорошо! Вот поэтому я еще и живу; меня здесь все лечит: зимой мороз, вот этот — вдохни, водой родниковой пахнет, прелым листом; летом тепло, несильное, чуть горьковатое от йода — тут море рядом; и всегда — тишина. Давай послушаем, подышим. Видишь, как наше дыхание клубками отлетает, сыплется искрами под ноги. Я слышу твои легкие — хрипят, всасывают таранайский мороз, как сухой песок воду. Теперь ты будешь знать, почему меня водка не берет.
Пожмем шоферу руку. Будь здоров, дорогой! До поселка тропа доведет, по светлу. А там дуй с ветерком. Не забудь в радиатор воды залить. Да больше не пей. Значит, когда приедешь? Деньков через пять. Можешь и попозже. Нет! Нет! Делай, как приказано, а то он чуть не стукнул меня. Никуда стал, когда в писатели вышел. Ну, шагом марш! Так, поплыл. Качает словно лодочку. Ничего, направишься. Надоест загребать снег — ровнее пойдешь. А улыбка! Будто младенцу игрушку красную показали. Молодец! Плыви в светлое будущее.
Гигант. Посмотри — спина, руки. Идет — землю попирает. И какое кощунство над человеком — шофер «газика», начальника на обед возит. Ленив, собака, как Иван-дурак. Глуп, но хитер. Как это один хороший поэт выразился: «Жаль мне веселое тело, прекрасное тело свое».
Вот мы и вдвоем. Одни во Вселенной. И так хорошо, так просторно, что даже захмеляться не хочется. Хоть зареви, хоть разбежись и треснись о лиственницу — на ней метки не останется: заледенела. Что ж мы будем делать? Давай искупаемся в ключе — ознаменуем нашу встречу. Нет? Трусишь? Или в ночь на рыбалку пойдем, костер до неба запалим? Нет, устал. Тогда держись — бороться будем! Так! Р-раз! Вот ты и в снегу с головкой. Пыхти, плавь своими толстыми щеками водичку! Подержу малость. Это тебе не книжки писать! Жидковат. Ага, вырываешься. Ну теперь я драпану. Догоняй. Ха-ха! Бык, бегемот! Ногами, ногами! Так! Где тебе!.. Смотри, инфаркт не хватил бы. Шлепнулся? Подожду, я не гордый. Может, попробуешь на четырех конечностях, рысцой? А еще член Союза писателей. Так, побежали. Вокруг дома, в огород к роднику. Вот я тебя сейчас веткой — р-раз — иней в личность, веткой — по шапке. Дальше. Ай, как пыхтит, будто тяжеленную рукопись в издательство прет. Это тебе не с девчонкой по улице Горького! Теперь сюда, между липами, восьмеркой по мосту через родник, — может, плюхнешься! — снова к дому, в огород, а теперь к Таранайке.
Что? Отстал, сдался? Какой красный и молодой! Не сердишься? Ну, дай лапу, дорогой друг и товарищ!
2
Держи пешню, бей лунку здесь, рядом с моей. Тебе своя, собственная лунка нужна — приятней рыбалить будет. А я старую подчищу, ее нешибко прихватило. Сними телогрейку, стань крепче, бей между ног. Лед сухой, трудный. Работы минут на сорок. Так, хорошо. Однако не бери горячо — изойдешь паром. Помалу. В ритм, расчетливо. Лучше под счет: раз-два-три, р-раз! — и снова. Пошло! У меня и того легче. Вот уже и вода. Ледок сачком вычерпаю. Чисто, журчит. Камни, видать. Приготовлю снасть и тебя подожду. Не буду один начинать: увидишь рыбу — руки затрясутся, и тогда из тебя не работник.
Костерок сооружу, руки греть. Но пока тебе и так жарко. Это — на потом. Я и в бутылке малость прихватил, как говорит у нас дед Никифор — для сугреву. Хорошо, мах у тебя нормальный. Одышка, правда. От сидячей жизни. Ты же из крестьян, тебе трудно сидеть, организм на физическую работу рассчитан, с запасцем. Не ожидал он такой «красивой жизни», устает, застаивается. Всякую дрянь в себе скапливает, жирок тоже. Это настоящим интеллигентам легко — к ним от родителей перешла легкость в теле. Вот твоим детям уже проще будет интеллектуальную жизнь вести. А тебе — куда: мужик! Хрипишь, но радуешься, что куски льда из-под пешни брызжут. Раз-два-три, р-раз!
О, брызнула вода? И прямо в лицо? Это — крещение. Поздравляю! Новоявленный святой Таранайский сподобился и т. д. Отдохните, святой отец, вытрите лицо рукавом, присядьте к огоньку, я сам вычерпаю ледок, приготовлю вам персональный кладезь со святой водой, откуда вы будете выуживать рыбку, посланную нам богом.
Пожалуй, и вправду ты чувствуешь себя святым, все в тебе обновилось: всякая дрянь по́том вышла, а воздух, этот воздух, в кровь вошел. И теперь он бурлит по всему телу, будоражит, будит каждую клетку, и ты — точно бочка с вином. Притихни — услышишь, как волосы на голове растут.
Подкатывай свой чурбан, подсаживайся к лунке. Бери блесну, тихонько опускай в воду. Ты и сам знаешь — я для порядка. Начали. Подергивай плавно, но твердо. Почувствуешь толчок — тащи на весь взмах руки, чтоб не ослабла леска. Ловить будем корюшку. А там что попадется: навага, бычок, может, и щучка приблудная. И говорить будем.
Когда мы шли сюда, ты попросил: расскажи, как и когда попал на Таранайку. Я вот сейчас с тобой болтал, но все думал об этом. Когда — просто. Как — труднее. Все-таки: как? Это и мне поможет прояснить для себя то, что смутновато представляется.
Ну, чтобы попасть на Таранайку, я должен был прежде всего родиться на свет. Правильно? Значит — где, от кого? Вот так и начну, понемногу, осторожно. Может, вдвоем и разберемся в моей жизни.
Ага, у тебя клюнуло. Тащи! У меня тоже. Отлично! Две хороших корюшки — на льду. Смотри, какие они голубые и зеленые со спинки и белее снега снизу. А пахнут — свежие огурцы! Живые огурцы! Сейчас колечками застынут и поблекнут, потеряют запах. Потом, когда оттают дома, снова… Да мы и здесь разведем вокруг себя «огород», не успеет замерзнуть. Вот опять повело. Взяли. Прихлынула рыбка!
Так вот, родился я… знаешь, запахло огурцами, и в душе моей потеплело: крестьянин я. Хоть почти не пахал, не сеял, а натура осталась той же, крестьянской: какой перешла от отца, такой и осталась. Так вот, родился я в селе Волково Амурской области, по соседству с тобой — ты, кажется, из Грибского, от вас до нас всего семь километров. Наши отцы, пожалуй, не раз стаканами крестились на ярмарке в городе, может, и ближе знали друг друга. Суть не в этом. Суть в том, что они были — казаки, а мы — казачьи дети. Они пахали, сеяли, охраняли границу, а мы… ну, я тогда под стол пешком ходил, тебя и совсем на свете не было. Хорошо помню себя лет с пяти, когда из смуты и беспамятства проявился я как человек. До этого ничего не было, кроме одной вспышки памяти. Где-то в самом теле, в глубине меня остался страх, и это — жаркое солнце, степь, жажда, крики и плач. Я сидел под телегой, на одеяле (там была тень, еда в кастрюлях, фляга с водой), играл большим зеленым огурцом, ворочал флягу, а когда становилось очень скучно, длинно и нудно ревел. Приходила мать, горячая, потная, до жути огромная, припадала к фляге, и у нее гукало в горле. Она поила меня, давала чего-нибудь поесть и опять уходила с подоткнутой юбкой, раскачиваясь на коротких, исцарапанных ногах. Я принимался за огурец и флягу, плакал, тосковал и, наверно, уснул — это было уже к вечеру, потому что под телегой не было тени, — и проснулся от внезапной тревоги, дикого страха. Заорал. Но сквозь свой рев слышал топот лошадиных копыт, выстрелы, крики людей, чужой, жуткий говор. По степи проносились люди, стада коров и овец, громыхали телеги. Красно, близко и далеко, пылали выстрелы. Что-то огромное и страшное налетело на мою телегу, и я потерялся в грохоте и шуме… Дальше ничего не помню, провал на несколько лет. И только после, когда я стал уже казачонком, мог оседлать, напоить, спутать коня и дух лошажий был мне лучшим ароматом, — я рассказал матери об этом своем первом страхе в степи. Она удивилась, не поверила, спросила, от кого я узнал. Я твердил, что сам помню. Она задумалась, горько покачала головой. Потом рассердилась: наверно, ей не хотелось, чтобы я помнил это. Но все же рассказала — почувствовала, что надо рассказать. И хорошо — страх, который сидел во мне, как в звере, поубавился, стал частицей моей памяти. Все оказалось просто: на нашу деревню напали хунхузы. Пронеслись ордой по степи, отбили стадо коров, порезали овец, убили старика, взяли двух девушек. Казаки были в степи на заимках. Быстро собрались, настигли хунхузов и учинили резню, от которой вода у берега стала красной…
Почему я рассказал тебе именно это? Не знаю. Но чувствую, что отсюда я начался. От страха перед хунхузами, от ненависти к ним, от желания стать очень сильным, очень смелым. Во мне возникло ощущение границы, особое, острое — границы воды. Я до сих пор не могу представить себе Амур как просто реку. Это — полоса воды, которая рассекла не только землю, но и людей, страсти человеческие. И вообще, любая вода для меня теперь — текучесть, неустойчивость.
Конь, степь, наша заимка, погреб на заимке — в нем всегда был холодный квас, — отец, заросший щетиной, в потной рубахе навыпуск, корова с пятном на лбу, земля (то вспаханная, то засеянная) — и работа, работа с утра до ночи, в жаре, под ливнями, в холод; скачки на коне, азарт, взмахи тяжелой почти непосильной шашкой, когда срезанные прутья укорачиваются не шелохнувшись; коричневое, из жил и мускулов тело — это и есть мое детство.
Так, клюнуло. Тяни! Вполне прилично. Ты способный самоучка: не отстаешь. Штук по двадцати поймали. Смотри, какой огород развели на снегу. Не пахали, не сеяли. На уху есть, на жареху теперь… Хорошо как стало, подними голову. Белый дым над Таранайкой — это на перекатах открытая вода парит, сопки по сторонам, как дома ледяные, голые лиственницы на вершинах — будто телеантенны. А речка — улица, узкая, извилистая, как Малая Бронная в Москве. Похоже? Нет? Ладно, не спорю. Это я все воображаю, от скуки.
Так, дальше поехали. Гражданскую войну помню тоже нешибко. Как увижу настоящий ржаной хлеб, втяну его запах — деревня наша припомнится, пыль на улице, и по этой пыли красноармейцы идут длинной серой колонной, скатки за плечами, шапки острые, котелки на боку. Котелки позвякивают, и пахнет потом солдатским — он всегда тревожный, сердце у мальчишек от него пугливо и радостно прыгает. И этот хлеб — ржаной. Никогда у нас такого не было… Отец ушел. К белым или красным — не знала и мать. И после почему-то об этом не говорили. Неразбериха была — кто к кому. Теперь-то думаю, что к красным подался: его потом не тревожили. У нас во дворе красноармейцы постоем стали. Кони, сено, тачанки и просто телеги. Но все особенное — пахнет войной, бедой. Два или три командира в горнице жили, на гитаре играли, револьверы чистили. Тогда-то я и полюбил гитару, до сих пор это осталось — вот и сам играю, а потому, что тогда что-то во мне колыхнулось и не забылось. Но самая беда для меня наставала, если командиры начинали обедать. Прямо на полу усаживались, из котелков ели кашу, резали хлеб. Ржаной хлеб расстраивал мои нервы; удивительно — никогда я так ничего не хотел. Хватал за руку мать, волочился следом, просил купить, выменять, выпросить — сделать что угодно, но добыть мне ломоть черного, тяжелого хлеба. Мать выменивала на яйца, молоко, на пшеничный хлеб — две огромных булки за одну. Черный хлеб я добывал и сам во дворе у солдат, воруя для них из погреба сбитое бабкой масло. И еще гильзы — у меня их было штук двадцать. Ими солдаты награждали меня, как медалями. И была в них особенная, великая ценность: гильзы надо было нюхать. Черный хлеб, запах пороха — так и запомнилась мне гражданская война. И, наверно, из этого уже произошло чувство красивой, отчаянной тревоги, навсегда запомнились острые шлемы со звездами, лицо командира, узкое, румяное, с черными усиками и большими, как у девушки, глазами. Когда он смотрел на меня, мне хотелось вытереть нос и спрятать босые ноги. Он-то, этот командир, играл и пел под гитару. Не знаю, сам я запомнил его частушку или мать после пропела:
Мы на горе всем буржуям Мировой пожар раздуем, Мировой пожар в крови, Господи, благослови!Да, это из Блока, теперь-то я знаю, привык уже. А когда впервые вычитал у него эти строчки — прямо заплакать хотел, заорать, что нет, не ты, Блок, их сочинил: так жалко мне стало моего командира.
Вот тебе еще один кусок моей жизни. Неяркий, правда. И образов нет, нечего списать. Прости, лучше не могу. Если выудишь что-нибудь — хорошо. У вас, у пишущих, должно быть шестое, а может, и седьмое чувство, вы умеете там выуживать, где у других и поклева нет. Не то что вот сейчас — поровну ловим: одну ты, одну я. За это вас, пожалуй, и не любят. Давай закурим. Держи газетку, самосаду насыплю, своего, с огорода. В мороз — горячее всякой сигареты, слезу вышибает. Не хочешь водочки? Заесть можно корюшкой, этой, мороженой: получше любой строганины, во рту маслом тает. Не хочешь? Еще, значит, не промерз. А я хвачу малость, чуть-чуть для сугреву. Вот, не больше. Холодная. Одним глотком: р-раз — и там. Скатанным снежком покатилась. Сейчас в животе растает и такого жару поддаст. Закушу вот этой, с зеленой спинкой, она похожа на огурец. Морем пахнет, водорослями. Мясо прямь живое, чую, как по жилам растворяется.
Лет пять тому назад неподалеку от меня кореец жил, огородник. Старый, когда-то приехал на заработки, лес японцам рубил, да так и остался: дети выросли, жена умерла. И после этой войны не тронулся с места — некуда было. Тихо доживал свой длинный век, топил печурку в маленькой дощатой фанзе, копался в огороде, ловил рыбу. Раз или два в лето приходил ко мне сказать несколько русских слов, покурить, помолчать. Помню, захворали мы всей семьей — жена, дети. Простуда напала, немощь. Глянул он на нас, головой покачал, сказал мне: вы, русские, неправильно живете, из магазина все кушаете, много банок кушаете. Так нельзя. Надо кушать то, что земля дает, по которой ходишь, тогда на этой земле болеть не будешь. И научил он меня есть черемшу, мороженую рыбу, водоросли, помог огород посадить У меня и теперь еще растет длинная корейская редиска, капуста чим-чи… Вот и я тебе хочу сказать: живи плодами той земли, по которой ходишь. Серьезно. Здесь ты смело можешь есть сырую корюшку, и ничего тебе не будет. В Москве или еще где-нибудь она не пойдет — не к месту там.
Эта притча, пожалуй, тебе ни к чему. Для разнообразия привел, вместо прокладки. Следующая глава у нас — коллективизация. Тут я больше помню. А вот нэп — очень смутно. Почему? Не могу сказать. Как раз в это время жизнь на Амуре была самая богатая и обильная. Я ходил в школу, носил новые штаны и сапоги, ел «от пуза», отец говорил: «Инженера из Степки выращу», и меня не очень утруждали в поле и на огороде. Прекрасная жизнь была, а помню о ней смутно. Каким-то теплым молочным облаком пронеслась она, омыла меня и исчезла. И помнить-то нечего. Так, видно, устроен человек — встряски, перепады запоминаются.
С чего и в какой день началось — не скажу, у меня это не обозначилось. Помню — с какого-то страха опять же: отец пьяный пришел, бросил об пол шапку, жутко выматерился. Мать, дед, бабка повалили его, раздели, и он уснул на полу. Лысый, дряхлый дед сидел над ним, говорил бабке и матери: «Пропала казачья воля — в колхозию загоняют. Как солдатики, под команду будем сеять и пахать». Плакала бабка, плакала мать. И с этого пошло. Казаки с утра и до ночи топтались у сельсовета, собирались по домам, говорили, ругались, курили. Курили зверски, — наверно, тонны самосада пожгли. В каждой хате дымом все провоняло. Как-то ночью пальба началась, отец чуть не в подштанниках выскочил, мать ревела, дед не пускал его — вырвался. Крики, топот на улице. Мои сестры, перепуганные до смерти, сидели в постели, как птенцы, и пищали. Никто их не утешал, не до них было. Я пробрался на улицу, притаился за плетнем и видел, как вскачь проносились по улице казаки, размахивая саблями, стреляли. Потом на краю села загорелся дом — огромное кровавое пламя поднялось в небо. Наш двор осветился, порозовели в саду деревья, и в стойле заревела корова. Я дрожал от холода и жути, не мог сдвинуться с места, комком свернулся у плетня. Меня нашла мать и, плача, зло теребя мой чуб, уволокла домой. Утром я услыхал; что банда раскулаченного казака Авдеенки напала на село, убила двух активистов и подожгла сельсовет. Люди спрятались по дворам, пробирались друг к другу перебежками, у плетней, боялись открытых мест — из любого чердака могла цвиркнуть пуля. В село пришла рота красноармейцев. Еще две или три ночи была стрельба, а потом сказали, что Авдеенка убежал за Амур. У нас стало тихо, но другие села в степи светились по ночам кострами. И казаки смотрели, ждали, собирались и говорили. Самые бедные свели на колхозный двор коров и лошадей, внесли пай зерна. Ходили по дворам, агитировали. Их прогоняли кольями казаки-середняки, материли, называли голодранцами. Я видел, как мой дед гнал до ворот одного агитатора, орал ему вслед: «Ты, может, бабку мою возьмешь на колхозную потребу?» Середняки выжидали, держались за свои дворы. Но кое-кто, посмекалистее, клонился в сторону колхоза — и это бросало других в страх, злобу. Снова стали постреливать по ночам, теперь обрезами, загорелся колхозный амбар, и всю ночь в домах пахло горелым зерном. Старухи молились, били в темных углах лбами. Ревели бабы и ребятишки. Опять страсти накалились докрасна. И вдруг по селу разнесли слух: казак Кочуев вступает в колхоз. Село притихло, насторожилось. Мой отец был грамотным мужиком, крепко вел хозяйство и, хоть числился в середняках, очень был уважаем казаками.
Не забыть, как сводили скот со двора. Отец не вышел. Мать, бабка и дед, ополоумев, слонялись по двору, ждали. Явились четверо казаков, раскрыли ворота, вывели из стойла двух коров и телку, из конюшни — двух лошадей, выгнали десяток овец. Рев коров, блеянье овец, ржание коней — меня и то трясучкой скрутило. Бабка упала на колени, подняла к небу голову и стала рвать свои седые волосы. Мать целовала в губы корову Милку, висла у нее на шее, а потом ударилась в такой голос и причитания, что казаки отступили, минуту стояли в стороне, ругались меж собой. Мать, не помня себя, тащила, вела Милку в стойло. Опомнились казаки, оторвали мать от коровы, и она сразу упала, потеряв опору. Еще хуже было с дедом: он закрыл ворота, стал посреди них и орал: «Давите, ироды! Режьте! Стреляйте! Не отдам кровное, по костям моим пройдете!..» Не знаю, как бы все это кончилось, но вышел отец, с крыльца зверем окинул двор и так выматерился, что замолкли бабка и мать, а дед, пошатываясь, ушел от ворот… Скот согнали, и стало тихо. Такой тишины еще не знал наш дом. Молчала мать, сидела не двигаясь бабка — впервые, за всю их жизнь, им нечего было делать. И только бродил по двору дед: под сарай, под дом он подкладывал охапки сена, тер щепу о щепу — хотел сжечь хозяйство. За ним следили, отнимали спички.
Отца избрали председателем колхоза. Эту часть его жизни я знаю плохо: с утра он уходил в контору, возвращался поздно, по селу проносился в линейке — и всегда в упряжке был наш, гнедой жеребец. В доме у нас ночевали уполномоченные и представители, с ними отец пил водку. Пить он стал часто, помногу, не зная удержу. Через год, по осени, когда стало ясно, что колхоз «что посеял, то и пожал», отец бросил председательство, бросил нас и свой двор — завербовался, уехал на Север. Была страшная голодная зима. Осталось в памяти: бабка, сгорбившись, трясет ситом, в таз просыпается мука, а в сите копошатся жирные белые черви. Весной отец прислал нам вызов, мать продала что могла, сдала колхозу дом, и мы тоже подались на Север.
Плыли по Амуру на пароходе, долго сидели в городе Николаевске. Мать бегала на базар, покупала соленую рыбу, круглые серые буханки хлеба. Когда кончились деньги, стала выменивать еду на вещи. Сияла с головы платок. Потом поехали на большом пароходе по морю, нас качало, мы болели и все-таки приплыли к какой-то земле. Нас встретил на пристани отец. Север оказался Сахалином.
Ну, передохнем? Кстати, на пути остановки — край земли. Тогда-то нам так и показалось. Мать глянула и заплакала: песок по всему берегу, в песке дома, дальше тундра, деревца чахлые — никакой земли. «Где же пахать, сеять?..» — спросила отца. Отец захохотал на всю пристань, ответил: «Здесь из воды соленой все растет!» Так и стали жить у воды соленой, кормиться тем, что из нее «росло». И выжили, да еще как. Бабка моя говорила: «Как на свет народились». В те голодные времена Север спасением был. Кажется, и твой отец подался к соленой воде? К Охотску, говоришь? Словом, побежали казаки новой воли искать. И нас, потомство свое, за собой потащили. Оторвались мы от земли, позабыли ее и теперь уже не вернемся.
Что-то грустную песню я затянул. Как раз этого я не люблю. Грусть — она мало чего стоит, если сама по себе, ничего другого не рождает. Вот ты приехал — говоришь, по-разному люди живут, засуха кое-где и другое разное. А тут сидишь, хлеб ешь и не знаешь, откуда он берется — с материка, и все. А что такое материк — это мать и отец вместе (или мать мужского рода), это то, что родит и кормит. Вдруг материк, как старая женщина, бесплодным станет?.. Извини, тут уж я забрался в такие абстракции, что боюсь заблудиться. Проще скажу. Мне стыдно за мою легкую жизнь. Где-то кто-то добывает хлеб, а я здесь, у этой речки, ем его. Может, тому, кто пашет, надо жить на Таранайке, разводить рыбу — потому что пахать он не умеет, землю не любит, морду от нее воротит. Какой хлеб он пожнет? А я крестьянин, это моя забота — земля и хлеб. Я, может, родился с этой заботой. Вот и стыдно мне: не у дела нахожусь. Во сне то к плугу, то к бороне прилаживаюсь. Понимаю, другой кто-нибудь посмеется надо мной, он ничего такого не чувствует — магазин землей не пахнет. Но не ты. Тебе не поверю, если даже откажешься. Пусть меньше меня (лет на десять), а все равно ты крестьянин. Пахать нам нужно с тобой, а не придуриваться: ты, вишь, сочиняешь, я — рыбку развожу.
Смеешься? Конечно, будь жив мой отец, он бы тобой хвастался: как же, из нашей округи один в писатели выбился, подумать только! Казак любит похвастать — сыном, женой, конем, собакой, чтобы и самому быть на виду, безвестности он терпеть не может. Вот об отце я сейчас и договорю тебе. Но сначала закуси, вот сумка, там колбаса, хлеб. Подержи еду над костром, как парок пойдет — ешь. Я покурю, пройдусь немного, ноги окоченели. Да, съешь обязательно одну корюшку, без этого не отпущу отсюда. Серьезно, попитайся от этой земли — восприми ее.
Как теперь? О, даже щеки порозовели. Обедаешь за троих, работаешь — не знаю… Вижу скелет рыбий — совсем хорошо. Что же, двинемся дальше. Об отце, значит… К тому времени, когда мы приехали к нему, он совсем обжился на Сахалине, приемщиком рыбы на пристани работал. В сапогах хромовых ходил, новом пиджаке, шарфом шею повязывал. Попрямел, отъелся заметно, что-то северное в нем появилось, отчаянное — больше в голосе, в разговоре. Но и старого, крестьянского, еще хватало: вдруг задумается, помрачнеет, а потом по-детски расхохочется: «Ерунда все! Главное — жить вот так можно, легко, пуза не надрывая. Не знал. А теперь-то меня калачом отсюда не выманишь!» И нам было хорошо: рыбы, хлеба, масла досыта. В магазине — сатин, сукно, ботинки. Мать одела нас, в школу пошли. Сама поварихой в интернат поступила — нивхским ребятишкам супы и каши варить. И мы бегали к ним обедать. У меня дружок Наскун завелся — широкомордый, смуглый, сердитый, если раздразнишь. Вечером мы вместе приходили на кухню, мать давала нам по ведру хлебных помоев, и мы несли их нашей чушке Катьке, выливали в корыто. Огромная Катька, с животом до самой земли, хрюкала и чавкала, от нее пахло хлебом, и Наскун хохотал, выпучив черные глаза. «Это чхыф, — говорил он, — русский медведь!» Поросят отец продавал, на выручку прикупал в дом «одежи» и устраивал «обмывы» — пьянки на весь поселок. Это тоже входило в понимание хорошей жизни.
Я сказал «тоже». Пожалуй, это было главным определением той жизни. Каждую неделю кто-нибудь устраивал гулянку: свадьба, именины, поминки, премия, покупка… Так и помнится мне это время: мужики дико веселились. Съехавшись с голодных краев, получив легкую работу и дешевый харч, они обезумели от радости. Даже самый «занюханный» из них завел бочку для браги. По приказу отца и у нас за печкой появилась круглая кислая бочка. Брага выпивалась, тут же заправлялась новая, и всегда бочка клокотала, попыхивала хмелем на всю комнату. «Культурная» жизнь вертелась вокруг бочек: любовь, драки, знакомства, ссоры — все скреплялось и рушилось в свободные дни и вечера. Не помню я трезвым отца. По пьянке он купил мне ружье, по пьянке и продал: рассердился, что я не смог метко стрельнуть; пьяным обещал отвезти меня учиться на инженера в город, но когда кончил я семь классов, послал учеником в бондарку. «Учись бочки делать: всегда кусок хлеба!» — сказал и подтолкнул к старику мастеру. Тот пришел по такому случаю в гости!
Не знаю точно, в зиму какого года отец работал на лесозаготовках, — кажется, в тридцать шестом. Конечно, не простым рабочим — завхозом. За топор он теперь и дома не брался, дрова готовые нам привозили. Руки стали белые, пухлые. Мать подсмеивалась: «От водки барином стал». Он сердился, а если пьян был — не стеснялся матом ответить. Устыжался, должно быть, своей легкой жизни, но и прежней уже не хотел. Он лихо щелкал на счетах, разбирался в накладных, в дебетах и кредитах, в товаре и торговле. И этого было достаточно. После бурана отец пошел в тайгу к рабочим, нес несколько буханок хлеба, консервы, бачок спирта. Снег был гибельный, лыжи проваливались, дороги — никакой. Шел наугад, свалился в засыпанную бураном речушку, вымок. Выбрался, обледенел. Заледенели лыжи. Выпил спирта и, уже не помня себя, уснул. Его нашли через сутки, он сидел привалившись к лиственнице, открытыми ледяными глазами глядел на потухшие головешки. Нашли двое рабочих, их послали из зимовья за хлебом. Привязали веревками к лыжам и так, сидячего, притащили в поселок…
Хватит или дальше рассказывать? Мне что-то ворошить это трудно. И теперь жутко. Да и мало интересного. Разве что такая деталь… Весь поселок высыпал встречать сидячего мертвеца, я сбоку бежал, все хотел заглянуть в лицо — не верил, что отец неживой, — потом споткнулся, схватился рукой за его плечо и под телогрейкой почувствовал твердое, как камень… Ну, еще… Его положили в домик-морг у больницы, домик натопили. Мы прибегали, заглядывали в окна и видели, как он понемногу расправлял ноги и руки, вытягивался, будто удобнее укладывался на голом длинном столе…
Мать голосила, бабка сокрушалась, что нет попа, и опять была брага, еда, шум и ссоры. Все смутно, пьяно, потому что я тогда впервые по-настоящему напился. Тошнило, мальчишки вытаскивали меня на улицу, откачивали, как запойного мужика. Запомнились только слова седенького старичка, из приезжих и, видимо, тоже крестьянина. Он встал над гробом, когда тот поставили на мерзлые комья вырытой земли рядом с могилой, помял сухонькими ручками шапку, сказал тихую речь об отце и закончил словами: «Сильный был человек, потому и не выдержал нетрудной жизни».
Вот и все об отце. День его похорон был днем конца моего детства. Я начал делать бочки, зарабатывать деньги. Потом надоело — стружки, пыль, одно и то же каждый день. Ушел рыбаком в бригаду… Ну, довольно пока? Помолчим, может? Очистимся от слов и переживаний — побудем просто так в природе.
На сегодня — под завязку. Да и о чем дальше говорить будем? Пусть моя исповедь длиннее протянется — как бы вторую жизнь проживу. Лучше порыбачим как следует. Смотри, удочки в лунках пристыли. Меняй наживу, шевелись, а то нам Машенька задаст — на жареху не добудем. Во! Смотри, какой бык у меня рогатый, головатый. Как хвостом лупит, будто лед пробить хочет. Никчемная рыбка. Но есть любители, едят, хвалят. Возьми, попробуй. А у тебя что? О, навага — это лучше. Пошла разнорыбица. Корюшка кончится: отгонит ее «крупняк». Наважка-то какая — красотка. Гладкая, голубая, с беленькими усиками. И глаза — выпуклые, синие, как из стекляшек. Однако на сковородке она еще красивей будет, а в желудке — в удовольствие перейдет, зенки прижмуришь, как кот замурлычешь. Смешно? Я свои прибаутки сразу сочиняю, не записываю и печатать не собираюсь. Бери, заработаешь — магарыч с тебя.
А все-таки хорошо — просто существовать, как деревья, как рыбы. Перестал вспоминать, и жизнь другая стала: легко дышать, смотреть, двигаться. Будто ничего не было, будто есть жизнь без памяти — чувствуешь только, что она течет, как в дереве, как в рыбе. И это, наверно, самое прекрасное, потому что не может человек жить ни прошлым, ни будущим без существования в настоящем — хоть какого-нибудь (лишь существуя, мы можем заботиться о памяти, мысли). Вот я и думаю: сначала та минута, которая течет в тебе, потом — все другое.
Сидим мы с тобой рядом, болтаем. А время течет в нас, течет в реке, в деревьях, в рыбах — разом во всем, с одной скоростью. И перед каждой минутой, которая еще не настала, нет ничего — ни земли-планеты, ни нас, ни наших воспоминаний, ни будущего. Мы все, всегда на краю времени. На краю неизвестности. История — воз, который мы тащим за собой в безвестность, который будут тащить другие, когда в нас оборвется время.
Прости. Это мой бред от одиночества и безделья. Я тоже сильный человек, и мне опасна «нетрудная» жизнь. Кажется, теперь довольно. Вон уже Машенька бежит, руками размахивает. Вытаскивай удочку, сматывай. Пусть мороз затянет наши лунки, как свежие раны.
3
Вот еще день настал, а ты здесь, со мной. Тебя можно потрогать, потрясти, толкнуть в снег. С тобой можно поговорить, поругаться. Нет, ругаться не будем. Я ссорюсь с тобой, когда тебя нет рядом — на расстоянии. Задаю тебе вопросы, сам отвечаю и разделываю тебя под ореховую скорлупу. А сейчас нет. Сейчас хочу больше сделать тебе всего памятного и через это больше запомниться тебе, чтобы ты увез с собой частицу меня — я буду знать, что живу в тебе, нужен тебе, — а это пусть маленькая, но вторая моя жизнь. Так, вероятно, родители хотят остаться в детях. Так хотят писатели, художники, артисты поселиться во многих и многих душах, жить сразу и многократно. Того же добиваются властью, силой. Что это — эгоизм? Пожалуй. Отчего? Не знаешь? Может быть, от страха смерти? Чем проще, естественнее человек, тем меньше этого эгоизма.
Вижу, ты поднял руки и, как пишут в книгах, «загрустил глазами». С утра это трудно, да еще в такую розовую погоду. Сколько я видел восходов солнца, зимних туманов, алых сугробов, синих оврагов и тихих ледяных деревьев! И ни один из них не повторился. Конечно, я не помню все восходы, но знаю — они были разные! И от каждого что-то осталось, не забылось… Слышишь, дятел обрабатывает липу, кору шелушит? Бьет, как молотком по льду. Каждое утро прилетает, прослушивает и обстукивает липу — здорова ли? Я смотрю на его красную чубатую голову и удивляюсь, как сотрясения мозга не боится… А летом на этой липе соловей поет. Ты знаешь. Раз чуть не до света сидели, слушали. Ты еще сказал о нем: «Сахалинский неуч. Трель только наполовину выводит. Российский, тот так: «Сидор, Сидор! Сало варил, крутил, вертел! Пек, пек, пек — сырое глыть!» А этот: «Сидор, Сидор! Пек, пек — глыть!» и снова начинает. Необразованный, дайте ему командировку от рыбоводного завода, пошлите на выучку». Но ничего, слушали. Он не из даровитых, однако выносливый, до утра нам сало пек. И мы насытились.
Ага, идет Никифор. Улыбается, морщится, руками ласково стучит. Старый сивый хитрец. Я иной раз думаю: отчего он так радостно суетится? Неужели из подхалимства, лакейства своего природного? Передали ему деды-прадеды, и вот он теперь… и не надо, а не умеет по-другому. А может, это от доброты какой-то особенной, которой мы и не понимаем теперь. Я за ним как-то подсмотрел: уперся Никифор руками в колени, нагнулся над муравейником, смотрит, ухмыляется, морщится и нашептывает. Лицо глупое и счастливейшее. Подошел, спрашиваю: «Чему радуешься?» — «Как же, — отвечает, — работают, роблят, как люди!» — и такое на лице сияние, будто он тайну вечного блаженства постиг. «Нет, — решил я тогда, — дед не так прост…» А после опять казалось, что он подхалимничает. Бес его разберет… Иногда я часами смотрю за ним, думаю. Конечно, мог бы расспросить, «распотрошить» деда, но боюсь загубить свой интерес к нему. А так — упражняюсь.
Вот и притопал, собственной персоной: до половины в катанках, с половиной — в полушубке. Знакомьтесь, хоть уже и знакомы: это — писатель, это — дед Никифор, сторож, завхоз, комендант рыбоводного «гарнизона». В одном лице. Смотри, как он радуется тебе, культурно ручку подает, сначала вытерев ее об варежку. Умеем себя держать. Подожди, сейчас ты еще больше станешь уважать Никифора. Скажи, дед, сколько ты за свои должности в месяц получаешь? Пятьсот рублей? Новыми, конечно? Во! А сколько чулков бабка набила? Понимаю, тайна… Как, писатель? Прилично, говоришь? Дед против тебя Рокфеллер? То-то. Я как-то уговаривал его меценатом заделаться — двух поэтов взять на содержание: по сто пятьдесят в месяц выплачивать. Не согласился. Говорит, два года еще протяну, потом в Рязань уеду, дом с мезонином куплю. Несознательный элемент. Из всего искусства газеты только любит, и то после на цигарки переводит. Слушает вот — сияет. А чего не сиять, если брюхо полно каши, мошна — денег, а бытие вовсе не определяет его сознание. Рязанский мужик — смотри, где оказался. «Встречь солнца» шел, как землепроходец, пока на рай земной не наткнулся… Ладно, дед, прощаем мы, поэты, тебе твое скряжничество, веди нас в «цеха» завода. Показывай. И не смущайся перед гостем — у нас тоже завод, хоть не гремит и не дымит. Тихий, сонный, только пожуркивает, ручьем пронизанный.
Летом от забойки пошли бы, рыбу сначала посмотрели в брачном наряде, потрогали, в руках подержали. Возьмешь самца, чуть нажмешь на живот — струйка молок брызнет, а то по руке потечет, будто из вымени стиснутого. По бокам полосы оранжевые, огненно-яркие, в пасти зубы, острые, злые, и глаза выпуклые, огромные — трепещет, мерцает в них чистый, ледянистый свет. А силы в теле: если возьмешь чуть не так — ударит хвостом, и долго будешь помнить то место, к которому хвост прилип. Смотришь — и не веришь, что это рыба. Это уже не просто рыба — нечто больше, значительней. Это убить и съесть — как замахнуться на саму природу: она напряглась, чтобы умножить, улучшить себя, а ты — с ножом к ней… Самка тоже хороша в это время. Она круглее, спокойнее, но так же безумна. Она прижимается к самцам, трется о них — и вся созревает для своей первой и последней любви. Вытащишь ее из воды, схватишь под жабры, и она окрасит руки — так напряжена в ней кровь. От испуга, от страха перед смертью потекут, часто закапают из нее красные икринки. Подставь ладонь — горсть спелых плодов соберешь.
Что я тебе рассказываю — все это и сам знаешь. И на забойке бывал. Могу только напомнить. Рыба входит в речку, упирается в забойку, останавливается. Кипит, как в котле, перед плотиной, «зреет». У берега — садок, мы впускаем в него самых красивых, брачно наряженных. Отсаживаем: самцов выше по течению, самок ниже. Так самки скорее дозревают. Потом выбираем «готовых к любви», вспарываем им животы… Ну вот, у тебя и губы перекривились. Жестоко? Да, пожалуй. Что же делать? Не разводить рыбу? Можно и так. Но тогда надо оставить в покос эти берега и реки на сто лет. Природа сама себя восстановит.
Спрашиваешь о плотине? Как я щиты эти свои изобрел? Расскажу. Давай по порядку, а то собьюсь, наболтаю… Вспарываем животы, икру — в таз, заливаем молоками. Перемешиваем (работаем за родителей). Льем воды, опять перемешиваем. И ставим набухать в проточную воду. Три часа — и оплодотворение закончено: икра стала твердой, вздулась, чуть побледнела, ее можно пересыпать, как горошины. Все рассчитано, по-деловому. Без страстей и любви, без борьбы, но с кровью: все-таки животы вспарываем…
Глянь — дед Никифор открыл дверь, встал сбоку, как швейцар. Любит каждого приезжего начальством воображать. Трепетать, угождать, оправдываться. У него какая-то болезнь к этому. Пошли, не то шлепнется в обморок от верноподданнических чувств. Молодчик дед! Живот, живот — колесом, и строгость на лице изобрази. Во! Теперь приятно проследовать в подъезд нашего дворца.
Вытрем ноги, настроимся на особый, рыбоводный лад. Это — рабочая комната, дальше лаборатория: пробирки, колбы, спирт, формалин, экспонаты — словом, наука. В ней я не участвую, туда не поведу. Здесь — другое дело, здесь я главный. Отсюда и пойдем. Значит, у нас икра оплодотворилась, набухла. В носилках, очень осторожно, чуть покачивая, будто усыпляя, мы приносим ее сюда. И девушки, под моим чутким руководством, черпают ее марлевыми сачками, раскладывают на рамки. Вот на такие. Возьми подержи. Она проволочная, выкрашена черным лаком. На каждую по две с половиной — три тысячи икринок. Раскладываем в корытах в воде. Все плавно, невесомо, нежно. Чуть резче, жестче — и икринка погибла, умерла. Можно додумать, что кета мечет ее в речках и родниках на лебяжий пух. А вот поди ж ты… Оказывается, и камни могут быть мягкими, если по ним бьет хвостом лосось, засыпая лунку с икрой. Природа — в ней просто, естественно. Нам здесь труднее. Ходим в белых халатах, едва дышим, как в реанимационной палате. Даже говорим шепотом. А я со своей жинкой перестаю ругаться, да и она понимает — на глаза мне старается реже попадаться. Дальше так. Рамки, с насыпанной на них икрой, накладываем одна на одну, вставляем в стойку (железный каркас) — это уже стопка: десять рамок вместе. Стопки относим в инкубационные аппараты. А перед этим… Лучше я тебе из книжки прочитаю, доходчивее будет. У меня тут пособие под рукой. Так, страница двадцать вторая. Слушай внимательно, как на уроке:
«Для предохранения икры от различных заболеваний перед расстановкой ее в аппараты обычно проводятся профилактические мероприятия, то есть стойку с икрой опускают на 0,5—1 минуту в полупроцентный раствор формалина. (Мы у себя чаще применяем малахитовую зелень.) Эти ванны предотвращают развитие плесневого грибка сапролегнии и других заболеваний в начале инкубации. Сапролегния является опасным врагом для развивающейся икры, особенно на чувствительных стадиях. Она поражает в первую очередь мертвые икринки, но, разрастаясь, образует комочки (фото 9)… (вот посмотри: икра будто слеплена, каша-размазня…) и захватывает в свои гифы живые икринки, которые, если не провести своевременную выборку мертвых, становятся также жертвами этого грибка. В дальнейшем, особенно на тех заводах, где раньше наблюдалось заболевание икры расслаблением оболочки, купание ее в формалине повторяют несколько раз».
Как усвоил? Не очень? Плохо доходит литературный язык? Лучше своими словами мне? Ладно. Просто я серьезности немного напустил, а то подумаешь, что у нас прибаутки да треп. Заметил — мы все больше влезаем в медицину: «Профилактика, формалин, сапролегния…» Теперь надевай халат, вот этот — покрупнее. Дед уже готов, натянул на полушубок, стоит, как санитар похоронной роты сорок первого года. Готов? Откроем дверь в святая святых нашего дремотного завода — инкубационный цех.
Полумрак, тишина. Окна выкрашены в зеленое, а то и завешены. Журчание воды — единственный звук, движение ее — единственная работа. Ничего другого здесь не надо. Почему, спросишь ты, эти сараи — завод? Потому что он производит. Живую рыбу, правда, дед? Двадцать миллионов в год.
Как, писатель, нравится тебе здесь? Тут и вовсе кричать не надо: тут работает капризная природа — воссозданная по образу и подобию той, которую мы называем с большой буквы. Зимой тебе не приходилось входить сюда? Жаль. Зимой, когда кругом снега, все умерло, наш завод бьется и трепещет в тайге, как маленький острый пульс — только почувствовать надо, нервами, воображением. Словом, это твое дело, сам справляйся.
Видишь, вон из-под стены идет вода? За стеной — горная речка. Она и прошивает насквозь эти длинные с зеленым светом сараи. В первом, как бы в начале речки, мы ставим стопки с икрой. Вот сюда, между этими бетонными стенками, — они-то и называются аппаратами. И похожего ничего нет на аппараты, правда? Просто стенки делят речку на много ручейков, и каждый пронизывает ряды стопок — омывает икру. Для чего — знаешь: питает кислородом. Теперь-то здесь всего несколько стопок, последних. Другие там, в питомнике, из них уже мальки выклюнулись. Эти сейчас посмотрим, потрогаем.
Вот что: давай я тебе еще немного прочитаю, маленький кусочек. Сразу, без длинных слов, разделаемся с инкубацией и пойдем мальков смотреть — это веселее. Подвинусь к окну и прочитаю. Слушай:
«Инкубация икры лососевых, в зависимости от температуры воды и процентности кислорода, длится: горбуши — от пятидесяти пяти до ста пятидесяти дней, кеты — от пятидесяти пяти до ста шестидесяти пяти дней. Это самый ответственный период для рыбоводов. В это время они должны проявить огромное внимание к ходу процесса инкубации, приложить все свои знания к тому, чтобы добиться как можно меньшей гибели живых икринок. Каждый рыбовод знает, что при этом необходимо строгое соблюдение всех правил биотехники рыборазведения лососей. Вообще работа в этот период очень напряженная. Специалисты заводов ежедневно просматривают партии сбора икры, предупреждают возможные отходы. Если появляются заморные участки икры, выявляют причины и ликвидируют их. Рыбоводы хорошо помнят, что от бережного обращения с икрой в период инкубации и от качественной выборки мертвых икринок зависит выживаемость потомства лососевых в дальнейшем».
Хорошо написано. Мне нравится. Коротко и ясно. Даже себя начинаешь больше уважать после таких слов. А я бы тебе развез алаверды на целый час. Могу только пояснить: чем теплее вода, тем скорее зреет икра. Ну конечно, до какого-то предела; в горячей сварится. Кислороду же — давай побольше. Чуть ниже нормы — и задохнулась икра. И водица нужна чистая, очень чистая. Ни илинки, ни песчинки. Чуть засорилась стопка — замор ищи. Поэтому мы в реке фильтры устраиваем: трубы деревянные, бутовый камень, щебенка. Теперь о выборке. Строго выбираем мертвые икринки. Их хорошо видно по дымчатым, белым пятнышкам, похожим на бельмо в глазу. Вынимаем стопки из аппаратов, несем в рабочую комнату, опускаем в корыто с водой. Снимаем одну за другой рамки и пинцетами, очень осторожно выбрасываем белые икринки, чтобы они не заразили здоровые. Девушки в халатах сидят вдоль длинного стола, копаются в рамках, присматриваются, колдуют. Работа тонкая, трудная. Пахнет формалином и малахитовой зеленью. Опять медицина.
Я вот думал: почему человек, стараясь приблизиться к природе, все дальше уходит в медицину? И знаешь, как ответил себе: человек не может создать другую такую же природу, он может только, подражая ей, воспроизвести ее образ. Ну, как, скажем, в литературе — образ не вторая действительность, хотя и рожден действительностью. Поэтому искусственная природа должна жить своими законами, проистекать из себя самой. Нам, рыбоводам, помогает медицина, вам — воображение, согласен?.. Молчишь? Ты все больше молчишь. Ты уедешь — будешь говорить, я — молчать. Так мы сквитаемся.
Дед, где ты? Что-то тоже примолк, притих — Рязань вспомнил? Вороные, удалые, веселей гляди! Подай крючья, вон те, из проволоки. Выну стопку, покажу писателю. Смотри. Сейчас вода стечет — яснее будет. Вот видишь, икринки бледные, водянистые, в них черные точки вращаются быстро-быстро. Это личинки, крошечные живые мальки. Точки — глаза. Нажми одну легонько. Ну, не бойся, не погибнет. Хорошо. Брось в воду. Вот и породил рыбку — смотри, как завиляла хвостом, поплыла и… утонула: желточный пузырь притянул ко дну. Ничего, пусть лежит. Съест желток, подрастет, скатится в питомник к своему рыбьему народу.
Дед, неси эту стопку на выклев, созрела — распирают личинки, вертятся, как электроны в атомах. Еще сутки — они пробьют одряхлевшие скорлупки, выйдут в мир двигаться, наполнять жизнь. Так, дед уже поднял стопку, вытянул руки, пошел, будто неся перед собой некую святыню. Язычник, молится вещам и явлениям природы. Как вышагивает по доскам, как благочестиво держит голову! И, конечно, нашептывает разные сердечные слова, вроде: «Расти, рыбка, будешь большая, погуляешь в окияне, приплывай назад, в наши сети попадайся…» Так бы она и попалась, не будь глупой. А все же перенесение стопок — у нас обряд. Это — половина работы, половина успеха. Священнодействуем, благодарим прошлые дни, надеемся на господне милосердие в будущем. Переносим медленно, воздушно, опускаем стопки в просторную воду питомника, просим: дорогие эмбрионы, вылупляйтесь на божий свет, в наш беспокойный, прекрасный, радиоактивный мир.
Пойдем за дедом, посмотришь питомник. По доскам, как по гибким мосткам, в зеленом полусвете. Осторожно, не сорвись. Не утонешь, мелко, но ботинки свои суконные промочишь. Так. Здесь светлее. А вот уже видно. Что смотреть, спрашиваешь? Наш выводок, эмбрионы. Тут их, в этой секции, миллионов пять. А, заметил. Дно оранжево-красное, точно бархатный ковер постелен. И мелкие острые искры по ковру, как изморозь, как рассыпанная слюда. Это светятся глаза эмбрионов. Почему не двигаются? Время покоя у них: десять — двадцать дней. Лежат, дремлют, растут. Высасывают свои желточные пузыри, с ними не поплаваешь — тяжелые. Понемногу дно будет темнеть, из оранжевого становиться фиолетовым, потом синим. Исчезнут пузыри, и мальки поднимутся «на плав». Это уже маленькие рыбки, юркие, резвые. Не то что сейчас. Смотри, поддену сачком. Вот он, пузатик, чуть шевелит хвостом, и брюхо рядом лежит. Буржуй. А сам тощий очень, водянистый. Каждую косточку насквозь видно, хоть считай. Ну, прыгай в воду — раз! И живот утащил его на дно.
Что еще о питомнике? Это время тоже канительное для нас: то вдруг хворь нападет на потомство, и мы купаем его в малахитовой зелени; то кислорода им мало — включай мотор, прибавляй свежей воды; то сами себе замор устроят: сползутся в кучу малу, задыхаются — и стой над ними с сачком, устраивай в воде ветер. Работаем, работаем, а вот когда… этот абзац из книжки я наизусть помню:
«Когда личинки поднимаются «на плав», рыбоводы обычно облегченно вздыхают. Кончились самые тревожные и опасные моменты — периоды инкубации икры и выдерживания личинок. Становится ясным, что труды не пропали даром. Начнется подготовка к кормлению молоди».
Теперь «начинается». Раньше не подкармливали, мальки сами перебивались. И конечно, плохо им было… Помню, лет шесть назад подстрелил я ворону и подвесил ее за лапы к ольхе над ручьем. Там у меня грядки были — чтоб куры не лезли. Как-то раз подошел к ручью, смотрю, мальки тьмой-тьмущей сбились под вороной, кипят, никуда не уплывают. Что это такое, подумал. Неужели в тень прячутся? Потом что-то шлеп в воду. Присмотрелся: червяк белый. Мальки прямо взбесились, набросились, растерзали. Набил я ворон, развесил над ручьем и так первый раз подкормил свою голодную молодь… После по приказу стали подкармливать, рацион установили. Рыбный фарш, икра трески и минтая — все в ход пошло. Масло соевое, рыбий жир тоже подмешиваем.
И знаешь, привыкает эта мелкая рыбешка к еде, запоминает время обеда, собирается вокруг кормушек, ждет. Растет быстрее, меньше болеет. Кажется, просто — подкормил, позаботился… А пока до этого додумались… Хоть и примеры рядом. Почти любой из рыбоводов видел, как в тайге на нерестилищах мальки терзают туши своих умерших родителей. Лососи, отлюбив, погибают тут же, и не зазря — чтобы весной подкормить собой детенышей: надо любить их и после своей смерти.
Вот и рыбья любовь, а — любовь. Пожалуй, от любви этой и мальки крепче рождаются. Куда нашим, инкубаторским, до тех, с нерестилищ. Хоть мы и столовки для них открыли. Так и чудится мне: когда кета выпускает икру, а самец заливает ее молоками, — переходит к потомству их страсть, сила их тел, напряженных любовью.
Все, писатель, пойдем на свет и воздух. Экскурсия окончена, вопросы там, за этими стенами. Спасибо, Никифор, приходи курить, умные разговоры слушать.
Хорошо как на воде вольной! Смотри, под деревьями на снегу солнце растеклось. Наст подтаял, влагой подвернулся — белой водой лежит. Даже деревья отражаются… Вон те две березки, как над озером. И тени от ивняка, будто рябь ветреная… Садись сюда, на лавку. Сейчас снег смахну. Вот. Помнишь, летом как-то здесь сидели?. Спорили. Кажется о спутниках и ракетах. Ты восторгался, а я не очень: не в настроении был или с похмелья. Ты меня демагогом обозвал… А здесь кругом цветы росли: вдоль всего питомника, в палисаднике, возле дома. У ворот тоже две клумбы. Когда-то я огородничал и любил землю, разную зелень на ней, потом к матери и бабке «сельское хозяйство» перешло: меня рыбоводство затянуло. Но к земле осталась боль — это я не мог в себе побороть — и стал бросать в нее семена цветов. Да так и привык. От картошки и капусты к цветам перекинулся. Мать смеялась: «Теперь-то и мужики вроде баб городских сделались». А я возился с гвозди́ками, табаками, георгинами. Скрещивал, новое что-то изобретал. Интересно. Ждешь — что получится, радуешься, если, скажем, в анютиных глазках совсем неожиданное загорится. Особенно мальвы любил тасовать, путать. И знаешь, они мне за это отомстили: на стеблях распустились как-то черно-кровавые, мрачные граммофоны. Мать увидела, перекрестилась, сходила в сени за серпом и выкосила весь палисадник. Строгая была старуха, не вынесла таких шуток, долго потом вздыхала, жалела меня: «Вот без настоящей работы-то до каких дуростей можно дойти». За год перед смертью на Амур попросилась, родное Волково посмотреть. Отправил. Пробыла с месяц, родичей нашла, погостила. Вернулась и совсем занемогла. Все дом вспоминала, сад, рассказывала, хлюпая в платок. Столько раз рассказывала, что я слово в слово запомнил. Слушай, перескажу:
«Иисус, Мария… Приехала этто я в Волковское, пошла на край, хату свою посмотреть. Иду этто, иду. Не вижу хаты, будто как ослепла. Потомочки глядь — ан стоит, без плетня, без ворот, на бугре голом. Иисус, Мария… Хозяин-то ей достался никудышный. Тута выходит из двери мужичина огромадный, брюхо чешет и так говорит: «Иди дале, побируха, не подаю!» Зарыдала, заплакала я, отвечаю ему: «Да этто ж мой дом, и жила-то в нем, и детей народила в нем…» Зареготал мужичина. «Вишь, брюхо-то какое у тебя, — кричу, — а двор голый, и плетня-то нет. Ты куда ж его подевал?» Прямо зашелся от хохоту мужичина. «От буржуи, — орет, — без плетня жить не могут. На кой он, плетень? В печке сжег». Иисус, Мария… В печке пожег… «Да как же у тебя руки не отсохли, — говорю, — как же ноги не подломились. Да мы всю жизнь кизяком и соломой топили». Баба ивоная на крыльцо вышла, толстая, белая. Тоже смеется. Потомочки приглашает: «Заходите, бабушка, поскольку ваши предки здесь проживали. Чайком угостим». Собралась я этто войти, в угол помолиться, где иконы стояли, а тут вижу, на крылечке ступенька провалилась и никто ее не подладил, повернулась и пошла от хаты. И ушла бы, да уж очень захотелось сад посмотреть. Задами пробралась за поскотину и туточки опять заплакала: стоят груши-яблони в густущем бурьяне, две шелудивых козы бродят, подпрыгивают, листочки достают. Взяла хворостину, погналась за ними, упала… Земля сырая, тяжелехонькая, и так-то мне в грудь запахом ударило, что и умереть мне сразу захотелось. Отошла немножечко, поднялась, завязала в платочек кроху землицы и подалась без оглядки. Да и не ходила больше к хате, бог с ней. После того раза сердце-то у меня совсем плохое стало. Иисус, Мария…»
«Кроху землицы» привезла с собой, потрогать нам давала, понюхать: кроха была черствая, с белыми корешками травы, словно тонкими жилками. Год спустя мы ее и положили матери в гроб.
Держи папироску. Кури, дыми. Здесь можно — простор не закоптишь. Поплывет твой дымок над снегом, между деревьями, растворится, уляжется на сугробы, и ты оставишь здесь немножко себя. Что-то перейдет в эти деревья, снега. Правда? Качаешь головой. Чепуха, конечно. Но мне так кажется: привык думать, что даже дым не пропадет просто так, все остается, накапливается.
Теперь погляди туда, налево. К нам идет Зина, молодой специалист-рыбовод. Наверно, смотрела, смотрела в окно, не выдержала, решила представиться. Зина ленинградка, недолго здесь продержится. Но пока ничего. Хотя, смотри, из-под пальто платье проглядывает. Поначалу в брюках и ватнике ходила, шапкой заячьей форсила, под таежницу играла. Нравилось. А вот уже платье. Может, для тебя? А вообще, у меня примета: как к платьям потянуло — «таежная болезнь» одолела. Укачало, как в море. Идет… Ноги посмотри — маленькие, а валенки воронками, чулки… И под пальто — ни кофт, ни душегреек. Легко, красиво. У нас такого не увидишь: зимой бабы до глаз закутаны, летом — в сапогах и спецовках. Зина — роскошь. Слишком непривычная для нас, а нужная, очень. Чтобы по-медвежьи не зарычали друг на друга… Я вот гляжу на нее иной раз и думаю: как бы и где бы я жил, если бы женился на такой Зине? Нет, не сейчас — тогда, в первый раз. Я бы любил ее. А любя, и жизнь не так устроил. Совсем не так: любовь не просто жизнь, она, пожалуй, и есть та настоящая жизнь, для которой рождается каждый из нас. Но и нелюбовь — тоже не просто жизнь. Она по-своему строит человека, понемногу… оскотинивает его. Когда я смотрю на Зину, мне хочется убить свою жену. Не пугайся, не ерзай на лавке — штаны пожалей. Говорю — хочется. А мало ли кому и чего хочется… И вовсе я не люблю Зину, да и любить, пожалуй, уже не смогу. Нет, не то. Она для меня как проблеск в тумане: мелькнул — и нет его. А туман, гуще, идти труднее, и холодно до самого сердца оттого, что не будет больше ни огонька, ни света.
Здравствуй, Зина! Знакомься, садись, вот тебе место. Ты сегодня такая красивая, какая-то новая вся, будто в химчистку на Невском тебя сдавали… Мы вот скучаем. Расскажи писателю о сапролегнии, расслаблении оболочек, гаструляции, триходинах — все об икре и мальках. Он любит по-научному… Нет, какая ты сегодня!.. Помнишь, когда летом к нам приехала, я сразу вдохновился и стихи написал:
Ленинградка Зина, Ты из магазина. Нам, лесным и старым, — Новенький подарок.По форме не очень чтобы, зато содержание соответствует действительности. Полный реализм. Не то что у этих разных модерняг. Прислали бы их к нам на перевоспитание. Я — теорию, дед Никифор — жизнь. Зину привлечем — возьмешь на себя народные песни и пляски? Не знаешь? Вот те на. Может, и знать не хочешь? Тогда ты с ними, с этими… Ладно, закури, ножку на ножку закинь, поболтаем, как в кафе-мороженом «Космос» на Горького. Вам крем-брюле, по двести? Эстеты! Я просто — сливочное. А может, шампанского? Не стоит!.. Такая компания, и девушка одна на двоих. Как в песне: «Девушка, какая девушка!..» О, Зина покраснела и колени спрятала. Обстановочка не та: в лесу колени не играют, здесь обнажения грешны. Здесь человек чувствует, что он уже не природа, и ему хочется молиться.
Опять меня занесло и накренило, как хлипкое суденышко на волне. Пойдемте лучше закусим, разом и все распахнем души и тогда поговорим. Кто против? Зина — за: любит эту работу. Писатель — против. Нарушает принцип коллективности. Объяснитесь, дорогой товарищ. Что? О плотине рассказать?.. Да, обещал, но, может, после? Сейчас, немедленно? Подумать, какой интерес! Во, и Зина примкнула к этому мелкому отщепенцу. Тоже о плотине хочет узнать, чтобы потом вздыхать и рассказывать, какой талантливый изобретатель спивается на Таранайке. Ладно, слушайте мою сказку о самом себе.
Было это тогда, когда я терпел свою жену Верку, она терпела меня, сын Колька натирал животом и коленями пол, а Машеньки и совсем не существовало. Время смутное, непонятное для меня: я еще жидкий, сырой был, как непропеченное тесто. Кто я, что я — не понимал. И тут Верка, погоняв меня по книжкам, выдвигает директором (теперь я понимаю, как она здорово придумала). Сначала меня не ставят: образования специального не имею, — но Верка пробивает все стены и простенки и приводит меня к власти. Десять человек подчиненных, заместитель — родная жена. Что делать? Творить, удивлять, низвергать! Власть, она на то и дается, чтобы оправдывать доверие ближних. Я и сказал ближним: мне не нравится ваша тихая жизнь, безделье и безвестность. Жалкие таежные мещане. Мне не нравятся ваши пять миллионов икринок, в будущем году заложим десять. Как? Не согласны? Тунеядцев не держу, прошу по собственному желанию… Ну и поднял народные массы. Расширили, удлинили цеха, очистили от валежника речку, устроили фильтры — и к осени дотянули до девяти миллионов икринок. Заложили — чуть себя не уложили. Спросите деда Никифора об этом времени — плюнет, рассердится и убежит: вот как поработали. Память прощает, а шкура помнит, если ее заживо сдирали. А я в раж вошел. Кричу на каждого, руковожу, баб матом вдохновляю, мужиков — за грудки, кому и в морду суну, если не вовремя спиртишки хлебнул. Власть нервы портит. Но порядок, дисциплина была — как у старшины в роте. Никто не жаловался, жена довольна, заработки приличные, вода течет, время тоже… В июне следующего года перегородили Таранайку плотиной, устроили забойку, взяли повышенные обязательства, а через две недели, перед самым ходом горбуши, плотину снесло: в горах прошли сильные дожди, вода в речке поднялась, понесла кряжи, бревна.
Тут-то я и познал власть с другой стороны. Народ зароптал, дед Никифор, вконец замордованный, сказал мне: «Рано речку перегородил, все в стакановцы лезешь, а здесь у тебя, — он постучал пальцем себе по лысине, — как у хрена моржового». Я даже не выматерил его. Авторитет мой пал. С утра я уходил к речке, сидел, страдал. Вода не утихала, бурлила, и ей навстречу уже поднимались косяки горбуши. Бились о камни на перекатах, выпрыгивали из воды. Строить новую плотину, вбивать сваи, — а плотины были ряжевые, свайные, — когда ее поставишь, да и кто еще раз полезет в холодную воду… под моим руководством. Надо уходить или что-то придумать. Мой эгоизм стал сжирать меня: ни туда ни сюда не могу сдвинуться. А время — как сквозь песок вода… Я бродил с дурной головой и небритый. Верка очнулась, забегала, заговорила. Съездила в район, выпросила рабочих, подняла своих, стали рубить лес, вбивать сваи. Со мной она не советовалась, презирала меня: я не уберег ее семейный покой, на который, она считала, имеет право. Краснея и дрожа, она сказала мне одно слово: «Дурак!»
Я не стал директором. И работать не хотел. Плотину поставили без меня, рыбу забивали, икру закладывали тоже без меня. К поздней осени едва набрали пять миллионов. Пришла тихая, длинная зима. Я пил, каждый день собирался уйти из Таранайки. Верка не разговаривала со мной, обходила меня, как пень, а если все же натыкалась, во рту у нее закипала слюна. Весной я стал ходить к Таранайке, садился на берегу, смотрел. Неслась большая вода, шумела, успокаивала. Как-то я сидел, смотрел на мелькание затопленного водой тальника: над ним проплывали карчи, бревна — топили его, но он снова, упрямо, невредимо поднимал свои тонкие ветви. Мне подумалось: вот бы такую плотину! И пусть плывут бревна, карчи… Тут же на песке набросал чертеж: тальниковые прутья одними концами крепятся к опорному брусу на дне речки, другими свободно стелются по воде… В маленьком ручье, впадавшем в Таранайку, испытал свою «тальниковую» плотину. Получалось хорошо, но тальник скоро намокал, начинал тонуть. Надо было его заменить. И я придумал решетчатые щиты: сквозь них хорошо проходит вода, их можно крепить к опорному брусу на шарниры и они легко погружаются и всплывают. Тот же тальник — только модернизированный. Просто, «как мычание», и я замычал от радости.
Ну, а дальше вы знаете. Рыба упирается в щиты, останавливается, зреет, и мы впускаем ее в ловушку, потом в садки, которые строим у берега.
Ясно? Вопросов нет? Почему не видно восторга на лицах? Зина губы кривит: примитив! Но учти, милая, никакие ученые до меня этого не придумали. Писатель интересуется, что потом было? Слава, дорогой. Патент, деньги и слава. Как полагается. И власть вернули. Первые два года разъезжал по рыбоводным заводам, ставил свои плотины; на Сахалине, Курилах, Камчатке. Прошу к столу, дамы и джентльмены.
4
Выбирай лыжи, подгоняй по ноге. Палки тоже. Идти хоть и недалеко, а все равно — идти. Лучше, когда не трет, не тянет — душа не мается, идешь, как летишь над снегом, будто сверху все видишь. А посмотреть есть что. Зимний лес только издали мертв. Пойдем как раз в тот распадок, где в ручье форель ловили. Помнишь? Еще твой друг долговязый с берега свалился, на костре портки сушил. Вот туда и пойдем. Там у меня петель тридцать расставлено. Какой-нибудь дурной зайчишка обязательно голову всунул. Без добычи не бываю. Да и смешно: тут же их пропасть, беляков. Летом пса в огороде привязываю. Капусту, горох и прочую зелень дотла сжирают.
Готов? Хорошо. Что-то Зина не показывается, вчера собиралась с нами. Ладно, догонит, если размяться захочет. Двинули полегоньку. Скрип-скрип, хлоп-хлоп… Держись рядом, здесь две лыжни: с Машенькой вдвоем ходим. Лыжи не поднимай, пускай как лодки по воде. Шша-шша… Настроились. Теперь разогреемся, полегчаем и по-особенному, легко и откровенно, заживем по тайге.
У тебя уже закраснелись щеки, заиндевели брови. Ты еще, братец, здоров и юн. У меня трудно краска проступает: кожа толстая, кровь темная. Буряк буряком… Слышишь, лиственницы потрескивают? Сейчас от солнца — кора отогревается, вечером — от мороза. Вокруг талин дырки чуть не до земли протаяли. Бугры розовеют, как от смущения, распадки мрачны и сини. А вот след лисицы. Смотри, как прошила поляну, строчка отменная, мастерица, лапа в лапу — без промашки. В тале куропатки дрались, перья оставили, к ним-то и подбиралась рыжая.
Ну, теперь смотри сам, что увидишь — то твое. Все другое другим останется. А всего сразу никогда и никто не увидит в лесу. Таков он, таков человек. И это, должно быть, хорошо: одно дерево — не лес, один человек — не народ.
Ты хочешь что-то сказать? Я угадываю: у тебя немеют глаза и притупляется слух. Мои слова отскакивают целехонькие, нераспробованные. Понимаю, тебя не лес — жизнь моя интересует. Прошлая, конечно. Думал — сегодня передохну, увиливал, надеялся. Жалею, что вообще согласился. На радостях, в первый день… Вечности потребовал, литературного бессмертия: отрази, донеси мою ценную душу, сделай из меня вещь на века. Чепуха, хмельной бред, начитался художественных очерков. Ценная душа не знает, что она ценная, и не ценит себя. Тем более не заботится о бессмертии. Со мной другое: просто каждому хочется хоть чем-то остаться на земле… Об этом я уже, кажется, говорил. Не буду. И о себе не хочется говорить: что-то понемножку ускользает, где-то я вру, недоговариваю, переговариваю — получается жизнеописание некоего человека, гибрида, и Кочуева Степана только чуточку в нем, понюшка табаку. Чиха не выйдет. Ну, что скажешь? Как быть? Рассказывать? Пользуешься слабостью, знаешь: обещал — не откажусь. Но теперь прошу фамилию мою не упоминать. Создавай образ.
На чем мы тогда остановились? Я в рыбаки пошел, на заездке работал. Знаешь, что такое заездок? Это стена из свай и берда — тальниковых решеток. Длинная стена, от берега до фарватера. Рыба упирается в нее, хочет обойти и попадает в ловушку, которая в конце заездка. Ловушка буквой «Г», поэтому глаголью называется. Работал на переборке и жил там же — в дощатом домике. В шторм сильно раскачивало сваи, и домик плавал всю ночь на холодных, шипучих волнах. Работал — спал, работал — спал. Так и запомнился мне заездок.
Служить взяли в сороковом году. Попал в пехоту. Даже здесь, на Сахалине, сильно пахло порохом. Шевелились на границе японцы. И муштра была крепкая, настоящая. Впервые я узнал, что такое усталость и забота: мать присылала уж очень утешительные письма, старшина не любил меня за то, что я всегда улыбался, — придирался, давал наряды вне очереди. Была у меня такая привычка — усмехаться. Теперь-то и не припомню почему. Едва ноги волочу, озверею от усталости, голода, а подзовет старшина — стою и улыбаюсь. Он орет, трясется, всучит мне наряд «за непочтение» и тихо, сквозь зубы, скажет: «Вы идиот, Кочуев, ваше призвание — ассенизация отхожих мест». Как-то я пришел доложить старшине о выполненном наряде. Он чуть отступил, наморщил нос. Я захохотал в его румяное лицо. Вскоре меня перевели в другую роту: наверно, позаботился старшина. И стало хорошо. Нового старшину я никак не интересовал, был для него «массой», он даже объявил мне благодарность за первое дневальство: я до блеска натер отхожее место.
Смеешься?.. Да, большой специалист был по этой части. А мне вот невесело. Солдат из меня трудно получался, мало чего умел, а приспосабливаться и совсем не научился. И это я — казак, от рождения военный человек. Но коней любил, знал, как с ними обращаться, и мой новый старшина перевел меня в обоз. Получил в подчинение двух меринов — рыжего и серого, кормил, чистил их, ходил дневалить на конюшню. Как ни трудно придется: письмо невеселое от матери получу, командир распечет, пообедал впроголодь, — услышу издали запах навоза, сена, лошадиного пота, и хорошо, добро станет на душе. Вроде я человек, вроде земля подо мной тверже, потрогаю лошадей, поглажу их теплые бока, поговорю — совсем окрепну. Хожу, как по собственному двору, а то и прикрикну на кого-нибудь из младших солдат-конюхов. Слушались: признавали мое крестьянское превосходство.
Когда началась война, в сорок первом, нас ближе подвинули к границе Карафуто — Южному Сахалину. В любой час могли напасть японцы, и настала полувоенная жизнь: тревоги, броски, походы, учения. Ни сна, ни отдыха. И это, пожалуй, было хуже фронта. Нам так казалось. Конечно, там умирали солдаты, там гремели снаряды, но там была хорошая еда, настоящее дело. Там можно нахватать орденов, можно и умереть… но это совсем не страшно в двадцать лет. Да и не верится, что могут убить, и вовсе не думалось о смерти. Туда, только туда — от бестолковых тревог, походов, учений; от желтых маленьких японцев, которых никто из нас не видел, которые неизвестно когда нападут. Ждать — хуже, ожидание портило нервы, даже муштра не спасала от тыловой тоски.
Редко кто попадал отсюда на фронт. Но были счастливчики. Их провожали, завидовали им, заранее считали героями. Помнится такой случай. Старослужащего солдата Фокиева, лучшего снайпера, назначили в действующую армию. Он струсил, стал проситься оставить его на Сахалине, говорил, что нездоров, большая семья дома и еще что-то. Мы узнали об этом и по одному двинулись в канцелярию комбата. Собралось человек двадцать, самых молодых, но не самых отличных солдат. Был и я среди желающих огня и пороха. Комбат глянул в мою сторону, сказал: «А вас, рядовой Кочуев, вместе с повозкой или налегке?..» Отправили какого-то хорошего стрелка. Фокиев остался. Однако жить ему в батальоне стало плохо: насмешки, шутки, подначки… Чего только не придумывали! Привязывали к его шинели мешочек с песком, под койку ставили пустую банку — чтобы ночью не выходил на улицу, советовали приобрести ружье с кривым стволом — фашистов бить из-за угла. Фокиева перевели в другую часть, и о нем понемногу забыли. Но зато стали приставать ко мне: будто я на фронт со своей повозкой просился. И вовсе не воевать, а засевать «пашаничкой» поля, вспаханные танками и снарядами. Один кто-нибудь изображал, как я буду идти с торбой впереди наступающих войск, рассыпать горстью зерно, другие животы надрывали. И звали меня: кто — Пахарь, кто — Сеятель, а иные и подлинней — Сеятель доброго, вечного. Теперь-то подумать — смешно, и все. От скуки и тоски ребята потешались. А тогда — нет, зло настоящее брало, до слез. Хотел, как Фокиев, попроситься в другую часть.
А служба двигалась, подходила к концу война на Западе, и мы почувствовали: «Скоро!» Никто об этом не говорил, не было приказов, но наши солдатские души (к этому времени мы и вправду стали солдатами) почувствовали, что вот-вот будет и нам дело. Летом сорок пятого прихлынуло пополнение — западное, обстрелянное, из дыма и огня. Его подмешали к нам, разбавили нас, свеженьких и целеньких, и в августе мы вместе бросились на пятидесятую параллель, за которой было желтое Карафуто.
В серый дождливый день наш батальон перебежал узкую просеку, очищенную от леса, прошел по незнакомым тропам, напоролся на дзоты и залег. Японцы обстреливали отчаянно, жутко. Я увидел убитых. На повозку мне положили раненых — лейтенанта и ефрейтора (здорового украинца с оторванной рукой). Я что-то делал, кажется за уздцы поворачивал храпевших коней, — рядом грохнула земля, разверзлась, и я провалился в черноту…
Пока хватит? Теперь близко заячий распадок. Передохнем от прошлого, поживем сущим. Легко стало, будто из парной только что выбрался, веником березовым нахлестался: веса — ни-ни. Смотри, белка с дерева на дерево перепархивает, снегом дымит. Нас испугалась. Рыжая, как огненной ниткой, прошивает елки… Под каждой лиственницей — красная труха коры: дятлы шелушат. А вон снег облепил пихту — лапы, голова, глаз — белым медведем на нас движется.
Еще три-пять минут, и за тем бугром… Помнишь, я тебе о корейце рассказывал, огороднике? Мастер был зайцев ловить. Я у него научился. Отлично умел он и жаркое состряпать. Каких-то кореньев, трав добавлял — аромат на всю тайгу. Это я не перенял, для этого надо, пожалуй, корейцем родиться. Так вот, старик тоже здесь ловил: лучшее место на Таранайке. Приспособления разные устраивал, чтобы запетленных зайцев лисы не сжирали. Пригнет крепкую талину, зацепит ее за сучок, снизу петлю повесит. Влезет головой заяц, трепыхнется, талина выскользнет — и висит он, милый, метрах в трех над землей. Тут и человек не каждый достанет.
Держись! Съедем под гору — как раз к месту угодим. Голову ниже, а то веткой смажет!.. Так, отлично. Слышишь, как тихо здесь, ручей бормочет. Подо льдом, чуть-чуть. Будто мы с тобой в ледяной храм опустились, лиственницы — красные колонны. И следы — слева, справа, впереди. Не просто следы — тропы. Можешь лыжи снять и по любой пешком пройти: так зайчики лапками набили… Вот и петля первая. Пусто. Следующую вижу — тоже. А там — вон-вон, за талой, за дымом, что-то кувыркается, промелькивает. Прибавим шагу. Теперь вижу: заяц бьется в петле. Здоровенный, смотри, как лапами лупит, какой круг выбил. Зайдем с двух сторон, чтобы не знал, куда бежать: а то с перепугу рванет, и лови тогда за куцый хвост. Двинулись. Смелее. Заходи из-за коряги. Так… Хорошо! Сейчас я его палкой прижму. Ах стервец, как собака бросается! В прошлом году меня такой за палец схватил… Вот, голова в снегу. За шиворот тебя, за шиворот! Рраз! — и простите за грубое обращение, ваше заячье величие! По-другому с вами нельзя — больно ножками брыкаетесь… Мне кореец рассказывал — один зайка так ударил его в живот, что он едва домой добрался. В задних лапах вся заячья сила, они прямо железные.
Понесем его вон туда, к поваленной лесине. Возле нее пень широкий торчит. Там мы его… Что? Зачем, спрашиваешь? Увидишь, узнаешь. Потерпи. Терпенье всегда вознаграждается. Так. Предлагаю вам лечь на пенек, зайка. Товарищ писатель подержит вас палкой, а я нож достану кружку для вашей горячей ароматной крови… Выпьете, товарищ писатель, кружечку? О, вы даже держать не хотите? Вы побледнели. Так я ведь не вас буду резать — товарища зайца. Жалко? Нервы барахляные?.. Вы же кровавые бифштексы едите? А это почти то же самое. Ну, насильно не стану, водкой не спаиваю, кровью тем более… Держи крепче! Разгладим шерстку на горлышке. Ах, как верещите вы, уважаемый зверь! К чему такой страх — будьте философом. Все мы гибнем за металл и от металла. Смерть — это избавление от страха. Жизнь — это страх. Все живое погибло бы, перестав страшиться… А довольно. Писатель трахнется в обморок, если я еще немного пофилософствую. Извините, брат заяц, по праву более сильного я обязан прикончить вас… Как ударила кровь! Фонтан, извержение! В кружку ее. Смотри, как вспухла пена — пиво, только красное. Хочешь глоток? Нет? Где тебе, гуманисту! Если б человечьей… Ну, не сердись, не буду больше. И выпью: остынет — пропадет хмель и аромат.
Прекрасно! Не бывает лучшего напитка. Влился теплом, солью, силой. Теперь о тебе подумаем. Да, о тебе. Надеюсь, шашлык употребляете? Он не верещит, не трепыхается. Не вздумай отказываться, все равно изжарю и угощу… Словом, тебе собрать хворосту, сухого, костер соорудить, мне — снять шкуру со зверя и тушу разделать. Начнем. И никаких вздохов, а то я тоже оскорблюсь, плюну на все это и что-нибудь скажу такое… Ну, назову тебя дураком. Вот, сдвинулся. Молодец! И вообще, брось притворяться, все равно из всего этого рассказ сочинишь, гонорар получишь, в своем клубе шашлычка откушаешь… Так я тебе лучше сам и бесплатно приготовлю.
Собирай хворост и слушай: я буду ножом работать и песенку напевать:
Холодно заиньке во глухом лесу, Боязно встретить во лесу лису, Рыжую, жаркую, как пожар, в лесу, Быструю, жадную, жирную лису. Думает заинька — вот бы ту лису Научить питаться мышками в лесу. Мышки как галушки, много их в лесу, Не боятся мышки рыжую лису. Думал зайка, думал, прыгая в лесу, И наткнулся зайка прямо… на лису. Лисонька оскалилась: «Знай, косой, лису!» И не стало заиньки во глухом лесу.Нравится? Сам сочинил. Машенька на елке в школе пела и похвасталась, что сама придумала, — ей премию выдали. Я ее стал стыдить, она отвечает: «Это ж все равно — ты и я. Мы же как один человек». Неплохо придумано, правда?.. О, у тебя кострище какой. Сейчас и я управлюсь. Иди посмотри, какая шкурка. Не бойся, уже остыла. Хочешь, шапку из нее сошью — самая лучшая в Москве будет. Не то что вот эта твоя, кроличья. Подай мне вон ту палку. Так. Я ее напополам и концы заострю. На концы по куску мяса нацеплю покрепче. Теперь воткни палки в снег над огнем, за ветром, где дыма нет. Отлично. А я пойду пробью ледок, руки вымою.
Как пахнет! Как из пещеры питекантропов. Дальше пожалуй, я сам займусь: тут тонкая работа нужна, ювелирная Чтобы в меру пришлось. Чтоб кровь закипела, но не перегорела, чтоб сало внутрь ушло, в соку растворилось. И чтоб дымком, дымком чуть-чуть. Ах, солью забыли припорошить. Достань в мешке, не поздно еще. Во! Мы ее прямо в шипящую пену.
Накрывай стол, здесь, на пеньке. И налей по чарке. Особенно тебе надо, а то мясо в зубах заверещит. Готово. Пей… Прилично! А теперь держи вот это — килограмм шашлыка. Впивайся, рви зубами, жмурься, рычи и трепещи от жадности. Побудь зверем. Вернешься в человечью кожу — больше ценить ее будешь. Прекрасно, дорогой писатель! Вы крупно работаете. И я себе позволю — вкушу плоти звериной.
Пожевали, почавкали — утомились. Хорошая еда утомляет. Сначала. Запах пищи по всей тайге разнесся. А пятно крови на снегу, должно быть, флагом видится сверху. Закурим, помолчим. Послушаем, как еда входит в нас, горячит кровь.
И давай я тебе дальше расскажу — хочется поскорее избавиться от истории своей жизни. Не буду расписывать шибко. Кусками, но постараюсь по порядку. На чем мы… Да, меня ранило, — не начав воевать, сразу закончил. Повезли в тыл, в санбат. Там сказали, что ничего страшного — раздробило правое плечо, подштопаем, подлатаем. А недели через три мы поехали по японской железной дороге. В маленьких, узких вагончиках, по тоненьким рельсам привезли нас в Тойохару — столицу Карафуто. Раненых поместили в японский госпиталь. К этому времени весь остров был наш, японцы удирали на Хоккайдо, а из России, с Большой земли, приезжали первые переселенцы. Город Тойохара стал Южно-Сахалинском, и я видел его из окна. Присматривался, изучал. Деревянные, дощатые домики, тесные и тесно прижатые друг к другу; керамические трубы, протянутые вдоль стен; выпяченные окна, как витрины базарных киосков, маленькие, игрушечные дворики — все это, серое, одинаковое, наполняло весь город. Только кое-где сумрачно и божественно возвышались храмы и пагоды — чешуйчатые, черепичные крыши в несколько ярусов. По утрам город дымился тысячами труб, заплывал угольной серой мглой. Вся Тойохара — солнечная долина до полудня покоилась в дыму. Потом ночами стали гореть дома — по нескольку, в разных концах города. Русские переселенцы не умели топить железные японские печки, бросали в них что попало, и дощатые домики вспыхивали, как смоляные костры. Ревели сирены пожарных машин, слышались крики, окна в госпитале багрово полыхали. Раненые в нижнем белье, как десантники, толпились у окон, говорили вполголоса. Сестра укладывала нас, но мы снова пробирались к окнам. Город выгорал — упрямо, будто по плану. Гибли люди. Несколько погорельцев попали и к нам в госпиталь — едва спасли. Из домов стали выбрасывать железные печки и строить кирпичные, русские. Но где их сразу настроишь — тысячи?.. А вот у японцев дома не горели. Почему? Кто-то нам рассказал, что в Тойохаре был закон: если загорелся твой дом, лезь сам в огонь, погибай — все равно тебя бросят, сожгут. Не знаю, правда или нет, но никто из них не помнил о пожарах. А у нас ведь и сейчас, с русскими печками, японские домишки горят. В Южном шутят: «Строимся по мере выгорания».
Выписался из госпиталя зимой, в новом году. Дали мне игрушечный домик, — кажется, упрись плечом, и повалится, — но с кирпичной печкой. А это — роскошь. Вызвал мать, бабку и сестер (с севера на юг), поступил рабочим на рыбокомбинат. Сестры тоже устроились. Одна сразу замуж выскочила. Мать в столовую поварихой пошла, бабка — дома, за хозяйку. Наладились, настроились. Еда была хоть простая, но досыта. А рыбы — любой, по вкусу. Мать уговаривать стала меня жениться. И надо бы жениться, «одомашниваться», огород распахать, садик из смородины и крыжовника посадить. Да и невеста находилась — хохлушка, из переселенок. Но… весной прочитал объявление, что набираются бригады на путину, собрал вещмешок солдатский и подался «в отход», посмотреть южную сахалинскую землю.
Сначала ловили селедку в Анивском заливе, заработали неплохо, потом горбуша пошла. Бригада у нас была неводная, десять человек. Люди приезжие, рыбу только в магазине видели. Меня бригадиром выбрали. А командир из меня — так себе, по большинству голосов действую. И произошла такая история. Горбуша сразу поднаперла, взяли мы центнеров пятьсот, а после — все. Водичку соленую стали цедить. Обозлились бригадники — очень заработать хотелось, от неудачи за водку принялись: она ведь всегда ответчица. Передрались. И уговорили они меня речку нерестовую наглухо перекрывать. По ночам мы делали в устье заметы, днем отвозили улов на рыбобазу. Повеселели, в карманах опять деньги захрустели. Но кто-то по пьянке проболтался — нас засек инспектор рыбнадзора: прямо в речке, когда полный невод вываливали на берег. Составили акт. Бригадники свалили все на меня. Да и то — кому же отвечать… Я расписался — и скорее к директору рыбобазы. Тот, добрая душа, отпустил грешника на покаяние. Получил я расчет, запил с горя и невезения. Дружок один подвернулся, мы с ним и кутили в чайной. Прогуляли все. И тогда дружок говорит: «Пойдем к моему дядьке на рыбоводный завод, я у него перезайму». Мне все равно было, куда идти. Пошли. Брели весь день по берегу Анивского залива, к вечеру свернули в долину речушки и через час или полтора явились сюда, на Таранайский рыбоводный завод. Дед Никифор оказался дядей моего дружка. Тогда-то, двадцать лет назад, дед, конечно, и дедом еще не был. Сердито оглядел нас рязанский мужичок и выругался. Но на водку дал и кормить стал вволю. Опять закутили. Ходили по поселку рыбоводному, дружок бренчал на гитаре, я приплясывал и напевал. Но помню, как мы забрели в дом директорши. Она угостила нас, сама выпила. Потом мы все вместе разругались из-за чего-то. Кончилось тем, что дружка моего она выгнала, а меня уложила на кухне спать.
Проснулся я поздно, в полдень, пожалуй. Голова трещит, на душе муторно — словом, больной и бессильный. Сунулся в дверь — закрыто. На чистом столе увидел еду, банку с рассолом и водку. Всего полстакана. Рассердился: «Дура, режим установила, как мужу родному». Но выпил, попитался и снова уснул. Проснулся на закате оттого, что хлопнула дверь. Вошла она — Верка, директорша. В платьице, босоножках — и показалась мне очень красивой. И еще больше — чистой. Лежу и чувствую, как от меня прет потом, грязным бельем. Верка говорит: «Иди прогуляйся, Степа, а я ужин приготовлю. Вечер такой хороший…» Встал, вышел. Свежо, тихо, туман по лесу бродит, и соловей на тополе поет. Потянул носом — землей сырой, тяжелой ударило. Аж покачнулся от этого позабытого запаха. Сел на ступеньку крыльца, притих. Слушал, дышал, отходил — дрянь из меня в сырость, в туман, в тишину улетучивалась. Почти неслышно приблизился дед Никифор, остановился, дохнул дымком. Я спросил, где мой дружок. Никифор долго молчал, ответил: «Прогнал». Я удивился, подумал: «Как это прогнал?.. Что же мне здесь делать?» — но сразу забыл об этом: вышла из дома Верка, позвала ужинать. Я было потянулся за ней, потом остановился — жалко стало мне этого вечера, — сказал: «Может, пройдемся, подышим?» — «Хорошо», — согласилась Верка.
Мы пошли мимо дома, к Таранайке, двинулись по ее берегу вверх. Молчали. И было легко молчать: громко говорила вода в речке. Шли, будто проплывали по мокрым от росы лужайкам, сквозь полосы белого, серого, синего тумана. Вровень с нами плыли широченные листья гречихи сахалинской, вялые шапки лопуха с розовыми улитками, а вверху стыли ветви тополей и лип — будто зеленые корни вросли в синюю почву неба. Мы не отходили от Таранайки — чтобы не говорить. Шли, пока не уперлись в плотный таловый плетень. «Что это?» — спросил я. «Огород корейца», — ответила Верка. Я отыскал калитку, открыл и увидел огород: ровно, густо, фиолетово цвела картошка. Пахла картошка, грустила картошка. Картошка была такой сильной, что я наклонился, подкопал один куст и вынул плоскую, тяжелую, розовую картофелину. Корейскую. Отряхнул от земли, сунул клубень себе в карман. Постоял, подышал еще огородом, и Верка потянула меня за рукав.
Шли назад, и я чувствовал холодную, вескую тяжесть картофелины в кармане. Был спокоен, потому что знал: останусь здесь. Почему, зачем? — не спрашивал себя, да и не ответил бы. «Останусь», — уже жило во мне, о нем догадалась Верка, взяла меня под руку, прижалась боком.
В Веркин дом я вошел, как в свой, нашел вешалку, умывальник, полотенце. Из чайника взял горячей воды, подсел к зеркалу, побрился. Верка подала одеколон, припудрила царапину на подбородке. Потом взяла меня за руку, ввела в маленькую комнату за печью, куда я еще не входил. Здесь стояла детская кровать, на ней спала Веркина дочка. Девочка была толстая, белая, сосала во сне губами, наверно, ей снилось что-нибудь сладкое. Помолчали, будто поговорили и договорились, и под руку вышли в большую комнату — горницу: на белом столе был накрыт роскошный ужин. Первый такой в жизни Степки Кочуева.
Утром я встал хозяином дома, мужем Верки, отцом ее дочери. Вышел на крыльцо, подышал, опьянел от тишины и покоя, от солнца и леса. Стоял, смотрел. А люди уже работали: в носилках мимо меня, покачиваясь, проплывала крупная красная икра, журчала в питомнике вода, из цеха слышались слабые голоса женщин. Вот еще одни носилки закачались рядом со мной, и я взял на ладонь икринку. Она была твердая, вздутая. Удивился — никогда не видел таких. Сел на ступеньку, нажал пальцем — икринка брызнула кровью — и сразу, неожиданно, с испугом каким-то подумал: это первый в моей жизни надежный дом, первая жена и женщина, первый ребенок…
Ну, может, привал сделаем? Не хочешь? Ты, брат, как сказку слушаешь — заледенел от внимания. Нет, давай петли остальные проверим, погреемся, а на обратной дороге я тебе доскажу. Пошли вдоль ручья, ты справа, я слева. Здесь две заячьи тропы — каждый год на том же месте. Так, двинулись… Вон вижу петлю — пустая, сбоку обежал косой, заметил. Смотри у себя там… Пусто?.. Плохо что-то. Мало бегают зайчишки. Может, погода переменится… Перед снегопадом замирает лесная жизнь: особенная тишина наступает, какое-то философское томление. Будто птицы и звери думают о смысле жизни… Ага, вижу на твоей стороне добычу. Окоченел беляк, бедняга. Посмотри, не тронула лиса? Нет? Вынимай из петли, клади в мешок, петлю настрой, как была. Только след не топчи: чуткий зверь — обегать станет. Готов?.. Пошли дальше. Да, плоховато сегодня. Бывали дни, когда я по десятку здесь снимал, как в хороший урожай — висят зайцы плодами. Перебирайся ко мне. След только не пересекай, стань боком к тропе и переставь лыжи. Хорошо. Пошагали домой полегоньку. Жаль ружья не взяли — за куропатками побегали бы. В другой раз… А зайчишка твой как? Ничего, увесистый. Жаркое из него состряпаем — домашнее, со сливками… Смотри, прохладно стало — солнце завалилось за сопку, и там, наверху, ветерок потягивает: по скатам сухой снег осыпается. Ну, разом выбежим на бугор, согреемся, и тот ветер будет нам нипочем.
«И открылись им дали, — сказал поэт, — от зари до заката, и они увидали…» — не помню, что они увидали, наверно, светлую дорогу к счастью и процветанию. А я вижу, что мне надо говорить… Хорошо хоть ты в блокнот не записываешь — потом могу сказать, что вовсе не так рассказывал, жалобу в редакцию «Литературной газеты» напишу.
Ну, слушай… Все мне было интересно: Верка, молодая, сильная, жадная на любовь; тихая и очень сытая жизнь. Слегка помешанный, я ходил за своей женой, ревновал ее к тому, кто был до меня, к тем, кто к ней приближался сейчас. Даже деда Никифора ненавидел. Что это — любовь? Не знаю. Пожалуй, нет. Это — первая женщина. Она неповторима, она сама по себе откровение. Ее, самую обыкновенную, простецкую, вспоминают потом сквозь все любви и женитьбы. Она единственна и бессмертна. От нее начинается мужчина… Конечно, ничего такого я тогда и не думал. Ходил за Веркой, трогал ее, смотрел на нее, вдыхал ее запах, уводил ее от работы и людей. Она легко поддавалась. Мы забыли о ее дочке — та бродила грязная и голодная, и жена Никифора взяла ее к себе. Через месяц вспомнили, увели домой.
Верка зачислила меня рабочим на рыбоводный завод, определила оклад. Наступила зима, и трудиться приходилось немного, да и не очень нравилась мне возня с икрой и мальками. У меня было твердое убеждение: икру надо есть, а мальки пусть сами выводятся. Меня интересовала Верка и еще… охота. Эти два чувства я не умел, пожалуй, разделить: в том и другом проявлялось мое созревавшее естество. Зато весной, когда вспухла талыми водами земля, взялся за огород. Распахал бугор за домом, сходил к корейцу, выпросил семян, купил картошки — его, розовой. Посадил, посеял. Обнес огород новым высоким плетнем. Подбил коршуна, живого привязал посреди огорода, кормил рыбой и мясом, и он хорошо служил: отпугивал кур, воробьев, зайцев. В июне стал косить сено для коровы, а после пришла пора опалывать, окучивать картошку и прочую овощь. Загорелся, запалился от работы. От Верки отвык. По ночам и во сне пахал, сеял, косил; на кого-то орал, хозяином ходил по сырой земле, разводил руками, приценивался, определял свое богатство: сколько и чего можно будет вывезти в Южный, продать… Чуть рассвет — бросался к своему «полю», забывал поесть. Верка обед приносила на грядки.
А рыба шла, люди ловили ее, собирали икру, закладывали в аппараты. И было трудно, допоздна слышались на Таранайке голоса, плеск воды. Но я не видел этого… нет, пожалуй, видел, но не понимал, зачем им нужна такая работа. Как-то под вечер, когда я подвязывал к палкам помидорные кусты, пришла на огород Верка. Она была злая — я понял это сразу, потому что она впервые была такой. Остановилась в нескольких шагах от меня, будто я мог ее ударить, сказала: «Ты кто — огородник или рыбовод?.. Да знаешь, я подожгу с конца и дымом пущу твою частную собственность». После успокоилась немного, стала просить, чтобы пошел на завод работать — ведь оклад мне начислялся. И стыдно от людей. Пошел, но и огород не бросил — жалко было. Так и метался — почернел от заботы.
К осени мать с бабкой приехали, освободили меня, приняли «сельское хозяйство», а я у них вроде шефа стал. Нравился матери мой огород, кореец приходил — тоже хвалил. Мы присаживались с ним у плетня, курили и говорили о земле. И никогда о рыбоводстве. Он тоже не верил в эту «работу»: картошку можно вырастить, рыба сама пусть растет. У нас был враг — Верка. Она ходила с большим животом, лицо у нее было коричневое, конопатое, как у первоклассницы, и она не любила корейца. Нет, пожалуй, не то слово… У старика она брала черемшу, лук, чим-чи — корейскую капусту, хвалила его старательность, но не терпела, когда он приходил ко мне, смотрел огород и долго курил свою тоненькую трубочку. Она попросту выпроваживала его, если меня не оказывалось рядом. Понемногу я стал отвыкать от огорода. Верка все дни дежурила около меня на заводе, учила, рассказывала. Как-то принесла толстую книгу и две брошюрки, попросила: «Прочитай, потом поговорим». Прочитал, кое-что выписал для себя — так началось мое рыбоводное образование. Практика — на работе, теория — книги и Верка. Она без устали преподавала мне: на кухне (пока готовила обед), за обедом, вечерами, когда мы ложились спать. Она очень хотела научить меня — и научила. В техникум заочно поступил.
Родился сын. Верка решила нянчить его сама и отказалась от директорства. Выдвинула меня. Ей хотелось попробовать: повезу или нет? Повез, да и здорово — с дурацким напором. Успокоилась Верка, округлилась, посвежела — как подрумяненный колобок в печке. А после… Ну, я уже рассказывал: канитель с плотиной, провал плана, стычки, обиды… О моей плотине тоже знаешь. Что еще?.. Да, вот о Верке. Не думай, что у нас разлад из-за того случая. Вовсе не верю я в любовно-производственные конфликты. Случай как случай, их хватает в жизни. Просто случай встряхнул, осыпалась «штукатурка», посмотрели мы друг на друга — и не узнали: неужели мы такие?.. А дальше… Дальше — вон идет Зина, и она избавит меня от этого «дальше». При ней-то ты меня не заставишь о жене сплетничать? Да и так уже ясно — художественно домыслишь. Недоволен, хмуришься? Поверь, мне так трудно вырабатывать для тебя полуфабрикат, что боюсь, не произведешь из него хорошего продукта. Как было здорово, пока я не стал художественным прообразом! Мы просто жили — и все. Жили, болтали, рыбачили, пили. Только теперь я понимаю, какое это редкое счастье: жить — и все. И оно, пожалуй, навсегда покинет нас. Как ты думаешь?.. Ты молчишь? Тебе, может быть, плевать на это? Ладно, не буду: ты опять сердишься… Давай встретим Зину с почестями и любовью. Я сам все разыграю, ты иди следом, будь молчалив и застенчив. Чаруй Зину глазами.
О, принцесса! Остановись там, под елкой, пусть она озеленит тебя, и покорный раб приблизится, опустит к твоим ногам дар зимних лесов и вод великого Берендея Таранайского! Он шлет тебе этого несравненного зайца, которого ты сможешь зажарить и съесть, облизывая свои белые пальчики. Впрочем… пальчики твои может облизать сам его величество, он — большой любитель этого… Что вы скажете, ваше величество? Я уступаю вам лыжню, и вы можете вторым зайцем пасть к ногам принцессы. Вас она зажарит с бо́льшим удовольствием, а пальчики буду лизать я… Ну, что же вы, Берендей Таранайский? Падайте или…
Принцесса сама идет к нам, улыбается — простила наш медвежий этикет. Она смотрит на вас, она благодарна вам, будто это вы придумали для нее эту глупую сценку. У нее ненормальные глаза: она ест ими. Вы чувствуете, как сбавляете в весе?.. Она готова — сама себя поджарила на медленном огне скуки. Вот так эти дуры и выходят замуж! Приехал свеженький, чистенький, умненький — свой мальчик. Сейчас она пожалуется тебе, как мы угнетали ее здесь… Нет, молчит. Значит, еще не совсем одичала. Может, вправду женишься на Зине? Такую свадьбу отгрохаем — медведи в берлогах проснутся, а?..
5
Сегодня ты уезжаешь?.. Вечером? Ой-е-е!.. Как же я останусь без тебя? С кем буду говорить, спорить? Ведь опустеет дом, Таранайка, земля. Тайфун нагрянет, запуржит, заметет — и я не захочу выйти из дома, а если и выйду — буду бродить между сугробами, не оставляя на снегу следов: так опустею. Увижу жену — пройду сквозь нее. Увижу Машеньку… да, вот… увижу Машеньку — и, пожалуй, остановлюсь. Остановлюсь, обрету вес; и если пойду дальше, взяв ее за руку, позади будут оставаться следы.
Ты уезжаешь? Как странно! Неужели ты можешь уехать? Ты улыбаешься? Конечно, смешно. До вечера еще — весь день. Может, мы и не доживем. Может, не доживет эта земля или рухнет небо. Я буду надеяться. А пока… нет, не хочу больше рассказывать. Знаю, что не успел, знаю, что «не выразился», знаю, что тебе из всего этого не состряпать и рассказишка. Много говорил, но самого главного не сказал — своей правды. Да, личной, персональной — думаю, что у каждого она своя. Кроме той, большой, общей — правды для всех. Не сказал и не сумею. Боюсь. Нет, не кого-нибудь и не чего-нибудь — себя боюсь. Кажется, выскажусь и потеряю свою сущность, тайну — то, ради чего живу. Но ведь и тебе без этой, моей правды ничего обо мне не написать? Дружить — можно, написать — нет.
Вижу — эта моя исповедь ни к чему тебе. Из нее даже капли смысла не выжмешь. Давай так договоримся: я пойду добуду на обед рыбы и мяса, а ты почитаешь мой дневник. Не весь, конечно, я тебе отмечу. Согласен? Отлично! Писатели любят в чужих душах копаться, свои подальше держать… Сейчас я отыщу тетрадку. Прячу от членов семьи. Вот она… Минутку. У меня здесь по главам. Читай эти: пятую, одиннадцатую и семнадцатую. Ну, желаю счастливых открытий…
Глава пятая
О рыбе
«Что такое — один процент? Очень немного. А как сделать из него много? Надо увеличить ту цифру, из которой он происходит. Цифру-мать, цифру-родительницу. Возьмем двадцать миллионов. Один процент — будет двести тысяч. Так вот: почти двадцать миллионов мальков мы выпускаем весной в море, а приходит к нам через полтора-два года только двести тысяч взрослых горбуш. Один процент. Куда же делись девяносто девять?
Море для меня — огромная, зыбкая масса. Оно — как тусклая мгла. Немая, непонятная сила. Оно бедствие и страх. Я не знаю: бывает море когда-нибудь доброе? Какое оно в доброте? Я не знаю моря — того, которое не бьется о берег, которое само по себе: вода, и все. Я даже не видел его. Но оно есть, потому что в него уходят миллионы моих мальков. Они стремятся к нему жадно, неукротимо, они видят его уже в красной икринке, чуть пробудившись к жизни. Они сами находят к нему дорогу. Море принимает их, вбирает в себя, дает им воду, пищу. Как живут там мои мальки, что едят, — я тоже не знаю. Какие огромные, медлительные рыбы всасывают их в пасти, на каких теплых южных отмелях дремлют они в знойные полдни? Сколько у них врагов и кто из них найдет дорогу ко мне, в речку Таранайку?
Тяжелыми косяками, серебря воду, они двинутся к родным берегам, и море, тусклое в своих глубинах, откроет им навстречу тысячи жадных глоток — рвать, пластать зубами — потому только, что они такие вкусные и такие беззащитные.
У японских островов лососи впервые встретятся с человеком. Этот человек всегда жил у моря, всегда ел рыбу и очень ценит моих выросших мальков. Он старается поймать их больше, он умеет ловить: широко, необъятно раскидывает снасти — и берет свою долю из девяносто девяти процентов. Вескую долю: этот человек, как я уже сказал, ловкий рыбак. Горбуши приносят на хвостах в Таранайку острые крючки — от его снастей, раны на спинах и животах — от его ловушек. Он живет южнее, раньше встречает моих лососей. Я не могу ему запретить: море принадлежит всем, Я не могу сказать ему: «Это моя рыба!»
Разбитые, разжиженные косяки подходят к нашим берегам. Среди них — и мой, еще невидимый, необозначившийся. В нем двести тысяч — приблизительно. Он так же тесно прижимается к отмелям, так же «пробует» в речках пресную воду и, узнав, что вода «чужая», идет дальше. Он слеп, одержим в своем движении. И когда на пути его возникают стены ставных неводов, он бьется в них, старается прорваться, а после медленно идет вдоль мягких сетных препон — от берега, вглубь. Ловушки емкими ковшами отчерпывают, отгребают часть косяка, и он, чувствуя свою убыль, слепее, одержимее устремляется дальше. К устью Таранайки приходят пугливые, утомленные табунки. Я выхожу встречать их, смотрю, заранее определяю, сколько брачных лососей приплывает ко мне. И вижу, как сивучи и нерпы берут свою законную долю: нападают на табунки, хватают рыбу, жрут, задыхаясь от усердия и жадности. А она, эта тихая рыба, даже спрятаться не может в устье речки: ей надо сначала привыкнуть к пресной воде. Я стреляю по лысым головам сивучей и нерп, но не сильно спасаю лососей. К забойке поднимается лишь двадцать — тридцать тысяч: как раз столько, чтобы мне едва-едва собрать и оплодотворить двадцать миллионов икринок. Всем, достигшим желанной родины (моей плотины) я вспарываю животы — и это последнее кровопролитие на длинном, похожем на реку крови в море, пути благородных лососей. Тушки я сохраню, чтобы потом, весной, скормить их новым двадцати миллионам.
И так из года в год. Я работаю на свой один процент, забочусь о нем, боюсь его потерять. И я могу его потерять: он очень некрепкий. Он приходит ко мне из моря, которое для меня — тьма-тьмущая. Я не могу отгородить себе часть моря и пускать в него, как в загон, своих мальков: море принадлежит всем. В него нельзя вбить кол или разделить стенами. И, может быть, это плохо для моря: его некому оберегать. Оно беззащитное — перед нами, людьми. Самые жадные зубы и глотки в нем покажутся мелкими едоками, если мы все захотим съесть по одному лососю. Морю страшно стать просто водой, как Земле — просто землей».
Глава одиннадцатая
Про себя и жену
«Жена мне Верка? Наверное. Потому что у меня с ней общие дети. Жена — обязательно мать. Все другое — содружество, сожительство и еще что-то. В этом я ничего не смыслю и не берусь рассуждать. Еще вопрос: хотел я общих детей с Веркой? Пожалуй, нет. Но это я сейчас так думаю, а тогда… Тогда мне нужна была женщина. Я был готов к ней, я не мог жить без нее. Я, может быть, чувствовал вину перед своей совестью, но желание было сильней всего меня… Нет, не Верка взяла меня к себе: она сама пришла, как приходят с кувшином воды на зов жаждущего. Я жил с нею, она нужна была мне, как часть самого меня. Я жил ею, пока не устал и не остыл. Это было хорошее забытье. Но оно оборвалось, и я вдруг огляделся и подумал: я — отец, это — мой сын, Верка — жена и мать. Хотел я этого или нет — меня никто не спросил. Я только испугался — сам в себе и для себя. И понял: ничего не переменить, никто из нас не исчезнет вдруг, будем жить вместе. Это была уже другая жизнь, непохожая на прежнюю. Жизнь рассудка. Мне снова стала нужна водка: затуманивать, оглуплять себя, — потому что глупое состояние прежней любви было мне недоступно. Так нашла выход моя главная страсть. Другая — тяга к земле — перешла в любовь к цветам. Я сажал, сеял, бросал их вокруг себя, чтобы земля, позабытая мной, не очень сердилась на своего жалкого выродка.
Верка мне нравилась как женщина. Она была очень настоящая женщина. И это мне не забыть. Пока я видел в ней женщину — я был счастлив. Теперь она — просто человек. И как человек — почти ни в чем не устраивает меня. С таким человеком я не хотел бы жить вместе, дружить и даже встречаться. И вовсе не потому, что он глуп, непорядочен или заносчив. Нет. Мне не нравится все, что он делает, о чем думает и говорит. Не нравится, как он живет. А живет Верка так жадно и самолюбиво, будто никогда не умрет. Я говорю ей об этом. Но женщина не умеет слушать и понимать, когда перестают любить ее.
Но жить надо. Надо было придумать себе какую-то жизнь. Я пью, читаю, философствую, сажаю цветы. Верка шлет письма, посылки московской дочери, заказывает телефонные разговоры, летает к ней в гости каждое лето. Знает все театры и магазины столичные. Она так увлеклась, что поверила, будто очень любит свою первую дочь и родила ее от любимого прекрасного человека, что в этом была и есть ее лучшая жизнь. Отыскала маленькую фотографию — молоденький лейтенант в пилотке с комсомольским значком на груди, — решила, что он геройски погиб на войне, и приколола фотографию над своей кроватью. Это была высшая мера презрения по отношению ко мне. Дальше Верка не пошла: не хватило способностей. Стало тихо, каждый нашел свой угол в доме.
Этой жизни уже много лет, она самая длинная у меня. И я за нее получил награду — Машеньку. Откуда она взялась, как появилась на свет? Глупый вопрос. Но я не могу поверить, что родилась она от меня и Верки так же просто, как сын Колька. Нет. Она — я, только — высшее я, мое откровение, ниспосланное мне жизнью за мои труды и терпение. Машенька успокоила меня, утвердила на земле, и улеглись все другие мои страсти — стали просто давней неизлечимой привычкой. Теперь мне легко и ясно: все равно, что делать, где жить. Я хочу состариться возле Машеньки и тихо умереть, сказав ей: «Спасибо».
И последнее. Кто из нас больше виноват: я или моя жена Верка? Нелегкий вопрос. Может быть, я отвечу на него, только после, когда совсем состарюсь. Когда почувствую, что вот, сейчас умру, — на меня вдруг найдет просветление, — я все пойму (себя, Верку) и отвечу нам обоим…»
Глава семнадцатая
О сыне
«Зачем рождается на свет человек? В разные времена разные люди по-разному отвечали на этот вопрос. Но все, мне кажется, сходились на одном: трудиться — делать полезное, доброе, вечное. Другого, более человеческого смысла нет. Я не говорю о желаниях, стремлениях — их не счесть в каждом из нас. Значит, человек рождается для труда: только трудясь, он полезен, добр, вечен. Просто, примитивно, доступно всем живым и разумным. И вдруг появляется на свет человек, здоровый, красивый, и не понимает этого. Я смотрю на него, думаю: может, он хитрит, прикидывается дурачком?.. Ведь это мой сын, я его породил, и хоть немного моего существа должно перейти в него. Почему же то, «мое», так мертво спит в нем? Не тревожит, не беспокоит, не раздражает?.. Или много в нем материнского? Но Верка работница, еще какая! Может, Верка и я неудачно встретились в сыне? Тогда почему Машенька явилась в жизнь отчаянной трудягой? Что было в дни их рождения: дождь, туман, выл ветер или тишина растворялась по земле?.. Рыба мечет икру и своим чутким инстинктом угадывает, что мальки, вылупившись, проделают длинный, трудный путь родителей, вернутся в родную речку и умрут, оставив потомство. Человек рождает ребенка — ничего не знает о его пути, о его существе.
Раньше человек просил бога наставить неразумное дитя на путь истины, теперь сам уговаривает свое дитя быть полезным, добрым, вечным.
Я тоже уговаривал Кольку, даже колотил. Как старый бобр бобренка, учил не бояться работы — пусть она тебя боится, честно добывать себе пищу — только такая пища не отравляет совести. Но бобру легче: у него дети — всегда умницы. Они от рождения любят свои речки, свой лес, себя в природе. Мой Колька у Таранайки вырос, рыбу ловил, на охоту со мной ходил, этим воздухом дышал — и ни к чему не привязался. Не стал учиться — не беда, я вовсе не думаю, что каждый должен иметь высшее образование. Не это главное. Надо быть человеком, вот что важнее всего. А человек обязан что-то любить: вспаханную землю, непойманную рыбу, море, деревья. Без этого человек не будет добр, а без доброты — нет человека. Потому что и сам он жив по великому добру природы. Я говорю Кольке: «Как же ты можешь идти в жизнь таким «полуфабрикатом» — ведь у тебя впереди не два — четыре года, а шестьдесят — семьдесят лет земли, воздуха, людей? Мне страшно тебя отпускать».
Меня успокаивают: «Ничего, выправится понемногу Колька». А зачем ему выправляться: он не косой, не кривой, все у него на месте. Чудаки. Упрямые люди. Вы привыкли исправлять и выправлять. Но вы спросите у Кольки — хочет он этого? Нет, нет и еще раз нет. Быть человеком — трудная обязанность, а быть моим сыном Колькой — легко, бездумно, безответственно. Здоровый, красивый Колька пришел в мир потреблять полезное, доброе, вечное. Люди, берегитесь его!»
Глава восемнадцатая… Глава девятнадцатая…
Глава двадцать вторая
О писателе
«Ко мне приехал в гости писатель. Писатель — это его чин, звание, должность. И это меня как-то напугало: он приезжал несколько раз, но не как писатель — просто человек. Он был мне другом. Он нравился мне как человек. Мы ловили рыбу, ходили на охоту, пили водку. Я радовался, когда он появлялся на тропинке из лесу, шел к заводу. Теперь он приехал, и я вижу, что он писатель. Я и раньше знал, что он пишет, но это меня не касалось: думал — несерьезно. Писатели были когда-то: Гоголь, Толстой, Чехов. Их я читал, а его — нет. Совсем ничего не читал, даже в ту книжку, которую он подарил Машеньке, не глянул: мало ли кто и чего теперь сочиняет? Да и жаль мне было его — друг ведь. Если он пишет так, как живет, говорит, думает, — это мне неинтересно. Это я знаю. А рассказать о человеке, жизни и смерти он не может, сам немного смыслит. Не раз за столом слушал его. Ведь иной под хмельком такое скажет, что трезвому и в голову не взбредет. У него — не выше нормы. Да и вообще он нормированный. И все же меня беспокоит то, что он пишет. Ведь его печатают, книжки издают: значит, это кому-то надо? Позавчера я отыскал у Машеньки ту его книжку, раскрыл, прочитал первую строку: «Вечер пришел с моря и потому пах водорослями, медузами, соленой водой…» — и захлопнул: мне стало стыдно, будто я подследил за кем-то в замочную скважину. Я помнил весь день слова: «вечер пах медузами». Мне хотелось подойти к нему, заплакать и сказать…»
Э-э, стой! Ты не туда попал, не в ту дверь. Ах, какой же я дурак, Степка Кочуев! Первобытный, дикий человек! «Читай то, что отмечу…» — и ушел прощальный обед готовить. А писатель увлекся. В наши дни дневник — пережиток: каждому хочется нос в него сунуть, да поглубже. Ты смутился, даже покраснел? Хорошо! Способность краснеть — почти утерянная совестливость. За это прощаю. Да ты, пожалуй, и не дочитал до конца. Что-то меня подтолкнуло: вдруг почувствовал, надо пойти к тебе. Или, может, из-за наваги: бросил одну на сковородку, она оттаяла и хвостом ударила. Словом, не попомни зла и забудь то, что прочитал. Пусть все будет как было. А?..
А теперь… Что же теперь? Обед готов, пить не хочется, да и ничего не хочется делать. Вчера мне казалось, что еще долго-долго время не сдвинется с места, сегодня я чувствую, как оно течет во мне, изменяет меня. Ты уедешь — оно хлынет водопадом, и я сразу постарею на несколько лет. Мне кажется, что я уже прощаюсь с тобой. Да, прощаюсь: что-то понемногу отделяется, обрывается во мне, будто капли с веток дерева. С каждой минутой суше, легче, пустее. Так лучше. Сразу — страшно. Надо привыкнуть, перевести себя в другую плоскость, в обычный свой режим. Чтобы совсем спокойно сказать тебе: «До свидания, друг». Этим я и займусь. Пойдем побродим, подышим, помолчим.
Хорошо, правда? Воздух — всегда от простора, а здесь его — во все четыре стороны. Пей, глотай, впитывай — что-нибудь от него останется, запомнится легкими, телом. Смотри на те дальние сопки, утром они были еще сахарно-синие, теперь помутнели, будто их опустили в воду: погода портится. Еще одна примета: притихло и потеплело, снег налился тяжестью. Если последить за вершинами лиственниц, то можно заметить, как изредка и вдруг они вздрагивают, покачиваются — это бродят поверху бестолковые, напуганные тишиной ветерки: им хочется большой, настоящей работы. И работа будет — где-то совсем близко тайфун. Он, как волна бьет в пустоту. Тебе не приходилось переживать тайфун? Если настоящий, страшно: лес переломает, крышу снесет, море на берег выплеснет. Но на меня больше ожидание действует. Какой-то зверь во мне сжимается, корчится от предчувствия бедствия. Я думаю — это в каждом. Ну, прислушайся к себе, хочу проверить. Томление такое, словно во сне идешь по краю обрыва и боишься упасть. Есть?.. То-то. Все мы из одного теста. Успеешь ли выбраться? За это поручиться могу. Только к утру пожалует «Клара» или «Гильда» — так нежно метеорологи называют тайфуны. Ты уже в Южном будешь, в гостинице. Попроси в номер завтрак и не выходи на улицу: лишний страх — лишние больные нервные клетки.
Вот о страхе… Ты заметил, наверно, вся жизнь моя — будто из страхов, как из ушибов. И запомнилась она мне от страха до страха. Так уж устроен, что ли. У других, может быть, совсем иначе. Но страхи сильнее всего запоминаются — это, пожалуй, у всех одинаково. Конечно, у меня они разные — от времени, места, состояния, и делю я их на два вида: душевные и физические. Хочешь, расскажу тебе об одном своем страхе, и ты сам решишь, какой он?
Было это лет десять назад, я разъезжал по рыбоводным заводам, учил строить свои забойки. В феврале попал на один курильский остров, в тайгу, на дикую речку. Жило там человек шесть, люди больше пожилые, и они не очень верили в мое изобретение. Относились ко мне ласково, охотно говорили — все-таки свежий человек, — но помогали кое-как. Плохо знали свою речку, и мне одному предстояло обойти ее, подыскать хорошее место для забойки. С каждым днем я все дальше забирался в тайгу, к вечеру едва успевал вернуться в поселок. Как-то утром, едва я накинул на плечи ружье и рюкзак, мне сказали: «Не ходи, погода портится». Хорошо помню, было так же, как сегодня у нас: сопки точно опущенные в воду, снег отсырел и тепло, хоть валенки снимай. Я поразмыслил и решил идти: жаль было терять день, хотелось скорее закончить работу. До полудня я прошел километров тридцать, разжег у речки костер, поймал удочкой десяток подкаменок, сварил уху и преспокойно уселся обедать. Речки здесь не замерзают, вода чистая, зеленая, течет в белых закуржавевших берегах — красиво. Я уже скреб ложкой о дно котелка, слышу — где-то за сопками прокатился грохот. Что это? — трудно было отгадать. Вроде гром, но какой гром зимой? Подождал. Снова прогрохотало, ближе. Глянул в небо: огромное серо-черное облако медленно, грозно поднималось от моря к небу. Удивился: облако совсем не зимнее. Неприютно стало. Будто черт меня вертит? Быстро собрал рюкзак, надел лыжи, оглянулся: костерок едва дымился, как брошенная папироса, речка почернела, сузилась, будто упряталась в берега, лиственницы черными скелетами замерли на сопках. Вдруг резко и сразу ударил ветер. Мимо меня пронеслась огромная (может, так показалось) птица, она жутко прокричала. В конце поляны сквозь талу пробежал заяц — я услышал шлепки лап по мокрому снегу. Где-то придавленно прокаркала ворона. Надвинулись отовсюду сумерки. Стало холодно, лыжи начали прилипать к снегу. Я остановился — куда и как идти? И тут по тайге, по сопкам полыхнул магниевый огонь — обозначились резкие черно-белые пятна деревьев и снега, — и все провалилось в совсем настоящую темноту. А после… мне показалось, что обвалилось небо — такой прокатился из края в край гром и так заколебалась земля. Я понял: зимняя гроза. Сорвался дождь, крупный, густой. Он отгородил от меня речку, лес, он ревел, шипел, клокотал. Он потоками стекал с сопок, вспухал в речке. Я стоял посреди поляны, боялся сдвинуться с места: казалось, шагну — и провалюсь в бездну воды и грохота. Молнии иззубренными остриями били в деревья, вспыхивали на глыбах сугробов. Шапка, полушубок, валенки налились водой, я стал мерзнуть, подумал: кончится дождь, ударит мороз — и замерзну ледяным пнем. Потом как-то сразу у меня замутилось сознание, и только помню, что лез, полз через полянку на четвереньках, припадал к снегу, когда вспыхивали молнии, потерял лыжи, ружье. (Не понимаю, почему я полз, легче было перебежать поляну.) Ткнулся во что-то твердое, догадался — деревья. Они уже обледенели, стояли скользкими холодными столбами, по ним стекала вода. Пополз я в гущу леса, в буреломе, под стланиковыми лапами, нашел тихое сухое место, влез туда, сжался в комок, оцепенел. Не думал, не вспоминал — ничего этого не было. Просто дрожал, стонал и от каждого удара грома глубже втискивался в темень и прель. Понемногу впал в забытье, будто умер. Очнулся, прислушался: было тихо, сквозь ветки стланика проникал сильный свет. Выполз. Светила полная луна, было холодно, и ледяной лес отражался в ледяных сугробах. Я стал быстро обрастать льдом. И в новом жутком страхе рысцой затрусил вдоль речки к поселку. Бежал часа два, немного отдохнул, снова побежал. Все на мне заледенело, лишь в местах, где сгибались руки и ноги, одежда была влажной, и надо было двигаться, не дать морозу сшить ледяной мешок. Часа через два еще раз отдохнул, а после наткнулся на людей: они вышли искать меня. Переодели, уложили на лыжную связку и привезли в поселок.
Все. Понравилась новелла? Не очень складная, но зато — правда. Теперь скажи, что это за страх? Можешь придумать ему свое название. Говоришь, что обычный человеческий страх. Нет, это грубо. Давай тоньше, точнее. Есть страхи чисто человеческие — ну, скажем, смерть ближнего, сознание безнадежности, есть страхи животные — когда тело само спасает свою жизнь. Мой этот страх — ни то, ни другое. Я не сохранил разума, но и не потерял его окончательно. И это чуть не погубило меня. Я назвал свой страх в зимнюю грозу животно-человеческим. Устраивает тебя такое определение? Говоришь, что можно согласиться. Еще бы — лишнее подтверждение, что человек произошел от обезьяны. Не уверен, но скотского в нем до черта.
Могу еще что-нибудь рассказать. У меня разных таких случаев сотни две наберется. Боюсь только: опубликуешь — и тебе вмажут за экзотику. Где характеры, где проблемы? Много водки и скучных разговоров; словно все и всегда говорят интересно и весело. А ты попробуй напиши о рыбоводном заводе без экзотики. Рыба вылупляется из икринки — уже экзотика. Да и мы здесь, полудикие, обросшие мхом, — сплошная экзотика. Ну, кажется, я опять понес, ты хоть бы одергивал, что ли. И все из-за этого… Капли… Как с веток — кап, кап. С каждой минутой, — легче, пустее.
Вот и Таранайка. В дыму-тумане. Зимой от нее — тепло. Летом — прохлада. Между прочим, ты знаешь, что означает «таранай»? Это айнское слово — рыбная река. Помнишь, ты шутя стихотворение сочинил? А мне запомнилось, нравится.
Волна говорит: ай. Волна говорит: ой! Здесь жил бородатый айн, Рыбу колол острогой.Длинное стихотворение: как жил айн, какой богатой была его земля, как был «брусникой кровав мох, орехами рыж лес».
Айна щадила смерть. Камуй выручал из беды. Чтоб помнила айна твердь — Дарил ей свои следы.А потом пришли с юга желтые люди. И теперь:
Тихо воды текут, Тихо шумит тайга, Тихий дремотный труд Покинул сии берега.Ты покраснел, тебе стыдно слушать свои стихи? Я же сказал, что ты их в шутку сочинил. Прекратим чтение и вообще творчество. Смотри на Таранайку, будешь описывать — не наври. Впрочем, кто ее видел?.. Как какую-нибудь глухую улочку в Москве — только те, кто на ней живет. Хочешь к воде подойти? Подойди, потрогай. Можешь в рот взять, только сейчас она не совсем в себе: сугробы подтаивают. Ну, говори: прощай или прости — и пойдем, надо пообедать, отдохнуть.
Хорошо помолчали, правда? Минут двадцать, пока шли от Таранайки. Как это здорово — уметь молчать, иметь право молчать. Молчание вдвоем — это не молчание в одиночку. Когда человек один, он говорит без умолку, болтает, треплется. Вот и я стал болтуном. А вдвоем — нет, вдвоем молчание полное, откровенное, потому что есть общение, немое, без слов… Сколько раз я прошел по дороге от Таранайки до завода, — наверно, тысячи. И ни одного раза так, как сегодня с тобой. Иду, вижу тонкий осинник справа, старую березу в черном ельнике, пень с пухлой шапкой снега, заячий след, красный лист на скате сугроба — все проплывает медленно, четко, как по белому, чистому полотну. Кажется, лишь теперь я увидел и навсегда запомнил эту свою дорогу.
Садись к столу, друг, товарищ, человек. А то у меня все перегорело, перепрело. Никого звать не буду, и Машеньки очень кстати долго нет. Не надо ее. Выпьем понемногу?.. Вот и хорошо. Я даже испугался — вдруг откажешься? Нужно, чтобы туман появился, отчаянность, чтобы сказать себе: «А-а, все равно все умрем». Легкой смутой пройдет этот час. Давай за тебя, за дорогу, за Таранайку и за всю страну. Ешь рыбу — такой рыбы нигде не будет, никогда не будет, если снова не приедешь сюда. А ты приедешь, ведь приедешь? Через пять, через десять лет?.. А?.. Я буду ждать. Я буду старенький, сухой, седой, но еще крепкий. Я долго буду жить и буду крепкий. Это я тебе обещаю. Буду ходить неслышно по своим тропкам, шевелить губами, колдовать над красной икрой, думать — маленький горбун, маленький бог. Я тебя не узнаю, я буду долго, слезливо всматриваться в тебя, а потом заплачу. Может, заплачу, если еще смогу. Мы выпьем с тобой, совсем понемногу, для беседы, и я тебе расскажу, что такое жизнь, — я буду знать ее, я подгляжу, подслушаю ее: годы, тишина, труд помогут мне. И как старый колдун передает, умирая, свои таинства молодому, избранному, так и я тебе… Да. Ты этого не вычитаешь, не придумаешь. Приедешь? Дай слово. Хорошо. Буду ждать. Только если раньше меня умрешь, пусть мне сообщат. Обязательно. Я помолюсь за тебя, тебе легче станет там… Я помолюсь твоему духу, частичка которого останется здесь — по утрам, еле видимым туманом, дымом он будет мреть, плыть над Таранайкой, в сумерках, в дреме леса…
А, ты встал? Пора?.. Бери свой рюкзак, бросай в него мыло, полотенце, зубную щетку. И это. Тут немного икры, рыбы копченой — на дорогу. Может, до Москвы довезешь. Откроешь на Большой Садовой — из рюкзака Таранайкой пахнёт. Вспомнишь обо мне на пять, на десять минут, и эти минуты я побуду в столице. Ведь она мне тоже нужна, хотя бы так. Жаль, что я не «протек» сквозь нее — помнишь, мы с тобой говорили? Нет, умнее, пожалуй, я бы не стал. Увереннее — да. Свободнее — тоже. А это и мне, рыбоводу, здесь, на Таранайке, ничуть не помешало бы. Словом, привет Москве.
Кажется, стало еще теплее, тайфун продвинулся километров на сто: даже шумы, даже ветерки втянул в себя. Лес онемел, осиротел, заплыл влагой, как на мутной фотографии, и ты можешь взять ее себе на память. Вон качнулась ветка — белка прыгнула, вон зашелушилась кора — дятел тронул, и все беззвучно, точно во сне: хочешь, верь этому, хочешь — нет. В душе так просто и откровенно, словно грядет последний день перед Страшным судом.
Посмотри туда — кто-то вышел из-за перелеска. А-а, теперь вижу — наш друг шофер. И улыбается. Идет — земля стонет. Он будто создан подавлять своим величием: глянешь на него и заревешь от собственной слабости. Давай руку и иди ему навстречу. Я не хочу, чтобы он перешагнул за этот мост, стал обниматься, говорить. В другой раз — пусть… Так, хорошо. Рука у тебя крепкая, еще крепкая. Я запомню ее. Ну, хочу видеть твою спину. Иди!
Ты пошел. Пошел не очень твердо, но прямо. Куцый человек — в городском пальто и узких штанах. Сутулый человек. Слабый человек. У тебя слезы на глазах — от чувствительности, растерянности. Как ты будешь там, в людском потопе? Кто ты? Что ты знаешь, что можешь?..
Ты встретился с шофером, трудно повернул его, жаждущего тепла, застолья. Вы зашагали — огромный и маленький, — и вот уже нет вас. За перелеском, за снегом и туманом. Нет тебя. Минута, две, три…
А был ли ты здесь?
1965
РАСКАТЫ
Макс забрел в воду, столкнул корму лодки с мели, впрыгнул на нее коленями, постоял, выжидая — не застрянет ли? — и ввалился в кормовой отсек. Повернул ручку подвесного мотора «на газ», дернул шнур. Мотор затараторил сразу, как-то по-детски счастливо и бесшабашно. Успокоив его, словно уговорив быть расчетливее, Макс сел, прижал локтем руль, засмеялся и сказал: «Поехали!» — хоть и знал, что голоса его не услышит Ник, сидевший впереди на мешках.
Подняв руку и потрепав ею над головой, Ник ответил, что понял, что все отлично. Сунул ладонь за борт, зачерпнул воды, умыл лицо — пусть свежесть сразу войдет в него, — отвалился на спину и стал смотреть, как медленно, открываясь всеми домами, плывет по берегу, смещается влево рыбацкий поселок.
Бурая осенняя вода, песок, твердый и жидкий ил, деревянные строения в заплотах и заборах, три-четыре белых квадрата — цехи рыбозавода, клуб, столовая… По окраинам ветряки, множество невысоких широколопастных ветряков над колодцами вместо российских журавлей. И вдоль всего берега, на котором живут люди, — свои, дощатые щиты, плетенки, насыпи. Сплошная стена из дерева, глины, песка. Это от наводнений при южных ветрах, когда морская вода подпирает, вспучивает речную.
Лодка шла по Никитинскому банку, вбиравшему в себя протоки — их здесь не счесть, в низменной волжской пойме, — скользила меж зеленых тальников, окрашенных понизу сплошной желтизной камыша. Справа, ближе к берегу, на маленькой лодчонке сутулился рыбак в дождевике, неспешно подергивал короткие удилища. «Судака блеснит», — подумал Ник. И еще подумал, глядя на тальники, камыш, бурую непроглядную воду: «Как это похоже на другие земли, другие места. И поселок тоже. Вот только ветряки да плетенки по берегам».
— Э-эй! — крикнул Макс, приглушая мотор.
Лодка запнулась, шлепнула раз-другой носом, пошла медленнее; кулас, или, по-охотничьи, куласик, прицепленный позади, — обоюдоострая посудина для охоты в мелководных ильменях — тюкнулся в корму, отпрыгнул легоньким поплавком. Послышался протяжный бескрайний тальниковый шум. Солнце, остужавшееся встречным ветром, пахнуло в лодку, заполнило ее до краев тихим теплом.
Лишь после того, как Ник увидел все это, отметил про себя, он глянул на Макса. В вытянутой руке Макс держал бутылку «Московской», щелчками дзинькал по стеклу. На сиденье-перекладине впереди него были разложены хлеб, крупные луковицы, куски малосольного жереха; и горка зеленовато-желтых персиков из сельского сада (персиками они угощались и вчера вечером, когда приехали к отцу Макса на рыбозавод) — терпкая, отличная «закусь». Ник неуверенно усмехнулся: не шибко ли будет для начала? — но тут же почувствовал, что не сможет удержаться; а Макс, выкинув вперед ладонь, сияя зубами, морщась сухим коричневым лицом, приглашал друга к доске-столу, нагруженному едой.
— Попьем? — спросил Макс.
Уже не думая о бутылке, не оберегая себя, Ник пробрался к корме, удобно примостился на палаточном брезенте, и Макс вставил ему в руку граненый стакан. «Ого!» — сказал с усмешкой Ник, взглядом взвесил, слегка покачав, жидкость, но не нашел в себе уже никакого сопротивления. Немножко удивившись этому, кивнул на воду, тальники:
— За все!
Ударились стаканами, закатив глаза, влили в себя ровно по четыре веских глотка жгучего тепла. Сдерживая дыхание, ели то, что попадалось под руку. Молчали. Смеялись. Кажется, пили еще, потому что едва не наехали на песчаную отмель. А когда Макс пустил мотор на полные обороты, кулас замотался, как конь на привязи, и Ник, свалившись на спину, увидел небо в сплошной огненности солнца.
И опять ветер, низкие, вровень с водой, берега, быстрые и тихие протоки, тальники. Редкие, неслышимые чайки, коршуны высоко-высоко, в непостижимой бездне над ничтожностью суши среди текучей, стоячей, сквозящей воды. Мгновенные табунки уток из-за тальника и — за тальники. Медленная пара лебедей, проплывшая в сторону моря, как по тоненькому подсиненному полотну, и разом исчезнувшая, будто в прорвавшуюся ткань. Качающиеся кулички на отмелях, всплески судаков и сазанов. И трепетный, синюшный холодок вечера.
За излукой возник дом с множеством чистых стекол, голубенькими стенами, белой шиферной крышей. Напротив него, притершись к берегу, стояла баржа с двумя будками и навесом; на корме, выжидая, появился человек.
Макс подвернул к барже-дебаркадеру, выключил мотор. Нос лодки ударился о мокрый истертый отвальный брус, человек наклонился, схватил якорек на цепи, обежал с ним вокруг деревянного кнехта.
— Здорово, дядь Вась! — прокричал Макс в глохлой, точно осиротевшей тишине. — Заночуем у тебя!
— Рад буду. Номеров у меня без нормы.
— Тогда лови вещички.
Макс бросил на дебаркадер мешок с постелью, сумку с провизией, подал ружья, кивнул Нику — карабкайся на палубу; перевалив в лодку мотор, прикрыл его сверху курткой. Забрался сам, тряхнул руку дядь Васе.
— Вторые сутки без харча сижу, — говорил, удивляясь сам себе, сухонький мужичок. — Смены нету. Это ж порядок, что ли?
— Подкормим.
— Рад буду.
— Насчет ушицы сообрази. Рыбка-то есть?
— Этого добра навалом.
Дядь Вася, улыбчивый и добрый, потянул шнур из-за борта, плеснул на доски рыбью связку: судачки, сазан, десяток крупных лещевидных вобл, поволок живое добро под навес, к кухонному столу. И все улыбался, будто рассказывал что-то удивительное, непостижимо важное, более значительное, чем он сам, потому что телом он хил, выветрен, пропечен солнцем — приспособлен для скудной жизни на воде, под открытым небом. Ничего лишнего в мыслях. Никакой особенной старости, но и молодость неизвестно уже когда отошла.
— Две недели, считай, загораю. Жинку не видел, — наконец сообщил он, помолчал, ожидая действия своих слов. Однако быстро позабыл об их важности, приметив, как Макс опустил в хозяйственной сетке поллитровку за борт. — Насчет ушицы — сообразим. Наша главная специальность.
На корме дебаркадера, косо уходя в воду, подрагивали две капроновые лески. Ник стиснул одну пальцами, прислушался, слегка потянул на себя. Где-то в глубине, у самого дна протоки, возникли упругие, нервные толчки. Почти такие же толчки Ник ощутил у себя в груди, резко подсек и, чувствуя живое биение на конце лески, начал быстро выбирать ее из воды. Белая, плоская рыбина, всплеснув как лопасть на течении, осветила чешуей воздух, и Ник шлепнул ее на палубу.
— Хороша! — сказал Макс. Он раскладывал на низеньком деревянном столе, напоминавшем топчан, городские припасы: колбасу, сыр, вареные сосиски, и получалось у него это как-то неуловимо изящно, сдержанно и щедро.
— Полкила! — подтвердил не очень восторженно дядь Вася. — Их тут навалом.
Ник наживил красного, бодрого червяка, забросил леску; вынул другую закидушку (она оказалась пустой), наживил двух червяков. Уселся на чурбан, служивший дядь Васе стулом, но закурить не успел — правая закидушка забилась в пальцах. Выметал ее. О палубу мокро застучала такая же, обкатанная плоским голышом, вобла. И пошло. Ник вытаскивал одну, тут же оживала другая леска, он позабыл о куреве, впал в глубокое, отрешенное состояние добытчика, чувствуя во всем себе освежение, припоминая давнюю ловкость рук, нежную чуткость пальцев. И словно издалека, из какой-то второй жизни, пробивались к нему голоса:
— Воблешка!
— Лещок, кажись.
— Тот потемнее.
— И правда, потемнее, должно.
— Ты вон из той шашлычок, а?
— Рад буду!
Из тайной глуби, темноты воды Ник выметывал, выбрасывал чистейших белых рыб. Жадности его не было предела. Лишь когда шлепнулся на мокрые доски большущий лещ, Ник как бы запнулся, опомнился и опустил руки. Глянул под навес. Дядь Вася, Макс сидели за столом, в мисках едва видимо мрела уха, мокрой синью отблескивала бутылка. Они терпеливо ожидали его.
— Почему не зовете? — спросил Ник.
— Так. Интересно было понаблюдать.
— Наблюдаем — отдыхает человек. Зачем мешать? — готовно подмог дядь Вася.
Пили, хлебали уху, огненную от перца, ели сладкий рыбий шашлык, а закат все густел — подрумянил в протоках воду, и она сделалась сиятельней неба, ярче зарева; вписала в себя прутья тальника, метелки камыша, травинки. И нельзя было определить, где начинается, куда течет, где исчезает ее непостижимый простор.
Ник покачивался в полудреме, сознание притупилось, как бы уснув, а тело почти сомкнулось, слилось с открытостью воздуха, воды, звуков в небе и на земле. И лишь что-то рядом, на берегу, мешало полному отрешению. Он медленно повернул голову.
Голубой, белый, стеклянный дом удивил его своей нездешностью, приснившейся неосязаемостью, — хотелось протянуть к нему руку. Или потереть глаза. Но дом был, как и была земля под ним, и Ник спросил:
— Дом?
Долго молчали, втроем смотрели в сторону дома. Наконец дядь Вася, пыхнув дымком, выговорил:
— Охотничий домик, значит.
— Чей?
Опять длинное молчание, полная неподвижность Макса и голосок дядь Васи:
— Вы малограмотный, товарищ?
— Просветите.
Дядь Вася качнул свое хилое тельце к Максу.
— Бай-бай пора, — сказал Макс так, будто ничего не слышал, поднялся, сходил на корму дебаркадера, вернулся и лег под навесом будки на широкую постель из спальных мешков, брезента, суконных одеял. Кажется, сразу уснул.
Ник примостился с краю, ощутил тягу сырого воздуха по палубе, теплее укрылся. Лежал, слушал. Дядь Вася полоскал миски при красненьком свете фонаря, что-то бормотал сам себе, вроде с кем-то поругивался. А во все стороны от дебаркадера простиралась жуткой черноты ночь. В ней текла вода, шуршали тальники, посвистывали крылья птиц, плакала выпь, медленно всплескивала рыба. В ней рождался холод, такой же бескрайний, как и она сама. Потом где-то за протокой, в куге, залопотала, зажурчала вода, будто там начали вальками выхлестывать белье, послышалось протяжное квохтанье.
— Кашкалдак в култуке бегает, — сказал дядь Вася.
Мотор пожурчал минут сорок и заглох. Запустить вновь не удалось — случилось что-то в карбюраторе; наверное, засорился. Перебирать его в качающейся лодке было неловко, да и руки маслить не хотелось. Макс вставил в перекладину мачту, поднял кусок косого брезента — простецкий парус, и лодка, несомая течением, подгоняемая ветром, пошла довольно ходко. Не то что при моторе, правда, но зато беззвучно.
Ник, кажется, не ощутил перемены, лежал лицом к небу, сунув руки под затылок. На выпуклом лбу, верхней губе проступили капельки пота — чистые, словно брызги; волосы, почти белесые, были растрепаны, напоминали его давнюю мальчишечью «прическу», которую он заправлял пятерней. В школе когда-то звали его Ник-белобрысик.
Да и вообще никого не называли своим именем, даже девчонок. Имена казались длинными, или скучными, или невыразительными. Их сокращали, искажали, а если ничего толкового не получалось, придумывали клички. Были Кузи, Софы, Мери. Были просто Судак, Кит, Байдарочка. С годами все это как бы позабылось, навсегда перешло в детство.
Но вот три года назад Максим и Николай встретились в подмосковном санатории, и первое, что они сказали друг другу, было: «Ник!» — «Макс!» Легко, как приготовленные, возникли детские, точно ожидавшие этой случайной встречи, имена. Уже потом: «Ну, как ты, а?» — «А ты?» — «Помнишь, отца в главк перевели, мы в Москве стали жить. Институт кончил, есть такой — первый педагогический, литературу преподаю там же. Кандидат. Ну, жена, сынишка… В общем, обычно. Ты о себе давай». Что-то подобное и Макс тогда говорил: «Учился в Астрахани, дальше ехать не захотелось. Инженер, тружусь на судостроительном. Жена, сынишка. Родители в поселке, так и не выехали…» И сразу позабыли этот разговор, набросились друг на друга с воспоминаниями. «А помнишь?..» — «А ты не забыл?» — «А мне снится наш Ильмень с лодками…» — «А по скольку ж нам лет тогда было?..» Помчались на электричке в Москву, засели в ресторане. Говорили, пили, конечно, коньяк и дотянули до закрытия. Вернулись в санаторий ночью, но спать не пошли, отыскали дальнюю парковую скамейку, плюхнулись на нее, и опять: «А знаешь, я тогда…», — «Нет, нет, ты только подумай…» Припомнили, перебрали все: как Ник тонул в Ильмене и его выуживали сетью, как долговязый Кузя прострелил себе руку из берданки, как воровали персики и виноград (Макс оставил на колючей проволоке новую штанину). И всякое другое: учитель ботаники Одуванчик всегда носил четвертинку с водкой во внутреннем кармане пиджака; дурачок Афоня напевал частушку: «У даректарши у нашей нет под юбкою гамашей, а у инжанерши первый муж померши». И даже это: Байдарочка была невозможная хохотушка. Со всякого пустяка хваталась за живот, топала ногами, голосила и плакала от смеха. Ей можно было рассказать все, что ни придет на ум, любой анекдот. Однажды, когда Байдарочка хохотала особенно исступленно, Ник пощекотал ее. И она ужасно оскорбилась. Затихла, стала обходить стороной их обоих. Не закончив десятого класса, Байдарочка внезапно вышла замуж и куда-то уехала.
Дни в санатории смутно запомнились — «ничего выдающего», как говорили тамошние остряки. Процедуры, волейбол. Пустяковые ухаживания за двумя-тремя «активными» бабенками. Кино. И, конечно, коллективные поездки в московские музеи. Занятнее были рестораны, но малые рубли, имевшиеся в наличии, погашали к ним интерес. Расставаясь, «сообразили» в складчину, выпили под санаторскую еду, и Макс, держа руку Ника, говорил упрямо: «Приезжай, а? Навести родину. Ударимся на раскаты. Поживем в лодке. Попьем. Дай слово!» Ник дал честное слово, однако выбрался лишь на третью осень, когда Макс и ожидать перестал.
Лодку колыхнула рослая волна — сбоку прошел, дымя и сухо громыхая мотором, старенький катерок. Из рубки глянул темнолицый сонный казах. На мачте — выветренный флажок, поперек вздернутого носа — зеленый кулас, собака на надстройке. К морю двигались солидные охотники.
Ник поднял голову, смурно посмотрел вслед катерку, все больше увязавшему в поднятой волне, послушал смягченный, сквозь воду, грохот, провел взглядом по пустоте светящегося неба.
— Где мы?
— Скоро раскаты.
Это значит — море. Вернее, пресное море. Место, где во всю ширь раскатывается волжская вода, неохватное стоялое мелководье с островами рогоза, водорослей — плавни, лиманы, затоны, ильмени, за которыми, постепенно солонея, начинается настоящее море.
Усевшись повыше, у перекладины мачты, Ник подставил лицо низкому, густому ветерку, текшему из пустеющего пространства впереди, и словно умылся студеной водой. И понял: он здесь был, все это видел. Вода, рогоз, или, как называют его здесь, кундрак, и опять вода. Ни тальника, ни берегов с твердым песком или илом, — медленное исчезновение земли произошло где-то раньше, когда он дремал. Теперь лишь ровные стенки кундрака определяли ширину банка, и Ник вспомнил: ведь это канал, промытый землечерпалкой для рыбацких судов. Канал в раскаты. Так было всегда.
Справа впереди возникли, как бы из ничего, подмытые маревом, черные строения, мачты: на одной — трепещущий язычок флажка. Чуть в стороне за кундраком двигалась лодка, колеблясь и возвышаясь так, что чудилось — парит неслышно по-над водами. Приблизились. Вокруг баржи-матки с будкой и навесом столпились кунгасы, прорези, катерки. Много смуглого азиатского народа: казахи, татары, один рослый, усатый, — наверняка кавказец. Были и русские, но отличить их можно было, став лицом к лицу да по разговору. Разноголосица, стрекот подвесных моторов на лодках, плеск воды, тяжкие шлепки рыбы — все это означало: идет сдача улова.
Макс подчалил к прорези, выпрыгнул; перескакивая с кунгаса на кунгас, направился к навесу. Там встретили его как друга-кунака. Что-то кричали, трясли руку. Просили курить, и Макс, вынув пачку сигарет «Столичные» (Ник запасся в московском аэропорту), раздал до последней, а коробку, смяв, швырнул за борт. Его повели к настилу-столу, загруженному горками мисок, буханками хлеба.
Глянув в прорезь, в ее сумеречную глубину, Ник цокнул языком от неожиданности и удивления: в отсеках, наполненных водой, стояла, чуть пошевеливая плавниками, живая рыба: сомы, щуки, судаки, лещи. Все крупное, непривычного веса, позабытых окрасок. Не верилось в такое изобилие. Ник, засучив рукав куртки, осторожно сунул руку в воду отсека, приблизил пальцы к широченной черной голове сома, погладил твердую, скользкую кожу; сом шевельнул усами, прислушался; Ник повел ладонью вдоль спины, ощущая живую, упругую округлость; и вдруг, по какому-то толчку внутри себя, мгновенно скользнул пальцами к голове сома, изо всей силы схватил его под жабры; сом изогнулся, рванул руку Ника вниз и ударил хвостом по воде. Мощный шлепок, брызги. Ник отпрянул, загораживаясь ладонями, вода плеснулась ему в лицо, на куртку. Под навесом баржи-матки захохотали рыбаки.
Макс вернулся с котелком горячей ухи, неся его на лезвии охотничьего ножа.
— Держи! — сказал, усмехаясь и подмигивая. — Тебе выделили. Я похлебал.
Потом подошел паренек — чубатый, коричневокожий, в телогрейке, лихо подвернутых сапогах-броднях, — бросил в лодку двух судаков, соменка, пяток крупных лещей. Не поздоровался, не заговорил. Но смотрел прямо, ловил чужие глаза и все скалился, показывая широкие, завидной крепости зубы. От этого казалось, что он постоянно подшучивает над собой, повествуя о своей отчаянной жизни.
Покопавшись в припасах, Макс вынул «пузырек», метнул его, почти не целясь, пареньку; тот поймал одной рукой — легкий щелчок о ладонь, — сунул за отворот телогрейки, весело запрыгал к навесу. Состоялся извечный обмен.
— Отдать швартовы! — выкрикнул, чтобы слышали рыбаки, Макс.
— А мотор?
— Так дойдем. На раскатах отремонтирую.
Вырулили, подтянули парус, зажурчала в носу вода. На барже крутнули сирену, кто-то махнул шапкой: «Удачного плавания!»
Ник глянул на затонувшие прорези, тронул носком ботинка пятнистую судачью голову:
— Я думал — здесь ничего такого уже и нету.
— Старики говорят: «Была рыбка».
Макс наклонился, одну за другой повышвыривал за борт два десятка вобл, вчерашний улов Ника, — они теперь стали не нужны да и смотрелись скудно рядом с настоящей рыбой.
И снова тишина, свет, ело уловимое постаныванне ветра — шли почти навстречу ему, крутым правым галсом; когда окончился канал и начался необозримый, сияющий солнцем разлив, который и есть самые настоящие раскаты, Ник не заметил. Да и вообще ничто здесь не имело резких граней, не было очерчено, выделено — вода, небо, растительность, — невнятно переходило одно в другое, отражалось, двоилось, растекалось. Даже длинный, падающий и взметывающийся табун уток вдалеке смутно, едва видимо влился в пространство, как бы став рябью ветра. Ник опустил за борт руку, зачерпнул воды. Хлебнул, подержал во рту — она была пресная.
Солнце падало в синеву, в темень Каспия, кроваво зажгло там узкую полосу, рассеянными, последними лучами поджелтило, подрумянило ближние воды, словно отполировало, сделало их непрозрачными; а после, разом затухнув, освободило выси и тверди для синей темени.
Макс круто переложил руль, взял шест, уперся в дно и вогнал лодку в плотную гущину рогоза.
День первый
— Кашкалдак в култуке бегает!..
Это прозвучало сначала во сне, отдаленно, голосом давнего детства, потом, когда Ник открыл глаза, — сверху, из темноты и отчетливо. Зашуршала брезентовая пола тента, сдвинулась, и вместе с сыростью холодка прошел внутрь лодки серый, почти непроглядный свет.
Макс, постукивая зубами и легонько повизгивая (как бы сообщая, что довольно зябко в морском пространстве), натягивал на себя, снизу вверх, нечто скрипучее, сборчатое и гладкое, как клеенка. Наконец он продел в широкие рукава руки, длинно провел от живота к шее замком и стал похож на водолаза без шлема.
«Перкалевый костюм, — подумал Ник. — Вещица первосортная для охоты». И, видя, что все-таки наступает утро, сказал для начала:
— Привет!
Макс выбросил из хозящика резиновые сапоги, портянки, телогрейку, брезентовую куртку.
— Облачайся, — выговорил с едва спрятанным смешком, который наверняка означал: все городское прибереги для города, здесь природа, вода, холод. Другая жизнь, другая одежда.
Сапоги оказались великоватыми, телогрейка тянула в плечах, патронташ с натугой сошелся на животе, даже ремень у одностволки двадцатого калибра был безнадежно коротким, явно подогнанным под мальчишечье плечо. Выпрямился, размялся, потопал сапогами, но ощущение, будто влез в чужую шкуру, не прошло; хуже того, начало вдруг представляться, каким должно быть тело, которое уютно разместилось бы в этой одежде. Возникало что-то несуразное.
В темени низко, со свистом просквозил утиный табунок, шлепнулся на воду за кундраком.
Макс соскользнул с борта лодки, нащупал дно — было чуть выше колен, — подогнал кулас, напоминавший при слабом свете неводной поплавок-балберу.
— Ты на куласе, я — пешком. Садись.
Ник немного поразмыслил, как ему лучше сесть: с лодки или сначала стать ногами на дно? — и, сам не зная почему, шагнул в кулас одним сапогом. Тот подался вниз, зачерпнул воды, вкось прянул от лодки. Ноги Ника разъехались, какое-то время он держался, потом, отчаявшись, прыгнул в кулас, с размаху сел на его хлипкий бортик и плавно, спиной, завалился в воду. Так спиной и лег на дно. Глотнул воды, побарахтался, поднялся на ноги.
Макс успел отойти в конец кундрака, обернулся, заслышав тяжкий плеск, постоял, соображая, что там произошло. Увидел мокрого Ника, хотел пойти к нему, однако раздумал — уже лунно светлело море, — махнул рукой:
— Сушись!
Приткнув кулас, Ник влез в лодку, стянул сапоги, снял телогрейку, брюки. Почувствовал — чего-то не хватает, огляделся. На белом песчаном дне, во много раз увеличенное, слегка колеблемое рябью, лежало ружье. Спрыгнуть, достать — простое дело, но не хватило смелости: вода обжигала как жидкий лед. Ник принялся выуживать ружье веслом. Ремень соскальзывал, ствол зарывался в песок. Наконец, перевалив его в лодку, Ник вполз под тент, сбросил трусы и майку, лег на матрас, натащив на себя все, что попалось под руки: суконные одеяла, полушубок, дождевик.
Долго согревался, потом задремал, но неглубоко: слышал скрип травы за бортом, посвист утиных крыльев, жутковатый вскрик цапли, четко прозвучали два выстрела невдалеке; тупыми ударами прокатились по воде отдаленные выстрелы. Очнувшись, закурил, напустил дыма под провисший от росы тент.
Муторно было на душе. Так начать охоту — испортить настроение себе и другу. Кувыркнулся, как баба, не видевшая, кроме колодезной, никакой другой воды. Спиной, ногами кверху. Будто в кулас никогда не садился, шест в руках не держал. Сколько раз ученикам (когда работал в школе) рассказывал про волжские раскаты, Каспий, охоту, рыбный промысел, про этот же верткий кулас — целая тема, лучший урок всегда получался. И первая фраза была неизменной: «У каждого есть своя маленькая родина, у меня — это дельта нашей великой русской реки… Кстати, вы знаете, что слово «дельта» происходит от греческой буквы «дельта», которая имеет треугольную форму…» Видели бы они сейчас урожденного волжанина! У проректора отпрашивался на недельку — «кряковых набью, воблы привезу…» И не врал же: родился здесь, в рыбацком поселке, уток стрелял лет с десяти, имел собственное ружье, а насчет сушеной воблы — не знал, что ее теперь легче купить в Москве на Тишинском рынке.
Сколько минуло с тех пор, как он последний раз был на раскатах? Четырнадцать, точнее — шестнадцать лет. Ровно половина его жизни. Многовато. Но ведь первую половину он прожил волжанином, и хоть потом ружья в руки не брал, кроме как в тире, из крупных водоемов признавал лишь пляжное Черное море, — не мог же он начисто все позабыть, всему изначальному разучиться. Так не бывает. Это оплошность — сел мимо куласа. Надо настроиться, втянуться, вспомнить старое.
По необъятным водным раскатам раскатывались выстрелы: дальние, поближе и совсем рядом. Макс бил раз за разом, из обоих стволов, и дробь горстями зерна осыпалась по ту сторону кундрака. В тихие минуты слышно было, как в непролазных травяных зарослях истомно покрякивают утки, лопочут клювами, перебирая водоросли.
Макс, конечно, классный охотник. Он всегда отлично стрелял. И главенствовал. В школе, на охоте, в ночных ограблениях садов. Маленький, щуплый, натренированный. Дрался до исступления. Девчонки его любили. А мальчишки охотно признавали атаманом. В чем была его сила — не думали тогда, ее чувствовали. Раз только восстал против Макса тяжеловес Виталька, по прозвищу Сивый, сын главврача, да и то потому, что был новенький. Бросил он Макса на песок (знал кое-какие приемы), налег для окончательной победы. Макс вынул из кармана перочинный нож, вспорол Сивому штаны на заднице. Ватагой провожали по поселку новичка — шел, держа прореху рукой, посверкивая ягодицами. Навечно погиб человек. И другого всякого не счесть, смешного и горького, даже трагического, но Макс был Макс, рисковал, если надо, умел высмеять, плавал быстрее всех, учился хорошо… Он и сейчас, пожалуй, главенствует. Выбрал на судоверфи ребят позадорнее, ездит с ними на рыбалку, охотится, с получки захаживают в рестораны. А вот по работе не продвинулся — всего лишь сменный инженеришка, тогда как Ник давно кандидат, докторскую готовит. Макс словно бы навсегда остался в прежнем времени.
За плотной порослью рогоза-кундрака послышалось журчание — это шел с утренней зорьки Макс. Над раскатами возникал чистый день, наполняясь светом. Стих посвист утиных крыльев. Каждая дырочка в тенте пронизывала сумерки красной иголкой. Макс подбрел к лодке, пропел скороговоркой:
— «У даректарши у нашей нет под юбкою гамашей!..»
— «А у инжанерши первый муж померши», — ответил Ник.
— Чайку не вскипятил?
— Греюсь.
— Ладно, я сам.
Макс, стоя в воде, распалил примус, взял чайник, отошел от лодки, зачерпнул воды. Потом переложил вещи на корме, открыл багажник, что-то искал, поругиваясь. Наконец, качнув лодку, влез в нее, принялся разоблачаться. Ник улавливал каждое его движение, угадывал, чем занимается друг, и не помнит сам, как опять задремал. Всего, кажется, на одну минутку. Очнулся, услышав зов:
— Выползай! Чайку похлебаем!
Оделся во все свое, домашнее, привычное — хохотнул от удовольствия и уверенности, раздвинул полы тента — и ослеп, оглох, отупел на какое-то время: сияло небо, сияла вода, ярко зеленел кундрак, светился белый песок сквозь воду, воздух тек из великого пространства родниково-холодной свежестью.
На вымытой крышке багажника стояли эмалированные кружки с коричневым кипятком, была разложена еда: хлеб, колбаса, вяленая рыба. В лодке наведен полный порядок, все разложено по местам. Рыба выпотрошена, разделана «на пласт», присолена, сложена в картонную коробку; два леща оставлены (видимо, для ухи). Охотничье снаряжение Ника сушилось на кундраке. К шесту, на ветерок, была подвязана добыча — две крупные шилохвости, кряква, три темных, почти черных птицы.
«Водяные курочки, — подумал Ник. — Их-то и называют по-местному — кашкалдаки. Как же я позабыл?»
После долгого чаепития, отдыха за охотничьим чаем, молчания Макс влез под тент досыпать, а Ник, привалившись спиной к борту, уставился в мреющую, текущую пустоту вод. Слушал непонятные далекие и близкие звуки. Видел непонятные всполохи в небе и на воде. Думал почти не думая. Понимал не понимая, замер на несколько часов, впав в редкое, легчайшее состояние полузабытья.
Одежда не просохла, и Макс пошел один на вечернюю зорьку.
День второй
Макс ввинтил в заиленный песок дна сидку — круглый, из прессованной фанеры стульчик на железном стержне, — сел и прислушался. Утка еще только-только поднималась на крыло и была невидима в сумерках. Где-то очень далеко пророкотали два выстрела, слившись в один звук. Макс повернулся к зеленеющему небу востока, измерил взглядом высоту возникающего света — на его фоне будет прошивать воздух птица, — раза два прикинул к плечу ружье — проверил, не тянет ли куртка, крепки ли руки, — стал ждать, закурив первую сигарету.
Досадливо, как-то по-детски обиженно было на душе. И все из-за пустяка, плюнуть бы и позабыть, но чего-то для этого недоставало — характера, наверное. Или уж очень неожиданно получилось. Проснулись они сегодня вместе, оделись. Потом Макс спрашивает: «Где твое ружье?» — «Здесь где-то…» — оглядывая лодку, ответил невнятно Ник. Обыскали корму, нос, посмотрели под тентом, перевернули весь багаж… Постояли в непонимании. Макс просто так поддел веслом пайолу, приподнял. На дне лодки в грязной лужице лежало ружье. Взяв его, Макс ощутил едва ли не двойную тяжесть, наклонил ствол — потек песок с водой; попробовал переломить — не хватило силы: значит, в стволе остался патрон (гильзы к двадцатому были картонные), его раздуло, шляпку прихватило ржавчиной. Да и в казенную часть набился песок. «Видишь, — сказал Макс, — с ним пока нельзя. Хочешь, бери мое. Сходи». Ник отказался, пошлепав ладонями по куртке: «Сыровата еще».
Невдалеке хлопнул выстрел. Макс поднялся с сидки, прикинул: метров триста до соседа, от его пальбы табун взмоет, а потом где-то здесь опять прижмется к воде, — как раз то, что надо. Слева пронзительно тонко засвистел, сухо зашуршал воздух. Макс вскинул стволы, повел ими в сторону невидимого лета птицы, чутьем определил угол, вынос и, когда почувствовал тот единственный момент, будто увидел в воздухе точку скрещения заряда и летящей к нему птицы, поочередно нажал спусковые крючки.
Произошло чудо, давно привычное, но всякий раз новое, горячо всплескивающее кровь, потрясающее, рождающее чувство обновления: из свиста, напряженного до упругости воздуха, оглушающих выстрелов (как бы из хаоса смешения) возникает в неясности неба темный комок, вдруг становится птицей и, кувыркаясь, шелестя крыльями, медленно падает к воде. Удар, хрусткий всплеск, тишина.
Макс «засек» место — мгновенно, словно бы побывав там, — побрел, раздвигая вязкие водоросли, жесткий кундрак. Не удивился, увидев на чистом прогале смутно белеющую птицу, перевернутую кверху животом, — так и должно быть, он редко терял свою добычу. Поднял — это был крупный селезень-крякаш, еще горячий, голова отсвечивала шелковистой синевой, в крылья вправлены широкие синие перья. Летел один. Его подругу сбил, наверное, охотник-сосед. И это как бы заранее знал Макс.
Вернулся к сидке, положил на колени ружье, еще закурил — с дымком теплее, не так одиноко. Думал, что уже успокоился (после выстрелов, разминки, убитой утки), но незаметно для себя заговорил:
«Нет, я понимаю, Ник. Сколько там — пятнадцать, что ли, лет ты не был здесь, раскатов не видел, куласа. Ну, свалился — бывает, выучка пропала. Чего не случается на охоте? В прошлом году я сам — прыгнул на льдину, не рассчитал, животом едва удержался, ребята вытащили, Бывает, говорю. И что ватник, брюки не повесил сушить — ерунда: продрог с непривычки, позабыл, главное после такого купания — согреться. Ладно, не велика оплошность. Но вот это… этого не могу понять — не вспомнить о ружье целые сутки. Пусть оно чужое, старенькое (хотя ты знаешь — оно память для меня, с десяти лет им охотился), пусть наплевать тебе с горы на уток, стрельбу. Пусть, я согласен. Но ружье-то бросать нельзя. Замерзаешь, гибнешь — ружье береги. Почему ты так уверен, что мы отсюда обязательно и благополучно выберемся?.. Даже не в этом дело. Просто себя можно запрезирать. Ну, скажем, совсем закоченел — руки как крюки, трясучка бьет, — вынь патрон, отдели ствол от приклада, сунь все в сухое место. Одна минута работы. Любой мальчишка у нас это понимает. И ты понимал. Неужели…»
«Бах, бах!» — прозвучало слева. Макс поднялся, нащупал пальцем предохранитель, толкнул вперед. В небе засквозил плотный шум (как внезапный порыв ветра), — значит, налетал табун; шум был глуховатый, почти без свиста, — значит кашкалдаки. Увидел стремительную, рябящую черными пятнами тучку, повел впереди нее стволами, ощутил нужное мгновение, нажал спусковые крючки. «Бах, бах!» — отдались в плечо и ушах два удара.
Сбил две или три птицы — третья, кажется, пошла вкось по-над самой водой. Упали немногим дальше крякаша, но в том же радиусе. Побрел. Справа четко отхлопали еще два выстрела. «Может, Ник? — подумалось быстро, с радостью, однако сразу сказал себе: — У него одностволка да и возни с ней много. Кто-то другой…»
Двух кашкалдаков подвесил к патронташу, третьего спугнул в куге — с треском выскочил на чистый прогал, побежал по воде лопоча лапами, взмахивая крылом. Ударил вслед ему; дробь легла стежкой, кашкалдак замер.
Над волжскими раскатами яснело небо, свет шел снизу вверх, как бы от воды, а сама вода взялась по кромке розовой, нежнейшей каемкой, будто растворили в ней теплую птичью кровь. Темнело в глазах, если долго смотреть туда, но и отвести их было почему-то нелегко — так всасывала в себя далекая ясность, словно бы обещая видение иного, нездешнего света.
«Такое дело, Ник. Ты не сердись, что я так… Что касается жизни — ты большего достиг. Признаю. Кандидат. Есть возможность, говоришь, дальше продвигаться. И на вид ты представительней вышел: рост, шевелюра, женской тонкости лицо, — это тоже имеет значение. В семье у тебя, пожалуй, все хорошо: характер имеешь мягкий, осторожный. Никаких взрывов, пьянок, увлечений девушками. Норма. Порядок. И все же… Неужели в тебе ничего не осталось от нашего детства? Рыбалка, охота, ночевки на воде? А жестокие законы: не трусить, метко стрелять, нравиться девчонкам, делиться последним? Или столько-то лет — и полное забвение? Ружье можно в воде бросить. Догадываюсь, что ты думаешь про меня: «Каким ты был — таким остался». Не совсем, признаюсь тебе. Подрастерял кое-что. Жаль. Потому что мне кажется — тогда-то мы и жили по-настоящему… Такое дело, Ник. А что дружков своих теперешних не взял на охоту — это даже хорошо: запрезирали бы они меня, а с тобой похуже как-нибудь обошлись…»
Из-за спины налетела тройка чирков, Макс откинулся назад, вывернул плечо, выстрелил наугад. Один чирок камнем бултыхнулся метрах в десяти от него, другие, круто взмыв, взяли вправо и напоролись сразу на два выстрела. Кажется, оба упали. Через несколько минут Макс дуплетом пальнул по кашкалдакам — не достал, было далековато. Выстрелы участились по всем раскатам — как и бывает в конце зорьки: били наугад, на риск — авось прибавится к добыче одна-другая «неплановая» птица. Однако редко кому везет в позднее рассветное время, Макс знал это и все-таки добавил к общей канонаде несколько своих выстрелов.
От моря длинными полосками, густо подсиняя воду, прошелся утренник, причесал кундрак, отряхнул с метелок подсохший пух, закрутил вихорки в куге и водорослях. Он угас в устьях волжских проток, сделав всеобщую побудку, и в заводи за кундраком ударила мощным хвостом рыба; а там, где в полнеба растекалась кровавая каемка, прорвав четкую черту, отделяющую воздух от воды, из моря вспучивался огнь солнца.
Подбредая к своему плавучему островку, Макс учуял запах мясной горячей еды. «Неужели Ник что-то состряпал?..» Сделалось легко, восторженно: лишь рыбак или охотник, простоявший несколько часов в воде, понимает, что такое свежая, пылающая жаром еда. Это высшая ласка, высшая забота.
— Прилично, — сказал Ник, кивая на птицу, брошенную Максом в кормовой отсек.
— Так себе.
— Ну, ты, Джек-Потрошитель, тебе все мало! — Он и сам походил на Потрошителя: в мятой рубашке с закатанными рукавами, растрепанным чубом, в котором застрял кундрачный пух, небритый (бородка росла рыжеватая, плотная и очень шла ему, потому что делала мужским его нежное лицо). — Глянь, я тут приготовил… — Ник приподнял крышку кастрюли, из-под нее пыхнул вкуснейший пар. — Адмиральская уха называется. У нас здесь мы никогда не делали. А я слышал, один с Севера приехал, рассказал. Очень просто: сначала рыбу варишь, потом вынимаешь ее, в бульон утку бросаешь. Не пробовал?
— Такого еще нет.
— Садись тогда, бери ложку.
Макс поддел юшки, придержал снизу куском хлеба, осторожно хлебнул, поворочал языком, определяя вкус. Было что-то среднее между ухой и утиным бульоном; и то и другое потеряло остроту, взаимно уничтожившись, и породило нечто новое, довольно приятное и, уж конечно, повышенно питательное.
Выхлебали все, разделили утку. Она припахивала рыбой. На второе ели вареных лещей. Запили крутым, липко-сладким чаем.
— На уровне, — сказал Макс.
— Сам удивляюсь! — радовался Ник. — Когда варил, боялся пробовать — не отравиться бы. Адмиральская еда!
Полезли под тент дремать, думать, читать «Огоньки» (целый ворох Макс прихватил в доме отца на рыбозаводе — делать пыжи, просвещаться). Потом попробовали «отремонтировать» Никово ружье. Вдвоем едва переломили его, а вытолкнуть патрон так и не смогли: бумажная гильза распухла в патроннике, шомпол сбил дробь в свинцовую пробку. Макс отложил «двадцатку» до возвращения с охоты.
День третий
К утру полил дождь, густой, без ветра. Ник проснулся от его тяжести, холода. Пахло сигаретным дымком, — значит, Макс не спал, молча покуривал. Ник спросил:
— Пойдешь?
— Куда там. Утка сидит.
Ник нащупал протянутую сигарету, щелкнул зажигалкой. Раз-другой глотнул горячего дыма, и в голове просветлело, оживились мысли. Припомнился только что виденный сон — четкий, как наяву.
— Слышишь?
— Ну.
— Охотничий домик приснился, тот, где дядь Вася дежурит. Будто он еще красивей — совсем весь стеклянный, синий, белый. И музыка оттуда очень хорошая. А дядь Вася, в нейлоновой рубашке, при галстуке, говорит мне: «Вы малограмотный, товарищ?» — и рукой в перчатке (почему-то в черной перчатке) указывает вверх. Вижу, с неба спускаются люди, но говорят быстро, непонятно, и что удивляет — проходят меня насквозь, не то я призрачный, не то они. Дядь Вася сует мне перчатки: «На, подежурь», бежит на свой дебаркадер (будто он там и стоял, а я помню хорошо — его там не было), хлебает громко уху. Я подкрадываюсь к окнам домика и вижу… Ничего не вижу. Просыпаюсь от холода.
— Угадал. Вертолетную площадку построят. Охотники с неба появляться будут.
— Кто такие?
— Люди.
— Откуда?
— Надо было дядь Васю расспросить.
— Почему ты не хочешь сказать?
— Сам отлично знаешь.
— Так это то, обычное…
— То.
Ник рассмеялся, закашлялся, хватив лишку дыма, долго трясся, уткнувшись в воротник куртки.
— Точно, знал. Но такая натура у человека…
— Брось ты об этом.
— Могу, даже с удовольствием.
Послушали дождь. Он тяжко бормотал, падая на тент, воздушно шелестел, падая на воду. Он был во всем пространстве над раскатами — заводями, ильменями, затонами, лиманами, — все придавил, приглушил своей неустанно и ровно звучащей тишиной.
— Чайку бы? — спросил кого-то третьего Макс.
— Потянем жребий?
— Давай.
Взяв две спички, Ник надломил одну, стиснул обе пальцами, протянул Максу. Он выдернул — досталась длинная. Ник покряхтел, повздыхал для большей решимости, чтобы потом показалось не слишком холодно и сыро, высвободился из-под теплой тяжести одеял, влез в настывшую одежду, стараясь меньше двигаться, оберегая в себе тепло.
За тентом было светло, и дождь не казался таким хмурым и густым — все-таки был воздух, видимый простор, где-то поверх облаков светило обычное солнце.
Разжег примус, вдосталь натрудившись от непривычки, зачерпнул с кормы водицы; когда она запарила, бросил побольше заварки; из багажника вынул все, что было съедобного: остатки вчерашней рыбы, копченую колбасу, масло, мятые персики. Позвал Макса. Ели так, будто ночь напролет таскали мешки с солью, да к тому же еще промокли. Зная, что выпивки никакой нет, Ник припомнил словечко: «Попьем?» Макс ответил вполне серьезно: «На охоте — сухой закон». Зато чай-чифир выпили до донышка, разогрелись, как от вина.
Влезли под брезент — делать-то больше нечего, — подремали, отягощенные пищей, помолчали в полудреме. Принялись курить.
— Сижу вчера один, на корме, закидушку держу. Тихо — перед сумерками, что ли, или перед дождем так бывает. Выстрелы и те как хлопушки бумажные, и мелкая мошкара тоненько зудит. Вижу — из-за кундрака, совсем недалеко, два лебедя выплывают. Неслышно так, даже вода позади не рябит. Как по стеклу скользят. И розоватые — не то такие и есть, не то от заката. Дышать перестал, чтобы не испугать их. Да они, видно, и не пуганые. Проплыли силуэтами, исчезли. А может, это в воображении у меня было?.. Вот бы кого не смог никогда убить.
— Мне пришлось раз…
— Неужели?
— В тумане. Принял за гуся. Сварили с дружком — мясо старое, жесткое, вкуса какого-то голубиного. Пух, правда, отличный.
— В рот бы не взял. От этого душевно больным можно сделаться.
— Голодные были.
— Какая-то вечная, даже святая красота.
— Думал об этом. Красота — да. Но прав у нее на жизнь ничуть не больше, чем у мотылька, а тем более у кашкалдака. Другое дело — не дать выбить, сохранить. Говорят, и медведя на Сахалине запретили истреблять — надо же оставить для экзотики. А в нем мало чего лебединого.
— Ну, сравнил.
— Не вижу большой разницы. Природа всех одинаково любит. Не бить — так никого не бить.
— А жить как?
— Вот-вот. Ты голову курице отрубишь?
— Зачем?
— В этом вся суть: кушать — пожалуйста, а рубить должен другой. Значит, признаешь разделение на убивающих и потребляющих. Магазинная курица — не больше как любой товар, колбаса почти не мясо.
— Далеко что-то забрался.
— Ничуть. Все рядом лежит. Если я окультурился, не могу отрубить курице голову, то до каких пор тот, другой, согласится рубить для меня? Он что — человек в полцены?
— Ну, каждому свое.
— Понятно: лебедя оставим, медведя уничтожим. Весь мир из лебедей.
— Я этого не говорю.
— Так получается. А по мне, если хотя бы в воображении не можешь заколоть быка, отрубить курице голову, — не ешь мясо. Не имеешь морального права.
— Потому ты убиваешь?
— Может быть. Но ведь и ты приехал убивать. Правда, ружье — не топор. Им легче. Даже красиво. Даже возвышенно.
— Могу обойтись. Не чувствую потребности. Вот я здесь посидел один, поразмышлял. Тишина, первобытность. Вот, думаю, куда приезжать для очищения духа. Когда-нибудь заповедники такие устроят. И чтоб — ни выстрела, ни одной задавленной козявки. Хорошо мне стало, будто сам себя перерос. Даже, прости, порадовался, что ружья не имею.
Последние слова Ник выговорил тихо, как бы вложил в них всю прибереженную убежденность, и Макс решил промолчать, может быть, прав он — каждому свое. Зачем переделывать, перекраивать? У каждого свой бог в душе. Когда-нибудь люди придут к единой вере, единому божеству — праведности. Но, подумав так, не ощутил в себе облегчения, больше того, — досада на свое слабоволие подступила к горлу, и пришлось поспешно закурить, чтобы «притупить» нервы.
— Макс, а мы можем погибнуть?
— Вполне.
— И никто не спасет?
— Ну, если случайно…
Послушали бормотанье, шелестенье, ровную беспрерывность дождя.
— Зачем же мы сюда заехали?
— Ближе нет охоты.
— А ты погибал?
— Приходилось.
— Расскажи.
Хоть бы какой-нибудь звук — крикнула чайка, плеснулась рыба, зашуршал кундраком ветер…
— В прошлую осень было. Обычная история — по расхлябанности все. Пошли с дружком на вечерку. А стояли так же, в кундраке, может, в этом же. Дождик накрапывал. Отошли, правда, далеко, да и потом отходили — прилаживались к лёту. Постреляли до темноты. Ладно. Идем обратно, уверенно вроде идем — кундрак такой же, как этот, — видный, самый густой. Подходим — ни лодки, ни признаков нашей стоянки. Ошиблись. Бросились к другому, что покрупней. Не тот. К третьему — издали, сквозь морось, — наш и наш. Подбрели — опять нет. Ну и, как бывает в страшных рассказах, дождь усилился, совсем стемнело. Небо черное, вода черная, дождь хлещет. Во все четыре стороны — ни клочка земли. Кундрак ведь только издали кажется островком, подойдешь — из воды растет. То стоим, то бредем. Стоять холодно, ноги коченеют; идти — куда? Может, как раз от лодки и убредешь. Папиросы кончились, еды никакой. Тут-то и дрогнули наши душонки. Сколько ни стой — до утра не выстоишь, а свалишься, считай — утонул, хоть и воды немного выше колен. Холод, главное. Ладно. Ходим, круги делаем. Дружок мой из приезжих, но бывалый, на Севере жил, в экспедициях. Сначала посмеивался, анекдотики рассказывал. Потом притих, конечно. Потом мы вместе поскуливать начали. И вот он говорит: «Давай плот свяжем из кундрака». До сих пор упрекаю себя: почему не я это придумал. Правильно, нужна работа. Никакой плот, конечно, не получится, это северный человек по незнанию сказал. Но резать и класть в воду кундрак, чтобы он постепенно лег на дно, — единственное спасение. Вынули ножи, начали резать. Заросли выбрали погуще. Ладно. Режем — бросаем в одно место. Охапками носим. Разогрелись — все-таки цель. Кундрак тонет себе, уплотняется. Сколько прошло — трудно определить. Помню только, светало уже, когда дружок плюхнулся на ворох, вмял его почти до воды, но задницу не намочил. Примостился я к нему. Так и просидели на своем островке часа четыре. Дождь кончился. День наступил. Солнце из моря взошло. И, как бывает в страшных рассказах, стоянка наша оказалась совсем недалеко, мы вокруг нее петляли; а кундрак резали в соседних зарослях. Расхохотаться на все раскаты надо бы. Но сил-то никаких не было, едва добрели до лодки.
— Ну вот, а ты говорил — погибнуть можем.
— Так это — мы с тобой…
— Ты серьезно?
— Не обижайся, шучу.
Минут двадцать молчали, но так, будто продляя разговор, о чем-то споря. Потом Макс задышал сильно, с хрипотцой — заснул. «Крепкие нервы», — подумал о нем Ник и, заражаясь сонливостью, начал подремывать сам.
Вверху, над тентом, послышалось шепелявенье, сквозистый свист. — Макс приподнял голову, затих, вслушиваясь, — свист усилился, перешел в напряженное сверление воздуха, словно в дождевом небе выписывал траекторию тяжелый снаряд; затухающее шепелявенье вдали и — тишина, за которой минута жутковатого ожидания: а вдруг прогрохочет взрыв?
— Крякаш, — опуская голову, сказал Макс.
— В кино только слышал, как летят снаряды. Ну, читал еще. Похоже, правда?
— Что-то есть.
— Я вот думал, пока ты дремал. Мужчинам надо вот так уезжать, уединяться. Не бриться, одичать немного. Та, своя, настоящая, жизнь по-другому видится. Будто со стороны. И ценить все начинаешь: ванну, диван, чистые тарелки, даже телевизор… Недаром все это люди изобрели. О жене тоже думал. Главное, конечно, о ней. Затосковал. Так бы и перелетел через раскаты, города и села, чтобы увидеть ее. Заревновал даже. Вспомнил, с кем она работает, с кем может случайно встретиться… Кажется, всех женщин на свете позабыл, ее одну помню. А ведь когда живешь вместе, долго вместе, перестаешь видеть. Чувствуешь рядом живое, нужное существо — и тебе довольно. Привыкаешь как к обиходу. Интересно, у женщин так же?
Макс не ответил — он почти не слушал друга, думая о дожде (будет ли к утру погода?), вспоминал подобные дожди в прошлые охоты — сколько дней они продолжались? Если погода не установится, придется завтра сниматься. Хоть и жаль. Но ведь Нику сидеть в лодке — не очень веселое занятие, и молчание он тяжко переносит.
— Ты любишь свою Лиду?
Вопрос был — как воробей за пазуху: хочешь выброси, хочешь пригрей. В самом деле, любит ли он жену? Если честно, хотя бы для себя? Не приходилось как-то задумываться. Некогда было. Женился — любил, и сильно вроде. Потом поугас. Или, может быть, перешла любовь на сына — к нему всегда что-то теплится. Жить можно: тихо, спокойно. Охота спасает. А любовь — у кого она вечная? Ну, если честно, для себя… Там, где она должна быть, — все-таки пусто. Маленькая, стойкая тоска. Потому, наверное, он чаще других смотрит на женщин, смотрит им в глаза… Знакомится при случае. Забывает. Словно бы от самого рождения что-то потерял и не может найти. Жена знает это. Но редко они ссорятся. И дальше хочет жить он так — с годами все улаживается: люди устают, примиряются. А любовь — есть ли она? Кто ее находит? Может, надо быть очень сильным для нее или совсем слабеньким, чтобы она придала силы, а может, надо родиться на свет с особым талантом…
— Не знаю, — коротко, отчетливо выговорил Макс, чтобы не отвечать больше на вопросы.
— А я люблю. Мне повезло. В эти дни все понял. Приснилось в прошлую ночь, будто моя Ника… Я ее Ника зову, своим школьным именем. Ник и Ника… Ну, у нас там один доцентик есть, шизофреник… Будто он ее обнимает. Проснулся — сердце, как мотор твой, колотится и пальцы занемели — вроде я ими того доцентика душил. На весь день настроение испортилось… Ника у меня — ничего особенного. И представь — кандидат уже. Непостижимо. А главное — глаза у нее разные, большущие и разные. Глянет так, с косинкой…
Ник не договорил, услышав сильное, с хрипотцой, дыхание друга. «Ну и нервы!» — удивился, завидуя, и поглубже забрался под тяжелые отсыревшие одежды.
Дождь лил из верхнего пространства в черное пространство внизу, а лодка держалась где-то посередине, на тонкой пленке воды, и было жутко и удивительно, как она еще не намокла настолько, чтобы навсегда затонуть.
День четвертый
С погожим рассветом, после суточного дождя, холода, онемения, птица валом поднялась на крыло, и по всем раскатам, откуда только мог прикатиться звук, слышалась неистовая пальба. Один подранок, тяжко прошумев в высоте, круто шлепнулся в кундрак рядом с лодкой. Ник осторожно приподнял тент — крупный селезень, откинув крыло, заполошно вертелся в озерце чистой воды, будто ища какую-то потерю. Красив был, дико зол, упрям селезень. Подтянув весло, Ник просунул под тент лопасть и хотел ударить по черно-синей чубатой голове, но селезень, словно бы обретя сознание, юрко занырнул. Весло взбило пустое озерцо. Ник видел, как по узкому прогалу, пузыря воду, косо оттопырив крыло и подбитую лапу, уходил в траву светящийся оперением подранок.
Макс вернулся рано, крикнул, подплывая:
— Эй, в култуке! Свистать всех наверх!
Он сидел в куласе-поплавке, нагруженном пестрым ворохом дичи, медленно поднимал и опускал шест; кулас скользил, почти не рябя воду. Все это было похоже на северную гравюру с одиноким добытчиком или, если на минуту забыться, — на живую первобытную сцену с охотником, водой, дичью.
— Подгребай. Парада не будет.
Из-под тента на четвереньках выполз лохматый, заросший рыжеватой щетиной, помятый, сморщившийся на свету человек. Макс едва не рассмеялся: «Вот бы фотоаппарат — такой экземпляр для науки!» Подчаливая к лодке, хмурясь, чтобы удержаться от смеха, сказал:
— Хотел поворачивать, когда тебя увидел. Думал — не в тот век попал.
— На себя глянь.
— Вода что-то не отражает.
— У меня спроси.
— Ну?
— Человекобезобразнейший, — длинно выговорил Ник и, не дав вдуматься в это слово, затрясся от хохота, довольный, что так легко отплатил, но на корму перебежал ловко, поймал нос куласа, прижал его к борту лодки. Макс медленно, не качнувшись, распрямился, как складень, подал ружье, шест; перебросил добычу — всего четырнадцать штук разной птицы, больше кашкалдаков. (И красиво, и жутковато такое обилие). Перелез в лодку, стянул хрустящий перкалевый костюм, помахал руками, будто ставя их на место, вздохнул облегченно.
— Ну, ты чайку сваргань, а я бас-баш по-малайски состряпаю.
— По-малайски?
— Считай — по-каспийски.
— Что за блюдо?
— Откушаешь.
Макс взял кашкалдака, расправил на брюшке перья, кончиком ножа вспорол кожу; отложил нож, вцепился в кожу пальцами — рывком снял ее от лап до головы, вместе с оперением и пухом; короткими ударами отсек голову, крылья, лапы; разрезал живот, вывернул и выбросил за борт потроха (на них со всех сторон брызнула тьма-тьмущая разномастных мальков, забурлив, как в кипящем котле); тушку прополоскал, положил в эмалированную миску. Взял другого кашкалдака, проделал с ним то же самое — точно, скупо.
— Картошки начисть, ладно? — сказал, взвешивая на ладони третью черную птицу.
Мясо у кашкалдаков было красноватое, яркое, они лежали горкой — шесть штук, напоминая маленькие бараньи тушки. Их можно, конечно, разделывать по-иному: сначала щипать, потом палить, но работенка нудная, да и корешки у кашкалдачьих перьев крепкие. Это хорошо помнил Ник и все-таки не мог смотреть на ободранную птицу, ставшую просто мясом, птицу, словно обиженную, потерявшую надлежащий ей вид.
В большую кастрюлю Макс укладывал кашкалдаков, крупно нарезанную картошку, головки начищенного лука — поочередно, слоями, чтобы одно покрывалось другим; подсаливал — и соль как бы ложилась слоями; набил кастрюлю доверху, залил водой, сколько вошло, поставил на примус. Потом, сдернув свитер и майку, долго скупыми движениями мыл руки, лицо, плескал воду на грудь и спину; так же медлительно и крепко растерся полотенцем — коричневая кожа зарозовела.
«Подсушенный, подкопченный, весь из жил и мускулов, хоть и маленький… в одежде маленький… а так… так совсем нет. Ни грамма лишнего веса. Это от всегдашнего напряжения — летней и зимней охоты, от природы — ветра, жары, холода. Он будет долго жить, если не погибнет случайно, будет постепенно усыхать и когда-нибудь, в дремотной старости, превратившись в мумию, тень, в седую костлявую птицу или истлевшее корневище, незаметно для себя растворится в природе. И страшновато и завидно…»
— Ник, сполоснись! — Макс сел на борт, подставив спину холодному солнцу.
— Пусть подогреется. — Ник кивнул на воду, почувствовав, как по коже, будто от ветра, прошла мгновенная рябь.
— Долго ждать!
«Зарос рыжей щетиной, а под нею кожа нежная, тонкая. И грязь ее не берет. Как у девчонок, бывало, в походе. Ухитрялись как-то… Неужели люди сразу рождаются разными? Он всегда был наполовину девчонкой, хоть и храбрился, от других огольцов не отставал. Даже драться умел хорошо. Но все равно в нем надежно сидела нежность. Брезгливость. И страх за себя — особенно большой. Он отчаянно крушил в себе это, хотел переделаться. Смешно — матерился и то крепче всех. Уехал таким. А теперь — другой человек совсем; вернее, тот самый, потому что сущность его, которую он подавлял, разрослась, заняла все его существо. Крупный, гривастый, холеный. Много лишнего веса — без этого какая солидность? Кандидат. В семье порядок. Будет доктор, седой, красивый. Дача в подмосковном лесу, ученики… Он родился для большого города и рано попал туда. А здешнее, поселковое, почти начисто позабыл. Страдает, смущается. Но еще больше мучает его грубая одежда, сырость, холодная вода. Жаль человека. И злость маленькая, непонятная на него — завидно, что ли?..»
Макс потрошил птицу, бросал внутрь по горсти соли, подвешивал тушки к шесту, на ветер, чтобы они подсохли, чтобы их можно было привезти домой. Лодка, крытая брезентом, поверх которого лежали охапки рогоза, с вязками развешанной дичи, напоминала дикое становище из кинофильма, эффектно срежиссированное.
— Зачем столько? — Ник поднялся, дотянулся рукой до шилохвости, погладил перья. — Сколько отлетало…
— Когда бьешь — не думаешь.
— Ехал — и не ожидал, что здесь еще есть птица. Пишут — все, конец.
— Старики говорят: «Была птичка».
— Приходилось тебе очень много убивать?
— Один раз.
— Расскажи.
— На свал ходили, в море… Хотя это не то, не так чтобы много. Лет шесть назад моряна по осени ударила, недели на две. Напор страшный, за плетенки, насыпи перехлестнула, поселки затопила. Птица, понятно, к берегу пошла — за кормом, в затишок. Понабилась в ильмени черным-черно. Ну и охота была — били столько, что увезти не могли. Лодки от добычи тонули.
— И ты?
— И я.
— Я бы не смог.
— Не знаю. Потом многие признавались — стыдно, гадко. А тогда… Людей жальче было — потонуло порядочно. В поселках, на охоте.
— Надо же как-то беречь птицу.
— Конечно.
— Я читал в журнале одном. Писали о заповеднике, на юге Каспия, где птица зимует. Раньше миллионы зимовало, теперь всего ничего. Будто там поселок есть, возле Ленкорани, одной дичью живет — добывает, продает. И ничего с ним не могут сделать. Такой ловкий народ.
— Может быть.
— Запрещать надо. Строго, правда?
— Согласен. На совесть — не получится.
В кастрюле бунтовал бас-баш; пар подбрасывал крышку, длинно стрелял из-под нее; на свободе мгновенно уничтожался, оставляя невидимые, горячие запахи тушеной дичины, лука, картофеля, лаврового листа, перца — и всего вместе, что можно было бы назвать «пищей предков»; а если глянуть в кундрак, по-над самой водой, можно заметить легкий сиповатый дымок, неподвижно зависший; что это? Пар, не совсем умерший, керосиновый перегар или дыхание людей?.. Тепло — среди непомерного студеного пространства.
— Бас-баш в порядке, — сказал Макс, схлебывая с кончика деревянной, лодочкой заостренной ложки коричневую, застекленную жиром юшку. — Попробуй?
Ник мотнул головой: «Чего там! Давай сразу!»
Взяв миску, Макс бросил в нее пару кашкалдаков, несколько картофелин, круглых тушеных луковиц; залил все шурпой и подал Нику. Так же веско наполнил вторую миску.
— Покажи пример, — пугаясь дымящей горы пищи, попросил Ник.
Макс усмехнулся, «изящно», кончиками пальцев, поднял тушку кашкалдака за ножку, подержал на ветру, как бы приправив солнцем и воздухом, и впился плотными белыми зубами в мякоть возле закрылка; слегка охнув, втягивая в себя сок, смигнул слезу, выжатую огненной накаленностью мяса; заел картошкой, луком, хлебнул ложку шурпы.
Ник не заметил, как, в какую минуту притронулся к еде, повторил ли в точности все движения Макса, — ел, смахивал согнутым пальцем капельки пота с век и чувствовал — понемногу пьянеет. Почти как от вина. Горячо, до жжения, было во рту, груди, желудке. В глазах мерцало, все виделось точно сквозь воду, смешно сдваиваясь. И Нику казалось: если он попробует заговорить — распухший язык не послушается его.
В опустевшую миску Макс положил ему третьего кашкалдака, картошки, лука, налил доверху шурпы. Ник принял молча, отчего-то улыбаясь, охотно сжевал мясо, ощущая в себе неутоленность, шурпу выпил через край миски. Удивился, закуривая (дома курил редко, лишь после душевных потрясений или во время обильной ресторанной еды): «Неужели вдвоем съели почти весь бас-баш?»
Макс опустил за борт кастрюлю, утопил ее на дно — так она не засохнет и остатки очистят мальки.
— А теперь бай-бай…
Голос Макса послышался как из давнего прошлого, приснившимся, и сам он был далек, и призрачен. Ник хотел что-нибудь ответить, однако не смог, длинно, не переставая, заулыбался и, сонный, полез в темноту под тент.
Каким же был сон! Сон полного, но не тяжкого отсутствия, в котором тело, позабыв «томление духа», как бы вновь зарождалось из ничего. Росло. Улучшалось. Достигло наивысшего совершенства — и тогда в него вошла явь, осторожно, детской радостью бытия.
— Может, сбродишь разок?
Ник прислушался к голосу друга (Макс готовил снаряжение к вечерней зорьке), прислушался к себе, вообразил себя бредущим в сумерках по черной воде, скрывающей ямы и провалы, передернул плечами от холодка по коже.
— И так хорошо.
День пятый
Он был лишним, этот день. Он ничего не мог прибавить. Всего было вдосталь: тишины, простора, рыбы, птичьего мяса, и солнца, и дождя. Говорили, вспоминали, почти начисто позабыв свою теперешнюю городскую жизнь, — тоже полезно иногда. Но ведь и пословица напоминает: «Мера — верная манера». А то так, по-российски всегда получается: работать — до упаду, отдыхать — до потери сознания.
Зачем Максу этот пятый день? Пяток лишних уток? Хотя бы спросил, что ли: как, мол, останемся еще на денек? Ник промолчал бы — надо так надо. Можно понять охотника. Однако и он должен понимать, что лодка не каюта первого класса. И дичь за один раз всю не перебьешь. Проводи друга, вернись в култук, постреливай себе, пока раскаты воду раскатывают.
Ник приложил ладонь к щеке — щетина была жесткая, жирная (не прихватил аппарата, нет зеркала — не запомнишь себя, не покажешь потом другим); шевельнул лопатками, поворочал ступни в сапогах — кожа казалась толстой, чужой и поверху словно бы обросла жирными волосами; и уже не чесалась, как в первые дни, явно привыкнув к поту, неопрятности.
Умываться не стал — без мыла что толку, да и вода лежала на близком песчаном дне недвижным прозрачным пластом льда; чудилось: шагни — и пойдешь как по сияющей тверди. Наклонил деревянную миску с остатками вчерашнего бас-баша, поддел ложкой. Распробовал, пососал языком. Холодный бульон был по-особенному свеж и вкусен, его темная густота неощутимо растворилась во рту, будто сразу усвоилась. («Всю жизнь питаться бы таким нектаром!») Выхлебал до последнего глотка. И удивился, как все в нем переменилось: точно он хорошо умылся, сделал зарядку; и побрит, и чистая рубашка на нем; и впереди отличный, чем-то счастливый день.
Ник сел на свое обычное место — к борту лодки, лицом в раскаты, за которыми из прохлады тишины, дымной зелени рогозовых дебрей нарождалось холодным протуберанцем белое пятно солнца.
Нет, будет что вспоминать, чем удивить друзей. Один прилет в Астрахань… Вот так же плыло по самому горизонту, пятнами зажигало тучи солнце. Самолет покачивало, и Ник отпивал из плоской фляжки по глотку «КВ». Заговаривал с монголистой стюардессой, но как-то неудачно — она не хотела знакомиться с «земляком», — и все равно смеялся, острил. Потом увидел внизу рыжую степь, зеленые, красные (почему-то густо-красные) озера. «Неужели близко Каспий?» — подумал, не узнавая степь, озера: может, потому, что никогда не смотрел сверху? Потом аэропорт в степи, жаркий октябрьский день, прорвавшийся к самолету Макс… Мигом взмокревшие «северные» пассажиры… Столики вокруг круглого стеклянного кафе, жаровня с невидимым огнем, желтый сморщенный татарин, сотворяющий шашлык на длинных шпагах-шампурах… Макс в белой рубашке, по-астрахански темнолицый, нервно-быстрый (в пять минут был «организован» столик, закуска, пиво). Выпили за встречу, вообще за все… Подсели два татарина — только что кого-то проводили, — чокнулись с ними. Макс представил Ника почему-то московским инспектором, а Ник почему-то не удивился. Маленький, толстый татарин тут же назвал свое имя, сообщил, что работает начальником поезда, каждую неделю бывает в Москве, и попросил Ника написать на бумажке адрес, станцию метро, где проживают его родные и близкие, чтобы завезти им «самый большой, самый сладкий астраханский арбуз». Ник написал, сразу позабыв об этом. Другой татарин — молодой, одетый легко, фасонисто — охотно тряс чубом, но говорил так часто, так зажевывал слова, что нужен был переводчик, и толстый четко, старательно растолковывал его мысли. Наконец стало ясно, что они приглашают к себе в гости, молодой «спроворил» такси, поехали в город. Макс твердил: «Никаких гостей, — прямо ко мне», а Ник смотрел на степь, пустыри, пригород и ничего, конечно, не узнавал. И не чувствовал все это своей родиной. Промчались по новому длиннющему мосту через Волгу, заскользили вдоль бетонной стенки набережной — яркие дебаркадеры, сияющие лайнеры, взбудораженная вода, фасады многооконных белых домов вдали, — здесь впервые откликнулось сердце Ника, хоть и осторожно, пугливо: город будто бы тот, однако и подновлен, как для выставки. И приехали, конечно, в гости — в татарскую слободку, обширный деревянный город среди города.
Дальше все запестрило ярко и бессвязно. Высокие, крашеные, почти крепостные заплоты, глухие ворота, калитки с оконцами, чистенькие дворы, уборные, обклеенные внутри «огоньковскими» картинками, виноградные заросли у крылечек и веранд — кисти тяжелые, пепельные… Ник покорно обратился в «представителя из центра», толстый Алим подводил к нему жену, ребятишек, родственников, просил помочь ему «решить наболевший жилищный вопрос» — ему хотелось в коммунальный дом. Макс хохотал, а длинный, фасонистый Ибрагим, срезая ножницами виноград, награждал каждого гроздями, кричал: «Зашем мине квартыра, зашем?» Ходили в какие-то дома, сидели за столом с иссушенными жидкобородыми старичками, сосавшими трубки… Ездили на набережную за живыми сазанами для ухи, пили пиво на дебаркадере, познакомились с коротенькой, жгучеглазой, смуглой казашкой. Ник сделался корреспондентом, а потом писателем — записывал в блокнот татарские слова, фамилии, адреса… И всем говорил, как он любит Астрахань, какой это замечательный город: «Словом, великая хань на стыке путей и народов». К Максу домой попали глубокой ночью, пешком. Жена, впустив их в дверь, грустно поприветствовала: «Хороши!» У нее погибал искусно накрытый стол…
— Гульнули по-хански, — сказал Ник и удивился, что сказал это вслух; да и вспоминал он так, точно живо кому-то рассказывал. — Заговоришь тут, как дикарь, с лодкой, кундраком, водой — все «живой люди» станут.
Интересно, привез Алим арбуз? Ай, сценка будет: звонок, Ника открывает дверь, на площадке маленький толстый человечек с большущим полосатым арбузом! Большие глаза, удивление, маленький испуг, восклицание: «Вы от Ника!» Суета, смех. «Проходите, проходите!..» В прихожей мать, отец, Витька. «Ну да, кто же еще такое придумает!..» Пошлю Алиму, если привез арбуз… что же ему послать? Сигарет, трубку… Кажется, он не курит.
Из-за кундрака черным силуэтом медленно, как бы не касаясь воды, выплыл остроносый челн с гребцом на корме. Челн, гребец, красный закат, каждая метелка кундрака жили не менее реально в иной, отраженной, потусторонней сфере, и Ник прикрыл глаза от легкого головокружения, потеряв верх и низ.
— Эй! На шаланде!
Слова прикатились толчками, как накаты прибоя, Ник ощутил в ушах их круглоту, тяжесть. Подумалось: «Сегодня ни одного выстрела не слышал — привык, разучился слышать или зорька пустая была?..» Придержал кулас, помог Максу перебраться в лодку, сказал:
— Про Астрахань думал. Как прилетел, как в слободку попали… Лихо получилось. А вот тогда, в детстве, я думал — вся Астрахань русская.
— Всегда смешанной была.
— Для меня — как будто на этом месте другой город вырос.
— А я что вспомнил… Помнишь Байдарочку из нашего класса? Хохотушку, которую ты пощекотал?.. Ну! Она еще оскорбилась, потом замуж вышла. Недавно видел — такая бабища стала — ой люди! Живет одна, с третьим развелась. Киндеров нету. Про тебя спросила — платочком глаза потерла. А потом хохотала. Что-нибудь вспомнит — и захохочет. Таким же точно голоском. Приглашала. Может, зайдем?
На минуту Нику как бы заложило уши — теплым сгустком подступила к голове кровь. Неизвестно из-за чего, почему Байдарочку он едва помнил, а теперешнюю ее совсем не мог себе вообразить. И вот… Отвернулся, чтобы Макс не заметил краски на скулах.
Нет, не нужен был этот пятый день.
Мотор завелся, тент убрали, разложили все по местам, и временное жилище на воде превратилось в лодку — как бы живое существо. Вышли на ветер, свежий простор. Позади, в плотной стене кундрака, остался глубокий прогал, словно рана, клочки бумаги, масляные пятна — обычные следы стоянки человека. Последние взгляды «на память», нежная грусть: «Попаду ли сюда еще?» — и вперед, вперед: чтобы журчала вода, бил в лицо ветер, холодком пугали брызги.
Погода тревожная, с низкими белыми облаками по небу, с широкими синими тенями по раскатам, с острой невысокой волной, угрюмым колыханием рогоза-кундрака.
Закутайся, сиди, пережидай время. Можешь вздремнуть под укачивание лодки, бурление мотора. Или, сощурившись, следи за облаками — там мечутся, взблескивая на свету, чайки, иногда черно промелькивают утиные табунки, — за несчетными зелеными островами, под которыми нет сухой земли; их можно проехать насквозь. В этом что-то вечное, бездумное, усыпляющее.
Макс вел лодку в сторону канала, выбирая короче путь («Как бы моряна не надула шторма!»), и намотал водорослей на винт; заглушил мотор, снял жгут травы; направил нос лодки к низеньким островкам, где, казалось, было больше свободной воды; приблизился; заметил — справа выплыл табунок кашкалдаков; через минуту увидел второй, побольше, а дальше, среди жидкой травы осоки, колыхалась черная масса.
«Кашкалдачий базар!»
Протянув руку, Макс ощупал впереди себя мешки, снаряжение, но ружья не оказалось. Оно было где-то в носу. Крикнул, приглушая мотор:
— Ник, ружье!
Сначала Ник не понял его, потом, проследив за рукой Макса, указывающей в заросли травы, взял ружье, патронташ, хотел передать на корму, и тут из-за ближайшей стенки травы выплыли три кашкалдака. Они были близко, на полвыстрела; скосив головы, выискивали мелкую рыбешку, чтобы нырнуть за нею; и не видели лодки. Ник придержал ружье, вдруг ощутив его тяжесть, холодок стали, ловкую точеность приклада; медленно, словно выжимая нечто едва посильное, поднял ружье до уровня плеча, припал к прикладу щекой, глянул в прорезь прицела, повел мушкой за кашкалдаками, — «так, под цель, небольшой вынос», — и замерло на мгновение, как бы перестав жить, сердце… Толчок в плечо: «Очнись! Что-то произошло!» Прижмур глаз, запах сгоревшего пороха, затем четкое виденье: на воде черный бугорок — убитый кашкалдак; два других, лопоча лапами и крыльями, резво убегали в осоку, к стае, оставляя позади прямые полосы, мелкую пыль воды.
— Молодца! — крикнул Макс, давая мотору полные обороты.
Лодка подошла к птице носом, Ник выхватил ее из холодной воды — теплую, обрызганную по черным перьям спины капельками алой крови. Подержал на ладони, взвешивая; увидел — птичья кровь высыхает на пальцах, точно впитывается в кожу, и от этого делается горячо сердцу, отчаянно и свежо голове.
Макс положил на борт лодку, резко прибавив обороты, сказал:
— Смотри левее!
Пять-шесть кашкалдаков скользили сквозь жиденькую строчку травы. Ник пригнулся, упер локти в колени, выждал, прислушиваясь к затухающему журчанию под днищем лодки, следя стволами за кашкалдаками. Почувствовал «чок» — точку, момент, — нажал поочередно спусковые крючки.
После черноты, грохота — прозрение: два бугорка неподвижны, третий с откинутым, неживым крылом суетливо уплывает к густой осоке, три других, пуская дымки по воде, удирают реактивными глиссерами, а дальше — плеск, лопотание, стон, — всполошилась, потекла в глубь раскатов стая.
Ник на ощупь переломил стволы, заменил патроны, вскинул ружье, не целясь, «по чутью» ударил подранка; он завертелся, мотая головой, потом, будто догадавшись, что надо делать, занырнул. Ник выждал и, когда черная головка раздвинула воду среди ближайших стеблей травы, стеганул по ней дробью, как длинным бичом. Кашкалдак превратился в качающийся клок перьев.
— Еще раз молодца, — похвалил Макс.
Подобрали трех птиц, Ник, не глядя, бросил их в носовой отсек, взмахнул рукой, показывая туда, где все еще шумела, билась крыльями, тяжело перебегала по водной тверди черная стая.
— Дай газку!
Ладони у него пылали, вспотел лоб, жарко было телу под курткой, и была какая-то зябкая дрожь в руках, словно от легкого испуга, но глаза видели четко, далеко, сердце билось небывало твердо, и, росла неукротимая жажда погони, выстрелов, восторга, похвалы, удачи. И еще радость, что «умею, не позабыл, что в душе я такой же — нашел, пробудил в себе старое, может быть, прирожденное».
Макс вывел лодку из-за купы кундрака, едва не врезавшись в стаю. Поднялся невообразимый кашкалдачий переполох, похожий на куриную толкотню, кудахтанье при налете коршуна. Ник открыл пальбу. Бил в самую гущу, почти не целясь, одиночными, сдвоенными выстрелами. Без суеты, спешно перезаряжал. Бил вдогонку, явно не доставая. Четыре раза выстрелил по ближним подранкам, другие за-нырнули, ушли в осоку. Стая отхлынула низкой черной тучей и лишь отставшие птицы реактивно прострачивали воду, устремляясь следом.
Долго плавали среди травы, отыскивая добычу. Подняли шесть штук. Ника это удивило, — казалось, кучу набил. Но Макс был доволен, смеялся, кивал. Готовясь дернуть заводной шнур мотора, спросил:
— Еще?
— Давай!
Снова нашли стаю, внезапно врезались в нее. Открыли пальбу. Поработали слаженно, понимая друг друга: Макс точно направляя лодку, Ник доставал птицу дробью. И еще раз настигли уже разрозненную стаю, устроили погоню за отдельными табунками. Ник стрелял, Макс считал убитых кашкалдаков.
— Двадцать шесть!.. Бей вон по тем, справа!
Сдвоенный выстрел.
— Двадцать семь. Молодца!
Выстрел. Промах.
— Смотри прямо!
Выстрел. Еще один.
— Отлично! Тяни до круглого счета! Патронов не жалей! За каждого — сто грамм!
Подранки уплывали, заныривали, прятались в траву. Ник торопился, мазал. Раскалились стволы, обжигали пальцы. Однако и не подумал остановиться: «Такая охота! Надо счет — круглый. Тридцать — это звучит!» И, кажется, через силу, уже не веря, что попадет, добил четвертым выстрелом прямо-таки заговоренного, непробиваемого тридцатого кашкалдака. Отбросив ружье, крикнул «ура!», сунул в воду ладони.
— Три литра с тебя, — сказал Максу.
— Вот тебе — «не могу убивать!».
Макс отрезал пласт соленого жереха, положил на ломоть хлеба, подал Нику; и себе сделал такой же бутерброд — закусить, отметить удачу. Передохнули. И настроение было что надо, все обернулось неожиданно и отлично: пострелял Ник, набил птицы и теперь они уравнялись, как и следует на охоте. А то душа заболела у Макса: один с ружьем ходит, другой спит, от скуки размышлениями себя донимает. Стоило для этого лететь из Москвы, плыть в раскаты. И получалось, вроде Макс виноват — пригласил, завез на лодчонке чуть не в самое море, искупал, бросил обрастать грязью и бородой. Теперь все, нормально, будет что вспомнить Нику. А стрелял плоховато, подранков много оставил, но не большая беда, другие добьют. Столько лет человек ружья в руки не брал!
Отыскали канал среди островов, ильменей, втянулись в него, прошли мимо тони, где стояли рыбаки, — их уже не было, перекочевали на другое место — и часа через два вошли в Никитинский банк — реку с берегами, камышом, тальниковыми рощами. К полудню из-за излуки возник голубой, белый, стеклянный дом, как яркая лубочная картинка, дебаркадер у берега, мирный дымок.
С борта, свесив босые ноги, удил воблешку дядь Вася (его пока не сменили). Подхватился, замахал руками, приветствуя, как родных. Он еще больше зарос, почернел — прокоптился, выветрился, пропитался рыбой, стал почти зверушкой: пусти в камыши и тальники — сам по себе проживет.
— Чаек, чаек пить… — тоненько голосил дядь Вася.
— Торопимся! — Сбавив ход. Макс подвернул к дебаркадеру. — Может, уточек подкинуть?
— Рад буду!
— Брось ему четверку.
Ник поднял брезент в носовом отсеке и отпрянул: навстречу вытянулось несколько качающихся кашкалдачьих голов, встрепенулись крылья. Ник опустил брезент, сунул под него руку, понизу нащупал слежавшиеся, затвердевшие тушки, вынул на свет. Лодка слегка чиркнула по борту дебаркадера, начала отходить. Ник метнул дядь Васе четыре птицы и упал на сиденье: Макс дал полные обороты, чтобы нос не успело сбить течение.
Подумалось о кашкалдаках: «Что за глупая птица?.. Водяная курочка… Вместо перепонок узенькие лепестки на каждом пальце. Так и кажется — совсем недавно перешла жить на воду. И еще не приспособилась: бегает по воде, как по степи… Бьют эту черную курочку сотнями… А нам зачем столько? Кому, для чего?..»
Поворот, другой — и не стало, словно не было, сияющего нездешностью дома, неуклюжей пристани с навесом и дымком, живого человека дядь Васи. Они перешли в память. Долго ли там удержатся?.. А река гудела водой, открывала новые берега, виды.
Усиливалось течение, лодка шла как бы в гору, до дрожи напрягалась своим деревянным телом — и выносила, выводила их из необозримости вод и неба в земную тесноту, к поселкам, городам. Выше берега, чаще рыбацкие становища, меньше чаек. Катера, дымящие соляркой, баржи. И думается, чувствуется уже по-иному: торопливее, обрывками.
За спиной Ника послышалось верещание, цокот, возня. Привскочив, он повернулся: брезент в носовом отсеке ссунулся и на него выползли два кашкалдака с перебитыми крыльями; третий, просунувшись в щель, пьяно мотал головой с вытекшим кровавым глазом; брезент шевелился — снизу его подталкивали другие ожившие кашкалдаки. Ник схватил край брезента, чтобы набросить сверху…
— Добей! — крикнул Макс.
— Как?
— Руками.
Ник немо развел руки.
— Кинь одного.
Ник подал ему ближнюю, вяло трепыхнувшуюся птицу. Прижав локтем руль, Макс вложил в правую руку концы крыльев, хвост, лапы кашкалдака (похоже рубят курице голову), резко ударил головой о торец борта и откинул мертвую птицу к ногам. Усмехнулся, поправляя рулем лодку.
— Учись.
Да, именно так они всегда добивали подранков — о камень, о дерево, о приклад ружья. Позабыл Ник или не хотел вспомнить? Как легко это было в детстве, и как сейчас ему не хотелось прикасаться к полуживой птице. Почему он не убил со дробью?.. Почему легко убивать на расстоянии?
Взял кашкалдака, сжал в руке крылья, хвост, лапы, ударил — из клюва брызнула кровь на борт лодки, на сапоги; второго, третьего… Шесть кашкалдаков превратил в птичье мясо. Сказал себе: «Все равно не жильцы». Но руки дрожали, были липкие, лохматые от пуха. Сунул их в воду, долго держал, чтобы холодом перебить дрожь, а когда вынул, поймал мгновенную, ироничную усмешку Макса.
«Смеешься?.. Все понял?..»
«Непосильная для тебя работа. Зря заставил».
«Мог бы и сам по привычке».
«Но ведь ты же не добил кашкалдаков».
«А кто подбадривал?..»
«Ну я. Чтоб доволен был».
«Не только из-за этого…»
«Может быть».
«Вообще вел себя так, будто мы в прошлое вернулись».
«На воде как на воде».
«В городе переменишься».
«Ну да, там ты будешь главней».
«И пожмем друг другу руку?»
«Конечно».
Показалась деревенька — ветряками, шиферными крышами, деревянным берегом, защищенным от моряны плетенками, щитами, сваями; с чумазым катерком, дощатой пристанью; ребятней вдоль воды, бабами, полощущими белье; орущим репродуктором.
Макс дал «право руля», лодка повернулась носом к домам и через минуту с выключенным мотором въехала на песок. Выпрыгнув, словно его выбросило толчком, Макс кивнул: «Я сейчас!» Поднялся по ступенькам на берег, скрылся за насыпью. Проделал это так быстро и намеренно, что Ник не успел сообразить — куда, зачем, по какой надобности направился Макс (бензин есть, продукты едва ли теперь нужны), и понял, когда снова увидел его на ступеньках, придерживающего округло выпяченные карманы куртки.
«Ну, смекалист!»
С разбегу столкнув лодку, Макс прыгнул на борт, но не пошел к мотору — сел напротив Ника, отдышался. Потом слегка потрогал рукой карман, стиснул в неловкой усмешке губы, отвернулся, глядя в беспокойное мерцание воды. Спросил так, будто и не спросил вовсе, а выразил обоюдное, страстное желание:
— Попьем?
На звон стекла поднял голову: Ник держал два пустых стакана и тоже смотрел в текущую воду.
Поспешно выпили, молча повторили. Почти не ели. А вода текла, и они чего-то ждали. Наконец Ник медленно, как бы еще не веря себе, улыбнулся, глянул осторожно на друга. Макс ответил такой же, но посмелее улыбкой. Минута, другая тишины, напряженного тока воды… И то, что было позади, понемногу потеряло резкие очертания. Сделалось неважным и, конечно, не самым главным. Усмехнулись теперь вместе, дружески, радуясь обретенной легкости.
Допили вино, швырнули за борт бутылки. И поехали к людям.
1968
ТРИДЦАТЬ НЕПРОЖИТЫХ ЛЕТ
Сватеев постучал в низенькую, обитую оленьей шкурой дверь. Никто не отозвался. Пришлось постучать еще раз, громче. И тогда дверь резко откинулась, в сумеречном проеме обозначился широкий, с белой бородой старик. «Подкрался к порогу и выжидал», — подумал Сватеев, а вслух сказал:
— Добрый день, хозяин.
— Кто такой? — Старик, не видя опасности, шагнул в сени, подслеповато щурясь, вышел на узенькое, в две доски, крыльцо. — По какому делу?
— Не узнаете, значит? — спросил Сватеев, чуть усмехаясь.
— Постой, постой. — Приблизясь, старик округлил спрятанные в бровях и пухлых морщинах мутные глазки и тихо, не совсем уверенно проговорил: — Сын Павла Сватеева, должно, а вот имя не помню…
Сватеев схватил его руку, жесткую, деревянно негнущуюся, сжал ее, затряс.
— Дядя Елькин! Неужели узнали? Через столько лет…
Старик отступил на шаг, снова напряг глазки, осмотрел Сватеева с ног до головы.
— Теперь признал. Имя вот какое?.. Постой, сам попытаюсь. Так, у Павла Ивановича было двое, девка и сын… Ты младший? Лексей, должно. Так?
— Точно, дядя Елькин. Удивляюсь вашей памяти. Ведь был я — во, — Сватеев провел ребром ладони по груди.
— А сколь прошло?
— Тридцать.
— Так. Значит, исполнилось мне тогда полных сорок. Почему же я не должен помнить?
— Мало ли нас тут перебыло?
— Может, в хибару пройдешь? Не знаю вот… Тут дела такие… — Елькин развел широкие, заскорузлые ладони. — Слышал небось? Так смотри…
— Слышал, и зайду. Кого же мне бояться?
— Люди разные.
Старик пропустил Сватеева вперед, а когда вошли, показал на лавку возле теплой печки. Сразу спросил, не выпьет ли чаю. Сватеев кивнул, и старик нацедил из медного чайника пол-литровую кружку коричневой жидкости. Сватеев отхлебнул, вспомнил тот чай, который пил когда-то его отец, — густой, сладкий до липкости, пахнущий прокопченным чайником.
— Значит, приехал? — спросил тихо Елькин.
— Да. Собрался наконец.
— Первый ты. Больше никто не наведывался. Редкие помнят свое детство.
— Да ведь поразъехались. Война была. И такая даль потом. Не каждый сможет.
— Это так.
Сватеев оглядывал жилище, хибару Харитона Константиновича Елькина, некогда знаменитого человека — золотишника, медвежатника, дебошира, женолюба, добряка и т. д., — и видел, что оно ничуть не переменилось с тех давних пор; печка, стол на крестовинах, два задымленных, в четыре стеклышка, окошка; кровать деревянная, широкая (у северян кровати всегда просторные, чуть ли не в полдома); утварь самая простая — кастрюля, миска, ложка; одежда — полотняная рубашка с глухим воротником, навыпуск суконные штаны, валенки с галошами. Все в меру чистое и аккуратное, все соответствует друг другу: дом — хозяину, хозяин — вещам и утвари.
— Ноги болят, — сказал Елькин, когда Сватеев глянул на валенки. — Застудил. Раньше-то сапогов не имели. От воды. Вот и летом так приходится.
За окошком тихо текла илистая речка Сутим, к воде были проложены деревянные мостки, стояли лодки с высокими носами — морские; по ту сторону Сутима открывалась буро-зеленая марь, с озерами, корявыми лиственницами. И была тишина. Глухая, звенящая тишина, будто все и навсегда вмерзло в огромную мутноватую глыбу льда.
Припомнилось Сватееву, как мальчишки купались на Сутиме: разбегутся, шлепнутся животами на жидкий ил и несутся к воде. Чумазые, словно чертенята. Одному, Петьке Холкину, стеклом живот пропороло…
Хорош был чай, глубока была тишина. Сватееву казалось, однако, что его тело все еще гудит и подрагивает. В нем слышится неумолкаемый рокот Большой Садовой у площади Маяковского, где живет Сватеев, жужжание и лязг конвейеров на заводе, где он работает, напряженный рев ТУ-114, перенесшего его из Москвы в Хабаровск, перебойное тарахтение «Аннушки», которая доставила его сюда, в маленький поселок у Охотского моря. Сватеев сказал себе: «Да, во мне звучат моторы» — и подумал: «Я глохну, тупею, теряю время в этой тишине».
Елькин молчал, опустив руки на колени, сгорбив широкую, костистую спину. Сквозь реденькие разлохмаченные волосы резко проступала округлая, белая лысина, она вроде бы светилась в сумерках хибары. Сватеев глядел на нее, слегка пьянея от крепкого чая, молчал, не зная, как и о чем заговорить.
— Вишь, половицу выпилили, — сказал негромко Елькин. Он, наверное, туда и смотрел — в неширокий провал в полу. Эту дыру заметил и Сватеев, когда вошел, но сразу позабыл о ней. — Там пятно было, на анализ в район увезли…
— Расскажите.
— Вот и я думаю: надо рассказать. Значит, так. Видел у меня во дворе каменную печку? Известь жгу. Я теперь этим занимаюсь. Ослаб для другой работы. А камень известковый где? В бухте Сохачей, километров за двадцать по морю. Сам не могу, нанимаю охочих. Ну тут с двумя сговорился, взялись на две сотни, да продукты мои. На кунгасишке моторном сходили, набили камня, привезли. Я им — расчет, по договору. У меня это точно. А пить не стал: когда работаю, не пью. Ушли они, а ночью явились…
Елькин поднялся, подошел к печке, простер над нею ладони.
— Стынут, — пояснил, — кровь порченая… Ну вот, явились. А я не сплю, когда камень жгу, дровишки надо подбрасывать равномерно. Слышу голоса нехорошие, но лежу. Вошли в хибару, один рослый, другой маленький. Узнал — они. Надо бы мне подняться, да уж не знаю, не поднялся… Они ко мне. Навалились. Рослый в горло вцепился, маленький ноги держит. Руки у меня сильные, ноги — никуда. Ударил я одного, другого — отскочили. Хотел на ноги стать, не удержался, упал. Они опять навалились, маленький камень в руке держит. И вот уже не знаю как, с испугу наверно, — горло-то у меня захрипело, — повел рукой по краю стола, нащупал нож, замахнулся на рослого. Однако помню: не хотел убивать — пугнуть, чтоб убежали. И целился в плечо. Он мотнулся, нож вроде по пустому прошел…
Елькин шагнул к столу, показал место, где он лежал, сел на пол, провел ладонью по краю стола. Поднимался медленно, став сначала на четвереньки, потом на корточки. Утомленный, не разогнувшись до конца, опустился на лавку.
— Ну, убежали они. Я успокоился: чего в жизни не бывает? А утром пришла сестричка из больницы, говорит — сонную жилу задел…
— Кто они, эти двое? — спросил Сватеев.
— Вроде холодильник приехали строить, да не срядились с председателем. Я и фамилий их не знаю. Рослого, кажется, Смирнов была…
— Деньги хотели взять?
— Ну. Думали, что богатый. Бусые.
— Вам, пожалуй, ничего не будет.
— Не знаю. Все одно — тяжело на душе. Первый случай. Уж лучше б они меня…
Вышли во двор. Вдоль стоны тянулась поленница березовых дров, в мешках и открытыми ворохами лежал сырой и жженый камень, железная бочка наполнена белой чистой гашеной известью. Печь для обжига была устроена чуть ниже, в береговом откосе, повернута к Сутиму, к ветерку. Елькин положил на руку Сватееву сырой камень — тяжелый, жесткий; в другую сунул жженый — пепельно-серый, похожий на обгоревшую головешку, и легкий, как бы пустой. Сказал удивленному Сватееву:
— Главное — тяжесть выжечь. Потом гаси водой и бели хибару. Нужный товар. Из района приезжают, берут.
Сватеев оглядел ближние дома, дворы. Где-то здесь, на склоне горы, стояла высокая, деревянная мачта на стальных тросах-оттяжках, а чуть ниже — дом связи. Сватеев тронул Елькина за локоть:
— Помните частушку:
Под горою у Сутима — Дом красивый, как картина, В нем живут Клок-радист, Мишка Бляхман — моторист.— Как же. Война началась, их забрали. Рассказывали потом — оба погибли.
— Хорошие были ребята. Иногда пускали нас в радиорубку, морзянке учили. С тех пор я и полюбил радио. Так и остался вечным радистом, хоть и обошел тех ребят, они ведь успели только техникум окончить.
Почувствовав, что глаза влажнеют, заплывают мутью, Сватеев отвернулся, достал платок. Не ожидал от себя такой чувствительности, но как-то вдруг резко возникла в памяти радиорубка, пахнущая новенькой аппаратурой, электролампочка на длинном шнуре (единственная тогда в поселке). Колька Клок, длинный, сухощавый, со всегдашней поговорочкой: «Прошу, мадам, не волноваться», и Мишка Бляхман, смуглый, чернявый, не то от природы, не то от мотора, с которым постоянно возился, проклиная и нежно гладя железки замазученной ладошкой. И вот их уже нет и никогда не будет.
— Бражку приходили пить, — сказал негромко Елькин. — Жалел я их.
В окне соседнего аккуратного домика дрогнула занавеска. Сватеев глянул туда и заметил женщину с темными, напряженно онемевшими глазами. Она, наверное, давно следила за ним и Елькиным.
— Кто это? — спросил Сватеев.
— Полуянова. Твоя бывшая училка.
— Полуянова? Неужели?
— Она.
— И что же, до сих пор учит?
— Лет пять назад квалификации лишили. Учетчицей на рыбозаводе работала. Теперь отдыхает, на пенсии. Тут раньше пенсия полагается.
— Может, зайдем к ней?
— Зайди, если хочешь. Все одно разговаривать не станет. Молчит.
— Одна живет?
— Совсем одна. Последний муженек разбился. На санях ехал. Разогнал коня и на повороте в лиственницу ударился.
Да, этой женщине было что рассказать, было о чем молчать. Все ее четыре мужа умерли или погибли. И главное, самое главное — на ней был женат Витька Филимонов, товарищ Сватеева. Это случилось в начале войны, когда Сватеевы уехали из поселка, а мужа Полуяновой, учителя физики, взяли на фронт. Вскоре, как писала подруга матери, Витька простудился на охоте, заболел воспалением легких и умер.
— Ну, я пойду, Харитон Константинович, буду наведываться.
Задержав руку Сватеева, Елькин сказал, глядя в землю:
— Тут следователь приедет…
— Поговорю с ним обязательно.
Сватеев шел по доскам тротуара, припоминая старые дома, их расположение, где и кто жил, и никак не мог объединить тот, бывший поселок с этим, настоящим, выросшим. Тот стоял за лиственничным лесом, за березовой рощей, укрытый от морских ветров и туманов; этот, будто назло людям, вылез на взлобок горы, открыл себя студеному морю. Кто вырубил лиственницы, березовую рощу?.. Хорошо узнавались лишь три дома: школа, интернат и выстроенное буквой «Г» крупное здание культбазы (сейчас в нем размещался детский сад). Все другое было новым или настолько переменилось, что не трогало памяти. А Сватееву казалось: увидит — и сразу вернется в свое детство. Но поселок «не узнавал» его, даже школа, даже интернат… Больше того, речка Сутим, марь по ту сторону, озера виделись чужими, уж очень обычными и никак не соединялись с теми, что хранила память. Неужели прошлое уходит вместе с людьми?.. Или он сам, Сватеев, не теми глазами смотрит на свое детство?
Поселок жил своими заботами. Начинался ход августовской, «осенней» кеты, и все работали на рыбозаводе, ловили рыбу. Во дворах сидели старики да играли малые дети. Редкие прохожие, эвенки и русские, с интересом всматривались в Сватеева, вежливо здоровались, но никто не заговаривал: северяне — народ сдержанный.
Раньше Сутим наполовину был полотняным: эвенки жили в палатках. Теперь лишь изредка проглядывало в лиственницах белое пятно. Сватеев свернул на узенькую, пробитую в пахучем багульнике тропу, чтобы напрямик пройти к сельсовету. Шел под хвойной крышей, среди голубичника и стланиковых кустов, дичая от настоявшихся к осени запахов тайги. Слева, едва видимая, проглядывала двускатная палатка, пола спереди откинута, у входа на шкуре сидела древняя старушонка, около нее дремала черномастная крупная лайка. Сватеев осторожно приблизился, кашлянул. Старушонка не подняла головы, а собака приоткрыла желтый глаз и опять смежила его, не обнаружив в пришельце ни друга, ни врага. Сватеев вспомнил северную поговорку: «Только глупая собака лает на человека» — и принялся перебирать в памяти эвенкийские слова, чтобы поздороваться с молчаливой хозяйкой палатки. Надо было сказать: «Здравствуй, бабушка». И с натугой, почувствовав испарину на лбу (боже мой, ведь он свободно говорил по-эвенкийски!), Сватеев составил фразу:
— Менду бэе, ава!
— Дравствуй, — сказала старушка, продолжая работать: хорошо отбитым лезвием косы, снятым с черенка, она мездрила оленью шкуру — счищала с нее жир. Пол палатки был устлан отличной медвежьей шкурой поверх еловых веток, две оленьих шкуры сушились в сторонке на распорках.
Топилась маленькая жестяная печурка, и в котелке упревали куски свежей кеты. Несколько рыбин вялилось на лиственницах за палаткой.
Ава создала себе «древний» уют, уйдя из деревянного дома-чума, где жила с сыном или дочкой. На лето отделилась, до холодов. Устроила себе дачу. И довольна, конечно, и отдыхает себе в удовольствие. Ну, как какая-нибудь московская бабушка, убежавшая от асфальта и грохота в домик под соснами.
Сватеев подумал, что старушка наверняка помнит его отца, первого директора культбазы, должна помнить, если даже жила в каком-нибудь соседнем поселке. Отец всех знал тогда, и его знали по имени. Но как разговорить старушку, уж очень она сурова. Ничего не надумав и не желая удивлять старушку корявыми эвенкийскими словами, Сватеев просто спросил:
— Ты помнишь Сватеева?
Он намеренно обратился на «ты», потому что раньше иных местоимений северяне не признавали. Старушонка наконец подняла голову, глянула коричневыми, мутными, в красных прожилках глазками, произнесла довольно громко:
— Культбаза?
— Да, да! Первый директор культбазы?
Старушка закивала, глаза у нее заплыли морщинами, губы раздвинулись в улыбке, приоткрыв пустой рот.
— Павел-та? Знаю, — внятно выговорила она.
— Правильно! — обрадовался Сватеев, присел на корточки, схватил руку старушки. — Я сын его, в Москве живу.
Она опять закивала, улыбнулась, по-мужски тряхнула ладонь Сватеева.
— Ая! Со ая! Хорошо!
Кисло запахло свежей кожей, шерстью, из палатки пахнуло лиственничным дымом, привядшей хвоей, рыбой, и на минуту Сватеев вернулся в детство… Но старушка спокойно отняла руку, принялась скоблить шкуру, полагая, что «хороший разговор» не должен быть длинным. Сватеев постоял над ее сгорбленной спиной, увидел желтый, подсматривающий глаз лайки, сказал: «До свидания». Не получив ответа, тихо пошел к тропе. Оглянулся потом. Палатка едва проглядывала в кустах стланика, ава скоблила шкуру, тонко поднимался и сразу исчезал дымок, дремала черная собака.
Сколько лет такой жизни?
У дома с красным флагом Сватеев увидел председателя сельсовета, с которым познакомился утром, когда прилетел в поселок. Он шел навстречу, радушно улыбаясь. Пришлось еще раз пожать мягкую ладошку бывшего оленевода Афанасия Семеновича Соловьева. В свое время он окончил семилетку, учился на различных курсах и говорил по-русски почти без запинки.
Что же касается фамилии… Конечно, Афанасий Семенович никогда не видел соловья, вряд ли представляет себе пение этой малой пташки, однако поп, крестивший его деда, не отличался большой фантазией, — и вот таежные жители стали Симоновыми, Иннокентьевыми и даже Соловьевыми. Когда-то Сватееву было все равно, как звать дружка-эвенка. Сейчас он пожалел, что народ потерял свои изначальные, истинные имена. Ну разве плохо звучат: Гиравуль, Дывун, Гырен, Увачан?..
— Я вам люкс приготовил, — сказал радостно Соловьев. — В интернате. Койку там поставили, чемодан отнесли. Пойдемте, покажу.
— Спасибо, Афанасий Семенович. — Сватеев взял его под локоть. — Можно спросить у вас вот о чем: есть у вас дочка?
— Есть. Две дочки.
— Как их звать?
— Одна Катя, другая Лариса. — Соловьев засмеялся, хлопнул Сватеева по спине. — Зятем хочешь быть? Давай, за москвича отдам!
— Нет, я стар в женихи. Скажите: почему вы не назвали их по-своему? Скажем, Сурина, Маргеша или Синильга? Разве менее красиво?
Председатель сельсовета слегка нахмурился, помолчал.
— Не модно, — ответил и опять заулыбался.
— Так показали бы моду.
— Я?.. А как к этому отнесутся?..
— Кто?
— Ну, здесь. В районе.
— Да ведь это попы дали вам имена по церковной книге. У них крещеный не мог быть Гуравулем: нет такого святого. А Советская власть разве запрещает?
— Не слышал. Интересно говоришь. Спрошу в райкоме.
Они подошли к интернату.
Сватеев, как и утром, пристально осмотрел рубленный из листвяжных бревен дом, с крупными, не по-северному, окнами. Некогда Алешке Сватееву он казался громоздким, солидным сооружением, коридор внутри, помнится, насчитывал пятьдесят больших тогдашних его шагов. Дом и сейчас выделялся среди других, но… что-то с ним произошло?.. Осел, потемнел, нахмурился. Зелень проступила на тесовой крыше… А главное, он был тих и равнодушен. Хотелось ударить ладонью по стене, спросить: «Неужели не помнишь меня?»
Навстречу вышел неторопливый мужичок, с густой седоватой шевелюрой, цепким (исподтишка) и пренебрежительным взглядом человека, поуставшего от многоопытности, представился:
— Завхоз буду.
— Койку поставил? — спросил строго Соловьев.
— Как велели, в угловой комнате.
— Герой у нас Севрюгин, — положил на плечо мужичка белую ладонь председатель. — Десять детей имеет.
— Это здесь только! — засмеялся охотно и вежливо Севрюгин. — В Николаевске пять еще.
— Правильно! Общее количество — пятнадцать. У вас в Москве есть такие герои? — Соловьев переложил руку на плечо Сватеева.
— Нет, пожалуй.
— Отстала столица, на буксир возьмем.
Кряжистый мужичок спокойно ухмылялся, Сватеев подумал, что он похож на перекрученный корень крепкого дерева, спросил:
— Откуда вы родом?
— Дед прибыл из Нижегородской губернии. На Уссури жили, потом сюда подались.
— Елькина давно знаете?
— Да лет уже тридцать.
— Какой он человек?
— Разный бывает. Однако, думаю, на таких земля держится.
— О последнем деле что-нибудь скажете?
— Несчастный случай.
— Хватит много разговаривать, — остановил мужичка Соловьев. — Суд разбираться будет. Ты вот человеку покажи люкс. Отдыхать надо человеку. — Он повернулся к Сватееву с радушной, всегдашней улыбкой. — Ну, заходи завтра. Посидел бы — дела, сам знаешь.
Севрюгин вел Сватеева по коридору, и Сватеев невольно отсчитывал шаги, стараясь делать их некрупными. Насчитал тридцать пять. Севрюгин открыл крайнюю дверь, отступил на шаг. Сватеев глянул внутрь: стены побелены, пол окрашен желтой, рамы голубой краской. Слева у окна стояла железная кровать, накрытая суконным одеялом, рядом тумбочка, старенький стул.
Сватеев перешагнул порог.
Здесь, в этой комнате, он жил три лета, когда в интернате устраивался пионерский лагерь. Его кровать стояла как раз в том углу.
Сбросив плащ и берет на стул, Сватеев прошелся от стены до стены. Подошвы слегка прилипали к полу, пахло олифой, свежей, терпкой елькинской известью. Ожидая волнения, он повернулся к окну, в котором высились тонкие лиственницы, но прошла минута, другая, а сердце его билось ровно и холодно, хотя воспоминания нахлынули, отяжелили голову. Имели они какое-то уж очень малое отношение к этим стенам, окнам, комнате.
— Значит, так, — негромко проговорил, приблизясь, Севрюгин, — покушать вам сготовит сторожиха Антипкина. Тут живет. Мамаша нашей воспитательницы, которая в отпуске. Женщина хорошая… Она тут учительнице приехавшей, новенькой, готовит. Столовых-то у нас нету. Никак не организуем. — Севрюгин помолчал, заглядывая сбоку, озадаченно на Сватеева. — Значит, я пойду по делам. Если что, старушка Антипкина меня призовет.
Сватееву вдруг сделалось грустно, он даже испугался одиночества. И эта тишина — деревья вмерзли в прохладный, недвижный воздух, — оглушительная тишина. Будто время остановилось. Если б и тело его затихло… Шумит, гудит в ней прожитая жизнь… Сватеев сказал, по-севрюгински негромко, даже просительно:
— Может, выпьете со мной? — Открыл чемодан, вынул бутылку коньяку, два лимона, банку шпрот. — Армянский. За знакомство.
Севрюгин слабо улыбнулся, глядя на бутылку, переступил с ноги на ногу, закинул руки за спину.
— Не положено. В рабочее время не принимаю.
— Да по одной?
— Не уговорите. Не поддающий.
Для большей убедительности он отступил к двери, а глаза его, потерявшие цепкость, расслабившиеся, и улыбка растерянная выдавали душевную борьбу. И все-таки было видно, что мужичок не сдается, выдержит, чего бы это ему ни стоило — хоть нервного расстройства: нельзя, некультурно по первому приглашению пить с неизвестным человеком, к тому же — из Москвы; может, он испытывает местных работников?
— Вы эту, учительницу, пригласите, — сказал Севрюгин из коридора. — Скучает дамочка. — И удалился, притворив аккуратно дверь.
Сватеев открыл бутылку, налил в пластмассовый стаканчик, выпил, пососал дольку лимона. Никаких припасов, кроме шпрот, у него не было, весь день он ничего не ел, и коньяк ошеломил его мгновенным теплом, да и не пил Сватеев никогда в одиночестве, еще при такой одуряющей тишине.
— В комнате детства, — сказал вслух, — через тридцать лет.
Надо было разыскать старушку, попросить какой-нибудь еды. Сватеев поднялся, и тут же в дальнем конце коридора послышались шаги, неспешно приближаясь; дверь дрогнула, в щель просунулась голова, укутанная платком, вместе с осторожным стуком женщина спросила:
— Можно войтить?
— Можно. Даже нужно!
— Вот я вам принесла… — Женщина поставила на тумбочку жестяной интернатский поднос, сняла полотенце, — Рыбки покушайте, щец тоже… Правда, мы тут их из консервов готовим. Икры попробуйте… Сказывают, вы когда-то проживали здесь, сами все знаете.
Она отодвинулась, вложила под фартук руки — так делают все пожилые женщины, потому что руки у них, натруженные, не очень красивы, — ожидала разговора или хотела услужить чем-нибудь. Сватеев налил ей рюмочку — отказалась: «повышенное давление»; лимон, предложенный «для чая», долго не брала, Сватеев положил в кармашек на фартуке.
— И давно здесь?
— Второй год. Дочка завербовалась.
— И как?
— Лучше себя чувствую. — Была она тучная, малоподвижная, с одутловатым желтым лицом, и лишь большие, карие, любопытствующие глаза выдавали совсем еще не старые годы. — В Ташкенте жили, жарко там…
— Русские — прохладный народ.
— Должно.
— А учительница как? Серьезная? Может, пригласим ее на чаек.
— Можно бы. Одинокая. Да ушла на море смотреть: рыбу там ловят. Путина, сказывают, началась.
Сторожиха Антипкина тихо удалилась.
Сквозь стены шелестом лиственничной хвои, тонким пением приливного моря под горой проникла тишина.
Здесь ходят тихо, говорят неспешно, живут медленно. Здесь не надо толкаться, некуда спешить и, наверное, бабы, если вздумают поругаться, без особой охоты кричат друг на дружку.
«А не сходить ли к морю?» — спросил себя Сватеев.
Но уже смеркалось, темной синью накрывались озера за Сутимом, чернели дальние сопки, гуще, протяжнее запевала хвоя на лиственницах. И усталость вдруг отяжелила: голова как бы вспухла, сделалась малочувствительной, и если по ней ударить — зазвенит жестяным оленьим боталом.
Сватеев разделся, лег. Кровать оказалась короткой, пришлось просунуть ноги между прутьями спинки. Подушка шуршала и кололась (завхоз Севрюгин решил, пожалуй, что из свежего сена будет мягче и приятней). В открытую форточку втекал багульниковый ветерок, гулял по пустой комнате, выскальзывал в неплотно притворенную дверь и что-то там шевелил в коридоре, чем-то шуршал.
Впервые за долгие годы Сватеев лежал, не запершись на замки и защелки, как бы посреди распахнутого простора, где никто никому не опасен, где можно уснуть, слившись с лесом, тундрой, морем.
А тело звучало многолетним напряжением Москвы, завода. Всплывали лица, слышались голоса. Вот седоглавый, громоздкий мастер Никифоров, с вечной поговоркой (что бы ни случилось): «Хорошо, прекрасно!» Пришибло как-то автокраном монтажника, сообщили мастеру. «Хорошо, прекрасно!» — сказал он и потом уже распорядился о «скорой помощи»… Молчаливый, интеллигентный главный инженер (некоторые девицы из конструкторского состарились, ожидая его предложения, и наконец пустили о нем слушок: импотент, или и того хуже); а он вдруг женился на балерине из Большого театра, в сорок пять на двадцатипятилетней; теперь уже ребенок, живут примерно… Вспомнился Алька Торопыга, токарь-виртуоз, чудак: третий год умоляет Сватеева сходить в «модерный» ресторан «Седьмое небо» на Останкинской башне, отведать фирменное яйцо с черной и красной икрой, глянуть сверху на родную столицу и еще, как-нибудь, изучить придуманную им схему транзистора, величиной с копеечную монету… И Семка Зворыгин — приятель Сватеева, сменный инженер (большего пока не достиг), женатый на художнице-сюрреалистке, которую зовет Сюрелла. Странная семейка, обходящаяся без детей, кухни, стиральной машины и обычной мебели; длинные, сухопарые, он с бородкой, она подстрижена под мальчишку и в платье до пола, с папиросами, всегдашним кофе, разговорами. Комната — в полотнах, завешано все, даже окна. Краски режут, кричат, пугают; пятна, линии, спирали, цилиндры… Электросвет — днем, вечером, ночью. Окна угадываются лишь по проникающему сквозь них грохоту Кутузовского проспекта. Провожая Сватеева в Домодедово, Сема говорил: «Человек должен сидеть на месте, долго, всю жизнь. Человека отвлекают впечатления от его внутренней сущности, изначального естества. Человек — это тебе не кинокамера, и чем больше он суетится, тем меньше понимает себя. Человек должен постигнуть себя, свое «я», услышать наконец глас своей души, тогда и мир ему станет понятнее. Человеку надо сидеть, закрывшись от соседа». Сватееву скучновато бывало с Семкой и его супругой, но пить, устраивать веселые вечеринки не очень его тянуло, да и годы поджимали. Своя же семейная жизнь не заладилась, как говорят, пошла наперекосяк, а последнее время и совсем…
Вспомнилась беседа с председателем завкома. «Так, значит, на Восток?» — «Точно». — «А мы тебе путевочку выделили в Анапу. Кажется, там не бывал?» — «Спасибо». — «Подумай. Одна дорожка сотенки в три обойдется: далековатенько твое бывшее детство». — «Один раз потрачусь». — «Жаль, не оплачиваем такие поездки». — «Правильно, — сказал тогда Сватеев, — в детство надо пешком ходить». — «А икорки прихвати, в виде компенсации. Материальную пищу еще пока никто не отменил». И председатель захохотал, прекращая разговор, оставаясь довольным: лишняя путевочка — ценный резерв.
Сватеев закрыл глаза, стараясь дышать глубоко и ровно, и все равно плыли, жужжали, колыхались перед ним конвейеры с электротелерадиодеталями, нескончаемо, ровно, напористо. Сначала ему это лишь виделось, потом вдруг он очутился у конвейера и начал вставлять в блоки радиолампы — одну, вторую, третью. Лента конвейера побежала. Сватеев стал чаще хватать лампы и не успевал, и от этого происходило что-то ужасное — его могло бросить на конвейер, измолоть, превратить в проводники и детали, он потел, задыхался, проваливался надолго в темень, небытие, и снова вертелся, пока вдруг у бесконечной ленты не выросли крылья, она загремела моторами и потянулась над лесами, полями, неся его «встречь солнца»… Стюардесса спросила: «Не хотите минеральной воды?»… Маленький дрожащий самолетик падает, падает… Замирает, подступает к горлу сердце… Желтая, неровная площадка, мачта, с полосатым сачком, домик, возле него — вертолет, зеленый, с разбитыми ветровыми стеклами…
— Отдыхаешь еще? — явственно услышал Сватеев. — Ну подремли, я погожу маленько.
Это было уже не во сне, и голос очень знакомый, и пахло продымленной, заношенной одеждой — тоже знакомо. Сватеев проснулся, но ему не хватало ясности, окончательной, чтобы понять все и вернуться к жизни. Он открыл глаза, подтянул заледеневшие ноги, сел на тяжело заскрипевшей кровати.
У окна на стуле восседал Харитон Константинович Елькин, держа между ног двустволку, на подоконнике лежал сверток в газетной бумаге.
— Я тебе тут ружьецо принес, может, побродить захочется. Правда, охоты той нет, а бекасишек подстрелишь. — Он прислонил двустволку к стене, повесил на гвоздик патронташ с бумажными гильзами. — И вот мясца кусочек тоже, оленины. Поешь, вспомни давние годки. Я-то сам мяса не ем, отшибло, по старости, должно.
Вскочив, Сватеев помахал руками, пробежался босиком по липкому, холодному полу; и воздух был прямо-таки льдистый — как в воду окунулся; натянул брюки, рубашку, спросил:
— Вы торопитесь?
— Печь топится.
— Я сейчас, только умоюсь.
Умывальник был в конце коридора, в той же комнате, что и тридцать лет назад, так же над жестяным желобком тянулась труба с множеством сосков, а слева, повыше, громоздился бак для воды; и так же лежали аккуратно нарезанные кусочки хозяйственного мыла и топилась печь, нагревая большой медный чайник. Здесь интернатчики сушили валенки и одежду, собирались вечерами поболтать, иногда, после отбоя, назначали девчонкам свидания. Тут, на этой старой лавке, — кажется, и лавка та, и стоит на том же месте, — Алешка Сватеев впервые поцеловал Тамарку Паттерсон.
— По одной, дядя Елькин. У меня три звездочки. Лимон, рыба. А?
— Когда работаю…
— Чуть-чуть. За начало дня?
— Ладно.
Сватеев наполнил пластмассовые стаканчики, подал один Елькину, приготовил дольки лимона. Чокнулись, выпили. Харитон Константинович покрутил головой, положил на язык лимон, зажмурился.
— Давно этого клоповничка не пил.
— Не завозят?
— Бывает. Да баловство, думаю.
Через несколько минут они шли по раннему тихому поселку, возле сельсовета остановились, Елькин кивнул, пожелал охотничьей удачи, свернул под гору, к своему дому, а Сватеев зашагал узенькой тропкой в лес, поправляя на плече ружье, удобнее прилаживая тяжелый патронташ.
Надо пересечь лиственничник, спуститься на марь, сухими буграми перебраться через нее и выйти на лайду — к морю, где сейчас, по тихой погоде, разливался широкий, спокойный прилив.
Цвиркали суетливые синицы, скандально принималась трещать и замолкала сойка-кедровка, по сизому, мокрому от росы голубичнику перепархивали желтые и коричневые бабочки, и почти такой же величины серенькие птички склевывали ягоды. Сватеев набрал горсть голубики, бросил в рот: ягода была прохладная, кисловатая. И вдруг мгновенная догадка ожгла ему сердце, пробудила память: он идет по той самой тропе, по которой шел с Тамаркой Паттерсон, когда навстречу им попался Витька Филимонов.
Да, где-то здесь. Может, возле того пня, тогда еще не такого дряхлого, или вон там, около брусничной и ягельной полянки.
Витька вышел из-за куста в белой рубашке, брюках клеш, туго перехваченный флотским ремнем, с чубом на левый глаз и очень снисходительной улыбкой. Сватеев живо ощутил тот свой страх, ненависть, покорность перед своим другом — более сильным, уверенным, бывалым. «Алешка, — сказал ласково Филимонов, — подожди нас минуточку». И, жестко схватив Тамаркину руку, легко бросил ее к себе. Она прошептала: «Не ната, не ната…», глянула на Сватеева, но как-то отдаленно, стыдливо и нагловато («Хочешь, так отними!»). Витька обхватил ее, тоненькую, как-то пьяно закачавшуюся, повел в кусты…
Где она теперь, жива, ли Тамарка Паттерсон? Говорили тогда, что дед ее был канадцем, имел пушную факторию, женился на эвенкийке, потому-то и фамилия Тамарке досталась английская. Да и сама она заметно отличалась от своих подруг-северянок: была выше ростом, сероглазая, белолицая, и только волосы черные и плотные, казалось, были слишком тяжелы для ее маленькой головы: в классе у доски, идя по улице, она завешивалась ими, как паранджой. Старшеклассники болтали о Тамарке разное, чаще самое нехорошее: что она только на вид тихоня и неприступная, что ее видели с тем-то и с тем-то, что ее вообще ничего не стоит увести куда захочешь, а Витька Филимонов с ней живет, хотя, может быть, и не он первый, тут один сезон работал на рыбозаводе списанный с судна матрос, он ее будто бы изнасиловал, когда ей было четырнадцать… Сватеев слушал все это, и его еще больше тянуло к Тамарке Паттерсон. Ее почти очевидная греховность, диковатость, беззащитная податливость и пугали его, и вызывали жгучий интерес, хотелось прикоснуться к ней, к тайне, сделаться самому немного таким же, греховным, и страшно было, и жаль ее было до слез, и минутами он мог ненавидеть ее.
Тамарка догадалась о его смятении перед ней, зимой пригласила покататься на лыжах, вдвоем, а летом, когда жили в лагере, раза два они запирались в сушилке и шептались. Но ничего она не говорила о своем деде-канадце, хоть и не уверяла, что это выдумка. Разрешала себя целовать — спокойно, даже безразлично: хочешь — целуй (северяне же, знал Сватеев, вообще никогда не целуются). Однажды он, сгорая от стыда, спросил ее: «У тебя был кто-нибудь по-настоящему?» Тамарка затаила дыхание, стиснула ему ладонь, потом ответила, очень заметно волнуясь: «Ты кароший малчик, не ната спрашиват, латна?» Сватеев больше не спрашивал, но начал вести себя с Тамаркой грубовато, напористо, да и дружки подбадривали: «Не теряйся, действуй, ты ей нравишься». Она осторожно, застенчиво отстраняла его руки, когда он давал им волю, не обижалась, а только выдыхала свое обычное: «Не ната».
И вот это — встреча с Витькой Филимоновым, его уверенность, пренебрежение к ней, к нему… Нет, Алешка Сватеев «не сыграл бы труса» и едва ли уступил Витьке, хоть тот и был старше года на полтора. Главное — Витькино право. И Тамаркина покорность. Ведь она и «не ната» сказала совсем иначе, чем говорила Алешке, которому почти явственно послышалось: «Видишь, я с ним не хочу. Но не буду противиться». И пошла словно оленуха за более сильным вожаком.
Ушли они недалеко, под ближний широкий куст стланика, укрылись в багульнике. Сватееву трудно сейчас вспомнить, как он вел себя в эти несколько минут. Кажется, побежал под гору, но тут же вернулся, желая убедиться, что все это ему не привиделось, а может быть, услышать зов о помощи, и тогда… (Он знобко повел плечами, ощутив мгновенную слабость, звенящую немоту: в его тело вернулось то, давнее, единственное состояние.) На ветке стланика он увидел маленькие Тамаркины торбаса, высоко, несуразно подвешенные. Бросился в сторону, куда-то бежал, продираясь сквозь чащу, упал на сырой пухлый мох, долго смотрел в небо, искрещенное лиственничными ветвями, и хотел умереть, заблудиться в тайге, погибнуть. Презирал себя, ненавидел, и понял самое постыдное для себя: конечно же он не защитил Тамарку потому, что хотел от нее того же, что и Филимонов.
Два дня Алешка не ходил в школу, а придя и столкнувшись в коридоре с Тамаркой Паттерсон — она училась классом старше, — удивился несказанно: ничуть не смутилась Тамарка, улыбнулась ему, как прежде — ласково и чуть застенчиво. Еще больше поразило его то, что Витька и Тамарка, встречаясь, не замечали друг друга, словно между ними никогда ничего не было и знакомы они всего лишь как одноклассники. После уроков, догнав Алешку, Филимонов сказал: «Ты чего тогда обиделся? Сбежал куда-то… Любовь, что ли? Да бери ты ее, если так. А то вижу — водишься, стишки декламируешь. Ну, думаю, пример покажу…» И не было в этих словах ни насмешки, ни пренебрежения, и говорил Витька тихо, даже заботливо. Откинув чуб, он прямо глянул большими, девчоночьими глазами, в которых ясно читалось: «Прости, если что».
Вскоре, летом сорокового года, Сватеевы уехали. Алексей больше не видел Витьку Филимонова. Однако помнил его лучше, чем других ребят, и, узнав через какое-то время, что он умер, долго не мог успокоиться. Витька часто являлся ему во сне. Случайно или подсознательно, желая того, попал он сейчас на эту тропу?..
Она не заросла, не исчезла — узенькая, живая, хвойная жилка. Спустилась на марь, попетляла еще немного и растворилась в голубичнике, будто предлагая выбрать свой, в меру своей сноровки, путь: марь — место топкое, ненадежное. По кочкам, сухим бугоркам, припоминая прежнюю ловкость, Сватеев выбрался на лайду, к морю.
Прилив разлился во всю ширь бухты, затопил иловые и песчаные отмели, и вдали, казалось, тайга по самый пояс вошла в тихую утреннюю воду. Призрачно синели мысы, белыми островами колыхались стаи чаек, где-то далеко, в тумане, бухта смыкалась с морем, а еще дальше — море с небом.
Сватеев зашагал по чистой хрустящей гальке, оглядывая берег, по которому некогда бегал босиком, на котором жег костры, ночевал в палатке, карауля ставные сети. Берег вспоминался ему удивительно щедрым, уютным, непохожим на другие берега.
Синеватая галька, выполосканный прибоем плавник, стланик по кромке мари, лиственницы выше… Четкое полукружье бухты с выступами мысов… Все как было, именно те же очертания, тот же вид. Сватеев остановился, прислушался. Слегка шумела вода, еще наступая; постанывали чайки, из тумана наплывало протяжное, еле уловимое гудение огромного моря. Он ждал какого-то звука, окрика, движения, вспышки света на черных скалах или в зелени сопок, чтобы свершилось самое обыкновенное чудо: этот пустынный, скудный, холодный берег соединился с тем, из детства. Но берега лежали друг от друга далеко, в разных странах, временах, пространствах. Тот, давний, был теплее крымского, этот… Сватеев шевельнул ботинком гальку, прошел по блеклым сухим водорослям, поднял кусок тополиной коры — из таких обломков они выстругивали кораблики, — поискал ракушек: лишь кое-где посверкивала битая мелочь… Этот не мог дать даже простенького сувенира на память.
У ставных сеток дежурили старики эвенки, одинокие, молчаливые. Сватеев поздоровался с горбатеньким, в лисьей шапке — не отозвался, может быть, дремал. А вон костер, суетятся сразу шесть рыбаков. В путину, когда все на активном лове, не часто можно увидеть столько «единоличников». Сватеев направился к ним, а подойдя, узнал завхоза интерната Севрюгина. Он покрикивал на мальчишек, младшему из которых было не больше десяти, руководил: одного посылал в воду, вынимать из сети забившуюся рыбу, другого толкал к костру греться, третий готовился на смену первому. Чувствовалась строгая организованность, налаженный цикл, и потому, наверное, в просторном углублении, залитом водой, шевелилось штук двадцать крупных лососей. Севрюгин протянул короткую, засученную до локтя, облепленную чешуей руку.
— Значит, поохотиться решили?
— Да так, пройтись.
— Тоже пользительно.
— А у вас, гляжу, дружная артель. Сыновья?
— Они.
— И не холодно им вот так?
Севрюгин внимательно оглядел мальчишек, как бы впервые приметив их, довольно усмехнулся, повертел непокрытой, ершистой головой. Сватеев понял, что зря поспешил с таким вопросом: мальчишки — все чубатые, крепенькие, хоть и не рослые, — были на удивление загорелые, прямо-таки черные, будто побывали в Артеке, и ничуть не страшились настывшей, предосенней воды. Лишь самый маленький заметно кукожился. Севрюгин дольше других держал его у костра, но рыбачок хныкал, цепкими, отцовскими глазами покалывал старшего Севрюгина, требовал, чтобы тот соблюдал обещанную очередность, и, когда над сеткой вспухал плеск попавшейся кеты, отчаянно бросался к воде.
— Для интерната, значит, заготавливаем, — сказал Севрюгин. — По особому разрешению. А так — только местной народности можно. И то — пятьдесят штук на душу, пятьдесят на собаку.
— Давно поприжали?
— Третий год.
Сватеев слышал вчера на улице, как один рыбак сказал другому: «Беру в лодку транзистор, пускаю музыку — хорошо ловится кета. Выключаю — обходит сетку. Думаю, рыба тоже музыку любит». Все правильно. Сначала «Аннушка» стала летать сюда, техники прибавилось, потом — запрет на вольный лов лосося… Раньше пароход-снабженец раз в год наведывался. Теперь без подвесного мотора никто по Сутиму не плавает. Цивилизация погромыхивает, дымит бензинчиком и в этом дальнем уголке.
— А вы напрасно с ружьецом по бережку, — озабоченно задвигался Севрюгин. — Ничего такого не подстрелите. Куличишки перед холодами в табунки собираются, да и то жиденькие… Вы, значит, вот что: пойдите по бровке мари, по стланику. Там рябчишки попадаются, на брусничнике.
Сватеев кивнул расторопному завхозу, которого явно томила беседа — в сетке трепыхалась кета, а бригада дружно облепила костер, даже самый маленький перестал хныкать, — кивнул мальчишкам, пообещав всех их сфотографировать, пересек завалы плавника, поднялся на сухую мшистую бровку мари, слыша позади короткие, деловые команды завхоза.
Бугры были осыпаны поспевающей брусникой, кое-где она так плотно устилала ягельник, что походила на яркие, свежие, кровавые покрывала. Ветки кедрового стланика свисали от тяжести шишек, коричневых, еще липких. Сватеев вспомнил, что их можно варить или печь в костре, они станут мягкими, когда выплавится смола. Сорвал несколько штук, положил в ягдташ.
На каком-то из этих бугров Алешка Сватеев едва не наступил на змею… Отец дал ему заряженное ружье, приказал по бровке подкрасться к куличной стае, спугнуть и выстрелить в гущину. Алешка побежал, не чуя босых ног, и вдруг — пятнистая гадюка вскинула из брусничника голову, зашипела, мелькнув черным раздвоенным языком. Алешка перепрыгнул змею, но спугнул куликов. Отец невесело посмеялся, огорчась нерасторопностью сына, сказал: «В разведчики не годишься». Алешка стерпел, промолчал о змее, чтобы не выказать только что пережитого страха.
Красные, зеленые, желтые пятна. Белые пятна чистого ягельника, мутно-синеватые куски моря. Дальняя чернь сопок… Почти как на картинах Сюреллы, жены Семы Зворыгина. Реальная ирреальность. Если рассказать им, скажут: «Ну, тебе, конечно, надо было увидеть, нам достаточно напрячь внутреннюю сущность…»
С треском, шумом, трепетом из-под самых ног взлетел рябчик, затем второй, третий. Они взмыли вверх, будто выстреленные, и тут же начали косо падать на соседний бугор за стлаником. Сватеев приложил к плечу приклад, повел стволами, спустил курок. Грохот встряхнул его, покатился по мари и морю, к скалам и лесу и вернулся мягким, округлым эхом.
Пробравшись сквозь стланик, Сватеев увидел посередине полянки пеструю птицу с откинутым крылом, сизым померкшим глазом, капельками крови на спине и шее. Поднял, помял в руках. Рябчик был плотный, теплый, крепко пах дичиной, свежей кровью. Сватеев удивился, что ему ничуть не жалко убитого рябчика, напротив, захотелось птичьего мяса, густого ароматного бульона… Дикого мяса, которого так много было у него в детстве и которого потом он никогда не ел. И лишь где-то на донышке сознания мелькнуло: «Как много все-таки хищного в человеке…»
Он пошел дальше, подстрелил еще двух рябчиков — они живут выводками, в своих местах, далеко не улетают, — прикончил выводок, початый кем-то другим. Перевалил несколько бугров, покрытых чахлым березником, ничего не обнаружил, повернул обратно: искать новый выводок — дело долгое, видно, охотнички неплохо поработали здесь, а время подбиралось к полудню, птичий «завтрак» окончился, рябчики затихли в чащобах.
Возвращался случайной тропой, напрямик. Когда уже завиднелась крыша интерната, вышел на старую порубку, с отвалами незаросшей глины, ямами; в одной, самой глубокой, заболотилась вода. И всюду битый, позеленевший кирпич. Вспомнил: это же елькинский кирпичный завод!
Здесь когда-то были длинные тесовые навесы, ровная утрамбованная площадка, вон из той ямы, что поменьше, добывалась глина, а в этой обжигался кирпич… Сюда устраивались школьные экскурсии, здесь собирались мальчишки — посмотреть, как из простой глины получается кирпич. Молодой Елькин хозяином расхаживал по твердой площадке, командовал подсобниками, отмерял дозы глины, песка, воды, приглашал месить «состав», как он говорил; засучив штанины, мальчишки прыгали в корыта, топтали глину. Загустевшим составом наполнялись деревянные формы, и глиняные кирпичи выкладывались на стеллажи под навесами для просушки. Такой кирпич Елькин называл «сырцом», желающим лепил из него печи. Но настоящий должен был пройти обжиг, самое трудное в кирпичном деле. В глубокой яме Елькин строил из «сырца» своды, выводил высокую трубу; делал все сам, не доверяя подсобникам. Потом разжигал печь и топил ее недели две березовыми дровами. Днем густой дым клубился над поселком, ночью искры сыпались из трубы. Гудел топками, работал елькинский завод.
На выемку кирпича сходился едва ли не весь поселок. И, конечно, вся ребятня. Подсобники снимали верх сводчатой печи (покрывалась она глиной и битым кирпичом), Елькин прыгал в яму, осторожно, брезентовой рукавицей, брал еще горячий, красный кирпич, щелкал по нему ногтем, подносил к уху. Если кирпич был звонок на слух, тут же, у ямы, распивалась бутыль браги, ребятишкам из елькинских припасов раздавались конфеты, пряники, а потом, став в шеренгу, надев рукавицы, мужики принимали от подсобников, перебрасывали друг другу красные горячие кирпичи, укладывая их в ровные штабеля.
В интернате, школе, больнице, в доме бывшей культбазы до сих пор топятся печки, сложенные из елькинского кирпича.
Сватеев столкнул обломок, по зеленой плотной ряске пошли круги, бултыхнулась с обрыва лягушка, какие-то стеклянные звуки побродили в яме, и вновь все замерло. Неспешно зашагал к интернату.
Во дворе на скамейке вольготно восседала сторожиха Антипкина, вязала что-то пестрое, обширное и перекидывалась бойкими словечками с молодой женщиной, примостившейся на подоконнике открытой половины окна. Сватеев хлопнул калиткой, поздоровался. Антипкина раскачалась, поднялась, а женщина в окне, сказав «Добрый день», принялась спокойно, с полуулыбкой рассматривать Сватеева. Она была белокурая, светлоглазая, небольшого, на взгляд, роста, но крепкая, какими бывают привыкшие к рюкзакам туристки. «Новая учительница», — решил Сватеев, выложил на скамейку рябчиков, махнул ладонью: маловато, мол, да что делать — большего не добыл! Антипкина радостно, даже угодливо похвалила его и сразу, без перехода, заговорила:
— А мясцо я вам сготовила и рыбка есть, так что можете обедать, проголодались, поди…
— О, спасибо. Я и позабыл сказать…
— Да Харитон-то меня предупредил! — Карие молодые глаза старой сторожихи метались от Сватеева к женщине, как бы знакомя, сближая их и еще на что-то намекая. (Это была совсем иная, видимо, настоящая Антипкина.) — Сковороду цельную зажарила, на компанию хватит.
Не глядя в сторону окна, Сватеев чувствовал, однако, что учительница следит за каждым его движением, словно позабыв на губах ту, первую полуулыбку. Ему сделалось неловко, он показался себе смешным в наряде охотника, с игрушкой-ружьем, да еще побриться позабыл. Подумал: «Вот что значит — быть не самим собой», вскинул голову, перехватил на мгновение голубой взгляд учительницы, отчего она чуть прищурилась, сказал Антипкиной:
— Так вместе и пообедаем.
— Вот это хорошо, — заколыхалась сторожиха. — Лерочка, мы пока приготовим, а они умоются, переоденутся.
Минут через двадцать, когда Сватеев долизывал механической бритвой «Спутник» свои жесткие щеки, Антипкина приоткрыла дверь.
— Лерочка ждет. У ней решили, комнатка поменее, уютнее.
Не раздумывая уже, он взял коньяк, пластмассовые стаканчики, лимон, плитку шоколада, пачку сигарет (хотя сам почти не курил), пошел за сторожихой. В середине коридора она открыла дверь, пропустила его вперед, посуетилась за спиной, что-то наговаривая, и исчезла в коридоре.
Учительница помогла Сватееву сложить все на стол, отступила, предлагая ему выбрать стул, потом протянула руку.
— Валерия.
— Слышал уж. А я — Алексей… Для вас, пожалуй, Алексей Павлович.
Она была в сером, с темным широким пояском платье, в туфлях на «гвоздиках», чуть подвела брови, едва заметно подфиолетила губы. Она была уже не та, что сидела на подоконнике… «Боже, как умеют меняться женщины!» — сказал себе Сватеев, радуясь «нездешнему» виду учительницы. Нет, она не выглядела красавицей, в московской толчее сошла бы за «средний кадр», но в ней было и нечто свое — природная прочность, неторопливость, при очень внимательном, каком-то чутком взгляде. Все остальное — белокурые (может быть, крашеные) волосы, голубые чистенькие глаза, круглое лицо при довольно крупном носе — как бы не имело большого значения. Сквозь все это проступала ее суть, своеобычность, что, конечно, не примечается в бульварной суете.
Идя сюда, Сватеев гадал: какой «стиль» общения избрать, как повести себя с молоденькой учительницей? Теперь понял: «Надо проще, естественнее — она не глупа, не наивна, и играть разбитного старичка…»
— У вас коньяк? — спросила Лера. — Вот хорошо. Мне так захотелось выпить недавно… А в магазине одна водка.
Сватеев налил два стаканчика, тот, что поменьше, подал Лере, она улыбнулась своей осторожной полуулыбкой, легко выпила, взяла дольку лимона, кивнула, а когда выпил Сватеев, поднесла ему на вилке кусок большого, горячего оленьего мяса.
— Говорят, вы тридцать лет такого не ели?
Мясо сочилось, было мягкое, в меру жирное, с особенным душистым ароматом. Сватеев не съел, а, кажется, проглотил обжигающий кусок.
— Не совсем точно. В Москве есть магазин «Дары природы», иногда заходил, брал. Но не то, конечно, мороженое, сухое.
— Так вы в самом деле здесь жили?
— Нет, шутя. Если можно принять за шутку десять лет. Привезли меня сюда пятилетним, вывезли пятнадцатилетним. — Сватеев заметил, как переменились глаза Леры, стали чуть строгими: значит, она начинала верить его словам, и ему не захотелось серьезного разговора, хотя бы для начала, он усмехнулся. — Знаете, я сказал «шутя» и подумал: в самом деле, жилось-то мне тогда шутя — легко, радостно, даже беспризорно… Это сейчас по-другому думается. Давайте еще по стаканчику?
Теперь Сватеев подал Лере кусок мяса, она выпила, с видимым удовольствием, неторопливо сжевала мясо.
— Вы вполне современная девушка.
— Вот именно, — Лера тряхнула белокурой головой, вздохнула, возле губ у нее возникли и исчезли горькие складочки. — Нас, таких девушек, теперь…
— Можно пофилософствовать? — спросил Сватеев.
— Пожалуйста. Прошу даже.
— Значит, так… — Сватееву вдруг вспомнился Севрюгин. — Вы знакомы, конечно, со здешним завхозом?.. Любое свое изречение он начинает со слова «значит». Неужели ребятишки не дали ему кличку «Значит»?.. Когда я встретил его сегодня на море, хотелось спросить: «Значит, пятнадцать детей?..» — Лера засмеялась, прикрыла ладонями лицо, Сватеев выждал, глянул в ее завлажневшие глаза. — Сейчас мне будет легче философствовать. Значит, так: девочка училась в институте, пылко влюбилась, перепуганные родители отговаривали ее. Но кто теперь слушается родителей? Он, студент, или преподаватель, или еще кто-то, через некоторое время оказался не «тем человеком», но деваться-то некуда, надо жить, да и неловко, стыдно… Девочка окончила институт, и вот (чаще всего в этот момент) происходит разрыв: не «тот человек» оказывается еще и подлецом: он ничего не делает, чтобы жену, пока еще незаконную, оставили в городе, и с нею, конечно, ехать не собирается. Девочка не хочет дышать одним воздухом с ним, оставляет родителей, ребенка, берет направление вот сюда, в глушь, дыру, Тмутаракань… — Сватеев хочет глянуть в глаза Леры, но она смотрела в стол, чуть отвернувшись, подперев ладонью щеку. — Все. Извините мне эту шутку. Так, для разговора…
Лера медленно покачала головой, как бы раздумывая, мелькнули складочки около губ.
— Все почти точно. Только ребеночка нету.
— Ну… И то хорошо.
— Как сказать…
— Да, ребеночек мог бы и не отпустить… А теперь на три года?
— Буду учить истории народность, не помнящую своей истории.
— Эвенки способны к математике, все отлично рисуют. Вы это увидите. А история… Вот и поможете им вспомнить.
Лера поднялась, прошла к окну, минуту стояла, глядела на колыхание хвойных ветвей.
— Знаете, кто вы? — вдруг сказала она. — Вы — представитель.
Сватеев приподнял плечи, слегка нахмурился, показывая, что очень удивлен.
— Антипкина сказала: «Обманывает он, что в отпуск приехал. Кто это сюда ездит в отпуск-то? Да и не жил он тута вовсе. Такой солидный, да чтоб тута… В жисть не поверю. Представитель, как пить дать. Все спрашивает, допытывается, интересуется. А сам из Москвы… Елькина пытала, да тот, леший, не выдаст, на подмогу надеется. А он хитро, от виноватого действует, потом в сельсовет… В контору пока не заходил… А главный здесь кто? Председатель колхоза. Ой, боюсь я чего-то…»
Лера еще говорила, а Сватеев, не выдержав, захохотал, вскочил, подошел к окну, взял руку Леры, пожал.
— Спасибо! Давно так не смеялся. Как на концерте Райкина. Вы так изобразили Антипкину, у вас талант! Кстати, где же она сама?
— Гипертония, говорит, нельзя употреблять. И стесняется вас.
Вернулись к столу, выпили по глотку коньяку, Сватеев предложил доесть мясо.
— Мохом, хвоей пахнет, правда?
— Может быть. Но вкусно, — кивнула Лера.
Сватеев раскурил сигарету, припомнил монолог Антипкиной.
— Остаться мне представителем или обрести собственное лицо?
— Обрести, конечно. Только честно, Алексей Павлович, вот до капельки. — Лера показала на крашеный ноготок мизинца. — Фантазий лучше не надо.
От коньяка, мяса, разговора ее глаза засинели, сделались большими, чуть отчаянными, и совсем исчезли горькие складочки около губ. Она не скрывала своего любопытства — женского, всегдашнего, неодолимого, — приготовилась слушать, как ребенок интересную, страшноватую сказку. Однако и легонькая усмешка вдруг трогала ее губы: ведь все равно присочинит — кто же о себе говорит правду? А глаза твердили: «Буду, буду верить, только говорите!»
— Кто же говорит о себе всю правду? — спросил Сватеев.
Лера откачнулась, словно испугавшись угаданной своей мысли, сказала:
— Ну, половину.
— Нет, я не то хотел сказать: кто знает о себе всю правду?
— Ой, это философия. Так мы никогда не договоримся.
— Ладно, правду, только одну правду… У вас нет Библии, я бы положил на нее руку? Жаль. Итак…
Сватеев начал неспешно, как бы вспоминая. Родился он в двадцать пятом году, в Москве, на Большой Садовой, в той комнате, в которой живет и сейчас. Когда ему было пять лет, родители, оба учителя, добровольно поехали осваивать Север, выбрали этот поселок. Отец стал директором первой здесь культбазы, мать преподавала физику и математику в семилетке. («Она была чуть постарше вас, Лера».) Поехали на два-три года, прожили десять лет. Здесь родилась его сестренка, здесь он окончил семь классов. В сороковом, перед войной, вернулись в Москву. Отец погиб в сорок третьем. Потом и сам он попал на фронт. Воевал. Дважды побывал в госпитале. В сорок восьмом демобилизовался и поступил в радиотехнический институт. Окончил, стал работать, женился, родилась дочь, теперь она в институте… Развелся…
— И вот приехал посмотреть место, где я был счастливым. Нет, не то слово. Лучше так: нигде, никогда мне не было так хорошо.
Сватеев задымил сигаретой, опустил голову, чтобы не видеть глаз Леры (казалось почему-то, что они у нее грустные-прегрустные), она тоже потянулась за сигаретой.
— Это правда, — сказала Лера. — Но… ведь это биография, кроме последних слов. Если можете…
— Скучная история, обычная по теперешним временам… Жили, дочь росла. Я ходил на свой завод, она на фабрику — художница по росписям тканей, встречались вечером, смотрели телевизор, иногда — в кино. Летом, конечно и во что бы то ни стало, Крым, Кавказ. И годы, годы так… Дочь поступила в институт, мы стали ей почти не нужны, порвалась последняя веревочка… У вас, Лера, хоть страсти кипели, громкие слова говорились, слезы, презрение… У нас и этого не было. Просто развелись, когда надоели друг другу. Разведенные, жили еще два года в одной квартире. Это я называю «Развод по-русски». Потом она сказала, что познакомилась с хорошим человеком (ей ведь всего сорок), я перекочевал к матери, «на круги своя». Да и больна, одинока уж очень она была. Сестрица далеко, в Черемушках, некогда — работа, дети, муж… Этой весной похоронил маму. И впервые стал совершенно свободным. Даже в Крым можно было не ехать. Вот и собрался сюда, в молодость родителей, в свое детство. Как бы им в память. Все последнее время мама вспоминала Сутим, людей тогдашних, учеников, послала письмо на школу, не ответили… да и мне… все снился поселок — то тем, прежним, то новым, невиданным, с городскими домами. А раз привиделся застроенным стеклянными коробками, как в Москве на Калининском проспекте.
— Кто-нибудь же есть у вас?..
— Да. Подруга.
— Вы инженер?
— Радио. В конструкторском.
— Что выпускаете?
— Все — от транзисторов до утюгов.
— Нравится вам работа?
— Лера, что с вами? Вы ведь не следователь по особо тяжким уголовным делам?
Она вскинула голову, глянула с удивлением на Сватеева, будто очнувшись, и рассмеялась.
— Вот, душа у меня — таблица умножения. Меня никогда не будут любить мужчины, правда?
— Не знаю, я с ними мало знаком.
Лера опять засмеялась, спросила, вкусен ли столичный шоколад, отломила кусочек, нахмурилась, собираясь, видимо, продолжить допрос, но за окном послышалось гудение, быстро усилилось, перейдя в хлопки и треск мотора, и над лиственницами, косо завалившись, проплыл АН-2. Дом, стекла задрожали, загудели, отзываясь на рев мотора, а через минуту-две вновь наплыла прозрачной глыбой тишина — на мари, тайгу, поселок: самолет приземлился.
— О работе, — сказал негромко Сватеев. — Увидел сейчас «Аннушку», подумал: ведь и она не летает без рации. На автомобилях, кораблях рации. У космонавтов. Еще транзисторы. Без радио теперь пастух оленей не пасет. А работа… Схемы, блоки, контуры, системы… Иногда гляну на человека — и четко вижу его конструкцию, подсчитываю детали… Любить надо женщину, а не работу. Да и то не каждый может. Надо просто работать, хорошо работать.
— У вас склонность к философии.
— Верное — к старости. Может, пройдемся по главной улице, подышим туманцем? Только туфельки снимите, что-нибудь попроще. Да, вот эти резиновые сапожки — для здешнего Бродвея. И плащ.
Вышли, по узеньким доскам тротуара пошли вниз, к Сутиму. Из-за леска, от аэродрома, двигались пассажиры — с тяжелыми чемоданами, сетками, туго набитыми яблоками, помидорами, зелеными огурцами. Их встречали шумно, празднично: отпускники возвращались домой. В сторону леска протрещал мотоцикл с коляской — единственный моторный транспорт в поселке, — начальник почтового отделения поехал за свежей почтой.
Бежали к самолету припоздавшие мальчишки, русские и эвенки.
— Цивилизация, — сказал Сватеев. — Разве тогда мечтали об этом?.. Письма два раза в год приходили. Радист Колька Клок и моторист Мишка Бляхман богами были: им удавалось, не всегда правда, передавать телеграммы на «материк».
— Тогда-то и полюбили радио?
— Угадали. Вы проницательная девушка.
— Не называйте меня девушкой. Не люблю этого слова. Девушка — не человек. По крайней мере, за ней не признается право быть человеком: так, привлекательный товарец. Да и не пили бы вы коньяк с девушкой. Лучше уж — гражданочка.
Осторожно взяв под руку, Сватеев слегка прижал ее локоть, как бы прося прощения.
— Трудно вам будет с таким характером.
— Ничего, приспособлюсь.
Прошли мимо больницы, бывшего дома культбазы; за школой, чуть на отшибе, стоял небольшой домик с запустелым двором, из раскрытой двери слышалась громкая музыка.
— Квартира завуча, — кивнула Лера.
Словно услышав ее негромкий голос, на крыльце появился хозяин, радостно улыбаясь, покачиваясь, немо замахал руками, горячо приглашая в дом. Был он в пиджаке, сорочке и галстуке, но небритый, выглядел пожилым, хотя и чувствовалось, что ему не больше тридцати пяти.
— Нет, нет! Спасибо! — сказала Лера и потянула Сватеева за угол школы. — Знаете, как он меня встретил? — придержала она его, когда дом завуча стал не виден. — Предложил свою квартиру, а для начала провел ладонью по спине.
— Обидел…
— Ничуть. Сразу поняла его: он по старой привычке это. Сейчас у него «одна, но пламенная страсть»: бутылочка.
— А директор кто?
— Не видела. В отпуске. Хвалят — серьезный и прибавляют при этом: пенсию зарабатывает.
— Вы не злитесь, Лера?
— Нет, Алексей Павлович, что знаю — то говорю… А вот как с «литераторшей» познакомилась. Живет там, за конторой. Прихожу — посылочный ящик гвоздями заколачивает, рядом еще два, набитые рыбой. Ну, думаю, некстати появилась. Представилась все же. Едва глянула, буркнула: «Зима впереди, голубушка, и намилуемся, и наругаемся». Выбежала от нее, в сенях ведро какое-то зацепила, чуть не упала. «Тьфу! — на твои поцелуи, ведьма!» А после поняла ее слова: «Прилетела еще одна птичка. Посмотрим, сколько здесь прочирикаешь?»
— Раньше сюда подвижники приезжали, строить, учить. Каждого учителя и учительницу я помню. Теперь Сутим — вроде ссылки.
— И приют беглецам.
Слева и справа одной широкой улицей тянулись в сторону моря дома. Старые, подновленные и совсем новые. Крытые позеленевшим тесом, дранкой, толью. Сватеев всматривался в стены, окна, вспоминал, рассказывал, где и кто жил. В этом, продолговатом, как бы прилегшем на бок, жила большая семья Смирновых, отец работал плотником, у них была корова, едва ли не первая в поселке, огород под капусту и картошку, и все семейство работало, трудилось. Алешка приходил к ним — и его заставляли что-нибудь делать, он научился косить траву, запрягать лошадь, увидел, как закалывают, палят на костре, разделывают откормленных кабанов; Смирновы пережили в Сутиме войну, потом рассеялись… Там вон, на пустыре, стоял домик фельдшера Шохина, беленького, маленького старичка; чем и как он лечил больных — неизвестно, однако все у него выздоравливали, лечил оленей, коров, собак и лишь один раз не смог. Андрюшка Шестопалов объелся зеленой дикой смородиной и умер. Хоронили всем поселком, рыданий, горя было столько, что и сейчас жутко вспоминать — первая смерть среди приезжих. Фельдшер Шохин вскоре уехал, сказав вроде бы, что хочет умереть на родимой земле… А вот хибарка Елькина, таких хибарок за свою жизнь по разным здешним поселкам он настроил сотни полторы, они давно уже не в цене, их называют «елькинскими», но сам другого жилья не признает. Рядом опрятный, трехоконный домик Полуяновой…
— Говорят: Леди Макбет сутимская? — негромко спросила Лера.
— Да… Одичала теперь, одинокая.
— И я через тридцать лет…
Сватеев усмехнулся, тихонько толкнул Леру плечом.
— Проживите для начала хотя бы три месяца.
По широким доскам тротуара, проложенным через марь, вышли к рыбозаводу.
На песчаной косе в устье Сутима возвышалась деревянная пристань, к ней примыкал длинный цех, крытый новым шифером, другой, покороче, с совершенно глухими стенами, пристроен сбоку. Заводик был маленький, аккуратный, внутри постукивали вагонетки, жужжала электрическая лебедка. Резчицы, больше эвенкийки, стоя у настила, молча и ловко потрошили кету. Остро, морскими водорослями пахла только что пойманная рыба. Из холодильников, напичканных льдом, веяло зимней стылостью.
Как было знакомо, как не позабылось все это Сватееву! Даже плеск воды в желобах, даже вскрики чаек над крышей. И лица резчиц, чуть сонные, восковые, клеенчатые фартуки, белые перчатки, казалось, были теми же. А воздух, напитанный испарениями рыбы, соли, морской и речной воды, железа, мокрого дерева (без привычки, пожалуй, и нос зажмешь), Сватеев втягивал жадно, расширив ноздри, как изголодавшийся при виде изобильной пищи. На минуту ему почудилось: вот он вернулся туда, за тридцать лет, в детство, надо лишь удержать в себе это ощущение, напрячь всего себя, и время отступит… И тогда… Тогда вон из тех ржавых дверей выйдет, припадая на левую ногу, простреленную японцами, засольный мастер Шеремент, узнает Алешку Сватеева, сморщит от радости широкое коричневое лицо…
Открылись ржавые двери, из полутьмы холодильника появилась женщина, невысокая, плотная, в белом халате поверх телогрейки, резиновых сапогах и шерстяном платке. Прижмурившись от дневного света, она оглядела плот, заметила Сватеева и Леру, подошла, сняла варежку, пожала им руки, спросила, как нравится завод, рыба, работа, и при этом все щурилась, приглядываясь к Сватееву (с Лерой она уже была знакома), предложила взять «кетинку на жареху», сама выбрала — чистую, выпотрошенную, продела под жабры обрывок шпагата, завязала концы, подала Сватееву: «чтобы не испачкались». Попросила подождать, вышла во двор рыбозавода, вернулась, подала Лере сверток в пергаментной бумаге. «Икра», — догадался Сватеев. И наконец улыбнулась, словно бы сделав все, что сумела, для очень уважаемых ею людей.
— Не много ли? — указал на рыбу и пакет Сватеев.
— Это для вас-то? — Женщина окинула неспешным взглядом Сватеева, что могло означать: «Посмотрите, какой вы большой!» И тут же вполне серьезно проговорила: — Вам памятник надо поставить в Сутиме. Первому приехавшему…
Шли через марь по доскам, молчали. С моря дуло стылым туманом, начинался вечерний прилив, сопки хмурились сумерками. Было грустно, одиноко. Не выпадали из памяти последние слова женщины, засольного мастера. Ей, наверное, тоже надо где-то побывать, собраться, съездить, вернуться в прошлое на неделю-две. Но нельзя, почти невозможно. И от этого никогда не заживающей раной болит, поет душа.
А сбоку вышагивает, сутулится в тонком плащике другая, совсем еще молодая женщина, которой некуда и незачем возвращаться, кроме как к маме в Хабаровск. Как она пройдет свою жизнь, с кем, долго ли продержится здесь?.. Сватеев поймал холодную ладонь Леры, спрятал в своей.
Туман затоплял лиственницы, стланик, поселок, все становилось полувидимым, сонным: глохли звуки, голоса, люди прятались, жались к огню, во дворах, свернувшись, дремали собаки с седой моросью на шкурах. И была понятной Сватееву глухая, медлительная, негромкая жизнь северян: кому кричать в этих нехоженых сопках, на что раскрывать широко глаза?
Комната Леры окутала их теплом — сухим, щедро исходящим от беленой печной стенки. Едва они разделись — Лера заставила и Сватеева снять плащ, — в дверях появилась Антипкина, держа на вытянутых руках блюдо сияя румяным кухонным лицом, наговаривая:
— Печку вам истопила, холодно, думаю, пусть погреются, рябчиков приготовила, хорошие, жирные, покушайте, долгонько чтой-то прогуливались, грейтесь, кушайте, беседуйте, Лерочке скучно одной, какие здесь кавалеры, пьянчужки больше, вот, чайку потом принесу, может, водочку будете имеется у меня в запасе…
Сватеев отступил, Антипкина прошествовала к столу установила посередине блюдо — стол был чист, пустая бутылка убрана, — поклонилась, как самым дорогим гостям, Лере и Сватееву и, продолжая говорить, — слова у нее лились легко, беспрерывно, — удалилась в коридор.
Сватеев растерянно, даже ошеломленно уставился на закрытую дверь.
— Не сердитесь, — сказала Лера. — Женщины делятся на две категории: сводниц и разводниц. Безразличных не бывает: — Она взяла зеркальце, потрепала взмокшие от тумана волосы и шепотом, как о тайне, спросила: — А коньяк у вас есть?
Сватеев кивнул, поднимаясь. Лера тоже кивнула.
— Встречаемся через двадцать минут.
Из своей комнаты, пустой, истопленной, он увидел: она тихо шла по узеньким досочкам к тесовому строению с черными буквами «М» и «Ж». Отвернулся, почувствовав, как кровь обожгла лицо. Строение на две половины… Грязь, щели. Съедутся дети… Неужели нельзя построить отдельное, для учителей?.. Надо попросить, умолить Севрюгина, усовестить, сказать: «Ведь ты же с женой не ходишь сюда, у вас во дворе своя, персональная…» Сел спиной к окну, положил на колени локти. Сердце билось часто, слышно. Усталость тяжелила плечи и ноги.
Не хотелось вставать, двигаться. Не хотелось идти к Лере. Ведь почти наверняка она пригласила его, чтобы спасти от скуки, одиночества. Да и сама одинока здесь. Но он уедет, а Лера останется… Полдня сегодня бродили вместе. Глупо. Еще глупее идти на вечеринку к молоденькой женщине. У него дочь почти в таком возрасте. Хотя… почему бы и не пойти? Ведь ему от Леры ничего не надо, он достаточно владеет собой. Или просто трусит? Боится себя, боится Леру? Характер у нее жестковатый, как бы постоянно видимый, плотной оболочкой укрывающий ее. Тем более можно пойти. Почему же ему все-таки не хочется?
Вернуться бы в Москву — сейчас, немедленно. В свою комнату, на завод, в грохот, шум, суету улиц. Он ехал в свое детство отдохнуть, затеряться, и даже не выбился из привычного ритма… Может быть, правы Сема и Сюрелла Зворыгины: надо сидеть дома, углубляться в свою сущность. Все в тебе. За пределом твоего «я» — такие же, подобные тебе «я», и копаться в их душах — все равно что копаться в чужом белье… Но никогда он не мог заниматься лишь собой. По натуре он, наверное, общественный индивид. Вот и здесь, только сошел с самолета — и влез в чужие заботы.
Сватеев поднял голову. Возле него стояла Лера, от нее веяло духами, свежестью. Она коснулась его плеча, сказала:
— Алексей Павлович, вы уснули или загрустили? А я ждала вас, ждала… Пойдемте. — Она взяла с тумбочки бутылку, лимон, слегка потянула его за локоть. — И холодно здесь. А рябчики? Нет, я разрыдаюсь…
Встал Сватеев, пошел за Лерой. В коридоре вспомнил, что не мешало бы выйти во двор, умыться, вернулся, взял полотенце, мыло и, когда, сменив рубашку, пришел к Лере, не чувствовал уже себя усталым, и легкость, так необходимая для общения, вновь оживила его. А увидев под яркой электрической лампочкой стол с горячей картошкой — что в Сутиме сущий деликатес, — малосольной розовой кетой и, конечно, рябчиками, он восторженно вскинул руки:
— Ресторан первого класса! — И рассказал про токаря Альку Торопыгу, который зовет его на «Седьмое небо». — Вот бы где Альку накормить!
Лера засмеялась, взяла Сватеева под руку, усадила к теплой печной стенке.
«Боже, — припомнилось чье-то изречение. — Чего хочет женщина, того хочет бог».
И потянулся вечер — теплый, неторопливый. Говорилось легко, и шутки были смешными. Лера вспомнила «не того человека» — своего бывшего мужа Самыцкого. Он читал лекции по истории литературы, сам сочинял повести и романы, в которых герои, непременно сильные личности, достигали благородных целей, невзирая на мельтешивших вокруг посредственностей. Герои имели личные автомобили, обедали в ресторанах, отдыхали на южных курортах, любили красивых умных женщин. Кое-что Самыцкому удавалось напечатать, и студенты долго потом перебрасывались фразами из его произведения: «Он нанес скользящий удар по смугловатой физиономии», «Дорогая, алкоголь нарушает гормоны», «Она уничтожила его резким взглядом невинных глаз». Самыцкий считал себя тоже сильной личностью. Потому, наверное, подойдя однажды к Лере, прямо сказал: «Я люблю вас, девушка» (имени он не знал или не захотел назвать по имени). — «Для очередного романа?» — спросила Лера. «С романами кончено, не пишу больше. Понял: божьей искры нету. Вы мне помогли… Да, да, не смейтесь. Психологический шок, затем прозрение… Я вас люблю». Посмеялась Лера, вежливо отговорилась, убежала. Но преподаватель истории литературы принялся ухаживать и проявил много находчивости, выдержки, даже такта. Его настойчивости можно было изумляться — ухаживал так, будто для этого, главного своего дела, появился на свет. Родителей очаровал, подруг задобрил вниманием и конфетами, на читательской конференции разнес свою «поверхностную, надуманную прозу». Пришлось полюбить Самыцкого, выйти за него замуж.
— Да, пришлось, не удивляйтесь. Это гипноз особого рода… Когда все, с кем ни заговоришь, кого ни встретишь, решили твою судьбу. Внутренне, как бы для самих себя, но окончательно. А ты один, и этот ты — просто девчонка, каких «сто тысяч других в России». И тебе уже нельзя, запрещено обмануть всех, близких и дальних.
— Бывает… — согласился Сватеев.
— Прожила я с Самыцким два года, но не узнала его. Ни чуть-чуть. Душа у него глубоко спрятана в здоровом спортивном теле. Спортом и занимались — лыжами, коньками, байдарками. И вдруг читаю новую повесть муженька — полный отчет о нашей любви и жизни. Как знакомился и обманул, что не будет сочинять, как увлек меня спортом, обещал спасти от распределения (я боялась того распределения) и даже как уговорил меня «не порабощаться ребенком». Моего возмущения Самыцкий не понял, сказал: «Только так можно максимально приблизиться к действительности, прозу надо сначала прожить». А когда ушла — обиделся, начал было снова ухаживать.
— Вы говорите — душа. Видна же его вся душа.
— Душа ли это? Может, у него и вовсе нет таковой, не пробилась на свет. Если есть она — и собака ее чувствует… Вот у вас душа, мне кажется, только рубашкой прикрыта. У меня еще и во плоти. Как у Самыцкого спряталась. С вами, сегодня, немножко ожила, а то ведь я ее почти и не чувствовала. Одно хорошо — научусь собой распоряжаться. — Лера посмотрела на примолкшего Сватеева, усмехнулась, тронула пластиковый стаканчик. — Давайте переменим тему.
В полночь погас свет — электростанция отключила поселок, так полагалось по местным правилам, — проступила за окном пустынная улица, уснули домишки, лишь где-то далеко, на плоту, вдруг возникали звуки, голоса: рыбаки сдавали вечерний улов.
Лера зажгла керосиновую лампу, пронесла ее впереди себя, поставила на тумбочку возле кровати, склонилась к зеркалу. Сватеев счел это за намек пора расставаться, поднялся. Глянув на него, Лера выпрямилась, минуту стояла, словно ожидая его ухода, потом быстро подошла к нему сказала:
— Останьтесь, если хотите.
Сватеев не видел ее лица, глаз, губ — позади нее светила лампа, — и ему показалось, что Лера шутит, испытывает его «на прочность», стоит ему согласиться, как она сведет все к шутке, анекдоту, чтобы потом вспоминать, посмеиваться, рассказывать подругам… Он ждал ее смеха, но она молчала, каменно занемев, и Сватеев, чувствуя, что это невыносимо глупо, спросил:
— А вы?
— Я еще насижусь одна, — не удивилась его вопросу Лера. — А потом… — Ее голос прервался, зазвучал почти шепотом: — …У вас ведь была здесь первая любовь… Ну, вообразите, что вы вернулись в юность… Тамара ее звали?
Сватеев не мог ничего сказать, только смотрел на Леру, стараясь угадать выражение ее лица.
— Не удивляйтесь: Полуянова не такая уж молчунья.
— Вижу.
Теперь Лера смеялась, это чувствовал Сватеев.
— Как-то все не по правилам, да? — Она приблизилась, чуть подняла голову. — Надо как в романах: ухаживания, вздохи. — Она положила ему на плечи руки. — Поглядите мне в глаза. — Он глянул — глаза были полны слез. — И этого не ожидали?
— Да… — кивнул он, возвращаясь из полуотсутствия в явь.
Лера прикрутила в лампе фитиль, Сватеев разделся, лег. Кровать была узкая, но нормальной длины, простыни не пахли интернатской хлоркой, подушка мягко вдавилась — пуховая, «мамина». Об этом подумал и сразу забыл Сватеев, следя за Лерой: она ходила по комнате, вдруг став растерянной, медленно раздевалась, потом набросила халат, подошла, села на край кровати.
— Надо успокоиться. — Зябко сомкнула плечи. — Как-то сразу ослабела.
Сватеев обнял ее, наклонил к себе, целовал, едва касаясь губами ее губ, она смежила глаза, вяло покачивалась, будто в дремоте, проговорила медленно, точно втолковывая себе:
— Как без ванны?.. Какая я Тамара?
Поднялась, сказала:
— Я сейчас. Схожу к Антипкиной. Три минутки.
Вернулась, погасила лампу, сбросила халат, постояла, глянцевая, в сером ночном свете и, словно окончательно освободившись от себя обычной, дневной, подошла к кровати.
Вздрагивая, постукивая зубами, Лера грелась, и тело ее чудилось Сватееву, было тоже «с характером», ему надо понравиться отдельно, не менее серьезно, иначе оно останется чужим, холодным… Понемногу оно отходило, теплело, а вот уже стало горячим и легким, прильнуло к Сватееву как бы пугаясь своей легкости, ненужной пустоты.
Засыпая, Сватеев ощущал лишь тепло, сияние тепла, и над кроватью белел просторный лунный свет, обволакивая, колыхая его. Не было ничего, кроме тепла, детской сонной истомы, — ни дум, ни видений.
Проснулся, вдруг почувствовав себя затерянным, одиноким: развеялось беспамятство, исчезло тепло. Не открывая глаз, понял: Леры в комнате нет.
Встал, вышел во двор. Светилось чистое, холодное, росистое утро — редкое здесь. Почти как в Подмосковье. Только лиственницы, сплошные лиственницы и стланик, да острый багульниковый запах.
Распахнулось окно кухни, Антипкина положила на подоконник тяжелую грудь, пропела ласковенько «Доброе утречко вам!» и, оглядев двор — нет ли кого еще? — прибавила тоном кумушки, исполняющей тайную службу:
— На речку убежала, обещалась скоро вернуться.
Из-за угла интерната, мягко постукивая, выкатилась подвода с бочкой на телеге, серую лошадку вел под уздцы завхоз Севрюгин. В бочке подпрыгивал ведерный ковш на длинной рукояти, через края выплескивалась вода. Увидев Сватеева, завхоз ткнул кулаком в морду лошади, проворчал незло:
— Молодая, ретивая больно.
— А что, водовоза нет? — спросил Сватеев.
— В отпуску. Значит, самому приходится. Без воды и ни туды, и ни сюды.
Пока Севрюгин работал ковшом, возле подводы собрались его сыновья — шесть разного калибра Севрюгиных, в пиджачках, подпоясанных ремешками, в резиновых великоватых сапогах, с непокрытыми чубатыми головами. Каждый держал в руках мешок, топор или веревку; лишь самый маленький и серьезный стоял, вложив руки в карманы брюк. Все, разноголосо, сказали Сватееву: «Здравствуйте, дядя».
Вода текла по желобу сквозь стену и где-то в кухне падала на дно пустой бочки, журчала и ухала. Сватеев попросил завхоза: «Ну-ка, плесни на меня», наклонился. Севрюгин опрокинул полный ковш ему на спину и голову, захохотал, а Сватеев, отпрыгнув, принялся растирать себя полотенцем. Тоненько повизгивая, смеялась в окне Антипкина, приговаривала: «Ой, отчаянный!» Улыбались, показывая крепкие белые зубы, маленькие севрюжата.
Завхоз сбросил пустую бочку на землю, дал знак, и его сыновья облепили со всех сторон телегу.
— За уловом поедем, на лайду.
Сватеев провел ладонью по упругому, лоснящемуся крупу лошади, втянул запах пота, — припомнилась выкатка бревен на берег: мальчишек сажали на рабочих коней, без седел, и они гоняли их от воды до штабелей. Таким же он был, Алешка Сватеев, как этот старшенький севрюжонок, Ванятка. Завхоз вспрыгнул на край телеги, подобрал вожжи. Ребята все еще посмеивались, глядя на московского дядю.
— Чем ты их кормишь? — спросил Сватеев. — Они у тебя будто орешки из добротной шишки.
— Рыбой, хлебом, картошкой, когда есть, — ответил вполне серьезно Севрюгин, стеганул концом вожжей лошадку, затарахтел к поселковой улице.
Правильно: рыбой, хлебом, этим же питался и Алешка Сватеев, когда жил здесь. Картошка в те времена была вовсе в диковинку, а мясо ели зимой: колхоз забивал оленей с наступлением холодов, летом они худые, линяют.
Прошел до леса, вернулся, сел на скамейку у двери. И понял: все эти полчаса, с минуты, когда проснулся и вышел во двор, он помнил, думал о Лере. Как они встретятся? Ведь «утро вечера мудренее». О чем будут говорить? А если им станет неловко? Ведь случалось такое у Сватеева, было. Хотелось исчезнуть, провалиться… Горечь та до сих пор не позабылась. И вдруг прибавится к ней эта, новая?
Лера появилась на тропинке, совсем не в той стороне, откуда ждал ее Сватеев, — возвращалась от речки лесом, и, наверное, раньше увидела его, потому что улыбалась, прятала в кармашек халата мокрый купальник. Шла на его взгляд, и шла спокойно — ни смущения, ни стеснительности, мокрые волосы свешивались до плеч, босоножки, ноги до колен были облеплены желтой лиственничной хвоей. Она смотрела только на него, радовалась ему, и Сватеев, отбросив папиросу, поднялся: легкость, тепло вернулось к нему. Он шагнул навстречу Лере, стиснул ее холодную ладонь повел в комнату. Здесь было прибрано — подметен пол, застелена кровать; на столе сиял горячий чайник, чашки, печенье и масло, из глиняного кувшина росла свежая стланиковая ветка с двумя большими коричневыми шишками, пахло смолой. Сватеев подвел Леру к столу, все еще держа за руку.
— Отпустите, — сказала она и засмеялась. — Не убегу. У меня же пальцы занемели.
Пили чай, присматривались друг к другу, словно не веря тому, что с ними случилось, а когда их взгляды встречались, — улыбка, как бы сама по себе, трогала губы исчезала, не оставляя смущения, неловкости.
— Лера, кто может расстаться с такой, как вы?
— Нашелся один…
— Сильная личность… или глупая.
— Ну, Алексей Павлович… Мужчины же умными делаются через тридцать лет. У них глаза другие вырастают.
— А женщины?
— Что женщины… — Лера медленно покачала головой. — Даже самая умная — все равно баба.
— Если говорит историк…
— То, значит, правда.
— Вас это обижает?
— Ничуть. Лишь бы повелитель мне нравился. Я ведь не хочу быть свободной от самой себя. Это необходимо мужчинам.
Сватеев, глядя на Леру, усмехаясь ее улыбке и словам, накинул пиджак, взял плащ, спросил:
— Вы пойдете со мной?
— Нет. Помогу Антипкиной. Приходите обедать.
Шагал Сватеев через лиственничный лесок, дышал прохладой, смотрел на синие озера за Сутимом, видел дома поселка с мокрыми тесовыми крышами, кивал женщинам и ребятишкам, говорившим ему «Здравствуйте», и думал о Лере: «Кто она?»
Сватеев не был ни повесой, ни женолюбом, а к слову «бабник» он подобрал синоним — «козел» и старался не пожимать таковым руку: чудилось, что от них нехорошо попахивает. Женщина для него — мать, сестра, дочь. Этого чувства, рожденного в нем неизвестно когда, он не мог преодолеть, живя с женой, навещая потом одинокую, добрую к нему однокурсницу, знакомую еще по институту (он не смел, не хотел назвать ее любовницей). И всякий раз Сватееву делалось стыдно за свое влечение, он винил «буйство плоти», считал, что может прожить без женщины, и с годами пришел к мысли: секс — наслаждение для примитивных, потому что более доступен, чем наука, искусство, мир, природа. Это почти то же, что наслаждение самим собой, эгоизм худшего свойства. Лучше уж сюрреализм Зворыгиных с их самоуглублением, дикими пятнами и фигурами на полотне, бездетностью, затворничеством, папиросами и нескончаемыми разговорами. Есть же главное, вечное у человека — работа, делающая его жизнь разумной.
И вот Сутим, вчерашний вечер, ночь, утро… И ни горечи, ни сожаления. Более того, стоило Сватееву подумать: «А что если бы всего этого не случилось?» — как легкий жар испуга ударил ему в голову. Лера была за гранью матери, сестры, дочери…
Очнулся Сватеев у порога конторы, вспомнил, что сюда-то он и шел, чтобы познакомиться с председателем колхоза, открыл дверь, шагнул в просторный, беленый коридор. На стенах висели плакаты, призывы, стенгазета «Заря коммунизма» с карикатурами на пьяниц, доска Почета с фотографиями передовиков. Налево табличка «Бухгалтерия», направо — «Приемная». Было тихо, лишь в приемной пощелкивала пишущая машинка. Сватеев осторожно толкнул дверь, остановился.
— Доброе утро.
Вполне современная крашеная блондинка подняла черные клееные ресницы, внимательно оглядела его, поправляя на плечиках мохеровый шарф, догадалась, видимо, кто он (в поселке-то, как и полагается, действовал беспроволочный телефон), спросила:
— Вам к Василию Тимофеевичу?
Сватеев подтвердил, увидев за спиной секретарши дверь с крупной табличкой «Колгуев В. Т.».
— Сейчас доложу.
Она выпрямилась, прогнулась в талии, показав модную коротенькую юбочку, голубые сапожки, почти неслышно удалилась за дверь. «Потрясающе! — подумал Сватеев. — Кто их штампует, секретарш?» Сколько он видел таких в Москве, да и у него на заводе в приемной директора — копия этой, только чернявая, с искусственной седой прядью. Они не стареют, не толстеют, не выходят замуж… Сколько их по стране? А в мире? Целый класс учрежденческих девиц. Теперь появились стюардессы — те совсем уж почти неотличимы друг от друга.
— Прошу, — сказала секретарша и так близко пропустила мимо себя Сватеева, что он уловил запах дорогих духов, свежей синтетики.
В широком кабинете, устланном ковровыми дорожками, размещался стол буквой «Т», покрытый едким зеленым сукном, слева — коричневый, под дерево, сейф; справа на тумбочке — тяжелый, послевоенного выпуска приемник. Во главе стола, между двумя белыми телефонами, сидел в ярком свете из окон одутловатый маленький человек с темной аккуратной прической «на пробор», в сорочке, галстуке. Он поднялся, мало прибавив себе роста, но с места не двинулся, протянул через стол руку. Сватеев пожал мягкую, такую же «одутловатую», как и ее хозяин, ладонь, назвал себя.
— Как же, как же. Прошу. Слыхали, — проговорил Колгуев спокойным хрипловатым баском, приглядываясь густо-карими, привыкшими к постоянной строгости глазами, жестом предлагая стул. — Курите? Прошу. Нет? Да что же это делается с мужиками? Женщины все больше к папироске тянутся, а мужички… Слабеет наш род, должно быть?
— Я хотел сказать: у вас не курят.
Сватеев показал на вывеску за спиной Колгуева — крупными буквами на куске картона было написано: «Прошу не курить!»
— Это для бригадиров. Им разреши — так они тебя насквозь прокоптят. Прошу. — Он пододвинул коробку «Казбека», пришлось взять, хотя Сватеев и не курил папирос. — Другое дело. От мужика должно дымком попахивать.
— И водочкой, говорят некоторые.
— Э, нет. Водочкой только по праздникам.
Колгуев засмеялся сдержанно, как бы боясь пересмеяться, а взгляд не спускал с собеседника, и Сватеев заметил: глаза у него почти неподвижны, не меняются, словно существуют отдельно или выполняют приказ хозяина: «Вы следите, берите на заметку, все другое вас не касается». Подумалось о нем: наверняка из бывших начальников, послан в Сутим поднять хозяйство, а если проштрафился, и самому заодно исправиться.
— Давно здесь? — спросил Сватеев.
— Второй год.
— Откуда сами?
— Из района.
— Как хозяйство, нравится?
— Хорошо, успешно трудимся. Да вы же были на рыбозаводе, по поселку гуляли. Интересовались. Вот, — Колгуев повернулся к стене, где был вывешен график с черными и белыми кубиками, фамилиями рыбаков. — План лова кеты выполняем побригадно и по колхозу в целом. Есть передовики, могу назвать фамилии.
— Что вы, я ведь просто так, вообще…
— Зачем вообще? Конкретно давайте.
— Да ведь я не инспектор.
— Не знаю, не знаю. Интересуетесь — отвечаю.
— Вам уже сказали, пожалуй, в Сутиме работали мои отец и мать, здесь прошло мое детство, я приехал посмотреть, вспомнить, отец был первым директором культбазы.
— Может быть. Не спорю. Многие тут перебывали, а фамилии вашего родителя не слышал. Я ведь после войны в районе.
— Ну зачем так строго.
— Служба.
Сватеев глянул в окно: там, за Сутимом, разбросанными, битыми стеклами сияли озера и до самых синих призрачных гор простиралась буро-зеленая топкая марь, по которой, едва видимый, двигался аргиш — караван оленей; он то пропадал за буграми, то резко вписывался в зелень трав, напоминая серого, длинного, безголового дракона. Несчетно раз Сватеев прошел по этой мари: пешком, верхом на олене, зимой на нарте. И вот сейчас, как много лет назад, той же тропой ехали в поселок пастухи за мукой, сахаром, чаем, в контору — отчитаться, погостить у родных и знакомых.
С радостью Сватеев подумал о неизменности, постоянстве: что бы ни случилось в мире, а олени должны ходить по топкой мари, есть мох-ягель, дышать чистым воздухом.
Колгуев проследил за его взглядом, заметил, наверное, аргиш на мари, сказал:
— С оленями у нас тоже хорошо. Успешно трудятся пастухи.
Вспомнился суетливый заводской мастер Никифоров со своей всегдашней поговоркой «Хорошо, прекрасно!». Он был чем-то похож на Колгуева, но лишь чем-то; потому что его слова давно стали всего-навсего поговоркой, пригодной для личного потребления: успокаивали, помогали не терять настроения. Колгуев же наверняка полагал: если постоянно говорить себе и людям «Хорошо, успешно», — так оно и будет. Люди поверят, мобилизуются на трудовые достижения… Конечно, это часть дела. Надо еще держать народ в строгости, повиновении: положено — награжу, положено — взыщу. Хозяином быть. И незачем вовсе бегать по поселку, суетиться на рыбозаводе, выезжать с рыбаками на тони, месить сапогами марь или трястись в седле на вихлявом оленьем горбу. Посиживай себе в кабинете, при галстуке; справа телефон районный, слева — поселковый. Люди на местах, и вся картина жизни и труда — перед глазами.
Сватеев слышал, знал, чувствовал, что дела в колхозе в общем идут и хорошо, и успешно. Но никто из поселян, кроме Антипкиной (даже Елькин), не упомянул о председателе. Будто его вовсе не существовало. Или «не поминай всуе»?.. И все же Сватеев решил слегка задеть самолюбие Колгуева, полагая, что таковое непременно присутствует в нем.
— Василий Тимофеевич, вот вы здесь поживете, поднимете хозяйство, рано или поздно уедете. Хотелось бы вам, чтобы вас в Сутиме не забыли, молодежи, приезжим говорили: столько лет работал здесь председателем такой-то, сделал то-то?
— Вы это куда клоните? — Колгуев остановил глаза на Сватееве.
Вошла секретарша, положила на стол председателя лист с машинописными строчками, медленно повернулась, отмерила ровные, почти неслышные шаги до двери, оставив запах синтетики и духов.
— Вот, — ударил пухлой ладонью по листку Колгуев. — Сводка. Успешно идет лов.
— Лосось в этом году, говорят, не очень… Может подвести в сентябре.
— Ничего. Навагой доберем, на подледном. Наважка нас не подводит.
— А вывоз?
— «Аннушки» возят.
— Дороговато наважка обходится.
— Это нас не касается. Не мы придумали.
— Раньше раз в год человек мог приехать или выехать из Сутима, — Сватеев засмеялся, надеясь, что и Колгуев улыбнется, но председатель лишь для приличия покривил губы. — Теперь навага летает.
— В век технической революции живем.
— И все-таки, Василий Тимофеевич, как с моим вопросом о памяти? Прямо можете ответить? Спрашиваю лично для себя, один на один.
Колгуев глянул в окно, постучал тупыми пальцами по сводке, помыслил.
— Так. Во-первых, общим памятником нам будет построенный в боях коммунизм. Во-вторых, выдающихся народ не забудет.
— Ну зачем выдающихся. Просто хорошо поработавших.
— Что вы предлагаете?
— Предложу. Таких людей надо заносить в вечные списки, хотя бы с кратким описанием сделанного ими. В городе, в поселке. В поселке особенно. Потому что город пишет свою историю, а поселки забывают ее. Что вы на это скажете?
— В принципе согласен.
— Скажу теперь, почему это лично меня касается. Мой отец работал в Сутиме десять лет, был первым директором культбазы, начинал буквально на диком месте. Ребятишек не просто было удержать в интернате, стреляли в него, когда увозил из чумов… Директором школы, первой семилетки, был его товарищ, учитель из Хабаровска, Виктор Степанович Сакенов; в первый год войны он ушел отсюда на фронт. О них старшеклассники частушку сочинили:
Наш Сватеев и Сакенов Победили хэмэкэнов, И теперь шаман Аркез Ходит с бабушкой в ликбез.Конечно, шаман в ликбез не ходил, тут некоторая лакировка действительности, но в поселке бесовских плясок не устраивал, не мутил сородичей против школы и интерната. А насчет хэмэкэнов — правильно: молодые эвенки уже не верили в своих деревянных идолов. Вам не скучно?
Колгуев смотрел в стол, слегка насупив смоляно-черные брови, нежно постукивал кончиками пальцев по стеклу и нельзя было понять: слушает он или думает о своих хозяйственных делах. Однако он сразу отозвался:
— Слушаю. Продолжайте.
— Да, собственно, и все, — сказал Сватеев, чувствуя, что затянул визит. — Отец и Сакенов погибли в один год, в сорок третьем, имели ордена, медали… Кое-кто о них здесь еще помнит, но умрут старики…
— Понятно. Сельсовет должен заниматься, поскольку культбазы ликвидированы.
Сватеев поднял голову — Колгуев смотрел на него густо-коричневым, неподвижным, честным, правдивым взглядом: смотрел как на назойливого, туповатого посетителя, которому надо терпеливо все объяснить и, конечно, не обидеть. Так он, наверное, говорит с нерадивыми бригадирами, с колхозниками. Сватеева обдало жаром: глупо-то, глупо получилось! Приложив ко лбу платок, проговорил:
— Хотел знать ваше мнение…
— А коллектива?
— Что?
— Мнение.
— Правильно. Спасибо. И последнее: что вы думаете о Елькине?
— Ничего не думаю. Частный сектор, оторвался от коллектива, убил человека.
— Да ведь ему семьдесят один.
— И пенсии не заработал.
— Трудовых книжек тогда не было, справки порастерял, может быть, и не брал. Кто думал тогда о пенсиях? Вот и трудится помаленьку. Не побираться же.
— Не знаю, не знаю.
— Кабинет-то ваш его известкой побелен, и в район берут.
Колгуев поднялся, упер кулаки в стол. Сватееву показалось, что сейчас он сорвется на крик, покраснеет, наговорит резких слов, укажет, на дверь. Но ничего подобного не случилось. Колгуев спокойно, даже скучновато пояснил:
— Пенсионными делами занимается райсобес. — И протянул над столом короткую одутловатую ладонь.
Сватеев молча пошел из кабинета. На пороге его остановил хрипловатый басок Колгуева:
— Так данные по колхозу возьмете?
— Не коллекционирую.
— Заходите. Буду рад.
Через приемную, коридор Сватеев прошел почти не помня себя, утираясь платком и зачем-то посвистывая. Сбежал с крыльца, набросил на голову берет, глядя на высокую, еще приливную воду Сутима, решил пройти до берега.
— Стой! — услышал он позади. — Зачем так бежишь?
Со скамейки у стопы конторы поднялся эвенк, одетый по-городскому, по-праздничному: в коричневый дорогой костюм, белую рубашку, галстук; на ногах новые полуботинки. Он пошел к Сватееву, улыбаясь, морща щелки глаз.
— Не узнал? — спросил, подавая руку. — Дорово! Тебя жду.
Что-то давнее, полузабытое очнулось в памяти Сватеева, кольнуло изнутри, он едва не вспомнил фамилию, имя эвенка, но волна схлынула, оставив после себя смущение, при котором человек едва ли что вспомнит, и Сватеев сказал:
— Узнал, да только вот…
— Правильно. Как не узнавать друга, Сеньку Шустикова? Сколько лет корешки были?.. Прихожу утром из Кирина, там олешки наши, говорят: Сватеев приехал. Какой Сватеев, думаю. Старый? Погиб старый, слышали. Значит, ты, думаю, Лешка. В интернат пошел. В конторе, говорят. Вот подождал. Сразу тебя узнал, в окошко посмотрел — ты сидишь там, чуть не крикнул. Только большой стал и седой. Чо так поседел? А я нет, смотри, черный. Зачем уезжал? В тайге белых не бывает, тайга всегда зеленая.
Он засмеялся, взял Сватеева под руку, вывел на доски тротуара.
— Пошли ко мне домой, жинка кушать приготовила, выпьем немножко. Ты ее тоже вспомнишь: Маша, фамилия Корнейчук была. Ждет, тебя хочет посмотреть.
— Пойдем, конечно.
— Я так и знал: друг не может обидеть друга.
Семен Шустиков был навеселе, широкие щеки распылались румянцем, глаза щурились и смеялись, рукой он крепко держал локоть Сватеева. Да, это Сенька, по прозвищу Амака — медведь; прозвали его так не за силу и медвежьи повадки, а за то, что на уроке, в третьем или четвертом классе, когда учительница рассказывала о жизни таежных зверей, он встал и заявил: Амака — священное животное, предок человека, нельзя о нем плохо говорить. И прилипло к нему прозвище. Семен, однако, не шибко разбирался в юморе, колотил каждого, даже девчонок, если его дразнили. А драться он умел, был горяч, заводился, как хороший мотор, с полуоборота. Не раз и Лешке Сватееву перепадало от него: начнут спорить, бороться и обязательно понасуют друг другу шишек-кулаков. Сенька так и говорил: «Кочешь шишка?» Но и дружили, это правда. На рыбалку, охоту, в тайгу за ягодами ходили вместе. Из всех ребят-эвенков Шустиков был для Сватеева не просто одноклассником — еще и товарищем.
— Мои дом, смотри, крыша шиферный. Огород имею, картошка, смотри какая. Лук зеленый растет, на закуску. Корову держал, продал. Доить жинка не хочет, детишки подросли. Молоко не водка, много не попьешь. У меня живот от молока болит.
Дом из листвяжных, гладко оструганных бревен еще не потерял желтизны, сочился блестками смолы — значит не больше года ему, — веранда просторная, узорно застеклена, во дворе поленница дров, три нарты привалены к забору на вешалах в огороде вялится нежно-розовая юкола, из сарайчика, крытого листвяжным корьем, выбежала и закудахтала курица.
— Кур держишь? — спросил Сватеев.
— Как же! Я — хозяин. В войну, после войны чушек держал. Все умею.
Вошли в дом, Семен взял у Сватеева берет и плащ, крикнул в дверь большой комнаты:
— Маша, беги сюда, Лешку смотри!
Появилась женщина, маленькая, но довольно полная, в модном кримпленовом платье, засмущалась, закраснелась, как-то очень по-русски вытерла о фартук руки, протянула ладошку.
— Теперь узнаю, — сказал Сватеев. — Тебя, Маша, дважды сородичи воровали из интерната. Чуть было моего папашу не подстрелили.
— Правильно, точно, — закивала женщина, чисто выговаривая слова. — Проходите, у меня все готово. Спасибо, что не отказались.
— Во-первых, Маша, давай на «ты», как в школе, помнишь? Во-вторых, я и приехал, чтобы вспомнить старое, повидать друзей. Думал уже, один Елькин и задержался здесь.
— Нам куда ехать? Кто в тайге жить будет?
— Знаешь сама, — остановил жену Семен. — В район поедем, конторе сидеть. Город поедем — производство поступать. Все грамотные стали.
Маша засмеялась, махнула рукой на Семена, что, должно быть, означало: «Шибко грамотный, много говорить научился», пропустила вперед Сватеева, а когда он подошел к застланному белой скатертью столу, отодвинула стул, предложила сесть.
В комнате было светло, чисто, пол крашеный, стены беленые, на окнах вышитые занавески, шифоньер с зеркалом, никелированная кровать с пуховыми подушками, комод, этажерка, тумбочка с радиоприемником, на стене — васнецовская «Аленушка» в ширпотребовском исполнении, глянцевый портрет поэта Есенина, фотографии в застекленных рамках.
Все это можно увидеть в любом русском доме, здешнем и где-нибудь в рязанской деревне, и Сватеев подумал о стандартизации, проникающей во все уголки света. Может так и полагается: с шифоньером, комодом, круглым столом и стульями — удобнее, проще, не выпускать же для каждой квартиры особую мебель. Но стремление к похожести сделалось признаком культуры. Во что бы то ни стало как у всех!
— Смотри обстановку, — сказал Семен, открыв дверь в комнату поменьше. — Ребятишки тут живут.
У стен стояли три кровати, напротив окна — стол, рядом с ним — этажерка с книгами, табуретки, сложенная раскладушка, вешалка под ситцевой занавеской. Две черноглазые румяные девочки повернули к открытой двери головы, засмущались, сказали: «Здравствуйте». На коленях у них лежали белые лоскутки, они что-то вышивали.
— Двое еще бегают, мальчишки. Всего — четыре. Хорошо?
— Вполне.
Припомнились чумы эвенков. Пол устлан еловыми, всегда свежими ветками, вдоль стен — оленьи и медвежьи шкуры. Одежда — унты, дохи, шапки — из оленьего, лисьего меха. Каждому гостю кумалан: расшитый цветными нитками, отороченный беличьим мехом коврик. Вся мебель — низенький столик, к которому можно было сесть, подогнув ноги.
— Смотри! — Семен ударил Сватеева по плечу. — Маша умеет угостить!
Медленно повернувшись, Сватеев увидел заставленный закусками стол. В тарелках, мисках, — вяленая и вареная рыба, какой-то консервированный, с красным перцем салат (наверное, для гостя), куриная тушенка «Великая стена», сухая колбаса. В середине стояла «Московская», бутылочка портвейна № 13. И, как положено, у каждого места — тарелочка, вилка, рюмка.
Заметив некоторое удивление Сватеева, Семен радостно воскликнул:
— Она умеет, курсы кончила, директор детсада!
— Заведующая, — поправила Маша.
«А ведь Лера ждет к обеду», — вспомнил, вернее, ужаснулся Сватеев, потому что он не забывал о ней все это время, Лера не просто помнилась, а как бы постоянно ощущалась рядом.
Выпили за встречу. Еще по одной — за хорошее прошлое время. Маша лишь пригубляла, сдерживала Семена, не выпускавшего из руки бутылки, сердилась, отчего у нее слепо сощуривались веки и приоткрывались губы, обнажая ровный белый ряд зубов. («Вот же, всегда у них такие зубы, хоть и не едят овощей и фруктов!») Чтобы немного сдержать Семена, Сватеев начал расспрашивать его о Кирине, где паслось сейчас оленье стадо, а Маша принесла горячее — большую сковороду жареной оленины.
— Поедешь Кирин, а? Давай! — уговаривал, горячился Семен. — Шустиков — бригадир, хозяин, все покажет. Олешек посмотришь, рыбку половим. Икры тебе наготовим. Кета хорошо речке идет.
— Куда мне! После седла ходить потом не смогу.
— Без привычки — беда. Правильно!
Через минуту-две Семен снова принимался уговаривать Сватеева ехать смотреть олешек. Маша невесело подшучивала над ним: «Не видали вашего Кирина, только водку там пьете». Семен крутил головой, показывая, что побаивается жену, но стоило ей выйти на кухню или в комнату к девочкам, как он быстро наполнял рюмки, подмигивал Сватееву и одним глотком выпивал свою. Прямо-таки подгулявший русский мужичок.
Когда Семен начал ронять голову на стол, бормотать что-то малопонятное, Маша взяла его под руку, отвела к дивану, ласково уговаривая, уложила. Уснул он мгновенно, как переутомившийся ребенок, даже губы не расслабились, занемев на каком-то слове. Маша грустно покачала головой, принесла из кухни горячий чайник, села к столу.
— Хотите северного, крепкого?
— Очень даже.
Пили темный, переслащенный, липнущий к губам чай. Пили молча, по обычаю северян. Чай грел, бодрил, проникал в каждую клетку тела: потому и нужна тишина, потому и нужно думать только о чае, когда пьешь чай.
— Что будем делать, Алексей Павлович, — сказала Маша, отставляя свой стакан, — как спасать от водки людей? У нас все напиваются. Женщины наши тоже. Самое сладкое — водка, да?
Сватеев пожал плечами, сдержанно улыбнулся — он не ожидал такого разговора, — и вдруг ему ясно увиделось: почти в каждом дворе Сутима, — стеклянные штабеля бутылок, и везде, в кустах стланика, на берегу речки — кучи битого стекла: мальчишки развлекаются. «Водку завозят «Аннушками», — жаловался Соловьев, — а бутылки не принимают». В ответ Сватеев пошутил: «Через тысячу лет, когда будут производить раскопки, наш век назовут стеклянным».
— В Москве вашей много пьют?
— Как тебе сказать? Москва большая.
Не приходилось думать об этом Сватееву, и сейчас он, как-то невольно, представил себе свой завод — отсюда, из дальней дали, весь, со всеми людьми, корпусами, машинами. Возникло нечто довольно цельное, вполне обозримое, шумное, людное и почему-то темно-серое, тяжелое, хотя цеха — уж это отлично знал Сватеев — чистые, высокие, солнечные, и грохота особенного нет, но отсюда, из этих немых зеленых просторов, из деревянного домика… Даже девушки и женщины у конвейеров, в белых платочках, в синей спецовке, как бы потускнели сейчас, слились с конвейерами, машинами, цехами. А парни, мужчины и цветом своим были схожи с заводом — темно-серые, одинаковые… Впервые Сватеев увидел свой завод единым, громоздким, живым, кубическим, движущимся и стоящим на месте; кирпичным, железным, начиненным людьми, капельками живой плоти, существом. И блестки лучились от него — радиоблестки — исчезали в улицах, домах, пространстве… Вот и сюда, в Сутим, в дом Сеньки Шустикова попала одна блестка — сияет на тумбочке в углу.
А люди, многих ли он знает? Почти всех в конструкторском, но мало кого близко. Есть приятели — нету друзей. Разве что Сема Зворыгин. Пожалуй. Странность, непохожесть привлекают, коль ничего такого в самом тебе нет. Завод же, нутро его, и совсем как иной мир. Ну, директор, главный инженер, умный, интеллигентный чудак (как с вечным ярлыком — балериной), Алька Торопыга — фантазер-умелец, мастер Никифоров. А другие? Он видел их сотни на митингах, на собраниях — помнит, как одно лицо, коллектив. И он сам для всех — коллектив. Завод, предприятие.
Много ли пьют, все ли пьют на его родном заводе, предприятии? Женщины почти не в счет, хотя, если подумать, девчонки теперь не отказываются от вина. Парни, мужчины — пьют. По-разному, но пьют. Совсем не берет в рот Сема Зворыгин, странный человечек, больше, кажется, некого вспомнить из близких и дальних знакомых.
— Как тебе сказать? — после молчания повторил Сватеев. — Есть и трезвенники. А пили ведь всегда, Маша. В Америке, говорят, похлеще пьют. И в Сутиме, помнишь, водки не было — брагу варили.
— Бражка слабая.
— Цивилизация, Маша. Машины, скорость, суета, вино. Люди жадно стремятся ко всему этому. Цивилизация на роду нам написана. Когда эвенки бродили здесь по тайге, олешек пасли, злых духов боялись, добрым молились, шаманов слушались, — водки не пили, правда? Все трезвые были.
— Старики рассказывают: какие-то грибы горькие ели, пьяные делались.
— Вот! — засмеялся Сватеев, встал, прошел к окну, за которым зеленела картофельная ботва, грядки лука, моркови. — Значит, всегда, всем хотелось опьяняться. Другое дело — культуры не хватает. Я бы сказал: культуры алкоголя. Опьянение — благо, обращенное во зло: доступным, легким стало для всех. А сдерживаться не научились. Алкоголь застал нас врасплох.
— Очень правильно вы говорите. — Маша вздохнула, поднесла к глазам платок (видно, вспомнилось что-то нехорошее). — Как будем жить?
— Пора учить сдержанности. Всех. Лучше со школы… Вот же, научились эвенки картошку сажать, коров доить, на самолетах летать.
— И водку пить.
— Это не хуже горьких грибов. И дом — лучше чума. И врач — лучше шамана. Только скажите, Маша, почему у вас в доме — ни кумалана, ни шкуры, ни оленьих дошек, хотя бы детских? Все магазинное, привозное. Даже валенки, вижу, новые, к зиме припасены. Разве в них удобнее, чем в камусных торбасах? Ну хотя бы тапочки домашние: как хорошо расшивали их женщины… Неужели во всех домах так?
— Так.
— Ну почему? Я вот и на память купить ничего не смогу.
Маша взяла чайник, отнесла на кухню, подбросила в плиту дров, вернулась. Поправила подушку под головой Семена, села на край дивана.
— Никто пачкаться не хочет: шкуру надо скоблить, мочить, сушить. Потом шить, потом вышивать. В квартире запах будет, как в чуме. Дети не хотят дошки носить — в магазине, говорят, пальто купи. Мы не дикари уже, говорят. А вам я найду что-нибудь, у стариков есть пока.
Сватеев смотрел в окно, — там все еще держалось солнце, не подул верховой ветер, и зеленые космы лиственниц затрепались, спутываясь, плотно шумя. От этого сделалось как-то глуше, пустыннее. Даже легкий водочный шум в голове казался звучанием беспредельной тишины.
Да, все просто и понятно: эвенки жили тяжко, едва посильной была им природа, кормились мясом, рыбой, одевались в шкуры. И надоело им это за тысячи лет. Они отдыхают теперь в веселии, часто буйном, диком. Необходимо время, прошествие времени, чтобы оглянуться, вспомнить предков, их легенды, ремесло. И конечно, привыкнуть к новой жизни. Смогут ли?..
На диване зашевелился и сразу вскочил Семен. Потер кулаками глаза, увидел Сватеева, очень обрадовался, протянул обе руки:
— Дорово, друг! — стиснул Сватееву ладонь, потащил к столу. — Жинка, давай нам поправиться.
Маша принесла бутылку, рыбу, миску мяса, сама налила рюмку, предложила выпить. Она решила, наверное, сегодня не перечить мужу, да и по обычаю северному: пока гость в доме — надо его угощать. Выпила полную рюмку, задохнулась:
— Ой, умру!
Семен и в самом деле «поправился», стал почти трезвым, спокойно, рассудительно говорил. Сватеев спросил его о председателе Колгуеве — что за человек, как руководит. Немного помолчав, Семен ответил, что «в общем, однако хороший руководитель: который раньше был — алкоголик этот никому не мешает, сидит в кабинете — пусть сидит». С приходом Колгуева, оказывается, начал постоянно выполняться план, утвердились хорошие заработки, председатель «пробивной», в районе, в области его знают; достал подвесной мотор каждому рыбаку, электромоторы на плот, вытребовал опытного ветеринара для стада; построил новый клуб, дома строит.
— Один у нас непьющий, — сказала о Колгуеве Маша.
— Вот, иногда достаточно быть непьющим…
— Правильно, — кивнул Семен, — первый такой. — Он постучал по столу. — В стадо не приехал, олешек боится.
Маша смеялась, говорила, что там Колгуеву делать нечего, в палатках грязно, пастухи едят одно мясо, мошкара кусается, медведи бродят, а он человек городской, костюм любит носить культурный, есть бригадиры, пусть ездят, ему в поселке дел хватает.
Сватеев слушал Семена и Машу, дивился их вполне чистому русскому языку, наконец спросил:
— По-эвенкийски-то вы говорите?
— Иногда, со стариками, — ответила Маша. — Зачем? Приезжал один раз лектор, хотел по-эвенкийски лекцию прочитать. Смешно получилось: русские слова ломал. У нас-то слов мало. Даже старики смеялись.
— А помните, нам эвенкийский преподавали? Как иностранный.
— Теперь английский учат. — Семен повернулся к двери детской комнаты, крикнул: — Светланка, иди сюда. — Появилась смущенная, рослая, худенькая девочка, с черными тугими косичками. — Спроси ее по-английски — все ответит. Спроси, что такое унаткан[10], — не знает.
— Я бы учил обязательно, — сказал Сватеев, поднимаясь. — Ну, разрешите откланяться, спасибо. — Он вынул блокнот, написал свой адрес, подал листок Маше. — Прошу в гости, если соберетесь в Москву.
— Так хочется… — вздохнула Маша.
— Соберемся, — тряхнул жестким чубом Семен. — Когда есть друг…
— Встречу, провожу. — Чуть подмигнул Семену. — денег подкопи. Маша магазины изучит, а мы… в «Пекин» тебя приглашу, ресторан такой рядом с моим домом, салат «Дружба» закажем — медузы, водоросли, креветки… Пить не будем. За дружбу немножко. Как?
— Ладно. Немножко. — Семен мизинцем и большим пальцем отмерил солидную дозу, засмеялся.
Вышли на крыльцо, Сватеев хотел проститься и тут вспомнил, что намеревался спросить, все думал спросить и откладывал, не решался, забывал, а сейчас надо спросить, потому что другие могут этого не знать, да и стоит ли с другими об этом говорить. Он подумал, как бы полегче, попроще выразиться, и прямо спросил:
— Чуть не позабыл. О Тамаре Паттерсон. Что с ней? Жива ли она?
— Ой! — вспыхнула острыми щечками, замигала, поднесла к глазам платок Маша. — Думала, вы уже не помните ее. Стеснялась сама сказать.
Спустились с крыльца, тихонько пошла по тротуару и Маша, так же неспешно, вспоминая, рассказала. Ведь было все давно и не так просто все было.
Началась война, мужчин, в первую очередь русских, взяли на фронт. Был призван и муж Полуяновой, учитель физики, а спустя месяца три дошли слухи: он дезертировал, его расстреляли. Еще через какое-то время, совсем недолгое, Полуянова стала жить с Витькой Филимоновым, вроде бы вышла за него замуж, но расписаться не могли: Витьке не было тогда восемнадцати. Тамара Паттерсон, очень любившая Витьку, опустилась после этой его женитьбы, гуляла с кем попало, забеременела, кто-то сделал ей аборт, неудачно, истекла кровью и умерла. Хоронили ее всем поселком, как полагается здесь, Витька бросил в могилу горсть земли, плакал. Зимой он уехал с охотниками белковать, сильно простудился, привезли его с воспалением легких, фельдшер не мог спасти, не было нужных лекарств… Мать Витьки Филимонова уехала из поселка, кажется, в Николаевск, больше о ней ничего не слышали. Полуянова еще два раза выходила замуж. Последний муж, молодой, разбился — разогнал повозку, врезался в лиственницу. А тот, бывший перед ним, сам умер: от старости, говорят.
— Где же кладбище, что-то не могу определить? — спросил Сватеев.
— Там, за баней, — сказал Семен. — Ничего не найдешь: старые могилки стланик закрыл.
Маша и Семен хотели проводить Сватеева, но он, упросив их вернуться домой (Семена опять покачивало), пошел в конец поселка, где виднелась белая шиферная крыша новой бани.
Шел, размышлял, и позабыл о чем, очнулся на покатом бугре, среди оград, крашеных деревянных обелисков, крестов, столбиков с повязанными в виде галстуков выцветшими лентами красного сатина: так примечают могилы сородичей эвенки. Удивился своему как бы неощутимому перемещению через поселок (а ведь кто-то с ним здоровался, с кем-то он даже поговорил немного). Такое состояние Сватеев называл «механическим» и считал, что большая часть жизни человека именно так и проходит: человек живет, делает все точно, правильно, говорит, советуется — и забывает, вернее, не помнит этого. Потому, что нельзя помнить себя каждую минуту, нельзя обдумывать каждое движение, шаг…
Кладбище было маленькое, деревянное, могилы теснились на старой вырубке, крайние, с почернелыми оградами, виднелись из-под широких лап стланика, словно бережно покрывавшего их.
Ни шороха, ни птичьего свиста: тайга бедна певчими птицами. Лишь отдаленный, неумолкающий, угрюмоватый шум лиственничной хвои.
Вот свежий, глинистый холм. Ни ограды, ни надгробья. Сватеев тронул ботинком подсохшую глину… Так это елькинский работник! Боже мой!.. Пришел неизвестно откуда, хотел убить, сам напоролся на острие ножа, лег в эту глину; дружок сбежал… Судьба? Случай? Может быть, заранее, при рождении, Елькину было начертано — в семьдесят лет убить человека?..
Сватеев обошел кладбище, осмотрел каждую могилу. Их было не больше десяти. Почему такое маленькое кладбище? И вдруг понял: старые могилы накрыл, как бы пожрал, стланик, ему помогли багульник, голубичник, мох. По едва приметной тропке Сватеев зашагал в кусты, густо разросшиеся по склону, и начал замечать то там, то здесь мшистые бугорки, вроде бы холмики, возвышения… Все это можно принять за кочки, наросты мха, но Сватеев уже знал: да, здесь было кладбище. Здесь похоронены сутимцы, умершие в тридцатых годах: Андрюшка Шестопалов от дикой смородины, жена засольного мастера при родах, старики своей смертью, а потом Тамара Паттерсон и Витька Филимонов. Среди этого кедрового стланика, отяжеленного недозрелыми красноватыми шишками, мощного, стелющегося, живучего.
Синели капли голубики, желтели капли морошки; черной ягодой осыпала кочки шикша; и всюду грибы: сыроежки, маслята, моховики — чистые, свежие.
Сватеев сел на старый сухой пенек, положил у ног плащ, сбросил берет. Он чувствовал, как затихает, слабеет его душа, тело освобождается от болей, тяжести.
«Здравствуй, Витька. Ты где-то здесь, близко… Узнаешь ли меня?.. Я приехал навестить детство, навестить тебя. Через тридцать лет. Но тебе все равно: ты уже в вечности. Это живым некогда. Я седой, утомленный. А ты?.. Ты тот же, восемнадцати лет, и, конечно, не узнал бы теперь меня. Стар я для тебя, чужой тебе… Давай-ка лучше вернемся в детство, хотя бы на минуту, в то время, когда мы были равны. Согласен? Конечно. Какая тебе разница… Слушай. Вот ты приехал в Сутим, кажется, с кербинских золотых приисков, приехал с матерью, вдвоем. Где вы потеряли или оставили отца — не помню. Может быть, ты и не говорил мне. Поселили вас в пекарне, во второй, жилой половине пекарни… Вчера я искал этот дом — нету, развалился или в войну на дрова разобрали… Вышел ты на улицу в белой матроске с синими полосками на воротнике, в широченных клешах. Сутимская шпана тут же окружила тебя, начала задираться: положено при знакомстве. Ты одного швырнул, другого. А потом я тебе подвернулся. Сцепились. Поначалу вроде бы бороться, но быстро в ход пошли кулаки. Я порвал тебе воротник, ты мне рубашку. И помню — ты все улыбался, подбадривал меня: «Давай, давай, москвичонок!» Тебе кто-то из наших подставил ножку, ты упал. Откуда-то появилась твоя мать и расхохоталась — на всеобщее удивление сутимцев. Сказала: «Ну вот и познакомился, зови ребят чай пить». Ты взял меня под руку, повел к себе. Из ребят, кажется, еще Семен Шустиков вошел, остальные в окна подглядывали. Твоя мать все подшучивала над нами, угощала привозным печеньем; и зубы у нее светились золотыми коронками. Была она крупная, неторопливая. При взгляде на нее — робость брала, это я запомнил. И еще. В комнате у вас во всю стену висела картина, написанная маслом: обнаженная женщина на пурпурной кровати. Теперь-то я знаю: это была копия и, наверное, не очень хорошая с «Данаи» Бланшара, а тогда… Так у меня слились в одно целое: ты, твоя мать, женщина на полотне. Теперь бы я сказал: в вашей маленькой семье был культ женщины…
Длинно у меня получается, Витька. Тебе не надоело? Хотя ты в той юдоли, где уже никуда не спешат. А меня ждет Лера. Да, Лера. Такой человек, женщина. Лет ей немногим больше, чем тебе, а родилась она на двадцать лет позже нас с тобой. Но живет так, будто всегда жила, знала, что будет жить, и встретила здесь меня… Впрочем, к чему это тебе? Ты все равно ее не увидишь, да и мне надо еще разобраться: что такое Лера?
Лучше о том, давнем. Так у нас и пошло с тобой: мы дружили и соревновались. И я отстал — где, когда, теперь уже трудно вспомнить. Но вот это не позабылось. Вы жили в той половине пекарни, которая до вас была хлебным магазином; в стене, разделяющей дом, осталось окошко — через него перебрасывали испеченный хлеб, — наглухо заколоченное. Прихожу я как-то к тебе, ты стоишь у этого окошка, подзываешь меня: «Глянь в щелку». Гляжу, и… даже сейчас меня коробит и тошнит. На полу, на каком-то тряпье, лежит голая, худенькая женщина, а пекарь Данила и два его кореша пьют спирт, бросают жребий, кому следующему… Женщина не шевелится, и я догадываюсь: она бесчувственно пьяна. Я отворачиваюсь, чтобы не узнать ее — ведь она наша, поселковая, у нас все наперечет в поселке, — говорю тебе: «Давай, постучим, крикнем. Побежим на культбазу, скажем». Помню твою спокойную, долгую улыбку: «Ты знаешь, кто она?» Я замахал руками. «То-то. Она сама пришла, понял? А если муж ее убьет или всех перестреляет?..» Я, конечно, что-то говорил, доказывал, а когда бросился к двери, ты схватил меня, стиснул воротником горло: «Дурак, мамсик. Знал бы… Если пикнешь, задушу». Я убежал, бродил по лесу, по берегу моря, мне страшно было вернуться в поселок, казалось — все теперь будет не так, все погибло: люди, жизнь, работа, школа. Домой явился ночью, чуть живой от голода и дрожи. Два или три дня не выходил на улицу, присматривался к отцу и матери: как они? Не переменились? Не скрывают ли чего?.. Потом вышел — не сидеть же вечно дома — и понял: мир не пошатнулся, дома стоят на прежних местах, люди, встречаясь, приветствуют друг друга, смеются, говорят о делах, женщины нянчат ребятишек, бегают в магазин, судачат о платьях… Все было по-прежнему. Ну хоть бы листик один упал с березы. И тогда я почувствовал себя, Витька, жалким и глупым. Впервые. Рыдал, хотел покончить с собой, не надеясь понять жизнь. И, наверное, признал навсегда твое старшинство. Нет, я не простил того случая ни себе, ни тебе, хоть ты и оказался прав и потом смеялся, дразнил меня: «Хочешь, скажу, кто она?» Я не хотел знать, но все смотрел, смотрел на женщин… Может, лучше было узнать? Может, не пришел бы я к тебе сейчас с той нашей общей виной?..
О чем еще?.. О Тамарке Паттерсон? Но о ней я уже как бы поговорил с тобой, когда очутился на тропе… Помнишь, ты встретил нас, увел в кусты Тамарку. И опять я страдал, мучился, хотел умереть… И, как видишь, выжил, воевал потом — не убили, и сюда вот приехал. А тебя нет. Потому что ты уже тогда жил, рано, очень рано начал жить. Теперь мне видно это, теперь мне многое стало понятно. Ты удивишься, если я признаюсь: никого потом я не любил так, как Тамарку. Потому, пожалуй, и простил тебе ее… И еще странность: оказывается, об этой любви знали в поселке, Полуянова до сих пор не забыла, Маша Шустикова помнит… Да, о Полуяновой. Я ведь почти не запомнил ее ту, прежнюю: они с мужем перед самой войной приехали. Кругленькая, свеженькая, суетливая. Зато видел вчера. Что-то жутковатое. Не могу представить тебя рядом с нею. Но может быть, ты любил ее? Может, годы, несчастья сделали ее такой?.. Любила ли она тебя хоть чуть-чуть? Если да — почему заросла, исчезла твоя могила?.. Почему не навестила тебя мать — красивая, веселая, сильная женщина, очень любившая единственного сына? Вы были не в ладах, может быть? Из-за Полуяновой? Однако мертвым принято прощать.
Тебе там все ясно, Витька Филимонов, а я и через тридцать лет мучаю себя: как, почему, зачем? Наверное, только смерть ответит на все эти вопросы…»
Сватеев поднялся, поежился. Понизу сквозил сырой туман, небо сделалось серым, опустилось, и море, будто приблизившись, шумело за кустами.
«Лежи, Витька. А я пойду. Мне надо жить. Это так же обязательно, как тебе лежать. Обязательнее даже. Лежи. Место здесь тихое… Если я пойму, узнаю, зачем мы родились и жили, — приеду к тебе, расскажу».
Поселок заплывал туманом, тонул во мгле. Лиственницы, дома, истонченные, призрачные, промелькивая сквозь белесые клочья, казалось, бежали, стремились в тундру, подальше от надвигавшегося, угрюмо ревущего моря.
Сватеев заспешил к интернату.
— Наконец-то! — сказала Лера, чуть вздрогнув, потому что он неслышно появился на пороге ее комнаты. — Я уж думала: улетел Алексей Павлович… Да Антипкина ходила в магазин, видела вас в гостях.
— Каждому дому — своя Антипкина…
Присматриваясь, Лера подошла к нему, глянула в глаза, как бы спрашивая: «Ну, все в порядке?» Прикоснулась губами к его мокрой холодной щеке, приняла из его рук плащ, берет, отступила немного:
— Устал, да?.. А я уже пять раз подогревала обед. Будем обедать, правда?
— Прости. Не мог отказаться. — Сватеев взял ее теплые ладошки, поднес к лицу, прижал. — Спасибо. Только… Зачем? Не все жены…
— А женам и не надо.
Они рассмеялись, легко поддаваясь шутке. Лера положила на плечо Сватеева полотенце, полила из кружки над тазом, он вымыл руки подогретой водой, припомнив, что точно так же моют руки в казахских юртах — над тазом, каждому полотенце, поливает молчаливая хозяйка. А потом бешбармак, мясо барана, прямо руками. Лера согласилась: мясо, особенно на кости, лучше не ковырять пилкой, брать в руки и обгладывать.
Сели обедать. Лера налила водки.
— Сегодня мне все равно, — сказал Сватеев, чувствуя холод под рубашкой, под кожей, которая казалась сырой, рыхлой.
За окном стало сумеречно. Опять навалился тяжелый туман. Заморосило. В комнате было тепло и тихо, спасительно тепло и тихо, — и Сватеев, помня рыбаков в море, всех, кто не под кровом сейчас, рассказывал Лере о своем сегодняшнем дне, обещал познакомить с Шустиковыми — надо же Лере заводить друзей, — они помогут, поддержат, снабдят мясом, рыбой. Эвенки тут жили и живут, с ними проще. Приезжие — всякие попадаются: списанные, зарабатывающие солидные пенсии, искатели приключений… Сразу надо определить себя, приспособить к работе, здешней жизни. Рассказал и про кладбище, поглощенное стлаником, где понял наконец, что здесь, в Сутиме, была у него первая любовь, был первый и последний товарищ — Витька Филимонов. Находились потом другие, есть другие, но такого уже не будет.
— Знаете, Лера, мне там подумалось: люди брошены на произвол самих себя. И еще вроде стихов что-то я придумал:
Время уходит вместе с людьми, Времени нет без людей.Лера смотрела на него не мигая, возле губ у нее обозначились нежные морщинки, и казалось, глаза ее светятся, он чувствовал их теплый свет на лице, вокруг своей головы.
— Потому я не узнаю поселка, старых домов. Даже озера за речкой — не те. Даже этот интернат. Ушли люди — и ничего не стало, все умерло.
— А Елькин, Шустиковы?
— Другие. Тех уже нету.
— Значит, и вы…
— И я.
— Алексей Павлович, вы утомились. Можете прилечь, отдохнуть. — Лера слегка потянула Сватеева за локоть, как бы приподнимая его, он послушно пошел за нею. — Вот, подушки сделаю повыше, ложитесь.
Не раздеваясь, Сватеев повалился на спину, закрыл глаза. Минуту или две сквозь тяжелое гудение в голове он слышал мягкие шаги Леры, звяканье посуды, а затем нахлынула смутная невесомость, закружила, опрокидывая стены, дома, землю; подкатывалось к самому горлу и опять падало, замирало сердце.
Полусон, полуявь. Возникали видения, беглые, суетные, какие-то травы, горы, мосты, какие-то люди что-то говорили, делали, быстро исчезали; Сватеев не успевал их разглядеть, узнать. Но не забывалась и эта, реальная жизнь. В желтом видении рухнула вода в черноту бездны, и оттуда, из бездны, поднялись длинные белые руки, а здесь, в комнате, открылась дверь, у порога послышались голоса — мужской, очень знакомый, и женский, два женских: Лера и Антипкина… Мужской? Нет, не узнать, потому что… в синей тишине неба росло аспидно-черное облако, оно пожирало пространство, из него моросило кровью… Сватеев хотел крикнуть кому-то, кто, конечно, был, видел, все мог: «Остановите!..» Но закрылась дверь, мягкие шаги приблизились, на край кровати опустилась Лера.
— Тебе неудобно, да? Давай-ка расстегну рубашку, сними ботинки… А голова как? — Холодная ладонь приникла ко лбу. — Вроде бы ничего… Ты меня слышишь? — Сватеев попытался кивнуть, настороженно следя за стланиковой чащей, из которой что-то появлялось. — Елькин приходил, рыбой снабдил. — Так и сказал «снабдил». — Говорит, завтра следователь прилетает, поговорить надо… — «Да, да, поговорить… Поговорю… Вот только прослежу… уже, появляется… Кажется, туман… расползается, густеет, окутывает…» — и глохнут, умирают в нем полусон, полуявь.
В верхней половине окна висела яркая половинка луны, небо было чистое, ровного серого цвета, вершины лиственниц четки и неподвижны. Цокал будильник. Лунный свет золотил на столе чайник, наполнил жидким сиянием стаканы.
Лера лежала рядом, едва слышалось ее дыхание. Лицо матово и смугло темнело на белизне подушки, казалось вылепленным, холодноватым. В глазницах покоились тени, волосы в лунном, рассеянном по комнате свете виделись резко, с мокрым блеском, как пучок только что срезанной травы. Рука, откинутая к плечу, с открытой ладонью, будто ограждала тихий, беспамятный сон.
Сватеев осторожно приподнял край подушки, замер, чтобы не разбудить Леру. Голова была свежая, вечерний туман рассеялся — была луна, прохлада. Спать не хотелось, и потому нахлынули, подступили со всех сторон люди, голоса, мысли.
Надо было упорядочить эти дни, обдумать. Сватеев сказал себе: «Пора улетать. Завтра — следователь, потом Елькин — отнесу ружье, зайду к Шустиковым, потом…» — и мелкими, незначительными показались ему все эти заботы, даже дело Елькина (не такое уж оно страшное, разберутся, простят старика). Главное… главное теперь — Лера. Еще утром Сватееву казалось, словно бы кто нашептывал ему изнутри, что все сойдет просто, легко. Ну, встретились, повлекло друг к другу… Бывает. Он стар для нее. Да и громких фраз, обещаний не говорилось. «Дамочка скучает». Можно дать адрес, прислать хороший «синтетический» подарок, если, конечно, ее это не обидит.
«Вот именно, казалось, — с усмешкой сказал себе Сватеев. — Вернее: хотелось, чтобы так казалось. На всякий случай, для самозащиты. Но ведь было уже чувство, чувство родства, радости, оно не терпело осторожности, росло весь длинный день, делало каждую минуту необыкновенной, единственной во всей жизни. — Сватеев спросил себя: — А если любовь?.. Какая она?.. Разве он знает что-нибудь о любви, помнит — после той, тридцатилетней давности?»
Он глянул в лицо Леры, стылое, с восковой матовостью, притуманенное бледным светом, и ему примерещилось, что она умерла, вот сейчас в эту минуту остановилось ее дыхание… Чувствуя, как холодеет у него кожа, немеют пальцы рук, он тихо позвал:
— Лера.
У нее дрогнули веки, медленно поднялись, потянулись к Сватееву длинные руки.
Забытье было полным, бездонной глубины и легкости. Оно могло длиться нескончаемо, если бы вдруг не послышались слова:
— Соня! Какой же ты соня!
У кровати стояла Лера, одетая в темную юбку, теплую кофточку, аккуратно причесанная, от нее веяло уличным сырым воздухом, она улыбалась.
— Вставайте, Алексей Павлович, умывайтесь, пейте чай… Я уже в магазин сходила. И новость принесла. Потрясающее событие в Сутиме: на барже грузовик привезли, кажется, ЗИЛ называется. Все бегут смотреть.
— Автомобиль?
— Ну да. Как на пожар. Как на пришельца с другой планеты.
Сватеев засмеялся, покрутил головой, рассеивая сон, и уже не мог избавиться от тихого смеха — ни во дворе, когда умывался, ни за столом, когда пил чай; лишь выйдя вместе с Лерой на улицу и уловив ее пристальный взгляд («Что с вами — не нервное ли потрясение?»), он несколько успокоился, сказал:
— Да где же они будут кататься?
— По улице.
— Разве что…
В сторону пристани двигались припоздавшие сутимцы: старики, женщины с грудными детьми; ковыляли древние эвенкийки в длинных, расшитых тесьмой халатах, с трубками в желтых зубах. Со двора завхоза Севрюгина вышла опрятно одетая, рослая и полная женщина, за ней потянулся выводок ребятишек — девочек, мальчиков, умытых, приодетых; а вот и сам Севрюгин в чистом пиджаке и брюках навыпуск — щуплый и юркий возле медлительном жены. Увидев Сватеева и Леру, он поздоровался, супруга внимательно оглядела их, особенно Леру.
— Идем с мелкотой, — пояснил Севрюгин. — Старшие уже там, смотрят машину.
Лера придержала Сватеева, чтобы не идти кучей, да и семейство Севрюгиных стеснялось новых людей, посмотрела задумчиво им вслед, слегка дернула локоть Сватеева.
— Вы бы не разошлись с женой, будь у вас столько детишек.
— Да, пожалуй. Где бы я набрался алиментов?
— Нет, вы шутите? — Лера остановила Сватеева, запрокинула лицо, стараясь глянуть ему в глаза. — Серьезно: ведь это стыдно — иметь одного ребенка. Как куклу магазинную. Разве семья — с одним ребенком? Пусть не десять… Ну — три, обязательно три. Чтобы семья была. Иначе незачем сходиться, беспокоить загс…
— А если ни одного?
— Это… это я не знаю что…
— Да, Лера. Бездетный принадлежит только себе. Конечно, мы говорим об умышленной бездетности. И все равно — это несчастье. Опасен бывает такой человек.
Лера прижалась к локтю Сватеева, приподнялась, коснулась губами его щеки. Он отшатнулся слегка, покачал головой: «Зачем же, на улице…», но она так радовалась ему, его словам и так ей было безразлично все вокруг, что он улыбнулся, поймал ее ладошку, спрятал в свой карман.
— Моя мама — альголог, специалист по водорослям; папа — по рыбам. Вечные командировки, вечные диссертации. Я росла с бабушкой, одна. И мама моя была одна у своих родителей, и папа один, правда, у него сестренка в войну умерла… Одинокие плодят одиноких.
Сватеев придержал Леру, хотел поцеловать ее вместо ответа, но не осмелился, просто глянул ей в глаза с такой же радостью и удивлением. Несколько минут они шли молча по чистым широким доскам тротуара — их никто не обгонял, не попадался навстречу, все были на пристани, — и Сватеев думал, что уже не заговорит, но почувствовал вдруг — шевельнулась, привычно «зазвучала» давняя душевная тоска.
— Никому бы не сказал, Лера. Вам скажу. Вы задели очень больное. Мне жаль, иногда до смерти, что я не нажил сына… двух, даже трех… Чтобы они были живые, живущие, мои… К черту диссертации, карьеры, демографический взрыв. Ходил бы в одних штанах, в одной рубашке… У меня столько неистраченной силы, она бы перешла в них. Нужен человек. Без него — ни взрывов, ни борьбы со взрывами… Я не дал ему, им жизни… И кажется, сам не проживу долго.
— Вы серьезно? — прерывая и останавливая Сватеева, спросила Лера, она свела брови, смотрела вниз и в сторону, как бы боясь глянуть на Сватеева, и он засмеялся.
— Нет, конечно.
Лера догадалась, что это не ответ, еще больше нахмурилась, они опять пошли, и теперь Лера не выдержала молчания.
— Извините, Алексей Павлович… а эта, ваша женщина?
Сватеев указал на дома, под гору — там у деревянной пристани, заполненной пестрым народом, стояла большая ржавая баржа, и на ней, посередине, голубым пятном виделся новенький грузовик. Лера послушно повернулась в ту сторону, однако ничего не увидела — замутившиеся, как бы потерянные глаза ее были слепы ко всему окружающему. Сватеев понял: она ждет ответа, и ответить придется; немного помедлив — не переменится ли вдруг Лера? — он, уже без улыбки, начал говорить, объяснять, словно извиняясь за немалую вину, что та женщина, не совсем и женщина для него, больше — друг, старый, со студенческих лет, одинока, жизнь не удалась…
— Зачем, зачем об этом… Все я, язык мой. Простите меня.
— За что же? — вовсе сбился Сватеев. — Мы хорошо говорили. Не часто приходится так говорить.
Лера, глядя за дома, на пристань, наконец увидела людей, баржу, глаза ее расширились, прояснились.
— Пойдемте скорей! — потянула она Сватеева. — Кажется, заводят машину.
Спустились по доскам к берегу Сутима, остановились в сторонке на сухом торфяном бугре; здесь, подстелив куски оленьих шкур, сидели, курили трубки молчаливые атыркан — эвенкийские старухи.
Вся пристань, настилы вокруг нее были заняты сутимцами; мальчишки висели на ветках ближних лиственниц, к барже подчаливали рыбаки в лодках-плоскодонках, смотрели снизу вверх, смеялись, дивились голубому железному чуду на резиновых ногах. У возвышенного носа баржи, в шляпе и плаще с погончиками, стоял Колгуев, рядом с ним — председатель сельсовета Соловьев, два бригадира в желтых проолифенках, резиновых сапогах. Колгуев негромко отдавал распоряжения, люди проворно освобождали машину от канатов, крепивших ее к палубе, а в кабине уже сидел чубатый, замазученный парень, сиял, как на представлении, дергал рычаги, и мотор дико взревывал, резко затухал. Парень кричал в открытую дверцу:
— Придуривается, милый! Прогреем, подшаманим!
К бугру пробралась Маша Шустикова с двумя дочками, наряженными в коричневые школьные платья, белые фартучки, подала руку Сватееву, познакомилась с Лерой, оглядела ее чуть стеснительными взглядами — учительницу, женщину, нового человека в поселке, — сообщила, что Семен уехал в стадо («Беда, не знал, какое событие ожидается!»), повернулась к поселку.
— Вон все мои ребятишки.
На чистом склоне, среди редких кустов стланика расположился детский сад — со всей мелюзгой, нянями, воспитательницами, толстой поварихой в колпаке. Слышался гомон, восторженные визги, плач.
— Кто это в машине? — спросил Сватеев Машу.
— Катерист, механик.
— Он не пьяный?
— Всегда выпивши бывает.
Мотор загудел ровно, машина медленно подалась назад, уперлась колесами в низенький борт баржи — рыбак внизу, простодушно испугавшись, замахал веслом, отплывая подальше, — парень улыбчиво крутил баранку, выворачивай передние колеса, потом двинул машину вперед, направляя к широким сходням.
Одни бригадир сбежал на пристань, растолкал толпу и, указывая шоферу направление, начал кричать:
— Давай, давай, Васька, рули сюда!
Тупое рыло грузовика уткнулось в сходни, будто осматривая — надежны ли? — мотор взревел, колеса поползли вверх, доски прогнулись, застонали, машина перевалилась через борт баржи, легко соскользнула на прочный настил пристани, толпа шарахнулась, заорала — Васька для шику проехал лишних несколько метров, — а когда грузовик остановился, волной хлынула к нему, стиснула со всех сторон, мальчишки, ликуя, набились в кузов.
— И не боятся такого чудовища, — сказал Сватеев.
— В кино-то видели, — радуясь шуму, праздничному возбуждению, ответила Маша.
— Помнишь, как отец привез велосипед из Хабаровска. Посадил меня на раму, и мы проехали от культбазы до интерната.
— Ой, помню! Такой скандал получился. Ребятишки по кустам разбежались, старики сказали — директор железного черта привез, русский черт всех шаманов задавит.
— А дня через три всем поселком катались, старики из палаток поглядывали, без злости, конечно. — Сватеев тронул плечо Леры (она неотрывно смотрела на все, что делалось возле грузовика, хмурилась, улыбалась). — Я вот о чем думал: люди быстро привыкают к самым диковинным машинам. Иногда кажется — они знали уже, видели железных роботов, но только позабыли… История об этом ничего не говорит?
— Говорит. Просто человек был готов к машине уже в тот день, когда взял в лапу палку… Гляньте, — сказала она. — Сейчас митинг будет.
По сходням медленно спустились Колгуев и Соловьев, бригадиры освободили им путь, оттеснили наиболее любопытных, попросили очистить кузов, установили тишину, порядок, и Колгуев, поднявшись на подножку грузовика, тонко выкрикнул:
— Прошу внимания, товарищи! — Распахнул плащ, вынул из кармана лист бумаги, расправил, прикрыл глаза очками, начал читать: — «Товарищи колхозники и колхозницы, а также представители трудовой интеллигенции! Сегодняшний день навсегда запомнится нам как светлое пятно в истории Сутима. Автомобиль ЗИЛ, что означает, товарищи, завод имени Лихачева, прибыл из столицы нашей Родины помогать нам строить дальнейшую светлую жизнь. Мощный мотор автомобиля, как и несколько ранее мощные моторы самолетов АН-2, навсегда разбудили тайгу. Мы свидетели технической революции в Сутиме. Поздравляю вас с этим историческим событием, товарищи! Правление колхоза уверено в том, что вы успешно завершите путину, будете беспощадно бороться с пьяницами и прогульщиками, выведете свой родной колхоз в передовое хозяйство района. Успеха вам в труде и личной жизни!»
Колгуев снял очки, отерся платком. На подножку тут же взобрался председатель сельсовета Соловьев, захлопал в ладоши, все подхватили, получились бурные аплодисменты. Когда шум поутих, Соловьев вскинул руку, попросил внимания.
— Решением правления колхоза первым рейсом удостоились поехать наши лучшие передовики. Зачитаю списки: Семенов Иннокентий, Корнейчук Анна, Корешков Савелий… — После зачтения фамилий, которых значилось не менее десяти, Соловьев прибавил: — А также наши отличные школьники… — и еще имен десять; под конец он объявил: — Прошу занять места… — Тронул рукой борт кузова, позабыв его название. — Вот здесь, на этом железном ящике.
Все засмеялись, захлопали, ребятишки кучей набились в кузов, туда же влезли три-четыре рыбака, остальные держались в сторонке, смущенно переговариваясь (мест вроде уже и не было), Соловьев, схватив за руку пожилую эвенкийку, тащил ее к машине, она упиралась, что-то кричала, и опять грохнул всеобщий смех.
Сватеев решил предостеречь Колгуева: шофер неопытный, дорога в гору, неровная, узкая, нельзя набивать так кузов, да и под колесо кто-нибудь попадет при такой неразберихе. Попросив Леру и Машу подождать его, он, перепрыгивая с кочки на кочку, пробрался к пристани.
Здесь не пришлось толкаться: видя приезжего человека, сутимцы расступались, пропускали. Колгуев просто подал Сватееву руку, потряс одутловатыми щеками, сказал:
— Рад, рад, что вы здесь. Приглашал корреспондента из районки, обещали, а не прибыл, нечеткая работа. Такой исторический материал…
— Извините, вам приходилось иметь дело с автомобилями? — Сватеев проговорил это вполголоса, мягко, чтобы не обиделся председатель колхоза и не слышали подчиненные.
— Какие у нас автомобили! — хохотнув, выкрикнул Колгуев. — Олешки, собачки — весь транспорт!
— Разрешите тогда посоветовать. Я разбираюсь немного… Не делайте этого пока, не катайте. — Сватеев глянул в кабину. Василий, разгоряченный, с растрепанным чубом, одну руку держал на баранке, другой прижимал к себе хохочущую девицу, еще две девицы теснились на сиденье, третья стояла на подножке у раскрытой дверцы. — Шофер у вас — доброволец, хмельной кажется. Пусть один попробует.
— Не советуете, значит? — Колгуев обратил к Сватееву неподвижные зрачки глаз, словно прислушиваясь ими.
— Очень не советую. Машину надо проверить. Тут, если откажут тормоза… — Сватеев указал на гору, — винтиков не соберете.
Колгуев напряженно поморщил лоб, согласно тряхнул щеками.
— Правильно. Спасибо. — Крикнул в толпу: — Соловьев, ко мне!
Председатель сельсовета бросил упиравшуюся женщину, подбежал, потный, со шляпой в руке, дрожащими от возбуждения губами, и сразу принялся выполнять распоряжение.
— Очистить машину, освободить пристань!
Сватеев попросил девиц выйти из кабины, сказал Ваське, чтобы он подвинулся, сел к рулю, повернул ключ зажигания — мотор сразу завелся, нажал на педаль сцепления, включил скорость, чуть двинул машину вперед, резко затормозил — тормоза сработали хорошо. Послушал мотор, спросил Ваську:
— Права имеешь?
Поначалу нахмурившийся Васька смиренно ответил:
— В ремеслухе учился — сдавали, газик водил.
— Зачем же ты сразу народ набираешь?
— Я говорил! — Васька слегка ударил себя в грудь, — Честное слово! Не слушают. Говорят, передовиков отметить надо. Я — человек маленький.
— Ну, так, маленький. Куда велено ехать?
— К конторе.
— Поедешь одни. В гору не газуй, и помни, что есть тормоза.
Пристань была почти свободна, на краю, у баржи, стояли Колгуев, Соловьев, еще несколько человек, Сватеев подошел к ним, махнул Ваське:
— Двигай!
Машина ожила, скатилась на твердую тележную дорогу, заколыхалась в кочках, расплескивая торфяную жижу, и медленно поползла вверх по сухому взгорью. Мальчишки, отставая, гомоня, бежали следом, сутимцы занемели где кто стоял, провожая взглядами голубое, сверкающее, чадящее бензином, рычащее существо. На половине горы Васька не успел переключить скорость, мотор заглох, колеса покатились назад, но тут же стали на тормоз. Васька завел мотор, резковато газанул, и машина, легко взяв подъем, скрылась за изгородями и домами.
Сватеев глянул на торфяной бугор — Леры и Маши там не было, значит, ушли в поселок, наверное, пригласила к себе Маша. «Хорошо, — подумалось с легкостью, — Шустиковы помогут ей, она полюбит их». И пошел рядом с Колгуевым, пригласившим его движением руки, словами:
— Пойдемте. Тут все закончено.
Молча выбрались на сухую дорогу, и Сватеев подивился ловкости Колгуева: он не только не запачкал ботинок, каплей единой не подпортил их лакированного блеска, легко, метко прыгал по кочкам, был в отличном настроении.
— Василий Тимофеевич, — решился спросить Сватеев, — я о грузовике. Нужен ли он вам здесь, сейчас?
— Как же. Холодильник будем строить, задыхаемся без холодильника. Гальку будем возить с лайды, бетонные стены возведем.
— По мари возить?
— Гать наложим, лесу у нас достаточно.
— Тракторок бы, может, с прицепом, «Беларусь»?
— И «Беларусь» заказали. С ковшом, гальку грузить. Лопатами нам не подходит, не то время. Все обмозговано.
— Ну, а построите холодильник…
— Зимой по льду сено возить будем. Гладко зимой.
— Не дороговата ли такая лошадка?
— Продадим. — Колгуев приостановился, захихикал, удивляясь наивным вопросам собеседника. — Мы — хозяева. Прикинем, обмозгуем. Запишите эти факты, если интересуетесь. Могу дополнительно представить. Решение общего собрания, заключение экспертной комиссии, личная рекомендация товарища…
И опять, как в прошлый раз, заговорив о фактах, законности своих поступков, Колгуев мгновенно почерствел, отдалился, глаза, живо двигавшиеся минуту назад, привычно заледенели. Трудно было определить — отпугивает он подозрительного отпускника (таковым полагается находиться в Крыму), или это выработанный годами руководящей работы стиль.
Сватеев понял: разговор закончен, холодильник, что бы ни стряслось в мире, будет построен, да и к правлению уже подошли. Вокруг машины толпился народ, Василий сталкивал мальчишек с кабины, капота, подножек, ему помогал Соловьев.
— Заходите, всегда рад! — пригласил Колгуев, повернулся к толпе, заметно утихшей при его появлении. — Товарищи, прошу разойтись, — Глянул на часы, — Через пять минут чтобы все находились на рабочих местах. Проверю. — Увидел на крыльце яркую, из века технической революции секретаршу. — Светлана, запишите фамилии тех, кто задержится, — К нему приблизился один из бригадиров, что-то сказал, наклонившись, Колгуев кивнул, — Катание передовиков сегодня отменяется.
Все это он произнес спокойно, внятно, несколько скучновато («Таким пустякам приходится вас учить!»), медленно поднялся по ступенькам крыльца, не оборачиваясь, удалился в дверь конторы. Но дело было сделано: люди поспешно расходились, мальчишки перестали карабкаться на грузовик, Василий, пересмеиваясь с секретаршей, закрыл на ключик кабину.
Постояв немного, подумав, Сватеев направился к сельсовету: он слышал еще на пристани, как Соловьев сказал кому-то: «Следователь прилетел, сидит в моем кабинете, бумажки читает».
Вот клуб, просторный домина, с большими окнами. По фасаду — плакат «Искусство принадлежит народу». Дверь открыта. Надо зайти, посмотреть. О таком клубе в тридцатые годы могли только мечтать.
Зал заставлен новыми скамейками с откидными сиденьями, слова сцена, под потолком свернутый валиком экран; справа — аппаратная, и за приоткрытой фанерной дверцей в стене — ряды книг: библиотека.
Сидит русокудрая, тоненькая девушка, что-то листает, записывает, в задумчивости прикладывает к губам карандаш.
— Добрый день, — сказал негромко Сватеев.
Девушка вскинула голову, вгляделась, легко, будто подпрыгнув, вскочила.
— Пожалуйста, входите. Хорошо, что вы сами зашли. Хотела пригласить вас… Выступить. Я слышала о вас. Вы из Москвы?
— Да.
— И здесь жили когда-то?
— Жил.
— Ой, как здорово! Такой вечер получится — «Прошлое и настоящее Сутима». Согласны?
— Позвольте… — Сватеев тряхнул головой, в которую едва вместились и еще не переварились все эти слова. — Давайте спокойно. Значит, приглашаете выступить?
— Выступить, выступить. Точно. И о Москве расскажете.
— Но я не смогу. Сегодня много дел, а завтра улетаю. Вот если бы пораньше. Да и согласовать, вы знаете, сначала надо. Ведь я не артист, не командированный поэт.
— Ой, как жаль! Разреветься можно! Упустили такую возможность! Не прощу себе никогда!
— Не стоит так огорчаться. А то и мне неловко: вроде бы не выполнил какого-то предписания.
Сватеев усмехнулся, полагая, что и девушка ответит ему улыбкой, но она вполне серьезно сказала:
— Ладно, ладно! Не будем. Расскажите немножко о Москве. Как там, что?
— По-моему, как обычно.
— А Большой?
— Что большой?
— Театр. Что там идет?
— Летом — ничего. Может, гастроли какие-нибудь. Вообще же, точно не знаю.
— Как, вы редко ходите в Большой?
— Последний раз… надо подумать… Да, лет десять назад был. С дочкой. Кажется, на «Лебедином озере».
— Нет, вы шутите. Не могу поверить.
— Не могу ничем доказать. Вот разве… Заспорили как-то на работе, все инженеры, сколько коней в колеснице на Большом театре, — никто правильно не ответил.
— Четыре коня. А Кремль имеет двадцать башен. В Музее имени Пушкина выставка французских импрессионистов.
— Отсюда, пожалуй, виднее.
Девушка не поняла и этой шутки, серыми, некрупными глазами она, не мигая, изучала пришельца из другого мира, и Сватееву казалось, что он чувствует на своем лице невидимое, колкое излучение ее глаз.
— А цирк, музеи?
— Цирк в телевизоре вижу. На выставках бываю. Правда, не часто.
— Ой, как хочется в Москву, полжизни отдала бы!
— И часом не жертвуйте. Поезжайте просто, и все. Приедете, меня в Большой сводите.
— Серьезно? И адрес можно записать?
Сватеев кивнул, сказал свой адрес.
— Я ведь дальше Николаевска нигде не была. Скажу маме — знакомые в Москве. Может, отпустит.
Пройдя между полками, Сватеев посмотрел книги — больше толстые, романы, повести, многие изрядно потрепаны: значит, читают сутимцы.
— Две тысячи, маловато, — как бы извиняясь проговорила девушка. — Пополняемся. Колхоз деньги выделяет.
— Клуб-то Колгуев построил?
— При нем.
— Ну, девушка, скажите, как вас звать, и я пойду.
— Нина. Нина Ступина.
— Так. Ступа, ступенька… Не обижайтесь — это я чтобы запомнить. Соберетесь — напишите мне. Мама моя очень обрадовалась бы такой сутимке.
— Ой, спасибо вам! Хорошо, что зашли. — Нина проводила Сватеева на крыльцо, спустилась по ступенькам, подала руку.
У сельсоветской калитки он оглянулся: Нина все еще стояла, глядела ему вслед и улыбалась.
Над аккуратным домиком сельсовета плескался свежий флаг, а в палисаднике… были высажены тоненькие хлыстики тополей и березок. Это в тайге-то! Сватеев едва не споткнулся о порожек калитки. Клумбы — ладно, даже георгины — пусть, хотя они здесь не успевают распуститься задыхаются в тумане. Но саженцы… Какими темпами поперла в глухомань современность!
Соловьев сидел в общей комнате за столом заседаний; сбоку, в своем особом уголке, располагалась секретарь-машинистка; на стульях, у стены, стеснительно и молчаливо сидели пять разномастных, русских и эвенкийских, мальчишек.
Пригласив Сватеева к столу, Соловьев, несколько таинственно, сообщил:
— Допрос делает.
— Их? — Сватеев глянул на мальчишек.
— Правильно, их. Понимаешь, хулиганство случилось: на вертолете парашют украли. Лесная охрана — вертолет. Кто может такое делать? Они, однако.
Мальчишки зашмыгали носами, насупились, отвернулись кто куда. Были они из тех сельских, пропаленных жаром и холодом, бывалых, умеющих и рыбу поймать, и белку добыть, и у костра переночевать — и потому спаянных крепко, верных друг другу, не испорченных житейскими удовольствиями, дорогими игрушками и вещами. И парашют им понадобился конечно же не для забавы (палатку или парус из парашютного шелка сшить). Дело, на их взгляд, вполне стоящее, необходимое. Очень нелегко придется наезжему следователю, можно ему посочувствовать.
— Афанасий Семенович, — присев у стола, обратился к председателю Сватеев, — вижу, дело затянется. Не доложите ли, о Елькине хочу поговорить.
— Пробовать будем. — Соловьев поднялся, осторожными шагами, как на охоте, приблизился к своему кабинету, просунул в дверь голову, спросил разрешения войти, прикрыл неслышно за собою дверь; минуты через две-три он появился вместе с потным, красным мальчишкой, сказал: — Вас принимает товарищ следователь.
Сватеев вошел, поздоровался, молодой, лысоватый, в крупных очках и строгом черном галстуке следователь, утомленно глянув, указал на стул, Сватеев прошел, сел и сразу почувствовал себя одиноким: стул стоял напротив стола, почти посередине комнаты — так обычно не ставят стулья, — и видеть можно было лишь человека, сидящего за столом — глаза в глаза, да еще стену с плакатом на красном сатине позади него.
Готовясь к этой встрече, Сватеев никак не ожидал официальности, для начала намерился поговорить о празднике сутимцев — прибытии грузовика, спросить о мальчишках, подозреваемых в краже парашюта, но сейчас, переборов первое смущение, не дождавшись вопросов следователя, сказал прямо:
— Я о Елькине.
— Знаю, — чуть дрогнул бровями молодой человек, слегка отпрянул к спинке стула, отвел взгляд в окно, на зелень лиственниц. — Сразу предупреждаю: вы даже в простые свидетели не годитесь.
Этого уж совсем не ожидал Сватеев. Если он и поступил необдуманно — пришел замолвить слово за старика Елькина, то можно вежливо объяснить, ну, выслушать снисходительно: все-таки между ними большая разница в годах… И вдруг он ощутил, как ожог, прилив крови к голове. Проснулось в нем упрямство, даже злость. «Нет, теперь я так не уйду!» — сказал он себе.
— А вы знаете, кто сюда первый пришел? — спросил он, спокойно, четко произнося каждое слово. — Самый первый, из русских?
— Какое это имеет значение?
— Имеет.
— Не припомню.
— Иван Москвитин, томский казак, в тысяча шестьсот тридцать девятом году. Я вот прикинул сейчас — почти дата: триста тридцать лет назад. А значение такое: Елькин Харитон Константинович — амурский казак, и пришел сюда жить, и прожил в районе сорок пять лет.
Следователь смотрел в окно, молчал, но что-то едва заметное изменило его лицо — оно расслабилось, стало еще более молодым, маленькое, приплюснутое к жиденьким волосам ухо начало вроде бы прислушиваться.
Медленно, упрямо, словно внушая свое понимание истины, Сватеев начал говорить о первых поселенцах в этих местах, где поначалу нужны были не специалисты с высшим образованием, а простые смертные, умеющие построить теплую хибару, раскорчевать делянку под картошку, приучить эвенков к хлебу, деревянному жилью, выказать терпеливую дружбу; знающие, как поймать рыбу, убить зверя, сплавить лес, обжечь кирпич, сложить добротную печь: не все из них выживали — мучила цинга, гнус, длинные пуржистые зимы, одиночество, подстерегала пуля шаманов; и уже потом в обжитые поселки приехали работники первых культбаз, учителя, врачи — им тоже было нелегко, но уже не так, совсем не так: о сегодняшнем Сутиме и говорить нечего — самолет каждый день прилетает, автомашину колхоз купил, кино, артисты из Хабаровска наведываются. А Сутим — просто поселок, даже не районный.
— Заранее соглашусь, — сказал Сватеев, — была и осталась в Елькине стихийность, передалась от первых землепроходцев: его дед пришел на Амур, сам он подался дальше, в самую таежную дичь. Не прижился он на приисках, в колхозе тесен ему был любой порядок. Делал все, тратил силы не жалея, а пенсии не заработал, ничего не нажил, остался бобылем… И эта, последняя беда наверняка связана с характером Елькина: привык сам судить и рядить, ни на кого не надеясь. По старинке: закон в тайге — сила.
Следователь придвинулся к столу, внимательно оглядел Сватеева, снял, отложил в сторону очки, и стало видно, что крупные стекла не искажали его глаз, — значит, носит он очки для солидности, с неоптическими стеклами. Вновь Сватеев почувствовал прилив крови к голове, хотел подняться и молча выйти, но следователь улыбнулся, тонкие губы показали четыре металлических зуба, бледные десны.
— Отличная защитительная речь, — несколько задумчиво проговорил он. — Особенно последнее, насчет стихийности… А вот сердились вы на меня зря: я не собираюсь Елькина засаживать. Будет суд, разберутся. Ну, если хотите знать мое мнение, — он опять, еще свободнее улыбнулся, — срока старик не получит, условно, может быть… Вас это успокоит?
— Вполне.
— Ну, а нанимать батраков ему запретят.
— Как же он проживет?
— Придется все-таки идти в коллектив. Узаконить свой труд.
— Сможет ли… Впрочем, много ли ему теперь надо? Двадцать — тридцать рублей заработает.
— Вот и подскажите землепроходцу: пусть кончает проходить. — Следователь поднялся, приблизился к окну, открыл настежь створки — над лиственницами засинело небо, блеснуло солнце. Был он довольно рослым, сутуловатым — той сутулостью, которая чаще всего приобретается в детстве от тяжелой работы. — Я ведь местный, из района. У меня дед такой же Елькин. Правда, по старости приутих… А вас я встретил холодновато, да?.. Понимаете почему? Приходят иные, скучающие, себя показать. Да еще из Москвы, подумал. Простите.
Подойдя к Сватееву, он подал ладонь — она оказалась неожиданно широкой и веской, — спросил:
— Когда улетаете?
— Собираюсь завтра.
— Привет столице. И… если захотите узнать о Елькине, напишите мне, отвечу. Вот вам адрес. — Он набросал шариковой ручкой несколько слов на блокнотном листке. — Старик не соберется, да и писака — только фамилию накорябать.
— Спасибо. — Сватеев взял листок», прочел: «Дергачев Иван Иванович». На мгновенно ему показалось, что фамилия очень знакома, он слышал ее много раз тогда, в старом Сутиме («Не Дергачев ли был директором районной культбазы?»), но расспрашивать не стал. — Спасибо, не предполагал такого оборота.
Молодой Иван Иванович рассмеялся совсем уже свободно, по-домашнему, даже языком прицокнул.
— В прошлом году в отпуск ездил, — заговорил, присаживаясь на край стола. — Через Москву. На Казанском вокзале стал в очередь за билетом на самолет, подвигаюсь понемногу, и чемодан свой подтаскиваю, возле ноги держу. Потом какой-то шум начался, кто-то без очереди полез, толкучка. Наклонился за чемоданом, а его нет. Туда-сюда — украли. Пошел искать милиционера, хотя бы пожаловаться. Долго что-то искал, минут двадцать. Веду показать, с какого места багаж похитили, приметы чемодана рассказываю. Подходим, а чемодан мой у стенки стоит, с виду невредимый. Открыл я его — все мои четыре дыни и персики на месте. Одна дыня, правда, ножом разрезана: проверили, не везу ли драгоценности внутри. — Иван Иванович захохотал. — Фрукты-то не понадобились, зеленые были, мне же их везти десять тысяч километров. Вот вам и оборот чемоданный, полный. Столичная работа. Поймете теперь меня.
Посмеявшись за компанию, еще раз пожав руку следователю, Сватеев вышел, облегченно думая: «Милый, толковый парень. Никогда не угадать, как пройдет, чем закончится встреча с новым человеком». И только безокулярные очки — для солидности — несколько расстраивали Сватеева: «Зачем это ему?»
Соловьев, живо препроводив в кабинет на допрос очередного хмурого мальчугана, сказал Сватееву:
— Тебя тут парочка ожидает, два симпатичный женщина. — Сморщился в нехитрой, широкой улыбке, но сразу же, что-то вспомнив, посерьезнел, выпрямился. — Звонил в райисполком, там звонили в область — можно ребятишкам имя свое давать: Чочан, Гирен, Маргеша, Сурина. Какое хочешь, говорят.
— А кто запрещал?
— Не знаю.
— Смешной вы, Афанасий Семенович. В Москве Арнольдов, Оскаров, Тимуров, Аз, Буки, Веди — не сосчитать. А Маргеша — совсем хорошо, почти как музыка.
Председатель сельсовета покачал головой: мол, вам там все можно, мы порядок должны соблюдать, нельзя, чтобы каждый, сам по себе решал вопросы. Он молча и вежливо проводил до двери гостя.
На скамейке у крыльца сидели Лера и Маша, поднялись, увидев Сватеева.
— Время обеда, Алексей Павлович. Приглашаем… — Маша примолкла, быстро, настороженно глянула на Сватеева. — Наши медведя подстрелили… Если хотите вспомнить, какой амака…
— Хочу, — ответил Сватеев, взяв под руки Леру и Машу.
— Только… Я в палатке, у бабушки заказала.
— Еще лучше!
Свернули в багульник, на тропу, присыпанную желтыми лиственничными иголками; сквозь ветви пятнами падал свет, на полянках синими каплями посверкивали ягоды голубики. Останавливаясь, набирали полные горсти; Маша, как в собственном саду, показывала Лере, с каких кустов ягода вкуснее, угощала переспелой мягкой морошкой. Лера хотела казаться веселой, а глаза ее — от усталости или задумчивости — были не совсем послушны, словно она старалась оживить их и никак не могла. Она почти не слушала, что рассказывал Сватеев о следователе, однако улыбнулась, когда со смехом, больше для нее, он описал благородный поступок московских воров. Маша брала ее за руку, уводила вперед по тропе, отыскивая грибы — маслята, моховики, сыроежки — «русскую вкусную еду», Лера бросала грибы в целлофановую сумочку, собираясь нажарить вечером. «Может, Маша что-нибудь ей наговорила о школе, поселке?» — подумал Сватеев и, глянув в их сторону (они стояли в пятне света, резко очерченные), внезапно, с испугом сказал себе: «Боже мой, как она молода!» Маша Шустикова рядом с нею казалась морщинистой и старой.
Вышли к одинокой палатке на мшистой поляне под лиственницами, у входа, подобрав под себя ноги, сидела старушка в расшитом халате из оленьей кожи, рядом подремывала крупная черная лайка, приоткрыв желтый глаз, и Сватеев сразу узнал это место, хозяйку палатки, собаку: в первый день, идя от Елькина, он набрел на одинокое как бы забытое людьми становище, заговорил со старушкой, спрашивал о своем отце. Сейчас хозяйка была не одна — в глубине палатки полулежал на шкурах лысый, с жиденькой седой бородкой старик.
Маша сказала несколько слов по-эвенкийски, старушка бодренько поднялась, закивала; старик тоже оживился, проговорил «Дорово!», но не вышел, а кивками, рукой начал приглашать войти в палатку.
— Мои этыркэн, старики. Приглашают в палатку. — Маша откинула и придержала полу. — Проходите.
Сватеев наклонил голову, вошел внутрь и так же, не разгибаясь, прошагал к старику, сел справа от него; позвал Леру, она, покачиваясь на еловых ветках, в несколько слоев устилавших землю, пробралась к нему, хотела сесть, но старик, придержав ее, бросил на медвежью шкуру кумалан — меховой, расшитый коврик. Сватеев подивился: «Старик-то джентльмен, раньше у эвенков не было такого — оказывать особое внимание женщине». Маша заняла место слева от старика, поговорила с ним, и наступила минута тишины.
В палатке сильно пахло сыромятными кожами, сушеной пресной рыбой-юколой, свежей еловой хвоей, продымленным полотном. И вид наружу в треугольник входа был необычным: стволы лиственниц, кусты стланика, тренога с черным котлом, в котором варилось мясо, даже огонь костра, — все выросло, вздыбилось, закрыло собой небо, пространство; поднялась, отряхнулась черная лайка, загородила собой полсвета.
— Летом живут, — сказала Маша, — желают по-старому немножко.
Она заметно смущалась: ей тоже неудобно, тесно это полотняное жилище, и Сватеев подумал о стариках: «Из дома им слишком широко видно, а они привыкли к маленькому, тихому, понятному миру».
— Как-то страшно даже, — прошептала Лера, припадая к Сватееву плечом; он взял ее руку, наклонился к ее уху:
— А мне хорошо. Вспомнились все палатки детства. Особенно запахи, костер.
Маша попросила о чем-то старика, он закивал, покашлял в ответ, вынул из берестяной котомки железную подковку, натертую до блеска, поднес к губам — это был старинный эвенкийский музыкальный инструмент, — тронул пальцами пластинку, прикрыл ее губами и сразу открыл рот; возникший звук сначала задребезжал, потом как бы охнул в округленной пустоте рта и опять, прижатый губами, жалобно затренькал, застонал.
Мелодия потекла медленно, дремотно, вздыхая, выговаривая непонятные слова, она напоминала шум деревьев, плеск волн, она успокаивала, усыпляла, рассказывала о невообразимо длинной жизни таежных людей у студеных рек и холодного моря, жаловалась на злых духов, некогда изгнавших людей из теплых стран.
Старик умолк, отер краем рубахи инструмент, положил в котомку: все, играть больше не станет — нехорошо, не положено, обидятся духи.
— Такая старая сказка есть, — негромко заговорила Маша, — о колдуне Карендо. Этыркэн, наверно, про него играл.
— Расскажите, — попросила Лера.
— Ну, там просто… Прилетел злой Карендо (у него железные крылья), забрал всех эвенков работать на себя. Осталась в маленьком чуме старушка, пошла по стойбищу, увидела забытого ребенка. Взяла его, стала растить. Вырос красивый сильный юноша, спросил, куда пропали жители поселка. Старушка рассказала про злого Карендо. Начал юноша делать себе железные крылья, а когда крылья были готовы, полетел искать колдуна. Сначала убил моржа, потом медведя, потом оленя. Старуха говорит — все они не Карендо. Наконец она вспомнила: колдун похож на человека, улетел в горы, где заходит солнце. Полетел туда юноша (а у него было имя Бэркэн — ловкий, отважный), нашел железный чум Карендо. Вылетел страшный колдун на бой, но не смог подняться выше Бэркэна. Напал сверху юноша, сшиб на землю, убил Карендо. Выпустил потом из железного чума сородичей, указал дорогу в родное стойбище. Так началась для эвенков новая хорошая жизнь.
— Запишу, — сказала Лера, — запишу эту сказку.
— Есть еще много, — засмеялась Маша, крикнула хозяйке, медленно двигавшейся у котла: — Ава! — и та внесла, поставила на низенький резной столик эмалированный таз вареного, пышущего паром мяса.
В палатке сделалось дымно, душновато. Сватеев почувствовал, как пуст у него желудок, и, в какой уже раз, стал рассказывать Лере, что в Москве, на Комсомольском проспекте, есть магазин «Дары природы», продают иногда оленину, медвежатину, боровую дичь; он ходит туда, покупает, на худой конец, какое-нибудь сайгачье мясо, но разве все привозное, перемороженное, передержанное, можно сравнить с этой горой дикого мяса, не потерявшего свежести, хранящего запахи, соки тайги.
Из котомки старик достал бутылку водки, разлил в пять стаканов — по числу присутствующих (Сватеев кивнул Лере: «Вот где равноправие, полная эмансипация»); старуха бросила каждому на колени по лепешке (Сватеев разломил свою, понюхал: лепешка была испечена по-старинному, с тертым сушеным лососем, сушеными тертыми ягодами голубики); в мисках старуха принесла силэ — мясной бульон, старик взял в руки два остроносых охотничьих ножа и, поддевая куски мяса одним, ловко, на весу, пластал их другим, затем поднял свой стакан, легко выпил водку, молча, ни на кого на глядя, концом ножа наколол жирный кусок, принялся есть.
— Хозяин подает пример, — сказала Маша, подождала, пока старуха так же молча выпьет водку, возьмет мясо, выпила сама. — Хозяйка тоже показывает: водка вкусная, мясо для гостей сварилось.
Сватеев тронул стаканом стакан Леры, она со страхом глянула на свои сто граммов, прижмурила глаза, будто боясь потерять сознание, — Сватеев шепнул с усмешкой:
— А то никакой истории больше не услышите.
Ели мясо, запивали силэ, и Лера почти не открывала глаз, существовала как в полусне — чтобы не выказать смущения или не видеть жирных, горячих, пахнущих душно, приторно-сладких кусков медвежьего мяса, — жевала осторожно, прислушиваясь, словно в любую минуту ее могло стошнить; Сватеев подумал: «Вот каким стал Дальний Восток — хабаровчанка не пробовала медвежатины».
— Не забывай, — шепнул Лере, — вкушаем плоть священного животного.
Понемногу палатка наполнялась пожилыми эвенками, стариками, старушками в расшитых узорами халатах. Они чинно рассаживались на шкурах, молчали, не прикасались к еде. И хозяева их не угощали… Сватеев указал на мясо, пригласил:
— Кушайте.
Все разом заулыбались, замотали головами, решительно отказываясь; старик, сидевший рядом с Машей Шустиковой, самый древний и печальный, проговорил едва внятно:
— Пасибо. Наша кушал.
Сватеев припомнил, что по родовому обычаю, который кое в чем сохранился наверняка до сих пор, мясо медведя делится между всеми сородичами. Это как бы причастие, священнодействие. Праздник, в честь бога амака — предка человека.
— Они все, — Маша обвела рукой тихих гостей, — любили вашего папу.
Приподнявшись, Сватеев приложил к груди руку, поклонился.
— Ая! Со ая! — вдруг, как бы сами по себе, выговорились, давно позабытые слова восторга. — Спасибо.
Печальный старик потянулся к нему, на сухоньких дрожащих руках преподнес ярко расшитые орнаментом нерпичьи торбаса. Словно по сигналу, каждый что-нибудь положил у его ног: перчатки из оленьего камуса, тапочки, коврик-кумалан. Сверху оказалась почерневшая от времени, обгоревшая костяная трубка.
— Подарки вам, — сказала Маша. — Эта трубка тоже. Хозяин, — она указала на сивенького, полуслепого, в клетчатой магазиновой рубашке старика, — говорит: ее курил директор культбазы. Они дружбу заключали против шамана. Жалеет — туесок не сохранился, спирт вместе пили.
Чувствуя, что глаза влажнеют и сейчас придется доставать платок, Сватеев поднялся, пожал руку хозяину, хозяйке, наклонился к каждому из гостей, тоже пожал руку, благодаря за встречу, подарки, и, едва видя просвет между полами палатки, вышел наружу. Следом выбрались Лера и Маша, неся дары сутимцев. Сватеев оглянулся — из палатки никто не выходил, порадовался сдержанности, ненавязчивости северян, но и Маша с Лерой стесняли его сейчас: хотелось успокоиться, побыть одному. Вспомнив, что собирался зайти к Елькину, он сказал им об этом, и они охотно, даже излишне дружно, отпустили его, Лера слегка помахала рукой: возвращайся поскорей.
Шагал Сватеев под гору, думал о стариках: никого из них он не помнил. А ведь и тогда они жили в поселке, он не мог их не знать — это отцы друзей его детства. Время изменило их, сделало другими людьми.
В кармане плаща Сватеев нащупал что-то твердое, вынул — и рассмеялся: на ладони у него важно восседал деревянный божок — хэмэкэн; был он темен, глянцевит от давности, скуласт, с хитроватым прищуром узких глаз, лыс, гол, короткорук и коротконог, напомнил китайского будду и всех стариков, сидевших в палатке. Его сонная фигурка, брезгливо сомкнутые губы говорили одно: надо жить долго, мудро, тихо.
«Вот это сувенир раздобыла Маша! Выпросила или так взяла, сунула в плащ… Да и обед, встреча — обо всем позаботилась она, как премьеру разыграла».
Тропинка вывела к домам, слилась с улицей; доски тротуара берегом Сутима побежали в сторону рыбозавода. Сватеев повернул к хибарке Елькина; зайдя во двор, увидел хозяина у самой воды: Харитон Константинович разбирал печь, жженый известковый камень укладывал в мешки, завязывал бечевкой, относил мешки под навес — от дождика, чтобы камень раньше времени не превратился в известку. Обрадовался гостю, отер о подол рубахи руки, стряхнул зольную пыль с кепчонки и бороды, сморщился в улыбке.
— Ждал, думал, к обеду будешь… За работу принялся. Зайдем в хибару.
— Да я уже наобедался. Эвенки угощали.
— Все одно, зайдем. Тут у меня не прибрано.
В жилище сутимского долгожителя сегодня было чисто: пол вымыт, посуда уложена на полку, стол выскоблен до желтизны, кровать покрыта свежим одеялом, к стене приколото несколько журнальных картинок, изображавших пышные южные страны. И лишь вырезанная для экспертизы половица зияла чернотой, и оттуда, казалось Сватееву, тянуло зимним погребным холодком.
Харитон Константинович поставил на стол бутылку, сноровисто собрал закусить: рыбу, мясо, икру, открыл банку куриной тушенки (сколько же ее в магазине?), налил по полстакана (меньшей дозы здесь, видимо, не признавали).
— Ну, Павлович, окажи милость.
— Я тут сопьюсь, дядя Елькин.
— Дома передохнешь… Я сам по молодости жадный был до этого. Теперь не могу, ослаб. Только с устатку да при госте. Да вот с тобой. Когда по причине, при добром желании — от нее ничего не бывает. Так что примем на память.
Приняли, закусили. Действительно — как вода пошла, Сватеев даже поморщиться не успел: Елькин дал запить голубичным соком, а потом поднос ложку красной икры — при всем «добром желании». Сам неспешно помял в деснах мякиш вяленой рыбы, подождал легонького опьянения, попросил:
— Слушаю.
Чтобы не мучить старика долгими россказнями, Сватеев сразу сказал главное — все должно обойтись («Конечно, будет суд, разбирательство»); следователь хоть и молодой, с гонорком, однако толковый и, что очень важно, местный, знает, как жили здесь прежде, как живут сейчас. Сам предложил обменяться письмами, сообщить о решении суда.
— Так что терпи, казак.
Последними словами Сватеев хотел хоть немножко развеселить Елькина, и тот было принял шутку, размяк от улыбки, но по какому-то внутреннему, больному толчку насупил брови, уронил на грудь будто срезанную голову, и две скуденьких слезы едко прорезали щеки, угасли в морщинах.
И опять, как в первое посещение, в самом сумеречном воздухе хибарки, низком потолке, убогом скарбе ощутилось глубокое, неисправимое одиночество человека — хозяина этого жилья. Хотелось громко крикнуть, спугнуть сумрак, тишину. И робость, оторопь брала отчего-то…
Множество вопросов живыми знаками повисали в пустоте, рисовались на стенах: «Кто он? Почему прожил такую длинную одинокую жизнь? За что судьба так жестоко обошлась с ним?..» Минутами казалось, что разгадка где-то рядом, стоит лишь вглядеться, припомнить прежнюю силу, разбойную лихость Елькина. Кто не знал его в этих местах, кто больше него добывал денег, кто не опасался за свою молодуху-жену? Но сила, лихость покинули старое тело… И вот тут разгадка… Может быть, вот она: многолетняя вера только в себя, только в свою удачливость стала инстинктом самосохранения — темным, упорным.
— Харитон Константинович, — заговорил Сватеев, когда старик нехотя приподнял голову. — Как же получилось, что вы…
— Один живу?
— Да.
— Характер такой оказался. — Елькин помял в руках кисет, сунул в него трубку и позабыл закурить. — Зачем тебе, Павлович? Жизнь-то прошла. Скажу, если желаешь. Думаю: кровь эта за вину на меня пала. — Вспомнил о трубке, задымил. — Бежал я с Амура, девка из-за меня повесилась. Дурак был. Плохая история. Думал, забуду, вернусь — душа не пустила. Все, Павлович, больше не спрашивай.
Сватеев налил водки, потрясаясь: «Легенда, жуткое сказание, мистика какая-то!» Подал стакан Елькину, положил ему на плечо ладонь. «Боже, какое широкое и твердое!»
— Все. И простите, — сказал через минуту, после закуски, молчания. — Сам старею… Вчера на кладбище ходил. Ни одной старой могилы — стланик покрыл… Будто виноват перед Витькой, Тамарой Паттерсон. В памяти — живые, а там и приметы маленькой нет.
— Кому сохранять? Родные уехали, чужим не надо. Да и стланик — зараза: на глазах жрет.
— А Тамарка? Ее-то сородичи все здесь.
— В лучшую жизнь ушла, считается. Они не жалеют умерших.
Так и должно быть: маленький дикий народ, кочуя по тайгам и тундрам, не мог иметь кладбища, тем более — оберегать могилы, потому и решал просто, мудро: мертвые уходят в лучший, потусторонний мир, нужно провожать их туда с радостью.
— Этому, своему… — Елькин отвел взгляд, опустил голову, — ограду поставлю, крест сколочу. Русский человек все ж таки.
Примолкли, отдыхая от слов, житейских размышлений. И снова Сватеев ощутил тишину — шумящую дальним потоком, напряженную, прохладную, усыпляющую. Тишину медленного времени, пустоты, неспешных забот. Она была жутковата, ее хотелось сбросить, как тяжкую ношу, но и хотелось побыть в ней, слиться с нею — она лечит, баюкает, высасывает из тела черноту городской усталости. Тишина шумит, уговаривает: «Останься навсегда. Смотри на эти леса и горы, дыши прохладой моего моря, рек, озер. Питайся мясом и рыбой. И обретешь покой, и вернутся к тебе — по дню, по минуте — тридцать непрожитых здесь лет… Слишком много впиталось в тебя сутимского… Останься же у нас, и проживешь долго, так долго, тихо и мудро, что не пожелаешь себе могилы, памяти после смерти…»
«А самолет, машина?» — спросил Сватеев. Тишина зашуршала, засмеялась деревянными губами хэмэкэна: «Они очень маленькие, они еще много лет будут в Сутиме маленькими». — «Нет! — вздрогнул Сватеев, — Я не выдержу тут и года. Я — человек города». Он почувствовал себя городской частицей, выпавшей в пространство, в тишину, медлительное время, — нелепой, ненужной здесь. А там, в Москве, на его заводе — Сватеев почти увидел это — зияла пустота: его место.
— Надо возвращаться, — вслух сказал он.
— Уходишь? — очнувшись, спросил Елькин.
— Да. Улетаю.
— Скоро?
— Завтра. Первым самолетом.
Они поднялись, вышли во двор, прошагали медленно мимо поленницы дров, навеса с мешками жженого известняка, погашенной и разобранной печи («Кто же ему будет камень возить?» — подумал Сватеев), на углу остановились. В доме напротив колыхнулась и замерла темная занавеска: Полуянова несла неусыпную службу наблюдения.
— Не зайдешь? — любопытно, сбоку глянул Елькин в глаза Сватееву.
— Теперь нет.
— Правильно. Облегчения не получишь.
Харитон Константинович выглядел почти бодро — от водки ли, разговора, хороших ли вестей, — ожила в глазах у него хитроватая усмешечка, в движениях — уверенность: ничего, попрыгаем еще! Он даже взял Сватеева, и довольно крепко, под руку, пошел проводить. У горы придержал, слегка повернул к себе, несколько смутившись, спросил:
— А как же с этой барышней?.. Красивая она, добрая. Не жалеешь?
— Жалею, — Сватеев ощутил горячий толчок и груди, покачал головой, словно бы умоляя: не будем, не надо, не могу об этом говорить.
— Ну, ну. Я так. Извиняй. Жалеешь — хорошо. Давай руку. Попрощаться явлюсь.
Сватеев заторопился вверх по улице — там, над лиственницами, еще розовело закатное небо, а позади, со стороны недалекой лайды, блеклыми сумерками наплывал туман. Сватеев чувствовал его сырость спиной, уходил от него, но у конторы он обогнал, низом потек во дворы и огороды.
ЗИЛ стоял у крыльца, был одинок, сиротлив; тупое, запотевшее моросью, глазастое рыло казалось перекошенным от зевоты и железной тоски. Сватеев провел ладонью по фаре — она будто мигнула ему, — сказал: «Здравствуй, земляк. Именно — здравствуй. Работай, не болей. Кому-то и здесь надо начинать работать». Обошел вокруг ЗИЛа, хлопнул слегка по капоту, шагнул в сторону и наткнулся на человека.
— Это в-вы? — громко удивился человек, покачнулся, подступил ближе. — Вас как раз я ищу. Поговорить желаю.
— Так уж меня?
— Можно вашу д-душу, — с некоторым усилием выговорил человек, и Сватеев узнал в нем нового завуча школы, зазывавшего его и Леру к себе и гости.
— Весь перед вами, с душой и телом.
— Отлично. Т-тело тоже пригодится как презренная плоть. Ставлю вопрос: з-зачем вы развращаете девушку перед глазами учащихся и общественности?
— Если не отвечу?
— Я плюну вам в душу, н-нанесу телесное оскорбление.
Первым желанием было — взять за лацканы пиджака этого всегда пьяного и всегда опрятно одетого человека, тряхнуть так, чтобы замоталась и протрезвела его головенка. Но сразу явилась мысль: «А ведь завуч прав — глупо, нехорошо ведет себя и он, Сватеев, и Лера. Как на необитаемом острове». Второе желание, разумное, простое: «Нельзя же затевать драку, ругань на радость скучающему человеку!» — Сватеев выполнил немедленно. Сказав завучу «Посторонись», он двинулся на него, прошел мимо. Из темноты вслед ему послышалось:
— Гордый… Ш-шуток не понимает… А может, выпьем помаленьку, поговорим тихо?
Так и открыл дверь комнаты Леры, держа кулак правой руки в кармане — на случай, если бросится элегантный человек, — огорчился за свою непривычную нервность, разжал пальцы.
— Добрый вечер, Лера.
Она была уже рядом, снимала с него плащ, потом взяла за руку, повела к столу, а когда он сел, спросила:
— Опять чуть жив?
— Да.
— Сделаю чаю крепенького.
— Не надо. — Сватеев положил руки на ее плечи, приблизил лицо — так, что глаза Леры стали казаться ему расплывшимися, тающими льдинками, она насторожилась, захолодела, как от предчувствия неминуемого испуга. — Что нам делать, Лера?
Плечи у нее опали, она словно бы облегченно вздохнула, отвела взгляд, опустилась на краешек стула.
— Вы мудрее, Алексей Павлович.
— Старее. Но все равно скажу, не могу не сказать. Ты должна…
— Подождите. Вы же еще приедете? Хотя бы через тридцать лет.
— А серьезно?
— Улетайте, Алексей Павлович. Издали посмотрим друг на друга. Время…
Ответ Леры, ее полуулыбка, еле заметная (в морщинках около губ), были неожиданными для Сватеева, он смутился, затем, рассердившись на себя, начал говорить о времени — почему-то слово «время» больше всего возбудило его. Вскочив, расхаживая от стола к окну, дымя сигаретой, он говорил, что время — понятие относительное: минута — время, и столетие — время, но иногда в минуту может свершиться то, чего и столетиям не исправить. Вот эти три дня — разве он думал, что они будут такими? Три дня — как целая жизнь. Теперь, сколько бы лет ему ни выпало впереди, прошлое и будущее разделили эти дни. Он будет говорить: до Сутима, после Сутима…
Лера остановила его, пригладила растрепанные волосы, прикоснулась губами к щеке, кивнула на стол, где стояли наполненные стаканы.
Пили чай, молчали, слушали тягучий шум лиственниц над крышей дома, и вдруг дохнула ветерком дверь, из темноты коридора просунулась широкая, всегда распаренная физиономия Антипкиной (сторожиха являлась внезапно и неслышно, будто присутствовала во всех уголках дома сразу).
— Чего-нибудь кушать подать? — спросила нарочито весело, как спрашивают о здоровье у безнадежно больных.
Отказались, исчезла, не нарушив шума лиственниц.
Сватеев посмотрел на Леру: взгляд ее был неподвижен, руки позабыты на столе, резкие тени лежали в глазницах, вся она обратилась в себя, и Сватеев едва ли не кожей своей ощутил ее внутреннее напряжение, ту, особенную ее суть — упрямство, холодность, решительность, — суть, которую он отметил в ней при знакомстве и которая как бы притихла, сделалась незаметной потом и вот сейчас опять резко проявилась — так, что Лера, казалось, не может с собой, внутренней, справиться и в любую минуту скажет нечто неожиданное, поступит нехорошо для самой себя, для него. Сватеев понял: никакой власти над Лерой он не имел, была видимость власти — женская покорность. Холодок коснулся его лба, щек, занемели кончики пальцев. Ему до задыхания хотелось оставить все по-прежнему, как было, ничего не трогая — ни сказанных слов, ни поступков, и, не зная, что для этого сделать, он тихо позвал:
— Лера.
Она не услышала. Он положил свою ладонь на ее руку, стиснул ее пальцы, позвал снова. Она очнулась, сказала:
— Извини. Я тоже устала.
— Может… мне уйти?
— Что-о? — удивленно пропела Лера, помолчала, четко выговорила: — Завтра. А сейчас… — Она вскочила, разбросала постель, пригасила свет. — Надо спать.
Он еще сидел, сгорбившись, когда она подбежала к нему, стянула пиджак, развязала галстук, смеясь, неумело принялась расстегивать пуговицы рубашки, он говорил, что легко разденется сам, даже отбивался, тоже смеясь, она соглашалась с ним и все равно помогала, расшнуровала ботинки, а после, полив из графина на край полотенца, отерла ему лицо, шею, руки.
Он лежал в кровати, отдавая усталость чистым простыням, видел, как Лера, опять серьезная, медленно вышла из комнаты, вернулась, долго расчесывала волосы, трогала пузырьки на столе, смотрела в окно — там выплывала и вновь окуналась в облака луна. Он закрывал, открывал глаза — казалось, не будет конца ее предночному ритуалу — и не мог уснуть, ожидая, боясь упустить минуту, когда она, прохладная, тяжелая прикоснется к нему.
Уснули на рассвете, заметив, как ветви лиственниц начали розоветь на блеклом далеком зареве. Почти тут же, почудилось Сватееву, сквозь тонкую пленку забытья, он услышал:
— Ай, соня-засоня!
Вскочил, подумав, что проспал самолет, опустил на пол ноги, слева в груди возникла резкая боль, жаром обдала голову, понемногу притупилась, окропив лоб прохладным потом. Лера, склонясь над столом, гладила ему сорочку; брюки, галстук, отглаженные, висели на спинке стула. Сватеев еще минуту сидел, прислушиваясь к своему сердцу, говоря себе: «Это от резкого движения, как-то уже было так, незачем пугаться…» Лера повернулась к нему, и улыбка, вздергивавшая кончики ее губ, исчезла, будто оброненная (ей не понравился вид Сватеева). Желая, наверное, услышать его голос, она сказала:
— Доброе утро.
Он ответил как можно веселее, выгадывая минуты покоя, глядя на Леру: она была в легком халате, причесанная, свежая, и на речку сбегала, и Антипкиной помогла, и глаженьем занялась. Подивился ее способности поздно ложиться и рано вставать. Молодость или характер такой?.. Припомнил себя двадцатитрехлетним. Нет, никогда не отличался «ранневставанием», да и подвижностью особенной тоже, в последние годы и того хуже — гимнастику запустил, надеясь на прирожденную силу.
— Вам нехорошо, Алексей Павлович?
— Душа не летит.
Лера подошла, села рядом, уперла в колени локти.
— Вы же решили. Ваши вещи готовы. И дары Сутима упакованы. — На стуле лежал объемистый сверток в прочной пергаментной бумаге, опоясанной бечевкой. — Антипкина вытребовала для «представителя» балыка, юколы, икры… А потом мы договорились. Расстанемся — и поймем: зачем, почему… Поймем, я вам обещаю. Пойдемте, полью умыться. Севрюгин такой водички привез!
Все это она выговорила спокойно, напевно — так, вероятно, гипнотизеры внушают свою волю жаждущим смирения, — и Сватеев поднялся, вышел во двор.
Пока Лера обсуждала что-то с Антипкиной на кухне, он сходил к лесу, подышал росным, холодным воздухом, от леса пробежался легкой трусцой и подставил голову, спину под ковш, который держала и руке Лера, смеясь его страху, подбадривая:
— Ну, сутимской, родной!
Сели за стол втроем, у Антипкиной; сторожиха, очень уважая представительного москвича, просто-таки замирая при виде его, упросила позавтракать у нее в комнате, наготовила всяческих рыбных и мясных кушаний, выставила бутылку спирта, настоянного на бруснике. «Лекарственный напиток, — причитывала серьезно, — от многих болей и настроения помогает. Опробуйте?»
«Спробовали»: Сватеев полную рюмку, Лера половинку, Антипкина глоток. Красная густая жидкость полыхнула во рту, ожгла горло, горячим комком скатилась в желудок. Сватеев задохнулся — чистого спирта он никогда не пил, — принялся есть и, спустя несколько минут, улыбнулся словам Антипкиной: да, некое облегчение наступило, свет в окне, предметы, видимые сквозь влагу глаз, отдалились, уменьшились. Лера, смигивая слезы, махала перед открытым ртом ладошкой, смеялась, что-то говорила. Говорила почти неслышно: «лекарственный напиток» еще и глушил.
«Антипкина легко свела, легко разводит, — решил Сватеев, принимая вторую рюмку. — Зачем пью? С утра? А-а… легче будет лететь».
— Пора, — сказала Лера, глядя на свои крохотные, слезной капелькой часы. — До самолета сорок минут.
На крыльце интерната Антипкина схватила руку Сватеева, ласково рассиялась, пожелала «счастливенькой дорожки», попробовала даже перекрестить — получилось у нее неловко, и Лера, взяв Сватеева под локоть, повела к самолетной площадке, но не дорогой, а узенькой тропой через лиственничный лес.
Вчера, после встречи с завучем, Сватеев думал, что попросит Леру не провожать его: зачем делать представление всему поселку? Сейчас он понимал — совершенно невозможно отправить Леру домой, не увидеть ее в последнее мгновение, да и она, пожалуй, слушать его не станет, обидится. И такое утро, так густо, дико пахнет вечной северной хвоей — незабываемо, если тебе довелось когда-нибудь подышать этим воздухом.
— Лера, — сказал Сватеев, — я уеду, а ты останешься здесь.
— Да, — ответила она.
— Потом ты уедешь отсюда и все равно будешь любить Сутим.
— Может быть, — кивнула она.
— Я напишу тебе, Лера.
— Конечно, — согласилась она.
— Я всегда твой. Помни это. И скажи: тебе не страшно здесь оставаться?
— Что ты! Антипкина давно разнесла, что ты важный представитель, что у тебя ко мне любовь давняя, и теперь, когда умерла твоя старая жена, ты женишься на мне. Конечно, сначала дашь мне самостоятельно поработать: большие справедливые начальники не нарушают даже маленьких местных порядков.
Лера рассмеялась, остановила Сватеева, вспрыгнула на кочку, поцеловала его в лоб.
— Спасибо, Представитель!
В дальних горах, тайге, морском пространстве возникло тоненькое гудение, стало шириться, зависать в воздухе, приближаясь, вот уже сквозь оледенелую плоть воздуха начал прорываться захлебистый рокоток.
— Побежали. Тебе еще билет покупать!
Возле домика на краю глинистой, непривычно голой здесь площадки, под шестом с полосатым матерчатым сачком, надутым ветром, уже собрались пестрой толпой сутимцы: кто провожать, кто встречать, а больше — поглазеть, полюбопытствовать, и, конечно, — вся вездесущая детвора. Играла гармошка, кружилось несколько пар: кого-то провожали в техникум или институт.
Сватеев подумал, что это хорошо, меньше будет внимания к нему и Лере, но только они приблизились — от домика наперерез им вышли Семен и Маша Шустиковы, Севрюгин, председатель сельсовета Соловьев и, немного отставая, точно опасаясь помешать другим, старик Елькин.
— Жду тебя — нету! — закричал Семен, повисая на Сватееве. — Интернат побежал — нету, сюда прибежал — есть. Однако, по воздуху летаешь! — Взяв из рук Маши сверток, сунул Сватееву: — Тут юкола, мясо сушеный — подарок!
Маленький человек Севрюгин крепко ухватил Сватеева за локоть, повернул к себе:
— Алексей Павлович, примите, значит, икорки, собственного приготовления жинки. — Севрюгин протянул трехлитровую банку в сетке. — В дорожке, дома пригодится, значит…
— Да куда же мне столько?
— Упакуем, — сказала спокойно Маша, взяла сетку с банкой, сунула в нее сверток, спросила: — У кого еще есть? — Подошел наконец Елькин, подал аккуратно заштопанный белый мешочек, наполненный чем-то увесистым. — Давай, давай, Харитон, найдем место! — Втиснула в сетку елькинский дар, приподняла, похвалила Севрюгина за крепкую сетку. — Алексей Павлович тебе отдаст, когда в Москву приедешь.
Завхоз замахал руками, смущаясь и отшагивая назад. Семен и председатель Соловьев потянули Сватеева в сторонку, к деревянной скамейке под лиственницами. Он упирался, говорил, что надо купить билет — самолет висел уже над ближними сопками, заполняя грохотом все обозримое пространство, глушил гармонь, — Лера взяла деньги, побежала в домик. На скамейке была расстелена газета с закуской, рыбой и хлебом, стояли наполненные стаканы. Соловьев, настойчиво подталкивая Сватеева, приговаривал:
— Понимаешь, так отпускать не можем. Не имеем такого законного права.
Семен суетился, выказывая всяческую заботу, не отступал ни на шаг, словно опасаясь, что Сватеев сбежит, рассказывал, как поругался с бригадиром, не отпускавшим его в поселок: «Друга проводить не пускал, понимаешь? Такой человек — хуже плохой погода!» Обещал присылать юколу, спрашивал, когда лучше приехать в Москву. «Пойдем самый большой ресторан, закажем самый дорогой коньяк!» Стучал себя в грудь, давал «самое честное слово», что привезет дочке Сватеева оленью дошку, нерпичьи унты.
— Здравствуйте, — услышал Сватеев сбоку, повернулся; перед ним стояла женщина в телогрейке, резиновых сапогах, шерстяном платке, и по внимательному прищуру глаз он узнал в ней, сразу же, засольного мастера, добро встретившего его и Леру на рыбозаводе; в руках у нее, как ребенок, лежал аккуратный новенький бочоночек, немногим крупнее трехлитровой банки, она вытянула руки, перекатила бочонок на ладони Сватеева.
— Это вам от Сутима, от нас.
— Спасибо. Не нахожу слов… Но ведь столько!.. Неловко принимать. Да мне уже и дали…
— Колгуев лично приказал, — сказала женщина, улыбнулась, отступила, как бы подтверждая свои слова: берите, знаем, что делаем, да и законно все.
— Правильна, решение имеем, — подтвердил Соловьев. — Другой приезд две бочонки получишь.
Прибежали Лера и Маша, принесли билет; засольный мастер пожелала Сватееву хорошо долететь, извинилась: «Рыбы на плоту — едва поспеваем», ушла. Самолет выскользнул из-за ближайшей стены леса, сверкнул своим небесным серебром, обрушил грохот на желтую голую площадку и, затихая, с острым свистом, нырками пошел вниз, коснулся колесами глины, подпрыгнул, запылил, покатился в сторону домика с полосатым сачком на шесте, к притихшим было и вновь загомонившим людям; мальчишки запрыгали по-дикарски, ринулись навстречу; Лера и Маша, оттеснив слегка Семена и председателя Соловьева, повлекли Сватеева к месту, где обычно останавливался АН-2.
Первым, выбросив трапик, спрыгнул на землю пилот, он задержался у распахнутого люка, чтобы помочь сойти укачавшимся пассажирам, и сразу повалили отпускники, русские и эвенки, с тяжелыми чемоданами, сетками яблок, помидоров, огурцов. Последним спрыгнул паренек-эвенк, держа на поводке крупную серую лайку: приобрел, видимо, у нивхов на Амуре, особой породы, для охоты, — важно и одиноко повел собаку в поселок.
К пилоту, седоватому, коричневолицему, наверняка «северному асу», подошел начальник сутимского «аэропорта» — медлительный, пожилой эвенк в аккуратной летной форме (явно гордящийся ею), пожал пилоту руку, вместе они стали по сторонам люка, и начальник объявил посадку, сразу поторапливая:
— Бистра, бистра!
Небо чистое, пассажиров вдосталь — надо торопиться с самолето-рейсами.
Окинув взглядом Сватеева, загруженных сумками и свертками провожающих его, пилот усмехнулся, покачал головой, но, по многоопытности поняв, кто Сватеев и почему так «оброс» багажом, сказал:
— Взвешивать не буду. До Николаевска довезу. А там как хотите.
— Приплачу.
Начальник-эвенк, одобряя слова пилота, заулыбался: «Правильно, свой человек, подарки везет». Сватеев уложил все у последнего сиденья в самом хвосте, спрыгнул, к неудовольствию пилота (терпеливо смолчавшего), обнял поочередно Семена, Соловьева, Елькина — сказал Елькину, что напишет, непременно, будет знать обо всем, — жал еще много рук и наконец шагнул к Лере и Маше. Спешно простившись, Маша отошла придержать Семена, рвавшегося с бутылкой и стаканом. Сватеев взял обе Лерины руки в свои, сжал, приблизил ее к себе, и они на минуту — всего на минуту-две — остались одни среди толпы, говора, под ветром гудящего мотора.
— Ну, Лера? — сказал Сватеев, глядя в ее глаза, замутненные усталостью, пепельно-синие, чувствуя дрожание ее пальцев.
— Прощайте, Алексей Павлович, — выговорили почти беззвучно ее губы.
— Прощайте, Лера?!
— Да, да. И… простите мне и себе.
У Сватеева закружилась голова, как перед обмороком, он, наверное, сильно побледнел и, наверное, сделал бы что-то самое неожиданное для себя — ему захотелось снять свои вещи, остаться еще на один день или хотя бы до следующего рейса, — но пилот, подойдя почти вплотную, сказал негромко, сочувствуя, даже прося: «Поймите, я теряю время». И Сватеев, вновь обретя себя, проговорил зачем-то Лере, не спускавшей с него испуганных глаз: «Да, да, время, время…», пошел к самолету и эти несколько шагов в каждое мгновение каждого шага чувствовал молчаливое, жгуче любопытное, оробелое внимание толпы.
Самолет поплыл, жестко закачался, оглушая гулом близкого мотора. Сватеев уперся лбом в стекло иллюминатора — толпа уже поодаль махала платками, кепками, ладонями, — отыскал то место, где только что стояла Лера, — ее не было; глянул к лесу, на тропу, ведущую в поселок, и там увидел одинокую фигурку, она мелькнула раз-другой неяркой желтизной платья, скрылась за кустами стланика.
Земля убежала из-под колес, засквозил холодный, лишенный запахов воздух пустого пространства, завалились круто на развороте крылья, в провале, жутковатом, ровно и четко проявились дома поселка, светящаяся полоса реки, пристань, крыши рыбозавода, флаг над сельсоветом; крылья выровнялись — все исчезло, и распахнулась даль: дымно-зеленое море в низких облаках, нескончаемые горбы сопок, лес, тайга, мари. Тундра, тайга.
И эта сизая, зеленая, голубая даль, плывущая, мреющая, утопившая где-то в своей непроглядной глуби поселок, оживила в душе Сватеева чувство потери. Он терял Сутим во второй раз. Теперь — навсегда.
1973
ЧЕТВЕРТАЯ СКОРОСТЬ
В три часа дня сторож Максимилиан Минусов, прозванный Максминусом, открыл пухлую общую тетрадь в целлофановой обертке и записал, глядя сквозь зарешеченное железом окошко:
«Проехал № 28-56. Правая щека помята. Наверняка поцеловался с грузовиком».
Он вышел из будки-сторожки, защелкнул дверной замок, направился к шлагбауму, по ту сторону которого двумя рядами длинно вытянулись кооперативные гаражи с асфальтированным двором внутри. Сто шестьдесят бетонных блоков-гаражей, и в каждом машина, новая или старая, мотоциклы, велосипеды; были и пустующие пока, но зато с подвалами-погребами для фруктов, капусты, картошки, захламленные ненужными квартирными вещами. И все это, движимое и недвижимое, надо оберегать Максимилиану Минусову, знать каждого владельца в лицо, желательно и по фамилии, пусть у иного вместо машины ржавое ведро под бронированным замком хранится. Сам выбрал себе такую должность на старости лет.
Номер «28-56» стоял у распахнутых дверей девятого гаража. Хозяин, потрясению растрепанный, с низко опущенными руками, пошатываясь, ходил вокруг «Жигулей-люкс», не то отыскивая не примеченные ранее вмятины и царапины, не то успокаиваясь после пережитого страха и волнения. На сторожа он глянул пустыми, мутными пятнами глаз, будто запотевшими изнутри, а когда Минусов негромко окликнул его: «Привет, Сергунин», тот, как вспугнутый психопат, прыгнул к нему, схватил за лацканы пиджака, заорал, припадочно дыша и захлебываясь:
— Вот смотри, Максминус! Права навыдавали кому попало, шпане всякой! «Волга», видишь, у него! Мурло за баранкой. Ему бы грызть баранки, а не крутить! Бабу посадил, скотина, и ослеп для всего остального человечества. Тормознул, где бабе пожелалось, чуть не посреди дороги… Я и стукнулся, не успел отвернуть… Да как успеешь? Сзади машина, навстречу тоже… Ты меня знаешь, Максминус, я аккуратный, за галстук не закладываю. На машину десять лет корпел… Ну, я ему ряху начистил! Заплатит он мне и за ремонт!
У Сергунина фиолетово пылала левая скула, густая светло-русая шевелюра буйно раздергана, на макушке вроде и вовсе вырван клок, тонкие губы запеклись кровью — искусал, злясь, или владелец «Волги» кулаком двинул.
— Баба когтями вцепилась… Звери!
— Отпусти, — попросил Минусов, — пиджак порвешь.
— А-а… Извини. Нервы.
— Нервным надо пешком ходить.
— Знаю. Я спокойный вообще. Машину жалко, Максминус.
— Ты вот что, Сергунин. Загоняй свой люкс, иди домой, отдохни, выпей таблетку. Ничего страшного, рублей на полсотни ремонта. Первый шок. Преодолеешь — будешь водить. Всякий шофер с этого начинается.
— З-заведи сам, а? Руки дрожат.
Загнав машину в гараж, Минусов снял клемму с аккумулятора, захлопнул и замкнул на висячий замок двери, сунул ключи от машины и гаража в карман Сергунину, слегка похлопал его по молодому крепкому плечу.
— Ну, шагай домой. И не приходи, пока улыбаться не научишься.
Автолюбитель Сергунин побрел к шлагбауму, понуро сгорбившись, свесив вялые руки, тупо глядя себе под ноги. Он был похож на внезапно и тяжело захворавшего человека.
Максимилиан Минусов вернулся в сторожку, сел на лавку у стола — лавка была тяжелая, прочная, и сидеть на ней ему нравилось: чувствовалась основательность, твердость земли под сторожкой, гаражами, лесом слева и белыми домами за лесом, — минуты две-три он прислушивался к полдневной тишине, отдаленному рокоту машин на улицах города, затем отвинтил крышку термоса, налил стакан крепкого чая. В гаражном кооперативе — самое спокойное время: поздняя осень, будень, середина дня. Куда, по какой надобности ездил Сергунин? Отпуск он отгулял (машины у него еще не было), работник вроде бы аккуратный, не прогуливает… Минусов раскрыл общую тетрадь, в которую заносил все интересное из повседневной жизни (имелась у него и другая, особая тетрадь, называлась она «Святцы Максминуса» и служила для более серьезных размышлений, воспоминаний), начал писать.
«Несколько слов о Рудольфе Сергунине. Тип интересный с многих сторон. Единственный сын доктора-физика (мать тоже, кажется, научный сотрудник), баловень, изгнанный из МГУ. Но в какое-то время Рудольф очнулся от развеселой жизни — наверняка отец перестал финансировать, — уехал на Красноярскую ГЭС, вкалывал там, как говорит, рядовым бетонщиком, вернулся через десять лет в родной город, работает строителем, купил гараж и автомобиль. Жениться не торопится, но девочек катает охотно, не пьет совсем алкоголя, хорошо одевается. Небрежен, иногда нагловат в обращении с людьми, самоуверен, начитан, любит озадачить технической новостью. Старается, по-видимому, быть человеком на уровне века… А вот сегодня впал в истерику: помял «Жигули-люкс». Дорогая, красивая машина. Что же его больше всего потрясло: выбитая фара и помятое крыло? Неизбежная трата на ремонт? Драка с владельцем «Волги»?.. Трудно сказать, не зная близко человека. Рудольф водитель пока слабенький, хотя и старательный. Конечно, и тот, с кем он столкнулся, мог оказаться таким же, да еще женщина скандальная… Надо присмотреться к Сергунину. С родителями он до сих пор в разладе, навещает его только старенькая бабушка, которую он ласково зовет баба Ирочка. И еще, замечание для памяти. Давно мне думается: зачем дают российским чадам заграничные имена? Ведь сочетание Рудольф Сергунин — иронично. Бывает и хуже — Альфред Кожемяко или Изольда Шапкина. Так и чудится: человек, получив подобное имя, еще в раннем детстве начинает чувствовать свою обособленность, непохожесть на всех других Ванек и Манек. И хочет если не быть, то казаться исключительным. Отсюда различные оригинальничания… Не скажу, что мои родители дали мне уж очень удачное имя. Но в детстве я звался просто Максимом, хотя не забывал: я — Максимилиан, единственный во всей школе. Чувство это, как ни странно, не забылось и посейчас. Потому и рассуждаю…»
Резко открылась дверь, в сторожку звучно шагнул и быстро прошел к столу председатель гаражного кооператива «Сигнал» полковник запаса Журба Яков Иванович, мгновенно и жестковато пожал Минусову руку, глянул в тетрадь, покивал неопределенно головой, сел на свой полумягкий стул, вынул серебряный именной портсигар, закурил ментоловую сигарету, полыхал ароматным дымком, спросил, четко выговаривая слова, будто отчеканивая их, как золотые монеты (говорю — награждаю, сдачи не беру, на переспросы не отвечаю):
— Есть происшествия, товарищ Минусов? Какие? Трезвым ли был сторож Кошечкин?
Так же обстоятельно, внятно — четкая речь настраивает на четкость — Максимилиан доложил:
— Сергунин смял правое крыло «Жигулей», сам цел, но сильно разволновался. Кошечкин в сторожке не пил, так мне кажется. А насчет дежурства — спал, думаю, как всегда.
— Ясно. Спасибо.
Журба раскрыл реестровую книгу, принялся проверять уплату членских взносов членами кооператива, иногда покачивая головой и хмыкая — были «резинщики», из которых надо вытягивать по рублевке, были злостные неплательщики с пустующими гаражами: эти каждую копейку откладывали на приобретение личного транспорта, — а Минусов, в какой уже раз, любопытно разглядывал Якова Ивановича Журбу. Рослый, сухой, белоголовый (о таких говорят: «Весь как лунь седой») и со свежим румяным лицом. Вот она, долгая служба, дисциплина, подтянутость, норма в еде, словах, поведении! Сохраняется человек, как бы принимает ту форму, тот объем, которые ему уставом определены, и многие годы не старится, не толстеет, не знает болезней. И работает, не может без службы, работы. Журба, при высокой пенсии, согласился быть председателем разболтанного автолюбительского гаражного кооператива «Сигнал», прозванного острословом Мишкой Гарущенко «Клаксоном».
Немало сменилось председателей. Одни, пользуясь должностью, отстроили свои персональные блоки — в квартирах иных похуже — и отказались начальствовать; другие все силы тратили на коллективные выпивки; третьи и вовсе по-простецки — растащили кооперативную кассу. Городские власти устали от сигналов на «Сигнал».
За два года Журбе многое удалось сделать: провел бетонную дорожку от улицы к гаражам, заасфальтировал внутренний двор, купил трубы для отопления. Сумел, выжал деньги из подопечных автолюбителей для их же пользы. Есть, конечно, неплательщики — отъявленные, сердитые до глупости, словно кто-то силой заставлял их покупать гаражи, но и на них строгий Журба нашел умную управу: общее собрание постановило — пусть выплатят всю задолженность или продадут свои блоки, ибо лишены будут кооперативного членства.
— Значит, Сергунин? — спросил Яков Иванович, закрывая огорченно реестровую книгу.
— Он, — ответил Минусов.
— А ведь плохо, что в армии не служил, а?
— Пожалуй.
— Точно. Парень не глупый, а нашей самодисциплинки не хватает. Школу доброго старшины не прошел. Ее, товарищ Минусов, никакими институтами не заменишь. Вот и с родителями у него… Кстати, все собирался спросить вас. Почему вы разрешаете называть себя Максминусом? Всяким мальчишкам, тому же Сергунину? Вы же не Кошечкин, хотя и Кошечкин человек. С вашим образованием, пенсионной солидностью, знанием иностранного языка… Предположим, не понимают люди разницы между собой и вами, не догадываются, почему вы сторожите их личные транспортные средства, так напомнить пора. Разрешите мне, я скажу о вас на собрании…
— Вот этого не надо, Яков Иванович.
— Почему же?
— Длинный разговор. Как-нибудь расскажу о себе… Меня не обижает Максминус… Творчество Михаила Гарущенко, а он интересная фигура. Да и себя называет Мишелем Гарущенским, не иначе. Дитя времени.
— Дитя беспризорное, хотя в хороших годах.
— Тоже знамение.
К шлагбауму подвалил ЗИЛ, тяжело груженный ржавыми трубами. Председатель Журба мгновенно выпрямился, словно услышал боевой сигнал, сам себе деловито проговорил: «Так-так» — и бодро вышел принимать ценный груз.
Запись в тетрадь
«Явилась мысль, пока говорил с Яковом Ивановичем: Вот человек, лишенный недостатков, полностью и откровенно счастливый. Счастливый без похвальбы, здоровый без глупой горделивости. Два сына — офицеры, один старший лейтенант, другой уже майор; дочь замужем за кандидатом-медиком, живет здесь, по соседству с родителями. Растут внуки. С маленьким Колюшкой Яков Иванович и его статная, кажется, вовсе нестареющая жена приходят в свой гараж, заводят «Волгу», едут в лес. И Колюшка, подражая во всем деду, учится хозяйствовать: подметает гараж, подает инструмент, лазает в колодец под машину смотреть, не подтекает ли где масло, серьезно рассуждает о марках автомобилей, моторах, дорожных знаках. Он уже наполовину военный, Колюшка: даже отпущенный гулять во двор не пачкает одежды — «мундир в любой обстановке должен быть чистым и опрятным». Не отсюда ли начинается будущая устойчивость человека? Знать только нужное для жизни, службы, работы. Не предаваться праздности. Укрощать свои желания. Одно дело, одна подруга на все отпущенные дни под луной, одна цель. И смотрят потом люди на шестидесятилетнего Журбу Якова Ивановича, полковника запаса, состоятельного, моложавого, счастливого в жене, детях, и… завидуют.
А почему? Ведь проще простого прожить такую жизнь. Иное дело — всякому ли она под силу?
Припомнилась мне сейчас давняя, где-то вычитанная или слышанная притча. Один старый человек, искатель мировой истины, вечный путешественник, набрел однажды, идя по еле приметной тропе, на светлый домишко у тихой речки. Встретил его такой же седовласый старец, пригласил заночевать. В доме, за некрашеным столом, сидя на дубовой лавке, греясь малиновым чаем, старики разговорились. И оказалось: один старец всю долгую жизнь просидел на месте, другой — пробродил. Между ними произошел приблизительно такой разговор:
— Так и не двинулся с места? — спросил старец-бродяга, пряча под лавку разбитые башмаки, нервно дергая жидкую бороденку.
— Не двинулся, — спокойно ответил старец-домосед, ясно и добро глядя на гостя. — Дети разошлись, жена померла, тоскую по ним, а не двинулся.
— Как растение врос в клочок земли?
— Как человек.
— Какой же ты человек? — воскликнул старец-бродяга и застыдился: перед ним сидел могучий, свежий, спокойный старик, способный к тяжелой работе, привыкший к простой крестьянской пище. Сидел и с жалостью отцовской поглядывал на гостя — тощего, изболевшегося душой и телом бродягу.
— Человек, — подтвердил уверенно старец-домосед.
Чтобы как-то возвысить себя, преодолеть впервые зародившееся сомнение, старец-бродяга сказал:
— Я видел мир! Я знаю людей!
— Я тоже.
— Ты?!
— Мир вокруг меня, люди в душе моей.
Затих на несколько минут старец-бродяга: таких слов он никогда ни от кого не слышал. Но не легко было сдаться ему, искателю мировой истины, и он задал домоседу самый простой и жестокий вопрос:
— Какую пользу ты принес человечеству?
— Вот, накормил тебя.
Потрясенный гость не нашел ответа, потому что сам он за долгие годы своей жизни никого не накормил, никого не обогрел. И понял наконец: напрасно искал истину, нет ее вне человека. Расхотелось старцу-бродяге идти дальше, мокнуть под дождями, мерзнуть в холода, просить у людей еду и ночлег.
— Прими меня, — сказал он домоседу. — Я очень устал.
— Не хочу обидеть: ты должен сам свить себе гнездо.
Этого старец-бродяга не умел. И ушел. Но недалеко: повесился у тропы на дереве, оставив старцу-домоседу записку: «Сделай второе доброе дело».
Домосед читать не умел, но дело доброе сделал: похоронил искателя истины.
Такая вот жутковатая притча. Имеет ли она хоть какое-то отношение к Якову Ивановичу Журбе? Пожалуй, иначе не вспомнилась бы. Но не внешнее, а внутреннее, духовное. Потому что многое относительно и оспаривается. Есть притчи в защиту странников. (При случае запишу.) Примером взаимоисключающей мудрости могут быть две русские пословицы: «И камень лежачий мхом обрастает», «Под лежачий камень вода не течет». Стоит подумать обо всем этом. В другой раз. Вон уже люди идут в гаражи, кончился рабочий день».
Вечернее время — оживленное в гаражном кооперативе, и Максимилиан Минусов идет посмотреть, кто явился к личным машинам, чем занимается, куда едет, на что жалуется в нелегкой автолюбительской жизни. Длинные ряды бетонных блоков, плоские шиферные крыши, асфальтированный тесный двор напоминают… Нет, пожалуй, ничего не напоминают сторожу Минусову, такого никогда не было в прошлом — жилищ для механизмов на четырех резиновых колесах. Бетонные коробки — и в каждой железное существо. Лишь березы кропят желтыми листьями шифер и асфальт, словно желая оживить мертвое, а листья горят как-то особенно жгуче, печально.
Многие гаражи распахнуты, машины выкачены, владельцы моют, чистят, обласкивают кузова; им помогают жены, ребятишки. Вот рыжий суетливый мужичок от усердия сбросил ватник, хоть и прохладно, «Запорожец» у него блестит, как малиновое пасхальное яичко; продал дом в деревне, получил квартиру, приобрел автомобиль… Так бы он начищал любимого коня или удоистую корову-кормилицу, да переменились времена. А душа у мужичка осталась прежняя, крестьянская, и обласкивает он железную «животину», и наговаривает ей прежние свои слова: «Так мы тебя, милая, водичкой сначала, потом, значица, щеточкой, маслицем подмажем, бензинчиком подкормим, и побежишь ты, милая, резво, в удовольствие свое». Кое-кто торопится объехать магазины, поискать колбасы и мяса, повозить жену по промтоварным. Имеющие погреба, быстро обменявшись деловой информацией, направляются в пригородные деревни (дальние навестят в субботу и воскресенье), чтобы закупить хорошей, дешевой картошки, засыпать на зиму. Есть и такие: пришли, открыли гаражи, пустили в них чистый воздух, похаживают, тихо любуются дорогой собственностью: ехать некуда, жаль пылить и грязнить изящный механизм.
Минусов подходит к блоку № 112. Здесь хозяйство автолюба Качурова. Именно автолюба, а не любителя — так назвал его для себя Минусов, потому что все другие против Качурова — всего лишь автики.
Дверь слегка приоткрыта, горит сильная лампочка, хозяин в синем замасленном халате стоит, сгорбившись, у верстака над тисками, точит простым напильником кусок металла. Престарелый «Москвич-403», наверняка переживший второе десятилетие, аккуратно посажен на деревянные колодки, капот поднят, мотор полуразобран. Стеллажи вдоль стен, полки, подставки завалены автомобильными частями и деталями: карбюраторы, стартеры, коробки передач, обода колес, шины, шланги, цилиндры, новенький радиатор, ржавый бампер и многое другое, чего и шоферам назвать не просто. Зато верстак, обитый белым листовым железом, слесарный инструмент в таком четком мастеровом порядке, так все точно разложено по своим единственным местам, что подойти и тронуть что-нибудь едва ли хватит у кого смелости. Да и сам Качуров, предлагая гостю присесть, ставил табуретку подальше от верстака.
— Приветствую вас! Шел, слышу — трудитесь… Как ваша старушка? Опять приболела? Минусов погладил горбатый верх куда как не «модерновой» машины.
Качуров отложил напильник, сдвинул на лоб тяжелые роговые очки (таких теперь и не продают, кажется), утер платком запотевший шишковатый нос, почмокал губами, точно пробуя на вкус слова, которые собирался произнести, и наконец сказал:
— Шестеренка полетела в коробке передач. Точнее, подносилась. Доехать — доехал. В Харькове еще почувствовал — шалит. Но семейству — ни слова, нервничать начнут, особенно жинка. Ничего, думаю, а сам уговариваю: «Ну, машина-чертовщина, подведешь — сдам в утиль, пешком буду ходить. Пусть тебя переплавят на «Жигули». Испугалась, дотерпела. Решил подладить за хорошую службу. Побегает, думаю, еще год-два. Новую мне не купить, знаете. А привычка — ой какая! Не найду и дела себе.
— Сколько она у вас на колеса намотала?
— Тысяч триста, пожалуй. Давно спидометр снял. В Средней Азии была, за Уралом, на Кавказе. Не говорю уже о европейской части.
— Без капитального ремонта?
— Сам делаю.
— Да я так, шучу. Вы для меня — автолюб, истинно машинный человек; другие автики, сел да поехал с ветерком. А станет машина — «Дяденька, помоги потерпевшему!»
— В основном такие, да. И что меня удивляет — неужто неинтересно, почему работает мотор, вертятся колеса?
— Некогда. Жить надо. Руки пачкать не хочется.
— Может, так и должно быть. На то станции техобслуживания строятся. Мы последние механики-самоучки, вымирающий вид… Садитесь, чайку сейчас согрею.
В чайник Качуров опустил электрокипятильник, вскоре вода забурлила, он щедро сыпанул заварку, наполнил две эмалированные кружки, бросил в них по нескольку кусочков сахара: делал все не суетясь, рассчитывая каждое движение, и не спросил Минусова, крепкий он любит чай, пьет ли с сахаром. Без церемоний, попросту. До наивности естественно. Так умеют вести себя люди нелегкой жизни, видевшие войну, знавшие голод, умиравшие и воскресавшие. Для них не бывает плохой еды, любое угощение — благо: я пью крепкий сладкий чай, пей и ты. Поистине, «вымирающий вид».
Качуров работает учителем труда в школе-интернате, живет в городе давно, едва ли не с первого дня его возникновения — сразу после войны, и родом местный, из какой-то подмосковной деревни, куда и посейчас наведывается к родичам. Свою «машину-чертовщину» придумал и собрал сам: купил кузов от «Москвича-403», а все остальное приладил по частям и винтикам. Не легко было бы автоспециалисту определить марку его четырехколесного создания, вобравшего в себя детали чуть ли не всех марок отечественных автомобилей. Но это мало беспокоило мастера Качурова: машина ходила, ходит, будет ходить. Замечал, правда, Минусов, как иной раз глянет Качуров остро, прищуренно, с огорченно стиснутыми губами на новенькую «Волгу» или «Жигули» и отвернется, тряхнув головой, будто прогоняя наваждение. Да, ему бы такой мотор! Полмира проехал бы Качуров — города и страны, пустыни и горы, сам состарился, а машина вернулась бы в гараж такой же блестящей, легко дышащей, без единой царапины. Нет, не завистлив он вовсе, хоть и шутит иногда: «Каждому по проворству». Чинит, помогает, дает советы любому, кто приходит, просит, зовет посмотреть зачихавший вдруг двигатель, намертво прихваченный рычаг скоростей. Автики величают Качурова мастером и, зная его молчаливую безотказность, не очень стесняются беспокоить даже по мелочам: сменить масляный или воздушный фильтр, почистить карбюратор, подтянуть тормоза.
— Что было интересного в вашей поездке нынче? — спросил Минусов.
— Мы ездим, вы знаете, на Азовское море. Есть там коса — Арабатская стрелка называется. Представьте, вся из песка и битого ракушечника, этакая ровная полоса на сто километров. С одной стороны — море, с другой — Сиваши. И вокруг, могу сказать в рифму, ни души. Солнце, песок, вода. Правда, пресной воды нету, поэтому мы ставим палатку где-нибудь с краешку Арабатской косы, чтобы за водой ездить не дальше десяти километров. Бак берем, канистры. Три недели — и чернеем на крымском солнышке. Рыбачим, бычка в Азове всегда можно поймать. Привыкли, как на курорт собственный ездим. Приглашаю будущим летом.
— Куда вы меня, верхом на кузов посадите?
— Зачем? Сын в институте, поступил. Говорит: на стройку с ребятами поеду. Все, ему уже скучновато с нами. Да и дочке дикий берег, тишина что-то разонравились. Выросла.
— Спасибо.
— А интересного… Пожалуй, слово не то… На Симферопольском шоссе катастрофу видели. «Волга» с грузовиком столкнулись, и два «жигуленка» в них врезались. Впервые смотрел на такую беду. Трое мертвых, четверо искалеченных. А крови… С войны не помню такого. Жена пообещала больше никогда не ездить в машине, дети до самого дома в шоке были. Но отходит человек, забывает, иначе жить ему нельзя было бы. И снова едет, летит… По одной надежде: с ним-то беды не случится.
— Догоняем понемножку Запад, гибнем в авто.
— Люди жадно хватаются за руль, пьянеют от скорости! Скольких водит машина, а не они ее!
— О, не всех ли?
— Пожалуй… В какой-то степени, конечно. Севший за руль теряет часть своей воли. Кто сколько.
— Есть и вовсе дуреют.
— Да. Власть машины. Как ее преодолеть? Может, машиной же, автоматикой? Она защитит…
В гараж протиснулся длинный молодой человек с бородкой и усами, с прической под престарелого битлса. Сказав радушно: «Приветствую мирно кушающих чай», он обратился к Качурову:
— Мастер, не сможете ли уделить моему механизму минуту-две? Пропало зажигание, ни одно колесо искры не сечет. Хоть спичкой поджигай.
Парень привычно шутил, но веселья в голосе не было, и руки были испачканы, он держал их чуть на отлете, чтобы не запятнать новенькую вельветовую куртку. Качуров поднялся, молча пошел следом за вихляющим от непомерной длинноты автиком — приземистый, седой, шишконосый, не умеющий огорчать людей истинный автолюб.
Вернувшись в сторожку, Максимилиан Минусов сел к столу, привычно и удобно облокотился, затих, отдыхая почти бездумно и поглядывая в зарешеченное окно: у него появилась уже привычка сторожа — без усилия все видеть, все знать. Люди шли в гаражи, машины, выныривая из ворот, взревывая еще непрогретыми моторами, промелькивали мимо сторожки, стремясь на улицы города, на шоссе за город, к реке, в лес, к садово-огородным участкам. Вот лихо выкатил Михаил Гарущенко с молоденькой крашеной блондинкой — поношенные «Жигули» по-стариковски кашлянули синим бензином; вот медленно прошествовал врач-профессор под ручку с женой — «Волгу» навестить, а может, и прокатиться немножко и аккуратненько; вот два подвыпивших парня, разгоряченных, орущих что-то друг другу (этих надо будет придержать у ворот — добыча для автоинспектора… Послушаются ли?); а вот женщина в брючках, курточке смущенно и нагловато-решительно — ее же пригласили, она же не сама идет напрашиваться! — простучала каблучками по бетонной дорожке к воротам… Наступал вечер, самое живое, кипучее время в гаражном кооперативе «Сигнал».
Сегодня сменщик Кошечкин не опоздал на дежурство, и Минусов вовремя отправился домой.
Святцы Максминуса
«Великий русский писатель Александр Сергеевич Пушкин был передовым человеком своего времени. Получив блестящее образование в Царскосельском лицее, он, однако, не пошел на государственную службу, а полностью посвятил себя поэзии. Поэтическое дарование очень рано проявилось у нашего гениального поэта — уже пятилетним мальчиком он сочинил свое первое стихотворение…» и т. д.
Вы спросите, для чего я тревожу тень великого человека? (Вы — это те, кому, может быть, случится прочесть мои записки.) Все очень просто: так из года в год я начинал урок литературы, не замечая, насколько скучно и пусто звучат эти слова. А сам хотел, и непременно, стать писателем и сочинял, писал рассказы, повести, стихи. Мое «дарование» также очень рано проявилось: лет в шесть-семь, как утверждала моя милая мама, я наизусть знал массу стихотворений, сам сочинил сказку про белый гриб боровик, командовавший всеми сыроежками, маслятами, подберезовиками; когда же они перестали ему подчиняться, боровик напустил на них червяков, которые съели взбунтовавшиеся грибы и, голодные, напали на грозного повелителя. От него тоже осталась одна труха.
Не помню, один я сочинил сказку или помогли мне любящие родители, но будущее мое было определено решительно и окончательно: стать мне выдающимся писателем. Хоть умри. Да и самому мне до слез желалось в писатели. Поступил я, окончив десятилетку, на филологическое отделение пединститута и, как уже упоминалось выше, немало лет подряд начинал урок словами: «Великий русский писатель такой-то… Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой был графом и происходил из родовитых дворян, но…»
Так вот, в один прекрасный день (или непрекрасный, это уж вы решите сами) я бросил школу, расстался с родителями, потрясенными донельзя, и из Подмосковья завербовался на Сахалин. И, представьте, не корреспондентом, не матросом дальнего плавания, а рабочим нефтепромысла Катангли, самого глухого на северо-востоке острова. Попутно надо заметить, я не был обременен семьей, в свои тогдашние тридцать с лишком лет не успел жениться: на войне был тяжело ранен, долго болел и лечился, а когда окреп, одним махом — в жизнь, в народ, в неизведанные житейские трудности, потому что более гениального, чем сказка про гриб боровик, я ничего не сочинил к тому времени.
Помнится, плакала навзрыд математичка Олечка, ждавшая меня, пока я воевал и болел, просилась со мной, да я ведь смутно знал, куда еду. «Максимилиан рехнулся», — говорили родные и близкие. А рехнувшемуся, по правде сказать, не очень нужна была Олечка, милая, любящая, но тоже городская — самому бы не пропасть. Потом уже, много лет спустя… Однако речь сейчас не об этом.
Прибыл я в Катангли. Что вам рассказать интересного? О таких поселках писалось несчетно раз и газетчиками, и хорошими писателями, и просто наезжими щелкоперами. Попытаюсь все же. Вообразите деревянный барак на пятьдесят коек, с железной бочкой-печкой посередине, с промерзшими, вечно плачущими окошками, сквозь которые едва проникает синеватый дневной свет. За дверью — сугробы в два метра, от дома к дому — тропки-туннели. А по другую сторону, на таком же отлогом склоне сопки — железный лес нефтеустановок, и качаются, скрипят, стонут балансиры качалок, высасывая из земной утробы густую, черную, «тяжелую» катанглинскую нефть. Черное золото, кровь земли, жидкую энергию — назовите как угодно, тем более что так она многажды называлась. Сначала по трубочкам, затем по трубам нефть стекала в белые (между прочим, самые веселые в поселке сооружения) огромные резервуары. На одной сопке люди жили, на другой сопке работали. И вокруг, во все стороны, такие же сопки, тундра, чахлая тайга.
Поначалу меня назначили учеником мастера по нефтеустановкам, потом сам стал дежурить; сидишь в будке, посматриваешь в окошко, слушаешь хрип качалок, напоминающий беспрерывно ползущий в гору таежный обоз, печурку подтапливаешь. Грусти, читай, вернее, перечитывай «Сестру Керри» или «Сагу о Форсайтах». В поселке, кажется, ничего другого не было. Через каждые полчаса — обход. Пробираешься по пояс в снегу от одной нефтеустановки к другой, смотришь, не пробит ли где трубопровод, не подтекает ли нефть, не заклинило ли качалку, исправны ли электромоторы. Если авария — вызывай ремонтников; что-нибудь пустяковое — исправляй сам.
А главное на таком дежурстве (как видите, в любом деле есть главное) — надо хорошо знать режим каждой скважины. Одной, скажем, полагается в час выдавать тонну нефти, другой — полторы. Не больше и не меньше. Железная норма. Больше — упадет давление в пласте, может сорваться штуцер-ограничитель, и это уже мошенничество; меньше — совсем невозможно, надо же план выполнять, всякие надбавки зарабатывать. Вот и знай, помни характер, капризы, боли, предельный дебет любой установки. Потому-то, наверное, им были даны имена: «Мама», «Любимица», «Строптивая Марфа», «Дурочка», «Всегда пожалуйста», «Теща» и романтичная «Сестрица Керри» — старая, грязноватая, едва дышащая установка, названная так каким-то лириком-сатириком, давно покинувшим Катангли.
Случались аварии, после которых, бывало, так напитаешься черной кровью земли, что спецовку завхозу приходилось сжигать, а сам часами стоишь под горячим душем и все равно благоухаешь «тяжелой» катанглинской нефтишкой. Стойкость невероятная. Куда французским духам «Шанель»!
Через два года…
Простите, оставлю пока записи. Через сорок минут мне на дежурство».
До гаражного кооператива «Сигнал» сторожу Максимилиану Минусову не более получаса неторопливого хода. Этого времени ему хватало для прогулки и, как он говорил, «для общения с городом»: успевал заглянуть в магазин или на почту, купить свежую газету. Но в хорошую, особенную погоду — а таковой она была сегодня: с резким холодком, скрипом опадающих листьев под ногами, сиянием отовсюду солнечных, словно бы тоже резких и колких лучей — он просто шел, еще более замедляя шаг, чтобы вдосталь надышаться, поразмышлять о чем-нибудь нужном, интересном.
Сейчас Минусов обдумывал продолжение своих «Святцев», и все у него мыслилось и намечалось умно, даже художественно. С этим легким вдохновенным настроением он, пожалуй, и вошел бы в сторожку, но из гаражных ворот бурно вырвались «Жигули», круто затормозили возле его ног, в дверцу с опущенным стеклом просунулась рука Михаила Гарущенко, стиснула ладонь Минусову, тряхнула, жестко и отчаянно приветствуя. Снова рванув машину, Гарущенко запылил, завихрил желтыми листьями, выруливая в сторону загородного шоссе.
Максимилиан минуту-две смотрел ему вслед, огорченно сознавая, что возвышенное настроение у него теряется: явно не в себе, не в шоферской форме Гарущенко — нервен, с немо сжатыми губами, и руку тряхнул так, будто перед долгим расставанием; на сиденье рядом — блондинка, как некое рекламное изваяние в витрине, спокойна, прекрасна, глупа, довольна собой и всем миром. Любовница? Конечно. Но с любовницами Михаил Гарущенко всегда был легок и говорлив. Может, женился наконец, первый семейный скандал переживает? Тогда зачем и куда ехать в таком злом возбуждения?
И в сторожке, удобно присев к столу, выпив чаю из термоса, Минусов думал о Гарущенко — странном для него, ни на кого не похожем, как-то безнадежно неустроенном человеке. А все неустроенные, так уж получалось, словно бы мешали удобно устроиться в жизни ему, Максимилиану Минусову.
Дорога серой бетонной полосой стремилась вдаль, падала с холмов, мгновенно взлетала на увалы и, сужаясь, остро пронзала сизо-синие леса у кромки неба и земли. Дорога гудела, дрожала под тугой, раскаленной резиной колес, была жестко напряжена движением, то миражировала беловатым туманцем в низких логах, то блестела зеркально, будто политая водой на горбах холмов. И казалось: сама дорога с умопомрачительной скоростью, как некая бетонная конвейерная лента, вместе с лесами, лугами, деревеньками по сторонам стремится, вкручивается под гудящие колеса, а машина стоит на месте, напрягшись мотором, кузовом, каждым винтиком, чтобы только не свалиться с узкой бетонной ленты-полосы.
— Милый, прибавь еще!
Михаил Гарущенко глянул на щиток, было сто двадцать. К лицу прихлынула кровь, губы дрогнули, глаза сощурились. Это означало: он психанул. Он, который… Да что тут выступать? Перед кем, про что? Сто двадцать — скорость запрещенная на данной бетонке, в любую минуту из-за куста возникнет аккуратный солдатик-гаист и полосатой палочкой сбросит эти прекрасные сто двадцать километров в час до элементарного нуля. До точки неподвижности. Затем возьмет вежливо права у автолюбителя Михаила Гарущенко и положит себе в кармашек. В лучшем случае щелкнет щипчиками, и в талоне будет четвертый прокол, а дальше… дальше начинай все с азбуки, как желторотый автик, — сдавай правила уличного и дорожного движения, показывай хорошие знания автотранспорта, выслушивай полезные наставления.
Может понять это какая-нибудь женщина в мире? Если, конечно, она не жена. Жена, известно, пожалеет денег на новые права, себя, детишек, мужа-кормильца и автомобиль, потому что сто двадцать километров — мгновенная гибель на такой тряской и узкой бетонке. Гибель при малейшей ошибке, неожиданном препятствии, столкновении, растерянности… Может это понять крашеная блондинка с перламутровыми губами, Катя Кислова, с которой он, Мишель Гарущенский, — так он себя называет для… ну, для благозвучия и некоторого шарма, — ездил в Крым провести время?.. Занимательная дилемма, достойная глубокого научного изучения. Докторскую диссертацию мог бы законно защитить какой-нибудь старичок лысатик, если бы ему удалось постигнуть душу Кеттикис — для сокращения Мишель присвоил ей это выразительное имя («Не жалко, пользуйся, дорогая, моей необузданной фантазией!»), — хотя душа у нее состоит из одной двойки, помноженной на другую. Четыре чувства: есть, пить, любить, наряжаться. Все. Точка. Прогресса не будет. Да ведь старичку лысатику никогда этого не допетрить: начнет копаться в духовных глубинах, раскрывать сложную человеческую личность, изучать жизнь, биографию, прошлое, будущее, историю человечества… Таланты, способности Кеттикис… И погрязнет в модном психоанализе дорогой (то есть высокооплачиваемый) профессор-лысатик?..
«Какой лысатик? — подумал Мишель и посмотрел на щиток. Было сто тридцать. — Откуда он взялся, зачем? Так и свихнуться можно. И скорость… Когда я прибавил?.. Ругал крашеную соседку — и прибавил. Как автомат. Почему я слушаюсь ее. Пора расставаться. После Крыма второй месяц пошел… Надо бросать бюрократическую волокиту. Немедленно. Сегодня. Решительно. А то…»
Он резко сбавил скорость, Катя Кислова едва не ударилась лбом о стекло, но не издала ни звука; спокойно откинула упавшие на глаза волосы; он притормозил, вывел машину к зеленой обочине и выключил мотор.
— Давай глотнем кислороду, — сказал Мишель Гарущенский, довольно легко выбросив свое увесистое тело из «Жигулей», помахал руками, разминаясь. — Хо-хо, Кеттикис! Воздух — мороженое за сорок копеек! Сам бы ел, да тебе хочется оставить! — И, видя, что подруга не собирается выползать из-под железной крыши, он схватил ее за руку, выдернул на зеленую травку. — Ну, разомни идеальные части молодого тела, форму потеряешь, мальчики перестанут глазками тебя кушать, от этого ты заболеешь психо-нервно-душевным стрессом!
Кеттикис вяло отняла свою руку, сделала коротенький шажок в тугих замшевых сапожках, распахнула бежевый нейлоновый плащик, чуть притушила надменно-длинными ресницами чистую голубизну глаз, будто тоже подкрашенных, проговорила, едва шевеля губами, чтобы — не дай того боже святый! — не возникла где морщинка на лице:
— Старик, я же люблю одного тебя.
— Может быть. Такое случалось в моей многолетней практике. Но ведь «прошлого мне не жаль, я охладел как сталь».
— Разогрею, старик.
— Ты вот мотор перегрела. — Мишель гулко похлопал ладонью по капоту «Жигулей». — Известно ли тебе, что существуют нижеследующие виды скоростей: расчетная, коммерческая, средне-техническая, крейсерская, безопасная и другие. Одну определяют экономисты, другую — конструкторы, третью — сотрудники ГАИ, четвертую, пятую — автомобилисты, дорожники… А ты, Кеттикис, признаешь только шестую — смертельную. А между прочим, дорогой товарищ, ты комсомолка, жить хочешь, строить светлое будущее тоже. — Мишель нежно взял под руку Кеттикис, подвел к бровке дорожной насыпи, попросил: — Сорви мне вон тот синий цветок.
— Маленькие капризы, милый старичок? — И Катя Кислова глянула всей широтой удивленных глаз, похожих на два нарисованных василька, смоченных утренней холодной росой.
— Последний цветок, понимаешь, его скоро убьет мороз. Желаю из твоих перламутровых коготков.
Кеттикис боком, взмахивая руками, словно придерживаясь за недвижный, льдисто плотный, солнечный утренний воздух, стала спускаться к синему цветку, а Мишель Гарущенский прыгнул в машину, ревя мотором, выкатил «Жигули» на бетонку, в две минуты набрал скорость до ста километров и понесся, бешено вкручивая под тугую, горячую резину колес серую, то затуманенную, то сверкающую водой ленту дороги. Лишь на третьем или четвертом увале он увидел в узкое зеркальце перед собой: маленькая, бежевая фигурка металась у серой заостряющейся позади полосы, среди непроглядной зелени сосен и желтизны берез.
«Так. Все по-умному. Свершилось. Убежал. Дрогнуло сердце — да, дрогнуло, признаемся по-джентльменски. Оставить человека среди пути-дороги — свинство, тов. Гарущенко. Но, уважаемое миролюбивое человечество, прошу снисхождения и понимания. Говорят: понять — наполовину простить. А сердце… Оно у меня уже подношенное, как мотор у моей машины. Оттого и подтекает иной раз слезой, будто коробка передач маслом.
Изложим по порядку сложившуюся стихийно ситуацию. Мне, товарищи люди-братья и сестры, Михаилу Гарущенко, тридцать восемь лет и четыре месяца. Выгляжу я, если принять пятибалльную систему, на четыре с плюсом. Роста выше среднего, фигура спортивная (долгое время был баскетболистом), черты лица, как принято говорить, правильные, нос чуть с горбинкой, глаза остро-зеленоватые, волосы темно-русые, жесткие; лысина пока не наметилась. Это, так сказать, оболочка. Рассмотрим давайте мое содержимое — внутренний мир гражданина Гарущенко.
Тут, понятно, дело обстоит сложнее. Потому что душа моя для меня если не потемки, то сумерки наверняка. Рос я в хорошей трудовой семье: отец — мастер-передовик на заводе, мамаша — заведующая лучшим детсадиком в нашем молодом и вечно юном городе. Подавал я многие надежды, проявлял массу талантов, будучи единственным и обожаемым сынком. Учился, сами понимаете, кое-как, на твердые заслуженные тройки. Выручал спорт, успехи в художественной студии, всеобщая любовь учителей и учащихся к Мише Гарущенко — вундеркинду почти неоспоримому, который и учится-то на трояки из-за неохоты: по́шло, некрасиво быть пятерочником; это — для посредственностей, буквоцифроедов. Так прошли мои светлые школьные годы, нежная пора жизни, как об этом писали многие выдающиеся поэты и прозаики. Наступила ответственная пора: поступать надо было куда-то вундеркинду. Хорошо бы в физкультурный институт, да ведь — немодно, надорвутся от огорчения родительские сердца и род людской потеряет в моем лице… Черт его знает что, но потеряет, — решили папа и мама. И уговорили своего ненаглядного Мишу пойти, в художественное училище (вот ведь премудрому Максминусу за шестьдесят годочков, а тоже, рассказывает, уговорили его любимые родичи, внушили с неразумного возраста стать писателем; меняются эпохи — папаши и мамаши теми же остаются). Да, признаюсь вам, братики и сестрички, тут вундеркинд ударился крепеньким лобиком о стенку первых трудностей. Не прошел. Под бравурный марш духового оркестра в армию загремел. Служить тоже кому-то надо. С этим согласны все папы и мамы всех времен и народов, но почему-то едины в другом — только не их сынкам. Сынки у них единственные, неповторимые и т. д.
Попал я в мотострелковую часть, однако почти не стрелял и мало моторами занимался — два года, определенных законом о всеобщей воинской обязанности, добросовестно отыграл баскетболистом за сборную Закавказского военного округа. Веселенькое было время, очень даже беззаботное. Впечатлений масса, города, гарнизоны, курорты, девочки разных национальностей, аплодисменты, цветы, призы, слава. Возгласы, адресованные лично ефрейтору Гарущенко: «Жми, Миха! Врежь им, Гарик!» Публика ревет, самые красивые болельщицы мечут воздушные поцелуи. Автографы, записочки с объяснениями в пламенной любви и предложение непорочного сердца. Правда, водить бронетранспортер я научился, комвзвода даже говорил, что у меня способности на это имеются — водить автотранспорт; нервы крепкие, глаза зоркие, тело тренированное. Командир полка предлагал на сверхсрочную остаться или поступить в военное училище. Вот, отметьте данный момент, была еще одна альтернатива решения моей судьбы. Не идеальная ли?.. Но родители слезно и решительно затребовали меня домой.
Через год я поступил в одно московское художественное училище живописи и графики. Ладно, вундеркинду должно быть все под силу. Взялся, внушил себе: стану графиком. Но опять же — баскетбол, за сборную училища… Это бы еще ничего, пошвырял мячик в корзинку — и рисуй себе античные фигуры. Да приметила меня, дорогие люди и особенно женщины — тут я лично обращаюсь к вам, — одна из ваших товарок, как выражались в старину, изящная дамочка средних неопределенных лет, волевая, почти некрашеная и, повторяю, изящная для ее неопределенного возраста. Она преподавала у нас эстетику — чудо как читала лекции, мы смотрели на ее ножки, фигурку девочки-спортсменки, ловили сияние огромных темных (почему-то сейчас подумалось: как египетские ночи) глаз — и это была тоже эстетика. Мы все были в нее эстетически влюблены. И вот она, божественное создание, хоть бога и нет, примечает в среде учащейся молодежи меня, именно меня, и приглашает, вернее, ведет к себе на квартиру. Затрепетало пойманным карасиком мое тренированное сердце баскетболиста (а габариты у меня были тогда: рост один м девяносто см, вес восемьдесят пять кг). Ее бы я на одной ладони пронес два квартала. Иду, конечно, смело, даже нагловато, мол, всякое с нами в жизни трудной бывало. Тут я должен вам чистосердечно и по-джентльменски признаться: в мои тогдашние двадцать два года я не знал ни одной женщины. Хвастун был порядочный, пламенно влюблялся на каждом шагу, девочки ко мне, случалось, в гостиницы приходили, а не знал… Обидеть не хотел, мечты лелеял возвышенные, боялся на всю жизнь испортить себе любовь, дружбу, товарищество. Вот вам, для интереса, другая, духовная, так сказать, сторона Михаила Гарущенко — парня на вид хамоватого, драчливого, кутливого.
Однако ближе к делу, леди и господа. Ввела меня в свою модерновую двухкомнатную квартиру изящная маленькая женщина с черно-египетскими глазами, предложила раздеться, сесть на поролоновую тахту, выпить коктейля из коньяка, виски, мангового сока со льдом и дальше… дальше она многоопытно и яростно устроила мальчику первую брачную ночь. О родненькие сестрички и женщины всего мира, а также других планет, если там есть женщины!.. О моя бедная мама, которая тоже женщина!.. Что делала со мной Марианна Сергеевна, ваша кровная товарка, что заставляла делать с нею, — я не могу рассказать даже сейчас, сидя один в гудящей мотором и резиновыми колесами железной коробке, именуемой автомобилем. Да и помню-то смутно от многих коктейлей, дикого сумасшествия. Марианна Сергеевна металась по полутемной квартире, била стаканы, царапала себе грудь, бросалась на меня когтистой кошкой, заставляла бить себя, истязать…
Измученного, хмельного, Марианна Сергеевна заперла меня в квартире, а сама, умело подмазавшись, пошла читать лекцию по эстетике. Вернулась часа через полтора или два, отпоила гостя коктейлями, накормила, сказала: «Миленький, прости за вчерашнее». А вечером началось все сначала, да еще с большей истерикой. Вырвался я от Марианны Сергеевны на третьи сутки, выбив плечом замкнутую дверь. Дальнейшие события развива…
Минуточку, дорогие слушатели, а также все другие, кровно заинтересованные в судьбе Мишеля Гарущенского: впереди автоинспектор. Желтый мотоцикл с коляской и — он, голубой мундир, недремлющее око под строгим козырьком фуражки. На щитке у меня сто км. Сбавим незаметно до восьмидесяти. До законных, положенных на этой трассе восьмидесяти км. Нет, все-таки поднимает свою полосатую зебру, останавливает, будто чувствует, что у Гарущенского в лаковой коробке «Жигулей» непорядок: мечется его грешная душа, действует на нервы автомобилю и оттого он вихляет, хоть и бесчувственный».
Мишель притормозил, четко и мягко придвинул машину к обочине, остановил у желтого мотоцикла, метрах в двух — вежливо и с достоинством, — легко выпрыгнул из кузова — опять же не подумай, что в подпитии, — подошел к блюстителю дорожно-транспортного порядка спокойно, но и не лениво — в самую меру вежливости и собственного достоинства.
— Слушаю вас, начальник, — сказал, честно глядя в глаза скучно ожидавшему его инспектору. — Что-нибудь не так, начальник?
Тот молча указал на фары «Жигулей». Ближний свет был включен. Как, когда включился этот ближний свет? Зачем он нужен? Неужели в суматохе, убегая от Кеттикис, запутался Мишель в кнопках?
— Освещаете белый свет, — сказал скучно, как наставляют детишек в детсадиках утомленные воспитательницы. — А ночью, напротив, забудете включить. Так, что ли?
— Виноват! — по-солдатски гаркнул Мишель, и не прибавил ни слова: он был опытным автолюбителем, знал, что гаишники страшно не любят пререканий, лишнее словечко — и верный прокол в талоне.
Автоинспектору явно понравился дисциплинированный автик, он оглядел его уже с некоторым интересом, губы дрогнули в некоем мимолетном подобии улыбки.
— Жалейте свой транспорт, экономьте энергию.
— Спасибо. Учту. Всего вам доброго!
Строгий гаишник, отдавая честь Мишелю Гарущенскому, приложил к фуражке руку в черной перчатке.
«Толково кто-то выразился, — подумал Мишель, садясь к рулю. — Если хочешь иметь сразу много начальников — купи автомобиль». Он вырулил на бетонку, набрал точно восемьдесят километров и впал в обычное, спокойно-отрешенное, почти механическое состояние многоопытного автоводителя. Ровно, не сбавляя скорости, включив сигнал обгона, обходил грузовики, «Запорожцы», старенькие «Москвичи». Встречные, самолетно просвистывавшие машины он едва примечал, а если кто уж слишком нахально шел на обгон или выкатывался к запретной середине шоссе, говорил вслух, будто его слышат все шоферы мира:
— Скотство, друзья мои. Пошляк крутит колесом колеса!
«Так. Понеслись-поехали… Ага, на чем мы остановились до встречи с Госавтоинспекцией?.. На дальнейших событиях, говорите?.. Правильно. Вышиб я плечом дверь, значит, вырвался из квартиры Марианны Сергеевны и… хотел немедленно расквитаться с собой и человечеством. Бреду по гремящей столице, обдумываю похмельной головой варианты: броситься под городской транспорт — переломают кости и живым можешь остаться. Прыгнуть с моста в Москву-реку — без камня на шее не утонешь, а пока будешь искать и привязывать — милиция арестует. Отравиться? Хорошо бы. Но чем?.. Повеситься? Пожалуй, самый доступный уход в потусторонний мир. Всего-то и нужно: веревка, мыло, надежный крюк. Но в кармане — ни ломаного гроша… Слышал я от кого-то, что можно лечь в ванну с теплой водой, взрезать вены и спокойненько, безбольно навеки уснуть. Это мне подходило, это прямо-таки верное избавление от Марианны Сергеевны: я не мог жить с нею на одной планете, дышать одной атмосферой. Но ванны, ванны нет в нашей общежитской душевой, в соседний дом не попросишься. Можно вернуться к… А если она уже дома? Она меня сожжет египетскими глазами. Замучает. Убьет… Труп вывезет тайно ночью и бросит на городской свалке. Тьфу! Заговорился от перевозбуждения. Не будет она убивать, совсем нет. Будет любить. А это пострашнее. Она обыщет столицу, найдет Мишку Гарущенко, возьмет за руку, приведет домой и будет любить. От нее не спрячешься на всей планете Земля, потому что она круглая, планета, всюду досягаема… Прибрел я через очень долгое время на вокзал, влез безбилетником в электричку и поехал в свой родной городок, где была квартира, ванна, теплая вода.
И встретила меня дома женщина, престарелая мамочка. Глянула она и обмерла, постарела, наверно, лет на десять еще — таким сыночком раскрасавцем я предстал пред нею. От женщины к женщине, заметили?.. Но эта, родная, молча, ничего не спрашивая, терпеливо принялась лечить меня от той… Не знаю, люди-человеки, что подумала мамочка, о чем догадалась, но, видя меня жутко похмельного, истерзанного, налила и заставила выпить стакан водки. Провалился будущий Мишель в небытие на целые сутки. И остался жить на этом самом белом свете, в лучшем из миров. Сижу вот за изящно обтянутой цветной замшей баранкой, гоню прелестные, цвета слоновой кости «Жигули» в богатый колхоз «Заря коммунизма», где буду вести переговоры — очень важные, учитывая НТР и возросшие культурно-эстетические запросы сельского населения, — о художественном оформлении Дворца культуры.
Да, Мишель Гарущенский — оформитель, по-современному дизайнер. Постоянное место работы — научно-исследовательский институт в родном городе; окружающие районные центры и деревни — широкая сфера приложения моей излишней энергии и извлечения законных казначейских билетов — прибавки к основной зарплате, равной, с вычетом подоходного, а также «бездетного» налогов, ста двадцати рублям. Я не жалуюсь, граждане, не сетую и до всяких там скользких разговорчиков не охоч: работать надо, а не трепаться. Так и говорю любителям обсудить государственные и мировые проблемы. Ты лучше болт выточи, чем Пиночета полтора часа костерить, размахивая пятерней; мировые неурядицы и без тебя разрешат, а болта не будет — проболтал; трактор или автомашина с конвейера не съедет. И квартира у Мишеля Гарущенского имеется, и училище художественное я окончил, только другое, прикладного искусства. И алкоголя не принимаю. Принципиально. Сухое вино — иногда; в ресторане, с женщиной, для тонуса.
Недостаток один — холост. Слабость: люблю юг, море, курорты Крыма и Кавказа. Приглашаю молодых женщин. Подчеркиваю — одиноких. Но… Утомляюсь от долгого общения. Не уходят — бросаю. Свинство? Да. Однако лучше бросить, чем… Я ведь стал немного Марианной Сергеевной, и профессия у меня почти такая же — эстетика интерьера… Не жалко женщины, как сказал поэт, жалко любви… которой у меня не было и нет. Уходили — я немо рыдал, сам бросал — тоже печалился. А разозлила меня, до зверства довела лишь Катя Кислова. Замуж захотела. За кого?.. С кем решила связать свои молодые неосознанные годы? Может, мне жаль ее, как дочку заблудшую: плюнь на старика, не получится с ним, вышеизложенным, семейного комфорта. Уперлась бессмысленно. Пришлось образумить — высадил посреди шоссе. Но среди ясного дня, рядом с гремящей автомобилями бетонкой. Подберут Кеттикис молодцы-автики, подбросят к подъезду ее родительского дома — за перламутровую улыбку, за ароматный ветерок от наклеенных ресниц-опахал. Пусть простит меня милое прогрессивное человечество, к которому я все равно принадлежу, пока жив, тем более что появился знак-указатель с четкими буквами «Заря коммунизма» и вправо — гравийная полоса дороги, уводящая к просвеченному, чисто-холодному осеннему бору».
Гравийка стремительно прошила зеленый, пронзительный свет древнего бора, сразу перешла в улицу, как бы нанизав на свои обочины старые, новые, большие и совсем маленькие деревянные дома, под зелеными, красными, цинковыми, дранковыми, соломенными крышами, вывела к асфальтовой площади посреди деревни с новенькой двухэтажной конторой из белого силикатного кирпича; напротив — стекляшка магазин «Продукты. Промтовары»; а в стороне, у березовой рощи — ультрасовременный, из стекла и бетона, с квадратными колоннами, широким козырьком над входом Дворец культуры. Служебные строения, крыши всей деревни щетинились, ершились, гудели телеантеннами на разный манер и вкус: крестами, овалами, квадратами, проволочными ежами. На площади отстаивались грузовики, у конторы отдыхала черная «Волга» председателя, хрипел и стрекотал завязший в переулке трактор «Беларусь». Мальчишки, крича и толкаясь, пинали мяч за школьной оградой. Со столба посреди площади лилась радиомелодия «Сказки венского леса». И орали галки, черно взметываясь и вновь садясь на провалившийся купол облупленной церквушки.
Мишель Гарущенский примкнул «Жигули» к председательской «Волге», вылез, закрыл ключиком дверь, огляделся.
«Чего они орут? — подумал утомленно. — И церквуха — дурман прошлых веков. Пора бы ее бульдозером запахать или отреставрировать аккуратненько. Чудо была бы вещичка. Куполок позолотить, фрески, иконы — музей… Все растащили любители старины… А вообще, современность надо продвигать, соответствующую НТР. — Мишель аж затылок почесал, запутавшись в неожиданных, колко неуживчивых мыслях. — Ладно. Ближе к делу. Работать надо, а не…»
— Старичок! Приветик, милый! Я уже здесь. С председателем немножко потолковала — симпатичный дядечка. Говорит, видел твои работы, рад познакомиться с таким мастером оформления.
На крыльце стояла Катя Кислова в бежевом плащике, замшевых сапожках, с идеально невозмутимой прической, густо подсиненными глазницами, которые делали ее голубые глаза необъятными, улыбалась Мишелю в меру любезно и деловито, потому что побывала уже в конторе, кое о чем договорилась, рада сообщить своему другу приятные новости. Ни обиды, ни каприза, ни мизерной стыдливой слезинки.
Видя некоторое застолбенение Гарущенского, она сказала, вполне серьезно извиняясь:
— Я обогнала тебя, старичок, когда ты с гаистом беседовал.
«Как поступить, что сделать с Кеттикис сейчас, немедленно? Надавать по щекам, стащить со ступенек за шиворот, выматерить, приказать немедленно исчезнуть из деревни, из видимости, из памяти? Наорать так, чтобы дрожь прохватила ее душу, упрятанную глубоко в молодое, прохладное тело, оживающее лишь в постели? Или убить честно, трезво и на долгие годы умиротворенно сесть в тюрьму, если судьи признают смягчающие обстоятельства и не вынесут смертного приговора? Что посоветуете, друзья, родственники, близкие знакомые?»
Естественно, Мишель Гарущенский не услышал какого-либо совета, пожелания, внутренний голос его тоже умудренно промолчал, и Мишель, сопровождаемый Катей Кисловой, чуть спотыкаясь, но довольно уверенно прошагал в кабинет председателя колхоза «Заря коммунизма».
Навстречу им поднялся рослый молодой человек в темном костюме, нейлоновой рубашке и модном пестром широком галстуке. Он был явно моложе Мишеля, с румянцем смугловатым на щеках, по-современному, однако в меру, длинноволос. Улыбка тронула его четкие свежие губы — наверняка некурящего человека, да и в кабинете не пахло дымом, — и элегантный председатель, пожав энергично руку Мишелю, пригласил, слегка поклонившись:
— Прошу, садитесь… Меня Анатолий Кустодиевич… Редкое, правда, отчество?.. Дед был чудаковат, вот и назвал отца фамилией любимого художника… А вас?.. Михаил Михайлович… Очень приятно. Садитесь, прошу. — Председатель сел не во главе т-образного стола, покрытого зеленым сукном, как полагается любому руководителю, а на один из боковых стульев, напротив Мишеля и Кеттикис, видимо показывая этим, что об искусстве не говорят, сидя в отдалении или опершись кулаками о начальственный стол. — С вашей милой супругой я уже познакомился. Извините, вы всегда так поступаете: сначала жена сражает наповал договаривающуюся сторону, а потом уж является сам мастер?.. Шучу, извините… Мне ведь некогда на отвлеченные темы поговорить, после Тимирязевки подзасох немного в заботах. — Придвинув папиросы, зажигалку, председатель тряхнул прямыми, едва ли не мальчишескими волосами. — Курите. Вообще не разрешаю — тут мои бригадиры кочегарку устроят, — а вам пожалуйста… Да, спасибо, что откликнулись на приглашение, видел ваши работы, клуб строителей, фойе клуба, витрину универмага. Хорошо. Современно. Талантливо. Думаю, вы не зазнаетесь, Михаил Михайлович, не мальчик, вижу… Постараетесь для села и колхоза, запросив скромную, но, конечно, заслуженную плату за труд… А поработать есть над чем. Гляньте в окно — современный красавец из стекла и бетона. Дворец. Правда, церковь портит пейзаж, но мы с ней что-нибудь придумаем… Извините, длинная речь получилась, всеобщая слабость руководителей. Но и хотелось сразу свое отношение к вам, свою, так сказать, позицию выразить. Вы уже были у нас, видели Дворец внутри. Теперь вам слово, слушаю.
Мишель Гарущенский помедлил привычно, глядя на сверкающие стеклом кубические грани строения в трепещущей желтизне березовой рощицы, а Кеттикис выдохнула дымок папироски, вскинула ногу на ногу — юбчонка вздернулась, обнажились тугие коленки. Мишель отвернулся, подумав: «Черт ее дери! Какие ноги! Дура, нахалка, две извилины… А ноги! Кто распределяет части тела? По какому праву такая несправедливость?.. Если бог — то в эстетике он куда как плох. Где же гармоническая личность — чтобы дух и тело?» Но надо говорить с председателем, ответить на главный вопрос «жизни и смерти» — о деньгах. Гарущенский давно обдумал будущую работу, плату, даже то, сколько сожжет машина горючего, пока он оформит Дворец, разъезжая между городом и деревней. Не торопился же из принципа: кто суетится — теряет в солидности.
— Три тысячи, — сказал он, кашлянув, слегка нахмурившись. — Материалы ваши, естественно, Анатолий Кустодиевич.
— О да! — Еще выше вскинула ногу Кеттикис. — Я же вас предупредила: Мишель загружен заказами. В городе умоляют. Но помочь селу — его слабость, хобби сознательности.
Стиснув зубы, Гарущенский резко нагнулся в ее сторону.
Председатель обошел стол, покопался в стоике бумаг, достал листок, подал, спокойно, с некоторой виноватостью говоря:
— Протокол заседания правления колхоза. Заслушали. Дебатировали. Единогласно решили: две тысячи. Ни копейки больше. Только из собственного кармана могу. Но вы сами откажетесь: оклад у меня очень даже скромный.
Ситуация складывалась обычная, не первый колхоз у Мишеля Гарущенского, не последний председатель. Везде показывали протоколы. Решительные. Окончательные. Но… перерешали. Платили, Если уж не всю сумму, которую требовал Мишель, то надбавку к вырешенной правлением — значительную. Не следует суетиться. Дворец без оформления не оставят, халтурщика разъездного побоятся пригласить, да и как ему платить — он не член худфонда, частник. Но Анатолий Кустодиевич был так молод, так невинно и откровенно любовался Катькой Кисловой и верил в беспредельную порядочность деятелей искусства (отчество-то у него — память о большом художнике), что Мишель, едва ли не в первый раз за всю свою оформительскую практику, смутился и на минуту-другую стал просто Михаилом Гарущенко. Это и решило исход переговоров, скрепленных дружеским рукопожатием.
— Спасибо, Михаил Михайлович, — сказал зарозовевший от приятной беседы председатель колхоза. — Я не сомневался в вашей высокой объективности. Видя ваши работы… Спасибо вам скажут труженики села.
— Распишу, — просто и любезно подтвердил Гарущенко, руку которого все еще держал, пожимая, Анатолий Кустодиевич.
— Распишем! — выразила свой немедленный восторг Кеттикис. — Он такой… Волевой и трудно… трудолюбивый.
Председатель проводил их до двери, кивнул, улыбнулся на прощание, пообещал, что они еще много раз увидятся, поговорят, а то и посидят в менее деловой обстановке. И Мишель — да, теперь он снова стал Мишелем Гарущенским, — схватив под руку Кеттикис, жестко выпихнул ее на крыльцо конторы. Он задыхался от стыда и возмущения, он не мог сейчас ни ударить-ее, ни тем более убить: ослаб, размяк, даже ноги едва слушались, как у запойного алкоголика. Это невозможно, непереносимо! Такой злости Мишель, кажется, не переживал со дня появления на свет божий. Хотя бога нет, не должно быть, если живет, процветает, наслаждается своим растительным существованием небожье создание Катька Кислова.
Он вяло обошел машину, стараясь не покачиваться, облегченно упал на сиденье, а своей подруге открыл заднюю дверцу — видеть, чувствовать ее рядом было сверх его духовно-морально-физических сил. Он мог потерять сознание, впасть в тупую прострацию, при которой случаются автокатастрофы, мог направить машину с моста, под откос, в бетонный дорожный столб, дерево… И тягу к этому, желание мгновенного конца, избавления, острое, до замирания сердца любопытство: «Что потом за единой минутой, мгновением?..» — испытал он мучительно и едва одолимо, пересекая высокий мост через речку. Вот сейчас, в эту секунду, выжми газ до предела, крутни резко руль вправо, мотор взревет, бампер, колеса взломают решетку ограждения, машина рухнет на замшелые валуны речки… Грохот, треск, ручеек яркой крови по воде и — тишина. Навсегда. Вечная.
Мишель Гарущенский вспотел даже, сначала горячо — когда проезжал середину моста: «Сейчас или…» — потом холодно — когда резко, будто за ним гнались, выметнул машину вверх, на хрупкую гравийку другого берега. Вел молча, оглушенно, стрелка спидометра как набрала восемьдесят километров, так и продержалась, почти не колеблясь, до города. Молчала и Кеттикис. Вовсе не от личного душевного потрясения. Перед городом она подкрасила губы, обвела синим карандашом глазницы, поправила прическу (Мишель приметил это в зеркале). Догадалась просто, что друг ее зол. И удивилась искренно: отчего, зачем так портить нервы? Из-за нее?.. Не может быть — она так старалась помочь ему, чаровала председателя, невозможно лучезарно улыбалась (и сразила, конечно!); к тому же простила милому Мишелю остроумную шутку: оставил среди дороги: «Переживи острое ощущение!..»
Он подвез Кеттикис к ее дому, молча выждал, пока она выберется на тротуар, и только шевельнула губами, чтобы вымолвить: «Когда увидимся, старичок?» — захлопнул дверцу, рванул машину; задние колеса цепко, как по наждачной бумаге, пробуксовали. Мишель увидел в зеркале две черных полосы на асфальте возле замшевых сапожок Катьки Кисловой.
Лишь у кооперативных гаражей он немного успокоился, а катясь по внутреннему двору, чистому, стиснутому пятнами красно-сине-зелено крашеных дверей ста шестидесяти блоков, и вовсе вернулся в привычное духовное состояние — легкости, иронии, деловитости. Ополоснул из шланга потрудившиеся «Жигули», загнал на лоснящиеся охрой доски гаража, под утепленную пенопластом шиферную крышу — гаражик у него — вторая квартира, жить в нем и радоваться можно, — закрыл ворота внутренним, по особому заказу сработанным замком, зашагал гулким асфальтом, кивая знакомым, кидая острые словечки друзьям-автикам.
Навстречу двигался сам товарищ Максимилиан Минусов, сторож с высшим образованием, загадочная личность, глубоко всех понимающая, всему сущему сочувствующая. Мишель Гарущенский необъяснимо терял свою уверенность рядом с ним, не любил себя за это и потому был особенно весел, развязно болтлив. И сейчас вежливо, на некотором отдалении пожимая руку Максимилиану Минусову (а ведь утром виделись уже!), он начал свою обычную скороговорку:
— Желаю, желаю, Максминус, всяческих плюсов вам: личных, общественных, интимных, общечеловеческих. Думаю, все думаю, голова моя узколобая трещит — что бы такое вам сделать приятное? Внутреннюю потребность испытываю, вроде зова подсознания. Удивляете вы меня — ничего вам не нужно. Всем же, всем леди, господам, товарищам чего-нибудь да надо. Тут один попросил достать дубового паркетика для пола… А вам, может, шербурский зонтик или метлахской плитки для совмещенного санузла? Не стесняйтесь. Вам — с душевной радостью, чистой совестью, и спать буду как дитя в первый день после рождения. Уважаю вас, Максминус, внутренне, бескорыстно. И назвал вас так, чтобы не смешивать с рядовыми массами.
— Благодарю за откровение, Михаил, — сказал Максимилиан, выпрямляясь, оглядывая Гарущенского. — Вы какой-то сегодня перевозбужденный. Нервы растревожены. Не случилось ли чего в дороге, хотя водитель вы превосходный. Но и превосходного могут… дорога…
— Правильно, могут. Только не дорога, а дура… Да, представь, Максминус, дура наштукатуренная. Вцепилась коготками, душит. Хватит, говорю, уйди по-человечески. Подобрал на улице, подарил июльскую Ялту. Живи и помни. Море, горы, рестораны, исторические места. Откуда взял — туда и доставил в полной сохранности, с прибавкой веса в два кило и шоколадным загаром. Скажи спасибо, старик, дай тебе бог здоровья на радость другим, и продолжай самостоятельно молодую кипучую жизнь. Нет, вцепилась, Максминус, замуж хочет… Да мне работать надо, проездился до нуля, а она всего-навсего лаборантка при благодетеле докторе наук каких-то. И за кого замуж? Ну не юмор? У меня душа — как вот эта моя ладошка: вся в рубцах и морщинах, грубокожая, бесчувственная. Пустая, как та же ладонь. Может это понять моя дурочка?
— Поговорите спокойно, если так. Убедите. Надеюсь, вы не первый у нее?
— Первого она и в общих чертах позабыла.
— Убедите. Решительнее.
— Решал. Осталось последнее — убить.
— Зачем же так…
Нет, Максминус, уважаемый и уважающий всех других человек. Прожил ты длинную, суровую жизнь, обогатился духовно на целый десяток иных людей, а женщин ты не знаешь. Романтик потому что. Порядочный слишком для постижения данного предмета. А вот великий писатель Лев Николаевич сказал: я кое-что знаю о женщинах, но не скажу, боюсь. Когда лягу в гроб, приоткрою крышку, скажу и сразу захлопнусь. Вот это кое-что…
Максимилиан Минусов кротко, даже с виноватостью усмехнулся Гарущенскому: «Прости, если не понял тебя, если помочь не могу», — взял его руку в две своих, подержал, словно согревая, проговорил, глядя медленно, младенчески невозмутимо:
— Устали вы, Михаил. Побудьте наедине с собой. Хорошо выспитесь. И не спешите. Не спешите в душе и движениях. Даже когда пойдете домой — замедляйте шаг, будто вы свободны-пресвободны, вам совсем-совсем делать нечего. И вы соберетесь, станете цельным, единственным Михаилом Гарущенко. Тогда и подумаете. Тогда и ваша подруга увидит вас истинного. Всего доброго, идите с добром в душе, снисхождением к подобным себе.
— Милый Максминус! — Мишель наклонился, как бы намереваясь поцеловать в щеку Максимилиана. — Мне уже легче. Благодарю и спасибо! Твоя рука, твоя речь, твой покой…
И Гарущенко — теперь он явно стал Михаилом Гарущенко — без иронических кивков, шуток и прибауток, прямо, спокойно зашагал к полосатому шлагбауму, неторопливо удалился в сторону белых тесных домов города.
«Человек, управляющий машиной, в некоторых случаях может оказаться на скамье подсудимых только потому, что на дороге или улице создалась сложная ситуация, а он в это время управлял «источником повышенной опасности». Объясняется это как несовершенством действующих на этот счет законов, так и широко распространенным мнением, что к ответственности надо прежде всего привлекать тех, что сидят за рулем, а не пешеходов».
— Так, — сказал вслух Максимилиан Минусов, будто перед ним сидел в сторожке автор этого абзаца, перечитал газетную вырезку, сунул ее в папку, где хранились статьи и заметки на тему «Человек, дорога, автомобиль». — Порассуждаем, уважаемый доктор технических наук. Очень правильно вы заботитесь о водителе: «в некоторых случаях» он действительно ни за что садится на скамью подсудимых. Так уж повелось: кто за рулем — тот виноват. Но давайте-ка подумаем: почему так повелось? Не кроется ли здесь некая непостигнутая истина?.. Вообразим себе некоего человека, севшего за руль первого самодельного автомобиля и выехавшего на улицу захолустного городка. Дым, грохот, пыль. А главное — вонючая железка сама везет человека. Не лошадь, не бык, не коза… Нащупываете мысль, доктор? Старушки обзывают автомобиль чертовой телегой, здравомыслящие обыватели возмущаются: «Железная самоходка весь воздух в городе перепортит!» И молодежь… да, и молодые люди страшно возбуждены. Они не верят в чертей, плевать им на отравленную атмосферу, но как пережить такое: человек едет в автомобиле, изобрел, управляет, глушит мотором уличный гомон. Он, вообще-то, и не совсем человек уже. Вернее, другой человек. (Может, похоже выглядел смельчак, впервые обуздавший коня?) Да как он посмел, кто он такой? Где разрешение? Палки ему в колеса, умнику!.. Оскорбил, обидел, возмутил подобных себе, едущий на самоходной железке. Он — виноват. И тут, представьте, под колесо попадает курица…
Минусов откачнулся, начал смотреть в окно, щурясь от низкого вечереющего солнца, чтобы приглушить мучительно четко возникающую перед глазами картину: курица с помятым крылом, заполошно кудахча, бежит к подворотне, а на шофера и автомобиль обрушивается толпа. Розовощекие парни, здравомыслящие обыватели, дети, старухи, под собачий лай и вой, бьют дрекольем, камнями, пинают, раздирают, топчут «машинного» человека и его возмутительный механизм.
— Допустим, уважаемый доктор технических наук, умелец этот останется жив. Что изречет он, залечив шишки и синяки? Ясно: варвары, дикари, своей выгоды не понимают. Но чувствовать себя будет виноватым. Да. Непонятной виной виноватым. Отчего? Оттого, пожалуй, что осмелился изобрести, сесть на машину, которая отняла у него какую-то частицу воли, частицу души: никогда он не будет владеть машиной как самим собой; машина, самая послушная, равнодушна к нему, ко всему живому. Не так ли, доктор, хотя бы приближенно? Если согласитесь — вот вам очевидная вина ваша, моя, любого, садящегося за руль. Немало лет я отшоферил, и всякий раз, забравшись в кабину, минуту-две сидел немо и отрешенно, вручая себя машине, глядя как бы из другого измерения, на жизнь, оставшуюся за железом и стеклами кабины… Вы водите автомобиль, доктор? Если да, то что говорите себе, когда включаете первую скорость и трогаетесь в путь?
Перечитав конец абзаца из газетной статьи о широко распространенном мнении, что к ответственности надо прежде всего привлекать тех, кто сидит за рулем, а не пешеходов, Минусов сказал:
— Теперь мы видим, откуда это «мнение». Пешеход всегда, или очень долго еще, будет прав: ноги должны шагать по земле, а не жать на железки-педали. Шофер же, горячо оправдывающийся, невиноватый, оправданный, сохранит в душе незаживающую виновность. Как «первородный» грех — за того, первого, доверившего себя машине.
Минусов завязал тесемками папку с заметками и статьями на тему «Человек, дорога, автомобиль», резко отодвинул ее, словно бы покончив документальную часть беседы, и обратился к доктору технических наук попросту, опершись локтем о стол, расслабленно посматривая в окно, где за березами красно пламенело солнце:
— И последнее. Самое главное, хоть и последнее. Кто за рулем? Кто пешеход? Даже в мире совершеннейших автоматов, если возможен такой мир, будут случаться катастрофы. Пусть самые маленькие. А человек?.. Сегодня Мишель Гарущенский сотню километров своего пути был «источником сверхповышенной опасности». Кто об этом знал? Кто узнает?.. Есть приборы, обнаруживающие, алкоголь, — нет определяющих душевное состояние водителя, пешехода. А как же без этого? Кого судить, наказывать? Сколько неприметных трагедий мчится в автомобилях, шагает пешком… Вот где, уважаемый доктор, кроется главная проблема, едва ли постижимая истина. Человек — техническая революция. Вы говорите, что это интересно, заслуживает внимания… Согласен. Но этому вниманию пора стать глубоко научным. Извините, благодарю за приятную беседу, до свидания. Если не возражаете, в другой раз… К сторожке приближается озабоченный чем-то председатель гаражного кооператива «Сигнал».
Святцы Максминуса
«У англичан есть такое выражение «Self made man» — «человек, сделавший сам себя». На подобное нечто решился и я, бросив школу, учительство, переместившись в несколько отчаянных дней из Подмосковья на Сахалин. Кстати, Катангли по-нивхски означает: «Терпкая река». Когда-то давно она была просто терпкой от нефтяных пятен, к моему же приезду речка едва переваливала через пороги густо-черную воду в мазутно-асфальтовых берегах. И весь поселок настолько был пропитан нефтью, что веснами снег быстро скатывался со склонов сопок — поселковой и рабочей, — черная земля выпаривала лужи, воздух заражался синеватой мглой мазутных испарений.
Вспомнилось — как жутью полоснуло в груди: загорелась буровая. Ночью. Стекла нашего общежития кроваво окрасились, по стенам заполыхали белые, красные, черные тени, корчась сумасшедше, разрастаясь и умирая. Чудилось: горели немо, гибли в адских муках души грешников; наступил час Страшного суда. Все проснулись, молча вывалили наружу. Горела буровая в стороне, за поселком, среди чахлого лиственничника. Там уже трудились пожарники, из брандспойтов белыми гибкими прожекторами струилась пенная эмульсия. Она казалась слабой и нежной, она умирала, коснувшись багрово-черного, тяжелого нефтяного огня. Тихо вернулись, легли на свои койки. Каждому утром — работа. Но уснули немногие. Что-то жуткое, утробное, древнее — оттуда, из непостижимой земной глубины, виделось и чуялось в зареве горевшей катанглинской нефти. Несколько суток не умирал черный пожар, на дома поселка оседала сажа, люди ходили с закопченными носами. Притихли даже ребятишки.
Вернемся, однако, к теме. В прошлый раз мы остановились на словах «Через два года…». Да, спустя два года я переменил профессию — стал трактористом. Уговорил меня сосед по койке Алексей Коньков: «Слышь, ты это брось… бабскую должность. Геморрой, чес слово, насидишь. Шагай ко мне, машину водить научу. Дело, понял? Для мужика. И мне, слышь, интереснее будет, идейно-художественный уровень повышу: высшее образование рядом, в кабине, а?» Отпросился к Алексею Конькову, на гремучий Т-74.
Всю зиму мы таскали будку-сани по льду Набильского залива. От поселка до новой буровой вышки и обратно. Возили рабочие смены, продукты, арматуру. Часа четыре-пять в один конец, смотря какая погода. Сидишь в полушубке, валенках, ватных штанах, стрекочут гусеницы, глухо урчит за плотно задраенной кабиной мотор, снизу повеивает керосиновое тепло, и глаза слепнут, слезятся, переполненные искристой бескрайностью снежной белизны. Ни деревца, ни малого кустика. Всегдашняя пороша, поземка. Рубчатый след гусениц сразу же замывается, затирается, будто набильская чистейшая белизна не терпела даже легоньких морщинок, оставляемых санным поездом. Чтобы не сбиться — а это случалось, не раз трактористы блуждали в пурге, — двигались по компасу, как моряки. Да и похожа была Набильская лагуна на ледовое море с замороженными вдали волнами — снежными застругами.
В такие долготекучие часы Алексей Коньков, отдав мне рычаги, уютно заваливался в угол кабины и спал совершенно спокойно, по-детски надув розовые губы. Отоспавшись и сладко закурив, он начинал философствовать.
«Слышь, — говорил Алексей, покашливая дымком, — я, слышь, на этой должности отдыхаю, передышку себе устроил от напряженной жизни. К лету подамся на материк, где пшеничку сеют, помидоры растут, баб много веселых. Дом с огородом построю, женюсь. А?.. Чес слово, душа ласки просит. Может, притомился, а? Не выдерживаю поставленной задачи: жить, жить, жить… Отдыхать — на заслуженной пенсии. Как смотришь на наболевший в душе вопрос?..»
Я отвечал что-нибудь или вовсе отмалчивался. Алексей Коньков мало нуждался в советах, он окончательно созрел как личность, покорно неся на широких, каменно твердых плечах тридцать неполных лет придуманной, сурово прожитой жизни.
«Придуманной», — написал я. Пожалуй, это не точно. Может быть, вынужденной?.. Разберемся понемногу. А пока припомним биографию Алексея Конькова. О ней сам он говорит просто: «Коротка и запачкана, как детская рубашонка». Родился Алексей в деревне Ворга, что на Смоленщине, там и рос себе потихоньку среди таких же детей рядовых колхозников. Но пришли немцы в сорок первом, и отец Алексея, вроде бы не самый плохой механизатор, сделался старостой. Невозможно было десятилетнему парнишке понять или осудить поступок отца: каждодневная пальба, виселицы, топот окованных башмаков, чужая, до замирания сердца страшная речь. Мать крестилась, стояла на коленях перед иконой богородицы, когда громили Воргу партизаны. Алеша думал и надеялся, что батя притворяется, обманывает немцев, по-настоящему служит только своим. Лишь после ухода немцев, с которыми бежал отец, стало ясно: староста Коньков выдал фашистам двенадцать подпольщиков и партизан, помогал карателям прочесывать окрестные леса. У клуба был зачитан приговор военного трибунала — Конькову, бывшему жителю деревни Ворга, предавшему Родину, заочно определялась высшая мера — расстрел.
До сорок шестого года Алешка кое-как учился в школе. Получив паспорт, уговорил мать отпустить его из деревни: не мог он там жить, не мог привыкнуть, как вслед ему шипят: «Сынок пособника…» Что бы ни случилось на улице, в школе — выбили окно, кого-то отколотили, побрали яблоки, — можно было услышать: «Дак это тот, старостин…» Злобствовали особенно те (помнил их Алешка), кто пресмыкался перед Коньковым, готов был руку по-собачьи лизать — только прикажи. И не засчитывалась Алешке в оправдание его малолетность при оккупации, для недоброй мудрости хватало пословицы: «Какой пень, такой и отростень». Отпустила мать Алешку, осталась с четырехлетней дочкой, которая ничего еще не смыслила, а потому и не трогали ее пока обиженные войной сельчане. На прощание рассказала, что отец еще в коллективизацию дружил с кулаками, хоть сам считался середняком, — таким уж, видно, уродился частником неисправимым, — раскаялся вроде, его простили, работал не хуже других, а явились немцы — к ним перекинулся.
«Подался я, слышь, на восток, подале от нашей земли. На самый крайний. Ну, где вкалывал, кажись, уже рассказывал: начал трудовую карьеру обрубщиком сучков в леспромхозе на Камчатке, когда в плечах поокреп, бензопилой стал орудовать, после на магаданское золото за казенный счет перебрался, не озолотился, как можешь наглядно убедиться, но кое-что про жизнь-жестянку узнал и главное понял: тьфу — на этот желтый благородный металл! Человечеству пора сортиры из него строить, в отместку за кровь и пот тысячелетний. Перешел следующим этапом в рыбаки, мотыльком перепорхнул в Совгавань: все ж таки рыба — продукт для питания людей, душевное удовлетворение; мерз, вкалывал палубным матросом на просторах Охотского моря и Бристольского залива, потом в армию призвали — тут отдохнул два годика, выучился шоферить, вспоминаю с душевной теплотой родной Энский автобат, — и опять в рыбаки-моряки, но сахалинские уже. Пожелал так, слышь, не могу долго задерживаться на одной должности; опять Бристоль, по шесть месяцев без берега, Тихий океан, сайра; простудился шибко зимой, в больницу первый раз попал, а после, уже поближе к теплу, попросился горючее добывать, золото, но не то — черное, жидкое, хлеб индустрии; вот тут твоя коечка и оказалась рядышком с моей, корешами стали, потому что бродяги оба, хотя по разным причинам; а в деревне, родной Ворге, не был, не спрашивай, оторвался с пуповиной; деньги старушке шлю, сестрица десятилетку окончила, в пединститут поступала в Смоленске, почему-то не прошла, училась вроде хорошо, ей тоже помогаю, на ремонт дома посылал, телевизор купили — признак культурной жизни; я ведь почти что непьющий, по большим всенародным праздникам только, на этом мы тоже сошлись, слышь, Макс-Максимилиан?»
Нам часто приходилось пережидать пургу в теплом рубленом бараке буровиков. По вечерам надежно тутукал за стеной дизелек, горели электролампочки (кстати, мотор заправлялся нефтью из пробуренной скважины, как и наш трактор, — такой ценной чистоты была катанглинская тяжелая нефть), ребята раздвигали столовские столики, крутили фильмы, сразу по нескольку штук, старых и новых, а если оставалось время или не было кинолент, начальник партии, человек пожилой, весьма начитанный, уважаемый буровиками за дело и веселость, устраивал «китайские чаепития». Для этого кипятился медный ведерный самовар — он возил его с собой по всему Дальнему Востоку, — густо заваривалась в чайнике заварка, ставились китайские фарфоровые чашки с драконами, привезенные хозяином из туристской поездки в Пекин, — нечто вовсе праздничное и нетаежное. Каждый участник чаепития обязан был рассказать какую-нибудь историю из своей жизни. Интересную, незабываемую. О первой неудачной любви, о катастрофах, крушениях. Верности, ненависти. Смерти и воскрешении. И удивительно — заговаривали самые бирюковатые, неодолимо стеснительные, от рождения косноязычные: так умел бывалый человек, начальник партии (жаль, запамятовал его фамилию), отогреть, растревожить души. «Нельзя всего себя носить в себе, надо поделиться с другими, они возьмут часть твоей ноши», — были его всегдашние слова.
В один пуржистый вечерок нас пригласили на «китайское чаепитие», и начальник, наполнив фарфоровые чашечки, подав каждому в руки — «сотворение» чая он никому не доверял, — обратился к Алексею: «Вы, Коньков, пожалуй, с пяток самоваров опорожнили за время нашего приятного знакомства, а почему-то молчите. Есть вам что рассказать, от вас прямо-таки особые биотоки исходят, вы перенасыщены житейскими впечатлениями, слушаем вас внимательно, Коньков».
Представьте, похмурился, посопел Алексей, опорожнил в два глотка чашку крепкого, горячительного чая и рассказал, довольно складно, о своей первой любви.
Жил он тогда на Камчатке, работал в леспромхозе, но уже не простым сучкорубом, а бензопильщиком — полноценным, так сказать, членом коллектива. С нормой справлялся, приоделся, почувствовал себя парубком, стал ходить в клуб, и не только кино смотреть — на танцы под радиолу. Тут он познакомился с Симочкой, дочкой главного инженера. Училась Симочка в пединституте, на зиму уезжала в Петропавловск, зато все лето была дома, очень любила свой деревянный, среди тайги, возле форелевой речки, поселок. И зимой прилетала… Они дружили, а потом и полюбили друг друга. Алексей начал ходить в вечернюю школу, чтобы подготовиться к техникуму лесных механизаторов, Сима соглашалась учительствовать до пенсии в леспромхозовской десятилетке. Какая была Сима? Очень красивая, конечно. И непохожая на городских, российских девчонок: из любого ружья умела стрелять, неутомимо ходить пешком, на лыжах, не боялась тайги, умела наловить рыбы, добыть птицу. Всегда загорелая, белозубая, стриглась под мальчишку и сильна была необыкновенно: среди лужайки, после купания в зеленоватой, студеной воде горной речки, они боролись «как мужчина с мужчиной», и не всякий раз побеждал Алексей. Сима говорила ему: «Ты крепкий, но у вас в России воздух жидкий, пища выращенная — не от природы. Ты станешь такой: кожа смуглая, зубы белые, глаза острые, ни грамма лишнего веса… Ну, такой приблизительно, как я». Сима шутила, а Алексею искренне хотелось сделаться камчадалом. Купил ружье, лыжи, вырастил охотничью собаку — лайку. Работал, учился, «клал на лопатки нормы», назначили бригадиром бензопильщиков. Главный инженер хорошо, умно относился к Алексею Конькову: строго и сдержанно на работе, с доброй ухмылкой, внимательным приглядом, когда Алексей приходил навестить Симу и вместе они сотрясали дом-рубленку джазовой музыкой, топаньем и прыжками рок-н-ролла. Они, отец и мать неуемной Симочки, были вполне современными, хоть и обитали в тайге, прошли войну, революцию, коллективизацию. Нравился им будущий зять, пусть пока необразованный, зато старательный, без хитростей, душевный. Но как-то вечером, за семейным чаем…
«Да, вот так вот сидели, — говорил, понурив голову Алексей Коньков. — И самовар кипел, помене только размером… Попросил главный: расскажи, Алеша, свою короткую молодую биографию. Я отвечаю: короткая — правда, да не молодая — будто бы полсотни лет уже прожил. И рассказал: батька был старостой, приговорен к высшей мере заочно, сбежал с немцами. Не поверили. Ни Сима, ни родители ее. Я говорю тогда: посмотрите мое личное дело. В графе «Имеются родственники за границей» написано: «Отец. Был полицаем при немцах, ушел с ними». — Алексей Коньков поднял голову, оглядел затихших участников «китайского чаепития», остановил взгляд на начальнике партии, вымолвившем: «М-да». — Вот почти так же отреагировал главный инженер. Но у него была дочка. Он изучил на другой день мое личное дело. И… вы уже догадались, милые товарищи, запретил Симочке встречаться со мной».
Они встречались тайно. Зимой Алексей взял отпуск, полетел в Петропавловск, поселился у одинокой старушки на окраине. Виделись они каждый день. Решили окончательно: получит Сима диплом — уедут туда, куда ее распределят. Прилетал в город главный инженер, но не нашел Алексея. А летом выследил их на лесосеке — Сима за семь километров прибежала свидеться, — ударил Алексея по лицу перчаткой, обозвал «подлым выродком». Ответить Алексей не мог, однако и не сдержался: схватил его за лацканы пиджака, стиснул, оттолкнул от себя. Главный инженер, падая, затылком угодил в лиственницу. Получил сотрясение мозга. Нашлись свидетели. Был суд. Алексея Конькова приговорили к двум годам исправительно-трудовой колонии. Так он попал на золотые магаданские прииски.
«Думаю сейчас: обыкновенная Симочка была. Даже не красавица, сейчас, когда десяток годов позади… Писала какое-то время, обещала ждать. Потом канула. Запрашивал, когда по чистой освободился: уехал главный с семьей в неизвестном направлении. Ладно. Не очень чтобы новая история, бывали пострашнее, художественная литература рассказывает. Но, ребята, товарищ начальник… любовь-то не канула вместе с Симой… Свеженькая в душе хранится. Люблю я Симу…»
Алексей Коньков, словно прося незамедлительно ответить, как ему жить дальше, глянул каждому в лицо, наверняка ничего не видя: синие глаза его до краев налились слезами, а вот и бурые, подмороженные, шелушащиеся, точно древесная кора, щеки блеснули влажными дорожками. Ему налили горячего чая. Выпив в несколько глотков, Алексей, мотнув головой, запустил в нечесаную желто-русую шевелюру пятерню, улыбнулся:
«Все, отпустило».
«Молодец, — тронул его плечо начальник партии. — Мы будем помнить тебя и твою любовь. Будет тяжко — вспомни нас. Теперь ты не один».
Так мы и таскали всю зиму санную будку по Набильскому заливу; весной… Нет, весной мы не уехали из Катангли. Мне надо было доработать свою трехлетку, по договору, чтобы получить льготный расчет. Алексей остался ждать меня. Лето пережили без особенных происшествий, запомнилось лишь одно событие… Минуточку, кто-то ломится в сторожку…»
Дверь распахивается с треском и наотлет, будто ее срывают с петель, и из сумерек, прыжком одолев порог, возникает Кошечкин — маленький, тощий, лысый, мятый, очень похожий на старого, драчливого, защипанного воробья. Обычно вялый и похмельный, равнодушный к самым выдающимся мировым событиям, Кошечкин сейчас выглядел до сумасшествия потрясенным: белесые глазки выкатились из глубоких глазниц, дрожали мутными каплями в закрасневших болезненно веках, усохший, ввалившийся беззубый рот был черно приоткрыт, в нем застрял не то крик предсмертный, не то весть о наступлении всемирного потопа.
Минусов взял его под руки, усадил на лежанку, дал испить воды. Кошечкин наконец, растирая ладошкой отсыревшую испариной лысину, вытолкнул из себя куцые слова-уродцы:
— Там… Он… Хо… ходит…
— Кто ходит?
— Он… Мертвая тень…
Припомнилось Минусову, что не раз Кошечкин заговаривал о каком-то человеке, тихом, сгорбленном; с наступлением сумерек он будто бы появлялся у кооперативных гаражей, выходил тенью из кустов, пробирался за шлагбаум и бродил от блока к блоку, прислушивался, принюхивался, что-то бормотал, а то и пел еле внятно, тоскливо завывая. В полночь он исчезал. Не появлялся в лунные ночи. Не бывало его, если кто-нибудь из автолюбителей допоздна возился в своем гараже, жег электросвет. Один раз Кошечкин будто бы погнался за человеком-тенью — тот мгновенно исчез. Как, куда — непонятно. Через блоки не перелезешь, запасные ворота закрыты на висячий замок… Минусов не очень верил россказням вечно похмельного Кошечкина (случалось, он разговаривал сам с собой, называя себя уважительно и серьезно по имени и отчеству, или принимался сшибать со стола чертиков, приговаривая: «Пляшет, стервец рогатенький, вот я сейчас тебя — тресь!..»), но сегодняшнее его сумасшествие, обратившее человека-тень в «мертвую тень», взволновало Минусова, он решил обойти гаражи.
— Проверим, если так.
Кошечкин замотал головой, отгородился руками, подвинулся в угол лежанки, а когда Минусов вышел из сторожки, закрыл дверь на крючок.
Вечер был сырой, хмарный, облака черно лежали над городом, скудными светляками мигали окна за голыми, чуть проступающими стволами берез, похожими на скелеты заживо обглоданных гигантских животных, и было зябко, одиноко в предчувствии большого дождя из черных насыщенных холодной влагой туч.
Он прошел во внутренний двор, у крайнего гаража остановился, привалившись спиной к темноокрашенным дверям, чтобы сделаться незаметным. Асфальт смутно посверкивал лужицами, ряды тесно сливавшихся блоков, резко различимых ясным днем, теперь уныло и неприглядно чернели в сырой сероте. Ни огонька, ни звука. Железным сном умерщвлены автомобили и мотоциклы. Лишь попахивает от асфальта бензином — пролитым и неиспарившимся пойлом железных существ, крепко запертых в бетонных стойлах. Кому, зачем здесь бродить? В этой тоске сырого бетона, остывших коробок на резиновых колесах?
Но что-то мелькнуло вон там… У запасных ворот. Тень?.. Человек?.. Вроде и шаги слышатся. Легким шарканьем. Или чудится?
Осторожно, держась более затененной стены, Минусов идет к запасным воротам. И видит: кто-то прохаживается, согбенный, почти невесомый, посередине двора, в самом конце гаражных рядов. Шагнет — остановится, шагнет — прислушается. А вот потрогал одни, вторые двери, будто провел пальцем по ним, сделав какие-то метки. Чертовщина!.. Хоть глаза протирай!.. Минусов вышел на середину асфальтовой полосы, вынул фонарик и, пока не включая, открыто двинулся, стуча ботинками, к ночному человеку: ему ведь все равно некуда деться, а набросится — ослепить светом фонаря.
Человек замер на мгновение, затем метнулся в одну, другую сторону, потерялся, снова мелькнул. Минусов резанул тьму лучом фонаря, побежал, крикнув:
— Стой! Все равно поймаю!
Свет фонаря метался по стенам, асфальту, дверям гаражей, в нем обозначилась тощая, скрюченная, прыгающая фигура человека — узкое белое лицо, вспыхнувшие зеленым фосфором глаза… — и Минусов уперся в поперечную стену гаражей. Прощупал лучом один угол, второй… Никого. Повернулся. Легкий топоток вроде бы слышался по ту сторону запасных ворот. Прощупал светом длинную полосу двора — пусто, сонно. С робкой надеждой приблизился к запасным воротам… Нет, все как и было днем: железные, с острыми пиками створы соединены намертво тяжелым амбарным замком. Перелез? Едва ли кто сможет — летун какой-нибудь… Подполз? Уж очень узенькая щель между асфальтом и нижним краем ворот… Куда же делся ночной гость? Или это «мертвая тень»? Или вообще никого не было — чертовщина намерещилась?..
Минусов почувствовал зябкую, недоуменную оторопь. Давно уже, кажется, с самого детства ничего такого он не ощущал.
Шел Минусов утром домой, почти позабыв о «мертвой тени», да и какие могут быть привидения, бродячие мертвецы, если так пылает в деревьях, в последождевой прохладе громада Солнца, трава, тротуары, дорожки залиты росой, желтая листва вызолотила город, и в каждом окошке, изнутри квартир, будто сияет по маленькому светилу.
Оглядывая дальние затуманенные леса, улыбаясь самому себе, испытывая полное умиротворение в душе, он все-таки вздрогнул, когда послышалось рядом:
— Доброе утречко, Максимилиан Гурьянович!
Еще не повернув головы на голос, он понял: встретился с Ольгой Борисовной Калиновской. Да, с той Олечкой-математичкой, теперь тоже пенсионеркой. Она шла, неся пустую синтетическую кошелку, видимо, в магазин, была одета по-осеннему, но легко: в плащ, шляпку, прорезиненные сапожки. И немножко, совсем чуть-чуть подвела брови, подрумянила губы — по старой привычке больше. Минусов едва не сказал ей вдруг, что сегодня, сейчас, она почти та же давняя Олечка, старость помиловала ее за какие-то особые заслуги перед жизнью и людьми, но, конечно, сдержал себя: встречались они редко, были на «вы», прошлое не тревожили даже намеками: было ли оно? А он смутился все же, чувствуя некую вину перед Ольгой Борисовной (ведь сбежал от нее когда-то, бросил вроде бы, как-то обманул, хоть и не жил с нею вместе и одного дня!), оттого не мог свободно говорить, словно ожидая ее внезапного упрека, насмешки; ответил, пытаясь настроиться на ее тон, тихую веселость:
— Доброе и вам, Ольга Борисовна. Что-то вы рано сегодня…
— Солнце веселое разбудило. Да и не могу в квартире сидеть, всю жизнь в школьной колготе, а тут как в ящик запечатанный попала. А скажите, Максимилиан Гурьянович… — Ее голубые, ничуть не выцветшие глаза, с карими крапинками по ободку, на минуту занемели, точно она сейчас спросит у школьника какое-то сложное арифметическое правило. — Скажите… Может, мне купить автомобиль? Деньги есть, на «Запорожец» хватит. А то ведь скучно с пенсионерками судачить во дворе, да и не умею я судачить. Автомобиль, говорят, много времени отнимает.
— Шутите, Ольга Борисовна?
— Почему же, я уже почти решилась. Разве не смогу водить?
— Сможете. Да не знаю… Подумайте лучше. Это ж такая забота…
— А мне куда время девать?
И опять Минусову неловко, даже совестно стало: не упрекает ли его Ольга Борисовна за ту давнюю Олечку, оставшуюся одинокой? Но Ольга Борисовна расспрашивала уже о гаражных кооперативах — где можно купить блок, нет ли у них свободного, в «Сигнале» бы лучше, потому что помог бы ей по старой дружбе он, Максимилиан Гурьянович. На прощание она сказала ему:
— Ведь вы же поменяли школу на технику. И не жалеете. Я сейчас хочу попробовать. Надо же знать, что такое НТР.
Она пошла дальше, чуть помахивая кошелкой, а Минусов смотрел ей вслед. Она шагала легко, по-давнему, и подумалось ему, что сейчас она обернется по-давнему, поднимет руку и приветливо сожмет кулачок. Она не обернулась, затерявшись среди уличных пешеходов.
Лежал Рудольф Сергунин на поролоновом диване и бредил — оттого что не мог уснуть. Выпил две таблетки седуксена, две белых, хрупких, принесенных бабусей Ирочкой ему, любимому внуку: «Если голова заболит или волнение переживешь, выпей, хорошо облегчает», — и не мог забыться, «забалдеть», как выражается Мишель Гарущенский (ох и посмеется этот престарелый хиппи, когда узнает о помятой «щеке» его, сергунинских, «Жигулей-люкс»!). Голова пухла, мутнела, точно наливалась теплой болотной водой, а закрытые глаза, напротив, видели все четко, в цвете, словно перед ними прокручивалась кинопленка, на которую был заснят сегодняшний день Рудольфа Сергунина, но кадры шли вразброс, никак не удавалось их упорядочить. Вот опять: две белые огромные таблетки нависли над ним, потом завалились в сторону, покатились и стали колесами «Волги» — той, с этим типом… Бородка, очки, лысина… Орет, сучит бледными кулаками, женщина крашеная тоже орет, придерживая рукой сползший на затылок шиньон — под густо-рыжими черные жидкие волосы… Рудольф хватает за галстук типа, что-то ему кричит… «Гад, — кричит, — раскорячился посреди дороги!» Женщина запускает когти в шевелюру Рудольфа, дергает — огонь брызжет из глаз, — он бьет типа кулаком по сиреневому потному носу, получает сильный толчок в скулу, падает, вскакивает, видит: старый сухопарый тип волочит молодую тяжелую особу к «Волге», она визжит, брыкается… Рудольф Сергунин догоняет их, бьет в затылок типа, тот вскользь попадает ему острым ботинком по колену, прыжком усаживается за руль, глушит Рудольфа мотором, выхлопным газом и укатывает вдаль… А номер, номер, номер «Волги»?! Где? Забыл? Потерял?
Сергунин вскакивает с дивана, сумасшедше осматривается, шатаясь, бредет к столу, видит на клочке бумаги «27-58». Есть! Записал! Молодец! Разыщу его, горло разорву, заставлю уплатить, отремонтировать!
— Собака лысая! — тычет он пальцем в помер машины. — Ты же виновата, дорогая собака. Зачем же убегала? Надеялась — в заварухе номерок не засеку. Ошиблась, уважаемая дворняжка!
А теперь спать, уснуть, отдохнуть. Две таблетки, бабуся Ирочка говорит, хорошо облегчают. Лягу вот так, успокоюсь, чтоб никакого бреда, психоза, можно мотивчик напеть: «Скоро, скоро, скоро стану я больным и старым, вот тогда и напишу эти мемуары…» Рудольф ложится, две белые огромные таблетки повисают над ним, потом заваливаются, катятся, превращаются в страшно вертящиеся колеса… Бородка, очки, лысина… Но что это?.. Кто-то склонился к нему, кто-то положил сухую маленькую ладошку на его лоб, а вот голос, спокойный, чуть шепелявый:
— Рудик, дитятко мое, у тебя температура, ты заболел, да, миленький? Почему не позвонил, я бы прибежала к тебе. Так нельзя, дитятко, ты совсем один. А если случится болезнь какая, не дай бог… Ты лежи, Рудик, а я кофейку тебе сделаю, принесла тут колбаски копченой, твоей любимой, хлеба свеженького, маслица.
Баба Ирочка пускает воду, моет в раковине грязные чашки и тарелки, затем, шлепая разношенными тапочками Рудольфа, бродит по кухне, протирает пол. Возвращается с кофеваркой и тарелкой, доверху наполненной черным поджаренным хлебом, подплывает к дивану, будто окутанная кофейным и хлебным облаком, пододвигает стул, ставит две чашки, присаживается на краешек, молча берет руки Рудольфа, тянет — так она давным-давно поднимала его в школу, — и он послушно садится, опускает с дивана ноги, минуту рассматривает бабу Ирочку, старенького, морщинистого, ясноглазого человечка с седенькими буклями на висках, чисто, лекарственно пахнущего лавандой (вместо духов она покупает лавандовое масло), трясет водянисто мутной головой и чувствует: отдаляется, отпускает его душу бред, дрожь, томление. Бабуся достает из серванта бутылочку начатого коньяка, наливает немного в чашку Рудольфа, себе тоже несколько капель, иногда они греются таким напитком («северяне — южным», как шутит Рудольф), кивает легонько, приглашая влюбленной, долгой, только для него улыбкой.
— Попей, мой Рудик, успокойся, температурки у тебя нету, ты сильно разволновался, стресс какой-то, ну, пей, а потом все расскажешь бабе Ирочке, что в твоей жизни приключилось, поговорим, обсудим, и все будет хорошо, ты же у меня сильный, молодой, здоровый парень, я первый раз вижу своего Рудика прямо-таки нервно потрясенного, испугалась, руки дрожат, чуть «скорую помощь» не вызвала.
Короткими глотками он впитывает в себя горячий, слегка опьяняющий кофе, сухой жар подступает к голове и словно бы вытесняет из нее сырую болотную муть, он кладет колбасу на хрусткий поджаренный хлеб, выпивает еще чашку кофе; кинув повыше подушку, ложится, расстегивает ворот рубашки; ждет, пока покончит со своим кофе бабуся — она неслышно, по-птичьи, тыкается в чашку, клюет колбаску, — и вскакивает с дивана, как только она отставляет пустую чашку.
Ходит от окна к двери, меряет двадцать квадратных метров своей однокомнатной квартиры, обставленной, прибранной, украшенной бабусей Ирочкой: шторки на окне, ковер над диваном, палас во весь пол, сервантик для посуды, стол круглый для еды и застолий, если случаются, — все куплено или бабусей, или вместе с нею, по ее совету, разумению и вкусу. Она вселила сюда, оставила здесь свою душу, чтобы ее любимый Рудик, обиженный, забытый, непонятый родителями, да, жестокими отцом и матерью — так она непреклонно считала, — чувствовал свою бабусю всегда рядом, не был одинок и грустен; она бы и вовсе перешла к нему жить, но тесно, совсем некуда поставить кровать, мешать будет внуку: приходят друзья, может с девушкой познакомиться… Шагает он, а баба Ирочка покорно ожидает, сложив на худеньких коленках руки, когда заговорит он, облегчит изболевшуюся душу беседой с нею.
— Слушай, Ирочка, я уже успокоился. У меня был психоз, потрясение, ты угадала. Один гад помял мне машину, Ирочка, чувствительно помял. Такую машину, Ирочка! Ты ладошкой ее гладила и радовалась. Я люблю ее, как живое существо, боюсь теперь глянуть — мятое железо… Нет, не очень сильно, переднее крыло, фара… Можно отремонтировать. Но пойми, Ирочка, новая машина — люкс, с мотором поющим, как… Ну как в длинном полете над цветочным лугом пчела… Три тысячи всего наездил. Ты, Ирочка, в бога не веруешь, но признаешь какое-то космическое божественное Начало, так оно что, это Начало, допускает существование двуногих гадов? Они же калечат себе подобных машинами. Калечат машины, и единого колеса которых не стоят. Что они понимают в красоте, движении, полете?
— Всему, Рудик, дано право жить. Равное право. Жить и совершенствоваться. Даже самый плохой человек выше самой хорошей машины. Человек — надежда на человечность, Рудик, машина — средство общения между людьми, помнишь, говорил это Экзюпери… Мы починим «Жигули», я дам тебе денег, Рудик, у меня накопилось от пенсии двести уже рубликов.
— Ты добрая, Ирочка, потому что старая. Один классик сказал: человек может быть счастливым лишь в старости, когда ему ничего не надо. Мне далеко до этого, Ирочка. Мне надо, надо и надо!.. Я не взял и рубля потрепанного у своих родителей, докторов наук. Бросил МГУ, бросил их, поехал искать себя. Десять лет строил Красноярскую ГЭС, которая уже дает миллиарды киловатт, а мой ученый отец до сих пор из плазмы извлекает электроток. Докторскую извлек — ватта пока ни единого. Он хотел и меня сунуть в такую «работу». Нужно, не спорю. Но я работягой родился — мои деды и прадеды были крестьяне, их кровь вернулась ко мне… Вот этими руками я тысячи тони бетона перемесил перфоратором, махину-машину на Енисее возвели, ревущую громадину… И купил я себе машину на четырех колесах в память о той… На кровью и по́том заработанное, как пишут в газетах. У работяги — люкс. Работяга ценит вещь. У него нету лишних рублей, чтоб оплачивать хамство разных тунеядцев, умеющих жить при любых системах. Нет, Ирочка, кто своими руками ничего не делал, тому не понять, что такое вещь. Вещь с большой буквы.
Баба Ирочка молча поднялась, намочила под краном свой носовой платок, остановила Рудика, приложила к его фиолетовой запекшейся скуле теплый компресс.
— Подержи немного, отмякнет пусть.
— Я ведь найду его, сегодня найду. Он из нашего города, схожу в ГАИ, узнаю.
— Значит, он виноват? А свою-то не помял машину?
— Да, Ирочка, он. И не помял: задний бампер подставил.
— А драться не будешь?
— Постараюсь. Если окажется хотя бы чуточку разумным существом.
— Рудик… а это: ты что-то «вещь, вещь»… С какой это большой буквы? Вроде был равнодушен… — Баба Ирочка смущенно обвела взглядом комнату. — Автомобиль, да, жалко? Он выше всех вещей, да?
— Не выше — совершеннее многих. У меня, Ирочка, нету бога, никто мне его не дал, сам тоже не изобрел, поэтому поклоняюсь вещам. Всю свою историю люди делали вещи. Что человек без них? Этот дом — вещь, стол, ковер, коньяк — вещи. И тело твое худенькое, Ирочка, а также мое, восемьдесят килограммов, — суть вещи. Душу выну за вещь, хоть и нет никакой души — она продукт деятельности мозга, как сказал академик Павлов. А мозг — всего лишь материя. Это и первоклашке понятно.
— Тебе жениться надо…
— Правильно. Надо. Не подыскал пока подходящей половины. Курят, пьют, на танцплощадках припадочно дергаются. Какие от них дети? Я хочу здоровую духовно и физически. Из деревни привезу, работницу краснощекую.
— А любовь, Рудик?
— Придумали, половое скотство облагородить. Превратили в скотство — потом облагородили. Никто же не осмелится просто сказать: я хочу с тобой… и т. д. Разыгрывается представление нежное, до тошноты пошлое, миллиарды раз разыгранное. Нет любви, бабуся Ирочка, не надо обманывать мальчиков и девочек, они влюбляются потому, что научены книжками, кинофильмами, телевизорами, сходятся и часто прозревают потрясенно: они просто скоты. Одни разбегаются, другие корчат из себя влюбленных. Истинное влечение, потребность друг в друге должны являться после свадьбы. Жизнь — терпение и взаимотерпимость. Это понимают животные, должны понять и люди.
— Ты сегодня невыносим, милый Рудик, ничего подобного я от тебя не слышала, это же вульгарный натурализм.
Всмотревшись в огорченное, с дрожащими губами лицо бабы Ирочки, мрачно настроенный Рудольф Сергунин вдруг рассмеялся, шагнул к ней, взял в руки ее сухонькую головку, как берут драгоценный и хрупкий сосуд, наклонился, нежно поцеловал ее в лоб.
— Тебя я люблю, Ирочка. Любовь есть. Но иная. Она как счастье. Любовь — когда ничего от человека не надо. Есть он — есть жизнь, свет. И смерть — ничто для такой любви. Ты ведь из могилы будешь приходить ко мне, правда?
Баба Ирочка уткнулась в грудь Рудольфа, плечи ее затряслись, он минуту молчал, водил ладонью по сухонькой, сгорбленной спине, по сухим белым волосам, потом сказал:
— Слушай, я тебя рассмешу. На работе или в гараже я говорю: надо домой — Ирочка придет. И все кивают, подмигивают: понятно, мол, сочувствуем. А один, арматурщик Гурко, пристает — покажи свою Ирочку. Пора тебя показать. Приоденься, маникюр наведи, в парикмахерскую… Нет, я тебе шиньон куплю, хочешь? Такой голубовато-сизый, как из стальной проволоки.
Улыбнулась баба Ирочка, промокнула платочком глаза, совсем молодо принялась суетиться: убирать в комнате, мыть чашки и прочее, ворчать на внука за вечный беспорядок — все разом, и еще успевала улыбаться своим мыслям, своему Рудику.
— Я пойду, Ирочка.
— Куда это?
— В ГАИ. Забыла? Надо действовать. Сразу. А то убежит куда-нибудь лысый тип на голубой «Волге».
— Я тебя подожду тогда.
— Ну, зачем…
— Ужин приготовлю, постираю, отдохну. На весь день у своих отпросилась.
— У этих троглодитов-ученых?.. Шучу. Дай чмокну твой умный лобик — и адье!
Сбежав с четвертого этажа, Рудольф Сергунин жадно подышал у подъезда дома холодным, пахнущим палыми листьями воздухом, быстро зашагал через березовую рощицу к автобусной остановке. Чувствовал он себя почти обычно — неосознанно наслаждаясь собственным легким движением, видом улиц, домов, прохожих, внутренней уверенностью и жаждой дела, впечатлений, — и автобус подкатил как по заказу, и проездной билет в кармане плаща обнаружился, а помнилось ему — вроде бы не покупал. Может, Ирочка подсунула?..
Дежурный инспектор ГАИ сидел в большой комнате, увешанной по всем стенам, от пола до потолка, дорожными знаками, правилами уличного движения, схемами, световыми табло, сидел один, чистенький, побритый, в новенькой фуражке, постукивал карандашом, поглядывал в окно — там промелькивали автомобили, — сам казался живым плакатом, строгим укором, немилосердным судьей для нарушителей правил дорожно-транспортного движения, а главное — сидел один (такая редкость!), и это было счастливым везением. Рудольф поприветствовал инспектора, дождался приглашения сесть, сунул на стол бумажку с номером «Волги», коротко изложил происшествие, прибавив для точности:
— Киевское шоссе. Район соснового леса. Приблизительно двенадцать километров от города.
— Что вы от меня хотите? — спросил лейтенант, «чувств никаких не изведав», постукивая карандашом, глядя в окно.
— Дайте адрес этого типа.
— Гражданина, надо говорить.
— Гражданина, извиняюсь.
— Чтобы еще подраться?
— Нет. Вполне успокоился. Может, договоримся, если он нормальный человек. Не получится — доложу вам.
— Почему сразу не вызвали госинспектора?
— Сбежал гражданин. Я честно все рассказал. Пнул и сбежал.
— Так хорошо вы уважаете друг друга.
— Так…
Лейтенант молча вышел из комнаты, минут через пять вернулся, подал Рудольфу листок с адресом, сказал, сощурившись иронично, едва не зевая со скуки:
— Советую договориться. Свидетелей нет, законного акта о дорожном происшествии не имеется, пассажирка вам не поможет, владелец «Волги», если мы пригласим, изложит как раз все наоборот. В детском садике легче разобраться, кто чью игрушку сломал… Желаю удачи.
Чуть подняв руку к козырьку, будто начисто отмахнувшись, лейтенант прочно уселся за стол дежурного инспектора ГАИ.
«Все в ажуре, как выражаются патлатые мальчики. Адресок в кармане, двинем на улицу Прогрессивную, — значит, там коптит чистое небо лысый прогрессист, — наговаривал себе Рудольф Сергунин, шагая совсем уже бодро, чувствуя, как одна удача сменяет другую, словно бы в отлаженной беговой эстафете «четыре по сто». Не баба ли Ирочка своей волей всему тон задала?.. Но все-таки что-то беспокоило его, чего-то не хватало для полной уверенности, утешения постанывающей души (хоть таковой и нет). — Ага, думал ведь и забыл: надо зайти к Максминусу, пусть позвонит на станцию техобслуживания, пригласит какого-нибудь молодца — у него там все дети родные или братья по классу. Не могу видеть мятую машину, голова стынет, сердце рвется наружу, земля валится в тартарары, солнце гаснет…»
Он идет через парк, чтобы сократить путь, сняв шляпу-клинышек, под березовым и синим небом, топчет мягкие, акварельно-желтые листья, грустно шуршащие, а в это время Максимилиан Минусов, прихлебывая крутой холодный чай, трудился над «Святцами Максминуса».
«Мы остановились на фразе: «Вспомнилось лишь одно событие…» О событии чуть ниже. Приведу сначала абзац из центральной газеты, очень удачно он мне попался сегодня, хорошо послужит моей мысли:
«Новые решения позволили резко сократить площадь земель, выделяемых для промыслов, и защитить воздушный бассейн от загрязнения нефтяным газом. Герметизация всей технологической системы сбора, транспорта и подготовки в 2—2,5 раза уменьшила потери горючего от испарения. Посмотрите на современный промысел, например, Урало-Поволжья. Здесь среди колосящихся хлебов, лесов и пашен трудно даже обнаружить объекты, на которых добываются десятки миллионов тонн «черного золота».
Вот так. Ни больше ни меньше — чудо экологии. Это вам не Катангли, да еще тех давних лет. Промысел наш я уже описывал, не буду повторяться, перечитайте, если что забылось, одним словом: среди нефти жили, нефтью дышали, хлеб, вода пахли нефтью, даже мертвые, уверяли старожилы, не гниют в гробах, пропитавшись нефтью и спиртом за годы жизни и работы на промысле.
И представьте, тем летом Сахалин посещает журналист из центра, к тому же оказавшийся поэтом. Естественно, ему показывают самое лучшее, достижения, одержанные победы над суровой природой. На опытной сельхозстанции он видит пальму, да, настоящую пальму, когда-то выращенную, акклиматизированную японцами. Поразился журналист, впал в неописуемый восторг: пальмы растут! За какие же заслуги сахалинцы получают северные надбавки? Непорядок. Вскоре один сатирический журнал напечатал стихотворение. Жаль, не переписал, не запомнил сего произведения, теперь бы полностью привел. Содержание, однако, могу передать точно, да и «легкость мысли» в стихотворении была «необыкновенная»: опять та же пальма, солнце едва ли не тропическое, все цветет, благоухает и за это, вообразите, некоторые «северяне» получают двойные оклады.
Не буду описывать, как возмутился, зароптал «остров сокровищ», особенно северная его половина. Обидели его вирши поэта, художественно развившего мысль. Повеяло неприятным холодком. Тонкий журнал затерли, затаскали, зачитали катанглинцы. Вот тогда-то я и сочинил ответ поэту:
Вы славно, товарищ, стишок накатали, Да жаль, что не знаете вы о Катангли, О Ногликах, Погиби, даже Охе — Не было б столько прыти в стихе. Лихой сочинитель, за этот стишок Обложит вас крепко весь Дальний Восток!Мое сочинение мгновенно распространилось по поселку, развеселило, даже как-то ободрило катанглинцев в их поистине неласковой жизни: вот, мол, и мы защититься можем, ответить легким на перо подпевалам. А мой друг, Алексей Коньков, уговорил на почте девчат — они не очень-то упирались — и отбил телеграммой две последние строчки в тот журнал, лично поэту-журналисту.
В заключение этой части «Святцев» следует сказать: северные надбавки на Сахалине существуют до сих пор, никто их не отменил.
Поздней осенью мы с Алексеем взяли на память по пузырьку катанглинской тяжелой, прекрасной нефти, крикнули с самолета, когда белые горы острова начали тонуть в Татарском проливе: «Прощай!» — и переместились на новое место жительства. В Амурскую область. Здесь нам предложили…»
Пропел музыкально звонок — последняя мода (привезенный из Москвы, любезно подаренный Михаилом Гарущенко), и Максимилиан Минусов поднялся, открыл дверь.
Вошел Рудольф Сергунин, пожал хозяину руку, сдернул шляпу, присел на стул, оглядел однокомнатную холостяцкую квартиру, подивился чистоте, порядку, какому-то мягкому, почти женскому уюту — всего раз был здесь Рудольф, но не дальше порога, передавая что-то от председателя гаражного кооператива, — и даже улыбнулся теперь: вот ведь можно и одному жить, не теряя человеческого облика.
— Чай, кофе? — спросил Минусов.
— Спасибо, баба Ирочка отпоила. Я сразу, дорогой… — Рудольф хотел сказать «Максминус», но не смог, не выговорилось (значит, гараж, сторожка — иная сфера), — …дорогой Максимилиан Гурьянович, о деле. У вас знакомые на техобслуживании, попросите кого-нибудь, сколько надо, заплачу, не могу видеть свой мятый мотор, конечно, если вас не затруднит, буду благодарен… Иду сейчас к этому типу, на «Волге», адрес в милиции дали.
— Хорошо. Ключи от гаража и машины. А вы успокоились? Вполне?
— Да. Заскучал уже — так успокоился.
— Удачи тогда. Дня через три-четыре приходите.
— А это… приблизительно сколько?
— Не больше сотни, думаю. Крыло сменить, фару…
— Спасибо, дорогой…
И опять Рудольф Сергунин шагал по улице, но уже напевая эстрадный мотивчик: «Пора-пора-порадуемся на своем веку…» — твердые шаги отдавались в голове, встряхивали ее, прояснялось сознание, четче видели глаза, ровнее стучало сердце. Город был светел под продутым ветрами небом, ополосканным холодом поздней осени. Припахивало близким снегом, и белые дома напоминали о снежной чистоте. Отличный город, среди берез и сосен, на берегу речки, без коптящих труб заводов и фабрик. Его и автолюбители не могут пока закоптить. Родной город Рудольфа Сергунина. Он любит его и строит — не вообще, в переносном смысле (в переносном даже секретарь-машинистка — строительница светлого будущего), — своими руками кладет кирпичи, вот этими, с кожей, напоминающей поношенную брезентуху. И верит Рудольф Сергунин: сегодня, завтра, всегда ему будет легко, удачливо житься в родном городе.
Глянув на бумажку с адресом, он понял, что пришел к искомому дому. Средний подъезд, третий этаж… А зданьице старое, пятидесятых годов… Оштукатуренное, с высокими потолками, каменными лестницами. Знать, важная фигура этот лысый, давно обитает здесь… Папаша с мамашей, породившие себе на горе неудачливого сынка Рудика, проживают неподалеку, в таком же желтом, толстостенном, для ценных работников сооружении.
На третьем этаже он позвонил и отшагнул в сторону, чтобы его не увидели — смотровой глазок светился неусыпным стеклянным глазом, — а когда наконец дверь осторожно приоткрылась, он боком и напористо просунулся в нее.
Прихожая была просторной, непривычно высокой, с трюмо, книжным стеллажом, телефонным столиком. И сумрачная. Оттого Рудольф не сразу приметил маленькую, толстую, взволнованно-одышливую женщину (глядел в проход, за которым широко распахивалась, сияла светом большая комната), наткнулся на женщину, мягкую, пухлую, извинился, торопливо сказал, решительно продвигаясь к проходу:
— Мне хозяина, по очень важному делу.
— Кирюша! — позвала женщина, отступая, но придерживая выпяченным животом, хмуростью бровей, вскинутыми на громоздкую грудь руками нахального, подозрительного молодого пришельца с фиолетовой скулой.
Лысый и куцебородый появился неспешно, неся перед очкастым, сизо подбитым носом тяжелую книгу, дочитывая что-то интересное. Он вяло вскинул голову, чуть устало прижмурился, что могло означать: имею я, уважаемые, законное право на отдых или нет? — однако тут же сдернул очки, закаменел побуревшим лицом — лишь книга и очки мелко прыгали в руках… Рудольф отступил немного, ожидая крика, ругани, драки… И не угадал. Лысый и куцебородый, сунув книгу и очки женщине, распахнул тощие руки, выскользнувшие из широких рукавов халата, бросился к Рудольфу, похохатывая и крича:
— Милый Саша! Наконец-то пожаловал! Собственной симпатичной персоной. Прошу, прошу! Без всяких, прямо ко мне в кабинет… Зинуша, знакомься! Саша, друг по гаражному кооперативу «Электрон» и автолюбительству. Мастер, умница. Сколько он мне помогал! И, представь, бескорыстно. Чистая русская душа! А чтобы зайти вот так, попросту — ни-ни. Скромняга. Наконец-то! Прошу в кабинет, в мою берлогу. Самых близких и дорогих — всегда к себе.
Жена Зинуша подала сырую ладошку-оладушку, посторонилась, радостно сияя — как все неожиданно расчудесно обошлось! — и лысый хозяин квартиры, тип, владелец голубой «Волги», втолкнул Рудольфа Сергунина в комнату, заваленную, загруженную книгами, журналами, стопами папок для бумаг, какими-то вырезками, клочками, газетными обрывками. Следующим толчком он швырнул его в кресло — пыльно заскрипела, сминаясь, бумага, — сам грохнулся на жесткий стул, со стуком упер локти в зеленое сукно стародавнего стола. Отдышавшись, — а дышал лысый и куцебородый как спортсмен, рекордно рванувший стометровку, — он промолвил обессиленно, промокая надушенным платком буро-конопатую лысину.
— Веришь, чуть инфаркт не хватил. Да разве можно так, а? Ну позвонил бы, договорились, встретились… Это называется — кувалдой по голове. Мне, миленький молодой человек, шестьдесят. Одно волнение — несколько дней жизни. Вдумайся, оцени свой боевой задорный поступок.
Рудольф уже осмотрелся, вдумался и оценил: лысый старикан ехал на «Волге» с любовницей, был, пожалуй, в легком подпитии, форсил, острил, позабыв о дороге, а когда столкнулись, не смог трезво оцепить ситуацию, да и нагловатая девица орала, царапалась, подбадривала на скандал, ей-то — встряска, развлечение. Нахулиганил по-боевитому и молодежному старикан, сбежал ухарски, а потом, оказавшись дома, рядом с ласковой, пухлой старушкой женой, призадумался огорченно, понял, что его найдут, только дурак теперь может простить дорожное хамство, приготовился честно нести ответственность и сам бы, вероятно, поискал помятые «Жигули», да номера не позаботился запомнить, — но не ожидал, вот уже вовсе не ожидал Рудольфа Сергунина у себя дома, оттого и растерялся, обалдел, затем нашелся, бросился обнимать, истерично крича. Действительно — «кувалдой по голове». Похуже еще.
— Вы убежали, извините, пинались…
— Ну, убежал. Такой стресс в присутствии женщины. Взбрыкнул копытцами. Может, последний раз. Видишь, солидный, свой по месту прописки, сообрази: никуда не денусь.
— Всякие бывают…
— Дорога одна на всех, надо воспитывать автобратство. Плохо, что эти всякие…
Вошла хозяйка Зинуша, неся на подносе парящий чайник под махровым полотенцем, пиалы с орнаментом — среднеазиатские, заварку в жестяной коробке, бутерброды. Лысый и куцебородый уже без волнения принял поднос, чмокнул жену, кажется, не донеся губ до ее одутловатой щеки, вежливо выпроводил Зинушу, поглаживая ей спину, из кабинета, потому что она вознамерилась присесть на минутку, послушать мужской гаражно-автомобильный разговор.
— Чаек — хорошо. Пью только чаек, индийско-цейлонский, по-особенному запариваю: две ложки заварки — и заливаю крутым кипятком. Полезно. Между прочим, не верь, будто чай на сердце влияет. Только с положительной стороны. Крепкий свежий чай сосуды от холестерина очищает. — Он наклонился к низкому шкафчику, просунул руку за стопу старых, в кожаных переплетах книг, нашарил и осторожно извлек бутылку армянского, три звездочки, плеснул в пиалы граммов по сто, подмигнул, подал пиалу Рудольфу, чокнулся легонько. — Причастимся, братья моторные, жертвы технического прогресса.
— А это что очищает? — спросил Сергунин.
— Мозги. Если немного.
— Понятно.
Выпили, зажевали бутербродами с любительской колбасой, побагровевший хозяин — шибче, чем при встрече в прихожей, — заварил чай черно-коричневой гущины.
— Главное — чтобы густой и несладкий. Букет проявляется, знойным югом опаляет, бодрит, тонизирует. Рекомендую. Кофе россиянам не идет, организм наш к нему не готов, может, наши правнуки приспособятся. Между прочим, у меня есть статья «Чай и кофе», научная, я — доктор медицины. А вообще моя область — психастения. Вот, полюбопытствуй… — Он взял со стола тоненькую брошюрку в сером переплете. — Лучше подпишу на память, дома изучишь. Так, Саша… Фамилию подскажи…
— Рудольф я, Сергунин.
— Неужели? Значит, не угадал. Обидно. Очень похож на Сашу, именно такие бывают Саши. Сплоховали твои родители. Держи, лично от автора. Слушай, как звучит: «Кирилл Кирилловский. Болезненные расстройства, характеризующиеся нерешительностью, боязливостью, повышенной впечатлительностью, склонностью к постоянным сомнениям и образованию навязчивых представлений». Изучи, популярно написано, для широких масс. С учетом нашего стрессового века.
От коньяка, дурманящего чая у Рудольфа начала горячеть и мутиться голова, минутами сидящий рядом доктор Кирилловский тускнел, отдалялся, и тогда возникало шоссе, машина с белыми колесами-таблетками… бородка, очки, лысина… женщина крашеная… слышался крик… Было душно в комнате, пахло старой бумагой, пыльным клеем, хотелось поскорее расстаться с помрачительно радушным, разговорчивым доктором. Сунув брошюрку в карман, — Рудольф так и сидел в плаще, держа шляпу на колене, — он качнулся, как бы намереваясь подняться, сказал:
— Т-тороплюсь… Давай обговорим.
— Что именно?
— Ремонт.
— Понятно. Уплачу по наряду. Представишь — и уплачу. Законно. Пусть ремонтируют.
— Что такое?.. — Рудольф Сергунин поднялся, глянул на сосновую зелень в окне, голова прояснилась, ее словно бы овеяло наружным светом, прохладой, и почти спокойно, однако медленно придвигаясь к Кирилловскому, он проговорил: — Наряд… Какой наряд? По наряду три месяца надо ждать… Ты будешь кататься со своей… этой, а я лапти сушить. Или блат есть в техобслуживании? Тогда продвинь, ремонтируй, плати по наряду.
— Нет, нет! Вы не так меня поняли! Садитесь, пожалуйста, прошу!
— Сидеть мне некогда. Хватит. Давай разойдемся по корешам. Ласково. Как в прихожей встретились.
Рудольф подвинулся еще на шаг.
— Ага. Понял вас, — закивал доктор Кирилл Кирилловский, едко щуря глаза, но не роняя тонкой улыбки — какое-то время он прикидывал, цепко оценивая ситуацию, стараясь изощриться хитроумно, — однако не устоял перед взглядом Рудольфа, попятился и спросил почему-то:
— Вы где работаете?
— Не бойся… Кирпичи кладу, вот этими лапами, хочешь, приласкаю?
— Понятно. Сколько предположительно?
— Сто, как одна копейка, верный человек сказал.
Кирилловский присел у другого шкафчика, пошурудил в книгах, вынул сотенную бумажку, издали протянул Рудольфу:
— Прошу. Напрасно волновались. Всегда можно договориться автобратьям. Думаю, между нами останется… Уважаю работяг… Рабочих то есть. Жму руку, приветствую, до приятного свидания.
Руки он не подал, но проводил, поглаживая спину, аж на лестничную площадку, крикнул вслед:
— Бывай, Саша! Заходи, как выберешь время!
Сбежав вниз, Рудольф Сергунин свернул к скверу внутри двора, почти упал на первую зеленую скамейку, немо и неудержимо расхохотался. Нет, это же надо! Театр, кино, художественная самодеятельность, «Кабачок «Тринадцать стульев»! Жесты, фразы, перевоплощения, коньяк, чан, наглость, трусость, психастения, научно-популярная брошюра. А он, Рудольф Сергунин, как разыграл работягу-простака, приблатненного к тому же. Откуда слова, мимика, позы взялись? Талант! Актера в нем породил Кирилл Кирилловский, зверя пробудил, которого сам же испугался. Даже местоимениями «ты» и «вы» быстро поменялись. Ну, жизнь! От скуки не умрешь. Сплошная психастения!
Запись в тетрадь.
Сторож Кошечкин подал заявление с просьбой уволить его и запил: все последние дни его видят в пивбаре или около, пристает к любому и каждому, ловит автолюбителей из гаражного кооператива «Сигнал», канючит, сумасшедше тараща глаза: «Мертвая тень ходит по гаражам, синяя как ета бутылка, не поймашь — скрозь стенки, скрозь бетон проходит, моторы заводит, запчасти ворует, ткнешь палкой — пустота синяя, и хохочет вот так: «Кхи-кхи» — как бутылка пивная булькает, страхи, прости господи, поседел, ума решился на душевновредной работе, а жалованья не прибавляют, браток, угости по такому исключительному случаю пострадавшего». — И Кошечкин клянется, божится, падает на колени, плачет, уверяя, что в гаражном кооперативе «Сигнал» поселилась нечистая сила.
Забеспокоились наши «автики»: одни острят, другие просятся на ночное дежурство — изловить «мертвую тень», третьи молча меняют замки, навешивают двойные; кто-то, наверное Михаил Гарущенко, наляпал плакат с изображением синей бутылки на тонких пьяненьких ножках и лисьей головкой сторожа Кошечкина: внизу было написано: «Джинн плоти не имеет, зато и не трезвеет».
Вчера пришел председатель Журба Яков Иванович, разложил кооперативные бумаги, перечитал заявление Кошечкина, в котором, между прочим, пояснена причина увольнения: «…по собственному желанию, ввиду нервного расстройства на почве нарушения общественного порядка гаражей в ночное время неуловимой личностью из загробной жизни хотя последней по научным достижениям не должно иметься в наличии». Журба покачал белой головой, пробормотал про себя «не должно иметься в наличии», закурил ментоловую сигаретку из серебряного именного портсигара, медленно повернулся ко мне и, поняв, что я не заговорю первым, спросил:
— Максимилиан Гурьянович, ведь чертовщина какая-то. Вы-то видели хоть бы тень той мертвой тени?
Я ожидал этого вопроса, знал, зачем пришел в неурочное время председатель, и все-таки смутился. Как мне ответить? Рассказать, что гонялся за каким-то существом, действительно неуловимым, вроде бы фосфоресцирующим, непонятным, ускользающим и потому всерьез страшащим?.. Врет, конечно, Кошечкин — не заводит существо моторов, не проникает в гаражи (такого еще не хватало!), но бродит же кто-то темными ночами по внутреннему двору. Мне не померещилось, я трезв, с ясным сознанием, пусть и видел же одни раз. Было предчувствие: увижу, непременно увижу еще и еще… И все-таки решил промолчать. Пока промолчать. Чтобы не распалять чертовщину.
Далее между мной и председателем состоялся приблизительно такой разговор:
Ж у р б а. Молчите, Максимилиан Гурьянович, не видели, не примечали, значит. Так я и полагал. Пьянство все это, кошмар алкогольный. Надо бы давно уволить Кошечкина, собирался, да жаль было — человек, беспризорный к тому же. Дождались. Теперь и сторожа не наймешь: болтает Кошечкин, стращает, а пенсионеры — народ мнительный, осторожный. В мертвую тень едва ли поверят, зато в бандитизм — пожалуйста. Как прокаженным стал наш «Сигнал». Вот уж чего не ожидал в своей немалой жизни.
Я. Уладим как-нибудь, Яков Иванович, поищу, поспрашиваю знакомых стариков.
Ж у р б а. Придется вам в ночное время подежурить. Днем буду сам наведываться, да и бывают люди в гаражах.
Я. Подежурю. Интересно мне. Надо проверить.
Ж у р б а. Неужели хоть немного верите в болтовню Кошечкина?
Я. Как сказать… Может, кто запоры щупает…
Ж у р б а. У нас невозможно вывести машину! Через крышу — так надо подгонять кран, сторожа снять надо… Мысли последней я не допускаю: у вас телефон, кабель подземный, звоните при малейшем подозрении — мне, в милицию.
Я. Не волнуйтесь, Яков Иванович, я не очень пуглив, не подам заявления, со мной не случится беды, уверяю вас.
Ж у р б а (несколько повеселев, щелкнув по портсигару жестким ногтем). Пожилые мы с вами люди, чего только не пережили, а жизнь все нам загадки загадывает. И самое неприятное — неизвестность. Вот вы, например, сказали, что не уволитесь вслед за Кошечкиным, — и я уже тверже стою на земле, увереннее чувствую себя как председатель, хоть сами понимаете: могу и отказаться начальствовать, есть помоложе члены кооператива… Но не о том речь. Человек боится неясности, неизвестности. Возьмем фронт, войну для большей наглядности. Тут мы — там немцы. Если разведка хорошая, если я знаю о неприятеле почти все — численность, технику, огневые точки, перемещения, — я спокоен, никакой бой мне не страшен, даже пусть у немца двойное превосходство. Моя уверенность передается бойцам, я откровенен с ними, они верят мне. Если атакуем — знаем кого, если обороняемся — знаем их силы. А возьмите другую обстановку: у вас хорошо обученная и оснащенная часть, вы прибыли на передовую, но что там, за нейтральной полосой, где врылся противник, вы имеете самое туманное представление. Разведка никуда не годится, посылаете — не возвращается, из штаба — никаких данных… Вот это страх. Я переживал такое. И бойцы чувствуют твою растерянность прямо-таки телепатически. Побудь в таком состоянии долгое время — от налета ночного патруля твои обученные и оснащенные бойцы разбегутся. И не очень виноваты будут: морально как бы разложились. Так во всем: неуверенность, неизвестность делают из человека полчеловека — духовно, даже, скажу, физически… (Журба помолчал минуту, но, заметив мое терпеливое внимание, решил продолжить.) Служил у меня в полку, уже после войны, старший лейтенант Родимов, командовал ротой, образованный, умный офицер, разрядник по классической борьбе. Стояли мы тогда в Улан-Удэ, а за год перед этим он привез молоденькую жену из Саратова, волжанином был сам; ну привоз — хорошо, вроде свадьбы что-то устроили, хоть и бедновато тогда жилось, я с супругой присутствовал, поздравили, как полагается. Служи, обзаводись семьей, приучай новую офицерскую жену к гарнизонной особой жизни. Но тут вскоре и повалилось все из рук у моего примерного Родимова: в часть является, едва ноги волоча: не то не выспался, не то с похмелья, приказы слушает — глаза в пол, как нашкодивший ученик, рота по успеваемости сошла на последнее место. Вызываю — молчит, обещает исправиться, и все продолжается по-прежнему. Не могу сказать, чтобы Родимов был первостатейным служакой, в казарме еще соблюдал уставы, а на учениях сам превращался в рядового, ел кашу из одного котелка, солдат называл по именам, анекдотики слушал и сам рассказывал, зато все задачи его рота выполняла на отлично. Был тяжелейший случай. По приказу командующего мою часть внезапно на бронетранспортерах перебросили за сто километров от места начала учений, а его рота, стоявшая в соседнем поселке, осталась, не было времени послать за нею машины, ни минуты, да и забыл я о ней в переполохе. Минус, конечно, мне. Прибыла часть на новое место дислокации, ночь, слякоть осенняя, связался я с Родимовым, сообщаю ему — вот так, старший лейтенант, забыл я тебя, доложу сейчас об этом командующему, будь что будет… Он помолчал этак с полминуты, не больше, и спокойно говорит: «Товарищ полковник, к утру я буду в расположении части». — «Как, — спрашиваю, — каким способом?» — «Пока не знаю, но буду». И что вы думаете? По реке сплавился на барже — погрузил солдат и технику на безнадзорную баржу у какой-то пристани — да марш-бросок потом в десять километров совершил. В семь утра доложил мне: «По вашему приказанию рота прибыла». Я, знаете ли, обнял его и едва не прослезился. После учений, правда, пришлось баржу доставлять на место, извиняться перед портовиками, неустойку платить, Родимову выговор записать, но… на войне как на войне, хоть и были учения. Уверен, не найди Родимов плавсредства — солдаты на бревнах, досках, плотах добрались бы: так они любили своего командира. Прощал я ему, хоть не всегда мне нравилось такое сердечное братание. Вдруг вылетят у старшего лейтенанта, да еще в казарме, словечки: «Вася, вызови старшину». Признавал в нем талант. И тут, повторяю, рухнула у моего Родимова служба. Я уже хотел в госпиталь его отправить, психическое состояние проверить, да как-то супруга моя говорит: «А женушка Родимова погуливает, с артистом городским любовь у нее». Рассердился я — хуже нет сплетен в гарнизоне, где каждый каждому сосед, сослуживец, друг или подруга, — а потом думаю: надо бы проверить. Да как?.. Личная жизнь… И солдат срочной службы имеет право на неприкосновенность личной жизни. Собрал я женсовет, побеседовал, попросил осторожно поговорить с женой Родимова. Одним словом, чтобы длинно не рассказывать, ничего толком не выяснилось: ходила она в городскую театральную студию (и в Саратове, говорит, была студийкой), иногда ее провожал заслуженный артист, режиссер, иногда задерживалась допоздна… Прекратить занятия отказалась — мечта, артисткой хочет стать, — старший лейтенант Родимов, человек волевой в жизни и службе, тоже не мог настоять: любил ее. Любил и не верил. Вот она, страшная неясность. В данном случае — и впереди туман, и тыл ненадежный; для офицера — особенная беда, мало у него возможности менять подруг жизни, особенно в дальних гарнизонах. Так и пошло. Слухи, разговорчики. Служба для Родимова превратилась в службишку, опустился, попивать начал, спорт забросил, подрался в ресторане… Года через полтора демобилизовался. Увез куда-то свою артистку. Помнится, пришел проститься. Гляжу — нету прежнего старшего лейтенанта, офицера Родимова, моего любимца. Чуть не заплакал я. Спрашиваю: веришь ли ты ей? Неопределенно покивал, улыбнулся жалко, с этим и уехал. Исчез. Ничего больше о нем не слышал. А как подумаю — му́ку его переживаю. Все может преодолеть человек, на смерть пойдет и человеком останется. Неясность, смута душевная — вот: его страшный враг.
Я. Это вы очень точно определили, Яков Иванович. Тут некая философия: лучше лес до небес, чем в душе малый бес. Жаль вашего Родимова, очень захотелось узнать мне — что с ним, где, как живет? Редкой натуры человек, может, истинно человеческой, для таких планета наша еще «мало оборудована». Кошечкин — иное дело, хотя тоже страдающая, замутненная душа. С чего — не выведаешь, не расскажет, да и помнит теперь едва ли… Упал камень в ручей, перегородил его намертво, вода пробила другое русло, минули годы, подними сейчас камень, а вода не спрямит путь, забыла прежнее русло… Так и Кошечкин этот. А тут еще видения всякие.
Ж у р б а. Вот вы опять, Максимилиан Гурьянович. Может, подежурить мне с вами?
Я. Ни в коем случае, вам своих забот хватает.
Ж у р б а. Ну, спасибо за беседу. Все собираюсь пригласить вас к себе, за чаем или стаканчиком сухого винца обсудить проблемы жизни. Малопонятный вы все-таки для меня, а я — солдат, люблю ясность, сам загадками никого не удивляю.
Он выпрямился, оправил плащ защитного цвета, добротный, полковничий, лишь без погон, и эти движения, четкие, строгие, ставшие частью натуры за долгие годы службы, отделили его от только что мирно и дружески длившейся беседы со мной, «образованным человеком», но всего-навсего сторожем, он не подал руки — жал руку обычно при встрече — и, как бы оставив после себя больше строгости для порядка, молодо повернувшись, удалился за дверь; мимо окна прошагал, помахивая перчатками в такт шагам, рослый, сухой, уверенный, проживший очень правильную, полезную, нужную жизнь и продолжающий трудиться, служить, начальствовать, потому что кому-то же надо следить за порядком в таком стихийном коллективе, как добровольный гаражный кооператив, да и привычка — дело не пустячное: пусть канительно, хлопотно, порой скандально, зато — пост, высота, положение; хоть и невелики, а душа спокойна, в пожилые годы она и такой службе рада.
Так я понял при этой встрече председателя Журбу. И задал себе вопрос: нравится ли он мне? Или другой, подобный ему человек? Без колебаний, сомнений, угрызений? Не интереснее ли старший лейтенант Родимов, его любимец? Может, и любил он его за то, чего ему ощутительно не хватало в собственной натуре?.. Присмотрюсь к Журбе, подумаю об этом.
Монолог авторемонтника Юрки Кудрявцева
Во, гляньте на эту «Ладу-люкс»! Три тысячи всего наездила, а уже калека. На Западе — «Лада», у нас — «Жигули». Может, там лучше с машинами ладят, умеют водить, берегут. А у нас… У нас вот и пиво «Жигулевское»… Минусов, правда, говорит — этот хозяин непьющий. Так другой, наверняка, подшофе был. А результат — Юрка Кудрявцев понадобился. Как в песенке дореволюционной: «Юбку новую порвали и подбили правый глаз». Чини, врачуй, Юрка. Да мне-то что, такая профессия. Глаз вставлю, юбку-обшивку напаяю новую. Ее не разгладишь, как бумага смялась. Это в старых машинах, на «Волге», на «Москвиче», железо было чуть не в палец толщиной, молотком деревянным выправляли. «Лада» — нежное существо, машинка для ветерка и форса, вот и работы нам прибавилось.
А хозяин нервным оказался, машину пригнал товарищ Минусов. Зря его Гарущенский прозвал Максминусом, надо бы — Плюсминус. Он так и выдает окружающим: то плюс, то минус. А вообще, мужик хороший, я уважаю его. Пригони кто другой эту изуродованную «ладушку» — за воротами стой, очереди законной жди. Минусову не можем отказать — ни я, ни руководство нашего автосервиса. Он у нас перед пенсией работал, техником-приемщиком, справедливый мужик, жизнь понимающий; станет рассказывать про Сахалин, Амур, Якутию, где со своим дружком закадычным алмазы добывал, — лучше всякой научно-популярной лекции или концерта артистов московской филармонии. И главное — не жмот. Не то чтобы денег взаймы никогда не жалел, по натуре — простой, как, например, я сам, Юрка Кудрявцев, хоть у меня десять классов и техническая практика, а у него институт, сто прочитанных английских книжек, опыт жизни необъятный. Нет, не могу похвастать, что я в друзьях с ним был, мал я для него, глянет, усмехнется, положит руку на плечо — и я сынком или внуком себя чувствую. Но вот в чем загадка: родным сынком или внуком. Оттого это, пожалуй, что нет у Минусова злости, ехидства, желания умом похвалиться, и прощает он всякие слабости людям: ну там заметит, кто «на лапу взял», суют автолюбители, не всякий из наших устоит, — никогда мораль не читал, начальством не стращал, промолчит, отвернется, правда, брезгливо так, будто сам подглядел неприличное дело и тошно стало ему от этого. Раз я спросил: «Максимилиан Гурьянович, как вы относитесь к «левым» денежкам?» — «Никак, — ответил. — Тот, кто дает, покупает совесть другого; тот, кто берет, продается. Проституция, которой тысячи лет. Разве я ее искореню криком, выговорами, увольнением? Есть и другая причина. Человек, имеющий автомобиль, вроде бы выше человека ремонтирующего. Ему неловко — он дает, тебе обидно — ты берешь. Надо всем дать эти железки на колесах. Для начала. Впрочем, и тогда будут брать и давать, хоть и не так активно. Думай сам, Юра Кудрявцев, — почему, как, зачем?..» Я думал, потому что сам лапу протягивал. Стыдно, краснел, отворачивался… И додумался все-таки. Стыдно — вот где спасение. Даже нашим алкашам последним стыдно бывает, пусть храбрятся или хамят. Видел, знаю. Надо, значит, стыд в человеке развить, чтобы стыд не щеки румянил, а горькую слезу вышибал, глаза чернотой застилал, руки огнем жег, в дугу человека скручивал. Взял — и инвалидом на всю жизнь сделался. Давший тоже чтобы не меньше страдал. Вот спасение. А то ведь мы получеловеки пока. Например, этот, хозяин «Лады», нервный автик (хорошо таких Минусов назвал!). Отчего он шибко разнервничался, аж машину лично не мог пригнать? Да стыдно потому что. Виноват не виноват, а стыдно, совестно за себя, за других: диво техники изуродовал.. Вот и получается у нас — совестимся где не надо бы вовсе. Знаю таких, чувствую. И этот заплатит по наряду, потом отыщет меня, сунет десятку, хоть и сам работяга, на стройке вкалывает, мотор этот в Сибири добывал. Дать бы по руке «даянцу», чтоб на весь остаток жизни запомнил… Ничего, встретимся.
Да, не могли мы отказать Максимилиану Гурьяновичу, без очереди взяли пораненную «ладушку», пусть и немного ожидающих — осень, спокойное времечко на автострадах, — я сам уговорил мастера, пообещал: между делом фару вставлю, крыло напаяю. Нет, не из-за слов старика: «Человек психическую травму получил, помочь надо». Плевал я на человека, который травмируется, увидев свою помятую машину. Интересно, сотрясется у него психика, если он задавит человека? Это еще большой вопросительный знак. Просто пожалели Максимилиана Гурьяновича, не ехать же ему назад, гаист по случаю подловит — что, как, почему на чужом побитом автомобиле? А с другой стороны, так сказать, разумной: зачем он берет на свои престарелые согнутые плечи заботы каких-то психованных мальчиков? Знает: не откажут ему на техстанции — начальник, мастер, тем более я. Пользуется уважением к себе? Да. Вот ему и минус. Помогает — плюс, нарушает порядок — минус. Потому я и сказал: в аккурат ему кличка Плюсминус. Но, что ни говори, у него все-таки доброго больше. У других… О, про других помолчу, необъятная тема, моя головенка малообразованная свихнется.
Был один случай, он и на мне крупный минус заработал… Ага, движется в мою сторону Митяй, электросварщик, личность заметная на станции, известная в городе: трем женам платит алименты, четвертая кормит его; прочно освоил вытрезвитель, дважды украшал своей бородатой физиономией фотоокно «Не проходите мимо». Но работник — с искрой божьей, и до глупости безотказный, до потрясения мастерский. Невыносим в жизни среди людей, незаменим в работе. О нем сказал Максимилиан Гурьянович: «Гениальное дитя, которое никогда не вырастет». Моторы, ходовая часть, электрооборудование, сварка — все может Митяй, да получше других: мозг техобслуживания, беда и радость, позор и гордость. Вот у кого получится поровну плюсов и минусов. Но каких!.. Давай, Митя, вырежь это крылышко, привари новенькое, и аккуратненько, ладно? Хозяин нервный, в больницу слег, сделаем ему на заводском уровне, поллитру, если потребуется, с меня сдерешь… Так, улыбка у тебя хорошая, как у Сикстинской мадонны почти, только не дыши на меня прямой наводкой, газовое отравление могу получить. Действуй, гений-самоучка, а я передохну.
Да, крупный минус на мне заработал… Когда поступал сюда, на СТО, случай произошел… Каким я тогда был! Сдавал в Московский автодорожный — провалился, пошел на стройку — сбежал: не по нутру раствор месить, усатому мастеру кирпичики подавать — к технике все-таки тянуло. Пришел сюда. А вид какой у меня? Патлы как у битла занюханного, бороденка — три волосинки, зато чуть не до брюха, техасы с желтыми заплатами для форса, на пальце верчу элегантно рублевый брелок с изображением Георгия Победоносца — ну, старинный герб Москвы, — а ростик у меня метр шестьдесят, да еще сгорбился, ножку отставил по-блатному. Видок, правда? Осмотрел меня внимательно начальник, любопытно так, будто редкий экземпляр в зоопарке, рассмеялся, потом как гаркнет: «Пусть они в горкоме подстригут тебя сначала, у меня станки, а не кафешантан, затянет — голову оторвет…» — и швыряет мне комсомольское направление. Я спокойненько подбираю бумажку, с ухмылочкой кланяюсь: зачем, мол, волноваться, гражданин хороший, не берешь — перебьемся, есть другие интересные предприятия. Поворачиваюсь и натыкаюсь — лбом в грудь на крупного седого человека. Он стоял, значит, позади, слушал нашу дружескую беседу. Хотел я обойти вежливо человеческую глыбу, но седой придержал меня, сказал: «Подожди минуту в коридоре». Ладно, просит пожилой, надо уважить. Засекаю: если через минуту не явится… Ровно через пятьдесят секунд вышел из кабинета, придавил лапищей мое хилое плечо: «Шагай за мной, — и повел, подталкивая в спину, как родной любящий папаша, на территорию станции техобслуживания. — Будешь в моем личном подчинении». Выдал замасленную робу, поставил мойщиком — драить, наводить шик-блеск частнособственническим авто. Ну, я честно отработал смену, а на другой день вызвал меня за ворота рыжий ханурик, малознакомый с виду, переговорили мы с большим взаимопониманием, вынес я ему два карбюратора и три бензонасоса, получил тридцатку, и тут нас прихватил сам начальник: оказывается, из окна его кабинета шикарно просматривается площадка перед СТО, хоть кадр для «Фитиля» снимай — хищение запчастей и продажа их подозрительной личности.
Вызвал начальник техника Минусова, положил на стол два карбюратора и три бензонасоса. Даже сесть не предложил ему, а я и вообще не рассчитывал на мягкий диван: только бы сорваться да деру дать, улизнуть от суда и следствия. И запомнилось: никакой жалости к могучему человеку Минусову. «Вот тебе, — рассуждаю, — и минус натуральный, будешь знать, как в папочки родные набиваться. Тоже мне, пе-ре-вос-пи-та-тель!» Откуда такая злость взялась — до сих дней не пойму. Ведь и украл первый раз в жизни. Унизили они меня, что ли? Один грубостью насмешливой — патлы, бороденка, желтые латки; другой — лаской детсадовской. Орал, конечно, начальник, выкрикивал справедливые слова. Я его не слушал. А когда тихо, вразумительно заговорил Минусов, стал понимать: просит оставить меня, под свою ответственность. Последние слова совсем хорошо услышал: «Парень хороший, дурака свалял, да и красть он совсем не умеет…»
Остался, как видите, работаю, в техникум заочно поступил. А тот минус крупный… Для меня он плюсом обернулся, для Максминуса — не знаю, не спрашивал. Думаю, равновесие внутри себя он удержал, крепкий дядя, алмазы долбил… И по мне как резцом прошелся — срезал, где что лишнее, сформировал теперешнего Юрку Кудрявцева. Недостатков, правда, еще препорядочно у меня, но постараюсь сам обкататься на ухабах суровой самостоятельной жизни.
Так, Митяй вроде свое дело сделал, и недурно, хоть и мутит его со вчерашней выпивки: вот ведь — мастер всегда мастер, даже с похмелья. Талант в человеке выше самого человека (философия, конечно, Максминуса). Спасибо, Митяй, как-нибудь рассчитаемся… Во, ты уже насвистываешь популярную песенку: «Я не верю, что бывает у любви короткий век…» Настроение, значит, наладилось: хорошо поработал — и настроение… Спасибо, у твоей любви будет длинный век — пока жив будешь, пока глаза будут видеть женщин… Теперь я примусь за «Ладу», вставлю ей выбитую фару, вкручу лампочку, подсоединю электропроводку; потом в окраску отгоню. Покрасить крыло — пустяковое дело, но подобрать колер — очень нелегко. Чтобы в тон всему кузову, чтобы хозяин и не понял, какой бок помял у родного автомобиля. Опять требуется мастерство. Красильщик у нас старательный парнишка, зеленый, правда, еще. Помогу, вместе сработаем. Это уже, как говорится, не дело, а дельце.
Завтра звякну по телефону Минусову: «Ваше приказание выполнено. Пусть приходит психованный автик, платит по счету за ремонт, радостно включает с места четвертую скорость и мчится навстречу новым автодорожным радостям, приключениям и авариям».
Только, дорогой Максимилиан Гурьянович (этого я, пожалуй, ему не скажу, воздержусь пока), поосторожнее сочувствуйте пострадавшим. Пусть привыкают к нормальной очереди, как рядовые советские граждане. Нервы крепче станут, физически закалятся. Так, вполне самостоятельно, думает воспитанный вами Юрка Кудрявцев, незаметный труженик станции техобслуживания личного транспорта. Всего вам доброго, не болейте!
Святцы Максминуса
«Здесь нам предложили… Нам, мне и Алешке Конькову, ехать шоферами в амурское село Муратовка, в совхоз, значит. Жили мы в гостинице, старой, на набережной, бродили по городу Благовещенску, обедали только за ресторанными столиками, покрытыми белыми льняными скатертями: деньги были, а синтетика гигиеническая опротивела. Город понравился — у широченного Амура, магазины, кинотеатры, художественные выставки, гастроли московской эстрады, богатый овощами рынок, китайский городок на том берегу, джонки с парусами из циновок (как на старинных гравюрах), китайцы улыбаются, машут круглыми соломенными шляпами — тогда еще дружба была сердечная, — словом, юг, рай, цивилизация умопомрачительная после Катангли. Говорю Алексею: «Давай останемся в областном центре Благовещенске. И звучит как: благовещенье, благая весть. Может, повезет здесь? Работы — была бы шея… В порт, на стройку трактористами. Холостякам квартир не надо, общежитие — дом родной, устроимся, присмотримся, невест заведем». — «Нет, — говорит, — земля тянет, на волю хочу, чтобы солнце во все небо. Поедем в Муратовку». Поехали, спорить не стал, понимаю: у друга душа крестьянская, да и мне пора узнать, откуда сдобные булки берутся, из чего кефир делают.
Встретил нас директор совхоза, такой, знаете, маленький, проворный, рано постаревший человек: седенький, всегда небритый, взъерошенный, расхристанный, но страшно строгий и крикливый, недовольный собой, совхозниками и, кажется, существованием самой жизни на земле. Такой суетливо бестолковый деятель на вид, хотя нас предупредили: хозяйство у Загодайло не самое отстающее. Пожал нам руки директор Загодайло, сказал сначала мне: «Привет, гриву теряющий! Что так рано, от чужих подушек?» Затем Алексею Конькову: «Здоров, алкогольные щечки! Часто зашибаешь?» Я промолчал, разглядывая проворного человечка (он, оказывается, еще и остряк!), Алексей же вспыхнул, как мальчишка, обиженный — добирались мы, правда, тяжело, весь день, пять попутных машин переменили, — стиснул, показал Загодайло кулак, ответил вроде бы спокойно: «Я иногда и этим зашибаю». Засмеялся директор, однако карие блескучие глазки закровавились от злости. «Зек, чистый зек! — с удовольствием проговорил. — Биографию проверим! — И обоим: — Шагайте к завгару, пускай принимает еще двух бандюг, своих у нас маловато!» Тут уж мне пришлось схватить за руку Алексея — врезал бы тщедушному Загодайле и началась бы наша совхозная трудовая деятельность с районного народного суда.
Нашли завгара, копался в моторе старенького «газика», представились, он кивнул, назвал себя Захарычем.
Кряжистый, пожилой, спокойный — его одногодки в городах на скамеечках пенсионерских посиживают. О директоре сказал с явной неохотой: «Не обращайте, обиженный — вот и всех обижает. Новый, сами присматриваемся». Повел нас Захарыч по деревне — домишки рубленые, сараи мазаные, огороды, баньки по-черному под угором, луга, степь и Амур сияет, течет могучими всплесками, будто бы и деревня вся плывет куда-то на его водах, в его сиянии, — остановился Захарыч около громоздкого и древнего строения из листвяжных бревен, под тесовой зазеленевшей крышей, с густым черемуховым палисадником, покликал: «Бабка Таисия, покажись на минуту!» К калитке подошла рослая, костистая, темнолицая и беловолосая старуха. Не поздоровалась, не выразила любопытства, хмуро оглядела меня и Алексея, закаменело уставилась прижмуренными мокрыми глазами на Захарыча. Но тот уверенно, даже с радостью выкрикнул: «Принимай постояльцев, веселее жить будешь!» — и пошагал не оглядываясь, считая дело окончательно решенным.
О, про бабку Таисию надо отдельно рассказать. Личность воистину выдающаяся. Было ей тогда за восемьдесят, пережила пятерых мужей (первый погиб в девяносто пятом, в Маньчжурии), разметались по свету российскому ее дети: кто помер, кто пропал «без вести», трое погибли на последней войне. Дочек Таисия не рожала и жалеет теперь, — может, какая и задержалась бы около матери. Все мальчишек носила. Объясняет это спокойно и наставительно: «Как же, нутро чуяло: солдаты нужны — тут хунхузы, японец напротив, житья мирного не давали». Она из казачек, привезли ее на Амур с Кубани несмышленой девчушкой, навечно, пережила здесь все конфликты, войны, революцию, коллективизацию, дальше Благовещенска — и то в молодости — нигде не бывала, а о родной Кубани, России вовсе не думала: корня там не осталось, тяга давняя, детская, выветрилась. И не тоскует бабка Таисия: сколько себя помнит, видела рыбный Амур — кормилец и защитник (летом «супротивник» за бурной широкой водой; зимой — за белым снежным льдом, на котором и ночью «хунхуз не упрячется»), видела бескрайние степные увалы, вспаханные и зеленые, в обильных травах, знала: где-то там, за степью, тайги огромные, речки с золотым песком вместо обыкновенного — туда ходили искать фарта мужички, да не все возвращались, тянула нескончаемую работу дома, во дворе, в поле, кормила и обстирывала мужей, рожала, болела, провожала, ждала и выплакала все свои слезы, только ввалившиеся, как бы присмиревшие, глаза сделались навсегда влажными, бесслезно плачущими. Но нет, бабка Таисия все еще жила, а не скудно доживала свой великий век. Держала молочную козу, накапывала мешков по двадцать картошки, продавала капусту, помидоры (пенсии тогда какие были!), имела новенький приемник с антенной над крышей, выписывала областную газету и журнал «Крестьянка» — «для узнавания жизни в разных местах, особливо приготовления маринадов и солений». Нас она приняла строго и придирчиво, будто вернулись в родной дом два ее заблудших непутевых сынка. Отвела под житье просторную, нафталинно чистую горницу, устланную самоткаными пестрыми половиками (по ним можно было ходить лишь босиком, да и приятно ходить по мягким дерюжкам босиком), накормила сытно и молча, удалилась в свою комнатушку, когда-то, при семейной жизни, служившую спальней. Только вечером, за чаем, спросила: «Холостые, чи сбежавшие от женок?» — «Как на духу, — ответил затомившийся в тишине Алешка Коньков, — как на духу, бабуся, ни женок, ни алиментов, даже обидно, вроде неполноценные личности». Покачала бабка Таисия белой головой, сказала: «Уж точно: цена вам — ноль без палочки. Дармоеды, токо себя и кормите». — «Так это оттого, — немного смутился Алексей, — любви большой нету». — «Кабы по любви детей рожали, може, и вас не произвели, а? Обидно вправду: лучше алимент платить, да дитя какое-никакое росло, чем так, вхолостую, жить. Землю заселять, оберегать надо». Ей, знавшей хунхузов, видевшей кровавые сечи, подожженные пшеничные поля, угоняемый за реку скот, жившей в страхе, ожидании неминучей беды с «китайской стороны», не верилось, не могло повериться, что Амур стал навсегда мирным.
Взялась бабка Таисия готовить нам еду, стирать рубашки, и мы зажили у нее, как в родительском доме: она и впрямь стала называть нас «сынками», ворчала, если опаздывали к обеду, корила, когда являлись «выпимши» сильно, хоть не влекла особенно сынков водка, однако среди пьющей братии невозможно порой отказаться — презирать еще начнут… Но ранее вот что было.
В первый день, вечером, мы с Алешкой писали заявления, биографии для поступления на работу. Ну я, литератор, подсказываю ему, как толковее изложить основные моменты жизни, где поставить запятую, и вижу, он выводит буквами-раскоряками: «Батя мой родной и дорогой в войну заделался старостой…» — «Зачем, — спрашиваю, — всякий раз ты это докладываешь? Давно прошло, ты мальчишкой был, сын за отца не отвечает, это еще самим Сталиным сказано, брось себя терзать». — «Не могу, — говорит, — надо по-честному, какой-нибудь другой сын пусть не отвечает, его личное дело, а я вину отцовскую горбом невидимым ношу. Если скрою — хотя бы раз — сильно заболею». Оставил как написал, конечно.
Утром мы отнесли в отдел кадров документы, явились в гараж к Захарычу просить работу, а среди дня пришел директор Загодайло, взъерошенный, расхристанный, с еще более закровянившимися едкими глазками, издали оглядел нас, словно пугаясь и дивясь нашему наглому, ненужному явлению здесь, потом мелкими шажками приблизился к Алексею Конькову, оглядел его, как редкий экспонат музейный, и вдруг, схватив Алексея за лацканы куртки, пригнул, прошипел ему в лицо: «Угадал… Ха-ха!.. У меня на таких — талант угадывать… Душа, вижу, порченая… У-у!..» — и, оттолкнув Алексея, зашагал прочь быстро и расхлябанно. Удивился даже терпеливый Захарыч. Но когда узнал об отце старосте, проговорил, кивая: «Вполне понятно. Больной человек директор: немцы всю семью ихнюю истребили, под корень. Бежал с Украины аж на Амур. И тут упокоя не находит. Встреча-то неожиданная какая…» Я сказал, что нам, пожалуй, если не посчастливилось так, надо убираться из Муратовки, искать другое место. Коньков молча и хмуро курил, Захарыч, хрипло затянувшись самокруткой, попросил не торопиться — директор хоть и обиженный, нервнобольной, однако старательный, цепкий в сельском хозяйстве, поймет — люди-то очень нужны! — все обойдется, притрется, как шестерни в машине, будем жить, мирно работать. Я опять засомневался, а мой дружок поспешно успокоил меня, удивив несказанно (в какой уж раз!): он, оказывается, и не подумал бежать, он уберется из этой приглянувшейся ему деревеньки, если его с милицией выдворят.
Психологи пишут и утверждают, что человек усваивает ту линию поведения, которая одобряется и поддерживается окружающими. Вспоминая сейчас Алексея Конькова, я думаю: значит, его поведение поддерживалось окружающими, как-то внутренне, скрыто пусть; люди хотели, чтобы он не забывал свое прошлое, носил тот самый «невидимый горб», мучился, метался по свету? Если так, то для чего это людям? Видеть позор другого и очищаться?.. Или есть в людях некое извечное злорадство: ты хуже меня, ты запятнан, ты нужен мне виноватый, тогда легче мне будет сносить свою вину, недоброту, ибо я всегда могу показать пальцем — вон, посмотрите, сын пособника, доносившего, расстреливавшего, и ничего, живет, дышит, паспорт законный имеет, мы все — ангелы против него!.. Имеется, я думаю, первое, хватает и второго. Приходилось видеть, наблюдать. Психологи, в общем, правы. Мой Коньков, не осознавая, «усвоил линию поведения», в какой-то степени (пусть в самой малой) нужную окружающим.
Но вернемся к нашему жизнеописанию. Алексею дали ЗИЛ, мне «газик» (кажется, я забыл сообщить, что в Катангли окончил шоферские курсы, получил права — по упрямому настоянию друга: «Пригодится на ухабах жизни, колеса резвее гусениц»), машины достались нам скрипучие и хрипучие — кто же посадит на новенькие приблудных, неизвестно зачем явившихся в глухую Муратовку, — ждут свои, может, и не такие старательные, зато семейные, навсегда местные. Осень мы протарабанили на них, едва пропитание зарабатывая, а с началом холодов, снежных завалов, начисто оторвавших наш населенный пункт от областного центра, принялись за ремонт ЗИЛа и ГАЗа. Перебрали, перечистили моторы, тяги, мосты, рамы и то проверили. Кое-что выпросили у скупого Захарыча, мелочь — шестерни для коробок передач, фильтры, бобины — выменяли у шоферов на поллитры. Зарабатывали по пятьдесят — шестьдесят рублей, пришлось сахалинские накопления слегка пощипать. Зато весной…
Да, вот что припомнилось. Окреп на Амуре лед, продуло его тридцатиградусным ветерком, и пришли к нам в Муратовку гости — китайцы из селения напротив, человек тридцать, с портретом Мао, красным флагом впереди, веселыми криками: «Рюски, ура! Мира, дрюжба!» Приняли их отменно. Директор Загодайло хозяйство показывал — коров, свиней, овец, — в клубе приветственную речь произнес, потом раздвинули скамейки, пригласили гостей отобедать. Мы с Алексеем на обед не попали: стажа, заслуг совхозных маловато было. Присутствовавшие рассказывали после: очень братская встреча получилась, с тостами, объятиями, танцами, художественной самодеятельностью. Наша бабка Таисия, правда, скоренько вернулась домой. Выпили по первой рюмке, завеселели — потихонечку встала и ушла. Нам сказала: «Вроде смирные китайцы, а не могу, старое помню».
Через какое-то время приглашают они муратовцев. В конторе список делегации составили, вывесили на обозрение. Читаю — моя фамилия: «Минусов М. Г.» Ищу Конькова — нету. Неловко, обидно стало мне за друга. Пошел к директору, говорю, так и так, надо бы вместе или никого. Остервенился, подскочил, по своей всегдашней привычке, за грудки меня ухватил, зашипел, тараща красные глазки: «Может, отца его из какой-нибудь Аргентины пригласим, а? Как считаешь, шибко умный добрячок?» Больной действительно человек. Промолчал я, домой пошел. О разговоре с Загодайло — ни слова Алексею. Про список сказал. Не огорчился он вроде бы, вздохнул только протяжно и принялся уговаривать меня не отказываться: «Потом хоть расскажешь, как наши братья по классу поживают. И вообще, тебе надо жизнь глубоко изучать, в писатели готовишься, чтобы не врать на белой чистой бумаге, которая все терпит». Резанув ребром ладони воздух между собой и мной, Алексей будто сразил нечто злое, бесплотное, видимое лишь ему, но можно было понять это и так: не забывай, дружок, люди мы очень разные.
В солнечный морозный денек мы перешли ледовый Амур, тоже человек тридцать, с флагами и плакатами. И еще несли кое-какие подарки — радиоприемник, баян, игрушки ребятишкам. Встречала нас вся китайская коммуна, да так нежно и восторженно, кланяясь, сияя улыбками, прикладывая к сердцу руки, что женщины наши расплакались. Речи, возгласы, конечно. Стали они показывать свой поселок. Домов много, но все из камня или глинобитные, и маленькие такие, дворов и вовсе как бы нет — грядочки мизерные горбятся из-под снега, скота личного тоже не видно. Глянул я за Амур — наши рубленые дома под тесовыми крышами, огороженные подворья даже издали смотрелись роскошно. Пригласили китайцы посмотреть их жилища, развели нас по три-четыре человека. Да, такой простоты и бедности я еще не видел: строеньице в одну комнату, тут же плита, глиняная посуда на низких полках, никакой мебели, весь пол застлан циновками. Глинобитная труба от печи не поднимается, как у нас, сразу вверх, а тянется сначала понизу вдоль стен широким уступом. Это кан, объяснили нам. На нем, всегда теплом, семья спит, играют маленькие дети; днем подушки и стеганые одеяла прячутся в ниши. Мы разулись, сели на циновки, по-восточному подвернув ноги, и хозяйка, бесшумно двигаясь, без конца кланяясь, подала нам пиалы с желтым, горячим, несладким чаем. Ребятишки, их было не меньше восьми — десяти, чинно, столбиками, расселись вдоль кана, посверкивали черными глазками, словно ожидая еще более потрясающего зрелища, — конфет и пряников у нас не брали, молча шмыгая простуженными носами. Пахло вареной пресной чумизой, чесноком. И что очень удивляло меня — чистота. Ни мусоринки, ни грязной миски на плите. Бедная пустота, стерильная чистота. Тут уж пришлось позавидовать китайцам. У нас ведь часто наоборот: чем беднее — тем грязнее. Потом, вновь шагая по поселку, я примечал: широко расчищена улица, подметены дорожки, дворики. На свиноферме (свиньи у них черные, ершистые), в овчарне тот же порядок, даже воздух вроде бы провентилирован, хотя нет какой-либо механизации. Единственная техника — трактор ДТ-54, сеялки, грузовик (все нашего производства) стояли в просторном теплом гараже, были натерты, начищены до сверкания. Помнится, мне подумалось: смогут ли китайцы всегда, и разбогатев, так беречь машины, так радеть в общественном хозяйстве?.. Затем нас пригласили отобедать. Низкое глинобитное строение клуба коммуны было украшено лозунгами и огромными портретами. Пол застлан грубыми циновками, мебели и здесь — никакой, кино смотрят, наверное, сидя прямо на циновках, и лишь для гостей сколотили длинный столище, тесовые, неумело оструганные лавки. Сели за пустой стол, дивясь, почему же он совершенно пустой — не от бедности ли наших хозяев? — и тут, по взмаху руки председателя коммуны, пожилого, лысого, маленького и улыбчивого (в прошлом Лю Ханьши был чуть ли не личным другом самого Мао), выбежали откуда-то из-за сцены четыре парня в белых куртках, держа подносы по-официантски лихо, положили перед каждым приборы, поставили пиалы, на середину стола бутылки. Исчезли, вновь появились. Не прошло, пожалуй, и пяти минут — пиалы мужчин были наполнены рисовой водкой-ханжой, женщинам налито красное вино, по тарелочкам разложена овощная закуска. Товарищ Лю, с неизбывной, сердечной улыбкой (казалось, и под пулями он мог стоять улыбаясь), скороговоркой, глядя на портреты вождей, прокричал бойкую речь, которую переводчик изложил в нескольких, много раз слышанных словах — китайцы хотят вечной дружбы, вечного братства, вечного мира между двумя великими народами. Ханжа оказалась терпкой, духовитой, напоминала наш самогон, женщины кривились от кислого вина. По команде Загодайло мужики выставили бутылки «Московской», родной, и обед, после приветственного выступления нашего директора, потек еще более дружески и весело. Надо отметить, что напитки у них оказались слабенькими, зато кушаньями они нас поразили и обкормили. Товарищ Лю объявил: «Угощаем братьев китайской кухней, русская слишком просто — щи, каша, компот; попробуйте китайскую, которая не может быть меньше двенадцати блюд». Ели салаты под острыми соусами, подавались маленькие пирожки — рыбные, мясные, фруктовые, овощные; мясо сладкое, рыба с красным перцем, грибы соленые и сладкие, бамбук вареный, бобы, какие-то насекомые. Кто-то сказал, будто подавались еще дождевые червяки, запеченные в чесночном соусе. Все было съедено, все было очень вкусно, хоть и без хлеба ели. Пресный рис — китайский хлеб — остался нетронутым, что удивило хозяев: рис — жизнь восточного человека. Так и запомнилась мне эта встреча, ставшая для меня маленьким образом большого Китая: огромные портреты, пугающая бедность, стерильная чистота, дорогой, изобильный обед.
Теперь можно вернуться к повествованию о нашей жизни в Муратовке. Остановились мы на словах: «Зато весной…» Весной, после занудного сидения в провонявшем соляркой и бензином гараже, мы с Алексеем Коньковым словно бы вырвались из тьмы на свет божий: зазеленела, зацвела тюльпанами, заколыхалась под теплыми ветрами амурская степь. Буйнотравая, влажная, с диким разливом рек. Непохожая на иные степи наши, а может, и других мест Земли. Вся в широченных, крутобоких увалах, сочащаяся родниками, белеющая песчаными осыпями под размытым черноземом, она, чудилось, еще не улеглась, не выстлалась мирно и навеки. Нужна тысяча, две тысячи лет, чтобы превратиться этой вздыбленной равнине в привычную степь. Ведь Амур, создавший ее, совсем недавно отступил своим правым, китайским, берегом к отрогам Большого Хингана. Потому-то так ощутима в травах, крутизне, ливнях и ветрах его буйная, дикая мощь.
По сухим, продутым увалам, по хлябям распадков и низин гоняли мы с Алексеем свои грузовики. Совхоз сеял пшеницу, сою, овес, сажал картошку. Директор Загодайло, было похоже, устроил нам испытательный срок: в любую слякотень, после урочного дня, слал в район, в бригады — везти удобрения, зерно, запчасти. Особенно перепадало Алексею. Как-то поздним вечером он приказал ему доставить трактористам, за двадцать километров, четыре бутылки водки: промерзли, промокли, а топлива в степи — ни угля, ни дров лишних. Молча оделся, поехал Алексей. Вернулся глухой ночью, а Загодайло ждет в гараже, подскочил к кабине, говорит: «Дыхни, имеющий растакого папашу!» Надеялся, что Алексей выпил вместе с трактористами и можно будет влепить ему выговор. Ошибся, зло выжал из себя: «Ладно, извиняй на сей раз…» Утром Алексей сказал мне, жадно затягиваясь дымом, держа папироску в дрожащих пальцах, что он едва удержался, уже стиснул кулак, чтобы свалить маленького Загодайлу, но вспомнил его беду, свою беду… «Нет у меня к нему злости, надо бы нам помириться, посочувствовать друг другу… Не могу я бросить все здесь и уехать, не могу оставить хоть одного злого на меня человека».
Улучив время в дневной суете, я отозвал завгара Захарыча, присели мы на травку (кстати, он был парторгом совхоза), рассказал ему о последней стычке между директором и Коньковым, о мести Загодайло, наивной и глупой для серьезного человека, руководителя. Захарыч повздыхал, покачал тяжелой головой, вымолвил свое обычное: «Не обращайте, обиженный, вот и других обижает, больной… Говорил с ним, еще поговорю». Потом сказал, задумавшись и тихо, что, может, и впрямь нам надо перебраться в другое место, организует перевод, даст хорошие рекомендации. «А тут, видишь, нашла коса на камень».
Но вскоре случилось такое. Вернувшись однажды вместе домой, мы увидели бабку Таисию, хозяйку и строгую мамашу, в новом штапельном платье, непривычно веселую. У нее гостила молоденькая женщина, на столе стояла бутылка городского вина «Каберне», копченая колбаса, конфеты: Бабка Таисия скоренько познакомила нас с гостьей, мало засмущавшейся, назвала ее «Нюрой-фершалкой»: в Благовещенске окончила техникум, вернулась лечить муратовцев, родных, деревенских. Зато жильцов своих представила так, что мы уж наверняка закраснелись как девицы: «Энтот, который седоватый, — ткнула пальцем в меня, — будет посурьезнее, похозяйственней, семейный мужик будет. А етот, — протянула сухую руку к Алексею, — который красавчик беловатенький, более подходит тебе по годам, да смотри, карактером упрямый, ревнющий будет, но тоже маловыпивающий, работящий тоже. Выбирай любого, отдаю! Зачем они мне тута бесполезные, оженю обоих — двух!» Выпили вина, закусили конфетками, потом поужинали — бабка накормила нас отдельно, на кухне, — а стемнело, пошли провожать Нюру до ее дома. Провожали долго, с шутками, анекдотами, привезенными Нюрой из города.
Месяца полтора спустя (помнится, уже колосилась пшеница) Алексей Коньков женился на фельдшерице Нюре.
Вот тут пока прерываю «Святцы», пора заступать на дежурство».
Сторож Кошечкин вернулся в гаражный кооператив «Сигнал». Причины были две, и основательные: пенсии не хватало на пиво, а главное, Минусов доказал ему, что «мертвая тень» — вовсе никакая не тень. Какой-то ненормальный тип бродит по гаражам — или машину хочет увести, или… Черт его знает, что «или». Короче говоря, Минусов едва не схватил тощего, юркого ночного «гаражника», подержал в руке полу его пиджака и теперь точно знает: самый настоящий живой человек.
Кошечкин поверил, но по ночам редко покидал сторожку, а если выходил, то сразу включал прожектор, издали осматривая двор.
Уже полчаса он сидел у заиндевелого окошка, проглядывая ранние зимние сумерки, и когда на дороге из города четко проступила сутуловатая, громоздкая фигура Максимилиана Минусова, он легонько вскочил, начал суетливо одеваться: было без пятнадцати восемь, пивбар работает до девяти. Надо успеть погреться, потолковать сердечно за пенной кружечкой с дружками.
Пригнувшись, Минусов протиснул себя в низенькую дверь, бросил на стол портфель, снял и отряхнул от снежной мороси пальто, шапку. Кошечкин знал, что в портфеле, округло вздутом, ничего интересного: термос, бутерброды, тетради, в которые Максминус записывает свою и окружающую жизнь. Это тоже — кому интересно? Девицам и очкарикам, переживающим над книжками. Жить надо для души! Да с его здоровьем, хорошей пенсией, образованностью — бабенку молодую, такси, ресторан «Седьмое небо» на телебашне в столице… Но все-таки Кошечкин, потрогав портфель, вежливо спросил (нельзя же сразу сбежать, некультурно):
— Сочинять будешь опять?
— Буду.
— Ты про меня тоже пропиши. Жил такой Кошечкин…
— Пропишу.
— И этого излови… Который мертвая тень вроде…
— Изловлю. Да ведь и сам бы мог. Молодой человек против меня.
— Не, Гурьяныч, по здоровью — старше, усохший от алкоголя вовсе, пятьдесят кг чистого весу, зашвырнет тот психопат меня в кусты, дружков преждевременно оставлю без компании.
— Уважительная причина.
— Есть умные кореша, не думай. Вот Гаврюха, к примеру. Философ! Послушай, как рассуждает: пей пивка для рывка, потому что с тех пор как люди изобрели водку, вопрос, что пить, был решен окончательно. Но «бормотуха» хоть и вредная, да самая верная старуха. Самогон гони вдогон, когда денег прогон. Большой мыслитель, а?
— Оригинал. Стоит и он тетрадного листа.
— Ну! Ты меня используй для произведений. Задарма. Поставишь когда бутылешку. Побежал, приятно было побеседовать, уважаю тебя, Гурьяныч, покеда!
В коротком демисезонном пальто и тощей солдатской шапке, в стоптанных башмаках и узеньких сморщенных брючишках, вздернув острые плечики, Кошечкин легко понесся, точно его покатило поземкой, к сиянию городских огней, где работают еще магазины, продавая портвейн за «рупь семь», и гудит, утробно рокочет пивной бар — стекляшка, наполненная теплыми парами хмеля, дыма, запахами соленой скумбрии и близкой уборной. А главное — людьми, такими веселыми над желтыми кружками, бесшабашными, спорящими, дерущимися, но душевно родными беспризорному Кошечкину.
На город, на окрестные леса лег надежный, подсушенный морозами снег. По утрам тяжело индевели сосны и березы, словно цвели, мертво цвели, зато необыкновенно буйно и ослепляюще. Весел такой лес для всех: дети оседлывают санки, взрослые надевают лыжи, чтобы надышаться до головного кружения ледяным воздухом. Пестро за городом, у реки, на сияющих крутобоких лесных опушках.
И лишь немногим, особенным, бывает грустно в свободные зимние дни. Особенным потому, что они не умеют, не научились отдыхать — полностью, без какого-либо, хотя бы маленького, дела. Завтракая неспешно, жмурясь от белого сияния в окне, Федор Афанасьевич Качуров рассуждал сам с собой: «Чем займемся, дорогой товарищ, сегодня, в законный воскресный день? Сходим на рынок, посмотрим новый кинофильм, почитаем книгу приключенческую «Рыжий Рекс идет по следу», напросимся к хозяйке в помощники, налепим пельмешков, возьмем бутылку красненького?..»
Но грусть не проходила, уменьшалась наполовину, а совсем не отпускала. Что-то другое надо было Качурову, полное, захватывающее всю его душу. Оно вот, рядом, кружится вокруг него, томит, хочет, чтобы назвали его словом. И словно родилось, выговорилось внутри Федора Афанасьевича: «Гараж!» Именно! Три недели он не был в гараже, не дышал его воздухом, теплым, масленно-железистым. Школа, общественные поручения, уроки труда, даже по вечерам с отстающими будущими «тружениками», закрутили, замотали его — как и всякий раз в начале учебного года, пока не втянешься, не втянешь слегка одичавших за лето мальчишек и девчонок, — и вот первый день отдыха, неспешки, воскресной свободы. Гараж! Но дело не в самом гараже, не в машине тоже, которая налажена еще осенью, дело вот в чем: Федор Афанасьевич обещал ребятам построить снегоход, вместе с ними, конечно. Грусть мигом покинула его душу, он бросил вилку, вскочил.
— Маманя! — позвал жену. — Иди сюда, поговорить надо!
Тяжеловатая, разомлевшая на кухне хозяйка пришла не сразу, наверняка почувствовала в бодрой перемене Федора Афанасьевича угрозу мирному воскресенью и, появившись наконец, остановилась в дверях, словно бы опасаясь подойти близко к неистово завеселившемуся мужу.
— Ну? — хмыкнула она, уперлась пухлым плечом в косяк, провела ладошкой по темным, с седыми блестками волосам, глядя опасливо из-под напухших век, и Федор Афанасьевич не смог сказать ей сразу о снегоходе, своем обещании ребятам. Внезапная жалость к «Мамане» — так он звал жену все долгие годы, чуть ли не со дня свадьбы — расслабила его, в глазах непривычно завлажнело, пришлось отвернуться, достать папироску.
Мгновенно, как это часто стало случаться, припомнилась Федору Афанасьевичу прожитая жизнь, и не вообще, а с Маманей. Она ждала его три года, пока он воевал, вернулся, прихрамывая, в потной гимнастерке, кирзовых сапогах, на свадьбу отец подарил пиджак, брюки, начали семейную жизнь «с нуля», как теперь говорят. Была Маманя худенькая, проворная, работала медсестрой, окончила медтехникум, а он заочно педагогический. И легко так, разумно и весело летали годы, дети, работа не были в тягость, незаметно, почти без болезней подступила старость — хорошо, что незаметно! — и ребята, сын и дочь, выросли вроде бы добрыми, разумными, Маманя стала пенсионеркой, уже три года «отдыхает на кухне», как она иногда шутит. Кухня — да, надоедает. Но каждое лето Федор Афанасьевич, подладив старый «Москвичок», вывозит семью в Крым. Там, на ракушечно-белой Арабатской стрелке, они ставят палатку, живут «дикарями», ловят бычков, купаются, загорают. Ездили и прошлым летом. Пожалуй, в последний раз всей семьей. Сын студент, дочь кончает десятый класс, будет поступать куда-нибудь, пока не решила. Захочется ли им вдвоем, ему и Мамане, ехать на Арабатскую?.. Но суть, главная суть не в этом. Он, к своим шестидесяти годам, сохранил интерес — автолюбитель, машины, изобретательство; она, оставив работу, перешла в домохозяйки, занялась детьми, домом, потребовала взять огородный участок, везде успевала, хоть и утомлялась, и хотела видеть всех вместе. А дети уходят, это Маманя поняла наконец, зато с большей ревностью стала держать около себя Федора Афанасьевича: гараж, автомобиль означали для нее одинокие дни. Вот и сейчас, стоя в дверях, она, повторив свое строгое «Ну?», спросила уже не так хмуро, почувствовав смущение мужа:
— В гараж пойдешь?
Он живо подхватился, уловив ее минутное смягчение, подошел, погладил ей плечо, поцеловал в зарозовевшую щеку, отступил на шаг, сокрушенно и растерянно развел руки, — мол, сама видишь, поставлен в исключительно безвыходное положение, — проговорил, стараясь внушить жене особенный смысл каждого своего слова:
— Обещал… ребятам… снегоход. Не могу… обмануть.
Маманя молча повернулась, ушла на кухню. Через минуту оттуда послышалось:
— Обедать-то приходи.
— Приду, приду! Как же, обедать надо вовремя, — соглашался Федор Афанасьевич, проворно одеваясь. — И учеников я наставляю, чтобы все вовремя.
— Учеников-то учишь…
«Вовремя, все вовремя надо, — приговаривал преподаватель труда, великий автолюб Качуров, и шагал по морозцу к автобусной остановке. — Ты права, Маманя, ну совершенно права. Тебе бы министром здравоохранения быть, или президентом, или самим боженькой всемогущим. Только людишек ты превратила бы в муравьишек, а?.. Ба-а-льшую муравьиную кучу они бы натаскали, не зная для чего, потому что все вовремя, вовремя… — Качуров засмеялся счастливо, радуясь снегу, солнцу, сверкающим окнами белым домам, и застыдился своей мальчишеской радости от полученной свободы. — Нет, Маманя, ты хорошая, всю жизнь труженица, я люблю тебя, просто не могу, не умею сидеть дома, отдыхать, как другие, порядочные, вовремя просыпаться, обедать, по расписанию ходить в туалет…»
Интернат был на окраине, в роще; под косогором текла речка, за ней — луга до самого черного ельника, свежезеленые летом, слепяще снежные зимой. Спальный корпус, учебные классы, мастерские, подсобное хозяйство — парники, огород, сад; грузовик, трактор «Беларусь», старый пегий конь Саврас… Двадцать с лишним лет ездил, ходил сюда Качуров учить интернатских, а значит, полубездомных и бездомных детей главному на земле — полезному для людей труду. И не утомился, и не разлюбил свою работу, и помнит почти каждого из многих сотен, кому давал в руки молоток и зубило, подводил к токарному станку, сажал за руль автомобиля. Пишут ему теперь герои труда, летчики, врачи; пишут и два зека с Дальнего Востока, передовиками стали в исправительных колониях, обещают навсегда исправиться. Есть и алкоголик один, здесь, в городе, талантливый художник, а пропащая душа. Печалит он Качурова, да что же, жизнь как жизнь, не всякому быть героем.
Воскресный интернатский день тек обычным чередом: в комнате свиданий родители, чаще одинокие мамы, подкармливали своих чад; наказанные подметали двор, работали на кухне, драили полы; отстающие зубрили; успевающие, примерные катались на лыжах и санках. Верховодили старшеклассники — вроде «самообслуживания», так было заведено, так, считал Качуров, и надо поступать: дети лучше понимают детей.
Он попросил дежурного найти и послать к нему семиклассников Пеночкина и Багрова, а когда те явились, несказанно обрадованные Федору Афанасьевичу, приказал им одеться и повел в город. На автобусе они проехали всю главную улицу, потом шли переулками, через заиндевелую рощу к гаражному кооперативу «Сигнал».
Блок у Качурова теплый, он первым поставил регистр водяного отопления, стены побелены, потолок подбит белым железом, пол покрашен; вдоль стен полки с инструментами, запасными частями; маленький верстак, в углу складной столик, четыре стульчика. И комната, и мастерская, и отличное «жилище» для старенького «Москвича». Качуров завел и вывел машину наружу — пусть проветрится на морозном ветерке, — плотно прикрыл дверь, сказал ребятам:
— Вот, берите кто что, куртки, брюки, переодевайтесь, — и сам облачился в промасленный сатиновый комбинезон. — Хорошо. Смотрите сюда. Мы имеем три широких лыжи, две пойдут на полозья, одна вместо руля — впереди, есть рама, я ее уже склепал, мотор «ИЖ» и… наши руки. Как думаете, какой ход лучше подойдет для снеговой машины: пропеллерный или барабанно-гребковый?
Длинный Пеночкин и маленький Багров знали несколько чертежей снегохода, показанных им Федором Афанасьевичем еще осенью, были у них и свои, детально разработанные схемы, однако вполне понимали они, что надо исходить из имеющихся технических возможностей — мотоциклетного мотора, заготовленных частей и деталей, гаражного инструмента, — и юркий Багров, обежав синими глазками полки, верстак, опередил медлительного Пеночкина:
— Гребковый.
— Правильно. Сделаем колесо, как раньше у пароходов плицы были, только наши снег будут загребать. Пропеллер нельзя — двигатель не тот. Приступаем. Берите раму, кладите на середину пола, крепим сначала лыжи.
Качуров сел за столик, включил электрокипятильник. Его дело — наблюдать, изредка подсказывать. Пусть ребята сами соберут снегоход. Они толковые, эти ребята, с ними можно поговорить о нейронных цепях, триггерах, блоках памяти, и снегоход — как дважды два для них. Теоретически, конечно. Совсем непросто, однако, подогнать деталь к детали, ввинтить сотни полторы болтов и гаек, карандашную схему воплотить в живую машину, пусть самую простую, примитивную, но первую, настоящую, собранную, обогретую своими руками. Это не забудется, это может стать судьбой для Пеночкина и Багрова, любящих всяческие моторы и аппараты. Вот и серьезная заминка у них: не знают, как лучше приладить пружинный амортизатор на переднюю лыжу, спорят, поглядывают в сторону будто отсутствующего учителя. Пусть подумают. Сообразит, конечно, Багров, а сделает быстро и прочно Пеночкин, которому легче семь раз отрезать, чем один раз подумать. Характер сонноватый, «руками думает», смекалки бы ему побольше.
Чего-то побольше, чего-то поменьше — так у каждого человека. А о Васе Багрове что и говорить. Рос Вася во дворе, родителям недосуг было устроить его в детсад: отец с матерью разводились и сводились, то пили вместе, то дрались, двух сестренок содержала бабушка. Наконец их развели (позаботились измученные скандалами соседи), поделили детей: Васю взял отец, сестренок — мать. И очутился шестилетний Вася на Алтае, в таежном леспромхозе… Что запало, запомнилось ему от того времени? Высокие, чистые кедровники, отяжеленные шишками по осени, холодные форелевые речки, горные луга, яростно осыпанные цветами, густые запахи таежных трав, кедровой хвои и… конечно, пьянки отца шофера. Какие-то свадьбы, какие-то растрепанные женщины, которых непременно надо было называть мамами, и опять — двор, улица, полная беспризорность. Но самое страшное, пожалуй, вот это: отец сколотил гроб, лег в него, накрылся простыней, а дружок подвыпивший сфотографировал отца. Потом они, похохотав над «очень художественной» фотографией, послали ее Васиной матери, чтобы она не требовала алиментов. Через год или полтора отца судили — свалил под гору лесовоз, сам успел выпрыгнуть из кабины, а учетчица, ехавшая с ним, погибла — дали ему десять лет, и он исчез бесследно, до сих пор «ни слуху ни духу». Васю тогда вернули матери. Прокормить троих на свою зарплату продавщицы (бабушку похоронили) она не могла, пришлось устроить Васю в интернат: решила, наверное, все равно уж ему бездомничать, да и покрепче, повыносливее он своих хилых сестренок. Редко она навещает Васю Багрова, живя в районном селе километров за семьдесят от города, два-три раза в год; вроде бы выходила замуж, развелась, снова замужем… А сыну ее уже четырнадцать.
Поднявшись, Качуров помог ребятам закрепить амортизатор. Они бы и сами справились. Багров «нащупал» самый оптимальный вариант, Пеночкин принялся крутить болты. Но силенки у них пока жидковаты, даже жилистый Пеночкин запыхтел, зашмыгал носом, несколько раз бегло и виновато глянув на учителя Качурова. Повозились вместе азартно, закрепили амортизатор, передохнули немного, и ребята начали приспосабливать рулевую лыжу, посматривая в чертеж.
Пеночкину тоже четырнадцать, он здоровее, спокойнее Багрова — как старший, более разумный братишка, и жил он сносно до интерната, зато уж теперь совсем одинок, не то что непутевой мамаши — какой-нибудь растроюродной тетки нет, по крайней мере, не откликнулась на розыски и объявления. Беспризорником Коля Пеночкин стал в один день, в свои неполных восемь лет: его одинокая, заботливая мама, работавшая строительницей, упала в яму с сухим цементом и мгновенно задохнулась; после похорон Коля сел в электричку, сбежал в Москву, скитался по вокзалам недели две, потом его выловили, доставили «по месту прописки» — и начал он свою самостоятельную жизнь в школе-интернате; мама оставила ему нежную, теперь уже смутную память о себе, кой-какие вещи, фотографии (одна вроде бы с Колиным отцом) и свою девичью фамилию. Незаконный отец тоже не отозвался, но Коля Пеночкин упрямо показывал фото ребятам, говорил, что папка был летчиком-испытателем, погиб в авиакатастрофе.
Вот и реши, кто счастливее из них? У одного мать живая, родная имеется, у другого — никого, зато и не страдал он со своими родителями, потому, должно быть, и спокойнее, крепче своего нервного, обидчивого друга. А сколько других историй, жутких биографий маленьких людей знает Федор Афанасьевич Качуров! Если бы их записать да напечатать — томище потолще Библии получился бы. Пусть бы читали люди, думали, полезное для себя запоминали. Надо поговорить с Максимилианом Минусовым, вдруг заинтересуется, в свои произведения кое-что, самое впечатляющее, возьмет.
Ребята крепят боковые полозья, затем начинают приспосабливать гребковый барабан, спорят, переругиваются, отталкивают друг друга, даже Пеночкин разгорячился, а Васю Багрова так и вовсе трясучка бьет от нетерпения и интереса: «Скорее, скорее поставить мотор, завести, испытать! Пойдет ли снегоход?!» Теперь они позабыли о себе — кто такие, где живут, куда вернутся из гаража, — работа поглотила их, отвлекла от всего, что внутри них и вокруг, первая в жизни истинная работа.
И значит, они спасены, почти спасены: испытавший счастье работы — уже человек, в нем ожила душа и не померкнет интерес к деянию. Нужно еще более разжечь в них это, поддержать, осторожно, без нажима направить… Но сейчас пора остановить Багрова и Пеночкина на час-два, время обеда, отдыха; они ведь все-таки мальчишки, перестараются — и перегорят, что вредно и для взрослых.
— Перерыв, мастера! — сказал Качуров, снимая комбинезон. — Доделаем после обеда. Подкрепиться надо, как считаете? Машина и та без заправки не ходит!
Они идут через заснеженную, чуть потеплевшую полуденную рощу, ребята смеются, швыряются снежками, и если бы не форменные пальтишки и шапки, веселость чуть сдержанная, как у молодых солдатиков, никому бы и не догадаться, что они из интерната. Ребята точно знали: Федор Афанасьевич поведет их обедать к себе домой. И когда он сказал им: «Перекусим у меня, мастерочки», они не смутились, не стали отговариваться (так поступают лишь домашние мальчики и девочки), напротив, еще больше возбудились, едва скрывая свою радость: настала их очередь пообедать у мастера Качурова, который раз в неделю, обычно по воскресеньям, приглашает интернатских в гости. Приглашают и другие воспитатели и преподаватели, стараются, чтобы хоть раз в год каждый побывал на домашнем обеде, но есть ведь подлизы, любимчики, им удается чаще проникать в квартиры и семьи, за что их, конечно, презирают интернатчики. Не все равно, конечно, и очень даже, к кому попасть на обед, есть такие воспитатели — и за столом учат честной, правильной жизни, пугают родных детишек беспризорниками, хотя и в шутку вроде бы. Для Багрова и Пеночкина, людей технических, попасть к Федору Афанасьевичу — самая дорогая мечта и радость…
Шумное, морозное вторжение их, пропахших машинным духом, не удивило Маманю, хозяйку Лидию Ивановну, она ожидала гостей, знала, что супруг приведет кого-нибудь сегодня, а увидев Багрова и Пеночкина, вежливо, сияюще протянувших ей грязные ладошки, и сама заулыбалась: больше всех других нравились Лидии Ивановне эти ребята. Уж не потому ли, что вместе с Качуровым считают лучшим местом на земле промасленный, пробензиненный гараж?
Стол в большой комнате был накрыт белой скатертью, расставлены тарелочки, нарезан хлеб; за окном светились березы, на стенах висели пейзажи в рамках, пол застлан паласом, диван — ковриком: стеллаж с книгами, телевизор, журнальный столик и кошка лохматая, сибирская, в кресле; а воздух! Сухой, розовато-прозрачный, чуть пахнущий одеколоном, какими-то женскими помадами.
Ребята разделись, разулись, в носках прошли в ванную, долго натирали хозяйственным мылом, держали под горячей водой замазученные, проржавелые руки и лишь по окрику Лидии Ивановны: «Где вы там застряли!» — тихо прошли к столу, присев пока с краешку, огляделись и согласно, молча обрадовались: дома не было Маринки; десятиклассницы, дочери Качуровых, которая всегда заговаривала с ними, подшучивая над ними, смущала невозможно их; и они, вовсе не робкие, умеющие себя в разноликом интернатском обществе защитить, краснели перед Маринкой: она совсем из другой жизни, обитает в такой прекрасной квартире, ест домашнюю пищу, ходит в нормальную, человеческую школу.
— Ну, подвигайтесь, мужички, — сказала, легонько подтолкнув их в спины, Лидия Ивановна. — Вася сюда, Коля здесь, Федор Афанасьевич во главе стола, а я поближе к кухне. На первое борщ со сметаной, на второе мясо тушеное, третье… Третье будет из сладкого пирога, любимого блюда Багрова и Пеночкина.
Пирог с повидлом, поджаристый, душистый, огромный, лежал на кухонном столе, был хорошо виден в открытую дверь, и от него просто невозможно было отвести глаза; пирог и есть настоящая семейная жизнь, ни суп, ни борщ, ни тушеное мясо — пирог! Но Качуров с усмешкой погрозил им ложкой и указал на полные тарелки борща.
— Путь к прекрасному Третьему лежит через нелегкое Первое и Второе, однако мы должны одолеть их. Квод эрат демонстрандум — что и требуется доказать, как говорили в трудные моменты древние римляне.
Борщ с помидорами и свеклой, мясо с картошкой вовсе не были для Багрова и Пеночкина «трудными моментами», особенно после гаражной работы, и они молча, деловито расправились с первым и вторым, заслужив похвалу Лидии Ивановны: «После вас и тарелки мыть не надо, настоящие мужики-едоки!» Хозяйка внесла, опустила на середину стола пирог, засиявший коричневым солнцем, хозяин распластал его на большие куски, разнес по тарелкам; электросамовар уже позвякивал крышкой, и хозяйка, достав из серванта чашки и блюдца с золотистыми ободками, наполнила их крутым чаем.
Наступило самое отрадное время: можно долго есть чудо-пирог, запивать сладким чаем, можно говорить о чем-нибудь интересном, блаженствовать, привалившись к спинке стула, и никуда, никуда не торопиться, потому что не будет команды: «Первая смена, встать! Освободить столы!» Они умеют говорить, Багров и Пеночкин, если, конечно, нет дома Маринки.
— Доделаем сегодня снегоход? — спросил Пеночкин.
— Попробуем, — сказал Федор Афанасьевич.
— Надо сегодня, обязательно! — чуть не подпрыгнул на стуле Багров. — И прокатимся, а? С треском, ветерком!
— После пирога — еще бы! — усмехнулась со всегдашним подшучиванием над ними Лидия Ивановна. — Вам и космический корабль нипочем. Только не улетайте насовсем. Кого же я буду пирогами кормить?
— Ну, Маманя! От твоего самовара никакого космонавта не оторвать. — Федор Афанасьевич промокнул платком распаренный шишковатый нос, налил себе четвертую чашку, еще круче заправив ее заваркой. — Вот если б знать, что на других планетах борщи умеют готовить…
Маленький, румянолицый Багров и бледнолицый Пеночкин, впрочем тоже слегка оживший щеками, засмеялись, и Багров сказал:
— Лидия Ивановна, когда я жил с папкой на Алтае, у нас соседка тетя пожилая была, она пекла пироги с грибами. Вкусные тоже! Говорит: «Васька, сбегай, грибов собери, пирога испеку». А там их, грибов любых, хоть бульдозером загребай. Наберу белых, маслят, подосиновиков — ассорти, словом. И вот из них, да еще с луком зеленым, она пирог заделает в печке. Там печки большие, кирпичные… Потом сидим и чай пьем. Хорошая тетя была, а муж у нее пьяница. Дрался. Правда, она не боялась его, даже связывала иногда. Детей не было… Она говорила: у тебя матери нету, у меня сынка, вот мы с тобой и полюбились друг дружке. Потом, когда папку посадили, она хотела взять меня насовсем, да мамка потребовала… Я писал тете на Алтай, через несколько лет уже, письмо вернулось: уехала куда-то тетя…
— Ага, понятно, почему ты пироги любишь, испеку тебе и грибной в другой раз, есть у меня сушеные… А ты бы остался с той тетей?
— Тогда бы да. Я ведь мамку плохо помнил… Теперь зачем? До паспорта год и семь месяцев. Просто так писал, спасибо сказать.
— А Зайцев, из девятого, троюродную бабку нашел, где-то в Риге живет. — Осмелел и Пеночкин. — Радуется как помешанный, всем письмо читает. Бабка, правда, в гости пока его не приглашает, пишет: бог даст — увидимся. А Зайцев все равно радуется — родная же бабка, хоть и какая-то троюродная. А Ксенофонтов отца разыскал, да тот опять куда-то скрылся…
— Переменим тему, технарики! — пристукнул ладонью по столу Качуров; он обычно помалкивал дома, давая ребятам наговориться с Маманей, позабыть на час-другой интернатский быт, но когда начиналась «толковня» о родных и близких — все интернатчики, мальчишки и девчонки, упорно, годами разыскивают родичей, безумно радуясь каким-нибудь троюродным, кстати совершенно в них не нуждающимся, — то лучше переменить тему: успеют ребята порассуждать об этом, настрадаться, рассылая письма, ожидая ответов. — Давайте такую проблему обсудим. Снегоход должен иметь имя. Как назовем?
— «Вьюга-1», — сказал Багров.
— Просто «Север», — сказал Пеночкин.
— Не принимается. Аппарат должен вместить в свое наименование имена конструкторов, сокращенные конечно. Сообразим давайте. С кого начнем?
— Обязательно с вас, — сказал Багров.
— Ладно. Вот что получается: «Качбагрпен». Звучит?
— А меня? — спросила Лидия Ивановна, смеясь. — Я тоже хочу. Без обеда никакой конструктор ничего не изготовит. Несправедливо. Везде, всегда забывают тружеников скромной кухни.
— Включим?
Багров и Пеночкин привскочили даже, выражая этим полное согласие, кивая, говоря: «Да, мы согласны, как же позабыли, Лидию Ивановну — непременно, хоть первую поставим…»
— Ой, да я пошутила! Кто же поваров в названиях аппаратов упоминает!
— Отвод принимаем.
Багров и Пеночкин категорически и отрицательно помотали головами, заявляя, что они и себя снимут, если откажется Лидия Ивановна.
— Хорошо, — согласился Федор Афанасьевич. — Но ведь она тоже Качурова… Так, помыслим… Вот: «Багрпенкач-2». Два — значит, Качуровых двое. Согласны?.. И звучит прямо-таки по-научному. Загадочно и непонятно. Но — звучит!
— Звучит! Здорово! «Багрпенкач-2»!
— Тогда пошли. Красивое имя надо воплотить в чудо техники, снежный аппарат.
И опять на автобусе через воскресный пестрый и белокаменный город, затем пешком, но уже без смеха и снежков, деловитой семейкой, говоря о работе, настраиваясь на работу, до гаражного кооператива «Сигнал».
Облачились в затертые робы, и Качуров сказал:
— Давайте вместе. Ведь сегодня хотите испытать снегоход?
Ребята промолчали, что означало ни «да» ни «нет» — как захочет сам учитель Качуров; им бы желалось самим собрать аппарат, но ведь не управятся до вечера, а откладывать на неделю — когда же это будет, и всякое случиться может за целых длинных семь дней, измучишься ожиданием и сомнениями: пойдет ли, заработает ли, не увязнет ли в сугробах?.. И ребята уступили главное место у аппарата учителю.
Закрепляли барабан с лопастями, ставили мотоциклетный мотор, натягивали цепь передачи, и все это время Качуров что-нибудь рассказывал, больше о машинах, двигателях, шоферских происшествиях. Припомнил и такой случай.
— У меня снегоход, можно сказать, второй в жизни. «Багрпенкач» еще и потому может носить цифру два. Правда, тот был с авиационным двигателем. Под Москвой, когда немца отбили, зимой сорок второго наша часть стояла в лесу за Можайском. Снега большие были, морозы, машины вязли, бульдозеров не было, а связь осуществлять надо. И предложил я комбату такую конструкцию: разбитый «газик» поставить на лыжи, сверху, в кузове, укрепить авиамотор — нашелся один, от подбитого истребителя; приземлился, покалечился истребитель, а мотор целый остался. Помню, неделю провозился я с помощниками, в колхозной кузне склепали мы стояки, приварили широкие самодельные лыжи, управление двигателем перевели в кабину «газика». И пошел наш снегоход через леса по проселочным дорогам, связь с другими частями была обеспечена. Да и крепко сработали, удивительно теперь, почти голыми руками: вот что такое напряжение до последней жилки и когда еще пули посвистывают. Всю зиму отходил снегоход, комбат перед строем похвалил меня за него, а названия некогда было придумать, весной нас перебросили…
— А снегоход? — спросил Багров.
— Тыловикам оставили, на металлолом.
— Нам бы авиамотор!
— Может, реактивный захочешь? — удивился серьезный Пеночкин «дикой» фантазии друга.
— И поставите, ребята, ничего удивительного. Слыхали, вагоны реактивные по рельсам ходят, аэросани. Главное — растите и любите технику, а она начинается вот с такого нашего глупенького аппарата.
— Нет, хороший! — вспыльчиво не согласился Багров. — Мы его сделаем… Так сделаем — весь город выйдет смотреть. Ни одного такого здесь не было!
— Не психуй, — сказал Пеночкин, — держи ключ и подтягивай вот эту гайку до упора. Конструктор! В теплом гараже, с готовыми деталями. Слышал, как полуторку в лесу переделали? То-то!
— Не будем спорить, технарики! Как поется в вашей молодежной песне: «Вся жизнь впереди, надейся и жди…» Вам, может, еще и похлеще достанется: танк в коня переделывать или самолет в курицу.
Посмеялись дружно, натянули, повозившись изрядно, цепь передачи на шестерню барабана, подладили электропроводку, залили бак бензином и так же дружно отодвинулись к стене гаража, молча оглядывая собранный, сконструированный, какой-то небывалый, несуразный и… конечно, прекрасный аппарат-снегоход «Багрпенкач-2».
Теперь надо посидеть в задумчивости, успокоиться и немножко даже «помолиться» кому-то, какому-то неведомому, но наверняка существующему техническому богу, чтобы он отогнал от них и аппарата древних злых духов или чертей, которые очень не хотят, чтобы человек изобретал самоходные машины, желающих видеть человека пешего, может, еще конного — за таким всегда угонишься, такому всегда взберешься на холку да похохочешь вдоволь. И они сидели, не отводя глаз от «Багрпенкача-2», словно бы всерьез ожидая, когда в него вселится машинная душа, отпущенная щедрым техническим богом, и можно будет уверенно, спокойно завести аппарат, и он заработает, пойдет, потому что уже не просто несуразный набор свинченных железок, а живой механизм.
На улице смеркалось, Качуров включил свет, угостил ребят чаем, затем велел им переодеться, снял и сам комбинезон, открыл ворота, кивнул, ребята стали по сторонам, он — сзади, вместе подналегли и вытолкнули снегоход из гаража. Только тут он проговорил, улыбнувшись и громко:
— Испытаем!
Несколько раз он мягко качнул ногой заводной рычаг, проворачивая поршни, подкачивая бензин, потом резко ударил по рычагу, мотор чихнул густо-синим газом, задохнулся на мгновение и гулко ожил, взахлеб и оглушительно тарахтя: глушитель был снят, чтобы предельно увеличить мощность мотора.
Качуров осторожно перекинул ногу, сел на сиденье, точно побаиваясь, что оно не выдержит его, прогазовал двигатель, повернул лицо к ребятам, мотнул головой в пухлой кроличьей шапке: «Ну, с богом, что ли?» — и включил передачу на барабан, лопасти которого уперлись в накатанный наст гаражного двора. Остро скрипнул снег, застонали лыжи, взревело тарахтенье, и «Багрпенкач-2», дрожа всеми деталями, собираясь вроде бы развалиться, неуклюже сдвинулся, заколыхался, заскользил по двору, выбивая лопастями куски наста, как гусеничный трактор. Ребята побежали следом. Вырулив за шлагбаум, Качуров пригласил их сесть позади себя, свернул с дороги, направил снегоход к березовой роще.
Все, кто был в этот вечер в гаражах, вышли смотреть чудную машину. Явившийся на дежурство Максимилиан Минусов пополнил толпу зрителей. Подходили любопытствующие с ближайших улиц. Одни восторгались снегоходом, другие неопределенно вздыхали, покачивая головами: «Надо же, и придумают!» Нашелся и такой: «Делать нехрен, треску развели, надо в ГАИ заявить, будет тут каждый вонючки клепать, город загаживать!» Минусов спокойно ему ответил: «Такие, как вы, растерзали первого летателя, когда он с колокольни спрыгнул на самодельных крыльях». Желчный мужчина плюнул и удалился, а сторож Кошечкин, радостно подпрыгивая, наговаривал себе: «Поставит, поставит мне чекушку мастер Качуров за такое техническое достижение и безобразие на территории гаражей!» Толпа густела, набежали мальчишки, проходивший мимо сержант-милиционер тоже подвернул, стал внимательно изучать обстановку. Но мужчины-ругателя уже не было, снегоход не нарушал уличного движения, ибо ходил по заснеженной роще, и сержант улыбчиво изумлялся ему, как рядовой зритель.
А «Багрпенкач-2», полосуя синий вечерний воздух прожектором фары, выметывая лопастями длинные снежные струи, носился между деревьями в самых неожиданных направлениях, чудом обходя стволы, взлетая на сугробы и падая, почти исчезая в провалы между ними; он напоминал дикое, гремящее, железное существо, неизвестно откуда ворвавшееся в город, взбудоражившее его; ему не нужны дороги, улицы, правила движения, он сам по себе и для себя, и может он в любую минуту взвиться над березовой рощей, исчезнуть в темном, с первыми слабыми звездами небе.
Катя Кислова спешно простучала каблуками высоких сапог по пластиковому полу длиннющего коридора, остановилась у комнаты двести двадцать три, нажала кнопку звонка. И лишь только за дверью послышались вялые шаги, она вскрикнула:
— Жанка! Ты дома? Ну открывай же скорей!
В полутемном проеме нешироко отворенной двери появилась молчаливая фигура в пестром, тяжелом халате до пят, с мятыми волосами, заспанным, хмуроватым и бледным лицом. Катя шагнула, вернее, вскочила в комнату, обхватила руками плечи маленькой подруги, расцеловала ее в щеки.
— Ты дома! Как я рада! Сто лет не виделись!
— Чего орешь? С горячего места сорвалась, что ли? — спокойно отстранилась Жанна, пошла из узенькой прихожей в маленькую комнату. — Раздевайся и кофе свари… Разбудила… Могла бы и попозже визит нанести.
— Болеешь, да? После банкета, да? В авиации шик, да?.. Я тебе кофейку сейчас, лечебную порцию. У тебя штурман, пилот или бортмеханик?.. Ты счастливая, да?..
— Перестань, слышишь! А то швырну чем-нибудь!
Жанна Синицина положила выше подушку, легла и прикрыла глаза голубыми веками. На туалетном столике горбился огненно-рыжий парик, а ее собственные волосы, светло-русые, чуть вьющиеся, вольготно, точно радуясь свободе, разбросались по подушке. Круглый стол посреди комнаты был заставлен пустыми и ополовиненными бутылками, колбасой и шпротами в тарелках, бумажными, целлофановыми пакетами. Пахло папиросным дымом, пролитым на пол вином. Казалось, Жанна Синицина не могла видеть всего этого безобразия, оттого и не раздернула оконные шторы, прикрыла безвольно глаза. Но вот она отбросила одеяло, опустила ноги с низенькой, раздвинутой диван-кровати и, снова крикнув Кате: «Заткнись, дуреха!» — вскочила и начала бегать от стола в прихожую, к кухонному столику, вынося бутылки, тарелки, пакеты. Чуть испуганная Катя старательно и неумело помогала ей, и даже мокрой тряпкой потерла пол, хотя дома панически презирала эту работу.
После нескольких глотков кофе, молчания, немой суетливости и вздохов Кати сердитая Жанна отмякла, словно бы отогрелась внутри нее заледеневшая душа; а если душа ожила, то и вся Жанна, маленькая, крепенькая, большеглазая, пухлогубая, стала всегдашней, все понимающей, чуть насмешливой и очень-очень… как это сказать точнее?.. очень завлекательной, сразительно симпатичной девушкой. Конечно, Катя выше ее ростом, с идеальными чертами лица, тонким вкусом, но Жанна ироничнее, начитаннее, опытнее и на всех вечеринках была самой заметной для мужчин, чего Катя не могла ей простить: ведь этого умом, хитростью добивалась маленькая Жанна.
Они и раньше виделись нечасто, а теперь, когда Жанна Синицина, бывшая работница прилавка, заочница-экономистка, пробилась в московский аэропорт и начала летать стюардессой, навещая дальние города страны, встречались еще реже, раз в два-три месяца. Обычно приходила к ней Катя, что всегда означало: ей надо поговорить, посоветоваться о чем-то очень важном, трагическом и роковом в личной жизни.
Слегка усмехаясь, Жанна с минуту оглядывала непривычно нервную подругу, затем строго и спокойно, как старшая сестрица младшей, повелела:
— Докладывай. Надеюсь, Мишель дал тебе коленкой под зад и ты вернулась к своему благородному бобру, шефу, доктору наук? Он простил и сам же попросил у тебя прощения, преклонив старческое колено…
— Нет, нет, Жанка! Нет! Гарущенский любит меня, ты видела — он чудо-мужчина, с характером, оригинальный, ничего для меня не жалеет. Ах, как мы освоили Ялту, бары, рестораны: «Ореанда», «Крым», шхуна «Эспаньола», «Лесной», «Алые паруса», «Таврида»… морские прогулки, Ай-Петри, водопад Учансу. Нас полюбила Ялта, куда ни войдем — поклон и улыбки даме Мишеля Гарущенского… Как во сне, в тумане…
— Погоди. Это я уже слышала. Давай прямо — замуж за него собралась?
— Какая ты, Жанка, резкая. Я хотела постепенно… Я же люблю его.
— Понятно: он тебя, ты его. Женитесь.
— Да я же посоветоваться.
— Советуйся.
— Он испытывает меня. Ехали осенью в колхоз работу клубную брать, он бросил меня на шоссе: обижусь или нет? Я и виду не подала, раньше его приехала в колхоз, с директором договорилась…
— В колхозе председатели бывают.
— А этот директор. Подожди, какая разница… Потом придумал: достань мне папироску такую… хочу совершить путешествие по другую сторону разума. Ездила в Москву, дежурила у «Националя», унижалась, просила у интуристов. Дали пять, и все простые. Обманули. Мишель страшно рассердился, говорит: ничего не можешь сделать для любимого человека.
— Слушай, так он же издевается над тобой!
— Нисколько. Мишель говорит: душа требует сатисфакции. Он испорченный в детстве ребенок и обвиняет в этом все человечество. Он грубит, а ему надо прощать. Оттого и не может жениться Мишель — никто не выдерживает его испытаний. Скажет, например, я достану тебе собачью искусственную кость со вкусом натуральной звериной кожи, такие в Англии выпускают, грызи, — и дамочка уходит, обиженная. Но со мной у него не получается, у меня нервы крепкие, и я люблю Мишеля-старичка, мы должны быть вместе, у нас общие интересы…
— Постельные?
— Это не главное. Я создам ему уют, буду готовить обеды.
Жанна поднялась, походила около стола — в домашнем коротком платьице, мягких тапочках, некрашеная, чуть растрепанная, она напоминала отчаянную девчонку, слегка притихшую дома, — остановилась возле сидящей, потрясающе декольтированной Кати Кисловой, иронично прищурила веки, стиснула губы.
— И обеды будешь готовить?
Катя кивнула.
— Тогда одна дорога — в загс.
— Не идет.
— Правильно делает. Ему тридцать восемь, он проходимец, негодяй, подлец, себялюбец, халтурщик, бабник… Зачем ему милая дурочка? Свяжет, обяжет, ребеночка родит… Десяток лет еще побалуется, потом к зажиточной вдовушке под бочок, чтобы лечила и обогревала потрепанный организм. Поняла что-нибудь?
— Нет, нет, Жанка! Мишель будет мой, я тебе докажу, он исправится!
— Доказывай, исправляй. Какого же… от меня тебе надо?
— Посоветуй, как подействовать. Я все испробовала.
— Выкради или подбери ключи от его квартиры, поселись со своим барахлом — и пусть попробует вышвырнуть: струсит, шума, сплетен побоится. Знаю этих шкодников старичков.
— Спасибо, Жанночка, дай чмокну тебя. Оставлю напоследок, на крайний случай… У тебя есть вино? Налей, отметим встречу. И расскажи о себе, как, с кем дружишь… Ты такая молодец, у тебя такая воля!
— Ты выпей. У меня вечером рейс, будет запах — снимут, подведу экипаж. Видела стол? Кутнули вчера.
— Он кто?
— Пилот.
— Как здорово! В форме, строгий и красивый?
— Обыкновенный. Мужик, женатик. Схватился раненько, поехал в семью, детей любит. Как и твой бывший бобр-завлаб, только помоложе. Правда, умный и порядочный: никаких обещаний, златых и медных гор. Будем вместе, пока не надоест. Да я и не хочу за него замуж: какой он муж, если там двое детей. Наполовину будет мой.
— Ой, Жанка! Ты так толково рассуждаешь, возле тебя человеком делаешься.
— Комнату надо менять, электричка надоела, обещал помочь. Вот и плата любовнице… Вообще — авиация для меня, теперь не уйду. Жизнь увидела, города, интересно, скучать некогда. Это тебе не за прилавком старушкам модницам кримплен отмеривать.
— Ну да, ну конечно! Завидую тебе. Пожалуйста, покажи форму, надень, а? Так хочу увидеть тебя стюардессой. Ну просто расплачусь, если откажешься.
Жанна открыла шкаф, сняла с деревянных плечиков синюю юбку и жакет, обшитый желтыми шеврончиками, белую блузку, галстук, облачилась во все это ловко и быстро, натянула на свои всегда растрепанные волосы рыжий высокий парик, пристроила чуть наискось пилотку с эмблемой, влезла в сапоги-платформы и, вытянувшись перед Катей, необыкновенно стройная, строгая, почти неузнаваемая, заговорила четко, с едва приметной улыбкой:
— Здравствуйте. Я Жанна Синицина.
— Please fasten your seatbelt![11]
— Stop smoking thank you[12].
— Can I help you?[13]
— Sorry![14]
— We hope you have enjoyed your flight and see you again[15].
Катя вскочила, обняла Жанну, поцеловала в щеку.
— Я в восторге! Я слов не нахожу, как тебя похвалить! Что делает форма с человеком!
— Дело не только в форме, — немножко обиделась Жанна.
— Понимаю, в характере тоже. Ты волевая. Ты своего добьешься. Ты вырвалась на свободу… Ну, как птица. А я не смогу. Я тоже волевая, но люблю Мишеля… Это ведь счастье — любить, а… Расскажи, в какие города летаешь. В загранку пока нет? Туристы тебе дарят что-нибудь? Может, папироску достанешь?..
— Катька, перестань трещать. Я уже отвыкла от тебя. Есть у нас болтушки, приставалы — их быстро увольняют. Тебе не выдержать испытательного срока.
— И не хочу. У каждого своя судьба. Я семейная женщина.
Жанна Синицина расхохоталась и, приплясывая, принялась снимать форму. Когда опять стала маленькой, домашней девушкой в коротеньком платье, спокойно сказала:
— Летаю в Алма-Ату, город красивый, много фруктов, была на высокогорном катке Медео, каталась — там коньки дают напрокат, вещи в магазинах бывают, но стоять нам некогда, прилетишь, час-полтора на заправку, подготовку самолета — и снова в воздухе, если погода нормальная, туристы заграничные бывают, часто даже, запрещено нам брать у них подарки, так, значок, брелок дешевенький еще можно, о другом — заикнуться нельзя, так что не могу помочь Гарущенскому совершить путешествие на другую сторону разума, у него, извини, и по эту сторону излишка нет, исправлять примешься — с головы начинай.
Катя Кислова не обиделась, считая, что о Мишеле судить может лишь она одна, постигшая истинную сущность друга, ответила прежним тоном:
— Не можешь — не надо, я ведь на всякий случай.
Жанна придвинулась к Кате, взяла ее узкую руку в две своих жестковатых ладошки, впервые с нежной жалостью глянула ей в глаза:
— Слушай, Кать. Давай я тебя вытащу, устрою. Будем летать. Ну какие мы жены… Может, потом… Опомнись, брось. Давай поживем, поумнеем.
Катя помотала маленькой головкой, вздохнула, как вздыхают усталые семейные женщины, и Жанна заметила, на щеки ее выскользнули, пробежали и впитались в припудренную нежную кожу две слезинки.
— Ты что, Кать?!
— Я люблю его.
— Тогда молчу. Тогда как хочешь. — Жанна поднялась неслышно, отошла от подруги, стала тихо ходить вдоль стены, на которой висел большой плакат британской авиакомпании со стюардессой у самолета; ходила и молчала, лишь изредка поглядывая в сторону Кати, точно не веря еще со словам, точно внезапно узнала, что подруга больна страшной, неизлечимой болезнью и от нее можно заразиться; она не могла придумать, что еще сказать вдруг всплакнувшей, никогда не печалившейся Катьке Кисловой, той, которая в десятом классе попросила спортивного дурачка Витьку Шохина лишить ее невинности и утром заявила Жанне: «Наконец-то я человек, а не девушка». Значит, правда, значит, можно вот так страшно влюбиться; и Жанна, уже не зная зачем, повторила:
— Тогда молчу.
— Спасибо, Жанка. Рада была тебя видеть, ты меня вдохновила. Приглашу на свадьбу.
В прихожей, неспешно одеваясь. Катя была уже вновь весела, рассказала смешной анекдот про двух сестер-близнецов, дурачивших своих мужей, сообщила последние городские новости («Между прочим, твой бывший дружок развелся со своей, алименты платит, вспоминает тебя; может, вернешься?»), а Жанна Синицина кивала, улыбалась в растерянности, отчего-то смущаясь, робела чуточку, словно ее обидели, не извинившись, или обманули в чем-то, и, поцеловав Катю, молча, неслышно прикрыла дверь.
Шаги по длинному пластиковому полу коридора простучали четко, твердо; когда они стихли на лестнице, Жанна сказала себе: «Вот это да! Будет интересное кино…»
Да, «интересное кино» еще будет. С этим вполне согласен Максимилиан Минусов, зная многие любовные истории, книжные и житейские. Но не любил он предсказывать, гадать. Не ошибаются только цыганки, хитроумно тараторящие свои бойкие предсказания-наговоры, вроде такого: «Дай твою ручку, милок (милочка), линию жизни расскажу, всю сердечную правду скажу, позолоти ручку, желаю тебе красивую дочку и внучку, счастливый будешь, любовь большая впереди, маленькие огорчения, сердечные увлечения, большие дороги, дама бубновая или трефовая, любовь горячая, ты бедный, будешь богатый, любовь потеряешь, любовь найдешь, заболеешь, поправишься, начальник тебя обижает, другой, большой, обожает, все потеряешь, все найдешь, дети вырастут, пенсию хорошую получишь, жизнь тихую проживешь, скупой будешь — скоро умрешь, позолоти ручку, милок (милочка), правда дорого стоит, неправда волком воет, тебя беспокоит…» И что бы ни случилось с тем, кому гадала цыганка, он может подумать: а ведь что-то такое предсказывала цыганка. Ему, в горе или радости, не захочется вдуматься, понять: всего и на всякий случай жизни она ему наговорила.
— Поживем — увидим, — сказал Максимилиан Минусов, развязывая папку, где хранились у него газетные статьи и заметки на тему «Человек, дорога, автомобиль». — Вот статья из «Литературной газеты», подчеркнем некоторые абзацы, перечитаем: «Немецкий психолог К. Леман, например, считает, что у водителя могут возникать достаточно глубокие изменения в психике. Человек за рулем становится менее рассудительным, но более агрессивным, он медленнее накапливает опыт и навыки, склонен повторять ошибки. А каждая ошибка таит непоправимые последствия… Стал ли он, водитель, хуже или лучше своих предшественников? Или ничуть не изменился за эти тридцать — сорок лет? Увы! Мы не знаем ответа. Блестящая перспектива технического усовершенствования автомобиля затмила его скромную персону и лишила законного внимания».
Значит: «Водитель! Познай самого себя! Не жди, пока тебя изучат, скажут, что ты за существо, как тебе управлять собою (и автомобилем), как избежать «глубоких изменений в психике», которые конечно же возникают, знаю по себе, да и начали, пожалуй, возникать с того давнего времени, когда человек придумал колесо и, для начала, впрягся в него сам.
Ранее мы рассуждали с доктором технических наук о водителе и пешеходе, теперь поговорим о человеке, севшем за руль автомобиля, его психике. Начнем с меня лично, имеющего немалый водительский стаж.
Помню и никогда не забуду свои первые несколько метров, которые я проехал на грузовике. Алешка Коньков, мой учитель, втолкнув меня в кабину, сказал: «Ну, двигай помаленьку, сам знаешь, где что». Я включил мотор и, не выжав скорости, снял ручной тормоз; машина стояла на бугорке, покатилась, мне бы снова дернуть ручной тормоз или нажать тормозную педаль, а я растерялся: мотор работает, грузовик катится самовольно, как спущенная с горки телега, я рулю вдоль забора и вижу впереди забор… Онемел, почти потерял ясное сознание, не пытаясь даже отыскать ногой педаль тормоза. Машина бампером смяла забор и остановилась, выбив одну фару. Коньков кричал что-то, матерился и хохотал: «Я ж думал, после трактора сообразишь!» Забор подняли, грузовик починили, я научился водить, но до сих пор вдруг приснится: катится под гору машина, гора огромная, где-то внизу черная бездна, я сижу за рулем, зачем-то рулю, но не могу остановить машину, знаю, что ее можно остановить, и не могу: страх, беспомощность, стыд, злость на себя разрывают мне сердце, а я качусь, качусь в бездну…
Ни одной серьезной аварии я не пережил потом, шофером первого класса стал, можно сказать, сросся с машиной, чувствовал ее, как железную часть своего тела, но те первые несколько метров так и остались неизлечимой болью в душе. Коньков, правда, успокаивал: «Это ж ты тормоз внутри себя нажил, он быстрее твоей головы будет срабатывать, ты теперь шофер натуральный, экстраклассный!»
В чем-то прав был мой дружок. Потом уже я где-то вычитал, начинающему водителю в Америке устраивают в специальном телекабинете под гипнозом полную иллюзию автомобильной аварии. Если решится после такого испытания сесть за руль — будет хорошим шофером. Дорожный лихач — почти всегда немятый, непуганый, без «тормоза внутри» себялюбец, в этом я уверен, приходилось видеть, урезонивать таких: и обгонит он тебя перед носом, и тормознет для куража, и криво тебе усмехнется, бойко срезав угол поворота, и гуднет нагло: «Уступи дорогу! Чего ползешь как черепаха?!» Зато уж, попав в серьезную катастрофу, автоволк становится автозайцем, теряет голос, хнычет, вымаливает прощения, пробует откупиться… Не раз я говорил: «Ладно, поезжай, но будь человеком». Жаль, что проверить не удавалось: умерил ли он свою лихость? Думаю, хоть немного, в чем-то — переменился.
Прав Алешка Коньков, прирожденный водитель, прав немецкий психолог К. Леман: человек за рулем — иной человек; как, впрочем, в давние времена: всадник отличался от пешехода.
Возьмем наш, ближайший случай. Рудольф Сергунин помял «Жигули-люкс», пережил, как он невесело шутит, психастению, будучи парнем рабочим, крепким; сломай он себе ногу — меньше бы нервничал, досадовал. Что же произошло с ним? Жаль заработанную, и очень нелегко, машину? Пожалуй. Купленную состоятельным папочкой не столь бы ценил. Но есть и нечто другое, более важное, «психическое». Приобретя автомобиль, Рудольф Сергунин сделался другим человеком, даже не сев еще за руль: доказал сердящимся на него родителям, на что способен их сын, пожелавший быть простым работягой, стал иным для друзей, знакомых, соседей (у нас ведь машина — роскошь пока); а девушки, женщины?.. Такой парень, такой мужчина!.. И вот этот мужчина, выехав прогулять свои «Жигули», безобразно помял их. Не виноват? Был трезвый? Кое-кто поверит, кое-кто усмехнется, кое-кто (таких будет много) похихикает с удовольствием: «Пижон! Треплется, что на свои купил! Свои вещи берегут. С папашей в контрах, а машину принял. И сколько их развелось, иждивенцев патлатых!» Попробуй тут сохрани ироничное спокойствие. Мишелю Гарущенскому, пожалуй, удалось бы отшутиться, отлаяться, но Рудольф Сергунин более мнительного склада человек.
Вот как передал мне встречу с ним авторемонтник Юрка Кудрявцев:
«Является этот ваш протеже, Рудольфом которого звать. Между прочим, у моего соседа по квартире овчарка Рудольф, ну, это я в шутку. Является при галстуке, в лакированных ботиночках, плащике аглицком, подает на некотором расстоянии квитанцию оплаченную и просит разрешения осмотреть авто. Я вежливо отвечаю: подождите, гражданин, за воротами, выкачу сей момент. Ну, подержал его нарочно полчасика (за то, что психозом переболел и вне очереди ремонтировался), тетя Глаша распахивает ворота, и я вылетаю с бодрым газком, торможу у самых ботиночек владельца личного автотранспорта, он аж отпрыгнул — думал, сшибить хочу. Откидываю дверцу, выхожу и так ручкой, как в кино элегантных дамочек приглашают: «Прошу осмотреть работу, выразить свои замечания». Ваш милый Рудольф обошел, ощупал «ладушку», будто любовницу, бывшую в употреблении, не поверил своим большим красивым глазам, даже номер спереди и сзади прочитал. Точно, его машина, но нигде ни вмятины, ни царапинки. И тут ваш уважаемый псих сцену восторга устроил: бросился ко мне, облапил. «Друг! — кричит. — Ты же мастер высшего класса! Как смог?.. Спасибо, не забуду, держи, друг!» И, естественно, вынимает десятку. Я спокойненько отодвигаю бумажку, говорю: «Если друг — зачем же взятку суешь?» — «Мало, да? — продолжает суетиться. — Мало, понимаю. За такую работу… Сейчас нету, потом, друг, сколько запросишь!» Сказал я ему — ни сейчас, ни потом, ни в двадцать первом веке мне от тебя ничего не надо, не возьму; и другом не буду. Растерялся Рудольф, обиделся: «Почему?» — спрашивает. «Потому что не беру на лапу, особенно с работяг, и еще потому, что ты, Сергунин, все-таки интеллигентик магнитофонный, хоть и на стройке вкалываешь, в детстве тебя испортили. Вот ты и не можешь обойтись без лакеев в лаптях. Заставил старого человека машину мятую гнать, самому стыдно, значит. А ты предлагал Максимилиану Гурьяновичу на целенькой «Ладе» покататься?! И без очереди пожелал. Это тоже замашечки вовсе не рабоче-крестьянские. Так что садись и катись с ветерком, милый друг!» Уехал тихонечко, согнувшись за рулем, мне даже жалко немножко стало: вроде ничего парень, человеком хочет быть, а что десятку совал — так попробуй не сунь иному, в другой раз к СТО не приближайся. Тут беда всеобщая. Ну, ничего, думаю, надо же автиков как-то порядочной жизни учить, не зря же товарищ Минусов на меня свои душевные силы тратил. Встретимся еще — Юрка Кудрявцев и Рудольф Сергунин, — мы ведь навечно связаны одной веревочкой: он водит автомобиль, я ремонтирую. Правильно я живу и мыслю?»
Как видим, не только у водителя, но и у авторемонтника «могут возникать достаточно глубокие изменения в психике». Автомобиль на дороге, на улице, человек в автомобиле, человек, дышащий выхлопными газами и резиновой пылью автомобиля, планета, заполняющаяся автолюбителями, задымленная атмосфера над городами, неукротимая жажда еще большей технизации, — это уже не «могут возникнуть», а возникли глубокие изменения в психике людей. К чему это приведет?
Погадайте у цыганки. Не зря же я записал ее гадание. Она все предскажет. Только не скупитесь позолотить ручку».
Максимилиан Минусов уложил в портфель тетради, кое-какие книжки и газеты для чтения, термос с горячим чаем, бутерброды и отправился на дежурство. Шел медленно, чтобы надышаться чистым январским морозцем, посмотреть улицы, людей, как бы тоже поучаствовать в общей городской жизни. Кивал где-то виденным, а то и знакомым лицам, всем желая мира и добра, и сам нес в своей душе покой и отдохновение, уже привычные, радостные ему. И сегодня его путь от кооперативного дома до гаражного кооператива «Сигнал» закончился бы обычной тихой прогулкой, но вот сердце его, ощущаемое лишь мягкой, широкой теплотой в груди, колыхнулось, окатило лицо горячим притоком крови: навстречу шла Ольга Борисовна Калиновская, бывшая учительница, затем директор школы, теперь пенсионерка… Максимилиан Минусов кашлянул, успокаивая себя, проверяя, не хрипит ли у него голос, остановился и, приподняв руку, сказал:
— Доброе утро, Ольга Борисовна!
— Доброе… — чуть отступила она, словно слегка испугавшись окликнувшего ее человека; в следующую минуту лицо ее, полуспрятанное в меховой шапке с опущенными ушами, зарделось как-то по-девчоночьи открыто и беспомощно, но, резковато тряхнув головой, она уже твердо выговорила: — Доброе и солнечное, Максимилиан Гурьянович! Как шагается, дышится вам?
— Хорошо, Ольга Борисовна, легко. Надеюсь, и вы в здравии и покое?
— Кому меня беспокоить?.. И болею редко. Мы с вами дети войн и пятилеток, несгибаемая когорта, при жизни стали ископаемыми, предками, как выражаются теперешние молодые люди.
— Все шутите, Ольга Борисовна, нравом вы остались той же… — Максимилиан Минусов хотел сказать: «Олечкой-математичкой», но отчего-то не выговорилось это, хотя Ольга Борисовна улыбчиво, даже задорно посматривала на него. — Той же… Приятно, что не сдаетесь духом.
— Сказала же — несгибаемая. Хочу автомобиль приобрести, научите водить?
— С покорностью, если будет на то ваша воля. Однако не советую, ходите пешочком. Охладел я к моторам и колесам. Доживу возле машин, интересно мне — что с ними и владельцами дальше будет. А вам не советую: «Мертвые железа губят души человеческие…» Это молодым некуда деться. Ходите лучше пешочком, улыбайтесь деревьям, птицам, детишкам, долго, духовно проживете…
— Ага, значит, вы против НТР?
— Зачем? НТР не остановить, как вращение Земли. Да и сам я немало на нее, на техреволюцию, наработал. Просто вам не советую, если вы серьезно.
— Серьезно. И учиться у вас не буду: какой-то вы благостный весь, успокоенный. В церковь не ходите?
— В христову — нет.
— У вас своя?
— В душе.
— О-о! Не зря вы всю жизнь странствовали, веру свою искали.
— Может, и зря…
Они засмеялись вместе, но невесело, тем уже привычным, необязательным смехом, который как бы заранее был приготовлен для их редких встреч, всегда случайных, на улице, и Ольга Борисовна Калиновская пошла дальше, по своим простеньким пенсионерским делам, а Максимилиан Минусов постоял немного, глядя ей вслед: на мгновение, всего на единое мгновение ему опять показалось: от него уходит прежняя, тоненькая, быстрая, милая математичка Олечка.
А ведь ушел когда-то он.
В сторожке на Минусова набросился трясущийся, злой, похмельный и жалкий Кошечкин:
— Опоздал! Если с высшим образованием — можно, презираешь рабочего человека! Привлекать пора таких интеллигентов, нутро прогнившее чистить. Возьмусь, не думай, что Кошечкин хилый! Помощников найду. Сочиняешь тут — чего, про что, кому на пользу? Молчишь? Потому и опаздываешь — делишками всякими занимаешься. Пора, пора привлекать…
Минусов опоздал всего на десять минут, тогда как Кошечкину случалось задерживаться и на пару часов. Но спорить незачем, Кошечкин был рад этому опозданию, даже желтые щечки зарумянились от возбуждения, и Минусов, молча раздевшись, подал Кошечкину рубль.
Свершилось чудо, едва ли поддающееся описанию: четыре кружки пива, возникшие в воображении Кошечкина, преобразили его внешний и внутренний облик. Из шкуры жалкого и злого он мгновенно перелез в шкуру жалкого и ласкового. Бормотнув еще несколько упреков («для пущей строгости»), Кошечкин ухватил за локоть Минусова, зашептал часто, тряся расхлябанно головой:
— А этот… Мертвая тень… опять был… видел я… Ловить — не, убьет, не мое дело… И тебе не советую… Пущай начальство, милиция, органы… Бледный. Я прожектор навел — исчез неизвестно куда… Так что извини, Максимилиан Гурьянович, погорячился малость… Прощаешь дружески Кошечкина?
— Да. Потому что miser res sacra[16].
— Во, философ, писатель, все по-иностранному выражается. Убегаю, тороплюсь, не буду мешать умному человеку.
Святцы Максминуса
«А ведь я ушел когда-то от Ольги Борисовны Калиновской, подавшись странствовать на Восток, искать себя для своих будущих книг. Сюжетов привез много, книги пока — ни одной. Олечка-математичка дважды выходила замуж, и неудачно, детей не нажила; я и вовсе остался бобылем. Но я-то ладно, бродяжничал, смысла жизни искал. Олечку жалко: она хотела семьи, простого уюта, мужа работящего, детишек не хуже, чем у других; она говорила мне еще в институте: «Минусов, я для тебя буду большим плюсом: ты немножечко не от мира сего, я вся в этом миру, соединим небо и землю под ногами!» Преподавали в одной сельской школе, одну зиму; началась война…
Провожала меня на фронт Олечка как мужа, со слезами, с вареной курицей, с наказом чаще писать, а мы-то и поцеловались всего раз, перед отходом поезда; до этого дружили честно, строго, чуть грубовато, что было почти правилом для тех неласковых времен. Да, мы знали: мы муж и жена. Но зачем торопиться? Жить негде, надеть тоже — самое дешевое и необходимое; к родителям лезть — не буржуазные сынки и дочки, сами себе все добудем, ведь «мы наш, мы новый мир построим…». Как я потом в окопах, землянках, в холода и дожди, под пулями и взрывами жалел, что не женился на Олечке, не пожил с нею. Мог бы и ребенок у нас быть… Показываю ее фотографию, а старики-женатики: «Хороша! Жена, невеста?.. В любви-то как действует, по-боевому?» Меня ничуть не обижали их шуточки, она была моя, Олечка, будет моя, если вернусь с войны. Когда стал лейтенантом, опять пожалел, что не расписался с Олечкой, получала бы по офицерскому аттестату продукты… Я не довоевал, в сорок четвертом осколком пробило мне правое легкое, после операции попал в рязанский госпиталь, через три месяца за мной приехал отец и увез домой.
Олечка перевелась в нашу городскую школу, стала навещать фронтовика, а моя рана превратилась в каверну, ее стали разъедать палочки Коха, которых, говорят врачи, много у каждого человека, но они не трогают его, пока он крепок телом и духом. Я преподавал литературу и лечился, чем только можно было в то голодное время. Мать покупала для меня целебное козье молоко. Советовалась, составляла различные лечебные средства. Самое простое — по капле ядовитой сулемы с молоком; самое дорогое: пол-литра водки, четыре яйца со скорлупой, лимонная кислота, сок алоэ, все это настаивается до полного растворения яичной скорлупы, затем принимается по чайной ложке три раза в день перед едой. Никогда не забуду эту едко-горько-вонючую отраву, после которой сама сулема казалась приятным напитком, особенно с молоком. Не знаю, помогло мне знахарское лечение, теперь уж нелегко решить, но я протянул, хрипя и кашляя, шесть лет. В начале пятьдесят первого согласился на операцию. Выломали мне несколько ребер справа под лопаткой, стянули легкое, сказали почти уверенно, что избавлюсь от каверны и палочек Коха, но надо еще поберечься года два. Олечка молча согласилась ждать, хотя мы устали уже от нашей «вечной» дружбы: я был нервен, то уговаривал ее найти мужа, знакомил с «хорошими мужиками», то ревновал; и не мог даже поцеловать Олечку: боялся заразить бациллами.
Когда же окреп и мог бы наконец жениться, со мной произошло нечто сложно объяснимое. Что-то приблизительно такое: много лет я был в туберкулезном рабстве, жалким полукалекой, без права на волю, движение, физический труд. Школа — дом — маленькая прогулка в лес. И опять все сначала. А мечта точила: я должен много видеть, знать, мне надо мыслить, писать… Женюсь — так и останусь невылупившимся из домашней скорлупы. А литература? Из года в год то же самое: «Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой был передовым человеком своего времени…» А заработок? Разве можно жениться преподавателю литературы? Директор школы еще может позволить себе семью и детишек, одного-двух. Но я не хотел быть директором. И вот в каком-то полупомешательстве от страха вечных четырех стен, счета мятых рублей, Олечкиной терпеливой любви я завербовался на Восток и уехал.
Напугал и огорчил родителей, пообещал Олечке скоро вернуться или вызвать ее к себе. Через год написал, что, пожалуй, не скоро вернусь в родное Подмосковье, пригласить же ее к себе не могу: примитивно бродяжничаю. Она вышла замуж. Так я потерял свой «плюс» и, может быть, твердую землю под ногами…
Но хватит пока, будет еще время вернуться к этому, пора вспомнить мне о моем друге Алексее Конькове, который, как вы помните, женился на фельдшерице Нюре.
Надо сказать о ней несколько слов. Не красавица писаная, но и вовсе не дурнушка, не умница-разумница, но и не глупышка, а что касается деревенской, тогда еще нелегкой жизни, — сообразительна во всем, терпелива, умеющая в любом закутке создать возможный уют для своей семьи. Алешку она любила и побаивалась слегка: старше ее намного, побывал черт знает в каких звериных местах, да еще сын старосты (об этом он рассказал ей до свадьбы). Побаивалась, словно бы ожидая: вот скоро Алешка отогреется в ее ласке, тепле и тогда она сможет жить с ним весело, не скрывая своей радости, хвалясь работящим, непьющим (что тоже великое везенье) муженьком.
Коньков, казалось, оттаял сразу, не вспоминал прекрасную Симочку и, забывая, что уже не раз говорил мне об этом, повторял: «Слышь, Максимилиан, как такое возможно: четыре года Нюра училась в городе и вернулась девчонкой. Да теперь вон школьниц матки хворостинами из кустов выгоняют. Спрашиваю: ты что, не понравилась или берегла себя? Нет, отвечает, мне никто не понравился. Если б любила, разве берегла себя?.. А мне, слышь, стыдно перед нею — столько баб перебрал после Симочки, думал, какая разница, все равно никогда не женюсь. Я и про это сказал Нюре. Смеется, говорит, догадывалась, что ты не мальчик, да ведь замуж я пошла за мужчину, а мальчика мы с тобой сами родим…»
Поселились они у одинокой матери Нюры, овдовевшей после войны, и к весне следующего года у них родился сын. Потрясающее событие в своей личной, долго неустроенной жизни Алексей Коньков отметил широко, с российско-смоленской удалью, созвал все село, впервые, кажется, крепко напился, играл на гармошке, пел и плясал и на улице, встретив не явившегося в гости директора совхоза Загодайло, поцеловал его, прокричав: «Выше голову, начальник! Новое поколение строителей светлого будущего нарождается!» На что угрюмый и едкий Загодайло ответил: «Не ори, шибко веселящийся, поздравить еще успею, а светлое будущее — не твоя печаль». — «Ты это мне, передовику?» — возмутился Коньков и так выматерил его прилюдно, что можно было ожидать всего — товарищеского суда, общего собрания, пятнадцатисуточной отсидки, однако никто не тронул Конькова, даже директор сторонился его, признавая вроде бы и себя виноватым. А деревня говорила, обсуждала это взбудоражившее ее событие, и чувствовалось, ощущалось каким-то легким, но стойким беспокойством: что-то случится, произойдет… Когда?..
Мы с Алексеем по-прежнему шоферили и работали хорошо, особенно Алексей: соглашался на любые рейсы, ночные, внеочередные, добровольные — лишь бы больше заработать, купить что-нибудь в свой пустой дом, лишь бы его фотография прочно держалась на совхозной доске Почета. Виделись мы уже не так часто, по вечерам он торопился домой, а я к бабке Таисии, где остался квартировать в одиночестве. Понемногу начал кое-что записывать в тетради и блокноты, чем не занимался, что бросил с того времени, как завербовался на Сахалин. И, конечно, за бабкиным медным самоваром вел долгие беседы о ее долгой жизни, удивляясь светлому, памятливому уму бабки Таисии. Однажды она, повздыхав, почмокав кусочком сахара и не запив его чаем, сказала: «Дружку твоему, однако, уезжать надо. Плетется паутинка, опутать может… Поезжайте хоть куда, неласково вам здесь. Тебе все одно — бобыль, у него пока семья малая. Нюрка любит, пойдет за им. Послушайтесь Таисию».
Все это я передал Конькову, предложил выбрать новое место для жительства, переехать. Здесь, мол, сбылись все его желания: женился, напитался овощами, даже породил сына; нельзя брать лишнего, «добрые духи», помогающие ему, отступиться могут как от неблагодарного. Коньков посмеялся, покивал, вроде соглашаясь, мы перечислили несколько соседних и дальних областей, обсудили предполагаемые жилищные и трудовые возможности каждой, и Нюра, кормившая нас обедом, не удивилась этому разговору, не огорчилась, не стала отговаривать мужа (видимо, бабка Таисия провела с нею беседу), но, как часто бывало с неуправляемым Алексеем Коньковым, он вдруг ударил кулаком по столу, вскочил и зашагал по комнате, говоря самому себе: «Нет, никуда не поеду, это трусость, пугать меня будут везде, надо переломить судьбу, надо доказать работой, жизнью, что я не хуже их всех, что я согласен нести вину отца, но другим незачем меня винить, не могу уехать, презирать себя буду, и врагов у меня тут особенно злых нету, за тот случай помирился с Загодайлой, он первый гавкнул на меня, я никого не трогаю, живу где хочу, надо будет — уеду, но пусть меня не выталкивают как прокаженного, все, прекращаю этот разговор». Успокоившись и загрустив немного, он сказал мне, что я могу ехать, и даже обязательно, здесь ничего нового уже не увидишь, а мне необходимо много знать для своих книг, что он согласен расстаться, посоветовал побывать в Якутии, на добыче алмазов, потом, может, и сам приедет с семейством — он ведь тоже бродяга. «Правда, Нюра, будем алмазы добывать? — Она кивнула. — Вот, с такой женой и на дрейфующей льдине можно сто лет прожить!»
Минул еще год. Коньковы жили мирно и дружно, Нюра, как и случается с истинными деревенскими девушками, заранее приготовленными к семье, детям, чуть пополнела, налившись женской уверенной тяжестью, была почти всегда весела, гостеприимна, словно бы хотела со всеми поделиться избытком своей доброты, своего полного счастья. Алексея, теперь бригадира механизаторов, не задевал едкий, обиженный войной Загодайло, явно примирившийся (или для виду?..) с сыном бывшего старосты, хорошим, нужным совхозу механизатором.
И вот Коньков получает повестку: немедленно явиться на Смоленщину, в родную деревню Воргу. Нет, не мать вызывала, не сестра — они звали его в гости, но не очень настойчиво: может, соберешься, приедешь, а если нельзя, то и не надо… Вызывали следственные органы по важному делу. Мы с Нюрой проводили его до Благовещенска, на казенный билет посадили в самолет.
Вернулся он дней через двадцать, рассказал: поймали двух бывших фашистских пособников, судили. На суде они сваливали все на старосту Конькова, говорили, что он скрывается где-то в Южной Америке, а здесь, в деревне Ворге, у него, до случая до времени, припрятано оружие и боеприпасы. Алексея опрашивали как свидетеля: не припомнит ли, где и когда отец мог спрятать оружие? Он, конечно, ничего такого не знал и сам предложил перекопать двор, огород, осмотреть подпол дома и погреб. Перекопали, не нашли, отпустили Алексея.
«Я узнал тех двоих, они действительно у отца подручными были, в основном самогонку поставляли, подлые типы, слизняки. Насчет оружия — придумали, чтоб зацепить больше других, замешать в свое дело… Когда летел, догадывался: по военному делу что-то. Думал: эх, увидеться бы с батькой пойманным, спросить, за какие такие дела ему бежать пришлось. А потом, если того стоит, на «высшую меру» проводить. Мера всему должна быть — жизни и смерти. Пока он живет где-то, если, конечно, живет — ему не жизнь и мне тоже. Я попросил судью дать мне возможность найти отца, куда угодно поеду, десять лет буду искать. Понятно, улыбнулся судья…»
В гараже, на полевых станах Алексей всем и каждому рассказывал о своей поездке в родную деревню, полагая, что скрывать — больше травить любопытных и злобствующих, да и трусливым, а значит, вдвойне виноватым, не хотелось прослыть. И все-таки младший Алешка Коньков вернулся однажды из детсадика с надписью на спине: «Полицейский ребенок». Написано было мелом, явно детской рукой. Самое умное — не обратить внимания, но Нюра расплакалась, Алексей побелел, скрипнул зубами. А когда к калитке их дома прибили дощечку с надписью масляной краской «Фашистский участок», Алексей сорвал ее и пошел в контору. Директор Загодайло, внимательно изучив дощечку, сказал: «Народ тебя не любит, недогадливый сынок бывшего…» — «Ну, ну! Скажи только это слово!» — остановил его Коньков. «Скажу, — спокойно вымолвил хилый, небритый, взъерошенный, злобно резанувший взглядом Загодайло: — Бывшего немецкого зверя старосты». Алексей молча, жестко взял его за вислые плечики, тряхнул, аж головенка зателепалась, и швырнул к стене. Свалив несколько стульев, ударившись о толстую женщину-главбуха, грохнувшись спиной в пустой угол своего кабинета, директор минуту сидел спокойно, будто обдумывая внезапно возникшую, сложную ситуацию, затем неторопливо поднялся, выдвинул ящик стола, положил перед Коньковым лист бумаги и карандаш: «Прошу. Заявление по собственному желанию, если не хочешь, подорванный совестью, суда и следствия».
Коньков написал. Загодайло предупредил: «Чтоб завтра исчез из поселка».
И мы с ним исчезли в областной центр, а там завербовались в Якутию, на добычу алмазов.
Пока прервемся. Тем более что кто-то приближается к двери сторожки, звучно скрипя снегом».
Дверь без стука распахнулась, порог переступил Михаил Гарущенко в распахнутой импортной куртке, норковой шапке, лакированных ботинках на микропорке; шарф петушиной расцветки, галстук голубой, носки зебровые, перчатки замшевые; запахи: свежего мороза, арабских духов, гаванских сигар. Гарущенко тянет тренированную руку бывшего баскетболиста сторожу Минусову, трясет вежливо и чуть иронически его старую ладонь, слегка кланяется.
— Дорогому Максминусу всяческих благ, здоровья, заслуженной старости, философского отношения к жизни, толстовского к смерти: «Чем ближе к смерти, тем мне все лучше и лучше». Сам мечтаю о такой старости и боюсь — не будет у меня такой, даже вашей. Душа требует сатисфакции, тело — мирских удовольствий…
— Садитесь, Михаил. С чем хорошим прибыли?
— К вам с хорошим не прибывают. Миленький Максминус, дайте я поцелую вас, как отца родного, в лоб. И удержите меня от преступления — женитьбы на Катьке Кисловой. Могу не устоять по слабости душевной. Вы обо мне все знаете, даже лучше меня самого: ну какой я муж? Да мне ребеночка стыдно будет на руки взять: нравственно запачкаю на всю жизнь. Я ведь порченый насквозь человек. Нет, не убил пока никого, гроша ломаного не украл. Меня, другое дело, обокрали, может, убили… Помните, я про Марианну Сергеевну вам рассказывал, преподавательницу эстетики. К ней бы я вернулся, к ней хочу вернуться, сейчас бы мы поняли друг друга, сейчас я созрел для нее… Ездил в столицу, нашел ее квартиру, не живет, сказали, а старушка соседка шепнула на ухо: «Засудили Марианну Сергеевну за это… разложение…» Ах, опоздал Мишель Гарущенский! Ведь я же, дорогой Максминус, мог бы ее спасти, я бы из нее человека сделал и себе душу выправил. Я понял, понимаю теперь: ее когда-то обидели до умопомрачения, и она стала такой: зло в людях, решила, все виноваты, незачем кого-либо щадить… Вот кто мне нужен, Марианна Сергеевна, а не Катька Кислова, молоденькая дурочка, полюбившая придуманного мною же Мишеля Гарущенского. Для них, таких вот, придуманного… Да позови меня Марианна Сергеевна — я в тюрьму к ней пойду… Может, мне где-нибудь рядом с нею поселиться, ждать отбытия срока?
— Странно. Вроде преступника тянет на место преступления, к пострадавшему — так, по крайней мере, утверждается в детективных произведениях, — а тут наоборот: пострадавшего тянет к преступнику. Значит, и тот и другой навечно связаны какой-то общей бедой, тайной, они словно бы выделили себя среди людей, преступление равняет, даже в чем-то роднит. Так, что ли?
— Гений вы, мой Максминус! Мыслящая половина человечества не должна забыть вас, а я буду приносить полевые цветы на вашу могилу, если вы умрете раньше меня. Но живите долго, вечно. Гарущенские и прочие Мишели осиротеют без вас. Я ведь пошел не к престарелой маме, а к вам, как на исповедь, за духовной пищей, за советом… Мне нужна Марианна Сергеевна.
— Какой срок ей присудили?
— Шесть лет. Год уже отсидела.
— Вы говорили, она старше вас лет на пять, вам сейчас тридцать восемь, когда она выйдет — будет сорок три, ей сорок восемь. Не пугает вас такая поздняя встреча? И потом — как она к вам отнесется, вдруг не захочет узнать.
— Узнает… Заставлю…
— Тогда совет: дождитесь отпуска и поезжайте к ней на свидание. Свидитесь — и никакие советы вам не понадобятся.
— Правильно. Спасибо. Вы прочитали мои мысли. Может, письмо написать?
— Думаю, не следует. Встреча нужна тет-а-тет. Внезапная.
— Правильно, точно, умно, справедливо. Испуг — чтобы проснуться, всплыть из мрака?..
— Нечто такое.
Гарущенко сел на лежанку, склонился, уперев локти рук в колени, замолчал. Минусов не тревожил его и не двигался, чтобы не нарушить минуты полной, взаимной, целебной тишины. Когда Гарущенко поднялся и молча подал руку, Минусов сказал:
— Не обижай Катю Кислову. Видел ее, понял: любит. Пусть перегорит. Пожалей влюбленного, аки блаженного.
Гарущенко мирно удалился.
Общее собрание
В воскресенье на гаражном дворе собрались члены кооператива «Сигнал» обсудить назревшие вопросы:
1. О дальнейшем отеплении гаражных блоков.
2. Устройство электросигнализации.
3. Об уплате членских взносов.
4. Разное.
Собрались, пришли, выкроили драгоценное время, как обычно, не более половины автолюбителей, в основном, те же, что и всегда. Такое собрание по уставу не правомочно, но еще не удавалось собрать две трети членов кооператива, к этому привыкли, и председатель Журба, предложив избрать рабочий президиум, начал говорить.
— Товарищи… — После этого слова он каждый раз запинался, и Максимилиану Минусову казалось, что Журба едва удерживается, чтобы не прибавить «военнослужащие». — Товарищи, я никогда не привыкну к отсутствию элементарной дисциплины в наших рядах, то есть в нашем добровольном кооперативе. Голосуем, выносим решения, даем честное слово, а потом честно смотрим в глаза председателю и ничего не делаем. Я с большим трудом выписал и завез трубы, батареи отопления, часть товарищей отеплили свои блоки, другие не вносят деньги за установку батарей. Ниже я назову этих товарищей. Другие, не желающие отепляться, обязаны были явиться в прошлое воскресенье и открыть свои гаражи, дать возможность пробить панели и провести трубы. Мы же не можем тянуть трубы по крышам, это и ребенку понятно. Повторяю, с подобным разгильдяйством я сталкиваюсь впервые в жизни. Представьте фронтовую обстановку…
Члены автокооператива внимательно, не перебивая, слушали полковника запаса Журбу. Иногда он незаметно для себя переходил на фронтовые воспоминания, что было гораздо интереснее неразрешимых гаражных дел. Случилось это и сегодня.
— Как бы я пошел с вами в бой, если вас половина?
— Может, другая убита, — сказал нарочито серьезно Рудольф Сергунин.
— Молодой человек, с такой дисциплинкой все были бы убиты, и я с вами.
Засмеялись ловкому ответу Журбы, затуркали Рудольфа, приговаривая:
— Помолчать можешь?
— Дай человеку высказаться.
Журба вдохновенно продолжал:
— Представьте, товарищи, полк. Ну, в роте предположительно около ста человек, в батальоне четыреста, в полку более тысячи. Выстроится полк на плацу, я гляну — и замечу, сколько солдат отсутствует. Хоть одного не будет — замечу, почувствую, определю, где пустое место в шеренгах. Или возьмем фронтовую обстановку…
Великий автолюб мастер Качуров стоит в первом ряду, около него два интернатчика: маленький Вася Багров и длинный Коля Пеночкин. Ребята буквально пожирают глазами седовласого фронтовика, настоящего полковника, впитывают в себя каждое его слово, а Качуров, опустив руки на их узкие плечи, чуть улыбается, находясь в полном благодушии: он рад, что ребятам так интересно, что у него самого все улажено с гаражным кооперативом (он член правления), благополучно на работе, мирно дома. И пусть родные дети уходят в свою личную жизнь, у него есть эти вот, беспризорные, но тоже почти родные; он нужен им, он всегда был нужен людям, знавшим его, а через них и другим, неведомым. Так было, так будет до его последнего дня, и потому его доброта, полное благодушие светятся на лице явно уловимой незатухающей улыбкой.
— Я знал каждого своего солдата. По фамилиям не всех, в лицо — каждого. Иду по Москве однажды, навстречу молоденький солдатик, отдает честь, я его останавливаю, спрашиваю: из девяносто восьмого полка? Так точно, товарищ полковник, отвечает. Сколько служишь? Второй месяц. Я это к чему говорю, товарищи? Нет, не похвалиться своей памятью. В полку я любого солдата мог запомнить, а тут второй год председателем и не всех в глаза видел, со списком общаюсь… Давайте перейдем к следующему вопросу — об электросигнализации. Товарищ Качуров обещал помочь в этом вопросе…
Люди словно очнулись, возникло оживление, начали раздаваться голоса:
— Да на кой она нужна!
— Опять денежки гони…
— Нет, постойте, нужна. На машины денег не пожалели, а по десятке жалко?
— Тут же ночью бродят всякие, к замкам примериваются…
— Это Кошечкин врет все, хочет зарплату себе набавить.
— В других кооперативах давно есть такая сигнализация, и нам пора завести, хуже мы, что ли!
— Зачем тогда сторожа?
— Как зачем? Кто же храпеть будет в сторожке?
— Ну, это грубо. Это оскорбительно. Сами голосовали за сторожей. И кричит кто?.. У него калечный мотоцикл в гараже.
— Я — за! Кто еще, товарищи?
— Я тоже!
Председатель Журба, склонившись, перелистывал и просматривал кооперативные папки и бумаги, что-то отыскивая, и, казалось, не слышал этой перебранки, но вот он выпрямился, вскинув голову в серой высокой папахе, четко выкрикнул:
— Отставить!
Автолюбители разом смолкли, а молодые, как показалось Минусову, даже вздрогнули, припомнив недавнюю службу в армии; да и старички заметно подтянулись, будто в строю, приняв равнение на командира. Фронт, служба не забываются.
Довольный внезапно вырвавшейся командой, дружным подчинением ей, Журба решил, по-видимому, держаться и далее строго; зачитав проектную стоимость электросигнализации, он требовательно обратился к мастеру Качурову:
— Объясните товарищам суть задуманного дела.
Качуров шагнул вперед, вроде бы смутился немного, хотя ему-то, школьному преподавателю, привычна была любая, самая шумная, непослушная аудитория; и, начав говорить, он быстро овладел собой, своим голосом:
— Вот тут со мной ребята, Вася и Коля. Сообразительные ребята. Им я предложил разработать схему сигнализации. Справились. И остроумно. Да, да, не улыбайся, Рудольф Сергунин, сейчас удивляться будешь. Естественно, каждый блок соединим со сторожкой скрытой проводкой, в сторожке установим щит световой на сто шестьдесят сигналов, по количеству блоков. Дальше, самое важное… Вы открываете дверь гаража — и сразу вспыхивает лампочка, дребезжит звонок, а в сторожке зажигается номер вашего блока, если вы не предупредили сторожа… Представьте теперь состояние вора: яркий свет и дребезг звонка, а он не знает, как это все выключается. Простая, дешевая схема. Но есть у ребят и более остроумная: электронно-экранная, без проводов, более современная, конечно. Тут уж гарантия почти на сто процентов. Все у меня, можете задавать вопросы.
— Понятно. А если этот угонщик вдарит по лампочке и звонку?
— Почти наверное ударит, если не сбежит. Но сигнал будет гореть у сторожа.
— Совсем понятно.
— Ну, а проводку же оборвать можно.
— Скрыта будет, я говорил.
— Ну, а…
Журба поднял и резко опустил руку.
— Прекращаю прения. Ставлю на голосование. Кто за электросигнализацию?.. Так. Большинство. Кто против? Раз, два… Семь человек. Внесите в протокол. Вопрос считаю решенным. Переходим к следующему…
Об уплате членских взносов говорили недолго, спорить и вовсе было не о чем: неплательщики собраний не посещали, многие из них еще не приобрели машины, сдавали гаражи внаем, скапливая деньги. Некоторые трудились на Севере и в Сибири, редко наезжая домой, а жены их и знать не хотели каких-то гаражных взносов. Единогласно постановили: особенно злостных предупредить в последний раз и, если не исправятся, исключить из гаражного кооператива «Сигнал».
Потом обсуждали «Разное». Это всегда самая шумная часть собрания, каждому хотелось высказаться, говорили все вместе: о моющих грязные машины у своих блоков, ссыпающих мусор не в положенном месте, «газующих» на гаражном асфальте, как на автотреке, проливающих масло, бензин — что огнеопасно… Журбе едва удалось подчинить своей воле споривших, обвинявших друг друга автолюбителей, дал выступить по очереди, предложил каждый отдельный случай брать на заметку, лично докладывать ему, посоветовал сторожам усилить бдительность, вернее, требовательнее следить за порядком и чистотой в кооперативе.
Минусов не стал заслушивать проект резолюции, направился в сторожку, по пути думая, что никогда никому не удастся создать дружный, сплоченный коллектив из автолюбителей, людей разных профессий, молодых и пожилых, разного образа жизни, противоположных взглядов, интересов. Скажем, Михаилу Гарущенко хочется «газнуть» (не ползти же ему в другой конец гаражного двора по-черепашьи!), а пенсионеру, доктору наук, противно такое лихачество, от которого только пыль поднимается; Рудольф Сергунин, хоть и заработал собственным горбом свои «Жигули-люкс», но пока сам при них, а не они при нем, а Федор Афанасьевич Качуров, как некий технический бог, видит насквозь любой механизм, может подчинить его своей воле и ездит на стареньком, многажды чиненном «Москвиче»; тут и мальчик, с подаренной папой «Ладой», тут и мрачноватый работяга с мотоциклом без коляски (коляска дороговата!), которому хочется побольнее уколоть восторженного, нагловатого мальчика… Вот и примени к ним мудрое изречение Экзюпери: машина (самолет) — средство сближения между людьми. Дальними? Да. Ближними — едва ли.
Вскоре в сторожке появился председатель Журба, сбросил папаху, беспогонную шинель, подсел к столу, разложил бумаги, но тут же, еще не остыв от собрания, заговорил с Минусовым:
— Не пойму я их, Максимилиан Гурьянович. Вроде серьезные люди, почти все служили, должны понимать дисциплину. Себе же во вред устраивают неразбериху. Я устаю. Легче армией, фронтом командовать.
— Вы, извините, слишком к порядку привыкли.
— А как же иначе?
Минусову захотелось порассуждать с полковником запаса о человеческой личности, индивидуальности, возрастной, умственной разнице, о том, что армейская дисциплина хороша лишь в армии, всю нашу жизнь ей не подчинить, напрасные старания, но подумал: не поймет полковник, обидится, оскорбится, ведь для него дисциплина — душа любого дела, — и высказал вдруг пришедшую мысль, как показалось ему, могущую разумно избавить гаражные кооперативы (и иные подобные) от шумной, тягостной неразберихи собраний:
— Надо строить гаражные комплексы сразу, государству, полностью оснащенными, с твердыми уставами пользования и продавать блоки автолюбителям, вернее, автовладельцам (у нас ведь скоро не будет любителей, каждый сядет за руль). Продавать и брать подписку с обещанием точного выполнения порядков гаражного комплекса. Никаких доделок, переделок, никакой самодеятельности строительной — и нужда в собраниях отпадет. Платная администрация сделает все сама. Ведь не созывают же квартиросъемщиков на общие собрания, вовсе необязательно им знать друг друга, спорить, решать что-то. С неплательщиков взыскивает милиция, средства на ремонт накапливаются помесячными взносами. Не правда ли, индустриально, современно? Освободить человека от собраний бестолковых, пусть тратит это время на семью, повышение своего духовного уровня.
Журба внимательно выслушал Минусова, постучал карандашом по столу, помыслил основательно и наконец покачал седовласой головой:
— А как же общение, взаимовлияние, взаимовоспитание?
— Зачем они здесь? Пусть каждый в своем трудовом коллективе…
— Нет. Нельзя упускать ни один участок. А что ЖЭКи не проводят общих собраний жильцов — это плохо. Упущение.
— Какой же зал заседаний нужен, чтобы собрать весь район!
— Представителей.
Больше не говорили. Журба стал приводить в порядок протоколы, решения собраний, наряды, поручительства и прочие бумаги гаражного кооператива «Сигнал», а Минусов, ожидая, пока освободится стол, листал газеты, поглядывая с некоторым удивлением, даже интересом на уверенно спокойного Журбу. И ему думалось: вот она, близка разгадка непоколебимой правильности, здоровья, семейного счастья этого человека… Как изложить ее словами, хотя бы приблизительно, чтобы не упустить главного?.. Можно пока так: армия уберегла его от житейских бед.
— Привет автолюбителю!
— Ответный — авторемонтнику!
Юрка Кудрявцев ловит руку Рудольфа Сергунина, жмет крепко, словно меряется силой, и, не выпуская ее из своей, потемневшей от масла и металла, говорит:
— Вижу — идешь. Узнал. Вижу — разминуться хочешь. Нет, остановлю, думаю, знакомы все-таки. Если торопишься куда — продолжай путь. А то поговорим, по кружечке пивка ради воскресного денька, погодки мартовской, начала таяния снегов, близкого автосезона.
— Не пью.
— Я тоже. Пьет сторож Кошечкин, вон потелепал в сторону родимого дома — пивного бара… И почему наш бар без названия? Даже овощным ларькам присваивают красивые слова: «Ягодка», «Репка», «Чиполлино»… Надо обратиться коллективно в городскую газету — пусть пивбару присвоят имя Кошечкина. Серьезно. Поучительно же будет: полжизни провел Кошечкин над кружкой пива и потерял все здоровье. Будут говорить: пойдем к Кошечкину, значит — хлебнем зелья, убившего человека. Как, хлебнем?
Рудольф Сергунин, скучно оглядывавший прохожих, по-воскресному приодетых, с крикливыми ребятишками, которым надоели детсады и школы, елово-березовую рощу на засиневшем, проржавелом снегу, прыгающих и горланящих грачей у самой мокрой асфальтовой дорожки, наконец обратил свой взгляд на Юрку Кудрявцева уже с некоторым интересом.
— Ты, оказывается, юморист.
— Самоучка. И авторемонтник — самоучка. И в техникуме учусь заочно, самоучкой.
— А других учишь…
— Ты про то… когда машину получал?.. Отделал я тебя, точно. Для форсу частично, сознаюсь. Но и ты, как пишут в романах, оскорбил мои лучшие чувства. В ботиночках лакированных, при галстуке, с десяткой приготовленной. Денди лондонский… А машину мятую пригнал Максминус… У нас же пока рабоче-крестьянские отношения, товарищ Рудольф, с глазу на глаз. А ты как из западноевропейского фильма выскочил. Ну, думаю, проучу я этого нервного работягу.
— Ладно, не будем…
— Согласен.
— По кружке, не больше.
Юрка кивнул твердо и так, словно заранее знал, что Рудольф согласится, не может не согласиться — им же надо хоть как-то дружить, автовладельцу и авторемонтнику, — и, осторожно коснувшись локтя Рудольфа, пропустил его вперед, ибо на парковой дорожке было тесновато от гуляющих родителей, бабушек и детей.
В пивбар они едва протиснулись, а оказавшись внутри коробки из стекла и бетона, очень удивились: в синем табачном дыму и сыром, пропахшем кислым хмелем тумане почти ничего не различалось, четко не проступало; гудели вентиляторы, гудели голоса; пивбар был похож на огромную квадратную кружку, до краев наполненную бурлящим пивом; а люди, голоса, движение — все это где-то за стенками кружки, в другом измерении, иной среде.
Прилепились к хвосту очереди, медленно, упрямо двигавшейся в сторону невидимой кассы, и Рудольф, морщась, сказал:
— Знаешь, я здесь не вытерплю. Возьмем по паре бутылок — и ко мне. Тут недалеко.
— Да, аквариум с болотной водичкой. Ясно, почему не каждый отсюда выплывает.
— Метко подметил. У тебя глаз, Юрка Кудрявцев, мягко выражаясь, въедливый.
— Жизнь суровая.
— По тебе видно: тоже как ферт бродвейский.
— На трудовые…
— Понятно: лапу не тянешь.
— Откуда такие точные сведения?
Они впервые рассмеялись, а потом и расхохотались, взглянув друг на друга. Так и вышли из пивного заведения развеселые, держа в руках по паре бутылок.
Когда проходили широкой, чистой, огороженной мерцающим снегом аллеей, Рудольф Сергунин вздохнул:
— Свинство.
— Точное русское слово, — согласился Юрка Кудрявцев, понимая, о чем речь.
— А можно по-человечески, можно! Надо воздвигнуть еще три таких стекляшки, выпивать это же количество в четырех точках, и не стоя, как сейчас, а за чистенькими столиками, с закуской, под милые улыбочки строгих официанток. И водку не станут протаскивать, и по двадцать четыре кружки не станут набирать — всегда пожалуйста, подадут сколько хочешь, — и на ногах, а не на карачках научатся выходить, и не станет всякая пьянь побираться, вымаливать: «Корешок, пожалей душу пропащую». Повидал я в Сибири разного… Но там ведь стройки, шпаны иной раз хватает. А у нас город подмосковный, научный, технический. Приедет кто, увидит заведение имени Кошечкина, какой науки почерпнет?
— Еще точнее выразился. Я тоже думал. Сколько у нас интеллигенции? Тысячи, да? И никому нету дела: одни не видят, другие мимо проходят. Получается так: нам этот питейный дом не нужен, пусть тонут в нем более низкие существа.
— Именно так. По своему бате, доктору, знаю.
— А сделай, как ты говоришь, с салфеточками, официанточками, улыбочками — пойдут кандидаты и доктора. Окажется, что и пивко они попивают, и куда приятнее посидеть в культурном баре, чем дома, в надоевших четырех стенах… Да кто бы сделал, похлопотал.
— Вот и займешься. Ты же скоро будешь этим, интеллигентом. Диплом техника — колпак на шевелюру, очки на глаза и… кишь с дороги, мелкота!
Опять, еще согласнее, рассмеялись. Потом Рудольф Сергунин, вдруг посерьезнев, указывая на свой кооперативный дом, проговорил:
— Только у меня это… Ирочка…
— Жинка, что ли?
— Не-е…
— Понятно. А рассказывали, будто ты полностью пренебрегаешь женским полом?
Рудольф вздохнул грустно и виновато.
— Ясно: интим. Может, ко мне подвернем? Правда, жилплощадь у меня мини-габаритная: тумбочка и кровать; зато в уголке, уютно.
— Нее.
Они поднялись на четвертый этаж очень чистого подъезда (Юрка замечал и раньше: если дом кооперативный, в подъездах чисто, крашено, не пахнет кошками; и объяснял себе это так: частники берегут свое кровное!), у двери на площадке Рудольф вроде пугливо, смущенно позвонил и предупредительно покашлял. Дверь открылась не сразу, кто-то неумело щелкал замком, бормотал, и наконец в светлом проеме, словно на чистом полотне, четко вырисовалась усохшая старушонка с седыми буклями, в темном длинном платье и веселом кухонном переднике.
Протолкнув вперед Юрку Кудрявцева, Рудольф сказал серьезно и громко:
— Знакомься. Моя Ирочка.
Старушонка, точнее старушка, опрятная, умноглазая, воспитанно вежливая и, как отметил для себя Юрка, наверняка с высшим образованием, подала щуплую, прохладную ладошку, рассмеялась, покачивая головкой:
— Обманул! И этого паренька обманул!.. Ираида Матвеевна. Очень приятно… Не обижайтесь, Юра Кудрявцев, он шутник, Рудька. Зовет меня Ирочкой, вот и обманывает. Старая шутка, пора переменить. Думаю, вы последний поймались, все друзья уже знают.
Прошли в комнату, сели к столу, Рудольф, довольно ухмыляясь, открыл бутылки, наполнил три стакана, а Юрка спросил:
— Родная бабушка?
— Родная.
— Хвалю: разыграл классно, для кинофильма — находка.
Баба Ирочка принесла из кухни копченую скумбрию, сыр, хлеб, без приглашения присела, взяла свой стакан, говоря:
— Пиво же солененьким заедают, слышала. Рудик не пьет, так я и не знаю.
— У вас внук идеальный человек, Ираида Матвеевна, таких надо на ВДНХ показывать, — заговорил Юрка без улыбки, нарочито неторопливо и серьезно, желая хоть немного расквитаться с Рудольфом. — Не пьет, не курит, передовик производства, помогает товарищам, не выслуживается, не обижает женщин, чист морально и физически. А за эти бутылки… — Юрка презрительно скосился на стол, — прошу простить: я его подбил, уговорил ради знакомства. Зато наш аквариум посмотрели, надо же знать жизнь.
— Что вы! Я сама иной раз возьму бутылочку сухого, говорю: давай по стаканчику, Рудик. Один и один, много читает, кино не любит. Вот машину купил — хоть развлечение какое-то.
— Он ее ремонтировал, — сказал Рудольф.
— Вы? Ах, какой мастер! Мне Рудик показал — я не поверила: никакой вмятинки. Подумала: может, и аварии не было? Да уж очень страдал Рудик… Как же вы сумели? Такой молоденький… Этими своими руками? — Баба Ирочка оглядела, потрогала пальчиками темные, тяжеловатые кисти Юркиных рук, будто специально положенные на стол, удивленно покачала седой головкой. — Спасибо вам. Люблю умелых людей, умелый человек — вдвойне человек.
— Мне помогли. Одному не сделать: разделение труда, каждый выполняет свою работу. Ускорил просто, Минусов попросил.
— Вот, опять Минусов. Рудик мне про него говорил, от других слышала. Сторож гаражный. А получается — очень важный человек. Кто он, что он?
— Как вам объяснить, Ираида Матвеевна… Много видел, много знает. Умный, нужный, строгий, мягкий… Мне помог из бродяг выбраться… Чувствую его, а не могу объяснить. Может ты, Рудольф?
— Думал я о нем, биографию немного знаю, целиком не могу ухватить. Это, Ирочка, то, о чем я тебе говорил, вернее, что сказал один классик: человек бывает счастливым лишь в старости, когда ему ничего не надо. Ты была бы счастливая, да я тебя беспокою. Минусов свободен, никому ничего не должен, ни от кого ничего не ждет. Посиживает, наблюдает жизнь, вроде бы мы у него все подопытные, что-то пишет. И помогает любому, помогает, я заметил, даже с любопытством: ну, дорогой, как же ты воспользуешься моей помощью? Но не заикается потом — доволен или нет тобой. И отплатить ему, как всегда оказывается, нечем и невозможно. А самое важное — ощущение его присутствия, хочется лучше, умнее быть… Спрашиваешь иногда себя: что скажет, что подумает Максминус?
— Здоров, точно! — Юрка Кудрявцев положил ладонь на плечо Рудольфа. — Непонятный и нужный. И понимать его не нужно, пусть будет такой.
— Интересно, — задумчиво вымолвила баба Ирочка и, сказав, что надо кое-что приготовить поесть, удалилась на кухню.
Они выпили за Максминуса, пожевали скумбрии. Потом молчали, слегка захмелев. Юрка в какой уже раз рассматривал дорогую мебель, ковер, палас во весь пол, тяжелые книжные полки на глухой стене, хрусталь в серванте, цветной телевизор, пейзаж акварельный, явно из дорогого художественного салона; виднелась и кухонная утварь — белая, сияющая. Квартира была загромождена вещами, они уверенно занимали свои места, уверенно, но разумно, и не угнетали, однако и не скромничали особенно, как бы немо заявляя: мы здесь наравне с хозяином.
— Все твое? — спросил Юрка, обведя глазами комнату.
— Да.
— Зачем так много?
— Люблю вещи.
— Ясно, почему психовал, когда машину разбил.
— Вещи — труд человека, надо их уважать.
— Тебе жениться надо. Может, живую вещь зауважаешь… — Юрка поспешно улыбнулся, подумав, что обидел Рудольфа грубоватыми словами, но тот, ответно улыбнувшись, кивнул ему снисходительно.
— Женюсь. И не как ты или другой — после танцулек, поцелуйчиков в подъездах. Выберу для жизни, а не для драк и выяснений: кто умнее? И не сам буду выбирать, сам всегда самого себя обманешь — потянет на стандарт, ширпотреб. — Он повернулся в сторону кухни, крикнул: — Баба Ирочка, как насчет невесты?
— Есть на примете, Рудик. Присмотрюсь, скажу тебе.
— Вот, Ирочка мне выберет.
— Ты серьезно?
— И очень даже.
— Как это все будет проделано?
— По старинке. Ирочка подыщет мне невесту — можешь поверить, она знает меня и знает, кто мне подойдет, — устроит смотрины, познакомимся, поговорим. Потом помолвка, если понравимся друг дружке, через несколько месяцев — обручение и свадьба.
— В церковь не пойдешь?
— Сходил бы, да неверующий. Впрочем, если невеста пожелает…
— Нет, нет! — выглянула из кухни бабуся Ирочка. — Без крайних отклонений. Не старайся поразить, Рудик, и так твой дружок удивлен до крайности!
— Пусть удивляется. А только я не хочу по-современному: снюхаются на вечеринке под винцо, наспятся, натаскаются, нагрызутся, а потом в загс идут. Им пора разводиться, а они расписываются. Ну и жизнь начинается, сам небось видел. Она морду в одну сторону, он — в другую. Дитенок, если такой появился, — дворовая шпана. Может, грубо выразился, зато прямо, не юля: да, такое случается, бывает. Понимаю, не все такие, есть и хорошие ребята… Дело в сути, а суть вот она: хватаем, берем все западное без разбору — моды, музыку, легкие отношения: «Хэллоу, бэби!», «Привет, старушка!» — но не понимаем их образа жизни, не знает наш мальчик, женившийся в семнадцать, что английский его сверстник женится лишь в тридцать, когда будет иметь надежную работу, жилье, когда без оглядки на предков сможет прокормить семью… Ведь и у нас раньше так было.
— Понятна теперь твоя философия. — Юрка Кудрявцев уже не улыбался, ему было интересно слышать все это, по крайней мере, ново, да и Рудольф говорил очень серьезно и наверняка то, что много раз обдумал; одно смущало Юрку, внушенное ему, всегда казавшееся самым важным в отношениях между мужчиной и женщиной, и он спросил: — А любовь?..
— Знал: вспомнишь про любовь. Есть любовь. Я люблю бабу Ирочку, она меня. Можно любить родителей, уважать и даже любить учителя, друга. Можно и женщину — чисто, мечтательно, не прикасаясь к ней, как могли любить рыцари, поэты. Но нельзя такой любовью любить того, кто тебе рожает детей. Не пугайся, никакого кощунства! Просто для семьи, детей, жены и матери эта любовь, нечто отвлеченное, всегда хрупкое, ненадежное, мало сказать не нужна — оскорбительна. Семья — труд, священный долг, жизнь и смерть человека. Так зачем же ее принижать до какой-то, по сию пору никому не понятной любви? Ведь и в художественных произведениях пишут не о любви, а о влечении и ревности, выдавая их за любовь. А это — совсем иные чувства, ревнует и петух курицу, дерется насмерть.
— Да, тебе бы лекции читать.
— Не разрешат с начальным высшим.
— Другого бы слушать не стал. Ты — в точности живешь по своей философии. Как говорят, претворяешь в жизнь. Квартира, вещи, машина — все своими руками, горбом. Теперь жену привести можно, есть куда, к кому. Интересно. Я ведь приблизительно тоже так думал: сначала на ноги надо крепче встать. Но ты совсем рационально. Очень интересно, как у тебя получится с семьей?
— Хорошо получится, увидишь. Правда, Ирочка?
— Раньше ведь жили без этой любви… и любили.
— Вот, слышал? Без любви надо любить. Иными словами: человек может быть выше любых своих чувствований, если придет к своей истинной сути. Человек же он!
— Выпьем за человека, — сказал Юрка, выцеживая из бутылок пиво.
— Давай. Потому что жить и жениться имеет право только человек — разумное существо.
Баба Ирочка расставила тарелки, принесла хлеб, кастрюлю с борщом, Юрка хотел отказаться, но из-под крышки хлынул такой духовитый пар, живо напомнивший деревенское детство, что он покорно опустился на стул и пододвинул к кастрюле тарелку. Обедали долго и по-воскресному сытно, Юрка разомлел, помягчел от домашней еды, тепла, уюта, и дорогая мебель, удобные вещи, книги, ковры уже не казались ему лишними, роскошью, он уже сам хотел всего этого, в сущности, необходимого для человеческой жизни, ничуть не стыдного. А Рудольф негромко и не спеша рассказывал о Сибири, Красноярской ГЭС, где хотел остаться навсегда, но вернулся к бабе Ирочке, без которой ему было одиноко, а ее, такую хилую, везти на Енисей не решился, рискованно; рассказал и о лысом типе, помявшем ему машину: как ходил к нему, как узнал, что он катался с любовницей; под конец заговорил хмуро и возмущенно:
— Ненавижу жуков. Пролазят, приспосабливаются, жужжат. Лакированные, фрачные. Какая от них наука, работа? Грешить — втихую, гадить — втихую. Давить нижеползающих, дрожать перед вышелетающими… Вот и родичи мои желали сделать из меня жука. Жука науки. Не удалось — оскорбились, удивляются, как это я до сих пор в работягах не спился. Концепция рушится. Будто сами из потомственных дворян… Ты удивляешься моей грубой рациональности. А если бы они женили меня в двадцать лет на дочке своих друзей — это как, не рационально, любовно?.. И жить бы пришлось на их полусотенные и сотенные бумажки, как и привычно многим молодым теперь. Выбились в люди и сынка хотели вытащить. Не в люди — к престижному стандарту. Оттого и не подумали, что сынок тоже человек: ему необходимо самому выбиться, а не в жуки пролезть…
Запись в тетрадь
«Рудольф Сергунин «женился по расчету». Взял девушку из деревни и свадьбу играл на старый манер: с обручением, гармонистами, но без церкви и автомобилей. Любопытно: как пойдет жизнь у этого «старообрядца» времени технической революции?
И еще одним событием запомнится мне нынешний холодный и слякотный апрель. Прошлой ночью я изловил «мертвую тень». Действительно, тень, но не мертвая…
Было так. Заступил на дежурство и сидел в сторожке до полуночи — теперь у нас электросигнализация, легче стало дежурить, — сидел, листал записные книжки и вдруг — как толчок мне изнутри: надо пройтись по внутреннему двору! Вроде послышался шорох, стук… Вышел, сразу включил прожектор. С середины двора тенью метнулся к стене и затаился человек. Я смекнул: он меня не видит, потому что стою позади светового луча; на прожектор не пойдет, значит, надо караулить его у запасных ворот.
Так и сделал. Быстро прошел вдоль наружной стены гаражей, затаился у неширокой щели между створками глухих железных ворот. Мне хорошо был виден освещенный двор, и скоро я заметил человека. Он, не дождавшись нападения, решил, по-видимому, что свет включен просто так, на всякий случай, и, выбрав блок № 84, с крупным амбарным замком зеленой дверью (в нем стояла новенькая «Волга»), начал совершать странные движения, напоминавшие немой танец или некие ритуальные жесты: отступал на шаг-два, прижимал правую руку к груди, затем вытягивал ее вперед, касался замка и широко распахивал руки, будто что-то хотел обнять, показать, отворить… Человек проделал это несколько раз — с той же последовательностью, заученно. И наконец я понял: да он же разыгрывает сцену отмыкания и открытия двери гаража! Неторопливо, уверенно, по-хозяйски. У него в руках — ни отмычек, ни какого-либо иного инструмента, он мысленно, для себя, испытывая, вероятно, от этого удовольствие, изображает отмыкание, распахивание ворот, за которыми прячется новенький автомобиль. Лунатик? Больной человек? Или все-таки вор, присматривающийся к гаражным блокам, снимающий мерки с замков, пробующий двери?.. В любом случае надо его поймать. Но как?
Я нащупал обломок кирпича и швырнул его так, чтобы ударился он в асфальт двора позади человека, со стороны прожекторного света. Расчет мой удался: человек замер на мгновение, потом, согнувшись, бросился к запасным воротам. И тут произошло нечто самое неожиданное: скрипнул нижний железный лист ворот, чуть подался, и в неширокую дыру легко выскользнул маленький, сутулый, тощий человек. Я схватил его за ворот легонького, заношенного пальтишка, да так, что затрещали швы, и зачем-то крикнул:
— Стой! Не убежишь!
— Я никуда, никуда… — застонал, затрясся человек. — Никуда… Не бейте меня, товарищ…
— Ишь, товарищ нашелся! Ну-ка, пошли! — не мог я успокоиться, хотя и понял уже: держу совершенно беззащитное существо; застыдился чуточку, однако настороженность, недоверие все еще сжимали мою руку на вороте хилой одежки человека.
— Пойду… отпустите только… дышать не могу…
Это вразумило меня. В самом деле, ведь и задушить могу: как Гулливер лилипута. Отпустил, повел впереди себя. Он послушно переступил порог сторожки, я указал ему на табуретку, он сел и, с жутким страхом зыркнув в мою сторону, разрыдался.
Я разглядел наконец «мертвую тень», автоугонщика, так называемого вора-рецидивиста. Передо мной трясся, всхлипывал, протяжно подвывая, изможденный, с пепельно-серым лицом, в заношенной солдатской ушанке лет сорока мужчина. Жалок он был невероятно, до сердечной боли, и я ходил по сторожке, не пытаясь успокоить его, понимая, что это мне не удастся, и наговаривал себе нечто такое: «Черт ее побери, жизнь! Седьмой десяток живу и всего еще не перевидел, не научился вести себя, понимать, угадывать… Напал как зверь, перепугал до смерти… И это я, мыслящий, умудренный, уважаемый…»
Догадался сесть, успокоился сам немного. Надо было что-то предпринимать. Позвонить в милицию? Но какой же этот человек вор? Он и комара едва ли сможет прибить. Расспросить, где живет, отвести домой? А если не пойдет, сбежит в каком-нибудь темном переулке… Личность-то не мешало бы выяснить, хоть видно — больной, психически расстроенный человек. И я прямо и твердо спросил, как-то вдруг, по наитию:
— Куда позвонить?
Человек мгновенно затих, довольно внятно ответил:
— В психбольницу. Скажите: Иваньковский.
Минут через двадцать у сторожки прозвучал сигнал «скорой помощи», я распахнул дверь — вошла крупная пожилая женщина в белом халате; не поздоровавшись, по привычке всех разъездных врачей, она грубовато и деланно ласково сказала Иваньковскому:
— Попался, голубчик.
— Попался, — уныло и спокойно ответил тот.
— И наплакался уже?
— Наплакался.
Как бы впервые заметив меня, женщина нехотя, по обязанности, проговорила вполголоса, повернувшись спиной к Иваньковскому:
— Наш. Больной. Свихнулся на машинах… Копил деньги, экономил, недоедал, жена с ребенком ушла; а когда скопил и купил — в первую же ночь угнали от дома новенький «Запорожец», два хулигана-недоростка, угнали, разбили… Показали ему потом смятую железку — не выдержал, свихнулся… Ищет теперь свою машину… А то вообразит из себя автовладельца, выберет чужой красивый гараж, пантомиму перед ним разыгрывает. Видели, наверно… Так что правильно позвонили — наш клиент.
— Он сам сказал.
— Понимает, все понимает. И не опасный совсем. Иногда вовсе здраво рассуждает. А вылечить пока не можем… Пошли, Иваньковский.
Он послушно, спасенно-радостно вскочил, бочком, виновато скользнул мимо меня, и «скорая помощь» увезла его.
О нем, Иваньковском, я узнал кое-что после. Живет один, получает небольшую пенсию и опять копит деньги на машину, еще более одержимо: считает медяки, гривенники. Порой, совсем отощав, сам звонит в больницу и просит взять его. Звонит, потому что хочет прокатиться на машине. За ним приезжают, он просится в кабину к шоферу, и если ему это удается, — нет более счастливого человека на всей планете.
А я точно взял его себе на совесть: не могу забыть той ночи, своей жесткой руки, его рыдания, дрожи и слов: «Не бейте меня, товарищ…»
Однако хватит об этом. Записал — и теперь легче станет, должно стать легче. Я заметил: оставленное на бумаге облегчает душу, будто уже поделился с многими, понимающими меня, своими болями, думами.
Пора продолжить повествование об Алексее Конькове. Мы остановились…»
Так, звонок — кому-то понадобился Максминус. Придется еще раз остановиться.
Минусов прошел к телефону, поднял трубку. В квартиру словно бы ворвался, едва не сбив его с ног, растрепанный и перевозбужденный Кошечкин.
— Трагедь! — закричал он. — Трагедь!.. Беги в гаражи! Горим! Горит! Машина горит!..
Катя Кислова, не раздеваясь, пробежала в свою комнату, чтобы мать не разглядела ее, — должно быть, жуткую, с зареванными глазами, размазанной краской, дрожащую, всхлипывающую, кусающую губы, — защелкнула дверь, сбросила пальто, шапочку и упала лицом вниз на свою узкую, поролоновую кровать. «Все! Все! — стучало у нее в висках, стучало сердце. — Все! Он меня выгнал! Как собаку надоевшую! Сказал: «Уходи!» И как сказал!»
Она пришла к нему после работы, пришла, не позвонив заранее, опасаясь, что он уйдет куда-нибудь или закроется, не впустит ее, и томилась несколько минут у двери, пока он нарочито — конечно, нарочито! — расхаживал по комнате, будто переодевался, напевая: «Хотел бы в единое слово я слить свою грусть и печаль…» — и выкрикивал: «Сейчас, сейчас!» Она позвонила еще раз, и тогда, через минуту, не меньше, ее впустили. Но как! Мишель в махровом турецком халате — купил на одесском «толчке» — по-азиатски низко поклонился, не разгибаясь, прижав одну руку к сердцу, другую вытянув в сторону комнаты, сказал вроде бы с почтением и испугом:
— Прошу, моя госпожа.
Кате не понравился, сразу не понравился актерствующий Мишель: было ясно — он что-то задумал, на что-то решился, и все-таки у нее кольнуло в груди: вдруг он обнимет ее и скажет, что согласен… Но Мишель продолжал заранее приготовленное представление, нежно усадил Катю за стол, открыл бутылку коньяку — этого он никогда не делал, пил лишь марочное вино, да и то очень редко! — налил две полные рюмки, улыбнулся, мило улыбнулся, предложил выпить до дна; она чуть помедлила, хотела спросить, за что пьют, и увидела его взгляд — зло сплющенный, почти пьяный, — хотела в страхе отставить рюмку, но тут же вздрогнула, сжалась от крика:
— Пей, собака! А то бутылку расколю о твой черепок!
Катя выпила и не почувствовала горечи коньяка. Мишель налил еще, приказал:
— Глотай!
После третьей рюмки Мишель Гарущенский немного успокоился, а Катя, вовсе не ощутив опьянения, попросила налить ей еще, на что Мишель только сморщенно усмехнулся и заговорил:
— Знаешь, чем ты все-таки отличаешься от собаки?.. Качаешь головкой невинно, не знаешь… Слушай, запоминай. Собаку, если она осточертела, гадит в квартире, можно сдать на живодерню, там вонючую тварь пустят в дело, произведут из нее хотя бы кусок хозяйственного мыла, полезный, нужный человечеству. Тебя же я не могу сдать на живодерню, не гуманно считается, не примут. Роковое несоответствие! Значит, тебя надо убить. И я бы уже убил тебя. Расстрела мне не присудят, сжалятся судьи: до зверства довела милая дамочка. Но почему я должен сидеть десять — пятнадцать лет? Из-за кого?… Глянь в окно. Трава зеленеет, грачи орут… Я люблю лето, свободу, простор!.. Я хочу вернуться к той, моей первой женщине, она, только она знает, кто я, как мне жить. Пусть она возьмет меня или прогонит, как собаку. Я все снесу, мне надо просто увидеть ее. Увижу — и все пойму! А ты… ты пошла вон! С тобой я тупею, теряю волю, мельчаю, превращаюсь в амебу!
Он вскочил, забегал по комнате, путаясь в длинных тяжелых полах халата, потом плюхнулся на диван, откинул голову, закрыл глаза и завыл длинно и бессмысленно, но, словно опомнившись, начал напевать, не разжимая губ, романс «Хотел бы в единое слово…» Катя осторожно села на край дивана, придвинулась, прижалась к Мишелю, взяла его руку, стала целовать, немо рыдая; она думала, надеялась, что все сойдет как всегда: после громких, яростных слов Мишель слабеет, будто теряет ясное сознание, и надо прижаться к нему, дать ему ощутить себя рядом; ее тепло, ее любовь снова пробудят его, ему захочется жить, он пожелает ее, Катю, — ведь она нравится, нравится ему как женщина! — и успокоится, и перестанет прогонять: он джентльмен, он говорит: «Кто после этого прогоняет женщину, тот скотина». Катя побудет с ним, приготовит какую-нибудь еду, сходит для него в магазин, если прикажет, и уйдет, уйдет и станет ждать, пока хватит у нее терпения… А потом, когда-нибудь потом, все решится само собой, нужно только ждать, терпеть, у них много дней впереди… Катя теснее припадает к Мишелю, плачет и стонет, в забытьи подпевая ему, «и бросить то слово на ветер…» Ей уже чудится — вот сейчас, в следующую минуту Мишель обнимет ее, его руки станут горячими и нежными, она шепчет ему: «Ну, Мишель, ну же…» И от сильного толчка летит к столу, валит стулья, грохается спиной в кухонную переборку, оглушенная, ссовывается на пол.
Какое-то время Катя ничего не видела, ничего не слышала — ждала, сжавшись, удара сверху, в голову, «в черепок», бутылкой… Почему-то бутылкой… Ну да, он же обещал бутылкой… Наконец она шевельнулась — руки и ноги были целы, лишь немного ныла спина. Она приоткрыла глаза: бутылка, разлив коньяк, валялась под столом, блестело стекло разбитых рюмок. И было тихо, Катя повела взглядом в сторону дивана, чуть вскинула голову и… зажмурилась от выпуклого, влажного, заледенело спокойного — так ей показалось, — упорного, дикого взора Мишеля Гарущенского. Она поняла: удара не будет. Это бы хорошо — просто удар. Будет нечто худшее. И оно произошло: Мишель, нет, не Мишель, кто-то совсем другой, почти незнакомый, чуждо неведомый, вселившийся в тело, оболочку Мишеля, произнес вразумительно, ясно и негромко одно слово:
— Уходи.
Катя встала, оделась и ушла. Она подчинилась этому слову — оно было то, единственное, последнее… Она не пугалась угроз, не боялась смерти, ее не страшили любые унижения — унизить можно лишь того, кто боится унижений, — ее сразило это слово, она поняла наконец его, точно раньше оно произносилось на каком-то неизвестном ей языке.
И теперь, лежа ничком на кровати, в комнате, где она выросла, прожила все свои девятнадцать лет, куда не входил ни один мужчина, кроме школьных друзей-мальчишек, Катя Кислова, такая удачливая, всеми любимая, такая отчаянная, всезнающая и способная, не поступившая в институт из-за жажды свободы — опять кабала, книги, отдохну немного! — она, эта Катя Кислова, теперь, сейчас, в горячке, почти в безумии выстукивала своим сердцем одно слово: «Уходи!.. Уходи!..»
В дверь осторожно потуркалась мать, Катя не отозвалась, не могла отозваться: будут расспросы, охи, ахи, таблетки, ласковые слова. Она не умела жаловаться, выплакивать свои горести на маминой груди, когда ее обижали школьные подруги или в дневнике появлялась несправедливая двойка; она не стала говорить с матерью, узнавшей о связи между нею и завлабом, доктором-математиком, считая это своей личной, неприкосновенной жизнью. Чем же могла помочь ей родная мама сейчас?
О завлабе она, пожалуй, зря не поговорила с мамой, наивной и строгой: «Признавайся, у тебя очень серьезно с ним?» Она рассмеялась и ушла на свидание с дедом, как называла его, а могла бы сказать маме: «Что ты! Просто легкая связь. Он милый, интеллигентный, прелестно ухаживает, седой, многоопытный, мне интересно с ним. Не бойся, не выйду за него замуж, не развалю семью, отпущу умирать рядом с законной супругой». Зря не призналась, не успокоила. Потому что не знала, не думала, что придется пережить такое, о чем она, даже умирая, не сможет сказать.
Мишелю призналась, Мишелю рассказала и про своего первого спортивного дурачка Шохина, от него она ничего не таила, испытывая боль, стыд и мучительное наслаждение в признании, покаянии, унижении: пусть выматерит, поколотит, но простит, кающихся прощают. Шохина он сразу позабыл, а завлаба часто вспоминал, вроде бы ревнуя: «Вернись к своему деду, утешь на пороге пенсионных лет». Она уверяла, что не нужен ей дед, ну как тот попутчик, с которым едешь в одном купе, потом расстанешься и навсегда забудешь. И прибавляла: «Он меня не трогает, он понимает — стал для меня ничем. У меня к твоей машине больше чувства, чем к нему».
Да, машина… Катя вспомнила о «Жигулях» под счастливым, четным номером «22-66», машине Михаила Гарущенко, ее Мишеля. Прошлым августом белые «Жигули» прикатили их в Ялту, к морю, бархатному теплу, к чайкам, пароходам, музыке в южных пальмовых, щедро пахнущих цветами парках, к любви, вину, бессонным, сумасшедшим ночам, сладкой обморочной усталости, долгим купаниям, пляжной немоте и суматохе и любви, любви — до потери сознания, яви, до полного растворения, умирания в чувственности, испытанной Катей Кисловой впервые, пробужденной Мишелем, словно бы вдохнувшим в ее спокойное, дремавшее тело истинную, горячую и вдохновенную жизнь. Он не понимает, не догадывается, как много сделал для нее! Он говорит, что она живет только в постели, но до него она совсем не понимала постели, могла быть с мужчиной потому, что за ней ухаживают, в ней нуждаются. Она оживилась, ожила для Мишеля и умрет навсегда, если он бросит ее… А умереть — быть снова бесчувственным телом — страшно. Она понимает теперь, отчего кончают с собой. Но это крайнее, самое последнее. Она еще не готова к этому… У нее есть что-то маленькое, теплится в груди, спасительное. Она пока не знает, не может это что-то назвать словом, но чувствует… да, да, он сказал: «Глянь в окно. Трава зеленеет, грачи орут…» Мишель уедет снова на юг, его увезет машина одного или с кем-то… Надо не пустить, задержать! Надо ему доказать, внушить, что без нее у него никогда не будет юга… Как?
Так и не раздевшись, Катя забылась на час или два в мертвом сне, который вдруг оборвался четким видением огня или пожара — что-то пылало вдалеке, люди смотрели, радовались, ребятишки плясали. Катя спрашивала, отчего огонь, что горит — ей не отвечали и улыбались. Она тоже стала радоваться: горит нехорошее, ненужное… Огонь погас, и с той стороны явился Мишель, сказал: «Это не огонь — мое очередное оформление, живая реклама». Он предложил Кате сесть в «Жигули», почему-то красные («Перекрасил!» — подумала), но не успела она открыть дверцу — обдал ее пылью и укатил… Тут Катя догадалась, что видится ей сон, шевельнулась, чтобы совсем очнуться, открыла глаза.
Была ночь. Уличный фонарь желто освещал уголок окна, комната напоминала абстрактную картину с искаженными, смутными предметами, слабо имитирующими самих себя и еще что-то, некогда виденное или приснившееся; не предметы даже, а некий желто-серый материал, из которого они начали лепиться, да так и замерли навсегда незавершенными. На руке остро тикали часы. Катя глянула: было три часа ночи.
Она поднялась, сняла туфли с занемевших ног, принялась неслышно ходить по коврику, ощущая, как почти свернувшаяся кровь разогревается в ней, и уже легче ходить, думать. Но образы, мысли возникали и терялись, не слушаясь ее воли, она не могла их упорядочить и сравнила себя с пьяным человеком на раскисшей дороге: поднимется — шагнет — упадет. И снова…
Когда она «поднималась» — думала о матери и отце, особенно об отце, жалела его так, что ее сухие, до злости наплаканные глаза заливались быстрыми, горячими слезинками: ведь он, отец, ничего не знает про свою дочь Катю, он работал, работает, ходил в экспедиции, защищал диссертацию, на гидрологическом судне побывал во многих странах, завалил квартиру раковинами, кораллами, дорогими сувенирами, дарил любимой дочке заграничные тряпки, так и называя их — «тряпки», не жалел денег на ее турпоездки, книги, велосипеды, не огорчился, когда она не стала поступать в институт — «успеется, какие наши годы!» — мол, ты молода, да и мы с матерью не старые, — и не знал, не хотел, а может, боялся, знать ее личную, девчоночью, женскую жизнь, говоря: «Мать у нас умная, сами разберетесь». Но оказалось — с матерью нечего «разбирать», она просто все понимающая, обычная, беспомощная мать, да и кто теперь с ними откровенничает, советуется — не модно! Отцу же рассказать о завлабе, которому тоже пятьдесят, Мишеле — сделать несчастным на все оставшиеся ему годы, прежде времени уложить в гроб… Вот какое благо иной раз незнание и молчание.
Она дрянь, ничтожество! Это так. Но она не хотела зла ни матери, ни отцу. Ей казалось, что она — есть она, отдельная, обособленная, и может распоряжаться собой как захочется, как ей нравится. Это не должно кого-либо тревожить, расстраивать: ее пустили в мир жить, узнавать хорошее и плохое. Ведь не лучше, совсем не лучше жить по указке родителей, выйти замуж за выбранного ими жениха. О, она знает, видела — бесятся потом, изменяют мужьям бывшие послушные девочки: будто в отместку папам и мамам, в награду себе, обиженным. Им прощается, их оправдывают. А вся их вина лишь в том, что хочется погулять, побыть просто женщиной, так они и говорят. Она презирала, ненавидела этих дамочек, откормленных, приодетых мужьями. И знала, знает сейчас: пусть она дрянь, ничтожество, но выйдет замуж сама, по любви, и не станет изменять мужу, будет любить детей. Если б мог понять это папа, если б можно было ему объяснить, что ее никто не обманул, не обманывал, она сама выбрала Шохина и прогнала его (по сей день он пишет ей из физкультурного института, просит встреч, свиданий), она сама сблизилась с завлабом и спокойно рассталась с ним, сказав: «Все, милый дед, оставим себе на память наши нежные отношения», когда познакомила ее с Мишелем Жанка Синицина, бывшая подружка его дружка… Познакомила, посоветовала скатать на юг, очистить карман самонадеянного старичка. Жанка не поняла, не увидела Мишеля, говорила и говорит о нем только плохое, но не такой он, нет, Катя это знает.
Она снова легла, накрыла ноги шерстяным пледом и решила уснуть. Уснуть, уснуть, а завтра все станет простым, понятным, днем светлее голова, и Катя сообразит: как, зачем, для чего жить ей дальше. Однако сердце не утихало, голову жгла одна мысль: «Мишель!..» Нет, его никто не знает! Он добрый, ласковый, талантливый. Он умный и нежный. Его никто не любил, и он обозлился на всех, презирает женщин из-за той, первой, чем-то обидевшей его… Он оживает, когда берет в руки кисть, делается бледным, вдохновенным, на него радостно и жутковато смотреть в такие минуты… Как он оформил, расписал клуб колхоза «Заря коммунизма»! Ему бы в Москве работать, быть декоратором в лучшем театре!.. Он и писать может, особенно портреты. Штрих, линия, подтушевка — и точное лицо. Здесь в столе — пачка ее портретов, выпрошенных у него. А сколько он изорвал? Набросает — и в клочки. Будто ему противно видеть свою работу. Он — художник, потерявший себя. Его надо спасти! Его надо так полюбить, чтобы он испугался, очнулся, увидел мир другими глазами. И она, Катя Кислова, сделает это для Мишеля Гарущенко! Только не пустить, не отпустить его от себя, не дать ему уехать… Уедет — и навсегда останется теперешним бродягой Мишелем…
Под утро Катя забылась глубоко, беспамятно. Проснулась, глянула на часы — было около десяти. Прошлась босиком, размялась, увидела себя в зеркале: лицо серое, измученное, но спокойное. Такое лицо ей понравилось, она еще более успокоилась, отерла его ваткой, смоченной лосьоном, не стала подкрашиваться. Оделась, обмотала шею шарфиком, надвинула на глаза меховую шапку с козырьком и лишь после этого, минуту помедлив, осторожно просунула ладонь в правый карман пальто; опускала вздрагивающие пальцы так, точно их могло ужалить заползшее в карман ядовитое насекомое; когда кончики пальцев коснулись прохладного металла. Катя, затаившая дыхание, вдохнула в себя сразу и много воздуха, вдохнула и вынула на ладони связку ключей. Да, это были ключи Михаила Гарущенко — от гаража, дверцы машины, мотора, — она взяла их вчера, в прихожей, на туалетном столике, уходя после страшного слова «Уходи!». Взяла, не сознавая, зачем, по какому праву; взять — значит не совсем уйти?.. Или вернуться и отдать?.. Или вынудить прийти к ней?.. Катя не ответила бы себе тогда, не сможет ответить сейчас.
Зато она точно знает: ей нужны ключи. Она пойдет с ними в гараж.
Квартира была пуста, мать ушла в свой утренний обход магазинов, отец на службу, Катя сварила и выпила чашку жгучего кофе, постояла у трюмо, не разглядывая себя, а глубже успокаиваясь, и твердо, в меру озабоченно, как не очень спешащая на службу работница, вышла в апрельский, свежий, зеленеющий первой травкой город.
До гаражного кооператива «Сигнал» не больше двадцати минут хорошего шага, но Катя подождала автобус, подъехала, чтобы не встретиться с матерью, разговорчивыми знакомыми; сошла у березовой рощицы, за которой длинной бетонной стеной серели гаражные блоки.
Глянула в окно сторожки — Кошечкин, накрывшись полушубком, дремал. Хорошо, не будет свидетеля, не надо и объяснять, зачем ей понадобился гараж Гарущенко. Внутри двора лишь три автолюбителя обхаживали свои машины — рабочий день, утро, пустое время в кооперативе «Сигнал», — отомкнула дверь, распахнула створки, вспыхнувшую лампочку и задребезжавший звонок сигнализации мгновенно выключила — знала точное расположение кнопок; затем открыла левую дверцу машины, дернула рычаг капота, подняла его, накинула клемму на контакт аккумулятора, подкачала ручным насосом бензин; опустила капот, села за руль, повернула ключи зажигания; мотор взревел сразу — машина стояла в тепле, аккумулятор был подзаряжен, зажигание четко отрегулировано (Гарущенко любил свои «Жигули»!); прогревая мотор, спокойно, рассудительно думала: «Вариант первый. Выехать на шоссе и врезаться в грузовик или лучше в бетонное ограждение: ни меня, ни машины. Но как? При выезде из города — пост ГАИ, вожу плохо, заметят, остановят… Да и не то, это не совсем то, чего мне хочется. Не хочу или не совсем еще хочу гибнуть… Вариант второй. Побить, поколотить машину, издолбить монтиркой кузов. Пусть рыдает над своей возлюбленной Мишель, чинит ее пол-лета… И опять не то. Припишут мелкое хулиганство, судить будут, а Гарущенко навеки возненавидит меня. Надо другое, не скандальное — трагическое. Взрыв, сотрясение… Вариант третий. Вывести машину на пустырь и… Да, только это! Я этого хотела! Я шла сюда, чтобы сделать это! Я ночью видела огонь!..»
У стены стояла зеленая канистра, Катя приподняла ее — канистра была доверху налита бензином («Мишель запасливый!»), — проволокла ее к багажнику, двумя руками подняла, перевалила через бортик; села за руль, включила первую скорость, осторожно выкатила машину из гаража; закрыла и замкнула дверь; выехала за шлагбаум, свернула вправо и, выбирая сухие проходы среди ольховых кустов, вывела машину на широкий пустырь между гаражной стеной и березовой рощей; заглушила мотор, открыла капот, вынула из багажника канистру.
Минуту помедлила, слушая суетливое, радостное пение синиц в березовых, чуть зазеленевших ветвях, вдохнула шумящий ветерком воздух, напитанный теплой прелью и острой прохладой набухших почек, вспомнила: забыла взять дома спички. Пошла к сторожке.
Кошечкин еще дремал под истерзанным в клочья полушубком, вскинул головенку, показавшуюся Кате таким же овчинным клочком, осклабился вежливо, сунул ей спички, пролепетав сонно:
— На прогулочку, значит, с Мишелем? Счастливой дорожки, молодые-красивые.
Теперь все есть, все готово. Катя обошла машину, «Жигули» номер «22-66», белый лимузин, изящный, разумный, быстрый и сильный, ухоженный и сверкающий, способный увезти человека за тысячи километров, возивший ее, Катю Кислову, в Крым и по всему Крыму, грубовато и просто называемый Михаилом Гарущенко — «мотор». Она провела ладонью по скользкому верху салона, погладила «Жигули», как живое существо, подумала: «Почему «Жигули»? Это же среднего рода. Машина — женского, лимузин — мужского… Все должно быть женского или мужского рода, все красивое, живое… И только Солнце может быть среднего: оно единственное и сразу для всех».
В роще послышались голоса мальчишек, вроде бы приближающихся; Катя вздрогнула, быстро отщелкнула канистру, рывком подняла, не чувствуя тяжести, облила бензином мотор, затем принялась плескать внутрь салона, на резиновые коврики, обшивку, на ковровые чехлы сидений; когда все напиталось и потемнело, она обошла машину, облила бензином колеса, остатками окропила багажник, бросив туда же канистру.
Первую спичку она метнула в мотор, вторую в салон, третью в багажник. Какое-то время, не видя огня, она стояла рядом с машиной, смутно спрашивая себя: «Почему же не загорелось?..» Но вот ее окатил горячий бензиновый ветер, синие всполохи рванулись из задымившегося вдруг салона, над мотором закипел кучерявый масляный дым, и Катя отбежала к ольховому кусту, чувствуя ожоги на руках и лице.
Пламя темнело, вздымалось выше, понизу начали поблескивать красные языки; оно как бы оживало, обретало звучание и хотело, жаждало, чтобы его заметили, увидели, прибежали смотреть: это же пламя, огонь, пожар — люди должны видеть его, ибо всегда, во все времена их страшил, зачаровывал, притягивал огонь.
Из рощи выкатились мальчишки, обмерли на мгновение, пораженные сумасшедшим зрелищем, и ринулись с дикими криками к машине. Катя отступила за куст, словно решилась спрятаться, убежать, но поняла: не уйдет, не может, не хочет уйти — и подумала тут же: «Вдруг тушить станут?» Мальчишки действительно бросали что-то в огонь, носили консервными банками воду из ближней лужи. «Нет, — успокоилась, даже обрадовалась, — им не потушить!» Мальчишек становилось все больше, точно каждый делился сразу на двух, трех, они торчали из всех кустов, лезли в пламя и дурманяще орали, отчего, казалось, шибче разгорался огонь. Наконец притрухал сторож Кошечкин, ошарашенно принялся разгонять мальчишек; заметив Катю, подхромал к ней — от нервного потрясения у него, вероятно, парализовалась левая нога, — заорал, суясь ей в самое лицо:
— А Мишка где? Мишка, спрашиваю, где? — И, не получив ответа, заковылял к сторожке, по-бабьи воя: — Сгорел Гарущенко, сгорел!..
Пришли те, кто был в своих гаражах, принесли лопаты, стали копать и забрасывать машину мокрой глиной. Однако пламя настолько окрепло, ревело и вздымалось чернотой, выплескивало красные всполохи, что комья глины лишь выбивали фонтаны искр. Опорожнили три или четыре огнетушителя. Пламя бушевало, сзывая народ. Подворачивали прохожие с улицы, спрашивали, советовали, принимались что-то делать. Явился Минусов, вызванный Кошечкиным вместо председателя кооператива, уехавшего по личным делам в столицу. Третий раз побежали вызывать пожарную команду (никто не знал — удалось ли кому дозвониться). И наконец примчался на попутном грузовике Михаил Гарущенко.
Он бросился к своей горящей машине, но пламя, жар оттолкнули его, и это словно образумило, даже успокоило его, он стоял и смотрел поодаль от всех, одиноко, серолицый, в бликах огня, с испачканной сажей щекой, не отрывая глаз от раскаленного, бело светящегося остова, скелета машины, а когда подкатили пожарники, ревя сиренами, он подошел к старшему, попросил не тушить, зря не стараться, нечего уже тушить, пусть все сгорает дотла, и успокоил старшего, сказав, что никакого взрыва не будет: бензобак почти пустой, в зиму было слито горючее, — и опять вернулся на свое место в сторонке.
Лопнули поочередно раскаленные колеса, взметнув сажу, дым, искры; сухо, несильно хлопнул бензобак; осело, съежилось железо, огонь стал усмиряться, съев все самое горючее. Люди помалу расходились, так и не узнав толком, что случилось. Говорили, указывая на Катю Кислову:
— Вывела из гаража, чего-то делала, загорелся мотор, растерялась… Кому продают машины!
Максимилиан Минусов, как только появился у горящих «Жигулей», сразу подошел к Кате, ни о чем не спросил, лишь покачал сожалеючи и сочувственно головой, взял Катю под руку и попробовал увести ее: скапливался народ, галдели и любопытствовали женщины, набежавшие из ближних домов, вот-вот прибудет хозяин машины Михаил Гарущенко: ему уже позвонили. Самым благим делом было увести Катю, дать погаснуть огню, перегореть страстям, но она отталкивала его руку; это, конечно, не обидело Минусова, он решил уговором или силой все же заставить ее уйти, и настоял бы, пожалуй, увез, увел, если бы Катя вдруг не попросила: «Оставьте меня здесь, я ничего не боюсь…» И посмотрела в глаза Минусову — глазами с обожженными ресницами, с мечущимися бликами пламени в зрачках, недвижно холодными; у нее обгорела меховая шапочка, кончик выбившихся волос, и щеки, залитые краснотой, кажется, тоже были обожжены. Минусов отпустил руку Кати, но и шагу не отступил, подумав: «Ладно, будь что будет, смогу же как-нибудь защитить».
Машина догорала, «представление» заканчивалось. Вот и нет уже никого, лишь охрипший и заполошный Кошечкин, успевший по случаю «трагедии» осушить не менее четвертинки «для облегчения нервов», разгонял палкой мальчишек, подбадривавших огонь щепками, сухой травой, клочками бумаги: им хотелось продлить такое редкостное, почти фантастическое происшествие.
Гарущенко стоял все так же неподвижно, упрямо и вроде невидяще глядя на курившуюся черную груду, из которой выпирала угловатая глыба мотора, казалось, он впал в полусон и не верит тому, что видит, ждет, чтобы его толкнули, громко окликнули, объяснили: это всего лишь кошмар, надо только проснуться — и злое видение исчезнет. Но когда он, как бы встрепенувшись, медленно повел взглядом вокруг себя и наконец упер его в Катю Кислову, потрясенно и удивленно насупившись, Минусов снова взял ее под руку и начал уговаривать отойти хотя бы немного в сторонку.
Катя не слышала, смотрела на Гарущенко, в глаза ему, и вдруг, легко высвободив свою руку, пошла к нему, медленно, чуть пошатываясь, не упуская его взгляда; она шла, и следом шел Минусов, и ошалелый Кошечкин, бросив мальчишек, стал приближаться к Гарущенко; она подошла вплотную и рухнула перед ним на колени, схватив руками его ноги; послышался всхлип, стон, и прорвалось рыдание: жуткое, надрывающее душу, с подвыванием и причитаниями; только в сожженных деревнях Минусов слышал такие плачи.
И почудилось: Гарущенко очнулся. Его рука медленно приподнялась и так же медленно опустилась на встрепанную голову Кати, с которой свалилась меховая шапочка. Минуту или две он стоял так, слушая ее рыдание, затем взял Катю за плечи, поднял; своим платком отер ей лицо; Кошечкин подал ему шапочку — он аккуратно надел ее на голову Кате, — сказал негромко:
— Пойдем.
Они пошли одиноко, приткнувшись плечом к плечу, ни на кого не глядя; минули березовую, звенящую синицами рощу, затерялись среди уличной толпы.
Святцы Максминуса
«С первых же минут Мирный поражает: кое-где, оказывается, еще сохранились дощатые домики-засыпухи с печным отоплением. Пробиваемся через сугробы, лежащие вдоль нестройных улиц. И вот наконец центральные магистрали — ровные, как взлетные полосы аэродрома, выложенные бетоном и асфальтом. Не верится, что многоэтажный город из бетона, стекла и металла вырос на вечной мерзлоте…»
Эту выдержку я привел из газеты, чтобы любому, читающему мои записки, стало ясно: да, алмазный прииск Мирный — теперь город. Но читающий, вероятно, заметил: «кое-где… сохранились дощатые домики-засыпухи»… А в тот год, когда мы с Алешкой Коньковым прибыли добывать драгоценный минерал, почти весь поселок был дощато-засыпным, лишь вздымалась над чахлым лесочком серая глыба обогатительной фабрики да в одну улицу выстроились двухэтажные рубленые дома, казавшиеся прямо-таки царски роскошными. Был клуб, барак-кинотеатр, но уже начинали вбивать в мерзлоту бетонные сваи, на которых потом, как грибы на ножках, станут возникать здания.
Нас зачислили шоферами в карьер, отвели жилплощадь — комнатку на две койки с одной тумбочкой. И это считалось удачей: все-таки не барак на двадцать — тридцать жильцов — комната; до нас в ней обитал инженер с обогатительной фабрики. Устроились мы быстро и надежно, хоть Алешка немного поворчал: отвык семейный человек от холостяцкого неуюта. Но пришлось вспомнить Катангли, он так и сказал, оглядывая из низенького оконца чахлые березки, покореженные морозами, вкривь и вкось торчащие из тундры лиственницы: «Начнем сначала, товарищ писатель Минусов. Может, пригреет нас вечная мерзлота?»
И вот первое зрелище — карьер. Мы замерли на его кромке, минут десять молчали, удивленные и, надо признаться, напуганные огромным провалом, дымным, гудящим моторами, будто дым и пар поднимались из самой преисподней, и там же рокотали, ревели подземные стихии… Серо-желтые уступы опоясывали склоны, внизу темнела синеватая порода, на которой шевелились едва видимые экскаваторы, а по спиральной трассе ползли вверх и вниз мощные самосвалы, более похожие на неких железных муравьев, роющих (а не воздвигающих) муравейник. Машины и безлюдье: дым, пар и жутковатый провал в полутьму… Приходилось потом вычитывать, слышать сравнения: кратер вулкана, греческий амфитеатр… Кратеры бывают на высоких, конусообразных горах, видеть их мне не приходилось, амфитеатры — нечто светлое, праздничное, на них похожи теперешние стадионы. Здесь совсем иное, здесь провал в недра, развороченная человеком утроба земли.
Наш бригадир, один из первых мирненцев, пробившихся сюда еще санным поездом, стоял рядом и тоже молчал, но, решив наконец, что первое ознакомление с местом будущей работы новички вполне выдержали — никто не упал в обморок, сказал дружески, с пониманием: «Заработать приехали? У нас можно, если норму потянете. Пятьсот — шестьсот в месяц гарантирую со временем. Ребята вы здоровые, выпивкой не увлекаетесь — по поведению вижу, глаз у меня острый на это. Так что поковыряем для страны драгоценный камешек, царь всех камней, «глаз злого духа», как называют алмаз местные жители Якутии». Алешка Коньков спросил бригадира, читал ли он его биографию. «А зачем? На это отдел кадров имеется. А мне и газетку иной раз некогда посмотреть… Из зеков, что ли? Так у нас здесь социальный интернационал: принимаем всех трудяг-приходимцев, выгоняем всех проходимцев. Биографию будешь писать БелАЗом по спиральке сверху вниз и обратно. Заодно и историю добычи алмазов». Затем, когда шли от карьера в поселок, бригадир рассказал нам кое-что о Мирном, видимо считая и это обязанностью прямого начальника.
Мы узнали, что кимберлитовую руду, из которой добываются алмазы, нашел в 1955 году молодой геолог Юрий Хабардин; помогла ему местная дикая жительница лиса: да, копала рыжая нору и выбросила сине-зеленую породу. Хабардин понял: алмазная трубка! Надо было немедленно «застолбить» место открытия, дать радиограмму в штаб экспедиции, конечно, зашифрованно — это была еще тайна, — но так, чтобы там все поняли. После войны тогда прошло немного времени, люди думали о мире, радовались мирным дням, и первая фраза у Хабардина сложилась быстро: «Закурил трубку Мира». Далее надо было сообщить о месторождении. Некурящий геолог сочинил ее легко: «Табак отличный». В 1956 году по зимнику пробились первые машины, самолетами прилетели рабочие, а в следующем году подняли экскаватором первый ковш руды, как сказал бригадир, «с каратами драгоценного камня».
Он остановился, взял нас под руки, глянул одному, второму в глаза и как-то грозно спросил: «А с какой жизни начинали, представить можете? — и сам ответил: — Невозможно. Теперь вот засыпухи для всех, город на сваях строим; мы, первые, вообразите, в палатках жили, это при здешних морозах: металл лопается, как стеклянный. А дороги? По болоту бревна стелили, глиной сверху засыпали, чтобы мерзлота не таяла; трактор барахтался целый день, волоча цистерну воды от ручья Иреляха, в болотных сапогах кино смотреть ходили. Вы вот пообживетесь и семьи вызовите, а я сначала четыре года условия для жизни создавал. Так что, ребята, поздравляю, желаю, как говорится, успеха в труде и личной жизни; сдрейфите — теперь легко и мирно распрощаться с Мирным: самолеты до самой столицы летают». Он цепко, снова глянув каждому в глаза, пожал нам руки и зашагал по деревянному настилу к центру поселка, кряжистый, широкий, будто потому и не выросший, что здесь, у Полярного круга, человеку, чтобы выжить, надо быть коренастым и крепким, как лиственницы, каменные березы на болотах, вечной мерзлоте.
Наступила зима, и мы с Алексеем воистину познали: «Драгоценны караты драгоценного камня». В пятидесятиградусный мороз воздух над поселком лежал тяжелой ледяной глыбой, дым из сотен труб стлался по земле, машины ползли с зажженными фарами, и если плюнешь от досады, твой плевок ледышкой падает тебе под ноги. Но это в поселке, это еще не работа. Главное дело — карьер. Подъезжаешь к кромке — дна не видно, прорва, до краев наполненная сизой мглой, и тот, поселковый дым, уже кажется тебе прозрачным воздухом. Спускаешь свой томящийся на малых оборотах БелАЗ по едва различимой трассе, чувствуешь, что и ему не хватает кислорода, а ниже — гуще смог, на дне же, у скрежещущих экскаваторов — чертов ад, красно кипящий огнями прожекторов, свистящий авиатурбинами, выдувающими взрывную пыль, дым отработанных газов (мало, очень мало помогали эти турбины); по жесту диспетчера ставишь самосвал под ковш, грохается в кузов двадцать пять тонн кимберлитовой руды, и, пристроившись к колонне груженых БелАЗов, ползешь вверх, наматывая на колеса желтую змею-трассу: с одной стороны — глухая стена карьера, с другой — дымный, грохочущий провал. Ссыплешь руду на складе у фабрики, отметишь рейс — и назад, тем же путем. Со смены возвращаешься прокопченный, пропыленный, как шахтер из шахты, а умывайся в своей засыпушке, если воды припас, наруже — лед и снег до самого Северного полюса, о душевых тогда лишь мечтали.
И ничего, вработались, втянулись, не жалуясь даже друг другу, вроде бы с молчаливого согласия: люди могут — и мы выдюжим. Изредка, правда, вернувшись из ночной, особенно тяжелой смены, Алексей Коньков скупо хмыкал, еле заметно улыбаясь, покачивая нечесаной патлатой головой: «Вот это да!» Камчатский леспромхоз, катанглинская нефть, служба в армии — для него были теперь всего лишь приятными воспоминаниями, а совхоз в амурской степи — «светлым моментом жизни». О себе не говорю: держался на самолюбии, на некой внутренней обреченности: решился — пройди до конца, испытай, познай, труднее уже не будет, это, пожалуй, последний твой круг, годы, здоровье скоро заставят обрести диету, покой. Боялся я простудить свои слабоватые легкие, но якутские морозы безветренны, спецовку выдали теплую, в столовой кормили вдоволь мясом, особенно олениной. В дощатых засыпухах ютилось уже немало семей, росли на сухом и сгущенном молоке детишки — это тоже вдохновляло, бодрило: в лютый морозище, закутанные, замотанные — не поймешь, кто мальчик, кто девочка, — волочат санки, катаются с горок, кричат, хохочут. Глядя на них, Алексей говорил, что к лету вызовет Нюру с Алешкой.
Вечерами, жарко натопив печку, мы выпивали по два-три чайника круто заваренного чая, потели, прогревали себя до костей, на всякий случай, если придется промерзнуть до тех же костей, а такое случалось, хоть и нечасто: когда глох мотор, когда приходилось буксовать или выстаивать очереди у экскаваторов, стрелы которых ломались, перекаленные морозом. Гоняли чаи и наши соседи по засыпухе, холостые ребята — на севере без кипятка пропадешь, якут из юрты не выйдет, пока не разогреет себя чаем, — «забивали козла», поигрывали в карты и, кажется, потихоньку на деньги. Поначалу они приглашали, мы ходили, но и я, и Коньков мало смыслили в азартных играх, в карты, даже по гривеннику, вовсе отказывались, и ребята, прозвав нас «читателями», перестали тревожить, разве что занять трояк, соли, сахару. А мы читали, вернее, читал я — Алексей слушал. В клубной библиотеке брали все, что предлагала молоденькая якутка библиотекарша: «Хождение по мукам», «Битва в пути», «Солдатами не рождаются», «Хлеб — имя существительное», «Танки идут ромбом» и многое, чего я теперь и не припомню. Как-то я спросил, нет ли у вас чего-нибудь об алмазах. Якуточка подала столичный журнал с очерком о нашем Мирном. Ну, в Мирном мы жили, кое-что уже знали о нем, а вот как добываются алмазы в Южной Африке, самой алмазной стране, мы прочитали впервые. Жаль, что я не выписал эту страницу себе в блокнот, однако она мне запомнилась, передам ее своими словами.
Работа там тяжкая, жара, охрана труда самая плохая, да еще расовая дискриминация. Инженер получает свыше тридцати тысяч долларов в год, рудокоп в среднем — сто в месяц. Цены на хлеб, мясо высокие, семьи живут бедно. Нет там даже телевизоров. Люди трудятся под постоянной слежкой, везде колючая проволока, патрули. Разбирают африканцы концентрат на сортировке, напротив каждого охранник, с балкона следят, телевизор-наблюдатель включен. В проходной фабрики четырехбункерная дверь, обыск. И все равно воруют, хоть и некуда почти деть алмаз. Он тверд, сам его не обработаешь, чтобы стал бриллиантом, продать же необработанный трудно: единственный свободный рынок в Гане, другие охвачены монополией «Дайамонд корпорейшн».
Алмазы добываются также в Заире, Ботсване, Сьерра-Леоне, Намибии, Анголе, экспорт их приносит большие доходы казне этих стран. Не так давно был найден большой алмаз, названный «Звездой Сьерра-Леоне», с куриное яйцо величиной, весом девятьсот шестьдесят восемь каратов. Звезду распилили на одиннадцать отдельных камней и каждый продали по высокой цене. А началась «алмазная лихорадка» в 1866 году, когда в Южной Америке, недалеко от Кимберли, нашли первый алмаз.
Некоторые специалисты ставят искусственный алмаз выше, но лучше, изящнее добываемого алмаза природа ничего не создала. При сортировке алмазы делятся на ювелирные и технические. Технические нужны заводам, чтобы заменить твердосплавные резцы алмазными, более прочными, они необходимы бурильщикам: алмазными коронками можно проходить любые породы в два раза быстрее. Просят алмазы часовые заводы.
Очень охотно выслушав, Алексей сказал: «Как же его украдешь, из руды не выковыряешь, не видели еще, хоть и гору кимберлита навозили? На фабрике, да?» — «На фабрике, после размола», — ответил я. «Надо бы глянуть, а? — он даже привстал. — Слышь, Макс, как же мы так — пусть покажут алмаз, у директора в сейфе, говорят, коллекция хранится, показывает, если попросить». — «Попросим», — согласился я.
Мы сказали об этом нашему бригадиру, мол, надо бы посмотреть, добываем, не зная что. Он покивал, понимая нас, поразмыслил вслух — да, вы ребята старательные, будете работать, вам надо, другие некоторые — не спрашивают, лишь бы заработок добрый шел; но к директору всех водить не годится, ему представители и корреспонденты надоели; в будущем музей организуем алмазный, чтобы каждый, кто приехал, мог увидеть, из-за чего мы здесь подвиги труда совершаем, вечную мерзлоту грызем; а пока приходите ко мне домой. «Есть один камешек, покажу…»
Собираясь в гости, мы едва не поссорились: брать или нет поллитру? Может, пару — чего же одну на троих делить? Спросили у соседей по засыпухе, ответили кто как: вроде выпивает на праздники, но пьяным никогда не видели, возьмите, обстановка покажет. Приоделись в костюмы — все-таки семью навещаем, впервые за полгода, — постояли в местном бревенчатом «Универсаме» — «не спрашивайте, все видите сами», взяли бутылку коньяку пятизвездочного, для «особой обстановки», конфет самых дорогих детишкам, — и пошагали на Ленинградский проспект, к деревянным двухэтажным домам, в которых поселилось много ленинградцев; имелась и Московская улица.
У бригадира было три комнатки на пять человек семьи, мебели почти никакой — стол, табуретки, кровати никелированные, давно не модные в городах, зато полы и стены застланы, завешаны медвежьими и оленьими шкурами, якутскими цветными ковриками, даже вместо тряпки у порога лежал кусок какой-то шкуры. Привыкнув, вероятно, к удивлению впервые гостящих в его квартире, бригадир, пока мы стаскивали валенки, рассказал, что до Мирного он долго шоферил на Якутском тракте, жил в Алдане, у него было много друзей охотников и оленеводов, сам тоже охотился, когда выпадало время, и вот скопилась, «можно сказать, богатая коллекция шкур». И прибавил: «Берегу, ценю. Выманивают приезжие, покупают, отвечаю: «Это ж моя мебель, вы же не отдадите свой гэдээровский гарнитур! Дочкам выдам по одной вместо приданого, три шкуры отдельно храню».
Его жена, низкорослая, прочная, как и сам бригадир, с лицом, прожженным морозами, будто до багровости загорелым, чуть оттеснив хозяина, провела нас прямо к столу, где на чистой клеенке парила большущая миска с пельменями: северяне, как мы уже слышали, сначала кормят, потом говорят. Алексей, покашляв, поозиравшись, шепнул бригадиру: «Панкратыч, может, примем по маленькой для знакомства, общения и за этот, как его, «глаз злого духа»?» Тот хитро и тихо спросил: «А что имеете?» Алексей сказал, что коньяк пятизвездочный. Бригадир крякнул, громко хохотнул: «Так и знал! Ну, интеллигенция материковская! А еще, рассказываете, Сахалин осваивали. Да у меня эти чернила рыжие и жинка не употребляет. Мы вот… — хозяйка поставила к его руке бутылку спирта. — Вот этого… И не разводим. Градусы градусами перешибаем. На дворе пятьдесят, а тут, гляньте, девяносто шесть. Как, убедительно выступаю?» Алексей только хмыкнул, покраснев, глянул на меня — вот тебе «обстановка», а хозяйка, разложив в тарелки пельмени, поторопила мужа: «Остынут. Угощай, да ужинать будем». Бригадир разлил спирт в четыре стакана поровну, пустую бутылку поднес к губам, дунул в горлышко, бутылка гуднула весело, и он швырнул ее под медвежью шкуру: «Чтоб сегодня я тебя больше не видел! — и прибавил, усмехаясь: — У меня с этим строго. Приемные дни раз в неделю-две, и то по особому случаю. Ну, будем…»
«Так ты покажи сначала ребятам, потом-то и не увидят хорошо», — остановила его хозяйка.
Панкратыч принес из спальни — там он что-то открывал ключиком — голубую коробочку (в таких обычно продают наручные часы), поднял крышку и поставил коробочку на стол между мною и Алексеем. Наши глаза вонзились в нее, и, вероятно от ожидания чего-то ослепляющего, волшебного, я сразу ничего не увидел: лежал на белой шелковой подушечке синеватый камешек… Где же алмаз? Почему в комнате, вокруг нас ничего не переменилось? Почему за окном бескрайне, печально стынет дымная тундра и лиственницы, убитые морозом, похожи на могильные кресты?.. Алексей, не выдержав тишины, несмело спросил: «Это он самый?..» — «Он, он! — хохотнул бригадир. — Всегда так: не верят по первости. Да вы возьмите, не укусит, гляньте на свет».
Я поднял, чуть повернул коробочку. Камешек мигнул острым лучиком и сразу спрятал, втянул его в себя, и от этого, показалось мне, середина камешка зажглась ровным голубовато-фиолетовым огоньком; он горел, светился, выметывал лучики, менял оттенки свечения — от матово-черного до слезно-голубого; в нем тлело, пережигалось не ведомое никому вещество, неиссякаемое, вечное. У меня чаще забилось сердце, от напряжения замутились глаза, подумалось: «Дьявольство какое-то», — и я передал коробочку Алексею.
Он быстро захлопнул ее, подал бригадиру: «Ясно. «Глаз злого духа», правильно якуты называют… Сначала ничего, вроде галечка синяя, потом дурить начинает. Как вы не боитесь держать его дома?» Панкратыч поулыбался молча, отнес коробочку в спальню, спрятал, замкнул. Вернувшись, молча поднял стакан. Когда начали есть пельмени из молодой оленины, с чесноком, залитые сливочным маслом, подправленные уксусом, он сказал, что алмаз этот ему не опасен — подарен другом якутом еще на Алдане за рискованную услугу: по весеннему распутью вывез из тундры его сына с приступом аппендицита, едва не погиб вместе с машиной. А якуту алмаз достался от деда, считавшего камешек священным: со злыми духами ведь тоже надо ладить, задабривать их. На всегдашнюю удачу и был подарен ему алмаз.
«Но это сырец, — рассуждал далее бригадир, — не обработанный, значит. Так, пошлифовал слегка. Нанести грани — будет бриллиант. А зачем он, кому? Жинка на фабрике насмотрелась, наработалась — не хочет носить такое украшение, оно для тех, кто не видел, как оно добывается… А вообще, дорогие камешки — живая валюта, некоторые ценятся по тысяче долларов за карат. Был у нас один — четыреста каратов, правда, технический, но тоже большой ценности. Технический — они мутноватые, свинцового оттенка. А царь-алмаз — чистейшей воды, глубинного света.
Молчаливая жена Панкратыча, явно стеснявшаяся нежданно-молчаливых, «материковских» гостей, ушла в комнату к дочкам, бурно ссорившимся из-за чего-то, и наш бригадир, непривычно домашний, слегка разомлевший от спирта и пельменей, с расстегнутым воротом белой рубашки, начал мужской разговор напрямик. Мы узнали из его неторопливых слов, выговариваемых с упрямым взглядом и легким прихлопыванием ладони по столу, что нашей работой доволен начальник карьера, такие мирные, старательные люди нужны, но он сам, как бригадир, считает: нехорошо сторониться товарищей, их это обижает, будто мы брезгуем ими, и уже кое-кто из пронырливых разузнал, что один из нас, старший, педагог, с высшим образованием, другой — бежавший из России сынок полицая, вроде бы компания темноватая, потому-то и прячется от коллектива; он, бригадир, понимает: дело не в коллективе, а в наших соседях по засыпухе, пугаем их, озадачиваем чтением книжек, трезвостью, ведь они в картишки по-серьезному перебрасываются, женщин водят, скандалят, случается, — и непонятных соседей надо им втянуть во все это или отселить; в крайнем случае выяснить их личности: найдется что-нибудь темненькое — помалкивать будут; необходимо нам это учесть, потому что работа общая и тяжелая, взаимная выручка — главное: обозлятся — подведут, подстроят нехорошее, никакое следствие не докопается, не разберется, уже не говоря о нем, бригадире, или начальнике карьера.
Хозяйка принесла чайник, тарелку с голубичным вареньем. И чайник, и тарелка были крупны, увесисты. Меня это уже не удивляло: здесь, где все огромно, ново, трудно — вещи, посуда, еда должны быть особой крепости, питательности, должны как бы выражать суть труда, образ жизни.
«Нет, я не уговариваю вас пить водку, лучше чаек вот такой, — сказал Панкратыч, подавая столовые ложки для варенья, — да у нас и не водятся вроде горькие запивохи, выпроваживаем таких. А зайти, при случае, и выпить — мужики все-таки! — поговорить, рассказать о себе — вы же влияние хорошее будете оказывать… И это… — Он положил заскорузлую шоферскую пятерню на руку Алексея. — Тебе советую, Коньков, объясни ребятам, поймут, тут многие с биографиями… Зачем сплетни бабские, сочинения, вроде таких: деньгу прилетел зашибить — и к батьке в заграницу пожаловать. Понимаю, чепуха. Но есть и злые людишки. Вот для этого — лучше сам. А я поддержу. Приживешься у нас. У нас таким легче прижиться: в вечную мерзлоту не всякий корни глубоко пускает».
Вернулись мы в свою засыпуху и до полуночи не ложились спать, кипятили чайник, попивали дорогой коньяк с крепким чаем — бутылка так и осталась в курточном кармане Алексея, — обсуждали первое наше гостевание, советы бригадира (вот ведь северянин урожденный, всего раз проездом видел Москву, жил и до последнего дня будет жить здесь, в такой глуши, дали дальней, а все понимает, легко разбирается в людях, не кричит, не командует, готов помочь любому, быть другом, если и ты ему друг, мудр от жизни, которая есть главная наука), решили послушаться бригадира, наладить самые добрые отношения с соседями: ребята они простецкие, поймут, уразумеют, от кого нам отгораживаться? И весь долгий вечер в моем воображении (думаю, и у Алексея тоже) не затухал, светился, сверкал алмаз бригадира, точно свет его, тот, глубинный, запал в душу, навсегда остался в ней, будет тревожить, беспокоить, греть и заставлять думать: откуда это непостижимое мерцание, из каких тысячелетий, от каких планет, миров? Почему во все века все народы так ценили этот камень, сколько пролито из-за него крови? Может, главная сила, суть алмаза в том, что владеющий им навсегда терял покой?…
Уже засыпая, успокоенно Алексей Коньков сказал: «Дело толковал Панкратыч, здесь я пущу корни, здесь мое место, тут мне хватит работы до конца жизни: Мирный, Айхал, другие трубки разведают… Хватит тут алмазной руды и моему сыну. Доверюсь «глазу злого духа».
А наутро снова БелАЗы, карьер, гонки от ковшей экскаваторов к рудному складу, почти без передышек, с азартом и даже злостью: не отстать, не уступить место в колонне, а удастся — и передвинуться на одну-две машины вперед. Мне редко удавалось такое, Алексей же к концу смены обгонял меня и других на три — пять гонок: он мог быть только первым, ему хотелось как можно скорее заработать жилье для семьи. Конечно, это не нравилось, раздражало шоферов, хоть Алексей старался дружить с ними, щедро угощал при случае водкой, перед особенно язвительными даже заискивал слегка…
Прошу прощения, придется отложить «Святцы»: к самому порогу сторожки подкатила машина, кто-то стучится в дверь».
— Входите!
Просунулась длинноволосая, непокрытая физиономия не то парня, не то девицы, прохрипела простуженно (ага, парень!):
— Вас вызывает женщина по фамилии Калиновская.
Поднявшись, Минусов ощутил: печально и жалостливо заныло сердце, приученное к покою, и вдруг понявшее: уйдет так дорого нажитый покой. Вот сейчас он шагнет за дверь и уверится: сердце не обмануло его. Он ждал чего-то тревожного, ненужного ему и все-таки неизбежного, предначертанного, при каждой встрече с Ольгой Борисовной Калиновской суеверно уговаривал судьбу: «Минуй меня сия тревога», но час, день настал — непокой вернулся из прошлого вместе с пришедшей оттуда Олечкой-математичкой.
У сторожки стоял, подрагивая мотором, оранжевый, как расплющенный апельсин, «Запорожец». Парень широко распахнул дверцу, сказал:
— Гражданка приобрела машину, попросила меня пригнать сюда. Если вы ее муж — сдаю в целости и сохранности.
Справа от руля, откинувшись в кресле, сидела Ольга Борисовна; лицо у нее было серьезно, хозяйски озабоченно, она оглядывала щиток с приборами, трогала кончиками пальцев кнопки и рычажки. Увидев Минусова, она мгновенно зарумянилась, засияла радостью: светились зубы, светились лучики морщинок, завлажнели и ярче заголубели глаза давней Олечки с карими крапинками-конопушками по ободку зрачков. Она повернулась к Минусову, желая лучше разглядеть его удивление, а может, невольный восторг при виде такой новенькой, изящной машины; но, заметив лишь стылую улыбку и его непонятную растерянность, она выкрикнула в забывчивости и волнении:
— Макс! Почему ты не радуешься?
Подумав бегло и сокрушенно: «Нет, женская суть в женщине не стареет», Минусов сел рядом с Ольгой Борисовной, хотел захлопнуть дверцу, однако длинноволосый парень цепко придержал ее, вежливо и выжидательно улыбнувшись. Ольга Борисовна быстро потерзала сумочку, подала ему десятку.
— Многовато, мадам, — чуть тряхнул патлами парень. — Но, как говорится, не будем рядиться: сдачи все равно не имею. Катайтесь и радуйтесь, заслуженная старость у нас в большом почете. Адье! — и он хлестко припечатал дверцу.
— Хамло, — буркнул Минусов.
— Нет, Макс… Максимилиан, он ничего, сразу согласился машину перегнать, теперь они все такие…
— Почему вы не позвонили мне, Ольга Борисовна?
— Ну… хотела удивить, потрясти… Так хочется чего-нибудь необыкновенного! А тебя… вас этим…
— Автомобилем?
— Понимаю: не потрясти, рядовая покупка. Вы недовольны, Максимилиан Гурьянович, не советовали… Но я очень хотела, не могла противиться своему желанию и рада теперь, очень рада, я не могу успокоиться: у меня свой, собственный, новенький, бегающий автомобиль! Я буду кататься, ездить на нем, наконец я узнаю, что такое скорость, движение. Ведь я всю жизнь просидела на одном месте. Вам не понять этого: вы устали от перемены мест, я хочу перемен!
— Успокойтесь, Ольга Борисовна, все-таки успокойтесь. Я не советовал, но это уже не имеет значения. Как сказал волосатый молодой человек, щедро принявший дань от нового автолюбителя, «катайтесь и радуйтесь». — Минусов посмотрел в ее пригасшие, словно у обиженной девчонки глаза и рассмеялся. — Видите, и я радуюсь. Давайте вашу руку. Вот так. Крепко жму и поздравляю. Морякам желают семь футов под килем, шоферам, и вам значит, — гладкой дороги под колесами!
— Ой, спасибо, Макс! Я уж думала — прогонишь меня, рассердишься, оттого так, может, и веселилась. Но я рада теперь еще больше: ты же будешь учить меня, я уплачу, мы заключим договор…
— Хорошо, Ольга Борисовна, обговорим, заключим — времени у нас вечность. Скажите лучше, где вы будете ставить свой «Запорожец»?
Она примолкла, задумчиво покачала головой, вздохнула.
— Я еще не подумала.
— А я и не сомневался в этом. Если б подумали — вы были бы не вы. Может, и не женского пола… Слушайте: держать во дворах машины запрещено — штрафами ГАИ замучает. На платных стоянках мест нету — заранее в очередь записываются. Гараж вы, конечно, не строили: главное — купить машину… Вот вам первые автолюбительские огорчения после первых радостей.
— Я думала… думала…
— О Минусове, старом друге, пробензиненном, промасленном, чуть ли не всю сверхсознательную жизнь проведшем среди машин, гаражей, шоферни?
— Ага.
— Он такой, выручит?
— Да.
Помолчали несколько минут, мотор работал рывками, что-то в нем позвякивало. «Клапана, наверное, — подумал Минусов, — надо проверить, подтянуть, с конвейера спихивают поторапливаясь…» Прибор показывал: перегревается масло в картере; воздушное охлаждение; на ходу, с ветерком — еще машина; в горку, с нагрузочкой — накаляться, глохнуть будет. Железка крашеная, для забавы, легких прогулок. Конечно, в опытных руках бегают эти железки, да ведь в опытных — и мотоцикл на лыжах по снегу катается… Повернулся к Ольге Борисовне, надеясь увидеть ее понурившейся, виноватой, но нет, она остро, даже иронично поглядывала на него: мол, уверена, поможешь, не прогонишь, придумаешь что-нибудь. Колыхнулось в душе возмущение: «Откуда такое упрямство, разве я обещал или обязан чем-либо?» И тут же устыдился: обязан, хотя бы старой дружбой. К тому же… в темных брюках, спортивной куртке, вязаной шапочке, замшевых перчатках, Ольга Борисовна очень напоминала бывалую автомобилистку. Заранее, по-видимому, приготовила одежду, настроилась душевно, и никому теперь не удастся разочаровать ее или чем-то огорчить. «Так, пожалуй, вела бы себя моя дочь (будь у меня дочь), — подумал Минусов, — если бы я купил ей автомобиль». Они радуются или плачут, полутонов в настроении не ведают, живут минутой, днем, о завтра еще подумают, а дальше… «Дальше?.. Ну, это портить себе нервы!..» Порассуждав так и умиротворившись, Минусов сказал:
— Устрою, Ольга Борисовна, ваш оранжевый «Запорожец». На неделю, две. Потом придумаем что-нибудь.
— Вот, я же знала — поможете, Максимилиан Гурьянович. Спасибо!
— Идите домой, свыкайтесь с чувством автовладелицы…
— А учиться когда буду?
— Мне дежурить надо, вам отдохнуть. И успокоиться, совсем успокоиться. К машине можно подходить, когда ни восторга в душе, ни страха. Скажем, как садитесь в такси. Этим она похожа немножко на необъезженного коня. Давайте вашу руку, еще раз поздравляю, и идите домой. Сохраню драгоценную вещь, позвоню дня через два, всего хорошего.
Ольга Борисовна Калиновская легко, почти как Олечка-математичка, выпрыгнула из машины, часто застучала каблуками по бетонной дорожке, но у края рощи остановилась — это увидел Минусов в зеркальце над ветровым стеклом, — бойко помахала перчатками.
Втиснув «Запорожец» в нулевой блок, служивший гаражному кооперативу складом для инвентаря — хорошо, что машинка маленькая! — Максимилиан Минусов вернулся к столу с тетрадями и сидел не менее получаса, невесело раздумывая. Зачем она купила автомобиль? От скуки, одиночества? Или желая сблизиться с ним, Минусовым? Через столько лет, после прожитых жизней?.. А ведь он не отказался, придется учить ее вождению… Она рассчитала точно: неожиданность, просьба, беспомощность, память о старом — смягчили, переломили его. Начнутся иные дни, наверняка ненужные ему, и Минусов, вспомнив о «Святцах», смутился заметно: хотелось в полном покое дописать историю жизни Алексея Конькова, а теперь, теперь… будто он вмешивал Конькова в свои ничтожные заботы. Надо быстрее закончить, чтобы освободиться, не омрачать житейской суетой рассказ о друге. Он прямо написал:
«Гибель Алексея Конькова
Проработали мы в карьере зиму, Алешка, как ни старался, не мог подружиться со всей шоферней, не любили, не понимали они его неуемной жадности к работе, считали хапугой, зашибалой, мне часто приходилось быть буфером — смягчать, сводить, выпивать примирительные, — ко мне братва относилась добро, запросто, подшучивая: «Чудаковатый старикан за приключениями приехал» или: «Сочинитель, жизнь народную изучает». Алексей то слушался меня и затихал, то посылал подальше матюком: мол, тебе хорошо философствовать, судьба у тебя другая, человеческая, а мне надо еще доказывать, что я человек. В такие злобные минуты, если кто осмеливался задеть его, он стискивал кулак, молча подносил к самому носу опешившего парня: «Видишь это? Поправлю мозги!» И добился ближней, втайне намеченной цели шофер Алексей Коньков: в апреле его фотография появилась на доске Почета. Конькова стали упоминать во всех списках передовиков, ставить в пример, что, естественно, еще больше озлобило кое-кого из прохладных работничков: «Загребала, проныра, старостин сынок (об этом уже все знали, Алексей сам рассказал) — и передовик производства». Какие-то письма писали в газеты, бригадира Панкратыча припугивали: в контакт вошел, тянешь, прикрываешь, но на таком коньке далеко не уедешь, споткнешься.
Вот я сейчас думаю: что-то же можно было сделать? Остановить этот снежный ком неприязни, который будто с горы катился, разрастаясь, набирая неудержимую скорость. Делалось, конечно. Бригадир довольно решительно урезонивал особе злобствующих, начальник карьера на собрании говорил: мол, ходят нехорошие слухи о Конькове, требую прекратить их, человек он редкой честности, проверенный, биография отца совершенно его не касается и т. д. Но в том-то и беда, что в подобном деле нет явных действий, которые можно было бы пресечь приказом, постановлением: ком катится, скоро подомнет кого-то, но ком невидимый, а значит, задержать его невозможно. Мне оставалось одно: уговорить Алексея уехать куда-нибудь. Куда? Тупик. Ведь он не расстанется со своей натурой здесь, будет и на пятом, и на десятом месте утверждать себя, рассказывать, кто он такой, до остервенения работать: болезнь в нем самом, она съедает его, он бьется с ней насмерть, никому не позволяя помочь себе.
А развязка была близка, и такая простая.
По зимнику двигалась колонна машин, застряла километрах в сорока от Мирного: ранняя весна расквасила тундру, вспухли водой бесчисленные ручьи и речки. Надо было спасать технику, оборудование; дирекция решила послать на тракторах и машинах добровольцев, надеясь быстро справиться с ответственным делом. Первым, как легко догадаться, вызвался Алексей Коньков, за ним, и это тоже вполне понятно, потянулись кое-кто из его обидчиков: доказать, что не только болтать умеют. Я не поехал, да меня бы и не пустили, набирались молодые, крепкие ребята, а я к весне расхворался, кашель бил по ночам, неделю сидел на бюллетене. Жалею, буду жалеть до конца своих дней, что не поехал. Хотя едва ли я мог спасти Алексея, и все-таки кто знает, кто может наверняка сказать, как бы все обернулось, будь я там вместе со своим другом. От многого мне удавалось удержать его.
Далее приведу рассказ участника этой экспедиции, соседа по засыпухе, записанный мною тогда же:
«Ну, мы переправились через речку Ботуобую, там, значит, колонна застряла, трактора пока оставили на берегу, засомневались — лед некрепкий вроде. Ну, переложили часть груза на свои машины, помогли выкарабкаться из колдобин дружкам застрявшим, надо, значит, назад двигаться, через Ботуобую. А сутки уже прошли, пока возились, вода, хоть неглубоко, а лед сверху залила, такая желтая, будто навозная — тундровая, значит, под ней плохо видно. Ну, кто первый? Начальник колонны молчит: в таком деле или сам показывай пример, или жди добровольца. Вышли из кабин, курим, неловко, как-то. Вчера проехали, дак пустые машины были и лед только слегка сочился. Ну, тут кто-то из ваших, карьерных, говорит: «Коньков, двинем, что ли?» — и так это со злостью, с плевком под ноги, а у самого машина стояла позади коньковской, дорога узкая, не разъедешься, значит — Конькову первому. Судьба. Влез ваш друг в машину, дверцу оставил открытой — так мы на всякий случай делаем, спустил грузовик по откосу осторожно, а потом, потом, всякий шоферюга знает, надо рывком перемахнуть лед, чтоб прогнуться в каком-нибудь одном месте не успел. Ну, мы и ждали: перемахнет Коньков. А он, представляешь, друг-товарищ ваш, тихонечко этак поехал через речку, прощупывая, значит, надежен ли лед, показывая, — мол, нечего бояться: геройство, скажу вам, показное. Лед трещит, слышим, начальник колонны крикнул: «Да жми ты, мать-перемать!..» Никакого реагажа. Как на прогулке катится Коньков. Докатился значит, до середины, ну, думаем — повезло! Кто-то даже похвалил: «Молодец, теперь ясно: можно спокойно ехать». И в этот спокойный момент раздался сильный треск, под кузов машины ударилась фонтаном вода, колеса задние стали вязнуть, кабина крениться, по бокам вздыбились льдины… Тот, который говорил: «Коньков, двинем, что ли?» — успел только въехать на лед и, понятно, остановился… Все заорали: «Прыгай! Прыгай!» А куда было прыгать? Вокруг грузовика бурлила, дыбилась вода, он проваливался на глазах. Выпрыгнул, конечно, Коньков, когда кабину до стекла залило. Ухватился за край льдины, держался минуту-две… Тут уже доски начали стелить, ползти к нему с шестами, веревками… Льдина надломилась, накрыла Конькова. Вроде я услышал — ударила с хряском по голове… И все, товарищ дорогой. Над машиной еще вода бугрилась, пузыри лопались, а его уже не видели. Нашли на другой день, в полукилометре ниже по течению, там перекат, полынья, застрял под берегом… Больше, извини, никаких впечатлений не имею».
На похороны Алексея Конькова была вызвана из амурской Муратовки жена его с маленьким сыном Алешкой. Она хотела увезти гроб в свою деревню, похоронить Конькова там, где они встретились, на погосте среди берез, а не в тундровой мерзлоте, но прошло уже несколько дней, самолеты из-за непогоды летали редко, да и везти надо было с несколькими пересадками. Ее отговорили: отговаривал и я, сказал даже: «Он хотел остаться здесь навсегда».
Хоронили с клубным самодеятельным оркестром, багульниковыми венками, траурными лентами. Говорились искренние, добрые речи. Плакали шоферы, их жены, понимавшие, что в этот гроб мог лечь и кто-то другой. Рыдала, теряя сознание, Нюра.
Сиротливое кладбище с обелисками-тумбочками было на зеленом мшистом аласе — так якуты называют чистые бугорки-полянки, — уже протаявшем, нагретом солнцем. Стенки могилы сверкали блестками вечной мерзлоты. Подумалось: «Долго тебя тут не тронет тление, Алеша. Может, до всемирного потепления…» Под бугром тек, журчал в тишине ручей. И пока мерзлые комья тупо падали на крышку гроба, я смотрел в солнечное струение ручья: мне виделось, чудилось до изумления, слезной усталости в глазах: мерцает, хмурится сквозь желтенькую воду неусыпное «око злого духа».
Отбыв договорный срок, я покинул алмазный край».
Максимилиан Минусов медленно шел из магазина, неся в одной руке батон и половинку черного хлеба, в другой — кефир, молоко, плавленые сырки. Шел по сырой дорожке через рощу, сощуривая глаза от солнечной зелени, покашливая от прохлады настывшей за зиму земли. Пахло теплым хлебом из сетки, и он едва удержался, чтобы не присесть на скамейку: так захотелось сжевать ломоть батона.
Весна уже давно перестала бодрить Минусова. Напротив, расслабляла, туманила сознание, и легкие его, точно отсырев, дышали трудно, хрипло. Он рад был любому внезапному ощущению (вот как сейчас — съесть ломоть хлеба), ибо верилось: возникают сильные желания, — значит, поживает, еще не иссякла в нем жажда бытия.
Он шел, дивясь молодой листве, такой резкой, посвистывающей на ветру, что казалось: и прохлада, и сырость навеяны первой, острой зеленью. Вспомнились строчки позабытого стихотворения: «Прихлынули смутные звуки, дохнула земля глубиной… Сожмем же покрепче руки, чтоб выстоять нам под Луной». Он усмехнулся смутности и наивности стихотворения, но ему верилось, что именно эти строчки почти точно выражают его теперешнее состояние, хотя «выстоять» — не для него уже, продержаться еще какое-то время, подумать, довыстрадать окончательные мысли и чувства, а потом, от всего освобожденным, уйти из жизни: не нужен ни людям, ни себе.
У подъезда его дома на скамеечке сидели Рудольф Сергунин, Юрка Кудрявцев и коренастенькая, с загорелым лицом девушка. Были они по-молодежному легко одеты, по-весеннему разговорчивы; особенно Юрка и девушка; тридцатилетний Рудольф лишь умудренно улыбался, сидя, как старший, посередине скамейки, свободно воздев ногу на ногу. Но всем им, это сразу заметил Минусов, было почти беспричинно весело — от солнца, первой зелени, воздуха, напитанного резкими запахами, соками пробуждения: только молодых и юных может так бодрить, возбуждать всегда молодая весна.
Увидев Минусова, они вскочили, и Рудольф, пожимая руку, сказал:
— В гости к вам, Максимилиан Гурьянович. Разрешите представить: этого спеца-авторемонтника вы знаете, а деревенская красавица — моя жена Клава.
— Прошу. Рад, что пришли, не забываете… — Он вел их по лестнице, затем раздевал, рассаживал в комнате и чувствовал: он и в самом деле рад, у него повеселела кровь в жилах, ему приятно видеть их лица, слышать неумолчный говор; и он все приговаривал в забывчивости: — Рад, молодцы, прошу…
Из портфеля Рудольф Сергунин вынул бутылку португальского вина «Боргес Порто», апельсины, конфеты. Минусов для такого случая достал из серванта и протер полотенцем хрустальные бокалы, принес хлеба, своей диетической колбасы. Тесно расселись вокруг овального журнального столика. Вино в бокалах вишнево засветилось, блики упали на лица гостей, еще более оживив, зарумянив их. Стало и вовсе празднично. Минусов хотел поздравить Рудольфа и Клаву, сказать им лирическое напутствие, вроде придуманного тут же: пусть никогда не угаснет в ваших душах весна вашей встречи, — но Рудольф попросил его не утруждаться, а просто выпить вина, так как пожеланий они наслушались вдоволь и сюда, к Максимилиану Гурьяновичу, пришли затем, чтобы самим пожелать ему всего самого доброго и еще…
— И еще мне хотелось, — сказал Рудольф, — показать вам Клаву. Пусть и для нее найдется в вашем сердце немножко места, как для нас всех… Хотел отметить ее у вас… В загсе — по закону, у вас — по душе… Приобщить, что ли, к вашему клану дружбы, особой, минусовской. Пусть знает, как и мы все знаем, что вы есть, видите ее, помните, понимаете… Вот за это. — Рудольф выпил свое вино.
— Умеет выступать, — довольно пробороздил пятерней свою длинноволосую прическу Юрка Кудрявцев. — Зря в работягах остался.
Минусов потрогал его рыжеватые волосы:
— Техника безопасности не запрещает?
— В берете работаю.
— Помнишь, каким лохматым пришел поступать на станцию техобслуживания?
— Начальника аж затрясло… Теперь другое дело — передовик. И солдата сначала наголо стригут…
— Мода, значит?
— Вперед к человекообразным!
— А что, может, и в этом суть есть. — Минусов помолчал минуту, ожидая, не выскажет ли кто своей догадки, но гости молчали. — Предположим: подсознательная реакция на бурный научно-технический прогресс. Разум, рацио стремятся вперед, а душе хочется попридержаться в прошлом, более привычном. Как?
— Я за рацио, — сказал Рудольф. — Полностью. Душа, дух, подсознание — все хитрость лентяев, чтобы меньше думать, не напрягать мозговые клетки. А то: защекотала пятка — побежал; покушал сладенького — развеселился; взыграла душа после спиртного — бей в морду встречного-поперечного. Сколько бед от этого было и еще будет. В человеке много природной стихии. Только разум сделает его жизнь разумной.
— Я тоже так думаю, — слегка замявшись, проговорил негромко Юрка.
— Понятно: влияние старшего друга. А вы, Клава? — спросил Минусов и наконец повернулся к «деревенской красавице», чтобы разглядеть ее и, если заговорит, услышать ее голос.
Клава держала в ладошках бокал, отпитый на глоток, разглядывала хрусталь и вино, чуть улыбалась мерцанию света, дивясь, вероятно, никогда не виданному дорогому сосуду, да еще с неведомым португальским напитком (должно быть, в той атлантической Португалии все вишнево и хрустально), и не сразу поняла, что седой, громоздкий старик, о котором ей наговорили много хорошего и малопонятного, обращается именно к ней. Как и полагается «деревенской красавице», а таковой она и была — коренастенькая, голубоглазая, с твердой русой косицей, в деревенском сарафанчике, — она зарделась смугловатыми от загара щеками (успела загореть, работая на воздухе), застеснялась, смутилась до светленьких слезинок в глазах, потупилась, стиснула шершавыми ладошками бокал, пролепетала едва слышно:
— Н-не знаю…
— У нас совпадают взгляды, — вполне уверенно и серьезно сказал Рудольф.
— Уже?
— Вы знаете, Максимилиан Гурьянович, как я собирался жениться: какую выберет для меня баба Ирочка, на той и женюсь, если, конечно, и она меня выберет. Баба Ирочка привезла Клаву из деревни, познакомила нас, оставила поговорить. Я прямо сказал Клаве, что хочу на ней жениться. Ну, как, вы считаете, должна ответить девушка, даже суперсовременная, из нашего танцпавильона? Правильно: дай подумать недельку? Хотя бы недельку. А Клава уже после второй чашки чаю ответила: согласна. И не сидела вот так потупясь, и не краснела уже: она поняла, что это серьезно, что не нужны здесь обязательные правила любовной игры — больше для видимости, для соседей и родни, — ее разум ей подсказал: это он! А нежные словечки, ухаживания — ведь тоже от разума. Дуракам их любви ненадолго хватает, правда, Клава?
Она кивнула, вскинула голову, и это была иная Клава, словно бы вспомнившая, что она уже не деревенская девчонка, а жена рабочего Рудольфа Сергунина, и не просто рабочего — образованного, начитанного, сына ученых родителей, учившегося в МГУ, строившего Красноярскую ГЭС, очень непохожего на других парней и мужчин, говорящего не всегда понятно, но зато убежденно, открыто, так, как и живет сам; и она верит ему: да, правильно, надо, чтобы все — по-разумному, по доброму уму и размышлению, а на эти любови теперешние она тоже насмотрелась — сводятся да разводятся; нужна семья, нужен хороший человек — и любовь будет; почему не полюбить хорошего человека? Она уже любит Рудольфа хотя бы за то, что он видит в ней равного человека, а не девчонку, с которой можно только поиграть; и она счастлива, спокойна, у нее много радости впереди, пусть без танцев и ресторанов. Смотрите на Клаву, на совсем другую, она может не краснеть, не прятать глаза, может спокойно говорить (у нее вполне приятный голос), подождите немного, полгода, год, и она научится вести себя свободно, по-городскому, но так, чтобы всегда нравилось Рудольфу.
Минусов подивился, в какой уже раз, умению жены делаться похожей на мужа, если она его обожает, с радостью, даже с наслаждением перенимать мысли, поступки, угадывать его желания, угождать, оставаясь при всем женщиной ничуть не униженной. Жажда дополнить собой, возвысить обожаемого? Стать одним целым и потому более совершенным?.. Что-то древнее, изначальное. И напротив, жена всегда несчастна, если презирает, унижает мужа. Чем охотнее он подлаживается под нее, тем ненавистней становится, как бы лишая жену природного предначертания быть счастливой в ином, более важном — иметь мужа. Сколько приходилось слышать Минусову искренних жалоб чиновных и ученых женщин: «Ах, как хочется побыть просто бабой!» Однако слишком уж прямой расчет, выбранный Сергуниным и охотно принятый Клавой, точно некий неподписанный договор на верность, счастье, семью, беспокоил Минусова непривычным сомнением.
— Шел я сейчас парком, — заговорил он, оглядывая притихших гостей, явно приготовившихся слушать его. — Сыро, ветерок прохладный, зелень сверкает… И вспомнились мне строчки, давно вроде бы позабытые. «Апрельская острая зелень на стуже — как вскрик, как испуг. Прислушайся: птицы и звери в душе шелохнулись вдруг. Прихлынули смутные звуки, дохнула земля глубиной… Сожмем же покрепче руки, чтоб выстоять нам под Луной». Вдумайтесь: весна, все оживает, пробуждается, человек, словно оттаивая после долгой зимы, жаждет сближения с природой… и тут слышит: «Птицы и звери в душе шелохнулись вдруг». Раньше я не задумывался над смыслом стихотворения, а теперь донял так: в человеке еще много дикого, природного, стихийного, человеку надо освобождаться от этого, чтобы не погубить себя. Потому-то поэт призывает: «Сожмем же покрепче руки, чтоб выстоять нам под Луной». Очень близко к тому, что говорите вы, Рудольф.
— Именно. Даже точнее, образнее… О зверях — прямо моя больная мысль! Чьи стихи?
— Не помню. Может, мои давние. Но давайте спокойно разберемся. Человек — дитя природы. Пока с этим все согласны. А значит, природа наградила человека ощущениями, чувствами и мыслительной способностью. Одного больше в человеке, другого меньше… Представьте себе лишь ощущающее существо — это животное. Но и только мыслящее, лишенное ощущений, чувств — машина. И такая машина не менее опасна. Значит?..
— Фифти-фифти! — выкрикнул Юрка Кудрявцев, утомившийся от молчания, осушивший свой бокал. — Золотая серединка, одним словом, Максминус, извините! Максимилиан Гурьянович!
— Извиняю, — кивнул Минусов, рассмеявшись. — Пью за фифти-фифти. Только норма сделает человека нормальным. Имею в виду, конечно, все: физическую, мыслительную, духовную норму.
— Согласен, — улыбнулся и Рудольф Сергунин. — Но настаиваю: чувства, эмоции — для личного употребления; для общественного — только разум. Разума не хватает людям.
— Да здравствует разум! — Юрка наполнил бокалы, подал каждому, торопливо чокаясь.
— Подожди, юный бражник, — придержал его руку Сергунин. — Мысль потеряю… О себе хочу сказать. Помните, Максимилиан Гурьянович, машину помял мне один тип? Истерика случилась, правда? Эмоции, переживания измучили меня. А ведь тогда я уже считал себя разумным существом. Вот она, сила природы. Ладно хоть частный случай… А если большой начальник так расчувствуется?.. С того случая я занялся собой серьезно.
Юрка, снова зацокав своим бокалом о другие, сказал:
— Создадим общество Разума, два члена имеются…
— А я? — спросила серьезно Клава.
— Ну, три. Женюсь — будет четвертая…
— Для начала, — Рудольф взял у него бокал, поставил на столик, — разумно относись к этому.
— Да я что, пьющий? — вскочил вдруг возмутившийся авторемонтник Кудрявцев. — Ради тебя же! Да вот Максимилиана Гурьяновича давно не видел. Шуток не понимаешь, рацио-сухарь!
Сергунин выждал, пока отговорится, отбегается по комнате молоденький дружок, сказал, вздохнув огорченно:
— Вот, видели? Только что с дерева спрыгнул. На хвосте висел.
Разом развеселились, и Юрка, немного похмурившись и поняв шутку, тоже отмяк по-мальчишески легко.
Минусов поднял свой бокал и этим как бы попросил слова.
— Вы, Рудольф, говорили о клане особой минусовской дружбы. Вернее было бы сказать: максминусовской. Не смущайтесь, мне это больше нравится. Тут Гарущенко выразил, по-видимому, мою суть. Я подхожу к дружбе с минусом, даже максминусом — нет человека хоть чем-то ниже меня, не должно быть. Вот и все. Поэтому в мой «клан» заранее приняты все, близкие и дальние. А теперь давайте по российскому обычаю выпьем за сочетавшихся браком Рудольфа и Клавдию, крикнем им горько, пожелаем всяческого добра, здоровых детишек, долгих лет разумной любви.
— Горько! — охотно поддержал Юрка, едва сносивший мудреные разговоры.
Рудольф и Клава потянулись друг к дружке. Рудольф хотел поцеловать жену спокойно, словно выполняя серьезнее дело, но все-таки улыбнулся чуть растерянно, Клава же вмиг залилась румянцем до корешков волос на незагорелом лбу, прижмурила глаза, а после поцелуя спрятала в ладошки лицо.
Допили вино, поговорили о весне, автомобильном сезоне, городских новостях, и Минусов проводил гостей на лестничную площадку, пожал им руки, сказал самые нежные, какие только нашлись, слова. Вернувшись, прилег на диван, и первое, о чем подумал, была мысль о Юрке Кудрявцеве: «Хорошо, беспризорник пристроен, попал в надежные руки». Затем, понемногу задремывая от разморившего вина, размышлял о случайностях житейских. Не произойди авария у Сергунина, не встретился бы он с Кудрявцевым… А еще ранее, не столкнись он с хозяином «Волги»… Нет, еще раньше, не заведи хозяин «Волги» любовницу… и т. д.
Но перед тем как заснуть, ему вдруг ясно подумалось: а ведь во всю историю свою люди стремились к разуму, разумности. Безрассудство прощалось лишь влюбленным. Удастся ли теперешним молодым, цивилизованным, сделать любовь разумной?»
— Так, Ольга Борисовна, слушайте внимательно. Вы сидите в кресле водителя автомобиля «Запорожец». Справа от вас — я, на месте пассажира, позади пока пусто, но тоже могут быть пассажиры. Вам нужно, вы хотите вести автомобиль. А для этого необходимо научиться управлять им. Правильно?
— Да, Максимилиан Гурьянович. — Ольга Борисовна Калиновская, наряженная в серый брючный костюм, спортивную вязаную шапочку, с зеленым шарфиком, перекинутым через плечо, сидела, прямо и строго держа спину, цепко схватившись за рулевое колесо руками в тонких замшевых перчатках. — А я могу сразу поехать?
— Нет. Потому что не включен мотор. Но даже если будет работать мотор, вы не поедете: автомобиль придуман разумно — глохнет, не двигается с места, если человеку неизвестны хотя бы элементарные правила вождения. С них мы и начнем. Расслабьтесь, опустите руки, смотрите вниз, вон на те три педали. В них, да в этом рычажке, что у вашей правой руки, вся суть движения автомобиля. Рулевое колесо, или просто баранка, — всего лишь вожжи для железного коня, но все видят баранку, и она стала как бы символом шоферской работы. Другое, самое важное, выполняется водителем едва приметно, автоматически, а для этого нужна очень большая тренировка…
— Я знаю, читала инструкцию.
Минусов, словно не услышав ее слов, не почувствовав ее почти детского нетерпения, размеренно продолжал:
— Нажмите левой ногой левую крайнюю педаль. До упора. Так. Это сцепление. Правую руку положите на головку рычага скоростей, и давайте вместе включим первую скорость. Движение начинается только с первой. Так, почувствовали: чуть влево и вперед. Теперь мягко отпускайте сцепление, а правой ногой, тоже мягко, утопляйте педаль акселератора, как бы прибавляя газ. Если резко отпустите сцепление и не прибавите достаточно газа, мотор заглохнет. Вот вам первые, простые и очень сложные (сложные в четкой последовательности, синхронности), движения, без которых не обходится ни один шофер мира. Тренируйтесь. Повторите терпеливо и много-много раз.
Выйдя из «Запорожца» и оставив дверцу открытой, Минусов сел на сухой бугорок у корневища сосны, уперся спиной в подогретый солнцем, слегка гудящий от верхового ветра ствол. Зеленый луг ровным, точно подстриженным газоном, раскинулся между лесом и берегом речки, был достаточно широк, чтобы не пугаться начинающему водителю деревьев и речки, и здесь, судя по прошлогодним колеям, «накатывали опыт» автолюбители. «Запорожец» оранжево сиял, напоминая Минусову сплющенный апельсин, теперь надкушенный, — с откинутой дверцей, — внутри которого в профиль к нему сидела худенькая, рослая женщина, казавшаяся сейчас очень молодой. Она старательно и более спокойно, чем при нем, жала на педали, передвигала рычаг скоростей. Ее четкая фигура покачивалась однообразно, почти без остановок: голова клонилась к ветровому стеклу, затем откидывалась к спинке сиденья, и снова, снова… Да, только учительница, с ее бесконечным терпением, повторами одного и того же, привычкой ценить минуты, жить по расписанию, могла так покорно и выносливо тренировать себя. Нет, Минусову уже не казался глупостью «Запорожец»: бывшей учительнице, да еще одинокой, невозможно стать пенсионеркой, просиживающей дни на скамейке у подъезда; сесть, затормозить себя — для нее конец, смерть. Автомобиль же — движение, дороги, села и города, пусть недальние, а главное — люди, встречи, впечатления. Ведь и сам он странствовал в кабине автомобиля.
Минусов прикрыл глаза, прижал затылок к еще более загудевшей сосне, хотел забыться на минуту-две, но мысль, явившись — в несчетный уже раз! — не отступала; кто-то в нем спрашивал его же: «Почему ты оставил ее? Она бы поехала, приехала, куда бы ты ни позвал. Она не испугалась твоего туберкулеза — разве могла устрашить ее Сибирь?.. Посмотри, как покорно-старательно учится водить машину, она хочет хотя бы в этом сравняться с тобой…» — «Нет, — встряхивая головой, отвечал кому-то Минусов, — не так все просто! Это теперь, когда все позади… А тогда? Кто я был? Никто. Куда мог звать? Никуда. Я уехал искать себя, не надеясь выжить… Отчаянный рывок больного телом и душой… А она жила, была готова к жизни. Ее надо было освободить. И мне освободиться: она всюду нянчила бы меня. Теперь я хоть кто-то, при ней — остался бы никем… А любовь?.. Кто же тогда думал о любви, да и была ли она сильной? Я хотел, чтобы моя Олечка-математичка вышла замуж. Выходила. Дважды. Значит…»
Заработал мотор, надрывно взревывая. Минусов вскочил и увидел: по лугу катился «Запорожец» с распахнутой дверцей, катился наискось, к лесу. Ольга Борисовна, упав грудью на руль, держала его, словно что-то живое, вырывающееся, акселератор был вдавлен до предела, и мотор яростно гудел, томясь на первой, самой медленной скорости. Минусов побежал наперерез, рассчитывая перехватить машину у крайних сосен, успел, хоть и задохнулся от волнения и бега, схватился обеими руками за дверцу, крикнул:
— Ногу, ногу убери!
Ольга Борисовна услышала, мгновенно, как от огня, отдернула ногу, мотор заглох, «Запорожец» резко остановился, едва не ткнувшись фарой в сосну.
Выпрыгнув из машины, точно ее грубо вытолкнули, Ольга Борисовна чуть не упала, запнувшись о кочку, лицо у нее было серым, в капельках пота на лбу и верхней губе, глаза расширены и расплывчаты от скопившихся слез; дрожащим, всхлипывающим голосом, прижав стиснутые добела кулачки, она часто заговорила:
— Не знаю… не знаю, как поехала… Я хотела включить мотор… только мотор… и поехала… Почему?.. Это сама машина!..
По немалому опыту Минусов знал: успокаивать нет смысла, можешь вызвать еще большую истерику, рыдания, клятвы не подходить близко к страшной машине, которую надо немедленно продать и т. д. Пусть начинающий автолюбитель сам переможет себя, свой страх, свою минутную ненависть к автомобилю; усмирится, просушит глаза, посмотрит на себя чуть со стороны и усмехнется (это непременно случается) своему комичному поведению. А когда скажет себе приблизительно такие слова: «Все водят, никто не боится, я не хуже других, научусь, не брошу…» — можно спокойно продолжать обучение.
Минусов влез, точнее, втиснулся в «Запорожец» — для него машина была явно тесновата, — захлопнул дверцы, включил мотор, проехал краем поляны от леса к речке, описав большой круг, и остановился там, откуда, по заверению Ольги Борисовны, машина «сама поехала». Хозяйка теперь сидела на низеньком пенечке возле куста орешника, опустив руки, вяло склонившись, смотрела куда-то вкось, в зеленые просветы между стволами сосен, Минусов проверил время — было одиннадцать утра. Прошел всего час, как они сюда приехали. Всего час… и такое потрясение… в мирное, тихое, солнечное весеннее утро. Зачем человеку эти психотравмы? И от чего? От этой оранжевой коробки на резиновых колесах, пахнущей бензином, заводом? Откуда неукротимая тяга к железным самоходным существам? Век научно-технической революции? Хорошо — молодые пусть, им не жить без машин, как раньше не жили без коня, вола; но все-то зачем ринулись приобретать личный транспорт? Мода? Зараза? Престиж? Жажда путешествий? (Да у многих они в гаражах стареют!) А обуза, какая обуза! Хочешь лишиться свободы — садись за руль. Все милиционеры станут твоими начальниками, куда ни поедешь — ничего не увидишь, кроме дороги под колесами; поставишь на ночь — бойся: украдут! Помнешь, поцарапаешь — огорчайся, ремонтируй, плати… И катай, вози родных, друзей, знакомых, которые почему-то никогда не чистят коврики, испачканные ногами, и тем паче не моют твою машину… Ну, скажите, зачем вам автомобиль? Грузовик — работает, без него нельзя. А свой, личный, легковой? Сел в поезд, самолет, электричку — ты человек: говори, смотри, общайся, закусывай… Минуточку, придется прервать умные рассуждения: во-первых, совсем недавно я думал иначе, во-вторых, Ольга Борисовна поднялась, поправила спортивную шапочку на туго причесанной головке и довольно твердо зашагала к своему «Запорожцу».
Минусов отворил дверцу, она села рядом, на «пассажирское» кресло, сказала:
— Кошмар какой-то… Извините, Максимилиан Гурьянович…
— Виноват я: не полагается оставлять новичка наедине с машиной. Помните — и грабли стреляют… Нарушил инструкцию. Понадеялся на вашу педантичность учительскую, простите. Но машина провоцирует. Это установлено: севший за руль теряет часть своей воли. Кто сколько — от характера.
— Буду слушаться.
— Привыкайте, Ольга Борисовна. Ваша жизнь теперь станет иной — придется слушаться, подчиняться, выслушивать. Даже простой уличный знак, какового вы никогда не примечали, — указующий перст для вас. А что натерпелись страху сразу, может, и хорошо: останется в душе маленькая зарубочка, и будет она вас предостерегать. Нечто подобное и со мной произошло вначале… По крайней мере, вы поняли, что красивая коробочка на быстрых колесиках — не игрушка.
Ольга Борисовна осторожно повернула голову, оглядела руль, затем приборную панель, опустила глаза к рычагу скоростей, педалям, словно бы ища в чем-то скрытую причину своей беды, и отвернулась так же неторопливо, еле слышно вздохнув.
— Давайте я повожу, а вы понаблюдайте. Смотрите сюда. Буду делать как в замедленном кино.
Заведя мотор и дав поработать вхолостую. Минусов снял ручной тормоз, выжал левой ногой педаль сцепления, включил первую скорость и, понемногу отпуская педаль сцепления, носком правой ноги утоплял акселератор, прибавляя обороты мотору. Автомобиль напрягся, что-то нужное и точное свершилось в его внутренностях, он вздрогнул и мягко, почти неприметно покатился. Минусов снова выжал педаль сцепления, включил вторую скорость, затем, через минуту, третью. «Запорожец» начал выписывать по ровной молодой траве луга широкие, плавные круги, будто снижающийся самолет; и это впечатление усиливалось еще потому, что от колес не оставалось видимого следа. Минусов снял скорость, переведя рычаг в нейтральное положение, показал, как автомобиль останавливается сам. И снова молча, медленно, чувствуя нахмуренный, цепкий взгляд Ольги Борисовны, повторил все сначала. После двадцатого или двадцать пятого раза сказал:
— Вот такой примитивной работой будете заниматься, пока на расхочется ездить на личном транспорте.
«Представьте себе трубопровод диаметром в один метр или больше, в зависимости от необходимой производительности, уложенный в траншею и засыпанный землей. Он никому не мешает, его никто не видит. И по трубопроводу бегут поезда из контейнеров со скоростью шестьдесят и больше километров в час. Движение их обеспечивается минимальным избыточным давлением воздуха, создаваемого установленными в начале и на трассе трубопровода воздуходувными станциями.
По трубопроводам могут перемещаться как отдельные контейнеры, так и составы из них. Колеса контейнеров покрыты слоем резины или, к примеру, полиуретана, и это тоже немаловажно: трубопровод почти не изнашивается, вся система работает бесшумно… Транспортировка различных грузов — сырье, готовая продукция, сельскохозяйственные продукты, почтовые отправления, бытовые отходы и многое другое — будет производиться также в контейнерах…
Контейнерные трубопроводы характеризуются самой высокой по сравнению с другими видами транспорта производительностью труда: в десять — пятнадцать раз большей, к примеру, чем в автотранспорте… Транспортировка в контейнерах по трубопроводу — революция в основах транспорта…»
Минусов отодвинул журнал со статьей «Транспорт будущего» и некоторое время сидел, невидяще уставясь в зарешеченное окно сторожки. Там зеркальными пятнами промелькивали автомобили, от гаражей слышались приглушенные голоса, а он не двигался, боясь помешать себе обдумать до конца поразившую его мысль. Именно поразившую. Минусов четче, зримее старался постигнуть суть этой «технической революции». И вот он тихо засмеялся, вскочил почти по-молодому, зашагал от стола к двери тесной сторожки.
— Что же это получается? — заговорил он, позабыв, как часто с ним случалось, что рядом никого нет. — Потрясающе получается! — Ему припомнился огромный, дымный, рычащий моторами карьер в Мирном, суета машин, чумазые лица шоферов, морозы, поломки, ругань, адски тяжелая усталость… — Построить один кольцевой трубопровод — кимберлитовая руда сама потечет на фабрику. Долби, наполняй контейнеры… Не нужны станут в будущем многие дороги, тысячи грузовиков, и нам, шоферне, придет отставка… Слышишь, Алешка Коньков? Жаль, не дожил, торопился жить, верил автомобилю, как самому надежному другу, думал, не будет конца его веку. А вот глянь! — Минусов ударил ладонью по раскрытому журналу. — Глянь, прочитай, хоть ты и презирал всякое чтиво. Каюк нашему родному транспорту. Скоро. Может, я еще доживу!
Он листает журнал, изумляется. Более пяти лет работает контейнерный трубопровод в Грузии, названный нежно «Лило-1», перевез миллионы тонн гравия; строится новый, длиной в пятьдесят километров. Совсем недавно вблизи Волоколамска, под Москвой, сооружена мощная контейнерно-трубопроводная установка для транспортировки гравия. Да, пока — гравий, стройматериалы, руда… Но вот и другое. Одна американская фирма сообщила о проекте пассажирского трубопровода, по которому составы будут мчаться со скоростью около тысячи километров в час. Япония, Канада, Швеция строят трубопроводные системы. О «транспорте будущего» заговорили во всех странах.
Вчера заходил мастер Качуров, рассказал: «Еду по шоссе, вижу на обочине «Москвич» стоит, а к ветровому стеклу прилажен плакат с большими буквами «SOS!». Остроумно придумано. Не смог проехать, остановился, помог в зажигании разобраться». Вот именно — «SOS!». Но «Спасите наши души!» уже кричат и пешеходы, глядя на гудящие потоки импозантных «мерседесов», хвостатых «шевроле», горбатеньких «фольксвагенов», изящных «таунусов», нагловатых «фордов», поджарых «фиатов», «рено», «пежо», «ситроенов», «тойот», «понтиаков»… Люди теряют сознание от смога, регулировщики дежурят в противогазах, даже ночами города не знают тишины, а рычащих железных зверей все прибавляется. Они не мчатся, как прежде, не бегают — ползают, потому что запрудили улицы и шоссе. Сжирают воздух, отравляют воду, вытаптывают луга и рощи и… да, совершенно бесчувственно убивают своих создателей. Схватились за головы мэры городов, экономисты, социологи, каждый на свой голос начал выкрикивать безнадежное «SOS!». А где-то в тиши, может, и в одиночестве сидел некто, кого называют привычным, норой пренебрежительным словом «изобретатель» («это они, они напридумывали всего на наши головы!»), сидел себе, ходил пешочком, если у него не имелось личного автоматического средства передвижения, и вдруг сказал: «Люди, я помогу вам!»
Так или совсем иначе было, суть не в этом: главное — явилась надежда избавиться от автомобильного безумства, загнать все движение под землю. Кто же будет маяться за рулем полторы тысячи километров, если его доставят в чистеньком вагончике, предположим, в Крым за два часа. Зарастут лесами ненужные дороги. Выше над землей поднимется небо.
«А туризм?» — спросит кто-нибудь. «Только пеший, — отвечает уже сейчас шофер Минусов. — Выйдете из подземки в нужном вам месте и шагайте в «любую сторону вашей души». Спросит любознательный еще: «Совсем-совсем не будет автомобилей?» — «Будут, дорогой! Ведь и конь не вымер, хоть перестал нас возить и кормить. Для особенно одержимых останутся автотреки, гоночные трассы с препятствиями, на которых можно будет свернуть голову… Но запретит мировой закон колесить по улицам городов, по лесам и долам. Жизнь станет истинно скоростной и… пешеходной».
— Вот так, дорогие люди! Природа сама приготовила нам и движение и покой. Надо найти, овладеть их лучшими, высшими формами, и мы достигнем гармонии.
Минусов полистал свои записи в тетрадях, отчеркнул карандашом когда-то выписанный абзац:
«Римский император Гай Калигула ввел в сенат своего любимого рыжего коня, приказал считать его сенатором. И сошла эта лошадиная выходка Калигуле, сенаторы восторженно встретили мудрое решение императора. Один даже сказал: «Все мы животные, в сущности. Только у одних две ноги, у других — четыре. Почему же не быть четырем?» Сенаторы воскликнули: «Да здравствует сенатор Рыжий конь!»
Ниже было написано:
«Не произойдет ли нечто подобное с автомобилем, который неудержимо очеловечивается? Будет сказано лишь: «Все мы, в сущности, машины. Только у одних две ноги, у других — четыре колеса».
Поднявшись Минусов снова заходил от стола к двери, рассуждая вслух:
— Удивительно, как мало меняются люди. Раньше всадник, сошедший с коня, не чувствовал себя человеком. Теперь иной автомобилист, выпустив из рук баранку, наполовину теряет свою личность. Не говоря уже о калигулах, жаждущих взирать на толпу с высокого седла…
В сторожку быстро, без лишних движений и шума, вошел председатель гаражного кооператива Журба, молча и жестковато пожал Минусову руку, придвинул к столу свой особый полумягкий стул, вынул серебряный именной портсигар, закурил ментоловую сигаретку, попыхал строго дымком, спросил, четко выговаривая слова, точно рапортуя кому-то и ожидая в ответ такого же четкого рапорта:
— Есть происшествия, товарищ Минусов? Если имеются — какие? Трезвым ли был сторож Кошечкин?
Так же кратко и внятно доложив, что в течение его дежурства никаких ЧП не произошло и что Кошечкин почти твердо держался на ногах, Минусов пододвинул Журбе журнал со статьей «Транспорт будущего», сказал тем же тоном:
— Гляньте, Яков Иванович, важное сообщение.
Журба серьезно, словно положили перед ним действительно важное и срочное донесение, принялся читать, а Минусов, присев на лежанку, стал рассматривать его, снова дивясь необыкновенному облику и характеру полковника запаса. Сухой, свежелицый, белоголовый, но и седина у него ровная, без подпалин и проплешин, какая-то по-особенному крепкая и здоровая. В движениях, голосе, прямом, уверенном взгляде — покой душевный, правдивость поступков, мыслей. Как удалось Журбе сохранить, воспитать себя таким? На долгой службе, при жесткой дисциплине, выдержке, норме?.. Был ли он молодым, сомневающимся, бездумно бегавшим за девчатами? Имел ли, воюя четыре года, «фронтовую жену»? Ошибался, получал взыскания?.. Или сразу родился командиром Журбой, сначала маленьким, но вполне зрелым, а потом лишь вырос и занял приготовленное ему место — для порядка, дисциплины?.. И «Волга» у него потому, что полагается Журбе именно «Волга», хоть и томится она в гараже, и жена, и сын, и внук — для примера, порядка… А за все это Журба получил очень редкое человеческое счастье: душевный покой, достаток, долголетие. Минусов спросил себя: «Хочется мне того же?» — и ощутил, как беглый холодок пронизал ему грудь, темной тяжестью скопился в сердце: «Нет, ни на минуту!..» Уже спокойнее, видя, что Журба дочитывает статью, Минусов решил примирительно: «Многие из нас такие, какими сделала их жизнь».
— Правильно, Максимилиан Гурьянович, ценное сообщение. Слыхал я, слыхал, а теперь вот печатное подтверждение. — Задумчиво посмотрев в окошко, где за бетонной дорожкой, посреди зазеленевшего травой пустыря чернела груда сгоревшей машины Михаила Гарущенко, председатель Журба жестко нахмурился. — Пора субботник провести, убрать территорию гаражей, захламили, неаккуратный народ… Не могу навести должного порядка.
— Ну, вам многое удалось. Наш кооператив — гарнизон почти.
— Благодарю. Стихийность сломим. — Журба кивнул, слегка выпрямившись на стуле, как бы заверил вышестоящее начальство в своей железной непреклонности. — А насчет подземного транспорта вот что вам скажу. Хорошая мысль. Но представьте — началась война. Трубопроводами будем воевать?
— Надеюсь, к тому времени люди разучатся воевать. Да и для войны трубопровод удобнее железной дороги.
— Мечтатель вы, товарищ Минусов, сочинитель, одним словом… Пишете, читаете… Интересно узнать, меня тоже вставите в свои произведения?
— Вставлю. И вас, и того лейтенанта Родимова, помните, рассказывали, с несчастной любовью. И вашу мысль: самое страшное для человека — неизвестность.
— О, вы все запоминаете? Опасный человек! А разрешите полюбопытствовать: каким таким я буду описан?
— Постараюсь приблизиться к истине.
— Вы же не знаете меня. Надо встретиться, чайку попить, по рюмочке, может быть, в домашней обстановке. Побеседовать. Все некогда…
— Можно чайку. Но вы и так почти понятны.
Журба встал, в упор и пристально оглядел Минусова, как заговорившегося младшего чина, хмыкнул, строго и искренне удивившись всему услышанному, сильно пожал руку, молча вышел; мимо окна прошагал как обычно, прямой в четкий, лишь губы у него были жестко стиснуты, точно он все еще удивленно хмыкал.
Обиделся невозмутимый человек. Минусов сожалеючи вздохнул: зря он так неосторожно, да ведь не угадаешь… Нужный, справедливый, сотворенный для порядка человек. Жаль, что мир из таких людей стал бы скучноватым. Они лишь в деле, сиюминутной заботе… Минусов сел к столу, принялся заново перечитывать статью «Транспорт будущего» и вскоре позабыл о разговоре с председателем гаражного кооператива. Он ясно, до вещественного ощущения, видел города и земные просторы будущего. Тишина! Зелень дерев, трав — и тишина! По середине улиц бесшумно, подобно эскалаторам, движутся тротуары, а края, где магазины, театры, аптеки — для пешеходов. Слышатся лишь говор людей, шорох шагов да птичье пенье в скверах и парках.
А самолеты?
Только спортивные. Это примитивный, вредный для атмосферы вид транспорта. Слышали: по трубопроводам составы уже сейчас могут двигаться со скоростью до тысячи километров в час. Конечно, им придумают более благозвучное название. Но это потом, это еще не скоро. А сначала умрет железная, гремящая, чадящая коробка на четырех колесах.
Минусов взял фломастер, подошел к плакату с голубым автомобилем, украшавшему дощатую стену сторожки, и перечеркнул его черным крестом.
Михаил Гарущенко ходил по опустевшей, осиротелой и в то же время словно разгромленной квартире: книги, картины, мягкие вещи были упакованы в магазинные фанерные ящики из-под чая, мебель сдвинута ближе к прихожей, чтобы ее быстрее вынести и погрузить на грузовик; лишь тахта с твердыми зелеными подушками пока еще занимала свое обычное место, и на ней, подложив под голову сложенный подушкой плед, спала или сладко дремала его жена — Екатерина Гарущенко. Через час появится машина и увезет их за сто километров, в большой город, где они начнут новую, теперь уже семейную жизнь: квартира удачно обменена, все лишнее продано, с родителями улажено.
Михаил не мог освободиться от предотъездовской суеты, ходил, обдумывая, не позабыл ли чего, в порядке ли документы, на месте ли квитанция за оплату грузового такси; наконец, догадался, что надо присесть, утихомириться, спокойно обозреть бывшее жилище — так полагается по народному обычаю.
Было тихо. В солнечном свете, вольно наполнившем пустую комнату, метались потревоженные пылинки, слышалось голубиное гульканье под крышей и чистое, глубокое дыхание Кати; она лежала на спине, в темном дорожном платье, с заметно округлившимся животом, так переменившим ее фигуру; и странно, и до умиления удивительно было Михаилу видеть теперешнюю Катю; разве мог он даже подумать, что ее тонкое, слегка угловатое, отлично тренированное тело, как бы навсегда обретшее единственно возможные формы, по его вине начнет тяжелеть, полнеть, точно расслабляться, и все-таки не терять изящества, привлекательности, напротив, становиться более родным, почти некоей частью его самого. Катя давно уже не красилась, не наклеивала ресниц, и Михаил знал ее настоящую: с волосами шелковистой молодой соломы, с деревенским румянцем на щеках, наивно голубоглазую, с конопушками на носу. Иным оказался ее характер. Лишь до времени, до минуты воскресения, как случается с российскими натурами, она была безрассудной, томной болтушкой Кеттикис, но, полюбив, воспряла, восстала против самой себя прежней, всего мира, просто и ясно заявив: я буду любить, стану той, единственно настоящей, или умру! Погибла, сгорела машина. Истлела прожитая жизнь.
Но день тот не забудется. Михаил привел к себе Катю, испачканную сажей, с обожженным лицом, едва волочившую ноги, помешанно твердившую: «Убей меня. Убей…» Он пытался успокоить ее, она не слышала его. Он уложил ее на тахту, и она, словно и впрямь убитая, мгновенно уснула. Михаил сел в это кресло, в этом же углу и заплакал. Первый раз со времени бегства от преподавательницы эстетики Марианны Сергеевны: жалея себя, ненавидя за беспомощность; а потом уже в голос и надрывно рыдал, радуясь, что вот так, искренне, горько, по-детски может плакать…
Он увел Катю от любопытствующей добро и зло толпы — скрыться, исчезнуть хотя бы на время. Не мог, не хватило в нем злости, отчаяния бросить ее, стоящую перед ним на коленях, в липкой, истоптанной грязи луга, да и, если признаться откровенно, испугался всего, что обычно бывает после таких происшествий, — невероятных сплетен, разбирательств, слез, мук родителей… А здесь, в своей квартире, сначала смутно, затем ясно, как бы предопределенно, он осознал: не сможет прогнать Катю. Некуда ей идти.
От утомления Михаил тоже забылся дремотой, а когда очнулся — перед ним стоял и что-то говорил автоинспектор. Дверь оказалась незапертой, сержант звонил, спрашивал разрешения, никто не ответил, он решил все-таки войти («Подозрительно, дверь почти настежь») и стоял перед Михаилом, извиняясь за вторжение, спрашивал о самочувствии, даже слегка коснулся ладонью лба потерпевшего хозяина квартиры. Наконец Михаил понял: инспектор пришел составить протокол по поводу умышленно сожженной машины, но удивился, почему же и сама ответчица здесь, однако глянул на нее мельком: в измятом и порванном платье, со спустившимися чулками, разлохмаченная, она шокировала молоденького сержанта. Бочком присев к столу, вынув из планшета форменную бумагу, он уже строго, входя в должность, спросил: «Фамилия, имя, отчество?» Михаил встал, положил руку на жесткий погон автоинспектора: «Не надо». Далее сказал то, что само собой вызрело в нем, сложилось единственным решением. «Пишите. Моя невеста Екатерина Алексеевна Кислова по моей просьбе вывела из гаража принадлежавший мне автомобиль «Жигули», чтобы помыть, почистить мотор, но, по неопытности, замкнула электропроводку, возникла искра, автомобиль загорелся… Потушить не удалось… Вину беру полностью на себя. Дайте, распишусь». Сержант ушел до крайности смущенный, но вполне довольный мирным исходом аварийного происшествия.
Жалел ли Михаил «Жигули»? Не очень, пожалуй. Где-то на донышке сознания никогда не замирало стыдливое чувство: «Халтурой нажил…» А это… Это значит — вроде бы не совсем твоя вещь. Пользуйся, пока она у тебя. Потеряешь — погорюй для приличия, но души не надрывай: ушло, уничтожилось то, что не стало, не могло стать ценностью, привязанностью, ибо в нем ничтожно мало тебя самого.
Потом было пробуждение Кати, слезы, страх, ее истерические уверения, что нет, она не могла этого сделать, так поступить, ей, ему это привиделось во сне, а если и сделала, то вовсе не она, в нее вселилась какая-то дикая сила, она не смогла одолеть ее, была ненормальная… Михаил долго слушал ее, и когда ему стало казаться, что «дикая сила», вселившаяся в нее, вот-вот сведет Катю с ума, он обнял ее, сказал как мог спокойно и твердо: «Все. Будем вместе. Попробуем жить вместе. Судьба, значит… Только уедем отсюда». Катя затихла, точно испуганная, полупоняв его слова, а минуту спустя, в такой же, как сейчас, тишине ответила: «Да, да, скорее уедем!»
Они уезжают, им остался час дышать воздухом этого города; Михаил Гарущенко одиноко оглядывает уже чужую квартиру (скоро явятся друзья, загрузят вещами машину, разопьют прощальное вино); его беременная жена, отрешенно и сладко, как, наверное, умеют лишь беременные, дремлет перед дорогой. «Надо посадить ее в кабину, — думает Михаил, — ей будет удобнее в кабине…» И вспоминает, подумав о кабине: он же хотел проститься с Минусовым! Обещал забежать хотя бы на минуту. Он видел его неделю назад, когда продавал гараж владелице «Запорожца», пожилой женщине, вроде бы давней знакомой Минусова… Михаил вскакивает, смотрит на часы — пятьдесят минут осталось… Если быстрым шагом, десять — туда, десять обратно, полчаса — там. Но нельзя оставить спящей Катю, проснется, испугается… Он склоняется, целует ее в губы, нос, как бы прерывая ее ровное дыхание, она медленно растворяет влажную и оттого яркую голубизну глаз, чуть хмурит брови, спрашивая, что случилось? Михаил быстро говорит ей, что надо повидаться с Минусовым, идет к двери и слышит:
— Мишенька, поцелуй его за меня!
Он застал Максимилиана Минусова в сторожке, листающего свои толстые тетради, мирно прихлебывающего крепкий чаек, в видимом благодушии, простоте и всегдашнем спокойствии. Спешно и громко наговаривая слова прощания, он подал ему руку, которую Минусов задержал в своей, а задержав, глянул чуть грустно в глаза, и Михаил мигом остыл, застыдился своей суеты, тихо присел на жесткую лежанку у стола.
— Вот, пришел сказать вам… Сказать: простите мне все мои выходки… дурацкие. И за Максминуса тоже, уеду — перестанут вас так называть…
— Нет, Миша, клички иногда пристают крепче фамилий, над ними не властвуют их носители. Вы ведь и себя не щадили, я вас буду вспоминать еще и как Мишеля Гарущенского, в той, вашей прежней жизни. Ведь вы мне этого не запретите? — Минусов склонился к Михаилу с медленной, не сходящей с губ улыбкой, доброй и грустноватой в опущенных краешках губ, скрытых резкими морщинами. — Ваши годы, вернее сказать, ваше бытие в гаражном кооперативе, который вы прозвали «Клаксон», запомнится; всему и всем вы дали клички, словно бы заново окрестили, присвоили единственно возможные, нужные имена: Автокачур, Журбарс, Рудосерд, даже мою знакомую успели окрестить — Автобабушка… Знаете, как в старину? Человека не называли Иван или Сидор при рождении, он получал имя, когда проявлял свой характер, показывал себя в деле: Скупец, Шатун, Коваль, Хитрец… Так вот, в «Клаксоне» вас не забудут и не терпевшие вас, и равнодушные, и любившие.
— Понимаю, Максимилиан Гурьянович, только от вас и можно это услышать… Извините, я называл вас на «ты». Шалопай престарелый… Храбрился. А в душе, Максимилиан Гурьянович, в душе, можете поверить, я боялся, трусил перед вами… Хамил и трусил. И радовался, что вы есть здесь, в этой сторожке.
— Я знал, чувствовал. Да помочь ничем не мог. Словом, Максминус… Он просто должен существовать. Минусу нельзя во что-либо вмешиваться.
— О, это еще какое вмешательство! Плюс сам кричит, что он Плюс.
Минусов засмеялся, положил ладонь на плечо Михаила Гарущенко, слегка потуркал его, — мол, подними голову, оставь печальные мысли, смейся, смотри на старика Минусова, мудрствуй лишь наедине с собой. И Михаил выпрямился и засмеялся, оглядывая с радостью сторожа гаражного кооператива: могучего, седогривого, усталого, старчески… да, красивого старчески, иного слова не подберешь, много знающего, мудрого, но все равно лишь человека, с простыми человеческими возможностями, не больше, но — человека: и это уже так много! Быть просто человеком, а не казаться таковым… Михаил аж вздрогнул от внезапного прозрения, ему захотелось немедленно сказать об этом Минусову, признаться, что вся его прежняя жизнь была игрой в человека, но старик, словно угадав его мысли, проговорил:
— Вы уже поняли, Миша, что такое четвертая скорость. При езде на автомобиле, если не сдерживать ее, она несет в беспредельность, к потере чувства скорости, к концу, взрыву мотора… В жизни четвертая скорость почти то же самое: безоглядность, беспредельность желаний, мелькание лиц, деревьев, городов. Только, мимо, только дальше, только скорей. И взрыв — конец… Вы перешли сейчас на изначальную, первую скорость, а вернее всего, пошли пешком. Это хорошо, у вас еще есть время оглядеться, подумать обо всем и понемногу набрать уже свою, естественную, по вашей силе и таланту скорость.
Минусов открыл шкафчик стола, вынул бутылку «Боргес Порто» (да, опять «Боргес Порто» — его много завезли в город, и стоило оно сравнительно недорого), два стакана, чистое полотенце, кивнул Михаилу, чтобы он открыл вино, а сам принялся натирать стаканы. Когда натер их до сверкания и наполнил вином густо-вишневого цвета, спросил:
— Вы удивились, зачем я так начищаю чистые стаканы? Скажу. Выпьем сначала за тех, кто идет медленно, но твердо.
Стаканы были тонкие, из чешского стекла, дзинькнули нежной ксилофонной нотой, и вино, показалось Михаилу, легко, как глоток воздуха, влилось в него.
Полистав свои тетради, Минусов нашел нужную запись, прочитал:
— «Кабинет Блока, два больших книжных шкафа, один забит книгами, другой задернут зелеными шелковыми занавесками… И в нем, вместо книг, бутылки вина «Нью» елисеевского разлива номер двадцать два. Вверху полные, внизу пустые. Работая, Блок каждый час наливает стакан, залпом выпивает. Каждый раз наливает в новый стакан, старательно протирая его полотенцем, смотрит на свет — нет ли пылинки».
Минусов захлопнул, отложил тетрадь, еле заметно усмехнулся:
— Теперь понятно, у кого я научился начищать стаканы?
— Не знал, не слышал… — Михаил Гарущенко привстал от какого-то детского восторга и смущения. — Блок?.. ну да, это мог только он, как похоже на Блока…
— Суть понятна? Хорошее вино может испортить даже пылинка. Так во всем. Выпьем за работу… Минуточку. — Минусов сполоснул стаканы, до сверкания натер их, наполнил вином. — Выпьем за работу, но чтобы ей никогда не мешало вино.
— Легко с вами, — сказал Михаил, когда они согласно, не тяготясь тишиной, помолчали, глядя на зеленый пустырь за бетонной дорожкой, туда, где плотным кустом возвышался бурьян (останки сгоревшей машины были давно убраны, и на том месте, как на пепелище, поднялся густой бурьян). — Теперь бы жить около вас… да надо уезжать… Я становлюсь философом: то, что понятно, постигнуто — уже не твое.
— Твое — только ты сам.
— Да. Если ты принадлежишь, вернее, владеешь собой.
— Пожалуй, так. А уезжать — уезжайте, Михаил, бывший Мишель. Я пять раз заново, на новых местах начинал жизнь: Сахалин, Амур, Якутия, Саяны и снова здесь. Не считая еще войны, она была для всех.
— Вы уже догадались, о чем хочу вас спросить?
— Конечно. Отвечу, потому что обдумал: иной жизни не хочу. Не нужны мне заново и мои семнадцать лет: каждому — свое время. Жажду разумного покоя — и он близок. Жалею всех молодых — вам до него далеко. Но каждый обязан прийти к нему сам.
— И это мне понятно, хоть и печально слышать. «Бэати поссидэнтэс» — счастливы обладающие. Я еще многим не обладаю.
— «Алеа якта эст» — жребий брошен!
— Да!
Минусов в третий раз почистил стаканы, показал их Михаилу на свет, разлил остатки вина, предложил выпить «посошок», и все делал улыбаясь, хоть и грустновато, но ничуть не огорчительно; потому, наверное, Михаил открыл для себя еще одну истину: никогда не говори о серьезном очень серьезно. Никто ничего до конца не знает. Не относись к себе слишком возвышенно.
Они вышли из сторожки, Минусов протянул руку для прощания, но Гарущенко, охватив его плечи, притянул к себе и поцеловал в губы. Сказав: «Так просила Катя», — он улыбнулся, поднял над головой сжатый кулак в знак крепкой памяти, быстро, не оглядываясь, зашагал по бетонной дорожке и потерялся среди прохожих на крайней городской улице.
Возвращаясь в сторожку, Минусов думал: «Мы лишь словом обмолвились о Кате Кисловой, но живо помнили ее во все время нашего разговора. Она была с нами. Пусть же ей, так жаждавшей спастись, разумно, любовно живется со спасенным».
Святцы Максминуса
«Сегодня получил письмо. И от кого! Никогда бы не подумал сам, а вам тем более не догадаться… От Нюры, жены Алексея Конькова! Да еще из города Мирный Якутской АССР. Вот оно:
«Здравствуйте, Максимилиан Гурьянович!
Пишет вам Нюра Конькова, которую вы могли уже позабыть, так много прошло времени, когда мы жили в деревне Муратовке Амурской области, вы еще работали с моим Алексеем шоферами в совхозе, Я выходила замуж, да неудачно, попался пьяница, ругатель, выгнала, чтобы не оскорблять память Алексея, который был очень хорошим человеком и любил меня. Подрос младший Алешка, ему стало четырнадцать лет, умерла моя мама, и я решила поехать в алмазный город Мирный, где погиб мой муж и Алешкин папа. Пока, думаю, молодая, что ж мне сидеть? Наш Коньков чуть не всю страну объездил… Приняли нас сначала неважно, потом вспомнили шофера Конькова, поселили в засыпушке (они еще кое-где имеются и сейчас), а недавно выделили комнату в новом доме. Довольны мы очень с Алешкой, люди здесь дружные, хорошие, а климата северного мы не боимся. Работаю я на фабрике сортировщицей, стараюсь, меня избрали даже профгрупоргом… И еще мы с Алешкой разыскали могилу отца, хоть я и запомнила хорошо, да кладбище за последние годы сильно раздалось. Старая тумбочка почти что сгнила, сыро тут, поставили новую, с красной звездой, деньги выделил начальник карьера. Нашлись, которые помнили Конькова, пришли, укрепили памятник, потом помянули, как положено, вином. Думаю я так: пусть мой сын начинает свой путь на том месте, где закончилась жизнь отца, тем более что он мечтает о машинах, хочет быть шофером. Помните, Максимилиан Гурьянович, каким хорошим шофером был Алексей?.. Вот я и всплакнула, старею тоже помаленьку, по годам-то уж обогнала своего любимого Конькова… Да что вам еще сообщить про Муратовку?.. Старая казачка бабка Таисия померла лет восемь уже назад, директор совхоза Загодайло пошел на повышение, в областном Заготзерне работает, завгар Захарыч на пенсии по старости. Ну, конечно, наросла молодежь, понаехали переселенцы, жизнь вроде пошла веселее… А почему я решилась вам написать, так потому, что всегда помнила слова Конькова о вас: «Это мне батя и друг до гроба». Название вашего города я знала и не забыла, как вы еще говорили, будто вам надо писать на «до востребования», столько у вас друзей по свету, всегда кто-нибудь надумает написать. И я надумала. Извините, если побеспокоила. А если время найдется, ответьте нам с Алешкой. Почему-то я думаю, что вы живой и здоровый, только уже на пенсии… Адрес свой написала на конверте.
Обнимаю вас. Конькова Нюра и ее сын!»
Ах, какое ценное, какое радостное письмо! Я держу его на ладони, и оно для меня дороже всех алмазов, добытых мною в Мирном. Да что алмазы без человеческих жизней?.. Ведь тут две души, родные мне, затерявшиеся, как былинки в необозримом, бушующем на ветрах пространстве, и вдруг давшие о себе знать: мы живы, живем!.. Меня может спросить мой читатель: «Почему же ты сам не написал Коньковым?» Отвечаю: писал и не получил ответа. Решил так: вышла Нюра замуж, ей теперь ни к чему переписка со стариком Минусовым. Сейчас вижу, что не получила она моего письма, или затерялось, или ее буйный временный муженек изорвал, не показав: от ухажера, мог подумать. Напишу, приглашу в гости (каждые три года Нюре будет полагаться бесплатный проезд в любой город страны), тут ведь Москва рядом, пусть посмотрит столицу, а я посмотрю юного Конькова, из-за которого (может быть) и погиб старший Коньков: он не хотел, чтобы прошлое хоть единым пятнышком замарало сына.
Растревожило, разбередило меня письмо, словно бы вновь продолжилась моя скитальческая, жизнь. И вспомнилось, что в начале своих записок, рассказав притчу по пословице: «И камень лежачий мхом обрастает», я обещал рассказать другую, на тему противоположной пословицы: «Под лежачий камень вода не течет».
Один старый бродяга, идя по лесной тропе, увидел домик-крепыш у тихой речки. Решил здесь переночевать. Его встретил такой же седовласый старец, но невозмутимо спокойный и медлительный. Вскоре за хлебосольным столом, сытно отужинав, они завели разговор, попивая самоварный чаек.
— Все бродишь? — спросил хозяин-старец, оглядывая тощего, в поношенной одежонке старика-бродягу. — Так и не прибился к месту.
— Хожу, — ответил тот, показывая свои разбитые башмаки.
— Как то растение перекати-поле, куда ветер погонит?
— Нет. По желанию души.
Хозяин усадьбы, крепкий, румянощекий, в труде и покое проживший свой долгий век, тихо засмеялся, явно не поверив бродяге-гостю.
— А душа твоя желает туда, где накормят и обогреют твое тело.
— Я приучил себя быть вежливым, ибо много видел стран и народов и понял: всеми ценится вежливость, почтение к себе подобному. Но тебе скажу: оброс ты жиром, как мхом, и радуешься своей тупой дикости. Работаешь и питаешь себя, питаешь и опять работаешь на себя. Даже лесные звери друг другу пользу приносят, так природой придумано. От твоей же сытости и дети твои разбежались, и жена померла в тоске одинокой.
— Зато я не брожу, как ты, не побираюсь.
— Все люди друг у друга побираются: один хлеб дает, другой — слово, третий — надежду, утешение… А ты помрешь — и похоронить тебя будет некому, гробом станет для тебя твой крепкий домишко. Сгниет понемногу, рухнет, зарастет травой, лесом, и ни одна живая душа не встрепенется по тебе: кто ты, зачем жил, отчего умер?.. Но, думаю, и ты человек, пока можешь видеть, слышать другого человека. Ведь и меня ты принял переночевать без интереса: откуда, почему бродит, что интересного может рассказать?..
— Ну и что такого можешь рассказать? — уже без усмешки и негромко спросил хозяин-старец.
— Слушай. Я обошел и объехал нашу Землю и убедился, что она круглая. В Европе я пахал и сеял, если жил в селах; работал мусорщиком и продавал газеты, попадая на городские улицы; в Мексике был погонщиком мулов у богатого плантатора; в Африке на реке Конго плавал матросом пассажирского парохода; в Австралии пас овец; в Сингапуре грузил ящики с бананами; на Филиппинах выращивал рис и заболел тропической лихорадкой; был в Индии, на островах Самоа; а когда постарел, вернулся домой, брожу теперь по родной земле, смотрю, рассказываю о том, что видел, работаю, да, зарабатываю себе на хлеб, иду дальше; и у тебя отработаю пищу, ночлег, завтра дашь задание… Я все умею делать, руки пока держат лопату, топор.
Хозяин-старец молчал какое-то время, затем принялся ходить по чистым половицам, опустив голову, морща лоб. Наконец он остановился напротив бродяги-старца и почти выкрикнул:
— Так зачем же ты ходишь?
— Я сказал: видеть страны и народы, рассказывать людям о своей стране, чтобы все и всюду знали друг о друге. Я — как челнок, сплетающий тонкие нитки в крепкое полотно… Вот и о тебе буду рассказывать в самых дальних от тебя краях: есть такой одинокий старец, живет только для себя, думает, что перехитрил весь свет.
— А еще, самое главное?
— Если каждый из нас будет сидеть в своей берлоге, мы снова превратимся в обезьян.
Опечалился старик-домосед, осознав, как пуста, дика, бесполезна его сытая жизнь, и показался ему бродячий гость неким пророком, посланцем от всех людей Земли спасти его, вызволить из одиночества.
— Прими меня, — сказал он бродяге-старцу. — Я хочу увидеть мир.
— Не могу, — ответил тот, — ты разучился ходить.
Домосед, однако, так умолял гостя, что сердобольному бродяге пришлось согласиться, и утром они вместе двинулись в путь. Но не далеко ушли. Окаменелое сердце старца-домоседа, надорвавшись движением, перестало биться, и он умер, впервые увидев огромное небо над собой.
Вечный бродяга похоронил его в той земле, в которую он намертво врос при жизни, а на крепком домике прибил доску с надписью: «Гостиница для всех бродяг».
Помнится, первую притчу я записал, размышляя о жизни председателя кооператива Журбы; эту, вторую — думая о своем долгом скитальчестве. Ведь, расставшись с Якутией, я не поехал домой, «душа еще не ехала», перебрался в Иркутск (посмотреть здешнюю жизнь, Ангару, Байкал) и тут, в городской гостинице, которую тоже в те времена можно было назвать «для бродяг», познакомился с любопытным человеком; шофером, каменщиком, бетонщиком, монтажником, экскаваторщиком (было у него еще несколько, менее значительных специальностей) Антипом Тюриным, строившим Иркутскую, Братскую, Красноярскую гидроэлектростанции. Строившим, но не достраивавшим: его перебрасывали, вернее, он перекочевывал на новую ГЭС, как только кончались бетонные и прочие основные работы.
«Начинаю, понимаешь, — говорил он мне, пригласив «отметиться» в гостиничном ресторане, — начинаю всегда шофером, — дороги, понимаешь, нужны, потом монтаж подоспевает — железо кручу, варю; кончаю — большим бетоном на плотине… Ну, давай за Красноярскую, отгрохали дай бог, тысячу лет стоять будет. Правда, речку наглухо перегородили… Да прогресс, понимаешь, важнее».
Антипу Тюрину, ангарскому сибиряку, бородатому, нерослому, но дублено-крепкому, было сорок восемь лет, он воевал, имел медали и ранения, вырастил трех дочерей, похоронил жену («Надорвалась, понимаешь, в военное время, в колхозах пострашнее фронта приходилось…»); после каждой стройки он возвращался в родное село, гостил у замужних дочек два-три месяца, вроде бы собираясь и вовсе остаться, но начинал скучать, в тихой, теперь уже сытой колхозной жизни, говорил: «Нет, рано еще Антипу на печку», — и уезжал на другую стройку, зная, что уж его-то примут, такой специалист пригодится. Со временем, вероятно, Тюрин уверовал в свою незаменимость, даже в некую особую предопределенность своей судьбы, потому что в ту первую встречу он сказал мне:
«Понимаешь, председатель колхоза лично настаивал: прошу, говорит, осесть в родном селе, страдающем от недостатка механизаторов, главным инженером назначаю. Знаешь, как я ответил? Не могу, говорю, допустить, чтобы без меня Саяно-Шушенскую построили. Не доверяю. Вот когда своими руками плотину сооружу, может, соглашусь в главных инженерах походить перед пенсией».
«Так на Саяно-Шушенскую сейчас?» — спросил я его.
«Угадал. И тебя приглашаю. Какой инструмент в руках держишь?»
«Шофер».
«Ну, понимаешь, считай, повезло! Слышал: с шофера любая стройка начинается. Беру. Жми рабоче-крестьянские трудовые пять и радуйся!»
Я усомнился, не рискованно ли ехать наугад, без вербовки, как устроимся; где будем жить. Антипа Тюрина подобные детские вопросы, по-видимому, никогда не беспокоили, он лишь, сощурившись, ухмыльнулся в бороду: а еще, мол, хвастаешься — алмазы добывал! — но все-таки сказал коротко и твердо, будто изрек мировую истину:
«У меня ж там тыща друзей!»
Прибыли мы на Саяно-Шушенскую.
К створу будущей плотины уже была пробита трасса, строился рабочий поселок, бетонный завод. С Красноярской ГЭС, запустившей первые турбины, хлынул сюда народ, особый, кочевой, сродни Антипу Тюрину, но командированный, а значит, более желанный. Экскаваторщиков, бетонщиков, каменщиков размещали в наскоро срубленных бараках, остальным, жаждущим «зацепиться», говорили: «Найдешь жилье — примем». Мой Антип побегал, посуетился, отыскал знакомых бригадиров, прорабов, каких-то вербовщиков, и, на удивление мне, с нами заключили трудовые договоры, выплатили подъемные, зачислили в строители ГЭС. Но с жильем просили подождать (все-таки мы были самодейцы!), что означало: устраивайтесь пока сами. Где? Как?.. Ближние енисейские поселки, до недавнего времени рыбацкие, лесосплавные, напоминали теперь гомонящие днем и ночью кочевые таборы: рабочий люд занял всю пригодную жилплощадь в домах, все пристройки, сараи, подновил заброшенные хибары, понаставил времянок и палаток. Кажется, некуда было приткнуть не только себя, даже свои холостяцкие чемоданы; ночевали где придется, кто пригласит в сарай или палатку, а ночи майские в Саянах холодны, с белым инеем по молодой траве, студеными горными ветрами. Утром Антип Тюрин уходил, приказав мне ждать и не двигаться (в таборе легко затеряться), и я, хоть и верил в его удачливость, серьезно подумывал, после особенно неуютного ночлега: сдам подъемные, уеду домой; не выдержать мне такой жизни.
Но вздымалось над сопками солнце, размывало ледяной туман, разверзалась вся ширь Енисея — зеленоводной, клокочущей и чистейшей реки (такой вода бывает лишь в море), по обе стороны ее возникали, словно из небытия, красные скалы, отвесные, тесаные и ломаные, с резко зелеными соснами на вершинах, как бы приподнятыми, приставленными к самому солнцу — светить, греться, — и я говорил себе: нет, надо побыть здесь, надышаться этим воздухом, наглядеться этой последней буйной первозданности, к которой уже притрагивается человек.
И Антип Тюрин помог мне: нашел жилье. Да какое!.. На восьмой или десятый день нашего бесприютства он явился засветло, гордо молчаливый, чуть приметно ухмыляющийся в бороду, велел мне собираться и следовать за ним. Когда вышли из поселка-табора, сказал: «Две бабы нас примут, понимаешь? Никого не принимали — нас примут. Договорился». — «Какие бабы?» — спросил я, едва не присев на пенек. «Шагай, увидишь». Прошагали молча километра три, тропа свернула к Енисею, и в зеленом распадке, на самом берегу, как нарисованная по заказу, явилась нашим глазам усадьба, с домом на две половины, с двумя огородами, сараями, рубленой банькой возле воды. Даже псы нас не облаяли (будто тоже нарисованные), однако выбежали из калиток, чтобы Антип потрепал им холки, и это уже была реальная жизнь.
«Значит, так, — сказал не особенно смело мой дружок, — встреча, понимаешь, строгая, без музыки, но ты не тушуйсь, договорено. Иди в ту дверь, я — в эту», — и скрылся в сенях.
Осторожно постучав, я услышал неожиданно бодрое приглашение: «Открывай, видела уж, кого бог дает!» Поставил у порога чемодан, огляделся. Эта половина дома была разделена еще пополам — на прихожую, с печью и кухонным столом, и на жилую светлую комнату. Из нее-то и вышла довольно рослая и тяжеловатая женщина, темно-загорелая, как все здешние жители, с волосами, убранными на затылке под гребенку, кареглазая, чуть скуластая (тоже как многие из местных), лет сорока пяти или около этого; вышла, остановилась напротив, внимательно осмотрела всего, словно вспоминая, не виделись ли когда, затем протянула вескую и жесткую ладонь, сказала хрипловато: «Здоров, мужик. Проходи, хозяином будь». Легко подняла чемодан, унесла в чистую комнату, вернулась, приняла куртку, кожаную фуражку, сама повесила; указала на рукомойник и, когда я умылся, подала расшитое красными петухами полотенце.
Ужин собрала быстро, но без угодливой или стеснительной суеты: картошку, жареного енисейского ельца, сало, хлеб поставила в больших мисках и тарелках, прибавила свету в керосиновой лампе, висевшей над столом, спросила: «Выпиваешь?» — «Могу не пить», — ответил я. «Знать, правильно Антип сказал, умный ты мужик… Ой, как не люблю пьющих, от них горестью пахнет». Однако принесла четвертинку «Московской», наполнила бережно две рюмки.
Пока сидели, неспешно ужиная, она рассказала о себе. Зовут ее Марьей, а кличут Плотогонщицей; есть у нее и мужнина фамилия, но муж, плотогонщик, утонул восемь лет назад вместе с мужем подружки и соседки Софьи Рыбачки, и ей, Марье, пришлось самой сплавлять плоты, даже лоцманить, потому-то и пристало прозвище крепче фамилии; дети выросли, две дочки в Минусинске, сын инженером в Абакане; теперь она на более легкой домашней работе: чинит, вяжет для колхоза сети; тем же занимается ее подружка Софья Рыбачка; да еще вместе держат корову, кур, поросенка… Тихо жили, совсем хорошо, и вот понаехал народ строить плотину, всякий народ, шалый, пьяный, беспризорный, приходят, пугают: «Примай, хозяйка, все одно твой домишко под воду пустим!» Решили они с Софьей Рыбачкой взять мужиков, но чтобы по документам холостые были, не пришлось потом с их женами скандалить, в годах и, самое важное, — непьющие; пусть живут, сколько им надо будет, помогают жить им. Трудную задачу себе загадали, долго выбирали квартирантов, но все-таки приняли: очень уж уговорчивым оказался Антип; и она, Марья, глядя сейчас на своего мужика, довольна, можно сказать, примерно такого и ждала к себе.
«Значит, холостой?»
«Холостой».
«И постарше меня годков на пять-шесть будешь?»
«Пожалуй…»
«Шоферишь?»
«Да».
«Чтой-то ты больно культурный для шофера…»
«Такой…»
«Ладно, будем жить».
И Марья Плотогонщица принялась рушить свою высокую двуспальную кровать, застилать ее хрустящими льняными простынями. Я вышел на кухню, полагая, что тут будет отведен мне угол. Но кухня была тесновата, заставлена всяческим скарбом, едва ли можно куда приткнуть даже раскладушку… И вдруг я понял: Марья на двоих стелет кровать! Это прямо-таки потрясло меня. Как? Зачем? Поужинали — и в постель! Такая строгая и так просто?.. Может, она испытывает меня? Позарюсь на ее кровать — покажет на дверь… Я тихонько вышел в сени, а затем во двор, остыть, подумать о только что слышанном, пережитом.
Ночь была спокойная, но не прозрачно тихая, как в Подмосковье, черная и звездно яркая, громоздкая от обращенных в тени скал и сопок, напряженная течением Енисея, чуть мерцающим, едва слышимым и потому невообразимо мощным, глубинным, властвующим здесь каждой былинкой, гранитными берегами, людьми и самим небом, вытянувшимся звездным плесом по течению реки.
Крупный шерстистый пес мирно ходил за мной, принюхиваясь, знакомясь. В другой половине дома еще горел свет. Я негромко постучал в окошко. Антип Тюрин немедленно явился, точно ожидал моего вызова, спросил, закуривая:
«Как обстановка?»
Я рассказал ему о разговоре с Марией, ужине, постеленной кровати, спросил:
«Что это означает?»
«Ну, понимаешь, везучий ты! — врезал мне по плечу Антип. — И четвертинку поставила? Произвел, понимаешь, впечатление, произвел! Софья Рыбачка мою, личную, поллитру в сени выбросила. Во как! С характером! Придется мне кухню пока осваивать, понимаешь… Не доверяет, шалый я с виду… А тебе и постелька готова! Ложись, дружок, и покажи нашего брата, старого холостяка, с лучшей стороны!»
«Да, ведь это… Неловко как-то».
«О, сразу видно — с высшим образованием! Баб у тебя не было, что ли?»
«При чем тут… Но так вот…»
«Тьфу! Женщина его приглашает, хорошая, чистая женщина, — Антип с особой охотой выговаривал слово «женщина», впервые, кажется, им произнесенное со времени нашего знакомства. — Понимаешь, тут к ней сотни ходили, помоложе тебя… А он: «Испытывает, шутит…» Это там у вас, в столицах европейских, испытывают, шутят, время есть, рестораны… Тут жить надо, понимаешь? Просто, по-человечески, как тебе предлагают. Иди и не обижай женщину».
Я вошел в «свою» половину дома, свет был прикручен, Марья лежала в белой сорочке на высокой, праздничной кровати (сроду я не спал на таких кроватях, они, кажется, и остались лишь в глухих деревнях!), спросила меня спокойно, но не сонно (знать, и не собиралась спать):
«Нагулялся? Теперь раздевайся, ложись».
И все-таки я не удержался, выговорил, стыдясь:
«С вами?..»
Марья Плотогонщица засмеялась первый раз за весь вечер, да так молодо, неудержимо, и сказала, смеясь, всхлипывая от смеха:
«Можешь с печкой на кухне, она еще теплая!»
Я погасил лампу, разделся, лег. Марья прильнула ко мне, полушепотом и уже серьезно попросила: «Обними меня, — и вздохнула протяжно: — Давно-о у меня мужика не было…» Я стал целовать Марью, но она убирала губы, говорила: «Не надо, я не умею…» А потом, когда лежали спокойно в призрачной синеватой комнате (звезды мерцали в каждом окошке над занавесками, точно прикрепленные к стеклам), я думал о Марье, удивляясь ее простоте, стеснительности и молодой горячности, так неожиданно в ней соединенных, а она молчала, и я решил уже, что уснула, но Марья положила голову на мою руку.
«Ты сильный мужчина, да какой-то нежный… Думала, только бабы в городах такие белотелые бывают… Я тяжелая для тебя, изработанная, из одних жил почти…»
Я не стал ее разуверять, почувствовав, что ни к чему ей все это, лишь поцеловал в щеку. Марья осторожно, словно учась, поцеловала меня и спокойно начала говорить, как трудно бабе без мужика, какие сладкие она видит сны, а проснется — пустая постель, как сама понемногу мужиком делается, голос грубеет, мослы нарабатываются; иные курить, пить приучаются… Рано она, Марья, без мужа осталась, потому и детей мало народила. Трое — разве дети? Она бы десять смогла. Тоскует по своим нерожденным, именами их всех наделила — четырех сыновей и трех дочек… «Теперь уже поздно, застарела, усохла, спать могу с мужиком — и то ладно». И все просто, рассудительно у нее получалось: ни слез, ни жалоб, ни восторгов; ни даже намека на женскую игру, притворство; так говорят о хозяйстве, без которого не проживешь, о погоде, которая может загубить картошку на огороде, а без нее как перезимуешь… Не переменила Марья своего тона и когда я спросил, любила ли она своего мужа. «А как же, — ответила, — мужа надо любить».
Засыпая рядом с сонно притихшей Марьей, я вспомнил слова Антипа: «…там у вас… испытывают, шутят… тут жить надо, понимаешь?..»
И жизнь началась. Утром Марья Плотогонщица и Софья Рыбачка показывали нам свое хозяйство. Марья открывала двери кладовок, сараев, с легким поклоном пропускала меня вперед, Софья же, малорослая и толстоватая, водила за собой Антипа, тыкала пальцем в щели, дыры, приказывала: «Подладишь, починишь». Антип покорно кивал и подмигивал мне, мотая лохматой головой: вот, мол, видал начальницу! Но чувствовалось, доволен был своей бабой, все у него будет ладом, да и жаловаться грех: сам выбрал себе Софью.
С работой тоже уладилось: как нужным и нашедшим жилплощадь, нам выдали по ЗИЛу, зачислили в автоколонну, поздравили с почетным званием строителей Саяно-Шушенской. И пошли, покатились наши шоферские деньки, а порой и ночи. Нужны были дороги, проезды, подъездные пути… В сопках грохотали взрывы, вспучиваясь бело-черными облаками над тайгой, дрожала земля; к новым карьерам пробирались вереницы машин, грузились щебенкой, камнем, и мало кого волновало, что эта щебенка, камень — чистейший мрамор… Я сказал «мало кого», ибо приезжали из Красноярска (из Москвы, помнится, тоже) какие-то журналисты, краеведы-радетели, пытались усовестить строителей: «Зачем же мрамор швырять под колеса?» Куда-то писали, хлопотали… Но взрывы гремели, дело было начато, запущено, стройка сжирала тысячи тонн камня, а другого, обыкновенного, здесь почти не уродилось — вокруг мраморные горы. Возить издалека — в какую копейку обойдется простой серый камешек? (У меня на столе кусок розового саянского мрамора, гляжу, вспоминаю… Теперь я думаю, что не так много потратили его на дороги и фундаменты, как зазря покололи взрывами в нетронутых сопках.) Шоферам, рабочим и вовсе не до возвышенных разговоров было: давай норму! Камень и есть камень. Ну, красивый. А плотина, что же, не стоит красивого камня?.. Признаться, и я не беспокоился очень, озирая здешнюю огромность, непостижимую дикость, порой робея: удастся ли нам укрепиться средь этих каменных громад, перегородить страшнющий поток Енисея? О друге Антипе Тюрине — не говорю: истый шоферюга, жаждущий первенства, заработка, умеющий раскалить кого угодно: «Ты слабак, понимаешь, против меня». И мотались мы с ним на своих ЗИЛах по распадкам, ущельям, застревали в болотах, буксовали на гольцах; «давали» норму, зарабатывали неплохо, не хуже молодых, отчаянных; и это потому, пожалуй, что был у нас дом, были Марья и Софья, жалевшие нас, как умеют жалеть молча и по-хозяйски деревенские женщины.
Придешь с гудящей головой от железной тряски, с ломотой в руках и ногах, окунешься в Енисее (по субботам и банька натоплена), а после сидишь за самоварным чаем, рассказывая Марье о работе, о том, что нового узнал, слышал, и чувствуешь: шоферская усталость твоя словно бы выветривается прохладой реки, шумящей за открытыми окнами, уходит в сосновые, натертые песком половицы, сыроватые, холодящие, с ощущением здешней воды и земли. Марья порадуется принесенным, выложенным на стол деньгам, отсчитает же строго на «харч», по уговору; она сама работает, копить и жадиться не научилась; купишь подарок — возьмет, скажет, закрасневшись: «Спасибо вам, Максимилиан Гурьяныч, за доброе сердце». (Непременно на «вы».) Но дорогие платья, отрезы брала неохотно, говоря, что в таких нарядах только в гроб кладут, носить-то их некогда, да и старая она наряжаться, наставляла грустно, точно старшая сестрица неразумного братца: «Ты, Максим, деньжата приберегай, вернешься в Россию, на пенсию пойдешь — кто тебе поможет? Один ты».
В начале июля хозяйка Марья Плотогонщица сказала:
«Пора сенокосить».
«Пора», — согласился я.
«Косу отбить умеешь?»
«Нет».
«А косить?»
«Тоже не умею».
Мы вышли во двор, и Марья, воткнув в чурбак колун, показала мне, как на обухе отбивается молотком, «оттягивается» лезвие косы. Затем обе косы, «мужнину» и ее, Марьину, с меньшим полотном и рукоятью, добела нашаркали бруском. А утром, чуть засинел свет, потемну и обильной росе привела меня Марья на луг в конце распадка, взмахнула ребром ладошки, как бы разрезая его:
«Половина наша, другую Антипу с Софьей оставим».
Трава была плотная, заиндевевшая от росы, парила туманцем, и весь луг до едва различимой березовой рощи казался ровным, белесым, хоть шагай поверху затверделых трав. Марья коротко ударила косой, послышался сочный «вжик», упал первый, затем второй рядок, и обнажилась пестро-зеленая, глубокая стенка луга: понизу в розовых цветках клевера, чуть выше заплетенная полевым горошком, сверху прикрытая метелками пырея, овсюга, зонтиками медвежьей дудки. Сделав прокос на полный взмах руки, Марья ровно пошла краем: взмах — шаг, взмах — шаг… Пошла, показывая мне: ну, пробуй, мужик!
Я попробовал. Коса срубила верхушку травы и едва не полоснула по голенищу моего сапога. Другой взмах, нацеленный ниже, вжикнув по траве, закончился так же коротко: носок косы воткнулся в землю. Я начал снова, осваивая маленькие замахи, огорченно думая: расскажи кому-нибудь, что три года трудился в амурском совхозе… Впрочем, совхозы вручную не косят, да и хозяева-частники норовят выписать, перекупить сено, а если шоферишь — считай, добудешь на зиму своей коровенке; про одиноких и кочующих говорить нечего, в столовках, из магазинов кормятся… Я передохнул, глядя вслед своей хозяйке, ее белая кофточка недвижным столбиком удалялась от меня. Нет, не думал, не предполагал, что такое неподатливое дело — косить траву. Знать, только в кино, в романах красиво это смотрится, легко читается… И сила есть, и ума вроде хватает. Ну-ка вот так, чтоб кончик косы шел чуть выше… Ага, лучше, почти в полный взмах срезал траву. Еще. Шаг — взмах, шаг…
Марья вернулась, молча стояла позади, смотрела. У меня уже получалось, хоть и неровными были прокосы, вихляла коса. Потом подошла, взяла под руку, глядя в мое залитое потом лицо, сказала:
«Догадливый ты, Максим. А поучись, меньше руки наломаешь. — Она взяла мою косу. — Глянь. Пятка косы пусть идет по земле, прижимай немножко пятку, носок сам определится, и не гнись, спина-то не казенная, пускай косу, как лодочку по воде, на вытяжку рук. Пробуй!»
Я пошел увереннее, отбрасывая валки скошенной травы влево, будто очищая себе дорогу. Марья, взяв следующий рядок, быстро догнала меня, но торопить не стала, шла следом, разом со мной делая свои четкие, однозначные взмахи, изредка приговаривая:
«Приноровишься — поймешь: хорошая, добрая работа — траву косить…»
Понял я это скоро: лишь окрепли мои руки — коса сделалась удивительно послушной мне, и я уже не гнулся к траве, а вольно гулял по лугу. Да, хорошая, добрая, праздничная работа! Единственная, пожалуй, при которой человек пьянеет не от вина — от соков трав и цветов, напитывающих воздух. Три сенокоса я провел с Марьей, и потом, много спустя, когда приходилось бывать в деревнях во время сенокосов, я непременно просил косу у мужика или бабы, чтобы пройти рядок-другой по лугу, надышаться запахами срезанных стеблей, еще раз подумать: машина помогает человеку, но и отнимает у него многое — чувство живой земли.
Никто, наверное, так остро не ощущает этого, как шофер, ибо под ним всегда колеса. Даже здесь, на Саяно-Шушенской, прожив три лета и три зимы среди Природы с самой большой буквы, если так можно выразиться, я издали видел ее. А та, которую рушили, рубили, сдирали до глины, была уже не природой — местом тяжкой, нужной работы. Потому-то запомнились мне Марьины сенокосы и не забудутся, конечно, Марьины рыбалки.
В то время сетями ловить рыбу было уже запрещено — очень людным стал здешний Енисей, — и хозяйка моя, Марья Плотогонщица, хоть вязала, чинила сети, сама ими не пользовалась, как-то по-детски послушно веря в святость запрета: «Нельзя, — знать, нельзя». Впрочем, это ее мало печалило, рыбу она могла добыть чем угодно, едва ли не голой палкой, просто теперь приходилось тратить больше времени на ловлю.
В субботу под вечер мы бросали в лодку-плоскодонку рыбацкие припасы и плыли по течению Енисея километра четыре, затем входили в неширокую протоку, а из нее — в тихое озерко под глухо заросшей лиственничником сопкой. На песчаном мыске, где меньше надоедала мошкара, ставили палатку — полог, разжигали костер и принимались удить карасей. Перед заходом солнца клевали они жадно, не разнюхивая наживу, словно хотели угодить нам. И за это мелких, еще беловатых, мы отпускали жить и расти, а из большущих, в две ладони шириной, Марья варила «карасий суп», обязательно с картошкой и пшеном, заправленный стручком красного перца. Еда получалась обжигающая, после нее сырость, ночной холод были нипочем.
Сначала хлебали красноватый от перца бульон, затем принимались за остывших карасей, съедали штук по пять-шесть, удивительно много — ведь каждый карась почти в полкило весом. Марья при этом не забывала сказать, что только караси не приедаются, вся другая енисейская рыба, даже самая лучшая, слаба против карася: день-два поел — и надолго сыт-пересыт. Как ни странно, это было именно так. Чем-то напитан обыкновенный карась, каким-то особым соком, лишающим его приторности. Я мог питаться карасями, «карасьим супом», не жалуясь, сколько угодно, пока Марья подавала на стол.
Зато из енисейского лосося Марья пекла пирог — запекала рыбу пластами, густо посыпав зеленым луком. Обмазывала корочку сметаной, томила в печи, а когда выхватывала противень и тяжко шлепала пирог на подостланное полотенце, изба надолго наполнялась особыми, неизведанными мною запахами — довольства, уюта, домовитости. И назывался этот пирог простым словом — «рыбник»…»
Часто зазвякал телефон. Минусов выпрямился, но не встал из-за стола: не хотелось прерываться, да и не ожидал он какого-либо важного разговора, ошиблись номером скорее всего. Но телефон вновь ожил, словно бы с нетерпением призывая к себе. Минусов поднялся, вяло прошагал в прихожую (телефон у него стоял здесь, поближе к двери, потому что приходили звонить соседи), взял трубку и не успел приложить ее к уху, как услышал:
— Алло! Алло! Это вы, Максимилиан Гурьянович?
— Да. Слушаю.
— Очень рада, что застала вас дома! Почему так долго не брали трубку? Спали, да?
— Вроде того… — Минусов узнал наконец голос Ольги Борисовны Калиновской, удивился ее непривычной, какой-то по-девчоночьи крикливой взволнованности, спросил: — Что-нибудь случилось, Ольга Борисовна? Я едва узнаю вас.
— Случилось, случилось, дорогой Макс… Максимилиан Гурьянович. Я… ваша ученица получила водительские права!
— Знал, что получите. Вы же при мне сдавали.
— А теперь получила! Теперь сама могу ездить. Вот она, эта книжечка, с автомобильчиком на обложке… Так и написано: «Калиновская Ольга Борисовна… имеет право управлять автомобилем…» Подпись начальника ГАИ, большущая печать…
— Поздравляю.
— Спасибо учителю! Но с меня причитается, как говорят шоферы. Тем более что вы не взяли плату… Хочу поставить как это… пузырек! — Ольга Борисовна очень довольно и грубовато расхохоталась, впрямь подражая бывалой шоферне. — Раздавим на двоих, а?
— Нет, Ольга Борисовна, не получается жаргона. Сложная наука — быть шофером. Это же народ в народе. Миллионный к тому же. Давайте пока своими словами, своим голосом.
— Ладно, ладно. Буду своим. Пошутить не даете. Вы, извините, как регулировщик на перекрестке: этому влево, этому прямо…
— И все равно помните: автоводитель — категория психологическая. Я вас предупреждал…
— Вот и смутили меня, я стала вполне нормальная. И говорю своим голосом, слышите, совсем своим: приходите в гости. Завтра можно, в три часа, пообедаем вместе. Или лучше я приеду за вами, а?
— Нет, нет! Пешком приду. Тут пути-то… Пешком мне больше нравится.
— Хорошо. Жду, — сказала Ольга Борисовна Калиновская учительским, ровным, бесстрастным тоном и положила со звяком трубку.
Минусов постоял у телефона, точно ожидая, не зазвонит ли еще, медленно вернулся к столу, сел. Было ощущение смутной растерянности, как у шофера неисправной машины: рулишь, едешь, но чувствуешь — не вполне она тебя слушается, минутами и вовсе управляет тобой, надо что-то сделать немедленно, сбавить скорость, остановиться, иначе… Каким же будет это «иначе»? Ольга Борисовна понемногу, однако упрямо входит в его мысли, быт, как-то умело, даже расчетливо напоминая о себе. Внезапный звонок, приглашение… Не сумел отказаться. Значит — надо идти… Зачем?.. К чему бездумно углублять и без того уже «теплые дружеские отношения»?
Решив придумать убедительную отговорку и завтра утром позвонить, отказаться от обеда, Минусов почти успокоился, придвинул тетрадь, стал писать дальше.
«Поселок строился, отодвигал к сопкам тайгу, грохотал экскаваторами, кранами; тягачами и звался уже Саяногорском; начал работать бетонный завод; на Енисее, в створе будущей плотины, появилась желто-коричневая, накатанная самосвалами земляная перемычка, пришло время большого бетона.
«Ухожу, — сказал мне Антип Тюрин, указав рукавицей на затуманенный утренний провал, где, стиснутая перемычкой, гудела пенно-зеленая река. — Понимаешь, там главное теперь. Главный почет, заработок тоже… Коллектив, понимаешь? Надоело весь день в кабине, общения не хватает. Приглашаю. Пока в учениках у меня повкалываешь, потом разряд пришлепаем».
Я показал ему письмо от матери (она лежала в больнице, была совсем одна, просила приехать, хотя бы повидаться) и сказал необычно серьезному, важному, соответственно моменту, другу Антипу, что не чувствую уже себя настолько здоровым, крепким, чтобы одолеть новую, да еще такую «молодежную», профессию. Он прямо-таки по-мальчишески огорчился, принялся уговаривать, доказывать, как плохо для жизни и для работы, когда душевные друзья расстаются, но, поняв, что не уговорит, спросил:
«Уедешь?»
«Надо».
«А с Марьей как?»
«Подумаю…»
«Думай не думай — один уедешь… А я нет, навсегда здешний. Понимаешь, на каждой стройке жену временную заводил, по общежитиям, столовкам не люблю, потому здоровье сберег, а Софья — все, последняя моя, ждала тут меня, приняла, доживем вместе».
Мы стояли на обочине дороги, у обрыва, а внизу ровной зеленью и синевой простирался поток Енисея; виделся поселок белыми домами; перемычка; и в стороне, если приглядеться, на самом берегу можно приметить пятнышко домика Марьи Плотогонщицы и Софьи Рыбачки, такого одинокого отсюда, затерянного, позабытого всеми; странно, как-то сомнительно было думать, сознавать, что в этом мизерном строеньице нашлось столько тепла, понимания, молчаливой нежности для двух пожилых, тертых-перетертых, беспризорных мужчин.
«Уйдет под воду», — проговорил без малейшей жалости Антип.
«Уйдет», — подтвердил я.
«Перенес бы. Да тронь — не соберешь, понимаешь? Нам с Софьей квартиру дадут, хватит ей…»
«Дадут».
Еще достояли, но уже молча, влезли в кабины грузовиков, загрохотали к карьеру.
Вечером я говорил с Марьей Плотогонщицей.
Она сидела у стола, чуть устало опустив руки на колени, повязанная кухонным фартучком, со всегдашним, зимним или летним, загаром, по-сибирски скуластая, грубовато, но прочно слаженная, с темными волосами, гладко убранными под гребенку; сидела как мать, как сестра, как жена, как близко знакомая женщина (я не мог вообразить ее лишь любовницей, да и она сама едва ли понимала толком, что это такое — любовница). И как бы всем сразу, словно исповедуясь, я говорил о своей нескладной, придуманной жизни, скитаниях, переездах, знакомствах, прощаниях, малых радостях и многих огорчениях; только здесь (я назвал Марью на «вы», ибо она была для меня больше, чем просто Марья), только здесь нашел покой, приют, тепло, понимание, да, и понимание, которое так ценится людьми, которым окупаются любые лишения и скитания; мне счастливо жилось эти три года: я узнал, что такое дом, женщина — друг и хозяйка, земля, вода, добрая работа; что такое хлеб, воздух, звездное небо над головой; я понял наконец, каким должен быть человек. О, этому не научишься в институтах или читая самые умные книги: человек порождается человеком. Мне хотелось прожить здесь, с вами, в вашем доме, Марья, все оставшиеся нам дни; но как только мы хотим овладеть временем — оно ускользает от нас: у меня тяжко больна мать, мне самому пора бросать шоферскую работу, здоровье слабеет, этот дом, этот двор, эта жизнь будут затоплены морем… Чуть раньше, чуть позже — много ли разницы?.. Значит, настал тот срок, когда нам надо решить, как быть дальше. Я не могу взять сюда мать, не могу и там оставить ее одну; да и пора мне возвращаться к истоку, как дождевой капле завершить свой круг, упав в исток родника.
«И потому, Маруся, приглашаю тебя. Я жил твоей жизнью — поживи моей».
Она не шелохнулась, не выказала ни удивления, ни заметной взволнованности, мирно лежали ее руки на коленях, лишь спустя минуту или две она, так же прямо сидя, поклонилась мне.
«Спасибо, Максимилиан Гурьяныч, хорошо мы с тобой жили, по-людски. А ехать мне, сам знаешь, нельзя: тебе тут было интересно, я там умру. Дела не будет, дома не будет, а зачем тебе Марья — сиделка? Не нужна я тебе там стану. Каждый должен знать свое место. Куда лучше — память хорошую оставим друг о дружке. С памятью и доживу тут».
«Приезжай потом, когда…»
«Потом к дочкам или сыну уеду, недалеко, родина рядышком будет».
Расстались мы через два месяца, когда я доработал свою трехлетку.
И дорогой в автобусе, и в Абаканском аэропорту Марья Плотогонщица была по-привычному спокойна, слегка насмешлива, любопытна ко всему городскому, но так, чуть пренебрежительно: «Интересно, а мне-то зачем?» Отодвигалась, если я хотел обнять ее, и поцеловала только у трапа самолета, да и то потому, наверное, что рядом целовались другие. Письма писать не обещала, стыдясь своей малограмотности, мне же строго наказывала дать телеграмму, чтобы она могла знать — я дома, цел и здоров; точно хотела кому-то вернуть меня таким… Я видел ее из самолетного иллюминатора, она по-деревенски махала мне платочком, но глаза были ясны и сухи, и легонькая улыбка светилась ее белыми, молодыми зубами… Марья словно бы провожала меня в недолгую командировку или на южный курорт. Оттого кажется мне до сих пор, что я не вернулся куда-то домой. А ведь над домом Марьи Плотогонщицы уже бушует Саяно-Шушенское море».
Максимилиан Минусов сидел в низком, не очень удобном, зато современном кресле и оглядывал двухкомнатную квартиру Ольги Борисовны Калиновской; он не знал, что у нее двухкомнатная. Зачем столько простора одинокой? От второго мужа осталась, который вроде бы инженером-строителем был? Благородно ушел, не принудив разменяться?.. Но квартира не ощущалась сиротливым жилищем, напротив, можно было подумать — здесь обитает семейство из трех-четырех человек: полированная кровать в комнате-спальне (дверь открыта как для обзора), там же письменный стол, книжный стеллаж, туалетный столик, зеркало (словно уголок отдельного жильца); проходная комната еще более загружена, тут имелось все, что полагается любой современной квартире: телевизор, сервант, раздвижной гостевой стол, журнальный столик, кресла, стулья, широкая софа. Но чем-то и отличалась квартира Ольги Борисовны. Пожалуй, горкой диких цветных камней на подоконнике, несколькими живыми акварелями по стенам, коллекцией морских раковин на серванте.
Да, Минусов пришел на званый обед. Утром, когда он усиленно придумывал убедительную отговорку, чтобы позвонить Ольге Борисовне, она, словно почувствовав это, позвонила сама, и, не успел Минусов сообразить, как лучше отнекаться, она рассказала, какие закуски приготовила, и что соседка, работающая в ресторане, принесла ей соленой осетрины, баночку икры: «Представляешь, баночку настоящей красной икры!» В минусовские «да… но… знаете…» Ольга Борисовна вслушиваться не стала, с учительской категоричностью заключила разговор приказом — не опоздать ни на минутку. Минусов не опоздал и теперь жалел, что так поторопился: проще бы прийти прямо к столу, выпить вина, быстренько отобедать… Но здесь, кажется, все было заранее рассчитано: ему полагалось увидеть, как хозяйка бегает из кухни в комнату, украшает стол закусками, хрустальными рюмками и бокалами, ставит на середину кувшин с пионами («Боже! Ведь это ему, Минусову, полагалось принести цветы!»), какая она разговорчивая, быстрая, говорливая; чтобы увидел он ее дома, не ту, давнюю Олечку-математичку, а эту, теперешнюю Ольгу Борисовну.
— Вам скучно, Максимилиан? Минуточку! — Она включила проигрыватель, поставила пластинку. — Угадай, кто поет. Тебе должно понравиться. Ты же этот… сочинитель.
Пластинка мягко пошипела, и возник прерывистый, четкий и в то же время как бы протяжно причитающий голос — не певицы, а поющей, выпевающей себя сильной и огорченной души: «Мой караван шагал через пустыню… первый верблюд о чем-то с грустью думал и остальные вторили ему. И головами так они качали, словно о чем-то знали, но молчали, словно о чем-то знали, но не знали, как рассказать, когда, зачем, кому…» Конечно же Минусов узнал голос поэтессы, напевающей кое-какие свои стихи под гитару, у него дома была ее пластинка, другая, он проигрывал иногда, но слушать долго не мог: тревожило пение наивным несовершенством и серьезной надрывной искренностью. Слишком неразвлекательно. Хорошо помнить, что у тебя есть эта поэтесса-певица, припоминать строчки ее стихов, а слушать — лишь по особому настроению, наедине.
— Ну, узнали кто? — спросила Ольга Борисовна.
— Да. Талантливо все. Даже неумение.
— Вы ведь стихи сочиняли, Максимилиан Гурьянович. Петь не пробовали?
— Пробовал, неужели забыли? Еще до войны, в узком кругу, для выпивших?..
— Правда! Может, сегодня, в узком…
— Нет, Ольга Борисовна. Как бард я тогда же и вышел на пенсию. Занялся прозой.
— Это видно. Вы и сейчас сидите, как классическая проза. Жаль, что она женского рода. — Ольга Борисовна чуть склонилась к Минусову и засмеялась, от нее пахнуло кухонным теплом и духами («И о духах не подумал, и день рождения ее не помню!»). — Как я вас, больненько задела?
— Малочувствительным стал.
— О, пора повысить тонус!
В это время с пластинки зазвучало приглушенно, мирно, скорбяще: «Эти дома без крыш, словно куда-то шли…» — и Минусов, прислушавшись, сказал:
— Дома без крыш… Вот я и есть такой дом…
— Ну уж… — Ольга Борисовна выключила проигрыватель с недопетой пластинкой. — Немножко погодя я для вас поставлю другую песенку, в ней вы лучше себя узнаете… А сейчас, дорогой мой гость, Максимилиан Гурьянович, прошу вас откушать, садитесь сюда, во главу стола, садитесь прочно, торопиться не будем, а я, как хозяйка, поближе к кухне разрешите побыть мне сегодня хозяйкой. — Она широко указала на стул, подвинула прибор, принесла бутылку вина и штопор. — Откройте, пожалуйста. Или лучше водку?..
— Я ее перебрал там, в странствиях. Здесь стараюсь ничего или вино.
— Правильно: горькая. Одна моя знакомая говорит: горькую пьют, когда горько, чтобы горькое слаще казалось. Давайте по полной, Максимилиан. Господи! Когда же я с вами последний раз пила?.. На прощание, кажется. Ну, чокнемся по-российски… За что же?
— За новорожденного шофера.
— Нет, за Автобабку потом. Вот за что сначала: перейдем на «ты». Не могу на «вы», сбиваюсь, путаюсь. Особенно когда стали видеться… Вы не против?
Минусов кивнул, но сразу ощутил легонький укол в сердце, опередивший его мысль, которая почти четко явилась, как только он выпил вино и принялся закусывать бутербродом с икрой, поданным Ольгой Борисовной: «Нехорошо. Неловко. Зачем это сближение? Старческое. Комичное. Чего она хочет?..»
А она, да, она, Ольга Калиновская, сидела напротив и не сводила с него глаз, завлажневших от вина, с теми, давними крапинками вокруг зрачков, и он заметил: у нее чуть подведены брови, чуть подсинены веки, едва приметно тронуты перламутровой краской губы; и волосы вроде иного цвета, жестче, тяжелее — да, конечно, это парик, так модный, почти незаменимый сейчас… А платье… из импортного кримплена, сшито наверняка задорого, у портнихи-надомницы, точно по фигуре Ольги Борисовны, удлиненное, с тонким расчетом еще более подчеркнуть ее всегдашнюю стройность… Она была молода сегодня — той отчаянно возвращенной молодостью, когда женщина и счастлива, и излишне возбуждена, и даже грубовата, лишь бы не догадались, какими муками, стараниями досталось ей это одоление возраста. Если не присматриваться, если глянуть на нее сощуренно, словно бы из некоего отдаления, можно ужаснуться: напротив сидит Олечка-математичка с круглым, без единой морщинки и косметики личиком, со слегка стиснутыми, по учительской привычке, губами, строгая, острая на слово, ироничная и бесконечно добрая, нежная к нему, Минусову. Ему хотелось хотя бы на минуту стать для нее прежним, тем, давним, не сутулящимся от дум и лет, напомнить ей что-нибудь из того времени, ну, скажем, их глуповатую шутку, перенятую у школьного завхоза-алкоголика: «Не в деньгах счастье — одолжи двадцать пять» (тогда столько стоила бутылка водки), и он улыбнулся даже; но чуда не произошло: время, затуманившись, тут же прояснилось, вернуло Минусова к сегодняшней Ольге Борисовне.
Явно почувствовав это, она наполнила бокалы, торопливо и много положила ему зеленого салата, сказала:
— Ну, будь со мной веселым, Макс!
Он выпил, ему сделалось веселее, с улыбкой слушал, как Ольга Борисовна получала водительские права: вручал сам начальник ГАИ, произнес назидательную речь, каждому жал руку, мужчинам советовал всегда быть трезвыми за рулем, а ей, единственной женщине в группе новых автолюбителей, поцеловал руку («это в служебное-то время!») и сказал, что он очень рад: все чаще приходится вручать водительские права женщинам, пусть их больше будет за рулем на наших дорогах, они облагородят мужчин, которым, как известно, еще не хватает взаимной вежливости, уступчивости. «Женщина, — заключил начальник под аплодисменты, — друг ГАИ!»
— А ведь я хорошо вожу, правда?
— Не ожидал — способности прямо-таки природные.
— Я так стремилась узнать автомобиль. Деньги начала копить давно, когда ты был там, в Сибири.
Минусову хотелось понять Ольгу Борисовну. Автомобиль — ладно, это от скуки, одиночества, моды. Важнее другое: почему она не ужилась с мужьями, почему осталась без ребенка? Понять, не расспрашивая, не задевая, может быть, самого болезненного в ее душе. Не любила? Долго ждала его, Минусова, а затем решилась на семейную жизнь просто с «порядочным человеком»? Не получилось, попробовала еще раз… Но ведь она, Олечка Калиновская, была всего лишь подругой, вернее, другом Минусова (теперь это мало понятно, а в войну, в послевоенное трудное время, когда многим было не до женитьбы, такая дружба могла длиться годами) и вроде бы невестой для его и своих родителей, для общих друзей по школе. Едва ли не «вечной невестой». Уехав сумасшедше на Сахалин, Минусов освободил себя от брака, казавшегося ему совершенно непосильным, бедным, мещански обыденным, освободил и Олечку, как казалось ему, по-дружески, великодушно: найди себе более достойного!.. А если она не освободилась, не смогла освободиться? Хотела и не смогла?.. Значит, есть и его вина в ее неудавшейся, одинокой судьбе?.. Порой он чувствует, хоть и смутно, некую свою вину. Он готов и дальше мучить себя этой виной; но стоит только подумать, как от нее избавиться, мысль возвращает его назад, в то, изначальное, общее их время, а оттуда слышен один ответ: надо было жениться на Олечке… Круг глухо замыкался.
Хозяйка принесла главное свое блюдо — жаровню жареного душистого мяса (такое можно купить лишь на рынке), отварной, тоже рыночный картофель, зеленый лук, красный перечный соус и принялась кормить Минусова устрашающими порциями, полагая, вероятно, что мужчина тем и отличается от иных существ — ест много, все и с радостью; когда же Минусов отодвинул тарелку, не позволяя сразить себя вкусной едой наповал, непоседливая хозяйка искренне огорчилась, точно чем-то не угодила гостю, даже спросила:
— Кто же будет это есть?
— Еще раз приду, — ответил с усмешкой Минусов и удивился: Ольга Борисовна не поняла его шутки, охотно закивала, наговаривая, что завтра к обеду будет ждать его. Он пробормотал в смущении — не сможет, некогда, думая при этом в какой уже раз: «Чего она хочет?.. Неужели разомкнуть тот глухой круг? Разве такое возможно?.. Зачем старухе старик? Или ей надо о ком-то заботиться, кормить, лечить? Не может она умереть, не истратив в себе этого чувства?.. Но почему она выбрала его? По старой привычке, памяти?..» Еще более смутившись от почти восторженных взглядов Ольги Борисовны, совершенно не понявшей серьезности его отказа, он сказал: — Прости, я дикий, одинокий человек.
— Вот и…
— Нет, нет. У меня слишком толстая скорлупа, не пробиться сквозь нее.
— Ты боишься меня?
Минусов промолчал, зная, что не сможет ответить: нет у него таких слов, которые могли бы выразить его теперешнее состояние; нет у нее, или пока еще нет, того, особого разумения, которому понятно все без слов.
Это не опечалило Ольгу Борисовну, она заварила и принесла в керамических чашечках кофе — крепкий, с золотистой пенкой, неповторимой ароматности, — живо напомнивший Минусову давний, послевоенный кофе, не столь вкусный, но более дорогой денежно и вещественно: за ним, если было время, Олечка-математичка ездила в Москву, отстаивала две-три очереди в Елисеевском магазине (намалывали по сто граммов «в руки»), а потом приглашала «на чашку кофе» тогдашних друзей-интеллигентов, скромно донашивавших фронтовые гимнастерки; вряд ли они умели ценить кофе, но пили, нахваливая: его иноземный роскошный аромат напоминал о мирной, блаженной жизни.
Отпив глоток, Минусов сказал:
— Спасибо. Вспомнился тот, послевоенный…
Ольга Борисовна кивнула и спохватилась, говоря, что обещала и едва не забыла поставить пластинку, вернее, проиграть одну песню любимой ею поэтессы-певицы на той пластинке, включила проигрыватель, заученно опустила звукосниматель в точно выбранное место, и послышались четкие, с покорной жалобой напевные строчки стихотворения: «Любви моей ты боялся зря, не так я страшно люблю, мне было довольно видеть тебя, встречать улыбку твою. И если ты уходил к другой или был неизвестно где, мне было довольно того, что твой плащ висел на гвозде…» Далее пелось о тоске, одиночестве и такой верности, когда не только плаща и гвоздя — довольно вмятины от гвоздя, чтобы всегда помнить о любимом. Но Ольга Борисовна не стала слушать, она быстро прошла в кабинет-спальню, побыла там недолго и вернулась; шагая медленно, неся на вытянутой руке деревянный полированный коробок; затем так же неторопливо, бережно опустила коробок, как сосуд с драгоценным напитком, на стол перед Минусовым; остановила пластинку, потому что звучала уже другая песня, и попросила едва слышно недвижно сидевшего, явно ничего не понимающего Минусова:
— Посмотри.
Он пододвинул к себе коробок, открыл туговатую крышку со смутно различимой, затертой временем резьбой. Внутри было два отделения; в одном лежала курительная трубка, в другом немного старого, искрошившегося табака. Пахнуло подгорелым деревом (так пахнет лишь яблоневая древесина), трубочным пеплом, неугасшим ароматичным табаком… и Минусов понял: это его табакерка. Давняя, первых лет его учительства — подарок краснодеревщика-деда. Он не взял ее на фронт, боясь потерять, а потом, вернувшись, уже не курил: «С простреленным легким, — сказал ему врач-фтизиатр, — курить неэстетично: дым под рубашкой скапливаться будет». Минусов поднес к лицу табакерку, вдохнул ее крепкий, чуть прогорклый запах, у него затемнело в голове, и он едва одолел желание, чтобы сейчас же не закурить трубку своей молодости; отшатнувшись, спросил зачем-то:
— Хранила?
— Как видишь…
— Ты обдумала, приготовила все это?
— Может быть… — Ольга Борисовна осеклась, точно обрезалась о свои слова, шагнула к Минусову, стиснув бледные кулачки у горла, заговорила быстро, еле справляясь с дыханием: — Нет, сама готовилась… Долго… Последние годы… Думала о нас… Решила… Прости меня…
Минусов ссутулился, почувствовав, как кровь ударила ему в голову, словно горячим паром окатила ее, а пальцы рук заледенели будто от холода. Чего он страшился — случилось, произошло. И внезапно. Хоть и ожидал вроде, даже готовился к этому, надеясь, правда, что удастся отшутиться, не дать договорить, вовремя уйти… Зачем так прямо спросил?.. Минусов ниже склонился, желая скрыть свою растерянность, постыдную — как он думал — для него, давно и вполне уравновесившегося человека. А виски его, налитые кровью, будто выстукивали слова: «Ну, встань, прямо посмотри женщине в глаза, вымолви жестокую, зато разумную, выстраданную тобой истину: нельзя соединить две отдельно прожитые жизни». Да, он сейчас поднимется, только чуть-чуть успокоится…
Рука Ольги Борисовны коснулась волос Минусова, слегка пригладила их, соскользнула на щеку, прижалась, словно согреваясь, затем упала к подбородку, мягко охватила его и стала поднимать голову Минусова. Сейчас, через несколько мгновений, их взгляды встретятся, но не так, как хотелось сделать это Минусову. Она глянет на него сверху, и если в ее глазах появятся слезы… Резко, нерасчетливо поднявшись, Минусов заставил отпрянуть, отшатнуться Ольгу Борисовну, ее руки вновь сжались в кулачки у горла, а глаза, залитые слезами, были неподвижны, испуганно огромны, и Минусов сказал, нет, не то, что готовился вымолвить твердо, мудро, наставительно, сказал обычные, всем известные слова, которые говорят, когда поспешно убегают из гостей:
— Спасибо за угощение… Спешу… Дела…
В тесной прихожей, беря плащ и берет, он не включил света и, кланяясь хозяйке, что-то наговаривая, видел лишь ее тонкий, с опущенными плечами, сиротливый силуэт: открыв и быстро прихлопнув дверь, он едва не бегом застучал по ступенькам лестницы, со стыдом осознавая: «Нехорошо. Стыдно. Можно ведь и без шума сойти».
Путь домой Минусов выбрал самый длинный — через городской парк, две рощи, зеленый бульвар; чтобы подумать, уравновеситься, поставить на прежнее, спокойное место свою душу. Он вышагивал километр за километром, а думалось отрывочно, сказанными невпопад фразами, пережитыми сценами, и мучил, истязал его стыд. Впервые, кажется, он вел себя так не по-минусовски, ложно, даже глупо; когда-то он просто, без пошлых слов и обещаний, мог проститься с Олечкой-математичкой, теперь же, седой, отяжелевший, уважающий себя за житейский опыт, образованность, некую мудрость, он не сумел разумно, не торопясь, не смущаясь, поговорить с пожилой женщиной Ольгой Борисовной Калиновской. Вот уж поистине: «Во многой мудрости многая печаль» — или, напротив, нет мудрости, если столько печали…
Июньский день был тих, ясен; солнце скатывалось к лесу, просветив насквозь березовые рощи, резко обозначив белые стены домов и тени от них, и сам воздух был полон теплой, невидимой жизни: в нем что-то мелькало, кипело, веяло, пахло тонко и дурманяще. Редкий день российского молодого лета. Казалось: в прошлом, когда не было столько городов, заводов, автомобилей, каждое лето сияло лишь такими мягкими, одухотворяющими днями.
Успокоила Минусова усталость.
Подходя к своему дому, он размышлял неспешно: да, он виноват, особой виной своего характера, который нарушил приятный, «нормальный» ток жизни и как бы вышиб Ольгу Борисовну из понятной, доступной всем и ей тоже жизни. Но стоит ли исправлять это теперь? Можно понять молодую женщину — ей нужен не друг, а муж, дети, семья. Зачем же старухе, пусть и виноватый перед нею, старик? Или женщина в любом возрасте может быть только женщиной? О многом приходилось размышлять, философствовать Минусову, об этом задумался впервые.
Запись в тетрадь
«Перечитав «Святцы Максминуса», я опечалился: если как-то, более или менее, живыми получились мои герои, то сам я чаще всего выгляжу сторонним наблюдателем: смотрю, замечаю, отмечаю, однако жить предоставляю другим, вроде бы подопытным — что из этого выйдет?
Меня всегда возмущали авторы-наблюдатели — читаешь роман, повесть и думаешь, зачем пестрит на каждой странице авторское «я», ненужное, как пни в порубленном лесу, кочки на чистом лугу, — ведь его нет живого, во плоти. Кажется, то же постигло меня.
Но я не стану «углублять» свой образ в «Святцах», том паче что не собираюсь публиковать их; а для тех, кому захочется прочесть мои записки, скажу сейчас кое-что о себе.
Первое, быть может, самое неожиданное: я такой и есть, каким себя написал. Не жил — смотрел, как живут другие, учился жизни, чтобы написать о ней. Сам же собирался жить когда-нибудь потом, созрев для настоящей, разумной, высокой человеческой жизни.
Далее. От рождения я был любимым, нежно опекаемым ребенком, что развило во мне капризное самолюбие при ничтожной одаренности, как это часто случается с единственными чадами в благополучных семьях. Студенчество тоже прошло гладко, и лишь фронт, да, фронт, а затем болезнь столкнули меня с жизнью… Точнее — обрушили на меня жизнь, и самую серьезную. Перевоспитался ли я, закалился? Едва ли. Опыт был сильным, устрашающим, но коротким. Потому, наверное, мне захотелось продолжить его, выбрав трудную одинокую жизнь.
Это было мое единственное отчаянное решение. До того дня за меня решали другие: родиться на свет, ходить в школу, окончить институт, учительствовать, воевать… А тут сам, по собственной воле, сделал то, о чем сказали родные и знакомые: «Рехнулся Макс Минусов!» Из городского уюта, подмосковного тепла — в неизвестность, стужу, бродяжничество. И этот, второй опыт, мог бы переродить меня, но, как я уже написал выше, мне не удалось стать участником жизни, потому что (пусть и не совсем осознанно) я поехал смотреть, как живут другие… Они, другие, везде и сразу понимали меня, даже любили («Чудной какой-то!..»), однако не пускали, жалея, в свою, слишком чуждую для меня жизнь: пусть понаблюдает и домой едет, всякому свое место.
Каким же я вернулся на «свое место»? Иным, конечно, годы меняют людей, а тут еще годы были столь необычными. Но «люди уезжают от себя — люди никуда не уезжают» — очень правильно сказано в одном стихотворении. Привез я в своей душе еще больший разлад. Чтобы успокоиться, все-таки обрести себя (покой мне полагался и по летам), я принялся осмысливать виденное, пережитое, наблюдаемое вокруг, начал писать свои «Святцы». И успокоился, и вроде некая мудрость коснулась моего чела. Но из прошлого явилась Ольга Борисовна Калиновская… Зачем?.. Разве прошлое не умирает в прошлом?.. Разве мало взято мною вины на свою долю?.. Если бы я веровал в бога, то спросил бы его по примеру мучеников: «Боже! За что караешь?»
Значит: «Святцы Максминуса» не окончены. Зреет последняя, неведомая глава. Удастся ли мне сохранить привычное состояние — стороннего наблюдателя?..»
Уже три часа сидела за рулем Ольга Борисовна Калиновская. Лишь один раз она остановила «Запорожец» у сосновой рощи, чтобы распрямить задеревенелую спину, подышать чистым воздухом — в машине она боялась сквозняков и только чуть-чуть опускала левое стекло. Роща была неподалеку от дымного, краснотрубого городка, служила, по-видимому, зоной отдыха, и Ольга Борисовна, побродив среди мятой травы, сломленных деревцов, битого стекла, ржавых банок и черных кострищ, влезла в машину и с еще большей скоростью понеслась по новенькому бетону шоссе.
Машина жестко постукивала, отсчитывая бетонные плиты, как вагон стыки рельсов, остро свистела ветром, вымахивала на увалы, будто желая взлететь к низким белым облакам, и вдруг падала, замирая мотором, в глубокие, густо-зеленые низины с бетонными ограждениями мостов; перехватывало дыхание, сердце подкатывалось к горлу от жутковатого падения, почти полной невесомости.
Ольга Борисовна ехала из Рязанской области, где гостила у младшей сестры в деревне. Гостила долго, больше месяца, собиралась прожить до сентября, но сегодня утром, проснувшись в своей боковой комнатке, названной семейством сестры «Олиной», она с необычным весельем выкрикнула:
— Ната! Наточка!
Быстро вошла, почти вбежала Наталья, очень полная (даже для своих сорока пяти лет), румянощекая, говорливая, по-деревенски никогда не унывающая, хозяйка большого дома, жена главного инженера совхоза, завуч местной средней школы; когда-то она окончила тот же педагогический институт, что и Ольга Борисовна, но уже после войны, послали ее отрабатывать три года в рязанскую деревню, здесь веселая Наталья вскоре вышла замуж, раз за разом нарожала четверых детей (старшая дочь недавно сделала ее счастливой бабушкой), укоренилась навсегда и о родном их городе Подольске нечасто вспоминала, а навещала и того реже: работа, домашнее хозяйство, муж, дети — тут о себе-то подумать минуты не выберешь, но сестрице она радовалась, как единственной памяти о детстве, родителях, каждое лето звала ее в гости, и если приезжала Оля, устраивала ей встречу «по высшему разряду» (так шутя называл эти застолья главный инженер), а потом все дни поила молоком «цельным», кормила мясом птичьим «живым» (магазинных кур она называла «синтетическими»), ужасалась, какая Оля худющая, измученная, и была, чувствовала себя не младшей сестрой — мамой неустанно заботливой: жалела, оплакивала Олину одинокую, неудавшуюся жизнь… И сейчас, Вбежав на шумный Олин зов, она испуганно уставилась на нее, озирая все сразу, беспокоясь, не заболела ли, не разбудил ли ее кто раньше времени.
— Натка! — крикнула Ольга Борисовна, обхватывая потную шею сестры. — Мне такой сон приснился! Такой сон!.. Я немедленно еду!
— Да ты што, девка? Никуда я тебя не пущу! — Потрясенная Наталья заговорила совсем как ее соседки-крестьянки. — И не думай! Обещала до осени пожить, фруктов покушать. Ай кто испугал, обидел?
— Нет же! Сон, говорю. Меня позвали…
— Кто это?
— Он. Один человек.
Наталья лишь покачала болезненно головой, зная, что расспрашивать, отговаривать старшую сестру совершенно бесполезно: промолчит, упрется еще больше; можно и разругаться, а они так редко видятся; и ушла, взмахивая руками, постанывая, готовить завтрак.
Стол накрыли в саду, под яблонями, и когда Ольга Борисовна, облаченная в спортивный костюм, с ключами от машины на пальце выбежала из своей комнаты, ее встретили громко, хлопаньем ладошей; племянницы любили свою тетю Олечку, такую модную и шикарную, привозившую им что-нибудь импортное; племянники, несколько стеснявшиеся ее ранее, теперь, увидев, как тетушка лихо водит оранжевый «Запорожец», признали ее суперсовременной «старушкой», лезли в машину, и она учила их водить на чистом лугу за огородами. Даже хозяин, вечно замотанный совхозной работой, опечалился, узнав, что Ольга Борисовна уезжает: скучнее станет детям, не будут такими шумными вечерние застолья, когда собирались всем семейством, распивали бутылку вина, пели, рассказывали смешные истории; он пошутил, что Ольга Борисовна не имеет права, заранее не предупредив, уехать, существуют строгие законы — заявление подается за две недели до увольнения.
— Нет, я отпрашиваюсь по уважительной причине, — сказала она. — Скоро вернусь и доработаю. У меня же свои колеса. Круглые, хорошо катятся!
Колеса катились отлично, хоть и были всего-навсего колесиками кургузого «Запорожца». Ольга Борисовна понимала, что «Жигули», «Волги», заграничные авто катятся мягче, быстрее, уютнее в их салонах, но ей пока вполне хватало своей скорости, своего жестковатого комфорта; к тому же проще, понятнее мотор у «Запорожца», на воздушном охлаждении — не надо заботиться о воде для радиатора; а что гудит громко, трясет — не велика беда, она уже привыкла, приспособилась, почти не слышит мотора, не ощущает тряски. Главное же, самое главное — сама управляет машиной. О, это такое наслаждение! Минутами забываешь, что ты сидишь в железной коробке — мчишься, летишь свободно над серой полосой бетонки, и по сторонам возникая и исчезая, слепят желтизной пшеничные поля, вырастают под облака зеленые рощи и снова рушатся на землю позади; деревни, малые города, стушеванные движением, толпясь вдруг ожившими домами, проносятся мимо и забываются как приснившиеся в далеком прошлом… Скорость увлекает, словно всасывает в себя… Вон впереди «Волга», тяжело груженная, кто-то хозяйственный «ограбил» родную деревню, можно обогнать, хоть и «Волга», чуть только прибавить газу… «Запорожец» поравнялся, полминуты как бы стоял на месте и легонько пошел, пошел, гудя мотором, а вот уже в зеркале видны фары, ветровое стекло «Волги» и красная физиономия возмутившегося водителя… Наступает блаженное, никогда никем не испытанное (кроме шоферов, да и то не каждым) состояние: время, машина, ты сам сливаешься в нечто единое, цельное, в некий гудящий сгусток, почти лишенный разума, привычных ощущений, имя которому — скорость. Скорость ради скорости! Скорость, равная неподвижности — высшее наслаждение!
Ольга Борисовна Калиновская, приехав гостить в деревню «на своих колесах», не давала застаиваться колесам. Если раньше она ходила в сосняки за грибами, помогала сестре огородничать и хозяйничать, то в этот раз только ездила, став истинной автотуристкой; побывала в Рязани, Касимове, на родине Есенина, а Скопин навещала каждое воскресенье, обожая колхозные базары. Но к вечеру старалась вернуться и, проезжая главной улицей деревни, непременно останавливалась около почты, заходила, спрашивала, нет ли чего-нибудь для нее. И сестру спрашивала о том же, прибавляя:
— Я жду, жду одной весточки.
Она ждала, и очень серьезно. Уезжая, приколола к двери своей квартиры бумажку с тремя словами: «Живу в деревне». Она думала, верила, что Макс Минусов придет навестить ее, увидит записку, поймет, как не хотелось ей уезжать из города, бросит открытку или даст телеграмму с такими приблизительно словами (ну, и слегка с юмором своим всегдашним): «Не распить ли нам чашечку кофе?..»
Да, расстались они тогда не совсем хорошо. Но ведь виновата во всем она, Ольга Борисовна, чуть ли не в любви объяснилась, а Макс никогда этого терпеть не мог: стыдился, злым делался… От вина все, лишнее выпила… Вскочил, ушел… Ну и что же? Пусть перекипит, успокоится, подумает. Он же умный человек. Он понял, понимал, понимает: она любит его. И всегда любила. Чего же ей стыдиться?.. Пусть они старые, пусть прошли годы, но ведь оба они — одинокие. Неприкаянные. И она, Ольга Борисовна, не винит его ни в чем — прожил жизнь как ему хотелось.
Сама тоже не была Пенелопой… А теперь почему бы не жить им вместе?.. Ей ничего от него не нужно, пусть только будет рядом, она не хочет знать, видеть его беспризорным. У него никогда не было хорошего здоровья, а она чувствует себя вполне сносно, даже бодро, и может пригодиться ее помощь… И то давнее, такое молодое и милое, осталось нетронутым, неприкосновенным в душе… Макс чуткий, умный, он все поймет, наверняка уже понял… Она приедет, увидит его, он улыбнется своей прежней, чуть усмешливой улыбкой…
«А если нет? — спросила себя Ольга Борисовна. — Если я ему ну совсем-совсем не нужна? Тогда, тогда не знаю… Тогда лучше ничего не знать… Но ведь он позвал меня. Пусть во сне. Бывают сны правдивыми. Есть и телепатия. Для женщин. При особых случаях…»
Она вспоминает сон, привидевшийся ей на рассвете, когда уже чувствуешь, что скоро проснешься, что комната полна тихим синим светом, но еще хочется подремать, понежиться, и видения возникают как бы ниоткуда, нисходят из пространства яснеющего, небесного, и все такое легкое, радующее, и ждешь, жаждешь чего-то, и боишься позвать и назвать словами, но чувствуешь, что оно рядом, надо еще сильнее захотеть, углубиться в сон и возникнет… И возник, явился Максимилиан Минусов, не слышно приблизился, склонился над нею, гривастый, громоздкий, заслонивший рассвет, иные видения, она потянулась к нему руками, а он выпрямился, но не сердито, и стал отдаляться, будто скользя по чему-то невидимому, глядя на нее чуть грустно, и оттуда, из дальней дали, где уже теряется все в дымке, мареве, сиянии иного света, он поманил ее рукой — поднял руку и приложил к своей груди… Еще не проснувшись, но чувствуя, что скоро проснется, и стараясь изо всех сил удержаться во сне, она крикнула: «Подожди! Я сейчас тебя догоню!» Крикнула, не услышала своего голоса и сразу проснулась… Проснулась и заполошно позвала сестру: ей казалось, думалось, что если она немедленно поедет, устремится за Максом, то догонит его.
Наталья обиделась, конечно, ходит теперь по двору, не зная, за какое дело приняться, сердится на детей; так тяжелы для нее отъезды Ольги Борисовны, особенно внезапные. Она давно уговаривает одинокую сестрицу бросить город, не давший ей счастья, переехать жить в деревню, где все свои, родные, и работу можно найти, если уж скучно станет — математический кружок вести, заведовать библиотекой в Доме культуры. Речка здесь чистая, сосновые грибные рощи, молоко «цельное», мясо «живое», воздух — дыши не надышишься. Сто лет проживешь и еще захочется. Ольга Борисовна в шутку обещала переехать, вот постареет, опротивеет ей город, будет доживать последние годы в деревенской благодати, да и грехи есть где замолить — церковь тут красивая, батюшка молодой, образованный. И почему бы не перебраться теперь поближе к природе?.. Она уговорит Макса, они купят домик, имеется такой, возле речки, с садиком, недалеко от сестры, продается второй год — хозяева переехали в Скопин. Побелить, покрасить, изгородь подновить — теремок будет; и веранду можно пристроить со временем, чаи самоварные распивать. Максу она обставит кабинет с настольной лампой, любимыми его книгами, тахтой для отдыха, ковриком на полу. Он будет писать свои сочинения в тишине, с открытым окошком в сад и наконец напишет хорошо, много…
Мысли Ольги Борисовны прервал рев «Икаруса», медленно и тяжело обходившего ее — за полузашторенными стеклами густо мелькали головы туристов, — она глянула на шкалу скорости, было шестьдесят; позади, почти впритык, ползла «Волга» с краснолицым водителем, груженная мешками и корзинами; догнал, потому что Ольга Борисовна, замечтавшись, незаметно для себя потеряла скорость. Надо прибавить газу, идти хотя бы на дозволенных восьмидесяти километрах, обогнать коптящий «Икарус», но сделать это оказалось непросто: движение на подмосковной трассе было плотным, машины, если глянуть вдаль, тянулись разноцветными вагончиками некоего беспрерывного поезда, а жарче, дымнее делалось, и усталость чувствовалась. Все же, осторожно напрягая мотор, она стала обходить сначала грузовики, а затем и легковые, не особенно спешившие, втискиваясь в едва возникавшие интервалы; странно, однако, краснолицый упорно не отставал, шел следом как привязанный. «Рассердился, — решила Ольга Борисовна, — какой-то «Запорожец», яичко крашеное, кургузенький зад показал… «Волга» и с овощами — «Волга».
За узенькой, остро проблеснувшей речкой, начался подъем, и по нему, влево и вправо, неохватными зелеными крыльями распластался сосновый бор; это были уже родные места, до города оставалось километров десять. Вот белый, обширный корпус научно-исследовательского института, будка автобусной остановки, кружевные столбы высоковольтной линии; на обочинах пешеходы — грибники, в одиночку, семьями, поднимают корзины, просят подвезти. Обычно Ольга Борисовна сажала — свои, городские, но сейчас лишь подумала: «Автобуса подождете, погодка хорошая…» Бор кончился, точно его отсекли, стало светлее, шоссе распахнулось свободнее, здесь можно и даже нужно дать машине подышать ветерком, к тому же не видно знаков, ограничивающих скорость; недалеко перекресток, а за ним, в березовых рощицах, замелькают, заблещут окнами дома… Надо только уйти от краснолицего, показать ему напоследок, что не в машине дело. Ольга Борисовна оглянулась, скривила рожицу, а когда глянула вперед, вдавливая акселератор до упора, увидела, узнала, обрадовалась и ужаснулась: по правой обочине шоссе шел Максимилиан Минусов с корзинкой на согнутой руке.
Почти не понимая, что делает, не успев что-либо обдумать, она мгновенно перекинула ногу с акселератора на педаль тормоза, нажала изо всей своей силы, колеса пронзительно скрипнули, машину занесло вбок и тут же, в это мгновение, жуткий грохот и треск обрушились на Ольгу Борисовну; краешком сознания, последним его проблеском отчетливо увиделась вздыбленная «Волга», слепые фары, покореженный капот, страшное, окровавленное, бело омертвевшее лицо краснолицего… И все утонуло в жарко безбольной, черной вспышке, ставшей бездонным, немым провалом.
Услышав позади визг тормозов, а затем скрежещущий удар, Минусов оглянулся и попятился от шоссе: тяжелая «Волга» медленно, как показалось ему, вползла на оранжевый «Запорожец», опрокидывая его, осыпая стеклом разбитых фар… словно вгрызалась ощеренными зубами мятого радиатора; но вот она стала заваливаться влево, тоже вроде бы замедленно: ее правое колесо наискось прошлось по днищу «Запорожца», она развернулась поперек шоссе, ее ударил затормозивший грузовик, а «Запорожец», перевернувшись два раза («Как игрушечный!» — невольно отметил Минусов), упал в жесткий кювет колесами вверх.
Рядом и поодаль скрипели тормоза, останавливались машины, из кабин выпрыгивали шоферы, кто-то уже открывал монтиркой заклинившуюся дверь «Волги»… Минусов бросился к «Запорожцу», подбежал первым и, различив номер над задним бампером, почувствовал, как больно остановилось в нем дыхание, — ему сразу, лишь только он оглянулся, мельком подумалось: «Оранжевый!.. Не она ли?!» Теперь он знал: «Она!» Уперевшись плечом, руками в раму «Запорожца», ощутив необыкновенную силу, даже ярость, Минусов начал поднимать автомобиль, говоря себе: «Скорее!.. Скорее поставить на колеса!..» Он уже повернул его набок, когда подоспели другие, обступили, но тут же кто-то крикнул:
— Оставим так, подопрем чем-нибудь!
Да, именно так проще вызволить человека из машины со смятым верхом, да еще в крутом кювете. Дверцу отодрали. Несколько рук погрузились внутрь «Запорожца», где как бы на дне мятой жестяной коробки, занимая совсем немного места, откинув голову к заднему сиденью, лежала женщина в дорожных брюках и спортивной блузе.
Минусов отвернулся, смутно, полусознательно моля кого-то: «Пусть будет жива, только жива…» Моля и понимая — чуда, в которое он никогда не верил, не произойдет и сегодня.
Ее положили на сухой взгорок лужайки; появились женщины; одна присела, взяла в ладони ее голову, другая принялась разводить и сводить ей руки, полагая, что делает искусственное дыхание; ватным тампоном промокали кровь на лбу и виске; и шептались, говорили, подбадривали друг дружку, мол, ничего, бывает, быстренько приведем в чувство голубушку. Они не вглядывались, не видели ее лица — совсем, ну совсем спокойного, без малейших примет боли, лица, с чуть приоткрытыми остывающими губами…
Подойдя ближе, Минусов сказал:
— Не троньте ее.
Женщины мигом поняли его слова, отошли, и пожилая, самая сердобольная, заплакала, наговаривая:
— Ездим… торопимся… знать ничего не хотим… а смертушка, вот она… рядышком ездит…
Все здесь были шоферами, пассажирами или автолюбителями.
Минусов стоял в полузабытьи, отупении, когда уже не чувствуется волнения, не нужны слова, смешны суета, покаяния. Мимо прошли инспекторы ГАИ с хозяином «Волги», что-то объяснявшим одышливо и зло. Не шелохнулся он и услышав прерывистую сирену «скорой помощи»… Смотрел, видел лишь, как светлеет, делается тоньше, нежнее ее лицо, исчезают морщинки, как тихой синевой наливаются глазницы — огромные и, чудилось, зрячие. Минусов едва не окликнул ее — ту, давнюю, юную… Нет, она была не той, не теперешней — иной и никакой, ибо ее уже не было.
Тело ее переложили на носилки, носилки легко вдвинули в распахнутый фургон, «скорая», оказывая ненужную помощь, с теми же тревожащими звуками умчалась по шоссе.
Автомобилисты разъехались, мятую «Волгу» и разбитый «Запорожец» работники ГАИ сфотографировали много раз и утащили в город, прицепив к грузовикам (чтобы не огорчали, не тревожили проезжающих мимо), и на пустыре, неподалеку от старого соснового бора, наступила обычная тишина июльского ясного дня.
Минусов опустился у сухого взгорка и долго, неотрывно смотрел на алое, глянцевое пятно — там, где недавно лежала ее голова. Пятно запекалось, темнело, а затем, словно обратись в пепел, стало исчезать, меркнуть. Он приложил ладонь — трава была сухая и теплая от солнца.
Из деревни приехала Наталья, чтобы увезти сестрицу Олю и похоронить у себя, на зеленом кладбище возле церкви, над речкой; так и сказала соседкам: «Не могу оставить. Жила сиротой — пусть хоть могила ее рядышком с нами будет».
Она расторопно и умело, лишь изредка всхлипывая, распорядилась имуществом сестры, всем, близко знавшим ее, подарила что-нибудь на память, сдала квартиру, наняла грузовую машину.
Проводить Ольгу Борисовну Калиновскую собралось не менее сотни человек; пришли преподаватели и ученики из той школы, где она учительствовала и директорствовала, подруги, знакомые, жильцы соседних домов. Играл духовой оркестр, говорились речи. Молодой директор школы назвал Ольгу Борисовну своей любимой учительницей и педагогом большой души и таланта.
К Минусову, стоявшему поодаль, подошла Наталья, негромко поздоровалась, подала табакерку.
— Извините, ничего для вас не нашла, все дамское…
Он взял, сказал почти безучастно:
— Вещь вернулась к хозяину.
— Правда? — Едва ли не радостно, подавшись ближе, удивилась Наталья. — И хорошо… А я думала, от тех… осталась. И стеснялась…
Трубными вздохами, уже не печаля, а примиряя и успокаивая — все будем там, только не в одно время, — накатилась музыка, и, пока гудела, упруго сотрясая воздух, они молчали, глядя себе под ноги. В наставшей вдруг тишине тонко, вроде бы издалека зазвучал голос Натальи:
— Я вас помню… Давно, девчонкой приезжала к Оле… Вы тогда дружили…
Минусов кивнул.
— Ей приснился сон… Она к вам торопилась?..
— Да, ко мне.
В надрывно ударившем прибое музыки вновь утонули звуки, шорохи, движение толпы, все сделалось до обидного жалостным, бренным, а когда, словно бы внезапно, не менее громко грянула спасительная, облегчающая души тишина, Наталья сказала, прикладывая к глазам платок:
— Приезжайте посмотреть могилку.
— Приеду.
Минусов обнял Наталью, поцеловал в мокрую щеку и пошел прочь, так и не глянув на Ольгу Борисовну: ему хотелось запомнить ее той, сразу после катастрофы.
Наступила осень. Прошел год с того дня, как он начал писать «Святцы Максминуса», и вот второй месяц не притрагивается к бумаге: все написанное казалось ему (больше, чем когда-нибудь) если не ложью, то некой умышленной полуправдой — обдуманная, упорядоченная жизнь мало напоминала прожитую. Значит, следовало остановиться.
Минусов подал заявление председателю гаражного кооператива «Сигнал» с просьбой уволить его. Журба, внимательно изучив заявление, переспросил по-командирски строго:
— Уходите?
Разведя руки и вздохнув, Минусов молча дал понять, что это им решено, обсуждению не подлежит, уговорам он не поддастся. Пенсионер к тому же, вольный человек. И Журба отлично понял Минусова — поступки на него действовали сильнее, чем слова.
— Правильно: не место вам в сторожах, образованному товарищу. Сожалею в личном плане: не с кем будет побеседовать на сложные темы… И Кошечкина придется увольнять: держался вашим сочувствием и помощью. Заменим полностью штат. Считаю, трех сторожей надо нанимать, как в других кооперативах.
— Да. Двое могут не согласиться.
— Вы же…
— Мы — другое дело: Кошечкину все равно, где было жить. Я — из интереса.
— Спасибо. С вами, Максимилиан Гурьянович, приятно говорить — все точно, строго, без лишних слов. Прошу поработать, пока подыщу замену.
— Поработаю.
— Из особого фонда получите премию, приказом по кооперативу объявлю благодарность, — Журба жестко и четко пожал Минусову руку и прибавил, заметив хмуроватую, слегка растерянную его улыбку: — Решено. Не отговаривайте меня, бесполезно.
Дома, вспоминая этот разговор, Минусов всякий раз думал о председателе гаражного кооператива «Сигнал» с чувством смущенного умиления, даже зависти: вот человек, которому было и будет все понятно «без лишних слов».
А ему нужны слова, нет, не лишние — лишними он достаточно испортил бумаги, — единственные, мучительно найденные и потому правдивые.
Бродя по осеннему лесу, сидя на холодной скамейке в пустом, замирающем перед зимними холодами парке, Максимилиан Минусов, навсегда расставшийся с Максминусом, почти не мыслил — внутренне, напряженно зрел, сбрасывая, как дерево, все увядшее, перегоревшее, зря отягчающее. Он выстрадал и знал теперь самое главное: сторонний наблюдатель — тот же преступник, только его за это не судят.
Надо жить!
1977
Примечания
1
Южный — так называют сахалинцы город Южно-Сахалинск.
(обратно)2
Хорошей дороги!
(обратно)3
Аткычх — старик.
(обратно)4
Восклицание восторга.
(обратно)5
Нафкк — подруга.
(обратно)6
Млыво — рай, жилище потусторонних людей.
(обратно)7
Чхыф — медведь.
(обратно)8
Активка — активный лов в открытом море.
(обратно)9
Стоп!
(обратно)10
Унаткан — девочка (эвенк.).
(обратно)11
Застегните, пожалуйста, ремни! (англ.).
(обратно)12
Перестаньте курить, спасибо (англ.).
(обратно)13
Могу я чем-нибудь помочь? (англ.).
(обратно)14
Простите! (англ.).
(обратно)15
Надеюсь, что полет доставил вам удовольствие и мы увидим вас снова (англ.).
(обратно)16
Несчастный — вещь священная (лат.).
(обратно)
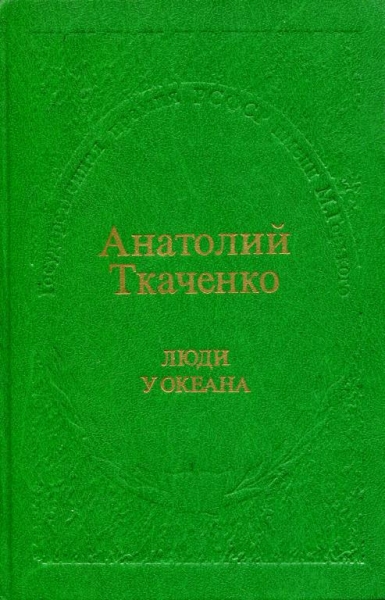

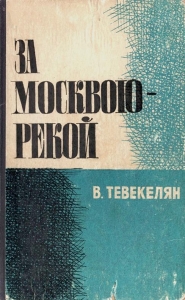

Комментарии к книге «Люди у океана», Анатолий Сергеевич Ткаченко
Всего 0 комментариев