Утренние слезы
Объездчик Ещев
Весной, в конце апреля, случаются порой такие теплые, распахнутые во все стороны света дни, что еще с ночи чувствуешь их приближение, слыша, как вьются в смутной темноте, вскрикивают и пищат, шумно загребая крыльями воздух, токующие в небе чибисы. Много их там или мало, не знаешь, но в воздухе, над потной, кочковатой луговиной, по которой ты шел с вальдшнепиной тяги, кружится и кружится повизгивающая и лопочущая крыльями птичья карусель. В ночной тишине можно даже услышать, как поскрипывают маховые перья птиц, занятых брачными своими заботами. Полет у них взбалмошный и раскидистый, а округлые крылья, чем-то похожие на совиные, в отличие от бесшумных крыльев ночной хищницы при каждом торопливом взмахе рождают в воздухе упруго ухающий, ветреный звук — изменчивый и непостоянный, как изменчив и сам полет этих радостно повизгивающих куликов, которых и чибисами зовут, и пигалицами, и луговками. То косо взмывают они вверх, то ныряют, падают чуть ли не до самой земли, над которой ловко выворачиваются и, раскачиваясь из стороны в сторону на лопатистых крыльях, опять круто возносятся ввысь, издавая крыльями упругие звуки напряженных под ветром, бьющихся парусов на поскрипывающих мачтах.
Вот такие воздушные парусные кораблики летают всю ночь, оглашая окрестности радостным своим писком, и никакой сон не идет тогда в голову, будто и ты тоже не можешь, не имеешь права не радоваться теплой и нежной весне.
Оконный проем в сумрачной избе кажется светлым, будто на дворе луна. Живу я в холодной половине, не закрывая на ночь окно. Мне все хорошо слышно, что творится в весенней ночи: слышно, как стая нырковых уток проносится в небесной высоте, с шипением рассекая своей массой ночной воздух и торопливо погогатывая в полете; как где-то в сыром кочкарнике резко вскрикивает болотная курочка; как струйка талой воды тихо бормочет, прорезав себе тоненькое русло в расхлябанней, промокшей насквозь, распаренной земле; слышно, как вздыхает и громко фыркает за стеной в хлеве лошадь, глухо постукивая иногда копытом или встряхивая головой.
Эта-то лошадь и не дает мне покоя. Я ловлю ее пахучий дух, и мне даже начинает казаться, что весенний воздух тоже пахнет лошадью. Никак я не могу избавиться от этого странного ощущения: то ли мой нос, пропахший табачным дымом, подводит меня, то ли я сам настроил себя на лошадиный дух и уже не в силах выветрить его из сознания. Пахнет лошадью — и все тут! Так приятно и так радостно, что никак не могу согнать с лица счастливую, бессмысленную улыбку.
Вчера я рассчитал, сойдя с поезда, что не успею засветло добраться до деревни, решив по пути постоять на тяге, а уж потом попроситься на ночлег. Нашел в лесу место, где когда-то стрелял по вальдшнепам, и скинул на землю тяжелый рюкзак. Достал стволы и ложе из чехла, собрал холодное ружье, сладостно вслушиваясь в сочно чмокающие щелчки хорошо подогнанного, смазанного металла, вскинул легкое ружье, разминаясь и прилаживаясь к стрельбе — в одну сторону, в другую… Все хорошо!
Дрозды квохчут, перелетая с березы на березу. Под ногами у меня рассыпан размокший лосиный помет. Лесная мышь шуршит и попискивает в прошлогоднем хламе. Зеленеют листики перезимовавшей под снегом земляники.
Стою на перекрестке лесных заброшенных дорог и жду, когда полетят вальдшнепы. Вечер такой, что не полететь они просто не могут: обязательно какой-нибудь отыщет меня среди захламленного березового лесочка.
Садится солнце, сжигая оранжевым своим огнем паутину голых ветвей. Земля уже кажется коричневой, а березы на ней розовыми. В парном воздухе толкутся перед глазами живым дымком комарики, и прозрачная их стайка золотится в коричневых сумерках. Мелкая, как болотце, весенняя лужа на полянке, в которой утонули березки, горит рыжим пламенем. А в овраге бежит ручей. Там сумерки. Там кустики малины, бузины, затопленные водой, дрожат всеми своими веточками и колышутся на течении. Вода там кажется сизой и глубокой, опасной. Но шум этого иссякающего ручья так далек от меня, словно бы он доносится из ущелья, словно бы я стою не в десятке шагов от него, а на поднебесной вершине, с которой мне еле-еле слышен его бурливый бег по заросшему донышку пологого оврага.
Место для тяги очень хорошее.
Все вокруг — от великого солнечного диска, который уже опустился за стволы берез и пронзил чащу последними дымчато-красными лучами, от вселенского этого светила и до крохотного листика земляники — все каким-то чудом умещается в ликующей моей душе, находя в ней отклик и понимание.
Звон стоит в ушах от тишины. Хотя и бормочет в овраге ручей, а в березах трещат и квохчут обезумевшие дрозды. Какая уж тут, казалось бы, тишина!
Но — тишина потрясающая.
Чудится мне, будто бы только что я бежал, торопился, стоял в очередях, ехал вниз-вверх на лифте, на эскалаторах метро, несся в железных полуавтоматических устройствах с программным управлением, в длинных поездах под землей и на земле, в грохоте и скрежете металла забывая самого себя, и уши мои, привыкшие с детства к этому реву, визгу, гулу большого города, к железно-каменному его дыханию, заложило теперь первозданной тишиной.
Я убежал! В панике бежал всю свою долгую жизнь от преследующей меня грохотни и улюлюканья, и наконец-то мне очень повезло, как везет иногда гонному зверю, ушедшему от смертельно опасных собак, сколовшихся со следа.
Вот он я, живой и невредимый, стою на лесной поляне, на перекрестке едва приметных дорог и жду, когда полетят над лесом вальдшнепы…
И вдруг — похрустывающие, чавкающие в чащобе, тяжелые шаги грузного какого-то животного. Не успел я подумать, что это, наверное, лось, как с закатной, лучистой стороны прямо на меня тяжелой рысью выламывается из зарослей на поляну всадник и, заваливая морду лошади на сторону, останавливает ее рядом со мною, неожиданно возвысившись, вознесясь в подозрительном своем недружелюбии.
Все происходит так неожиданно и так быстро, что я не успеваю испугаться, не успеваю подумать, откуда он тут и что ему от меня нужно.
Что-то он вдруг говорит невразумительно, что-то вроде, как мне слышится: «Объещещщ», — глядя на меня сверху вниз.
Я сторонюсь лошади, которая напирает на меня, дыша мне в лицо распаренным сеном.
— Что вы сказали? — переспросил я. — Не понимаю.
Опять тот же бессмысленный то ли окрик, то ли приказ:
— Объещещщщ…
«Черт побери! — думаю. — Что же он хочет-то от меня?»
Пожимаю плечами, улыбаюсь, поглаживая длинную лошадиную переносицу, или, как ее называют лошадники, храп, чувствуя тонкое шелковое покрывало мелких, гладеньких волосиков, теплую влажность душистой кожи.
Мужик на лошади в зеленом плаще щербато улыбается, с сомнением разглядывая меня. А я разглядываю лошадь, которая с материнской лаской косит на меня большим и добрым глазом. Светло-рыжая, масленая, с белесой челкой и гривой, с длинным белесым хвостом, она вся пропахла потом, вся теплая, дышащая мне в лицо, живая и огромная. И чудится, будто я слышу, как в груди у нее бубухает большое сердце, как ходит воздух в громадных легких, как течет в жилах кровь…
Я так давно не видел лошадей, так обомлел вдруг от неожиданной встречи, что на седока поглядываю как бы из вежливости, а глаза мои и руки тянутся к лошади, к умной ее морде с задумчивыми глазами, от которой так душно и знакомо пахнет парным сеном.
— Я, — говорит мужик, тыча себя пальцем в грудь, — объездчик. А фамилия у меня Ещев. Фамилия такая — Ещев, — добавляет он, произнося по складам: — Ее-щев… Понятно?
— Понятно! Лошадь-то как зовут? Красавицу эту?
— Соловкой!
— Соловкой?
— Ну, а что? По масти! Соловая. Ну и Соловка, — отвечает тот и смеется. — Будем так говорить, ей один черт, соловка она или соловьиха. — И, склонившись, тоже гладит ее по скуле.
Я стою на земле, он сидит в седле — и оба мы ласкаем лошадиную морду. Что-то Ещев хочет спросить у меня, что-то у него застряло на языке, никак он не может вытолкнуть наружу какой-то вопросик и только посмеивается хрипловато, скалясь съеденными, короткими зубами и зияющими пустотами в челюстях. На щеках у него глубокие складки, в глазах и смущение, и хмурая ухмылка, будто ему неловко передо мной.
— Красивая лошадь! — говорю я, как зачарованный. — Чудо какое-то!
А Ещев в ответ и хмурится, и осторожно улыбается в непонятном смущении, лицо его играет то задиристостью, то добротой. Лошадь пятится от меня, перебирая ногами, круто гнет шею в сторону, подчиняясь поводьям. Ещев постукивает в ее гулкие бока каблуками резиновых литых сапог, чмокает губами, мотает сам головой, словно ему смешно и удивительно от чего-то непонятного, смеется будто бы сам над собой и, пустив лошадь рысью, ни с того ни с сего направляет ее в овраг, в ручей. Лошадь всхрапывает, вваливаясь в глубокий еще ручей, и выносит седока на тот берег оврага, где еще розовеют березы.
Ещев машет мне рукой и смеется, кричит опять что-то невразумительное, а я ему тоже отвечаю улыбкой и тоже машу рукой.
Мокрая лошадь отлита из желтой меди, а седок на ней, как прошлогодняя трава, в своем выгоревшем плащишке, и только резиновые мокрые сапоги блестят черным лаком.
Уехал, скрылся в кустарнике. Лошадь недолго похрустела по валежнику, и звуки ее шагов тоже замерли, растворились в живой тишине леса.
Смотрю на след копыта, глубоко вдавленный в мягкую землю, — стояла вот тут, была только что здесь лошадь! Оглянусь вокруг — не могло этого быть: откуда ей взяться тут? Но понюхаю руку, которой гладил лошадиную морду, и слышу ласковый ее, теплый запах. Значит — была!..
Случилось так, что я, будто бы ведомый сверхъестественной силой, постучался в деревне именно в тот дом, где жил объездчик Ещев.
А теперь гляжу в окно, дышу ночным воздухом, пропахшим лошадью, и не могу уснуть. И мучает меня нетерпеливое чувство, неясная тоска, точно мне надо что-то обязательно вспомнить, воскресить в своей замусоренной памяти, освободить ее от всякой ерунды и зауми для чистых чувств и мыслей, без которых так надоело мне жить, что просто хоть волком вой.
То ли сплю, то ли наяву все это…
Осиновая рощица, в которой каждое деревце, одетое в гладкую зеленую кору, трепещет глянцевыми листьями. А меж деревьев, куда ни посмотришь, всюду матово темнеют в теплой земле прохладные листья ландышей. Тоненькая, длинная цветоножка, на которой рядочком висят душистые маленькие колокольчики. Крупные и ярко-белые, сахарные, они, уменьшаясь, кончаются бледно-зеленым бутончиком на поникшей вершинке. Я их впервые узнавал среди других цветов в то далекое довоенное лето и радовался, когда находил в упруго хрустящих листьях душистые эти соцветия. Очень радовался, потому что мама, показавшая мне, как растут в лесу ландыши, просто умирала от счастья, когда я приносил ей благоуханный цветок, будто она только и жила на свете ради этих удивительных и нежных ландышей.
Мы жили в то лето в подмосковной деревне Сальково, неподалеку от древнего Звенигорода. Мама не работала, младший брат мой Вовка еще не учился в школе, а я перешел уже во второй класс с Похвальной грамотой. Работал один отец, который каждую шестидневку приезжал в деревню, на дачу, как мы называли деревенский дом, в котором мои родители снимали светлую комнату, отгороженную от хозяев дощатой стенкой, не достававшей до потолка: жили как бы за деревянной ширмой. Для нас с Вовкой это не имело тогда никакого значения. Мы приходили в комнату только есть, спать или прятались от дождя.
Когда приезжал отец, мы заранее шли с мамой встречать его к Марьинскому оврагу. Проходили через деревню Марьино, по пыльной и кривой дороге, и останавливались на вершине пологого и чистого склона, заросшего густой и словно бы подстриженной травой. Склон этот был похож на зеленое полукружие огромного амфитеатра. Внизу была сцена: узенький дощатый мостик с жердевыми перильцами, который высовывался из серой зелени глухого ольховника, таящего в своей сумеречной глубине быстрый и прозрачный ручеек, текущий к Москве-реке и впадающий где-то в эту быструю реку.
Отсюда до конечной станции Звенигород было, наверное, километра полтора или два. Мы сидели на вершине оврага, боролись с братом, кувыркаясь в траве, катались бревнышком вниз, ползали или просто валялись как попало, пропитанные запахом сочной, прохладной к вечеру травы. А мама, тогда еще очень молодая, сидела и смотрела на нас.
По ровному и чистому склону среди травы струилась вниз сухая, светлая тропка, оканчиваясь возле торчащего из ольховника мостика. И вот когда на станции раздавался гудок паровоза, доносимый сюда гулким лесом с такой силой, будто паровоз гудел прямо за оврагом, мы забывали об играх, и начиналось радостное и нетерпеливое ожидание. Кроме нас, на край оврага приходили и другие дачники, с детьми или без детей. Но мы с Вовкой привыкли, что наш папа всегда появлялся первым из темной лесной пещеры.
Когда он, с рюкзаком за плечами, выходил на тропку, мама всякий раз тихо и нежно восклицала: «Вон, папа идет!» Мы это видели и без нее, но восклицание ее было для нас сигналом. Мы срывались с места и неслись вниз — бежали с такой скоростью, что ноги еле успевали за нами. Отец ловил нас внизу и целовал потными от быстрой ходьбы, солеными губами: сначала меня, потому что я прибегал первым, а потом и Вовку, который частенько падал на склоне и всегда опаздывал, плача иногда от обиды. Отец брал на руки толстого моего братца, я же шел рядом с отцом, держась за его горячую руку. Отец говорил маме: «Здравствуй», — целовал ее в губы, и мы шли вчетвером в свою деревню, в свой бревенчатый дом, перед которым возле калитки росла старая и очень стройная, пышная рябина с бронзовато-бурым, точно из металла отлитым, круглым стволом.
Мы жили в то лето беззаботно и так веселились каждый день, что, когда наступали сумерки, а потом и теплый вечер, мы с братом уже спали. Вовку мама раздевала в кровати сонного, а я с трудом раздевался сам. Мы спали с братом на одной кровати, а точнее сказать, на деревянном топчане, на большом матрасе, набитом мягким и душистым сеном.
В той деревне, которая и сейчас стоит на московской земле, я впервые в жизни узнал три важные вещи, три, так сказать, явления природы: увидел, как растут ландыши; узнал, что такое рогатка, с которой не расставался хозяйский сын Колька; перестал бояться и полюбил живую лошадь.
Это было так много и так важны были чувства, пробудившиеся во мне от знакомства с ландышем, рогаткой и лошадью, что даже рыбная ловля на удочку казалась мне будничным занятием, хотя я и пропадал с отцом на Москве-реке в выходные дни: рыбалку я знал и раньше.
Но ландыши отцвели. Рогатку у Кольки отнял и разломал, порвав резинку, взбешенный хромой конюх, когда тот убил из нее ласточку, сидевшую на соломенной крыше конного двора. Оставались нам только лошади.
Мама строго и всегда удивленно спрашивала, когда я убегал с Колькой и Вовкой из дома:
— Это еще куда?
А я с нетерпением и злостью отвечал ей, боясь, что она не отпустит:
— На конный двор!
— Осторожно там! Они брыкаются! — говорила она, повысив голос. — Не подходите к ним! Слышите?!
Но мы не слышали, уносясь с деревенской улицы, заросшей курчавой травой, на которой паслись гуси, и вылетая в каком-то стремительном вираже на пыльную, широко растоптанную дорогу, которая вела через поле к реке, но, главное, к раскидистому, соломенно-деревянному, таинственному конному двору.
В ту пору в деревню редко заезжали автомобили, а потому и дороги были другими. Топтали землю босые люди или подкованные лошади, мяли ее колеса телег или сеялок и косилок, которые никогда и нигде не буксовали, не рыли ямы и канавы даже в самые дождливые дни осени. Неглубокие и ровные колеи были засыпаны вровень с дорогой мучнисто-тяжелой, прохладной пылью. И когда мы бежали по дороге босиком, то обязательно старались бежать по мягкой и словно бы устланной шелком колее, утопая по щиколотку в земляной пыли, которая не взлетала вверх от ударов босых наших ног, а расступалась под ними, раскидываясь в стороны серыми брызгами, и снова сходилась, как вода. Если же мы шли по пыли осторожно, то можно было печатать четкие следы босых ног, чем мы тоже, конечно, занимались в ту пору.
Странное и теперь малопонятное равновесие царило тогда между людьми и природой, которое никто как будто бы не устанавливал и не поддерживал специально. Люди не в силах были нарушить это равновесие, потому что тяжелой техники было тогда еще очень мало. Природа же как бы все время приспосабливалась к человеческой деятельности на земле, не досаждая людям какими-либо особыми неприятностями и каверзами.
Над дорогой день-деньской скользили ласточки, ловя на лету всяких мошек и мух, вившихся над лошадиным пометом, который давал жизненные силы всевозможной подорожной траве, не говоря уж о мелких летающих и ползающих тварях, служивших пищей многочисленному птичьему обществу, кормящемуся на дороге.
Люди ездили и ходили по дороге, не заботясь о цветах, траве и птицах, а трава, цветы и птицы тоже беззаботно росли, красовались и жили на проезжем пути человека. Даже пыль в колеях была настолько тяжелой и спокойной, что не только людям не мешала, но и не забивала нужные и ясные цветы, лепестки которых напоминают раструб маленького граммофончика.
Не знаю, как в других местах, но там, где мы жили в то лето, в окрестностях деревни Сальково, все было именно так. И дорога через ржаное поле, которая вела из Салькова в Поповку и дальше — в Дунино и Аксиньино, была именно такой. Надо только заметить, что деревни Поповки никакой не было. Так называлось место в лесу. А почему оно так называлось, я тогда не знал. Не знаю этого и теперь.
Там, на склонах к реке, рос старый еловый и сосновый лес. Огромные деревья переплетали землю мощными корнями, которые всюду извивались окаменевшими удавами. Видимо, деревьям трудно было расти на крутом склоне и они таким образом держались корнями не только за землю, но и друг за дружку. Мы с отцом, как по естественней лестнице, спускались к реке по выпирающим из земли корням, часто спотыкаясь и чуть ли не падая. Впрочем, и падали иногда.
Но это, если мы шли на рыбную ловлю.
Конный же двор был рядом с деревней, за кузницей, на широком и вытоптанном лугу перед ржаным полем.
Большое, вытянутое бревенчатое строение с узкими прорезями многочисленных оконцев, покрытое выгоревшей и вымокшей, почерневшей соломой, было огромным и словно бы самой природой созданным лохматым каким-то сооружением, предназначенным для гнездовий деревенских ласточек… Сюда летели они со всех сторон, торопливые и неугомонные, и черными стрелами вонзались в громоздкое и длинное тело конюшни. А в это же время другие такие же ласточки стремглав вылетали из-под толстой и мохнатой крыши и уносились прочь. И чудилось, будто одни и те же ласточки ударялись об стену и крышу конюшни, резиново-мягко отскакивали, улетали и, разогнавшись, снова мчались к конюшне, чтобы с лёта опять ткнуться и нее и отскочить рикошетом… Всюду в небе над конюшней летали, скользили, вились ласточки!
Сотни глиняных гнезд, наполненных птенцами, гирляндой тянулись под слегами сарая. Сотни птиц с хлопотливым щебетом кормили птенцов, наполняя воздух таким громким и песенным гомоном, что казалось, будто бы сам конный сарай с осевшими, кривыми стенами звучит без умолку с утра до вечера и щебечет, забыв на старости лет об истинном своем назначении. Стены, опушенные снизу зеленой полосочкой травы, выбивавшейся из-под кирпичного фундамента и ровненько общипанной, насколько было возможно, лошадьми, цвет имели алюминиевый, бревна растрескались, пакля клоками торчала между ними, служа строительным материалом для вездесущих воробьев, которые гнездились в теплой и рыхлой крыше, легко уживаясь с ласточками и кормясь не в воздухе, как их острохвостые соседки, а на земле.
Мир здесь царил и покой, если считать покоем неутомимое и шумное кормление голодного потомства, пока на конном дворе не появлялись мы во главе с конопатым Колькой, у которого лицо было похоже на рыжую маску с улыбающимися полумесяцем губами, с румяными скулами и очень грустными, повисшими в рыжей пустоте ярко-серыми глазами.
Ласточки носились и визжали над нашими головами, обдавая нас струйками ветра; воробьи серыми мышами высыпали на соломенную крышу и так громко чирикали, что казалось, будто они подзадоривали своим чириканьем смелых ласточек. Переполох стоял на дворе, как если бы мы пришли сюда разорять птичьи гнезда.
Мы, конечно, не знали, зачем прибегали на конный двор, и ходили вокруг, заглядывая в ворота, в бурую полутьму душистой конюшни, где пофыркивали и с секущим свистом обмахивались хвостами лошади в стойлах; почему, завидев хромого конюха, убегали и прятались за кузницей в ржавом хламе, заросшем серебристой лебедой, а потом опять, крадучись и остерегаясь, шли к конюшне, пугая птиц, и бродили, прислушиваясь к ржанию лошадей; зачем ловили зеленых мух, сидевших на растрескавшихся теплых бревнах, и слушали, как они, пойманные, звонко зудят в кулаке, царапаясь лапками, а потом долго разглядывали обломок стершейся подковы, которую поднимал с земли Колька, грустно смотревший на нее всем своим улыбающимся и каким-то непонятным лицом; потом опять убегали, заслышав за стенами глухую ругань конюха, топотанье лошади, злое и зычное ее всхрапывание, ржанье, похожее на звучное, утробное рыканье зверя. Конюх выходил из конюшни, неся в руках повисшую до земли уздечку или хомут, но тут же, сощурившись на солнце, надолго опять пропадал в потемках, что-то там делая, что-то, наверное, починяя, подшивая сыромятной кожей или поддавая корму отдыхающим лошадям, ругаясь с ними и разговаривая, а иногда и вступая словно бы в драку с упрямым и злым жеребцом или норовистой кобылой.
Этого конюха, по-моему, боялись все. Боялся и Колька, который вообще ничего не боялся.
Даже мой отец, который тоже, по-моему, ничего и никого не боялся, кроме грозы, побаивался мрачного мужика.
Но на то были свои причины.
Химическая промышленность не выпускала в те времена силоновых лесок, и ни у кого даже в мыслях не было заполучить что-нибудь подобное, что-нибудь эдакое, хоть отдаленно похожее на прозрачную, тонкую и прочную жилку. Славилась, кажется, английская шелковая леска, но среди рыбаков ходили о ней только слухи, а обладать кому-нибудь этой леской удавалось редко — она очень дорого стоила.
Рыбу ловили на конский волос, плетя из него леску и связывая концы рыбацким узлом. Лески эти отличались прочностью, были пружинисты и эластичны в воде. Узлы, конечно, мешали, но с этим мирились, считая само собою разумеющимся и неизбежным злом, избавиться от которого невозможно.
С детства, с первых своих шагов, с первого ощущения окружающего меня мира, я помню лошадиный запах, который исходил из ящика старого шкафа, стоявшего в нашей комнате, в котором отец хранил запасы конского волоса — длинные рыжевато-пепельные пряди, из которых он плел себе лески. Были у него лески в три волоса и даже в четыре, были и в два, но отец любил ставить на удочку леску в один конский волос, подбирая для этого особенно прочные, длинные и ровные по всей длине светлого тона волосы из конского хвоста. Лошадей тогда было много, но хорошие хвосты попадались очень редко. За такими хвостами охотились. Причем нельзя было выстригать из хвоста пряди волос, а надо было рвать их с корнем. Приятного для лошади, конечно, мало, но рыбаки шли и на эти преступления, завидев лошадь с богатейшим хвостом. Вырванную прядь волос надо было хорошенько промыть в теплой воде, дать ей просохнуть, а потом разобрать волосы но толщине и длине, чтобы не было в леске слабых мест, а уж только тогда вязать лески. Каждое звено волосяной лески было приблизительно в метр длиной, а значит, на удочку требовалось не меньше двадцати пяти волос из конского хвоста. Лески ж эти жили не так долго, как современные, известные на весь мир японские, германские, норвежские, чехословацкие, американские, наши «клинские» или английские, изготовленные фирмой «Шекспир». Они часто рвались на зацепе или резкой подсечке, на узлах, на слишком крупной рыбе, а со временем и просто теряли прочность, секлись, как секутся мертвые волосы, перегнивали и выбрасывались.
Мой отец, с детства зараженный рыбацкой страстью, перешедшей к нему от моего деда, не мог равнодушно смотреть на проходившую мимо лошадь. Стояла ли та в упряжке, паслась ли спутанная на лугу, тащила ли с дровяного склада тяжелый воз березовых бревен, отец, улучив момент, подходил сбоку к лошадиному крупу с задумчивым каким-то выражением на лице, с деловой серьезностью отбирал в хвосте несколько волос на пробу и, накрутив их на палец, резко, наотмашь дергал.
Ругались, кричали, обзывали последними словами извозчики, грозились вожжами, но отец отходил в сторону и, отделываясь тоже возмущенным: «Ну что тебе, жалко, что ль!» — пробовал волос на прочность, оставаясь, как правило, недовольным и бросая жиденькую прядку на землю.
Черные или короткие хвосты его вообще не интересовали. Если же он видел длинный светлый хвост, который носили лошади соловой, например, масти, остановить его было трудно.
Он чувствовал себя неудачником, у него портилось настроение, если ему не удавалось вырвать из такого хвоста хотя бы одну прядку волос. За ужином он порой со вздохом говорил маме: «Такой сегодня хвост видел, а подойти никак не мог! Очень хороший хвост». На что ему мама отвечала с легким раздражением: «Ну и слава богу. У нас и так не комната, а какая-то конюшня».
Мама, конечно, преувеличивала, но доля правды в ее словах была — в комнате нашей в старом доме на Большой Калужской улице, которого теперь и в помине нет, витал в воздухе едва уловимый дух живой лошади, будораживший мое воображение, особенно в то время, когда отец плел и вязал лески или промывал в тазу только что вырванные пряди свежих конских волос, от которых шел тяжелый, распаренный запах загнанной, взмыленной лошади. Мама ругалась, но ничего не могла поделать с отцом.
Теперь отец, обладающий целым набором наилучших лесок, изготовленных во многих странах мира, иногда говорит с сожалением: «Вот бы такие лесочки иметь в то время! Сколько бы я рыбы вытащил, каких лещей, каких голавлей, язей! Бывало ведь, водишь-водишь, а он попрет-попрет, и… леска рвется, не выдерживает».
Мы с братом взращены, можно сказать, на рыбе, пойманной отцом. Он всегда был удачливым рыбаком и в своем роде виртуозом ловли в проводку. Он и теперь редко уступает первенство старым своим друзьям, Халтурину и Тиматкову, знаменитым тоже рыбакам, которых знают на подмосковных водоемах, на той же «Можайке» или «Истре», в Шатуре или на Рузском водохранилище. Где они только не ловят теперь, гоняя кружки или сверля лунки, вытаскивая в лодку шершавых, колючих судаков или бросая на лед таких же колючих ершей, коченеющих на морозе и превращающихся в серенькие запятые.
Но в то далекое время, когда мы жили в Салькове, отец заслуженно носил славу лучшего рыбака округи. Никто из местных жителей никогда не налавливал столько рыбы, сколько приносил ее с Москвы-реки мой отец. Он еле дотаскивал на себе пойманную за утро рыбу, которую мама не успевала жарить, варить, мариновать и которую мы не могли уже есть — так ее много было всегда и так она надоедала нам.
Отец отдавал рыбу хозяевам, соседям, которые с удовольствием брали ее, разнося по Салькову и по окрестным деревням славу про него.
И я уверен, что, если в Салькове живут и поныне люди, знавшие моего отца, они, конечно же, вспомнят баснословные его уловы.
Только дело, наверное, не в этом. Какая уж там слава! Дело в том, что, когда отец жалеет, что у него в то время не было современной лески и что из-за этого много рыбы было упущено зря, я соглашаюсь с ним в принципе, но сам про себя думаю всякую небылицу. «А может быть, потому-то и рыбы было так много, — думаю я с улыбкой, — и клевала-то она так охотно и так уверенно потому, что крючок с насадкой был привязан не к изделию новейшем химии, издающему, наверное, неприятный какой-нибудь запах, улавливаемый рыбами, а к обыкновенному духовитому и такому понятному, неопасному конскому волосу, к запаху которого рыбы привыкли с малькового своего детства, потому что дух купающихся в реке потных рабочих коней каждый день несла река по всему своему течению. Может быть, в этом все дело?»
Думая так, я легко представляю себе купающихся или стоящих по грудь в воде лошадей, пьющих воду, а сам понимаю, что рассуждения мои неверны, хотя и кажутся они заманчиво-соблазнительным объяснением рыбацких моих неудач, хотя и мечтаю порой выйти как-нибудь на реку с удочкой, оснащенной леской из конского волоса. Забывая при этом, что теперь наступили другие времена, когда многое уже загублено человеком с помощью той же новейшей химии, а тонкая и прозрачная лесочка, выдерживающая огромные напряжения, тут вовсе ни при чем. Да и мечта это несбыточная. Теперь днем с огнем не сыскать хорошего хвоста, потому что и лошадей-то почти не осталось! Такого, например, какой был у знаменитого сальковского Соловья, золотисто-песочного мерина с пепельным нависом…
Зеленая лужайка вокруг осинового леса, где растут ландыши, а на яркой зелени светлая лошадь, на передние ноги которой надеты веревочные путы. Тяжелая ее голова свесилась до земли, темные губы захватывают, щиплют траву, а длинная грива, напоминающая цветом своим свежее мочало, разметалась по золотой шее. Мерин большой и сильный. Хвост его чуть ли не касается травы. В трудном и коротком прыжке передвигает он спутанные ноги, подтягиваясь к свежей траве. А к нему, к этому красавцу, подходит, как зачарованный, мой отец и, остерегаясь мощных задних ног мерина, тянется сбоку к роскошному хвосту, которым мерин лениво обмахивается все время. Рука у отца дрожит, но вот он зажал в пальцах тонкую прядку позванивающих на размахе волос, обернул ими кисть руки и, озираясь по сторонам, сильно дернул, отпрыгнув в тот же момент от мерина, по спине которого прошла мелкая судорожная дрожь и который сделал два коротких прыжка, уходя от отца и от боли.
В глазах отца я вижу чуть ли не священный ужас. Он смотрит на золотистые волосы и словно бы не может поверить своим глазам, смотрит на меня, на мерина, опять на волосы, зажатые в пальцах и свисающие с руки до земли, и я чувствую с ребячьим восторгом, что он не может выговорить слова от небывалого волнения, точно напало на него заикание.
— Подожди, — говорит он. — Я сейчас это… Никто по дороге не идет? Ну-ка держи, — говорит он, подавая мне тяжелую прядку вырванных волос, а сам берет один наугад и, зажав в пальцах, пробует на разрыв, дергает его, стиснув побелевшие губы и напрягая лицо в несказанной, боязливой надежде. — Это что же? — говорит он все так же безумовато и трудно. — Это же… что-то необыкновенное! Я такого отродясь не знал. Да! — выдыхает он шумно и счастливо, когда волос наконец-то рвется с тоненьким и коротким свистом. — Это — да! Это мы сейчас надергаем… Ну-ка, это… Посмотри там.
И он уже смело идет к спутанному мерину, правой рукой дергает волосы и наматывает их на левую, которая становится похожей на золотисто-шелковую бобину.
Бедняга мерин по кличке Соловей всякий раз сыплет по коже дрожью и, терпеливый, лишь тяжко отпрыгивает на шажок, не переставая щипать траву. Хвост его такой толщины и такой длины, что отец входит в раж — лицо его пламенеет незнакомой мне страстью, глаза становятся похожими на соколиные, резко очерченные, жестковатые. Занятие это трудное, а потому на лице и на лбу у него блестит испарина. Он то и дело озирается на дорогу, приказывая и мне не зевать, а смотреть, не идет ли кто, не грозит ли нам опасность.
Возбуждение отца передается и мне, я взбегаю на бугорок и вдруг вижу, что по опушке леса, не замеченный нами, идет, ковыляя, конюх с ременным недоуздком в руках. Идет и смотрит на отца, не понимая, что это он там делает возле мерина, пока догадка не осеняет его.
— Па-ап! — кричу я, врастая в землю от страха. — Па-а-а!
Отец резко оборачивается и, не понимая, откуда опасность, смотрит испуганно на меня, а в это время заторопившийся конюх, размахивая недоуздком, кричит, нападая на отца:
— Я те покажу, как хвост дергать! Я те щас… Я те… — крик летит и ругань.
Отец торопливо и неловко заталкивает надранные волосы в брючный карман, смущенно и растерянно улыбается, высвобождая занятую волосами руку. Конюх подскакивает к нему, замахивается недоуздком, оскалившись в злобе. Я зажмуриваю глаза и кричу, кричу сплошное и звонкое: «А-а-а-а!» — которое, видимо, останавливает конюха. Замах его слабеет, рука ватно опускается.
Приходит черед отца теперь взъяриться. Мой истошный крик придал ему силы и храбрости, и теперь он, словно бы защищая меня, наступает на конюха и тоже замахивается, перекосив лицо гневом и злобой. Стоят теперь оба, орут друг на друга, но ничего нельзя понять, что они орут.
Я чуть не плачу от страха, а отец, поостыв, успокаивается, протягивает конюху руку, но тот бьет по пальцам своими пальцами и зло отмахивается.
И я слышу, как отец прерывистым, гудящим голосом, в запале говорит ему:
— Да рыбу я ловлю на волос! Что тебе, жалко, что ль?! Я тебе рыбой свежей отплачу.
— Не нужна мне твоя рыба! — кричит ему в лицо бешеный конюх. — А ты мне Соловья не трогай. Увижу еще раз — убью! Ему хвост не для твоей рыбы дан богом! Вот и все! А то вот щас перепояшу пониже пояса при сыне-то маленьком. Вот и все! Чему ребенка-то учишь своего!
— Ладно! Знаю чему! Ты ребенка не касайся, а то я за ребенка тебе сейчас морду набью! При чем тут ребенок! Я за него душу тебе вытрясу!
Конюх понимает, конечно, чувства, которые бесят отца, когда тот слышит о ребенке, то есть обо мне, трясущемся от страха за своего отца, и пыл его падает, он утихает, ворчит, бормочет, выкрикивая отдельные бранные слова, будто выплевывая их в сторону отца, а отец никак не может уйти, не кончив дело миром. Уж больно ему хвост понравился, и чувствую я, что он на этом не успокоится.
От денег, которые он предлагал конюху за конский волос, тот тоже отказывается, отмахиваясь от них, как от дьявола.
— Убери деньги! — вопит он на всю округу.
— А пошел бы ты к черту! — кричит на него и отец.
И, махнув рукой, подходит ко мне, насупленный, тяжко дышащий, сопящий от недавней злости и очень расстроенный тем, что не удалось завязать с конюхом дружеские или хотя бы деловые отношения.
— Пошли, сынок, — говорит он мне как можно ласковее. — Дурак это какой-то, а не человек, — нарочито громко произносит он, чтобы слышал конюх. — К нему по-человечески, а он как взбесился все равно… Подумаешь, хвост! Хвоста пожалел!
— Вот увижу еще раз, — откликается на это конюх, — я тебя проучу как следует! Вот и все! Так и знай!
Я вцепился в отцовскую руку и, не чуя ног, иду с ним рядом домой и тихонечко плачу от обиды, от страха и от непонятной тоски по московскому дому, где нет никакого конюха, а все люди любят моего отца и никто не замахивается на него и не кричит. Отец идет молча и шумно дышит через нос, играя желваками, и я слышу, как сипят волосы в его носу.
А когда мы подходим к дому, он вдруг начинает тихонько смеяться.
— Ничего! — говорит он с запоздалой веселой угрозой. — В другой раз будем умнее! Теперь я тебя изучил. А ты, — говорит он, смеясь мне в лицо, — ты не бойся ничего. Наше дело такое — нам с тобой нужно рыбу ловить и кормить людей. Верно? И пусть орет сколько хочет. Сила-то все ж таки за нами. Вон смотри, сколько надергали, — тихо добавляет он и показывает тяжелый моток золотисто-серебряных нитей, распирающих оттопырившийся его карман. — Он еще не знает меня, — опять с веселой угрозой говорит отец. — Люди, понимаешь, рыбу мою едят и похваливают, а он мне материала для лески не дает. Скажу, уймите своего конюха или как хотите… Еще посмотрим, чья возьмет. А вообще-то ну его к черту! Я, конечно, понимаю — такой красавец золотой… Но ведь волосы-то отрастут! Не понимает он, что ль, ничего?! Ладно, не будем об этом говорить. Как-нибудь сами с усами. Сообразим. Ты тоже никому не рассказывай об этом. Ни Кольке, никому — слышишь?
— Слышу, — отвечаю я, думая про то, какой все-таки смелый у меня отец: конюха не очень испугался и опять хочет дергать волосы из хвоста у Соловья. Даже кричал на него, на конюха!
И страшно мне за отца, и радостно. И не знаю, что мне теперь делать — то ли плакать, то ли смеяться вместе с ним.
На всю свою жизнь запомнил я этого Соловья. Я боялся подходить к нему и всегда узнавал среди других лошадей. Но однажды он шел по деревне, и на этот раз ноги его не были спутаны. Шел, как будто прогуливался от нечего делать, медленно постукивая по тропинке подковами, останавливался, чесался скулой об какой-нибудь деревянный кол чьей-нибудь ограды, поглядывая по сторонам, как бы разыскивая кого-то, и когда подошел к нашему дому, красивый и большой, с разметанной по шее мочалистой гривой, я обомлел от удивления и мистического какого-то страха, встретившись с ним взглядом. Соловей тоже, по-моему, удивился и, остановившись, стал смотреть на меня.
Дома никого не было, и я сначала очень испугался, потому что Соловей, казалось, чего-то ждал от меня.
К тому времени я уже спокойно подходил к другим лошадям, но Соловей внушал мне особые чувства: я не мог забыть, как отец драл из его хвоста волосы, причиняя ему страдания. И теперь мне казалось, что он пришел расквитаться. Но у него было при этом такое доброе и просяще-грустное выражение лица, что вдруг даже почудилось, что он улыбнулся мне, как всегда улыбается Колька, — непонятно и глуповато. Калитка была не заперта на щеколду. Над калиткой раскинулась темная рябина с зелеными шапками ягод. Было так тихо и безлюдно в деревне, жители которой ушли в поле, и так странно смотрел на меня красивый мерин с лицом, похожим на Колькино, что мне впору было кричать от страха. Но непонятная какая-то сила подвинула меня, и я, ни жив ни мертв, подошел к ограде из тонких дощечек, за которой стоял Соловей. Как это ни странно, он стал вдруг кивать мне, качая большой своей головой. Он, конечно же, спасался от назойливых мух, которые лезли ему в глаза, ползали вокруг них, гуляли, как по берегам темно-фиолетовых, глубоких озер. Но мне тогда почудилось, будто это он мне стал радостно кивать, приглашая к разговору.
— Здравствуй, Соловейчик, — сказал я ему, протягивая руку, но не доставая. — Какой ты хороший, как я тебя люблю. Ты очень хороший! И хвостик у тебя хороший. Он у тебя прошел? Не болит? — спрашивал я у мерина, точно во сне, не узнавая своего голоса и своей умиленности. — Не болит, наверное… Противный папка, надергал волос из хвостика Соловья. Ух, какой противный! Но ты на него не сердись, Соловейчик! Он хороший тоже. Только ему надо рыбу ловить. А у тебя волосы в хвосте очень хорошие. Он на них рыбу ловит… Много-много.
Соловей перестал кивать, задумчиво посмотрел на меня, отвернулся и, ничего не сказав, пошел дальше. Меня больше всего удивило, что он ничего мне не сказал: взял и пошел, как будто я ему ничего не говорил. Пошел так же медленно и лениво, как бы вразвалочку, и звуки его шагов напоминали громкое тиканье больших ходиков. У него, видимо, одна подкова болталась, и она-то издавала это ритмичное и выпадающее из глухого перестука металлическое причмокивание. Тики, а после — таки — замирал стук его шагающих ног: тики-таки…
И вот тут-то случилось самое невероятное и самое страшное, что могло случиться!
С соседского двора из-за акации смотрело на меня человечье лицо и насмешливо ухмылялось. Это была большая девушка. Лицо ее, разморенное от жары и работы, было розовое. Легкие полутени от листиков акации шевелились на этом лице, пестрили и прятали его от меня, будто девушка нарочно притаилась там, за кустом, чтобы подглядывать и подслушивать мой разговор с Соловьем.
Есть такое устаревшее выражение: от стыда готов провалиться сквозь землю. Что-то я давно уже не слыхал, чтобы кто-нибудь вспоминал о нем, а потому и говорю: устаревшее выражение.
Но в тот момент, когда я увидел пестрое это, розовое лицо, я и в самом деле готов был куда-нибудь провалиться от удушливого стыда, перехватившего вдруг во мне дыхание, как если бы я вдруг попал в ядовитое облако и перестал что-либо видеть, слышать и соображать.
Ноги сами собою пошли, заторопились, побежали, помчали меня, неся над землей с небывалой скоростью. Я стремглав летел между серых частоколов, по огородам, мимо корчеванных пней, через которые я перемахивал с необыкновенной легкостью, бежал в кустах по земляничникам, а ноги все время убыстряли мой бег, голова шумела от пульсирующей и обжигающей ее крови. И когда я свалился в заросли прохладных и сочно поскрипывающих под моими руками листьев ландышей, я никак не мог отдышаться и прийти в себя, не помня, где и как я бежал и почему не сломал ноги, а зная только, что я был очень смешным дураком — я разговаривал с лошадью! Разговаривал, не подозревая, что меня видит девушка, которая мне тогда очень нравилась, хотя и была лет на десять старше меня. Девушка, ставшая свидетельницей моего страшного позора, будто я при ней сделал что-то постыдное, что-то до такой степени неприличное человеку, несвойственное ему, выходящее за пределы всего дозволенного, как если бы я перед ней обнажился вдруг или сотворил свои тайные какие-нибудь делишки, — девушка эта, которую звали Дусей, стала теперь для меня чуть ли не вершительницей моей судьбы, словно бы от нее зависело теперь, жить мне, как я жил прежде, или превратиться в посмешище.
Всякий раз, выходя из дома, я вспоминал о ней, а возвращаясь, боялся встретиться с большой этой и насмешливой красавицей, живущей, как мне теперь стало мерещиться, за густой акацией. Я даже на акацию, отягощенную стручками, которая свешивалась к нам во двор, стал смотреть с подозрением, испытывая всякий раз противненький и гаденький стыд, точно она тоже напоминала мне о моем глупом разговоре с желтым и добрым мерином.
Я и теперь, если вспомню вдруг тот маленький случай из жизни, испытываю душевное неудобство и, хмурясь, стараюсь подавить его отвлекающим песенным мотивчиком, хотя и понимаю, что это были лучшие минуты моей жизни, потому что во мне тогда впервые проснулась совесть и я легко поставил себя на место бессловесной лошади, которой мы с отцом причинили боль.
А тогда меня отвлекала только рыжая полосатая кошка с зелеными глазами. Под навесом крыши нашего дома было ласточкино гнездо, слепленное из ила, принесенного в клювах с берега маленького копаного прудика. Оно висело серой варежкой и, когда вылупились птенцы, стало потихонечку пищать. Когда же птенцы подросли, то один из них, самый, наверное, сильный и обжористый, стал высовываться из темного отверстия. Он был головастенький, рот у него с желтым ободочком был таким большим, что казалось, будто начинался от самых… не ушей, конечно, а крошечных бусинок-глаз. Голова окрасилась уже в черный цвет, а на грудке появился темно-коричневый фартучек. Ростом он казался мне больше своих родителей, которые беспрестанно носили ему всяких козявок, а он беспрестанно их пожирал, оставляя братьев или сестер голодными. Впрочем, иногда он прятался, а когда появлялся вновь, трудно было сказать, тот же это птенец или другой. Но для меня он всегда был в единственном числе.
Для кошки, которая сидела на лавочке, врытой в землю, наверное, тоже. Она с сердитым любопытством смотрела на птенца, и в бледно-зеленых на солнечном свете, изумрудных ее глазах, рассеченных снизу вверх черными щелками зрачков, дремала все время ленивая и злая тоска, словно бы кошка, сидя на лавке, с презрением и брезгливостью думала о самой себе, которой приходилось часами высиживать в ожидании, когда дурашливый птенец вывалится из гнезда и его можно будет съесть.
Ласточки прогоняли кошку. Они с пронзительным щебетом и визгом носились над ней, пикировали и, видимо, пугали по-своему эту упрямую кошку, которая не обращала на них никакого внимания. Ей они просто мешали смотреть на птенца, и она сердито морщилась, когда ласточки в отчаянии чуть ли не били ее крыльями по морде. Она на какое-то мгновение отворачивалась, облизывая губы язычком и подрагивая ушами, но тут же снова устремляла зеленые свои глаза на беззаботного птенца, который совершенно не боялся ее и высовывался из гнезда так сильно, что за него становилось страшно.
Я сам набрасывался на кошку, и она, бесшумно спрыгнув на землю, с такой ненавистью смотрела на меня, будто говорила: «Тебе-то что надо? Это мое дело, съем я его или нет. И не вмешивайся». И только когда я замахивался на нее, она лениво убегала. А ласточки, покружившись, улетали за добычей. Я иногда злился на птенца и говорил ему, с кошачьим любопытством глядя на черненькие его плечи, на желтый рот, — говорил, не произнося ни звука: «Вот упадешь из гнезда, а летать-то еще не умеешь, кошка и съест тебя, дурака. Сидел бы уж смирно и не высовывался!»
Но, как я ни гонял кошку, она все равно возвращалась на свое место и ждала, алчно разглядывая птенца, не сводя с него пронзительно-внимательных глаз.
Много лет спустя я был как-то однажды с дочкой в московском зоопарке и на старой его территории подошел к тесной клетке, в которой сидел, а вернее, напряженно стоял и смотрел куда-то желтыми глазами очень красивый уссурийский тигр. Я тоже посмотрел в том же направлении и увидел в вольерах разгуливающих изящных лам. Тигр внимательно смотрел на одну из них и, забыв, наверное, что он в клетке, чувствовал себя в засаде, ожидая момента, когда можно будет броситься на беспечную ламу. Я с улыбкой сделал шаг в сторону и загородил тигру смущавшую его ламу. Тигр не шевельнулся. Он только по-змеиному изогнул шею и, перенеся голову в сторону, не изменив ни единым мускулом страстного сосредоточения, все с той же зачарованностью продолжал следить за ламой. Меня он не видел. Я для него не существовал. Я был какой-то неприятной помехой, не более того. Он даже не удостоил меня косым взглядом, уйдя целиком в хищное созерцание гуляющей ламы. Через некоторое время я вернулся к его клетке — он все так же страстно и бестрепетно смотрел желтым глазом на ламу. Где он был в эти минуты? Что он чувствовал? Не знаю. Но, во всяком случае, в это время в мире существовали для него только он сам и лама, гуляющая в вольере. Между ним и ламой была протянута невидимая, но очень напряженная, высоковольтная какая-то линия связи. От него к ламе исходила такая страсть, что мне тогда стало искренне жаль молодого тигра, которому никогда в жизни не удастся сделать смертоносный прыжок и вонзить желтые клыки в шею зазевавшейся ламы.
Рыженькая маленькая кошечка, которая поджидала птенца, была чем-то похожа на этого огромного тигра. На тогда я ненавидел кошку и очень боялся за птенца. На зубах у кошки наверняка не раз уже хрустели косточки нелетных птенцов, она знала вкус теплой их крови, и я, догадываясь об этом, чувствовал непреодолимое желание убить кровожадную и терпеливую в своей страсти хищницу.
Но все обошлось благополучно. Птенец оказался не таким уж дураком, как я о нем думал, и настал день, когда я увидел в небе над нашей крышей ласточек, которых было пять. Они летали в розовеющем вечернем воздухе, и я заметил, что две из них летают резвее и легче, чем три остальные, которые казались чуточку больше размером. Видимо, ласточки учили летать своих птенцов. Одна стремительно неслась впереди, а другая замыкала стайку.
Кошка опять стала сонной и доброй мурлыкой, жмурящей в липкой дремоте глаза, когда я почесывал ей подбородок.
Созрели к тому времени травы, началась косьба, и в воздухе запахло вянущим, а потом и сухим сеном, настоянным на аромате донника.
Отец отгулял свой отпуск, накормив полдеревни свежей рыбой.
Конюх подрезал Соловью хвост и гриву, и Соловей потерял для отца всякий интерес, а конюха он возненавидел, как лютого врага, одержавшего над нами верх с помощью коварства и хитрости.
Для нас с Колькой и для других деревенских мальчишек, с которыми я не расставался, отгоняя от себя маленького брата, мешавшего мне водить с ними дружбу, конюх по-прежнему был той таинственной и страшной силой, которая иногда появляется, пожалуй, только во сне, в неясном и пугающем образе, когда при одном появлении ее, этой жуткой какой-то нелюди, из глотки вырывается панический крик и ты просыпаешься, слыша взволнованный голос матери, успокаивающей тебя.
Мы его страшно боялись! Мне казалось, что если он когда-нибудь поймает меня на конном дворе, вспомнит, как мы с отцом драли волос из хвоста Соловья, то обязательно сделает со мной что-то такое. Нет! Я и представить себе не в силах был это страшное что-то. Но не только я! Все ребята боялись конюха и, как воробьи, разлетались в разные стороны, стоило появиться из темной конюшни на свет хмурому и хромому человеку.
Почему боялись, никто не мог бы ответить.
Очень может быть, что нам по каким-то неизвестным причинам просто-напросто нужно было кого-то бояться. Иначе жизнь наша потеряла бы очень важное и необходимое условие — страх. Тот самый страх, который надо было все время пересиливать в себе: делать втайне от родителей рогатки и прятать их в карманы или за пазуху рубашки, ходить с ними на конный двор, зная заранее, что конюх может увидеть рогатку, поймать за руку и сжать ее клещами своих пальцев с такой силой, что в руке треснут кости или лопнут жилы. Страх, без которого вообще невозможна нормальная жизнь. Я даже склонен теперь думать, что если бы не было в Салькове конюха, то мы с ребятами наделили бы кого-нибудь еще всеми необходимыми приметами страшного, жестокого и беспощадного злодея, от которого надо обязательно убегать. Так интереснее было жить.
Это я теперь так думаю, когда снова вспоминаю прошлое! И тот далекий мой страх теперь мне кажется милой забавой. Но тогда я не мог так думать. Тогда я просто боялся. Панически боялся конюха, который, по моим представлениям, никогда не появляется на людях, а все время живет в лохматой, длинной конюшне с подслеповатыми окошками, за мутными и грязными стеклами которых вздыхают лошади, свободные от работы.
Впрочем, лошади отдыхали в ту пору только ночью. И я страшно завидовал Кольке, которому мать разрешала гонять лошадей в ночное. Колька показывал кровавые ссадины на ягодицах, был горд собой и даже бледнел от своего превосходства надо мной и над Вовкой.
Но однажды Колька сказал мне, сделав на лице улыбку полумесяцем и вытаращив глаза:
— Айда на покос!
И мы с ним побежали. Дело было к вечеру, бежали мы долго и прибежали на большой скошенный луг в пойме Москвы-реки. Пока мы с Колькой бежали по деревне, он, встречая ребят, кричал им в азарте:
— Айда на покос!
Ребята кричали в ответ:
— Айда!
И когда прибежали к лугу, нас было уже семь запыхавшихся от бега ребят. В дороге я старался выяснить, куда и зачем бежим, но толком понять ничего не мог.
На лугу кончили работу женщины и распрягали усталых за день лошадей. Луг был колючий и очень душистый. Женщины почему-то встретили нас очень радостно, заулыбались, заговорили хором:
— Вот молодцы!
— Вон какие у нас хорошие ребята растут…
— Ну вот и хорошо.
— Так и надо, конечно. Старшим надо помогать.
Не успел я опомниться, как Колька схватил за уздечку желтого, окорнатого Соловья, женщина подставила ему под левую ногу сцепленные свои руки, он схватился за гриву мерина, оттолкнулся ногой, женщина его словно бы подкинула вверх, и Колька взгромоздился на широкую спину Соловья. Он сидел, растопырив ноги, а потом прижал их к лошадиным бокам, согнул в коленках, тронул поводья, крикнул:
— Но-о-о!
И Соловей побежал рысью, подкидывая маленького Кольку на своей спине.
— Бурого не бери! — испуганно кричал в начавшейся суматохе один паренек, которого мы звали Цыганом. — Бурого не бери! Он кусается! Зверь, а не конь! Не бери!
В этой сумятице я никак не мог понять, что мне надо делать. Я вовсе не рассчитывал возвращаться домой верхом на лошади! Я в жизни еще не сидел, не только не ездил на лошади. Лошадей было шесть, а нас — семь. Я решил, что мне все равно не достанется, и с удивлением и завистью смотрел, как женщины подсаживают ребят и как те, вцепившись в гривы, понукают лошадей и догоняют Кольку, который, отъехав, остановил Соловья и поджидал товарищей.
— Бурого не бери! — кричал то ли мне, то ли еще кому-то азартный и суетливый Цыган, принимая повод красноватой буланой кобылы с черным хвостом и гривой.
Я понял, что Цыган кричит о буром жеребце, который, скорее, не бурым был, а искрасна-черным, с заметной сединой — весь какой-то однотонный, седоватый, высокий и жилистый. Темно-лилового цвета, злой и норовистый конь!
К тому времени я стал узнавать лошадей, живущих на нашем конном дворе. Знал и Бурку, слышал от ребят, что он, если на него забраться, кусает седока за ноги, и вообще кусается.
— Садись ко мне! — кричал Цыган, по-кошачьи вскарабкавшись на буланую.
Я, обомлев от удивления, неуверенно побежал к нему, но меня обогнал Витек, маленький и шустрый мальчишка, и, вцепившись в ногу Цыгана, стал кричать ему что-то. Цыган подтянул его за руку, Витек забрался на лошадиный круп, обхватил Цыгана за живот и, прижавшись к его спине, весело и счастливо засмеялся, когда Цыган тронул лошадь.
Я не успел.
Ребята, столпившись на лошадях, смотрели на меня и кричали:
— Не бери Бурого! Иди домой!
— Пешком иди! — громче всех кричал Колька. — Бурый кусается!
Я чувствовал себя так, будто ребята меня обманули и бросили, а теперь сверху, с огромных коней, которые словно бы увеличились в размерах, когда на них взобрались мальчишки, что-то еще советуют, что-то приказывают, велят, как маленькому.
Лошади нетерпеливо крутились под ними, рвались дамой, ребята с трудом их сдерживали, а потом вся эта масса лошадей и мальчишек запрыгала, затопотала, закричала на все голоса, зашевелилась и грузно побежала, обгоняя друг друга и словно бы веселясь в беге.
Женщины, избавившись от лошадей, которых не надо было теперь отводить на конюшню, тоже пошли домой, оставив на лугу, возле валков душистого сена, железные с железными сиденьями и круто изогнутыми вилами конные грабли, похожие на каких-то гигантских насекомых.
Я растерялся, потому что в быстром беге не запомнил дорогу через рощу, а теперь не знал, где я и куда мне идти. Я с обидой смотрел, как уносятся вдаль и скрываются за кустами мои счастливые друзья.
Женщины жили не в Салькове, а в другой, незнакомой мне тогда деревне, соломенные и деревянные крыши которой виднелись за бугром. Но мне туда не надо было идти.
У меня пересохло во рту от волнения и страха. И вдруг я услышал сзади себя спокойный и размеренный, глухой перестук лошадиных ног.
По скошенному лугу ко мне шла женщина и вела на веревочных поводьях Бурого, от которого сильно разило злым каким-то потом. Она очень ласково и очень хорошо улыбалась.
— Мальчик, — сказала она мне. — Чего ж ты лошадь-то не берешь?
И я увидел высоко над собой выпуклый, кровянистый глаз Бурого, которым он шало косил на меня сверху.
— Ты не слушай ребят, — говорила женщина. — Конь смирный. Я на нем не впервой работаю. Я тебе говорю: забирай лошадь и поезжай с богом. Давай-ка я тебе помогу, а то ты маленький, не подтянешься.
— Я дороги не знаю, — вежливо и жалобно проговорил я.
— Как это не знаешь?
— Так… я приезжий.
— Ну как это! Поедешь вон туда, а за тою вон рощей и увидишь конный двор. Это недалеко! А если по дороге, то далеко. Она крутит, а тропка прямо ведет. Куда ребята утекли, туда и ты, так-то поближе будет. Поезжай, мальчик. Кости у меня болят. А то что ж я — пойду туда, а потом обратно… Бабы мои вон ушли уже. А я одна осталась. Уж выручай меня, пожалуйста. Прошу тебя, сынок.
Теперь не лошади я боялся, не злого Бурку, обмахивавшегося от мух, окружавших его, а этой тихой и доброй женщины, которая просила меня помочь, не зная про меня ничего, не зная, что я еще ни разу в жизни не сидел на лошади, о чем не мог — ну, никак не мог! — ей сказать: это было свыше моих сил.
Но что-то во мне взыграло вдруг, откуда-то нахлынула волна такой отчаянной храбрости, так легко я вдруг подумал, что со мной ничего плохого не случится и что я помчусь сейчас во весь дух на ретивом Бурке, догоню ребят и посмотрю на них с насмешкой — так я расхрабрился и воспрянул духом, с такой резвостью оттолкнулся босой ногой от теплых и сухих женских рук, что чуть было не перелетел и не свалился на другую сторону, с трудом удержавшись на очень костистой, жесткой и шаткой спине высоченного жеребца, вцепившись в гриву.
Впервые в жизни я был на коне!
Случилось это так легко и неожиданно, что я на огромной спине Бурки уселся с такой уверенностью, будто делал это каждый день. И страх, и восторг — все смешалось во мне: я дрожал от возбуждения.
Женщина подала мне жиденькие, растрепанные поводья, и я, ликуя, почувствовал вдруг, что конь мой пошел, не дожидаясь команды. Теплая, живая, ходуном ходящая его спина плавно задвигалась подо мною, и я, привыкая к своему необъяснимо странному положению, стал прилаживаться к неудобствам верховой езды. Хребет коня все время шевелился и как бы извивался подо мной, вдавливаясь в меня жесткими шишигами. Босые ноги, не чувствуя опоры, скользили по бочковатым и как будто не в меру раздутым бокам: я с напряженной дрожью ощущал ногами опасную ребристую покатость. Холка, за которую я держался рукой, тоже все время ходила из стороны в сторону, раскачивая меня. Бурка шел широким шагом, и я пока не торопил его.
Я впервые в жизни ехал верхом на коне! Был горд собой и счастлив.
И хотя Бурка шел не туда, куда показывала мне женщина и куда ускакали, или, как она сказала, утекли на лошадях ребята, я знал, что в правой руке у меня поводья, а по рту у Бурого железные удила.
Я с опаской оторвал руку от холки и, напрягая ноги, потянул за левый повод. На зубах у коня лязгнули удила, он гневно повернул голову и, продолжая идти прямо, сбился вдруг с шага и перешел на короткую и капризную рысь.
Я успел бросить поводья и, ухватившись руками за гриву, вцепился что было мочи ногами в его бока, стараясь врасти в теплую, живую, жестко прыгающую подо мною валкую плоть.
Удержался! И не упал! И очень обрадовался, поняв, что могу и рысью. Но не меньше обрадовался, когда конь опять пошел шагом.
Пока я радовался и ликовал, Бурка уносил меня все дальше и дальше от покоса, шел совсем не в том направлении, куда утекли на лошадях ребята. Я вновь потянул за повод, причмокнув губами, и Бурка, подчиняясь боли, опять повернул голову на сторону. Я успел заметить скошенный его рот и желтые зубы, за которыми, как блесна в щучьей пасти, торчало звено железных, до серебряности обсосанных, исслюнявленных удил. Но не испугался, а наоборот — почувствовал себя сильным, уверовав в свою власть над конем, потому что не он, а я могу причинить ему боль железными удилами, если он вздумает укусить меня.
И вдруг мелькнувший в сознании неожиданный страх, от которого я сразу покрылся испариной, пронзил меня и лишил сил.
Сначала я не понял, в чем дело, почему вдруг левый повод уздечки потерял упругость и натяжение.
Так бывает на рыбалке, когда с крючка сходит крупная рыба, с которой ты только что боролся, — бессмысленная легкость вливается вдруг в напряженную руку, и ты, как бы ничего еще не понимая, знаешь, что борьба окончена и ты никогда в жизни не выведешь из воды сорвавшуюся с крючка рыбину, смутный блеск которой в верхнем слое воды ты успел рассмотреть.
Примерно то же почувствовал и я, когда льняная и очень прочная, хоть и растрепанная веревка, служившая поводьями, отвязалась с левой стороны и повисла у меня в руке.
Я не знаю, как себя чувствуют моряки на судне, потерявшем управление, но то, что я испытал в тот момент, наверное, было похоже на отчаяние, какое испытывают терпящие бедствие мореплаватели, суденышко которых ветер и волны несут в черно-белую, бурунную пасть рифов.
Я вспоминаю это с улыбкой и пытаюсь шутить, но тогда мне было не до шуток. Я знал, что поправить положение не смогу: я не сумею усидеть на коне, если потянусь привязывать проклятую веревку, что сделал бы на моем месте любой мало-мальски опытный наездник, и обязательно упаду коню под ноги. Оглядываясь по сторонам, я видел, что помощи мне ждать тоже неоткуда. Я оцепенел от ужаса, потому что время для меня остановилось.
Бурый шел, понурив голову, медленным шагом по некошеному полю, пестрому от ромашек, львиного зева, разноцветной кашки, желтого подмаренника.
И полю этому не было конца.
В воздухе вечерело, дали затянулись золотисто-шелковой дымкой. Из-под ног коня выпархивали маленькие птички и, цвиркнув, садились на высокие и пышные стебли конского щавеля, раскачиваясь на них и словно бы поджидая, когда мы с Буркой проедем, чтобы снова слететь вниз, в укромное местечко, в котором собрались коротать июньскую ночь. Было тихо, будто я оглох от страха.
Между тем река, которая все время светилась рябью справа от меня за нависшими кустами ивняка, отвернула в сторону, спрятавшись за сосновый лес, ярко горевший в вечерних лучах солнца.
Вдали, среди поля, ровной чередой росли березы.
Я никогда еще не бывал в этих местах, или, во всяком случае, не видел их с высоты лошадиного роста, и не узнавал ничего вокруг. Но мне и не до того было.
Я думал, я очень напряженно думал, вцепившись руками в гриву понурившегося коня, сидеть на котором стало очень трудно, потому что меня все время тянуло вперед и я сползал к нему на шею, — я думал лишь о том, как бы усидеть на коне, который куда-то нес и нес меня, словно совсем забыв о своем седоке и углубившись в свои лошадиные раздумья.
Он и я жили как бы сами по себе. Я, переполненный страхом и отчаянием, сидя в оцепенении на его невыносимо жесткой и неудобной спине, старался не напоминать Бурке о себе, слыша все время крики ребят: «Не бери Бурого! Он кусается!» — сидел притаившись и надеялся лишь на то, что кто-нибудь встретится в пути и спасет меня: остановит лошадь, привяжет веревку и покажет дорогу на Сальково.
Но никого не было вокруг.
А Бурка тем временем вышел на белую, с залежавшейся пылью дорогу и так же неторопливо и раздумчиво пошел по ней. Справа и слева от дороги поднималась зеленая рожь, скользили над землею молчаливые ласточки. Они, как стрелки, летели навстречу, чуть ли не касаясь крыльями земли и, подлетая к ногам Бурки, живо отворачивали то влево, то вправо или перемахивали через нас. Белая эта дорога среди ржи была вся исчерчена черными, несущимися навстречу нам, живыми стрелками.
И дороге тоже, как и полю, не было конца.
Иногда мне казалось, что Бурка уснул на ходу — так медленно и лениво переставлял он ноги, живя своей, непонятной мне жизнью и о чем-то думая или видя сны.
Кругом была высокая нежно-зеленая с пепельными переливами рожь. Усики легких еще колосьев, сложенные прозрачными, серебристыми крылышками, казалось, перешептывались в безветрии, чуть слышно звенели, как кузнечики. Остывающий к вечеру воздух сытно пахнул молочной свежестью.
За полем темнел лес. Меня, вцепившегося в гриву Бурки, несло к этому лесу, и я, измучившись и зная, что скоро упаду с коня, перестал даже бояться за себя, думая лишь о маме, которую мне было так жалко, что я с трудом сдерживал слезы.
Но дорога круто повернула влево, и я увидел за ржаным морем, над серебристо-зеленой его поверхностью, лохматую крышу знакомой и такой родной, такой теплой и душистой сальковской конюшни, которая была так близко, что я не мог поверить в свое спасение и в свое геройство, потому что сразу же вообразил ребят, ожидающих меня и удивленно ахающих, как только они увидят меня на злом и кусачем Бурке.
Шаг коня стал торопливее, а когда кончилась рожь и мы с Буркой вышли на вытоптанный лошадьми двор, никого, кроме ласточек, рядами сидевших на крыше, тучами летавших над конюшней, щебетавших на все лады в закатных лучах солнца, я не увидел. Широкие ворота конюшни были распахнуты, и в темном проеме, где-то в сумерках огромного сарая, битком набитого лошадьми, ржал игриво и тоненько маленький жеребенок.
Бурка, не сбавляя шага, шел в свой шумный, пропахший сеном, овсом и лошадиным потом дом, неся туда же и меня.
Пока мы плыли с ним по полям, я больше всего на свете боялся упасть с него, думая почему-то, что он обязательно раздавит меня подкованными своими копытами. Страх так въелся в мою душу, что я не в силах был и теперь, возле ворот конюшни, перекинуть ногу через спину коня и, держась за холку, спрыгнуть на землю, как это я делал потом в Москве, на Шаболовке, по которой гремели тогда старые трамваи с открытыми подножками, с которых мы лихо прыгали с ребятами на полном ходу.
В тот теплый июньский вечер я был скован страхом, и радость, которая нахлынула на меня, когда я увидел конюшню, бесследно исчезла, потому что я вспомнил вдруг о конюхе и помертвел от ужаса, осознав, что конь несет меня в его руки. Дверной проем показался мне черной пастью. Во мне случилось что-то непонятное: я почувствовал себя вдруг жалким каким-то пульсирующим комочком, потерявшим всякую волю к сопротивлению. Все во мне сжалось, когда Бурка простучал копытами передних ног по дощатому настилу перед входом, и в этот момент меня безжалостно и грубо стукнул вдруг по лбу кто-то непонятный и злой.
Удар был так силен, что я даже не понял, как очутился на земле.
На голой земле передо мной, как каменные тумбы, выросли заскорузлые серые сапоги, один из которых был совсем смят, перекошен и стерт.
— Ты чего это голову не пригнул? — услышал я ворчливый голос. — И коня не остановил. Куда тебя понесло? А я-то уж думаю: где это запропастился Бурый? Нет и нет, — говорил конюх, склонившись надо мной, над полумертвым от страха кроликом. — Больно? Голову-то не проломил? Так и убиться можно.
Я не поверил глазам, увидев слезливую какую-то, застенчивую его улыбку. Не сдержал слез и разревелся, тщетно пытаясь объяснить ему сквозь слезы, почему не мог остановить коня, почему задержался. А он бережно поднял меня с земли и горячей, как утюг, рукой потрогал мой лоб, помяв пальцами ушибленное место.
— Больно? — спросил он так строго, что я, хотя и больно мне было, ответил, вскрикнув:
— Нет…
— Пройдет, — говорил он, поглаживая больное место горячей и гладкой ладонью. — Ладно. А не зашиб ли где еще чего, когда падал? Ноги-то, руки не поломал? Вроде бы как целый… Во-о-о, как на конях-то ездить! Первый раз, говоришь? И сразу на Бурого попал! Это серьезный конь. Это, считай, тебе повезло, что веревочка-то отвязалась. Он не любит! С характером конь. Он бы тебя зубами стащил, да еще бы лягнул, вот бы и получилось крещение твое… — бормотал конюх, поглаживая мой гудящий лоб. — Ладно. Обошлось.
— А кого не любит? — спросил я, привыкая к его руке и к его бормотанью.
— Ребятишек. Как иная собака. С пожилыми мирная, а как ребятишек увидит, так нос морщит. Не знаю, почему такое бывает. Может, не доверяет, а может, характер такой. Не знаю. Одного ребятенка уже стащил однажды. Не знали про такой его характер ничего. Конь объезженный, рабочий. Меня слушается и других мужиков тоже. А в ночное погнали, сел на него один ребятенок. Бурый возьми да и стащи его за ногу… Уронил на землю да хотел еще укусить, как собака какая. Зубы оскалил, уши прижал, глаза выпучил…
— И укусил? — спросил я, слабея опять от страха, представив себе Бурку, который где-нибудь в поле скинул бы меня на землю и стал бы кусать… и искусал бы, истоптал бы до смерти.
— Нет, не укусил. Это при мне случилось. Я ему тогда зубы-то пересчитал. Разозлился на него. Вот и все. Теперь меня боится, запомнил на всю жизнь. А и то вдруг начнет лягаться. Или с жеребчиком каким драться начнет. Характер такой. Надо его в армию отдавать, пусть там его обучают. Скучно ему тут, в деревне, вот он и дерется. Вот и кусается. Такой вот боевой конь. А как тебя зовут-то, кавалерист? — спросил конюх, ероша мне волосы.
— Юра.
— Так вот, Юра, что уздечка-то старая попалась с веревочными поводьями, это тебе повезло. А то б и не знаю что было. И не слушался он тебя потому, что не хотел слушаться, хотел, значит, это… на своем поставить. Ладно еще, веревочка оборвалась.
— Ребята мне говорили…
— Чего ж тогда не послушался? Они знают. Зря не скажут. У нас хорошие ребята.
— А тетенька сказала, что смирный…
— Тетка! Этих теток, знаешь, сколько у тебя в жизни будет! — сказал он и хрипло, с лошадиным злым всхрапом, засмеялся. — Всех не наслушаешься! Ты своих товарищей лучше слушай, которые тебе чего путное говорят. А тетки врут. Все до одной! Ты им не верь никогда. Тетка тебе одно скажет, а ты переверни наоборот и по-своему сделай, тогда и ладно все будет. Поживешь с мое, узнаешь, вспомнишь меня… Голова-то прошла? — спросил он так, будто я жаловался ему. — Ну-ка потряси головой. Не больно?
— Нет, — удивленно ответил я, не чувствуя боли.
— Ну вот и все, — весело сказал он, поглаживая меня по волосам. — А ты говоришь — купаться! Вода холодна…
— Я не говорю ничего…
Он опять засмеялся и сказал:
— Это в народе так говорят. Иди-ка, Юра, домой. Умойся у колодца, а то мать тебе сейчас задаст трепака. Иди-иди, кавалерист. Натер женьку-то? Ладно! Приходи, когда заживет, я тебя на мирной лошади научу ездить. Если хочешь, конечно. Вот и все.
И я пошел к дому. Голова у меня не болела, но идти по земле было так трудно, будто бы я только что сидел на огненно-горячих углях. Я еле шел, ковыляя по-утиному.
А что было дальше, рассказывать не хочу, потому что впереди было еще длинное-длинное лето, были лошади, была рыбная ловля на леску из конского волоса, надерганного из хвоста Соловья, были грибы и малина.
А главное, я больше никого на свете не боялся: ни конюха, ни лошадей, ни злого Бурки, который, когда я подходил к нему, с каким-то сердитым изумлением таращился на меня, принюхиваясь раздутыми и теплыми ноздрями, словно бы удивляясь, что я еще жив.
Через год его, наверное, забрали все-таки в армию, потому что началась война. Где истлели кости моего коня, я не знаю.
Я был далеко от Салькова, от дома, от Москвы, живя в интернате в холмистом и лесном краю, на Урале. Там тоже, конечно, были лошади. Были морозные, хрусткие, снежные дни, был загончик для молодняка и была опять соловой масти лошадка, которую звали Барыней. Она, завидев меня, подбегала к обгрызенным пряслам и, стреляя паром из ноздрей, душистая на морозе и заиндевелая, теплая под седым инеем, тянулась к моей ладошке, на которой я приносил ей запретное лакомство — серую, как толченый камень, крупную соль.
Помню этот пар на морозе, таинственно-нежный запах горячей лошади в лютый зимний день, от которого становилось теплее на сердце, словно бы этот запах, этот пар, раструбами вырывающийся из лошадиных ноздрей, западал в душу, будил в ней и не давал замерзнуть надежде, что война скоро закончится победой и что после войны я опять вернусь когда-нибудь в Москву, поеду в Сальково, увижу лохматую конюшню и постаревшего конюха.
Ох уж это мечтательное — после войны!
После войны все было иначе. Лучше или хуже, чем мечталось, — сказать невозможно. Но старой деревни Сальково уже все-таки не было.
И когда мы с отцом в субботние дни ездили ловить рыбу под Поповку, я всякий раз — себе на удивление — не мог узнать, казалось бы, такой знакомой и такой родной мне деревни, не мог узнать мелкий овражек под Марьином, не узнавал и осиновой рощицы, в которой росли ландыши, хотя все это было как будто бы таким же, каким и до войны, — ничего не было тут разрушено или сожжено.
Мы проходили торопливым шагом мимо, спеша до рассвета прийти на место. А обратно шли разморенные от бессонной ночи и усталые, таща в рюкзаках тяжелую плотву, от влажной массы которой намокала и пахла рыбой рубашка. И нам не хотелось даже останавливаться в Салькове, не хотелось зайти к старым своим хозяевам, выпить криночку молока или просто напиться воды. Мы шли мимо, как чужие люди, и не хотели никого узнавать, потому что нам надо было донести до дома свежую рыбу, которая могла испортиться.
Может быть, мы боялись, что жители деревни не узнают нас? Но, спрашивается: почему это мы должны были бояться?
Что-то тут было другое. А что, не знаю.
Да, конечно, рыба. Жили мы впроголодь, и жареная рыба, которую мы ели несколько дней после удачной рыбалки, была серьезным подспорьем в нашем бедном хозяйстве.
Но я-то думаю, что, пробегая мимо Салькова, мы с отцом боялись нарушить ту загадочную прелесть воспоминаний о жизни в этой деревне, о той жизни, которая стала для нас хрупким и легкоранимым, перламутровым каким-то прошлым. А в прошлое, как известно, нельзя вернуться просто так, из праздного любопытства.
Прошлое свое каждый человек, имеющий чуткое сердце, хранит в душе и не растрачивает понапрасну, дожидаясь той счастливой минуты, когда оно, это прошлое, само поманит к себе и напомнит, кто ты и откуда родом, где набрал ты силу для жизни и хватит ли тебе этой силы на будущее.
Поэтому, наверное, и пробегали мы мимо Салькова, забываясь в рыбацкой страсти на реке, которая и после войны все так же текла по хрящеватому донышку, так же дарила нас рыбой и которая, увы, не знала ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Просто — текла, как текут облака в небе.
Человек, конечно, может испортить реку, умертвить в ней всю рыбу, загрязнить воду… Но все равно о ней нельзя будет сказать, как о человеческой жизни, что в прошлом она была лучше или хуже, чем в настоящем. Нельзя же о мертвом сказать, например, что в прошлом он был гораздо симпатичнее! Так и об убитой реке.
В жизни у меня теперь давным-давно есть другие реки, другие разливы и пойменные луга, на которых я провожу до обидного мало времени, надеясь и веря, что они никогда не будут убиты человеком.
Лишь однажды, когда отец разбирал и разгружал ящик шкафа, где хранились его рыбацкие снасти, он вынул из угла моток потускневших серых волос и бросил их на пол, а я поднял этот моток и, узнав волосы из хвоста Соловья, принюхался к ним и уловил опять чуть слышный, забитый запахом деревянного ящика невнятный их аромат. К тому времени в продаже появилась синтетическая леска и нужда в конском волосе отпала. Я взял в руки один волосок, потянул его, и он легко разорвался. Взял другой — то же самое. Третий, четвертый… Все они перегнили от времени, высохли и помертвели. А я все рвал и рвал их, стараясь окунуться в свое прошлое и вспомнить все, что было раньше…
Но ничего из этого не получилось, будто прошлое не хотело пускать меня в свои просторы и тесные лабиринты — в свою запутанную простоту.
И вот только теперь нежданно-негаданно все во мне всколыхнулось вдруг, и я, забыв про сон, будоражу себя воспоминаниями, чуя в весеннем воздухе запах ласковой Соловы, рыженькой кобылы объездчика Ещева.
И люблю этого Ещева, который разбудил во мне ненароком мальчишку, и так я ему благодарен за бессонницу, что не могу согнать улыбки с лица!
Улыбаюсь как дурачок, слушая токующих чибисов, и даже в сдвоенном писке вьющихся над кочкарником куликов слышится мне что-то от лошади, будто чибисы все время приговаривают мне в ночи: «Си-и-вый! Си-и-вый!» И так всю ночь напролет. Короткую апрельскую ночь, которая стала светлеть и кончаться за окном. Или это глаза мои привыкли к мутному свету?
Думаю со сладкой дрожью в теле, что надо бы перед зарей минуток пятнадцать-двадцать поспать. Всего каких-нибудь двадцать минуток! Этого, говорят, иногда бывает достаточно, чтобы почувствовать себя снова бодрым. А дольше мне спать нельзя. Пора идти на охоту. Не спать же я сюда приехал? Хотя бы минуток пятнадцать крепкого-крепкого сна!
Уговариваю себя, что это обязательно надо сделать. Во что бы то ни стало! И наконец-то уговорил. Уснул…
А проснулся в одиннадцать утра.
Но вот что странно! Совсем не жалко пропущенной зари, а словно бы даже приятно, что не пошел на охоту.
Скворец сидит на березе возле своего домика, срывается, словно ныряет в парной воздух, улетает стремглав, возвращается, заглядывает в круглую дырочку и опять усаживается на ветке. Поет и свищет в солнечном луче на голубой березе, которая обняла шоколадными своими веточками небесную синеву, наливаясь сладким и прохладным соком.
На улице — благодать! Крашенные в синий цвет и зеленый, в голубой и коричнево-красный, деревенские избы, обросшие стеклянными террасками, ярко и весело играют на весеннем солнышке прихотливыми расцветками, блестят дешевыми волнистыми стеклами, за которыми алеют махровые герани. А голые деревья над крышами: липы, тополя, ивы и березы — все кажутся соломенными. Вот только деревенская улица никуда не годится: искорежена, измордована тракторами — грязь на ней невозможная! Но дорожки вдоль палисадов уже хорошо промяты и просушены.
Живут в деревне неплохо. Есть даже два автомобиля — «Жигули» и «Запорожец», не считая мотоциклов.
Правда, Ещев вчера ругался:
— На кой мне черт сдался этот автомобиль! Вон Степашкин купил «Жигули», ахнул такие деньги! Так? А толку что? Вчера, гляжу, выкатил из гаража, привинчивает там чегой-то или отвинчивает, не могу сказать. Машина блестит, колесики чернеются. Картинка! Выкатил, погладил ее, завел мотор и обратно. Дороги-то нет! Будем так говорить: в нашей деревне автомобиль ни к чему. Зимой не поедешь, колея такая в снегу, что на «Жигулях» и двух метров не протащишься, — говорил он и зажал палец на руке. — Зиму долой! Весна наступила… Попробуй-ка сунься! Весну долой. Лето наступило. Лето ладно, ездить можно. А кто в поле работать будет? Вот и получается… Наездил немножко, накрутил там километров сколько-нибудь, пожег бензину… Хорошо. Но до чего ж смешно теперь стало. Просто умора! Гляжу, Степашкин косит возле дороги, а жена эту траву в багажник таскает. Набили багажник — и домой, корову кормить. Во до чего дошли люди! Это что ж такое получается? Семь тысяч с лишком ахнул, чтоб корове сено возить? Да за эти деньги я тебя сеном, знаешь, на сколько лет обеспечу! Что ж получается? Зимой не ездит, весной не ездит, летом за травой для коровы, а осенью, как дожди зарядили, опять в гараж. Была бы асфальтовая шоссе, тогда другое дело. А так что же получается? Ничего не получается у сельского труженика, как теперь про нас говорят. Раньше мы крестьяне были, потом колхозники, а теперь сельские труженики, или, как это еще, — труженики полей. Ты нас хоть как назови, а если дороги нет, то «Жигули» нам совсем нельзя иметь. Я бы так и спрашивал: «Дорога есть асфальтовая? Есть — покупай, бери. Нет — подожди». А как же? Все ж таки вещь дорогая и государству кое-чего стоит, верно? Во-о… Я шучу, конечно. Но все ж таки, будем так говорить, несправедливо это.
Шутит он или не шутит, а дороги-то и в самом деле нет. И главное — никому не известно, когда она будет.
Иду вдоль улицы в одном свитере, печатаю в промятой глине четкий рубчик резиновыми сапогами, слушаю голоса птиц и детей, и крадется в голову воздыхательная, тоскливая мыслишка: а на кой черт тут асфальтовая дорога-то нужна? Оставили бы хоть ту, какая раньше была. А тяжелую технику пустили бы в объезд деревни. И то уж ладно! Была бы нетронутая дорога для людей и легковых автомобилей, для мотоциклов всяких и для лошадиной упряжки. А рядом с ней пусть работают, рвут на части, месят бедную землю трактора, тащат тележки с бабами на работу, детишек в школу, корма для коров. Что-то ведь надо придумать в конце концов! Не так, так этак, или совсем по-другому. А то ведь утопает в грязи деревня!
Опять болит сердце, будто нет никакой отсрочки ему хотя бы на денек-другой. Что за жизнь такая беспокойная!
И Ещев куда-то запропастился, уехал утром на своей кобыле, пока я спал. Сижу на ступеньках крылечка, слушаю песни скворца, и вдруг… Приехал наконец-то!
Спешился, откинул поводья на седло. Кобыла стоит и тяжело дышит, ноги ее черные от грязи до самых колен, и живот тоже забрызган.
— Я тебя будил, — говорит Ещев, посмеиваясь, — а ты ругался на меня. Я плюнул и уехал. Вот так. Чего будем делать? На вечернюю куда пойдешь? На тягу? А тетерева утром токовали хорошо. И там пели и вон там… Вся земля звенела. Чего будем делать? — спрашивает он опять, на что-то намекая.
— Слушай! — говорю я ему вдруг с придыханием. И кровь ударяет в голову. — Слушай, дай-ка мне на твоей Солове прокатиться! Очень прошу тебя. Сколько ездил на лошадях, а в седле ни разу в жизни не сидел. Дай!
Ещев от неожиданности смеется и кашляет, жмется в каком-то смущении.
— Очень ты тяжеловат будешь для Соловки, — говорит он. — Она к такой тяжести не привыкла, а к тому ж, будем так говорить, устала она. Я с ней, знаешь, сколько сегодня отмахал!
— Да я ж совсем чуть-чуть, — умоляющим голосом говорю я Ещеву. — Вон хотя бы у тебя на огороде, хотя бы кружочек один. Дай, пожалуйста!
И он соглашается, ревниво глядя, как вставляю я носок своего сапога в стремя, как тяжело и неумело перекидываю другую ногу через лошадиный круп, взгромождаясь в гладко отшлифованное, поблескивающее кожей, скользящее седло. Лошадь качается подо мной, переставляет ноги, и кажется мне она жиденькой и слабой.
— Поосторожней давай, а то это… — хрипловато говорит мне Ещев, когда я выезжаю, замерев от счастья, на не копанный еще, зализанный весенней водой, подсыхающий огород. Копыта лошади тонут в вязкой земле. — Не гони ее! Рысцой пройди, и хорошо! — покрикивает Ещев, которого я и слышу и не слышу, оглохший от дикого восторга.
Лошадь послушно бежит рысцой по кругу, а я чувствую себя лихим наездником. Черные дырки в приглаженной земле бегут мне навстречу — следы от копыт. Второй круг и можно было бы третий, но что-то вдруг оборвалось в моей душе, когда Соловка споткнулась на переднюю ногу, оступившись в вязкой земле. Я потрепал ее по теплой и влажной шее и, пустив шагом, выехал с огорода. И словно бы не с лошади спрыгнул на землю, а вернулся на нее, на грешную, с небес.
— Спасибо, — говорю Ещеву, подавая поводья. — Никогда не забуду! Спасибо. В седле-то, оказывается, вон как легко! Теперь буду знать… Ну, давай теперь расседлывай ее. Ох ты, моя хорошая, ох ты, золотая моя, — говорю я лошади, глядя ей в туманно-чистый и глубокий глаз, и глажу, глажу добрую ее и доверчивую морду.
Так мне не терпится поцеловать ее и прощения попросить, что просто мочи моей нет удержаться от тайного соблазна.
Да вот не хочется только, чтоб Ещев опять смеялся надо мной. Он и так уж смотрит на меня и чуть ли не все время смеется. Почему-то я ему смешным очень кажусь.
— Ну, так что делать-то будем? — спрашивает он деловито.
— Я гулял, зашел, а там закрыто, — отвечаю.
«Делать» мне совсем ничего не хочется!
Скворец удивленно высвистывает какие-то невообразимые мелодии, переливаясь плотными перышками в солнечном свете. Береза воздела свои ветви к синим небесам в молитвенной какой-то оцепенелости, просит у них тепла и ласки.
Лошадь смотрит на меня с задумчивым сожалением в глазах. Хитровато поглядывает Ещев.
А я стою и чуть ли не плачу от любви к поющему скворцу, к березе, к лошади и, конечно же, к доброму этому объездчику Ещеву, которого так люблю и в эти блаженные минуты своей жизни, что все его желания готов исполнить, как сказочный волшебник…
Да вот только жаль, что нет никаких особых желаний у доброго молодца. Стоит передо мной, мнется в улыбке, заложившей глубокие складки по краям рта, кажет редкие зубы.
— Ну, чего, — спрашивает опять, — делать-то будем? — А сам смеется надо мной, как над маленьким несмышленышем.
Птичий рынок
— А вот акробаты! Кому нужны акробаты?! Только акробаты! С утра стоят на ушах! До сих пор стоят только на ушах!
С навесов торговых рядов бегут, искрясь на солнце, капли талой воды. Лужи под ногами шевелящейся толпы. Почерневший лед ухабами горбится под ногами. Ноги скользят с черного бугра в черную лужу. На голову, на плечи, на грудь падают потоки капель… Шум в воздухе стоит такой, будто весна ломает лед на реке. Пахнет водой, речными водорослями, тиной. И чудится, будто солнце с особенной лаской освещает и греет старый этот рынок, прозванный Птичьим. Тепловодные рыбки посверкивают в прозрачных аквариумах, в стеклянных банках и баночках, в пробирках, в чистейших колбах, выказывая такую яркость окраски, такую живость движений, какую только и увидишь на Птичьем, словно это не рыбки, а сказочные синие птицы счастья, теряющие свою окраску сразу же за воротами рынка. Стайки разноцветных рыбок зачаровывают, пленяют, врачуют своей игрой, своим счастливым танцем в капле прозрачной и теплой воды, в мире далеком и недоступном, который манит праздную толпу своей тайной и беспечной радостью бытия.
— А вот акробаты! Только акробаты! — несется над темной толпой в зимних еще одеждах. — Налетай! Сам бы ел, да деньги нужны! С утра стоят на ушах!
Под теплыми солнечными лучами рубиново поблескивают в деревянной коробке тысячи копошащихся мотылей, вчера только поднятых из мрачных глубин, из вонючего ила, в котором они коротали зиму, дожидаясь своего часа, чтоб вылететь однажды, прозвенеть в тишине летнего вечера, испить горячей крови, если повезет… Но не повезло. Вертятся на влажной тряпице, в рубиновой тесноте, в массе, и в самом деле кажутся какими-то веселыми циркачами, резвящимися на ковре.
— Почем мотыль-то?
— Как всегда! — отвечает полупьяный зазывала. — Полтинничек! Но какой мотыль! Это ж акробаты! — Он ласково гладит поблескивающее свое богатство, килограмм которого стоит дороже зернистой икры, и кажется, будто ухо улавливает в шуме весеннего дня клейкий шорох вертящихся мотылей, искрящегося этого вертепа, щепотка которого, уложенная в коробочку из-под спичек, стоит пятьдесят копеек.
Но что поделаешь! Стоит, конечно. Попробуй-ка, намой их сам! Обзаведись необходимой и надежной снастью, найди себе озеро или пруд, проруби окно в метровом льду, достань из глубины тяжелый ил, в котором скрывается мотыль, промой его в тончайшей сетке, а к вечеру без рук и без ног вернись домой с коробкой чистого мотыля… Не то чтобы по полтиннику запросишь, по рублю покажется мало. А ведь рыбешку-то надо половить! Душа просит. А когда она просит, какой же русский станет жалеть денег! Пропади они пропадом!
Мотыля в этот день много на рынке, торопиться некуда: оттого и кричит на весь белый свет подвыпивший мужичок, расхваливая своих «акробатов».
— Хороший мотыль, но надо походить. Только что приехал, надо оглядеться, потолкаться, посмотреть…
— Не-е-е, лучше не найдешь! Ищи не ищи… Бери, пока не поздно. Он и на крючке будь здоров… Даст по рылу окуню, еще неизвестно, кто кого, — смеется продавец и снова кричит: — А вот акробаты!..
В душистом воздухе под голубыми небесами разносятся пронзительно-нежные, захлебывающиеся трели канареек. Тихий, нескончаемый звон стоит в ушах. Клеток так много, что не сразу и поймешь, из каких долетают песни. Только по дрожащим горлышкам птиц узнаешь певуний. Какая лучшая из них? Это ведомо только знатокам. Все как будто хороши! Но за одну пятерку просят, а другую за полсотни не отдадут.
Зелененькие, как молодое сено, лимонно-желтые, оранжевые — каких только нет! Пахнет тут птичьим пером, пометом и мечтательными детскими снами о чем-то несбыточном. Тут же лобастенькие попугаи, исполненные собственного достоинства, молчаливые в тесных клетках и озябшие. Они словно бы презирают и толпы людей, и распевающих канареек.
Цветной петух, привязанный за ногу, орет во все горло, хлопая округлыми крыльями, тянет веревку, спотыкается… Мокрые перья на его животе висят черными сосульками: надоело ему продаваться — никакого уже нет терпения!
Волнистые попугайчики взъерошивают зеленые или голубые, желтые или белые перышки, жмутся друг к дружке, грустно целуются, словно бы на прощание.
Всюду клетки, клетки, клетки… Деревянные, пластмассовые, шатровые и плоские, изготовленные на уровне мировых стандартов, с какими-то приспособлениями то ли для ванночки, то ли для гнезда, с качающимися трапециями, с насестами из бузины, с выдвижными кормушками и донышками. Аккуратные, в виде дачного домика, или огромные клетки, в которых впору держать голубей или какую-нибудь говорящую ворону… Всякого товару полно!
Голуби теснятся в плетеных садках, в раскладных клетках, страстно воркуют, кружатся, если позволяет место, наступая на голу́бок… Белоснежные, чистые, с пепельными каемками на крыльях; чернохвостые монахи; сизо-дымчатые, головастые, сильные почтовые с надменно злыми глазками; миниатюрные белые, зобастенькие, с мохнатыми ножками, с точеной, кроткой головкой; палевые с зеленовато-синим отливом перьев на шее — залапанные или первозданно нетронутые, словно бы пудрой присыпанные; дешевые до удивления и очень дорогие…
Одному мужику надоело торговать, он топчет недокуренную сигарету в грязи и, как бы рванув на груди рубашку, с веселым матерком выхватывает из садка своих голубей и кидает их, как каменья, в голубой воздух. Стоит, будто сказочный Балда в окружении чертей, и смотрит, задрав голову, как собираются голуби в стаю и кругами отлетают прочь от рынка в сторону дома, родной голубятни, истаивая в бледно-голубом небе…
А над птичьими рядами царит переполох: зеленый попугайчик улетел из клетки и, яркий, уселся на грязной крыше навеса, напугав воробьев своим неожиданным появлением. Суетится хозяин, кричит на мальчишек, которые уже лезут на крышу, крадутся к несчастной птице, ей, конечно, теперь уже не жить, хоть и улетает она от мальчишек, с трудом дотягивая до соседнего с рынком дома. Грустно зеленеет попугайчик на мокрой жести. Ребята лепят тяжелые снежки, кидают без устали. Хозяин махнул рукой — пропала птица, сам виноват.
— А это для щегла, — говорит ласковая женщина. — Репейничек тут, просо, подсолнушки, конопелька — всего понемножку. А вот салатику возьмите, травка такая, мокрицей называется, это для всех птичек полезно, в ней витаминов много. Очень советую. А это для канареек смесь. Тут все что надо. Сколько вам стаканчиков? Стоит-то? Двадцать копеечек. На рублик? Что ж так мало берете? У меня корм отборный, такого вы нигде не купите, ни в каком магазине. С ним ведь ничего не делается — лежит себе да лежит. Берите-ка побольше! Я вам с верхом насыплю, если побольше возьмете, и еще один стаканчик добавлю. Одна всего птичка? Ну так что ж, зато надолго хватит. Как хотите, конечно, на рублик так на рублик. А салатику? Ну и хорошо, ну и правильно. Это очень полезно для птичек. Как его давать-то? А прямо в корм накрошите или можно водичкой смочить. Сейчас весна, витамины всем нужны, и птичкам тоже…
Война за плечами пожилой этой женщины, голод, разруха, беды и невосполнимые потери.
— Вот и спасибо вам, — говорит она на прощание. — Будьте счастливы.
Бродит летом с маленькими мешочками в подмосковных лугах, собирает семена репейника, находит и рвет мокрицу, семена подорожника вышелушивает, готовит всякие смеси и для щегла, и для канарейки, и для волнистых попугайчиков, для чижей и синичек, делает все это с любовью и заботой, будто готовит еду не для птиц, а для большого семейства, которое отобрала у нее война.
А вот и собаки! Щенки копошатся в корзинах и портфелях, породистые и дворняжки, одинаково симпатичные, смотрят подслеповато на яркий свет, выкарабкиваются косолапо из корзин, бесстрашно ковыляют под шагающие мимо ноги, ноги, ноги, которых как будто не замечают в прадетском своем неведении. Что это такое и зачем тут? Где начало и где конец всему? Глаза их пока что выражают лишь удовольствие от сытости и тепла да тоску от голода и холода.
Не то что глаза взрослых собак, которых привели сюда продавать. Лучше уж не смотреть в глаза старой овчарки, привязанной к забору, за которую озябший и продрогший хозяин просит сорок рублей, но готов отдать и дешевле, с неприязнью поглядывая на свою остроухую, которую никто не хочет покупать. В глазах его тоже собачья тоска: неужели придется тащиться домой со старухой, неужели никто так и не даст хотя бы тридцатки, легкой этой пачечки денег, которая одна только способна оправдать зря потраченное время и которая разлилась бы по жилам, попадись она в руку, радостным теплом и удовольствием. Проклятый день, проклятая сука! Собака робко поглядывает на хозяина, не понимая вины перед ним, печально опускает усталые глаза, не зная, что же ей нужно сделать, чтобы вновь, как когда-то давным-давно, понравиться хозяину, который теперь, как она понимает, недоволен ею. За что?
Лучше уж не смотреть на эту пару, лучше вернуться к рыбкам, к веселым их танцам за прозрачными стеклами, завороженно вглядеться в переливчатую игру чешуи смарагдовых гуппи, забыться в цветном этом сне, который радует душу таинственной и непознаваемой красотой.
А какой же сон видит уморившийся за день молодой мраморный дог, свернувшийся у забора на подстилке из сырых газет? С трудом поддерживает дрожью последнее свое тепло, спрятав голову под неуклюжей лапой. Какому же мудрецу понадобилось когда-то выводить эту породу голых гигантов? Из поколения в поколение поднимали собаку вверх, увеличивали в размерах, одевая в короткошерстную, бело-черную рубашку, чтоб в конце концов увидеть у своих ног лежащего в горделивой позе устрашающе огромного пса, похожего на мраморное изваяние… Сама природа, изуродованная и побежденная человеком, лежат в ожидании приказа у ног своего властелина, вознесшегося в своей прихоти и гордыне до высот предвечного разума, творящего самое природу.
Угрюмая женщина, кутаясь в воротник из серебристого песца, поглядывает исподлобья на толпящихся вокруг людей в надежде увидеть наконец-то покупателя. Нет, она не собаку продает, а всего лишь навсего огромную груду дрожащего возле ее ног мяса, одетого в мраморную рубашку. Совсем недавно, чуть ли не вчера, каких-то восемь-девять месяцев назад… Ах, да что вспоминать! Это была ошибка. Да, конечно, прелестный неуклюжий щенок, за которым даже лужицы приятно было вытирать на паркете, которого приятно было целовать в большую морду, приятно кормить молоком и мясом, готовить всякие кашки, баловать косточкой из супа, конфеткой. Ну и что? Это была лишь ошибка. Ей, конечно, известно, что продавать взрослую собаку безнравственно. Но почему бы не продать, если не прижилась, если надоела, если слишком много ест и слишком много приходится тратить времени на гулянье с ней? Она же в конце концов не себя продает, а молодую собаку, которая тысячу раз успеет привыкнуть к новому хозяину, если найдется какой-нибудь дурак… В хорошие руки она вообще готова отдать ее бесплатно. Не в деньгах счастье. Что же ей оставалось делать, как не прийти сюда, если на все ее объявления о продаже породистого мраморного дога никто не откликнулся!
— Милорд, — говорит она глуховатым голосом. — Ты простудишься, дурачок. Встань сейчас же! Вставай, вставай, нечего тут валяться в мокряди. Ты слышишь меня, Милордушка? — В голосе ее звучит виноватая нотка.
Милорд поднимает тяжелую голову и пристально, красным, будто заплаканным, глазом глядит на любимую свою хозяйку в надежде услышать и другой приказ: идти домой, в теплое и светлое жилище с синим ковриком на лакированном паркете и большой эмалированной миской, которая так сладко, так безумно вкусно пахнет теплой и густой едой.
Но хозяйка молчит, согревая подбородок и нос в пушистом меху, а глаза ее напряженно всматриваются в лица медленно проходящих людей, словно ищут кого-то в толпе, ждут.
Милорд звучно и жалостливо зевает, глаза слезятся от холода, пробравшего его до костей, он понуро опускает голову на лапы и мелко-мелко дрожит всем телом, как от страха. Значит, надо ждать, раз хозяйка ждет: он-то уж знает, что за непослушание люди наказывают.
Кошкам и маленьким собачонкам — тем проще: сиди за пазухой в тепле, гляди по сторонам, подремывай и жди. А тут такая неудача! Такие большие ноги, такая голова, такой длинный хвост, голый и холодный, и такая короткая шерсть. Что за день такой выпал в жизни Милорда! Когда же он кончится!
А денек в зените. Полуденное солнце играет в черных лужицах, в черных, будто нефтью облитых, ледяных, искрящихся бугорках под ногами. Косматые нутрии сутуло прячутся в тени полуоткрытых ящиков, устланных сеном. Кролики пушисто горбятся в корзинах. Уши альбиносов розово светятся на солнце.
— А вот акробаты! — опять доносится из толпы, которая так плотно заполнила все проходы между торговыми рядами, что подойти к рыбкам, кажется, уже невозможно.
Ржавые корыта, тазы, тазики, шайки громоздятся на открытых рядах. Плотные, тепло одетые женщины в клеенчатых фартуках бойко торгуют зеленовато-серыми циклопами, густо кишащими в корытах, образующими какие-то темные, уплотненные завихрения, пока капроновый сачок отдыхает в руках у хозяйки; дафниями цвета железного сурика, мелкими, как пыль, и крупными, подергивающимися в чистой воде, громоздко и бессмысленно-неуклюже, словно бы цель их непонятной жизни только и состоит в этом странном подергивании, в нелепом плавании, словно бы высшим благом их бессистемной жизни является тот миг, когда какая-нибудь голодная рыбка схватит их и проглотит. Одно слово — корм.
Так же бесчувственны кристаллы и полудрагоценные самоцветы, которыми торгуют любители и знатоки камней, разложившие в своем ряду агаты и сердолики, аметисты и кристаллы горного хрусталя, бирюзу, кусочки малахита, полупрозрачные осколки кремния, голубого лазурита, багрово-черные кристаллы пиропов, этих извечных спутников алмазов, похожие на переспелые зерна кисло-сладкого граната… Чего там только нет!
А рядом — песок для аквариумов, бурый гравий. На грязной площадочке, прямо на земле, выстроились всевозможные аквариумы, старые, обросшие неотмытой зеленью, и совсем еще новые — маленькие и большие. Тут можно купить любое оборудование для них: подогреватели, термометры, кормушки, фильтры, компрессоры для подкачки воздуха, распылители, рефлекторы для подсветки, реостаты. Все есть! Есть даже то, что и в голову не могло бы никогда прийти рядовому любителю аквариумных рыбок, на что еще и спроса-то нет, и непонятно, как это что-то, состоящее из затейливо выгнутых стеклянных трубок, будет работать, по какому принципу и для чего. Изобретатель разъясняет — любознательные слушают: кто-нибудь да купит это что-то. Тут, как говорится, предложения опережают спрос. На этом пятачке собираются технари, специалисты высочайшего класса.
Стоят напротив древние старушки, выставив на прилавок пузыречки из-под лекарств, банки из-под горчицы или меда, собранные на помойках, банки из-под джемов с навертывающимися крышками, какие-то моточки проволоки, резинки, пробочки, бутылочки из-под уксусной эссенции или из-под соуса «кетчуп». И на это тоже спрос. Выручка невелика, но все же прибавка к пенсии, да и день на воздухе для старого человека тоже не во вред, тоже прибавка к слабеющей жизни.
Водоросли всевозможных видов. Торгуют ими люди ученые, знающие цену себе и роскошным растениям, заключенным в стеклянные цилиндры. Нежно-зеленые водоросли светятся в воде под стеклом, как какие-нибудь редчайшие экспонаты выставки. На бумажных наклейках по-латыни написаны мудреные названия. Новичку не то что купить, остановиться страшновато возле этого ряда!
Веточки зелено-розовой людвигии покоятся в воде, словно какие-то диковинные цветы в глыбе прозрачнейшего льда; волнистая валеснерия и ветви ярко зеленой кобомбы, нежнейший папоротник, мощная японика и прочее, прочее — все это бесконечное разнообразие подводного растительного мира недвижимо и безмолвно красуется в хрустально-чистой воде, по-летнему сочно зеленея в лучах мартовского солнца.
Те же самые растения, плетьми лежащие в потемневшем оцинкованном тазу, кажутся каким-то бледным подобием… Там, в стеклянных колбах, в стеклянных высоких цилиндрах, — фирма! Здесь — ширпотреб. Там — предприимчивые люди, а тут — попроще. И цены, конечно, разные.
Как и на улиток: одни с рекламой, отпечатанной на машинке, другие — нет. Про одних сказано, сколько воды процеживает за сутки, очищая ее от всяких нечистот, одна-единственная улитка, сколько другая улиточка иной породы съедает рыбьего помета, осевшего на дне и загрязняющего воду, и сколько третья, ползая по стеклам аквариума, приносит пользы, очищая зазеленевшие стекла… Несколько улиток работают, как какой-нибудь комбинат, как сложнейшее очистное сооружение. Как не купить такое чудо! А другие свалены на дне голубоватой поллитровой банки из-под какого-нибудь фаршированного перца, сцепились друг с дружкой в багрово-черный ком… Кто их знает, пользу они принесут или вред? Может, они растения объедают? Продавец молчит: сам, наверное, не знает ничего — вот и молчит, как иной купец, посадивший в такую же банку десяток гуппи или бледных меченосцев и предлагающий чуть ли не каждому встречному купить их всех за рубль. Оптовая, так сказать, торговля.
— Всех за рубль! Десять штучек всего за один рубль. Кому нужны рыбки?! Всех за рубль отдам.
Никому они не нужны. Если такие дешевые, значит, плохие, думает покупатель, проходя мимо и даже не глядя на бледных от недостатка кислорода невеселых рыбок, которые, может быть, в других условиях играли бы всеми цветами радуги и не по гривеннику, а по рублю за пару пошли бы за милую душу. Таланта нет у человека! Ходит с утра до вечера со своей банкой и, если не подохнут его рыбки, готов их за полтинник кому-нибудь отдать, какому-нибудь мальчишке. Никто не покупает дешевых рыбок. Покупают дорогих! Нынче на мякине не проведешь. Живут по поговорке: дорого, да мило, дешево, да гнило! Деньги, слава богу, имеются. Кто же их будет экономить на собственном удовольствии? Ищи дурака! Умный не продешевит, а глупый не продаст и задешево. Таков закон рынка.
Ох, уж этот рынок! Два дня в неделю шумит он и в летние знойные дни, и в лютые морозы, когда под каждым аквариумом зажжена газовая горелка, подогревающая воду, когда случайно упавшая из сачочка рыбка бледнеет на глазах и застывает, если продавец не успеет подхватить ее с прилавка губами и согреть во рту.
Сотни микроавтобусов, снятых в субботу и воскресенье с московских маршрутов, беспрестанно везут от Таганской площади все новых и новых покупателей, подъезжающих сюда со всех концов Москвы.
— Это на Птичий рынок? — спрашивают новички, становясь в очередь.
— Куда же еще! — отвечают завсегдатаи с улыбкой удивления. — Только на Птичий. — Говорят таким тоном, будто людям некуда больше ехать, кроме как на Птичий.
Всего не пересмотришь, не разглядишь на рынке и за целый день! Там поплавочки продают, искусно выточенные из пенопласта, яркие, как елочные украшения; там сторожки из щетины дикого кабана для подледной рыбалки; изящнейшие мормышки, похожие на ювелирные изделия, на золотые или серебряные дамские сережки; зимние блесны из настоящего серебра для ловли судака, который предпочитает их блеснам из дешевого металла. Рубль штука! Но зато ведь судака можно поймать. Там из-под полы торгуют японской леской, жерлицами оригинальной конструкции, каких, конечно, ни за какие деньги не купишь в магазине. Или взять хотя бы шнековые коловороты из легчайшего титана, под ножами которых метровый лед кажется стеарином. Или самоподсекающие настороженные донки. Но это уж для дураков и лентяев. Уважающий себя рыбак задаром не возьмет. Хотя сработаны они, конечно, на совесть. Чистота работы выше всяких похвал. А смекалка одна чего стоит!
Все тут высшего сорта, хоть и нет на товаре Знака качества.
Однако что-то не слыхать голоса мотыльщика, торгующего «акробатами». Пора бы и мотылем запастись для завтрашней рыбалки. Можно и на бобах остаться.
Нелегкое это дело — протискиваться в толпе в нужном тебе направлении! Со всех сторон стискивают тебя люди. Под ногами скользкий лед, и все твои усилия пойти наперекор общему движению тщетны, пока не образуется перед тобой какое-нибудь свободное пространство, какая-нибудь щель, которую ты и заполняешь собою, продвинувшись на шаг или на два вперед.
Тут, под ногами, в фанерных ящиках, в вате копошатся палевые хомячки — утеха детей. Молодая, немытая, нечесаная женщина торгует белыми крысами, тычет розовой мордочкой с розовыми ушами чуть ли не в лицо тебе, предлагая свой товар с каким-то презрительным равнодушием в глазах. Крыса вылезает у нее из-за пазухи, вскарабкивается на плечо. С тем же равнодушием женщина отдирает ее от плеча и прячет под пальто, на грудь, в какой-то там карман, откуда вылезают крысы на свет.
— Да не нужны мне крысы, господи боже мой!
Женщина презрительно выпячивает губы и смотрит сквозь тебя, как будто ты превратился в стеклянное изваяние.
А мотыльщик как сквозь землю провалился — нет его. Вот тут стоял со своей коробкой, а теперь на его месте какой-то парень торгует каретрой, рыбьим этим кормом, который зеленовато-серой массой лежит на влажной тряпице. Объясняет кому-то, как надо сохранять каретру: во влажной тряпочке, в холодильнике. Корм хороший, живучий. Кто они, эти каретры? Личинки какие-нибудь или сами по себе живут? Прозрачные, величиной с крупного мотыля, недвижимо висят они в воде, похожие на каких-то двуголовых водяных тянитолкаев, но стоит приблизиться рыбке, как ленивая каретра, вдруг превращаясь в туго скрученную пружину, исчезает и снова лениво растягивается в теплой воде в относительной безопасности. А рыбка с нескрываемым удивлением оглядывает место, где только что была каретра, и, обескураженная, продолжает поиски, пока снова не увидит свою жертву, обреченную в конце концов на съедение. Ничего не поделаешь — корм есть корм.
А мотыльщик, видимо, ушел. Хороший у него был мотыль, крупный и очень живой, чистый, яркий. Теперь уж не до жиру, хоть какого-нибудь купить. Там, где торгуют кормом, только трубочник да мелкий кормовой мотыль. Вот тебе и погулял, отвел душу! Без мотыля остался, черт побери. Неужели ни у кого нет?
Трубочник лежит в белом эмалированном противне, похожий на обветренную, протухшую лепеху мясного фарша, залитую водой. Торгуют им, видимо, муж с женой. Муж отщипывает порцию корма, кладет в маленькую коробочку, сделанную из тонкого алюминия, переспрашивает:
— Вам на сорок копеек или на двадцать?
Сбрасывает, если переложил, берет коробочку совсем крохотную, двадцатикопеечную, перекладывает в аккуратно свернутый из книжной странички кулек, протягивает покупателю, получает деньги и снова спрашивает:
— Вам?
Жена его, в брезентовом плаще, надетом поверх зимнего пальто, крутит кулечки озябшими руками, каким-то особенным способом заворачивая нижний, острый угол кулька, кладет их рядком, чтобы мужу удобно было брать. Работают молча, не отвлекаясь, как на конвейере: торговля нынче идет хорошо — трубочника в этот день привезли на рынок мало, и возле них скопилась очередь. Женщина рвет страницы из старого учебника, крутит кульки. Времени не хватает даже на то, чтобы поправить выбившуюся из-под лисьей шапки прядку светлых, ухоженных волос, откидывает ее рукавом груботканого, выгоревшего, выцветшего до белесости зеленого плаща.
Если ты не впервые на Птичьем, много знакомых лиц увидишь: этот рыбками всегда торгует, тот растениями… С иными поздороваться хочется, как со старым знакомым. Но тут что-то другое, из другой какой-то жизни, в которую не хочется верить, глядя на обветренное, загоревшее под мартовским солнцем, но все еще красивое лицо. Не может этого быть!
…Старый московский дворик, сарайчики, голубятня, Даниловка… Темный вечер, холодная скамейка на территории плохо охраняемой тогда, заросшей бурьяном радиовышки на Шаболовке, которая теперь стала называться телебашней. Поцелуи на этой скамейке. Неприступная днем, но как бы размякающая, теряющая силы к сопротивлению в вечерние часы, кружившая головы парням, бесконечно красивая девушка по имени Пальмира… Неужели это она? Что же она говорила тогда?
— Не-ет, — шептала Пальмира, — моим мужем будет только моряк. И не какой-нибудь, а обязательно военный моряк, офицер. А я знаю, ты никогда не будешь морским офицером. Значит, ты никогда не можешь стать моим мужем. Мне иногда кажется, что я тебя люблю, но ты не поймешь меня, нет… Я по-настоящему могу любить только того, кто уходит в опасный поход на подводной лодке, а я его жду… Волнуюсь за него, — говорила она чуть ли не всхлипывая. — Пришиваю на китель белый подворотничок. А его все нет и нет. И вдруг — ах! Живой и невредимый, входит, берет меня на руки, как ребенка, целует, целует… Нет, тебе не понять сердце девушки. Никогда!
Как это ни странно, она не казалась тогда глупой. Глупым был тот, кто всеми правдами и неправдами доставал себе новенькую мичманку и, подрезав, укоротив на манер нахимовского, лакированный козырек, старался быть хоть немножко похожим на морского офицера, черт побери!
— Тебе идет, — говорила Пальмира и примеривала жесткую фуражку, надевая ее на копну своих послушных волос. — Мужчине вообще идет военная форма, если он мужчина, конечно. — Она печально вздыхала. — Ну почему ты не моряк? Ты даже плавать как следует не умеешь. Моряк должен уметь плавать, как рыба. Ты ведь не был никогда на море? Я тоже не была, но я чувствую, я знаю, я обречена… Нет, ты не можешь меня понять! Я закрою глаза и, честное слово, слышу, как шумят волны. У меня есть большая морская раковина, и вот я приложу ее к уху и слушаю, слушаю… А между прочим… Между прочим, — говорила она, кокетливо склонив набок головку в черной фуражке, — между прочим, я у тебя все время хотела спросить, гдей-то ты так научился целоваться? Может быть, ты какой-нибудь развратный тип, а я доверяюсь тебе, как дурочка. Отвечай мне сейчас же!
— У тебя.
— Что у меня? Целоваться у меня научился? Ну, знаешь! Я кроме тебя ни с кем не целовалась в жизни! Так что уж, пожалуйста, не выдумывай.
— А может, у тебя талант?
— Ха! Талант… Вообще-то у меня талант, — с каким-то утвердительным удивлением соглашалась Пальмира. — Но только не этот. Если я захочу, я могу быть актрисой или балериной. Но это невозможно! У морского офицера и вдруг жена балерина или артистка. Я буду жить на берегу моря, на военно-морской базе, среди скал, голых и мрачных, в маленьком домике. Кровать, столик, шкаф — вот и все! Я готовлю себя к этому. Я даже собираю маленькую библиотечку: стихи великих поэтов. Я буду читать их мужу, когда он придет из похода. Зря ты улыбаешься! Я отлично знаю, что ты сейчас думаешь обо мне. Но это не имеет никакого значения, не волнуйся. Да, я буду читать вслух стихи своему мужу. Каждый удобный случай буду для этого использовать, потому что морской офицер должен быть в душе поэтом. И вообще, вы, мужчины, если вас не воспитывать, быстро грубеете, а поэзия облагораживает душу. Это аксиома. И если хочешь знать, тебе тоже не хватает поэзии, ты в этом смысле обедняешь свою жизнь. Вот поверь мне, это сразу чувствуется! Я, например, сразу вижу, способен какой-нибудь парень на высокие чувства или нет. Вот говорят, были бедные и богатые — все это так, конечно. А я по-своему понимаю: бедный — это который поэзию не понимает, а богатый, он, может быть, и одет хуже и денег у него нет совсем, но зато он в душе поэт. Скажешь не так?
Кто же мог возразить Пальмире, глаза которой были так близко, что виднелись мраморно-серые переливы цветной ее радужки, а на жемчужном белке чуть приметные розовые прожилки. Как же можно было перечить ей, когда теплое ее дыхание дурманило голову и не было никаких сил смириться с мыслью, что она предназначила себя другому, уверовав в мифического морского офицера, как гриновская Ассоль в своего принца.
Очень может быть, что именно это произведение сыграло главную роль в чрезмерном ее увлечении, в ее маниакальной какой-то уверенности, что она обязательно станет женой морского офицера и что ей предстоит в будущем жить среди диких и холодных скал на берегу сурового моря, из глубин которого к ней будет возвращаться из походов ее муж, моряк-подводник, герой ее девичьих мечтаний…
Неужели это она, романтически настроенная Пальмира, крутит теперь бумажные кулечки, торгуя вместе с мужем мясисто-серым месивом — мельчайшими, сплетенными между собою в упругую массу червячками, один вид которых вызывает брезгливое чувство?
Не может этого быть! Она ведь, кажется, закончила технический вуз, работала в каком-то НИИ. А теперь что же? Трубочник? Мрачноватый муж, алчно выхватывающий из рук покупателей копейки и рубли, сующий деньги в такой же, как и на ней, выцветший плащ, в большой его карман, оттягивающий полу весомой выручкой.
Ее ли это руки?
Тревожная тоска, похожая на страх, на панический испуг, гонит прочь от торгового ряда, будто ты ненароком, нечаянно оказался свидетелем падения некогда любимой женщины, свидетелем нищеты близкого человека, мечтавшего когда-то о море и о скалах, и которому невозможно уже ничем помочь.
Страшно поймать ее взгляд! Быть узнанным ею… Увидеть ее мучительное смущение, растерянность.
Но, слава богу, ей некогда даже поднять головы от своих несчастных кульков, которые она крутит и крутит безостановочно, как заводная машина. Она, которая никогда не смущалась и не теряла самообладания, вряд ли смогла бы сохранить спокойствие на этот раз. Ах ты, господи! Пальмира, торгующая на Птичьем! Судя по теплым одеждам, по плащам, по всяким там алюминиевым коробочкам, кулечкам, по сноровке — они с мужем не новички на рынке. А стало быть, вместе ездят за трубочником, на свои какие-то водоемы, со своею снастью для ловли этих червячков. Как-то их там добывают, каким-то особым способом, вместе мерзнут, потеют, устают. Кто бы мог подумать! Да и помнит ли она сама о своих мечтах, о библиотечке, о стихах? Или все-таки… Вряд ли. Видимо, торговля приносит кое-какую прибыль. Надо полагать. Иначе чего бы им мучиться? Не из любви же к голодным рыбкам тратят они выходные дни.
Нет, не укладывается в голове: Пальмира и этот отвратительный, похожий на протухший мясной фарш, рыбий корм.
Это конец. Ледяная горка, на которой не остановишься.
Не сложилась жизнь, не пришел моряк, не увез ее на берег мрачного моря, в маленький домик, о котором она мечтала. Денег, наверное, не хватает: дети — приходится промышлять трубочником. Видимо, муж попался — умелец. Но об этом ли мечтала! Ах, как все-таки жаль! Какая была красавица. Подойти бы еще раз, приглядеться как следует: да она ли это? Все-таки четверть века прошло, можно и обознаться. Но страх не пускает. А вдруг не ошибся, вдруг и она узнает. О чем говорить? Как себя вести? Прибедняться не хочется, а хвастаться и подавно. Чувства все давно отболели: ни любви, ни злости на нее — одна только жалость. Что уж тут поделаешь — жалко. Да-а. Но, как говорится, каждому свое.
…И другая скамеечка вспомнилась, под цветущей акацией, под звездным небом… Но лучше уж не вспоминать! Кузнечики тогда стрекотали в ветвях высокой акации, и казалось, что это звездное небо звенит.
— Ты не говори мне ни слова, — шепотом просила Пальмира. — Ни одного слова. Я сама знаю, что делаю. А ты молчи, пожалуйста.
А потом за густой акацией хрустнула рама окна, и Пальмира захлебнулась шепотом и метнулась в потемки, в сторону дровяных сарайчиков. Отдышавшись, зло сказала:
— Иди домой.
Сказала так, что нельзя было не подчиниться.
Теперь, рассеянно поглядывая по сторонам, разыскивая мотыльщика и думая о Пальмире, ощущая ее, прежнюю, чуть ли не кожей рук, чудилось, будто снова заняла она в жизни такое большое место, что само время потекло вспять, будто бы не было четверти века без нее, будто бы какой-то холодный сквознячок выветрил ее из памяти, задурманил голову…
Люди толпились возле прилавка. Кто-то рассказывает о плотве, которая хорошо клевала в прошлое воскресенье где-то. Граммов по сто — сто пятьдесят, с трехметровой глубины, на маленькую, черную дробинку, со дна. Приятно тащить.
— Где это?
Никто не ответил, не обратив даже внимания.
— А мотылька нет ни у кого?
— Сами ждем, — ответил кто-то мрачно. — Обещал привезти.
Стая голубей высоко кружит в легкой, весенней голубизне неба, а в стороне, на большом круге носится «чужой» белый, ярко светясь в солнечных лучах, приближается к стае и снова откалывается, уходит в сторону, гоняя по небу с панической какой-то скоростью, пропадая из виду, но вскоре возвращаясь… Где-то за домами, в каком-то дворе, возле какого-нибудь сарайчика стоят сейчас голубятники, в страстной истоме следят за чужим, держа наготове бескрылку, щурятся, задрав головы. Стая «летает» в спокойной уверенности, голуби все гонные, летные: тут и черные и палевые монахи, шпансыри и белые. Красивая нарядная стая. Голуби толкут воздух мелькающими крыльями, наслаждаясь полетом на высоте. Кувыркунистый шпансырь вдруг вываливается из этого хоровода, падает в тройном сальто, выворачивается и догоняет стаю, теряясь в мелькающей ее пестроте. Играют голуби! А голубятники на земле, поклонники старинной этой охоты, пьяны от восторга, любуются стаей, нервно грызут семечки, ждут в нетерпении, что будет дальше: приколется чужой или уйдет. Охота в разгаре! Грохало насторожено, бескрылка в руках. А чужой «вставляет» из конца в конец московского неба, пропадает за крышами, но снова выказывается белой точечкой, проносится на сильном махе мимо стаи, словно приглядывается к ней. То ли это белый, то ли чистый? А может, молодой почтарь? Уж голубятники-то знают наверняка, что за голубь и чего он стоит. Хороший, видно, голубь! Вот он развернулся, убавив свой круг, соколом пронесся над стаей и опять развернулся. Сейчас приколется! Вот сейчас… Еще один круг… Но нет, рановато! Что-то смутило, опять ушел на большой круг. Такого бы поймать да обгонять как следует! Видно, поймают. Голубь опять приблизился к стае и вдруг решительно скололся с ней, будто его кто-то позвал к себе, какая-нибудь милая голубка. Все! Один круг, другой, третий. Затерялся в стае, приноровившись к ее лету, пропал в ней. И в этот момент, видимо, подкинули бескрылку, она, трепыхаясь, дотянула до голубятни, уселась на крыше под настороженным грохалом, осаживая своих голубей. Стая разом увидела ее и резко пошла на снижение, увлекая за собой чужого. Ох, как волнуются сейчас голубятники! Главное, усадить! В стае одно, а рядом с голубятней, на посадке, — кто его знает, как он поведет себя. Иной раз приходится и дважды и трижды встряхивать голубей, если чужой не садится.
Но, видимо, на этот раз сел с первого захода. Стая скрылась за домами, небо опустело. Наверное, уже взяли голубя в руки и, столпившись, разглядывают оробевшего новичка, дуют ему под перо, расправляют крылья, рассматривают маховые перья, хвост, клюв, глаза и, довольные, пускают его в потемки голубятни, в отдельный загончик, подбросив ему свежей конопельки. Что-то ждет теперь летуна! То ли окорнают крылья, приучая к голубятне, то ли вынесут на рынок, то ли сразу начнут обганивать, если увидят, что чужой понялся́ с какой-нибудь голубкой. Понято́й не улетит.
В небе пустынно. Только дикие сизари чертят голубизну, табунятся на ближних крышах в ожидании, когда схлынет толпа и опустеет рынок. На деревянных навесах рыночных рядов вертятся, щебечут под солнышком коричнево-серые воробьи, тоже поджидая своего часа, когда можно будет слететь на землю, усеянную всякими зернышками, крошками, кусочками хлеба, недоеденной закуски. Каркают где-то вороны. Шум стоит в прохладном солнечном воздухе: лают собаки, говорят, бранятся, смеются, зазывают, торгуются люди, без умолку поют канарейки…
А где-то совсем рядышком сосредоточенно молчит, сворачивая бумажные кулечки, красавица Пальмира; молчит и муж ее, набивая карман деньгами, иногда лишь спрашивая, если молчит покупатель: «Вам?»
Хочется и не хочется верить в это.
Время идет. Ноги уже озябли. Холод черного льда ломотой входит в кости, когда вдруг за чьими-то спинами раздается знакомый веселый голосок:
— Вот они, мои акробатики! С утра до вечера стоят на ушах и есть не просят! Только на ушах! Шестьдесят копеечек коробка. Каждый мотыль — поклевка!
Рыбаки, отчаявшиеся дождаться мотыльщика, добродушно ворчат, напоминая, что коробочка, мол, полтинник стоит, не шестьдесят.
— А такси? — задиристо спрашивает мотыльщик. — Двадцать копеек километр и посадка двадцать — теперь считай. Меня просили, я привез, а брать или не брать — дело ваше.
Хороший мотыль. Такой и неделю проживет, не испортится. Надо, пожалуй, две коробочки взять.
В деревянную мотыльницу, в сухую тряпочку, и за пазуху, чтоб не озяб, а дома уж на влажную, в плоскую коробку из-под шоколадных конфет. Теперь полный порядок — мотыль в кармане.
Издалека бы еще раз взглянуть на Пальмиру, из-за чьей-нибудь спины, чтоб не увидела. И домой.
Но ни Пальмиры, ни ее мужа в кормовом ряду. Словно и не было их тут никогда, словно бы все это лишь померещилось: лисья шапка, знакомое лицо, озябшие, огрубевшие руки…
И опять мимо ярких рыбок, бросая на них прощальный взгляд: ах, какие неоны! до чего ж хороши барбусята! а это что за рыбки такие? никогда не видал. Черные, вуалевые скалярии, как черные полумесяцы, ярчайшие меченосцы, пецилии.
Снова в воздухе запах тихой, заросшей осокой речки с чистой, не тронутой вонючими стоками водой.
Кто-то, конечно, и выгоду ищет, а кто-то утеху душе, уставшей за неделю. Кто-то хозяйство свое рыбье разгружает — не в унитаз же выливать мальков!
— Всех за рублик! Отдам за рубль вместе с банкой, — покрикивает и покрикивает дурашливый парень, вертя в руке поллитровую банку с пластмассовой крышкой. — Кому нужны гуппи! Всех за рубль!
В воротах рынка стало посвободнее. Уже не от Таганской площади подъезжают, а отсюда, от рынка, выстроившись в длинную очередь, пытаются люди доехать до Таганки, до метро. Прилив сменяется отливом.
На улице перед рынком сумятица невообразимая! Трамваи звенят, сигналят машины, чертыхаются люди. Под ногами коричневая ледяная жижа, в которой утонули и трамвайные рельсы. Брызги летят не только от автомобилей, но и от трамвайных колес. Маршрутные такси, окруженные толпой, набиваются людьми, круто разворачиваются и уносятся в сторону Таганки. Очередь кажется бесконечной и неподвижной.
Какая-то женщина с собачонкой за пазухой истово выступает в толпе в защиту собак, уверяя всех, что они гораздо чистоплотнее человека, не заражаются людскими болезнями, особо подчеркивая, что собачки никогда не болеют всякой венерической гадостью в отличие от грязного и развратного человека, вызывая этим заявлением смех в толпе.
И слышится в ее голосе лютая ненависть к человеку, словно бы не собачек она защищает от кого-то, а шлет и шлет гневные проклятия людям. В глазах животный какой-то фанатизм: такая убьет, увидев человека, наказывающего плеткой непослушную собаку. Нельзя! Грех! Табу! Человека бить можно, собаку нельзя. Негуманно!
Злые глаза, лицо морщинистое, желчное, голова набита омерзительной ненавистью, которая изо дня в день мучает ее самое, гложет сердце и душу. Себя не жалеет, защищая животных. Очень может быть, что когда-то и в самом деле любила. Любви хватало и на людей, и на меньших братьев.
Теперь же кажется, будто сердце ее сморщилось и любовь обратилась в постылую ей самой ненависть ко всему живому. Собачки — это так, для прикрытия пустоты, попытка спастись от миазмов собственной души, приносящих этой женщине столько страданий, что ее и пожалеть не грех. С такой-то ненавистью в душе о какой уж любви поминать! Любовь — это нечто другое. А собачки… Собачки — оправдание ненависти к жизни вообще. Защищая бедную собачку, можно лишний раз законно плюнуть в душу человека. Вот и вся любовь!
Темно-зеленый «жигуленок» резко затормозил, выезжая из переулка, и возмущенно просигналил, чуть не столкнувшись с микроавтобусом. Владелец «Жигулей» за ветровым стеклом беззвучно ругнулся, резко газанул, выскакивая на улицу, погрозил кулаком шоферу микроавтобуса и, объезжая его по трамвайным путям, поехал вдоль очереди. Кто-то махал рукой, прося подвезти, кто-то уступал дорогу… Справа от водителя сидела женщина в лисьей шапке, равнодушно поглядывая на людей, стоящих в очереди. И вдруг равнодушие на ее лице сменилось выражением крайнего изумления. Она вдруг встрепенулась, вглядываясь в мужчину, стоящего в очереди, и словно бы помимо своей воли нерешительно подняла руку… Машина, мягко урча мотором, попыхивая паром, медленно проехала мимо. Ремень безопасности помешал женщине оглянуться… Но она опустила стекло и, высунув руку, помахала кому-то, шевеля пальцами, словно бы остужая их в потоке встречного ветра.
Ох, Птичий, Птичий! Шумишь ты два дня в неделю, поешь на всю Москву птичьими голосами, хлопаешь крыльями, светишься радужными рыбками! А сколько страстей кипит в границах открытого и свободного твоего царства! Сколько счастливых минут даришь ты праздным своим гражданам, сколько неожиданностей, надежд и огорчений… Теплый, пушистый комочек, прижатый к детской груди. Слезы девочки, которую уносят с рынка родители, не купившие ей хомяка. А то и просто крупный мотыль за пазухой, надежда на хорошую рыбалку.
Неволенка
Живет на земле человек с отупляющей и болезненно ноющей в душе идеей сделать что-нибудь полезное для людей, но никак у него ничего не получается из этого. Когда, например, при нем или неподалеку от него возникает разговор о чем-либо затруднительном, он прислушивается, возбуждается и спешит на помощь.
— Ну что, мужики? Какие проблемы? — спрашивает так, будто без него дело не сможет продвинуться и никто, кроме него, не в силах найти правильного решения «проблемы». Даже дыхание перехватывает от желания услужить людям.
Ему всегда кажется при этом, что если мужики о чем-нибудь задумываются, в чем-то затрудняются, то это, конечно же, «проблема» с выпивкой. У него в силу привычки выработалось особое чутье на это. Если иной раз он оказывается прав, не ошибаясь в своих предположениях, и умудряется с помощью смекалки и накопленных знаний найти выход из создавшегося положения и помочь людям, то испытывает при этом наслаждение, не сравнимое с тем глотком спиртного, который он получает за свой труд. Он вообще привык думать, что если собрались мужики и если они чем-то всерьез озабочены, то это, разумеется, наиглавнейший вопрос жизни: где достать бутылку? Он имеет на этот счет особое мнение и, кажется, гордится своим знанием людских слабостей, получая, впрочем, некоторую выгоду для себя, если ему удается помочь действительно страждущим и жаждущим и если, конечно, его не посылают к черту или еще куда-нибудь.
Человек он негордый и никогда не обижается, если его не понимают. Он только усмехается и, оглядывая обидчика, производит губами слюняво-чмокающий звук, говоря с грустью в голосе:
— Значит, эта… не получилась дружба… Что ж… Дело хозяйское. Мне-то все равно — любить иль ненавидеть. У меня совесть как стеклышко. Помочь вам хотел. Вот и все. Счастливо оставаться.
И уходит, жалея людей, не оценивших порыва тоскующей души.
Он даже на обидную кличку «обормот», которая приклеилась к нему, не особенно обижается и, откликаясь на нее, жалеет втайне людей, которые так неуважительно могут обращаться к человеку, готовому в любой момент прийти им на помощь. Смотрит на них с привычным любопытством, словно бы непрестанно изучает их повадки, и как бы говорит своими щурящимися, внимательными глазками, в которых вечно светится мутная какая-то и не защищенная злостью зеленца: «Ох, люди, люди! Жалко мне вас», чувствуя себя при этом выше всяких обид, выше людских страстей и самих людей, способных обозвать его обормотом.
Деньги у него никогда не задерживаются, не залеживаются в карманах. Он вообще всегда без денег, зная при этом, что у людей, которые окружают его, тоже их никогда нет. Но если мужики задумываются всерьез, то кое-какие деньжата все-таки появляются неведомо откуда. Словно бы они, треклятые, образуются из воздуха, из эфира, из ничего, когда дело касается «проблемы». В этом странном явлении как в фокусе отчетливо проглядывается, разумеется, еще одно преимущество коллективной сплоченности людей, когда даже невозможное становится возможным. Люди веселеют, испытывая чувства необыкновенные, как будто на глазах у них произошло чудо, в которое они до сих пор не верили. И зовут на помощь обормота.
Бывают, конечно, минуты в жизни, когда его дружески похлопывают по плечу, доверительно смотрят в глаза, что случается не так уж часто, и говорят прочувствованным хмельным голосом:
— Хороший ты человек, Вася, но дурак. Ты сам-то хоть понимаешь, что ты дурак?
— А чего ж, конечно, понимаю, — охотно соглашался он. — А то бы я начальником был.
Родился Вася в деревне с женственным названием Анюты, растянувшейся вдоль шоссе, неподалеку от реки Неволенки, которая впадает в озеро.
Сосновые боры, или, как их еще называют, боры-верещатники, растущие словно гигантская какая-то трава на песчаной всхолмленной земле, заполонили все обозримые пространства вокруг деревни. И если с какого-нибудь высокого холма оглядеться вокруг, то ничего, кроме сосен, и увидеть нельзя. Сосны не очень большие, растут густо, тесня друг дружку, падают, отжив свой век, стволы их обметывает голубовато-серый лишайник, затягивает вездесущий вереск, по имени которого и называют боры верещатниками, а на их месте вырастают новые сосны, не уступая и пяди земли другим каким-либо породам деревьев. И так было тут испокон веку.
Занятые соснами холмы и лощины, впадины и возвышения, отдаляясь от человеческого взгляда, сливаются в волнистые ленты, из ярко-зеленых становятся туманно-синими, а потом и мглисто-голубыми, бирюзовыми, едва различимыми на грани неба и земли. Море какое-то, а не лес! Лишь иногда в августовский день среди этих волн прожелтеет, словно соломенная крыша, клочок обработанной земли, засеянной овсом, да в сырых низинах, в подоле, по окраинам обширных вырубок блеснут белизной березки, заросшие ржавым папоротником. Змеиные, гиблые места. А так все сосны да сосны — куда ни кинешь взгляд.
В ясные дни расходящиеся во все стороны света зеленые, синие, голубые волны, весь этот сосновый край бывает так нежно, так ласково окутан небесной голубизной, так ярко бывают высвечены, вырисованы млеющие в теплом воздухе сосны, так четко и ясно виднеется каждая зеленая игла на маслянисто-желтых вершинах сосен, освещенных солнцем, такой смолистый настой льется в грудь, что любая песчанистая дорога в бескрайнем лесу кажется дорогой в рай.
Впрочем, тут и в самом деле рай. Не иначе как по райской долине протекает река Неволенка, над которой растут могучие, ветвистые, обласканные солнцем и свободой сосны, которые кажутся какой-то другой породы, нежели их бесчисленные сестры, живущие в тесноте и скученности.
В прозрачной воде торопливой Неволенки смутно светлеют на перекатах песчаные гривы, намытые течением реки. Зелеными струями волнуются у берегов космы густых водорослей. На пойменных, топких лужках в тихих и глубоких старицах, в речных этих лагунах, заросших глянцевитыми листьями кувшинок и лилий, поднимаются по утрам из подводного своего царства и распускаются в ясные дни бело-розовые сказочные цветы, сияя в солнечных лучах среди темно-зеленых листьев и желтых кувшинок, которых тут великое множество.
В подводных зарослях спокойно и неспешно плавают, как в каком-нибудь питомнике, всякие мелкие рыбешки: окуньки и плотвички, язята и яркие красноперки. Дикие утки приводят сюда свои выводки. В лужках гнездятся бекасы. В тишине туманных зорь каких только голосов и звуков не услышишь на берегах Неволенки! Кто-то осторожно и неторопливо прошлепает в топких зарослях осоки на том берегу, замрет, прислушиваясь, и, опять шлепая и шурша осокой, пойдет невидимый по своим делам, а потом остановится и, сочно чавкая, начнет что-то есть. Кто такой? Как его зовут? А бог его знает. Живет тут, никому не мешает, что-то, наверное, по-своему думает о жизни, о чем-то заботится, кого-то боится, кого-то и сам пугает, сытым бывает и голодным, веселым и злым, как и положено всякому живому существу. А какое из себя это скрытное, сумеречное существо, во что одето и как выглядит — этого никто не знает, потому как охотников тут мало, а если и есть у кого-нибудь ружье, то стреляют из него только по уткам.
На вечерних и утренних зорях на реке играет крупная рыба, взрывая плеском туманную тишину. Орут в деревне петухи. Свистят в воздухе утиные крылья. Лают собаки. Шоссе пустынно в эти часы, и редко-редко прошуршит одинокая машина.
Людей тут мало. Только вдоль шоссе и живут они, не углубляясь в лес, делать в котором человеку, в общем-то, нечего. Единственный промысел — сбор живицы — давно заглох. На соснах остались потемневшие следы насечек да валяются кое-где проржавевшие до дыр жестяные колпачки, в которые стекала когда-то душистая живица, белая сосновая смола.
В тишине и покое стоят сосновые леса. Зимой, опушенные инеем, кажутся серыми, летом жарко сияют зеленью и медью, лиловеют стелющимся всюду жилистым вереском.
И так тут было испокон веку. Безлюдно, диковато и однообразно.
Вася после службы в армии в деревню не вернулся, поселился в районном городке. Работал на каком-то механическом заводике, пока не переехал в новый научный городок, построенный на голом, как говорится, месте.
О заводе у него остались довольно странные воспоминания, которые ни с того ни с сего срывались вдруг у него с языка, будто его что-то осеняло и он мысленно отлетал в свое недавнее прошлое не в силах промолчать, утаить все это от людей.
— Раз послали за водкой, — начинает он свои воспоминания. — Дело на заводе, через проходную не пронесешь, только через забор. Одного на руках опустят на землю, тот бежит, возвращается с водкой, его опять на руках принимают. И порядок! Но раз было… Всю водку, ни много ни мало — шесть бутылок, принял главный инженер. И веришь ты! Не отдал. Разбил на глазах у всех! Во как казнил!
Сочувствующих мало. Да и те только протянут неопределенное «да-а-а». И забудут об этих неудачах.
А Вася, словно бы освободившись от былой печали, не найдя заинтересованности в людях, продолжает опять свое:
— Раз послали за водкой, а тут кран на завод въезжает. Крановщика попросил, тот и провез. Честный попался. Мы ему налили, все чин чинарем, а он — нет, не могу, не могу, говорит, за рулем. Порядочный человек. А вот раз было… Послали за водкой, а тут мазут привезли в цистерне. Тот взял и не отдал — уехал. А было ни много ни мало — семь бутылок. Пообедали хлебушком с масильцем!
Он испытующе смотрит на людей, ища сочувствия или хотя бы переспросов каких-нибудь, заинтересованности. Но люди будто не слышат его, безучастны к его печалям и радостям. Мало ли что бывает в жизни.
В Васиных глазках розовеет робкая смущенность. Оглядывает людей в недоумении и растерянности, бегая по их лицам вопросиками: «Как же так? Столько бутылок пропало, а вам хоть бы что! Ох, люди, люди, жалко мне вас, ей-богу». Он и тут только о людях думает, забывая о себе, заботится о них, стараясь развлечь, любит их и жалеет, как маленьких, обиженных судьбою детей, рассчитывая при этом, или, вернее, надеясь на ответные чувства, и очень тоскует, если люди не понимают его.
В такие тоскливые минуты жизни он напивается и проклинает все, что окружает его: город, пыльные мостовые, вонючие грузовики и несчастных горожан, которых он ненавидит в эти мрачные дни.
— Эх, люди-люди! Жизнь только по телевизору и видите. Забыли, какая она настоящая! Вот наша деревня! Красиво стоит, на водобеге. Сосны кругом, пески, воздух… Утки дикие летают вечером, рыба в реке плещется. Вот где жизнь! А вы все это… все по телевизору на нее смотрите, а она там, за окошком. Ну вас всех к черту, уеду я от вас. Надоело все! Так надоело, что душа болит.
И даже иногда плачет от бессилия помочь людям.
— Людей люблю, — говорит он сквозь пьяные слезы. — Хороших моих… товарищей…
И плачет еще горше, потому что понимает, что товарищей-то у него и нет. Один он, как кукушка в лесу, в этом городе, который разлегся промеж двух больших дорог, железной и асфальтовой, в семидесяти километрах от родной деревеньки, в которой только и были у него когда-то товарищи, такие же мальчишки, как он сам. Матери ихние, как и его мать, пережили войну и немецкое нашествие. А теперь в деревне и школы нет, в которой Вася Мухарёв когда-то учился, потому что возраста такого нет в деревне, детей нет: одни только старухи да одинокие женщины остались. А дети и внуки их выросли и разбрелись по свету.
Так это горько ему сознавать, что хочется товарищей всех найти, собрать вместе и поплакать от души: у всех небось нашлось бы по рублику, сбросились бы по-товарищески, повспоминали бы детство, разве один-то вспомнишь все, что было.
Думает так Вася, утирает и утирает льющиеся слезы, потому что никто в целом мире не может вспомнить о том, каким он был маленьким, никто даже подтвердить не сможет, что был и он когда-то маленький, делал свистульки из цветущих веток бреди́ны весной. Выберет, бывало, ровную ветку, опушенную нежными желтыми, как маленькие гусенятки, сережками, срежет, а потом аккуратненько сделает с краешку опоясок ножом в сочной коре, надсечет выемку и, постукивая рукояткой, стронет нежную эту кору с белого стволика и осторожно стянет тонкой трубочкой. Вся-то она трепетная, живая, душистая, эта трубочка из коры: ни трещинки на ней, ни задира. Скользкий от сока стволик, с которого снята кора, светится в руках, будто лаком покрыт. Тут как раз и начинается главная работа: снять кору — начало, надо теперь цилиндрик отрезать от оголенного стволика, а с конца этого цилиндрика, с усеченной его части, ровнешенько отделить клинышек, сделать на клинышке плоский срез для прохода воздуха, а потом уж заткнуть с обоих концов мягкую и упругую, нежную трубочку из коры. И готова свистулька! Дуешь в нее что есть силы и рад-радешенек, что слышишь тонкий и пронзительный свист живой этой игрушки, которую сделал сам.
Кажется порой Васе Мухарёву, что он и теперь слышит грустные или радостные, пронзительные или нежно-переливчатые, как песня иволги, весенние посвисты. Один товарищ, бывало, такой сделает свисток, что голосочек у него тонкий, а у другого иной получится: не угадаешь никогда, каким голосом запоет срезанная ветка, пропитанная соком влажной, ожившей после морозов земли.
Чудится ему теперь в тоскливые минуты жизни, что он не только пересвисты эти слышит, но и словно бы ощущает губами запах живой своей свистульки, вяжущую горечь срезанной ветки, набравшей душистого сока.
Вася всхлипывает от навязчивых воспоминаний, и кажется ему, что это само детство посвистывает издали: эй, мол, Васька, где ты? куда запропастился? иди сюда!
А какие плотины делал на бегущих весной ручейках! Извазюкается, бывало, в грязи, запрудит какую-нибудь журчащую струйку, радуется, что остановил торопливую воду, а она, мутно и пенно расплывшись, все мрачнеет и мрачнеет в негодовании, пока не прорвет запруду и не хлынет с веселым плеском в земляной проран, уносясь к реке. Опять надо работать! Опять землю, камни таскать. Глядишь, а мать уже обедать зовет. «Васек! — кричит звонким голосом на всю деревню. — Щаж-жа домой иди!» Аж страшно становится от этого крика, потому что только тогда и опомнится, тогда только и почувствует, что весь промок до нитки, измазался в земле до самого пупа и теперь не миновать материнской порки! Она, как умер отец, очень нервная стала и драчливая, будто Васька был виноват в ее вдовьем горе, будто ненавидела она его за что. Он до сих пор боится свою мать. Никого на свете не боится, а перед ней робеет, как перед каким-то грозным явлением природы.
Теперь она старая и худая. Руки у нее и ноги ноют перед дождем, как будто в кости проникает вода, вызывая нудную и тоскливую боль. Ходит она неуклюже, как на деревяшках, темное ее лицо напряженно-мрачное, а зеленые глаза то ли смотрят, то ли боль несут в своем тяжелом взгляде, отчаяние и бессильную жалобу на судьбу. На голове носит платок, а одевается всегда в черное некогда, а теперь посеревшее, полинявшее платье. Только в праздники повязывает голову белым платком, закладывает его на провалившихся висках своими негнущимися, оцепеневшими пальцами. Суставы опухшие, поблескивают розовой, словно бы до мяса протертой кожей. Ни жалобы, ни стона — ничего этого никогда не слышал от нее Вася, к которому она иногда, раз в год, а то и того реже, приезжает в город, заставая его, как всегда, врасплох. В городе у нее еще брат живет с семьей.
— Ты бы хоть письмо написала, ма, — начинает Вася старую песню, — или телеграмму дала. Я бы подготовился, встретил как полагается, а то ты как ревизор какой. Даже неудобно! До получки еще четыре дня, а у меня опять не хватило. Они ведь знаешь как: туда-сюда, глядишь — и не осталось ничего, взаймы у товарищей возьмешь, а потом получку получишь — отдавать надо. Не попрешь против совести! Взял — отдай. Тут уж ты меня жить научила, тут уж я не волен. Я тебе век за это буду спасибо говорить, потому что товарищи меня за это очень уважают и никогда не отказывают, если попросишь. Я это к тому говорю, что надо бы тебе, мама, телеграмму сначала дать, я бы занял рублей десять, а то и пятнадцать, ну! Конфеточек бы купил и все такое… А то ведь радость мне неполная получается. Приехала мать, а мне и угостить ее нечем, хоть плачь. А то бы бутылочку красненького на радостях распили. Чем плохо?! Ох, мама, мама! Жалко мне тебя, что у тебя сын такой бестолковый уродился. Самого любимого своего человека, можно сказать, лучшего своего товарища по жизни не может встретить, как полагается у людей. Ты меня ругай, мама, ругай… Я виноват перед тобой. Так виноват, что просто сердце болит! Веришь ты мне или нет? Вижу, что недоверчивая ты какая-то, будто я вру тебе. А я не вру. Я что чувствую, то и говорю. Меня за это и товарищи уважают. За мою честность. Я человек честный, чего заработал, на то и живу. Другие умеют жить. А ты меня всю жизнь другому учила. Я живу, как ты учила. По чести. А тут намедни гляжу, к примеру, две женщины встретились, такие же, как ты, можно сказать. Одна говорит: «Коля твой, гляжу, зарабатывает хорошо, мотоцикл купил с коляской». А другая говорит: «Парень толковый, чего ж не заработать». А сама подозрительно поглядывает. А эта-то говорит: «Толковый, толковый. То крышу суриком покрасит, то забор красить наймется. Денежки-то и кладет в карман». Говорит эта-то с намеком каким-то, а другая челюсть отвалила, как корова: «А чего ж не класть, если заработал. Это твой с пустыми карманами ходит, а мой не дурак какой-нибудь. Мой-то голову на плечах имеет и работать любит». А я гляжу и думаю: чегой-то сейчас эта ей ответит на это, какую такую мину подложит: потому что, гляжу, она глазенки прищурила и голову откинула. Говорит: «Мой-то не ворует, потому и с пустыми карманами ходит, а твой-то краску откуда берет, а? Поди-ка купи ее в магазине! Он ее с фабрики ворует. Государственной краской-то красит работничек твой. Вот откуда и деньги у него, из государственной казны! А мой такое не допустит. Мой честный. Чего заработал, на то и живет. Еще неизвестно, кто дурак, а кто умный». Разорались друг на друга вот тут прямо, на улице, прямо под окном. А та-то, корова, кричит: «Ты его не попрекай краской! Он за эту краску собственной головой рискует!» Ты слышь, мам! Слышь, чего люди говорят? И кто? Матери! Ты, говорит, не попрекай, потому что, дескать, сам отвечать за это будет, а никому другому дела до этого нет никакого. Мать это говорит! Знает ведь, что сын ворует, а говорит — не попрекай! Во как люди живут, мам, у которых деньги водятся! Насмеешься досыта!
Вася дрябло и как-то слезливо похохатывает, глядя в неулыбчивые глаза строгой матери, которая молча слушает сына и разглядывает его, разглядывает, как будто напряженно и мучительно думает о чем-то и дума эта так далека от всего услышанного, так тяжела, что и высказать ее невозможно.
— Ты вроде как не веришь мне, мам! — с заискивающим удивлением восклицает Вася и даже подпрыгивает на хлипкой своей коечке, которая плаксиво скрипит проснувшимися пружинами.
В комнате общежития он, к счастью, один: товарищи на работе, а ему два дня гулять после суточного дежурства. Мать сидит на стуле, смотрит на сына, на беленые стены, на фотокарточку, приколотую к стене, которая скрутилась берестой, скрыв изображенное на ней лицо какой-то женщины, поглядывает на стол с электрической плиткой на нем, с куском зачерствевшего хлеба, по которому ползают мухи. Васька перед ней сидит в одних трусах, нечесаный, грязный, с немытыми ногами, плешивый и хитрый. В комнате душно пахнет пьяным его дыханием. Ноздри у матери раздуваются то ли от злости, то ли оттого, что она лишний раз хочет удостовериться, что это именно от него, от Васьки, исходит смрадный дух. Васька все вдруг понимает и, посерьезнев, даже нахмурившись, отмахивается рукой:
— Не-не, мам! Если ты думаешь, то… зря! Я на работе никогда! Это я так, от усталости. Устал, как вол! Не спал сутки. На дежурстве, знаешь, в любой момент может начальник позвонить. Там ответственность — будь здоров! Я же сам себе не враг! А с работы шел, красненького выпил с товарищами. Тут я плохого ничего не вижу. Поработал, а потом отдохни. Все законно. Я, мам, не-е! Что ты! Я давно в рот ее не беру. Вчера как нарочно выпил, а ты и приехала. Ты как чуешь все равно, что я малость того, — опять заискивающе смеется Вася. — Ты прямо как ревизор. Как обэхээс какая! Ты что молчишь-то, мам! Вроде как не рада. Чего случилось, может? — Он опять супит брови и внимательно вглядывается, готовясь выслушать ужасное какое-то известие из материнских уст.
Но мать понимает его хитрость, понимает и видит насквозь. Никакой надежды у нее в душе, одна только печаль. Она сухо глотает липкую слюну, тяжело растворяя морщинистые свои губы, облизывает их языком, устав от дороги, от жары, от тошнотворного воздуха, в котором живет ее сын.
— Водички, мам? — спрашивает Вася, скрипя пружинами. — Сейчас принесу, если хочешь. Вот ведь как! Даже чаем родную мать угостить не могу… с конфеткой! Совсем разорился перед получкой. Ты, мам, не обижайся, сейчас чего-нибудь придумаем, — говорит он. — Сейчас оденусь, умоюсь, у комендантши займу или еще у кого… Ты не беспокойся, мам. Все будет акей. Ха-ха! Это так говорят теперь… Американцы говорят. Порядок, мол, в танковых поисках. Акей по-ихнему. У нас тут один живет, вон на той койке спит, — говорит он, с трудом поднимаясь с кровати, чувствуя тупую, смертную боль в голове, которую всеми силами старается скрыть от матери. — Коля Пузанов… Молодой еще парнишка. Учится. Ну вот он и это… акей, говорит, акей! Не пьет. Хороший парень. У нас тут вообще не пьют ребята. Хорошие подобрались. Вон там, в углу, мой лучший товарищ, Журавлев Степка. Аккуратный мужик. Его на заводе… у-у-у! Он у нас ценный работник. Я таких людей в жизни не видел! Честный, добрый и, главное, жизнь знает, людей. Это, мам, мой лучший товарищ. Вот придет вечером, обязательно выговор мне даст. — Вася опять похохатывает, морщится от боли. — Как выпью… малость… ну так уж… чуть. Вот, например, как сейчас… Вот увидишь! Придет со смены, сразу учует, как все равно… как ты все равно! Скажет: «Вася, пить вредно». И ты знаешь, мам! На него я никогда не обижаюсь! Даже другой раз стыдно! Думаешь, дал бы мне в рыло, и то бы не обиделся. Жаль, что добрый. Я его уважаю, мам, знаешь, как лучшего своего товарища, — с искренним как будто доверием говорит Вася, натягивая штаны и пошатываясь. — Прости меня, мам, и ты. Ты же… понимаешь, — говорит он, теряя силу в голосе, — ты же, можно сказать, самый мой лучший товарищ… Ты меня родила. Дала мне жизнь. Это же знаешь, что такое! Это счастье. Я понимаю все. Ты не думай, я понимаю. Все акей! Мам, а ты знаешь что! — вдруг говорит он, словно бы хлопнув себя по лбу, словно бы догадавшись наконец-то и найдя выход из положения. — Чего я пойду куда-то унижаться. Не хочу лишний раз… Зачем? Люди могут не понять. А ты поймешь. У тебя есть пятерочка? Или три рубля? — От собственной наглости и смелости Вася не может стоять, коленки его подкашиваются, и он, как будто падая, садится на кровать, не успев даже застегнуть штаны. — Если есть, дай мне до получки. А я сейчас умоюсь и сбегаю… куплю конфеточек… Я знаю, ты кисленькие обожаешь… Кисленьких куплю. И куплю чаю… И еще дешевенького… красненького… Называется «Розовое». Это даже, можно сказать, желудочное вино. Его полезно пить для желудка. Это точно, мам! Даже врачи прописывают, когда живот болит. Даже его греют на плите и детям больным по ложечке дают, если они не едят ничего. Это уж знаешь… Это точно. Степка Журавлев… Ну я тебе о нем говорил… Это мой лучший товарищ… Он как простудится, так сразу бутылку «Розового» — и под одеяло. А утром как огурчик… Мам, ты чего? Чего я такого сказал? Ничего плохого не сказал. Все акей! Ты что ж это думаешь обо мне? Даже обидно. Ох, мама, мама! — говорит он со вздохом. — Жалко мне тебя. Я ведь все готов для тебя сделать, только бы ты счастливая была. Я это к чему все говорю… Вот что «Розовое», так… Мне сейчас стыдно в таком виде, я ж понимаю. А если я стаканчик, маленький, выпью за твое здоровье, тебе же самой будет лучше. Я сразу поправлюсь, и тебе будет приятно на меня смотреть. А так чего же я такой перед своей матерью. Я понимаю — слезы одни. Не обижайся, мам. Прости меня, я больше никогда. Слово даю! Ну… Зря не веришь, мам, зря! Честное слово, зря. Уж чего ты, мам! Хоть поплачь, что ли… Скажи хоть чего-нибудь. Молчишь, как на порохо… на похоронах…
Мать еле выдавливает из себя, из пересохшего от гнева и печали рта:
— Воздержись, Вася. Запомни наказ: воздержись! Живешь как обиженный. Врешь мне все. Я ж тебя насквозь вижу. Слабый стал, больной. Пожил бы в деревне, чем так жить. Сосновый воздух на легкие влияет. Воскреснешь, пить перестанешь. Волнушка сейчас хорошо доится, молоко хорошее. А то пропадешь! Ничего я тебе больше не скажу, ничего я тебе не дам, хоть ты и просишь меня. Дала бы тебе по морде, — говорит она, мрачнея лицом и распаляясь, — да вот кости болеть будут. Ох, царица небесная, прости и помилуй! Изоврался весь! Матери в глаза смотрит и врет, и врет… Молчала бы — все бы врал. Гаденыш! Разве я тебя этому учила? Врать учила тебя? Матери врать… Маленький был — не врал. А теперь вон оплешивел — взялся. Ох, Васька, кнута на тебя нет. Был бы отец жив, он бы тебя отходил… А теперь я к брату пошла, — говорит мать, тяжело поднимаясь. — Не надо мне твоей воды, твоего чая, конфеточек… Ничего не надо. Обожрись ты своим «Розовым». Не хочу я тебя знать такого. Вот когда опомнишься, тогда позовешь, а больше я к тебе не приеду. Сам приедешь домой — буду рада. И даже розового или зеленого какого-нибудь на стол поставлю. И не товарищ я тебе, а мать, дурак ты старый. Оплешивел весь, опух… И чего тебя такого на заводе держат, чего не прогонят, не знаю. Начальники какие-то пошли дурные. Никакой власти проявить не могут… Ты на меня не таращись, а то ведь я рук-то не пожалею, стерплю боль-то. Ох ты господи боже мой, на кого ж ты стал похож! Воздержись, Васька! Вот мой тебе наказ, а там… живи как знаешь.
Молчит Васька, задумчиво смотрит на мать, покусывает губы и чуть ли не плачет от обиды. Вечно она так — с самого его детства: накричит, навыговаривает. Он только и помнит ее побои. А какая у нее рука, теплая ли, холодная, кто ее знает: не помнит он этого, потому что никогда не знал ее ласки, никогда не гладила она его по головке… Даже за руку никогда не брала. Дернет, если вдруг разозлится, отшвырнет в сторону, как куклу, крикнет, гаркнет что-нибудь злое и так поглядит зеленым огнем, что у Васьки язык от страху онемеет во рту. Заплакать и то страшно!
Смотрит теперь на нее, как она уходит, и тот же незабытый детский страх теснит его сердце, по которому все-таки так больно ударила опять старая, что оно колотится в груди как бешеное.
«Чего я ей врал? — думает Вася, оставшись один. — Ничего я не врал! Если только самую малость. А так ведь и не врал совсем. Притворялся только немножко. Не-ет, невозможный она человек! Мать, конечно, но… Ведь так хотелось чего-то хорошего ей сказать, так душа просила порадовать ее, а она все свое талдычит… Отец был бы жив, я, может, другим человеком был, может, он добрый был, откуда я знаю. И мать бы другая была, если бы отец-то жил».
Вася не помнит отца. Пришел тот с войны без ноги. Вася запомнил только стук деревяшки, запомнил, как отец ходил по избе: один шажок мягкий, а другой — тук, один мягкий, а другой — тук! Больше ничего об отце не помнит. Тот умер от осколка, который доплыл в крови до его сердца, когда Васе было всего два с половиной года. Мать и то говорила: «Где тебе знать, ты после войны на свет родился! Раньше-то было — в лес войдешь, вон туда, куда дорога на волю идет, а там кресты. Войско немецкое зарыто было. Войско находилось здесь, в бору. А его наши разбомбили. Как налетели, как налетели! Ох что было. В подполах сидели, думали, избы-то упадут на нас, так их шатало. Земля шаталась… Церковь в Троице сгорела и все село, а наша деревня цела осталась… Военное время мутное. Где уж тебе, сопливцу, знать!»
Когда Вася Мухарёв трезвеет, когда втягивается опять в городскую свою жизнь, он вообще ничего не помнит о прошлом: ни об отце, ни о матери, ни о свистульках или земляных запрудах. Опять у него одна забота на уме: как бы людям помочь, как бы услужить товарищам.
— Чего, мужики, задумались? Проблема мучает? — спрашивает он, подскакивая петушком к товарищам, и душа его ликует, рвется вон, когда люди просят его сбегать за «продуктом». Так он радуется причастности своей к мужскому этому дружеству, так торопится исполнить просьбу, что, кажется, о лучшей доли он и мечтать не может. Особенно остро ощущает он это свое счастье летом, на железнодорожном травянистом откосе на окраине города.
За спиной пыльные кусты акации, за кустами белые в клеточку стены панельных домов, кольцо конечной автобусной станции, людская сутолока, шум и гомон. А тут, словно на краю земли, крутой, замусоренный окурками, бумагой, битым стеклом, ржавыми закупорками от пивных бутылок, заросший измятой пропыленной травой откос с дренажной канавой вдоль железнодорожного полотна. Рельсы блестят на солнце. В порыжевшем от ржавчины гравии маслянисто-черные шпалы лесенкой убегают вдаль, в бесконечность. Провода над рельсами от мачты к мачте начинают вдруг тихо позванивать, как налетевшая стайка комаров, и вдруг из-за плавного, пружинно натянутого поворота выскальзывает зеленый игрушечный электровозик и тащит за собой вагончики, которые видны еще только сверху, видны бурые их крыши с вентиляционными трубами. Бурая эта змейка с зелено-алой головой неслышно выгибается, вытягивается в струнку и растет на глазах, увеличивается в размерах, обрастает шумом, металлическим звоном.
А Вася сидит с товарищами на бугорке, на солнце, на плешивой травке откоса, глазки его щурятся в блаженной улыбке, будто не поезд, а сам он на зеленом коврике несется неведомо куда, разглядывая с пустынной высоты грохочущие мимо, визжащие в реве и скорости запыленные вагоны, вагоны, вагоны… Откуда они? Что за люди смотрят на него из-за мутных окон? Бутылочки на столиках и опять бутылочки: темно-зеленые пивные, белые молочные… В Москву едут! Значит, без остановки. Скорости даже не сбавит бешеный этот эшелон, от тяжелого бега которого зудит земля, отдавая свой зуд в ленивое тело блаженствующего Васи Мухарёва. И чувствует он себя в эти минуты как бы нигде. За спиной шум на площади, а внизу перед глазами шум поезда, а он с товарищами на колосе отчуждения. Нигде! В каком ресторане получишь такое-то удовольствие?! Сальце домашнее на бумажке, обсыпанное крупной солью, пропитанное чесночным духом, бело-розовое на срезе, слоистое, ломти ноздреватого серого хлеба, молодые белые луковицы с зеленым пером. «Ах! Вот она, жизнь-то!» — думает Вася, поглядывая на ускользающий по рельсам послушный задний вагон, и слышит звонкий гул освобожденных рельсов. Какие-то цветочки колышутся от ветра, оседает поднятый мусор и пыль. Воробьи опять слетаются с кустов акаций на откос, чирикают, хлопочут, снуют в траве.
Зимой, конечно, хуже. Зиму Вася не любит. Зимой он, будь его воля, из дома не вылезал бы, как из берлоги: спал бы да спал. Холодно кругом, грязно и скользко. В холода его шатает, как пьяного, и ходит он словно бы в каком-то полусне. На нем легкое серенькое пальтишко, выцветшая клокастая кроличья шапка с пропотевшей, залоснившейся, грязной подкладкой. Кожа на лице серая, точно золой присыпана, под глазами розовые мешочки, в глазах слезы от холодного ветра. Сутулится, подняв короткий воротничок пальто. Ноги скользят на обледенелом тротуаре, и он часто падает, не держит равновесия, морщится от боли в локте или в коленке. Пальтишко совсем не греет, хотя и не старое еще. Купил его год назад за семьдесят рублей и очень удивил этим поступком своих товарищей, которые стали расхваливать Васину обнову, смущая счастливого обладателя нового заграничного пальто. Он стал даже ругать свое пальтишко.
— Ничего хорошего и нет! Воротника, можно сказать, нету, карманы мелкие. Что за карманы такие делают! Видал? — говорит Вася, суя руки в боковые и во внутренние карманы. — Разве это карманы? Ничего не положишь, не говоря уж о бутылке. Бутылку положишь, а она и вывалится оттуда. Купил, потому что не очень дорого и по размеру подходит. А так — ничего хорошего. Надо будет карманы поглубже сделать, подрезать там чего-нибудь и пришить мешочки. Бабу какую-нибудь надо попросить. Парусинки достать и пришить.
Но так и не углубил свои карманы. Ходит в морозы, грея в карманах озябшие багрово-синие руки. Перчаток никаких у него не было никогда и нету. Все денег не хватает на перчатки, и он к ним относится со странным чувством, словно бы это излишество ненужное или что-то вроде роскоши. Дует на руки, дышит чуть тепленьким парочком, трет друг о дружку и снова прячет в карманы, в которых пальцы как будто оттаивают с болью. Живет всю зиму в нетерпеливом ожидании весны и тепла, радуясь наступлению марта, потом и апреля… Иногда вспоминает сосновый бор вокруг деревни, седой и мрачный под седым небом, и горячую печь в избе. В избе тепло, а в сенях вода замерзает в ведрах. На печи чуть слышно пахнет угарчиком: где-то там, в какую-то щелочку, просачивается дым; пахнет сухой глиной и теплой пылью пополам с клопами. Мать в печи шурует ухватами, готовит еду себе с сыном и скотине, покрикивает на кошку, ругает ее все время, ворчит на нее, если она даже просто спит, спрятавшись в теплом запечье от бранчливой старухи. На улице мутно и серо. Кругом заиндевелый бор. В школу идти не хочется, хоть бы она сгорела совсем! Другое дело в марте, когда солнышко растопит весь иней на соснах и они, умытые, яркие, красуются в холодном голубом небе, светятся над золотыми снегами.
Вспомнит Вася это время, крепкий наст, по которому можно было бегать не проваливаясь, ходить между ярких и пахучих сосен, обогретых солнцем, слушать, как синички тинькают в тишине леса, как рябчики свистят, как клесты шелудят шишки, — и душа его опять заболеет от тоски по дому, по теплу горячей печки, по живому огню.
«Пропади оно все пропадом! — чуть ли не вышептывает он свои крамольные мысли о городе, об общежитии, о своих товарищах. — Холодище в комнате, батареи чуть теплые. Согреться негде! А до получки ждать и ждать… Беда! Где бы это раздобыть до получки?.. Жадные, как черти. Все бы только о своем животе заботиться, о себе… Ох, люди, люди! Лучше бы я не знал вас никогда. Никакого у вас чувства нету. Одно бесчувствие. Подохнешь тут от холода, а вам и ладно: подох и подох. Эх-ха-ха! Хоть бы одеяло нормальное выдали! Портянку какую-то кинули, не греет ни хрена. Пальтом ноги приходится греть. Разве это жизнь! И Степка храпит как зарезанный. Ну что это за человек такой! Спать не дает, зараза. Вон что выделывает! Какие тона пускает. Давай-давай!» — с проклятиями думает Вася о своем «лучшем товарище», озябнув под тонким одеялом до дрожи.
Днем выспался, а теперь сна ни в одном глазу. Смотрит в серую темень потолка, и такое чувство постылое в душе, что хочется ему уехать отсюда незнамо куда, к каким-нибудь ласковым, хорошим людям, чтоб они все время улыбались и все время здоровались с ним: «Здрасте, Василий Николаевич. Как вы поживаете? Ничего у вас не болит? Как душа? Как тело? Все в порядке? Ну слава богу. Вы уж нас не подведите, Василий Николаевич, а мы для вас все готовы сделать, лишь бы вы сыты были, обуты и одеты. Мы без вас, Василий Николаевич, пропадем. Вы уж не болейте. И не расстраивайтесь. Чего надо, скажите, мы вам всегда поможем». Гуляют эти люди по садику, по чистеньким песчаным дорожкам, кругом цветут розы, обрызганные водой, а дорожки хрустят под ногами: щап-щап-щап.
И надо же было такому случиться, что туманные мечтания, бредовые картинки райской жизни однажды обернулись для Васи Мухарёва явью. Не все, конечно, совпало в новой его жизни с мечтаниями, но кое-что все-таки было похоже.
Он и в самом деле вскоре уволился с завода и уехал из городка еще дальше от своей деревни, хотя это «дальше» и составляло всего тридцать пять километров по железной дороге. Именно там, на тридцать пятом километре от районного центра, быстро вырос и окреп совершенно новый, союзного значения научный городок, в который съехались ученые со всей страны. В основном, конечно, люди молодые, уверенные в себе и смотрящие на жизнь совсем иначе, чем остальные люди земли, как если бы только им одним какое-то особое право было выдано кем-то, а всем остальным нет. А право это, как понимал его Вася Мухарёв, заключалось в том, что они, эти новые люди, словно бы не хотели да и не умели жить так, как жило все остальное население. Им обязательно нужны были собственные автомобили, собственные байдарки, лодки, яхты и чуть ли не собственный аэродромчик с собственным самолетом или вертолетом. Люди эти ничего не боялись, будто у них совсем не было страха. Иной раз Васе казалось, что они даже страдают оттого, что у них нет страха. А чтобы нажить его, все время летают на самолетах, презирая железные дороги, все время носятся на своих автомобилях, ходят в ветер по волнам на яхтах и на каких-то досках с парусом, спускаются на лыжах с крутых гор, заросших деревьями, строят себе какие-то парусные плоты и улетают в отпуск на таежные глухие реки, чтобы там гнать и гнать вниз по течению на этих плотах сквозь каменистые пороги, ночевать у костров, фотографировать медведей, делать кинофильмы о своих путешествиях, а потом показывать в клубе товарищам и при этом посмеиваться над самими собою и даже, можно сказать, издеваться над своими неудачами, над опасностями, над тем, например, как на порогах их плот перевернулся и они чуть было не погибли в бурной реке. Насмешливым голосом они рассказывали через микрофон на весь зал про то, о чем думает какой-нибудь их товарищ, прыгая голым на экране и выжимая мокрую одежку, или, к примеру, показывали какого-нибудь своего товарища, заклеенного белым пластырем, разбившегося об камни, и при этом смеялись над выражением его лица. А люди, которые сидели в зале, тоже смеялись, как будто жизнь для них для всех была не жизнью, а каким-то веселым цирком.
И главное, женщины тоже ничего не боялись! Тоже гоняли на автомобилях, на лыжах с гор, плавали на байдарках, носили обтрепанные джинсы, так туго натянутые на ноги, что можно было представить себе все что только захочется представить, глядя на какую-нибудь идущую впереди деваху — заманчивую ветреницу с распущенными волосами. Вася Мухарёв и в лесу, далеко от дома, встречал таких же, обутых в лаковые резиновые сапожки. Ходят в глухомани, будто никто им в жизни не страшен — ни волк, ни мужик, будто не лес это вовсе, а какой-нибудь городской бульвар под полуденным солнышком. А леса тут совсем иные, нежели вокруг деревни Анюты. Мрачные, захламленные, подтопленные в низких местах, обомшелые и залишаенные, битком набитые комарьем и клещами. И только изредка в еловом чернолесье проглянет зеленая поляна, освещенная солнцем, на которой трава по пояс, а в траве всевозможные цветы. Зато в лесах этих было много груздей, душистых, белесоватых, с замшелой как будто опушечкой, — самый настоящий благородный груздь, гриб высшей категории! Вот за ним и ходили.
Вася Мухарёв сам не солил, а продавал грузди на маленьком базарчике, пристрастившись к этому веселому занятию и став заядлым грибником.
И вообще он зажил весело на новом месте, среди новых домов, новых людей, забыв о своей кличке, любуясь на зеленые газоны, асфальтированные тротуары и мостовые. Работал подсобным рабочим в научном институте, похожем на огромный завод, не зная толком, чем занимаются ученые и вообще весь коллектив. А когда бывал в районном городе и встречался со старыми своими товарищами, отвечал на их вопросы с таинственной полуулыбкой, которой раньше никто не замечал на Васином лице.
— Кое-что скрещиваем, — говорит он, щуря глазки. — Слава богу, получается. — Вытаскивает из кармана зелененькую трешницу, держа ее в руке, как козырную карту, и добавляет с усмешечкой: — Все акей! У нас там один мужик! Товарищ мой по работе… Так вот, он так вот достанет, покажет всем и говорит: давайте-ка, мужики, из одного дня два сделаем. Посмеемся-посмеемся да и сделаем. А чего! День, говорит, хорошо, а два лучше. Все акей… Чего скрещиваем-то? А чего надо, то и скрещиваем, — отвечает он, похлестывая трешницей по заскорузлой ладони. — Считай что пшеницу с рожью… Для чего! Чтобы это… чтоб урожай повышать в наших местах. А вообще-то мое дело маленькое. Скрещиваем чего-то — и хорошо, и слава богу. Главное — получается. Ученые знают, чего скрещивать. Им за это большие деньги платят. Разве они расскажут? Главное, чтоб витаминов было больше. Вот и бьются над этой проблемой, — говорит он со вздохом. — Не хватает их человеку. Помогаем.
Доволен собой и кажется вполне счастливым и до застенчивости гордым своей новой ролью, не привыкнув за всю свою жизнь к такому вниманию со стороны товарищей. Чувствует себя так, будто ему крупно повезло в жизни, жалеет, щадит своих товарищей, стараясь быть поскромнее, не хвастать чересчур и не дразнить их своей удачей. Посмеивается над учеными, над их забавами, над детскостью их увлечений, нарочно похабничает, рассказывая о женщинах, об их «товаре», выставленном напоказ, намекает на некие тайные связи с ними. И в эти минуты глазки его кажутся слюнявенькими.
«Розовое» тепло бурчит в животе, греет голову фантазиями. Внизу, под откосом, проносятся в вое и лязге поезда дальнего следования. Вася Мухарёв угощает своих товарищей, понимая себя чуть ли не благодетелем, и не замечает насмешливых переглядок, хитрого поддакивания, подзадоривания.
Разогретого ведут его под руки на станцию, уговаривают переночевать в общежитии, не ехать домой, а с утренним поездом вернуться в городок. Вася ласков до слезливого умиления.
— Не-е-е, — говорит он. — Вы обо мне не сомневайтесь. Все акей! У меня нет на свете товарищей лучше вас. От души говорю! Не верите? Зря. Я их всех ненавижу, а вас всех люблю, потому что… Степ! Приезжай ко мне в гости! Скажи, приедешь или нет, а то я не могу просто без тебя. Ты мой лучший товарищ. Я тебя так уважаю, что даже жалко… Жалко мне тебя! Такой хороший ты человек… Степ, если чего, ты меня позови. Слышь? Приезжай. Я тебе всегда помогу. Все вообще-то приезжайте! Откровенно говорю! От всей души. В субботу и приезжайте. Спросишь, где общежитие, тебе каждый скажет. Где Васька Мухарёв живет? Там-то и там-то. Правильно!
Утром хмуро таскает с напарником какие-то ящики серого цвета, с тоскою думая о вчерашней щедрости, которая выбила его из привычной колеи. Поругивает своих товарищей, которые не остановили его и неправильно поняли: он вроде бы скинуться предлагал, а получилось, что один на всех и потратился. Нехорошо, конечно, с их стороны. Могли бы понять. Ни много ни мало, а двенадцать рубликов пустил на ветер!
Дождик висит в дымчатом небе, но на землю не падает, не набрав силы. Солнце высвечивает закрайки высоких облаков, оплавливая их серебристой каймой, и тоже, как дождь, словно бы не падает лучами на землю, а где-то там, у себя на небе, оставляет все свое сияние. Парко и душно на земле: ни ветерка, ни воздушного течения. Все замерло. Даже осиновые листья не дрожат, не кажут пепельную свою изнанку.
А ящики — тяжелые! И как нарочно люди ни о чем не задумываются, работают себе и работают.
Однажды Васино ухо уловило какие-то слова начальства, которое вышло из центральной проходной со стеклянной вывеской на стене «Дирекция», и, остановившись на широкой лестнице, продолжало разговор:
— Надо искать! Там заплесневеем от сырости… Озеро, конечно, хорошее, зеркало до горизонта. А берега? Как подъехать? Дорогу мостить. А откуда деньги взять? Нам этих денег никто не даст. Неужели других мест нет? Пусть подальше, но чтобы сухо было. Вот, говорят, в той стороне сосновые боры. Я там не бывал, но люди рассказывают… И еще одно обстоятельство надо учитывать. Туда ведь с детьми будут ездить. Верно? А сколько там всякого гнуса? Не-ет, над этим вариантом надо как следует поколдовать. Конечно, озеро заманчиво. Рыбалка, яхты… В общем, мое мнение будет такое, ничего оригинального не скажу, но, как говорится, семь раз отмерь… Турбазу строить будем не на год, не на два… А капиталы надо вкладывать с умом. Надо поездить, поискать. Там, кажется, речка есть.
— Речка-то есть, — с сомнением в голосе сказало другое начальство. — Далековато. Сто километров как минимум. Нужен автобус, шофер. Не один шофер. А может, и не один автобус. Да и речка-то маленькая.
— Ну и что? Автобусы, шоферы. Нашли затруднения! Это нам в десять раз дешевле обойдется, чем строить дорогу. Там же дренажные работы нужны! Не знаю, не знаю… Все это, по-моему, нереально. Не в болоте же строиться!
Они еще о чем-то говорили, спорили, что-то доказывая друг другу, а Вася, как будто его осенило, все сразу понял и задумался. Спросил потом как бы между прочим, о чем это начальство говорило, и узнал от людей, что ищут они место для турбазы, но такое место, чтоб было сухо, чтоб лес был и вода, желательно озеро, чтоб можно было ходить под парусами.
— Такое есть. Лучше не найти, — тихо сказал Вася и даже похолодел от мгновенного испуга, что начальство не захочет выслушать его, если он предложит свои услуги. Представил себе выражения их лиц, когда они скажут ему с раздражением: «Идите, идите работать. Без вас обойдемся».
И начались его страшные мучения. Он даже ночью вдруг просыпался в холодном поту от непонятного страха, не в силах уснуть до утра, дождаться утреннего света. Ему было тесно в кровати, тесно в темноте, которая как будто налипала на тело жирной и теплой грязью, ему было трудно дышать, словно тяжелая болезнь навалилась на него. А на работу шел на ватных ногах, испытывая неведомый до сих пор страх перед начальством, к которому ему обязательно нужно было зайти, записаться и рассказать о Неволенке, которая впадает в большое озеро, о сосновых борах и о песчаных дорогах, проезжих в любую погоду. Он чувствовал себя так все эти дни, будто обнаружил случайно сокровище, лежавшее на дороге, через которое люди перешагивали или обходили его, не догадываясь о его истинной ценности. А он один подобрал и не знал теперь, что с ним делать: сдать ли государству, как это полагается по закону, или присвоить. Поймут ли его, прислушаются ли, захотят ли посмотреть, да и поверят ли? Вот что больше всего мучило его. И как подойти к начальству? Не скажешь же, как товарищам своим: какие, мол, проблемы мучают, мужики?
Надо было думать и думать, как заманить людей на берега Неволенки. А думать Вася Мухарёв не привык, и оттого, видимо, мозг его, застигнутый врасплох, испуганно ежился в черепушке, болел страхом и отчаянием.
С тех пор как Вася зацепился ухом за разговор начальства, он даже о самом себе забыл. Думал только о людях и о реке Неволенке. Жалел людей, которым и невдомек как будто было, что рядом с ними, не в тайге какой-нибудь, не в Сибири или в Кавказских горах, а в двух часах езды на автомобиле течет чистая река, полная рыбы, и впадает в глубокое и тоже чистое озеро. Впервые в своей жизни он чувствовал себя хозяином огромного богатства, которое так велико, что его не сосчитать ни на каких счетных машинах и владеть которым одному ему не под силу: надо отдавать людям.
Впрочем, о себе о старом, о прежнем, он думать-то забыл, но о себе о новом, о будущем, думал не переставая, а вернее, впервые и задумался всерьез, строя в воображении турбазу на берегу Неволенки и как бы пристраивая самого себя к этой турбазе в каком-то таком качестве, о котором и сам еще не мог догадаться: чего-нибудь такое полезное делать там и как-нибудь жить. «Ох, люди, люди, жалко мне вас! — вздыхал он среди ночи. — Всё-то вы сами, всё сами! А я такое вам место укажу, что вы только ахнете, и все. Только ахнете! И больше ничего!»
Идея эта так измучила его, что товарищи даже интересоваться стали, не заболел ли Мухарёв. Но он только отмахивался от них как от несмышленышей, которые мешали ему думать. Но никак он не мог придумать, как бы это так все сделать, чтоб сразу заинтересовать начальство. Придешь к ним, а они скажут: «Кто тебя просил?» А не прийти нельзя. Надо идти. Придешь, а они посмеются и скажут: «Чего это ты выдумал, мужичок? Никаких турбаз не предполагается в этой пятилетке. Дело будущего. Иди-ка лучше работать». Как тогда жить? Вот в чем загвоздка. Мозг уже так прочно настроился на эту турбазу, что Вася ее и во сне и наяву видел, она преследовала его сосновым духом и чистотой, песочными дорожками и цветущими розами на клумбах. И себя он там видел — хлопотливого и озабоченного хозяина, которого все уважают и здороваются по имени-отчеству: «Здрасте, Василий Николаевич. Мне бы чего-нибудь такое надо получить, чтобы там где-то провести время с удовольствием и с пользой для моего здоровья… Чего-нибудь такое, чтобы все было акей. Посоветуйте, Василий Николаевич, а то душа просит незнамо чего». А он бы слушал внимательно и кивал бы все, кивал, понимаючи, потому что люди-то все хоть и ученые, а смысла в жизни не понимают. Им надо подсказать этот смысл, они и утешатся.
«Ох-хо-хо! Люди! Не знаете вы своего счастья. Один азарт на душе».
Все сходилось к тому, что вылечиться от своих мучений Вася Мухарёв мог бы только у начальства. Другого выхода не было. Надо идти. А как идти и к кому? Придешь, а на тебя посмотрят как на дурачка и скажут: «А мы-то тут при чем? Мы этим делом не занимаемся. И знать ничего не знаем». Вот ведь какая задача. Кто же эти товарищи, которые на лесенке разговаривали? Может, кто из месткома, а может, из дирекции? А может, и так просто трепались? Может, и не начальство это было, а так, заинтересованные из общественности? Разыскать бы этого, который не согласен был, который о сосновых борах говорил. К нему бы и пойти. Точно!
Но сколько Вася Мухарёв ни расспрашивал своих товарищей, как ни допытывался, кто это был, что это за человек с козлиной бородкой и с портфелем, никто ничего утешительного сказать ему не мог. Мало ли здесь бородатых да с портфелями!
Тянулись теплые дни, выпадали дожди, светило солнце, а Вася ходил по земле так, будто была лютая зима. Лицо его стало землистого цвета, глаза запали в бессонной розовато-зелененькой тоске и муке, слюдянисто блестели слезой, точно ее выбивал холодный ветер. Его пошатывало на поворотах, как пьяного, и ничто на свете не радовало. Чувствовал он себя так плохо, что только и думал, как бы добраться до постели. Особенно плохо бывало утром, когда шел на работу в страхе перед начальством, с которым решал встретиться во что бы то ни стало, и к концу рабочего дня, когда решение это опять откладывалось.
Тяжело ему было идти домой, в общежитие. Сознание, что дни уходят, а начальство, споря между собой, может быть, уже и раздумало искать новое место, доводило его до странного умопомрачения, когда он даже на оклик какого-нибудь товарища не оборачивался, словно не понимал, что это его окликают.
— Васьк, ты чего? Оглох?
А он тупо смотрел и мрачно переспрашивал:
— Чего?
— Как чего? Я у тебя спрашиваю, а ты как глухой.
Он выдавливал из себя виноватую улыбочку и молча отходил в сторонку, чтоб к нему не приставали и не мешали думать.
Словно великую тайну носил он в своей душе мечту о турбазе на Неволенке, переселившись мысленно в ее рубленные из сосны терема, на ее ухоженные дорожки, пляжи, лодочную станцию. «Если бы они, конечно, согласились, — думал и думал он как заводной, — то уж, конечно, подыскали бы мне какую-нибудь работенку. Все было бы акей! Вот хоть бы взять лодочную станцию. Чего там особенного надо? А ничего. Лодку проконопатить, просмолить, покрасить. Это я могу. Или, например…» И он опять мучительно и бесплодно задумывался, упираясь в ватную какую-то неопределенность своей мечты, как бы замыкался на самом себе, на своей тревоге, не в силах выйти из этой тупой задумчивости.
Наступал новый день и кончался. Они пролетали друг за дружкой, как вспышки света среди темноты.
Вася даже однажды в аптеку заглянул, долго изучал лекарства, разложенные под стеклянной витриной, особенно внимательно вглядываясь в сердечные. Но не решился попросить от сердца и купил от головной боли, съев сразу две таблетки, от которых его затошнило, и только.
Да он и сам догадывался, что лекарствами тут не излечишься: нужно идти к начальству. А как идти? Придешь, а они скажут: «Где же вы раньше-то были? Мы на озере строимся. Речка нам ни к чему. Маленькая она и нам неинтересная. У нас другие задачи. Мы ставим другие цели перед собой. Наши желания не совпадают. Идите работать, товарищ Мухарёв». Вася от одной лишь мысли о таком ответе покрывался холодным потом и терял силы, будто его кто подсекал под колени неслышным и нечувствительным ударом. «Эх, люди, люди! Ведь вот оно, под боком у вас, место-то это… Я ведь вас приведу в такую красоту, что вы и ахнуть даже не сумеете. В ножки мне кланяться будете. А мне зачем это? Мне этого не надо. Я не для себя стараюсь. Для вас, несмышленых».
Если бы не случай, Вася вряд ли собрался бы на прием к начальству и трудно сказать, до чего бы он довел себя навязчивой этой идеей с турбазой на Неволенке. А случай подвернулся.
Как-то раз шел Вася Мухарёв мимо главной проходной, поглядывая исподлобья на широкую бетонную лестницу перед стеклянными дверями. Была она в этот предвечерний час пустынна и, как всегда для Васи, неприступна, будто долговременная огневая точка, смотревшая на него невидимыми дулами крупнокалиберных пулеметов. Озноб холодил кожу между лопатками — таким маленьким и беззащитным казался сам себе Вася перед этой лестницей. Подняться по гладким ее ступеням, в щелях между которыми зеленела травка, было для него равносильно подвигу. Но сил на это не хватало. Можно, конечно, тяпнуть стакан «Розового» для храбрости, думал Вася, но тут же отметал прочь этот вариант, потому что начальство с пьяным вообще не будет разговаривать. Шел Вася вялыми шажочками мимо лестницы и казнил себя последними словами. Как вдруг…
Ох уж это спасительное вдруг! Сказочное, необыкновенное, чудесное, долгожданное и выстраданное душою. В д р у г случались великие открытия: в д р у г встречались люди и любили друг друга до гроба; в д р у г начинались войны, уносившие сотни, тысячи, миллионы жизней; в д р у г рождались юные жители планеты; ломались судьбы… Чего только не случалось в жизни в д р у г!
Так и Васю Мухарёва спасло это всесильное в д р у г от погибели. Размашисто отворилась стеклянная дверь и на площадку вышел человек с козлиной бородкой. Посмотрел туда-сюда, взглянул на часы и стал прохаживаться по площадке, видимо, в ожидании машины.
У Васи все пересохло во рту, похолодели руки, и он, понимая, что другого такого случая уже не будет, не чуя ног поднялся на площадку и еле выговорил:
— Здрасте, я извинялось, конечно… Это… я слышал, будто что… тут такой разговор был, будто нужно место для отдыха…
— Что-что? — переспросил начальник. — Я ничего не понимаю.
— Товарищи говорят, а я подумал, — начал опять Вася в страшной муке, — что лучшего места для турбазы вам не найти, которое я вам могу указать. Если желаете, конечно.
— Место? Турбаза? — подняв плечи, удивился начальник, хмуря брови, но вдруг воскликнул освобожденно: — А-а! Вон вы о чем! Понятно. А где же это место?
— Есть река Неволенка, на сто шестом километре отсюда, — хрипло сказал Вася. — Она глубокая и чистая, течет в песках, водобег у нее быстрый, а впадает она в громадное озеро, которое мы зовем Варваринским почему-то… Не знаю почему. Озеро глубокое, и рыбы там тьма. А кругом лес сосновый… Сосновый бор. Дороги все песчаные, и даже думать нечего, хоть в апреле, как снег сойдет, хоть в октябре, когда дожди, — всегда проехать можно на любой машине. Брусничники есть, а грибы все маслята… Если пожелаете, я вам это место укажу с удовольствием, потому что родился там и все там хорошо знаю. Если желаете, конечно.
Вася сам себя не узнавал, так хорошо у него все получилось, складно и внятно, будто он наизусть вызубрил, как в школе.
— Так-так… Интересно. Как ваше имя-отчество?
— Василий.
— А отчество?
Со смущенной усмешкой Вася испуганно промямлил:
— Николаич. — И добавил, пока не остыл: — Там воздух, знаете… просто очень прекрасный. Такой, знаете… На легкие влияет. Там все можно сделать… Такая красота будет, что просто счастье для людей. Я даже знаю, где базу…
В это время подъехала черная «Волга», сияющая полированным кузовом и хромом.
— Это очень интересно, Василий Николаевич, — заторопился начальник. — Завтра суббота, да? Вы свободны завтра? Хорошо. Так. Вы где живете? Ах, в общежитии. Ладно. В восемь утра выходите на улицу и ждите меня, я подъеду, и мы с вами махнем на вашу Неволенку. Сможете, Василий Николаевич? Ну и хорошо. Не подведете, надеюсь. Ладно. До завтра! — сказал начальник и с веселой, но какой-то неживой улыбкой протянул Васе руку, которую тот принял чуть ли не как хлеб-соль, с почтительным и низким поклоном. — Спешу! — развел руками начальник. — Туда не опаздывают, — сказал он с неживой своей улыбкой и поднял палец.
Он молодо сбежал по лестнице, распахнул дверцу и не успел ее захлопнуть, как машина уже тронулась с места и, зашипев выхлопными газами, ринулась вдоль по пустынной улице, по светлой бетонке и скрылась за поворотом.
Вася Мухарёв долго еще сидел на скамеечке под молодыми березками, приходя в себя и успокаиваясь. «Да кто же это такой? — думал он, скалясь, как дурачок, в улыбке. — Директор не директор, а какой-то большой начальник. Хороший, видать, человек. Сразу все усек. Энергичный. Главное: „Сможете, Василий Николаевич?“ Хе-хе! Как это не смогу? Конечно, смогу, чудак-человек! Спать, конечно, не придется Василию Николаевичу. Не проспать бы! Ай да Васька! Шустряк! Надо побриться как следует. Брюки погладить. Рубашку постирать надо. Ой, дел-то сколько! А я тут расселся, как пенсионер».
И он чуть ли не бегом припустился домой.
Все это в прошлом теперь. Вася Мухарёв любит теперь рассказывать о том, как они с Эмилем Владимировичем приехали на его «Волге» на берег Неволенки.
Август, тихо и тепло, В небе редкие белые облака, а на земле цветет вереск. Сосновая смола плавится на стволах. Запах такой, что просто не верится, что это тут всегда так, а словно бы это специально для приезда начальника сделано. Эмиль Владимирович, как вышел из машины, развел руками, глядя на бегущую воду, и застонал от счастья. А с ближайшей сосны как нарочно спустилась вдруг черная большая бархатная бабочка с белой каймой на крыльях и села на руку Эмилю Владимировичу, который никак этого не ожидал и замер в восхищении, глядя на это чудо. А тут как раз большая рыба ударила в воде, всколыхнув реку и тишину своим мощным всплеском, которого даже бабочка испугалась и улетела. Их тогда много летало над соснами. Стрекозы тоже летали, коричневые, как керамические, с большими глазами и прозрачными крыльями. Посмотришь в небо — там бабочка, там стрекоза, а там опять бабочка… А совсем высоко кружат коршуны.
— Ну Василий Николаевич! — крикнул Эмиль Владимирович. — Ну дорогой мой! Мы тебе памятник тут из бронзы поставим как первооткрывателю! Турбазу твоим именем назовем! Васенька, ты меня прости, но ты хитрец! Столько времени молчал о таком чуде! А? И правильно делал! Правильно. Об этом молчать надо и никому не рассказывать. Не жалко? Только честно! Не жалко, что раскрыл свою тайну? А? Не жалеешь теперь?
— А чего жалеть-то?! Я же для своих же товарищей стараюсь. Чего ж тут жалеть!
Эмиль Владимирович задумался, вгляделся в него и тихо сказал, повторяя слова Васи Мухарёва, говоря их как бы самому себе и глядя как бы в самого себя:
— Чего ж тут жалеть… — И усмехнулся, покачав головой.
Все это в прошлом теперь. Теперь и Васю Мухарёва не узнать, как не узнать и речку Неволенку.
Нет, она, конечно, все так же быстро течет среди сосновых лесов, окаймленная по берегам кустами ольхи и бредины, так же прозрачна и вкусна ее вода, потому что в верховьях реки нет ни промышленных предприятий, ни возделанных полей, с которых по весне стекали бы в реку химические удобрения. И, наверное, где-то в других местах, по которым протекает Неволенка, все осталось по-прежнему: так же плещется на зорях крупная рыба, свистят утиные крылья, и чавкают в зарослях никому не ведомые звери (скорее всего обыкновенные нутрии), и так же, как раньше, в тихих старицах и заводинках цветут и красуются в ясные, солнечные дни бело-розовые лилии, отражаясь в отполированной тьме глубокой воды.
Но сборные летние домики, окрашенные в синий цвет, уже поблескивают черными стеклами окон. Автомашины всевозможных марок и оттенков разбросаны тут и там среди деревьев. Не проходит и часу, чтобы какая-нибудь из них, ворча и напрягая силы, не выехала бы из зеленой тени и, покачиваясь, пружиня на неровностях вытоптанной, выезженной земли, не укатила бы по песчаной дороге в сторону шоссе. А другая, с тяжелым багажом на крыше, уже ищет себе пристанища среди тенистых сосен, тычется горячим носом в лиловый вереск.
Все время теперь в воздухе стоит какое-то нетерпеливое, то громкое, то приглушенное, то еле слышимое гудение автомобильных и лодочных моторов. И странное дело! Река, на берегах которой живет теперь много людей, наполняющих окрестности своими голосами и шумом всевозможных моторов, река, по воде которой скользят байдарки и яхточки или просто лодки с подвесными моторами, то и дело причаливая к дощатому пирсу или отходя от него, — река эта, переполненная новой жизнью и движением, кажется, как это ни странно, опустевшей и безжизненной. Не колышутся водоросли на течении, не плещется рыба, и лишь когда пронесется, задрав нос, моторная лодка, подняв волны, подточенные берега с накренившимися над водою соснами издают хлюпающие звуки.
Казалось бы, все должно быть наоборот: шумная и веселая жизнь пришла в некогда глухие и тихие места. И какая, спрашивается, польза реке, если она зарастает водорослями? Один только вред. Теперь она чиста и прозрачна до дна, светится на глубинах донным ребристым песочком: купаться в такой реке — сплошное удовольствие. Все тут для человека: и воздух, и вода, и земля.
Нет только самой малости: вольной и нетронутой жизни. Оттого, наверное, и кажется, что висит в сосновом воздухе какое-то томительное, нудное нетерпение, которое не дает покоя человеку, и он опять и опять заводит мотор, едет по мягким песчаным дорогам все дальше и дальше в лес, любуясь с какой-нибудь вершины горы лесными далями, до которых ему не добраться на автомобиле. Или на малых оборотах ведет лодку по реке, впадающей в озеро, и там, на озерном просторе, гонит лодку по темной и упругой волне, которая бьет будто каменьями в дно легкой посудинки, пронизывая ее дрожью, а ездока злобным азартом.
Кажется порой, что человек все время пытается одолеть свое нетерпение, забыться в движении, в шуме встречного ветра и шуме ревущего мотора, будто ему все время чего-то не хватает в райском этом уголке земли. Он и сам не знает — чего.
Может быть, той естественной жизни, которую он вытеснил самим собою, заменив движение волнующихся на течении водорослей движением лодки по воде, шум играющей на зорях рыбы шумом автомобильных и лодочных моторов, свист утиных крыльев собственным голосом и смехом?
Тело отдыхает и нежится на песчаном пляже или в прохладной воде, а душа томится в проклятом нетерпении. Словно бы пришел человек в театр, предвкушая слезы и душевные муки, замер в ожидании, глядя на медленно разводимый занавес, уставился на искусно сделанную декорацию, освещенную цветными прожекторами… А актеры так и не вышли на сцену — действие не началось.
Что-то похожее происходит теперь и на берегах Неволенки: зрителей много, а лицедеев нет.
Стоит кому-нибудь поймать щуку на озере, все сбегаются смотреть, какая она. Ахают, охают, восторгаются, глядя на перламутровое ее тело, на зубастую пасть, на злые остекленелые глаза, и разбегаются в возбуждении, долго помня эту мертвую щуку и рассказывая об удачливом рыбаке как о легендарной какой-то личности.
Вася Мухарёв посмеивается над любопытными, щурит глазки, отмахивается от рассказов, как от комаров.
— Это разве улов? Тут знаешь что раньше было! Тут этой рыбы — гибель было! Эти вот… с ружьями, под водой которые плавают с ружьями… Бывало, идет после своей охоты, еле-еле тащит рыбу. Язей вот таких! Щук! Окуней! Килограммов двадцать тащит рыбы! Переловили, перебили всю рыбу, а теперь-то, конечно, удивительно: щуку поймали. Эх, люди, люди!
Вспоминает, как испугался первый раз, когда увидел на утренней заре какого-то странного человека, не то обтянутого черной кожей, не то голого, который шел по берегу Неволенки, таща по росистой траве рыбу на длинном кукане.
— Это есть кино-то такое, про этого, который с жабрами-то, — весело говорит Вася. — Я и подумал, что это он! Ласты свои и очки несет. Улыбается мне, а я, веришь ты, чуть ли не это самое… с перепугу. Потом-то я понял, конечно. Их потом много тут стало приезжать. Это такой костюм, конечно, на них. А я сначала подумал, что в коже какой-то. Баба местная увидела бы так вот, как я, один на один, умерла бы, свалилась бы — и конец. Как будто не люди.
Ранней весной, пока еще не начался туристский сезон, когда пустынно и безлюдно вокруг, автобус привозит работников базы: электрика, кастеляншу и Васю Мухарёва, который тут как бы исполняет роль всех их, вместе взятых, — он и домики подправляет, он и на пирсе топором стучит, он и лодки красит, конопатя сначала щели и обмазывая их черной горячей смолой. Всем он тут вроде бы заведует, все его знают и даже побаиваются или, во всяком случае, стараются не портить хороших отношений с ним.
Автобус, разгрузившись, разворачивается и уезжает назад. А они остаются втроем готовить базу к приему туристов. Дел всяких по горло! Там, глядишь, стекло кто-то выбил, там крылечко подгнило и покосилось. Сторож — старик из деревни — греется в валенках на весеннем солнце, радуется людям. В сторожке у него тепло и душно пахнет вареной едой.
Электрик, молодой еще парень, лезет в кошках на высокий, посеревший от дождей и солнца столб, который когда-то рос тут зеленой и пушистой сосной, устанавливает там, на верхотуре, мощный динамик, тянет провода, суетится, торопится, словно сгорает в нетерпении без музыки, что-то подключает, что-то перематывает, разматывает, сматывает, копается с магнитофоном в своей комнатешке, именуемой радиоузлом, а когда солнышко начинает желтеть в чистом небе, раздается вдруг в вышине утробный грохот, рвущий весеннюю тишину, заглушающий пение птиц и лягушачье урчание в старицах. Словно бы какой-то страшный великан, проснувшись, прокашливается, хрипит, взрывается приступом басовитого рева.
Что-то не ладится у электрика. Опять лезет на столб, копается в глотке великана, точно прочищая ее от всякой гадости. И снова бежит в свой радиоузел, чтобы на этот раз огласить округу ритмичной музыкой, под звуки которой становится трудно говорить и слышать друг друга.
Вася Мухарёв кричит, электрик кричит, кастелянша, сготовив обед, кричит… Все кричат! Возбужденные и счастливые, весело усаживаются на холодные стулья за холодный стол, на котором что-то вкусно дымится в большой кастрюле.
— Все акей! — кричит Вася, оглядывая веселых своих товарищей: электрика, старика сторожа и Настю, которая как бы женой ему теперь приходится, как бы своя, хоть они и не расписаны в загсе. — Люблю вас всех! — кричит он, предвкушая тепло еды и ожог спиртного, скалясь в искренней и безмятежной радости. — Наедут эти, тогда плохо. А теперь тут хорошо! Свободно! Делай чего хочешь, живи! Сам себе начальник! Это я люблю!
Гремит песня за песней. Слов не разобрать, будто бы все они зарубежные, не наши. Да и какая разница, что́ там за слова. Главное — полная свобода! Пусть орут. С ними веселей. Как в ресторане. Главное, что друг друга хорошо понимают и довольны друг другом.
Обжигаясь, жуют рассыпчатую картошку, заправленную жареным луком со свиным салом, грызут, обсасывают куски неразделенной скумбрии холодного копчения, сваливая в пустую тарелку золотистую кожицу и кости.
Вася Мухарёв криком рассказывает свою историю с этой турбазой молодому электрику, не помня, рассказывал ли парню.
— Они там хотели, — кричит он, махая рукой, — на болоте, на озере-то этом!.. Понял? Там, за городом… А я этому… Эмилю-то говорю… чего вы там в болоте хорошего нашли… Я вам, говорю, такое место покажу, что вы только ахнете. Он за мной машину присылает, черную «Волгу», я сажусь, говорю шоферу: «Поехали!» И с ветерком! Привез Эмиля. Что ты! Он даже не поверил. Говорит, мы тебе памятник из бронзы поставим, твоим именем турбазу назовем. Понял? Вот как все было. Они без меня мокли бы сейчас в болоте. Понял теперь, почему они базу-то эту Мухарёвкой зовут? В честь моей фамилии. Вот так! Ну, будь здоров!
Вася не врет. Базу и в самом деле сначала в шутку стали называть Мухарёвкой, потому что кому-то слово «Неволенка» не понравилось, показавшись уж очень несовременным. А потом люди забыли про шутку и стали меж собою звать эту базу не иначе как Мухарёвка. Официально она называлась «Золотая вешка», а Мухарёвка — как бы подпольная ее кличка, для посвященных.
— Эмиль хороший был мужик! — кричит Вася, оглушенный громыхающей музыкой. — Энергичный! Законный мужик. А эти… — Вася брезгливо морщится, машет рукой. — Эти все… — И, не находя слов, неслышно скрипит зубами, наливаясь брезгливым каким-то мраком и отчуждением.
А в деревне в эти минуты старая мать знает уже, что приехал сын. В мучительном бессилии клянет его вместе с проклятой музыкой, разносящейся над лесом. Весной у нее так болят ноги, что она только по деревне и может ходить, опираясь на палку, и то с долгими остановками, с передышками. Ее не любят в деревне и попрекают Васькой.
Васька редко бывает у нее, боится, как прежде, и избегает встреч. А если она среди лета приходит на базу, прячется, как маленький, и убегает в лес.
Это не всегда ему удается. Он глупо ухмыляется, глядя на разгневанную мать, врет ей в глаза, заискивая перед ней:
— Все некогда, мам. Намедни, думаю, дай-ка к матери схожу, небось соскучилась по сыну. А тут как раз начальство понаехало. Вроде инспекции. Затаскали меня совсем, мам. То им подай, это сделай, то нехорошо, то плохо… Измучился так, что пришлось даже от усталости принять. Что ты, мам! Если бы я хотел, то каждый день был бы пьяным… Знаешь как! Приезжают эти… Ну и это: «Василь Николаич, Василь Николаич…» Как будто я алкоголик! Вот и подумай сама, что бы я делал, как бы я жил, если бы со всеми выпивал? Тут их тыщи бывает за сезон. Да я бы помер давно. Так что не обижайся. И чтобы все акей. Эх, мама, мама, разве я не понимаю тебя! Ты небось думаешь обо мне, что я тут какой-то пьянчуга у тебя стал. А ты вон пойди сейчас и поспрашивай у людей, кто такой Мухарёв Василий Николаевич. Тебе все объяснят. Меня, мам, теперь Васей-то только самые мои хорошие и близкие товарищи зовут, а все другие Василием Николаевичем. Базу и ту Мухарёвкой прозвали. А ты все обижаешься. Ну чего ты на меня так глядишь, как будто я в чем виноват? Не виноват я ни в чем! Это же все на дороге лежало, — говорит он, разводя руками. — Это все государственное. А чего тебе не нравится, мам? Люди хорошие, культурные. Никакого безобразия, ничего такого… Все акей. Другие бы радовались на вашем месте, а вы все как дикие какие. Жизнь кругом! Ну пойдем, я тебя провожу малость, а то у меня дел по горло…
Мать сердито смотрит на сына. Совсем постарел, обрюзг ее Васька, морда стала толстая и красная от вина. Теперь и не поймешь, то ли он пьяный, то ли трезвый. То ли шатается, то ли походка такая стала.
Идут по лесной тропинке, еле заметной в цветущем вереске. Нынче густой туман. Пушистые сосенки кажутся серыми. Тяжелый и хмурый, как невыспавшийся человек, туман затмевает солнце. Большой куст над тропинкой похож на стог сена. Всюду под ногами истлевшие сучья или корни упавших и сгнивших сосен, серые, как гадюки. Страшновато!
— Ты чего в такой день-то пришла, мам? Молчишь, молчишь. Даже обидно, — говорит Васька со вздохом.
— А вот потому! — вдруг начинает с привычной злостью в голосе старая мать. — В хороший-то день убежал бы от меня. А тут поймала за хвост, поглядела, может, в последний раз, какой ты красавец стал. Поймала, как мокрую курицу. Ох, Васька! Нет на тебя палки. Говорила тебе, наказывала: воздержись, — а ты все такой. Ишь воевода какой стал! «Василий Николаевич». Тьфу и растереть! Перед людьми стыдно за тебя. Срам иму на старости лет. А тебе хоть бы что. Поганец ты эдакий.
Говорит, говорит, а глаза сухие. Хоть бы слезинку пролила, Васе легче бы стало: пожалел бы мать, а то и сам бы поплакал вместе с ней. А эта идет, как медведица на задних ногах, и ворчит.
— Люди говорят, ты женился, а я ничего не знаю. Правду, что ль, говорят?
— Врут, — откликается Вася. — Неужели бы я от тебя утаил? Как ты думаешь?
— Ты-то? Ты все можешь.
Когда выходят из леса к полю, мать останавливается и машет на него палкой.
— Иди назад. В деревню не ходи… А то увидят тебя, так поколотят.
И не прощаясь уходит в туман.
А Вася Мухарёв бежит назад по тропочке и рад-радешенек, что избавился от матери.
На турбазе тишина и скука. Серо, как зимой, и зябко. Над Неволенкой, которая черной струей скользит и скользит под туманом, копошатся клочья пара, будто вода подогрета.
Ручная работа
Едешь, едешь, смотришь в окно вагона, а там в глубоком снегу, под белесым небом, по лощинам и по бугоркам бегут и бегут высокие и низенькие островерхие колючие елки. Черноватенькие на белом, одноликие северные наши елочки. Несть им числа! От самой Москвы лес и лес… Поспишь часок, посмотришь в окошко, а там опять те же елки. Даже строчки приходят на ум: «Он еще поспал немножко и опять взглянул в окошко…» Елки!
И так незаметно въезжаешь в Финляндию — те же елки, но уже не наши.
В лесу теперь все чаще глыбятся прикрытые снегом гранитные валуны, то на копешку похожие, то на огромный стог.
Финны добродушно поругивают доисторический ледник, рассказывают о нем с улыбкой: дескать, прошел тот бульдозером по стране Суоми, сгреб всю землю, отвалив ее к югу, а Финляндии оставил только голый камень.
Финны народ молчаливый и суровый — об этом я слышал чуть ли не с детства. Насчет суровости не знаю, Север накладывает, конечно, свой отпечаток на характер людей, а что касается молчаливости финнов, их классической немногословности, то в этом я сам лично убедился чуть ли не в первый же день.
Вышел из гостиницы, уютной и тихой «Урсулы», чуть раньше назначенного часа встречи с переводчицей. Стою смотрю по сторонам. Подходит пожилая женщина и, по всей вероятности поздоровавшись со мной, начинает что-то рассказывать. Говорит очень выразительно, оживленно, с итальянской, я бы сказал, мимикой и жестикуляцией, делясь со мною какими-то впечатлениями, передавая, судя по интонациям, какой-то разговор с кем-то. Слышатся и вопросы в ее рассказе и ответы на эти вопросы: с кем-то она, видимо, о чем-то спорила, что-то кому-то доказывала, а с ней кто-то не соглашался.
Слушаю ее, киваю ей с таким видом, будто бы все мне понятно, хотя, увы, ни слова не знаю по-фински. Говорит и говорит, а я слушаю и молчу, как истинный финн. Ей же вдруг пришло в голову что-то спросить и у меня. Отмолчаться не удалось. Говорю ей с ласковой улыбкой:
— Не понимаю. Простите, но я не говорю по-фински.
Виновато развожу руками, понимая, что теперь она не понимает меня. Но замечаю в то же время, что она не верит мне, что я ее не понимаю. Ей, видимо, очень нужно знать мое мнение о том, что она мне только что рассказала. И, обезоруживая меня, снова спрашивает о чем-то. Я в ответ с трудом ей лепечу что-то по-немецки и по-русски, что-то про язык суоми, что, дескать, к сожалению, не говорю на суоми, решив, что теперь-то ей станет все понятно. Она задумывается на мгновение, смотрит на меня с застывшей на губах недосказанной фразой. Кивает мне неуверенно, догадываясь наконец-то, что я и в самом деле не понимаю ее.
— Я из Москвы приехал. Москва, — говорю я, похлопывая себя по груди. — Русский.
Смотрю на нее с надеждой, что теперь-то она наверняка поймет меня. Она с сожалением кивает, улыбается смущенно и разочарованно: видимо, уж очень ей нужно было с кем-нибудь поговорить, излить кому-нибудь душу — нашелся один, да и тот ничего не понимает. Задумалась, погрустнела. Глаза ее, с резким подрезом верхних век, лучатся серенькой доброй грустью.
— Йа, йа, — произносит она в этой минутной задумчивости. — Йа.
— Да, к сожалению, — говорю я, пожимая плечами.
А она вдруг усмехается весело, машет рукой: а, мол, была ни была! И начинает прерванный свой рассказ. Говорит с еще большим азартом, жестикулирует, кого-то изображает, какого-то напыщенного человека, подражает его голосу, отвечает ему с задором, со скуластенькой усмешечкой, уверенная в своей правоте, обращается ко мне, как бы комментируя диалог, что-то поясняет и опять говорит, говорит, говорит… Я молча слушаю и киваю в знак согласия.
Начало января. Рассветает поздно. Тем более что небо наглухо закрыто серыми облаками, нависшими над мрачноватыми, как гранитные скалы, домами. Из облаков сыплется что-то серенькое и неопределенно холодное: то ли вялый какой-то дождичек, то ли мокрый балтийский снежок. Люди давно уже на работе. Открыты магазины, зазывая прохожих празднично сияющими витринами. В сизых утренних сумерках желтеют окна. Вспыхивают светофоры красным огнем, останавливая потоки машин. Алые угли стоп-сигналов, словно раздуваемые ветром, окрашивают в розовый цвет горячие, конденсирующиеся в холодном воздухе выхлопные газы. Люди, переходящие улицу, торопятся черными тусклыми тенями перед этой сверкающей хромом и разноцветными эмалями огнедышащей лавиной укрощенного металла, урчащего в нетерпеливом ожидании. Светящиеся вагоны трамваев, проезд на которых, кстати, очень дорог в Хельсинки, распахнули дверцы, впуская в свое нутро заждавшихся пассажиров.
Светофоры горят уже желтым светом. Зеленым! Словно вздох облегчения слышится на улице, по которой разгоняются, набирая скорость, автомобили и трамваи.
Моя незнакомка, кажется, заканчивает свой рассказ, с благодарностью кивает мне на прощанье, что-то приговаривая с улыбкой, и торопливо идет по зимнему пестрому тротуару, теряясь среди прохожих.
Хорошо поговорили! Улыбка никак не сходит и с моего лица, никак я не могу ее спрятать.
Первое мое «самостоятельное знакомство!» Это все равно что знакомство с новым городом, в который приехал впервые в жизни, в котором все тебе в новинку, все развлекает тебя, праздного, в общем-то, человека, не знающего языка местных жителей, с укладом жизни которых знаком лишь по литературе. Чувство при этом испытываешь необыкновенное!
Каждый город шумит по-своему, пахнет, движется, возносится своими постройками в небо… Даже ночная тишина, по-моему, в каждом городе своя, особенная, к которой тоже надо привыкнуть. Дело тут, наверное, в том, что в Хельсинки, например, по улицам движутся автомобили иных марок, нежели в Москве. А раз так, то, значит, и шум моторов, рокот выхлопных газов, шумок трансмиссий, запах сожженного бензина тоже совсем иные. Это в былые времена, когда еще не было автомобилей, все лошади мира одинаково цокали копытами по булыжным мостовым, одинаково пахли потом, одинаково ржали. Теперь же путешественник, попавший в чужой город, как бы окунается в своеобразный воздушный раствор, состоящий из незнакомых шумов и запахов, к которым он, конечно же, быстро привыкает, но все-таки… Это как я, впервые приехав в летнюю Прагу, никак не мог понять, чем же так заманчиво вкусно пахнут улицы древнего города, пока не съел жареную шпикачку, приправленную душистой горчицей.
Впрочем, если говорить серьезно, то и сама древность имеет свой таинственный и притягательный аромат, какой источает старая книга или икона.
Сейчас частенько можно слышать выражение «ручная работа». Это означает, что вещь сделана добротно, качественно, пронизана теплом человеческих рук, изготовлявших ее, что она уникальна в своем роде, неповторима, исполнена художественного вкуса. И ценится она, разумеется, гораздо выше той вещи, которая целиком изготовлена на машине или с помощью нескольких машин, хотя… Хотя последняя может служить человеку ничуть не хуже, а может быть, даже и лучше первой. И красотой она может блистать и отделкой, являясь для человека просто необходимой вещью, ничем не заменимой, исполняя какие-то такие функции, которые крайне нужны современному человеку… Таких вещей хоть пруд пруди! Они сами лезут в глаза, предлагая свои услуги. И все-таки…
Ручная работа… Ах, как истосковался современный человек в мире прекрасных и очень удобных, многоэтажных домов, где все, казалось бы, служит ему верой и правдой, все сделано с учетом чуть ли не всех его желаний. Зачем подниматься по лестнице! Есть лифт. Зачем отворять дверцы лифта! Сделаем их автоматическими. Пожалуйста, нажмите кнопку, теперь эту, потом ту… А там вообще не надо ничего нажимать — двери сами распахнутся при вашем приближении. И все-таки…
Когда поднимаешься по старинной винтовой лестнице, по известняковым, стершимся от времени ступеням, опираясь рукой на отшлифованный дубовый поручень, лежащий на чугунной литой орнаментованной решетке, смотришь на стены, отделанные под розовый мрамор искуснейшим мастером, каких сейчас днем с огнем не найдешь, то невольно думаешь, хоть и колотится сердце, опять же о ручной работе, о нетленной ее красоте, ежедневно, ежечасно воспитывающей в человеке вкус и, что очень важно, уважение к кропотливому, талантливому, я бы сказал — сердечному труду человека.
Старая архитектура, старые постройки — это тоже ручная работа. Даже если здание не отличается особым стилем, не являясь архитектурным памятником какой-либо эпохи, а просто хорошо и прочно, красиво построено. Ручная работа! В прямом и переносном смысле.
Мне лично это хорошо понятно, потому что было время, когда я работал лепщиком-модельщиком, то есть делал лепные украшения, лепнину. Хорошо ли, плохо ли делал — другой вопрос. Конечно, не всегда получалось так, как хотелось: что-то ускользало вдруг из-под пальцев, какое-то необъяснимое и загадочное чувство формы вдруг изменяло тебе, и никакие усилия не помогали тогда. Ты заканчивал работу, сдавал архитектору, автору проекта, какой-нибудь фриз, вылепленный в глине, архитектор со вздохом принимал, не находя видимых причин быть недовольным работой, но… Глиняная модель превращалась в гипсовую, с гипсовой, в свою очередь, снималась кусковая форма, и по фасаду новенького здания устанавливался цементный фриз, который тебе не удался, которым ты очень недоволен, как может быть человек недоволен самим собой, словно бы в этом фризе не удался ты сам, не получилось твое движение, пластика твоей души, словно бы ты, работая над этим фризом, зря прожил те дни, в которых ты, мастер, не отразился в своем изделии, не сообщил ему тепла своей крови и пульсации живого сердца.
Как установить грань, где кончается ремесло и начинается искусство? Или, может быть, нет этой грани? А может быть, вопрос надо ставить иначе: где кончается необузданное воображение, стихийное творчество и начинается великое, облагораживающее дикий камень ремесло? Впрочем, вряд ли кто-нибудь из смертных задумывался об этой последовательности, остановившись перед храмом Василия Блаженного на Красной площади или перед собором Парижской Богоматери…
Великое множество можно было бы привести примеров, когда восхищенные красотою люди забывали не только о грани между ремеслом и искусством, но и о самих себе. О чем тут говорить! Это только праздный человек, который вроде меня приехал в незнакомый город на несколько дней с неопределенными, в общем-то, целями и задачами, может позволить себе подобные размышления. Да и то лишь вспомнив свое далекое, как детство, прошлое. Кисловатое благовоние серой глины, пресный запах влажного, теплого, еще греющего гипса, под белой коркой которого скрылась ветвь волнующегося лавра, перекрещенная с ветвью дуба, или струящийся, обволакивающий плоскость знаменитый акантовый лист, без которого не обходится ни один орнамент, если орнаментом нужно выразить сочность и живость окаменевшего движения, подчеркивающего монументальность стены или, наоборот, ее легкость и воздушность… Все это только что жирно лоснилось, изваянное в серо-зеленой глине, а теперь вот ушло под гипс, который, схватившись, передаст в зеркальном изображении все мельчайшие подробности глиняного изваяния, будь то отпечаток пальца с тончайшим узором кожи или штрих пальмового стека, гладкого и теплого, как отшлифованная кость.
Формовка! Начало долгого и кропотливого превращения непрочного глиняного орнамента в гипсовую модель, похожее, может быть, на превращение мохнатенькой гусеницы в нелепую куколку, из которой в один прекрасный момент вылетает на свет божий роскошная бабочка, исполненная грации и удивительного изящества. Все так же хрупко, нежно, непрочно и… Все так же прочно и уверенно, как уверена в себе истинная красота, как прочна и неистребима сама жизнь.
Далекая и в самом деле полузабытая, как детство, жизнь: учеба в художественно-промышленном училище, работа в лепной мастерской… Неужели это было? Тесные, заляпанные высохшим раствором леса оштукатуренных фасадов, нависшие карнизы. И ты где-то на этих лесах устанавливаешь на фасаде какую-нибудь лепную вставку или крепишь под балконом пустотелый тяжелый кронштейн! Стеки, скарпели, клюкарзы, царапки… Странно звучащие и, увы, тоже полузабытые названия инструментов, которыми я когда-то работал в глине и гипсе. Всевозможные долотца маленькие и большие, лопаточки, предназначенные для обработки гипсовых отливок, множество всевозможных приспособлений, помогающих в работе.
Ну и, разумеется, друзья, с которыми пролетела молодость…
Нет, не только годы раскидали нас и не индустрия, которая вторглась в строительство, отбросив как хлам и старье всевозможные орнаменты, розетки, гирлянды, капители и прочие архитектурные излишества, как стали называть лепнину. Сказалась, видимо, художническая натура: каждый ушел добывать себе хлеб и славу в одиночестве. Слышал я, один из моих друзей что-то делает теперь на керамической фабрике, другой стал администратором, занимаясь организацией художественных выставок, третий ушел в реставраторы, четвертый… О четвертом я мог бы сказать — пропал для меня без вести.
Мастер он был отменный, жадный до работы и очень трудолюбивый человек. Где он теперь — не знаю. Он работал лучше всех нас, вместе взятых, был очень талантлив и, как истинный мастер, трудолюбив.
Лепные работы в те годы нужны были всюду. Даже в Сибири. Помнится, он на меня, ездившего в Сибирь, смотрел с ленивой какой-то усмешечкой. «За длинным рублем гонялся? — спрашивал он так, будто бы я был идиотом, не умеющим жить, и, не дожидаясь ответа, презрительно добавлял: — Всех баб не перецелуешь и денег всех тоже не заработаешь».
Признаться, я иногда завидовал ему: все у него было прочно в жизни, основательно и надежно, всегда у него были деньги, всегда он хорошо одевался и, как говорится умел жить.
Я же метался тогда в каких-то неопределенных мечтаниях, спорил с архитекторами, с начальником мастерской, мог ударить со злостью по не оконченной в глине работе, смять все к черту и начать заново, будто это не гирлянда какая-нибудь была, а портрет любимого человека, который мне никак не удавался, будто не было у меня сроков сдачи работы и нужды в деньгах, будто я был свободным художником, а не ремесленником, работающим по нарядам.
Надо сказать, в те годы мне приходилось делать все: лепить, переводить в гипс глиняную модель, формовать, а иногда даже устанавливать отливки на место. И теперь, когда я проезжаю мимо некоторых зданий в Москве, сердце нет-нет да и екнет, когда на фасаде старого уже дома увидишь вдруг свое собственное изделие — слеповатое от многих покрасок и, может быть, даже аляповатое, неуместное с точки зрения элементарного вкуса, как, например, стилизованные снопы, установленные на крыше жилого дома, похожие с земли на какие-то нелепые тумбы. Но что ж тут поделаешь! Это уж на совести архитектора такие ляпы, а дело лепщика простое: хорошо лепить.
Но хватит! Воспоминаниям этим нет конца и края. Обойдемся как-нибудь без них, тем более что в то утро, в тот рассветный час зимнего дня, когда я так мило «поговорил» с незнакомкой на улице, я был так далек от этих воспоминаний, что было бы бесчестно приписывать себе эдакую ностальгию по себе самом, по тому юноше, который когда-то легко взбирался по настилам лесов на восьмой этаж, под тяжелый карниз, легко, как кошка, ходил по краю толстой стены, легко прыгал через какие-нибудь проемы недостроенных окон, не боясь высоты и даже не задумываясь никогда о том, что такое вообще бояться и не бояться.
В то хельсинкское утро я жил странной сиюминутностью, которая всегда охватывает человека при первом знакомстве, будь то знакомство с городом или с человеком. В городе живут люди, которые построили его, ухаживают за ним, любят его, любят друг друга в этом городе, рожают в его стенах новых жителей, знакомятся в его домах, встречаются на его площадях и улицах, уезжают из этого города, скучают вдали от него и с радостью возвращаются в его каменные чертоги или деревянные домики, парятся в саунах, спят, работают, отдыхают, ругаются и мирятся, смеются и плачут, зарабатывают и тратят деньги… Конечно же, город отразил в себе характер людей, живущих в нем, как отразился и он в глазах и душах его исконных жителей. Конечно же, это единый, очень сложный и живой организм, понять который и рассказать о котором можно, лишь долго живя в нем, разглядывая его исподволь и как бы между прочим, не задаваясь целью познать его особенности, не мучая себя обязательными наблюдениями, записками, вопросами и прочее и прочее. Но даже и при этом обстоятельстве еще неизвестно, получится ли интересный рассказ о городе. И все-таки…
Все-таки у путешественника, заглянувшего в город всего на каких-нибудь десять — двенадцать дней, есть одно преимущество. У него не успевает за этот короткий период времени выработаться привычка к городу. Он смотрит на него новыми глазами любопытного человека и порой замечает то, что местный житель привык не замечать, слышит то, чего не слышит исконный житель. Поэтому мне, например, всегда было интересно читать путевые заметки о Москве, увиденной глазами иностранца, который приезжал или приехал в мою столицу, конечно же, с добрыми чувствами.
Сам я коренной москвич, все мои деды и прадеды похоронены на московских кладбищах и, признаюсь, самому мне кажется иногда, что я имею право порой обозлиться на свой огромный, шумный, многолюдный город, бежать из него без оглядки куда-нибудь в лес или на реку, в тишину и покой. Иногда мне кажется, что я заслужил право на эту, так сказать, ссору с ним, без которой вряд ли обходится хоть одна истинная и страстная любовь вообще.
Но когда мой город не любят, не утруждая себя попыткой понять его, предвзято оценивая все то доброе и сердечное, что таит в себе мой древний и славный город, тогда во мне просыпается вдруг такая ревность, такое острое чувство оскорбленного достоинства, что я долго не могу успокоиться и прийти в себя от этой неслыханной дерзости заезжего скептика, будто бы он оскорбил не город мой, а мою старую мать, которая неспособна сама отомстить за это оскорбление, призывая меня на помощь.
Вот такой странной любовью люблю я свой город, в котором родился и вырос, из которого уезжал и в который возвращался…
Я думаю, эти чувства понятны всем. Понятны жителям Хельсинки и Парижа, Праги и Будапешта, как понятны они жителям маленьких сел и деревень, поселков и городков. Каждый житель имеет право плохо отозваться о своем собственном городе или деревне, любя свой город или свою деревню, но никто из уважающих себя людей не может, не имеет права на пренебрежительное отношение к другому городу или к другой деревне, потому что это равносильно пренебрежению к другому народу, построившему тот или иной город, чтобы вечно жить в нем. А уж это совсем никуда не годится! Нельзя же, будучи в здравом рассудке, не любить тот или иной народ! Это нелепость. Если не полная деградация, ведущая бог знает куда.
Естественно, в Хельсинки я приехал с чистой и нежной любовью.
Пожалуй, мало найдется народов на свете, у которых так остро, как у русского человека, развито чувство соседства. У нас даже поговорка старая есть: выбирай не дом, а соседа. Есть и ласкательное словечко «соседушка». «Здравствуй, соседушка», — чуть ли не каждый день говорит мне, например, при встрече мой хороший приятель, живущий в одном доме со мной. Другие жалуются: соседи попались плохие. Стало быть, и жизнь не в радость.
Для доброго соседа русский человек готов в лепешку расшибиться, лишь бы угодить, лишь бы доказать на деле свою любовь к нему. Сосед в жизни моего соотечественника занимает очень важное место. К соседу идут за советом или за помощью, занимают у соседа или дают в долг соседу деньги, оставляют друг у друга детей, когда сами уходят в гости или в театр, угощают домашним вареньем или солеными груздями и даже за стульями бегут к соседям, если собралось вдруг много гостей, которых не на что усадить.
Из глубины веков тянется эта добрая надежда на хорошего соседа у русского человека, став его извечной привычкой, душевной какой-то потребностью жить в ладу со своим соседом, которого порой он чуть ли не за родного человека готов считать. А то и родней родного становится иной сосед, который выручил когда-нибудь в недобрый час жизни советом или делом. Нельзя, по-моему, до конца понять русского, если не учесть врожденное его чувство особенной любви к соседу, его веру в соседа, к которому он всегда готов, даже жертвуя собой, прийти на выручку и не дать в обиду. Чувство это с молоком матери входит в нас всесильным властелином.
Ах, Хельсинки, Хельсинки! Чем же ты пленил меня? Влажный и холодный ветер с Балтики не остудил мою душу, сизые поздние рассветы, низкие облака, из которых чуть ли не каждый день сыпался мелкий снежок пополам с дождем, всякий раз пробуждая во мне радость, будоража мои жизненные силы… Почему же я чувствовал себя так, будто все эти дни, проведенные в Хельсинки, были щедро подарены мне судьбой и не засчитывались, не выстраивались в череду быстротечных дней моей жизни, а как бы даны были сверх положенного мне богом и судьбою срока?
Ответ может быть один: удивительное, нежное, трепетное какое-то гостеприимство хозяев города, его жителей и тех добрых людей, которые окружили меня заботой и которые стали моими друзьями.
Я не ошибусь, если скажу, что финну тоже присуще острое чувство добрососедства, о котором я уже говорил.
Во всяком случае, в горячем гостеприимстве финнов я убедился на собственном, очень приятном, опыте.
Так уж случилось, что день моего рождения выпал на то время, когда я жил в теплой и очень чистой, нешумной гостинице «Урсула», где я каждое утро завтракал в буфете почти в домашней обстановке. Это такая редкость в современных отелях, что я считаю нужным упомянуть об этой, казалось бы, мелочи, потому что обстановка тихого домашнего уюта, с какой начинается день, во многом влияет на твое дальнейшее настроение.
Наступило однажды и то утро, когда я родился, то есть сорок девятое для меня январское утро, предвещавшее на сей раз хороший зимний день с неярким солнышком и легким морозцем.
Позавтракал, вернулся в номер, и вскоре, как всегда точно в назначенное время, раздался стук в дверь: то пришла за мной моя переводчица, которую звали… Ну, допустим, Катрин Вайненен. Она укутывала свою милую головку русской павловской черной шалью с пламенеющими розами, сама была похожа на русскую, и с ее позволения я звал ее Катенькой.
Я отворил дверь и удивленно ахнул.
У порога стояли мои славные и добрые друзья, вспомнившие о моем дне рождения: Кристина Порккала, Катрин Вайненен, Йоуни Апаялахти. Была тут и таинственно-молчаливая Пулма, никогда не расстававшаяся с фотоаппаратом. Я бы даже так сказал о ней: сначала я видел яркую, ослепительную вспышку блица и уж только потом улыбку Пулмы, которая как сказочная волшебница появлялась вдруг из этой молниевой вспышки.
Но на этот раз они стояли в коридоре у порога моего номера, улыбались, протягивая мне живые гвоздики, и что-то радостное пели, глядя на меня.
Потом я узнал, что в песенке, которой в Финляндии принято поздравлять с днем рождения, были, между прочим и такие слова, запавшие мне в душу и до сих пор пробуждающие всякий раз нежное и какое-то улыбчивое чувство благодарности: «О юноша! — пели хорошие эти люди. — О юноша! (Это мне-то!) Ты, как прекрасный цветок, распустился на зеленой лужайке…»
Примерно такие слова пели они, придя ко мне ранним утром, чтобы поздравить с днем рождения.
Это было так неожиданно и так трогательно, что я их всех расцеловал, а сам почувствовал себя пускай и не таким уж юным и не очень уж похожим на прекрасный цветок, но зато помолодевшим лет на пятнадцать и счастливым.
Потом был солнечный, голубовато-дымчатый день, было свободное время, прогулка в предместья Хельсинки…
Катенька спросила у меня, когда мы возвращались в Хельсинки, летя по автостраде в черном «мерседесе»:
— Где мы сегодня будем обедать? Где ты хочешь? Давай поедем в русский ресторан. Это хороший ресторан. Там русская кухня, тебе будет, наверное, приятно. Да? — спрашивала она с искристой своей улыбкой на разрумянившемся лице, произнося это вопросительное «да» не на выдохе, как говорят все люди, а на каком-то очень легком и певучем вдохе. Она вообще отличалась этой особенностью — произносить некоторые слова на вдохе, говоря быстро и как бы все время впопыхах, с какой-то постоянной озабоченностью. Ей как будто не хватало дыхания и она торопилась успеть все сказать, как бы захлебываясь от восторженного удивления и радости. — Да! — говорила она, вдыхая в себя это милое «да», придающее ей столько таинственности и обаяния, что я не мог без улыбки и восхищения слушать ее.
— Да! — отвечал я ей, пытаясь подражать, хотя у меня ничего не получалось из этого. — Да! Поедем в русский ресторан.
Приезжаем. Ресторан называется «Шашлык».
— Катенька, почему «Шашлык»?
— А-а! — шутливо и весело отмахивается она. — Финны думают, что это русское блюдо.
Садимся за столик. В окнах цветные витражи. Знакомая какая-то музычка звучит откуда-то, словно сами стены чуть слышно звучат под сурдинку. Прислушиваюсь к словам и к мелодии и узнаю песню… Сейчас не помню точно, но, кажется: «Ведь с нами Ворошилов — первый красный офицер, сумеем кровь пролить за СССР…»
Опять Катенька смеется, откидывая на плечи черную шаль.
— Финны не понимают… Они думают, это ваша русская народная песня.
А на стене вдруг вижу портрет Владимира Ильича Ленина, память о котором свято чтут в Финляндии.
Это был самый удивительный день моего рождения!
Вечером я звонил в Москву, разговаривал с женой, признаваясь ей в нежной любви к Катрин Вайненен и Кристине Порккале, которые тоже разговаривали с моей Леной, поздравляя ее с новорожденным. А Лена по телефону из Москвы говорила Катрин и Кристине, что она их тоже, как и я, очень и очень любит.
Мой беззаботный и легкомысленный день рождения пролетел как вдох и выдох, а наутро я проснулся с легкой душой и новой уверенностью, что, может быть, на сей раз мне повезет и я с помощью Катрин найду того, кого уже искал довольно долго, — моего коллегу по прежней профессии.
Я, конечно же, не рассчитывал познакомиться с лепщиком, который делал бы лепные модели для новой архитектуры. Такого быть не могло. Новые кварталы Хельсинки хоть и отличаются безукоризненным качеством построек, но похожи на все новые кварталы, которые я каждый день вижу в Москве, видел в Париже или Праге, в Будапеште или Берлине… Лепные работы не для них.
Но все-таки должен же где-то в Хельсинки работать реставратор лепных работ!
Все мои новые друзья, когда я обращался к ним с просьбой познакомить меня с реставратором, тоже были уверены, что такой существует в их городе, но найти его мы никак не могли.
Кстати, надо сказать, что Катрин Вайненен не простая переводчица, помогавшая мне знакомиться с Хельсинки и его жителями, нет! Ее талантливому перу принадлежат многие прекрасные переводы из русской и советской поэзии. Мне рассказывали о ней, что когда она была в Советском Союзе и читала по-фински свои переводы стихов разных русских поэтов, то люди, слышавшие эти стихи, но не знавшие финского языка, сразу же по мелодике стиха, по ритму узнавали авторов — так точны и музыкально-отчетливы были переводы Катрин Вайненен.
Меня вообще окружали очень достойные и уважаемые люди. Кристина Порккала — до конца преданная делам дружбы Финляндии и СССР, Пулма — ее сотрудница и помощница, Йоуни Апаялахти — директор департамента культуры, добрейший и благороднейший человек, у которого прелестные образованные дети и очаровательная супруга, занимающаяся живописью и умеющая готовить такие вкусные блюда, что я до сих пор облизываю, как говорится, пальчики, вспоминая гостеприимный их дом.
Мне очень повезло. У меня просто не хватит места, чтобы перечислить всех, кто оставил в моем сердце добрый и нежный след искреннего уважения и дружбы.
Да, так вот о мастере — реставраторе лепных работ, которого мы никак не могли отыскать в Хельсинки.
Я и сам был бы очень удивлен, если бы меня сразу же повели в мастерскую, где он, воображаемый мною мастер, работает. Я был уверен, что плачевное состояние этой прекрасной профессии — дело всемирное. И не ошибся.
Не ошибся и в том, что жители страны Суоми, как и мы у себя на родине, как, впрочем, и все думающие люди планеты, ломают копья, доказывая необходимость сохранения старой архитектуры, разумного и гармоничного сочетания старого и нового, ругают современных архитекторов, которые на месте снесенных старинных особняков возводят безликие и унылые дома.
Надо, правда, отметить существенную разницу в этом больном вопросе. Так, например, если в Хельсинки сносится старый особняк, а на его месте вырастает небоскреб, который выгоден хозяину, то этому никто не в силах помешать. В Москве же сейчас, например, вынесено Моссоветом решение во что бы то ни стало сохранить в центре города все особняки и старинные здания. Решение это соблюдается и, надо полагать, будет строго соблюдаться и впредь. Это, конечно, очень серьезное различие между нашими городами. Хотя и в Москве потеряно уже так много уникальных строений древности, что плакать хочется, когда подумаешь об этом. Споров и разговоров об этом еще очень много, масса разных точек зрения. Я даже слышал однажды в московском доме в кругу образованных людей такое выражение, которое меня странно как-то покоробило. Не помню, о чем конкретно шел тогда шумный спор, но помню, что кто-то поставил в пылу полемики такой вопрос: «О какой красоте мы сейчас говорим? О функциональной или абстрактной?» — как будто понятие красоты можно разделить на эти составные части.
В заумных этих и пустопорожних спорах мы прозевали, упустили из виду одну чрезвычайно важную и необходимейшую профессию, отмахнувшись от нее как от устаревшей и безвозвратно ушедшей в прошлое. Старые мастера, которые могли бы обучить своему ремеслу, уже умерли, те же, кому повезло приобрести в свое время навыки этого мастерства и знание его тончайшей технологии, ушли, как правило, в другие области прикладного искусства. А сколько в одной только Москве можно насчитать ценнейших архитектурных памятников, украшенных обветшавшей уже лепкой, требующих, пока еще не поздно, немедленного вмешательства опытных мастеров-реставраторов, которые смогли бы возродить, увы, тленную эту красоту! Сколько таких зданий в других древних столицах и городах мира!
Заходим с Катрин в Художественно-промышленный институт в Хельсинки. Процветает керамика! Есть изумительные мастера и талантливые ученики. За керамику можно быть спокойным. Спрашиваю у преподавателей, у мастеров про архитектурную лепку, про своих коллег…
— Нет, такого факультета у нас нет. Был когда-то, — вспоминает пожилая художница. — Я помню, что раньше у нас это было, а теперь нет. И вообще трудно. Нет мастерских. Никак не могут построить, работаем и учим студентов в разных зданиях.
И никто не может назвать ни одного живущего в Хельсинки мастера исчезнувшей профессии. Грустно, конечно.
Вдруг узнаем, что в Студенческом доме работает какой-то мастер… Не верится, но едем туда, а по дороге Катрин рассказывает печальную историю этого очень красивого некогда здания, которое горело и которое студенты реставрировали собственными силами, на голом энтузиазме, хотя некоторые фрески сгорели и восстановить их не удалось. Мастеров-альфрейщиков теперь тоже не готовят современные училища, и думаю, что тайна фрески тоже теперь известна считанным людям на планете.
Надо и здесь торопиться. В Художественно-промышленном институте, кстати, сказали, что в будущем лепные мастерские тоже будут на факультете, как и керамические. Дай-то бог.
Студенческий дом и в самом деле красивое и нарядное здание. Работа, которую сделали студенты, достойна всяческого уважения, не говоря уж об энтузиазме молодых людей.
Наконец-то мы видим мастера! Рыжеватый блондин в спецовке тонирует под искусственный мрамор стены лестничного пролета. Делает это с большим искусством, растирая масляные краски на плитах стены с той игривой непринужденностью, какая свойственна истинным профессионалам. Не работает, а наслаждается жизнью! Розовато-бежевые прожилки искусственного мрамора трудно отличить от естественных прихотливых цветовых извилин натурального камня.
Разговорились. Мастер этот родом из Австрии, учился своему мастерству в Италии, живет сейчас в Хельсинки, говорит по-фински. Хорошо и добродушно улыбается в пушистые свои бакенбарды, спускающиеся от висков чуть ли не до уголков сочных розовых губ. О лепщиках тоже ничего не знает.
Говорю ему, что есть другой метод тонирования мрамора, когда в заведенный, как говорят на своем профессиональном языке лепщики, гипс добавляются краски и слегка размешиваются в нем. Из этого разноцветного гипса отливают на стеклянной поверхности плиты, которые несут в себе зеркальный блеск полированного мрамора с цветными прожилками, получающимися из не промешанных в гипсе красок, из их случайных и словно бы природных завихрений, оставшихся в схватившейся и отвердевшей отливке. Согласно и вежливо кивает. Слышал о таком способе, но сам им не владеет. Тоже вежливо киваю ему на прощанье, желаю успеха.
— Да, да! — вздыхает Катрин. — Да! Но ничего. Мы сегодня поужинаем в «Космосе», это у нас такое есть артистическое кафе, где собираются художники, артисты, поэты… У меня там много знакомых. Нам обязательно помогут. Мы найдем твоего мастера. Да! Не расстраивайся.
Катрин Вайненен тут свой человек. Перед ней распахивается закрытая дверь. В гардеробном закутке навалом лежат пальто и шапки, не уместившиеся на вешалках. Мы добавляем к ним свои и входим в туманно-желтый зал, битком набитый людьми, в котором нет ни одного свободного местечка.
Но не для Катрин Вайненен. Кто-то потеснился, кто-то откуда-то принес стул… Катрин то и дело здоровается, отвечает на приветствия, светится радостью и веселой озабоченностью.
— Тебе нравится? — спрашивает у меня. — Тут очень хорошо, — добавляет с уверенностью, что мне просто не может не понравиться тут.
— Да, конечно, — отвечаю я, оглядываясь и привыкая к нестройному гомону голосов и взрывам хохота, к многолюдью, к лицам знакомых Катрин, приютивших нас за своим столиком, мимо которого проходит вдруг ослепительно большая и очень стройная, похожая на ожившую Венеру Милосскую красавица. Высокие скулы ее разрумянились от тепла и веселья.
— О! — говорит Катрин. — Тебе очень повезло! Если мы не найдем, то это тоже… это прекрасный наш мастер… Она знает керамику. Это известная наша художница. — И окликает красавицу, представляя ей меня.
Царственно протянутая рука, очаровательная улыбка, блеск верхних зубов… А я своей рукой успеваю почувствовать источенную гладкую кожу на подушечках длинных пальцев, какая бывает у людей, работающих в глине. Кожа как бы стирается и шлифуется с годами, приобретая особую чувствительность и шелковистость. Красавица что-то говорит Катрин.
— Ах, какая неудача! — переводит она мне. — Ты понимаешь, тебе опять не повезло! Она завтра уезжает в Ленинград.
Красавица томно возводит к небу глаза и на ломаном русском произносит:
— Ленинграт. — Смотрит на меня, потом опять долу. — Люповь! Ленинграт…
— Я вижу по вашей руке, — говорю я, а Катрин тут же переводит, — что вы хороший мастер. У вас руки мастера. Это очень приятно… Если и керамика ваша так же красива, как и вы сами, то это… вообще редкость. Такое редкое сочетание. Красота рождает красоту…
Катрин с каким-то особенным удовольствием переводит ей мой неуклюжий комплимент, а красавица смотрит на меня волоокими глазами, пламенея чуть припухшими жаркими скулами, и говорит опять:
— Люпо-овь!
На сей раз я, признаться, не понял, к кому это относится — ко мне или к Ленинграду. Но она тут же развеивает мои сомнения.
— Ленинграт! — говорит она и, пожав мне на прощанье руку, уходит — высокая, белокурая и неправдоподобно красивая.
— Катенька, — смущенно говорю я, усаживаясь опять за столик, — я же ничего не понимаю в керамике!
— Да, да! — говорит Катрин на вдохе. — Но ничего. Ми найдем тебе твоего мастера, не расстраивайся. Мне уже обещали узнать…
На следующий день Катрин опять спрашивает меня, понравился ли мне «Космос», и рассказывает, как опечалены, как грустят завсегдатаи этого кафе.
Хозяйка «Космоса» продает свое заведение, потому что городские власти потребовали, чтобы в кафе была сделана вентиляция. Это слишком дорого обойдется хозяйке. У нее нет столько денег. Вот она и решила продать.
— Представляешь себе! Это наше любимое кафе. Мы всегда здесь встречаемся. И сюда не пускают просто с улицы. Тут не бывает посторонних… Ты сам видел, какая тут непринужденная и веселая обстановка… А если она продаст кафе, то все это рассыплется… Будет обычное кафе или ресторан. Я не знаю. Мы очень все расстроены.
Расстроена в этот день и Катенька, хотя и старается не показывать виду. Мы прогуливаемся пешочком по улицам Хельсинки, и я, идя с ней рядом, забываю вдруг о том, что она финка. Идет рядом со мной разрумянившаяся на холодном ветру, очень милая русская женщина, укутав голову черной шалью с алыми розами. Глаза уставились в одну точку и кажутся какими-то поверхностно-веселыми, хотя в глубинах чувствуется печаль.
Грущу и я. Всего-то мне остается пробыть в Хельсинки два денечка — сегодня и завтра, а послезавтра пора домой.
Мастер мой так и не нашелся пока, хоть Катрин с каким-то завидным оптимизмом уверяет меня, что мы обязательно разыщем его. За эти несколько дней я так привык к этой женщине, как можно, наверное, привыкнуть только к человеку, без которого просто невозможно жить в иноязыком городе, нельзя общаться с людьми, понимать их и быть понятным. Она мой верный поводырь, мой язык, мои глаза, уши — она частичка меня самого. И мне кажется, что она устала со мной. Я ласково спрашиваю ее об этом.
— Нет, что ты! Я не устала… Мне очень интересно! Я даже благодарна тебе, потому что без тебя мне вряд ли удалось бы познакомиться с Вяйне Линной. Это было мне очень приятно! Это все равно что познакомиться с вашим Шолоховым.
Да, это действительно была приятная встреча, приятное знакомство. Скромный, похожий на рабочего, талантливый писатель Финляндии, с которым я провел несколько минут и с которым мы обменялись мыслями о спектакле по его роману, произвел на меня огромное впечатление. Я сначала никак не предполагал, что жму руку известному писателю, ища глазами Вяйне Линну среди собравшихся в антракте гостей, пока не понял, что передо мной не кто иной, как он сам.
— Нет, нет! — говорят Катрин, веселея у меня на глазах. — Я просто задумалась. Случайно.
Но я вижу, что какое-то облачко закрыло ее от меня — где-то она далеко от общих наших забот.
— Сейчас мы прошли мимо дома… вон тот, — показывает она на обычный жилой дом, каких много в Хельсинки, — где я жила со своим мужем. Он поэт и влюбился в молодую актрису… Это ничего! Не обращай внимания. Он иногда до сих пор звонит мне по ночам и говорит пьяным голосом: «Когда мы с тобой встретимся?» А я ему отвечаю: «Потом, потом»… Но этого «потом» не будет, я знаю. Я не понимаю только одного! — восклицает Катенька удивленно. — Я когда прохожу мимо своего дома, то обязательно, конечно, смотрю на окна… И можешь себе представить! Они с ней живут уже два года, но до сих пор не сменили занавески на окнах! Как это можно?! Висят на окнах мои старые занавески, а за ними живет мой бывший муж с новой своей женой. Это ужасно неприятно. Я понимаю, что это глупо, но меня это просто удивляет! Значит, они ничего не сменили… Он живет с ней так же, как жил со мной, а в комнатах та же мебель… И ты знаешь, когда он звонит пьяный по ночам, я вижу кресло, в котором он сидит, вижу наш телефон, вижу всю обстановку. И вот что странно! Все это хорошо вижу, а его самого не вижу. Это удивительно. Он талантливый, но бестолковый человек… Ты знаешь, чем он сейчас занимается? Он в дрейфе… У нас так говорят, когда человек потерял управление и его несет по житейским волнам и ветру. Знаешь, он летает теперь на воздушном шаре, пьет водку и сочиняет там, в корзине, стихи…
Я не понял Катеньку, решив, что это тоже какое-то иносказание: воздушный шар, корзина.
— Нет, нет! Настоящий воздушный шар. Это сейчас модно у нас.
И мы засмеялись. Я весело, а Катрин Вайненен… Впрочем, кажется, тоже весело.
Теперь, оглядываясь назад и вспоминая Катрин Вайненен, я начинаю думать, что в ней, в ее облике и внутреннем ее мире, собралось волею судеб множество характерных черт жителя, или, вернее, жительницы, столицы Финляндии. Она, по-моему, типичная представительница той женской части культурной интеллигенции, которой так богата, например, нынешняя финская литература.
В Финляндии очень много женщин, пишущих прозу, не говоря уж о поэзии. Хотя надо сказать, что некоторые из них умудряются делать и то и это, плюс еще успевают справляться со всеми домашними делами, которые возложены на женщину. Эти удивительные создания с отчаянной храбростью расправляются со всеми делами, оставаясь женственными и милыми существами, как будто написать роман для них так же легко и просто, как связать мужу свитер, а может быть, даже и того проще. Меня это всегда удивляло и удивляет, и я, надо сказать, относился и отношусь к этой легкости и универсальности с некоторым недоверием и ревностью. Мне кажется порой, что они слишком рьяно взялись за дело, эти милые и обаятельные сочинительницы, тесня мужчин и требуя себе все новые и новые жизненные, так сказать, пространства в области литературы. Я думаю, что пришла пора проявить мужчинам свой характер, а то как бы не превратилась литература, а проза в частности, в чисто женское дело.
Я было попытался дать бой, отстаивая права мужчин на прозу, но был сражен женщинами-беллетристами.
В Катрин Вайненен тоже, конечно, живет этот бесенок соперничества с мужской половиной рода человеческого, она во многом преуспела, и дай бог ей сил преуспевать и дальше. Но в отличие от некоторых ее подруг-писательниц в ней уживается вместе с этим бесенком трезвое и мудрое женское начало: она умеет, а точнее сказать, несет в себе такой запас мягкого и чистосердечного юмора по отношению к своим литературным занятиям, так мило отмахивается от расспросов, от моего любопытства, отделывается скороговорочкой, отвечая на мои вопросы о ее собственном труде, что с ней не страшно думать и мечтать о будущем наших литератур. Когда разговариваешь с ней о прозе, то она как бы сама подводит тебя к вере, что будущее, конечно же, за писателями-мужчинами, хотя бог ее знает, что она думает при этом о нашем брате-литераторе. Но и за то уж ей спасибо. Я совсем было приуныл, когда меня окружили женщины-писательницы. Мне даже показалось вдруг, что я всю жизнь занимался чуть ли не женским делом, пиша свои рассказы и повести. Спасибо Катрин Вайненен, которая вывела меня из этого грустного состояния.
Шутить мне оставалось все меньше и меньше времени. Мне пора уже было собираться в дорогу домой, как вдруг…
Впрочем, я вспомнил еще об одной особенности, которая мне бросилась в глаза и которая, наверное, имеет отношение к моему шутливому рассказу о женщинах, пишущих прозу.
Как-то раз мы сидели, занятые разговором, за столиком в кафе, за которым собрались знакомые Катрин, и один из присутствующих, мельком взглянув на часы, поднялся, что-то сказал Катрин, откланялся и ушел. А Катрин мне объяснила:
— Он очень извиняется, но ему пора домой. У них ребенок. До этого часа с ним сидела жена, а теперь будет сидеть он, а жена пойдет вечером в кафе, у нее там какая-то встреча. Она будет отдыхать, а он будет сидеть с ребенком. Поэтому он ушел. Он и так уж опаздывает.
Своеобразные эти дежурства возле ребенка, конечно, освобождают женщину. Но я как-то сразу перенес все это на нашу почву и подумал, что я бы свою жену ни в какое кафе вечером ни за что бы не отпустил! Нет! Какое кафе? Зачем?
Потом я не раз наблюдал такие вот неожиданные уходы людей на дежурства и всякий раз провожал недоуменным взглядом женщину или мужчину, которые шли сменять друг друга.
Вот такая странная и мне не очень понятная ситуация складывается, а вернее, уже сложилась в жизни современной финской семьи, в которой есть дети. Хорошо это или не очень — не берусь судить.
Но одна очень славная женщина, прекрасно говорящая по-русски, которую я успел полюбить как хорошего друга, тоже поднялась однажды, взглянув на часы.
— Мне пора, — сказала она. — Уже восемь часов. Сейчас будет звонить мой муж… Мы с ним давно разошлись, но он продолжает мне каждый день звонить в восемь часов вечера. Я всегда бываю в это время дома. — Она мило улыбнулась и добавила: — Он мне рассказывает по телефону о всех своих делах, о работе, о каких-нибудь неприятностях или радостях. А я слушаю. Вот и все.
— Зачем же вы тогда разошлись?
— Наверно, надоели друг другу, — сказала она неуверенно. — Мы всегда любили друг друга, но потом… Может быть, не захотели видеть, как начинаем стареть. Я для него осталась молодой, а он для меня тоже. Вот и все. Я жду его звонка и с удовольствием все слушаю, что он мне говорит, а он даже ругается, если меня нет дома в это время. Он уснуть не может, пока не дозвонится до меня. У нас у каждого работа, мы занятые люди. Может быть, так нам интереснее стало жить… Может быть.
Этот романтический уход друг от друга, уход, который, может быть, превратился в еще большее сближение их душ и сердец, меня совершенно растрогал. Я пытался проникнуть в тайну этой странной, бесплотной любви стареющих супругов, которые общаются теперь только по телефону, и мне хотелось верить в благородство и чистоту этого необычайного разрыва.
Но коварный вопросик все время мучил меня: а что было бы, если бы человечество не изобрело телефон? Как что? Письма! Были бы удивительные, трогательные письма прощания с молодостью, с любимым, который оставался бы в памяти молодым, и с любимой, которая вечно была бы юной и прекрасной.
Вот такие откровения посещали меня вдруг, переворачивая все мои прежние представления о любви, супружестве, старости…
Спасибо моим друзьям за эту откровенность! Я высоко ценю это качество в людях и, рассказывая теперь об этом, утешаю себя надеждой, что ничем не оскорбил доверчивости, ибо я с восхищением пишу и думаю о непознаваемости души человека, о его бесконечно глубокой и чистой печали и тайной радости земного бытия.
…Как вдруг Катрин Вайненен, запыхавшаяся и счастливая, объявила мне, что мастер лепных работ наконец-то найден, известен его адрес, договорено с ним о встрече и что завтра мы едем в гости к нему.
Это был последний день моего пребывания в Хельсинки.
Погода ненастная, небо обложено серыми тучами, ветер с Балтики несет сырость, а потому даже ничтожный морозец кажется промозглым и очень неприятным, липким каким-то и колючим.
Встреча назначена на конец этого пронизывающего холодом и сыростью дня.
Рыболовные ле́сочки финского и многих стран мира производства, блесны, похожие на елочные украшения, которые радуют глаз человека, но вряд ли соблазнят подводного хищника, так ярка и неправдоподобна их расцветка, словно они имитируют не серебристый блеск живой рыбки, а радужное оперение райских птичек. Окунь или щука ограничатся, пожалуй что, крайним удивлением пополам с испугом, увидев такую блесну в полутемном своем царстве. Но знаменитые финские шнековые ледорубы, или, как их называют у нас, коловороты, рядами стоящие в магазине Шредера, приводят меня в восхищение своей легкостью и всем известной остротой и надежностью ножей. Мечта рыбака, любителя подледной ловли!
Лесочки тоже, конечно, хороши.
Всего этого добра в моей московской квартире так много, что если я каждый день буду ездить на рыбалку, если рыба будет каждый день рвать леску и заглатывать крючки, то и тогда, наверное, мне хватит рыболовных снастей на всю мою жизнь.
Но это у меня. А отец? А брат? А друзья, занимающиеся рыбалкой? Всем надо привезти подарки. Ох уж эти лесочки, мормышки, крючочки, поплавки!
Чемодан уже почти упакован. Дело близится к концу.
— Да! Да! — говорит неутомимая Катрин. — Все-таки это очень хорошо, что мы нашли, кого так долго искали.
Мы едем с ней к мастеру.
Старый дом, тяжелая на подъеме лестница, высокие этажи. Лифта нет.
И вот я сижу за столом и разглядываю фотографии, которые мне предлагает смущенный и очень симпатичный молодой еще мастер.
Я понимаю его смущение, невольно ставя себя на его место, а потому и сам смущаюсь, присматриваясь к очень хорошим снимкам.
Вдумчивый взгляд мастера, который как бы еще не понимает, чего я хочу от него, что мне нужно. Жена его готовит кофе, ребенок что-то лопочет мне, показывая свои игрушки.
На фотографиях хорошо видна та огромная и кропотливая работа, которую проделал он, молодой еще человек, мастер с грустно опущенными усами и вдумчивым смущенным взглядом. Вот снимок того, что было: бесформенная глыба полуразрушенного алебастра, в котором смутно угадываются черты коринфской капители. А рядом возрожденная к жизни, изящнейшая капитель с напряженнейшими линиями листьев, абака с иониками. Вот балясины, похожие на забинтованные болванки, а рядом они же, но уже излеченные от дряхлой старости и разрушения. Орнаменты, гирлянды, кронштейны… Молодые мастера за работой… Один расчищает забитую старой покраской пилястровую капитель, другой работает над расчисткой кронштейна. Розовые фасады домов, украшенные белой лепниной.
Как я понимаю из объяснений Катрин, этот молодой человек является руководителем бригады мастеров, лица которых то и дело мелькают на фотографиях. Все они очень молоды, как молод и сам хозяин мастерской.
Да, конечно, фотографии — это очень интересно. Но где же мастерская? Нельзя ли посмотреть мастерскую?
— Да! — говорит Катрин. — Мы сейчас поедем туда.
Пьем кофе, я разговариваю с малышом по-русски, он со мной по-фински, но мы с ним очень хорошо, кажется, понимаем друг друга: я нарочито восхищаюсь его игрушками, он не устает приносить мне новые…
Хозяин дарит мне на память пачку фотографий, мы прощаемся с доброй хозяйкой, с малышом… Выходим из улицу.
Старый легковой автомобиль, переоборудованный под грузовичок, ворчит и постукивает клапанами двигателя. Наш новенький черный «мерседес», словно бы сдерживая негодование, бесшумно несется за этим странным гибридом тусклого цвета, и чудится даже, будто молчаливый наш шофер с трудом укрощает все его многочисленные звериные силы.
Ах юность, юность! Как все-таки силен и неистребим твой аромат, как легко ты уносишь меня в свои чертоги, стоит мне лишь учуять в воздухе пресный запах гипсовой пыли или полусырого алебастра. Всего-то один шаг из холодных сумерек через порог ярко освещенной мучнисто-белой мастерской! И я уже юн! Мне всего восемнадцать лет. Во мне оживают картины прежней моей жизни, а точнее сказать — картины прежней моей работы, потому что ничто, наверное, не оставляет такого следа в душе человека, как любимая его работа, с которой пришлось расстаться.
Я так давно не бывал в лепных мастерских, что просто одуреваю от воздуха, которым дышу и который настоян на запахах гипса и скульптурной глины.
Может быть, это воздух так омолодил меня?
Это — как запах лыж в жаркий летний день для заядлого лыжника или запах порохового дыма для страстного охотника, как запах теплого парного молока для уроженца деревни, живущего в шумном городе… Это ни с чем не сравнимый пьянящий запах, молодящий душу!
И чувствую я себя реставрированной какой-то капителью, с которой опытной рукой снят вековой нарост грязи и краски.
А это вот тут верстак! А это, да… это, конечно, инструменты! А это? Что-то новое для меня, хотя я вижу, узнаю клеевую форму. Но она не из клея. А из чего же? Какой-то новый, незнакомый мне химический материал, выдерживающий бесконечное число отливок… Известно, что гипс, застывая, или, как говорят лепщики, схватываясь, выделяет тепло, похожее на тепло засыпающего ребенка. От этого тепла клеевые формы довольно быстро оплавливаются и выходят из строя. Теперь вот химики изобрели новый материал. Очень интересно!
На стенах тут и там громоздятся гипсовые отливки точно так же, как когда-то и в нашей мастерской, ушедшей в небытие.
Зима. Работы нет. Зимой всегда замедлялись темпы лепных работ. О реставрационных и говорить нечего.
— А что же делаете зимой?
Добрый хозяин, словно бы учуяв во мне наконец-то коллегу, ведет меня в другой цех, и я попадаю вдруг, как мне почему-то кажется, в автомобильную мастерскую.
На домкратах поднят в воздух громоздкий кузов легкового автомобиля устаревшей модели. Сталисто-серого цвета краска, дыры от снятых фар, ручек, бамперов. Кузов кажется огромной бальзамированной акулой, запертой в тесном сараюшке.
Встречаюсь с очень внимательным взглядом молодого человека в спецовке, который вышел навстречу мне из-за кузова. Очень знакомое лицо! Откуда я его знаю? Ах да! Фотографии! Это один из мастеров-реставраторов.
— Покупаем старые, дешевые автомобили и реставрируем их, — переводит мне Катенька. — Потом катаемся на них, продаем.
Хозяин говорит, показывая обтекаемые формы кузова:
— Это тоже красиво… Это приятно восстанавливать. Нам это нравится.
И на лице его тлеет мягкая, застенчивая улыбка.
Я вижу на кузове, крыльях и стойках следы полуды, зачищенной и отшлифованной, как зачищали наждачной шкуркой и весь серый кузов, тусклый и еще не тронутый лаком, но уже почти подготовленный к окраске.
Для меня это так неожиданно, что я никак не могу перейти от детского своего восторга к пониманию того, что вижу. Стараюсь понять себя и только себя! Потому что то, что говорит мне мастер, хорошо понятно. Да, это тоже красиво, это тоже завораживает человека, как завораживает стремительная и лаконичная форма современного самолета. Я вспоминаю нашего знаменитого авиаконструктора Туполева, который сказал, что только красивые самолеты летают. Мне это понятно.
Но век прошлый и век настоящий, в котором мы все живем, столкнулись в моем сознании и высекли вдруг ослепительную искру. Я столько дней искал встречи с мастером, я так мечтал увидеть в Хельсинки своего коллегу по прошлой моей профессии сидящим за верстаком и расчищающим какую-нибудь лепную розетку! Мне так хотелось увидеть живой, заведенный в посудине гипс, ощутить рукой пахучее и влажное тепло свежей отливки!
Но вместо всего этого увидел фотографии и запыленные модели старых работ, развешанные на стенах.
А мастера лепных работ реставрировали автомобиль.
— Это их хобби, — говорит мне Катрин. — Да! Это очень интересно.
Я соглашаюсь с ней… Это, конечно, интересно, это таит в себе неизъяснимую грустную, пронзительную поэзию, и если бы я был финном, владеющим пером, я, наверное, попытался бы проникнуть в суть этого явления и что-нибудь написать о симпатичных мне молодых художниках, вынужденных в зимние месяцы искать себе хобби.
Хельсинки, эта белокурая дочь Балтики, как зовут его финны, белый этот город над мрачным простором моря, во многом, конечно, обязан неувядающим своим архитектурным обликом молодым ребятам. Сколько стареющих зданий восстановлено ими! Приведены в порядок, возвращены из тлена изящные лепные украшения, красующиеся на фасадах многих домов города.
Я, конечно, понимаю их, понимаю их руки, которые, как руки истинных художников, не могут находиться в застое, не могут и просто не в силах обходиться без жгучего ощущения красивой формы. Руки эти, как чуткие губы ребенка, отнятого от груди матери, ищут теплые сосцы, дарующие жизнь, и не находят их, довольствуясь пустышкой.
Пускай ремонт автомобиля — хобби! Допустим это. Я вполне понимаю ребят, которые находят удовольствие в работе, заменяющей им радость творчества, потому что увидеть возрожденный собственными руками автомобиль, на котором ты можешь прокатиться за город, увидеть его сверкающим хромом и лаком на фоне зеленого леса — это тоже, конечно, наслаждение, похожее, наверное, на то наслаждение, какое испытывает художник, созерцающий свой завершенный труд.
И все-таки!
— А что летом? Много работы? — спрашиваю я.
— Летом тоже стало трудно с заказами… — слышу ответ. — Заказов очень мало.
Наконец-то я увидел молчаливого и задумчивого финна! Правда, в лице его нет и намека на какую бы то ни было суровость. Наоборот! Мягкий и нежный взгляд человека, как бы завороженного вечной красотой, с которой он имеет дело и от которой не в силах уйти.
Жмем руки друг другу, смотрим в глаза и, кажется, хорошо понимаем друг друга без слов.
Все-таки я нашел того человека, которого искал! И когда на следующий день я уезжал домой, когда в суете и в светлой грусти я расставался со своими новыми друзьями, пришедшими проводить меня на вокзал, когда за стеклом вагонного окна опять побежали елки, утонувшие в снегу, я нет-нет да и вспоминал задумчивый взгляд мастера, отдавшего много лет жизни, чтобы не увядала красота старинного Хельсинки — города, который, как мне кажется теперь, я сумел увидеть не только восторженными, но и задумчивыми глазами моего коллеги по прежней профессии.
Утренние слезы
— Не бывает этого ничего! Не было никогда, и все это вы придумали. Не знаю только зачем. Какое это вам удовольствие доставляет? А удовольствие вы какое-то получаете от своих выдумок… Иначе зачем?! Мне даже иногда кажется, что вы какое-то мстительное получаете удовольствие… Да, да, обманете человека, а сами думаете про него, которого обманули: вот, мол, дурак какой… Я-то вас знаю! Вы жуткий человек! Но со мной у вас ничего не получится. И даже не надейтесь… Знаю я вас, знаю, — возбужденно говорила молоденькая женщина, на лице у которой словно бы спазмировала бледная какая-то улыбка, неуправляемая и похожая скорее на плаксивую гримасу, чем на улыбку. — Перестаньте сейчас же лгать, иначе я не знаю, что будет. Я сейчас заплачу. Вы еще не знаете, какая я бываю, когда плачу. Какая я некрасивая…
— Да с чего ж это вы взяли, что я обманываю вас? Зачем мне это? Все, что я вам рассказывал, — чистая правда. Все это так же верно, как то, что мы сидим на этой скамейке и что слева от нас белый куст сирени, а справа синий. Или как он там называется? Лиловый, наверное… Да и потом, чего я такого особенного говорил вам? Какие-то мелкие случаи из жизни. Посмотрите на меня повнимательнее: неужели я похож на обманщика? Зиночка Николаевна, ну пожалуйста, обратите на меня свое внимание. Я не такой уж плохой, как вы думаете. Я даже сам себе иногда нравлюсь, а это, поверьте мне, кое-что значит. Я, например, очень нравлюсь себе в теперешней роли вашего слуги и ухажера. Вы капризничаете, я улыбаюсь. Вы готовы мне выцарапать глаза, но их невинность останавливает вас… Мне нравится эта игра под кустами сирени… А вы знаете, я никогда еще в жизни не сидел под сиренью такой величины и такой контрастной расцветки. Я успел уже настолько привыкнуть к ее запаху, что даже перестал его ощущать. Мне уже кажется, что так и должно быть на свете — все должно пахнуть сиренью.
— Боже мой! Вы еще к тому же пошляк. С кем я связалась! О какой это игре вы говорите?
— Как о какой? О нашей! Вы капризная дамочка, я пошлый ухажер, а над нами два куста музейной сирени. Сидим на белой скамейке и тихонечко мучаем друг друга. Ах-ах-ах! Это вы так говорите. А я говорю: ох-ох-ох! Игра называется охи-ахи… По-японски. Или можно назвать наоборот: ахи-охи… Как-то раз, Зиночка Николаевна, я был в одном очень приятном, старинном русском городе в областном центре, как теперь о таких говорят, и так же вот, с компанией случайных приятелей, направился — знаете куда? Никогда не догадаетесь! В краеведческий музей…
Он сидел рядом с этой молоденькой женщиной, с которой познакомился только лишь сегодня, и, положив руку на высокую спинку садовой скамейки, изрезанной какими-то письменами, как бы обнимал за плечи свою соседку. Она ему нравилась, и поэтому дурачества распирали его грудь, просились наружу, ему хотелось говорить, говорить без умолку, наговаривая на себя напраслину. Ему было так легко и хорошо с этой Зинаидой Николаевной, которую он звал Зиночкой с добавлением отчества, что ему даже казалось, что он и в самом деле одурел и поглупел за этот день.
На экскурсионном автобусе они подъехали сегодня в полдень к музею-усадьбе XIX века, усталые с дороги, высыпали на бетонированную, словно бы вытравленную среди старых лип площадочку, на которой стояли автобусы и автомобили, и он первым делом побежал к лоточку, с которого продавалось мороженое, и преподнес букет из эскимо смущенной Зиночке.
— Спасибо, я не хочу.
— Мороженого не хотите?! — притворно ужаснулся он. — В такую жару? Кем вы работаете?
— Не все ли равно?
— Нет, я сразу пойму, почему вы не хотите мороженого. Кем же все-таки?
— Ой, какой вы чудак! Ну, оператором…
— На счетно-вычислительной машине?
— Нет.
— А на какой же? Ракетчица? — спросил он таинственным полушепотом. — Военная тайна?
— На швейной…
— Значит, портнихой?
— Нет, оператором.
— Все ясно! Поэтому и не едите мороженого. Вас зовут Зиночка, я слышал. А как отчество?.. Ах, Николаевна! Значит, у нас с вами нет ничего общего. Я — Игорь Сергеевич. В детстве — Гарька. Выходит дело, что у нас разные отцы. Это хорошо, но опасно! Зиночка Николаевна! Ну пощадите! Мороженое тает. Что же мне делать? Я же все-таки старался, черт побери!
Молочное мороженое было жестким и очень холодным. Оно оплавливалось сверху, а изнутри, скованное мерзлотой, было похоже на какой-то слоеный кристаллический минерал.
Но темные липы, набравшие бледно-зеленые крохотные бутончики цветов, но кусты цветущей сирени, но прохладная, политая водою дорожка в глубину барского сада, но яркая на солнце, поблескивающая ослепительной зеленью трава, но ручеек под деревянным мостиком, но белые отполированные скамейки, белые изваяния на каменных постаментах — вся эта романтическая обстановка расслабляла и почему-то очень смешила Зиночку Николаевну: она ела мороженое, то и дело принимаясь смеяться. Ее губы стали от холода бруснично-пунцовыми, а черненькие и очень блестящие глаза под черненькими бровками все время прятались под ресницами и вдруг появлялись на свет, но тут же снова ныряли в смехе под ресницы, прятались, будто знали и боялись силы своего воздействия на чудаковатого человека, который шел с ней рядом и очень веселил ее. Она словно бы инстинктом своим понимала, что ей нельзя долго смотреть на него, потому что тогда он мог бы подумать о себе бог знает что. Он и так уж слишком развязен…
— Пойдемте ко всем, — говорила Зиночка, — Неудобно.
— Почему?! Я вам могу об этой усадьбе рассказать ничуть не хуже экскурсовода.
— Ах-ах-ах… Так я поверила!
— Да! Сейчас куплю проспектик и вслух прочту его вам. Ничего нового эта девочка в джинсах нам не расскажет, Зиночка Николаевна, — говорил он, повергая ее в смех.
Это была какая-то особенная радость, которая так редко посещает человека, что ему даже чудится порой, будто бы жизнь его только-только начинается, а все, что было прежде, не более как утомительная подготовка к этой бессмысленной и загадочной радости, которая и есть настоящая жизнь во всей ее первозданной красоте и неприхотливости. Человек забывается в чудесной радости и как бы перестает видеть себя со стороны: ни тени сомнения не испытывает он в эти минуты, ничто не тревожит его, если даже и есть на то причины, — он как бы живет вне времени, забывая о своих годах, если он немолод, и обретая таинственную мудрость, если он юн. Происходит что-то необыкновенное с ним. Он все понимает, предвидит и предчувствует. Он произносит простые слова, которые тысячи и тысячи раз уже произносил в своей прежней жизни, но эти избитые слова приобретают вдруг какую-то такую окраску и значимость, которая делает их совершенно новыми словами, словно бы впервые найденными в оживившейся памяти.
И как же смешон и нелеп бывает этот радующийся человек, если люди, окружающие его, живут своей спокойной и обычной жизнью! Он кажется им пошлым и ничтожным болтуном, вызывая чуть ли не брезгливое чувство, будто не человек, а какое-то хихикающее желеподобное существо среднего рода дуреет у них на глазах.
— Нет, нет, Зиночка Николаевна, давайте лучше уйдем в лес от всех этих дремучих людей, — говорил Игорь Сергеевич, пребывая именно в том восторженном состоянии, в той радости, которую, к счастью, разделял с ним один-единственный человечек на свете: озябшая от мороженого Зиночка. — Я потом вам все расскажу про эту усадьбу и про тот век, в котором… который… которая… Что я хотел сказать? А?! Обо всех тех людях, которые приезжали сюда, жили-были здесь… Я ведь и поехал-то на эту экскурсию знаете почему? Никогда не догадаетесь! Из-за вас!
— Ну что это такое вы все говорите! Вы не могли из-за меня поехать, потому что вы не знали меня и не знали, что я поеду… Вот опять вы обманываете меня!
— Нисколько! Я знал или просто догадывался, что обязательно встречусь с вами, с такой, как вы… Я не вру. У меня такое ощущение все время, будто я вспомнил о вас и собрался в эту экскурсию. Точно! Зачем мне иначе было бы ехать?!
Кончилось все это восторженно-радостное парение над землей тем, что их автобус, их мощный и быстроходный «Икарус», не дождавшись заблудших пассажиров, которым он ревом ревел во все свои пронзительно-звучные сигналы, оглушая музейную тишину, уехал.
«Двоих нет! — говорили люди, пересчитывая друг друга перед отъездом. — Да, да, двоих нет. Ну что же это такое! Сколько же можно ждать! Семеро одного не ждут! Нет, надо подождать, может быть, у них денег нет на обратный путь! А кого нет-то? То есть как кого? Ага… Нет одной женщины… Да. И одного мужчины…» «И денег!» — добавил кто-то со смехом.
Шофер махнул рукой и врастяжку, как какую-нибудь ругань, произнес: «Ясно».
Включенный стартер тяжело и туго провернул коленчатый вал: один оборот, второй (подсел аккумулятор)… третий, четвертый… Вспышка! Дизель выбросил из трубы букет сизо-серого вонючего дыма, взревел, втягиваясь в работу, и «Икарус», развернувшись на площадке перед входом в музей, стал плавно двигаться к выезду. Злой шофер в каком-то азарте крутил большое колесо руля, искоса поглядывая в зеркала заднего вида. Люди сидели смирно, словно бы осчастливленные своим открытием: нет мужчины и женщины! — и некоторые из них улыбались. «Любовь требует жертв», — сказал кто-то из пассажиров. А кто-то, поддержав, вспомнил вдруг: «Милым и в шалаше рай». Подвыпивший мужичок с пересохшими глазами вяленой ставриды, словно бы очнувшись, сказал: «Рожденный пить не пить не может!» Люди засмеялись над ним. Кто-то стал спрашивать у соседа: «Что он сказал? Что это он сказал? Я не расслышал».
«Икарус» набирал скорость, а через полчаса он уже мчался по шоссе, обгоняя легковые автомобили.
Когда они, оглушенные и измученные паническим бегом, запыхавшиеся, выбежали на бетонированную площадку, там уже не было не только «Икаруса», но и других автобусов, других автомобилей. Раздавленный бумажный пакет из-под молока — все, что осталось от недавнего нашествия. Потом они увидели коричневую бутылку из-под пива, аккуратно прислоненную к рубчатому стволу липы и поблескивающую там, в молодых побегах старой липы.
Мозг не хотел мириться с тем, что произошло: глаза все еще чего-то искали, шарили между деревьями, точно «Икарус» мог подшутить и спрятаться в липовой аллее или за кустами сирени.
Зиночка часто-часто дышала и испуганно таращилась на своего «слугу и ухажера». Нельзя было понять по выражению ее лица, что она сейчас сделает: расплачется или рассмеется… Каждый ее выдох оканчивался песенным каким-то звуком, голосовым срывчиком, который похож был то ли на сдерживаемый смех, то ли на рвущиеся рыдания.
Но она не расплакалась, а удивленно и неуверенно засмеялась, остужая ладонями горящие румянцем щеки.
— Конечно, — сказала она, заглатывая колючую слюну, — я так и знала… Вот так все… я это все и предчувствовала. Теперь вот думайте. Я теперь не знаю совершенно, что делать. Но как же они могли уехать? А если с нами какая-нибудь беда приключилась? А? Разве это можно? Я бы, например, если бы кто-нибудь… А? Ну думайте, думайте! — говорила она и как-то загнанно всхахатывала при этом, что-то в ней звонко звучало все время.
Говорок у нее был нежный и чистый, словно она купала ребенка и, обливая его теплой водой, потирая ему спинку и ручки, намыливая головку, приговаривала при этом ласковые слова торопливо и восторженно, с той счастливой веселостью в голосе, с тем звучным придыханием, которое только и свойственно, наверное, молодым матерям: им и радостно купать своего младенца и страшно за него.
Игорь Сергеевич, отдышавшись кое-как от бега и не переставая любоваться ею, сказал, поглядывая в сторону белой скамейки под кустами сирени:
— Пойдемте-ка сядем, Зинуля Николаевна. Вон туда. И все там обдумаем. Они, конечно, поступили плохо. Вы, кажется, говорили, что у вас там сумочка с едой была? Хоть бы еду оставили. Верно?
Они пошли под сирень на скамейку. Сели и стали хохотать.
— Ой, господи, я не могу больше! — жаловалась Зиночка, чувствуя, как в животе что-то опять начинало колыхаться приступом нового хохота, обессиливая и приводя ее в какое-то исступление. — Перестаньте, пожалуйста, я больше, честное слово, не могу! — умоляла она Игоря Сергеевича, который крепился что было мочи, стонал или по-собачьи взлаивал не в силах побороть смех. — Мне совсем не смешно! Зачем вы меня смешите все время?! — говорила она уже с раздражением. — Ну идите хоть погуляйте где-нибудь! — чуть ли не кричала она, охваченная хохотом, от которого у нее уже болела грудь, — Я не могу рядом с вами!
Кое-как они справились с этой напастью.
— А про сумочку вы опять все выдумали. Какая такая сумочка? — спросила Зиночка изменившимся, огрубевшим от хохота, дрожащим голосом. — Зачем? Ну вот зачем — скажите!
— Мне показалось, что вы хозяйственная и запаслись едой. Есть-то ведь хочется.
— О господи! — воскликнула она и возвела глаза к небу, выкатив наружу голубые белки. — Откуда вы на мою голову? За что? Вы хоть знаете, как отсюда уехать?
— Зиночка Николаевна! Все хорошо! Смотрите, какая сирень! Тишина. Птички поют. Разве вам так уж плохо, что надо опять спешить? Посидим часок под этой сиренью, я вам кое-что расскажу, а потом и двинемся в путь. Как-то ведь добираются люди до Москвы отсюда!
— Вы мне столько всего уже понарассказали, что я вам не верю. Вы все это придумываете и всех обманываете. Я, как дурочка, тоже доверилась вам, а теперь… вот… Не бывает этого ничего, что вы мне рассказываете! Зачем вы все это придумываете, интересно мне знать? У вас, между прочим, какой-то такой голос… Вы так картавите, — стала она передразнивать его, — как путто вы из Припалтики. Кто вы такой вообще-то?
— Я хорошо зарабатываю. Да, четыреста в месяц. А то и четыреста с половиной получается. И знаете, где я работаю? Ни за что не догадаетесь! Работаю на молоковозе. Молоко вожу. Но иногда и вино. Еду в Ужгород за вином. Написано: «Молоко», а там вино. Фляги две или три отольешь себе. Как удастся. А то и четыре! Ворую помаленьку. Жена меня бросила, потому что ворую. Сказала: не могу с таким типом и часа находиться вместе. Считается, что бросила меня она, но это я сам взял зубную щетку, электробритву и ушел… А вот насчет Прибалтики, я — нет, не оттуда, У меня просто такой аристократический выговор. Вот смотрите, видите, какой у меня маленький подбородок. Очень неприятный. Но это только на первый взгляд. Представьте себе, что я в напудренном парике, с белыми буклями на розовых щеках, а на лице тонкая и хитрая улыбка царедворца. А? Портрет моей прабабушки, который висит в музее! Она была фрейлиной Екатерины.
Игорь Сергеевич еще что-то говорил и говорил, пребывая в каком-то странном бредовом состоянии, придумывая и игру в ахи-охи, и свое пошлое волокитство, воровство, а теперь и прабабушку-фрейлину, — говорил, стараясь удержаться на том легкомысленном тоне, который только что так удавался ему и который поддерживала Зиночка, но что-то как будто лопнуло вдруг в его душе и он услышал себя и увидел со стороны. Услышал липкие слова, сказанные с отвратительной улыбкой и с какими-то мерзкими ужимками: «Как-то раз, Зиночка Николаевна (фу ты, господи) я был в одном очень приятном старинном русском городе („Приятном!“ — ужаснулся он), в областном центре, как теперь о таких говорят, и так же вот, с компанией случайных приятелей („Каких приятелей?! Что я говорю!“), направился знаете куда? Никогда не догадаетесь. („Ну что это такое, массовик-затейник!“) В краеведческий музей».
Услышав все это, он с неожиданной скрипучестью в одряхлевшем вдруг голосе глухо сказал:
— Простите меня, пожалуйста, за болтовню. Я вам, наверное, так надоел, что просто караул кричи. — И снял руку со спинки скамейки. — У меня была девушка в юности, — тихо проговорил он, глядя под ноги. — Это было позавчера, как вы понимаете. Нет, Зиночка, на этот раз я не выдумываю. Ее звали Геля… Полное имя я так и не узнал. Наверное, Аглая или Ангелина. Вот она-то в самом деле любила вора. Я даже не знаю, кого больше: меня ила его. Я тогда в техникуме учился, худой был и все время голодный. Мать ее поварихой работала и, наверное, приворовывала, потому что жили они в то время, как говорится, не по карману. Придешь к ней, они с матерью на первом этаже жили в деревянном доме, а Геля поцелует, как мужа, который с работы пришел, и на кухню — жарить яичницу на сале. Большущая сковорода! Накормит, а уж потом целоваться со мной: часа два подряд до изнеможения. Очень любила! «Ладно, — говорит, — хватит. Скоро мама с работы придет». Вот такая была неинтересная любовь.
— А при чем тут вор-то? — спросила Зиночка с настороженностью в голосе. — Опять какой-то вор!
— Она мне говорила каждый раз про него! Все время меня с ним сравнивала и говорила: «Не знаю, кто из вас лучше…» Вора любила! Обыкновенного вора, который два года отсидел, а ей это льстило: она вроде бы как спасительницей себя чувствовала. Ревновал я ужасно! Геля эта была очень красива! Прямо хоть сам воруй, чтоб не разлюбила. Вот такая любовь.
— Ну нет уж, — сказала Зиночка, взглядывая из-под ресниц и прячась от встречного взгляда. — Это она вам насочиняла про вора, чтобы вас привязать к себе, а вы и поддались. Зачем ей вор-то этот?! Вы хоть разочек-то видели его? Вора этого?
— Нет, не видел.
— Ну вот именно! И что это вас все время на какие-то неправды тянет? То сами выдумывали, то теперь Гелю какую-то вспомнили, которая выдумывала… Мне и вправду все это надоело! Ну честное слово. Ну как вам это объяснять?! Сидим тут, а дальше-то что делать? Надо ведь домой ехать. А как? Вы все про каких-то своих… Гель, все про каких-то прабабушек, про воров… Ну правда, Игорь Сергеевич. Я уж совсем запуталась с вами.
Два куста сирени, которые недавно украсились цветами, были так велики, так высоко и широко вздымали они к небу свежие, напряженно-нежные соцветия, что их и кустами-то можно было назвать с оговоркой — это были какие-то пышно цветущие деревья на зеленой поляне бывшей барской усадьбы. Игорь Сергеевич никогда раньше и не видывал таких сиреней.
В своем радостном забытьи он словно бы вообще ничего толком не видел, не успев даже как следует разглядеть приунывшую теперь, потерянную Зиночку. А у нее, оказывается, короткая стрижка под мальчика, тугие прядки волос неопределенно-оливкового цвета, как перья большой сильной птицы, разбросаны по лбу, прикрывают виски и уши, упруго лежат на темени, на затылке, выпрыгивая все время на белый воротничок шелковой блузки, когда Зиночка вертит головой, и даже слышно, как шуршат кончики стриженых волос, прикасаясь к шелку. Голова у Зиночки кажется круглой, а шейка тоненькой. Стрижка так коротка, что чудится, будто Зиночка недавно тяжело болела и волосы не успели еще отрасти после больницы. Что-то радостное видится в этой головке, но радость хрупкая, ускользающая, как и коричневые и тоже круглые, настороженные, внимательные взгляды. На правой руке, на коротеньком, с детскими перевязочками пальце, — обручальное кольцо из дутого золота, на левой — тонкий перстенек с ярко-сиреневым аметистом в золотых лапках, видимо не дешевый, но грубоватый. И вообще кисть руки мягкая, а толстенькие у основания пальцы утончаются с каждой фалангой, заканчиваясь длинными ногтями вишневого цвета. Вся она складненькая, полненькая, или, точнее сказать, какая-то вся средненькая, с модной сумочкой через плечо и очень похожа на многих своих высокогрудых сверстниц с хорошо развитыми, как говорил один знакомый хирург, молочными железами, еле сдерживаемыми тонкой блузкой. Игорь Сергеевич подумал даже, что с такой, наверное, очень легко и просто жить. Во всяком случае, без рефлексий, без душевных мук и всяческих страданий.
Он отодвинулся от нее и, любуясь ею, стал опять улыбаться. А Зиночка заметила и, волнуясь, спросила:
— Ну что такое? Что вы так улыбаетесь? Я вам серьезно говорю. Если вы сейчас же не подыметесь, я пойду одна.
— А интересно узнать, — спросил Игорь Сергеевич, — куда? Если не секрет.
— На станцию. К поезду какому-нибудь! Ну что же делать-то? Не сидеть же тут вечно.
— А тут до ближайшей станции знаете сколько километров? Никогда не догадаетесь. («Опять, черт побери!») Тридцать с гаком.
Глаза у Зиночки наконец-то прекратили бесконечные свои нырки и взлеты, она приоткрыла их и с мгновенным испугом во взгляде сказала:
— Нет, я вам не верю… Вы опять… Игорь Сергеевич, вы опять? Да? Сознайтесь. Я уже просто боюсь вас. Шутите и шутите. А мне не до шуток. Мне обязательно сегодня дома надо быть. Странный какой-то, честное слово!
Пожилая женщина в выцветшем сером халате, видимо работница музея, проходя мимо, увидела под сиренью нездешнюю парочку и, остановившись, подозрительно стала глядеть в их сторону.
Зиночка проворно поднялась и, шурша по дорожке, побежала к ней. Побежала в том замедленном темпе, в каком теперь часто снимают на киноленту бегущих лошадей. Она чувствовала спиной взгляд Игоря Сергеевича, знала, что он смотрит ей вслед, и старалась бежать легко, но именно поэтому бежала тяжело и неуклюже, стесненная узкой юбкой.
Игорь Сергеевич тоже поднялся и когда приблизился к двум женщинам, то одна из них уже показывала рукой в сторону елового леса, темнеющего за зеленым картофельным полем. Там, за лесом, была большая река, по которой ходили теплоходы, и называлась она Волгой.
Зиночка наконец-то всерьез рассердилась на него, обвинив во всех грехах, и, не желая даже идти с ним рядом, вырвалась вперед и ушла довольно далеко, мелькая торопливо шагающими ножками. Игорь Сергеевич поспешал за ней, но догнать не решался: Зиночка Николаевна была очень сердита.
Сухая тропка через картофельное поле светлела ниточкой до самого леса и была неудобна для нормального шага, потому что повторяла рельеф картофельных гряд, поперек которых ее протоптали: идти было трудно, как по шпалам. Темно-зеленые шершавые картофельные листья уже набирали силу, и поле казалось тяжелым, словно было уже обременено будущим урожаем. В однообразном его просторе Зиночка выглядела потерянной беглянкой или подраненной птицей, убегающей от охотника. Игорь Сергеевич разочек окликнул ее, но сила его голоса в тихом пространстве была так ничтожно мала, что ему почудилось, будто жалкий звук его крика упал к ногам и заглох в картофельной ботве.
Небо было еще больше поля, и в его голубой глубине звенели хрустальные переливы едва различимых песен невидимых жаворонков, звуки которых дождем ниспадали к земле, но не глохли, как голос человека, а жили и струнно пели в зачарованном мире. Солнце освещало опушку елового леса, и старые темные ели казались красновато-коричневыми. А когда Игорь Сергеевич вышел на лесную дорогу и углубился в еловый сумрак, он увидел лиловые стволы, облитые сахарно-белой смолой, и почувствовал прохладный ее запах.
Он наконец-то догнал Зиночку, которая поджидала его насупившись, и только тут уловил еще один запах: то был резкий и отвратительно неуместный аромат духов, которым была пропитана молоденькая эта особа.
— Волков испугались? — спросил он, когда они пошли рядом.
— Да, — ответила Зиночка. — Между прочим, мне все равно, что вы там думаете обо мне. Я обождала вас, потому что не волков боюсь, а не знаю дороги. А я больше всего на свете боюсь заблудиться в лесу. Если я заблужусь, мне кажется, я умру от страха. И вообще какой-то страшный лес. Здесь так тихо, что давайте лучше о чем-нибудь говорить. Вот вы все время говорили, говорили, все выдумывали, когда не надо было, а теперь молчите. Вы бы лучше сейчас чего-нибудь рассказали. А то я где-то читала: чтобы не встретиться в лесу с хищниками, нужно все время говорить или напевать и стучать палкой по деревьям… Тогда хищники заранее испугаются и убегут. А когда тихо идешь, можно прямо носом к носу столкнуться с медведем или волком. И тогда хищник может напасть на человека, потому что он тоже испугается и бросится на вас или на меня с испугу. Он подумает, что я нападу на него сейчас, и бросится первым. Он же не знает, какие у меня намерения. Может, я его убить хочу. А как вы думаете, тут есть какие-нибудь хищники? Мне, например, кажется, что их тут тыщи, что они за каждой елкой прячутся. Я даже боюсь смотреть по сторонам. Это у меня с детства осталось. Меня папа однажды напугал, когда мы в деревне жили, и я с тех пор боюсь леса. А вообще-то еще потому, может быть, что моя бабушка с Украины. И вот я, например, поле люблю, особенно когда ромашек полно, васильков и вообще всяких цветов, а в лесу мне страшно. Как вы думаете, Игорь Сергеевич?
Игорь Сергеевич улыбался, слушая ее, и смотрел себе под ноги. Лесная дорога была еще сыровата с весны, еще часто попадались в ее колеях тяжелые лужи, укрытые зеленой плесенью, еще скользили ноги на розоватой глине, на осклизлом еловом корне, мускулисто вцепившемся в дорогу.
— А мы правильно идем? Игорь Сергеевич! Что же вы молчите? Вы сегодня все делаете мне назло. Назло утащили куда-то в лес, назло подстроили все так, чтоб мы опоздали, назло выдумывали, а теперь молчите назло. У вас что, фантазия всякая исчезла? Такой разговорчивый был, так заговорил меня, что я и про автобус забыла, а теперь что же? Вот я так и знала, что вы жуткий человек! Вам доверяться совершенно нельзя. Почему-то эта дорога все вниз и вниз идет? Вам не кажется? Мы как будто как вошли в лес, так все время вниз идем, в какой-то овраг… Может быть, мы не по той дороге пошли? У меня уже все туфли в грязи. Ну вот как вы думаете, как я должна к вам теперь относиться? Вы хоть сами-то понимаете, какой вы жуткий человек? Игорь Сергеевич, а почему здесь папоротники растут? Я слыхала, что в папоротниках змеи живут. Это правда? Вообще какой-то ужасный лес! Солнца даже не видно.
Солнца не было видно за холодными и могучими елями, которые лишь иногда впускали в мрачные свои владения его дымчатые, золотисто-шелковые лучи, в таинственном свете которых тонко и хрупко попискивали маленькие синички, подчеркивая своими стеклянными голосочками торжественную тишину старого ельника. Сырой и прохладный воздух, насыщенный испарениями земли, был так душист, что даже сиреневое благовоние, которое недавно, казалось, занимало собою весь мир, выветрилось из памяти. Зиночка была права: этот лес действительно внушал уважение к себе, вызывая душевный трепет сторожкой своей тишиной и зеленым мраком, царившим среди лиловых ущелий залишаенных, облитых засахарившейся смолою массивных стволов.
— Игорь Сергеевич! Мы правильно идем? Ну как вам не стыдно мучить меня! Почему вы молчите? Давайте о чем-нибудь разговаривать.
— Со мной это случается, — отозвался он наконец. — Редко, но случается. Говоришь, говоришь незнамо что, а потом как все равно очнешься… И молчок. У меня, Зиночка, характер такой дурной. Вот вы говорите, что я во всем виноват. Конечно, я не отрицаю, но я ведь не нарочно это сделал, не назло, как вы говорите. Просто так получилось. Увлекся. Понимаете? Вы уж простите меня, пожалуйста, если можете. Когда я в таком лесу иду по дороге, я чувствую себя подавленным и мне не хочется ни о чем говорить. А вы сами так хорошо говорите, так у вас это все получается искренне, что я просто слушаю вас и не верю, что мне так повезло в жизни: идти в таком лесу с такой милой женщиной и слушать ее, понимать, как она боится леса и всяких хищных зверей… Какие хищные звери! — воскликнул он вдруг с хохоточком в голосе. — Самый хищный зверь на свете — это я. А вы меня совсем не боитесь. Вот что удивительно! Вообще-то правильно делаете.
— А почему я вас должна бояться? Странный какой-то!
— Да не странный я! Обыкновенный! Вот в чем весь ужас положения! Обыкновенный. Если бы я был странный, Зиночка, я бы вас на руках сейчас нес. А я обыкновенный! Иду, молчу, слушаю, думаю черт знает о чем. О чем-то думаю все время, а вот спросите — не отвечу, потому что не вспомню ни за какие коврижки. А ведь о чем-то все время думаю, думаю до изнеможения. И так каждый, у любого спросите: о чем он думает? Какую-нибудь глупость скажет, что-нибудь смешное придумает и ответит. А о чем на самом деле думает — не знает. Хотя все время думает, как и я. Вот в чем ужас-то! Я самый страшный хищник, потому что жру свое собственное время, отпущенное мне природой. Жру, жую, чавкаю! Рву на куски душу какими-то случайными мыслишками, которые проходят бесследно и о которых я толком не помню ничего, не могу сказать, зачем они. Вот хотя бы сейчас! Я ведь сейчас шел рядом с вами, слушал вас и все во мне улыбалось. Так мне радостно было и хорошо вас слушать в лесу! А я эту свою радость все время грыз какими-то рассуждениями, а какими — не могу вспомнить, и, можно сказать, загрыз до смерти — осталась от всей этой радости одна только скорлупка. А жизнь-то идет!
— Я ничего не понимаю, — сказала Зиночка с удивлением. — Кого вы грызете?
— Да никого я не грызу, — ответил он. — Я хотел сказать, что если вы боитесь хищников, то я пустых своих рассуждений больше лютого зверя боюсь. Ведь я тоже живой, как и вы, и жить мне тоже очень хочется. А что такое жизнь? Это радость. Жизнь, по идее, должна быть радостью. Значит, я свою жизнь грызу. Я, Зиночка, отучил себя радоваться. Моя-то жизнь — это ведь тоже Жизнь! К ней все другие люди должны относиться с уважением, как, например, и я к вашей жизни отношусь и к жизни всех других людей, животных, растений. А я свою собственную сам грызу! Значит, кто самый страшный хищник? Я, конечно. А других в этом лесу нет. «Освободим трудящиеся массы от пут природы!» Такой вот лозунг. Все время освобождаюсь от естества, боюсь показаться смешным…
Но Зиночка, наверное, не слушала его, потому что она все с той же озабоченностью торопливо сказала, перебивая его:
— Понятно. А куда мы все-таки идем? Почему-то дорога все время вниз и вниз. Вам не кажется?
— К реке идем, — ответил Игорь Сергеевич и нахмурился, недовольный собою и своими запутанными рассуждениями, которых он так боялся всегда. — Скоро лес кончится — и мы увидим Волгу. Разве плохо? А вот слышите?! Слышите? — сказал он вдруг, пугая Зиночку, которая вздрогнула и оцепенела от неожиданного этого «слышите?!».
— Что? — спросила она как вскрикнула.
— Гудок слышали? Только что теплоход гудел.
Он и сам обрадовался, услышав за лесом сиплый бас, потому что, как и Зиночка, тоже не был уверен в дороге, хотя и не показывал виду. Гудок этот, как мычание болотной выпи, донесся словно бы из-под земли, откуда-то оттуда, куда вела дорога, заросшая травой. Но, услышанный в лесу, раздвинул зеленый мрак и как бы ограничил власть сумрачных елей, поманив людей речным раздольем. Лес как бы кончился, когда раздался далекий этот и ветрено-задумчивый, случайный звук, но еще долго дорога не выходила из лесных сумерек и глаз то и дело натыкался на заросли черничника, на сухие сучья, на смолистые стволы елей, которым, казалось, не будет конца и которые теперь как бы не лесом уже были, а препятствием перед широким речным простором.
Зиночка иногда спрашивала:
— Мы правильно идем?
А он отвечал:
— Правильно.
— Почему-то все время кажется, — говорила она, — что уже вечер. Так темно!
Она устала от ходьбы и не в силах была о чем-либо разговаривать. Она лишь что-то пыталась напевать потихоньку, гундосо произнося нараспев слова какой-то песни, но это у нее не выходило, потому что дыхание сбивалось, и мелодия захлебывалась. Но Игорь Сергеевич чувствовал, что неизвестная эта песенка все время звучит в ее душе, словно бы Зиночка несет в себе маленький оркестрик вместе с популярной певицей, а иногда, забываясь, пытается даже подпевать ей.
И вдруг слезы. Она плакала с какой-то мстительной откровенностью, как плачет жена, слезами своими укоряя непутевого мужа; плакала, выговаривая сквозь рыдания что-то обидное, стараясь как можно больнее ударить Игоря Сергеевича, и не щадила ни его, ни себя в этой пытке. Лицо ее было словно бы исцарапано до крови, будто это не слезы текли, а кровь. Глаза вспухли и покраснели. Да и вся она казалась окровавленной. Лучи солнца освещали ее оранжевым светом, а она стояла на темном, мутно-фиолетовом фоне плавно движущегося простора воды, похожего на поток чернильной жидкости, бегущий среди нежно-дымчатых, золотистых холмов. Два бакена — белый и красный — ярко светились в этой волнующейся тьме, освещенные заходящим солнцем.
На высоком берегу, над дебаркадером, совсем близко, но как будто бы очень и очень далеко огненно светились окнами дома большого поселка, в котором пели петухи, мычали коровы, возвращавшиеся домой, лаяли собаки, кричали женщины и дети. Это было совсем близко! Но воздух был так тих и глух, а простор речной долины так величав и бесконечен, что все эти звуки чудились далекими и какими-то очень маленькими, крохотными, игрушечными, как если бы там жили игрушечные люди, коровы, петухи и собаки.
Здесь же, на пустом и холодном дебаркадере, громко и зло плакала кровавыми слезами великанша и ругала понурого и молчаливого человека, который не знал, что ему теперь делать.
Игорь Сергеевич и в самом деле растерялся, когда выяснилось, что теплоход здесь причаливает только по четным дням. Знато бы дело, они, конечно же, добрались как-нибудь до железнодорожной станции и уехали в Москву на поезде. Но теперь было поздно об этом думать. Теперь им оставалось только ждать. Он хорошо понимал, конечно, что одно дело ждать ему, человеку, свободному от семейных обязанностей, и другое — ждать ей, когда в Москве муж.
— Ну какая же я дура, дура! — вскрикивала Зиночка, что есть силы стуча кулаком по деревянному поручню дощатых сходней, на которых они стояли. — Какая дура! Ой боже! Ну что теперь делать? — кричала она хрипло и зло, по-змеиному выбросив голову в сторону Игоря Сергеевича, и так широко разинула рот, что он вдруг увидел ее язык и ребристое нёбо, освещенное солнцем. Даже малиновый язычок увидел, словно она вывернула глотку в злом своем отчаянии наизнанку: он там, в глубине этой алой пасти, блестел кровавой каплей. — Ой, как я ненавижу вас! Ой, как я готова убить вас на месте! Ну что вы наделали?! Что теперь будет? Идиот несчастный! У меня ведь дома муж, которого я люблю. Вы это можете понять? Я люблю мужа, и он сойдет с ума, если я не вернусь сегодня! Господи! Какая же я дура! Вы действительно зверь, а не человек!
На оранжевом бугре выросли как из-под земли четверо ребятишек и, замерев, стали смотреть и слушать крики плачущей Зиночки. Но она ничего не видела вокруг себя, никого не хотела знать и ни с чем не считалась. Ей теперь было все равно, слышит ее кто-нибудь или нет, осуждает или жалеет. Для нее это не имело теперь никакого значения, потому что в ее сознании было лишь материализовавшееся, плотное и неприступное препятствие — время, перед которым она была бессильна. Она теперь слышала, знала и чувствовала только себя и это жестокое на ощупь, тяжелое, неповоротливое время. Все остальное перестало для нее существовать. И какая разница, что о ней подумает человек, который стоит с ней рядом, или те маленькие люди, появившиеся на бугре. Все они тоже препятствие на пути к дому, к мужу, к самой себе. Она словно бы только теперь опомнилась и поняла всю безвыходность положения.
Если бы хоть какие-то чувства испытывала она к этому Игорю Сергеевичу! К лобастенькому человечку со скошенным подбородком… Хоть какие-нибудь! А то ведь ничего не шевельнулось в ее сердце, ни единой мыслишки не пробежало в голове, когда она, подчинившись ему, уходила с ним все дальше и дальше от автобуса! Пришла в какую-то деревню, выпила кринку молока с ноздреватым сырым хлебом, посмеялась над петухом, который косил на нее желтым злым глазом, и совсем забыла об автобусе. Просто она забыла обо всем и ей было почему-то очень радостно от этого. Больше ничего! Она даже и не чувствовала себя с ним — нет! Она все время была одна. Как же она могла так забыться?
Бессмысленность всего того, что с ней приключилось в этот день, неспособность найти объяснение всему этому приводили ее в бешенство, и она чувствовала себя так, будто ее обманул этот притихший и весь какой-то сгорбленный, как чайка на красном бакене, поникший человек, которого она ненавидела и которому ей хотелось сделать так больно, чтоб он закричал и упал от этой боли в воду.
Злости ее не было границ. Чего только не наговорила она Игорю Сергеевичу, уйти от которого боялась; чего только не натерпелся и сам он за то время, пока она была вне себя от бешенства, потеряв всякий контроль над собой!
Но всему приходит конец. У Зиночки иссякли силы, и она затихла. Лицо ее было так обезображено плачем, что она не решилась идти в поселок. Голос ее сел от крика и слез, и она с трудом произносила слова.
— Я все равно не пойду в деревню, — еле слышно просипела она. — Я буду ночевать здесь.
Сиплый ее голос срывался на тонкие писки, похожие на попискивание трущегося ржавого железа. Ее колотила дрожь, сводя плечи судорогой. Она сидела на крашеной синей лавке, прижавшись в углу к синей стене, и вид имела жалкий. Лесная глина высохла на туфлях и на щиколотках, в волосах застряла серая тоненькая сухая веточка, которую Игорь Сергеевич хотел снять, но не мог решиться на это, чувствуя беспрестанно свою страшную вину перед этой женщиной. Он боялся оставить ее одну, но понимал в то же время, что ночевать здесь, на берегу реки, в холодном открытом зальце дебаркадера, не имея теплых одежд, невозможно или, во всяком случае, очень тяжело. Он отпросился у нее сбегать в поселок и попытать счастья. Она согласилась ждать его, но сказала опять:
— Я все равно здесь ночевать буду.
Игорь Сергеевич толкнулся в одну дверь — отказали. В другую, третью… Везде недоуменный отказ. Девочка лет пятнадцати пробегала мимо в зеленых сапожках, он окликнул ее и спросил:
— У вас переночевать нельзя? А то мы тут пришли к теплоходу, а он только завтра.
Она с натугой наморщила гладенький лобик и, не понимая его, переспросила:
— Чего?
— Переночевать нельзя ли? Мы тут… с женой, — сказал он, ощутив толчок в груди, — пришли, а теплоход только завтра. Ночи еще холодные. Может быть, кто-нибудь пустит…
Девочка, решив, что ее разыгрывают, усмехнулась и побежала дальше, с озорством бросив на ходу:
— В лесу ночуйте! Мы туристов не пускаем.
Не лучше было и с едой. На дверях магазина висел замок, а искать продавщицу и стучаться к ней в дом, в котором она наверняка, как все сельские продавщицы, держит на всякий случай несколько бутылок спиртного, ему показалось бессмысленным занятием. Да и вряд ли держит она дома хлеб или что-нибудь съедобное, какие-нибудь конфетки хотя бы… Он очень торопился.
В поселке, на холме, еще розовела пыль на дороге, озаренная закатом, а на склоны холма уже легла тень. Игорь Сергеевич бегом спустился по светлой тропке к дебаркадеру, тревожась за Зиночку, думая только о ней, и не почувствовал холода. «В лесу! — подумал он с усмешечкой. — Разве она пойдет в лес! В лесу, конечно, можно было бы наломать лапника. Разжечь костер».
Она ни на секунду не выходила у него из головы. Она стала главной его заботой. Она казалась ему большим ребенком, которого он незаслуженно обидел. И она же приводила рассудок в смущение, когда он представлял себе ночь рядом с ней на пустом дебаркадере. Как ни старался он скрыть от самого себя это острое чувство, оно все время подспудно волновало его и вводило в греховно-радостное состояние, словно бы впереди у него была брачная ночь.
Река теперь отразила закатное небо и была оранжево-пепельной. Холмистые берега, погруженные в ночную тень, стояли бурые, с соломенным отливом, как шкура летнего медведя. Так же тихо все было вокруг, так же скользила слева направо оранжевая ширь реки, неся на своей поверхности зыбкие завихрения, словно бы реку все время пучило, словно какие-то силы все время выносили наверх глубинные слои воды, которые растекались вширь и сносились течением, а на их месте возникали новые наплывы, новые завихрения, не уловимые глазом, как неуловимы играющие в потемках языки живого пламени. И это было тоже движением и жизнью воды в ее общем движении слева направо. Ни начала, ни конца! Смотреть на жизнь воды можно бесконечно долго, чем и была занята Зиночка, когда он вернулся на дебаркадер.
Она облокотилась на поручень причала и, скрестив ноги, задумчиво ушла взглядом в оранжево тлеющее пространство.
Она, наверное, все-таки надеялась, что Игорь Сергеевич договорится о ночлеге, и думала, может быть, о горячем чае, о добрых хозяевах, о рассыпчатой картошечке, о теплом доме, потому что, когда он рассказал о неудаче, она глубоко вздохнула и никак не отозвалась на его слова.
— Вполне возможно, — говорил он, глядя ей в затылок, — эта ночь не будет холодной. Я, помню, как-то ночевал майской ночью на реке, так даже на рассвете не почувствовал холода. Лежал, помню, на земле, смотрел в небо и слушал соловьев. Конечно, в лесу было бы теплее. В лесу можно наломать лапника, развести костерчик… Вы ночевали когда-нибудь в лесу?
Молчание. Такое глубокое молчание, что ему показалось, будто он слышит, как река трется о каменистые берега, мягко омывая их в своем беге. По всему берегу у кромки воды зеленели, одетые водорослями, желтые обломки известняка, обкатанные речной волной и течением.
— Что же вы так легко оделись, Зиночка? — спросил он. — Может быть, накинете на плечи мой пиджак? Вы бы хоть какую-нибудь кофточку теплую взяли… Весенняя погода переменчива. Поехали в одной блузке. Разве можно?
Она резко обернулась, встряхнув головой, сказала:
— Я ж не рассчитывала встретиться с таким… как вы! А если б знала, вообще не поехала! Ну вот, что теперь мне делать? Утопиться? Вы так себя ведете, как будто ничего не случилось! Я не знаю, ждут ли вас дома или не ждут, мне это все равно, а меня ждут и будут очень волноваться и не спать всю ночь. И потом еще неизвестно, что будет! Что я мужу скажу? Ночевала на дебаркадере? С мужчиной? Вы понимаете, что вы наделали?! Стоите тут, как херувимчик какой-то! Врать прикажете? А я не умею! Я ни разу еще не обманывала его и не собираюсь этого делать. А он может еще позвонить в это дурацкое бюро экскурсионное, и ему там скажут, что мужчина и женщина отстали от автобуса. Вообще приеду в Москву, обязательно жалобу напишу!
— А я вам знаете что, — сказал Игорь Сергеевич, — я вам напишу объяснительную записку для мужа. Расскажу все как было. Он поймет. Могу даже встретиться…
— Ой! — рыком вскрикнула она. — Кошмар какой-то! Замолчите сейчас же, а то я вас убью! Давайте мне ваш пиджак, а сами тут как хотите, хоть подыхайте. Мне нисколечко вас не жалко. Я замерзла, как собака, а к утру совсем околею от холода, — говорила она, пока Игорь Сергеевич надевал на нее теплый пиджак, помогая просунуть руки. — Ой, господи! — с дрожью в голосе восклицала она. — Как я замерзла! Если б кто знал! Еще и голос совсем потеряла, как пьяница. У меня просто не хватает слов… вообще… Я не знаю, что бы я с вами сделала, как бы я вас избила! — вдруг вскрикнула она сиплым своим голосочком, опять соскальзывая в слезливое бешенство. — Уйдите от меня сейчас же, чтоб я вас не видела!
— У вас веточка еловая в волосах, — осмелился сказать он. — Давайте я вам помогу.
— Ничего мне от вас не нужно! Уходите от меня! Я боюсь вас. Вы хуже всякого зверя! Хуже всех на свете! Оставьте меня в покое!
— Мне уйти? А куда? А как же вы?
В ответ слезы, всхлипывание, ноющие, писклявые звуки, сотрясание обвисших пиджачных плеч.
Она долго и тихо плакала, уйдя от него в синее зальце, усевшись там на синюю лавку, липкую от въевшейся в краску грязи.
Он стоял, навалившись животом на поручень, и слушал ее. Он знал, что уходить ему нельзя, потому что нельзя оставлять ее одну на дебаркадере. Он не чувствовал холода. Земля, согретая солнцем, не успела еще остыть, и ее теплые испарения обметывали реку прозрачным туманом. Небо было теперь темнее реки. Закат совсем уже погас, а река еще смутно светилась в темноте, словно бы в ней сохранился жар небесного пожара, подернутый белесым пеплом. В мутном небе, упруго свистя крыльями, пронеслись невидимые утка и селезень. Утка беспрерывно крякала, вплетая истошный свой крик во вселенскую тишину, а селезень, догоняя ее, жарко и страстно оглашал округу чуть слышимым шварканием. По фарватеру проходили во тьме тяжелые, шумно чавкающие суда, и слышен был не только их внешний шум, но и утробный шум двигателей. Проплывали в туманной тьме красные и белые огни, а суда, несущие этот таинственный свет, были неразличимы в ночи. Прошел справа налево, вверх по реке, ярко сверкающий огнями трехпалубный пассажирский теплоход, похожий на белый призрак — так бесшумно было его лебединое скольжение в темном пространстве. Люди еще не спали в этом снежно поблескивающем чуде, летящем над прозрачным туманом: весь корабль, казалось, звенел празднично-задумчивой музыкой.
Игорь Сергеевич долго смотрел на звучащее белое изваяние, и ему захотелось плакать, когда теплоход словно бы сморщился в темноте, пожелтел и потускнел, превратившись в меркло тлеющий в ночи, искрящийся комочек людского тепла и музыки.
Когда утихла береговая волна, поднятая теплоходом, он опять услышал в тишине, как колотит Зиночку озноб, как шумно и судорожно вздыхает она не в силах сдерживать отчаянных страданий, как жалобно постанывает и поскуливает. Но подойти к ней не решался, представляя ее теперь тоже каким-то тлеющим теплым комочком.
Он давно уже не испытывал такого острого чувства одиночества и непонятной вины. Слова ее, сказанные в злости, что он страшнее зверя и что на свете нет хуже его, запали ему в душу.
Он знал, что не нравится женщинам, и смирился с этим, втихомолку завидуя приятелям, которые, не отличаясь особенной красотой, не блистая умом, легко и просто сходились с женщинами, подчиняя их своим прихотям и капризам. Иногда он сравнивал себя с ними и не мог понять причины своей невезучести, похожей на напасть.
Он мог бы давно обозлиться на весь белый свет, заделаться отъявленным ханжой, брюзгой или целомудренным нравоучителем, громогласно презирающим любые шалости, любые нарушения семейной верности, казня своих приятелей за все их вольные и невольные грехи.
К счастью, этого не случилось с ним. Он, как и в юности, продолжал влюбляться, любить и не уставал надеяться на чудо, веря, что где-то на земле живет женщина, похожая на него, которая тоже, как и он, не умеет нравиться и которая, как и он, смиренно несет свой крест, тоже надеясь на чудо. Этого чуда он все время ждал. Когда же какая-нибудь женщина обращала на него внимание, он впадал в такую радость, что не в силах был сдерживать себя и свою глуповатую фантазию, пребывая в состоянии полной раскрепощенности, будто бы катастрофически пьянел, не замечая всей той пошлости, которой он старался развеселить, увлечь или разжалобить женское сердце, успевая как бы прожить со своей избранницей, или, точнее сказать, с женщиной, наградившей его вниманием, целую долгую и счастливую жизнь. Словно бы купался в своей радости, утопая в блаженном состоянии.
Он истязал себя безграничной радостью, выплескивая ее из своей души с такой царской щедростью, что через некоторое время душа его пересыхала и пропитывалась горечью. И тогда он впадал в другую крайность: замыкался, краснел за свое поведение и, стараясь хоть как-то оправдаться перед самим собой, начинал хулить людские привычки и самих людей, скованных правилами приличия, сдержанностью и наигранным равнодушием.
Он так запутывался в своих размышлениях о человечестве, что доводил себя чуть ли не до невроза, теряя сон и голову, не в силах хоть как-то примирить две противоположности: естество и правила хорошего тона.
Может быть, именно эту особенность Игоря Сергеевича женщины сразу же безошибочно улавливали чутким своим умом, зная заранее, что общение с таким человеком до добра не доведет.
Как бы там ни было, а Игорь Сергеевич всякий раз очень страдал, понимая снова и снова, что он совершенно не нравится женщинам. И страдания эти были совсем не пустячными, как полагали некоторые из его друзей. Путь к этим страданиям был слишком долог, чтоб запросто отмахнуться от них как от чепухи. Он со временем действительно превратился в лютого врага самому себе, и когда он говорил, что он страшный хищник, пожирающий свою собственную жизнь, он был не так уж и далек от истины.
Вот и в эту ночь, на дебаркадере, он бессонно смотрел в темноту и мучал себя такими пытками, допрашивал себя с таким рвением и зверской изощренностью, осуждал себя так жестоко, что было ему совсем не до шуток.
— Эй, вы! Послушайте! — раздался вдруг жалостливый голос Зиночки. — Я не могу больше так!
Голые стены зальца усиливали ее голос, будто она говорила в трубу. Она сидела все в том же углу, забравшись с ногами на лавку и запахнувшись полами пиджака. Игорь Сергеевич, привыкший уже к темноте, увидел светлеющие в потемках лицо и ноги.
— Тут под полом или под лавкой, не знаю, — говорила продрогшая Зиночка, — тут кто-то все время хлюпает. Вот послушайте… Сядьте вот тут, рядом, и слушайте, а то я боюсь одна.
Он покорно сел, коснувшись ее туфель, и прислушался. В гулкой тишине старого дебаркадера не слышно было ни единого звука, и только где-то на реке, которая сизо смутнела в пустом проеме открытого зальца, нарастал издалека шум приближающегося судна: по звуку Игорь Сергеевич угадывал в этом тяжелом шуме большую самоходную баржу.
— Я ничего не слышу, — сказал он полушепотом.
— Это вы пришли, — ответила Зиночка, — и оно перестало. А то все время что-то там шевелилось, как крысы какие-нибудь, хрустело что-то или чавкало, я не знаю… А тут могут жить крысы? Вообще-то чего им тут делать? — добавила она, испугавшись, наверное, одного лишь упоминания о крысах. — Им тут и есть-то нечего. Тут же даже буфета никакого нет.
— Это, наверное, вода хлюпала. Это когда какой-нибудь пароход проходит по реке, то волны раскачивают дебаркадер и хлюпают. Вы заметили, как он плавно качается, когда волны от пароходов или от барж? У меня даже голова немножко кружилась, такое плавное, плавное покачивание. Ну и, конечно, хлюпала вода под днищем. Он вообще, может быть, дырявый и там воды полно, под полом. А тут еще такие волнищи вдоль всего берега, — говорил он так, если бы перед ним была перепуганная до смерти девочка. — Еще бы не хлюпать! А может, он об камни дном трется? Вот и хрустит что-то.
— Я знаю, — ответила она, захлебываясь в страшной дрожи. — Я это слышала. Это совсем другое. А тут как будто все время кто-то бегает и что-то грызет. Может, это крысы?
Игорь Сергеевич подумал, что это вполне возможно, но с уверенностью ответил:
— Какие тут крысы! Если только водяные, так сюда забраться они не могут.
Зиночка опустила ноги на пол и поднялась. А Игорь Сергеевич услышал, как дрожит у нее нижняя челюсть и как зубы дробно и звонко постукивают друг о дружку. Она с трудом выговаривала слова из-за этой дрожи.
— Я ужасно… замерзла, — говорила она не в силах произнести букву «р», и у нее получалось «замеззза». — Жуткий… какой-то холод. Надо поггэться.
И она стала греться, махая руками и быстро-быстро шагая взад-вперед по тесному зальцу.
— Вы знаете, как я на вас зла! — говорила она. — Вы это знаете, конечно. Но спать-то здесь невозможно! Холодно! Ваш дурацкий пиджак совсем… ну совсем не греет! Я наверняка больная совсем из-за вас… домой… Ах-ха… Ой! Придумайте хоть что-нибудь! Почему вы не дрожите? А? Вам не холодно? Я сейчас греться… буду об вас как об печку. Мне все равно, что вы подумаете… А я не могу. У меня даже сердце болит и останавливается, так я замерзла. Вы не подумайте только! Вы вообще для меня никто. Просто замерзла. А стены тут ледяные… Все-таки вы… так… теплей, — говорила она, размахивая длинными рукавами пиджака, как клоун. — Мне сейчас все… все равно. Лишь бы согреться. А вообще я вас ненавижу… Так и знайте.
И когда она уверенно села рядом и, прижавшись, велела обнять, он со страхом обнял ее за трясущиеся плечи и сразу почувствовал себя теплой коровой, вспомнив давний рассказ старой бабушки про то, как ту одолевали крысы весной, когда разливалась река. «Утром войдешь в хлев, — рассказывала бабушка, — корова лежит, а они на ней греются, нахальные. Вот как страшно-то! Уходить не хотят. Тепло им, они и не убегают, пока корова не встанет. Не знаешь, чего и делать».
А Зиночка, как будто услышав этот бабушкин рассказ, стала зябко смеяться.
— У меня голова, — творила она сквозь тихий и сипловато-хихикающий смех, — совсем промерзла насквозь. Подышите на мою голову, а то я не знаю, что со мной будет… У меня так затылок стиснуло, как будто железом холодным.
И он, послушно прижавшись губами к ее упругим, пропахшим то ли лаком, то ли духами жестким волосам, стал старательно и медленно дышать в них теплым воздухом, как делал в детстве, согревая озябшие в варежках руки. Она, втискиваясь плечами в его грудь, ворочала головой, подставляя под губы то затылок, то виски, то темя. А он чувствовал холод, исходивший от ее головы, будто она была из камня. Смех ее опять вдруг соскользнул на слезы, опять она стала всхлипывать, представив себе, наверное, завтрашний день, когда ей придется взглянуть в глаза мужа.
— Ну во-от, — сказал Игорь Сергеевич, — опять вы плачете. Что ж тут поделаешь! Муж-то у вас злой?
— Не знаю, — ответила она.
— Вы что же… недавно женаты?
— Давно уже. Больше года.
— Да, это действительно… Постарайтесь-ка вы уснуть, Зиночка Николаевна, утро вечера, знаете ли… Это точно. А я вас согрею в своих, так сказать, объятиях. Печка из меня, конечно, неважная, но зато и мне тоже теплей. Давайте-ка забирайтесь на лавку с ногами, — говорил он, чувствуя, как у него у самого начал дрожать голос, — а я вас, как ребенка, возьму на руки. Вы и заснете, может быть. А мужу соврете что-нибудь. Такое вранье во благо. Зачем его мучать подозрениями? Бить-то он вас не будет, надеюсь? Он у вас не дерется?
— Откуда я знаю.
— Ну не бросит же он вас! Подуется день-другой… Перетерпите. Все это чепуха, Зиночка! А бросит, значит — дурак. Выйдете второй раз замуж. Это сейчас запросто! Молодая, красивая…
— Да что вы понимаете-то в этом, господи! — возмутилась Зиночка, но все-таки послушалась его, забралась на лавку, прижавшись плечом и головой к его груди. — Я тяжелая. Но ничего, подержите. Сами во всем виноваты, вот и терпите. Вообще-то… Ой, господи! — то ли всхлипнув, то ли как-то жиденько всхохотнув, воскликнула она. — Видел бы меня сейчас Шурка! Вот бы и узнали, дерется он или нет. И какой узнали бы — злой или нет. Он меня не бросит, конечно! Я не разрешу ему. А второй раз, как вы говорите, я уже вышла замуж-то. Шурка у меня второй муж.
— Вы, Зиночка Николаевна, локтем мне в ногу так уперлись. Как-нибудь в сторону его немножко. Вот так, нормально, так хорошо. Теперь спите, — сказал Игорь Сергеевич, не желая слышать о Шурке, о первом муже, о втором. — Все нормально. Спите.
Но Зиночка, пригревшись и перестав дрожать, словно бы не услышала его и, впав в какое-то слезливо-грустное настроение, стала рассказывать о Шурке.
Игорь Сергеевич знал за собой эту странную особенность: люди любили рассказывать ему про свою жизнь, как будто им становилось легче, если они именно ему доверяли маленькие и, как правило, очень личные печальные свои тайны.
Не отличалась оригинальностью и эта история, о которой, притаившись у него на груди, рассказала ему Зиночка.
Жила четыре года с мужем, но встретила однажды у проходной молодого человека, который ей понравился, и просто так подумала: «Хорошо бы он работал у нас в цехе, где одни только женщины — ни одного мужчины». На другой день он пришел к ним в цех и стал работать инженером-наладчиком… Послали на картошку, а она опять просто так подумала: «Хорошо бы и он тоже поехал». Приходит утром, а он стоит у проходной в резиновых сапогах и в бордовой нейлоновой курточке.
— Он у меня настоящий блондин, — тихо говорила Зиночка, и в голосе ее слышалась улыбка. — Вообще-то блондинов много, а красивых совсем нет. Это такая редкость! Блондин, да еще красивый! У нас с ним ничего такого там не было, просто прошлись раза два вечером. А разговоров! Он переживал ужасно. Даже здороваться со мной перестал. А я и не мечтала, что когда-нибудь он полюбит меня. На четыре года младше, мальчишка совсем, институт кончил — зачем я ему нужна! Ну и так далее… А теперь вот уже больше года как поженились. Вот вы говорите, портниха… А какая же я портниха, если я только одну операцию делаю на машине? Портниха — это когда все пальто, например, с начала до конца шьет. А я воротник один отделываю или строчку какую-нибудь… Мне все говорили, когда я за ним бегать стала, что ты, мол, дурочка, делаешь, с ума сошла, он тебя все равно рано или поздно бросит! Четыре года разницы! А я думаю: ну и пусть бросит. Все равно он моим будет.
Игорь Сергеевич чувствовал на холодной своей руке ее теплое дыхание, и было у него такое ощущение, будто кто-то акварельной беличьей кисточкой дотрагивается до его озябшей кожи.
— А первого, — спросил он, — бросили?
— А я его, можно сказать, через полгода после свадьбы бросила, — быстро и вызывающе злобно ответила Зиночка. — Развратник ужасный! Весь в мамочку свою пошел. Поехали как-то с ним на дачу к приятелю его, компания собралась человек восемь. Они мне сразу почему-то не понравились все. Ну а потом выпили, развеселились… Не хочется даже вспоминать. В фанты стали играть… Кому кто достанется… Я думала, это просто игра, а потом оказалось — нет. Он самый настоящий подлец! Я даже не знала, что такие есть на свете. Я думала, что у нас таких просто не может быть. Я ему все сказала утром, а он, конечна, мамочке своей… Ой, господи! — воскликнула она, приподнимаясь на локте. — Я как будто из грязи на чистое место вылезла, когда Шурку встретила. Он у меня такой хороший, такой добрый! Он в субботу работал, а мне велел съездить и отдохнуть. Хотели вместе ехать, а ему работать пришлось. Теперь даже не знаю, что будет! И все из-за вас! Ну вот, что мне теперь делать? До Шурки я жила как хотела: обманывала, врала, гуляла, потому что с подлецом жила. А с Шуркой, думаю, никогда врать не буду — все ему буду рассказывать как было… А теперь что скажу? Ну до чего ж вы все-таки… Сама я тоже, конечна, хороша! Ну хоть бы ладно, хоть бы вы мне чуточку понравились… А то ведь ну вот ни на столечко! Пошла за вами как дура. Вы, может быть, жизнь мне теперь испортили. Теперь у нас с Шуркой все по-другому будет… Ну вот скажите, зачем вы это сделали? Совесть-то у вас есть? Вы ведь чужое счастье совсем не цените! «Второй раз выйдете замуж»! Наверное, тоже развратник, если это вам так легко сказать.
— Я пошутил, Зиночка!
— Ничего себе шуточки! Я таких шуточек… Ой, господи! До чего ж вы мне надоели! Когда ж это утро наступит? На теплоход сядем, я куда-нибудь в уголочек забьюсь, чтоб вас не видеть и не слышать. А вы ко мне и не вздумайте приближаться! Я кричать буду. Я вас знать не знала и не хочу совсем знать. Мне и так из-за вас придется обманывать Шурку! Первый раз обманывать! Так хотела всегда говорить ему правду! От подлеца своего ушла, думала, никогда врать не буду. А вот из-за вас теперь опять. Вам-то все равно, конечно! Вы привыкли… Вы только и делаете что врете все время. И удовольствие от этого получаете. А мне теперь просто пытка! Ну что мне вот теперь делать? — сипло вскрикнула она в злости. — За что вы меня так обидели? Такое зло причинили! Какой же вы все-таки страшный человек! Как я вас ненавижу! До чего ж вы мне противны! Я уж думала — никогда! Ну никогда не буду обманывать Шурку. Столько врала в своей жизни… Опротивело все!
Опять слезы, опять прерывистое дыхание, всхлипывания, озноб, шмыгание носом. Игорь Сергеевич даже почувствовал, как руку уколола теплая капля.
Он никогда еще в жизни не попадал в такое трудное положение, понимая, что в еще более трудном, отчаянном положении оказалась незнакомая ему женщина, которую теперь держал в руках. Держал как дьявольский какой-то, сверхдрагоценный подарок, до которого нельзя дотронуться и которым никогда не придется ему обладать. И таким ничтожным, таким неприятным существом казался он сам себе, что не смел даже возразить этой несчастной женщине и хоть как-то оправдаться перед ней, полагая за благо хотя бы и то, что она не гонит его прочь, а позволяет быть с ней рядом, держать у себя на груди, ощущать тяжелую и в то же время легкую, воздушную плоть, словно в руках у него согревалась любимая жена, а не обозленная на него, ненавидящая, плачущая от отчаяния незнакомка.
Он любил ее, обмякшую в полудреме, уставшую и настрадавшуюся женщину, греющуюся на груди и отдавшую ему частичку своего дремотного, болезненного тепла, чтобы и он сохранил силы и не уснул, не уронил бы ее спящую.
Он так нежно и виновато любил ее, что когда она, совсем обессилев, уснула, он опять прикоснулся губами к ее жестким волосам и стал тихонько дышать в них, втягивая в себя теплые запахи головы, духов и лака.
Он думал о ней как о самой искренней и чистой женщине, какую когда-либо встречал в своей жизни. Ни тени обиды или злости! Одно только сладостное восхищение переполняло его душу, словно бы наконец-то в муках и терзаниях обрел он то, о чем не смел никогда даже мечтать.
И он был очень несчастен, зная, что ночь уже на исходе.
По реке в невидимом тумане двигалось с тяжелым сипением и гулом грузное и медленное чудовище, неся высоко в небе навигационные огни.
Игорь Сергеевич смотрел на огни, которые медленно плыли справа налево, минуя дебаркадер, а потом как будто бы замерли на месте и с железным лязгом и гулом стали приближаться к берегу, к земле, увеличиваясь в размерах и разгораясь все ярче и ярче.
Зиночка сползла к нему на колени, уткнувшись головой в живот, и крепко спала, лишь изредка всхлипывая во сне и жалобно постанывая. Что-то ей снилось. Наверное, у нее озябли ноги и, может быть, ей снилась боль.
А железное чудовище тем временем решило выбраться из воды на сушу, так близко оно придвинулось своими огнями к берегу. Что-то бренчало там, на невидимом судне, что-то позвякивало, громыхало.
Огни наконец остановились, замерли в темноте, и раздался пронзительно-скрипящий металлический звук, который оборвался тяжким стоном, подозрительно похожим на стон женщины. Этот прерывистый стон потянулся в ночную тишину, уныло оглашая спящую округу безумной мольбой и холодя сердце страхом.
Лязгали механизмы, что-то там глухо ухало, бубнило и опять стонало, выло тоскливо и отчаянно. То ли могучая якорная цепь издавала эти звуки, то ли это работали проржавевшие от вечной сырости стальные механизмы какого-то непонятного устройства.
Игорь Сергеевич напрягал и зрение и слух, сердце его в странном испуге и удивлении колотилось так округло и торопливо, будто это и в самом деле к берегу придвинулось из тьмы незримое чудовище, протягивающее к нему длинные, членистые, стонущие и лязгающие от напряжения стальные щупальца, которые вот-вот появятся из тьмы над дебаркадером, обхватят плавучую пристань и утянут к себе, в свою бухающую, громыхающую, шипящую утробу.
Но все стихло там. Лязгнуло железо. Потом раздался звонкий и гулкий стук. И сколько бы ни прислушивался Игорь Сергеевич, чудовище молчало. Лишь огни его все так же ярко горели в ночном небе, космически чуждые всему земному и таинственные.
Зиночка не проснулась. А когда утихло на реке, она вдруг зашевелилась, подтягивая озябшие ноги и чмокая пересохшими губами, плаксиво и несмело простонала во сне. И этот ее стон был похож на слабенькое эхо утихшего железного стона.
Руки Игоря Сергеевича онемели от холода и усталости, и он, когда она переворачивалась во сне, улучив момент, высвободил их из-под тяжести ее тела, размял окоченевшие пальцы, торопливо сжимая и разжимая их, и снова сцепил в мертвой борцовской хватке, обняв драгоценную свою ношу и не сводя глаз с мертвенно сияющих во тьме огней.
Он сам себе в эти минуты напоминал маленького сказочного героя, защищающего от злого волшебника свою возлюбленную, за которую готов был погибнуть, не отдав ее на поругание железному чудищу. Он в эти минуты забыл даже о том, что возлюбленная его принадлежит другому и что самым страшным чудовищем для нее является он сам, маленький и промерзший до костей герой, от которого она скоро убежит в страхе.
Он обо всем забыл, пребывая в радостном предвкушении битвы. Забыл и о Шурке, которым бредила Зиночка. Ему снился упоительный и тревожно-радостный, воинственный сон: ему чудились ликующие трубные звуки и тоскливые стоны поверженных врагов. Но в боевой этой потехе он с тревогой вдруг вспомнил о Зиночке.
И проснулся.
Руки его все так же были сцеплены в мертвой хватке. Зиночка дышала ему в грудь — озябшая, опухшая и очень измятая, с полураскрытыми и скошенными губами.
Он опять увидел ее и разглядел, потому что наступило уже утро.
Слева от дебаркадера метрах в ста от берега грузно горбился на воде ржавый силуэт земснаряда, пришедшего сюда ночью. В поселке перекликались песнями петухи.
Игорь Сергеевич закрыл глаза и попытался досмотреть ускользнувший от него радостный сон и, стараясь вспомнить его детали, зажмурился и притих в ожидании. Но у него ничего из этого не вышло.
«Что ж теперь будет? — подумал он в отчаянии. — Как же теперь жить?»
Звезда английской школы
В Москву прилетели чайки. Усталые, в молчании кружатся они над грязно-мутной вздувшейся Яузой. Светит солнце. Трамваи блестят, как на переводной картинке. Чайки снежно чисты над бурой водой.
Люди идут пешком через мост, проносятся в автомобилях, и чудится, будто все вокруг шумно и радостно движется: облака, вода, машины, люди. От зимних сугробов остались только черные поблескивающие бугры холодной мокрой копоти. Разбиты ломом и разбросаны на мостовой глыбы черного, как каменный уголь, льда.
Ветерок холодит потный лоб. Молчаливое кружение чаек меж гранитных берегов реки, над мертвой ее водой, на которую ни одна из них не садится, — что это? Может быть, древний ритуал птиц, предки которых прилетали сюда гнездиться еще в то время, когда здесь не было города? Может быть, в каких-то таинственных навигационных их картах навсегда запечатлелась конечная станция долгого пути — чистая и рыбная речка Яуза, впадающая в Москву-реку?
Здесь они отдыхали после перелета, здесь была еда, здесь они выводили когда-то птенцов — сюда их из века в век влечет до сих пор инстинкт. Привел и на этот раз. Зачем? Они как будто и сами не знают. Но кружатся, кружатся, взмывают ввысь, пикируют, ластятся к воде, чуть ли не касаясь пепельными крыльями грязной стремнины.
Люди смотрят на них и улыбаются, говорят: «Чайки прилетели», — точно птицы, прилетев в их каменное, машинное, грохочущее железом царство, тоже радуются, как и люди, весне.
Константин Леонтьевич Зямлин, живущий в доме над Яузой, смотрит на них из окна со смутной тревогой. Думает о птицах как о мудреных каких-то существах, прилетающих весной из теплых краев на свою печально-убогую прародину в ожидании чуда: нависших над водой кустов, песчаных отмелей на перекатах, камышовых зарослей, первозданной тишины и, главное, безлюдья. Не нравятся ему эти молчаливые, злые, как ему кажется, белые птицы, вековое терпение которых пугает его. Из года в год, от весны до весны — ждут не дождутся… Прилетают, кружатся, приглядываются, страдают, наверно, по-своему, а потом бесследно исчезают, чтобы опять вернуться сюда весной и еще раз убедиться, что их время еще не пришло.
А что для них время?! Столетие! Тысячелетие! Сколько там поколений сменится? Какая для них разница! В сущности, они исполняют заданную природой программу действия: эта река когда-то принадлежала им. И они как будто на что-то надеются, как будто чувствуют, что все еще впереди. Зямлину даже чудится порой, что чайки прилетают сюда, на Яузу, одни и те же, один какой-то их род, гнездившийся здесь сотни лет назад. Птенцы птенцов и новые птенцы — пепельные сверху, в траурно-черных капюшонах, одни и те же, какими были много тысяч лет назад. А птенцы, которых еще нет на свете, но которые, повзрослев, тоже когда-нибудь прилетят сюда, будут как две капли воды похожи на тех, что вьются теперь над Яузой.
Именно это однообразие и настраивало Зямлина на печальный лад — однообразие действий, привычек, инстинктов, которыми наделила белых этих птиц природа. Природа всесильна, но и она создала для себя законы, которые не преступает ни в коем случае, правя живым и неживым миром. Страшновато делалось, когда он думал об этой формуле жизни. Выходило так, что природа — это мудрое и всесильное государство, строго подчиненное своим же собственным законам, нарушить которые оно само не в силах. Лишь человек поставил себя вне этих законов. Будет ли прощение?
Так рассуждал Константин Леонтьевич, глядя из распахнутого настежь окна на кружащихся чаек.
Впервые он задумался об этом несколько лет назад, когда рыбачил в мае под Шатурой на Святом, или, как его называют местные жители, Свя́том, озере. Там, на топком берегу, в комарином царстве, стоит Дом рыбака, спортивная база, есть лодки. А за домом, в тридцати шагах от озера заболоченный, непролазный кустарник. Рядом город, трубы Шатурской ГРЭС, утробное гудение станции, всхлипы и стоны железа. И тут же в кустарнике живут соловьи, прилетая сюда каждую весну. Соловьев так много, что вечерами трудно отличить песнь одного от песни другого — в тихом вечернем воздухе разносится сплошное их пение, щелканье, свист, трели. Даже интерес пропадает слушать эту разноголосицу, которую перестаешь в конце концов воспринимать как соловьиное пение, будто это не соловьи, а лягушки поют в болоте. Соловей хорош, когда поет в одиночестве.
Константин Леонтьевич вышел из дома выкурить сигарету и, отмахиваясь от комаров, слушал. Тут же покуривал какой-то рыбачок из пенсионеров и тоже слушал.
— Вот удивляюсь, — сказал тот с задушевной ноткой в голосе. — Чего это соловьи гнездятся рядом с городом? Промышленность, шум, дым из труб, а им хоть бы что. Чего они к людям-то тянутся, не пойму. Как воробьи какие…
А Константин Леонтьевич, не раздумывая, будто знал это всегда, ответил:
— Это не они к нам, к людям, а мы к ним прижались. Понастроили тут всего, дыма напустили, грохоту. Они тут жили, когда ничего этого не было и в помине. Вот так, по-моему, дело было. Куда ж им деваться! Это их дом.
И даже разозлился на старого рыбака, не понимающего простой истины.
Мысль эта засела в его голове, и он часто стал задумываться, впадая всякий раз в необъяснимую тревогу.
Пошел уже второй год, как за Константином Леонтьевичем Зямлиным стала приезжать по утрам автомашина, поджидая его у подъезда: темно-синего цвета, не очень-то новая, но еще крепкая «Волга». Молчаливый и хмурый человек, сидящий за рулем, кивал ему, отвечая на приветствие, и Константину Леонтьевичу казалось порой, что торопливый стартер радуется встрече с ним больше, чем этот человек.
Имя его — Эдуард Серафимович. Лет — приблизительно сорок пять. Сильный и красивый мужчина, явно презирающий Зямлина и всем своим видом показывающий, что ему нет никакого дела до него, что только по чистой случайности ему приходится крутить баранку и возить от подъезда дома до подъезда института заместителя директора… Будто это какое-то недоразумение, что-то неестественное и несправедливое.
Зямлин толком не мог бы сказать, какой голос у этого человека, словно бы проглотившего язык. Он побаивался его, как побаивается ребенок строгую няньку. Но зато он часто слышал досадливый вздох шофера, стараясь всякий раз понять причину его недовольства, но не понимал ничего. Видимо, шофер страдал завышенной самооценкой. У него было много свободного времени, которое он использовал с выгодой для себя, калымя на московских улицах. А все, что отвлекало его от этого занятия, он считал несправедливым и накладным для себя делом. Он наверняка был втайне уверен, что Зямлин, волею случая поставленный у руководства институтом, пустой и никому не нужный человек; с трудом подчинялся ему, когда тот с предельной вежливостью просил подбросить его к министерству, или отвезти домой, или подъехать к определенному часу туда-то и туда-то, называя при этом шофера голубчиком. Шофер всякий раз морщился и досадливо вздыхал, неохотно и словно бы нерешительно тянулся рукой к ключу зажигания, а на лице его при этом было такое выражение, будто его толкали на какой-то неблаговидный поступок… «Ладно, так уж и быть, — как бы говорил он в досаде. — Но в последний раз. Больше не проси». Точно такое же выражение кривило его лицо, когда в толчее московских улиц кто-нибудь неосторожно пробегал перед радиатором его машины или какая-нибудь другая машина подрезала путь, нарушая правила движения, или плелась в левом ряду, не давая обгонять себя. Константин Леонтьевич так привык к сердитому своему шоферу, что и сам себя тоже чувствовал всегда нарушителем каких-то неписаных правил, не догадываясь при этом, в чем его вина.
И если Алла Николаевна, его жена, просила взять ее по пути, он искренне страдал, отказывая ей в этом, говоря, что неприлично использовать служебную машину не по назначению.
— Не обижайся, пожалуйста. Я не хочу, чтоб обо мне говорили всякое. Люди, знаешь… подумают, что это… А-а, да что! Ты уж прости меня, не могу. Не имею права. А потом, этот шофер… Очень странный тип. Он и меня-то, по-моему, с трудом терпит, будто я ему на закорки сажусь… Ну его к черту!
И он улыбался, ожидающе глядя на жену — понимает ли она его.
— Но ведь мне по пути! — удивленно восклицала Алла Николаевна. — Даже не надо никуда сворачивать. Разве это преступление?
— Нет, конечно. Но — я не хочу. И если ты этого не понимаешь, мне очень жаль.
И он уходил из дома, оставляя жену в полном недоумении.
Константин Леонтьевич Зямлин незаметно для самого себя поседел и стал похож на человека, который как бы все время подкрашивал раньше свои волосы в ореховый цвет, а потом ему надоело все это и он наконец-то явился людям в истинном своем обличье. Прямые его волосы с гладким зачесом обрели серебристый цвет с чуть приметной золотинкой. Оставаясь такими же густыми и послушно зачесанными, они лишь украсились этой переменой: Зямлин и раньше слыл красавцем среди друзей и знакомых, а теперь, к сорока семи годам, наконец-то понравился и самому себе.
Его австрийские, топорщащиеся над верхней губой усики, которые он сам с добродушной усмешкой называл монархическими, придавали мягкому и обволакивающе-ленивому взгляду блестящих его глаз известную строгость и определенность. Когда он хмурился, то создавалось впечатление, что хмурятся не брови, не глаза его, а сердитые усы. Редко можно встретить человека, которому бы так шли и были бы так необходимы усы, как Зямлину.
Он стал теперь часто слышать от знакомых женщин, открывавших вдруг для себя эту не замеченную раньше перемену в облике обожаемого приятеля, изумленные возгласы:
— Коська! Ты ведь совсем седой! И такой красавец! Когда это ты все успел, мальчик?!
И руки их тянулись к его драгоценным волосам, дотрагиваться до которых он никому не позволял, отстраняясь от душистых пальцев с приятнейшей улыбкой, играющей под строгой монархической щетинкой.
Он устал от поклонения, как устают порой красивые женщины от надоедливого внимания мужчин. Но это была приятная усталость.
Все друзья и родственники Константина Леонтьевича считали его человеком вообще во многом преуспевшим в жизни, относясь к этому по-разному, но тем не менее при встрече выказывая ему всяческое внимание и уважение как крупному научному и общественному деятелю, знакомство и родство с которым доставляло им удовольствие.
Ни они, ни сам Константин Леонтьевич, занимавший довольно прочное место в обществе, являясь заместителем директора научно-исследовательского института, о деятельности которого родственники и друзья Константина Леонтьевича имели смутное представление, — никто из них не знал об одном неприятном эпизоде, происшедшем в отдаленном от Москвы городе, где испытывался опытный образец машины, сконструированной учеными института.
А произошло примерно вот что. Машина сначала хорошо работала, но потом забарахлила, и никто никак не мог понять причину отказа. На испытаниях присутствовали инженеры и научные сотрудники института, а также представители министерства, среди которых был и заместитель министра той промышленности, для которой готовилась машина. Срывался план, таяла надежда на сдачу машины, на премии — срывалось буквально все, потому что замминистра был резко отрицательно настроен по отношению к новой машине. Тогда из другого министерства, которому подчинялся институт, прилетел тоже очень крупный работник, а вместе с ним прилетел директор института…
Короче говоря, началось спасение не только машины, но и чести научно-исследовательского учреждения, не говоря уж о тех средствах, которые были отпущены на проектирование новой машины. У кого-то из сотрудников возникла вдруг мысль вызвать из отпуска Константина Леонтьевича, который в это время отдыхал с женой и дочерью на Черном море.
— Это которого? — хмуро спросил представитель родного министерства. — Зямлина, что ль? А на кой черт он нам нужен здесь? Что он понимает тут? Что он может?
— Все-таки как-никак заместитель директора… и обаятельный человек, — возразил ему сотрудник с улыбкой. — А в наш век на обаянии, знаете, можно и в рай въехать и…
— Он никто! — досадливо морщась, оборвал его представитель министерства и, выдержав паузу, добавил: — Здесь нужен человек с головой, а не с обаянием… Обаяние! При чем тут, понимаешь ли? Тут не танцы, а мы не женщины…
Вполне возможно, что представитель министерства сказал это, находясь в крайне раздраженном состоянии духа, а может быть, страшная жара и пыльные суховеи, донимавшие все живое в том краю, где проходили испытания, и резко контрастировавшие с безмятежным черноморским пляжем, на котором в это время нежился Константин Леонтьевич, вызвали это грубое негодование. Но как бы то ни было — оценка, данная Зямлину, влетела в головы сотрудников, и они, потупившись, призадумались, решив в конце концов, что начальству виднее, и не стали с ним спорить. Тем более что положение с машиной было действительно очень серьезным, все были излишне возбуждены, все старались найти причину отказа, чтобы сбыть с рук свою злополучную работу, всем было и в самом деле не до Зямлина в те напряженные и трудные дни.
Но и то надо сказать со всей откровенностью: люди в силу непонятной какой-то своей слабости любят, когда при них за глаза или в глаза высокое начальство нелестно отзывается о начальстве непосредственном. Очень может быть даже, что представитель министерства знал эту людскую слабость и не случайно сказал, что Зямлин-де никто, завоевывая таким недостойным приемом некую, тоже очень странную и непонятную любовь к себе. Он как бы намекнул этим умным и головастым людям, что они для него значат гораздо больше, чем какой-то там Зямлин. Директора института в этот момент не было на площадке, он не слышал этих слов о своем заместителе, которого он всегда уважал и ценил, продолжая и в дальнейшем относиться к Зямлину так же. Чего нельзя было с тех пор сказать о сотрудниках института, которые, запомнив это высказывание крупного начальства, невольно стали относится к Зямлину с некоторым внутренним, скрытым недоверием, будто бы судьба Константина Леонтьевича была уже предрешена.
Неосторожное и несправедливое, по сути, высказывание вселило сомнение в головы остро и умно думающих сотрудников института, чуть ли не каждый из которых мог бы вполне заменить Константина Леонтьевича на его ответственном посту.
В институте с тех пор сложились нездоровые отношения между руководством и подчиненными: директор не знал, что его заместитель никто, а сотрудники знали это, отыскивая и находя все новые и новые недостатки в характере, в деятельности, в выступлениях и вообще в поведении Константина Леонтьевича Зямлина, который, в свою очередь, тоже не знал и даже не догадывался, что он, такой красивый, умный, уважаемый всеми человек, на самом деле никто.
Его, конечно же, пощадили сотрудники и ничего не сказали об этом неприятном эпизоде. И правильно, между прочим, сделали, потому что через некоторое время Зямлина назначили исполняющим обязанности директора института, а прежнего директора взяли в министерство. Это временное назначение так удивило сотрудников, что они облегченно вздохнули и стали замечать лучшие стороны в характере Зямлина — его доброту, интеллигентность, мягкость и, главное, способность слушать сотрудников и советоваться с ними, прежде чем принимать какое-нибудь решение, — предполагая, что он останется в должности директора. Но директор пришел, как говорится, со стороны, а Зямлин вернулся на свое место заместителя, искренне радуясь этому возвращению: ему и того было достаточно, что он несколько месяцев просидел в директорском кресле.
Друзья и родственники, конечно, узнали об этом, то есть что он был некоторое время директором, и стали говорить о нем как о Коське-директоре.
Сам же Константин Леонтьевич относился к этому с привычным, врожденным равнодушием, ибо никогда не страдал, как его шофер, завышенной самооценкой, зная, что не годится на должность руководителя крупного научного учреждения. «Я механик. Простой механик», — не уставал он повторять своим знакомым, гордясь и даже как будто бравируя этим.
Веселый и с виду легкомысленный человек, любимец женщин, он особенно был любим ими за то, что такой известный всем умница и красавец был рыцарски предан своей жене. Он как бы вселял своим примером надежду и веру в возможность истинной любви, длящейся долгие годы, был воплощенной мечтой каждой женщины…
Некоторые из них даже говорили ему в минуты откровенности:
— Ох, Коська! Если бы не Аллочка, я бы увела тебя. Я бы жизнь свою положила, чтоб ты был моим, цель бы себе поставила такую. Все бы сделала, лишь бы понравиться тебе, лишь бы влюбить в себя!
Он же в минуты таких странных признаний чувствовал себя виноватым перед той, которой нравился. Ему становилось так жалко бедняжку, что он тут же лез к ней с поцелуями, словно хотел вымолить прощение за свою любовь к жене, встречая всякий раз решительный отпор, который обескураживал его и веселил, потому что он не мог ничего понять: то ему в любви признавались, то отпихивали. Нет, он решительно не понимал женщин! Не понимал, что им было нужно от него.
— Какой ты хороший, Коська! — говорили ему.
— Я?! — восклицал он, топорща серые усы. — Во мне черти водятся! Я такой мерзавец, каких поискать еще надо! Я даже больше скажу! Если бы мне, например, дана была вторая жизнь и если бы я знал, например, о том, как я прожил первую, я бы ни за что не согласился прожить ее так же, как теперь живу. Ни за что! Я бы попросил у бога, во-первых, другую физиономию, потому что эта мне так наскучила, что я бриться не могу, у меня настроение портится, когда я себя в зеркале вижу. Это во-первых! А во-вторых, я бы никогда не женился, а вел бы себя как отъявленный распутник. Меня какая-нибудь красотка зарезала бы из ревности или задушила подушкой. Я бы плохо кончил… Но зато бы мне никто не говорил, что я хороший. А в-третьих… Впрочем, об этом я умолчу, потому что это такое желание, которое нельзя произносить вслух. — И он начинал хохотать, откидывая голову, отчего волосы его шелковисто переливались, рассыпаясь по голове.
— Нет, Коська, ты просто прелесть! — говорили ему. — Ты сам не знаешь себя, не знаешь себе цену! Ты истинный гений!
Чего ему только не говорили! А он потом рассказывал обо всех этих глупостях своей очаровательной Аллочке и жаловался на людей, от общения с которыми стал все больше и больше уставать.
Искренне развеселило его лишь неожиданное известие о том, что его дочь, которую он обожал, выходит замуж.
— Катька? Замуж?! — крикнул он, собираясь захохотать, но вместо этого нахмурил усы и спросил: — За кого? За Сережку? Ха!
И стал ждать случая, чтобы помучить будущего зятя.
— Скажите, Сережа, — начинал он с приятнейшей улыбкой, от которой глаза его обретали выражение полусонного какого-то блаженства, а взгляд становился рассеянным, — почему вы отрастили себе эту милую бородку? Посмотрите на меня. Я уже седой старый человек, мне, например, усы нужны. Я не знаю зачем, но чувствую, что они не мешают мне. Согласитесь, я выгляжу в них так, будто родился усатым. А вам-то зачем? У меня грубая кожа, — говорил он, раздувая шею, как токующий тетерев, — грубые черты лица, и, как видите, эта австрийская щетинка над губой — единственное украшение на голых, так сказать, утесах. А у вас? У вас нежнейшая кожа, как у девушки, и цветом такая же нежная. Вы хорошо загораете на солнце… Вы очень приятный молодой человек. Зачем вам борода? Ведь небось, если взять да сбрить ее, у вас окажется подбородок голубого цвета… с каким-нибудь маленьким розовым прыщиком. — Константин Леонтьевич откидывался в кресле и начинал смеяться, широко раскрывая пятисотрублевый, как он стал теперь говорить, рот, имея в виду белые, искусно сделанные коронки. — Катя, — говорил он своей дочери, затянутой в джинсы, похожие на рейтузы, — разве можно любить человека с голубым подбородком?
Он поспешно поднимался с кресла, зная, что дочь сейчас начнет ругаться с ним, и зная также, что она овладела некоторыми приемами карате, занимаясь чуть ли не целый год этим видом спорта. Он строго топорщил усы и, весело блестя глазами, прикрывался заранее от дочери ладонью, как бы отодвигая ее от себя.
— Да, да, да! Я валяю дурака. Да! И не хочу с вами ссориться. У меня сегодня хорошее настроение, и вы, пожалуйста, не портите мне его. Я имею право на такие шутки, я отец. А ни ты, ни Сережа не посмеете на меня обижаться, потому что иначе знаешь что будет? Я тебя не отдам! Вы понимаете, — обращался он к Сереже, — что я хочу сказать? В нашей семье уже есть усы, это мои усы, — а скажите на милость, зачем нам борода? О дети, дети! — шумно вздыхал он, очень довольный собой, и пятился к дверям своего кабинета. — Пороть вас некому! — И уходил, провожаемый пристальным и каким-то гипнотизирующим взглядом дочери.
Потом было слышно, как Константин Леонтьевич объяснялся с женой, хохоча и играя голосом:
— А что я такого сказал?! Ну что? Ну в самом деле, подумай, как это смешно — тесть с усами, зять с бородой. Волосатое какое-то семейство. Люди, чего доброго, начнут смеяться над нами. Объясни мне, пожалуйста, разве он не мог бы жениться на Катьке без бороды? Или что же, Катька не полюбила бы его? Ну действительно, зачем нам нужна борода? Бороды носят люди с незначительными лицами, а у Сережки хорошее лицо, умное, толковое. Ему про это никто еще не говорил, наверное. Это должен сделать я. Вот и все. Какая же ты все-таки недогадливая!
В доме у Зямлиных, а точнее сказать, в хорошей трехкомнатной квартире, а еще точнее, в кабинете Константина Леонтьевича стояла старая мебель, но не купленная в комиссионном магазине, как это часто теперь бывает, а оставшаяся тут с дедовских времен. Большой книжный шкаф из цельного дуба, с тремя высокими стеклянными дверцами, зашторенными изнутри выгоревшим синим шелком, казался не таким уж и громоздким под высоченными потолками старинного дома. Шкаф этот был украшен пилястровыми колонками с каннелюрами, а поверху шел сложного профиля карнизик с фронтоном над средней дверцей и с вензелем. Шкаф никогда еще не ремонтировался, но ремонта и не требовал. Все было отлажено, пригнано, отшлифовано и прочно склеено в этом великолепном сооружении на века. Не шкаф, а какой-то сказочный деревянный дворец, в котором собрались сочинения лучших и талантливейших людей прошедших веков. Светлое его нутро так сладостно и таинственно пахло деревом и книгами, так ярки и красочны были золоченые корешки старых книг, внушающие раболепное уважение к мудрости гениев, что Зямлины за последние десять, а то и пятнадцать лет почти не прикасались к драгоценным книгам и редко открывали дверцы шкафа, словно бы боясь нарушить его священный покой. Шкаф этот со временем как бы превратился из дворца, каким был раньше, в храм, в который Зямлины не заглядывали, оставаясь при этом, так сказать, верующими людьми. Дубовый письменный стол с тяжелыми тумбами и крытый зеленым и тоже выгоревшим сукном был обширен, как футбольное поле. Иногда жена Константина Леонтьевича, задумчиво глядя на этот стол, говорила:
— Нет, все-таки что ни говори, а если бы у нас были деньги… хорошие деньги, — добавляла она, — я бы все это убрала со стола, купила бы где-нибудь, помнишь, мы видели… малахитовую пепельницу… Сколько она стоила? Кажется, две тысячи. Бросила бы на стол лист чистой бумаги и придавила бы ее малахитовой черепашкой… Помнишь черепашку эту малахитовую? Какой-нибудь дурак купил и разрезал ее на всякие там перстни, серьги… И разбогател, да? Жалко!
Константин Леонтьевич с укоризной смотрел на нее, добродушно топорща монархические усы, а жена, понимая его без слов, говорила:
— Ну, конечно, Костя, конечно… Но все-таки…
Малахита на столе не было. На нем стояли две старинные чернильницы из литого стекла с бронзовыми крышечками, которые давным-давно были сухими, сияя ясными гранями и оставаясь на столе как памятники кропотливой некогда и трудной работы с пером, чернилами, бумагой, кляксами и пресс-папье. Пресс-папье из зеленой яшмы тоже покоилось на столе, как и яшмовые пеналы для перьев, как бронзовые часы, показывающие ажурными своими стрелками на пожелтевшем циферблате ровно семь часов сорок семь минут. Они тоже служили памятником.
Эта комната вообще была памятником деду, врачу-педиатру, известному в свое время в старой Москве и спасшему немало детских, не окрепших еще жизней. Он лечил от дизентерии, скарлатины, дифтерита и прочих коварных тогда и жестоких болезней, с которыми теперь расправляются без особого труда все врачи мира.
Когда-то он снимал эту скромную по тем временам квартиру в частном доме, до сих пор возвышающемся над Яузой и над покатым переулком, по которому дети и подростки катаются весной на велосипедах.
Каталась недавно и Катька. Родители не рады были, что купили ей велосипед, потому что когда зацветали старые тополя, одеваясь в бордовые сережки, когда светило солнце и дети вычерчивали мелом на тротуаре классики, Катька со своими друзьями носились по переулку на велосипеде. Они с усилием поднимались вверх, на самое высокое место покатого переулка, а потом неслись вниз, задирая ноги чуть ли не на руль.
Однажды Константин Леонтьевич, подъехав к подъезду, увидел, выходя из машины, как его дочь вместе с ребятами, раскрасневшаяся и потная, летит мимо него вся какая-то голубо-алая, возбужденная и счастливая на сверкающем велосипеде, не видя ничего перед собой и не слыша, а в это время снизу поднимается по переулку автомашина… Он, ужаснувшись, крикнул что было мочи:
— Катя!
Но Катька не услышала его, автомашина прижалась к тротуару, пропуская бешеную эту компанию на сияющих колесах, а Константин Леонтьевич, взбешенный и полуживой от страха, решил, что велосипед не для Катьки. Или, во всяком случае, не для Москвы. Но отнять велосипед у дочери не смог. Она увидела отца и, нажимая на педали, удрала от него.
Рос непонятный какой-то человечек, который, как иногда казалось Константину Леонтьевичу, со странным, недетским подозрением поглядывал на своих родителей и которому они, родители, словно бы мешали жить по той программе, какую задавала ему, этому человечку, жизнь.
И еще раз Константин Леонтьевич был свидетелем Катькиных «штучек», когда однажды они с женой спускались по эскалатору в метро, оставив на кухне записку, в которой сообщалось, что они с мамой ушли в гости, что ей надо съесть то-то и то-то и что придут они примерно тогда-то: обычная записка, которую они всегда оставляли дочери, если без нее уходили из дома. Они стояли на ползущих вниз ступеньках эскалатора, машинально разглядывая лица людей, поднимающихся вверх… Чье-то лицо останавливало внимание, другое проскальзывало в сознании как нечто несущественное — и вдруг… Катька… Она стояла рядом с каким-то парнем, обняв его за поясницу, держа при этом на своем плече лениво наброшенную его руку, и целовала его в шею. Парень покровительственно смотрел на нее, скосив маслянисто-плывущие глаза, и тоже вдруг поцеловал Катьку в затылок, в то самое место, в которое всегда целовал свою дочь сам Константин Леонтьевич, опьяняясь всякий раз счастливым каким-то дурманчиком, исходившим от кожи, от волос, от всей ее головки, которую он так любил… А теперь вдруг этот наглец посмел поцеловать ее, посмел вдохнуть ноздрями ее благовоние.
Константин Леонтьевич вспыхнул от стыда, боясь, что Катька увидит их, но Катька, как и тогда на велосипеде, словно бы ослепла и оглохла, видя и слыша только этого самоуверенного парня, который скользил взглядом по лицу Константина Леонтьевича как по пустому месту, отчего Константин Леонтьевич вздрогнул и моргнул, будто его полоснули чем-то острым.
Алла Николаевна стояла на ступеньку ниже и, как это ни странно, ничего не заметила.
— Ну тебе же померещилось, господи! — говорила она ему, когда они ехали в вагоне. — Катька обнимала парня при людях? И целовала его? Да ты что? Ты что, не знаешь Катьку?
— В том-то и дело!
— Я тоже не слепая, я тоже смотрела, — говорила Алла Николаевна, — и уж, конечно, увидела бы дочь. Это невозможно! Я бы обязательно увидела.
— Она была к нам спиной.
— Ну и что? Что ж я, не узнала бы ее со спины? Какой ты странный сегодня. В толпе, в людском море малейшее ее движение, ее взгляд, контур ее головы, плеч… Что угодно! Я бы сразу узнала. О чем ты говоришь! Я же мать.
— Выходит дело, что я лишен этого чувства?
— Ну неужели непонятно? Я же мать!
— А я отец. И что из этого? Я видел, а ты не видела.
— Я не могла не увидеть!
— Ха-ха! — сказал с раздражением в голосе Константин Леонтьевич, начиная злиться.
— Вот тебе и ха-ха, — передразнила его Алла Николаевна тоже со злостью.
Они поссорились и, когда пришли в гости к своим друзьям, не скрывали этого, а Константин Леонтьевич, чтобы досадить жене, обо всем увиденном в метро рассказал, выводя Аллу Николаевну из терпения, которая накричала на него при людях.
— Люкс, ребята! Все — люкс! — криком говорил хозяин дома, стараясь помирить их. — Дети растут, как им надо. Это мы росли, как грибы… А они — как надо. Все люкс!
Он принимал гостей в расстегнутой на три пуговицы рубашке с засученными рукавами, из-под которой выпирали мощные, заросшие дремучим черным волосом грудные мышцы; лицо его было рассечено шрамом, заполученным еще в детстве. Ему очень нравилось, что Зямлины ссорятся в его доме, доверяя свои тайны ему и общим друзьям, одни из которых приняли сторону Константина Леонтьевича, а другие поддерживали Аллу Николаевну, уверяя Константина Леонтьевича, что Катька не такая и что он, конечно же, ошибся. В конце концов и сам он стал сомневаться: Катька ли это была?
— Ну хорошо, я ошибся, — говорил он, удивленно выпячивая щеточку усов. — Но ведь не в этом же дело! Получается, что она может узнать дочь в людском море, а я, такой вот тупица, не могу, потому что, видите ли, всего лишь навсего отец, то есть никто с ее точки зрения. Что за чушь собачья?!
— Коська, ты люкс! Отец, отечество, отчество, отчизна, отчий дом. Люкс! — кричал счастливый хозяин. — Но и ты, Аллочка, тоже молодчинка! Знаешь свою дочь и веришь ей. Ты же, отец, не веришь. Это худо. Надо исправляться! Все люкс, ребята! По местам и за дело. Все правильно! Так и нужно. Пришли, высказали все, что накипело. Разобрались все вместе! Ох, люблю я вас, ребята! Вали в кучу, а там разберемся, что мое, что твое. Будь искренен с друзьями! Болит душа — раскрой, разорви грудь, покажи сердце. Вот оно! Нате смотрите! Оно ваше! Все люкс. Другой жизни нету… Аллочка, я же тебя люблю, ты знаешь об этом. Я люблю тебя восемнадцать лет… Нет! Время, бог ты мой! Уже девятнадцать! Улыбнись, красавица, скажи своему Коське, что он зазнался, и поцелуй его… А я отвернусь, чтоб никто не увидел моих слез… Красавцы вы мои!
В нем текла южная кровь, он бывал велеречив и шумен, когда у него собирались друзья. Его звали Левкой. Впрочем, тут все были Левки, Коськи, Юрки, Лешки, хотя всем уже под пятьдесят. А женщин звали Аллочками, Тонечками, Сашеньками.
Со стороны молодого какого-нибудь человека, с поверхности другой какой-нибудь планеты это могло бы показаться смешным и нелепым. Но это все равно что на шумной улице, стоя на тротуаре, смотреть на проносящиеся мимо автомашины, мотоциклы, троллейбусы и удивляться, как это могут люди за рулем нестись в такой толчее и скученности, сидя в своих кабинах, салонах или верхом на мотоцикле, и не сталкиваться друг с другом, не биться бортами и бамперами. Со стороны это кажется почти невероятным! А ведь, когда сидишь за рулем, картина совсем другая: ты в общем потоке, среди таких же, как и ты, водителей. Автомашины впереди тебя, сзади, сбоку, то чуточку приблизятся к тебе, то отодвинутся, то прижмутся, то отплывут в сторону. Нет никакой суматохи и бешеной езды. Все плавно, а за шумом собственного автомобиля и бесшумно. Ты спокойно сидишь, чуть подправляя рулем автомобиль, разгоняя его плавно, давя носками ботинок на акселератор, или перебрасываешь ногу на педаль тормоза, перестраиваешься из ряда в ряд, если тебе надо свернуть на другую улицу. Ты среди своих, которые тебя понимают.
Так и тут — никто не состарился. Просто где-то рядом выросли глупые дети. Они еще пешеходы, стоящие на тротуаре. А ты посреди шумной улицы, за рулем. Вот и все. Такая вот простая теория относительности.
Домой Зямлины возвращались в мере и согласии, а Константин Леонтьевич обещал Аллочке ни о чем не расспрашивать Катьку, согласившись, что это было бы непедагогично.
— Ее вообще лучше не трогать в этом году, — говорила Алла Николаевна. — Десятый класс — это такой ответственный период в жизни девочки, что я просто боюсь за нее: как бы не сорвалась. Все-таки звезда! Лучшая ученица!. И даже допускаю, что она с кем-то там ехала… Ну и что? Сколько еще будет этих у нее… всяких… Я как-то спокойна за нее в этом плане.
Катька росла способной и очень сообразительной девочкой. Ей было четыре года, когда она поставила в тупик Аллу Николаевну своим вопросом. Ехали как-то в троллейбусе, сидя у окошка, и Алла Николаевна увидела свою подругу, идущую по тротуару.
— А вот пошла моя хорошая подруга, — сказала она дочери.
— Мама, а разве бывают плохие подруги? — спросила Катька. — Если она плохая, то какая же она подруга? Разве бывают?
С тех пор Алла Николаевна поняла, что у нее гениальная дочь, и, когда подошло время, отдала ее в английскую школу, в которой та скоро преуспела и стала лучшей ученицей по языку. К десятому классу Катька свободно говорила по-английски. Алле Николаевне только не нравилось, если она со своими друзьями при ней говорила по-английски и если все они, странные эти мальчики и девочки, начинали смеяться.
— Что вы смеетесь? — весело спрашивала Алла Николаевна. — Расскажите и мне. Мне тоже хочется посмеяться.
— Но ведь ты же, мама, все равно не поймешь, — за всех отвечала Катька. — Простая игра слов, но это понятно, если знаешь английский. А по-русски ничего смешного.
— Почему же это по-русски вдруг ничего смешного? — удивлялась Алла Николаевна. — Как это может быть? Странно. По-английски смешно, а по-нашему нет… Что же, русские дураки, что ль?
Она обижалась за русский язык, который дочь словно бы разучилась ценить, хотя на самом деле обижалась на Катьку, никогда ничего толком не объяснявшую матери. Что такое, например, игра слов? Анекдот, что ль, какой-нибудь английский? Может, неприличный?
Она учила в школе немецкий, но не знала языка, оставшись глухой к чужой речи. На свою дочь смотрела как на какое-то заморское чудо, невольно преувеличивая значение свободного владения иностранным языком и проча дочери большое будущее. «Вот поступишь в иняз…» — любила говорить Алла Николаевна, мечтая о том времени, когда можно будет сказать друзьям, что Катька поступила в Институт иностранных языков. «Вот если Катька поступит в Иняз…» — говорила она и мужу, не предполагая и не догадываясь о той опасности, какая подстерегала дочь в будущем в связи с этим общим в семье Зямлиных настроением.
Бывают среди женщин такие счастливые матери, жизнь которых полна неизбывной любви к своим детям. Такой матерью была Алла Николаевна. Она не заглядывала в будущее, была непрактична, как все любящие люди, но не строила и воздушных замков, как некоторые. Она просто жила интересами дочери, волнуясь больше, чем дочь, перед ее экзаменами и радуясь тоже больше, чем дочь, когда та приносила пятерку по языку или четверку по математике, — жила от осени до весны, от первого ее класса до десятого, рассчитывая и дальше жить в счастливой напряженности от одной сессии до другой. А что там должно было получиться из дочери в далеком будущем, какие привилегии ожидали ее в жизни — об этом она никогда не задумывалась, словно у нее не хватило на это смелости, а может быть, и фантазии.
Все родственники, друзья и знакомые знали, что Аллочка в девичьи годы занималась в балетной школе у какого-то, как она говорила, известного учителя, а именно у Андрея Леонидовича Каменецкого, который, как скромно добавляла Аллочка, прочил ей великое будущее.
— Сейчас смешно говорить и даже как-то неловко делается, но когда я вспоминаю себя юной, я совершенно не верю, что это была я… В пачке, в пуантах, легкая, как перышко… А потом эта ужасная травма… Когда я очнулась в больнице, — рассказывала Алла Николаевна новым своим знакомым, которые ничего еще не знали про нее, — я первым делом спросила у врача… Я не спросила, буду ли я жить. Мне было тогда все равно! Я спросила… — И всякий слушающий ее тут же догадывался, видя, как блестят глаза, как волнуется голос Аллы Николаевны, что она, конечно же, спросила, будет ли она танцевать. — Да! Я спросила, буду ли я танцевать. И я помню, врач спокойно и тихо сказал с улыбкой: «Подожди, милая, все своим чередом». Ему-то важно было, конечно, вернуть меня к жизни. Он не понимал, что мне не нужна была жизнь без танца… Этого никому не понять. Нет… — Она грустно улыбалась, как бы жалея людей, не знавших порхающего танца, а потом какая-то судорога сводила ее губы и она изменившимся голосом говорила: — А я теперь не могу даже видеть балет. Я не хожу в театр, но если даже по телевизору показывают, я тут же переключаю на другую программу. И фигурное катание тоже. Нет, я не могу. Что-то такое произошло со мной? — вопросительно и задумчиво заканчивала она свой рассказ. — Сама не пойму. Я, правда, потом преподавала. У меня пятьдесят учеников. Все танцуют. Конечно, в самодеятельности. Но один татарин… такой симпатичный парнишка, — говорила она с проснувшейся улыбкой. — Я совершенно не рассчитывала на него. На кого, на кого, а уж на него-то! Он ничего не умел. Видно было, что он просто не может, нет таланта. Но такой упрямый! Говорил мне: «Я все равно, Алла Николаевна, буду танцевать лучше всех». Смешно-то смешно, а получилось, как говорил. Он один-единственный танцует в профессиональном ансамбле. Вы знаете, как это мне приятно! У-у-у! Это невозможно передать словами.
Когда она рассказывала про это, то порой даже у Константина Леонтьевича, который много раз слышал исповедь жены, возникало сомнение — не выдумывает ли Аллочка про свою прежнюю жизнь, не сочинила ли ее, поверив в истинность своей фантазии, как это случается иногда с людьми? Его всегда настораживало то, что Аллочка не помнит каких-то таких подробностей, без которых ее рассказ держится только лишь на интонации голоса, на чувстве, а не на фактах. Например, что это за падение было, после которого она потеряла сознание и ей спасали жизнь? Или, например, зачем нужно было ей говорить людям, что она не смотрит балет или фигурное катание, когда он сам бывал свидетелем ее повышенного интереса к тому же фигурному катанию, особенно к одиночному катанию мужчин, и в частности к выступлению ее любимца Игоря Бобрина?
Он не мог понять, что за чертовщина мучает жену, заставляя ее обманывать людей, и зачем ей это нужно. Неужели она думает, что то, чем она теперь занимается, то есть работа художника-модельера, — всего лишь жалкая тень былых ее мечтаний? Словно бы когда-то она кем-то была, а теперь она — никто и остались ей в жизни одни лишь воспоминания о прошлом.
Ему было обидно это слушать, потому что в теперешней ее жизни виноват был немножечко и он сам. Она хоть и не говорила никогда об этом и, может быть, у нее даже в мыслях ничего этого не было, но Константин Леонтьевич воспринимал ее воспоминания как жалобу на жизнь, в которой не осталось для нее ровным счетом ничего интересного.
Это очень обижало его. Каким-то проклятием стала для него эта странная история с балетом, с бездарным учеником, который оказался талантливее всех, танцуя в ансамбле. В каком ансамбле? Где?
— Алла, опять ты за свое! — досадливо говорил он всякий раз. — Давай поговорим о чем-нибудь другом. У каждого есть свои какие-то воспоминания, но ведь нельзя же жить прошлым!
— Ты это так говоришь, — отвечала ему Аллочка с усмешкой, — будто для меня есть что-то более дорогое, чем это… Если тебе неинтересно, не слушай, пожалуйста. А потом, какое же это прошлое? Это то, что всегда со мной. Я этим живу. И вообще, как не стыдно?!
Она так возмущалась, когда он останавливал ее, что ему чудилось, будто он нарушал всякий раз заповедные какие-то границы, переступая за ту черту, где начиналась другая Аллочка, ему непонятная и чуждая.
— Хорошо, я уйду, — говорил он, пожимая плечами. — Конечно, я не хочу это слушать в сотый раз. Зачем? — И уходил, громко клацая дверной защелкой.
Он не любил другую эту женщину, которая иногда просыпалась в Аллочке, и даже побаивался ее. Это было похоже на то, как если бы его жена вдруг ни с того ни с сего пьянела у него на глазах, теряя рассудок, или впадала в сомнамбулизм. У нее делалось какое-то нехорошее, безжизненное лицо, и он не узнавал ее, чувствуя себя так, как чувствует человек, забывший вдруг собственное имя или собственный домашний телефон. Смущение, страх, тревога — все это теснилось тогда в его груди. Он очень тяжело переносил ее воспоминания, похожие на какую-то странную зачарованность, вывести из которой Аллочку он не мог: она становилась неуправляемой на это время.
Иногда встревоженное его воображение приводило к мысли о том, что Аллочка только и живет теперь на свете ради этих упоительных минут лжи и нелепого вымысла, прозябая душою все остальные дни жизни и делая только вид, что живет, любит, улыбается, сердится или заботится о нем и о дочери, находясь на самом деле в постоянном поиске человека, который еще не слышал ее несчастной истории и который выслушает ее до конца и, может быть, даже поверит ей.
Константин Леонтьевич гнал прочь эти догадки, произнося спасительное: «О женщины, женщины, вы яд, разлитый по земле нашей!» — вкладывая в этот перифраз известного восклицания классика всю свою боль, все тревоги и сомнения.
Прошло между тем два с лишним года с тех пор, как Катька окончила школу, получив почетное звание звезды английской школы, присвоенное ей матерью, потому что по этому предмету дочь была впереди всех.
Но ничто — ни самоуверенность, ни поддержка родителей — не помогло ей поступить в том же году в Институт иностранных языков: ей не хватило балла. На другой год, занимаясь несколько месяцев с учителем, который натаскивал ее якобы в соответствии с требованиями института, Катька недобрала половины балла, но не отчаялась, а стала готовиться к третьей, и, как ей казалось, решающей, попытке.
И вдруг это неожиданное замужество!
Константин Леонтьевич был очень удивлен. Алла же Николаевна увидела в замужестве как бы судьбою дарованную дочери передышку от навязчивой идеи поступить в институт. И не только дочери! Девочке пошел двадцатый год, рассуждала она, и если Катька не поступит с третьей попытки, то ничего страшного не случится, потому что она будет замужем и как бы при деле. Если же она все-таки поступит, то это будет, конечно, совсем хорошо, потому что тогда она станет вольной птичкой. Муж студентки Иняза, по представлениям Аллы Николаевны, должен будет понять свою роль и смириться со своим положением.
— Ей нельзя делать ставку на семью, — говорила она. — В наше время это стало так зыбко и так непрочно. Ты же понимаешь, — говорила она Константину Леонтьевичу, — я сама никогда бы не вышла замуж даже за тебя, если бы не травма, если бы я могла танцевать. Ого-го! — восклицала она, увлекаясь. — У меня была бы тьма поклонников! Ты бы сам не смог со мной жить. А если Катька поступит в Иняз, то, конечно, там такая обстановка, такая вольная студенческая жизнь, такие юноши… Ничего страшного не случится, если они и разойдутся с Сережей. Катьке надо внушить мысль об этом. Пусть выйдет замуж, сменит фамилию — это освежит ее душу. Все-таки это звучит: Екатерина Веденичева, или Катенька Веденичева… А там будет видно.
Константин Леонтьевич не узнавал жену.
— Видишь ли, — говорил он ей, удивленно хмурясь, — я не могу понять вот чего… Зачем вообще что-то планировать, искать какую-то выгоду из одной ситуации, из другой?.. Мы никогда этого не делали раньше! Зачем же нам… Ну хорошо! Но ведь Катька не в балерины готовится! У тебя такое превратное представление об Инязе, что я слов не нахожу. Это очень серьезный институт, готовит серьезных специалистов… О чем ты?
— О чем ты сам?! По-твоему, балет — это несерьезно? — вспыхивала Алла Николаевна. — Что ты сказал? Подумай, что ты сказал? Ты походя оскорбляешь во мне самое святое, что у меня есть, и хочешь, чтоб я тебя слушала.
— Что за дьявольщина! Кого я оскорбляю?!
— Ты даже не заметил! Ты сказал: «Но ведь Катька не в балерины готовится»… Сказал? А потом что? Потом: «Институт готовит серьезных специалистов»… Как же тебе не стыдно?!
— Я не хотел противопоставлять… Я просто… подчеркнул, что она не в артисты готовится…
— Нет, ты невыносимый человек!
— Алла!
— Что Алла? Ты не хочешь меня слушать, не хочешь посоветоваться. Тебе наплевать на судьбу дочери, на мое здоровье.
Они ссорились с необычайной легкостью, забывая о причине ссоры и наворачивая ком взаимных обид и обвинений с какой-то иезуитской изобретательностью. Ссорились без крика и брани, без слез, а потом никогда не просили друг у друга прощения, словно ссоры эти были для них необходимы, как необходим аварийный какой-нибудь клапан в паровом котле или в иной сложной системе, где возможно накопление излишнего внутреннего давления, грозящего аварией.
Но наступило время, когда споры эти стали занимать в их жизни все больше и больше места. Ни тот, ни другой не могли понять причины разлада. Ни он, ни она не хотели и даже боялись повторения этих ссор и бывали в дни перемирий так нежны и ласковы друг к другу, так старались ничем не обидеть друг друга, что, казалось, не бывает на свете более любящей пары, чем супруги Зямлины. Но наступал день, когда еще спросонья Константин Леонтьевич чувствовал, что сегодня они обязательно поссорятся, а Алла Николаевна, как бы тоже чувствуя это, спешила скорее начать и кончить ссору, думая при этом и считая, что ссору начал муж.
Ссоры стали возникать из ничего, из воздуха, из-за случайно оброненного слова или из-за подозрительного молчания. Но не только, конечно, Алла Николаевна начинала обычно эти упражнения в ругани. Начинал их и Константин Леонтьевич, чувствуя необходимость разрядки. И если раньше эти ссоры были, выражаясь высоким стилем, летними грозами, после которых наступали благоухающие влагой и озоном часы безмятежной радости, то со временем они превратились в затяжные дожди с непролазными дорогами, лужами и очень редким солнышком из-за туч, которое не успевало высушить промокшую и холодную землю. Говоря иными словами — раньше менялась погода, а теперь как будто бы изменился климат в их отношениях друг с другом.
А главное, ни он, ни она не могли понять причины пугающей этой напряженности.
— Стареем мы, что ли? — спрашивал Константин Леонтьевич в минуты, когда очередная ссора утихала. — Я стал брюзгой, а ты пылишь по всякому пустяку. Что происходит? Я тебе надоел?
— Это я тебе надоела, — отвечала Аллочка.
— Неправда.
— Еще бы! Разве я могу говорить правду. Я же вижу, ты все время подозреваешь меня во лжи. Это мне, признаться, надоело.
— Нет, не в этом дело! Я тебя ни в чем не подозреваю, но мы с тобой в последнее время разучились радоваться. Радоваться, что живем, дышим, видим небо, облака, деревья, людей… Так нельзя жить. И от этого нельзя излечиться упреками. Хуже нет болезни, чем наша! Неужели ты не понимаешь? Поступит Катька в институт или не поступит — какое нам-то с тобой до этого дело? Мы дали ей все, что могли. Она взрослый человек. Я даже больше скажу: мы вовсе не нужны ей со своими советами. Вспомни себя! Разве тебе нужны были папа с мамой в этом возрасте? Нет, конечно. А чем Катька хуже тебя? А мы с тобой словно машина какая-то, что-то в нас, не знаю, что-то отказало, а мы никак не можем догадаться — что именно. А по-моему, все ясно! Надо избавиться от родительского комплекса! У нас своя жизнь, мы еще не старики, чтоб хоронить себя. Верно? Казалось бы, наступило время радоваться, вырастили дочь — не дурочку и хорошенькую собой… Вон даже каратэ занимается. Зачем ей это? Но пусть! Это девушке может пригодиться. Видишь! Все хорошо! Что же нас мучает?
Аллочка слушала мужа, а затем вздыхала и говорила обреченным тоном:
— Ох Коська! Какой-же ты все-таки эгоист.
И Константину Леонтьевичу стоило больших усилий, чтобы сдержать себя и не наговорить черт знает чего упрямой жене, не желавшей ничего понимать.
— Неправда, — твердил он, мотая головой. — Я просто хочу сказать, что всем нам будет лучше и легче жить, если мы вернемся в то время… Ты помнишь? Мы жили все время как бы в преддверии счастья. Неужели разучились? Мы с тобой однажды… я не помню, не знаю когда… мы с тобой вдруг решили, что мы самые счастливые люди на земле. А для полного счастья не хватает малости, какой-то чепуховинки — лишь бы дочь поступила в Иняз! Ах-ах-ах! Разве в этом счастье? Есть ли оно вообще? То есть оно есть, конечно, но что для нас счастье? Вот в чем дело. По-моему, мы очень ошибаемся с тобой, думая, что если забудем о себе, то будет лучше дочери! Чепуха! — повторял он с убежденностью. — Если мы сами будем радоваться жизни, радоваться, что дочь наша жива и здорова… А-а-а, да что говорить! Ты опять не слушаешь меня. Это тоже беда! Мы перестали слушать друг друга. Ты заранее знаешь, что скажу тебе я, а я знаю все, что ты скажешь мне. Может быть, нам надо разбежаться?
— Может быть, — соглашалась Алла Николаевна.
Но и он и она прекрасно знали, что никогда не разойдутся, потому что и он и она знали, что пропадут друг без друга. Именно потому они так легко говорили о разводе, словно это было одно из бранных слов, которыми они одаривали друг друга с такой щедростью, что со стороны могло бы показаться, будто ругаются два ненавидящих друг друга человека.
Но это случалось с ними и раньше. А то, что происходило с ними теперь, то есть глухое непонимание и постоянное отчаянное желание быть добрыми и ласковыми друг к другу, жалкое какое-то и тщетное подражание счастливой жизни, сводящееся на нет очередной ссорой, губило в них надежду на то, что когда-нибудь положение это изменится к лучшему.
Разрушительная сила поселилась в их доме.
И вдруг — неожиданное замужество дочери.
— Сережа пришел! — игриво восклицал Константин Леонтьевич, видя легкий плащик на вешалке. — И опять, конечно, небритый?
Он заходил к дочери, здоровался и, усаживаясь в кресло, неожиданно и тоже игриво спрашивал:
— А вот скажите, Сережа, вас в детстве лечили от кашля? Вы знаете, что такое капли датского короля?
— По песне, — отвечал молодой человек, ничуть не смущаясь.
— То есть?!
— «Капли датского короля пейте, кавалеры!» А вы? — спрашивал он тут же, с любопытством разглядывая Константина Леонтьевича.
— Я? Я их знаю не по песне… Да… Очень жаль! Значит, вы не знаете капель датского короля. Жаль. Это вкусно. Я иногда начинал нарочно кашлять, чтобы меня напоили каплями. Я думаю, когда детство пахнет анисовыми каплями, то это на всю жизнь, это очень… Ну я не знаю… Этого не объяснишь. А вас, наверное, лечили таблетками. Несчастный! Интересно, почему теперь не делают этих капель? Как это вы говорите? «Капли датского короля пейте, кавалеры!» Это хорошо! Я не слыхал. Видимо, хорошая песня. Я теперь редко встречаю людей, которые знают про эти капли…
И Константин Леонтьевич, попыхивая, почмокивая ощетинившейся губой, уходил, будто бы ему больше нечего было сказать Сереже и Катьке.
Что они потом говорили про него, оставшись одни, что думали, он не знал. Но это и не интересовало его.
Приближалась пора экзаменов. Катька, как и раньше, подходила к этим дням замкнутая и нелюдимая. Она забывала о себе, страшно худела, лихорадочно блестя остановившимися и какими-то розовыми от усталости глазами, была раздражительна и почти не притрагивалась к еде.
Русые ее волосенки, непослушные и жидкие, так надоели ей, что она пошла однажды в парикмахерскую и распушила их, вспенив по моде, отчего лицо ее под взбитой шапкой тонко завитых волос совсем осунулось, а нос заострился.
Голова ее стала большой, а личико совсем маленьким.
Алла Николаевна, увидев новую прическу дочери, удивленно всплеснула руками, но, спохватившись, сказала в крайнем недоумении и растерянности:
— А что? Это сейчас принято. Что ж, я не знаю, но… по-моему, совсем неплохо. Самой-то тебе нравится? Ну и хорошо…
Но руки ее, когда она подошла к дочери, невольно тронули пружинящие и жесткие волосы, которые стали похожи на волосы какой-то симпатичной светлокожей эфиопки. Она поцеловала дочь в щеку и отвернулась, скрывая неожиданные слезы.
А Константин Леонтьевич рассмеялся, увидев дочь, и назвал ее, не сговариваясь с женой, аддисабебкой.
Никто в эти дни не говорил в доме об экзаменах. Константин Леонтьевич и Алла Николаевна забывали на это время о ссорах, стараясь быть веселыми и непринужденными.
Сережа тоже, казалось, оставил Катьку в покое: во всяком случае, так думали Зямлины-старшие, объясняя себе его отсутствие, и даже хвалили, называя Сережу чутким и интеллигентным молодым человеком.
Никому не под силу понять бедных родителей, любящих свою дочь до безумия, никто не в силах измерить всю тяжесть их страданий и той постоянной тревоги, какие выпадали на их долю в дни вступительных экзаменов в институт. И напрасно самоуверенные юмористы соревнуются на газетных площадках в остроумии, высмеивая таких беспокойных родителей. Знали бы эти остроумные мальчики, какие муки терпят бедняги родители, дети которых, губя свое здоровье, из года в год пробиваясь в избранный ими институт, не имея при этом никаких поблажек и уже с трудом верящие в себя, в справедливость оценки, в объективность экзаменаторов, — знали бы, что ничего уже не волнует родителей, кроме здоровья дочери или сына, приученных с детства к упорству и к святому отношению к избранному поприщу. Знали бы — оставили их в покое, а в лучшем случае посочувствовали бы. Но мало кто знает это, кроме несчастных родителей, воспитавших честных и щепетильных детей, не мыслящих о какой-либо поддержке, о замолвленном за них слове какого-нибудь влиятельного родственника или знакомого, которое могло бы облегчить их путь к профессии.
Катя Зямлина была именно из таких несносных упрямцев, которые надеются только лишь на свои силы, презирая все, что не отвечает их жизненным принципам. И она правильно, конечно, рассудила, поступая в Институт иностранных языков: десять лет на нее тратились народные средства, чтобы она изучала английский язык… Ведь кому-то для чего-то это было нужно? А стало быть, она должна оправдать затраченные на нее деньги и получить профессию. Иначе зачем она учила язык?
Но все это логически стройное сооружение рухнуло, и Катя Зямлина, усталая и пустая, пришла домой, блестя потными скулами.
— Что?! — спросила в дверях Алла Николаевна.
А дочь вместо ответа сведенным каким-то взглядом скользнула мимо матери и очень четко сказала:
— Давайте только без паники! — И повторила: — Давайте только без паники! Я устала. И мне все надоело. Все!
Она так крепко сжала кулачок, что у нее побелели суставы пальцев.
Больше она ничего не сказала матери, которая стояла в дверях ее комнаты и смотрела, как дочь машинально взяла с полки англо-русский фразеологический словарь и, листая страницы, стала что-то искать, искать, искать. Страницы шуршали под ее пальцами, лицо с провалившимися щеками было напряжено в мучительной гримасе нетерпения… Сухие губы что-то шептали, и казалось — она ничего не видит в словаре, все строчки слились у нее перед глазами. Взгляд ее был таким отчужденным и лихорадочно-нетерпеливым, что Алла Николаевна вдруг поняла, что дочь не замечает даже ее, стоящую в дверном проеме.
Катя вдруг отложила толстый словарь на журнальный столик и, сгорбившись, зябко нахохлилась, как больная птица. Нелепо убранные волосы ее, придавшие лицу страдальческое выражение, пушистым шаром повисли над зеркальной поверхностью полированного стола. Она медленно повернула голову к матери, улыбнулась сухими глазами и с этой пугающе-тоскливой улыбкой сказала еще раз:
— Давайте только без паники… — И уставилась на мать почерневшими глазницами, в которые провалились глаза.
— Что ты, Катюшка! Разве так можно! Пожалей меня с отцом. О какой ты панике? Я сейчас, сейчас… Что же это такое!
И она метнулась на кухню к холодильнику, достала из него бутылку «боржоми», долго искала ключ, гремя вилками и ножами, ложками и ложечками… Трясущимися руками налила полный стакан вспузырившейся холодной воды, понесла, расплескивая, через всю квартиру. А дочь все в той же позе, с глуповато-тоскливой улыбкой встретила, взяла стакан в руку и вдруг уронила. Стакан разбился, вода разлилась.
Алла Николаевна с тряпкой в руке собирала осколки, осторожно складывая их на ладони, подтирала воду с пола.
— Ну вот… видишь… разбила стакан, — приговаривала она порывистым голосом. — Это на счастье… посуда бьется… ничего. А ты приляг — отдохни, маленькая. Ты очень устала, я понимаю тебя.
А сама, унеся стакан на кухню, вдруг испугалась и побоялась вернуться к дочери в комнату. Сняла трубку и позвала к телефону мужа. Секретарша строго спросила: «Кто спрашивает?»
— Я спрашиваю, господи… Я, я! — вспылила Алла Николаевна. — Позовите немедленно! Что ж это такое!
Два необъяснимых случая произошли в жизни Кати Зямлиной за такой короткий промежуток времени, психика ее не выдержала, и она впала в тяжелую депрессию.
Первый случай — это провал ее на экзамене по английскому языку, на котором она с трудом получила четверку. Как это произошло, объяснить и в самом деле невозможно. Чересчур переволновалась? Слишком нервничала, путалась в ответах? Не хотела идти отвечать за тот столик, где сидела женщина, но пришлось? И это, и то, и другое. А может быть, виновата нелепая прическа, которая придала ее лицу глуповатое и жалкое выражение?.. Недружелюбный взгляд строгой экзаменаторши? Ее толстый золотой перстень с ярким аметистом, который все время отвлекал и мешал сосредоточиться? Трудно объяснить, почему именно по английскому языку она отвечала плохо, зная этот язык лучше многих абитуриентов, которые до и после нее сдавали на пятерки. Случайность! Но разве это объяснение?
Нет, это все совершенно необъяснимо, как необъясним и поступок Сергея, который встретил случайно на улице старую свою знакомую, с которой целовался в подъезде ранней юностью, проводил ее до дома, расспрашивая девушку о житье-бытье, а потом рассказывая и о себе. Он даже рассказал, что собирается жениться. Но это, однако, не остановило ни его, ни ее, и они стали опять встречаться, но уже в новом качестве и не в подъезде, а у него дома… Через два месяца она ему сказала, что ждет от него ребенка и он как человек порядочный и честный вынужден был признаться во всем Катьке… Это случилось спустя две недели после неудачного экзамена.
— Ну и хорошо, — равнодушно сказала Катька. — Давайте только без паники. Значит, так надо… Ты не волнуйся… Я не из тех, которые, знаешь… Ах-ах-ах! Которые… Мне это все равно… Все надоело… И ты тоже. Прости меня. И не смотри на меня, пожалуйста. Я не могу, когда на меня так смотрят… Ты от меня ничего не жди: ни плохого, ни хорошего. Хорошо, что пришел и сказал… Ничего в этом особенного нет. Это случается довольно часто, особенно когда не любят по-настоящему.
Сережа ушел, а Катька так и осталась сидеть с выражением полного равнодушия.
— Почему Сережа ушел? — спросила у нее Алла Николаевна, как всегда, с хлопотливой растерянностью в голосе.
— Потому что он женится на другой, — ответила Катя с сухими глазами и с таким выражением на лице, будто ровным счетом ничего не произошло.
— Как? — шепотом вымолвила Алла Николаевна. — И это в то время, когда ты… — Она заплакала, мгновенно вылив слезы на щеки, словно глаза ее взорвались, вспыхнули слезным блеском, судорогой сведя губы.
А Катька, глядя на нее, спокойно сказала:
— Я, мама, разлюбила людей вообще. И Сережку тоже вместе со всеми. Он мне не нужен. Вот он посидел немножко, а я уже устала от него. И ты тоже иди! — строго сказала она. — Я устала от всех вас. Я разлюбила людей, ты понимаешь? Совсем и навсегда. За то, что они ничего не понимают. Не понимают, сколько они потеряли! Культуру, память о прошлом… Так много потеряли и ничего не понимают. И Сережка тоже. Иди, мама.
— Господи! Доченька! Это пройдет, — взмолилась Алла Николаевна. — Это пройдет. Отдохнешь — и все пройдет.
— Ты думаешь? — с недоумением спросила Катька и вяло улыбнулась. — Хорошо бы…
Но это не прошло. Состояние Кати Зямлиной с каждым днем ухудшалось. И настало время, когда врачи посоветовали положить ее, пока не поздно, в клинику для душевнобольных.
Все рухнуло в семье Зямлиных. Оба они — и Алла Николаевна и Константин Леонтьевич — вдруг перестали понимать, что происходит в их жизни и зачем вообще им жить дальше.
Он стал рассеянным, забывчивым и, что совсем непохоже на него, стал много и жадно есть, испытывая чувство непроходящего голода, стал быстро толстеть, наев себе за каких-нибудь три месяца толстые, желтовато поблескивающие щеки. У него появилась одышка. Усы его пожелтели от табачного дыма, а глаза стали слезиться…
Она же стала как бы все время заикаться, забывая слова, а порой и смысл того, о чем только что говорила. У нее появился новый жест. Когда у нее стопорилась речь, она как бы отмахивалась от этого напастья рукой, делая перед лицом короткую и быструю отмашку, словно быстро снимала с лица какую-то щекочущую паутину, помогая себе языком, которым она тоже очень быстро и как-то тревожно облизывала губы. Она стала очень пугливая, вздрагивала от телефонного звонка или звонка в дверь. Лицо ее в эти мгновения испуга искажалось, как будто некто жестокий и сильный замахивался на нее рукой, а она странно пряталась от этого замаха и прогоняла. Окружила себя наиновейшими и очень дорогими лекарствами и стала потчевать ими мужа, который не сопротивлялся, забыв навсегда о каплях датского короля.
Она вообще стала вести себя довольно странно. Когда к ней приехала двоюродная сестра из Владимира, с которой она не виделась года два с лишним, Алла Николаевна встретила ее испуганно в дверях, а узнав, заторопилась к включенному телевизору.
— Иди скорей, Настя, садись поудобнее. Сейчас будет передача. Я ее всегда смотрю. Ну эта, господи! «В мире животных». Посмотрим, а потом поговорим, я тебе все расскажу, и ты мне о себе расскажешь. Ставь там вещички все, брось все это куда-нибудь… Потом поговорим.
Суетливым взглядом она обласкивала обескураженную сестру, а сама уже была там, за тонкой стеклянной поверхностью, где под знакомую музыку уже появилась картинка с приглашающими мультипликационными обезьянками, приплясывающими журавлями, обещая мир всевозможных чудес, сдобренный обаятельной улыбкой волшебника Николая Николаевича, ведущего передачу.
Алла Николаевна, морщась в счастливой и горькой улыбке, разглядывала носорогов, на которых восседали маленькие белые цапли, и зачарованно слушала объяснения Николая Николаевича, внимая каждому слову. Лишь изредка отвлекалась и говорила:
— Ой, Настенька! Как я люблю эту передачу! Если б ты знала! Эту и еще… ну вот… как ее! Ну эту… «Очевидное — невероятное». Я их теперь никогда не пропускаю. Все тут понятно, все оказывается просто… И на душе у меня сразу спокойнее. В «Очевидном этом… невероятном» не все, конечно, понятно, но тоже… Все равно я успокаиваюсь. Ведь когда непонятное смотришь и видишь, что другим людям это все понятно, это тоже успокаивает. Правда? Значит, так надо. Другим понятно, а тебе нет. Я не люблю людей, которым все понятно. Не верю им. А тут смотришь и думаешь: господи, какие умные люди есть. Это успокаивает меня как-то… Умные, все знают, симпатичные. Подумаешь о себе, что ты круглая дура, и сразу легче становится… — И она вяло улыбалась, увлекаясь новой картинкой на экране. — Господи! А это еще что такое? Смотри, смотри, какой у нее хвост. Небось холодный, как у крысы.
Настя смущенно кивала и тоже улыбалась, но внимание ее было сосредоточено вовсе не на животных, не на их хвостах, а на сестре, которую она не узнавала.
То ли пронзительное предчувствие новой беды, еще более страшной, чем та, что уже обрушилась на нее, то ли вконец измятые, измочаленные нервы давали о себе знать, но Алла Николаевна стала и в самом деле неузнаваема. У нее вдруг поглупели глаза. Она стала на все окружавшее ее смотреть с небывалым каким-то любопытством и наивной доверчивостью. Теперь ничего не стоило обидеть ее случайным словом. А ее глуповатая доверчивость граничила с постоянным испугом, и, казалось, она стала бояться не самого горя, беды или несчастья, а стала бояться своего испуга, а точнее — самою себя, неспособную уже выносить каких-либо потрясений, слез и пугливых вскриков. Врачи прописали ей спокойную жизнь, не велели волноваться, и она изо всех сил старалась жить именно так, как ей велели. И если раньше она всегда замечала в людях какие-то недостатки, которые раздражали ее и о которых она не уставала говорить, возмущаясь, то теперь все люди как бы сделались для нее на одно лицо, прелестное и добродушное. Она теперь, даже глядя на какого-нибудь грязного, одутловатого пьяницу, старалась подумать о нем хорошо, старалась найти для него какое-либо оправдание. «Ну что ж, — как бы кто-то подсказывал ей, — значит, так ему надо, значит, иначе он не может жить, бедняжка. Как мне его жалко! Такой красивый и здоровый мог бы быть мужчина, а он себя вон до чего довел. А ведь учился в школе, ухаживал за какой-нибудь девочкой, был влюблен, мечтал… Ах, бедный, бедный!» Так она думала теперь, проходя мимо пьяницы, который раньше ничего, кроме омерзения и гадливости, не вызывал в ней.
Она словно бы сдалась на милость грозного какого-то победителя, ожидая от него лишь одного — благосклонности или хотя бы пощады.
Но пощады, увы, не было. Однажды раздался в дверях звонок, который заставил ее вздрогнуть. Она поспешила открыть дверь, а когда подбежала, услышала, как там, на лестничной площадке, которая всегда блестела, переливаясь мозаичным орнаментом, напоминавшим орнамент ковра, — там, за белой филенчатой дверью, что-то грузно и тяжело упало и страшно стукнулось вдруг… И она, еще не успев ничего понять, уже почувствовала, осознала, ощутила всем своим существом, что там упал тяжелый человек и стукнулся головой об пол.
Так неожиданно умер Константин Леонтьевич Зямлин, с задумчивой улыбкой взглянув из черной рамки на бывших своих сотрудников, а потом и появившись в красном гробу, установленном в траурном конференц-зале.
Он умер, поднявшись к себе на пятый этаж. У него не хватило сил достать связку ключей из кармана, он лишь сумел дотянуться до кнопки звонка и, нажав ее, упал.
Умер стоя, как о нем говорили в институте. Он падал, когда был уже мертв. Удар головой о каменный пол, который слышала Алла Николаевна, был ударом мертвой уже головы. У Константина Леонтьевича разорвалось сердце и смерть наступила мгновенно. Он даже не успел ничего понять, хотя бедняжка Алла Николаевна, пока он лежал в гробу, гладила его голову, потому что лишь одна на всем свете слышала этот жуткий, округло-костяной удар о гладкий каменный пол.
Она никак не могла теперь избавиться от этого рокового звука, словно бы он навсегда влетел в ее голову, в которой сквозь шум напряженного до предела мозга нет-нет да и раздавался вдруг упруго-жесткий удар, будто бы это падала на каменный пол ее собственная голова. Она жмурила глаза и закрывала уши руками. Но это не помогало, потому что звук исходил из помутившегося ее сознания.
Таким вот печальным образом несколько сот людей узнали о маленькой семье Зямлиных. На которую обрушилось горе. Но из тех, кто узнал, многие вскоре позабыли о них. В институте, правда, еще сравнительно долгое время фамилия эта напоминала о себе в каких-либо документах, подписанных покойным Константином Леонтьевичем, или в разговорах, когда кто-нибудь с раздражением в голосе спрашивал: «Кто распорядился? Мы потеряем полгода, если примем эту технологию! Что за педант? У нас план горит, черт побери!» И когда раздраженному человеку говорили, что все это подписано еще Зямлиным, человек хмурился и примирительно распоряжался пересмотреть решение и ускорить дело. «Если бы у меня было время, я бы работал, как Зямлин. Но у меня нет его! Меня берут за глотку в министерстве», — говорил он так, как будто у Константина Леонтьевича было две жизни или, во всяком случае, одна очень долгая жизнь, в которой он позволял себе роскошь не торопиться и хорошенько обдумывать все детали до мельчайших подробностей. Это качество и в самом деле было свойственно Зямлину, который любил известное изречение о том, что нельзя женщину заставить родить ребенка раньше девяти месяцев, добавляя при этом, что случаи такие, конечно, бывают, рождаются недоношенные дети, но, дескать, случай есть случай, а мы люди серьезные и нам негоже рассчитывать на случайность, говорил, улыбаясь при этом своими серебристо-серыми усами. Институт при Зямлине частенько бывал в прорыве, опаздывая сдать в срок запланированную работу, но Зямлин с каким-то свойственным ему гипнотическим обаянием умел всегда убедить начальство в необходимости затяжки. Институт плелся чуть ли не всегда в отстающих, а Зямлин частенько получал выговоры. Теперь же, когда его не стало, не прошло и года, как институт поправил дела и выбился в передовые, заняв в социалистическом соревновании второе место по району. И постепенно Зямлина стали забывать, а если и вспоминали, то только в связи с прошлыми делами. «Как бы там ни было, — говорил иногда кто-нибудь из бывших его сотрудников, — при нем работать было интереснее. Полезного продукта, несмотря ни на что, было больше. Надежно работали. А теперь гоним, гоним… всякие там колеса-семечки». Хотя чаше его поругивали, вспоминая даже, как однажды на испытаниях некто из министерства сказал о нем, что он никто. «Но все-таки, — возражал кто-нибудь, затягиваясь дымом, — хотелось всегда поправить галстук, когда, бывало, идешь к нему. А это кое-что значит. Атмосфера! Я его любил».
Странно было слышать эти разговоры о Зямлине, которого упоминали теперь в прошедшем времени. Всегда всем казалось, что вселенское око, поглядывая на него с небесных высот и радуясь своему созданию, сделает исключение для этого человека и наградит его жизнью вечной. Казалось порой, что и сам Зямлин такого же был мнения о себе: кому-кому, а мне-то это исключение обеспечено — как бы написано было в его глазах, поблескивающих отполированным серым мрамором. Жалко его, конечно.
Не говоря уж об Алле Николаевне, которая совсем поседела после смерти мужа. У нее даже как будто поседели ресницы.
Прошел год. Алла Николаевна однажды покрасила свои волосы и стала похожа на рыжего клоуна, толстого и глуповато-наивного.
Стала она пользоваться и губной помадой, перед тем как идти на работу, и подводить глаза тушью.
Работа у нее и сложная, если учесть место, куда она поступила, и совсем несложная. Она устроилась подавальщицей в больнице, где лечится ее бесконечно замкнувшаяся на себе дочь.
В перерывах между завтраком и обедом и полдником, а потом и ужином делать ей, в общем-то, нечего. Собрала посуду со столов, унесла на мойку, позавтракала или пообедала, выбрав себе вкусную какую-нибудь куриную ножку, накрыла столики в гулкой пустой столовой, накормила врачей, медсестер и нянек, подложив тоже что-нибудь по-вкуснее или пожирнее той из них, которая лечит или присматривает за ее дочерью.
— А вот это… — начинает она свой рассказ какой-нибудь нянечке, присев с ней рядышком за столом. — Я когда-то любила очень делать шубу… Знаете, что это такое? Это на майонезе надо делать. Сначала кладется слой майонеза, потом картофель, потом свекла тоже слоем, потом морковь, селедка мелкими кусочками, а сверху опять слой картошки и майонез. Это такое объедение! В духовке, конечно, надо. Она румяная выходит, сочная!
Ее слушают, а кто не знает про шубу, переспрашивает, уточняет что-то и даже записывает рецепт. Алла Николаевна бывает очень довольна в такие минуты и в подробностях объясняет, растолковывает, уточняет, вспоминая свои какие-нибудь ухищрения.
— Муж ее обожал, — добавляет она с неуверенным придыханием.
Рассказывает она и про балет, но очень редко и то лишь с глазу на глаз, без свидетелей, будто сама не верит в то, что говорит.
Все равно все знают про то, что она занималась в балетной школе, что у нее была травма, после которой ей пришлось оставить танцы; знают, что дочь ее, которую она кормит, как малое дитя, уговаривая есть и пить, на что Катя всегда тупо отвечает: «Давайте только без паники», была когда-то звездой английской школы, но вот сорвалась на экзаменах и попала сюда. Знают, что муж ее был крупным деятелем и ездил на персональном автомобиле, что у нее трехкомнатная квартира над Яузой, в которой она теперь живет одна, надеясь на выздоровление дочери, на будущую жизнь и даже на внуков.
Ее, кажется, жалеют все и любят.
— А вот это… — неуверенно начинает она разговор с каким-нибудь врачом, — я, конечно, мало разбираюсь в этом, может, чего-нибудь путаю… Но тут одна знакомая мне говорит, что наша галактика сужается, а поэтому время бежит быстрее. А по-моему, она не права. По-моему, я вот, помнится, читала в «Науке и жизни» или по телевизору смотрела в передаче «Очевидное — невероятное» — точно не помню… Но, по-моему, там говорили, что галактика наша сужается, это верно, но что время от этого течет медленнее… Это что же? Значит, мы дольше проживем, что ли? Как вы думаете? Или это… я ничего не поняла. По-моему, знакомая моя ошибается, — задумчиво говорит она, не дождавшись ответа. — Галактика наша сужается, это так, но время течет медленнее. По-моему, так. Я так поняла.
И на лицо ее наплывает выражение глубокой задумчивости, пока она вдруг не опомнится и не смахнет с лица невидимую паутинку…
— Извините, конечно, я вам аппетит только порчу своими вопросами, — скажет она и с игривой улыбкой побежит на кухню за вторым блюдом.
Весной над мутной Яузой по-прежнему кружатся чайки и люди радуются приходу теплой погоды.
Окна зямлинской квартиры по-зимнему мутно и глухо смотрят на сияющую Москву, на бегущих по тротуару людей, на молчаливо кружащихся чаек. Запыленные стекла давно не мыты. На мебели в квартире хрустит под ладонью тяжелая городская пыль, состоящая из жестких взвешенных частиц гари, убирать которую надо пылесосом. Но это потом… «Как будут выписывать Катеньку, так и приберусь, — думает Алла Николаевна. — Занавески постираю, полы натру… Все сделаю. Только скорей бы Катеньку выписывали. Вон опять уже чайки прилетели, опять весна. Ишь как радуются! Точно дети! Устали бедняжки! Столько летели, летели… Ну, отдыхайте теперь, — мысленно говорит она белым птицам. — Скоро лето».
Глядит на молчаливое их кружение и радуется вместе с ними. Рыжие волосы ее тусклы, как пакля. Ярка помада на губах. Черна тушь на коротких ресницах. Наивно-радостен взгляд уставших глаз. Глубоки морщины.
Первая проталина
Что-то и не припомню я человека, который бы сказал, что он не любит весну. Многие клянутся в любви своей к осени, лету и даже к зиме, но все-таки все мы, от мала до велика, ждем не дождемся, особенно в февральские непогоды, когда крутит сухая метель или сыплет мокрый снег, — все мы ждем весну.
В быстротечности городских будней мы порой и оглянуться не успеваем, как голые ветки сирени уже утяжелятся, разбухнут упругими почками, ветерок поднимет пыль на сухом тротуаре, тополя распустят листья или опушатся красными сережками, а там, глядишь, и скрылся уж соседний дом за густой зеленью… Ждал, ждал весну, а она опять, — в который уж раз, — промелькнула незаметно, порадовав только теплым ветерком да запахом тополиных почек.
Сколько же их было, просочившихся, как песок сквозь пальцы, неуловимых весен!
И все же в памяти у каждого из нас теплится, а то и разгорается нестерпимой радостью та настоящая, бурная, дикая и прекрасная весна, которую, конечно же, каждый из нас хоть один раз в жизни да пережил, почувствовал, запомнил навсегда.
У каждого она своя, неповторимая, если ты встречаешься с ней лицом к лицу, потому что нет одинаковых весен.
Лес еще полон плотного снега, набитого хвойными иглами, а поляны и лесные дороги, залитые прозрачной водой, уже открылись под солнцем, мокрым войлоком расстилаются среди сияющих снегов. Резиновые сапоги, в которых, как в черном стекле, сияют солнечные блики, только что шуршали в крупенистом снегу, но вот уже стоишь ты опять на сухом бугорке поляны, возле какой-нибудь порозовевшей березки, а по резине сползают тающие под солнцем крупинки снега. В овраге играет вода, а под водой еще висят побуревшие снизу, окрашенные мутным потоком снежные крыши, которым не пришел пока черед рухнуть с тихим вздохом в ручей. Тут же, на сухом пригорке, около старого березового пня раскрылись под солнцем резные зеленые листья перезимовавшей земляники, над которыми вьется в теплом воздухе проснувшийся и словно бы еще неуверенный в себе, осторожный шмель.
Паутина березовых макушек растворяется в голубом небе розовым туманом; старые ели, стерегущие глубокий снег, четко темнеют своими пиками, усыпанными плотными глянцевитыми шишками, которые коричнево светятся в лучах солнца. А тишина стоит в лесу такая, что не только бормотанье ручья в овраге, но даже тихий звон тающего снега слышен в воздухе; и слышно, как невидимо сочится крупенистая его толща, насыщая и без того насыщенную землю живой влагой, которая поблескивает у тебя под ногами, среди прошлогодних травинок, находя свои какие-то тайные пути к большой воде.
Но непрочно еще тепло на земле. И как только закатится солнце, утихают, замерзая, все звуки на земле, кроме, может быть, бубнящей песни большого ручья, а на рассвете все опять обметано мутным ледочком, тихо и мертво на заиндевелых лесных полянах, земля уже не пружинит, а холодным камнем стучит и хрустит под ногами, затянутые льдом лужи взрываются страшным грохотом, и ничего тогда не слышит идущий по лесу человек, кроме самого себя, своего собственного шума и треска, к которому чутко прислушиваются таящиеся в лесу живые существа.
Когда же солнечные лучи согреют все эти ледяные кружева, вот тогда-то начинается настоящая музыка! Тончайшие колокольчики звонят тогда на лесных полянах. Кристаллические строения легкого льда, которые разрушаются под солнцем с этим нежным звоном, опять сочатся живой водой, окаменевшие за ночь снеговые крыши над ручьем, по которым ночью можно было перейти через овраг, как по мосту, опять становятся непрочными и ветхими. И вот уже слышно, как белое крыло зимы обвалилось и с тяжелым уханьем упало в ручей. Ручей подхватил сразу побуревший в его воде бесформенный ком, закрутил, разорвал на части и понес в стремительном своем беге к большой воде.
Все вокруг словно бы опять засобиралось в дальнюю и долгую дорогу. Солнце опять подгоняет зимние снега. И опять в воздухе пахнет оттаявшей, теплой землей, по запаху которой так наскучаешься за зиму, что чуть ли не целовать готов первые проталины, первый какой-нибудь бугорок в открытом поле, к которому пробираешься через глубокий еще снег, свернув с дороги, постоишь на нем, потопчешься, ощущая под ногами еще некрепкую, ранимую мягкость земли, повздыхаешь с надеждой на скорое половодье и засмеешься от радости, что вот, мол, и опять весна пришла.
Нет, не знаю я человека, который не ждал бы в наших снежных краях первых признаков весны: первую землю, первое серебро распустившейся вербы, а потом и большую воду, ледоход на реке…
Сколько их было — этих бурных ледоходов, но мне ни разу еще не приходилось видеть, как взламывает весна лед на реке. Не повезло! Видел уже плывущий лед, видел заторы его возле какого-нибудь мостика через реку, когда льдины, как звери, вставали на дыбки, сверкая голубыми своими изломами, со звериным ревом и сопением лезли на берег, угрожая снести вставший на их пути мост, и как орудовали местные жители длинными баграми, утихомиривая этих ледяных зверей, укрощали их крутой нрав, расталкивали, как дрессировщики, взбунтовавшихся хищников, направляя в узкое горло стремительный поток сжатой дамбой и мостом реки. На веселую эту борьбу можно было смотреть бесконечно! А вот как трогается лед, как взламывает его река, — не видел. Говорят, что это таинство случается только в темные безлунные ночи. По правде сказать, я и человека-то ни разу не встречал, который бы мог мне рассказать, как все это происходит. Видел в своей жизни один раз, как поздней осенью в мороз мутнеет на глазах, оледеневает, мертвеет вода, как стелются эти еще непрочные, ледяные полотнища на воду, а вот как они разрушаются — видеть не пришлось, хотя и надеюсь увидеть это чудо.
Но скатится вниз и растает весь лед. С каждым днем будет прибывать вода, и какая-нибудь тихая летом речка, заросшая лопушками и скрытая нависшими ивами, поднимется так, что не только выйдет из берегов, но и ивы накроет водой по самые макушки, разольется по окрестным лугам, подопрет мутной водой далеко отступившие от нее, словно бы давно уже знающие ее крутой нрав, леса, и не поймешь тогда, скользя на лодке по этим водным просторам, где ты и какие глубины под днищем твоей лодочки. Русло реки с трудом прослеживается по торчащим из воды шевелящимся прутьям затопленных ив, по сторонам в залитых лугах торчат березовые остожья с клочками сена, утки срываются с плоских и грязных надводий, с бывших луговых бугорков, которые превратились теперь в отмели. Правишь лодку по старому руслу, соблюдая все его изгибы, все прихотливые петли, хотя куда как проще и ближе к цели помчаться напрямки по мутному морю. Нельзя! Глубины тут не измерены, и лоций нет — не ровен час налетишь на мель, сломаешь винт мотора, а то и вовсе пробьешь днище лодки, столкнувшись с каким-нибудь плывущим бревном. Это, конечно, не айсберг, и весельная лодочка тоже, конечно, не «Титаник», но шансы потерпеть крушение в ледяной воде одни и те же… Нет, нельзя уходить с русла. Оглохнешь от треска мотора, пока на горизонте покажется серенькая деревушка на высоком бугре, подтопленная половодьем. Вода с каждым годом все больше к больше обгладывает рыжий глинистый берег. Частоколы огородов подошли уже к самой воде, на огородах роются в теплой земле куры, золотистый петух хлопает крыльями и кричит во все горло, словно приветствует прибытие лодки, которая с выключенным мотором толкнулась наконец и увязла килем в глинистом донышке.
Под стеной старой черной баньки светлеет еще язык грязного снега с северной стороны, а солнце уже так печет, что хоть полезай купаться. Бабочки над огородами, по берегу бегают трясогузки, скворец вытворяет чудеса возле своего домика, подражая всем сущим на весенней земле звукам: то урчит лягушкой, то словно бы собаку свищет, то сам собакой лает, то шваркает селезнем, то мяукает… Шум и гам стоят в воздухе. В березах неумолчно ворчат грачи, которые давно уже высиживают яйца, прилетев на гнездовья по глубокому снегу, еще в конце марта, а теперь вот с добродушным ворчанием старожилов обсуждают дела перелетных птиц, которые прибывают с каждым днем и каждой ночью, гомонясь на воде и на земле.
Ах, весна, весна! У каждого ты своя и для каждого ты разная. Кто-то увидел тебя в первом граче, зачерневшем на заснеженном еще поле, кто-то в первой ветке черемухи, а кто и в первой ласточке, которая прилетает к нам так поздно, что весна к тому времени бывает уже «сделана». Первая ласточка, увы, весны действительно не делает, как гласит поговорка, ибо весна уже прошла и наступает к тому времени, когда прилетают ласточки, пролетье — тоже прекрасная и неповторимая пора. Но стоит ли торопить время, когда оно и так бежит без наших понуканий. Не лучше ли постоять на первой проталине и, забыв о быстротечности времени, вглядеться в первый зеленый листик земляничного куста, в первую травинку, пахнущую такой живительной свежестью, какую мы уже не почуем в разгар зеленой весны.
Иглоукалывание
Молодой человек по фамилии Шаблонов любил похвастаться своей работой, рассказывая о ней первому встречному, согласному слушать его или во всяком случае не перебивать. На лице его играла в такие минуты хитроватая улыбка человека, сумевшего обвести судьбу вокруг пальца. Губы его, обрамленные русыми усами и бородкой, то и дело сочно и влажно розовели, обнажая ряд непрокуренных, сверкающих белизной зубов. Из груди все чаще рвался наружу веселый хохоток, и горе тому, кто искренне увлекался его рассказом: через некоторое время отделаться от Шаблонова было уже невозможно.
Работал Шаблонов ревизором в областном аптекоуправлении, «закрывал аптеку на учет», как он сам о себе говорил, часто бывал в дороге, далеко ли, близко ли, но все время в пути и всегда в тайной надежде на веселенькие вечера с какими-нибудь девочками, работавшими в той или иной аптеке, уезжая от молодой и очень любимой им жены с чувством заранее ощущаемой и как бы запрограммированной вины перед ней. Поэтому был особенно трогателен при каждом прощании. Сильное волнение охватывало его, словно он оставлял жену и ребенка тяжелобольными. До вокзала он ехал в бессмысленной какой-то задумчивости, машинально брал билет, машинально протискивался к выходу. Но стоило ему сесть в вагон поезда, бросить портфель или небольшой чемоданчик на полку, как от волнения не оставалось и следа. Его будоражил запах вагона, запах каменного угля, если дело было зимой, или запах теплой пластмассы, разогретой на солнце. Он приглядывался к пассажирам, спрашивая о чем-либо, давно уже известном ему, и получая, как правило, вежливые ответы, на которые он с озабоченностью человека, впервые узнавшего о времени прибытия поезда на станцию «Н», очень вежливо говорил «спасибо» и, хмурясь, поглядывал на часы, не оставляя при всей этой мнимой озабоченности без внимания какое-нибудь миловидное личико новой пассажирки и радуясь, если случай сводил их вместе в одном купе. Если же он уезжал ненадолго, на один всего лишь день, и добирался до места на пригородной электричке, то старался тоже оказаться рядышком с какой-нибудь привлекшей его внимание девушкой или женщиной, мучая ее и себя в дороге глубоко проникающими, настырными взглядами. Мука этих взглядов была так приятна ему, что он и жертву свою тоже считал как бы осчастливленной своим вниманием, словно бы ей не могла быть неприятна его грубая назойливость.
— Что вы! — восклицал он. — О чем вы говорите! Это все делается по принципу двух интеллигентов. Один у другого спрашивает: «Что ты думаешь о Карпове?» А другой отвечает: «А как тебе нравится шайба?» Вы понимаете меня? Вы гоняете шайбу, я переставляю фигуры… Или наоборот! Нет, не скажите! Каждая работа интересна, если на нее посмотреть как на способ существовать… Я работаю, — значит, я существую, а раз существую — почему бы мне не жить по-человечески? Разве не так? Вот, например, моя работа…
Начинался путаный-перепутаный рассказ о ревизорской работе, сдобренный намеками на любовь чистеньких девочек, баечки о ночных рыбалках с колокольчиком, для которых у него всегда все необходимое было с собой. И в конце концов создавалось впечатление, что Шаблонов и в самом деле счастливый человек, успевающий в процессе, так сказать, работы отдохнуть на берегу речки или озера и поразвлечься с девочками, при этом не забывая основное свое дело, за которое ему платили деньги.
— Ну, о чем вы говорите! Я, конечно, фармацевт, и лекарство любое, самое дефицитное — это всегда в моих силах. Хотя, считаю, надо побольше обходиться без всяких лекарств. А если уж яснее, то я вам лучше взаймы дам сто рублей, чем каким-то, знаете, путем доставать вам какое-то лекарство. В принципе могу, конечно, — мне не откажут. Только не буду этим заниматься, вот в чем дело. В общем-то, знаете, это как один выходит из телефонной будки, а другой спрашивает: «Работает?», а тот отвечает: «Он лучше чем работает — он монеты жрет». Вот я тоже лучше чем работаю. Зачем же мне заниматься темными делишками? Вы бы на моем месте тоже не стали.
Больше всего он любил ездить без финансового ревизора, когда надо было сделать лишь анализ лекарств, не закрывая аптеки на учет. В таких поездках он чувствовал себя совершенно свободным и уходил из дома с ощущением, будто ему предстоит пересечь Великий океан и высадиться на неведомом берегу неведомой страны.
Шаблонов не курил, не пил крепких напитков, испытывая к этому зелью отвращение почти младенческое. Он порой позволял себе лишь стаканчик сухого белого вина или шампанского. Даже за очень бражным, водочным столом никто никогда не уговаривал его выпить, как это сплошь и рядом бывает у нас, никто не упрекал, не обижался на него, словно он был человеком какой-то другой породы, которому просто нельзя пить водки. «Я человек не ресторанный, а скорее буфетный, — говорил он сам о себе. — Мне там всякие селедочки, всякие закуски холодные и горячие не нужны. Я выпил бокал шампанского или вина, и мне хорошо, я уже пьян и весел, а ужинать или обедать я предпочитаю дома. Вкуснее, чем моя жена, никто не умеет приготовить… С какой стати!»
В отъездах он старался избегать столовской пищи, набирая с собой по мере возможности всякой снеди: вареных яичек, котлет или жареного мяса, курицу или домашних пирожков с капустой, аккуратно завернутых в фольгу. Он всегда имел с собой электрический кипятильник, фарфоровую кружку и хороший чай, а то и банку растворимого кофе. В особом чехольчике лежала у него старинная, истершаяся от времени ложечка из серебра восемьдесят четвертой пробы, которой он ел по утрам в буфете сметану, пренебрегая косыми взглядами соседей по столику.
Он всегда был безукоризненно одет, хотя не носил никогда галстуков, предпочитая повязывать высокую шею шелковым платком, в котором преобладал густой синий цвет. Летом в жаркие дни он носил белые рубашки, сшитые на заказ, с широкими, чуть ли не как у кимоно рукавами, туго схваченными на запястьях накрахмаленными манжетами. Подтянутый и стройный, с гибким торсом, он бывал похож в летние дни на заезжего фокусника или поэта. Бородка его и усы были не то чтобы русого, а какого-то золотисто-платинового драгоценного цвета. Большой, широкий в переносице нос, синие щурящиеся глаза, игривая улыбка. Он очень нравился женщинам! А мужчинам внушал чувство неопределенное и смешанное: что-то среднее между ненавистью и уважением.
В дороге он бывал неутомим на ухаживания за милыми соседками, под стук колес в нем просыпался отчаянный ловелас, которому во что бы то ни стало нужно было влюбить в себя какую-нибудь красотку, особенно ту из них, у которой золотилось обручальное кольцо. Он испытывал истинное блаженство, когда уверялся окончательно, что покорил ее сердце, что теперь надолго запечатлеется в ее памяти, отпечатается в сознании. Стоя с ней в коридорчике вагона возле окна, задавал под шумок такие вопросы, вызывая ее на такую исповедь, что потом и сам не мог без волнения вспоминать об этом. Он получал дьявольское какое-то наслаждение, несравнимое с плотским удовольствием, когда ему удавалось внести сомнение в душу своей жертвы.
Что-то исконно женственное было в его натуре: он ежеминутно, ежесекундно ощущал в себе помимо своей воли непреодолимое желание нравиться, нравиться, нравиться, тратя немало энергии для достижения этой, в общем-то, бессмысленной цели.
Но это лишь на пути т у д а.
Когда же он ехал обратно, перед мысленным его взором была одна лишь милая женушка, он мечтал скорее добраться до дома, обнять свою Сашеньку, которая наверняка уже приготовила что-то вкусненькое на стол и ждет его не дождется, прихорашиваясь перед зеркалом, постелив холодные чистые простыни и наволочки, поставив на столик какие-нибудь цветы: сирень весной, или астры осенью, или февральскую мимозу. Как же он любил ее в эти минуты, как тревожился за нее и за сына! Все ли у них хорошо, не заболели ли, не случилось ли чего?! Как он счастлив бывал всякий раз, думая, что и на этот раз сумел избежать близких отношений с какой-нибудь симпатичной девочкой, с которой он, свободный и никому не известный в чужом городе, живущий иной и как бы подаренной ему жизнью, мог бы, конечно, но…
Однажды было очень жаркое лето. Жара эта особенно резко ощущалась в пыльном городишке, заросшем тополями. Разбитые тротуары, разъезженные дороги, дворы и крыши домов — все было укрыто сухим пухом, который толокся в тихом и горячем воздухе. Автомашины, рассекая застоявшийся воздух, поднимали лежащий на мостовой и на тротуарах пух, и он, завихряясь, взметывался вверх, кружился и с бесноватой бесцеремонностью лез в глаза и в рот, прилипая к коже и щекоча потное лицо.
В городе проходила тогда какая-то конференция, гостиница была набита ее участниками, и Шаблонову пришлось устраиваться в профсоюзной ведомственной гостинице, похожей на общежитие.
Общежитие это было расположено почти в центре города и, видимо, когда-то в прошлом являлось единственным гостиничным домом. По коридору то и дело раздавались гулкие шаги, женский хохот и мужской кашель.
Шаблонов сидел в майке и всякий раз, когда шаги приближались к двери его комнаты, тревожно прислушивался — не остановится ли кто-нибудь, не постучит ли в дверь. И успокаивался, когда где-то хлопали другие двери и все умолкало в коридоре. Там, за дверью, происходила какая-то бурная, клокочущая и словно бы хмельная, веселая жизнь хорошо знакомых друг с другом, прижившихся здесь людей, с которыми Шаблонову не хотелось встречаться, не хотелось даже показываться им на глаза, точно он попал в чужую и дружную семью, был гостем, а они хозяевами здесь.
На него и в самом деле, когда он вышел из номера, обратили внимание два парня в нейлоновых теннисках, которые стояли возле конторки дежурной и сразу же умолкли, как только увидели Шаблонова. Они молча проводили его любопытными взглядами, и Шаблонов слышал, как один из них спросил другого: «Что за фраер?» — спросил насмешливо, оскорбительно, с тем пренебрежением в голосе, какое Шаблонов частенько улавливал чутким своим ухом, если о нем заходила речь среди мужчин, думающих, что он не слышит их. Другой, видимо, пожал плечами и ничего не ответил.
Уборная времен царя гороха, ржавая железная раковина, фырчащая и брызжущая струйка теплой воды — все это убожество доконало Шаблонова, и он решил, что завтра же скажет в управлении, что лучше он будет жить в частной какой-нибудь комнатенке, чем здесь.
Проходя опять мимо конторки, возле которой уже не было парней, он узнал от дежурной, что в гостинице собрались физкультурники на какой-то межрайонный слет и что живут они здесь уже четвертый день.
— Да какие они физкультурники! — добавила простодушная женщина. — «О чем мечтаешь, Коля?» — передразнила она кого-то. — «Где бы червончик найти». Физкультурники! У них одно соревнование на уме.
Шаблонов уже собирался лечь в постель, как вдруг кто-то торопливо пробежал по коридору, где-то хлопнула дверь, и женский голос со смехом спросил что-то…
— Чего, чего! — услышал Шаблонов у себя за дверью. — Все уже закрылось! Десять минут… Разве успеешь! А кто здесь живет? — спросил девичий голосок, и Шаблонов услышал вдруг нетерпеливый стук в дверь: — Ей, кто тут? Откройте…
— Сейчас, — откликнулся Шаблонов и, ничего не понимая, в тревожной торопливости надел рубашку.
На пороге стояла очень высокая девушка в голубом стареньком тренировочном костюмчике.
— О-ой! — сказала она. — Это не наш… — Но не попятилась, а без тени смущения на лице вдруг спросила у Шаблонова: — А у вас ничего нет поесть? Вы тут один живете, да? Вы, наверное, начальник какой-нибудь. Трехместный на одного, — говорила она, переступив порог и оглядывая его жилище. — Шикарно!
— Ну, раз зашли, — сказал Шаблонов с иронической усмешкой, — так уж закрывайте, а то что ж так, нараспашку…
— Нет, я серьезно… У вас не найдется чего-нибудь? А то есть ужасно хочется!
— Найдется, найдется, — ворчливо отозвался Шаблонов, захлопывая дверь. — Ну, садитесь, что ли…
— Нет, а правда, вы кто? — спросила она, дохнув ему в лицо чуть заметным неприятным винным запахом.
— Ревизор.
— Остряк, — сказала девушка и с игривым пренебрежением села на стул, положив ногу на ногу.
Она была в белых босоножках, кожа которых потрескалась на сгибах и покрылась черными морщинами. Городская пыль еще не была омыта с ног, смуглые ее пальцы, длинные и плотно прижатые друг к дружке, с белесыми ногтями, были обметаны серой пылью, а стопы, казалось, были усыпаны бурыми какими-то веснушками. Девушка не прятала грязных своих ног, словно бы пыль на ее ступнях и пальцах была так же естественна, как и то, что она зашла к нему в номер с неожиданной своей просьбой, словно она очень доверяла ему, незнакомому человеку, зная заранее, что он не осудит ее за пыль на ногах и за этот выгоревший, с белыми лампасами, туго натянутый костюмчик, который она тоже не успела сменить на платье.
Шаблонов мельком успел увидеть только общее выражение ее лица и теперь, роясь в чемоданчике, доставая хлеб, боялся поднять на девушку глаза, потому что ему показалось, что она очень красива и у нее подвижные, нервные ноздри.
— Может, чаю хотите сладкого? — осмелился спросить он и очень разволновался, разглядев наконец-то свою нежданную гостью.
— А, черт с ним, с чаем… Давайте пить чай. Я бы, конечно, чего-нибудь покрепче с горя… Но черт с ним. Проиграла я сегодня по-глупому! — воскликнула она, всплеснув руками. — Должна была прийти первой, а пришла шестой… И к черту! Чтоб я еще раз согласилась — никогда! Этот наш дурак уговорил меня. Я месяцев пять не тренировалась, зажирела… А он — поехали да поехали… Первое место! Тьфу! Позорище… Вы представляете, такая дылда, как я, бежит. Ой, кошмар! Фу-у! Да еще жара эта. Голова — печка, ничего не вижу, не слышу. А прибежала — и свалилась как дура! В глазах ночь, ноги подкосились, и я прямо куда-то ухнула. Господи! Мне бы сойти, я уже знала, что проигрываю, мне бы сойти, а я бегу. Ну, не дура? А у вас ничего нет выпить?
— Нет, — виновато сказал Шаблонов и очень пожалел, что у него нет бутылочки вина.
Она, казалось, тоже только теперь разглядела его и немножко оробела, во всяком случае смущенно опустила глаза и поджала ноги, спрятав их в тени стула. Руки она положила на колени, обхватив их растопыренными пальцами с белесыми тоже, выпуклыми, длинными ногтями, на которых жалко розовели остатки лака.
— Вы не подумайте, — сказала она, — что я какая-нибудь… Я думала, здесь наши. Мне все равно, я могу уйти, если мешаю… Забыла сегодня поесть. А тут буфета никакого, ничего… Хоть помирай. Мне ребята налили вина, а я думаю, а, черт с ним! Собака, — сказала она без всякой злобы. — Говорила этому дураку, чтоб отстал… «Поедем, поедем! Первое место!» Ну, какая я бегунья! Была. Да, была. А теперь вон бедра какие! — она с явным отвращением хлопнула себя по упругим ляжкам. — Мне килограмма четыре или пять сбрасывать, если бегать. Надоело все! На кой черт мне этот спорт? Верно? Я жутко переживаю, когда проигрываю. Сдохнуть могу от тоски! А зачем мне это нужно? Как будто меня оплевали, оскорбили, втоптали в грязь. А всего-то! Не прибежала первой. Ну, не дура?
Ее вьющиеся, очень светлые волосы были растрепаны и не прибраны, спадая на лоб, с которого она их то и дело сдувала. Они, видимо, щекотали, и ей казалось, что тополиные пушинки, летающие в комнате, садились на кожу лба.
— Вы извините меня, — сказала она вдруг. — Я, наверное, пойду. А то как-то неловко. Думала, кто-нибудь из наших…
А Шаблонов, который уже вскипятил кружку воды, весь встрепенулся.
— Нет, нет, — сказал он. — Это уж совсем! Пока не поедите, я вас никуда, так и знайте… Я вот даже сейчас дверь запру, а ключ, — говорил он, подходя к двери и поворачивая ключ, — а ключ положу в карман. Вот так. Это я, чтоб никто не вломился. У вас тут очень серьезные ребятишки, чего доброго, подумают, что я вас похитил у них.
А она, откинув голову, открыв лицо свое бледному и холодному свету, с насмешливой и очень горькой, застывшей улыбкой удивленно наблюдала за ним. Рот ее был полуоткрыт, как у дорогой куклы, и Шаблонов увидел под верхней губой, тоже как у куклы, ряд белых и сухих зубов, поблескивающих чистой эмалью. Ни порошком, ни пастой нельзя было довести их до такой поразительной белизны — это уж от роду. Это подарок.
— Ну и что? — протяжно спросила она.
Но тут же тряхнула головой, ворох ее волос вспыхнул под светом, прикрыл лицо тенью, и она засмеялась:
— Черт с ним. Запирайте. Я все равно не боюсь.
— А чего вам-то… Это я боюсь! — подхватил Шаблонов. — Вас ведь, наверное, хватились, ищут. Где… А как вас, кстати, зовут?
— Саша.
— Саша? — переспросил он. — Ничего себе! А-а странно… Редкое теперь имя. Хорошее. Саша. А меня Петькой зовут… Тоже не частое.
— А я Петровна…
— Ну, значит, — сказал Шаблонов, чувствуя, как колотится у него сердце, — судьба. Александра, да еще Петровна… Вы сладкий будете? Я вам сейчас бутербродов сделаю. С бутербродами сладкого чаю… Кстати, индийский. Пейте, ешьте, не стесняйтесь. У меня еще есть. Я еще сделаю… Хотите с сыром?
Он с глупейшим и каким-то благоговейным восторгом уселся на кровать и смотрел на Сашу, которая, прихлебывая горячий чай, ела бутерброды, приготовленные им. Он никогда еще в своей жизни никого не кормил, если не считать сына, и потому испытывал совершенно незнакомое ему чувство, похожее, наверное, на чувство женщины, кормящей голодного мужа. Он любовался своей гостьей, ее жадностью, с какой она поедала бутерброды, и улыбка не сходила с его лица. Его все умиляло в ней: даже жадность, даже набитый рот, трудное заглатывание пищи — все нравилось ему.
За дверью все время кто-то топотал, раздавались тревожащие его неразборчивые голоса мужчин, их хриплый кашель, женский смех и цоканье каблучков, хлопание хлипких дверей, транзисторная музыка. Дом гудел, и казалось, что кто-то приходил все время, кого-то встречали, радовались, обнимали, словно ночью должен был начаться шабаш, дикие пляски и разгул молодых ведьм, встречающих теперь своих любовников с длинными хвостами и рожками.
Сашенька, как мысленно уже называл свою гостью Шаблонов, не обращала на этот шум никакого внимания. Но вдруг, однажды, когда за дверью опять раздались мужские голоса, она как будто поперхнулась, замерла в испуге и прошептала с отвращением:
— Этот… дурак явился… — И, вся превратившись в слух, напряглась всем телом, вытянулась, как растревоженная птица, готовая улететь. — Тихо! — сказала она Шаблонову, насторожив его своим поднятым пальчиком. — Тихо, они сейчас уйдут.
Но грубые, угрожающие голоса долго еще бубнили в коридоре, половицы тяжело поскрипывали под ногами у тех, что стояли за дверью, они что-то обсуждали, спрашивали о чем-то, наверное о Саше, ее подругу, которая что-то отвечала им тихим, виноватым голосочком. Наконец они, помолчав, словно тоже прислушивались к гудящему дому, пошли прочь, вразнобой стуча каблуками, отчего, как показалось Шаблонову, даже в комнате заколыхался пол, и хлопнули входной дверью на пружине.
— О, господи! — выдохнула Саша, точно не дышала все это время. — Ушли, слава богу.
— А кто это? — все еще шепотом спросил Шаблонов.
— Да этот! — отмахнулась Саша. — Собака эта, — сказала она так, будто уже рассказывала о них Шаблонову и он все знал.
— Понятно, — сказал он и кивнул ей по-дружески.
— Он думал, ах-ах, какое счастье! И на шею… Это я-то!
— Понятно…
— Обидится, ну и черт с ним! О, господи! Неужели обратно идут? — опять встрепенулась она и вытянулась, прислушиваясь к знакомым голосам на улице. — Ой, слушайте, погасите свет, а… Пожалуйста.
Страх ее и тревога передались и Шаблонову, и он, смятенно улыбаясь, быстро поднялся и выключил свет. Жужжание люминесцентной лампы прекратилось, наступила тихая темнота.
— Простите меня, пожалуйста, а? — прошептала Саша из этой теплой и мрачной тишины.
— Да ради бога! — откликнулся тоже шепотом Шаблонов, прислушиваясь к шагам, которые опять вразнобой тяжело забухали в коридоре, уверенно и хамовато, не считаясь ни с чем. Ах, как он ненавидел в эти минуты мрачных этих незнакомцев, которые постучались опять в какую-то дверь и стали громко через дверь разговаривать с кем-то, кто не открывал им и отвечал из комнаты!
— Надо же какие! — злым шепотом проговорила Саша. — Убить мало!
— Да-а… Может, выйти?
— Нет, нет, нельзя… Нет! — испуганно прошептала Саша.
Кто-то из этих двоих злобно выругался, стукнул ногой в дверь. Вышла дежурная и зычно прикрикнула на них. Те огрызнулись: «Ладно, мать! Не твое дело».
Но дежурная не испугалась и тоже заорала на них. Запахло скандалом, и двое, что-то грубое сказав на прощанье, наконец-то ушли совсем. Выведенная из терпения дежурная вышла за ними следом, огласив тишину ночи зычным криком. Потом слышно было, как она, вернувшись, заперла на задвижку входную дверь и, продолжая ворчать, ушла в свою комнату.
Шаблонов успокоился, хотя все внутри у него дрожало от возмущения. Он уже с раздражением думал о Саше, которая, видимо, вела себя так с этими парнями, что сама дала повод ломиться к ней… Он словно бы уже ревновал ее к ним.
В доме давно стихли голоса и музыка, все успокоилось и уснуло. Пророкотал за окном милицейский дежурный мотоцикл. Милиционеров было двое, они о чем-то весело и громко переговаривались. Но потонул в тишине и рокот мотоцикла. Было очень душно, несмотря на открытое окно, и так тихо, что чудилось, будто в плафоне опять жужжал тревожный, мертвый свет. Но света они так и не включили, целуясь и обнимаясь в молчаливом каком-то и внезапном согласии. Лишь иногда Сашенька строго говорила ему:
— Не шути, дяденька…
А он глупо спрашивал:
— Почему? Какой же я дяденька?
— Потому, — отвечала она и отодвигалась от него. — Не прикасайся ко мне! — шепотом приказывала она. — Борода колючая.
Но потом опять позволяла прикоснуться и опять целовалась с ним, обняв его за шею или, вернее, положив тяжелые свои руки ему на плечи так близко к шее, что он задыхался от этой близости, от страстной прижатости к нему ее груди. Она была очень сильна физически, и Шаблонов даже не пытался диктовать ей свою волю. И хотя изо рта ее все еще пахло винным перегаром, хотя было очень жарко от ее объятий, он не помнил в себе такой тупой страсти, какая обуяла его в эту ночь. Именно тупость ощущал он, целуясь с ней, не в силах оторваться от ее губ, бессмысленность бесконечных поцелуев, какое-то полное непонимание, что происходит с ним и зачем все это ему нужно. Он вообще не помнил себя, не задумываясь о том, где он и кто эта женщина и почему ей и ему нужно целоваться.
— Опять шуточки? — слышал он ее предостерегающий голос, только тогда понимая, что позволил себе лишнее, и подчинялся, лишь бы не лишиться возможности опять и опять целовать ее.
Постепенно в голосе Сашеньки стали появляться нотки какой-то грустной расслабленности, она уже не покрикивала на Шаблонова, а говорила, отодвигаясь от него:
— Нельзя, понимаешь? Я не хочу… Я осенью замуж выхожу, понимаешь? В сентябре будет свадьба. Вот приезжай после свадьбы, тогда… А сейчас нельзя. Ну, можешь ты меня понять или нет? Я ведь говорю, у меня свадьба в сентябре. Понимаешь? А он у меня ревнивый.
Но Шаблонов ничего не понимал.
— Подожди, — говорил он с удивлением. — Свадьба? Через два месяца свадьба?
— Ну да…
— Выходишь замуж?
— Ну да…
— Да, конечно, — озадаченно говорил Шаблонов, — если свадьба, то значит… замуж… конечно… А зачем же без любви-то?
— Как это без любви?! Я его люблю.
Шаблонов ничего не понимал.
— А что значит — люблю? — спрашивал он. — Ты меня тоже любишь?
— Ну, ты артист! — со смехом откликалась Сашенька. — Я ведь тебя не знаю совсем, как же я могу тебя любить?!
— Да, действительно… Ты, Сашенька, очень странный человечек. Ты работаешь или учишься?
— Работаю.
— Кем?
— На машине, на вычислительной…
— О-о-о! Слушай, Сашенька, поцелуй меня еще. Я не могу без тебя, ты просто чудо.
— Не надо больше, а то… Я тоже не железная. Я ж говорю тебе, приезжай на тот год, тогда… а сейчас нельзя.
— А что будет, если приеду?
— Все.
— Уму непостижимо! Да ведь ты же сказала, что любишь своего жениха, будущего мужа, так? Выйдешь замуж и перестанешь любить, что ли?
— Почему? — обиженно спросила Сашенька. — Стала бы я тогда замуж выходить.
— Да, конечно, — сказал Шаблонов в задумчивости. — Конечно… Сколько ж тебе лет?
— А зачем это тебе?
— И в самом деле — зачем? Сашенька, дай я тебя еще один разочек очень нежно поцелую… Один разочек, честное слово.
И он опять целовал утомленную и словно бы засыпающую девушку, которая тоже отвечала ему на его поцелуи. Они сидели на продавившейся кровати тесно, как в гамаке. Он опять все на свете забывал и «еще один разочек» затягивался до бесконечности, а «честное слово» опять забывалось и им, и ею.
— Приедешь? — тихо спрашивала она.
— А куда?
— Договоримся как-нибудь. Ты мне «до востребования» напишешь, а я тебе тоже… И договоримся.
— Но ведь вот какая штука! — воскликнул в тихом хохоточке Шаблонов. — Я ведь тоже, понимаешь, а я ведь, честное слово, люблю свою жену!
— Ну и что… люби себе на здоровье.
— Чудеса! — искренне удивлялся он, отстраняясь от Сашеньки. — Ладно, я приеду… Или ты приедешь, куда я скажу. Хорошо?
— Хорошо. А сейчас, ты знаешь, я спать очень хочу! Глаза закрываются… Я до утра у тебя тут посплю? Я даже белье сниму с кровати и просто под одеялом посплю. Ты не обижайся, я боюсь сейчас к себе идти. Все спят, надо стучать. А утром я потихонечку — никто и не заметит. Твоя кровать где? У окна? А я тогда здесь, около двери… Можно?
И она, пошатываясь, прошла к кровати.
— Зачем же белье снимать? Спи так. Это мой номер… Спи как следует, — шепотом сказал Шаблонов.
— Спасибо, — ответила Сашенька, голубея в проредившейся предутренней тьме. — О, господи! — вздохнула она, в трепетном ознобе укрываясь одеялом, залезла под него в тренировочном костюме. — Увез бы ты меня отсюда, я бы тебя так любила за это! — И сразу уснула.
Шаблонов долго ворочался, вздыхал, приподнимаясь на локте, вглядывался в смутные очертания спящей девушки, чувствуя себя опять чуть ли не матерью подле спящего больного ребенка. Именно больного, потому что Шаблонов не в силах был понять, объяснить себе эту странную гостью, чужую невесту, спящую у него в номере и верящую в свою любовь к далекому неудачнику, которому она заранее собиралась изменять и даже договорилась о будущей этой измене с незнакомым мужчиной. Она и свадьбу-то свою ждала, наверное, для того, чтоб почувствовать себя наконец свободной, сохранив девственность для ревнивого мужа как подарочек, как великую добродетель, отпускающую все ее будущие грехи.
«Странный и несчастный человек, — думал Шаблонов, вглядываясь в безмятежное ее лицо. — За два месяца до свадьбы с кем-то опять пить вино, с кем-то целоваться, ночевать в чужом номере с мужчиной. Что это? Полное равнодушие или детсадовская общительность, вера в себя или неверие ни во что? Непостижимо! „Хорошо, я приеду“… Отговорка, конечно. Лишь бы уснуть. Поесть, пощекотать себе нервы и уснуть… Какой же она все-таки еще звереныш… Одно удовольствие на уме, только удовольствие, во что бы то ни стало — удовольствие! Не пришла первой — слезы. Как же иначе! Не получила удовольствия. Детский сад! Вот ведь какая бедняжка!»
Жалость, похожая на жалость к своему взрослому ребенку, не представляющему себе, что такое любовь, граничила в нем с нарастающим тоскливым раздражением.
С такими невеселыми и сумасбродными раздумьями Шаблонов встретил рассвет. За окном гулко зачирикали воробьи. В воздухе захлопал крыльями, словно бы разминаясь после сна, сизый голубь. Заворчала и истошно взвыла кошка, и почудилось вдруг, что за окном проснулись жители каких-то карликовых джунглей: свирепые хищники и их жертвы.
Шаблонов понял, что не уснет, что ему уже нельзя даже этого делать, потому что надо вовремя разбудить Сашу, чтоб их не застали врасплох ее подруги или дежурная. Спящий дом показался ему каким-то враждебным станом, стерегущим его, осажденного в этой комнате, и ждущим мгновения, когда он откроет свою дверь, чтобы с гиканьем броситься на него и разорвать на части. Он с нетерпением ждал семи часов утра, чтобы выпроводить гостью.
— О-ой! — воскликнула она вдруг с испугом. — Где это я? — И, пяля на него сонные, опухшие глаза, с истерическим каким-то ужасом спросила: — Что это? — Но тут же обмякла и с облегчением вздохнула: — Надо же, как испугалась! — сказала она, приходя в себя. — Что, надо идти, да? — Сбросила с себя одеяло, садясь на кровати и шаря босыми ногами туфли. — Дай мне расческу… Ой, и попадет мне от Зойки! Она небось думает, что я утопилась с горя.
Она торопливо, с треском расчесывала волосы, чуть ли не ломая зубья маленькой мужской гребенки.
— Ты посмотри, — говорила она, — нет ли кого-нибудь в коридоре. Если нет, скажи, и я сразу…
— Не торопись.
— На кого я похожа? — спросила она, продолжая рвать свои волосы. — Морда опухшая?
— У тебя не морда, а очень симпатичное лицо, — сказал он насмешливо. — Ты-то хоть выспалась?
— Конечно, — откликнулась она. — А ты что, не спал? Почему?
— Уснешь тут… — засмеялся Шаблонов, удивляясь наивности ее вопроса.
— Ну, ладно, давай я тебя поцелую и пойду…
И она прижалась к нему одним из тех ночных поцелуев, от которых у него голова шла кругом.
— Подожди, — сказал он, переводя дыхание. — Мы увидимся? Ты сегодня уезжаешь? Остаться никак не сможешь?
Она прикусила в мгновенной задумчивости верхнюю губу, нос ее, словно был эластичным, вытянулся.
— Нет, — сказала она, — не смогу. А зачем?
— Погуляли бы… посидели, где-нибудь…
— Мне завтра на работу. Нельзя. Я тебе напишу. Знаешь, когда напишу? Сразу же после свадьбы… Это значит, числа десятого сентября. Москва, Главпочтамт, да? Придешь за письмом?
— Приду.
— Тогда напишу. — И она велела записать свой адрес, тоже «до востребования», взяв и у него листок, вырванный из записной книжки. Взглянула на его фамилию и улыбнулась загадочно.
Ее фамилия была, видимо, переделана на русский лад из украинской: Павлюкова — предки были Павлюками.
— Забудешь, — сказал Шаблонов с усмешкой. — Выйдешь замуж… и привет.
А она очень удивилась и даже как будто обиделась.
— Я никогда тебя не забуду! Ты что? — сказала она с возмущением. — Как это можно!
— Ну, вот и хорошо, — засмеялся Шаблонов. — Ты, Сашенька, прелесть! Ничего подобного никогда не встречал, и вообще… Ладно, беги. Беги и не оглядывайся. Оглянешься — окаменеешь… Прощай.
— До свидания, — сказала она и, сменив озорную улыбку на какую-то вспышку страха, приоткрыла дверь, выглянула в коридор и тут же выскользнула из комнаты.
Это случилось в июле, а в середине сентября, сделав большой крюк по городу, Шаблонов, чувствуя себя преступником, зашел на Главный почтамт, в огромный и мрачноватый зал с вереницей стеклянных окошечек, под одним из которых было написано как раз то, что он искал: «Корреспонденция до востребования». Стараясь быть спокойным и не выдавать своего волнения, он молча протянул паспорт и с удивлением увидел, как девушка с механическим равнодушием в движениях отобрала для него одно, второе, а потом и третье письмо. Осевшим голосом он выдавил слова благодарности, закашлялся и, усевшись за колонной, принялся читать письма, не соблюдая порядок их написания.
Первое, что он понял, — что свадьба расстроилась, а жених — собака. Второе, что жених — ужасная собака, а свадьба поэтому не состоялась. И третье — очень хочется увидеться, обо всем поговорить, посоветоваться, как быть. Каждое письмо оканчивалось строчкой: «Целую. Ваша Саша».
«Я теперь работаю диспетчером на автобазе… Работа интересная, живая, все время с людьми, — писала она, сделав ошибку в слове „интересная“. — Коллектив хороший, дружный. Меня все любят, и я их тоже всех люблю». И даже шутила: «Все время улыбаюсь, веселюсь. Не горюю нисколечко! — писала она, сделав две ошибки в одном слове: „нисколичка“. — Приезжайте в гости. У нас хорошие яблоки уродились. Привезете своей семье яблоков, жена спасибо скажет. Вы мне понравились, как человек. Жду от Вас письма. Напишите, приедете или нет. („Опять ошибка, — отметил Шаблонов. — „Приедите“. Училась, наверное, на тройки“.) Целую. Ваша Саша. Павлюкова», — добавила сна свою фамилию и полностью написала домашний адрес.
Выйдя на лестницу, Шаблонов хотел было разорвать и выбросить в урну эти конверты, но в последний момент передумал и быстренько и неразборчиво переписал в записную книжку адрес. «Надо ответить… Зачем обижать…» А уж потом разорвал письма и бросил, как бы развеяв их прах по ветру.
На душе у него было тревожно, но вместе с тем ему все время хотелось улыбаться.
Но прошло время, и, как говорится, рана затянулась.
Шаблонов все так же доволен своей работой, хотя уже и не хвастает перед каждым встречным, говоря теперь все больше о своей любви к жене.
— Не-ет, мне все эти штучки-дрючки ни к чему, — говорит он с улыбкой опытного человека, многое познавшего в жизни. — Если нет, так сказать, чудного мгновения, то зачем все это? У меня молодая красивая жена. Вот, пожалуйста, фотокарточка: она и сын. Я ж говорю, у меня красивая жена! Я не встречал ни одной женщины, которая могла бы сравниться с ней. Вот так. В этом все дело. Слышали, наверное, сейчас иглоукалыванием увлекаются. Я лично в это мало верю, хотя, конечно, поживем — увидим. Может, сам буду в старости лечиться этим методом. Кто знает! Но я сейчас не об этом, я о том, что наблюдал тут недавно в одном курортном местечке. Сидят две раскормленные женщины и говорят об этом иглоукалывании. Одна, видно, лечилась и объясняет другой. «А вот возьмите, — говорит, — лицо. Вот тут, — говорит, — почки, — и показывает пальцем на места укалывания на лице. — А вот тут спина, а на носу желчный пузырь, а мочевой пузырь под носом, вот тут. Под глазом у нас тонкий кишечник…» Господи помилуй! — восклицает с хохотком Шаблонов, всплескивая руками. — Представил все это на их лицах, очень как-то легко представил себе и почки, и тонкий кишечник, и чуть меня не стошнило. А другая-то между тем спрашивает: «А где же, интересно, сердце?» А та отвечает: «Сердце на переносице». С ума сойти! Я к чему все это? А к тому, что я себя всегда так чувствую, когда поглядываю на других женщин, даже очень симпатичных, что у одной из них какая-нибудь селезенка на лице, у другой — мочевой пузырь, а у третьей — вообще спина вместо лица. А у моей жены лицо богини, понимаете? Я его таким вижу, потому что люблю ее и ни с кем не могу сравнить. Тут не может быть никакой обиды! Если вы, например, любите свою жену, то, конечно, должны чувствовать то же самое или нечто похожее. Нет! Конечно, о чем тут говорить, я уважаю и отношусь с почтением ко всем женщинам: красива она или нет. Не в этом дело. А вот когда дело касается намека на близкие отношения, то уж позвольте мне быть грубым и циничным. А почему бы и нет?! Я, например, знаю таких мужчин, которые по-рыцарски рассуждают: «Все для женщины, если она дает надежду… Лишь бы ей было хорошо». Но ведь есть же границы! А потом, почему я, например, должен быть уступчивым и даже, так сказать, удобным для какой-то малознакомой женщины и забывать о другой, которую я знаю и которую люблю, которая дороже мне всего на свете? Я говорю о жене. Если рассуждать: «Все для женщины, лишь бы ей хорошо…» — и так далее, то вроде бы получается, что жена и не женщина вроде. Вот ведь в чем дело! Ну их всех к черту! Я для жены готов делать все, лишь бы ей было хорошо и чтобы именно она всегда чувствовала себя победительницей, а не какая-нибудь легкомысленная особа. Для всех других я готов до определенного момента быть вежливым и корректным. По принципу обыкновенной человечности готов на комплименты, на улыбки, но не более того. Все это при условии, конечно, что я люблю свою жену. Если вам не интересно, это еще ничего не значит, — говорит Шаблонов всякий раз, когда ему возражают. — Не хотите так жить — не живите. Ваше личное дело. А что значит — все так живут? Во-первых, не все, а во-вторых, почему я должен брать с кого-то пример? Пусть этот кто-то берет пример с меня, если, конечно, захочет… Я не настаиваю.
Как правило, Шаблонова горячо поддерживают пожилые женщины, умиляясь душою и во всем соглашаясь с ним. А мужчины или посмеиваются, или откровенно скучают, отмахиваясь от всех этих журчащих слов, как от назойливой, неведомо откуда взявшейся мухи.
Сам Шаблонов этого не замечает, словно говорит не для тех, кто его слушает, а для кого-то еще, кого нет в реальной действительности или, вернее, который никак не попадается ему на глаза, который когда-нибудь встретится ему и обязательно похвалит его, Шаблонова, за такую праведную и чистую жизнь.
Непротекаемый
Это было похоже на то, как если бы я вдруг среди ночи очутился в запасниках забытого людьми краеведческого музея — пропыленных, пропахших сухим старым деревом, ржавым железом и тряпьем. Музей давно закрыт, не горит ни одна лампа, но деревянные сохи, сани, глиняные горшки, железные скобы и топоры, медные самовары, мрачные картины, писанные маслом, пожелтевшие кружева — все это старье, не уместившееся в скрипучих зальцах музея, как бы само по себе испускает сумеречный свет, фосфоресцирует, поражая воображение и пугая своей бесплотной объемностью, своим реальным присутствием, приводя меня в оцепеняющее душу состояние расслабленности и удивления: зачем все это и почему я здесь? Бежать, бежать! Стучаться в старинную, тяжелую дверь, кричать и звать на помощь людей, авось кто-нибудь поможет, или какой-нибудь добрый-добрый припозднившийся прохожий услышит вопли запертого… Лишь бы этот прохожий сам не испугался, расспросил бы, в чем дело, и не убежал без оглядки от убогого кладбища, от могил прошлого быта. Но цепенящая сила удивления удерживает на месте, я делаю шаг, другой, вижу ажурные стрелки бронзовых часов, слышу их мертвую тишину и с колотящимся от страха сердцем, боясь оглянуться, вижу рядом мраморную головку кудрявой красавицы с застывшей навеки улыбкой в каменных глазах…
Примерно такой же вот страх и такое же небывалое удивление испытал я однажды, когда вдруг увидел перед собой потемневшую от времени кирпичную стену дома с седоватой плесенью над ямами подвальных окон, откуда, как я помню, всегда несло сыростью и куда иногда залетал наш деревянный чижик, который приходилось то ли мне, то ли еще кому-нибудь из играющих доставать со дна цементированных ям.
В подвале нашего дома была краскотерочная артель, на помойках валялись забитые отвердевшим суриком или зеленью квадратные решета.
Было до дрожи, до ужаса страшно встретиться взглядом в глубоких ямах подвальных окон с глазами какого-нибудь человека, смотревшего на тебя из подземелья сквозь пыльное стекло и грозившего тебе зеленым пальцем. В жизни не знавал большей беды, чем тот детский панический страх, выгонявший меня из ямы. Ноги мои скользили по заплесневевшей стене, пальцы рук, вцепившиеся в верхний камень ямы, срывались, я готов был орать от бессилия и жути, и все во мне вопило в минуты тех судорожных усилий, когда мое существо рвалось из могильного плена. Но стыд перед ребятами побеждал.
— Лёдик, дай руку, дурак! — со злобной дрожью в голосе говорил я своему лучшему другу, который, ухмыляясь, глядел на меня сверху. — Дай руку, ты! Ну, быстрей!
Он был на три года старше меня и позволял себе иногда поиздеваться надо мной: ему девять, а мне только шесть лет. Дружбу с Лёдиком я очень ценил!
— Руку дай! — кричал я уже в отчаянии. Он протягивал мне деревянную лапту и, когда я выпрыгивал из своего плена, говорил мне с насмешкой:
— Испугался! Ну чего ты? «Руку дай!» Шелобан тебе по лбу за это надо дать, чтоб не боялся. Дай сюда лоб! Дай лоб!
Я покорялся ему. Он заводил средний свой палец, вечно измазанный в лиловых чернилах, за большой и с размаху резко щелкал им по моему звенящему лбу.
— Нормально? — спрашивал он. — Больше не будешь бояться? Или еще дать?
— Нормально, — отвечал я, потирая лоб. — Да я и так не испугался…
— Чиво, чиво-о? — тянул, наступая на меня, Лёдик. — Чиво? Повтори…
Я знал, что он может столкнуть меня в подвальную яму, может подтащить меня и опустить опять на пыльное донышко с чахлой травой.
— А что? — ерепенился я, готовый сорваться в бега. — А что?! Руку трудно было протянуть, да? Трудно, да?
В глазах его появлялась вдруг сквозь улыбку какая-то пронзительная, сверлящая меня, азартная решимость, и я, зная Лёдика, бежал от него к сараям, к помойкам, а Лёдик бежал сзади меня и орал мне в спину:
— Догоню, гад!
И опять страх гнал меня что есть мочи прочь от этого кровожадного Лёдика, который был моим лучшим другом и который теперь казался мне чуть ли не рычащим зверем, настигающим меня, чтобы разорвать и съесть.
— Ма-а-а! — вопил я во все горло. — Ма-а! — единственное, что могло спасти меня.
И спасало.
— Подойдешь ко мне, гад! — говорил в таких случаях запыхавшийся, отставший от меня Лёдик, и лицо его бывало в эти минуты искажено настоящей злобой, от которой, впрочем, и следа не оставалось к вечеру или к утру следующего дня.
…Когда я увидел зловещие ямы моего детства, увидел наш дом, похожий на фабрику и снесенный лет двадцать тому назад по генеральному плану реконструкции, его широкие, в три переплета окна, на подоконниках которых зеленели когда-то цветы в горшках, хрипели патефоны, выплескивая во двор песню про Андрюшу: «Нам ли быть в печали…» — когда я, цепенея от восторга и страха, ступил на наш жесткий, застекленный двор, попав в странный сумеречный свет, которого хватило только, чтобы выявить кирпичные стены старинной кладки, зияющие чернотой высыпавшихся, истлевших от времени кирпичей, в то время как ямы подвалов, сараи и помойки, все закоулки двора, отдаленные стены соседних домов были погружены во тьму и даже окна покинутого дома смутно светились лишь переплетами рам, за которыми чернела угольная, беспросветная темнота, — когда я все это вдруг увидел в реальности, по телу моему опять пробежал панический холодок, словно бы с улицы в подворотню подуло ледяным ветром, хотя я знал, что никакого ветра тут быть не может, потому что вообще э т о г о ничего нет, нет этой мертвой и опасной тишины, а тот пыльный, сумеречный свет, из которого выглянула кирпичная стена дома, — всего лишь смутный свет угасающей памяти о прошлом. Я все это понимал, зная, что мне нельзя ходить по сумеречному двору, над которым нет даже неба. Но какая-то сила медленно сдвинула меня с места, и я, боясь заглянуть во тьму окон, пугаясь одной лишь мысли или, вернее, одного лишь предчувствия, что кто-то следит за мной из этих мертвых окон, пошел или поплыл в тишине в тот угол двора, где стояли черные сараи, которые я ощущал, как летучая мышь, всем телом, и где была наша старая голубятня, сколоченная из краскотерочных, отмытых в керосине решет. Я с такой радостью и с таким нетерпением вглядывался в черноту, пытаясь разглядеть эту ажурную башенку над крышей сараев, что совсем позабыл о страхе и о том, что мне нельзя туда идти… И был наказан за это!
В угловом окне, в его чернильной, мертвой темноте вдруг желтым огнем вспыхнула спичка, осветив изнутри пыльные стекла. И тут же погасла. Я остановился как вкопанный. Кто-то следил за мной, кто-то сурово и таинственно смотрел на меня в упор из темноты, не спуская с меня глаз. Я не в силах был превозмочь оцепенения и ужаса, охвативших все мое существо. У меня не было воли даже крикнуть кого-то на помощь. Последним усилием разума я попытался успокоить себя, объяснить себе, что в этом ушедшем в прошлое мире, в этом несуществующем, давно уже сломанном, снесенном доме, на месте которого много лет возвышается четырнадцатиэтажный корпус, в доме, который пригрезился мне, не могла вдруг вспыхнуть спичка, что это только померещилось мне… Но душа кричала мне, что за этим окном, этим черным окном, кто-то стоит, живой и очень опасный, смотрящий прямо на меня, не сводящий с меня глаз. Ну не призрак же, черт побери!.. Призраки не курят! А этот… Я вдруг увидел пальцы, чуть освещенные красненьким огоньком сигареты. Кто-то пронес огонек, зажатый в пальцах, снизу вверх, затянулся дымом, отчего огонек разгорелся сильнее и ярче, а потом опять опустил его вниз и как будто бы спрятал, чтобы не выдавать себя. Зачем же я пришел сюда?! Что же теперь делать? Ведь нельзя же было ходить сюда! Я это прекрасно сознавал теперь и с тоскою ожидал чего-то очень и очень страшного, не зная, как избавиться от упорного взгляда из темноты, хотя, казалось, страшнее этого взгляда и огонька, этой таинственной жизни за черными пыльными стеклами несуществующего дома, ничего уже быть не могло.
«Он, наверное, считает, — подумал я, чувствуя, как сердце холодеет у меня в груди, — что я еще не обнаружил его. Думает, что не вижу. А я ведь даже знаю, чье это окно! Это окно Ландышевых, Лёдик здесь жил… Лёдик Ландышев. Я знаю здесь все. А он думает, я не заметил его, что только он один увидел меня и наблюдает. Это ужасно!»
— Лёдик, это ты? Выходи давай! Что ты?
Это я хотел так крикнуть или, вернее, что-то во мне еще не обмершее от страха хотело крикнуть, но крика своего не услышал. Ноги мои ослабели, из них как будто совсем вышла вдруг вся сила, а из живота поднялась дурманящая голову тошнота, и я, захлебываясь этой одурью, мягко и бесшумно упал на каменную землю, в какой-то сырой и приятный холод…
— Ну, чиво ты? Чиво ты вообще? — услышал я вдруг над собой водянисто-булькающий и очень знакомый мне голос. — Очухался? Ух ты… Во! Давай, давай, правильно. Во, давай, давай… Молодчик. Напугал, гад… Ты меня-то хоть видишь, нет? Слышишь меня хоть, нет? Ты брось! Дыши, давай… Как следует, глубже дыши. Во! Правильно. Нормально… Чиво ты плачешь-то? Чиво ты?
Я лежал на жесткой, прогретой солнцем, обросшей курчавой травкой земле и плакал. Мне было больно дышать. Надо мной склонились огромные полуголые люди с испуганными лицами. Кто-то из них держал мои руки, обхватив холодными, мокрыми пальцами запястья. Мне стало очень страшно, и я, давясь раздирающим грудь дыханием, плакал навзрыд, усугубляя боль и чувствуя, как горячи мои слезы, которые выжигали мне глаза. Рыданья и только одни лишь рыданья имели какую-то силу над моим телом, заставляя меня судорожно колыхаться: других сил пошевелиться у меня не осталось.
Той реки, в которой я тонул, уже нет. Нет и берега, на котором я лежал. Нет и другого берега, захламленного какими-то бревнами, заборами, дровяными складами, куда я осмелился плыть вслед за Лёдиком, переплывая впервые в жизни Москву-реку. Остались лишь смутные очертания Москвы-реки и берегов, окованных теперь гранитом и залитых асфальтом.
Выходит дело, что я лежал когда-то там, где теперь проложена асфальтированная дорога, то есть я лежал когда-то под этой серой дорогой, на зеленой траве… Ни меня того, ни той травы — ничего этого уже нет. Есть запыленные, забитые хламом подвалы памяти. И в этой серой, обесцвеченной временем памяти я плыву вслед за Лёдиком, который то и дело оглядывается, подбадривает меня, плывя то саженками, то на боку, легко и просто, как будто розовое его тело выталкивает вода, а ему только и остается что грести руками, отталкиваться от плотной этой, напирающей на него массы. Мокрая спина его, обожженная на солнце, кажется эмалированной, мокрые волосы на голове похожи на черные перья и торчат на затылке, растянуты в улыбке розовые, тонкие, как у девочки, губы. Он плывет впереди меня, не торопится, мой удивительный и верный друг, и даже подмигивает мне, покрикивает сдавленным, отфыркивающимся голосом: «Молодчик, хотя и не летчик! Не устал, нет? Давай!» А мне легко и радостно плыть за ним, но ни улыбнуться, ни ответить ему я все-таки не могу: все мои мысли заняты берегом, так медленно приближающимся ко мне, и еще теми черными глубинами, которые разверзлись подо мной… Лишь бы доплыть до берега. А доплыть обязательно надо. И не потому вовсе, что у меня уже нет выбора, а для того доплыть надо, чтобы потом сказать, что я переплыл Москву-реку. Обратно можно в конце концов по железнодорожному окружному мосту, если пустит, конечно, милиционер, охранявший тогда этот мост.
И я доплыл. Докарабкался изо всех сил и, ощутив под ногами глинистое дно, добрел до теплого, деревянного берега, который всегда казался мне загадочным и таким далеким, будто это была не земля даже, а как бы другая планета, серый бок луны.
Лёдик уже сидел на сухом, серебристом бревне, грелся на солнышке, и когда я в мокрых своих трусиках сел с ним рядом на горячую покатость бревна, он положил руку мне на плечи и, пошлепывая ладошкой, сказал: «Молодчик! Сейчас отдохнем, позагораем и обратно. А то без порток останемся».
Я уже тогда знал, что не доплыву обратно. На этом сером, выгоревшем, захламленном щепой и досками, затянутом забором берегу стало вдруг так тоскливо, словно бы я и вправду попал на неживую луну.
— Я не доплыву, — сказал я Лёдику.
— А чего будешь делать?
— А если по мосту?
— Кто тебя пустит-то? Дурила! Доплывешь. Сюда доплыл, а чего… Раз доплыл, значит, доплывешь, — с равнодушной уверенностью сказал Лёдик. — Свистнут портки, тогда будешь знать.
— Нет, Лёдик, — грустно сказал я, разглядывая родной берег, пестрящий голыми людьми, валяющимися на зеленой траве под высокими липами и кленами, счастливыми и бесконечно далекими, чьи умные головы как маленькие шарики с ручками, плавали под крутым бережком, темнея над поверхностью широченной реки. Я завидовал им с тоской обреченного человека. Все они, неразличимые отсюда, превратились для меня в одно какое-то многоликое, многогрудое, обоеполое существо, частью которого я только что чувствовал себя, как и они счастливо греясь на солнышке, полоскаясь недалеко от берега в прохладной мутной реке, радуясь с восьмилетней своей вершинки, что я тоже человек свободный, как и все тут на берегу, что и мне тоже можно на весь день уйти из дома на Воробьевку, потому что у меня есть отличный друг, которому уже одиннадцать лет.
— Лёдик, — сказал я. — Я не доплыву, наверное. Ты плыви, если хочешь, а то и правда стащут портки.
Мне было очень стыдно перед старшим другом, и я боялся, что он рассердится на меня. Я все еще чувствовал дружеское прикосновение его руки, его похлопывание по плечу, и мне не хотелось быть ему в тягость.
— Плыви, а я тут посижу, отдышусь малость и тоже… попробую. Ты только гляди, когда я поплыву. Я тебе рукой помахаю, ладно? Ты наблюдай за мной, а я помахаю.
— Утонешь, отвечай тогда за тебя.
Я понимал, конечно, что если я утону, у Лёдика будет много всяких неприятностей, и поэтому чувствовал себя кругом виноватым. Нельзя тонуть, да и не хотелось. Ужасно не хотелось тонуть!
— Порток-то не жалко, — задумчиво сказал Лёдик. — У меня они старые, никто и не возьмет вообще-то. На левой коленке уже кожа просвечивает. Рубашку жалко! Хрен с ней вообще-то, конечно… Мать жалко! Скажет, вот работаю, стараюсь… бьюсь как рыба, а он… У тебя-то портки да майка — и все. Жалко, что ль. Конечно, чего говорить — без порток по городу неудобно. Ух ты, елки-палки… Мать будет орать, ужас! Ты знаешь ее, чего говорить…
— Плыви, Лёдик, а? — взмолился я. — Я постараюсь. Ты не бойся. А вообще-то тебе ничего не будет! Скажешь, не видел…
Он сурово оглядел меня и молча отвесил крепкий и радостный для меня шелобан по лбу.
— Вообще-то, знаешь, как учат плавать? Бросают на глубину — и барахтайся. Поплывешь, если жить хочется. Вот и я тебя брошу сейчас, и делай что хочешь. А то, действительно, неудобно голым по городу. Ты малолетка, ладно, а я как дурак. У меня, главное, рубашка, хрен с ней, конечно, но, главное, мать недавно купила на толкучке, отдала все деньги. Ее уже точно сопрут. Если еще не сперли. Ты как? Может, вместе? Чего тут сидеть-то? Высох уже. Вон у тебя кожа на спине шелушится… Как хочешь, конечно. Может, лучше подождать, не знаю. Отдохни как следует и давай. Не торопясь, потихонечку.
У меня и в мыслях не было осудить его за что-либо: сам я во всем виноват, и никто не обязан нянькаться тут со мной. А Лёдик уже встал, похлопал себя по мокрым трусам, засучил их наподобие плавок. В глазах его опять появилась решимость и пронзительная, всегда пугавшая меня то ли угроза, то ли злоба. Разбежался, нырнул и, отфыркиваясь, поплыл, оглядываясь на меня.
— Лёдик! — крикнул я. — Лёдик!
— Как поплывешь, помахай, — ответил он. — Не бойся, главное.
Когда я, измучившись в одиночестве на безлюдном и ставшем вдруг опасным берегу, тоже все-таки поплыл, я ничего не боялся. Плыл медленно, чувствуя, как тяжелеют руки. Достиг уже середины и вдруг ужасно испугался, увидев, как далеко еще до берега и как одинок я… Вот тут-то все и случилось. Я заторопился, стал задыхаться, глотнул воды, подавился ею, закашлялся, из меня невольно вырвался кашляющий крик, который еще больше напугал меня. К ногам моим как будто привязали вдруг тяжеленные камни, и я солдатиком уже стоял в воде, из последних сил стараясь вытянуться, подтянуться кверху, словно на турнике, дотянуться последний раз подбородком до перекладины, беспорядочно колотя руками у себя перед лицом, не находя никакой опоры для своего отяжелевшего и безвольного тела. У меня даже крика больше не получалось. Мне словно бы не до крика стало, не до людей, которые могли еще услышать меня. Чуточку отдохнуть! Зацепиться за что-нибудь и отдохнуть, самую малость… И в каком-то странном помешательстве я решил это сделать под водой, потому что, рассуждал я, больше негде, а там немножко передохну и снова подтянусь… Я совсем расслабился и, совершенно утратив вес и ощущение своего тела, с облегчением на душе стал куда-то медленно и очень приятно проваливаться, и проваливание это было похоже на легкий полет или парение. Это парение казалось очень долгим, хотя, наверное, продолжалось считанные секунды. Я, кажется, пил воду, вернее, она вливалась в рот, а я только успевал заглатывать ее, пока мне не стало больно. Силы опять пробудились во мне. Я расталкивал руками тяжелую, душащую меня тьму, голова моя и мое сердце, мои легкие готовы были уже лопнуть, разорваться от нестерпимой боли, и, ничего уже не понимая, я в паническом страхе, удесятерившем силы, с открытыми от ужаса глазами искал свет в этой тьме, и, когда в голове моей зазвучали колокола пульсирующей в висках бешеной, черной крови, свет этот вдруг ослепил меня, я продрался к нему и с неимоверным усилием стал звучно стонать, втягивая в себя этот слепящий и дурманящий свет, который вдруг стал очень и очень тяжелым, давя мне на голову, как железной плитой. К моему приятному удивлению, я вновь почувствовал облегчение, как только скрылся опять под водой, паря в каком-то мутно-зеленом, игривом и веселом, звучащем пространстве. Когда я снова устремился вверх, подчиняясь неподвластным моему одурманенному сознанию силам, мне было лень грести руками, и я делал это нехотя, подневольно, зная уже, что там, наверху, мне будет очень тяжело приподнять головой сверкающую плиту. Я даже, кажется, подумал тогда с грустным недоумением, что делаю это в последний раз, потому что новое мое состояние мне начинало нравиться — я никогда еще не испытывал такой головокружительной легкости и, как ни странно, явившейся вдруг ясности сознания. Я стал понимать, что утонул и что это вовсе даже не страшно, а приятно. Одно меня угнетало — горе матери и отца, которые будут плакать и думать, что я мучился и страдал, не зная о том, что я совсем не мучился и совсем не страдал, и я злился на них за это непонимание: они мне казались ничего не понимающими людьми, какими-то несмышленышами, раздражавшими меня теперь своими слезами.
Но воздуха я все-таки глотнул, не понимая, зачем это надо было делать. И успокоился совсем. Хотя еще и еще раз, как во сне, поднимался и с трудом приподнимал затылком тяжелую плиту света, которая, казалось, расплющивала мне голову.
Я с интересом, но и с некоторой грустью наблюдал, как мое ослабевшее тело, светлое, словно переливающееся перламутром, странно и нелепо оцепенев, плывет в струящихся зеленых сумерках, наполненных тихим и приятным звоном…
А потом, когда я, истерзанный болью, лежал на сухой и жесткой земле, окруженный людьми, мне было страшно и тоскливо, будто я впервые родился, покинув приятное, нежное чрево матери. Я ничего еще не понимал, но мне было больно и тошно. Сухая трава впивалась в меня иглами. Я чувствовал себя зажатым двумя чуждыми для меня стихиями: бугристой землей, упирающейся в мою спину, и сверкающим столбом тяжеленного воздуха, который давил на меня так, что я не мог шевельнуть даже пальцем, и который рвал мою грудь, как будто он шершавым колом входил в мою гортань. Меня стала бить дрожь. Сознание мое снова помутилось, и я слышал только тревожные голоса, повторяющие монотонно одно лишь слово: «Тише, тише, тише…» Я куда-то опять поплыл…
Мне и невдомек тогда было, что меня вернули к этим мучениям двое мужчин, которые переплывали, на мое счастье, реку.
И лишь когда меня выписывали из больницы, я понял, какая это приятная штука — жизнь.
Это было перед самой зимой. Так что я, как бы выйдя из реки, сразу ступил на заснеженную землю, уже обутый в валенки и одетый в зимнее пальто. Лёдик, увидев меня во дворе, презрительно ухмыльнулся и тихо сказал:
— Не подходи, гад. Не я буду — убью…
— Лёдик, ты что! Ты мне говоришь это? За что? Ты? Лёдик? Я же не виноват!
И я заплакал, чувствуя свою неизъяснимую вину перед другом, которого я так жестоко подвел.
На улице мело. Сухой снежок никак не мог улечься на мерзлую землю. На широкой мостовой, казалось, шевелились волны с барашками на гребнях. За автомобилями неслись следом белые метели, точно каждая машина везла сухой, как опилки, снег.
В детские годы мы порой неосознанно составляем для себя некий кажущийся недосягаемым образ мужественной красоты, которой хочется подражать безоглядно; и не замечаем, как этот образ уже входит в нас самих, формируя привычки, манеру говорить, ходить по улице, улыбаться и даже сидеть на стуле или на дворовой скамейке. Рядом с Лёдиком я чувствовал себя, во-первых, очень маленьким и недостойным его внимания, а во-вторых, мне всегда казалось, что я глуп и ненаходчив, что не умею так смеяться, шутить и так уверенно смотреть на людей, как это делал Лёдик, оставаясь всегда каким-то непротекаемым и горделивым корабликом, скользящим по житейскому морю. Он умел насмешливо разговаривать с девчонками, снисходительно поглядывая на них со своей недоступной высоты, никогда не подпуская их слишком близко. Он оставался всегда как бы настороже, всегда готовый замкнуться и уйти в себя. И мне нравилась его недоверчивость. Я трепетал перед ним, когда с какой-то странной подозрительностью выспрашивал он меня, пытаясь узнать имя какого-либо затаившегося обидчика, видя во мне в эти минуты чуть ли не изменника, перекинувшегося на сторону врага.
— Чего он тебе говорил обо мне? — спрашивал Лёдик. — Я видел, ты разговаривал с ним вчера у сарая.
— Я не разговаривал с ним у сарая! — с искренним и пугливым удивлением отвечал я своему другу.
— Ну, не у сарая, а там… я видел, знаю. Чего он говорил-то тебе? Чего ты? Не хочешь мне сказать, да?
— Я ничего не говорил. Честно, Лёдик! Он чего-то сказал мне, но совсем не о тебе. Чего-то про гильзу какую-то… Гильза какая-то у него была или патрон, я даже не разобрал. Кажется, патрон от винтовки…
— Ну, — хмуро понукал меня Лёдик. — А ты чего?
— Ничего, — пожимал я плечами. — Посмотрел и ничего не сказал. Говорю, шарахнет тебе по лбу, тогда узнаешь.
— А чего ж, гад, говоришь, что ничего не сказал! Сказал! А говоришь «ничего не сказал».
Он меня частенько так запутывал своими допросами, я совсем терялся перед ним, потому что не понимал, чего он от меня хочет, никогда не помня, о чем, когда и с кем я разговаривал и кто и когда о нем что-нибудь говорил мне. По правде сказать, со мной тогда никто из сверстников Лёдика и не разговаривал всерьез. Так уж получилось, что я был самым младшим в нашем дворе, все ребята успели родиться года на три, на четыре раньше меня, а я как бы волею судьбы оказался в одиночестве, потому что только среди девчонок были мои ровесницы, пятилетних же я вообще не принимал всерьез, хотя их было у нас во дворе штук пять или шесть. Я их тогда и в самом деле считал на штуки.
А Лёдик в презрительной задумчивости пронизывал меня холодным своим, светлым и даже каким-то прозрачным, как ледышка, взглядом.
— Смотри, гад, — говорил он угрожающе, — увижу с ним, все! Близко тогда не подходи. А подойдешь, глаз выбью. Я шутить не люблю.
У меня и тени обиды не оставалось, когда он прощал меня, прощал мой неосторожный разговор с его противником — противником, о котором я, как правило, и не подозревал. Скорее, наоборот, я даже ревновал его к старшим ребятам, потому что, когда он бывал с ними, он не обращал на меня никакого внимания: с Рыжим, с Колькой Давыдовым, с Серенькой Генераловым — все это были его главные друзья, а меня он только принимал к себе, когда бывал один. Я это знал, это было так, и потому меня всегда пугала его подозрительность, пугали его допросы. Но вместе с тем подозрительность эта и радовала меня — пугала и радовала одновременно, потому что своим умишком я понимал, что таким образом Лёдик именно мне оказывал особое свое доверие, словно бы боясь моего предательства, боясь потерять во мне друга.
— Что ты, Лёдик! — восторженно отвечал я ему. — За кого ты меня принимаешь! Даже обидно.
Я вовсю старался выказать ему свою преданность, и он снисходительно принимал ее.
Ландышевы занимали угловую комнату первого этажа, под окном которой была яма, правда, закрытая железной решеткой. Я никогда не забуду этого окна, тем более после того, как увидел его сквозь годы, когда весь дом и все вокруг меня было словно бы соткано из мельчайшей серой пыли, поглощавшей звуки и источавшей странное, лунное какое-то свечение, когда из этого окна бесшумно выпорхнула и вдруг оказалась посреди замкнутого двора очень большая и толстая кукла с неживым и словно бы забинтованным, бесформенным лицом…
Это была пожилая, плохо и неряшливо одетая женщина с нечесаными волосами и с растопыренными, как на шарнирах, опухшими руками… Она двигалась точно на маленьких колесиках, вмонтированных в толстые, обмороженные стопы, изуродованные язвами…
Я понимал, похолодев от ужаса, что она не видит меня, но тайные силы, которые управляли этой игрушкой, направили ее прямо на меня. Задыхаясь от страха, я попятился от этой жуткой бабы, которая вытянула свои неживые, кукольно-безобразные, огромные руки в мою сторону, как будто собиралась меня обнять…
— Пошла!! — закричал я на нее, как на медведицу. — Иди своей дорогой! — Но голос мой был так слаб и так вежлив, что забинтованное лицо бабы, тряпичная, грубо размалеванная ее башка сплющилась в непотребной, похотливой и хищной улыбке. И я понял, что моя догадка оправдалась: она приближалась ко мне, чтобы обнять меня и овладеть мною.
Я, полумертвый от отвращения и ужаса, вдруг уперся спиной в шаткую, как мне показалось, стену и, шаря сзади себя рукой, нащупал дверную ручку. Изо всех сил ударил я каблуком в эту дверь, что-то в ней хрястнуло, и я перед самым носом сопящей нежити упал навзничь в темное и затхлое помещение, успев ногой же захлопнуть хлипкую дверь. Что было мочи держал я дверь, которую толкала с наружной стороны толстая баба. На этот раз я отчетливо слышал глухие стуки ее то ли деревянных, то ли резиновых рук, от которых дверь под моим плечом вздрагивала и чуть-чуть приоткрывалась, сквозь узкую щель заметно было движение и слышалось недовольное плаксивое сопение и стоны.
Мне хватило сил удержать фанерную, обитую войлоком и дерматином дверь, и я, зная, что где-то здесь должна была быть щеколда, вскоре нащупал ее в темноте и, сдерживая напор снаружи, со сладострастной радостью задвинул железку и даже улыбнулся от счастья, избавившись от неожиданной встречи.
Я огляделся и понял, что попал в нашу старую контору домоуправления, размещавшуюся в кирпичном флигелечке, в котором к тому же жила семья нашей дворничихи и было складское помещение, набитое бумажными мешками с цементом, связками березовых веников, досками, песком, кирпичами.
Через окно в помещение конторы лился смутный свет. Я увидел стол с приколотой кнопками зеленой, залитой чернилами бумагой, ржавый дырокол, запыленные счеты, какие-то бланки, пластмассовую «непроливашку», школьную деревянную ручку. И странное дело, я видел все это, как бы находясь вне этой конторы, как бы заглядывая снаружи через окно, но в то же время чувствуя себя в полной безопасности, зная, что дверь закрыта на щеколду. Кстати, возня и стуки за дверью прекратились, и я уже забыл о недавнем страхе, как будто зашел я в эту контору, а вернее, заглянул в окно из простого любопытства, как в тот раз, когда наша домоуправша вызвала Лёдика Ландышева к оперуполномоченному, ожидавшему Лёдика в конторе.
— Лучше сознайся сразу, если чего натворил. Сознайся, говорю тебе, — наставляла Лёдика наша Нина Петровна.
Лёдик, которому в то время было уже лет шестнадцать и который в те годы был очень похож на Наполеона, сидел за столом один на один с простоватым худощавым мужчиной в кепке.
— Твоя фамилия Ландышев? — спрашивал мужчина усталым и бесцветным голосом.
— Да.
— Ясно.
Лицо у Лёдика было бледным, смотрел он на оперуполномоченного с испугом, но глаз не опускал. Левая рука его лежала на зеленой бумаге, а правую он держал на коленке. Он словно бы оцепенел в этой позе. Крутой и полный подбородок выдавал внутреннее волнение, подрагивал, и от этого подрагивания каким-то невольным презрением кривились его плотно сжатые, тонкие губы.
— То был другой Ландышев… не ты, — сказал мужчина. — Вернее, то был не Ландышев, — добавил он и тяжело усмехнулся. — Непонятно?
— Нет.
— Все правильно, — говорил мужчина так, будто был озабочен совсем другими делами и сам не знал толком, зачем вызвал этого Ландышева и что ему от него нужно. — Все верно. А ты не знаешь, — спросил он, — худого парня твоего роста, с челочкой… под глазами веснушки… Он должен хорошо тебя знать. Подумай.
— Не знаю, — ответил Лёдик.
— Не торопись, подумай…
— А в чем дело? Почему я должен знать?
— Потому что он попался на воровстве в метро, мы его допросили.
— А чего он украл?
— Кто? — настороженно спросил уполномоченный.
— Ну, этот… с веснушками…
— А-а, этот-то. Карманник. Украл золотое перо из кармана и назвался Леней Ландышевым, назвал твой адрес, твою мать и отца… Мы поверили, отпустили. Зря, конечно. Позвонили, узнали, что Ландышевы проживают с сыном по тому адресу, который он назвал, дом восемь, квартира четыре, правильно?..
— Правильно.
— Поверили человеку… Документов не было… Вот так-то.
Лёдик знал или, вернее, догадывался, кого разыскивают. Конечно, Серёню Генералова. Я тоже это знал, я даже нисколько не сомневался, что это мог быть только Генералов, у которого под самыми глазами были не просто веснушки, а какие-то коричневые брызги, кляксы, не тронувшие ни шеи, ни носа. Все знали, что он был вором, и очень боялись его. Как-то однажды он всем ребятам во дворе подарил по флакону «Белой сирени», сделав это с царственной улыбкой и величием, говоря при этом, что он нашел целый ящик духов. Несколько дней наш сухой и голый двор, пахнущий масляной краской, благоухал цветущим сиреневым садом, и взрослые люди с удивлением принюхивались, ничего не понимая. Потом он прикатил как-то на немецком велосипеде с необыкновенно легким ходом и тоже по-царски одарил нас возможностью прокатиться на этой машине с никелированными крыльями и педалями, сверкающими янтарями.
Все мы знали, что он вор, но никто не знал точно, хотя Генералов и сам иногда с бахвальством говорил: «Я вор». Мы верили ему в таких случаях и не верили, потому что нам казалось подозрительным, с чего бы это ему хвалиться перед нами?! Об этом, как думали мы с Лёдиком, настоящие воры не говорят. «Я, падла, за червонец могу кровь пустить человеку», — сказал однажды Серёня Генералов и как-то так при этом закатил глаза, так осклабился в слюнявой ухмылочке, что нам с Лёдиком показалось, будто он правой рукой сжимает в кармане нож и сейчас вынет его…
— У меня никогда и не было таких денег, — сказал вдруг ни с того ни с сего Лёдик и засмеялся.
А я, поддавшись его страху, тоже изобразил смех.
— У нас и не было никогда…
— А за духи кто мне будет платить? — спросил вдруг Серёня. — Каждый флакон трешница.
Не знаю уж, где взял эту трешницу Лёдик, а мне пришлось ее украсть из маминой сумки. К счастью, мать решила, что она потеряла эту трешку. Зелененькая бумажка жгла мне руки, и я мечтал о той минуте, когда увижу Серёню и отдам ему деньги. Но Серёня в ту пору куда-то надолго, чуть ли не на целый месяц, пропал со двора. А когда вернулся, ему, видимо, уже не нужны были деньги. Я протянул ему измятую, свернутую в трубочку купюру, и он на моих глазах разорвал на мелкие кусочки эти три рубля и с приблатненной хрипотцой в пьяном голосе сказал, закатывая глаза:
— Я тебе дал, что сильно пахнет, а ты мне то, что не пахнет совсем. Ты мне дай что-нибудь такое, что приятно пахнет, понял? А деньги не пахнут. Что ж ты, падла, мне их суешь? Зачем ты это делаешь? Ты их заработал? Нет. Я ж тебе дал душистую вещь, ты помнишь тот аромат? Белая цветущая сирень! А твоя трешница если и пахнет, то это запах твоего, падла, мелкого страха. Отвали от меня.
Я сказал ему с дрожью в голосе:
— Мне все равно… Я отдал тебе, и все… И мы в расчете. А то, что ты разорвал, — это твое дело. А я тебе отдал. Мы рассчитались.
Но он загадочно промолчал, не спуская с меня коричневых глаз, от которых словно бы падала вниз коричневая, крапленая тень… Я с тех пор боялся встречаться с ним и даже прятался, завидев его.
Нет, у меня не было никаких сомнений в том, что уполномоченный разыскивает именно его, Серёню Генералова. Знал это, конечно, и Лёдик, но он как будто забыл о нем и вышел из конторы с лицом, похожим на гипсовую маску. Он не ожидал, что я все видел и слышал, наблюдая за ним из окна, и был недоволен этим.
Я вздохнул и сказал:
— Я бы тоже, наверное, не сказал, потому что… Нет! Я бы не испугался! Я бы рискнул. Но как-то это вроде не полагается. Вроде бы как-то неудобно, да? Верно, Лёдик?
И вдруг я увидел слезы в глазах Лёдика. Он их прятал от меня, но я все-таки увидел разбухшие от слез глаза.
— Купил, гад, — сказал Лёдик сырым голосом. — Купил, как бескрылка, за пятерку.
— За трешку, — с тихой грустью подсказал я ему.
— Какая разница за сколько! А эта дура сразу поверила. «Сознайся, сознайся», — передразнил он нашу домоуправшу. — Именем моим назвался!
Я никогда не видел Лёдика плачущим и очень переживал за друга.
— Кончай, Лёдик, ну, кончай, слышишь, — говорил я ему, виновато опустив голову. — Ты все правильно сделал. Иначе нельзя. Все верно! У нас с ним будут свои счеты. Ясное дело — он подлец. Клянусь тебе, я отомщу ему! Я б ему вот этим ножом сам бы отрезал язык! Сам бы! Вот так…
Я вынул из кармана очень острый складной нож, оголил лезвие, которое с металлическим щелчком встало на место, и, размахнувшись, всадил его в дощатую стену сарая. Я даже вскрикнул от какого-то мгновенного бешенства, в глазах у меня потемнело от злобы, и я зарычал, как звереныш, не в силах сдержать своей ненависти к Серёне. — Я его порежу, гада!
— Сломаешь, — заметил мне Лёдик, — или руку порежешь. Чудак ты вообще…
Он перестал плакать, улыбнулся и опять превратился в того мудрого и осторожного Лёдика, который никогда ничего в своей жизни не делал без ума. Он насупленно смотрел на меня, сдвинув брови и стиснув губы, и с заплаканными глазами был очень похож на Наполеона, которого я видел на картинках. У него даже волосы были подстрижены как у завоевателя.
Лёдика всегда с кем-нибудь путали.
Когда он был еще совсем маленьким, мать отпустила сыну длинные локоны, которые круто завивались вокруг его шейки. И даже повязывала бант на воротничок рубашки. На ноги надевала белые чулки и короткие штанишки, похожие на юбочку. «Ах, какая хорошенькая девочка!» — говорили пассажирки трамвая, когда мать везла Лёдика в гости. Лёдик злился, ненавидя в эти минуты ласковых и добрых теток, и когда те спрашивали: «Девочка, а как тебя зовут?» — отвечал им с мраком в глазах: «Я мальчик», — не догадываясь, конечно, почему его принимают за девочку. «Он у нас мальчик, — говорила мать, цветя в улыбке. — А зовут его Лёдик». И все в вагоне, кто слышал этот разговор, улыбались: «Ах, он мальчик, оказывается! Вон в чем дело! Лёдик, оказывается. Ну, вылитая девочка!»
К нему, уже взрослому человеку, подходили на улице или окликали чужим именем незнакомые люди, всматриваясь в его лицо, в смущении разводя руками или пожимая плечами, изумленно отходили, бормотали что-то вроде: «Поразительное сходство!» — или: «Да вы просто двойник! Извините, пожалуйста. А может, Володя — это ваш брат? Нет у вас брата? Странно…»
В общем, Лёдик многих вводил в заблуждение, но, видимо, то, что его чуть было не спутали с вором-карманником, подействовало на него сильнее всего. Тут уж, конечно, не до улыбок, черт побери! Я это хорошо понимал, переживая за друга, и готов был ночами не спать, чтобы выследить Серёню, который опять куда-то надолго исчез, и отомстить. Я так распалял себя этой навязчивой идеей мести, что в голову мою лезли только кровавые картины расправы. Самые жестокие, какие мог сочинить мой воспаленный мозг, и я не расставался с ножом, отточив его лезвие до остроты бритвы.
И меня ужасно удивляло равнодушие и спокойствие самого Лёдика.
— Надо все хорошенько обдумать, — говорил он, морща лоб. — Что ты думаешь, он один? Ха! Ты его порежешь… В чем я сомневаюсь, конечно, — вставлял он с усмешкой. — Ну, ладно, порежешь… А дальше? Он, конечно, будет стоять на коленях и плакать от страха: «Простите, братцы, больше не буду!» Так, что ли?
— А мы ему пригрозим, если что, мол…
— А что «если что»? Если он кодлу свою соберет, да? А он соберет! Не-ет! Тут надо все обмозговать… Вот уж где нельзя рисковать — это здесь, в таком деле. Нужно наверняка. Чтобы он и не узнал даже, кто его искалечил…
— Как это не узнал?! Ты что! А какой же тогда смысл! Он ведь трус, ты пойми… Трус! Что ж мы с тобой — не отфигачим его как надо? Он нас стороной обходить будет! Какую там кодлу! Он кустарь, на горло берет. Пойми ты, Лёдик.
— Да я понимаю, — отмахивался от моей назойливости Лёдик. — Да где он, кустарь-то этот? Нет его… Кого бить-то? Появится, тогда и будем думать.
В нашем дворе ходили слухи, что Серёня подался на Север, завербовавшись в бригаду лесорубов. Кто-то говорил, что видел его на каком-то рынке или вокзале. Этому верили и не верили, махнув рукой на беспутного Серёню.
Но однажды я сам вдруг столкнулся с ним в нашем дворе: у меня даже ноги ослабли от неожиданного и мгновенного испуга.
В тот золотисто-голубой прохладный осенний денек душа моя была младенчески чиста от всякой злобы, размягчена была красотою желтого клена, запахом вялых листьев под ногами и синевой пустынного неба. На плечах у меня был новый и первый в моей жизни красивый плащик, в котором я себя чувствовал взрослым и привлекательным человеком. Из дома вышел специально для того, чтобы пройтись в этом плащике сталистого цвета, покрасоваться на улице, перекинуться взглядами с девушками, а быть может, даже встретиться случайно с одной пятнадцатилетней — на два года старше меня — девочкой, о которой я слишком много и часто стал думать в ту пору, всякий раз, когда проходил мимо, поглядывая на два окна четырехэтажного дома возле площади, и которая совсем не обращала на меня внимания. Лишь однажды, когда я заорал в хохоте и нервном возбуждении: «Марья, Марья, люблю тебя я!» — она посмотрела на меня, фыркнула и сказала, что я придурок. Теперь я шел в слабой надежде показаться ей человеком вполне взрослым и достойным ее внимания. Плащик, который я называл «макинтошем», и мои тайные надежды поглотили меня так, что я ни о чем и ни о ком не думал в ту минуту, когда повстречался с Серёней. Руки мои были глубоко засунуты в уютные, шелковисто-нежные карманы, плащик приятно колыхался на ходу, пола мягко откидывалась и так же мягко падала на колено, ботиночки поблескивали из-под брюк. Я смотрел себе под ноги, обходя большущую лужу, набитую листьями…
И вдруг увидел Серёню Генералова. Вернее, сначала увидел коричневую, гладкую, как тюлень, собаку на поводке, которая затягивалась и, сипло хрипя, шла ко мне…
— Ты чего это? С собакой? Твоя? — спросил я, опешив.
— А что, уже нельзя? — спросил и Серёня, заметив мой испуг. — Уже поздно, да? Уже обо мне ходят шлюхи, что я сижу на нарах?
Собака, почувствовав слабину поводка, поднялась и положила свои грязные лапы на мою грудь, а я от неожиданности чуть было не упал, потеряв равновесие.
Я ругал ее последними словами, отряхивая испачканный плащ, а Серёня хохотал. Его жилистое, тренированное тело извивалось, распираемое радостью и здоровьем.
Я никогда не видывал Серёню в таком веселом настроении, и это меня очень смущало. Он говорил, говорил, говорил, изгибаясь в каких-то мягких полупоклонах, откидываясь назад, делая шаг влево, шаг вправо, словно исполнял передо мной какой-то ритуальный танец; руки его извивались в воздухе. Он мне что-то говорил про Север, про Печору, про диковатых местных жителей, а я, ненавидя себя в эти минуты, стоял, как под гипнозом, улыбался, слушая его, похожий на вежливую собаку на поводке… Нет! Собаку он наверняка украл. Она ни при чем! Я был хуже этой собаки. Я даже не вспомнил о ноже, который лежал у меня в брючном кармане. А вся моя громкая музыка на тему мести, которую я до сих пор слышал в своей душе, оказалась всего лишь мышиным жалким писком.
Но еще более страшным и невероятным было то, что Серёня вдруг стал мне нравиться, я даже почувствовал к нему какую-то симпатию, был польщен его вниманием, ощущая в себе до отвращения гадливое желание улыбнуться ему.
Я мучительно искал оправдания себе и, прошатавшись до вечера по городу, придумал слабенькое и не очень убедительное утешение.
При встрече с Лёдиком я рассказал ему о Серёне, добавив со вздохом:
— Ты, Лёдик, прав: голыми руками его не возьмешь — хитрый, гад. Они умеют как-то так говорить, знаешь, как-то вроде бы по-хорошему, вроде бы свой человек… Я даже растерялся.
А Лёдик посмотрел на меня недоверчиво, усмехнулся и сказал:
— Он страха не знает. Это уж будь спок!
Ударил первый морозец, побелел курчавый просвирник, помрачнело небо. В один из таких серых деньков за Серёней приехали. Об этом мы сразу догадались, увидев, как в подъезд вошли два милиционера, а третий, пожилой и неказистый сержант в синей шинели, быстро прошел в конец двора и стал под угловым окном второго этажа нашего дома. Это было окно Серёни Генералова.
Сержант отмалчивался, не отвечая на наши вопросы; он казался нам совсем старым, отвоевавшим войну человеком, зачисленным в милицию случайно.
Мы с Лёдиком стояли так, чтобы нам было видно и окно и подъезд, и ждали, когда же наконец выведут Серёню, и были тревожно возбуждены.
Наверху раздался вдруг стук, хруст и дребезг распахнувшихся рам, и со звоном стекла оттуда, со второго этажа, полетел вниз Серёня, растопырив руки и подогнув ноги в коленях. В мгновение ока он был на земле, упал, спружиня ногами, но тут же, отпихиваясь от жесткой земли руками, поднялся и, согнувшись, помчался так быстро прочь со двора, что ни мы, ни сержант не успели даже опомниться. Сержант потопал за ним в своих сапожищах, на ходу расстегивая кирзовую кобуру. У нас с Лёдиком остановилось дыхание, когда он наконец выковырял пальцами черный пистолет и, не целясь, выстрелил на ходу вслед убегающему за сараи Серёне. Но промахнулся. «Стой!» — закричал он и опять выстрелил. Но Серёни уже и след простыл.
Потом я спрашивал у возбужденного Лёдика:
— Видел, как пули чиркнули по земле? Он по ногам стрелял, да, Лёдик?
— Да, — отвечал Лёдик, — конечно, видел.
— А как гильзочки прыгали из пистолета? Вот они, порохом пахнут, тепленькие…
— Дай сюда, — вдруг грубо сказал Лёдик. — Обе давай. Может, сержанту отчитываться надо, это тебе не игрушки.
А когда я отдал ему гильзы, Лёдик замахнулся на меня и с побелевшим от злости лицом сказал мне мстительно:
— «Порежу, порежу»! Три мужика не могли взять, а ты, трепач, порезать его хотел! Понял теперь, кто он такой, если даже стреляли? И когда тебе говорят, слушай. «Порежу!» Порезал один такой!
Я никак не ожидал от него этой беспричинной, казалось бы, злобы. Но, видимо, все, что мы только что наблюдали с ним, — прыжок, бег и выстрелы — все это явилось вдруг для Лёдика каким-то мгновенным оправданием всей его прошлой нерешительности, его слез, которые видел я. Теперь он уже не мог простить мне своего малодушия и мстил как свидетелю, ненавидя меня и в то же время злорадно торжествуя, празднуя свою победу надо мной. Он так презирал меня и мое недавнее легкомыслие, что готов был ударить. Зубы его были стиснуты и скрипели, рука его, занесенная для удара, судорожно дергалась. Но ударить меня он так и не решился. Я ударил первым, ткнув ему кулаком в лицо, и попал в нос.
Удар получился резким и сильным, у Лёдика пошла кровь. Зажав нос рукой и почувствовав кровь на пальцах, он не озверел от этого, не кинулся в драку, как это обычно бывает, а болезненно сморщился и, поддерживая нос рукой, побежал мимо меня, побежал какой-то неторопливой и скользящей рысцой, чиркая подошвами о мерзлую землю, и я с отчаянием понял, что он побежал домой.
Мы не скоро помирились. Я так и не знаю до сих пор, помирились ли мы вообще, хотя, казалось бы, со временем все опять вошло в свое русло: мы встречались, разговаривали, а когда наступила пора, стали вместе гулять в парке, где Лёдик знакомился с девушками. Тут он был смел до отчаяния. Нахален, смешлив, изворотлив в словах, прилипчив до бесстыдства. Я проваливался сквозь землю и тянул Лёдика за рукав, оттаскивая от возмущенных девушек, а Лёдик, войдя в азарт, отдергивал руку и каким-то образом все-таки выторговывал улыбки девушек. Знакомясь, он никогда не называл своего настоящего имени, бывая то Колей, то Сашей. Ни под каким видом не позволял мне говорить, где мы живем, заставляя меня порой в метро садиться на поезд, идущий в противоположном направлении, лишь бы запутать следы.
— Так надо, понимаешь, — говорил он, — чтобы в случае чего она не явилась к тебе с подарком… Ты ни при чем, а она заявится, скажет — принимай. Ты же не знаешь, кто они такие! И что тогда делать? Жениться? Думать надо!
Меня это и смешило, и удивляло, и возмущало, но Лёдик так крепко сидел в моем сознании, в моей душе, что я и сам иногда назывался Петей или Васей, вызывая у Лёдика улыбку одобрения. Он, как учитель, бывал доволен своим учеником в таких случаях.
Лёдику было восемнадцать лет, когда он поступил учиться на первый курс строительного института, как бы сразу уйдя далеко вперед в своем развитии. Став недосягаемым для меня. Разрыв этот был очень заметен, и мы все реже и реже встречались с ним. Я иногда заглядывал к нему в раскрытое окошко, стоя на ржавой решетке подвальной ямы. Он сидел за столом и что-то чертил. Так мы и разговаривали с ним: он за доской, спиной ко мне, я на решетке, перевалившись в его комнату через низкий и пыльный подоконник. Мне казалось, что он бывает рад встрече со мной, потому что у него никого, кроме матери, не было, и я никогда не видел, чтобы он возвращался из института с каким-нибудь парнем или с девушкой, да он и не рассказывал ни о ком: ни одного имени не сорвалось у него с языка, о котором я мог бы спросить: а кто это? Иногда я заставал его обедающим с матерью, тогда в разговор вступала и мать, расспрашивая меня о моих делах, которые были не так блестящи, как у ее сына, чем она была, по-моему, очень довольна, хотя и не показывала этого. «Поменьше гулять надо, — говорила она, прожевывая пищу. — Догуляешься, что и в институт не поступишь, а там армия, женишься после армии, и пропала жизнь».
Она как в воду смотрела: так оно и случилось впоследствии. Но когда она мне говорила это, я, вдыхая резкие запахи острой еды — томатной приправы, лука, вонючих котлет, — хорохорился, отвечая ей, что только тогда и начнется настоящая жизнь.
— Да что ты понимаешь в жизни-то? Молчал бы уж!
И тут она тоже была права! Я ничего не понимал в жизни, не знал, зачем живу, зачем учусь, зачем встречаюсь и гуляю допоздна с девушками, ни одну из них не любя так, как хотелось бы, зачем тащусь через всю Москву ночью, когда уже даже трамваи не ходят, бужу своих родителей, которые ворчат на меня спросонья, а потом еле поднимаюсь с постели, проклиная школу и себя за вчерашнее ночное гулянье по Москве ради выпрошенных, выклянченных поцелуев девушки, которую я ненавидел по утрам и которой все-таки звонил после школы из автомата, прося о новой встрече, и, как правило, получал отказ, доводящий меня до тихого бешенства и тоски. Зачем все это?
— Ну, все-таки! — говорил я, сопротивляясь. — Люди-то живут. И я как-нибудь. Дело нехитрое.
— Ладно, ступай, — говорила она сердито. — Дай нам с Лёдиком пообедать спокойно.
И я уходил, не испытывая ни смущения, ни обиды на этих людей, молча жующих мясо или какие-нибудь толстые сардельки.
…Пальцы, похожие на эти сардельки, вдруг появились за пыльным стеклом в сером, мерцающем свете. Забинтованная голова и эти пальцы прильнули к стеклу, и я опять увидел ожившую куклу, это толстое привидение, стучащееся в окно конторы.
Я не знал, что мне делать, и, притаившись в темноте за выступом холодной печи, с ужасом чувствовал, что она, эта огромная кукла, видит меня. Нас разделяло хрупкое волнистое стекло, которое от ударов ее толстых пальцев жалобно дребезжало. Кусочки сухой замазки отваливались и падали на подоконник с тихим рассыпчатым звуком… Я видел ржавые гвоздики, которые держали тонкое стекло, видел, как один из них, пошатавшись, выпал из трухлявой древесины рамы и, цокнув по подоконнику, отскочил на пол и тоже там процокал по доскам пола…
Все было так реально, так зримо и физически ощутимо, что я нисколько не сомневался в реальности мятущегося за окном лица этой ужасной бабы, которая, как мне стало вдруг казаться, поняла мой испуг и была очень огорчена, очень опечалена этим и старалась как-то дать мне понять, что она вовсе не так страшна и отвратительна, как я полагаю. Она пыталась успокоить меня улыбкой. Тряпичное ее плоское лицо с прорезями мутных глаз и рта всячески старалось изобразить доброту и даже нежность. И когда мне стали понятны эти жуткие потуги, я похолодел от страха и отвращения. Я знал, что уже не в силах терпеть пронзительного своего страха и сейчас закричу, забьюсь в истерике, зажмурюсь, провалюсь сквозь щелястый пол, лишь бы не видеть чудовища, понимающего каждое мое движение, предугадывающего мои мысли и чувства.
Она была похожа на белую медведицу, сидящую на камне тесной вольеры и просящую подачки от зрителей. Руками-лапами она как бы подгребала к себе воздух, подвывала, манила к себе зачарованных зрителей, делая это с неуклюжестью зверя, привыкшего рвать мясо зубами, а не вымаливать себе кусочек печенья.
Сквозь тот панический страх, которым было пронизано все мое существо, я угадывал, как это ни странно, какое-то непреодолимое любопытство и даже более того, я понимал, как несчастен я оттого, что вижу это страшное чудовище в одиночестве, что мне никто из людей не поверит, если я буду рассказывать о нем, и подымут меня на смех или сочтут за сумасшедшего пьяницу, допившегося до чертиков. Мой воспаленный страхом и любопытством мозг никак не мог смириться с этой несправедливостью, и я даже, помнится, пожалел, что у меня нет с собой фотокамеры.
Она меня куда-то звала. Зазывая, попятилась вдруг от окна, заскользила на своих колесиках на середину двора, и я видел, как она, пятясь и подзывая меня руками, растворилась в черном пятне несуществующего окна, в котором недавно кто-то зажигал спичку, наблюдая за мной из темноты.
Я знал, что этого ничего нет: нет дома, нет двора, нет конторы, в которой я стоял в оцепенении, прислушиваясь к тишине мерцающего за окном света, — ничего этого нет и не могло быть, потому что на этом месте, я знал, выстроен другой дом, который занял все пространство нашего дома и нашего двора. И не только пространство! Землеройные машины срыли на глубину фундамента всю ту землю, которая когда-то была нашим двором, а рычащие самосвалы куда-то увезли ее и рассеяли где-то.
Но я, влекомый любопытством, опять очутился вдруг на сухой и запыленной плоскости нашего двора, почти догадываясь о чем-то очень и очень для меня важном, постигая какую-то глубочайшую тайну, которая словно бы всю жизнь преследовала меня…
Очутился на площадке двора в весенний день, когда на крышах и в зеленых ветвях распушившегося клена ликовали токующие воробьи, спустя три года ступил опять на неживую, набитую камнем и стеклом, чисто выметенную дворником землю, об острые углы которой я столько раз сбивал до крови колени и локти, что вправе был назвать ее родной своей землицей.
Три года я не видел этой чахлой земли, и, видимо, поэтому она словно бы усохла тут без меня, уменьшилась, стиснутая кирпичными стенами, стала каким-то крохотным закуточком, вытоптанным загончиком для кур, и мне непонятно было, где же мы тут бегали когда-то, играли в прятки, догоняли друг друга, где тут мог летать наш деревянный чижик, в каком поднебесье парили наши бумажные голуби, окрашенные черной и красной тушью под цвет настоящих монахов, сорок и шнапсырей.
Но не прошло и месяца, как двор наш приобрел для меня прежние размеры: стены домов, казалось бы, отодвинулись, посторонились, земля, насыщенная летними дождями, из заскорузлой, мертвой шкурки превратилась опять в лоснящуюся шкуру какого-то гигантского зверя, на которой резвились, плакали и смеялись незнакомые мне дети, родившиеся и выросшие тут без меня.
Жизнь шла своим чередом. Вскоре после армейской службы я женился на девушке, из-за которой когда-то не спал ночей, и как бы одним махом обогнал Лёдика, все еще остававшегося студентом. Я работал шофером на автобазе, благо в армии меня научили водить грузовик, был женатым человеком, ждал ребенка и, естественно, зарабатывал деньги, пытаясь к тому же учиться заочно на истфаке МГУ.
Все у меня было как бы впервые в жизни: женитьба, работа, учеба, впервые я имел свои деньги, мог позвать гостей и быть хозяином за столом, но самое главное — впервые в жизни — ждал своего первенца.
Такая жизнь ошеломляла меня, точно я случайно попал на бесконечный ее праздник, или, вернее, праздник этот был устроен специально для меня, и словно бы я был в центре этого счастливого веселья.
Лёдик Ландышев, наверное, остро чувствовал перемену, произошедшую во мне. Он с удивлением поглядывал на мою жену, замечая ее тяжелый живот, и с какой-то странной опаской раскланивался с ней, проносясь мимо, а встречаясь со мной, с неестественным и болезненным любопытством расспрашивал о таинствах семейной жизни, выпытывая у меня сведения о таких подробностях, что мне оставалось только посылать его к черту.
— А почему? Почему ты не хочешь сказать! Я бы на твоем месте, — говорил Лёдик в нервном и неприятном возбуждении, — я бы не воспринял это как что-то недозволенное. Почему?! Что за глупость! Раньше я не замечал за тобой такого кокетства.
— Лёдик, — говорил я ему, — тебе жениться пора. Это точно.
— Жениться я всегда успею. Вот я знаю, у твоей жены есть подружка… Познакомь меня с ней. Познакомь, чего ж ты? Мне нравятся черненькие…
Я ему обещал, но делать этого не торопился, хотя он и не раз расспрашивал о ней.
— А кто у нее родители? — спрашивал он и огорченно причмокивал, когда я отвечал ему, что не знаю.
— А ты узнай, — настаивал он. — Это нетрудно сделать… Как же так!
— Хорошо, я спрошу у Ольги, — обещал я Лёдику.
— Конечно, она должна знать. А вообще-то мне уже надоело! Ты меня познакомь, я сам все узнаю… Она создает впечатление порядочной девушки, как ты думаешь? Но ты сам ничего не говори ей обо мне, кто я и где учусь… Ничего не говори.
Я и это обещал Лёдику. Но никак не мог решиться познакомить его с Галей Макаровой. Вел себя так, точно мне было жаль знакомить Галю со своим другом, как если бы я ревновал Галю к Лёдику и берег ее для себя. Во всяком случае, мне казалось, что Лёдик мог заподозрить нечто подобное. Меня и самого смущало необъяснимое сопротивление или, вернее, активное нежелание знакомить Лёдика с ней.
Я даже испытывал вину перед Лёдиком, как когда-то в детстве.
Было время, когда я не обращал на нее никакого внимания, и она существовала для меня лишь как подруга моей будущей жены. Хорошенькая, стройная, с очень нежным и неопределенным цветом глаз: то ли серые, то ли синие с зеленцой. Меня совсем не привлекала ее черная коса, ее гладко зачесанные, отливающие кипящим варом волосы с четко светлеющей стрелкой прямого пробора, а привычка носить черное платье казалась мне смешной и нелепой. Она рядом с Олей виделась мне невзрачным, погасшим угольком, ее постоянной тенью, и относился я к ней как к человеку, который иногда позарез нужен, чтобы срочно разыскать Олю или что-то передать ей, условиться о встрече, а то и помириться после какой-нибудь ссоры. В этом смысле она была незаменима. У меня порой невольно возникало такое чувство, будто мы с ней были хорошими товарищами, занятыми одним очень важным общим делом: уговорить Олю стать моей женой. Мне даже казалось иногда, что Галочка была со мной в негласном сговоре и только благодаря ее усилиям Ольга согласилась выйти за меня замуж.
Разглядел, или, точнее сказать, увидел, я ее совсем недавно, когда она стала приходить к нам в гости, в нашу маленькую комнатку. Это случилось вдруг, совершенно неожиданно для меня. Я посмотрел на нее, когда она сидела на стареньком диване, и с удивлением понял, что она красавица. Совсем непохожая на Олю, таинственная какая-то красавица с умными глазами и, что было странным и трудно объяснимым, — умными и чуткими губами, движения и каждый вздрог которых, каждая морщинка так тонко согласована была с движением глаз и бровей. Впрочем, я не берусь объяснять того впечатления, какое произвела на меня в тот вечер Галя Макарова, потому что все будет ложью или полуправдой. Но я не женщину, не соперницу своей жены вдруг увидел в ней, а как бы разглядел в ней ее умную и мало кому понятную красоту, и был очень счастлив в тот вечер, будто сам поднялся на одну ступеньку выше людей, не заметивших еще потрясшую меня красоту этой девушки, был очень рад за себя и горд своим открытием.
Я испытывал к ней с той поры братские, чувства, любя ее как младшую сестру, и не мог, конечно, решиться вдруг познакомить ее с человеком, который когда-то был моим кумиром.
Этому, однако, суждено было случиться.
Но все мои сомнения вскоре рассеялись без следа, потому что Галя так увлекла Лёдика и так сама увлеклась им, что чудилось, оба они наконец-то нашли друг друга. Прошло полгода, и мы с женой, нянча сына, вспоминали и говорили о Лёдике и Гале Макаровой как об одном неделимом целом.
Они и внешне как будто были созданы друг для друга: Лёдик рядом с ней казался истинным мужчиной, а Галя была истинной женщиной, с нежной покорностью признавшей за Лёдиком первенство во всем, что касалось общего их мнения о чем-либо значительном или совсем незначительном. Она с нежной покорностью умолкала, преданно глядя на Лёдика, если он начинал говорить, и с умных ее, нервных губ не сходила улыбка тихого любования им. А он, в свою очередь, тоже умел смягчать резкость своих суждений, каким-то образом делал так, что получалось в итоге, что Галя тоже в чем-то права и ее мнение заслуживает внимания и уважения.
Мы с Ольгой любовались ими, слушая этот их дуэт, а порой даже добродушно посмеивались, что Галя, конечно, замечала и всегда смущалась, вспыхивая вся, будто бы мы вдруг увидели и почувствовали, как безмерно, как глубоко счастлива она; Галя стыдилась своего счастья.
Не знаю, все ли уж так хорошо и благополучно было у них на самом деле, всегда ли они так нежны и уступчивы бывали друг с другом, когда оставались наедине, но нам с Олей хотелось тогда, чтобы они поскорей поженились. Я опять любил своего друга и преклонялся перед ним. Опять, как когда-то, чувствовал себя в чем-то виноватым перед ним, словно, женившись, я поступил эгоистично и вроде бы не по-дружески, оставив как бы его одного в трудный момент жизни. Бросил, да к тому же еще стал нехорошо думать о нем, стал не доверять одинокому, как мне теперь казалось, не понятому мною и даже оскорбленному тайным подозрением человеку. Я опять сотворил для себя непревзойденного, умного и мужественного друга — того кумира, которому мне страстно хотелось подчиняться, как в детстве, без раздумий, чтить его денно и нощно, драться за него с несогласными и не щадить себя в этих воображаемых драках.
Лёдик очень рано стал лысеть, у него уже к двадцати четырем годам оголилось залобье, образовались две высокие, до блеска отшлифованные залысины. Черты лица от напряженной пятилетней учебы обострились и приобрели ту суховатую мужественную законченность, которая вызывала во мне восхищение и горделивое какое-то чувство, граничащее с раболепием, что этот великолепный экземпляр истинной мужской красоты, этот, в моем представлении, образец мужчины, этот человек с умными, усталыми и проницательными глазами запросто приходит ко мне и скромно спрашивает меня о чем-то, просит совета или пятерку взаймы, в то время как сама природа создала его для того, чтобы повелевать мною, давать мне советы, как жить и как поступать мне в том или ином случае, не говоря уже о деньгах, которые ему — Лёдику Ландышеву! — приходится просить у меня, вместо того чтобы иметь их самому в неограниченном или уж во всяком случае достаточном количестве, чтобы не думать об этом, не отвлекаться на такие мелочи быта.
Во мне опять проснулся и с новой энергией зажил неисправимый, глухой ко всяким размышлениям фанатик, и я порой даже с женой своей ссорился, если она вдруг находила в Лёдике какие-либо недостатки. Простые ее замечания, что Галя совсем что-то потускнела за последнее время и что Лёдик имеет к этому прямое отношение, приводили меня в бешенство, и я очертя голову бросался на защиту друга, не слушая и не желая слушать объяснений жены.
— Нет, ты уж послушай, — сказала мне однажды Оля. — Почему бы тебе не послушать? Все-таки твой друг. Галка мне рассказывала, что он доводит ее чуть ли не каждый день и требует, чтобы она до свадьбы стала его женой, чтоб доказать — только тогда он женится, когда узнает, — что она девушка. Он же оскорбляет ее… Она плакала, когда мне рассказывала.
— Ну, а почему бы ей не стать его женой? Какая разница — до или после свадьбы. Все это предрассудки! — взорвался я в негодовании на жену и на Галю Макарову.
— У кого предрассудки-то?! Если тебе не верят и прямым текстом говорят, что не верят, и требуют доказательств… Я б ему по морде за такие слова… Полтора года голову морочил, а теперь наше вам — доказательства потребовались. Допрашивает ее, как прокурор, о ее знакомых парнях, с кем куда ходила, с кем целовалась… С ума можно сойти!
Я не перебивал жену, пока она мне рассказывала о Лёдике. Я вдруг с мучительной грустью понял, что это правда. Я узнал его. Я и сам всегда знал Лёдика именно таким: подозрительным, расчетливым и не рискующим ни в чем человеком. Я никогда ничего не рассказывал жене о Лёдике, она его совершенно не знала, а я… Получалось так, что я, зная Лёдика, сочинил его не только для себя, но и для них тоже. Они поверили мне, и теперь мне было очень стыдно перед ними, особенно перед Галей, младшей моей сестренкой, словно бы это я, и только я, обманул ее. В сознании моем рушилось хрупкое, стройное сооружение, которое я возвел в своем воображении, впервые оно рушилось с таким треском и с такой серой, мучнистой пылью…
Я ударил кулаком по столу и сказал в сердцах:
— Так какого дьявола она не врезала ему, если такое дело! Взяла бы да и послала его к черту!
«Всю жизнь я выступал его адвокатом, — думал я в отчаянии, — всю жизнь сочинял для себя образ превосходного и обаятельного человека и сумел так убедить себя в его непогрешимости, что и люди тоже начинали верить в это. Значит, я страшнее его? — спрашивал я себя. — Значит, вина моя тяжелее? Значит, не он, а я последний из подлецов? Его адвокат».
Я так доказнился в тот вечер, что жена, которая оскорблена была за свою подругу, стала меня успокаивать, говоря что-то о потемках чужой души, о невозможности узнать до конца человека, о моей доброте и всепрощении…
— Да не в этом дело! — вскрикивал я чуть ли не в истерике, пугая жену, которая не понимала моей тоски. — Если бы только! Какая доброта, какое всепрощение?! Кого прощать-то — вот в чем дело. Его или меня? Я ведь почти знал, знал, что все так кончится. Знал — и не хотел знать. Она обманулась… Нет! Это я ее обманул. Вот что меня мучает…
В тот вечер я обещал жене обязательно поговорить с Лёдиком, объясниться по-мужски, пристыдить его, но со дня на день откладывал свой разговор с ним, оправдываясь то занятостью, то усталостью. Да и как начинать разговор?
Прошла неделя. Сын наш в это время заболел корью, лежал весь красный, с высокой температурой, и мы были настолько заняты им, что все остальное отодвинулось на задний план для нас, исчезла вся острота переживаний, которые так мучили меня.
В этом туманном состоянии я и встретился вдруг во дворе с Лёдиком. По какому-то странному совпадению встреча эта произошла примерно так же, как когда-то с Серёней Генераловым. Была такая же лужа, я ее обходил, глядя себе под ноги, и столкнулся носом к носу с Лёдиком.
— Как наследник? — первое, что спросил он у меня.
Я ему стал рассказывать о температуре, о сильной сыпи, о том, что он спать не дает нам по ночам, подробно и нудно перечисляя все симптомы этой детской болезни, а сам все время ощущал в себе пугливое смущение и неловкость, как если бы его обманывал, лгал ему в глаза.
— А ты чего пропал? — спросил я у него как бы случайно, но и это получилось у меня неловко и деревянно. — Где Галя? Где вы вообще-то? Не заходите что-то… Поцапались, что ль? — спросил я и до омерзения глупо хохотнул.
— Я тебе, кажется, двадцать рублей задолжал? — спросил вдруг Лёдик. — Или больше? Ты мне напомни. По-моему, двадцать.
— А-а, брось ты!
— Ты не волнуйся, я не забыл. При первой же возможности как штык.
Мыслишка мелькнула, что он хочет отдать, ан — нет. Жаль… Ладно, переживем.
— Нет, серьезно, — сказал я ноющим каким-то голоском. — Что у вас с Галей-то? Скрываешь что-то? Она тоже молчит. Что случилось-то?
Я сидел с ним на нашей старой-престарой лавочке, столбушки которой подгнили в земле и расшатались, и никак не мог согнать с лица застывшую улыбку. Я все время вспоминал о ней и словно бы сбрасывал с лица, как неприятное насекомое, но она незаметно опять ползла по щекам и замирала, точно перед укусом. И я снова скидывал ее, стараясь быть серьезным и внимательным.
Половину из того, что говорил мне Лёдик, я не слышал. А моя улыбка со стороны, наверное, выглядела вовсе не глупой, а грустной, потому что я все время, ежесекундно, словно бы в самом себе ощущал большое Галино горе и очень жалел ее. Такая смертная тоска навалилась вдруг на меня, такая мертвящая апатия, что казалось, Лёдик мне о смерти близкого человека вдруг сказал, пытаясь чудовищным образом успокоить меня и объяснить мне, что эта смерть была неизбежна.
А говорил он мне то же самое, что уже сказала моей жене Галя, только объясняя все это, конечно, со своей позиции.
— Я почти уверен, — слышался мне его голос, — иначе я не могу понять ее поведение. Я готов на ней жениться, готов на все… Ты знаешь мое отношение к матери. Но я и с ней ругался тыщу раз из-за этой… Галки… Но тогда уж, простите, будьте и вы со мной до конца честны! Я тебе абсолютно точно могу сказать, что у нее уже был парень, мужчина, в общем… Может, я и простил бы ее, признайся она, но она уверяет, что ничего не было. А я знаю… В общем, скажу тебе откровенно: не хотелось бы в первую же брачную ночь напяливать на себя оленьи рога, — Лёдик засмеялся.
— Ты что говоришь-то, Лёдик! — пробормотал я жалко и невнятно. — Она чиста, я не знаю, как кто… Что говоришь-то?!
— Я знаю, что говорю. Я ей, чтоб не рисковать, поставил условие. Она обиделась. А почему я должен верить ей на слово?! Я не знаю, говорила ли она что-нибудь твоей жене, может, и сказала, может, и ты от меня что-то скрываешь, все знаешь, а вопросики вроде бы случайные, а? Знаешь! По глазам вижу, что знаешь! — сказал он, тыча в лицо мое пальцем и нехорошо усмехаясь при этом. — Знаешь — тем лучше. Отчитываться я перед тобою не собираюсь. Это мое личное дело в конце концов, но ты, как мужчина, должен понять. Ты бы тоже на моем месте поставил бы это условие. Это нормально и естественно.
— А что? — спросил я вдруг. — Что было бы, если б она это условие приняла? Другая, может, и приняла бы… Верно? Другая, которая, как бы тебе сказать-то… Которая, в общем… У которой не развито чувство собственного достоинства. Так, что ли? Да, так. Что было бы, а? Ты мне ответь, ради бога.
— Слушай, ты таким это тоном, что… Я понимаю, она подруга твоей жены… Короче говоря, ничего этого уже не может быть, потому что, простите, но позвольте теперь покапризничать и мне, позвольте и мне отказаться от этой жертвы. Мне не нужна ее жертва. Я поставил именно так вопрос не для того, чтобы она пошла на это, а чтобы припереть ее к стенке, доказать ей, что она мне лгала. Понимаешь? — И он посмотрел на меня внимательно и строго, как на несмышленыша.
А я и в самом деле чувствовал себя в эти минуты глупцом, ткнувшим пальцем в веревочную петлю и оставшимся ни с чем — палец, уперевшись в доску, остался голым, глупым и смешным пальцем, который обошла эта ложная петля, казавшаяся мне настоящей. Я проиграл Лёдику по всем статьям. Но, как ни странно, меня это не трогало. Мне было жалко Галю Макарову, жалко ее красоту, которую никто, кроме, может быть, меня одного, так и не сумел разглядеть и понять, — я только о ее горе и думал. И я задал Лёдику последний, глупый и, главное, ненужный, пустой вопрос, который почему-то мучил меня так, словно от ответа на него зависела судьба Гали Макаровой.
— Ты ее не любишь? — спросил я.
Он положил мне руку на колено и сказал, смущенно усмехаясь при этом:
— Я считал тебя, слушай… взрослым человеком. Я понимаю, увлекающаяся натура… хорошо, но неужели тебе не все еще ясно?
Лёдика Ландышева, защитившего диплом инженера-строителя, забрали в армию. Он исчез, чтобы неожиданно вдруг появиться в лейтенантской полевой форме, в пыльных яловичных сапогах. Я увидел его, когда он, усталый и похудевший, быстро вошел во двор, цокая по каменным плитам подковками, и, с трудом узнав, кинулся навстречу.
Он как будто бы создан был для военной формы. Лихо и ладно сидела на нем фуражка! Бриджи и гимнастерка плотно облегали его сильное и словно бы сразу взматеревшее тело.
— Ну-у, гусар! — воскликнул я, любуясь. — Тебе идет!
Но он отмахнулся от меня, как от мальчишки, проворчав что-то нелестное по поводу новой своей роли и новой одежды, хотя ворчанье это было не мне, а кому-то еще адресовано, кому-то безликому и сильному, который произвел с ним это превращение. Он торопился.
— У меня всего полтора суток, — сказал он на ходу. — Извини. Потом как-нибудь… Мне надо тут по делу.
Я знал от его горевавшей и плачущей матери, что он служит где-то неподалеку от Москвы. Я понимал, что ему надо скорее обнять старушку, но он еще успел мне мстительно и горько сказать на прощанье:
— Я все отдам, чтобы вырваться оттуда. Все! Я гибну, понимаешь? Самым настоящим образом. Схожу с ума, понимаешь?
Что Лёдик отдал за это, я не знаю, но через восемь месяцев он демобилизовался из армии и устроился на работу в стройуправление. Но что-то в нем надломилось, он сник и как-то весь примолк, стал скромным, вежливым и, я бы даже сказал, загадочно грустящим человеком, как бы все время стараясь создать у людей хорошее впечатление о себе, одиноком неудачнике. Он старался загадочно и туманно говорить о жизни и, изрядно облысев к тридцати годам, казался и в самом деле многоопытным и бывалым человеком, успевшим многое повидать и пережить за свою в общем-то короткую жизнь.
Но я-то знал Лёдика! Я знал, что, попав в армию, он так испугался ответственности и неизбежного риска, что никак не может отделаться от испуга, прикрываясь маской разочарованного в жизни, созерцательного человека, который исполняет маленькое дело в управлении и которому ничего больше в жизни не нужно, потому что все уже позади, все прошло и ждать уже нечего.
Он сделался красивым и печальным. И стал опять, как и всегда, на кого-то очень похож.
Но наступила пора, когда он вроде бы ожил душою. Это продолжалось примерно года полтора. Он стал всерьез и обстоятельно ухаживать за очень молоденькой, семнадцатилетней девушкой, наивным и милым существом с толстенькими ножками, которая, сидя на стуле или на диванчике, то и дело одергивала платьице, натягивая его на литые и точно жиром смазанные колени, потупливая при этом озорные и хитрые глазки.
— Нет, Леонид Петрович, — говорила она, умиляя Лёдика. — Я выпью только водички, а вы сами как хотите… Пожалуйста, не обращайте на меня внимания, а то я стесняюсь.
Спустя два года Лёдик говорил мне со вспоминательной грустью в голосе, что он отказался от своего счастья, хотя был впервые в жизни близок к нему.
— Впервые, понимаешь, — говорил он, покачивая печально лысой головой, — впервые был влюблен по-настоящему. Я боялся дотронуться до нее! Испытывал трепет перед ней, испуг, восторг — мистика какая-то! Она это чувствовала и, ты знаешь, была тоже влюблена в меня. Не смейся, да! В этом возрасте возможно такое. Я знаю, она пошла бы за меня замуж… Но посуди, дружище, почти шестнадцать лет разница! Мне будет шестьдесят, я буду старым, лысым чудаком, а она еще женщина в соку, ей еще покуролесить, повеселиться надо, глазки состроить и тому подобное… Жениться на молоденькой, — говорил он, по-учительски внимательно глядя мне в глаза, — значит, заранее обречь себя на рогатую корону. А мне эти царские почести ни к чему.
Лёдик Ландышев оставался самим собою, хотя и носил маску стареющего, уверенного в себе, умного человека, который, увы, ничего уже не ждет от жизни, хотя имеет на это полное право — любить, быть любимым.
«Не судьба! — казалось, говорил он своим печальным взглядом. — Не всем же быть обласканным фортуной! Кому-то и крест нести надо».
Прошло еще несколько лет. Наш дом давно уже снесли, и все мы переехали в новые дома на окраине Москвы. Мы на троих получили однокомнатную квартиру, а мои родители комнату. Истфак я свой, конечно, забросил, но зато окончил к тому времени вечерний политехнический, получил хорошую специальность, стал неплохо зарабатывать.
И я совсем потерял из виду Лёдика. Даже стал забывать его.
Но вдруг — узнаю! Лёдик женился. Это сказал мне мой бывший сосед, с которым я случайно встретился на улице.
— Женился, — рассказывал он, то и дело срываясь на веселый тон. — Выбирал, выбирал и выбрал! По соседству с ним бабенка одна с девочкой, как это говорят, мать-одиночка. Я ничего не имею против! Пожалуйста… Но эта была… Я тебе скажу — пробы негде ставить, пьяница и развратница страшная… У нее даже ребенка хотели отбирать из-за пьянства. Мужиков к себе приведет, а в комнате девочка. Что ж это такое за безобразие?! В суд вызывали, ну, и все такое… В молодости была, наверное, красивая! Но какая же красота, если водка? Глаза опухшие, напудрится, сигарету в зубы — вот и вся красота. Как она Лёдика окрутила, никто не знает. Все удивляются, а он вроде бы ничего. Ребенка удочерил, за ней ухаживает. Смешно! Ты бы навестил товарища-то! Они теперь вместе другой раз выпьют и песни поют.
— Лёдик, песни? — с удивлением переспросил я, ошарашенный всем, что услышал.
— Еще как поет! Орет, главное, спьяну-то! Особенно эту, про какие-то листья… «Листья желтые!..» Не помню. Он у меня над головой поет, слышно. «Листья желтые… чего вам…» Нет, во: «Листья желтые, скажите, что вам снится…»
— Не может быть! Ах, Лёдик, Лёдик! Запел… бедняга.
— Ну, сам приедь и увидишь. Бутылочку привези, они рады будут. Бедновато, конечно, живут, ничего не скажешь… Она ему кое-что вяжет… То шапочку серую, то свитер. Он шапочку эту наденет и ходит всю зиму. Кастрюлька с козырьком. Чудной стал до умору! Но живут дружно. Вроде бы не ругаются. Я бы услыхал… А ты, я гляжу, в порядке? Ну, бывай… Привет своим.
И мы расстались, чтоб никогда уже больше не встретиться в многоликой житейской сутолоке большого города.
К Лёдику я не собрался. Не смог.
Иногда мне снится наш старый двор, и сны мои, как правило, страшные, фантастические, вперемежку с дьявольщинкой, хотя и очень реальные.
Я всегда просыпаюсь в ужасе и боюсь смотреть в темноту. Мне и наяву тогда чудится черное окно и зажженная спичка, кукольно неуклюжая, опухшая баба… И я всякий раз догадываюсь или почти догадываюсь, что мне опять приснился Лёдик со своей пьяницей женой, которую я ни разу не видел. Я подолгу не могу уснуть и думаю о Лёдике, обещая самому себе в ближайшие же дни навестить его…
Ах, Лёдик, Лёдик! Что-то все-таки слепил в своей жизни… Семейный человек! Чужой ребенок, загульная жена… Все-таки он до конца остался самим собою. Знал, на что идет, знал, что не обманывается в этой женщине, потому что все было известно о ней и не надо было рисковать.
Оттого, наверное, и сны мои — страшные.
Бесова нога
Всё ей не так, всё не эдак, и нет у нее покоя на душе, будто родилась она для того только, чтобы высказать свое «фи» живущим на земле, насмеяться вдоволь, попить вина, потанцевать, подурачить мужчин, а потом, когда наступит время, притихнуть, окутаться пепельным дымом и умереть душою в ожидании конца.
Дед ее, которого она больше помнила по рассказам родственников, говорил о ней когда-то, что вся она, как и положено, состоит из смелости, страха и хитрости и что жить ей на свете будет легко, если только она свою хитрость не обратит во зло. Старый вообще был уверен, что каждый человек должен состоять именно из этих трех качеств, считая смелость, страх и хитрость теми китами, на которых держится мир человека. Но вкладывал он в эти понятия особый смысл — не обман или мошенничество имел он в виду, говоря о хитрости, а умение человека осторожно и мудро принимать решения, чтоб избежать промашки и не быть дураком и посмешищем в глазах людей, в чем обязан был помогать человеку страх, то есть боязнь остаться голодным или прослыть глупцом, а коли уж решение принято, то нет тогда ничего важнее смелости в человеке.
В подтверждение этой своей идеи он частенько ссылался почему-то на леопарда, зверя хитрого и опасливого, но которого никак нельзя назвать трусливым, потому что всем известна его дерзкая смелость. И когда он внучке своей пророчил легкую жизнь, он тоже под этим подразумевал вовсе не пустую, суетную жизнь легкомысленного человека, а такую, когда дело спорится в руках человека и он среди людей пользуется уважением и любовью, никому не завидует, никому не желает зла и сам тоже избегает этой беды с помощью хитрости, страха и смелости. Вот тогда-то, считал любомудрый дед, жить бывает легко и интересно, тогда только человек и радуется жизни, не жалуясь на трудности, которые умеет он обходить стороною опять же с помощью трех этих главных своих качеств.
Внучка радовала деда и умиляла до слез, когда, сидя у него на коленях и заставляя рисовать, вдруг спрашивала:
— Это что?
— Зайчик.
— А где у зайчика гвазик?
— Вот он, здесь… сейчас нарисуем. Вот он какой…
— А где другой гвазик?
— А другой глазик с той стороны, его не видать.
— Нарисуй другой гвазик.
Ах, как счастлив бывал дед, когда внучка добивалась своего, и он дорисовывал этот «другой гвазик»!
Одно его только огорчало в поведении внучки — бесова нога. Сидела ли внучка у него на коленях или за столом, она ни на минуту не оставляла в покое слои толстенькие ножки и все время болтала ими: они у нее были в вечном егозистом движении, словно бы их постоянно мучил какой-то глубинный зуд. Даже походка у нее была прыгающая: она не могла ходить спокойно, ее подмывало что-то изнутри, и она как будто не ходила, а бегала с двойным подскоком шага, шаркая подошвами сандалий, туфелек и даже валенок так, что подошвы буквально горели от такой резвой ходьбы.
Все это как бы выходило за пределы обычаев рода Гриньковых, людей спокойных и рассудительных, хотя и не лишенных суеверий. Суеверия эти тихонько доживали свой век в лысой голове хитрого деда — он словно бы нутром еще помнил коварные проделки всяких домовых, леших, водяных и прочей нечисти, от которых житья не было далеким пращурам, и потому относился к приметам, бытовавшим в его роду, с настороженностью: они не то чтобы пугали его, но приводили в уныние.
— Не болтай ногами, нехорошо это, — строго говорил он внучке, на что она обидчиво отвечала ему:
— Буду!
Он даже пугал ее потихоньку, говоря ей, что если она будет болтать ногами, то ноги отвинтятся и оторвутся. Но она и на это отвечала без всякого смущения, колотя пятками по ножкам стула.
— А вот и не оторвутся! — и, втянув голову в плечи, морщила нос, скалила стиснутые зубки, жмурила глаза и шипела злой кошкой, пропуская воздух меж зубов. — Ты ничего не понимаешь, — говорила она. — У людёв ноги не отрываются. Вот!
Трудно было представить себе человека добрее деда, особенно если дело касалось детей. Он, конечно же, не обижался на внучку, говоря ей лишь в назидание:
— Нехорошо ты себя ведешь, Ирочка. Разве можно дедушке говорить, что он ничего не понимает. Ну скажи на милость, можно или нет?
— А я больше не буду, — охотно отвечала внучка с выражением крайнего изумления на лице и в голосе.
— И ножками болтать не будешь? — спрашивал ласковый дед с подвохом.
На это Ирочка его расплывалась в улыбке, глаза ее маслились лукавством, губы смущенно надувались, и она чуть слышно отвечала, жеманно склоняя головку на плечо:
— Буду.
Ее светло-коричневые, как у дикой уточки, зоркие и ясные глаза с годами делались меньше, чем были в детстве, и туманнее. Брови, которые чуть заметно золотились тончайшими волосиками, темнели со временем, лоснились соболиной остью, а нежная кожица, шторкой спускавшаяся от бровей к густым ресницам, сочно набухала, прикрывая восковые веки живой своей упругостью, и придала в конце концов глазам повзрослевшей Ирочки Гриньковой выражение затаенного до поры соблазнительного безумства. Лицо ее, несмотря на эти припухлости над глазами и на большие губы, которыми она как бы еще не научилась управлять, становилось с каждым годом все более привлекательным и живым. Не учась, она научилась закатывать глаза, выражая таким образом свое удивление; или морщить пухловатенький носик, если ей что-либо не нравилось; она без всякого труда перенимала от людей все, что казалось ей достойным подражания, делая это с такой же легкостью, с какой улыбка появлялась на ее милом круглом лице.
Все-таки неправ был, наверное, парень, в которого однажды, в отроческие годы, влюбилась Ирочка и который сказал ей игриво-смущенным тоном бывалого человека, что, дескать, в ней нет никакой тайны и что, мол, нам, мужчинам, нравятся женщины таинственные, а не такие, у которых все от начала до конца написано на лице и в душе которых нечего разгадывать.
Красавец этот был на четыре года старше Ирочки и успел уже соскучиться от любовных успехов. Он становился похожим на бесполое существо, когда разговаривал со своими поклонницами, избаловавшими его вниманием и доступом к всякого рода таинствам: смущался от сознания, что очень нравится женщинам, и как бы просил прощения у них за свою неотразимую исключительность, то и дело опуская смолянисто-черные, полусонные, полуглупые глаза.
Ирочка Гринькова, которой было в ту пору пятнадцать лет, влюбилась в это идолище, письменно призналась ему в своем чувстве, но, услышав в ответ от него эти слова, не покраснела от стыда и горя и не убежала прочь. Она лишь на мгновенье задумалась, туманя в улыбке свои закатившиеся к поднебесью глаза, и, переминаясь с ноги на ногу, сказала с искренним изумлением:
— Вы ничего не понимаете! Я как раз очень таинственная. Если хотите знать, я могла бы вообще…
Но на этом слове Ирочка умолкла, потому что не успела и сама к тому времени понять, что же она могла бы вообще…
Весна в Москве. По утрам хрустят под ногами мраморно-белые, иссушенные морозцем лужи, колюче чернеют окаменевшие сугробы, но к полудню опять все блестит и струится текучей водой. Мокро и шумно на улицах, грязно в серых дворах и скверах, а в туманном небе хлопают крыльями купающиеся в сыром воздухе голуби. Но приходит вечер, огни фонарей льют коричневый свет на улицы, и опять затихает до утра, густеет и останавливается вода, схваченная молодым морозцем.
Весна еще только заигрывает с зимой, трогает теплой когтистой лапой, меряясь силами, щурится в коварной улыбке, властвуя днем под туманным солнышком, но пугливо бежит ночной темноты.
В один из таких неясных деньков, после пурги, когда все перемешалось на улицах: снег и грязь, вода, запахи бензина, шум и скрежет машин, движение людских толп, серые брызги и истекающие грязью бурые сугробы вдоль тротуаров, измученные и раскрасневшиеся лица дворников, грохот уборочных машин, потоки людей на переходах и жарко рокочущие под красным сигналом заляпанные до крыш, мокрые автомобили, — в такой вот сумбурный день, промяв в сугробе дырки-следы сапожками, на мостовую выскочила женщина в лисьей шапке и стала махать проезжающим мимо машинам, требуя остановиться.
Черная шубка с песцовым воротником распахнута; щеки розовы от возбуждения, припухшие глаза тепло блестят под серебристо-воздушным ореолом из лисьего меха: чудится, будто каждая ворсинка, каждая мельчайшая частичка, каждый атом, из которых создано существо, нетерпеливо махающее рукой, поблескивает и искрится среди хаоса грязной улицы, будто эта женщина — редкая драгоценность, выброшенная пьяным безумцем на мостовую.
Оголенная шея, матово белеющая в распахе воротника, наивностью своей и скудельной какой-то хрупкостью, беззащитностью перед ревущим железом усиливает впечатление, что и в самом деле кто-то сошел с ума и оставил без призора это непревзойденное в своей красоте и воздушности линий, странное, никем еще как будто не оцененное сокровище.
…Никем, кроме шофера черной «Волги», замигавшей сигналом правого поворота. Он так резко останавливается перед ней, что из-под тормозных колодок, вдавленных в барабаны мокрых колес, показывается пар. Женщина садится.
— Господи! — говорит она в счастливом каком-то изнеможении, глядя и не глядя на шофера, которому явно приятно ее соседство. — Если бы вы знали!
Молодой человек в дубленом полушубке и в ондатровой шапке похож на преуспевающего ученого. Он снисходительно улыбается, плавно перекладывая руку с обода руля на рычаг переключения, набалдашник которого, светясь ярко-розовым цветком, сделан из прозрачной пластмассы. Потом ищет музыку на средних волнах. Журчит и свистит, хрипит эфир, пока вдруг не образуется в теплом и приятном воздухе салона бархатистый голос певца.
— Что случилось? — спрашивает он, взглядывая на свою пассажирку, которая обещала ему заплатить три рубля.
Женщина смеется и закатывает глаза.
— Вдугаря Юрочка мой надрался! Напился так, что я у него все деньги забрала и уехала одна. А он напился вдугаря, и не знаю… Завтра улетать в два часа, а у меня ничего не собрано. Индюшка в холодильнике! Мало, конечно, но все-таки две недели погреюсь на солнышке. У нас сейчас в театре… в общем, у меня две недельки! Мало, конечно, но на Кавказе и трех дней хватит, чтобы загореть на весеннем солнышке… Я быстро загораю. Господи! Теперь билеты машина какая-то выдает. Я даже не знаю номер самолета. Вот посмотрите. — Она роется в сумочке, перебирая в ней множество всевозможных вещиц, пока не находит билет. — Вот он… — И протягивает его шоферу, забыв, что тот за рулем.
— Да, — говорит он, искоса поглядывая на билет. — Тут что-то… непонятно.
— Совершенно непонятно! Знаю, что место у меня в секции «Г». Юрочка мне говорит, как это ты в «Г» полетишь? Ну напился он — вдугаря! Не знаю, как доберется до дома. Черт с ним.
— Вы артистка?
— Да, — быстро соглашается она. — Две недельки, господи! Я каждый год на две недельки на Кавказ, как уж придется, конечно… Как получится, — говорит она мечтательно. — Раньше Юрочка не отпускал одну. Как?! На Кавказ? Одна?! А теперь я его довела. Стал бояться меня, говорит, поезжай, я тут без тебя отдохну. Не-ет! Это я буду отдыхать, а Юрочка — Юрочка будет работать. Сейчас халтуры много, он должен работать.
— Тоже артист?
— Да ну, какой артист! Работает в темноте, не знаю, что он там делает…
— ?
— Да фотограф он, господи! Халтурщик… У меня двадцать седьмого марта день рождения. Юрочка и говорит: я к тебе прилечу обязательно. Нет, говорю, не прилетай, пожалуйста. Напейся тут без меня, а ко мне не прилетай. Он работать должен, Юрочка мой. Ужас, как боится меня! Однажды пришла домой поздно, звоню, а он спал и не открыл мне до утра. — Она в изумлении вскидывает взгляд и, улыбаясь, говорит с какой-то непонятной мстительностью в певучем голосочке: — Теперь Юрочка боится меня. Так боится, что просто смешно! Я драная стала, измучилась ужасно. А теперь вот две недельки передохну. Две недельки, представьте себе! Целых две недели! А Юрочка будет работать, работать… Он у меня лентяй жуткий. Ничего не делает. Кто его знает, чем он там занимается, в темноте… Занял денег, говорит: устроим тебе проводы… Купил, правда, большую индюшку, а сам уже сегодня напился вдугаря, и все.
Она трогательно-нежно благодарит шофера, будто бы тот что-то невозможное сделал для нее, довезя до дома за три рубля. Шофер вежливый, сидит в своей железной непромокаемой коробочке с черно-красной обивкой, говорит: «Пожалуйста», — и кланяется на прощанье с таким выражением на лице, точно думает: уезжать или не уезжать?
…Куда она торопилась? Зачем? Кто ее гнал с шумных улиц на голые окраины великого города, в полупустую, неприбранную и мутную какую-то квартиру, в которой ее встретил кастрированный сиамский кот с холодными голубовато-злыми глазами? Неужели вся эта гонка за три рубля, которые она вытащила из кармана пьяного мужа, занявшего деньги на ее проводы, нужна была лишь для того, чтобы войти в свою комнату, бросить на красный диван душистый шарфик и, оставшись в шапке, вынуть из сумочки яркую пачку «Marlboro», устало достать оттуда сигарету «Пегас», пропахшую едкими духами, зажечь вонючий табак и, прикрыв глаза, глубоко затянуться дымом, превратившись в измученную жаждой беглянку, приникшую наконец-то к холодной струе родника? Как-то это все… А впрочем…
Лет, наверное, шесть ей было, когда на вопрос деда: «Знаешь ли ты, что такое басня?» — она, не задумываясь, отвечала:
— Басня — это такое существо, которое поэт сваливает на невинувшего, а винувший хихикает над ним: вот он какой храбрый, а не трус. А тот человек — или осел, или кот, или кошка, или собака, — ему обидно. Или, например, хитрому в баснях Крылова плохо.
Дед недоверчиво поглядывал на свою тараторящую внучку, ничего не понимая и даже втайне подозревая, что она смеется над ним. Чтобы не быть дураком, он спрашивал, да знает ли она, что такое осел, поглядывая при этом с насмешкой на хитроумненькую Ирочку, которая в те далекие времена все одушевленные и неодушевленные предметы называла существами, вкладывая лишь ей известный смысл в это понятие — существо.
— Осел — существо животное, лесное, оно чем-то питается, оно живет под деревьями, похож на волка. Еще он выглядит на оленя: у него есть копыта и рога. А горные ослы — такие питаются травой.
Внучка, отбарабанившая ответ, смотрела в ожидании дальнейших вопросов на обескураженного деда.
— Сама ты, Иришка, существо, — вяло говорил тяжело в ту пору больной дед, глубоко задумываясь над ответами внучки, на которую он опасливо поглядывал исподлобья.
В эти минуты в его туманных глазах, изнуренных болезнью, зарождался суеверный страх, и душа его испытывала какую-то тревожную неприязнь к родной внучке, в которую вселился бес. Он с тоскливым сожалением понимал в эти минуты, что бороться с луканькой у него уже нет сил.
— Не смей так говорить, — строго и раздраженно наказывал он ей. — Если не знаешь, скажи: не знаю. Я тебе объясню. А так, не подумав, не смей говорить. Басня — существо, осел — существо… Что это такое?! Не знаешь — не говори. Винувший, невинувший… Ну что это такое?! Сколько тебе лет?!
— Я же знаю! — изумленно отвечала ему Ирочка и так искренне обижалась на деда, что глаза ее краснели от сердитых слез.
А Кавказ… Ну что Кавказ! Там было тепло. А на берегу Черного моря, под рядами мохнатых пальм, под горячими лучами весеннего солнца, которое тщетно еще спорило с холодом шумного моря, по асфальтированной набережной, как и положено в это время года, гуляли тепло одетые люди.
Среди неярких, темных фигур появлялся вдруг полусумасшедший на вид старикан в красных сатиновых трусах и голубой футболке и, поигрывая сухощавыми мышцами некогда тренированных ног, припускал на радость толпе во весь дух, демонстрируя возможности своего сердца. Когда он останавливался среди насмешливых зрителей, лицо его изображало глуповатый восторг и нескрываемое счастье человека, который наконец-то на склоне лет нашел свой способ посмеяться над дряхлеющими ровесниками и над медлительными толстяками, над насморками, воспалениями, подаграми и прочими болезнями. Беззубый, источенный, как старая древесина, морщинами, он жутковато хохотал, захлебываясь йодистым морским воздухом, а потом вновь резко стартовал, издавая резиновыми кедами жвакающие звуки, и, пригнувшись, молодцевато уносился по галечной дорожке, громко и часто похрустывая своими кедами, в вечнозеленый кустарник, в декоративные заросли бамбука, чтобы опять появиться вскоре на серой набережной и, разинув беззубый, бледно-розовый рот, снова посмеяться над степенной публикой, явно не одобрявшей его упражнений. Насмеявшись вдоволь и отдохнув, он опять и опять словно бы ронял вдруг свое тело в сторону и, начиная бег с крутого виража, пропадал в кустах.
Этот занятный старик пугал всякий раз Ирочку Гринькову, она вздрагивала, когда он появлялся вдруг из-за кустов с ощеренной и тяжело дышащей пастью, и ей всегда хотелось крикнуть вдогонку ему: «Хулиган!»
Но то была единственная неприятность великолепного, весеннего, цветущего Кавказа, пропахшего холодным морем, мимозой и мхами сырых камней, плотно затянутых листьями плюща.
…Черный кофе по-турецки; чашечка с трещинкой; сладкая гуща на языке; пятнышко на голубой пластмассе алюминиевого столика; рюмочка золотистого и крепкого коньяка; жирные голуби на асфальте, воробьи… А напротив безмолвная, бесконечная, смущенная и наглая улыбка «Золотого», красивого по-своему мужчины с рыжеватыми волосами, одетого в костюм ржавого цвета, коричневую рубашку с пестро-коричневым галстуком. И из всего этого, золотисто-коричневого, из-под коричневых бровей — ярко голубая, придавленная маслянистыми веками улыбка, то прячущаяся смущенно в золотистой прозрачности коньяка, то текущая прямо в душу Ирочки Гриньковой, которая кое-что уже разрешает этому босяку, как она называет его в минуты неловких его притязаний: прикасаний к колену, к талии или к ушам… С какой-то особенной трепетностью в гробовом молчании ощупывает Золотой ее маленькие уши, нажимая пальцами на упругие мочки. Он словно бы перестает дышать.
— Босяк, — лениво говорит Ирочка, отстраняя его руку. — Ах ты, босяк!
…Прокопченный кофейник-турочка в раскаленном песке противня; вздымающаяся шапка коричневой пены; профессионально-плавные, неторопливо-быстрые движения рук, пальцы которых черны от густых волос; равнодушно-вежливый, провисший в пространстве, скучающий взгляд баклажанно-фиолетовых грустных глаз…
— Это твой друг? — спрашивает Ирочка у Золотого.
— Да, он хорошо меня знает. Это Артур. Лучший кофе на всем побережье! Но самый лучший — с той стороны. Для друзей…
Она в восторге смотрит на Артура, который не замечает ее, она вопросительно поглядывает на Золотого, словно бы спрашивает его: почему не замечает ее Артур? И ей кажется, что Золотой понимает ее вопрос и, смущенно улыбаясь, как бы отвечает ей: это мой друг.
Глаза его цвета газового пламени разглядывают маслянисто волнующуюся золотистость в рюмке, и эти два цвета, переливаясь друг в друга, туманят сознание, рождают томительные иллюзии о небывалом счастье, о красоте неизвестной ей жизни…
— У меня много друзей, — говорит Золотой в смущении, и веснушчатое его лицо густо краснеет.
Нога под столом пружинисто пританцовывает, точно Ирочка Гринькова, сидя за чашечкой кофе, наигрывает ею какой-то веселенький, ритмичный мотивчик, подрагивая коленкой, на которую краем глаза косится Золотой.
Ирочка Гринькова поселилась на частной квартире. Хозяйка уходила через день убираться в громадный санаторий, возвышающийся над пальмами и кипарисами сахарно-хрупким, многопалубным кораблем.
— А чего не жить! Я тут хорошо живу, — говорит хозяйка, скаля желтые большие зубы.
Маленький ее, с восковыми отблесками на лбу, череп, в котором светятся беззаботные глазки, двигает нижней челюстью, смеется, морщит тонкую и как будто прозрачную кожицу, шевелит пупочкой мягкого носа, говорит с украинской теплотой и ласковостью в голосе:
— Я на селе жила. Свой двор. Времени не бывает: то у курей, то с утятами… А тут бо́чек не катаем, свиней не кормим. Убрались, переоделись, а работу кончили — кто там на берегу разберет, отдыхающие мы или работающие. Вот так и живем, как отдыхающие. Чего ж не жить! А родом я, слышь-ка, со Ставрополья. Никогда не бывали? Ну ничего… Слышь-ка, а мужик-то твой не этот… ну как его? Не люблю я их вот как! Ну, тогда ничего.
Освещенные белыми фонарями, поблескивают ядовитой зеленью листья потонувших во тьме благородных лавров. Воздух побережья пропитан душистым дымом: весь день где-то жгли срезанные ветви остриженных кустов, будто кто-то варил в огромном чане уху на весь Кавказ. А теперь тишина, запах лаврового дыма, какие-то серебряные букашки вьются вокруг фонарей. Пустынно, точно все едят уху.
Золотой тихим, вкрадчивым голосом уговаривает Ирочку Гринькову, просит зайти, посидеть, выпить шампанского, послушать хорошую музыку, чего-нибудь съесть…
— У меня много друзей, — говорит он хмельным каким-то голосом. — Тут тоже есть мои друзья, нам не будет скучно, место для нас всегда найдется! Я не стал бы вас приглашать, если бы не был уверен в этом. Не обижайтесь на меня, пожалуйста, Ирина Михайловна… Время есть… На вас все благородно, все прекрасно — о каком платье речь, Ирина Михайловна!
Ослепленные и оглушенные, в большом и многолюдном зале ресторана они останавливаются посередине, среди танцующих. Золотой с улыбкой смотрит на оркестрантов, грохочущих что-то сумасводящее на своих ревущих, стучащих, хрипло звенящих инструментах; кто-то из оркестрантов улыбается приветливо, дуя что есть силы в черный мундштук трубы, кивает головой и взмахом руки останавливает грохот… Танцующие недоуменно замедляют свои движения, головы их кружатся, кружатся в ожидании. Оркестранты кивают Золотому, а тот, что дул в трубу, взмахом руки рождает вдруг знаменитую мелодию из «Шербурских зонтиков»… И все поглядывают на Золотого — доволен ли он так же, как довольны и счастливы они сами, услужившие в малом своему другу.
— Моя любимая мелодия, — тихо говорит Золотой, опуская глаза и как бы с тоскою вслушиваясь в рыдающие звуки музыки… — Они всегда встречают меня так. — И он благодарно кивает друзьям, беря под локоток ошеломленную Ирочку Гринькову.
Пожилой, пышноусый человек с покосившейся набок черной бабочкой счастливо улыбается и идет навстречу, медленно разводя для объятий руки. Но не смеет обнять, а лишь плавным, дирижерским каким-то движением приглашает Золотого, зовет куда-то, почтительно кланяясь даме, поправляя засалившуюся бабочку.
Кто-то гремит, выдвигая откуда-то, словно из-за кулис, голый стол, кто-то стелет хрустящую скатерть, звенит ножами и бокалами, откуда-то летят по воздуху в чьих-то крепких руках зажатые стулья, со стуком опускающиеся возле стола; взвивается ввысь хлопнувшая пробка и падает на пол; пена льется через край… «Все хорошо! Все хорошо!»
Шипит и пузырится что-то вкусно пахнущее и коричневое в нержавеющих сковородках, матово светятся розовые, запотевшие в тепле, холодные яблоки в вазе. В другой вазе кушанье, цветом напоминающее халву, название которого знает Ирочка Гринькова, но теперь вот, к стыду своему, забыла. «Сациви! Конечно, сациви! Боже мой, вспомнила! Курица в ореховой подливке и какие-то там пряности… Конечно, конечно».
— Вы разрешите мне называть вас просто Ирой, — застенчиво говорит Золотой, поднимая бокал, наполненный солнечным светом, пронизанный снизу доверху искрами торопливых пузырьков газа. — Красивое имя! Ирина, Ира, Ирочка… Можно? И-и-и — звучи-и-ит… И-и-ира! Ура! Я очень благодарен вам, что вы уделили мне частичку вашего времени. За вас!
Очень смешно. Ей так смешно, что она уже и не знает, почему смеется, почему не в силах справиться с распирающим грудь, неприличным, нехорошим смехом.
— Это… шампанское! — говорит она сквозь смех. — Когда шампанское… я всегда… Оно на меня… такое странное действие…
А Золотой доволен, Золотой просто счастлив, слыша ее смех и видя раскрасневшиеся ее ушки. Он медленно тянется рукой, как голубятник к голубю, и пальцами прижимает горячую мочку уха, передав ей вдруг какой-то таинственный импульс этим нежным и властным прикосновением.
Ночь, тишина. И чудится, будто высоко-высоко в небе, в синей его темноте бьется и гудит неведомо каким далеким ветром разбуженное море. Сил нет никаких сопротивляться Золотому, который зовет к себе на чашечку кофе.
— Это недалеко, — говорит он, мягко выступая рядом. — Если хотите, можно пройтись, но почему не на такси? Чашечка кофе взбодрит, и только… Нет, Ирина, вы уснете, как ребенок, — вы устали, а кофе придаст вам сил… и только. Дома у меня, кстати, есть все марки сигарет. Ну, не все, конечно, но какие возможно — есть «Кент», «Мальборо», ну что еще… Много чего есть. Я лично не люблю всякие водки, коньяки — для меня это все не существует, это не мое. А мое — это ликеры! Сладкие настойки или виски — вот мое. У меня все это есть всегда. Для друзей. Признаться, рестораны — это тоже не мое. Я редко бываю там, и потому меня так хорошо встречают друзья… Но, как человек одинокий, вечером сто граммов ликера выпиваю для бодрости. Для приятного расположения духа. Сядешь у телевизора, и хорошо на душе, приятно…
Ирочка Гринькова опять смеется, но смех ее теперь уже не тот: что-то дрожит у нее в груди, и какие-то всхлипывающие звуки вырываются наружу, и голос скрипит.
— Босяк, — вяло говорит она Золотому, сбрасывая его крадущуюся руку с плеча. — Ты все равно босяк…
И вспоминает между тем, ища себе оправдания, как поставила когда-то у себя в московской квартире, в Юрочкиной комнате, белые большие колокольчики в вазе. Несла их домой, все спрашивали: где же это? что это? что за цветы? А Юрочка так и не заметил…
«Улыбочку! Улыбочку, как перед тринадцатой зарплатой… Носик чуть правей. Вот так!»
Она теперь каждый день вспоминает Юрочку, когда проходит мимо фотографа на набережной.
В этот полуночный час он тоже мешает ей, хоть плачь. Потерять бы голову, плюнуть на все и освободиться, как когда-то в давние времена, почувствовать опять вкус бесшабашной жизни, вытаращить глаза от удивления и восторга и — ах ты, господи!
Ее подругу из Витебска сняли когда-то со стипендии и выгнали из общежития за то, что она пела в церковном хоре. Из училища, правда, не выгнали, но жить ей стало тяжело: снимала полуподвальную комнату в хибаре. Комната была, видимо, когда-то дворницкой, что ли. Из серой стены торчал над серой, эмалированной раковиной медный кран. На столе электроплитка. На окне белые занавесочки в полрамы. Железная кровать напротив крана. Дощатый пол, покрытый некогда добротным, но теперь истершимся, прорвавшимся, вздувшимся коричневым линолеумом. Что-то среднее между кухней и камерой.
Здесь-то и пропадала Ирочка Гринькова, завидуя подруге, обретшей свободу.
Купили они как-то на рынке молодой картошки, клубники и бутылку подсолнечного масла, а вечером чуть было не убили молодого красивого человека по имени Юрочка. Тот пришел в гости к верхним соседям, не застал их дома и решил повеселиться с девочками. Была у него бутылка шампанского, а у них сварилась к тому времени картошка. Шампанское они откупорили, выпили, угостив Юрочку клубникой, опьянели с непривычки, развеселились, а тот решил пошутить, наверное. Взял кухонный нож и, улыбаясь, спросил: «Шампанское пили?» — и уставился с шутливой улыбкой на Ирочкину подругу, поигрывая грифельно-серым ножом. А Ирочка Гринькова, увидев это, схватила вдруг бутылку с маслом и изо всей силы ударила Юрочку по голове. Бутылка почему-то не разбилась, а Юрочка упал замертво на пол. Кровь из головы! Ужас! Подтащили его к раковине, сунули головой под холодную струю. «Миленький! Дорогой! Очнись! Что с тобой?!» А Юрочка мычал в ответ что-то несуразное. Нашли марганцовки, разукрасили всю его голову, обожгли, наверное, кожу и, полуживого, вывели под руки на трамвайную остановку, посадили к фонарю. И не успели отойти, как его уже подобрала милицейская машина. Удачно получилось.
Потом милиционер заглянул к ним в окно, перепугав до смерти, но, погрозив пальцем, сказал всего лишь: «Хулиганки!» — и ушел.
А теперь идет Ирочка Гринькова и громко хохочет, рассказав Золотому эту давнюю историю, которая вдруг всплыла в ее памяти.
— Бедный Юрочка, — говорит Золотой, посмеиваясь. — Я понимаю, вы придумали этого Юрочку для остроты сюжета… И шампанское тоже. Но ничего, ничего!
А рука его опять уже подкралась к плечу, крадется дальше, ползет, как какой-то удав, к тонкой шее, прячется под волосами и горячо замирает. И Ирочка слышит чуткой кожей, как дрожит это пятипалое нечто у нее на шее, обжигая пепельно-невесомой сухостью. Но нет уже никаких сил стряхнуть, освободиться от этой руки.
Ничего она не может поделать с собой, а в голове у нее звучит: «Улыбочку! Улыбочку, как перед тринадцатой зарплатой! Вот так. Носик чуть правее…»
Она с трудом смотрит на Золотого и скрипучим голосом спрашивает:
— Ты думаешь, что так надо, да? Ах, босяк, босяк…
А Золотой вдруг резко отстраняется от нее, и она не успевает опомниться, как перед ними останавливается такси и распахивается дверца. Ирочка проваливается в полутемную, пружинящую мягкость заднего сиденья, неуклюже подтягивая согнутые в коленях, оголившиеся ноги.
Шофер приветливо и радостно здоровается с Золотым и, не спрашивая, срывается с места, врубая скорости, как стартующий гонщик.
Да, конечно, если внимательно, но в то же время как бы и забывчиво вглядеться в круглую парковую вазу, грубо отлитую из цемента, в которой когда-то росли цветы, а теперь только земля, забытая людьми, то, конечно, можно себе вдруг представить, что это не просто земля, поросшая кое-где мохом, а бескрайние прерии, что вовсе не мох перед глазами, а кустарниковые заросли, в которых спят насытившиеся львы; и что другие мшинки, высокие и тонкие, — это какие-то диковинные деревья, с которых срывают листья пятнистые жирафы, или гамелопардусы, как их еще называют; те же пространства, что раскинулись меж кустарников и деревьев, увиденных словно бы с самолета, битком набиты всякими антилопами, которых просто невозможно увидеть с такой высоты, хотя они и разгуливают по прериям, пощипывая травку; можно даже представить себе, глядя на земляной этот круг, ограниченный цементными горами, что это вовсе не земля в вазе, а какой-то неведомый людям, никем еще не открытый кратер давно потухшего вулкана, похожий на знаменитый кратер Нгоро-Нгоро.
Улыбка поблескивает липкой какой-то слезкой в заспанных глазах Ирочки Гриньковой, когда она представляет себе всю эту жизнь в круге слежавшейся, замшелой земли.
Она проснулась, когда хозяйка пришла на обед, и первое, что Ирочка спросила у нее, — нет ли телеграммы из Москвы.
Телеграммы не было.
«Да пошел ты!» — отмахивается она мысленно от Золотого, который то и дело возникает в сознании, беспокоя ее мягкой улыбкой и хваткими, цепкими руками, прикосновение которых она еще чувствует на своем теле. Ей не хочется думать о нем, о липком и тягучем ликере и об этой дурацкой ночи в канун ее дня рождения. «Пошел бы ты к черту!»
— Тетя Марусь! — кричит она со двора хозяйке. — А сколько времени сюда телеграммы идут?
— Чего?
— Телеграммы сколько идут?
— Откуда?
— Ну, откуда-откуда! Из Москвы, конечно…
— А от кого телеграмму-то ждешь?
«Да пошла ты!» — хочется ей крикнуть в сердцах, но она сдерживается и отвечает:
— От кого надо.
— А кто ж его знает, сколько они идут. Мне не присылают.
Ирочка Гринькова раздраженно шепчет ругательства, вытирая заслезившиеся на прохладном воздухе глаза, и ей чудится, будто они пропитаны у нее, как конфеты, ликером.
— Ой, господи боже мой! — восклицает она в отчаянии. — Что это за почта у вас такая!
Ей хочется и не хочется сказать хозяйке, что у нее день рождения нынче, что ей уже тридцать один и что ей безумно жалко Юрочку, которого она когда-то трахнула по голове, и что жизнь ее… А что жизнь?! Жизнь у нее очень хорошая. Да!
Но больше всего ей хочется разозлиться на Юрочку. Так разозлиться, чтоб все кипело в душе от злости на него, хотя и не знает она, как это сделать, а оттого и мучается.
И только поздно вечером, не дождавшись поздравительной телеграммы, выдавливает она из глаз злобную слезу.
«Ну подожди, мерзавец! — думает она в негодовании. — Приеду, я тебе покажу, пьянице несчастному! Ну надо же! Забыл поздравить! А я еще думаю о нем, жалею дурака».
Плачет она и улыбается сквозь слезы, вспоминая деда, которого когда-то тоже ударила мраморной пепельницей за то, что тот однажды читал ей басни и стал засыпать от усталости. Он лежал на железной кровати с книжкой в руке, книжка опустилась на грудь и закрылась на самом интересном месте, дед забормотал что-то невнятное и, как ни просила его Ирочка почитать еще немножко, отвернулся к стене, подставив ей гладкую стеариново-белую лысину. Не помня себя от злости, Ирочка схватила двумя руками тяжелую пепельницу и изо всех сил ударила… Теперь она плачет и смеется, жалея несчастного деда.
«Да что ж это такое, господи! — кается она. — Как же это я могла?! Дедушка, милый, прости меня!»
И думает она в тоскливом страдании, что вот вернется домой и первым делом купит букет роз, пойдет на кладбище, найдет могилу и украсит живыми цветами крест, который словно бы сделан из остатков старой железной кровати. Постоит, послушает тишину и, как синичка поет весеннюю песенку, поплачет и скажет:
«Дед, ну чего ты? Ну чего ты, дедушка? Не обижайся».
Слезы текут у нее из опухших глаз. Ей так жалко деда и Юрочку, которых она избила в своей жизни, так жалко! Ведь это самые любимые ею люди. Она хлюпает носом, не в силах понять этого страшного недоразумения, странной какой-то ошибки.
«Да пошел бы ты!» — злобно шепчет она Золотому, который опять крадется к ней, восторженно и мягко обволакивая ее ликерным взглядом.
— Слышь-ка, ты чего это ревешь, а? — спрашивает хозяйка, без стука входя к ней в комнату.
Хозяйка поднялась с постели, услышав всхлипывания Ирочки; на ней длинная ночная рубашка, смутно белеющая в темноте комнаты.
— Вам-то какое дело? — откликается Ирочка Гринькова, возмущенная этим бесцеремонным вторжением. — Идите спать! Как-нибудь без вас… Пожалуйста.
— Я ведь что хочу сказать-то, — говорит хозяйка. — Я ведь все вижу.
— Да ничего вы не видите, господи!
— Не ори на меня.
— Слушайте! Мотайте отсюда, пока я не разозлилась, — сквозь слезы, полушепотом, полукриком говорит Ирочка Гринькова. — Я вам… деньги заплатила? Заплатила. Это моя комната? Моя. Пожалуйста, — дрожащим голосом просит она. — Идите спать, тетя Марусь. У меня своя жизнь, понимаете… Я так хочу… И вот… живу так… Да! Так вот живу, и все. И никому нет дела до этого. Хочу вот плакать и плачу… А вы все равно ничего не понимаете в моей жизни, и не поймете. Ну что вы можете мне сказать? Господи! Что?! Пожалеть пришли, да? Знаю я! Пожалеть, посочувствовать… А того не понимаете, что это я вас должна жалеть. Да, я! Не вы меня, а я вас… И уходите. Я скоро уеду отсюда, тогда вот и хозяйничайте тут. Ну что это за безобразие такое! Пришли в нижнем белье…
Хозяйка уходит, ворча в дверях:
— Надо же, принцесса какая! Надо же! Чего наговорила, ни за што ни про што… К ней по-хорошему, а она вона как!
Ирочка Гринькова видит мысленным взором, как ехидно морщится кожа на ее черепушке, как просверливают темноту буравчики глаз, врезаясь в нее из-под острых надбровных дуг.
— А чего по-хорошему-то? Чего?! — кричит она ей напоследок. — Ну чего, скажите!
Еще один человек, обиженный ею, появляется на земле. Только что не было его, а вот уже и есть.
«За что, в самом деле, накричала? — думает Ирочка Гринькова, успокоившись. — Добрая баба, а я как дура наорала, прогнала. Сто верст до небес, и все лесом… наговорила гадостей… Неудачно получилось».
Дед любил эту присказку: «сто верст до небес, и все лесом», — она и запомнила или, вернее, впитала в себя, усвоила, как нечто данное ей свыше.
«Всех обидела. Ну всех! И добрых, и хороших, и родных… А того, кого надо было, — не смогла. Ну почему же так, господи, все в жизни… нескладно! Ну, Юрочка! — думает она с новым озлоблением. — Если завтра не будет телеграммы, я тебе этого никогда не прощу. Убью».
Чудится ей в полудреме, как просит у нее прощения загулявший без нее Юрочка и как казнит она его своим презрением, как ранит в самое сердце тихой слезой, которая, увы, опять будит ее щекотной какой-то неизбежностью, словно без этого теперь уже невозможно — ну никак невозможно! — жить на белом свете.
Проходит день, и опять появляется Золотой, который словно бы и не помнит ничего, ничем не напоминает Ирочке Гриньковой об ушедшей в прошлое ночи.
Ирочка усмехается, вспоминая ночное его признание в любви: «Вы задели меня за живое».
Загадочный Артур, когда они заходят в кофейню, наконец-то взглядывает на нее, заглатывая пещерным мраком баклажанных глаз, и его коричневые губы резиново растягиваются в улыбке.
А Золотой теперь застегнут, так сказать, на все пуговицы. Чинно прогуливается рядом, молчит в каком-то томительном ожидании, старается как бы все время быть рядом, но при этом оставаться незамеченным, словно его и нет.
«Вот так — пожалуйста. Так — сколько угодно, — думает Ирочка Гринькова с усмешкой. — Лишь бы не задевать друг друга за живое».
Кто-то приветливо кивает Золотому, кому-то он кивает сам…
— Особо опасные пятна — чернильные и ржавые. Технология говорит, что эти пятна надо выводить дважды. Делается это так, — рассказывает на набережной побитый какой-то мужичонка в темном, выгоревшем до тусклой лиловости пальто.
Он берет химический карандаш, окунает его в мутную воду в поллитровой банке, стоящей на асфальте, и чертит на своей остро торчащей из-под пальто коленке, обтянутой грязной тканью, чернильное пятно. Быстро берет жесткую щеточку, так же быстро обмакивает ее в той же мутной воде и, предварительно помазав пятно серой пастой, принимается за работу. Под щеткой, на мокрой штанине на коленке образуется белесая, грязноватая пена. Он старательно смывает ее щеткой, обильно смачивая водой, смахивает, выжимает остатки влаги ладонью.
— Видите?! — победно спрашивает он у притихших зрителей. — С первого раза не берет. Теперь повторим процесс. По технологии это наиболее трудоемкий процесс, — торопливо и азартно говорит он, нажимая на слово «процесс». И принимается делать все сначала: натирает, вспенивает, смывает.
— Вот тот эффект, — наконец говорит он, поднимая взгляд от своей мокрой коленки, — который нам нужен. Пожалуйста!
И показывает коленку любопытным зрителям, которые собрались от нечего делать вокруг этого «химика», сидящего на газетке. Мокрая, темно-грязная его коленка словно бы кланяется во все стороны… Люди, усмехаясь, расходится, не желая платить за развлечение. А он, как шут, как несчастный, никем не понятый мим, жалко поглядывает на людей и горестно молчит.
Ирочка Гринькова вдруг замечает, что у мужичка всего лишь одна нога, одна-единственная коленка, которой он так трогательно, так артистично кланяется равнодушной публике.
— Сколько?! — чуть ли не вскрикивает она. — Скажите, пожалуйста, а сколько стоит это все… это… Сколько?! — спрашивает она взволнованно и озабоченно. — Эти штучки…
Золотой с усмешкой шепчет ей на ухо:
— Это простой обман, Ирина. Купил в хозяйственном магазине обыкновенную пасту, наделал из нее патрончиков и спекулирует. Неужели не понятно?
Ирочка Гринькова бледнеет. С застывшей на губах улыбкой она в упор глядит на Золотого и тихим, удивленно-вкрадчивым голосом говорит ему с придыханием:
— Сейчас же, сию минуту купи этой пасты на три… нет, на пять рублей… Всё купи, что у него есть… Всё, что есть у этого человека, понимаешь? Ну, что ты так смотришь на меня? Хочешь, чтоб я разорвала тебя в клочья? Сию же минуту купи всю пасту. Я буду оттирать пятна… ржавые, чернильные, родимые… всякие… Мне это нужно, понимаешь? — и вдруг выдыхает с угрожающей, неуправляемой уже озлобленностью: — Ты понимаешь меня, босяк! Или оглох?
Ах, как все надоело ей на этом Кавказе.
Не прошло и недели, как она прилетела сюда, а на душе уже такое нетерпение, будто по ошибке она очутилась совсем не там, где должна была провести «эти две недельки», будто ее выбросили по дороге в рай, обманув какими-то обещаниями, и она по глупости поверила людям. А теперь даже хозяйка квартиры с насмешкой смотрит на нее и как бы жалеет втихомолку.
— А чего мне обижаться, — говорит, лукаво поглядывая на нее, тетя Маруся, только что вернувшаяся с работы. — Мне обижаться нельзя. Люди ко мне приезжают разные, каждый со своей прихотью. Где уж тут!
Она стоит на вытоптанном дворике, возле цементной вазы.
— С деньгами-то как? — спрашивает она. — Отдавать тебе деньги-то обратно или как? Договаривались на две недели, а ты вот съезжаешь вдруг. Неожиданно все. Не знаю, что…
— Не надо мне никаких денег. А если письмо на мое имя придет, значит, это от мужа. Вы его не читайте, потому что Юрочка письма пишет те еще! Через каждое слово мат. Это он дурачится, конечно. Но лучше не читайте. Это нехорошо вообще-то… Лучше уж отправьте обратно или сожгите. Да он и не написал мне вообще-то ничего! Это я так, на всякий случай… Ну ладно… Не обижайтесь на меня.
Опять она несется по горной дороге, и скорость пьянит ее и веселит душу.
Хохоча рассказывает она шоферу о своем деде, который утверждал когда-то, что человек состоит из смелости, страха и хитрости. И ей кажется, что шофер глубоко задумался, услышав это, ушел в свои воспоминания, и что-то тайное происходит в его голове, какие-то сопоставления, какие-то «за» и «против» борются в его сознании. Хотя и не забывает он сигналом поприветствовать товарищей, несущихся навстречу ему по извилистой ленте дороги. Короткий сигнал, взмах руки, улыбка, полотняный, парусный шум ветра, и опять серая лента.
Ирочке Гриньковой холодит душу этот обычай, приводит ее в тихий и торжественный восторг, будто не шоферы такси встречаются на нагруженной трассе, а затерянные в пустынном океане корабли приветствуют друг друга сигналами, утверждая жизнь среди мрачных волн.
И чудится, будто только это и нужно было увидеть ей здесь, на Кавказе, за эти «две недельки», которые она так и не догуляла, измученная однообразием: тетя Маруся, Золотой, Артур и опять Золотой… Но все это теперь позади!
Теперь она мчится по крутой горе под нависшими над дорогой скалами, проваливается в угрюмые ущелья, чтоб вновь взлететь на отвесный склон горы и заглянуть в пропасть за белыми столбиками с траурной каймой.
Душа ее летит над пропастью. Наконец-то она дождалась этого мига полета, ради которого словно бы и летела на Кавказ. Летела! Какой же это полет, если ее просто усаживают в мягкое и глубокое кресло, пристегивают ремнями и вместе с сотней таких же, как она, пассажиров поднимают высоко над землей. Разве это полет?
Полет теперь, на этой горной, опасной дороге со слепыми поворотами, глубокими спусками и крутыми подъемами.
Ах, какой лихой шофер! Как он смело ведет машину по краешку дымчатой пропасти! Как тревожно стонет резина на вираже! Как задумчив и чужд суете взгляд человека. Как напряжен его мозг, зорко глядящий на дорогу.
— Ну надо же, как обидно! — кричит она шоферу. — Мой дед ничего этого не знал, и родители тоже не знают. А дед даже представить себе не мог бы, что я вот так… Господи! Как это все удивительно!
…А в Подмосковье воздух уже пахнет грачами. Плоская, разоренная после зимы земля кружится по сторонам шоссе. Желтоклювые грачи поднимаются с обочин. Дорога уже сухая. Какие-то малиново-красные прутья кустов мелькают в частоколе посадок.
Ирочка Гринькова опускает мутное стекло и с азартной улыбкой вглядывается в проясненные березняки.
— Улетала, грачей еще не было. А прилетела — и они тоже тут! Вот чудеса! Я с Кавказа прилетела, — говорит она шоферу. — Там сейчас… ну — лето совсем, можно сказать. Все зелено, все цветет… Вот только что прилетела, а словно бы и не было ничего этого. Но зато шоферы там в горах гоняют! Здесь что! А там, в горах, хо-хо-хо! Издалека посмотришь на шоссе, а оно ниточкой опоясывает крутую горищу, а ты на этой ниточке, над пропастью, со скоростью сто километров в час — куда там канатоходцы! Это все семечки, а там… Нет! Это страшное дело! Я каждый год обязательно на Кавказ… Ну просто не могу без этого… Юрочка мой… это муж мой… привык уже к тому. Он даже и не спрашивает меня — знает, что все равно смотаюсь. Когда угодно: весной или осенью, зимой, летом — это не важно…
Она с неостывающим азартом в глазах смотрит на широкое шоссе и, не дождавшись внимания невзрачного пожилого шофера, который на фотокарточке выглядит куда моложе и симпатичнее и у которого звонкая фамилия — Левадьев Сергей Иванович, — не дождавшись ни малейшего интереса с его стороны, Ирочка Гринькова точно самой себе говорит все с тем же нетерпеливым восхищением в голосе:
— Ох, Юрочка! Посмотрим, чем ты тут занимался в темноте… Вы представляете себе, он даже телеграмму мне не дал на день рождения! А когда провожал, говорил: я к тебе прилечу… обязательно… Я ему, правда, сказала: нет уж, Юрочка, не прилетай, напейся тут без меня и дай мне отдохнуть. Он тоже: дай отдохнуть и мне. Раньше не отпускал, а теперь — дай отдохнуть. Я ему отдохну, бездельнику! Ох, Юрочка, берегись! Он ведь и не знает, что я уже в Москве! Посмотрим, посмотрим…
И она умолкает, восторженно глядя на чистое шоссе, над которым уже видна вдали тяжелая эстакада кольцевой дороги, по которой слева направо тоже бегут автомашины. Слева направо грозно торопится огромный грузовик с прицепом, приближается, ревет, вырастает в размерах, а они под ним проносятся в тени эстакады, шофер сбрасывает ногу с акселератора, притормаживает, сбавляя скорость.
Ирочка Гринькова подается вперед, к ветровому стеклу, телом не поспевая за летящей душой, и можно подумать, глядя на нее, что она давно уже не видела Москвы и ждет не дождется встречи с ней, боясь не узнать.
У нее, как у ребенка, словно бы нет еще чувства времени, словно бы не успело еще развиться это гнетущее душу чувство быстротечности всего живого на земле.
Она подгоняет жизнь, торопит ее, точно боится куда-то опоздать, не щадит ни себя, ни отпущенного ей времени, не желая знать, как бесценна и неповторима каждая минута этой жизни.
И лишь порой, в какой-то странной и глубокой отрешенности от всего земного, когда затихает в душе ее неугомонный бес, она вдруг с тоскою понимает, что время это послушно бежит, подгоняемое ею, и невозможно уже остановить его.
В эти редкие минуты отрезвления она страшится подумать о той неизбежной усталости, к которой она так бессмысленно, так бестолково спешит, не задумываясь о смысле своего существования. Припухшие веки низко опускаются на глаза, и она готова вот-вот расплакаться, разрыдаться от неосознанной какой-то обиды. «Да пошел ты! — гонит она от себя нечто тоже неосознанное, непонятное, некое загадочное и злое существо, которое не дает ей покоя. — Пошел ты!» Блестят расплющенные слезами, дрожащие глаза… А время, которое она вдруг начинает как бы чувствовать на ощупь, представляется ей тогда в образе дикого, ненасытного зверя, на которого она нечаянно посмотрела в упор.
Игра воображения
— А у нас в семье одни вояки, — говорит молодая женщина, вскидывая удивленный и насмешливый взгляд. — Дед вояка, отец вояка и брат тоже… Все вояки! Вот только муж мой, слава богу, штатский. Но зато такой штатский, что просто прямая противоположность всем нашим мужчинам. Они не понимают его и не любят за это. Он художник. А знаете, это так хорошо, когда красками масляными пахнет, особенно, знаете, когда на природе где-нибудь, на цветущей поляне, среди леса, в жаркий летний день откроет свой этюдник, а оттуда этот запах! Ну просто удивительное чувство! Цветами, ромашками пахнет, пчелы жужжат, а он краски выдавливает на палитру, и никакой аромат не сравнится, ничего на свете так не волнует, как этот запах. У нас и комната вся красками пахнет. Мастерскую обещают, но пока… Сейчас ведь знаете как… Пейзажист, — говорит она с усмешкой. — Какую-нибудь осинку напишет или ручеек в ольховых зарослях. Ольху любит! Такое чепуховое дерево, а он любит и уверяет, что тут, понимаете ли, в цвете труднее всего разобраться, чтоб не было грязно, чтоб чистый был цвет. Ну и результат, конечно! Разве на ольхе заработаешь? Если бы я не работала, нам не прожить, — удивленно и радостно говорит она и смеется. — Давно обещали выставку, но вот никак… А знаете, он очень талантливый и умный художник, я это безошибочно чувствую. Правда, я не ошибаюсь. Он и сам все понимает, конечно, но все-таки жалко, когда вот так все кувырком. Интеллекта, наверное, не хватает! — говорит она и снова смеется. — То есть человек он, конечно, не глупый, но в том смысле интеллекта не хватает, что, как он сам говорит, это инструмент в руках человека, данный для достижения материальных благ. Вот в этом смысле — интеллект. По-латыни это: «выбираю между». Например, между дубленкой и автомобилем… Они, по-моему, сейчас в одной цене… А вот душа, говорит мой муж, это высшее начало всякого человека. Не только высшее, а можно даже сказать — божественное начало, понимаете? Интеллект можно заострить и самым наилучшим образом приспособить для достижения всяких благ — взять себе все, что только можно взять от жизни. Душа же требует другого, уверяет мой муж. Он у меня философ. То есть, вы понимаете, если интеллект приобретает, то душа, наоборот, все раздает, все, что есть лучшего в человеке, самые лучшие чувства: доброту, любовь, сочувствие, сострадание; все, что только есть у человека, — все раздает людям. С точки зрения здравого смысла человек все теряет. На самом же деле он приобретает весь мир. Понимаете? — с печальной доверительностью спрашивает она и тихо улыбается. — Это трудно понять, но это так. Я поняла однажды и теперь знаю, что счастливее человека, чем мой муж, нет на свете. Такой уж он у меня философ! Ничего не поделаешь…
Мария Александровна Хуторкова в странной задумчивости рассматривает вас с ног до головы, словно бы оценивая, на что вы способны, и делает это с такой доверительной улыбкой, с такой подкупающей откровенностью, какая, наверное, свойственна только женщинам, выросшим в обществе мужчин, или, вернее, тем из них, у которых в семье «все вояки».
Когда она рассказывает о своем муже, нельзя не позавидовать человеку, счастливому хотя бы уже потому, что его любит милая женщина, обладающая удивительной и редкой способностью тихо радоваться на людях своему загадочному и непонятному счастью, которым переполнена вся ее душа и которым она готова словно бы поделиться с каждым, кто только попросит у нее этого счастья. Но при этом она и не забывает посмеяться над мужем, над его житейскими неудачами, да и над своими тоже, очаровывая всех своей искренностью и таинственным умом, которым она как будто бы все время недовольна и старается как можно глубже упрятать его в смеющихся серых глазах или в нарочито откровенном рассказе о своей жизни, перипетии которой она всячески старается оглупить и осмеять на людях.
Нас случайно свела с ней одна научная конференция, о цели которой говорить, по-видимому, не имеет смысла: не о ней сейчас речь. Но каждый из нас ехал на эту конференцию с огромным интересом и, конечно, удовольствием, потому что состоялась она в одной из столиц Средней Азии, называть которую я тоже не хочу, чтобы не тревожить и не вводить напрасно в заблуждение очевидцев этой встречи. Мы улетели от сильных морозов, и мало кто из нас ожидал очутиться вдруг в сияющем солнцем, теплом, тихом декабре, когда даже в пиджаке бывало иной раз жарковато; мало кто из нас мог поверить в чудо этого переселения в рай, где цвели еще розы на газонах; упруго и кипенно-бело бурлили на фоне голубого неба тяжкие струи фонтанов; жужжали липкие пчелы над рыночными рядами, заваленными дынями, туманным виноградом, яблоками, грушами и великим множеством вяленых и сушеных плодов, не говоря уже о ярких цветочных рядах или о темно-зеленых развалах глянцевых арбузов, грудами лежащих на грязном асфальте. Один расколотый арбуз, я помню, был битком набит пчелами, и, казалось, нутро его смолянисто-коричнево шевелилось, отпугивая покупателей, которых успокаивал продавец, уверяя, что пчелы пьяны от сытости и не могут никого укусить.
Все мы были словно бы тоже пьяны, как эти пчелы. Мы любили друг друга и всех людей, встречавших нас в этом теплом городе, — мы чувствовали себя счастливцами, сумевшими перехитрить самое природу, и радовались этому всяк по-своему, не переставая удивляться и между тем знали, что мы все равно не успеем наглядеться на этот странный декабрь, которого никогда еще ни у кого из нас не было в жизни и который вряд ли когда-нибудь еще повторится. Об этом мы тоже все время помнили, грустя по быстротечности обманутой нами жизни, по случайности всего, что окружало всех нас.
Именно этот нервный сбой, ощутимое несовпадение двух настроений, радости и грусти, в которых все мы пребывали, наложило, видимо, свой отпечаток на наши отношения: мы как бы не могли уже жить друг без друга, не в силах в одиночестве перенести груз сильнейших впечатлений.
С аэродрома нас увезли в пригородный неуютный дом, назначение которого так бы и осталось для нас тайной, если бы не одно маленькое обстоятельство.
Барачного типа постройка легла буквой «П» на окраине большого яблоневого сада. Над домом высоко в небо светло и напряженно возносились огромные платаны, храня еще ржавые листья на своих ветвях. Тяжелые их стволы казались высеченными из серого гранита тумбами, подпирающими хлипкие стены оштукатуренного голубенького дома. Крыша и вся земля вокруг — все было устлано скрюченными и крупными коричневыми листьями, которые громко шуршали под ногами, гремели в настороженной тишине. Чудилось невольно, будто кто-то живет в этих громоздящихся друг на друге сухих листьях, кто-то там ползает или быстренько и пугливо пробегает, прячась от наших глаз. Проскользит ли неуловимая воздушная струя над землей, упадет ли лист с платана — земля тут же отзовется шорохом. Хотя, впрочем, в яблоневом саду, оголенном и корявом, под свинцово-серыми деревьями жили мыши, и мы часто видели их и слышали шорох листьев, который рождали они.
Расселили нас в этом доме по-царски, возместив частично те удобства, которых мы лишились и которые достались нашим более высокопоставленным товарищам, поселенным по особому списку в гостиницах города: каждому из нас предоставили отдельную комнату с тремя пружинными кроватями, одним столом, двумя стульями и шкафом. Голые стены были небрежно окрашены в тот же холодный голубой цвет, что и сам дом. И более того! Когда я хотел проверить, горит ли свет в потолочном плафоне, я, к удивлению своему, не нашел выключателя. За окном, затянутым снаружи мелкой металлической сеткой, предназначенной, видимо, для спасения от насекомых, было светло и солнечно, но в комнате стояли сумерки, как будто с потолка свисала серая паутина. На стене возле окна чернели дырочки закрашенной розетки, но выключателя нигде не было.
Черт знает что! Поставили плафон, ввернули лампу, а выключатель забыли? Не может же быть! Но как тогда понимать все это? Выключателя-то нет!
Хозяева, встретив гостей на аэродроме со списком в руках и поселив нас, избранных, в этом странном доме, в котором теперь пахло острой подливкой и жареными котлетами, исчезли до утра, пожав нам всем с радушной улыбкой руки на прощанье и обещав приехать за нами на автобусе ровно в девять. Кому теперь жаловаться? Где искать справедливости? Зачем нужны эти три кровати, если в комнате нет даже света?
— Черт побери! — раздраженно сказал я, выйдя в коридор. — А где же тут включается свет?
В комнате напротив приоткрылась дверь — там горело электричество! Я увидел женщину, которая ехала с нами в автобусе и которая смотрела в окно с такой же удивленной улыбкой, с какой она теперь взглянула на меня, словно увидела перед собой еще одну достопримечательность Средней Азии.
— Как это вам удалось? — спросил я, кивая на плафон. — У меня нет выключателя.
Она молча протянула руку и щелкнула выключателем, вынесенным из комнаты в коридор. Свет погас. Она снова щелкнула, и свет зажегся.
— Это пионерлагерь, — сказала она. — Когда трубят отбой, дежурный идет по коридору и выключает свет, понимаете? Чтобы дети спали… Не все ли равно? — добавила она и как-то так хорошо, так открыто и до глубины души обнаженно посмотрела на меня, что мне и в самом деле стало все равно.
В этом доме была столовая, где мы завтракали, обедали и ужинали за счет министерства нашей, как мы смеялись, хитрой промышленности. Это было, конечно, большим удобством, и никто из нас не завидовал товарищам, поселившимся в гостинице. А то обстоятельство, что мы жили в пионерлагере, вдали от города, до которого всегда можно было добраться на рейсовом автобусе, проходившем в километре от нашего дома, еще больше сблизило нас, словно бы мы сами на время стали детьми, но только с той существенной разницей, что среди нас не было старших, которые ходили бы по коридору и гасили в комнатах свет. Нам вообще не хотелось спать, мы дурачились по вечерам, пили украдкой то в одной, то в другой комнате вино, рассаживаясь на пустых скрипучих кроватях, хохотали, веселясь до полуночи, пили зеленый чай у женщин, которые жили с нами в «дурдоме», как мы прозвали свое жилище, ночью гуляли по тихому, мертвому саду, слушали, как журчит арык в темноте, и далеко за полночь расходились по своим комнатам. Было одно лишь неудобство в нашей жизни: то ли надо было раздеваться в полной темноте, то ли выползать в коридор раздетым, чтобы погасить свет в комнате. Но и это тоже веселило нас!
— А вы знаете, — говорит мне Мария Александровна, волоча ноги по шуршащим листьям, — я своего мужа чуть ли не силком женила на себе. Он очень застенчивый человек. «Славик, нет, ты обязательно приходи, — передразнивает она самое себя, изображая свой давнишний разговор с ним по телефону тягучим, умоляюще ноющим голосочком. — Ну как же так, не придешь?! Ты обязательно должен прийти! Нет, Славик, нет… Обязательно! Славик! Славик, обязательно приходи, а то я обижусь на тебя. Обязательно, слышишь? Обязательно приходи, и все». — Она смеется, окончив это маленькое представление, и говорит: — Я бросала трубку, и он приходил и не знал, как вести себя от смущения. Он все время думал, что я смеюсь над ним: боялся подвоха с моей стороны. Я его возьму под руку, а он посмотрит на меня так, будто я его сейчас укушу до крови. Я его даже поцеловала в первый раз сама — он бы никогда не решился.
Она берет меня под руку, когда мы далеко уходим в глубину черного сада, в котором такая стоит тьма, что кажется, блесни глаз мыши, и то станет чуточку посветлее, — бархатный стоит мрак перед нашими напряженными глазами, будто мы потеряли зрение. Ей страшно в этой тьме, и она жмется ко мне. Но, как ни странно, я понимаю, я чувствую, что это страх заставляет ее покрепче прижаться к моей руке, что это вовсе не то, о чем я невольно думаю, ощущая скользящие прикосновения ее груди и бедра.
Небо дымится от звезд, ярких и огромных, маленьких и ничтожно крошечных, собранных в туманности, в какие-то неясные мазки, завихрения, пятна, полосы, протянувшиеся через весь небосклон. А главное — отчетливо видно, какая звезда ближе к нам, какая чуть дальше, а какая совсем далеко, в безумном отдалении от нас сияет в пространстве. Глаза словно бы приобретают в этой ночи стереоскопичность зрения. Я уже давно не видел неба так объемно, а может быть, вообще впервые вижу такое яркое небо. Странно, что его свет не доходит до земли, которая как будто бы утонула в глухой и темной саже, а мы на ощупь идем по тропе, только по шороху листьев и по мозолистой прочности тропы под ногами понимая, что не сбились с пути.
Мария Александровна боится молчать и говорит торопливо и громко:
— Какая у вас мощная рука. А у мужа, вы знаете, такие худющие, что рукава пиджака наполовину пустые, даже больше, чем наполовину, на две трети, наварное. Но знаете, он очень сильный, как ни странно, — говорит она взволнованно и как будто испуганно. — Жилистый и сильный — это бывает! Я знаю многих мужчин, которые на вид слабые, а на самом деле очень сильные и выносливые. Он, например, может за день пройти пешком километров сорок, набрать полную корзину грибов и тащить ее еще километров десять до станции, а потом придет домой и принимается чистить грибы, сортировать их — которые для солки, для супа или для жарехи. А корзина, знаете, какая тяжелая! Мне ни за что не поднять.
Я говорю ей что-то насчет того, что мне не грех немножко похудеть, бормочу невнятную какую-то ерунду, а она соглашается со мной.
— Может быть, вы и правы, — говорит она с сочувствием в голосе. — Но тут уж я не судья. А вы знаете! — восклицает она и умолкает вдруг, словно бы переполняясь каким-то несказанным чувством восхищения, которое ей самой непонятно и для выражения которого у нее нет сейчас слов. Слышно только, как она загребает ногами сухие листья, делая это, наверное, для того лишь, чтобы не слышать посторонних мышиных шорохов, пугающих ее.
— Нет, не знаю ничего, — бубню я насмешливо. — Ничего не знаю. Знаю только, что никогда не видел таких ночей, а особенно в декабре, и никогда не увижу…
— А я хотела сказать, — говорит она с придыханием в голосе, — что, знаете, теперь вот и мне тоже понятно… Я думаю, что понятно! Хотя это, конечно, домыслы пустые, но, понимаете, я вдруг представила себе, или, вернее, поняла вдруг, почему Азия славится своими древними философами и звездочетами. Если бы я родилась под этим небом, которое всегда открыто, всегда или почти безоблачно, я бы тоже, наверное, была бы совсем другой. Я бы, может быть, совсем по-другому смотрела на людей, думала бы о них иначе… А этот сад — он когда-нибудь кончится? — остановившись, спрашивает она с усмешкой. — Мы идем и идем… А вообще-то, вы видите что-нибудь? Я ничего не вижу. Может быть, и нет уже никакого сада?
В эту ночь мы пришли домой к запертым дверям и с трудом достучались, разбудив сердитую старушку, перед которой мы были, наверно, виноваты, потому что даже не пытались оправдаться перед ней, слушая ее ворчанье за дверью.
Мария Александровна, пряча от нее лицо, тенью скользнула в мерклом свете ночной лампочки и скрылась в темноте коридора, проглоченная его скрипучей, душной пастью.
В этом пересохшем доме скрипело буквально все: скрипели двери, кровати, стулья, столы, оконные рамы, дверцы шкафов. Но ничто не могло сравниться с визгливым и жутким, хищным скрипом половиц в коридоре, словно эти половицы специально были уложены так, чтобы всякий нарушитель дисциплины, посмевший выйти из комнаты в неурочный час, был бы тут же обнаружен и выслежен чутким ухом блюстителя порядка. На этот раз нарушителями оказались мы с Марией Александровной, и я заметил с удивлением, каким детским испугом исказились ее блеснувшие во тьме глаза, когда она, воровато оглянувшись, увидела в тусклом освещенном конце коридора согбенную старушку в белом халате, слушавшую перевизг наших шагов.
— А вы знаете, — с тихим восхищением говорит Мария Александровна, когда мы возвращаемся к дому, к одинокому огоньку далекой лампы фонаря, — у моего мужа, можете себе представить, жив еще дедушка. Девяносто четыре года, а он сохранил память, ходит и даже иногда приезжает к нам в гости понянчиться с правнучками. А их у него четыре: три наших и одна от дочери, сестры моего мужа. Моя младшая боится его ужасно! У дедушки нет зубов, он все время жует что-то, нижняя челюсть мнется, как резиновая, лицо сплющивается, подбородок чуть ли не к носу подпрыгивает, и нос тоже вздергивается, кончик носа тоже как будто резиновый — прыгает вверх-вниз. Наша семья считается многодетной, а дедушка машет рукой: вот у нас, дескать, была многодетная, сам-десятый, а у соседа всего пятеро было, отец, мол, говорил: чего ему не жить — всего пять ртов. Машет рукой и ругается, когда мы жалуемся. Не то чтобы жалуемся, — объясняет Мария Александровна, — а просто заботимся. Ну вот, например, комната наша. Понимаете, комната в старом доме без удобств, два окна и балконная дверь. Сорок шесть квадратных метров! Представляете себе! Вроде бы хорошая комната, получается на каждого по девять с лишним метров, то есть санитарная норма. Ни о какой очереди на квартиру и думать не приходится. А кооперативная — это не для нас… В комнате сплошные окна и двери, понимаете? Ничего нигде не поставишь. У мужа столько всяких картин, подрамников! Все стены в картинах. И на шкафу картины, и за шкафом, и даже под нашей софой — везде. А еще мольберт, этюдники, кисти… Я, например, даже сплю вместе с дочерьми. У нас огромная софа, и мы все на ней, как зверята. А муж на ночь посреди комнаты раскладушку ставит. Представляете себе жизнь! — Мария Александровна неуверенно как-то смеется, словно сама не верит в то, что говорит.
Свет фонаря, который будто бы живет в этой ночи сам по себе, не для людей, не для нас, а ради какой-то своей, непонятной нам цели, — свет этот начинает лепить во тьме объемы деревьев, смутно обозначая ветви, неровности засыпанной листьями тропы, которая кажется изрытой черными ямами, бездонными провалами. Мария Александровна как бы нечаянно отстраняется от меня: ей уже не страшно, хотя она и продолжает шуршать листьями.
— Ну вот, — говорит она с виноватой усмешкой, — рассказываю вам всякую чепуху, а вы молчите, как будто так и надо. Это у меня, знаете, на нервной почве, наверное. Я записалась в прения, дадут ли слово — не знаю, — но трушу ужасно. У меня в этом смысле опыта никакого, а выступать надо. Вот ужас-то! Это муж меня уговорил, чтобы я ехала: поезжай да поезжай, расскажешь потом о Средней Азии, отдохнешь лишний разок. Конечно, разве сюда соберешься когда-нибудь?! Ох, если бы он сам сюда попал! — восклицает Мария Александровна и смеется. — Такие краски! Столько света! А вы заметили, между прочим, тут так сухо, что листья совсем не пахнут, только шуршат — нет осенних запахов. Странно, правда? Совсем не похоже на нашу осень. Ну-у! Если бы он… он просто бы счастлив был, конечно. Мне даже жалко его. Вернее, обидно, что все это вижу я одна, а он, художник, сидит сейчас с детьми, варит им обед, укладывает спать, понимаете меня? Какая-то вопиющая несправедливость, нелепость какая-то! Ужасно жалко. Правда, девочки у нас тихие, некапризные, старшей уже девять лет, она самостоятельная и сумеет помочь, конечно, отцу, но вот младших в садик надо отводить каждое утро, а он у меня трудно просыпается по утрам. У нас, знаете, порядок такой выработался: первой просыпается старшая, встает, одевается, зажигает маленький свет. Я все это слышу, но еще сплю, пока не проснется средняя. Она в папу пошла — любит поспать. Тоже оденется, умоется, и обе они свои игрушки начинают будить ото сна, разговаривают с ними, одевают, кормят, хотя сами еще голодные… Я оттого, наверное, и привыкла с улыбкой всегда просыпаться и вообще легко просыпаюсь. Вот только муж ужасный соня. Сама ж я каждое утро мучаю себя всякими упражнениями. И вы знаете, вот вы говорите, что вам похудеть надо, а ведь можно заниматься гимнастикой, не вставая даже с постели. Я, например, выгибаюсь лежа, качаю брюшной пресс, гнусь по-всякому, и так и эдак, до испарины. Младшая тоже проснется, смотрит на меня, что это, мол, мама делает? И сама тоже ножонки вверх-вниз, вверх-вниз…
Мария Александровна заливчато смеется, и в смехе ее, единственно живом звуке в этом оцепеневшем мире, в этой непостижимо странной декабрьской ночи, слышится соловьиный цокающий бой. Ночь настолько тепла, что ни я, ни она ничуть не зябнем, одетые почти по-летнему: на ней шерстяная кофточка, а на мне свитер.
Лицо ее кажется смуглым в смутном свете фонаря и неясно красивым. Эта молодая, сильная женщина, родившая троих детей, создает впечатление какой-то необъяснимой, именно неясной, ускользающей и словно бы непостоянной красоты. Красота эта таится во всем: в движениях, в голосе, в изгибах тела, в походке, в доверительных взглядах и даже в ранних морщинках, которые не от горя легли, а как бы остались от улыбки, — они, как тень от листвы в жаркий полдень, — живая, трепетная сеточка вокруг глаз, придающая лицу выражение добродушной смешливости, даже если лицо это печально, задумчиво.
Ночная старушка тренированным своим ухом могла, наверное, убедиться, что мы разошлись по разным комнатам. Я лежал с погашенным светом на скрипучей кровати, которая была мне коротка, и сознание того, что я не могу протянуть руку и включить электричество, угнетало меня. В мучительной бессоннице я благодарил небо, что мне уже никогда не придется переживать ужасное и чудовищно бесправное время, называемое детством, которое почему-то принято считать счастливой порой жизни. Во мне бесился и бунтовал проснувшийся ребенок, охраняемый согбенной старушкой и темнотой. Каждый мой вздох мог быть услышан ворчливой старушкой и зафиксирован в ее сознании. Я проклинал злодея, который придумал наружные выключатели, пытался успокоить себя, что все это временно и скоро кончится, как кончилось когда-то мое детство.
Я старался думать о завтрашнем дне, о делах, но какая-то тупая сила возвращала меня к смешному моему положению, к ночной прогулке по темному саду и терпеливому молчанию, которое, видимо, располагало к откровенности, смущавшей меня теперь, будто я случайно, как ночная старушка, подслушал все это, подсмотрел ее жизнь в замочную скважину. Воображение не давало мне покоя: я видел Марию Александровну, лежащую с раскинутыми руками среди спящих детей, видел счастливую улыбку матери, просыпающейся под воркующие голоса играющих девочек, пытался представить пластику ее гибкого тела.
Я не мог понять самого себя.
Мне не терпелось дождаться утра и снова увидеть женщину, не устающую с таким искренним восхищением рассказывать о своем муже, точно неудачливый этот художник — звезда первой величины и каждому смертному необходимо знать о подробностях его жизни.
Но я снова слышал ее удивленный и насмешливый голос:
— Что ж это я так разболталась! Это и в самом деле, наверное, от волнения. Мне, конечно, никто не даст слова, до меня просто не дойдет очередь — остался всего лишь один день, а вернее, всего только полдня. Завтра после обеда заключительная часть, и все… Я просто не успею. Но вот что удивительно! Я как будто и радуюсь, что не придется выступать, а самой все равно обидно. До чего ж смешон человек! Вы верите в бога? — неожиданно спрашивает она, когда мы подходим к гулькающему в потемках арыку. Свет фонаря желто озаряет маслянисто-черную воду, окрашивая ее бегущее, ртутное непостоянство, скользящие наплывы бронзой, которая тускло мерцает у наших ног. Кто-то, шурша в траве, прыгает, шлепаясь в воду, наверное, водяная крыса. Мария Александровна с аханьем хватает меня за руку. — Кто это? — спрашивает она, забыв о боге. — Кто это, а?
Какие-то черные пятна скользят на рябящей бронзой, беспокойной воде, и кажется, будто это купаются крысы, ныряют и вновь появляются на поверхности, рассекая ее черными мордочками, рождая зыбкую, складчатую, разбегающуюся рябь.
— У мужа есть, между прочим, несколько странных картин, — говорит Мария Александровна, когда мы садимся с ней на прохладную плаху скамейки, врытой в землю под каменным платаном. — На одной изображена новенькая, как будто хрустящая трешка, зелененькая, чистенькая, чуточку смятая… Именно эта трехрублевка на мелкой осоке. Осока бурая, осенняя, а между стеблями серая вода… Странная картина! Трешка выписана так, будто это фотография. А на другой картине изображена мутная вода, белесая от мыльной пены, и в этой мутной воде две руки, две кисти, сложенные как бы в пригоршню, и огромные судаки, которые плывут к этим рукам… Понимаете? Такая вот глупость, а он уверяет, что это все было с ним наяву… Он когда-то в юности охотился с друзьями на зайцев. Среди поля увидел кустарник и пошел туда, а в кустарнике болотце. Зайцев там не было, но из болотца вылетел дупель. Мой муж говорит, что было слишком поздно для дупелей, они уже давно откочевали на юг, этот, наверное, остался, потому что больной был или подраненный. Муж выстрелил и промахнулся. А дупель, это кулик такой болотный, перелетел осочку и сел в кустах. Муж туда. И опять выстрелил, когда птица поднялась, и снова промахнулся. И так он стрелял раз шесть, а дупель никуда не улетал. И вот муж опять пошел к тому месту, где сел дупель, чтобы еще раз выстрелить. Подходит, а птицы нет. То есть птица не взлетает, хотя он хорошо заметил место, где сел дупель. И вдруг видит эту трешку, — говорит с тихой и удивленной усмешкой Мария Александровна.
— Он поднял ее, она совсем новенькая, даже не намокшая от дождя, лежит на остриях густой осочки, как будто ее только что положил тут кто-то. Взял эту трешку, положил в карман, обрадовался находке, а про дупеля забыл, как будто его и не было. Понимаете, какая жуткая глупость? Он кому ни рассказывал, никто ему, конечно, не верил… А я-то верю ему! Он не умеет врать, понимаете? А другой случай вообще удивительный. Он ловил рыбу на Рыбинском море. Ловил с лодки, но ничего особенного не поймал. День был жаркий, знойный. Муж причалил к берегу, потому что рыба совсем перестала клевать, взял туалетное мыло, свесился с кормы и стал мыть руки. И вдруг — судаки… Огромные, бронзовые, колючие, с белоснежными брюхами… Сначала один, как пьяный, вышел из глубины и стал глотать мыльную пену, подплыл к самым рукам, стал, как кошка, ласкаться, тереться об руки, а сам то боком повернется, то кверху брюхом, то колючку свою выставит из воды. Представляете себе картину? Муж растерялся. Взял одного, перевалил в лодку, а к рукам уже второй подплывает… Он тогда шесть штук таким образом поймал, но потом их всех выпустил, потому что, конечно, испугался — не больные ли рыбы. Да и вообще! Он тогда вернулся домой заросший щетиной, худющий, с провалившимися глазами, сумасшедший какой-то. Рассказал мне все, я не поверила, конечно, а он накричал на меня и обиделся: что ж я, дурак, что ли? сумасшедший? Потом я поверила. Он в таких подробностях все рассказывал своим друзьям, которые тоже, конечно, не верили ему, с такой настойчивостью доказывал свою правоту, что не поверить ему было просто невозможно. Он даже описал все это и отправил письмо в какой-то ихтиологический институт, ждал ответа, но так и не дождался. Никто ему не верил, кроме меня! Ну никто ровным счетом. Только теперь вот, совсем недавно поверили, но это уже по другому поводу. Это вообще какая-то таинственная история…
…Я сама ничего не могу понять. Теперь, знаете, все наоборот, теперь мы уже сами не рады, что рассказали людям, потому что теперь все пристают к нам: расскажите, как это было, — расспрашивают, удивляются, поражаются… И вот что странно — верят! Хотя должна вам сказать, случаи с рыбами или трешкой вполне объяснимы и ни в какое сравнение не могут идти с этой поразительной совершенно историей. Но тому не верят! Не верят в то, что вполне возможно и в конце концов реально. Взять, например, случай с рыбами, который никто без улыбки не может слушать. Вы, наверное, тоже мыли когда-нибудь руки на речной отмели, возле песчаной какой-нибудь косички, уходящей в воду, ну, например, в верховьях Москвы-реки. Помните, сколько всяких мальков скапливается в душистой струе? А почему бы вдруг в какой-то определенный период жизни, в какой-то особенный час, при каких-то определенных погодных условиях и большие рыбы, хищники, тоже не пришли бы на запах туалетного мыла?! Ну почему это, спрашивается, невозможно? — Мария Александровна нервно смеется и пытливо рассматривает меня: верю я или нет, с усмешкой слушаю или с интересом. — Вот в том-то и дело! — говорит она, убедившись, наверное, что я соглашаюсь с ней вполне искренне и не таю иронии. — Вы знаете, я начинаю думать, что людям свойственно вообще заблуждаться насчет своих умственных способностей: чем невероятнее история или какой-нибудь случай, тем больше людей верит в возможность этого случая. И наоборот, какое-нибудь чудесное явление в повседневной жизни, какое-нибудь маленькое чудо, которым можно только восхищаться и без которого вообще трудно представить человеческие будни, кажется людям враньем и неправдой, игрой воображения, мистикой или даже глупостью, болезненным видением, результатом нервного сдвига и чуть ли не сумасшествием… Почему так происходит? Это, знаете, одна моя девочка, старшая, очень рано научилась говорить и вот однажды увидела впервые из окна нашей комнаты уличные фонари и спрашивает: «Мама, что это там у людей?» Понимаете, «что это там у людей?» Как будто сама она из клана богов — эдакий гений, который, знаете, не тень, а свет отбрасывает… Я ей тогда, помнится, сказала, что это великое чудо, там у людей — электрические фонари. А нам теперь подавай что-нибудь планетарное, тогда, может быть, еще заинтересуемся…
…Странно все это и неприятно, — говорит Мария Александровна и торопится снять мягкой усмешкой волнение, которым она явно недовольна, как бывает недовольна мать слишком разыгравшимся ребенком. — Но если, конечно, рассуждать по системе два «п», знаете? — говорит она с неожиданной и нарочитой грубостью. — Палец в нос, глаза в потолок, — то все, разумеется, можно подвергнуть сомнению. Если бы я, например, очень захотела верить в бога, то у меня ничего бы не получилось. И знаете почему? Потому что идея бога не несет в себе хотя бы чуть заметной, невнятной усмешки, или, вернее, улыбки, элемента игры… Понимаете? Все эти мои домыслы построены тоже по системе два «п», конечно, но все-таки… Идея эта бесчеловечна. Мой муж не верит в бога, но он по сути своей утопист — верит в чудо исцеления искусством, воображением… Понимаете? — спрашивает Мария Александровна, и опять над арыком раздаются соловьиные раскаты ее смеха. — Я ж говорила вам, интеллекта у него не хватает! Он вообще в последнее время какой-то странный. Поработает, поест, выйдет на балкон и часа два стоит как вкопанный, смотрит куда-то… Слав, говорю, пойдем погуляем. А он с раздражением: «Я устал, дайте отдохнуть». Я даже побаиваться стала за него. А во всем виновата игра воображения — он слишком уж серьезен, слишком, я даже не знаю, как это объяснить, — чересчур все у него в жизни! Вот именно: все у него чересчур, хотя, знаете, все не так уж и просто!..
…Однажды я уснула, как всегда, но слышу вдруг, что в комнате или за дверью, где-то рядом со мной, разговаривают странные существа, язык которых я хорошо понимаю, хотя сами они мне непонятны. Слышу: «Ничего, мы никого не разбудим, мы и так пройдем, сквозь стену…» А другой, их двое было, соглашается, что, мол, ладно, хорошо. И такая у меня тревога на душе! Лежу и как будто бы сплю, но понимаю, что это не сон, а что-то другое, что в комнате у нас кто-то есть, но сама не могу ни проснуться, ни шевельнуть рукой, ни закричать от страха… Не знаю, сколько времени это продолжалось, только вдруг вижу: в комнате горит свет, а надо мной стоит муж и смотрит на меня с каким-то жалким, испуганным и виноватым выражением на лице, словно прощения у меня попросить хочет за что-то. «Ты чего?» — спрашиваю. А он говорит: «Ты знаешь, то ли сон какой-то, то ли что-то другое, но я с кем-то разговаривал сейчас… кто-то к нам сейчас приходил…» И протягивает мне какую-то бумагу: вот, говорит, формула. А сам улыбается как дурачок. Я чуть не умерла от ужаса! — полушепотом говорит Мария Александровна, и я понимаю, что она уже не впервой рассказывает эту ночную историю о маленьких людях, излучавших энергию, похожую на ту, какую несут в себе провода высоковольтной линии: вокруг этих маленьких существ якобы все время раздавался потрескивающий, зудящий, как из растревоженного улья, звук.
Мария Александровна рассказывала о подробностях этого посещения таким таинственным тоном, что мне даже стало казаться, будто она во что бы то ни стало хочет напугать меня фантастическим сном, в котором, может быть, одно лишь обстоятельство было в самом деле загадочным. Муж ее записал на бумаге бессмысленную формулу какой-то невероятной, неизвестной на земле энергии, о которой сообщили таинственные посетители. Ничего не зная о современной физической науке, не изучая этого предмета, он каким-то странным образом нарисовал на бумаге символы, употребляемые современными учеными-физиками. Символы были начертаны неумелой рукой художника, как бы срисованы второпях, воспроизведены по памяти. Загадка заключалась в том, что этот человек, у которого, как, смеясь, говорила Мария Александровна, не хватало интеллекта, действительно никогда не имел дела с физикой или с какими-либо точными науками, зная обо всем этом гораздо меньше любого ученика средней школы, потому что в свое время ушел из восьмого класса в художественно-промышленное училище, а потом в художественный институт, где точным наукам не было места.
Мария Александровна добилась своего: мистический холодок закрался в мою душу и подтолкнул воображение. Этому в немалой степени, конечно, содействовала обстановка, в которой велся рассказ: журчащая в тишине черная вода арыка, отразившая желтый свет фонарей; каменная замшелость платана над нами, с вершины которого в мертвой тишине падали вдруг, пугая нас своим шорохом, листья. Шорох этот рождался где-то в звездах, в космических каких-то туманностях неба, усиливался, пока скрюченный лист падал вниз, задевая за ветви и за другие умирающие листья, и наконец с хрустом ложился в пересохшие листья на земле. Кожа моя всякий раз холодела от щекотного ужаса, с которым я легко справлялся, говоря себе, что это всего лишь сухой лист летит, а не таинственные существа из космоса, о которых рассказывала Мария Александровна. Она сама тоже испытывала, видимо, что-то похожее, потому что умолкала, прислушиваясь к небесным этим шорохам, улыбалась, взглядывая на меня вопросительно, и продолжала свой рассказ полушепотом, зябким каким-то и очень взволнованным голосом.
Со стороны могло, наверное, показаться, если бы кто-то подглядывал в это время за нами, что она мне то ли в любви своей признавалась, то ли упрекала меня в чем-то, — так задушевен, интимен был тон ее голоса, так близко от моего лица были ее удивленные, испуганные глаза, которыми она беззвучно как бы спрашивала меня все время: «Верите мне? Понимаете?» — испытывая словно бы страдание при мысли, что я не верю и не понимаю ее.
Я же кивал утвердительно, внимая ее рассказу, и меня била нервная дрожь, с которой я уже не в силах был справиться. Сомневаюсь, что эта дрожь рождена была во мне ее «страшным» рассказом! Слишком близко была она сама, неземное это, как мне казалось, существо, посетившее меня в звездную азиатскую ночь теплого декабря. Я не знаю, что было фантастичнее — ее рассказ или наше объединенное усилие понять нечто непонятное, нечто такое, к чему не было для нас обоих обычного пути. Мы оба остро чувствовали это и, может быть, инстинктивно искали окольных путей: она, рассказывая о своем муже, а я, внимательно слушая ее, — оба мы пытались таким странным образом прийти друг к другу.
— А вы знаете, — слышу я таинственно-страстный звук ее голоса, — ведь это все действительно очень непонятно! Он никогда в жизни не любил и не изучал физику, даже в том объеме, чтобы знать хотя бы символы эти, которые он никогда не писал своей рукой. Он даже не знал графического начертания этих символов, понимаете? Я точно знаю! Можете мне верить…
Гибкий ее и очень послушный голос почти неслышен, так тихо она говорит, так близко ее лицо. Но голос ее переливается при этом всеми оттенками чувств, какие она вкладывает в свою речь, — я как будто слышу озвученное дыхание этой женщины, как будто бы очень чуткий радиоприемник доносит до меня почти не искаженную шепотом эфира тихо звучащую волшебную музыку.
— Уверяю вас, — говорит она с искренней мольбой в голосе, — я ничего не придумала. Мы оба видели один и тот же сон, а в результате — это глупое подобие формулы. Мне самой очень жаль, что это случилось с нами. — И она прикасается к моей руке холодными своими пальцами в знак полного доверия. — Мне самой все это не нравится, и я нарочно рассказываю это всем, чтобы не было на душе ощущения какой-то пошлой тайны. Жду все время, что люди посмеются над моим рассказом, но все наоборот — они мне верят и даже советуют показать эту формулу какому-нибудь серьезному физику или математику. Фантазируют, придумывают бог знает что, уверяют, что это какая-то инопланетная цивилизация налаживала контакт с моим мужем, — Мария Александровна снова смеется, откидываясь и глядя с шутейной мольбой в небо. — Боже мой, какие глупые люди! А если и налаживали, то не на того напали. Не на того! — говорит она в радостном удивлении. — А дурачок мой поверил во все это и теперь вот отдыхает на балконе. Совсем законтачился! Можете себе представить: взрослый мужчина стоит на балконе и смотрит в небо. Это же очень смешно, — говорит Марии Александровна, переставая смеяться. — Это очень смешно, — повторяет она. — До того смешно, что я сама стала задумываться: а может быть, действительно налаживали? Ужасно неприятное чувство, когда люди, много людей, уверяют тебя, что это так, то есть не то чтобы уверяют, а сами верят в реальность этой истории. Тут невольно подчиняешься гипнозу, этой явной ошибке и начинаешь тоже верить… Я даже не знаю, если бы нашелся человек, который вдруг не поверил бы теперь во все это, я стала бы доказывать ему, что это правда. И ничего не могу поделать с собой, потому что не в силах объяснить, как это все случилось — одинаковый сон и эти символы. Я все это очень не люблю! А приходится мириться с этим. Вот в чем ужас! Столько обыкновенных чудес вокруг, столько радости в жизни, ну вот, например, этот декабрь, эта ночь и мы с вами, совершенно незнакомые люди, этот арык — разве это не чудо?! Нет, все-таки страшно, когда человек ко всему привыкает и ничего этого не замечает. Мне теперь, знаете, приходится самой себе тоже доказывать, что жизнь наша в любом ее проявлении, в простом дыхании даже, в движениях, в способности видеть все — тоже великое чудо! Раньше я просто жила, просто радовалась, просто рожала детей, любуясь каждой своей девочкой, как небывалым чудом, а теперь — ужасно! Какие-то иноземные цивилизации лезут в голову, какие-то формулы… И с мужем что-то непонятное происходит… Я теперь сама себе доказываю, что жизнь наша такая радость, так она в общем-то быстротечна и беззащитна, что ее просто обожествлять надо, ценить каждый ее миг. Я понимаю, могут сказать, а как же борьба — это ведь главное проявление жизни. Все правильно! Я и за то, чтобы не только обожествлять, не просто ценить все подряд — я за противоречия жизни, я за борьбу. Но разве сам человек не противоречив? Взять, например, инстинкт и совесть — два начала. Человек извечно противоречив, и в нем самом все время происходит борьба инстинкта и совести. Неужели мало этой борьбы? Может быть, и мало, конечно, я понимаю, но я совсем не о том… Я о самой жизни, об этом повседневном чуде, понимаете? И вообще — не о том, не о том, не о том… Заболталась, — говорит Мария Александровна и грустно усмехается. — А вдруг завтра скажут: слово предоставляется Хуторковой?! — спрашивает она с пугливым недоумением и, вскинув голову, заглядевшись в небо, прислушивается к тихо падающему, стукающемуся об ветви и листья шуршащему листу.
Я долго улыбаюсь, сдерживая озноб, и невольно думаю о той борьбе, о которой только что сказала Мария Александровна: она во мне сейчас в разгаре, и я не знаю, что победит — инстинкт или совесть.
Но победили обстоятельства: согбенная старушка с мучнисто-белыми ушами, скрипучие половицы, наружные выключатели — повседневное то чудо, о котором говорила милая Мария Александровна.
После закрытии конференции, на которой так и не удалось Марии Александровне выступить в прениях, вечером был авиарейс до Москвы, и она улетела, заторопившись к своему мужу со «зверятами», по которым, наверное, очень соскучилась и перед которыми чувствовала себя виноватой, потому что никто из них — и особенно муж! — не видел и никогда не увидит, если не представится случая, Средней Азии в декабре месяце.
Я же остался до утра, не в силах улететь от банкета, на который мы все были приглашены. В том числе, конечно, и Мария Александровна Хуторкова, пренебрегшая щедрым угощением ради непонятного мне счастья увидеть мужа и детей раньше, чем увидят своих мужей, жен и детей другие участники конференции. Улетела, чтобы со слезами умиления смотреть на своих тихих девочек, впивающихся зубами в сочную и душистую прохладу распластанной дыни, вытирающих мокрые подбородки, облитые соком груш; чтобы развалиться с ними потом на огромном ложе и таинственно рассказывать, как сказку на сон грядущий, о земных чудесах, которые удалось ей увидеть среди морозной и метельной зимы.
Улетела, чтобы как можно скорее приняться за обыденные домашние дела: за стирку, за мытье посуды, за готовку обеда. Чтобы опять по утрам, до работы, везти свою маленькую на саночках в детский сад, держать за руку средненькую, которая пошла в папу и чуть ли не спит по дороге в сад, бежать потом на работу, боясь опоздать, протискиваться в двери переполненного вагона метро, а придя на работу, весь день до вечера думать, считать, чертить, записывать, доказывать, не соглашаться, подчиняться и в расстроенных чувствах продолжать изо дня в день, из часа в час главное дело своей жизни.
Неужели ей не хотелось лишний денек пожить другой, беспечной жизнью?! Всего лишь один вечер, одну ночь, одно утро… Разве это мало?
Я не мог понять и оправдать ее бегство. Я испытывал нечто вроде личной обиды, узнав, что она улетает. Во мне бесился негодующий, самоуверенный мужик, которым ради какого-то безмозглого пачкуна пренебрегла хорошенькая женщина. И единственным моим утешением была смутная догадка, что она улетела именно из-за меня, боясь предстоящей ночи в этом забытом, потерянном, обойденном зимою декабре, которого никогда не было и не будет ни в моей, ни в ее жизни.
Я сидел перед окном, затянутым ржавой сеткой, которое выходило во внутренний двор нашего П-образного дома, и смотрел на палевого щенка, живущего возле кухни. Щенок играл с шуршащими платановыми листьями. Он вдруг замирал в напряженной позе, прислушиваясь к шорохам, и в неуклюжем прыжке бросался в листья, загребая их лапами. Слой листьев был так велик, что щенок утопал в этих громко шуршащих ворохах: лишь одна голова с болтающимися ушами дергалась на поверхности из стороны в сторону. Своей окраской он сливался с листьями и поэтому был похож на дикого зверька. Играть ему было очень приятно! Он вытягивался в этих листьях, елозил на брюхе, подпрыгивал на всех лапах, встряхивался, замирал и снова бросался на шорохи. А потом, устав от игры, растянулся и уснул, исчезнув среди листьев, как будто его и не было никогда. Даже черный дрозд, прилетевший к дверям кухни, не сразу заметил его.
Мы успели проститься с Марией Александровной, бежавшей от веселого застолья. В торопливости она крепко пожала мне руку, очень смутилась при этом и — я не знаю за что — поблагодарила меня с приглушенной истовостью в голосе.
— Спасибо… За все вам спасибо, — говорила она, смущая меня этой странной благодарностью, которой никак не ожидал услышать. — А я вот улетаю. — Мария Александровна вглядывается в меня, словно бы стараясь внушить мне это. — Я понимаю, будет весело, но я не люблю всего этого. Никак не могу остаться. Тороплюсь. Надо успеть на базар. Всякие покупки! Ради бога, ничего не надо, никакой помощи… Вы мне только мешать будете. Вы уж простите за откровенность. — И, виновато улыбаясь, она удаляется с ласковой оглядкой.
Уже из-за чьей-то спины я вижу ее глаза, смешливые даже в задумчивости и печали, вижу неуверенно поднятую руку с шевелящимися пальцами, которыми она посылает мне последнее, как говорится, прости.
В ожидании автобуса, который должен был отвезти нас на банкет, я сидел в сумрачной комнате, за окошком которой горел солнечный, золотистый вечер.
Это было время, когда Мария Александровна летела уже где-то над землей. Самолет, еле различимый с земли, серебристым крестиком белел в лучах заходящего солнца. На неведомые земные дали, над которыми пролетал этот крошечный самолетик, падал с высоты приглушенный расстоянием гул реактивных двигателей. Может быть, кто-то из людей в эту минуту слышал тот привычный гул и равнодушно провожал взглядом небесную машину, не думая о людях, сидящих в салоне огромного самолета, не в силах представить себе их в этом белом крестике, и ничего, конечно, не зная о ней, о Марии Александровне, чудом уместившейся в металлической частичке неба.
Об этом знал только я. Очень могло статься, что Мария Александровна смотрела в эти минуты в иллюминатор и тоже вспоминала обо мне, затерявшемся ничтожной пылинкой в лиловом дыме вечереющей земли; обо мне — таком вот фантастически маленьком — знала в эти мгновения или, вернее, могла знать только она одна.
Мы оба с ней как бы дематериализовались друг для друга, перестали реально существовать в тех привычных объемах, в которых мы только что видели и чувствовали друг друга.
И я не мог понять, зачем это случилось. Я с неприязнью думал о человеке, молчаливо стоящем на балконе и прекрасно знающем, что к нему сегодня прилетит большая, как и сам он, красивая женщина, которая освободит его от забот и даст возможность опять почувствовать себя самым счастливым человеком на свете, презирающим интеллект, этот низменный инструмент добычи и материальной наживы, отданный им в руки заботливой жены.
Я был, наверное, несправедлив к человеку, которого совсем не знал, хотя о нем и рассказывала мне Мария Александровна. Но я представлял его себе в эти минуты привычным брюзгой, живущим на грани ругани, раздражительным и желчным неудачником, фантазером и бездельником, которого невозможно любить.
Я ненавидел этого счастливчика, к которому летела теперь в небе живая, крохотная пылиночка, чудо из чудес, вместившая в себе такую энергию любви и добра, что все цивилизации вселенной не в силах были бы привнести и малую часть ее, если бы они вдруг и в самом деле наладили с нами контакт. Какая формула, какая еще энергия нужна была этому человеку?
Я видел перед собой лицо милой женщины, ее доверчивый взгляд, как бы все время вопрошающий: «Вы верите мне? Понимаете?»
То ли листья шуршали за окном, то ли слышал я в тоскливом оцепенении шум морского прибоя и женские голоса, похожие за этим шумом на плач растревоженных чаек…
— Такой уж он у меня философ… Ничего не поделаешь.
Игра в колечко
1
Случились это осенью. Анна Степановна Богдашкина, старенькая, но еще крепкая с виду женщина, носившая в это время года выцветшую стеганую телогрейку да бурый шерстяной платок и валенки с галошами, приехала из своей пустынной деревни в ближайшее большое село в магазин за продуктами. Она приехала на автобусе и с трудом вылезла из него, когда он остановился как раз около магазина. Народу в этот автобус набивалось так много, что ей никогда не удавалось отдохнуть на мягком сиденье, вечно приходилось ехать стоя, потому что никто никогда не уступал ей места. Она привыкла к этому и не роптала на людей, которым небось больше ее самой приходилось уставать на работе. Она не видела греха и в том, что даже и молодые сидели, подремывая, а она стояла. Тем более ехать-то ей было всего ничего: каких-то восемнадцать километров, — хотя проселочная дорога с разбитым давным-давно асфальтом была ухабиста, и автобус ехал очень медленно, все время тормозя и проваливаясь в ямы. Тесно прижавшиеся друг к другу люди раскачивались, давили друг на друга, покрикивали, поругивались, считая по простоте душевной во всем виноватыми тех людей, которые давили им на плечи или на живот, прижимая их к железным ободьям кресел.
— Так ведь это! Чего ты орешь?! Мне держаться-то не за что, — оправдывались те, которые давили, отвечая на ругань придавленных. — Вон ты локтем своим уперлась в меня, думаешь, мне не больно? Тоже больно, а я молчу.
Но молчали только те, которые сидели: им было хорошо. Они молчали даже и тогда, когда Анна Степановна, бессильная удерживать навалившихся на нее людей, тоже наваливалась на сидящих, опираясь руками на их плечи, а то и колени, если ей невмоготу было уже стоять и она, согнувшись в пояснице, нависала над сидящими людьми, придерживая свое тело упершимися в них руками. Она смущенно улыбалась при этом, охала тихонько и просила не обижаться на нее, потому что она не виновата.
Но все-таки из дома ехать было легче, чем домой. Из дома она выходила налегке, спускалась по полю под горку, торопясь, выходила на лесную дорогу, шла по ней два километра и приходила к проселку, к автобусной остановке. Заходила в бетонную будку, изрисованную и исписанную всякими словами, садилась на деревянную скамейку и спокойно ждала автобус, зная, что не опоздала. Расписание расписанием, а все-таки легче на душе, когда в запасе есть время: люди жаловались, что шоферы часто приезжают раньше на пятнадцать, а то и двадцать минут. Кто же тут чего скажет! Приехал и уехал, не соблюдая расписания. Люди меж собой говорили, что это нехорошо и надо бы жалобу написать куда следует, но куда писать и кто это будет делать — никто не знал. Поэтому и собирались на остановке загодя, радуясь и оживляясь всякий раз, если автобус приходил раньше времени, а они уже были тут как тут. Садились люди на этот автобус с передней площадки, а выходили с задней. От билетов отказывались, отмахивались от тонких этих бумажек, как от позора, давая тем самым понять, что и они не лыком шиты и не желают быть хуже других. Иной шофер оторвет билет и бросит, если пассажир не берет, а другой только ухмыльнется с презрением и швырнет монеты в жестяную коробочку из-под леденцов, которая полным-полна серебром и медью, рублями и трешками.
Никогда не брала билеты и Анна Степановна, отдавая всегда свои двадцать пять копеек с чувством материнской умиленности, приговаривая при этом с торопцой и радостью в тихом голосочке:
— Не надо, не надо… Боже упаси!
Село, в которое ездила Анна Степановна за продуктами, называлось Чеглоково. Она всегда с большим трудом протискивалась к задней двери, начиная это делать сразу же, как только входила в автобус. На нее покрикивали, называя бабкой, но старались потесниться и пропускали. Измучившись, она наконец-то пробиралась к выходу и, вспотевшая, блестела веселыми глазами, с благодарностью поглядывая на людей, которые ехали дальше и не вылезали в Чеглокове. Она рассказывала людям, зачем она едет в Чеглоково, называя свою вымороченную деревню, о которой мало кто знал, и никто не интересовался, как там живут люди.
— Людей там нет совсем, — с весельем в голосочке удивленно говорила Анна Степановна. — Последний годочек доживаю, скучно одной… Электричество отключили, а керосину нету… Свечей тоже нигде не достанешь. Хотела подольше пожить, да уже невмоготу одной. Все деревенские в поселок переехали, в леспромхоз, в Кияново. А нашу деревню, говорят, ломать будут. У кого дети, у кого внуки — те туда и переехали. У меня никого нету, меня и не тревожат. Живу и живу. Да отчего-то не могу больше. Так скучно, так скучно… Да и страшно, по правде сказать. В лесу-то одной. Магазина нету, а заболеешь — чего делать? Не знаю. Обещали устроить, а все вот никак… Да и то, старая нужна ли кому! Беда со старухами, — заканчивала она, как бы отмахиваясь от самой себя, от своей старости и беспомощности. — Согрешить недолго! Уж помолчу лучше, помолчу, — говорила Анна Степановна и посмеивалась желтым и морщинистым лицом, скаля вставные серые ровненькие зубки.
Когда она потихоньку жаловалась людям, ее никто не хотел слушать, а когда она смеялась, к ней люди относились хорошо и даже обращались как к ровне, называя на «ты». Она тоже к этому привыкла и старалась не жаловаться, не отвращать людей от себя, а побольше смеяться, чтоб быть угодной. Кому охота слушать жалобы чужой старушки!
Людей она любила, а наскучавшись в одиночестве, с удовольствием смотрела на них и, боясь быть навязчивой, ждала каких-нибудь вопросов. Все вопросы казались ей веселыми и добрыми: от шутки она никогда не бежала сама и шутливых людей любила особенно — раз шутят, значит, считаются.
И если какой-нибудь мальчишечка спрашивал у нее, обращаясь как бы и не к ней, а ко всем, кто слышит его: «Небось, бабуля, за пузырьком едешь? Раз скучно-то! Что делать… А?» — Она оборачивалась к нему и по возможности тоже весело отвечала:
— А ты, сынок, ко мне приходи дрова колоть, я тебе пузырек-то этот и поставлю. Чего ж… Сейчас вот в Чеглокове куплю, а ты приходи по адресу… деревня Томилинка. Одна я там живу, так и найдешь. Приглашаю. Вот говорю при всех свидетелях. Все слышат.
— Ну, бабка, гляди! — отзывался весельчак. — Раз приглашаешь, за мной дело не станет. Я эту Томилинку под землей отыщу. Мы с тобой, бабк, погуляем!
— Погуляем, сынок! Приходи, — откликалась она, вызывая смех и шутки. — И песню погадаем… Посидим с лучиною, как в старину. Все у меня есть: картошка есть и лук, а вот хлебушка куплю и конфеток к чаю — совсем хорошо будет. Тебе бы, сынок, лет сорок назад родиться, мы бы с тобой погуляли… У нас тоже какие девушки красивые были… Какие красавицы! Да и я тоже никому не завидовала. А песни гадала лучше всех. Теперь таких песен нету… Недогадливые теперь они, песни-то…
Тем временем за обочиной дороги расступался лес, и первые избенки Чеглокова выбегали навстречу автобусу: голубые, серые, зеленые, бурые, с ухоженными палисадниками, с антеннами на шиферных и железных крышах. А вскоре автобус тормозил около каменного желтого магазина с цементными ступеньками перед входом.
Тут люди жили очень хорошо, как понимала Анна Степановна, были зажиточными и счастливыми.
Она нетвердо ступала на землю, сходя с высокой подножки автобуса, и, вдохнув свежего воздуха, торопилась со своим пустым мешком к магазину, чтобы успеть на обратный автобус: они тут ходили так редко, что опаздывать нельзя было никак.
Обычно она успевала обернуться и, накупив хлеба, вермишели, спичек, чаю, липких карамелек, сахару и каких-нибудь рыбных консервов в масле, не забыв при этом и про «пузырек», содержимым которого она в самом деле угощала случайных помощников по хозяйству, без чего никак нельзя было обойтись ей, старой женщине, потому как за деньги никого не заманишь, торопилась к автобусной остановке, перекинув связанный мешок через плечо и согнувшись под его тяжестью. Ее серовато-бурые глаза светились в такие минуты, как камушки под дождем, и столько в них было и радости от удачи, и заботы, и страха перед предстоящей дорогой; она со страдальческой взглядкой так посматривала по сторонам, отыскивая среди поджидавших на остановке людей доброго какого-нибудь «сынка», который бы помог ей взобраться в переполненный автобус, так заискивающе улыбалась людям и жалостливо охала под тяжестью, стараясь разжалобить их, что всякий раз дорога домой превращалась для нее в истинную муку, в страдание ни с чем не сравнимое. На какой-нибудь Эверест или другую неприступную гору легче было забраться людям, чем этой одинокой старушке сесть на рейсовый автобус, идущий до Киянова, до большого поселка леспромхоза. Во рту у нее пересыхало от волнения при одной лишь мысли, что ей не удастся сесть, хотя до сих пор ей как-то удавалось втиснуться в людскую массу, втащив за собой проклятый и такой драгоценный для нее мешок, который застревал, стиснутый дверцами.
— Помогите, люди добрые, христом-богом прошу… Помогите, — просила она сухим, срывающимся голосом, будто погибала ни за что. — Милок! — кричала она шоферу. — Подожди, а то ведь мешок-то мой… видишь ты как… Открой двери! Прижало его… Подожди ехать… Люди добрые, помогите, — молила она, надрываясь в тщетных усилиях протащить мешок в автобус…
Ее ругали нетерпеливо, особенно молодые бабы. Но все-таки находился кто-то среди пассажиров и помогал, втаскивая мешок, вырывая его из дверей, которые со скрипом и лязгом затворялись наконец за спиной у Анны Степановны, оказывавшейся всегда последней при посадке, потому что те, кто помоложе и посильней, никогда не уступали ей дороги, даже если она была на остановке первой.
Очередь на этом перегруженном маршруте никогда не соблюдалась, и люди лезли в автобус, как будто спасаясь от какой-то опасности, кричали, ругались, толкали друг друга в дверях. И только в автобусе они добрели и как ни в чем не бывало улыбались опять друг другу, успокаивались, приходя в себя, и делались опять обыкновенными незлобивыми людьми, будто стыдились самих себя и даже удивлялись, почему это они вели себя так нехорошо. Здоровались, перекидывались словечками со знакомыми, деньги платили за проезд, точно задобрить хотели шоферов, точно совали скромненькие подарочки, отказываясь от билетов, которые жгли им руки, как если бы за подарки свои они получали деньги.
Вроде бы не глупые люди, не бездельники, не мошенники, ищущие для себя выгоду, а не понимали, что творят зло. Не понимали, что где-то там, в неведомых сферах районной транспортной службы, такие же люди, как и они сами, составляя финансовые сводки, указывали, наверное, в них количество перевезенных за месяц, за квартал или за год пассажиров, исходя из числа проданных билетов. По сводкам получалось, что дела с пассажирским транспортом на районных маршрутах обстоят благополучно, пассажиров ездит мало, автобусы ходят полупустые и ни о каком улучшении в этом вопросе не может быть и речи. Бездумная доброта людей, сующих шоферам свои медяки, как будто шоферы эти, живя на одну зарплату, были нищими, оборачивалась страшным злом для них же самих.
Откуда такое напастье? Никто не хотел задумываться. Ругали начальство, что нет автобусов и что ездить по дорогам — мучение; не любили и даже презирали редких ревизоров, которые нет-нет да появлялись вдруг, задерживая отправку автобуса; платили штрафы, проклиная контролеров, считая их чуть ли не личными врагами, и жалели смущенного шофера, если контролер грозился и ругал его, выговаривая за халатность; называли контролеров дармоедами; которым делать нечего, но в толк взять не могли, что те по силе возможностей своих старались поправить положение дел, если, конечно, добросовестно исполняли свои обязанности. Отчетность, разумеется, была и у шоферов, да и не каждый из них был негодяем, как, впрочем, и пассажиры тоже далеко не все отказывались от билетов, особенно те из них, которые нечасто ездили по этим дорогам и не знали здешних порядков.
Но при всем при этом автобусов на маршрутах было так мало и были они такие старые, изношенные и изуродованные бездорожьем, так часто они ломались, подолгу отстаивая в ремонте, что сплошь и рядом людям приходилось добираться на попутных грузовиках, не дождавшись автобуса, а то и вовсе откладывать поездку, если дом был рядом и ехать было не к спеху.
Кто-кто, а уж Анна Степановна Богдашкина, родившаяся и выросшая в этих лесистых, приболоченных краях, хорошо знала все эти неурядицы и, состарившись тут, пускалась теперь в путь с опаской, радуясь всякий раз, если благополучно возвращалась домой. Она, правда, знала времена и потруднее теперешних, когда можно было добраться до Чеглокова или Киянова, которое было много дальше, чем Чеглоково, только пешком или на телеге, а об автобусах вообще не мечтали. Но в то время она была молодой. Теперь же восемнадцать километров, которые она раньше одолевала без особого напряжения, стали для нее непреодолимым препятствием. Да и то надо сказать, что раньше не было особой нужды часто ходить из деревни в эти большие села и поселки, потому что хлебы пекли дома, молоко, масло, сметану и мясо тоже имели под руками, а ездили или ходили в поселки или города только за тем товаром, какого не было в деревне. Собирались по нескольку человек и шли или ехали в большие села и городки как на праздник или на ярмарку.
А теперь столько мучений! Одно дело доехать до Чеглокова, а что если магазин там закрыт на санитарный день или на учет — что тогда делать? И об этом тоже волновалась Анна Степановна, пока ехала, и так уставала душою от всех этих переживаний, так нервничала, скорбно сжимая морщинистые и сухие губы, так ей хотелось скорее увидеть открытый магазин, что у нее даже грудь начинала болеть и не хватало воздуха, когда она подъезжала к Чеглокову. Она теперь с завистью поглядывала на тех людей, которые ничего этого не знали и не очень-то беспокоились о житейских своих делах, — жили так, будто это их не касалось. И порой жалела себя, не в силах уже припомнить того времени, когда она так же вот беззаботно жила на свете.
В этот осенний серенький день, когда она опять приехала в Чеглоково, магазин, к ее счастью, был открыт и, хотя время уже было послеобеденное, кое-какие продукты на полках лежали: буханочки серого хлеба, дешевые карамельки без оберток, круглый сахарный горошек, чай, водка дорогая, а в большом жбане была густая сметана, которую так давно уже не пробовала на вкус Анна Степановна, что у нее заломило под языком от слюнок…
«Ах ты господи! — думала она, сокрушаясь. — Как же это я посуду не взяла. Чего ж теперь делать? Вон люди как! Бидон сметаны вешают. Сколько же там килограммов? Килограмма три наверное будет. Чего же это я так оплошала? Может, какая банка найдется? А если найдется, ну как сметана кончится? Вот ведь какое горе-то!»
Она с жадностью и тайным страданием смотрела, стоя в очереди, как черпает продавщица Валя сметану из жбана, наливая ее, густую и духовито-кислую, в разную посуду, какую подавали ей женщины. И боялась лишь одного: вот подойдет ее очередь, а банку Валя не даст… А может и даст, а сметана уже кончится… Тогда и банка не нужна. Банка-то небось есть, хорошо бы, конечно, трехлитровую с узким горлышком… Тяжело будет, но зато надолго хватит…
— За сметаной не стойте. Кончается! — вдруг как плетью стеганула Валя, и Анна Степановна с упавшим сердцем услышала, как длинный черпак в Валиных жирных руках, белых от сметаны, стал глухо стукаться о донышко жбана, который Валя уже завалила набок.
Анна Степановна сосчитала женщин в очереди впереди себя, но только у двоих из них увидела она небольшие стеклянные банки, остальные две были без посуды. И когда она это увидела, началось истинное мучение для нее: хватит — не хватит, дадут банку — не дадут. Сухость во рту была такая, что она даже боль чувствовала, когда ворочала языком, слыша клейкие, цокающие прикосновения его к нёбу.
Сметана еще оставалась, когда она подошла к прилавку. Одутловатое, нездоровое лицо продавщицы было в этот день угрюмо.
— Здравствуй, Валечка, — сказала ей Анна Степановна с заискивающей улыбкой и, не услышав ничего в ответ, робко попросила: — Мне бы сметаны, Валя, в баночку…
— А где банка-то? — грубо спросила продавщица, будто отшвыривая от себя что-то.
— Дай мне, Валечка, какую ни на есть, мне все равно… Я заплачу.
— Вот ведь народ какой! — крикнула Валя и грозно, басовито расхохоталась, налив лицо упругой багровостью. — Ну где же я тебе банку возьму? У меня ж не стекольный завод. Кто ж сейчас банки осенью сдает? Надо же, народ какой бестолковый! Сейчас все банки в дело идут, неужели не понятно! Кто грибы, кто ягоды, кто чего… Все катают! А ей баночку!
— Мне хоть маленькую… Хоть какую… Может, в бутылку можно? — виновато попросила Анна Степановна, слыша, как зашумели и зашамкали, заругались на нее в очереди.
— Бутылку! Это как же я в бутылку тебе сметаны налью? Чего говоришь-то?! Думаешь, чего говоришь… Ты видела когда-нибудь, чтоб сметану в бутылку клали? Вот народ! Ну народ! В бутылку ей сметаны! — говорила Валя с возмущением, обращаясь к людям, которые уже тоже кричали на Анну Степановну, на чужую эту и никому не известную бабку, поддерживая Валю в ее негодовании.
— Не молодая, чтоб такую глупость говорить! — звонко выкрикнула маленькая старушка из очереди. — Бери, что надо, или уходи, не мешай тут людям.
Бледная от горькой неудачи и робости, Анна Степановна стала перечислять, путаясь и забывая, что ей надобно купить. Губы у нее тряслись от обиды, а пальцы прыгали, когда она доставала деньги и рассчитывалась с продавщицей. И горько ей было видеть, как следом за ней женщина в очереди брала сметану в пластмассовую баклажку. Сметаны набралось чуть ли не килограмм. Анна Степановна и хмурилась, и губы поджимала, прикусывая их, чтоб только умять дрожь и не заплакать.
На продавщицу Валю она, конечно, не обиделась: откуда той банку взять, если нет. Ей за себя было больше всего обидно, что не догадалась сама это сделать: привезла бидон, была бы со сметаной. Не удалось…
«А люди чего ж… Люди посмеялись — и ладно. На это обижаться не надо. Им, конечно, какая выгода, если чужие всё раскупят, а им ничего не останется. Неучтиво это, конечно. Раз уж нет, горевать тоже нехорошо».
Так рассуждала Анна Степановна, выйдя из магазина с покупками, сложенными в чистый мешок. К тяжестям она привыкла с малых лет, спина ее и до сих пор была здоровой, а руки цепкими и сильными. Серый мешок из простой холстины привычно лежал на спине. Второпях Анна Степановна не успела аккуратно уложить в нем буханки хлеба, и они теперь, брошенные в мешок кое-как, давили на спину, причиняя боль. Она то и дело встряхивала мешок, подкидывая его на спине, прилаживаясь к нему, стараясь и его тоже приладить к своей согбенной спине, сутулясь под ним, хотя тяжести в нем было не очень много, не больше пуда.
Лицо ее порозовело от возбуждения, и она его чувствовала, как какую-то горячую, надетую на кожу маску. Жилистые ее руки ухватились намертво за свитую мешковину и бледно голубели на груди, на темном и мягком ватнике.
Сколько она помнила себя, вечно она жила с этими мешками… Картошку с огорода — мешками, овес в колхозе получала — опять мешки, в город ездили — тоже мешки. Со всех сторон окружали ее эти ржаво-серые, грязные или чистые, новые или дырявые, прогнившие мешки. Вся жизнь ее была, как в поговорке: дадут — в мешок, не дадут — в другой. До старости дожила, а в доме только и были сундуки да мешки — сумок никаких никогда не водилось, и шкафов тоже не стояло. Мешок! Теперь хороший мешок купить нелегко. А как без него обойдешься? Анна Степановна и представить себе не могла жизни без мешка, а то что люди ругались на нее, когда она с мешком садилась в автобус, так это пусть себе ругаются, если не понимают.
На автобусной остановке стояло уже человек шесть или семь, молчаливо ожидая и поеживаясь на ветру.
«Значит, успела, — подумала Анна Степановна. — Вот и хорошо. Теперь уж как-нибудь… А там потихонечку, с передышечками и добреду… Там уж полегче будет».
И она тоже остановилась среди людей, расставив ноги в валенках и сгорбившись под мешком, — вросла в землю, глядя на пустынную ленту выщербленной дороги.
День был ветреный и холодный, но сухой. В небе быстро текли серые, как дым, тучи. Шумели голые деревья. Земля под ними была желтая от листьев. Листья все время шевелились под ветром, переметались, когда налетал ветреный порыв, стлались по дороге, набивались в лужи. Деревья качали серыми ветвями в сером небе. За дорогой, в канаве, ржавела кабина трактора, завалившаяся набок. Она тут ржавела, наверное, лет пять, если не больше. Отчего она тут лежала и зачем, никто бы толком не смог ответить, — видимо, руки ни у кого не доходили убрать ее.
По расписанию на Кияново должно было пройти еще два автобуса: один в шестнадцать сорок, а второй, последний, в девятнадцать часов. Надо бы, конечно, приехать пораньше, но Анна Степановна в этот день не собиралась в магазин, хотя продукты у нее уже кончились. Когда же посчитала дни недели, получилось, что надо ехать, — назавтра магазин закрывался на выходной день, который бывал в среду, а нынче вторник… Вот и поехала с опозданием…
Анна Степановна приглядела среди ожидающих молодую женщину с красивым и добрым лицом, подошла к ней, держась затекшими и озябшими уже руками за мешок, и с улыбкой стала глядеть на нее, как бы любуясь ее красотой, ее синим пальто и красными резиновыми сапожками. А когда та повернулась к ней и, хлюпнув носом, зябко поежившись, гундосо сказала, взглянув на часики: «Чего-то опаздывает», — Анна Степановна словно бы кинулась к ней на крыльях:
— Доченька, милая, я чего хочу попросить-то… Подсоби ты мне, пожалуйста, когда залезать в автобус будем. Ты меня протолкни впереди себя, а там уж я сама как-нибудь.
— Ладно, — ответила женщина, опять хлюпнув носом, и отвернулась.
Анна Степановна успокоилась и стала ждать. Будки здесь не было на остановке. Щиток с расписанием прибит к телеграфному столбу.
Людей к этому времени уже поприбавилось. Были они моложе Анны Степановны, здоровее и сильнее ее. Будет трудно. Но она теперь уж не отходила от женщины в синем пальто, надеясь на ее помощь.
Люди поглядывали на часы, ворчали, ругали опаздывающий автобус, злились. Анна Степановна боялась злых людей и вступилась за автобус, а точнее, за шофера, который вел этот автобус:
— Дорога-то плохая, — сказала она, успокаивая себя и людей. — Он бы и рад по расписанию, а ведь по такой дороге скоро не поедешь. Вот и опаздывает.
На нее покосились сердито. Мужчина в зимней шапке сказал мрачно:
— Чего хотят, то и делают. Могут раньше, могут совсем не поехать. При чем тут дорога! Они по этой дороге гоняют, как пьяные, будто не людей, а дрова возят.
Опять Анна Степановна вступилась:
— Ни одного пьяного никогда не видела. Все трезвые ездят. Сколько уж я тут живу в Томилинке, а пьяных никогда не встречала. Я про шоферов говорю. Это им запрещается. Другой какой, может, и ездит пьяный, когда на грузовом, а на автобусах нельзя этого — людей можно убить. Они ведь не дураки… Дураков-то этому делу не обучишь. Туда отбирают хороших людей, непьющих.
— Да замолчи ты, бабк… Живешь в своей Томилинке, ну и живи. Ты чего, пьяных, что ль, не видела никогда?
— Видела. Почему ж…
— Ну и молчи тогда.
Вместо того чтоб успокоить людей, Анна Степановна внесла смуту в их души, и стали они вспоминать пьяных водителей, которые сами погибли или людей покалечили, и мрачнели и злились, поминая недобрым словом Анну Степановну, ставшую на защиту, словно она и была виновата в том, что на дорогах часто ездят пьяные шоферы.
— Да ведь я ж… — пыталась она защищаться. — Я ж ведь не за то… Я про дорогу… А конечно! Куда ж это годится… Я ж про то говорю…
Но ее никто не хотел слушать. Даже женщина в синем поглядела на нее осуждающе.
Люди совсем отчаялись. Мужчина в зимней шапке стоял посреди дороги, вперившись в серенькую даль, как какой-нибудь древний мореплаватель, взобравшийся на мачту корабля и тщетно вглядывающийся в унылый простор, надеясь первым увидеть землю.
Анна Степановна подошла к телеграфному столбу и привалила мешок к нему, освободив одну руку, которая совсем онемела от тяжести и холода.
Стало уже заметно смеркаться. Потемнели деревья, а в иных домах уже засветились окна.
Прошло еще немного времени, и продавщица Валя, с большой и тяжелой сумкой в руке, одетая в пальто, вышла из магазина и заперла дверь на замок, включив над крылечком электрическую лампочку. Лампочка горела еще неярко, свет ее не мог пока спорить с мерклым светом дня.
Проходя мимо озябших людей, Валя сказала как бы самой себе, ни к кому не обращаясь:
— В домино играют…
Люди уныло проводили ее недобрыми взглядами, как будто она что-то нехорошее сказала им всем.
— Чего она сказала? — спросила Анна Степановна, освобождая ухо из-под платка рукой. — Про автобус чего-нибудь, нет? Ай про него?
Растерянный и испуганный, ее взгляд ощупывал молчаливых людей.
— Про какое-то домино, — ответила женщина в синем. — Кто ее знает!
Анна Степановна опять спросила:
— Играть пошла?
Люди тоскливо улыбнулись, посмеялись над старушкой.
— Играть, играть, — за всех ответил мужчина в шапке, нетерпеливо прохаживаясь по асфальту. — Поиграет, а потом сядет, — добавил он с остервенением в голосе. — Вон какую сумищу набила.
«Господи, чего ж они такие злые? — подумала Анна Степановна. — Теперь ведь не уехать мне отсюда. Затолкают теперь, и не сядешь».
Мешок ее, прижатый к столбу, сползал вниз, оттягивая руку, и она то и дело встряхивала его, подкидывая спиной и плечами.
Сумерки уже растворили все вокруг, смазали деревья, шатающиеся на ветру, смешав их с небом. Лампочка над ступеньками магазина разгорелась ярким светом. Глянцево чернели стекла пустых витринных окон под железными решетками. Шумел ветер.
Сначала один человек, потом другой, а потом и все ушли с дороги, рассевшись на ступеньках магазина. На остановке осталась только Анна Степановна. Она все еще надеялась, что автобус придет. А если не он, то какая-нибудь машина, припозднившись, пройдет мимо и подберет ее. Но и справа и слева — везде было темно над дорогой. Однажды только заколыхался со стороны Киянова в сизой тьме живой свет, похожий на вздрагивающий свет августовской зарницы, а потом из-за леса показались яркие глаза автомобильных фар. Ветеринарный фургончик, пофыркивая и покачиваясь на колдобинах, проехал мимо, осветив впереди себя дырявую дорогу и туманно-голубой воздух над ней.
И как только фургончик проехал, сразу как будто наступила ночь.
Автобус, последний по расписанию, тускло засветился в темноте габаритными огнями и медленно, как перегруженный теплоходик, причалил к остановке, накренившись набок. Дверцы тяжко заскрипели, и люди долго втискивались в душное нутро автобуса, кричали на тех, кто был внутри, просили потесниться, кричали друг на друга, цеплялись руками за расхлябанные дверцы, срывались с подножки и снова лезли, отпихивая друг друга. Пахло жженой резиной. За грязными стеклами в желтом свете сидели и стояли усталые люди, набившись в этот последний автобус так тесно, что казалось, ни один человек не сможет уже втиснуться в него. Но несколько пассажиров сошло в Чеглокове, люди каким-то чудом еще больше спрессовались в автобусе, подпираемые влезающими снаружи, и постепенно все уместились, хотя двое и висели на подножке, уцепившись за косяки дверец, не переставая кричать на тех, что были внутри, чтоб потеснились еще больше.
Сильнее и отчаяннее всех кричала Анна Степановна. Про нее все забыли, она осталась со своим мешком на земле и металась от дверец к дверцам, вскрикивая громко:
— Сынки! Да как же… Доченька! Сынок! — кричала она, забегая вперед автобуса. — Не бросай! Возьми ты меня, христа ради… Люди добрые — молила она, чуть не плача. — Мне ж до развилки только.
Люди из окошек смотрели на нее и молчали. Шофер, к которому обращалась старушка, с улыбкой разводил руками и что-то отвечал ей, но она не слышала его слов.
— Да куда ж взять-то, бабк! — сипло крикнул ей кто-то, вися на подножке. — Видишь, что творится. Куда взять?!
Дверцы заскрипели, но не закрылись, а только прижали висящих людей, которые с усилием толкались в людские спины.
— Сынок! — кричала Анна Степановна шоферу, забегая опять вперед. — Подожди… Сынок!
Но автобус задрожал, мотор напрягся и из последних сил потянул гудящую, пахнущую жженой резиной машину.
Анна Степановна, обомлев, смотрела, как автобус медленно отъезжает от нее, и не верила в то, что случилось. Мешок ее сполз на поясницу, оттянув руки за плечо. Она стояла согнувшись и беззвучно шевелила пересохшими губами.
Вот уже заляпанные грязью пепельно-красные огни показал ей уходящий автобус, уезжая от нее с повисшими на подножке, застрявшими в дверях людьми… И вдруг эти огни вспыхнули, автобус зашипел и остановился.
Анна Степановна как могла побежала к нему, показывая свой мешок, думая, что ее пожалели и решили тоже посадить как-нибудь. Но не успела приблизиться к автобусу, как дверцы его наконец-то со скрипом захлопнулись, он стрельнул густым и вонючим дымом, утробно затрещал мотором и поехал дальше.
Запыхавшись, Анна Степановна остановилась в крайней растерянности и загнанно, жалко улыбнулась, чувствуя себя так, как если бы люди подшутили над ней, а она, глупая, не поняла их шутки.
Она проводила автобус взглядом, надеясь еще на что-то, но когда он превратился в желтую паутинку света и скрылся за лесом, вдруг испугалась. Пошатываясь и задыхаясь от страха, пошла она обратно к остановке, не зная, что ей теперь делать.
Люди в селе еще не спали и смотрели, наверное, телевизоры. В ветреном шуме перелаивались собаки.
Анна Степановна опустила мешок на землю и привалилась спиной к столбу. Ей было трудно и больно дышать, точно вместе с воздухом в грудь ее попадал жесткий и сухой песок. Отдышавшись и пересилив потливую слабость в теле, она с трудом дотащила мешок до освещенных ступенек магазина и села, чувствуя опять тяжелую, пугающую слабость.
После всего, что с ней случилось, она не хотела проситься к кому-нибудь на ночлег: «Люди телевизоры смотрят, отдыхают, а тут я со своим мешком… — думала она. — Неудобно…»
К одиночеству, в котором оказалась Анна Степановна, она тоже давно привыкла в безлюдной своей Томилинке, и это не пугало ее. Одета она была тепло, был у нее и хлебушек в мешке — так что переночевать на ступеньках в обнимку с душистым мешком тоже не очень-то страшно, хотя и долга осенняя ночь, — лишь бы дождя не нагнало. Все это так. Но боль в груди не отпускала и страх не покидал ее, будто какое-то чудовище напугало ее до смерти во сне, а сон никак не кончался.
«Зачем же это я поехала-то, господи! — думала она в отчаянии. — Сидела бы сейчас дома, в тепле, ничего бы со мной не стало, а теперь вот… Сладенького захотелось. Вот тебе и сладенькое. Люди, конечно, что ж… Можно понять. Изработались за день, устали. Чего им до меня. Сама виновата, что поздно поехала, когда люди с работы. И автобус сломался к моему несчастью. А все ж таки, конечно, могли бы и подсобить, а то ведь бросили, как собаку, не спросили. Крику-то, крику что было! Как на пожаре. Лишь бы только себе. Хотя, конечно, и я тоже хороша, выбрала время… Поделом и досталось. Вот и сиди теперь, старая. И мучайся тут, так тебе и надо. Люди-то работают, а ты на пенсии, могла бы и подождать. Ничего бы не стало с тобой. А то людей только смутила. Едут теперь небось и мучаются совестью. Как они могли тебя взять? Никак не могли. Сами висели, того гляди под колеса упадут. Грех на них сердиться. У них, может, дети дома, а завтра опять на работу. Вот и сиди тут под лампочкой, а на людей не наговаривай», — увещевала себя Анна Степановна, прогоняя боль, мучавшую ее, и обращая себя к добру, с которым ночевать одной будет легче.
Она подняла мешок на колени, подгребла его поудобнее под руки, оперлась на него и склонила голову на скрещенные руки, свернувшись в комочек. Сквозь холодную мешковину пахло хлебом, и запах этот согревал. Даже дышать стало легче, словно воздух очистился от песка, и боль в груди поутихла, хотя и жгло еще за грудиной. Анна Степановна глубоко вздыхала, стараясь освободиться от тяжелого жжения, и на одном из глубоких этих вздохов то ли сон, то ли слабость закружили ей голову, и она увидела теплый летний вечер и себя в этом, коричневом от заката, радостном вечере, сидящей на широком порожке деревенского амбара.
Земля перед пустым амбаром светлеет среди травы рваной холстиной. А на холстине этой стоит и улыбается молоденький, худой мальчишечка в расстегнутой косоворотке. Грудь у него впалая, а в глазах, — Анна Степановна знает это и чувствует, — немальчишеское уже ласковое внимание к ней, сидящей на пороге среди таких же, как и сама она, девушек и ребят, которым всего-то лет, наверное, по пятнадцать — шестнадцать, не более.
Стадо уже пригнали домой. Блеют где-то заблудившиеся глупые овцы, а в тихом воздухе, мешаясь с запахами пыли, витает еще коровий, молочно-теплый дух. Старая ива возле амбара, накренив дуплистый ствол, свесила над холщовой, вытоптанной землей пряди своих ветвей. Веселая собачка заливается в лае на краю деревни. Пепельно-красное небо тусклым своим светом красит лица притихших девушек и ребят, а тот, который стоит перед ними, курчаво улыбаясь большой коричневой головой, тоже как будто весь светится, хоть и темно выделяется он на зоревой стороне неба, как и темна склонившаяся над ним ива. Стоит он, сложив руки голубком, а в ладошках у него бронзовое колечко. Оттого и улыбается Серёня Богдашкин, что лежит оно у него и что нужно ему водить… Это колечко только что вложила ему в руки, когда он сам сидел в рядке на пороге, бойкая Аннушка, выбрав его среди всех. «Кольцо, кольцо, ко мне!» — крикнула она в азарте. Никто и подумать не мог, что оно у Серёни в руках… Теперь Аннушка сидит и весело смотрит на Серёню, который мнется в улыбке, никак не решаясь начать. Но вот он подходит к протянутым рукам, тоже сложенным голубком, и, словно бы кланяясь каждому сидящему, раздвигает сомкнутые ладони своими руками… Аннушка ждет, когда он и ее руки, холодные от волнения, раздвинет одним своим прикосновением, веря и не веря, что колечко выпадет из его рук в ее руки, скользнет, теплое, и нечаянно останется в ее ладонях. Серёня с улыбкой кланяется над ней и скользящим движением раздвигает ждущие ее руки. Но колечка нет!..
Аннушка так же бойко и озорно улыбается, но чувствует, что улыбку надо уже удерживать на лице, что ей уже не очень-то просто улыбаться, а надо усилие прилагать, чтоб не показывать виду… В руках так пусто без колечка, на сердце печально, будто ее обманули, и даже играть нет больше охоты. Смотрит с застывшей улыбкой, как Серёня подходит к последнему в ряду ребятенку, а сама в озабоченности думает: «Хорошо бы хоть кому-нибудь из ребят положил, а не девушке… Хорошо бы хоть не девушке». А Серёня, не разгибаясь и все так же курчаво и загадочно улыбаясь, идет по ряду обратно. «Вон оно что!» — думает Аннушка, чувствуя, как силы опять приходят к ней, и снова радуется, сладко замирая в ожидании тайны. Серёня приближается, она смотрит на него во все глаза, и хоть сам он и не глядит ни на кого, смущенно отводя взгляд от сидящих на пороге, и Аннушка не видит его глаз, но знает почему-то, что колечко он оставит в ее руках. И когда теплые и сухие его пальцы коснулись прохладных ее разомкнувшихся рук, она уже так была уверена, что только и думала о том, как бы не выронить колечко, которое и в самом деле горячо скатилось вдруг в ее вздрогнувшие от счастливой ожиданности руки…
Серёня кончил маять, разогнул спину, лукаво оглядел всех сидящих, отошел на середину светлеющей земли и тихо, невнятно сказал:
— Кольцо, ко мне…
Аннушка встрепенулась, вскинулась, а соседка уже растопырила руки, но она успела прорваться и выбежать со смехом на середину…
И началась с того вечера вечная ее маета. День еще не успевал родиться, а она уже думала о Серёне или, вернее сказать, не думала, а как бы везде ощущала его присутствие, зная и чувствуя, что он живет недалеко от нее, всего лишь через четыре двора, и что сегодня она, может быть, опять увидит его и поздоровается с ним. Шла ли она за водой, она знала, что и Серёня тоже ходит на этот колодец и пьет ту же воду, что и она сама. Шла ли зимою в школу, она только и думала, обстукивая веником заснеженные валенки на крылечке деревянной школы, что вот сейчас, через несколько минут, она увидит Серёню и улыбнется ему, а он опустит голову и покраснеет, стесняясь ребят. Шла ли она теперь за малиной в лес, она только и мечтала о том, чтобы и Серёня собрался за ягодой… И всегда ей было радостно сознавать, что все люди в деревне знали об их случайных и неслучайных встречах, говоря о них в шутку ли, всерьез ли как о женихе и невесте. Ни для кого не было неожиданностью, когда они, дождавшись восемнадцати лет, поженились.
Потом родился Генка. Так уж она была против этого имени, но Серёня настоял на своем, назвав сына Геннадием. И пошел гулять по деревне лупоглазенький голопузый Генка, шкодливый и не в отца озорной и нахальный парнишка, в семь лет убивший камнем соседскую курицу, а в девять повредивший пятилетнему мальчишке глаз, ударив того железным прутом по лицу. Мальчонка не ослеп, но зашитая рана оттянула верхнее веко и оголила голубой белок, будто глаз его стал стеклянным, неживым. Ни битье, ни уговоры, ни ласка — ничто не помогало: Генка рос бандитом, его не любили и боялись в деревне.
Вот он стоит перед матерью, выпучив бессмысленно насмешливые глаза, желтые, как луковицы, запавшие взглядом в таинственно притаившуюся свою душу и словно бы невидящие ни матери, ни людей, а только созерцающие свою какую-то шалую думу, не дающую ему покоя.
Ему было десять лет, когда началась война, и Серёню забрали на фронт.
Вот она дорога, по которой ушел муж и по которой идут и идут под осенним дождем со снегом измученные, серые люди в обмотках и набухших, тяжелых шинелях. Кучками идут или одиночками… Небо по ночам красное от близких бомбежек, от артиллерийских обстрелов, грохотанье которых подземным своим гулом пугает Анну Степановну.
Она выходит днем на дорогу, по которой отступают наши, прижимает к себе бессмысленно ухмыляющегося Генку и все еще надеется среди идущих по чавкающей грязи усталых и равнодушных людей увидеть своего Серёню, от которого с тех пор, как ушел он, не было писем. Спрашивает у тех, кто смотрит на нее, не слыхали они о Богдашкине Сергее… Один ответит, другой пройдет мимо, будто не слыша ее вопроса.
Потом опустела дорога, и по ней, изуродованной, промокшей насквозь, налитой коричневыми лужами, проехали однажды на автомобилях люди в зеленых шинелях. Их тоже поливал дождик, и они, сутулясь, сидели в длинных кузовах, подняв воротники. Лица их тоже были серые и равнодушные.
Анна Степановна испуганно провожала их, все так же прижав к себе любопытного Генку, и боялась пошевелиться, с ужасом поняв, что это о н и…
Все в груди ее сжалось от страха, и она боялась даже взгляд отвести от проезжающих мимо, глухо урчащих, покачивающихся на ухабах тупорылых машин, набитых сидевшими на скамейках людьми, будто если она отведет от них глаза, то случится что-то непоправимое. И она смотрела, расширив от ужаса немигающие глаза, оцепенев и лишившись сил. Лишь когда проехала колонна и замызганная дорога опять опустела, силы вернулись к ней, и она в панике побежала в лес, таща за собой плачущего Генку.
Потом она еще раз видела и х. Они въехали на грузовике в деревню, спрыгнули через борта, гремя оружием, закричали что-то, побежали по домам, ловя кур и поросят… А потом приехала, буксуя на горке, еще одна машина с солдатами, среди которых сидели четверо наших в исподнем, очень грязном белье, вытолкали их на землю, и они, босые, попадали и, с трудам поднявшись, с жалостью и тоскою глядели на выгнанных на улицу женщин, стариков и детей… Потом наших отвели на край деревни, к амбару, поставили под ивой и торопливо убили из автоматов. Все люди ахнули и завопили, не ожидая такого конца, а о н и тоже как будто очень испугались и побежали к домам, прячась от дождя и холодного ветра, оставив под ивой груду белых трупов. Женщины нахлынули, плача и затыкая руками орущие свои рты, к убитым, и Анна Степановна, боясь увидеть среди них Серёню, не увидела его, но ей стало плохо, когда один из убитых, молодой и красивый парень с остриженной наголо головой, скалясь, взглянул на нее остановившимися мертвыми глазами, будто хотел ей сказать, как обидно ему было умирать, — такая мука исказила его лицо, такое страдание…
А о н и, забив кур, порезав овец и пристрелив теленка, торопливо побросали все это в свои серые машины, забрались опять в кузова, завели моторы и поехали, но вдруг остановились, и несколько солдат спрыгнуло на землю. С серыми, испуганными лицами тяжело побежали к иве, под которой лежали убитые ими люди, похватали их за руки, за ноги и поволокли по земле к колодцу… Головы убитых подпрыгивали, стукались об землю, точно кивали остолбеневшим от ужаса людям… А те, которые тащили их, стали переваливать трупы через сруб колодца и, тоже с ужасом на землистых лицах, спихивать в глубину… Когда о н и это сделали, один из них стал вытирать руки об траву, испачкав, видно, их в крови… А потом, пошатываясь, побежал догонять тех, которые уже забрались в кузов. Ему подали руки и втащили, как мешок, а потом кто-то стал хлопать его по щекам и смеяться над ним…
Все это случилось так быстро и так неправдоподобно страшно, что, когда затих внизу под горкой гул автомобилей, только тогда Анна Степановна, забыв про Генку, опять увидела раздетых наших, босых ребят с серыми лицами, которых поставили возле ивы и стали стрелять в них и которые, подогнув колени, повалились друг на друга, и даже никто из них не вскрикнул, не застонал… А ведь как было страшно-то им, господи? Какие муки приняли они в этой казни на скорую руку… И она стала кричать… И все люди: старики, старухи, женщины, дети — все, которые только что пребывали в немоте, стали тоже кричать, и крик этот, слившись в протяжный вой и плач, долго еще оглашал деревню и серый под мокрым снегом, пронизанный дождем, мертвый и холодный лес.
Анна Степановна очнулась от странного забытья, не понимая, что с ней происходит, спит ли она или силы оставляют ее. Увидела над собою голую лампочку и словно бы вся потянулась к ней, в испуганном удивлении чувствуя себя на дне холодной черной ямы, из которой никак нельзя уже выбраться к маленькому тому, яркому свету, заманчиво сияющему в вышине…
Вот он опять стоит и смотрят на нее сверху вниз желтыми своими, как у собачьего выродка, бессмысленными глазами…
«Вон он ты где, — думает Анна Степановна, стараясь разглядеть сына. — Жив или нет? Ведь не подашь… Знаю, что не подашь мне руки, хоть и буду просить… Не подашь, — страдальчески понимает она простую эту истину, которая как будто всю жизнь мучила ее с той поры, как Генку за украденный мешок ржи осудили по Указу и он пропал без вести, как и отец его, погибший где-то в муках, о котором она получила справку, что, мол, пропал без вести Сергей Кузьмич Богдашкин. — А может, он так же, как эти ребята, страдал, погибая без вести, как и они».
«Есть на что надеяться, — горестно говорили ей вдовы, знавшие уже, что мужья их погибли. — Есть на что надеяться, Анюта… Не то что нам…»
И она жила этой надеждой, истощавшей ее силы. А потом забрали Генку, и он как будто тоже без вести пропал, ни разу не написав письма. Кончились все его сроки, но она не ждала сына, а он и не появился: то ли еще чего натворил, то ли устроился где-то, забыв про мать…
Вот он опять смотрит на нее из светящегося горла темной ямы, склонившись над ней в бессмысленном любопытстве.
«Серёня, — тихо зовет Анна Степановна, цепляясь холодными руками за льдисто мокрые стены ямы. — Серёня…»
И вдруг перед ней засверкала высокая и крутая лестница с сияющими ступенями, и она легко пошла с удивлением по этой лестнице вверх к золотисто-голубому, небесному свету… И какие-то люди в светлых одеждах ласково глядели на нее, такую легкую и счастливую, и, подбадривая ее, улыбались… Хорошие какие-то люди, которых она ни разу еще не видела, но как будто бы знала всегда… Особенно одного из них, который был как бы главным среди всех остальных и должен был обязательно посмотреть на нее, поймать ее взгляд… Она жадно вперилась в него, стараясь обратить на себя его внимание, но он с застенчивой и строгой улыбкой отводил все время от нее свой взгляд и не хотел смотреть на нее… Другие люди: и мужчины и женщины, — в сияющей какой-то смущенности тоже смотрели на него, как бы уговаривая, чтоб он взглянул на Анну Степановну. А она уже совсем высоко поднялась по легкой лестнице и взошла на светлую площадку, окруженная со всех сторон хорошими и добрыми людьми, которые кивали ей, точно кланялись, и с улыбками указывали глазами на того главного, что стоял между ними, и как бы говоря звенящей тишине, исходящей от них, что если, мол, только сам он посмотрит на нее, то она останется тут среди них. Ей так хотелось остаться тут, так она умоляюще удивленно смотрела на него, что он сжалился вдруг и, все так же застенчиво и строго улыбаясь, поднял на нее свои очи…
Утром жители села Чеглоково нашли Анну Степановну Богдашкину, никому не известную старушку, мертвой. Она сидела на ступеньках, привалившись к стене магазина и обняв сцепленными руками мешок. Над ней горела желтая, померкшая в утреннем свете лампочка. Земля и трава в это утро были матовыми от инея.
Люди, собравшиеся около магазина, пожимали плечами и в страхе перед случившимся переглядывались друг с другом, негромко разговаривали, нагибались и вглядывались в мертвое лицо, уткнувшееся в мешковину. Никто из них не узнавал старушку, не ведая, откуда она приехала и кто она такая. Одна лишь Валя, продавщица, прибежавшая с заспанными, опухшими глазами, вспомнила ее и басовитым со сна голосом сказала, что видела ее вчера, отпускала ей товар, вспомнив и про сметану, которую старушка просила налить в бутылку.
— Банку у меня просила, — со вздохом сказала она. — А где ж я ей банку возьму… Говорит, мне — в бутылку… Точно! Это она… Я ее помню. Небось на автобус не успела сесть. Чего-нибудь с сердцем. — И она вдруг зычно крикнула: — Ну, народ! Ну, люди! Удушила бы, ей-богу! А вчера еще этот… автобус-то опоздал или не пришел, не знаю… В домино небось играли, — ором прокричала она и злобно выругалась, начальственно спросив у людей: — Кто-нибудь пошел в контору звонить?
— Побежали, — ответили люди хором. — К Петру Николаевичу за ключом побежали! Уже дозвонились, никак… Должны приехать. Такое дело, что… должны приехать. — И стали говорить громко, успокаивая себя.
— Никто к ней не подходите, — распорядилась Валя, — и ничего не трогайте. Может, какое преступление, кто ее знает.
— Мы не трогали, — ответили ей. — Кто ж посмеет! Мы понимаем.
Но преступления, как выяснилось, не было.
Анна Степановна Богдашкина, не признанная никем и не имевшая при себе никаких документов, несколько дней пролежала в морге при городской больнице, пока милиция тщетно наводила о ней справки. А потом была похоронена на кладбище за государственный счет. В могилу ее воткнули дощечку с номером. И только когда сырую эту могилу засыпало снегом, из Киянова пришла справочка в городской отдел милиции, где было сказано, кто она и откуда.
— Это что, которая с мешком? — спросил, вспоминая и вертя в руках справку, молодой лейтенант. — Ясно. Вон когда спохватились! Одинокая? Нет… сын где-то… Надо бы разыскать и сообщить… По морде бы дать такому сыну. Как его, значится, — сказал он, бравируя этим «значится», — Геннадий Сергеевич Богдашкин… Богдашкин, — повторил он, розовея тонкой, девичьей кожей. — Редкая фамилия. Можно найти.
Справочку зарегистрировали и подшили куда следует, забыв вскоре про старушку и про ее сына, увязнув в текущих делах, которых в милиции и без того было много.
2
Весной, в конце апреля, в чистый и прохладный солнечный день, в леспромхозовский поселок Кияново, к местному егерю, приехали из Москвы два молодых охотника. Бруснично-красный, новый еще автомобиль «Жигули», обметанный, как краской из распылителя, дорожной грязью, постукивая раскаленными клапанами, остановился возле бревенчатого нового дома, во дворе которого залаяла собака.
Приехали они с путевками, с разрешением на отстрел двух глухарей; приехали по хорошей дороге, кончавшейся тут, в Кияново, и успели вовремя, но егерь уже никого не ждал, а уж тем более гостей из Москвы, рассчитывая сам наконец добраться до глухариного тока, который он сумел скрыть от приезжих охотников и не разорить его, и потому был не рад гостям. Он кривился лицом в досадливой гримасе, точно у него болели зубы, говорил что-то непонятное на каком-то бранливо вскрикивающем языке, поругивая высшее свое начальство, которое, как наконец поняли охотники, присылает гостей не вовремя, всего за два дня до закрытия весеннего сезона, когда все тока уже разбиты.
Но, понимая, что гостей не прогонишь и что придется ему обслуживать их, он с досадливыми вздохами, обреченно повел их к себе в дом, в душную, пропахшую едой, теплую избу, погасив своим ворчанием охотничий пыл молодых людей.
Жена его и, видимо, дочь с маленьким ребенком на руках сидели за столом, накрытым старой клеенкой, и обедали. Тарелки с супом дымились духовитым паром. Девочка (или мальчик?) на руках молодой матери испуганно смотрела (или смотрел) на вошедших; жена егеря с неудовольствием поздоровалась, сказав усталым голосом:
— Опять, выходит, не спать… Охо-хо…
Дочь ее была занята ребенком, суя ему в ротик алюминиевую ложку с супом, и, казалось, не обратила на гостей никакого внимания.
Егерь надел очки и стал в трясущихся пальцах изучать путевки, присев на свое место за столом на табуретку.
— Видала, что пишут! — в сердцах сказал он жене. — Два глухаря и по два вальдшнепа. А мне что делать? И что характерно. Звонил ведь, кажется, говорил, не присылайте больше… Не-ет! Два глухаря, пожалуйста! А где я их возьму? У меня до ближнего тока девять километров, а до другого одиннадцать… А там сколько взято?! Шесть… Нет, семь! Семь глухарей. Так что нет никакого смысла. А дальний ток в двадцати восьми километрах. Доберись-ка туда! Вот и ломай голову как хочешь. У вас машина «Жигули», что ль? — спросил он у охотников и махнул рукой, будто это не машина вовсе, а какое-то недоразумение. — Была бы «Нива», а на этой не проедем. Да и то! Вот и не знаю, чего теперь делать… Вальдшнеп тоже плохо тянет, холодно… Придется Василия просить, — сказал он, обращаясь опять к жене, которая доедала свой суп.
Охотники понуро стояли над егерем и молча слушали, а потом один из них, в коричневом берете, неожиданно улыбнулся и, глядя в водянисто-серые, туманные глазки ребенка, спросил, наклоняясь к нему:
— Ты кто же все-таки такой? Мальчик или девочка?
— Девочка, — ответила молодая мать, не поднимая головы, но губы ее вильнули в ответной улыбке. — Ешь давай, — с нарочитой строгостью, с ласковой какой-то грубостью в голосе приказала она дочери.
Взгляд девочки плавал в пространстве, розовые губки покорно раскрывались, и она из своего далекого далека, казалось, грустно и бесконечно долго глядя на новых людей, ела суп. Слышно было, как легкая алюминиевая ложка постукивает по ее зубам.
Все притихли и задумчиво тоже смотрели, как девочка ест суп.
— Придется, видно, Василия просить, — опять сказал егерь, поднимаясь. — Нечего голову ломать.
— У него что же, машина какая есть? — спросил охотник в берете.
— Нет, трактор К-24, и что характерно — собственный… Не то чтобы собственный, — поправился егерь, — но как бы вроде и так… Его списали, а Василий возьми да и за свой счет отремонтируй. Мотор перебрал и все остальное… Ездит теперь. А кто ему чего скажет? Трактор-то слабенький, двадцать четыре силы, а по нашим дорогам в самый раз. Тележку прицепит и поехали. Ну да ладно, вы тут отдыхайте, а я пойду. Как он там посмотрит, не знаю. Меня он, думаю, выручит, если что. Пойду, мать. Ты бы накормила чем гостей или чаем… Я не знаю. Если поедем, так мы на ночь поедем, так что ученое это дело… Я вас там на тягу поставлю, а мы с Василием на послух поедем. Потом уж переночуем там в одной деревеньке… Не то что деревеньке, нет. Там теперь не живет никто, но один домишко с печкой. Как-нибудь переночуем. Вот и учтите это дело… Обеды там готовить некогда будет, — говорил он, надевая зеленую, военного покроя куртку на вате. — К глухарю-то подходил кто-нибудь из вас? Или нет?
Охотники переглянулись и нерешительно ответили:
— Приходилось. Бывало.
Егерь все понял и сказал с неожиданным удовольствием:
— Ну и хорошо… Значит, не убьете ничего. — Нахлобучил шапку на брови и вышел.
И началась счастливая суматоха торопливых сборов на охоту. Ружья из машины, из чехлов, из фланелевых подчехольников засветились тускло-черной синевой стволов, отразивших небо, цокнули и клацкнули, заходя в замки, хищно вытянулись, обретя наконец-то грозный вид. А там и патроны игриво покатились из коробки, поблескивая зелеными и красными гильзами с золотисто-желтыми шляпками, снаряженные мелкой и крупной дробью, новенькие, чистенькие и словно бы невинно радующиеся в руках охотников, но плотно закрученные и тяжеленькие, готовые в любой момент со страшной силой вытолкнуть снаряд дроби в ствол ружья, направленного в любую цель.
Кусок хлеба с куском колбасы под горячий жидкий чай с сахаром, а там и полупустой рюкзак за плечи, ружье за плечо и в высоких резиновых сапогах вон из душного дома в тихую прохладу ясного весеннего дня, под голубое его небо, которое словно бы опустилось на самую землю, подкрасив голубизной каждую сосенку, каждый дом в поселке и открывшуюся из-под снега травянисто-серую землю, изрезанную дорогами и колеями. В лесу, который начинался сразу за поселком, даже снег казался голубым в этот чистый и солнечный день оживающей земли.
Трескотня тракторного мотора не в силах была поколебать голубую тишину, царящую среди бледно-желтых стволов сосен, в зеленых их вершинах и над песчаным откосом дороги, уходящей в лес. Трактор стоял возле огромной, жирно поблескивающей бочки с соляркой, а Василий, тепло одетый, толстый от стеганых, ватных одежд мужичок, зачерпнув ведро горючего, которое тоже светилось туманно-масленой голубизной, заливал его в кратер работающего двигателя. Солярка ручьями текла на землю, разнося вокруг керосиново-масленый приятный запах.
Егерь бросал в тележку поленья дров для печки в далеком доме неведомой деревеньки. Одноосная тележка казалась слишком большой и высокой рядом с маленьким колесным трактором, который был похож на кузнечика с длинными, скошенными под узким тельцем задними ногами, — так же велики были ведущие колеса трактора, возвышающиеся над сиденьем, и над моторным отсеком, и над маленькими передними колесами, косо вывернутыми вбок.
Владелец трактора, этот единственный в своем роде собственник на орудие производства, вернувший к жизни бросовый металл, кивнул московским гостям, оглядывая чистенькую их одежду и, перекрикивая треск мотора, сказал:
— Замараетесь в тележке… Надо бы где-нибудь сена или чего…
— Ничего не надо! Все нормально.
— Холодно будет эдак…
— Ничего! Не впервой.
— Ружья не поломайте, а то бросает на дороге. Тележка-то не от него… велика будет для него, вот и скачет. Ружья дорогие, жалко…
— Хорошо! Все будет в порядке!
— А у меня тоже в Москве сестра живет, на улице Усиевича. Слышали?
— Ну как же! Конечно…
— Вот там живет… с мужем.
Ружье его было надето через плечо. Косо прижатое к мягкой, ватной спине Василия, оно торчало бурыми стволами из-за левого уха. Так он и уселся на открытое сиденье трактора, с ружьем за плечами, а охотники с егерем повалились на поленья и, держась за борта тележки, затряслись по дороге или, точнее сказать, по той свободной от деревьев и пней лесной просеке с двумя заболоченными канавами по сторонам, которая называлась дорогой, являя собой зрелище печальное и, к сожалению, привычное для глаза русского человека. Бурая жижа, заливавшая дорогу, скрывала ямы и колдобины, и тракторишко, бодро и громкоголосо потрескивая мотором, вдруг проваливался в ямищу, кривясь весь вдоль и поперек. Василий поддавал газу; дымно грохоча, трактор вылезал из ямы, кидая туда тележку с людьми, а сам потом вставал на задние колеса, словно лошадь на дыбы, подкидывал вверх передние колесики, дергался, вытаскивая тяжелую тележку из ямы, опять опускался на все четыре колеса и, пофыркивая, покрякивая мотором, тащил и тащил ее дальше, не оставляя следа на поверхности разжиженной, плывущей среди заболоченного леса дороги. Сосняки давно остались позади, дорога повернула к югу и углубилась в чернолесье. Поваленные березы по сторонам дороги делали мрачным и гиблым этот серый лес с нерастаявшим еще снегом.
— Видали! — кричал егерь, мотая головой в сторону леса. — Сколько березы лежит! Ураган в прошлом году повалил. С тех пор все так и лежит. И что характерно, людям не разрешают брать, и сами не убирают. Это что же такое? Зачем? Ничего не понятно. Сгинет хорошая береза без всякого толку. Кому от этого выгода? Лес испорчен, это раз, потому что гниль, нельзя… У нас нет березы, у людей, ладно, — два. И у государства нет ни березы, ни леса хорошего. Вот тебе три! Кому это выгодно, непонятно. Да и людям обидно! Видят, добро пропадает, а взять не дают. Ну ладно, не давай, так сам хоть возьми. Тогда понятно! Тогда и люди обижаться не будут, если государству польза. А то ведь никакого интересу. Экономика! Вот она — экономика лежит. Я считаю так, — кричал он, входя в азарт, и видно было, что говорит он о наболевшем, не раз уже обговоренном с людьми. — Экономика — это когда людям выгода и государству. Экономика — это выгода. Или я не так го-говорю?
— Правильно говорите! — откликался охотник в берете, который был так далек в эти минуты от всяких выгод и невыгод, что готов был на все согласиться, лишь бы его не беспокоили пустыми разговорами, которых он столько уже наслышался дома и в поездках, что даже удивляться перестал, почему это все люди от старого до малого всё понимают, обо всем говорят с озабоченностью истинных хозяев, а, например, солярку сами же льют из ведра через край и не видят в этом беды. Непонятно ему было и то, что бы эти люди стали делать с березой, если бы им разрешили брать ее из лесу, и как бы они ее стали брать. — Все правильно! — кричал он, заметив в чащобе рябчика, который серым снарядиком умчался в чащу. — А вон рябчик! Видал? — спрашивал он у товарища. — Рябчик сейчас сорвался… Вон там.
Ехать было трудно. Прерывистый, оглушающий треск мотора, вертящиеся колеса с бурыми от льющейся жижи скобами, жесткая болтанка. Но наконец трактор остановился на повороте дороги, на развилке, и егерь, спрыгнув на землю вместе с охотниками, стал им объяснять, где стать на тягу и как найти деревню, которая от поворота в двух километрах.
— По правой стороне, — кричал он, — увидите горку. Не то чтобы горку, а поле, а над полем увидите крыши. Это и есть деревня. Ее мимо не пройдешь… Лес справа кончается и сразу поле… Фонарики-то есть с собой? Ну и хорошо. Вот там и встретимся, как условились. Тут заплутать невозможно. Только, ребята, там не то что поосторожнее, а так… Тут у нас медведи, и немало. Если с медвежонком, лучше как-нибудь поосторожнее, лучше не показываться ей… А медведя не бойся, он ничего не сделает. Да и медведица не дура, но на всякий случай… Договорились? Все! Тяга тут неплохая должна быть. А мы с Василием на послух…
Он вскарабкался в тележку, и вскоре треск тракторного мотора затих в лесу.
Была потом вальдшнепиная тяга. В сумерках в розовом небе над голыми полянами, над кустарником, над березками и осинами летели лесные кулики, и охотник в берете убил одного из них. И этот единственный вальдшнеп не доставил ему никакого удовольствия, а только растревожил душу. Тем более, что, раненный в крыло, он падал из розового неба, кружась, как лист, и крича верещащим голосом. Потом, волоча крыло и кувыркаясь, перепархивал по земле, и за ним пришлось гоняться между кустами, ловить и добивать. Был он маленький, щуплый и несчастный, потерявший много сил в длинном перелете с юга на север и наконец полетевший в брачном азарте над лесными полянами в поисках самки. Когда охотник поймал его, он царапался, вырывался из руки, но после первого сильного удара о приклад обмяк, засучил лапками, судорожно откинул голову и удивленным, страдальческим черным глазом словно бы взглянул на человека и спросил у него: за что же это так меня?..
Но чувство вины перед птицей быстро прошло, и, когда после тяги охотники встретились и делились впечатлениями, никаких угрызений совести никто из них уже не испытывал. Охотник в берете, показывая свою добычу, сказал о вальдшнепе с пренебрежением в голосе:
— Так себе… вшивенький. А ты вроде бы хорошо палил!
— Тяга отличная… Ничего не могу понять! Двух как минимум… Верные были!
Небо еще тлело над западной стороной, отдавая смутный свет чистым полям. Но лес уже почернел и смешался с мраком наступающей ночи. Пока еще не распустилась листва на деревьях, не зацвела бредина, пока еще не распахнулось небо, приняв отсветы северных белых ночей, апрельские ночи темны и даже как будто бы грязноваты на цвет. Где земля, где небо? Смутна и неопределенна граница между ними. Глаз с трудом находит ее, особенно в пасмурные ночи: все тогда размыто в сыром, теплом воздухе, все колышется, меняя очертания, куст оборачивается человеком, а человек — елкой. Чавкающие шаги на дороге раздаются то сзади, то спереди, в грязноватом воздухе летают бесшумные птицы черного цвета, а по обочинам дороги смотрят, провожают путника лопоухими мордами, бурые лоси. Мазнет по обочине трепещущий лучик карманного фонаря, выхватит елку, в которую обернулся головастый лось, или упрется в туманную высоту и потеряется в мокроватой и грязной ее бесконечности.
Охотники шли по дороге и, ощупывая лучами сильных фонариков дорогу перед собой, поглядывали в правую сторону, дожидаясь, когда кончится лес и начнется поле. Время, казалось, тоже обернулось безвременьем, чудилось, будто давно уже прошли они те два километра, о которых говорил им егерь, а дорога глохнет, теряясь в густом, сероватом от снега лесу.
Но наконец-то они почувствовали, ощутили справа от себя простор.
Лучи фонарей выхватили золотистые кустики над придорожной канавой, а за ними мокрую, зализанную половодьем пашню.
Погасив фонари, они долго вглядывались в лиловую грязь ночи, стараясь уловить разницу между землей и небом, а когда глаза привыкли, увидели черные горбинки за полем. Ни дороги, ни тропинки, ни межи не нашли они в поле и, увязая в глинистой пахоте, тащились напролом, намотав на сапоги липкие колтуны тяжелой земли. Выдохлись, пока достигли края поля, как бы выйдя из болота на сухое и твердое место: не то что на землю вышли, а показалось, поднялись в воздух — так легко и радостно пошли они к темным домам мертвой деревни, до которых уже рукой подать…
Домов было немного. Полуразрушенные, с выбитыми стеклами, они чернели глазницами окон, отблескивая осколками в рамах ярый свет фонарей. Дом с палисадником, с голым кустом возле окон, со скамеечкой, вынесенной за ограду.
— Сядем, — сказал охотник в берете.
Сели, оглядываясь и высвечивая мрак покинутого жилища…
— Похоже, что этот, — сказал товарищ. — В три окна, с палисадником.
— Тот должен быть целым…
В мокрой тишине ночи раздался вдруг треск тракторного мотора, да так близко, будто его только что завели неподалеку, и за соседним домом, вырисовывая его в темноте, забрезжил дрожащий и прыгающий свет фар, золотистым туманом пронизавший темноту и встряхнувший полнеба голубоватым электрическим сиянием. Видимо, трактор выскочил из лесу на открытое пространство и, невидимый за лесом, обнаружился сразу, круто полез в горку, к деревне, и, надрываясь мотором, скоренько выкатился к дому, уставившись фарами в темную стену.
В лучах света что-то дымилось, испарялось, мотор разгоряченно тарахтел, темная фигура человека загородила вдруг лучи, и тень шарахнулась в небо, потом упала, и огни фар с новой яростью засияли, дымясь и испаряясь.
Охотники помигали фонариками, и, когда подошли к дому, егерь уже входил в отодвинутую дверь. Шагнули и они следом.
— Иех-ты, ма! — воскликнул егерь. — Кто ж это тут! Видал, что натворили, — говорил он, сутулясь в темном проеме двери, ведущей из сеней в избу. — Паразиты!
В сенях в лучистом свете фонарика валялись какие-то серые фанерные ящики, битые серые горшки, что-то непонятное и никому не нужное, брошенное, покрытое как будто лучистой серой пылью, хотя и не было тут пыли. Тени метались по углам и по низкому потолку; плесенный, зимний холод угнетал душу. В избе в левом углу горбилась глинобитная печь; справа, возле окон, щелястый, покатый и тоже серый, точно под слоем пыли, пол, на котором тоже было разбросано что-то: ржавые ведра, фанерные ящики, рваный, плетенный из лыка короб, подметка с остатками заплесневевшей кожи, разбитая бутылка, серый резиновый сапог и что-то еще, что-то еще… Весь этот серый хлам, который когда-то зачем-то был нужен кому-то, жившему в этом доме, теперь мешался под ногами, отбрасывая тени, создавая впечатление хаоса.
В дом вошел Василий, стукнувшись стволами ружья о дверную перекладину.
— Видал! — сказал ему егерь, окидывая взглядом голые стены и разор на полу. — Кто-то зимой… Туристы, что ль?!
Василий поднял с пола чугунный горшок с отколотым краем и бережно положил обратно на пол, будто вернул на место.
— Непонятно, — сказал он, озираясь. — Кому это нужно? Дверь-то заперта?
— Нет! Замок сбит.
— Непонятно, — опять сказал Василий. — Зачем? Одно можно сказать: взбесился народец. Тут старушка жила, — сказал он, обращаясь к охотникам. — А прошлой осенью умерла. Поехала в магазин и умерла. Старенькая. А домишко ее с осени хороший был. Его, как она умерла, вроде бы опечатали, а потом видят — нечего тут опечатывать, видно, кто-то искал… Денег, может, надеялся найти или золота, что ль! Чего делать-то будем, мужики? Ночевать или домой поедем? Надо решать! — с сердитой какой-то плаксивостью в голосе крикнул он.
— Просидели мы, — сказал егерь. — Ни один не подлетел. Заря тихая, услышали бы… Нет! Тока завтра не будет! Вот и решайте сами. Ночевать, так мы сейчас печь растопим, как-нибудь переночуем, а нет — садимся и домой.
— Что это за весна такая нынче холодная! — сказал Василий, поднимая с полу деревянную рогульку и разглядывая ее.
— Что это? — спросил охотник в берете, освещая рогульку фонарем.
— Это-то?! Как что! Палец на косу.
Что-то промелькнуло вдруг в сознании охотника, глаза его вцепились в рукодельную вещицу, память словно бы что-то воскресила, он потянулся рукой к рогульке, взял ее, пружинящую, и сразу представил себе, как этот палец обхватывает косовище и, затянутый сыромятинкой, крепится под руку.
— А можно взять на память? — попросил охотник.
— Возьми… На что тебе? — спросил Василий и махнул рукой. — Чего решать будем? Ну?
И все решили, что надо ехать домой: раз уж с вечера глухари не прилетели, значит, не будет утром тока.
Охотник бережно спрятал в рюкзак деревянный палец, чувствуя себя человеком, покидающим навеки родимый край и берущим в дорогу горсть земли. Он оглядел напоследок обреченный и разоренный дом и, стуча резиновыми каблуками, молча вышел на освещенное фарами крыльцо. Палисадничек с кустами желтой акации, прогнивший порожек покосившегося крыльца…
Но чувство отчаяния, охватившее вдруг молодого человека, быстро прошло, и когда он трясся опять в тележке, видя, как рычащий трактор опять встает на дыбки, кидая свет фар в небо, душа его была спокойна, и ему не терпелось скорее добраться до теплого дома, поужинать, выпить чего-нибудь, согреться, а потом улечься на мягкое и теплое и уснуть. «Вальдшнеп, палец на косу… Ну и хватит, — думал он, — ну и хватит… Довольно с меня».
Поздно ночью с особенным, озорным каким-то треском и тарахтением трактор ворвался в спящий поселок, в тихую его улочку, освещенную одиноким фонарем, и, играя переливчатыми огнями в стеклах темных окон, подкатил к егерскому дому. Мотор его работал уж много часов подряд, жадно сжигая солярку, но Василий и не думал его выключать. В лучах забрызганных фар опять задымились выхлопные газы, смутно заблестел покрытый изморосью бруснично-красный автомобиль, такой же темный, как и спящий дом.
Пока сошли на землю, пока прощались с Василием, пока он разворачивался на собственном своем тракторе, высвечивая окна дома, в одном из этих окошек засветился вдруг злобный, как всем показалось, желтый огонек, будто хозяйка, проснувшись среди ночи, послала всем проклятие. Радостно заскулила за забором собака.
Среди ночи, сытый и полупьяный, разморенный усталостью охотник, приглаживая рукой измятые под беретом упруго вьющиеся волосы, лег на низенький матрас в темной половине, слыша, как товарищ его, опьянев, о чем-то тихо и страстно все еще говорит с хозяином, о чем-то спорит с ним, что-то доказывает, потягивая крепкое вино из стакана. Под этот говорок он блаженно потянулся на скрипучем матрасе, как маленький ребенок, которого родители, оставшиеся за столом, уложили спать, и вдруг увидел в косых лучах желтого света, пробивавшегося из-за перегородки, в теплом полумраке спящую за занавеской женщину, которая днем кормила дочку супом.
Она спала, раскинувшись под жарким одеялом, и он увидел лишь золотистое ее, округло-точеное колено, отблескивающее упругой кожей.
Он закрыл глаза и улыбнулся в смущении — так близко и так таинственно тихо спала чужая женщина, выпростав из-под стеганого одеяла ногу и не подозревая, что ее может увидеть он, вернувшийся из леса в неурочный час.
Все смешалось в его сознании, все чувства пришли опять в смятение, и он, не понимая, для чего ему все это нужно: ехать за тридевять земель, жечь бензин, рисковать на обгонах, торопиться, чтобы залезть в грязную тележку и трястись по бездорожью, а потом стрелять и ранить вальдшнепа, прилетевшего в эти гиблые леса с юга, тащиться по тяжелому полю в мертвую деревню, освещать фонариком нищету разоренного дома, наткнуться взглядом на ручную поделку ушедших из жизни людей, увидеть в ней что-то важное для души, а после всего этого лежать на продавленном, скрипучем матрасе, пропахшем чужим потом, слышать спорящих за стенкой товарищей и в радостном удивлении смотреть краешком глаза на обнаженное колено спящей женщины, которую он не успел даже рассмотреть как следует днем, — не понимая, для чего все это нужно ему, он между тем чувствовал, что запомнит теперь на всю жизнь эту странную ночь с томящими душу подробностями, с ее запахами, звуками, страданиями, радостями, сомнениями, которые вплетались в эту ночь как неотъемлемые ее части, и что никогда он уже не спутает эту ночь с другими ночами и зорями… Он чувствовал, что именно эта ночь была очень нужна ему в жизни: ночь с убитым вальдшнепом, с деревянной рогулькой, называющейся пальцем, и с этой ничего не подозревающей, крепко спящей за ситцевыми занавесками женщиной, недавно родившей девочку с плавающими голубыми глазами.
Зачем?
Он еще раз хотел взглянуть на спящую женщину, но глаза его уже так тяжело и плотно закрылись, что он никак не мог справиться с ними, — улыбка пробежала по всему телу, и он в счастливом и блаженном неведении удивленно провалился в сои.
Без шума и пыли
Вялая улыбка брезжит на его измученном неземной уже заботой лице. Улыбается он чему-то очень далекому и нереальному — так далек и нереален женский голосок в телефонной трубке, дрожащей в его руке, обтянутой сухой пятнистой кожей.
— Я-то? Хорошо. И чувствую себя тоже хорошо, хожу в сквер, отдыхаю там на скамеечке… Вот так, милая, ты о себе-то мне расскажи-ка лучше. Совсем забыла меня. Совсем! Я понимаю, семья, заботы разные… Зашла бы все-таки. Соскучился я до тоски. Вот и заходи, потолкуем о твоих неприятностях, может, что-нибудь и придумаем вместе. Ладно, жду, милая. Не обмани. Очень буду ждать… Как праздника. Вот… Целую тебя. Сразу после работы? Это, значит, в половине седьмого вечера? Хорошо, моя красавица.
Он кладет дрожащую трубку на рычаг автомата, улыбка угасает на морщинистом лице, он ее словно бы пережевывает бесцветными губами и проглатывает с отвращением. И с этим обычным теперь выражением какой-то брезгливости на лице идет по тротуару, прижимаясь к стенам домов. Розовые, воспаленные на ветру глаза его поблескивают голубенькой слезкой. Цементного цвета габардиновое пальто старого покроя с жировыми пятнами на лацканах болтается, как кавалерийская шинель, прикрывая ноги чуть ли не до щиколоток. Плечи обвисли, а из обтрепанных рукавов видны только кончики заострившихся пальцев. Ботинки шаркают по асфальту, шаг его короток и неуверен. Старческие, немощные заботы сплелись в сплошное страдание на его лице — ему в ходьбе теперь приходится беспокоиться о том, как бы не упасть, не оступиться на уличном переходе, успеть дойти до противоположного тротуара, пока горит зеленый свет. Серая, вытертая фетровая шляпа с просолившейся лентой и шелковое, скользко прячущееся под воротником узенькое кашне. Тонкие поля шляпы волнисты и давно уже неуправляемы, некогда модный излом заострился, а сам колпак промялся по форме черепа.
Все теперь раздражает его! Даже женщины, на которых он давно уже не смотрит как на некий слабый пол. Они для него теперь стали сильными, и он сердится на них, когда те толкают его в дверях магазина, не пропускают первым, капризно ругается в троллейбусах или в метро, если ему не уступают места, требует внимания к себе, хотя бывает терпелив, если не женщина, а мужчина нахально сидит, не вставая. Мужчин он побаивается, сторонится шумных компаний, обходит пьяных, подозрительно вглядывается исподтишка в лица встречных, а иной раз даже останавливается, пропуская быстро идущего за ним следом человека.
По-мужицки крутой и хваткий, окружавший себя в прошлом людьми подобострастными и робкими, умевший одним своим взглядом лишить дара речи, но любивший и простить великодушно, — человек этот, по фамилии Рогов, так одряхлел к семидесяти годам, так изменился душой и телом, что его трудно было бы узнать даже тем людям, которым он чуть ли не во снах являлся и которые трепетали когда-то перед ним в его кабинете, не решаясь присесть на стул, если он и просил их об этом.
Анатолий Васильевич Рогов имел всегда при себе довольно пухлую пачку с вырезками из газет: тут были статьи на хозяйственные темы, на темы морали и быта, статьи под рубрикой «Из зала суда» и множество всяких заметок, имеющих какое-либо воспитательное или поучительное значение. Провинившихся сотрудников Анатолий Васильевич усаживал на стул и, ссылаясь на занятость, говорил вежливо и как бы между прочим:
— Ты тут пока посиди и вот это почитай, а я тем временем займусь одним дельцем. Читай внимательно и, когда прочтешь, расскажешь мне содержание статьи. Вот так… Сиди и читай.
Он вытаскивал из папки какую-нибудь статью, которая, по его мнению, лучше, чем он сам, могла объяснить виновнику смысл и значение его проступка, и углублялся в свои дела. И лишь после того, как статья была прочитана, начинал со своим подчиненным разговор по существу, забывая о педагогике и не скупясь на выражения резкие и обидные.
Этот стиль Рогов перенял еще в молодости у своего, покойного теперь, начальника, который не однажды заставлял его читать статьи на моральные темы, расспрашивая потом, о чем там написано, делая это с ехидной какой-то наивностью и приговаривая с удивлением: «Да что ты говоришь! Не может быть! Так прямо и написано? А ну-ка, прочти мне вслух». И Рогов читал, ненавидя в эти минуты самого себя, а в душе кляня на чем свет стоит своего мучителя.
Рогов на личном опыте знал, что в этой педагогике важно не перегнуть палку и не довести человека до бешенства, а потому он не всегда пользовался таким — сильнодействующим, как он считал, — методом проработки, предпочитая со старыми и хорошо ему знакомыми работниками вообще разговаривать без всякой церемонии.
— Нет уж, прошу тебя, сядь, сукин сын, посиди, погляди мне в глаза, я не мамзель какая-нибудь, а ты не гусар, можешь и сесть, — говорил он мягко окающим, четким и вкрадчивым голосом, добавляя в шутку: — Пока можешь на стул, а там посмотрим, разберемся и решим, куда тебе лучше сесть. Вот так. Хорошенько садись, поплотнее, поплотнее. У нас с тобой разговор будет серьезный, я даже секретарше приказал никого не впускать ко мне, чтоб не мешали. Ну чего ты, как школьник, ежишься?! Может, тебя с родителями вместе надо вызывать? Вот я приказ-то напишу, чтоб твои родители явились ко мне объясняться за такого непутевого сына, раз сам ты молчишь, как нашкодивший мальчишка. Долго будем в молчанку-то играть?! — взрывался он вдруг, и глаза его источали коварный, сатанинский блеск. И не гневом, а каким-то шутовским весельем преображалось его лицо, змеиная улыбка играла на губах. — Вот что, — говорил он, не сводя глаз со своей жертвы. — Слушай меня! Ступай-ка ты в баню! Разговор у нас с тобой не получится сегодня, потому что, я гляжу, ты вспотел с перепугу, а я, когда по́том пахнет, плохо соображать начинаю. Иди-ка ты, купи банного мыла, веник да мочалку и ототрись как следует… Иди! Эй, подожди! Фортку открой пошире, впусти ты ко мне весеннего воздушка, чтоб проветрилось. Вот так. Постой! — кричал он опять, возвращая виновника уже от дверей. — Поди-ка сюда ко мне… Садись.
— Да чтой-то вы, Анатолий Васильевич, совсем уж… — обиженно говорил провинившийся, зная заранее, что гнев начальника сменился уже на милость и пришла пора покапризничать. — То пошел, то вернись… Ох-хо-хо! Сколько вместе работаем, а все никак, все на крике. Ей-богу, иной раз хочется плюнуть на все и уйти к чертовой бабушке. Терпение лопается! Просто как с мальчишкой каким…
— Ладно тебе! Заныл! — гремел Рогов уже во весь голос, напрягаясь лицом и багровея. — У меня ведь тоже есть шея, вот она! — стучал он себе по крутому загривку. — И она мне роднее твоей. Если мы друг на друга обижаться будем, как мамзели какие, кто же работать-то будет, мать честная?! Обиделся! Ты мне вот что скажи, сукин сын, когда ты меня на рыбную ловлю пригласишь? Ведь сам-то не догадаешься зайти. А ведь налим-то голодный ходит, а? Колокольчики-то мои заржавели, — всхохатывал он. — И что ты мне тут свои обиды талдычишь, скучный ты человек! Поехали-ка, Феденька, в эту пятницу… Это какое же число-то будет? Так, в эту пятницу едем с ночевкой. Поклониться ведь надо, а? Давно не били челом, Феденька, давно. Я шоферу прикажу… Шофер-то у меня новый, мальчишка еще, лихой с излишком, но вот что я доложу тебе, дорогой мой Феденька, шофер мой рыбак. Рыбачок! Лихой, сукин сын, но рыбачок заядлый, сам просится… Ему и приказывать-то не надо. Это для него как поощрение. А уж ты, Феденька, обо всем остальном позаботься. Вот тебе мой приказ: не выполнишь, тогда уж точно, уволю к бабушке твоей чертовой. Вот так. И слушай-ка, я тебя серьезно прошу, по-товарищески, ты своих ребят мобилизуй. Срок ремонта прошел. А ты все валандаешься. Где надо — за глотку возьми, а где и пряником. Тебя ли мне учить! Не подводи своего начальника. У меня ведь шея-то не железная, всех не вывезу… Учти это обстоятельство. Серьезно говорю.
— Понял, Анатоль Василич, — говорил великовозрастный Феденька и так оживлялся, что и впрямь становился похожим на мальчишку. — Вдвоем поедем, Анатоль Василич, или?.. — спрашивал он, преисполненный внимания и смекалистого рвения.
— Иэ-эх! Кто же тебя на свет-то такого родил? Небось ведь женщина!
— Я тоже так думаю, — подхватывал Феденька.
— О чем это ты «так думаешь», мерзавец? Я гостем твоим буду. Ты меня позвал, ты и хозяин. Ты в ответе за все, — говорил Рогов и, вдруг краснея, грозил Феденьке кулаком. — Чтоб без шума и пыли! Понял? Ох, бабник ты, Федька! Какой же ты бабник… Смотреть противно. В пятницу с утра жду звонка… Ну, а где ж мне быть?! Я всегда у себя, — ворчал он, как сытый грач на родном гнездовье, не обращая уже внимания на Феденьку, которого только что распекал. — Я, брат ты мой, — отрешенно и назидательно повторял Рогов, делая пометочку в календаре, — всегда у себя, — вкладывая в эти слова неясный, но глубокий, как ему казалось, и таинственный смысл.
Дымчатая «Победа» с мягкими и глубокими сиденьями, в которых уютно расположился Феденька, Анатолий Васильевич и две молчаливые, улыбающиеся женщины, как бы ждущие только причины для смеха, бежит по сухому шоссе, плавно пружиня рессорами.
— Федька, — говорит Рогов, не оглядываясь назад, — расскажи-ка ты женщинам, как однажды вместо трусов брюки надел, а на брюки трусы… Помнишь?
Но рассказывать не надо, все и так всем ясно — женщины смеются до красноты.
— А помнишь, Феденька, как ты кошку в сортире застрелил?.. Это был выстрел! Королевский. Его, понимаешь ли, хозяйка в одной деревне… На охоте мы были. Хозяйка попросила кошку застрелить — орет, мол, и орет без конца: то ей на улицу, то в дом, — пустишь, а она обратно просится, мяучит и мяучит. Мы и сами измучились тоже с этой кошкой. Федя на огород ее вытащил, дело осенью было, да промахнулся с перепугу-то… Кошка от него бежать и в уборную нырь — спряталась. Он за ней. А той куда деваться? Сиганула в дырку. Барахтается там, орет, а Федька стволы в дырку, жалко кошку-то! — мучается! Прицелился и ша-арах! Попал, мерзавец… А от удара дробового ему кэ-эк плеснет в рожу… удобрением. Перепугал меня до седых волос: орет, как бык, мычит, ружье бросил, плюется. Пришлось в магазин ехать за одеколоном, да и то не сразу помогло. Помнишь, Федь…
И опять смеются женщины, ойкают, задыхаясь от хохота.
Рогов умолкает, с довольной улыбкой глядя на сухой асфальт, на мокрые обочины, на серый снег, еще лежащий кое-где под елками.
Молодой парнишка за рулем, у которого волосы не успели отрасти после срочной службы, тоже плывет в улыбке и смущенно гнет шею, не привыкнув к шуткам своего хозяина.
— Ну даете, — говорит он негромко. — Ну даете…
— Ты, Василий Игнатьевич, — обращается к нему Рогов, — человек молодой, ездить как следует пока не научился, в авариях не бывал, а потому не гони. Сбавляй, сбавляй скорость — я этого не люблю. Видал, какое шоссе пошло, машину хоть пожалей, если нас тебе не жалко. Вот так и поезжай. Нам спешить некуда, — говорит он с вежливой усмешкой, приспосабливая к своему нраву и привычкам нового шофера. — И вот что не забудь, Василий Игнатьевич, останови на сто первом километре… прямо у столба останови. Люди мы немолодые, суеверные… В оба гляди, не проскочи! Прямо к столбу съезжай. Давненько мы с тобой, Федька, — громко и весело восклицает он, — не били челом истукану нашему, давненько, а?!
В сумерках подъезжают они к сто первому километру. Рогов требует сбавить скорость, чтоб не прозевать долгожданного своего «истукана», как он называет километровый столб.
— Вот он, голубчик, — в шутливой радости говорит Рогов, увидев столб. — Вот он, наш милый, стоит не качается, чистенький да беленький. Голубь наш. Тормози, Василий Игнатьевич… Пошли, Федька, челом бить…
Они выходят из машины, приближаются к столбу и под хохот женщин кланяются ему в пояс.
— Здравствуй, батюшка, — говорит Рогов, отвешивая поклоны. — Рабы твои Федор и Анатолий просят у тебя милости… Все, батюшка, мы под богом ходим, так ты уж пощади нас, грешных. Мы тебя в своих молитвах поминаем и желаем тебе здравствовать тут во веки веков, а нас прости — ненадолго проедем за тебя порыбачить. Феденька, неси-ка бутылочку, мы с ним на троих разопьем.
Феденька со смехом бежит к машине, достает коньяк и три мельхиоровых стаканчика, наливает, подает два Рогову, содержимое одного из которых тот выплескивает на цифру сто один, а другой опрокидывает себе в рот и крякает от удовольствия. Выпивает и Феденька, но не до дна и остатки тоже выплескивает на столб.
Женщины помирают от смеха, высунувшись из машины. Смеется и парнишка над дурачествами своего хозяина: ему не приходилось видеть такого, и он не сразу догадывается о смысле этого поклонения, пока Рогов с игривой строгостью, с какой-то скрытой стыдливостью не объясняет ему, что у них ритуал такой, кланяться сто первому километру.
— Шутка, конечно, — басит он, усмехаясь. — Развлечение старых людей. Слыхал, небось, что кой-кого за сто первый километр высылают? Вот… Ну и дурачимся. Ты не обращай внимания и языком не трепли, а вы, девушки, тоже о наших художествах не рассказывайте. Душа в нас просыпается младенческая, пращуров вспоминаем, язычников всяких. Вот. А мы с Федькой — язычники, верим во всяких леших, водяных — вот и кланяемся истуканам. В шутку, конечно. Играемся! Ну и хорошо, что понимаете. Поехали, Василий Игнатьевич, теперь уже недалеко, — говорит он, погрустнев отчего-то. — Ох, устал я, Федя! Не отдыхал давно.
И дальше они едут в молчании. Даже женщины притихают и тоже как будто бы грустнеют. Встречные машины светят уже подфарниками. Краснеют рубинчиками стоп-сигналов догоняемые грузовики. Все лилово вокруг и туманно, одни только эти рубинчики да желтые подфарники на синей ленте шоссе. И мутное, зеленое небо над головой.
Ничего этого не помнит или не хочет помнить дряхлый старик, сидящий на теплой, разогретой весенним солнцем лавочке. В руках у него картонная коробка из кондитерского магазина, перевязанная крест-накрест бумажной бечевкой. Около, на кирпично-красной влажной земле, толкутся сизые голуби, которых кормит седая женщина, сидящая рядом. Он долго и равнодушно смотрит, как проглатывают жадные голуби ноздреватые кусочки белого хлеба, как они торопятся схватить кроху, суетясь и взмахивая крыльями с грязными маховыми перьями, как дергаются их перламутровые головки на ходу, мелькают малиновые лапки, и вдруг встречается взглядом с одним каким-то бессмысленно круглым, сторожким, кровянистым глазом птицы, которая смотрит на него, как ему кажется, с ненавистью и вызывающей наглостью.
Рогов ворчит, полуобернувшись к соседке:
— Сколько же вы хлеба этим дармоедам скормили! Вот бросает, вот бросает… Люди машины делали, плуги, сеялки, бороны, комбайны, мельницы, пекарни. Вся держава напрягалась из последних сил, а потом люди ночей не спали, торопились убрать урожай, убрали, смололи хлеб, вывезли, сдали. А для чего? Чтоб вы, старая женщина, за тринадцать копеек купили батон и кормили этих дармоедов. Вам потерять тринадцать копеек или хлеба купить — одно и то же. Плохой пример детям, очень плохой!
— Перестаньте вы со своей нищенской психологией… Я-то знаю, что такое хлеб и что такое голубь. Кто их в городах развел? Люди. Кому ж их кормить, как не людям? Или давайте всех уничтожим, устроим бойню. Хороший пример детям!
— Нам не понять друг друга, — говорит Рогов.
— И слава богу, — отзывается женщина, продолжая кормить голубей.
В скверике распускается сирень, ее соцветия уже дымятся лиловыми бутонами. Шуршат шаги на кирпичной крошке…
— Сколько сейчас времени? — спрашивает Рогов у старушки.
— У меня нет часов, — отвечает та, отряхивая руки. — Сначала оскорбит, а потом время спрашивает… Наверно, часа три, не больше. Кстати, надо спрашивать не сколько времени, а который час. — И, поднявшись, уходит.
Голуби с треском взлетают. Воробьи чирикают в кустах сирени. Белая бабочка вьется над клумбой с алыми цветами. Ярко все вокруг и чисто, как на картинке.
Анатолий Васильевич Рогов чуть ли не всю свою сознательную жизнь работал на руководящих должностях. Его перебрасывали за это время с одного хозяйственного объекта на другой, он быстро осваивался в новой для него обстановке, стараясь перетащить за собой своих людей, находя причины уволить тех, на место которых он их ставил.
Если весь путь его деятельности графически изобразить на какой-нибудь диаграмме, то кривая сначала резко полезет вверх, а потом постепенно начнет снижаться, скользить по покатости условного времени и, наконец, круто пойдет вниз. Получится фигура, силуэтом напоминающая знаменитую крымскую Медведь-гору.
В жизни все это происходило с Роговым словно бы под влиянием какой-то странной центробежной силы, которая почти с каждым новым периодом его деятельности все дальше и дальше отбрасывала Анатолия Васильевича от вершины, достигнутой им в расцвете лет. Казалось бы, все должно развиваться совсем наоборот: он приобретал опыт, связи, становился увереннее в себе, не боясь ответственности и риска, у него были свои, верные ему люди, он мог положиться на них, как на самого себя, и ворочать большими делами. Но что-то все время мешало ему. Скандальный развод с первой женой, которую он когда-то любил и которая родила ему дочь. Потом женитьба на молодой тридцатилетней женщине, родившей ему сына и вскоре ушедшей от него к другому. Какие-то случайные женщины, связи с которыми почему-то обязательно становились известными всем. Всплывали тогда тайные, скрытые до поры до времени служебные промашки, находился более образованный и гибкий руководитель, занимавший его место, а Рогова бросали на прорыв на какой-нибудь горячий участок, который он остужал своими методами руководства, пока не наступала новая пора непредвиденных бед и проколов.
На этом долгом пути, чуть ли не до последней его должности, ему не изменяли всего лишь два человека: Феденька и Люся, работавшая у него секретарем, а в «обозе», как он сам говорил в шутку, остались две жены, два ребенка, ставшие взрослыми и словно бы забывшие отца, и великое множество «преданных» ему людей, которые тоже как бы исчезли бесследно, хотя и считалось когда-то, что именно Рогов вытащил их из небытия, вдохнул в них начальственную жилку, и ему они были обязаны своим продвижением по службе. Во всяком случае, сам Рогов думал именно так и очень гневался и страдал душою, когда они отворачивались от него. Он бы, конечно, так не поступил! А Феденьку он сам однажды отговорил переходить за ним на новое место, потому что тот много бы потерял в окладе. Феденька погоревал для приличия и согласился, а вскоре тоже, как все остальные, бесследно исчез и даже не подходил к телефону, если звонил Рогов. Но Рогов на него не обижался.
И только Люся оставалась до конца, до донышка верной ему, работая с ним до последнего черного дня, когда Рогова проводили на пенсию. Она плакала, вручая ему свой подарочек — две невесомые чашечки из тончайшего, полупрозрачного фарфора.
— Как тебя зовут-то? — спросил он когда-то эту почти девочку, пришедшую именно к нему, а не в отдел кадров наниматься на работу.
— Люся, — ответила она. — А фамилия Вороненко… Людмила Ивановна. Вот паспорт.
Рогов рассмеялся, а сам, поглядывая на очень симпатичную и самостоятельную просительницу, у которой в Москве ни родственников, ни знакомых, — как говорится, ни кола ни двора и даже прописки не было, добродушно заговорил с ней. Уж очень она ему понравилась.
— А я тут, Люся, у себя в деревне отдыхал, в Овражках, — есть такая на свете деревня, — так вот, там пионеры и школьники старших классов старую грузовую машину, которую колхоз на лом списал, своими руками отремонтировали, все детали недостающие в школьной мастерской выточили, собрали, отрегулировали, стали на ней ездить и назвали ее Люсей. Почему бы это — не знаю, не спрашивал. Автобус у нас не доходит до кой-каких деревень, так вот, Люсю эту под автобус оборудовали, борта повыше сделали, скамейки. Стоят теперь люди и ждут Люсю… Ломается, конечно, но ходит. Во какая Люся у нас есть! Это Люся так Люся. А ты, значит, бухгалтером в колхозе работала. Так…
Рогов принял ее на работу, поселил временно в общежитии, а потом оформил ей и постоянную прописку, что было в то время довольно трудно, но проще, чем теперь.
Ей было не так уж и мало лет, как показалось Рогову на первый взгляд, — двадцать один, хотя она и выглядела на шестнадцать. В ее фигуре была одна странность, сразу бросающаяся в глаза: природа словно бы ошиблась и перепутала составные, заготовленные для двух разных людей части, то есть узенькая, по-девичьи хрупкая и как бы даже недоразвитая грудная клетка, плечики и руки каким-то странным образом гармонировали с женственно полными ногами, казавшимися особенно напряженными и сильными, когда Люся стала надевать туфли на высоком каблуке. Смекалистая и живая, Люся скоро освоилась с обязанностями секретарши, научилась печатать на громоздкой и угловатой, как старый автомобиль, но надежной машинке «Континенталь», в ее движениях, в ее голосе и взгляде появилась та профессиональная озабоченность и строгость, какая присуща только секретаршам, преданно оберегающим покой своих не очень важных, но зато очень часто беспокоимых начальников. Рогов был очень доволен Люсей, которая, правда, иногда останавливала на нем такой глубокий и тягостно задумчивый, отрешенный какой-то взгляд, что Рогова это начинало уже всерьез беспокоить и смущать: она была моложе его дочери, и он об этом сразу же вспоминал…
Рогов только что справил свой пятидесятилетний юбилей, был еще полон надежд, имел вид преуспевающего, уверенного в себе человека, грубо изломанные, резкие черты крупного лица, тяжелая нижняя челюсть, низкий лоб, над которым и с боков которого густо росли прямые и жесткие волосы с серебристой и почему-то даже золотистой сединой, стремительно зачесанные назад. Что-то дикобразистое было во всем его облике, какая-то диковатость и удаль, с трудом обуздываемая накрахмаленным белым воротничком и галстуком. Большой и сильный, широкий в кости, он не вписывался в свой кабинет, был как бы случаен и временен за столом, заваленным бумагами, словно бы и тут, как и с Люсей, произошла ошибка, но уже не природы, а судьбы, которая усадила этого мускулистого человека за стол, хотя он был задуман для какого-то иного — физического или ратного — труда. Казалось, ему было очень трудно всякий раз усаживать себя в кресло, укрощать бушующие от безделья мышцы, брать крупными пальцами тоненький карандаш или авторучку.
Однажды он задержался у себя, готовясь к докладу, отослав и шофера и Люсю домой. Но Люся не послушалась и очень удивила Рогова, войдя вдруг к нему.
— Что, Люсенька? — спросил он, отвлекаясь от дела. — Почему не ушла?
А она в какой-то задумчивой и пугающей решимости подошла к нему, молча и упрямо протиснулась между креслом и столом, обескуражив и напугав Рогова, села к нему на колени или, вернее, навалилась на подлокотник кресла и на его колени, обняла и сказала спокойно и без тени сомнения или страха:
— Я хочу вас поцеловать, Анатолий Васильевич. Вы так много сделали для меня… Кто я вам? Никто. Так не бывает. Я хочу быть для вас кем-то. Мне легче будет.
— Не дури, Люська, — тихо говорил Рогов, мягко отстраняя ее от себя. — Не дури, девочка… Не надо. Я старый человек, женатый, у меня дочь старше тебя. Не дури, пожалуйста. Дай-ка я тебя сам поцелую, как дочку. Будешь вроде как дочка для меня. — Он, с трудом поднявшись, оттолкнув и уронив загремевшее кресло, взял ее головку и поцеловал в лобик.
А она вдруг расплакалась такими слезами, так горько и горячо, что Рогов совсем растерялся и, не зная, как унять ее истерику, накричал на нее и чуть ли не отшлепал.
— Куда ты лезешь, дура! — кричал он, ходя по кабинету. — Ты что! Тебе замуж надо, тебе детей надо рожать, мужа любить. А ты, дура, ко мне, к старику! Выкинь из головы эту глупость. Я, Люська, ведь, знаешь… Я, Люська, мужик, я откроюсь тебе, я не боюсь… Я, Люська, столько женщин знал, что ты уж лучше не лезь ко мне. Не лезь, дуреха! И не реви! С ума, что ль, сошла?! Вот, на-ка, выпей водички, успокойся. Что ты?! Успокойся… Ты такая молоденькая, красивая, тебя муж любить будет. А я-то… Люська, Люська. Знала бы ты меня, дуреха!
А Люська, всхлипывая, говорила с каким-то детским упрямством:
— Вы тоже не знаете меня, Анатолий Васильевич… Вы не знаете. И не говорите ничего… Вы не знаете меня.
— Ну, будет, будет! Как это я не знаю тебя?! Я насквозь тебя вижу. Не знаю! Я тебе всю твою жизнь, если хочешь, могу рассказать, все твои мысли — все!
— Не знаете вы меня, Анатоль Василич… не знаете.
— Ну хорошо, — говорил он, соглашаясь с ней. — Не знаю. Пусть будет по-твоему. Давай-ка я тебя до дому провожу. Вытри слезы и иди умойся, приведи себя в порядок. Ты что! Ты ведь знаешь как! Кто-нибудь увидит, что ты у меня в кабинете плачешь… Что подумают-то люди? Понимаешь? С ума сошла девка! Ну-ка, быстро, быстро. Поторопись, милая. Чтоб, как говорится, без шума и пыли. Одна нога здесь, другая там. А то ведь я человек трусливый, всего боюсь, я ведь пуганый! А больше всего, Люсенька, самого себя боюсь. Больше всех чертей и дьявола боюсь себя! Вот ведь как, понимаешь ли ты!
На этот раз она послушалась и вскоре вернулась с опухшими глазами, но уже успокоившаяся, припудренная и даже деловито озабоченная.
— Не надо меня провожать, я одна доеду, — сказала она так, словно что-то важное вспоминала и никак не могла вспомнить.
Но уже какая-то сила, какая-то странная энергия, которую знал в себе Рогов, захватила его всего, он уже загорелся проехаться с этой заплаканной девочкой на такси, посидеть с ней рядышком в уютном полумраке автомобиля, испытывая что-то вроде благодарности к ней. Он с недоумением чувствовал в себе желание еще немного побыть с ней, услышать от нее наконец-то слова, которые бы ему все объяснили. Ему даже спросить у нее хотелось: «Ты что это, влюбилась, что ль, в меня?» — и услышать в ответ, чтобы снова в растерянности и смущении сказать ей: «Глупая! Ты ведь вон какая молодая да красивая, а я ведь старик для тебя совсем. Ты себе найди молодого мужа, он тебя любить будет, детей от него родишь».
Что-то в этом роде крутилось в голове Рогова. Ему как будто мало было того, что он услышал и почувствовал, ему надо было все выяснить до конца и забыть навсегда, отсечь этот разговор, чтоб никогда не вспоминать ее слез. Он и виноватым чувствовал себя перед этой девочкой, словно был обязан пожалеть ее, уступить ей и сделать что-то такое, о чем он и думать боялся. Но он и понимал, что самым правильным будет проводить ее до дома, убедиться, что она успокоилась, и успокоиться самому. Он даже успел в этой сумятице чувств подумать и о том, что Люсю, видимо, придется перевести на другую работу, хотя бы, например, в бухгалтерию, чтоб, не дай бог, не повторялись в будущем эти бурные сцены со слезами.
Но Анатолий Васильевич никуда ее не перевел. Люся проработала с ним до последнего дня, пока он не ушел на пенсию.
Вскоре случился тот самый скандальный развод с первой женой, потом его женитьба на тридцатилетней женщине, которая родила ему сына и которая сама ушла от него к другому мужчине, забрав ребенка с собой.
Люся, конечно, не имела к этому никакого отношения, оставалась верной ему помощницей, переходила с Роговым с одного места на другое, продолжала все так же задумчиво и как бы в случайной забывчивости подолгу рассматривать Анатолия Васильевича, замечая, как белеют его волосы, как устало трет он красные глаза, как сидит за столом в каком-то расслабленном, отрешенном состоянии: только плечи пиджака топорщатся, да словно в пустом вороте по-черепашьи морщится дряхлеющая шея, торчат сухие уши, упираясь в воротничок и как бы поддерживая утомленную, дремлющую наяву «башку», как он сам называл свою голову: «Башка болит, Люся, дай-ка мне какую-нибудь таблетку».
Люся к тому времени была уже замужем, у нее рос сын, которого она назвала Анатолием в честь своего начальника, хотя и мужа ее звали Иваном Анатольевичем — так что имя получилось вроде бы и в честь дедушки. Когда она познакомилась с Ваней, она решила про себя, что будет с ним гулять не меньше двух лет и только тогда, может быть, выйдет замуж. Но однажды в гостях они сели играть в карты, и она вдруг поняла, что выйдет за Ваню сразу же, как только он сделает ей предложение. Ваня сидел спиной к зеркальному шкафу, шифоньеру, а карты свои держал так, что все их видели, оставляя его все время в дураках. «Чего это вы смеетесь?!» — спрашивал он смущенно, пока Люся не сказала ему о картах и зеркале. «А-а-а, — протянул Ваня. — А я думаю, чего это они все смеются да смеются».
Это был очень добрый и доверчивый человек, обожавший свою Люсю.
Старая вдова, с которой Рогов познакомился в санатории, имела под Москвой большую дачу с огромным участком. Эту женщину звали Марией Сергеевной.
У Марии Сергеевны болели ноги и что-то происходило с печенью. Даже в самую жаркую погоду она спускалась по ступенькам террасы на землю в старых, подшитых толстым войлоком валенках, из которых синели худые ноги, обтянутые шерстяными спортивными штанами. Озирая свои владения глуповатыми, прозрачно-серыми, горделивыми, как у орлицы, глазами, она несла к круглому столику, врытому под елкой, семечки и орешки, которыми подкармливала белку, жившую на ее лесистом участке.
Столик этот был обклеен сверху какой-то старой картонно-толстой фотографией военной карты с изображением черных вен неведомых рек, с обозначениями населенных пунктов и железнодорожных узлов. Покойный муж ее был штабным генералом. Вдове он оставил дачу и некрасивую, очень застенчивую одинокую дочь, которая в жизни своей любила только мать и белую пуделиху по кличке Октава.
Мать с дочерью каждой весной нанимали плотника, чтобы тот заменил подгнившие планки ограды, заделал все подлазы или поменял петли на калитке, если она плохо закрывалась, — старались сделать все, чтобы окрестные кобельки не проникали к добродушной Октаве и не испортили породу. К этой пуделихе с глуповатым, как у хозяйки, но вечно веселым взглядом карих глаз приходили женихи.
Мария Сергеевна, а особенно дочь были напуганы с тех пор, как какой-то грязный жесткошерстный фокстерьер сделал подкоп под террасой и затаился под полом, принюхиваясь снизу к запахам пустующей Октавы. Ни мать, ни дочь не могли понять странного поведения своей любимицы. Она, склонив голову набок, все время глядела в щели между крашеными половицами и иногда чуть слышно жалобно поскуливала. За оградой возле калитки сидели два кобелька, один ничтожнее другого, с трусливыми повадками, с тяжелым дыханием, преисполненные к тому же наглости и подлости. Когда Мария Сергеевна прогоняла их, они поднимали хвосты и убегали. Она возвращалась к террасе, а женихи уже опять сидели возле калитки.
А мерзавец фокстерьер сумел одурачить всех, сделав подкоп и затаившись под террасой в ожидании удобного случая. Кто бы мог подумать, что Октава знает о присутствии жениха и коварно скрывает это от хозяев, которые все это поняли, когда было уже поздно.
Анатолий Васильевич Рогов оказался тоже чуть ли не в роли незадачливого жениха, решив на старости лет овладеть сердцем вдовы, а вместе с сердцем и ее прекрасной рубленой дачей, которую она умудрялась сдавать на лето, беря с каждой семьи по шестисот рублей за верхние четыре комнаты и столько же за три нижние, ютясь с дочерью в небольшой, но самой теплой комнатке. Цены были баснословно велики для этих пустых и в общем-то не очень удобных помещений. Но Мария Сергеевна выбирала, во-первых, людей состоятельных, а во-вторых, — и это было главной ее стратегической хитростью, — тех людей, которые не прочь были купить эту дачу с очень большим и заросшим участком. Каждому из съемщиков Мария Сергеевна, ссылаясь на нездоровье и тяжесть нести свой крест, намекала, что она, по всей вероятности, скоро продаст дачу, и продаст не очень дорого, называя вполне реальную и даже не очень большую, какую-то сравнительно маленькую сумму. Дачники только к осени убеждались в том, что Мария Сергеевна дачу свою никогда не продаст. Поэтому никто не жил у нее больше одного сезона. Приходилось с ранней весны начинать поиски новых охотников, в чем ей помогали друзья, старые, одинокие мужчины с довольно прочным положением в обществе, у которых были солидные знакомые, мечтающие купить дачу.
Рогов невольно попал, так сказать, в агенты Марии Сергеевны и стал разыскивать для нее обеспеченных жильцов. Он был не одинок: в сарайчике, почти никогда не выходя из него, стучал молотком по доскам какой-то странный, очень интеллигентный человек, поглядывающий с презрением на Рогова, когда тот приезжал на дачу.
Рогов здоровался с ним, думая, что это какой-нибудь сторож или нанятый Марией Сергеевной плотник, делающий свое дело; тот с надменным видом чуть кивал лысой головой, тут же убираясь во тьму сарайчика. Это был главный конкурент, который тоже мечтал на старости лет, как и Рогов, найти хорошего человека и поселиться где-нибудь под Москвой, коротая дни за лопатой или мотыгой. Как потом с иронической усмешкой объяснила Мария Сергеевна, этот человек, не умевший в жизни забить гвоздя, всячески старался доказать разборчивой невесте, мечтающей о настоящем хозяине, что он очень работящий и хозяйственный мужик. Где-то он находил доски с ржавыми гвоздями, затаскивал их в сарайчик и весь день разгибал и вытаскивал эти гвозди, орудуя молотком и клещами. Рогов очень опасался, что лысый своим молчанием и упрямым стуком, который раздавался с утра до вечера, беспокоя дачников, добьется большего, чем он сам. Ни о какой любви, конечно, и речи не могло идти, но все-таки Мария Сергеевна ему нравилась своей общительностью, свойственной вообще офицерским женам, добротой и смешливостью и еще той женской какой-то беспомощностью, которая всегда в Рогове пробуждала желание помочь бедняге, сделать для нее что-нибудь хорошее, не требуя за это благодарности. Полный на первых порах самых радужных надежд на будущее, он теперь несколько поостыл, но, однако, не оставлял своих тайных намерений и в тон Марии Сергеевне пытался даже с иронической усмешкой говорить о сопернике.
— Вы хоть бывали, видели, что он делает-то в сарайчике? Нет? Так вы зайдите… Вот давайте-ка, пока его нет, я покажу вам его работу.
— Ой, да знаю я! — отмахивалась Мария Сергеевна. — Но, Анатолий Васильевич, он влюблен в меня! Ну что я могу сделать с ним?! Прогнать? Это будет жестоко. Он столько лет уже помогает мне… Пусть уж остается.
За несколько лет соперник Рогова вытащил и выпрямил не одну тысячу крупных и мелких гвоздей. Брошенные в фанерные ящики, они спаялись ржавчиной, превратившись в каких-то железных ежей. Благо, хоть доски шли на растопку печи.
Рогов горько посмеивался, глядя на запущенный участок. Он чуть не стонал от тоски, сомневаясь, что хозяйка когда-нибудь выйдет за него замуж.
— Да как же так, Мария Сергеевна, — говорил он в смешливом каком-то отчаянии. — Это же клад! Это же знаете какая теперь редкость — полгектара! А поглядите-ка вы на меня. Чем не гусар? Как бы мы с вами зажили тут! Ох, как зажили бы! Уж вы извините, но дачников мы бы не пустили! Зачем?! Мы эти деньги выручили бы иным путем. Посмотрите на мои руки — я могу раскатать эту дачу по бревнышку и обратно собрать. Я по работе, Мария Сергеевна, соскучился, по физической работе.
— Любите ли вы меня, Анатолий Васильевич, вот в чем дело, — жеманно отвечала ему Мария Сергеевна. — Мне ведь не только хозяин нужен, я друга ищу в жизни.
— Эх, Мария Сергеевна! Столько я перелюбил-то на своем веку! Авось, что-нибудь да осталось. Выходите за меня, и делу конец. О любви нам с вами за самоварчиком пора разговаривать.
— Вы не понимаете меня, Анатолий Васильевич… Я ведь с ума не сошла, нет… Я не скрою, с мужем мы жили очень дружно, особенно когда он на Востоке до войны служил. А потом я его, можно сказать, и не видела. Ночью в штабе, днем отдыхает. А я все одна да одна. Какая же это жизнь! Он и умер-то… Дачу почти достроил, потом какие-то доски для пола купил, привез к вечеру, а дело было в декабре, и остался в холодном доме ночевать. Простудился, заработал пневмонию и с отеком легких… Вообще-то он закаленный был человек. Сколько раз на снегу ночевал. Буркой накроется, а утром бурка вся в снегу. А ему хоть бы что! А тут побоялся, что доски украдут, и вот… Пожить даже в своем доме не успел. Мы когда участок получили, тут лес был кругом, самый настоящий лес. Валил деревья, корчевал — все сам, все сам. Говорил мне, как и вы теперь, что по работе истосковался. Так обидно! А теперь чего же? Теперь мы с дочерью какие уж хозяева! Я одинокая и дочь одинокая… Она у меня нелюдимая, даже и слышать не хочет о замужестве. Ведь вот вы говорите, а ведь и с дочерью надо об этом посоветоваться — как же я могу одна это решить, — словно бы жаловалась Мария Сергеевна, заваривая кофе в закопченной, почерневшей «турочке». — Я, конечно, поговорю с ней. Попробую уговорить…
О своем совете с дочерью она всегда говорила и жильцам, которым обещала продать свою дачу. Точно таким же тоном, с той же озабоченностью, а то и заговорщицким шепотом обещала она вынудить на согласие упрямую и строгую дочь.
Рогов через некоторое время уже почти наверняка знал, что дочь никогда своего согласия не даст. Да и о каком согласии могла идти речь, если Мария Сергеевна даже и не спрашивала ее ни о чем, договорившись раз и навсегда об этой мнимой продаже-приманке для доверчивых людей. Их обоих вполне устраивала та ежегодная сумма, которую они получали с дачников.
Но надо было Рогову прожить почти три года, чтобы разобраться в этой механике и убедиться, что у него нет никаких надежд.
Ах, как он клял себя за свою же дурость, как стыдно ему было за бесконечные переговоры с хозяйкой о браке, за свои дурацкие мечты о спокойной старости! Как болела у него душа, когда он решился наконец-то сказать об этих своих догадках Марии Сергеевне, упрекнуть ее в жестокости и хитрости! Он в эти минуты чувствовал себя так, будто отдавал этой бессердечной женщине, окруженной женихами, уже принадлежащую ему дачу.
— Нехорошо, мадам! — говорил он, покашливая от волнения. — Старая женщина, а все туда же — замуж хочет. Вы бы о дочери своей позаботились, а о себе-то уже и позабыть пора. Мы с вами, мадам, свое взяли — кто больше, кто меньше. А ей-то жить да жить. Нехорошо, мадам… А мне, старому дураку, поделом. Раскис, размечтался, как последний дурак…
А Мария Сергеевна смотрела на него прозрачными, орлиными глазами и, гневно хмуря брови, бледная и страшная, в своих огромных валенках и в синих штанах — чучело какое-то, а не женщина, Мария Сергеевна изумленно восклицала, всплескивая руками:
— Какой нахал! Какой нахал! Како-ой нахал! Какой нахал!
— Генерала мне жаль! Вот кого жаль — так это да! — говорил Рогов, распалясь. — До невозможности жаль! Как будто он мне брат какой… Будто и его вы тоже обманули, мадам. Запятнали память, мадам!
— Какой нахал! Боже! Подите прочь!
— Да уж будьте уверены. Я ведь, честно-то если сказать, не на вас позарился, нет, не на вас, красавица, а на вашу дачу… Тут, думаю, прихвачу-ка я себе эту виллу! Была мыслишка такая… Вы, мадам, учтите, женихи ваши тоже, как и я, думают — на кой черт им эдакая развалина!
— Подите прочь, негодяй! — закричала Мария Сергеевна и зашаталась, схватившись за сердце.
И только тогда Рогов ушел, не оглянувшись, что там — упала она или устояла. После этого разговорчика его долго мучила совесть — он с женами своими легче расставался, чем с этой старухой, которая на четыре года была старше его. А совесть мучила потому, что он себя подлецом тоже почувствовал и очень не нравился сам себе. Так не нравился, что хоть волком вой.
— Старый я стал, — жаловался он Люсе. — И никому не нужный. Нравился когда-то женщинам, Люсенька, а теперь даже старая карга беззубая от меня нос воротит.
— Какой же вы старый? — говорила ему Люся с задумчивой улыбкой. — Вы еще хоть куда, Анатолий Васильевич.
— Да не выдумывай ты, Люська, добрая твоя душа! Я, бывало, намечу себе объект и, если всерьез приударю, всегда в дамки выходил. Не знал поражений, даже слова такого не хотел знать. Суворов! А тут волочился, волочился, ухаживал и так и эдак за одной дамочкой преклонных лет, а она мной как хотела, так и вертела, дураком.
— Ну и дура, значит, — говорила Люся.
— Нет, солнышко, она не дура. Она меня в дураках оставила, вот что я тебе скажу.
Он подозрительно часто стал возвращаться к разговору об этой дамочке, и Люся даже решила, что Рогов влюбился на старости лет. Ей неприятно это было сознавать, но она не показывала вида и успокаивала, как умела, Рогова. Лишь однажды она сорвалась и сказала ему:
— Вы что же думаете, я железная? Мне все можно рассказывать? Да я же!.. — но она не договорила, оборвала себя на слове, хотя восклицание это «да я же!» прозвучало с такой болью и страданием, что можно было предположить все что угодно.
Рогов, услышав это, зажмурился, как от удара, сморщился весь, закрыл руками лицо и долго так сидел в тоскливом забытьи. А потом позвал Люсю, велел закрыть дверь на ключ и спросил, с трудом выговаривая слова, как человек, перенесший инсульт.
— Ты меня когда-нибудь любила?
— Я и теперь люблю, — ответила Люся.
— Нет, я спрашиваю о той любви, о настоящей. Прости меня, грешного.
— Не знаю, какая уж она, настоящая или нет… Ничего я вам больше не скажу.
— Дай мне твою руку, — сказал он со вздохом. — Какой же я дурак! Дай руку, Люсенька. Я поцелую ее. Ты мое солнышко, вот кто ты.
Он долго гладил Люсину руку, удерживая ее на ладони, как какого-нибудь пушистого, нежного зверька, а она стояла над ним, сидящим в рабочем кресле, и плакала.
— Вы так много сделали для меня, Анатолий Васильевич, — говорила она сквозь слезы. — Вы такой хороший человек.
— Плохой, солнышко мое! Очень плохой.
— Нет, вы хороший. Вы даже сами этого не знаете. Я в жизни своей не встречала лучше. Вы добрый, умный и очень красивый. А я такая счастливая, что встретила вас… Потому что я на работу, как на свидание, бегаю. Ну кто я вам? Скажите! Кто? Никто. А вы так много для меня хорошего сделали, что даже мать с отцом не сравняются с вами.
— Да чего ж я такого сделал-то! Объясни ты мне.
— Вы сами должны знать.
— Вот не знаю! Хоть убей, не знаю. На работу взял? Да господи! Это разве… Нет, не могу понять.
— Вы все для меня сделали, всю жизнь мою перевернули. Я как заново родилась.
— Спасибо, Люся, за такие слова. Ты ведь тоже мне, как родная. А знаешь что, Люся! Знаешь, что тебе сейчас скажет старый грешник? Пошли-ка мы с тобой сегодня после работы в ресторан. Закажем бутылку шампанского, а мужу скажешь… придумаешь чего-нибудь, скажешь, что у сотрудника какого-нибудь день рождения или юбилей отмечали… Как ты на этот обман посмотришь, не оттолкнешь старика сумасшедшего?
В тот вечер Люся впервые была в квартире Рогова, впервые изменила мужу, не испытав при этом и капли сомнения или угрызения совести, словно какой-то старый долг исполнила, смущаясь только оттого, что впервые назвала Рогова просто по имени — Толей.
Она свой поступок как бы даже и за измену-то не посчитала, словно бы именно замужество было изменой, а это — долг, это — то, что она всегда должна была делать, но по стечению обстоятельств не делала, неся в душе постоянную вину перед Роговым, которого любила, которому поклонялась, как какому-то ею же самой сотворенному идолу.
— Нет, Толя, об этом ты даже и не думай. Этого не будет никогда, — говорила она, если он опять и опять начинал разговор о женитьбе на ней, о разводе с мужем. — Иван не должен ничего этого узнать никогда, а то он с горя умрет. Пусть ему будет тоже хорошо. Он у меня такой доверчивый, чего ни скажу, всему верит. Да и маленького Толеньку жалко.
Люся к тому времени заметно располнела, на животе у нее образовалась толстая и рыхловатая складка, увеличились и без того большие груди, нездоровой водянистостью отекли глаза, поблескивающие вечной какой-то слезой, отяжелели и ноги. Нервы тоже пошаливали: видимо, сказывалась тайная жизнь, которая стала для нее необходимостью; старея, Рогов делался очень капризным и обидчивым, и ей приходилось угождать ему, а порой поступать опрометчиво и рискованно. Муж иногда спрашивал ее как бы между прочим, но с явным беспокойством, где она пропадает по вечерам, на что Люся вместо ответа начинала весело и радостно смеяться, заливаясь в странном хохоте, от которого лицо ее становилось пунцовым.
— А чего ты смеешься? — с улыбкой спрашивал Иван. — Вот смеется, вот смеется! Ничего смешного я не сказал.
— Радуюсь, — отвечала ему Люся сквозь смех, — что муж ревнивый. А задерживаюсь, Ванечка, потому что кое-какую работу беру, перепечатываю на машинке. Хочется и в обнове походить. Где деньги-то взять? От мужа не дождешься, приходится самой зарабатывать.
Иван верил ей, потому что и в самом деле Люся стала частенько покупать кое-какие обновки: то дорогие туфли, то французские духи, запах которых не нравился Ване. «Кладбищем пахнет», — сказал он, на что Люся ответила, покраснев: «Думай, что говоришь-то, дурак ненормальный».
У себя дома она своего начальника, то есть Рогова, называла не иначе, как дедом: «дед сказал, дед поехал», а когда тот вышел на пенсию, и вовсе стала звать его за глаза дедушкой.
Она теперь уже не скрывала от мужа, что ездит проведывать дедушку. И муж и сын знали, как много хорошего сделал он для Люси, а потому Иван даже приветы ему слал. А однажды и сам появился у него в гостях, о чем Люся заранее договорилась с Роговым, решив, что настало время познакомить их.
Она без конца смеялась в этот вечер, и Рогов с задумчивой и тревожной усмешкой поглядывал частенько на нее, как бы останавливая многозначительным взглядом ее истерический какой-то смех.
А Иван, который охмелел и которому Рогов явно понравился, говорил ему пьяно и дурашливо:
— Вот так вот все время смеется и смеется. А чего смешного, никто не знает. Люсь, чего смешного-то? А она сама не знает.
— Хороший характер, — осторожно подсказывал Рогов, впервые видящий Люсю такой нервно-смешливой. — Вам повезло с женой.
— Это да! Я тут ничего не могу сказать, — соглашался Иван, вызывая новый приступ смеха у жены.
— Людмила Ивановна, — мягко и осторожно говорил Рогов. — Люся, вы когда-нибудь лопнете от смеха. Нельзя так смеяться.
С большим усилием Люся утихомиривалась и, пыша горячей, потной краснотой, обмахивая лицо рукою, отвечала возбужденно:
— На меня так вино подействовало… Что я могу поделать?! «Солнечная долина»… Это крымское, да? Налейте мне еще рюмочку.
— Для смеха, — шутил Иван. — Рюмочку для смеха. Анатолий Васильевич, для смеха ей капните, пожалуйста. А мы уж с вами нашего. Российского, хлебного хлебнем.
— Ага, — соглашалась Люся. — Ага! — И это «ага» выпрыгивало у нее тоже как смешинка.
Рогов осторожно наливал золотистую жидкость в ее рюмку, с робкой усмешливой внимательностью поглядывая на Люсю исподлобья, как бы говорил ей: «Мотри, девка! Не расколись. Уж ты постарайся, Люсенька, чтоб все было без шума и пыли. Очень тебя прошу».
Пьяный Иван был рад знакомству с Роговым, бывшим начальником жены, и, когда вернулись домой, он сказал Люсе:
— Мне понравился. Очень хороший, настоящий мужик, — сказал уважительно и уверенно.
— Да, Ванечка… И столько хорошего для меня сделал, что просто не знаю, как благодарить его. Просто не знаю! Ну кто он мне? Никто… А так душевно отнесся к простой девушке, что как родной для меня стал, как дедушка все равно.
— Может, надо подарок какой сделать? — спрашивал Иван. — Какую-нибудь зажигалку газовую или еще чего-нибудь.
— Это уж ты сам подумай, — умиротворенно ворковала Люся, которая страшно рада была, что познакомила мужа с Роговым и что Иван ничего не заподозрил. — Ты мужчина, тебе лучше знать, что мужчине подарить, — говорила она, испытывая какой-то глубинный страх от такой безмерной доверчивости мужа и от своей лжи. — Я в этом ничего не понимаю.
— Надо подумать… Ты узнай, когда у него день рождения, тогда и подарим. Надо подумать что. Ценный какой-нибудь. Человек непростой. Всю жизнь в начальниках проходил. Привык.
Он даже немножко гордился этим знакомством.
Ничего не осталось от былого Рогова. С трудом отворяет он дверь, с трудом снимает пальто и шляпу и долго сидит на стуле, отдыхая в какой-то задумчивости, похожей на дремоту. Время идет так медленно и так утомляет его, что Рогову кажется иной раз, что оно очень шершавое на ощупь и этой шершавостью трет и царапает его душу, протаскиваясь сквозь нее.
В седьмом часу вечера к нему приходит грузная, расплывшаяся женщина с хозяйственной сумкой и, не раздеваясь, проходит к окну и распахивает его.
В комнате душно. Нестерпимо пахнет старостью и грязным бельем. На столе окрашенные чаем сухие чашки и заскорузлые корки сыра. На старой газете черствый хлеб. И лишь пирожные в картонке сочно лоснятся кремами.
Женщина с материнской заботливостью целует старика в сухой лоб, отстраняет от себя его дрожащие руки, говорит, как больному:
— Ни к чему, дед. Сиди спокойно.
У женщины очень толстые, болезненно отечные ноги с заметной «коровинкой», с той иксообразностью, которая делает ее походку тяжелой и неуклюжей: слышно в шаге, как трутся друг о дружку капроновые чулки.
— Солнышко мое пришло, — мямлит старик, истекая слезной улыбкой. — А я пирожных купил.
И пока женщина убирает в квартире, пока протирает полы влажной тряпкой, меняет постельное белье, пряча грязное в сумку, моет посуду и заросшую жирной грязью раковину, моет поддон газовой плиты, пока она кипятит чайник, старик все время передвигается, все время находится около нее, дотрагивается до плеча, тянет сухую свою руку к ее волосам, но не успевает погладить, и рука его остается повисшей в воздухе. Глаза его выражают бессмысленную и какую-то мучительную радость, он похож на мурлыкающую кошку, трущуюся о ногу доброй хозяйки.
— Дед, а где у тебя чай? У тебя нет чая, что ль? Ну что же ты не сказал мне?! Вот чудак.
— Чай, — говорит он и сокрушенно кивает в знак согласия. — Забыл, Люсенька. Я сейчас сбегаю… Я это мигом…
— Да сиди уж. Сбегает он! Попьем кофейку. У тебя тут кофе есть. Ладно.
Она не спрашивает о здоровье, потому что все видит и без его ответа: плох старик.
Когда они садятся за стол и пьют кофе из чашечек, подаренных Рогову когда-то Люсей, он вдруг ни с того ни с сего начинает говорить о генеральше, которой, возможно, уже нет в живых.
— Сейчас бы, конечно, на терраске, на свежем воздушочке из самоварчика попить… Жил бы я на своей даче, а ты бы ко мне в гости приезжала… Очень жаль, — со вздохом умолкает он.
— Что тебе жаль?
— А-а… Жаль, что… У нас участки когда-то распределяли, а я отказался. Очень жалею. Не такие, конечно, как у генерала, но тоже хорошие. А я думал, зачем обрастать частной собственностью! Какой пример подам подчиненным… Отказался. Это еще до твоего прихода было.
А после чая, вернее, жиденького, перепаренного кофе, заваривать который Люся не умела, кипятя его, как суп, в кастрюльке, Рогов достает свое давно уже составленное завещание на имя Люси и говорит с бравадой в голосе:
— Вот! Сочинил, понимаешь ли ты! Всю опись имущества произвел и понял, что ничем тебя после кончины обрадовать не сумею. Гол как сокол. Шкаф да кровать да полдюжины стульев. Не умел я жить, Люсенька! Ни злата, ни серебра… Одна только ценная вещица — обручальное кольцо из червонного золота, еще мать мне, когда впервые женился, подарила к свадьбе, а матери оно от ее дядьки досталось. У нее дядька богатенький был.
И он достает из шкафа завернутое в мятую, старенькую, ворсистую бумажку тяжелое кольцо, которое выскальзывает из бумажной ветоши крутым своим, туго поблескивающим боком на стол и, проделав дугу, стукнувшись со звоном об пол, долго катится, пока наконец не ложится с дробным звоночком около двери.
— Думал надеть еще разочек, — говорит Рогов, любуясь Люсей, рассматривающей поднятое с пола кольцо — темную, глубокую желтизну светящегося металла. — Думал женихом еще посидеть за столом рядом с генеральшей. А? Вот ведь о чем мечтал! Как счастье! Генеральша с дачей в придачу.
— Ладно, дед! Надоел ты мне со своей генеральшей, — обрывает его Люся, не первый раз слыша эту дачную историю, которая изрядно надоела ей и стала уже обижать, чего никак не хочет замечать Рогов.
— А знаешь, в чем ошибка? — говорит он с озаренностью во взгляде. — Мне бы за дочерью ее надо было поволочиться. Я этого не сообразил. Ты ведь сама мать, понимаешь. За дочерью стал бы ухаживать, хвалить ее, искать с ней встречи… Генеральша бы и клюнула. Это уж ты поверь мне, старому грешнику. Генеральша бы, как окунь, наперед дочери за блесной — и попалась бы на крючок. Она такая! Дочь для нее соперницей бы стала. Как так, мой поклонник к дочери перекинулся?! Не бывать этому никогда!
— Хорошее кольцо, — говорит Люся, возвращая Рогову золотую вещицу.
— Возьми, — вяло отмахивается Рогов. — Это тебе. За все!
Люся и верит и не верит, вертя в пальцах дорогое старинное колечко, целует Рогова в щеку, отстраняет его жесткие руки, которые, как ветви какого-то сухого сказочного дерева, больно обхватывают ее за талию.
— Ни к чему, дед, — смущенно говорит она. — Посиди спокойно. — И отходит от него к окну, за которым уже темно и свежо пахнет тополем.
— У дедушки была, — скажет она мужу. — Совсем плохой стал. Скоро помрет. Смотри, что подарил мне.
Иван равнодушно рассматривает кольцо, спрашивает:
— Золотое?
— Из червонного золота. Самое дорогое.
— Да. Ценный подарок.
— Просит, чтоб мы у него по очереди ночевали, — говорит Люся. — Боится один помереть. Кому до него дело? Один живет, никто к нему не ходит.
— Надо подумать, — говорит Иван. — Дело серьезное. Может, в больницу положить?
— Кто ж его возьмет? Он не болен ничем.
— Тоже верно.
Иван напряженно думает, потирая бледный лоб круговыми движениями пальцев, словно разгоняя какие-то туманные мысли. Но думает он не о предложении дедушки, которое кажется ему совсем нереальным, а о золотом колечке, подаренном Люсе. В его сознании никак не совмещаются какие-то разрозненные мысли и догадки, что-то там крутится, крутится каруселью и словно бы то лошадка с золотыми копытцами промелькнет, то длинношеяя жирафа, то носорог, — и все это зверье крутится, крутится и никак не может догнать друг друга, а вместо музыки звучит знакомый и раскатистый смех.
— Это такой человек, — слышит он голос жены, разглядывающей колечко, — что просто невозможно сказать! Так много мне помог, принял такое участие. Я ведь совсем девчонкой была, а он мне навстречу пошел, прописаться помог, на работу устроил. Наша обязанность теперь не оставить его. Совсем ведь старенький. Ты бы зашел к нему. Ему ведь теперь тоже обидно. Как начальником был, все вокруг него хороводились, а теперь никому не нужен. Он ведь всех всегда выручал, помогал всем, а как ему тяжело, так все в кусты. Ох, люди, люди! А я не могу. Он мне как родной. Да что родной! Он мне дороже родного! От отца с матерью совета доброго не слышала, одни только попреки. А дедушка мне помог человеком стать. Я лучше людей не встречала, нет. Нам, Ванечка, надо как-то позаботиться о нем, как-то помочь ему. Мне одной теперь тяжело. Надо бы и тебе к нему наведываться. Он спрашивает о тебе, интересуется, как живешь. А ты совсем уж забыл про него.
— Надо подумать, — упрямо твердит Иван и трет пальцами лоб.
Лошадка бежит за зеброй, зебра за жирафой, жирафа за тигром, а тигр за носорогом… И никак никто не может догнать друг друга. Ивану даже смешно.
Люся очень возбуждена и озабочена. Она на этот раз никак не может убедить мужа, что дедушка хороший и добрый. Все ее слова о нем как бы глохнут в воздухе, не доходя до его сознания. Она даже сердится на Ивана, обвиняя его в душевной черствости, хотя втайне и понимает мужа, отчего еще больше сердится.
— Ну чего особенного! — говорит она в сердцах. — Подумаешь — колечко! Он вообще в завещании хочет, чтобы все его вещи достались мне. Не нужны они, конечно, но как ты ему скажешь об этом, если он сам не понимает. Обидеть его, да? А за что? Скажи… За его доброту ко мне? Поди к нему и сам скажи, что не надо нам ничего. Можешь и колечко вернуть. А я не могу… не в силах. Он ведь от всей души. Он сам чувствует, что скоро умрет, и просто хочет сделать нам приятное. Вот и все. Ты понимаешь хоть сам-то, что он скоро умрет?
Люся не ошибается, конечно. Анатолий Васильевич Рогов скоро должен умереть. На похороны придут его бывшие сослуживцы. Вполне вероятно, придут и бывшие жены с детьми, а может быть, даже и внуки, хотя он никогда ничего не рассказывал Люсе об этих людях, порой лишь жалея о том, что развелся с первой своей женой. «Выхода я не нашел другого, Люсенька. А это тоже не выход — развод с женой, — говорил он с грустной усмешкой. — Я о ней хорошо иногда вспоминаю. Хорошая у нас начиналась жизнь!»
На похороны придет, конечно, и Люся. Она уже теперь предчувствует свои слезы, которые ей трудно будет остановить, и она заранее думает о том, чтобы Ивана не было рядом.
И еще томит ее странное предчувствие непонятной пока еще и неосознанной, но желанной свободы. Она словно бы заранее знает, что, когда уйдет из жизни этот сильный человек, покоривший ее душу, когда утихнут слова надгробных речей и сомкнутся над вниз ускользающим гробом створки железной могилы, всем людям, которые останутся жить на земле, да и ей самой вместе с ними, будет еще кого любить — душа не оскудеет. Но это будет другая какая-то любовь. А какая именно — Люся и сама еще не знает, хотя и верит в ее очищающую силу.

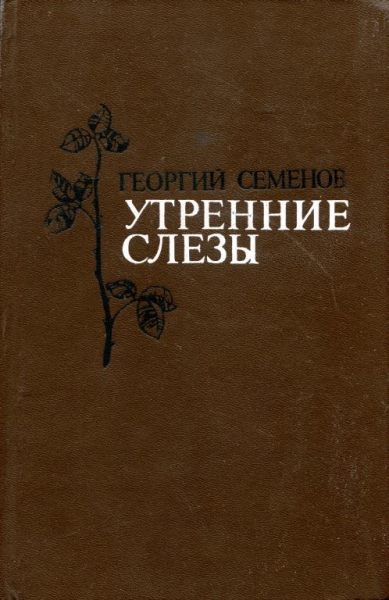

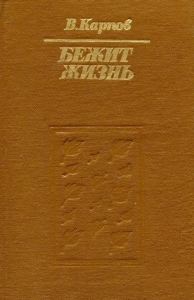
Комментарии к книге «Утренние слёзы (Рассказы)», Георгий Витальевич Семёнов
Всего 0 комментариев