Александр Проханов
Время полдень
На море-окияне лежит бел горюч камень,
на камне девица, держит иглу булатну,
вдевает нитку шелкову,
зашивает кровавы раны…
из старинного фольклораЧасть первая
Ковригин, бодрый, напряженный и резкий, еще полный самолетных гулов: алюминиевый бивень крыла, подсвеченный утренним солнцем, закопченные кожухи двигателей с жужжащими вихрями и внизу, на рыжей равнине, бетонные блоки заводов, башни градирен и домен, полосатое скопище труб; дышат, дымятся, развешивают слоистые, достигающие самолета дымы, будто в степь приплыла армада линкоров и встала, нацелив орудия в небеса и пространства, — Ковригин, сойдя с самолета, делал свой первый доклад перед инженерами и экономистами комбината. Радовался их разномастным, уже кирпичным от казахстанского солнца лицам, умным, зорким глазам, блокнотам на коленях у многих, куда заносились его мысли, прогнозы о гигантских экономических организмах, зарождающихся на этих пространствах.
Он закончил и вышел, оставляя за собой рой голосов и вопросов, молодых, тянущихся к нему голов. Обещал им вторую встречу. И, сопровождаемый главным экономистом, из лекционного зала двинулся по ржавой, усыпанной стеклом и камнем земле к заводским корпусам, обгоняемый самосвалами.
— Блестящее выступление, Николай Степанович, блестящее! Прямо, как говорится, с пылу, с лету, — поспевал за ним главный экономист. — А как слушали!.. Тут у нас, знаете, целый кружок ковригинцев! Молодежь горячая… Все ваши труды у них на руках. Они вам в институт писать собирались, а тут нате, сам Ковригин из столицы с докладом… Вот уж они сейчас копья ломают!.. Вы меня тут подождите, Николай Степанович, я мигом узнаю, куда машина пошла. Мы вас в гостиницу, отдыхайте… Нельзя ж так прямо с дороги!..
И он убежал, с прозрачными, полными бледного солнца глазами.
Ахающий, дымный, железный, размытый вдалеке синевой прострел прокатного цеха… Ноздри жгло от едкой окалины. В горле тампон тяжелого пара. Из решетчатых стальных облаков косое падение дымных лучей. Над печью, под сводами, колыхание тучи.
Грохот и красный огонь. В водопадах белого света рушится сляб на рольганги. Подхваченный вихрем движения, с лязгом и свистом, сбрасывая рыжие гривы, несется огнедышащим, прошибающим цех тараном. И в глазницах пожар и слезы.
Ковригин радостно озирался. Ловил свистки пролетавших кранов, мегафонные вопли диспетчеров. Ему было здесь хорошо, среди знакомой, любимой им техники.
Помнил, как строился тут комбинат, видел его жизнь и судьбу. Его громадный, погруженный в степь корень. Его рост и слияние с рудниками и шахтами. Скопление городов и поселков в небывалый, сплошной узел жизни, покрывающей степь до южных далеких гор, до хлюпающих северных тундр.
Он все это видел и знал. Все было в системе его предсказаний. Он царил и господствовал, обнимая все своей сильной, радостной мыслью.
Вдруг почувствовал слабый, небольшой толчок в сердце. Оно дернулось, сменив свой ритм и движение, будто кувыркнулось в груди, и билось теперь в новом положении, пытаясь вернуться на место.
Он испугался, мгновенно отключаясь от звуков и зрелища цеха, прислушиваясь к сердцу, видя его внутренним оком, — пульсирующее, отечное, алое, утомленное перелетом, потоком крови и мыслей, готовое сорваться в припадок.
«Пронесет, пронесет, — думал он суеверно, уже не веря, зная все наперед, страшась, жалобно молясь своему трепещущему слабо сердцу: — Ну пронеси, пронеси, умоляю!»
Слябы, расплющенные стальные подушки, подкатывали на платформах к печи. Хобот тупо и вяло толкал их в открытый зев. Свистели горелки, выбрасывая ядовитые, зелено-желтые космы. Ребристая, уходящая под своды труба воздухопровода качала кислород из окрестных весенних степей. Как трахея, тянула воздух, полный теплого ветра, легчайших ароматов полыней, овечьих вздохов, птичьих мельканий. Горелки лизали слябы. Сталь набухала жаром, подходила, как тесто. Печь сотрясалась бетонным, погруженным в недра фундаментом.
«Пронесет, пронесет, — думал Ковригин, чувствуя, как сердце начинает биться двойными ударами, через такт выделяя короткую боль. Он поспешно достал валидол, сунул в рот, прикусив язык, сосал таблетку, стараясь всей своей волей, мольбой, желанием соединять раздвоенные, больные удары, удержать начало болезненных схваток. — Не пущу, не пущу, не позволю!»
В печи отворилась черная челюсть заслонки. Сочный, красный язык, пузырясь слюной, вытолкнул добела раскаленный сляб. Озарил на стене огромный плакат и лозунг. Кус металла боком полетел на рольганги, коснулся их с лязгом. И сила огня и света давлением смяла лицо Ковригину, проникла в череп и в груди, до самого сердца, опалила сквозь одежду живот. Промчалась, оставив его в липкой, банной испарине.
«Задержать, не пустить, не позволить!»
Ковригин торопился на выход, на воздух. Чувствовал, как в нем отрывается, смещается с болью и уханьем сочный ломоть в груди. Сердце его растет, давит на живот и на горло, в плечо и лопатку. Из него клокочут дурные, обморочные фонтанчики, и оно, раскрываясь, подобно антенне, посылает во все концы импульсы жаркой рези, принимая их отражение. И в нем безнадежность и ужас, — опять повторяется, как недавно в Москве и все последние месяцы; убивает его и уносит. Он шагал задыхаясь, пытаясь ускользнуть и успеть. Бормотал: «Боже мой, боже мой!» А его настигали лязгающие, раскаленные слитки.
Вот еще один приближается, озаряя издали клеть медно-красными отсветами. Вломился с гулом и звоном в тупое и плавное вращение валов. И они выминали его и утюжили. Пропускали сквозь себя, как скрижаль, оттискивая огненные знаки и буквы, высшие символы жизни — формулы стали, режимы давления, имена металлургов-ударников.
«Боже мой, боже мой!» — бормотал Ковригин, держась за грудь. А она растворялась, била ударами боли. Он натыкался на них, как на колья, пытался окликнуть идущего впереди человека с тяжелым стальным ключом: «Помогите!»
А мимо, звеня на стыках, несся красный состав, и дрожали на крыше кипящие алмазные капли.
Ковригин опускался на бетонные грязные плиты. Приступ в нем разгорался. Все скакало и билось. Качались перекрестья металла. Желтый кран проносился. Гремели гудки и команды. Из печи выпадало его огромное раскаленное сердце, и валы сминали его в дымный, раздавленный ком.
— Что с вами, Николай Степанович? Что это, что это с вами? — Главный экономист испуганно наклонялся над ним, выпучив прозрачные, красные от металла глаза.
Ковригин лежал на скамье в соседнем, машинном зале, среди мягкого рокота огромных моторов, проблеска хромированных осей, железных шкафов с приборами. Главный экономист, испуганный и смятенный, убежал за врачом. А Ковригин, обессиленный и несчастный, по-рыбьи хватал пропитанный маслом воздух.
Приступ его отпустил, боль прекратилась. Лишь изредка возвращалась, неохотно и вяло. Но там, где она пронеслась, в груди все было перепутано, смято. Колыхалось, билось обрывками. Он чувствовал обморочность и удушье.
Над его головой на цепях качался двурогий подъемный крюк. На бетонном полу, вырванный из гнезда, лежал многотонный недавно сгоревший ротор. Сиял накатанной осью, отшлифованными кольцами меди, ювелирными сотами проводов и обмоток. Двое рабочих, молодых, длинноруких, ковырялись в нем отвертками, вспарывая оплетки ножами. Пересмеивались.
— Ты Машку Воробьеву знаешь?
— А чего не знать-то!
— Звала сегодня.
— Ну и как?
— Пойду.
— Возьми меня-то!
— А что? Пойдем. Скажу: «Я с Витькой. Давай зови Любку. Бутылка будет. Закуска ваша».
— Любка на меня все губы дует. За прошлый раз.
— А ты к ней подойди. За ручку — цап! Извинись и чокнись.
Ковригин, скосив глаза, смотрел на ротор, на его красоту и огромность. На округлое совершенное сопряжение деталей, созданных для могучей работы. Но теперь он был мертв, беззащитен. Убит незримым пробоем в обмотке: вспышка, дуга и смерть на миллиардном витке. Обнаженный, холодный, лежит на бетонному полу, и ему ковыряют железом глазницы, вскрывают жилы и вены. И путь его теперь — в переплав.
Двое парней говорили:
— Меня Машка зовет: «Переезжай ко мне жить. Мать уехала. Соседей нету». А я говорю: «Погоди!»
— А чего?
— А на что мне надо? Еще молодой, погуляю. Койка в общежитии есть. В столовке неплохо питаюсь. На жизнь себе всегда заработаю. Костюмчик есть, рубашечки, галстучки. На кино, на бутылку всегда найдется. С корешами встретиться, на рыбалку, еще куда — всегда свободен. Да на сберкнижку капает. А Машка никуда не уйдет. Не она — другая. А к ней въехал — женись. А зачем торопиться? Так, нет говорю?
— Вроде бы так.
Ковригин чувствовал трагическую смерть машины. И свое с ней тайное тождество. Общее с ней совершенство, точность и мощь конструкции. И крохотную боль проводка, готового сгореть, оборваться. И крюк на цепях качается над его головой. И эти двое, простые и веселые, отвлекутся на миг, подцепят его под ребро, пронесут под пролетами цеха.
Как нелеп его полет, его блажь, попытка сломать болезнь! Вопреки уговорам врача, вопреки его угрозам, запретам. Не послушал, надеясь на целительную силу пространств, весенних степных песков, ритмов техники, с которой сердце его вошло в зацепление и, не выдержав, сорвало резьбу. И вот позор, отторжение.
И лучше всего на последнем дыхании погрузиться опять в самолет, и вечером снова в Москве, и забиться в свой одинокий московский дом, и там пережить свой позор, понять, наконец, свое умирание, взглянуть на него без обмана, а он все пытался отмахнуться, отвлечься, надеясь на медицинское чудо, вереницы профессорских лиц, уникальных клиник, лекарств, — а нужно, наконец, без обмана нечто осознать и обдумать, и для этого надо время, время.
К нему подбегал главный экономист, растрепанный и растерянный, издали пытаясь что-то ему прокричать, объяснить руками, — и все так же странно издали стекленели его глаза, прозрачные, как приборы.
Следом, придерживая стальную медицинскую ванночку, торопилась молодая женщина в белом — молодая не по лицу, которого не видел Ковригин, а по тому, как упруго и стройно, споткнувшись, выпрямила она свое высокое, в напряженном движении тело.
— Ну как, Николай Степанович?.. А я прибегаю, а Ольги Кирилловны нет. Пока бегали в цех, искали, вот и задержались… Ну как вы? Получше, полегче? — Экономист суетился, топтался, и Ковригин с раздражением слушал близкое шарканье его башмаков. Ему казалось: помимо заботы, он улавливает острое, зоркое к себе любопытство, тончайшее злорадство, мгновенно возникшее и плохо скрываемое превосходство.
Врач расстегивала ему рубаху. Он видел ее близкие, большие и белые, пахнущие свежим мылом руки, и под ними ткань рубахи и свое обнаженное, бледное, казавшееся ему уродливым тело с малиново-синим крестовидным рубцом во всю грудь — след давнишней аккуратной работы немецкого шестиствольного миномета.
— Пожалуйста, глубже вздохните.
Молодой, неуверенный голос. Быстрое ледяное касание блестящей стальной присоски с усиками резиновых трубок. Чувство неловкости за немощь свою и невзрачность. Внезапное к ней раздражение: бегала бог весть где во время работы, пигалица, и теперь этот вид серьезный, поддельное проникновение в суть, все псевдо, все псевдо, не нужно…
— Пожалуйста, а теперь не дышите.
Она сломала ампулу, уронив стеклянный осколок на пол. И он отмахнулся от нелепой мысли о босых ступнях на плитах машинного зала. Она наполняла шприц, и он видел, как дрожат ее большие, правильной формы руки, и хотел, чтобы шприц из них выпал.
Укол был неудачный, болезненный, в жесткий участок вены. Он вскрикнул, дернув рукой:
— От, черт!
— Ничего… Немножко полежите. А минуток через десять в больницу, — сказала она, укладывая шприц и ампулы.
— Какой там к черту в больницу? В номер! — гневно, визгливо вскрикнул Ковригин.
— Вам нужно снять кардиограмму, — тихо сказала она.
— Да они все со мной, целая сотня, если желаете знать! Я их изучил прекрасно, и не в местной больничке мне получать диагноз! А вы мне все тут говорите! — чувствуя к себе отвращение за эту резкость и чванство, за свой визгливый старческий вскрик, брюзгливо ответил Ковригин.
— Николай Степанович, дорогой! А может, все-таки лучше в больницу? У нас тут в Темиртау неплохо, конечно, не Москва, но денечек, другой, пока сил наберетесь…
И в этом чудилась насмешка и тончайшая месть за что-то.
— В номер! Я же сказал вам: в номер! Пришла машина?
— Пришла, Николай Степанович… Вам виднее, я провожу вас!
— Нет, нет, ни в коем случае! Я сам! — заторопился Ковригин, приподымаясь, опуская рукав и застегиваясь. — Я сам…
Он шагнул от скамейки и впервые прямо взглянул на врача.
То ли синие косые лучи, летящие сквозь прозрачные своды, то ли рокот сияющих огромных машин. Или слабость его и кружение, чуть очерченность, резкость, внезапная его прозорливость.
Серые, дрожащие состраданием девичьи глаза. Пухлые от обиды, от испуга, от невнятного лепета губы. Белый, дышащий вырез молодой, чистой шеи, от вида которой в нем, Ковригине, — растерянность, раскаяние, нежность, хрупкое бережение. Волшебное понимание своей от нее зависимости, ее неслучайности. И нечто еще безымянное, больное и горькое, незавершенность всего и случайность.
Это длилось одно мгновение. Он шагнул, ощутив возврат дурноты и обморочности. В страхе схватился за стену.
— Ну видите, вы еще так слабы, Николай Степанович, — захлопотал и заахал экономист. — Ну не я провожу, так Ольга Кирилловна… Вы проводите, Ольга Кирилловна?.. Не возражаете, Николай Степанович?
— Делайте как знаете! — отмахнулся бессильно Ковригин. Медленно двинулся к выходу. Напоследок еще раз оглянулся. Мертвый ротор лежал на свету. Над ним на цепях качался двурогий крюк.
Они выехали из ворот комбината, катили по Темиртау, и Ковригин, забившись в угол машины, нахохлившись, отчужденно смотрел на город.
Водовод в стальной запыленной оплетке, перекинутый через трассу, качал из озера воду. Облупленный трамвай катил по путям, и мелькнули неясные, напряженные, размытые движением лица. Одинаковые блочные дома, занавешенные бельем, со скарбом и рухлядью на линялых балконах, с ворохом телевизионных антенн, толпились бессчетно.
Все это казалось ему неинтересным, никак не нужным. Мелким в сравнении с его бедой и страданием. Эта местная жизнь, озабоченная собственным бытием, знала только себя, а его отсекала. Как и эта женщина рядом.
Тяжело, с одышкой он поднялся в свой номер, впустив ее первой. Бегло, недовольно оглядел распакованный с утра чемодан с торчащим краем рубахи. Стопку книг на столе. Линялую цветную гравюру на стене — лодочки на реке, — слащавую и фальшивую, с первой минуты его возмутившую.
Заходил в поисках телефонной книги.
— Вот напасть, куда она делась? Да и была ли вообще?.. Простите, вы часом не знаете, как тут в самолетное агентство звонить? Как тут с Аэрофлотом связаться? — спросил он ее, стоящую молча, не уходившую почему-то, к его неудовольствию.
— Вы хотите лететь? Вам нельзя. Сердце свое пожалейте. Ему нужен покой, ну хоть краткий, — сказала она.
— Ах, оставьте! — махнул он рукой. — И куда она задевалась?
Неловко качнул рукой, задев стопку книг, и одна полетела на пол — французский перевод его работы о пространствах и ресурсах, — и из нее выпал засушенный красный цветок, скользнул на линолеум.
Она наклонилась, стараясь поднять цветок, борясь с лепестками, прилипшими к полу. Оторвала, держа на весу легчайшую, невесомую массу, нежно-красное неживое его вещество.
— Это что? — спросила она простодушно, глядя на него снизу вверх.
— Пустяки, — сказал он. — Это, знаете, моя привычка давнишняя. Засушиваю цветы где попало. Вот этот тюльпан, как ни странно, в Брюсселе. Совершенно забыл о нем… Я читал там лекции. Как-то утром вышел из отеля, ждал машину. И такая серая, весенняя, принесенная с моря изморось, на эстакаде, в стороне — проблеск машин, погашенная реклама на крыше отеля, и обрывки чужих газет на влажных скамейках, и какая-то старуха в вязаном чепце ковыляет, и эти цветы на клумбах… Сорвал один, положил в эту книгу. Вдруг когда-нибудь открою и вспомню? Вот вспомнил…
Он любовался цветком у нее на ладони, и она, это чувствуя, поднялась, осторожно сдула цветок на страницу, закрыла книгу.
— Я вас очень прошу, полежите. Вечером приду вас послушать. Если не улетите, конечно…
И ушла, а он чувствовал сквозь страницы спрятанные в них лепестки.
Он отыскал телефонный справочник. Лег, попробовал позвонить. Но все было занято. И он откинулся на подушку, утомленный, растерянный. Прислушивался к нестройной работе сердца, словно там, где оно только что болезненно ухало, теперь, после взрыва, билось множество мелких осколков.
Он потянулся к книгам, к своей последней, академической книжке, тронув нежно и сладостно ее обрез, корешок, получив в ответ сокровенный, живой сигнал. Перелистывал хрустящие, пахнущие станками и роторами диаграммы и схемы, пробегал свои выводы, мгновенно принимавшие образы земель, горизонтов. Открыл разноцветную карту Казахстана и течения Оби, где его рукой был проложен маршрут начатого теперь путешествия, и били в него, как молнии, стрелы ударов: новых трасс и каналов, нефтеводов и гидростанций, гроздья городов, комбинатов.
В этой последней работе — венце его бытия — он свел воедино пространства, ресурсы и технику, движение людских миллионов, построив модель гигантской живой машины, набросал ее план и чертеж.
В дверь постучала и сразу вошла старуха уборщица, звякнув железным ведром. Выставила щетку с тряпкой, заелозила ею, косясь на Ковригина желтыми ободками зрачков.
— Да не надо! Чисто! Только что въехал! — слабо протестовал Ковригин, пугаясь этих лесных, нестарушечьих, цепких взглядов.
— Тут вы вот что, — сказала она, подвигаясь ближе к нему, оставляя на линолеуме скользкий блестящий след, распуская едкие тряпичные запахи. — Тут до вас инженер жил, опять стакан разбил. Говорила ему: полочка чуть висит, не ставь стакан… Нет, опять разбил! Что за народ такой! Кто ни живет, стаканы колотит…
Она ловко двигала щеткой, загоняя ее точно во все углы, мускулистая, энергичная, потряхивая спиной, хлопая круглыми веками.
— Да чисто! Оставьте! Я отдыхаю, — сказал он со стоном.
— А опричь его футболист жил. И ему говорила: с полочкой аккуратней, на одном гвоздичке качается. Стакан не ставь. Нет, поставил, разгокал! Стекло по всему полу рассыпал. А тряпку-то моешь, выжимаешь, — все стеколья в руку!
Ковригин, забившись в угол кровати, смотрел на подвижную спину, словно там, под халатом, были сложены и аккуратно увязаны крылья. И старуха толкнется о линолеум птичьей, когтистой лапой, вспорхнет, оглянувшись на него по-совиному.
— А еще клоун тут приезжал, — бормотала она, завершая работу, звякая грозно ведром. — Вы вот что… вы на полочку стакан не становьте. Надо поставить — на стол… А то сколько людям ни долбишь…
И она ушла, оставив за собой мокрые, высыхающие островки. А Ковригин облегченно откинулся. Попробовал опять позвонить. И опять безуспешно. Раскрытая карта светилась зелено-желтыми и голубыми разводами.
Он нашел на ней Темиртау. Смотрел на черный кружок отметки. И там, в глубине кружка, как на дне мишени, лежал он сам, после приступа, в гостиничном номере.
Здесь, в Темиртау, кипела в мартенах сталь. В карагандинских шахтах комбайны ломали уголь. Южнее, на каменистых отрогах пустыни, мелькали проблески ракет Байконура. Севернее в целинную степь падали первые пшеничные зерна. Обь покрывала пойму необъятным холодным разливом, и коровы тянулись на запах подводных трав. Буровые Сургута шарили в нефтяной преисподней, и стальной «маннесмен» прошибал цветущую топь. Под Тазом, на кромке тундры и моря, шел танкер в низких протоках, краснея в зеленях ватерлинией. Там упал и разбился попавший в пургу самолет.
Ковригин тянулся душой к тем далям, к тем весям. Их размытая протяженность в пространстве совпала по неясным законам с протяженностью его собственной жизни: пять молниеносных десятков, отрицавших один другой. И хотелось рассмотреть эти дали, прикоснуться к ним и к себе.
Он услышал крик за окном. Через мгновение детский плач. Выглянул. Молодая чернобровая женщина, гневно блестя белыми в крике зубами, наступала на маленькую девочку, видимо, дочь:
— Да куда же, черт тебя, глухая зараза, носит? Чтоб тебе о камень споткнуться! Все глазелки за тобой проглядела, — нет, не углядишь за чертовкой!
Она бранилась, и девочка плакала беззвучно, переходя на крик, и снова беззвучно. И Ковригин сжался от испуга и сострадания, и хотелось ему побежать и утешить, прижать к себе ее, плачущую и напуганную. Но сердце его вновь колыхнулось, наподобие студня, и он отпал от окна, набирая с запасом воздух. И вдруг подумал, что умрет, сию минуту умрет во всей простоте окружения: лодочки на стене, за окном плач ребенка. Старуха уборщица зайдет, увидит его, неживого, уставится испуганно.
И сквозь этот бред налетевший — недавнее молодое лицо, сероглазое, с упавшей на щеки тенью, к нему обращенное с вопросом, с ответом, с чем-то другим, безымянным, что так и не успел разглядеть. И скорей бы она приходила.
Ковригин стал ждать, весь в нетерпении, с упреком, прислушиваясь к звукам за дверью: к женским пробегающим стукам, смешкам, к звяку ключей. Звал ее напряженно и требовательно.
День ее завершался. Ольга, оторванная ненадолго сердечным приступом немолодого то ли ученого, то ли начальника, брюзгливого, неприятного в своем страдании, вернулась во врачебный свой кабинет. Окна привычно смотрели на башни домен, укутанных в железные воротники, и на стальную колею, по которой составы везли от конверторов малиновые остывавшие слитки.
С помощницей, медсестрой Клавдей, принимала редких больных. И та, большая, грузно, округло дышала под халатом, измененная прибывающим в ней материнством, с лютиковым желтым цветением по всему лицу, слабо охала и томилась.
Явился слесарь, молодой юркий парень с легкой кровавой травмой на ладони: задел за острую кромку. Морщился и смеялся, когда заливали йодом и бинтовали.
— Да не ерзайте!
— А вам-то на кровь не нужно смотреть, — мигнул он Клавде, махая забинтованной кистью. — Вам бы сейчас на цветочки. А то еще родится жестокий.
— Свою жену учи! Если она у тебя есть, у такого! — гневно ответила Клавдя.
А Ольга подумала о лице человека, лежавшего в машинном зале и потом в гостиничном номере. Жесткая, почти жестокая сила всех его черт, коротких полуседых волос, мгновенных серо-синих отталкивающих и отстраняющих взглядов. И робкая беззащитность в шевелении губ, выговаривающих некий призыв и просьбу, которую не высказать вслух. Военный рубец на груди. Упавший из книги цветок. Серебряный мятый, старинного изделия кофейник, стоящий у него на столе. И через этот цветок и кофейник — внезапная родственность, любопытство к нему и влечение. И быть может, зайти, навестить?
Явился маленький белобрысый рабочий, небритый и сморщенный. Старался упрятать дыхание:
— Доктор, уж вы меня извините, не могу сегодня работать! Хоть что делайте, а дайте отгул за свой счет!.. Маленько вчерась перебрал. А мастер орет, к работе, говорит, не пущу, а прогул поставлю… Верно, был вчерась грех, перебрал…
Он топтался, мигал. Подносил ко рту короткопалую, зачерненную, раздавленную в железной работе руку. И Ольга, глядя на эту руку, на весь его скомканный, виноватый облик, писала ему справку, испытывая неясную перед ним вину.
— А я бы им не давала, — угрюмо сказала Клавдя. — Напился — пусть отвечает. А то пьют когда, то герои: «Зарублю, застрелю!» А потом: «Подайте милостыню!» Я бы таких не жалела!
— Ну уж, ты что ж, — примирительно улыбался рабочий, боясь, чтобы ему не отказали. — Всяко бывает, знаешь!
И ушел, держа драгоценный квиток с непросохшими буквами.
А Ольге показалась чужой и неясной суровость на Клавдином лунном, мягко-цветущем лице.
«Пойти, не пойти? — думала она отстраненно о человеке в гостинице, еще обижаясь на него за резкость, за повелительный вскрик. — Если худо, под рукой телефон, вызовет городского врача. А может, уже улетел…»
«Мой дом не столь уж пуст. Мой дом не столь уж пуст, — повторяла она много раз, глядя на солнечные стальные пути, прислушиваясь к утрате первоначального смысла слов. — Мой дом не столь уж пуст…»
Ее вызвал к себе главврач. Краснолобый, ошпаренный солнцем — возился на своей маленькой даче у озера, — не усадил, а прямо в дверях забегал по ней косящими разновеликими глазами, и от этого сама себе казалась двойной и мелькающей. Стал уговаривать косноязычно и сочно:
— Вы, конечно, Ольга Кирилловна, сами, если, конечно, так разобраться, отрезанный для комбината ломоть, хоть на этот год, если прямо сказать. Ну сперва ваш месячный отпуск — это раз, это месяц, так? Потом вам в Москву прогулка, на повышение квалификации, как говорится, хотя, кто их знает, зачем посылать: ведь только окончили, ну уж это приказ райздрава. Еще три месяца, так? И вот мы решили — все равно уж вам с места сниматься, одно к одному — поезжайте на пару неделек в деревню, по шефству… Сельскую больницу увидите, — не худо, не худо по молодости. Затем что? Вы одна, семьей, как говорится, не спутаны, не погрязли еще. Дачки у вас еще нет, будь она неладна совсем. У других-то, у наших, то дети, то дачки, уж сами поймите. И давайте-ка нас выручайте, езжайте в деревню!
Ольга видела: главврач ожидает отказа, борьбы. Облизывая губы, потирая красный лоб, готовит аргументы. И, спасая его и себя, уклоняясь от его косноязычия и двузначного взгляда, сказала:
— Я согласна. Когда?
— Умница! В четверг поезжайте! — улыбнулся широко и счастливо.
И она ушла, не признаваясь себе, что опечалена, будто отринутая: «Ну конечно, меня! А кого же? Неужели других, старожилов?»
«Мой дом не столь уж пуст, не столь уж пуст…» — звучало в ней. И опять тот маленький, словно виденный прежде кофейник на столе человека. И неясный долг и влечение. И досада на себя и упрек.
Она вернулась. Клавдя была вся в слезах. Сидела, большая, некрасивая, вытирала кусочком марли глаза.
— Что с тобой? — потянулась к ней Ольга.
— Да что же мне теперь делать? Да за что же на меня такое?..
— Кланя, милая, что?
— Только вам… только вам, Ольга Кирилловна… Мой Николай-то меня обманул!.. Замуж брал, говорил — хорошо жить будем… Все будет у нас хорошо, про первого своего забудь! Заработки… дети пойдут… И он, говорит, с прошлым распутался! Поверила, пошла за него — вон оно, пузо какое!.. А он-то, откуда сбежал — там у него грех и растрата, искали его, у меня нашли… Забрали! Теперь суд будет! Срок дадут! А мне как родить-то?..
Она сотрясалась, рыдала. Ольга неуверенно гладила ее мягкие, золотистые, на пробор волосы. Чувствовала через эту теплоту и рыдания созревавшую в ней новую жизнь. Старалась проникнуться ее бедой. Не могла.
Ее собственное одиночество среди столпотворения людского, непонимание ее, нераскрытость. Ее молодость, протекающая среди этого стального завода, степного задымленного города. Ее замкнутая, никому в глубине не ведомая, собственная жизнь и судьба. Кто-то может о ней подумать, удивиться ей и понять?
Кончилась смена. Разом, густо повалила толпа. Лица одинаково, бессчетно краснели в низком вечернем солнце. Шли утомленные, смятые проделанной гигантской работой. Катился состав, провозя раскаленные горбыли и болванки.
И среди этого солнца, толпы, медленного лязга состава ей вдруг остро и ярко почудилось: там, в гостинице, гибнет сейчас человек. Такой же, как она, одинокий, глядящий на это же солнце. И только она одна в силах его спасти.
В страхе, в суеверии, неискренне утешая плачущую Клавдю, она собралась торопливо, вышла в толпу.
Она постучала, волнуясь и уже жалея о своем порыве, ожидая встретить его брюзгливое, серо-стальное лицо.
Услышала отклик за дверью. Вошла. И увидела, как молодостью и весельем осветилось его лицо. Комната, днем такая блеклая, серая, сейчас была малиново-красной от солнца, будто на полу и на стенах развесили тяжелые полосатые ковры. «Как в юрте, — мельком подумала. — Как в юрте». И он поднимался навстречу сквозь эти ковры, словно раздвигал их руками.
— Ну, наконец-то! Я уж отчаялся! Ну нельзя же держать пациентов в таком напряжении!
Он сказал это шутливо и барственно, с едва уловимой, не ускользнувшей от нее неуверенностью, сделав при этом округлый, щедрый, удивительно приятный жест. И от этого жеста, от промелькнувшей в нем робости, от вида этих тяжелых, прозрачных, готовых погаснуть ковров стало ей хорошо и свободно.
— Вот и я. Ну как вы? Как ваше сердце?
— Лучше, вы знаете, лучше! У меня так бывает: вот, кажется, стукнуло, пригвоздило. Совсем прощаюсь. А потом как бы омоет, отпустит. И застучит, застучит, хоть бы что! Сейчас бы и танцевать мог пойти!.. А я вас, знаете, жду. Колдую, чтоб пришли непременно. «Придет — не придет! Придет — не придет!» Как шаман. Вон во дворе осколок стекла. А в нем солнце блестит. Думаю, если сейчас солнце погаснет, уже не придет!.. Видите, вон!..
Он подвел ее к окну. И на пыльном дворе, рядом со старой, ржавой машиной, светился готовый погаснуть стеклянный осколок.
— Стакан разбитый. Тут, знаете, удивительное дело, — все бьют стаканы. Инженеры бьют, футболисты, даже клоун один. Теперь за мной черед, — смеялся он.
И она, не понимая его, тоже смеялась.
— А я к вам еду. И увидела самолет из трамвая. Уже высоко. Подумала: наверное, улетел. И заходить не стоит. А потом на всякий случай зашла.
— Какое там улетел! Звонил, звонил, не мог дозвониться. Все занято, занято! Наверное, у кассира сердечный приступ. Или инфаркт, или инсульт, или что там еще?
— Да нет, просто телефонная лихорадка!
И они опять засмеялись, и она удивлялась, какой молодой, неузнаваемо свежий у него смех.
— Хотите чаю? По-московски… Крепчайший!
Не дожидаясь ее согласия, он наполнил водой свой мятый серебристый кофейник, чем-то вновь поразивший ее, что-то опять ей напомнивший. Окунул в него свитый в спираль кипятильник. Включил.
— Вот я вас сейчас напою, — радостно суетился он, извлекая из чемодана галеты, разноцветные банки с вареньем, маслом, пеструю жестянку с сахаром. — Вот и пригодились запасы! Вот он, мой первый бивак!
Уже не было на стенах ковров, а холодные вечерние тени, будто главное уже совершилось, и можно спокойней, проще.
Забулькала, закипела вода, брызгая на его книги и карты. Он кинул метко, не уронив ни чаинки, щедрую горсть заварки. И сразу потекли, заструились сладкие, горячие ароматы. Он разливал по стаканам черную клокочущую гущу, раскрывал перед ней коробки, орудуя отточенным, причудливой формы ножом.
— Не стесняйтесь, мой доктор, прошу!
Она не стеснялась. Грызла громко галеты. Охнула, ошпарив первым неосторожным глотком язык и нёбо.
— Да вы подуйте, подуйте!
И казалось удивительным его превращение.
— Смотрю на ваш кофейник. Откуда он? И у нас был похожий. Только как будто чуть повыше и носик острее. Но тоже серебряный. Едва-едва помню. По-моему, мама его в трудные времена продала.
— Кофейник? Это мой дорожный. Вожу его с собой сколько лет. Бабкин, родовой, семейный. Немного что от них уцелело. Сначала его возишь как память обо всех любимых, ушедших. Потом — как вещь, к которой привык. Которая и сама уже стала памятью о тебе самом.
— Может, Москву напомнил?
— А вы из Москвы?
Он спрашивал настойчиво. И она чувствовала к нему доверие, необъяснимое влечение и сходство. Не внешнее, а бог весть в какой глубине, бог весть в каком прошлом, — через это тусклое, остывающее на столе серебро. Радовалась, что не обманулась в догадке.
— Отец москвич, был послан сюда еще до войны, едва поженились с мамой. Работал в Караганде, на шахте. А мама, оранжерейный цветочек, потянулась за ним в Казахстан, несмотря на все отговоры. Уж это, знаете, видно, так водится на Руси, так с «Родной речью» и впитывается… Я здесь родилась, казахстанская. Отец погиб очень скоро, во время взрыва в шахте. Его не помню, только по маминым рассказам. А мама здесь музыку преподавала. И болела. Она страдала легкими, видно, климат. И сколько ни помню ее, все хворала, все куталась, все на уроки торопилась с черной нотной папкой… Я и в медицинский пошла, — думала ей помочь в детском своем сострадании. Да не успела. Когда на четвертом курсе училась, мама умерла… Распределение получила сюда, на комбинат, и года нет. Близких никого. Та родня позабыта. Нигде не бывала, ничего не видела. Только это… Вот и вся моя жизнь, вся история…
И сама поразилась простоте сделанного ею рисунка: много белого, черного, как зимняя казахстанская степь со следами угля вдоль дорог, с железными очертаниями шахт.
Но другое, другое, то, что высказать не дано? Все мечтания ее и предчувствия — о той, не ее, не ею оставленной жизни, откуда, как из светлого, чуть размытого облака, возникли мать и отец, черная нотная папка со старинным, истертым вензелем, игра разноцветных хрусталиков никогда не виданной люстры. Ведь где-то висит и светит?..
И он, словно понимая, ценя этот первый хрупкий орнамент, молчал и не спрашивал.
— Удивительно, — сказал он серьезно, и тихо, и как бы далеко от нее. — Эти земли, эти края были для меня всегда захватывающей абстракцией, которой я сам управлял, доказывал о ней теорему. Города, названия рек, дорог — все это я знал прекрасно. Но не мог знать, что здесь протекает ваша жизнь, ваша юность, ваша скорбь. Но вот утром сегодня самолет коснулся земли, и абстракция стала вами, нашей встречей, этим вашим рассказом, этим синим окошком… Удивительно, верно?
Все темнело, сливалось. Только на кофейнике светлела малая вмятина. И там, в этой точке, если долго смотреть, открывалась другая глубина, расширялась в беспредельность.
— А вы? Эта карта, на которую вы брызнули чаем? — спросила она. — Вы ее сами чертили?
— Да нет! Но иногда мне хочется составить карту с записью моих путешествий, состояний, мыслей. Ну, знаете, как карту растительности, или температур, или давлений. Возникла бы удивительная, небывалая география. Ну как бы движение души в пространстве. Пространство, если верно его понимать, имеет как бы четвертую глубину — в тебя самого… Непонятно, что я говорю?
— Отчего? — сказала она, не спуская глаз с малой вмятины серебра. — Отчего же? Я понимаю.
— На этой карте я бы отметил крохотный росчерк пути. Под Вяткой, очень давно, у реки Великой, я изучал исчезновение старинных поречных сел. Пришлось мне в распутицу, в половодье, идти из деревни в деревню. И по той же дороге везли умершего старика. Поставили гроб на сани, на солому, и четверо его сыновей, угрюмых, здоровенных детин, подталкивали сани в снежном месиве, тянули под уздцы лошадь, которая надрывалась, поскальзывалась. Я, как мог, помогал им. Кругом весна, блеск, чибисы, утки, леса разноцветные и прозрачные, а на буграх солнце сожгло снег и огромные золотые проседи прошлогодней стерни. И хоть мертвого везем, а во мне ликование — от любви, от силы, от высшего понимания. В гору лошадь везти не могла, так мы подняли гроб на плечи и несли. Я тесину видел у самых глаз, приставшую солому, а за ними небо, белую тучу с лучами. И была во мне благодарность, благоговение: вот мы, смертные и земные, несем одного из нас по этой любимой земле. И не больно, не страшно, а велико то, что теперь происходит. Мы подошли к реке, поставили гроб в лодку и гребли среди редких плывущих льдин. А напротив, из изб, уже бежали навстречу, уже причитали бабы, орали на кладбище грачи, и в избе старика ставили водку, яишню на стол. Я испытал тогда, на этом маленьком отрезке пути, небывалое единство с людьми, с землей, откуда вышли, откуда никуда не уйдем… Тоже урок географии, верно?
За окном, в черноте, горели железные башни и корпуса заводов, красные гроздья сигнальных огней на трубах с чуть видными багровыми дымами. Пульсировал рубиновый глаз самолета. В ресторане ударил джаз по-азиатски, визгливо и бешено.
А Ольга, погруженная в колдовство его рассказа, различала и след от саней с набегающим в полоз талым ручьем, и длинную, горящую на снегу соломину, и хлест бузины с набухшими почками, и его, ставящего ногу в зыбкий, шуршащий, металлически-ясный ворох.
Ей казалось: все это было и с ней, она сама из той, ею любимой тайно познанной жизни, занесенной вдруг им в суховейную казахстанскую степь.
— Расскажите еще о карте…
— Вот видите, уже начал ее составлять…
— Запомните свой рассказ, потом вставите в атлас. Потом кто-нибудь поедет на Вятку.
— К сожалению, этим атласом другой не воспользуется. Только я. Для другого он не годится. У каждого своя карта, свое движение.
— У меня своей нет. Нигде не бывала. Только эти места.
— А я и до ваших добрался. Места интереснейшие. Я вам уже говорил: вчера в Москве взял карандаш, провел маршрут вот сюда, от Темиртау до Обской губы. И там, где коснулся мой карандаш, уже были вы, шел этот трамвай, уже этот номер меня поджидал, валялся во дворе тот стеклянный осколок, — но все вне меня, как белое пятно. А сегодня я его уже заполняю, раскрашиваю. Такой великий картограф!
— Расскажите про карту, — снова попросила она.
А сердце опять болело, и все мешалось, и путалось: Темиртау, Москва или Франкфурт, куда ему вылетать, в старинные университетские залы. И он собирается, укладывая чемодан, не пытаясь защититься.
— Ненавижу тебя, ненавижу! Хоть бы ты не вернулся! — выкрикивала с порога жена. — Вернешься, не думай искать! Ухожу, ухожу навсегда. И имя, и имя забудь!..
Он знал, что это конец, приуроченный счастливо к отлету, и нечем ее удержать, и все навсегда распалось. Красивое даже в гневе, ненавидящее лицо жены. Мечется, срывает с крюков одежды, кидает их комом. В сторону, с гневом — японский маленький зонтик, подаренный им. И нет больше слов для прощания, и сердце болит, и надо лететь, и беспомощная мысль: «Жаль, что бросила зонтик. Как же теперь под дождем?»
Дорога в аэропорт, по Москве. И все так знакомо: Большой театр с конями, белое чудо Манежа, мелькнувший цветастый храм. И у Пушкинской, за фонарным столбом, маленький белый фронтон, как внезапный обморок, — дом его деда, куда подымался юнцом в старинном скрипучем лифте. Дед улыбался навстречу, бодрый, красивый. И картины над его головой — балерины, цветы, маркизы. «Мир искусств» в стеклянном шкафу, легчайший дух миндаля, кипариса, клея — так пахли картины и книги. И дед ему говорил: «Ты же знаешь, в тебе — все ответы. Вне тебя — только вопросы. А ответы — в тебе, в тебе».
В нем нет никаких ответов. Только сердце болит. И горькая, с удивлением мысль: «Зонтик почему не взяла?»
Гомон, жужжание порта, японский самолет под заправкой, — красный журавль на хвосте, какой-то поп православный, негр в тигровой куртке, пограничник с крестьянским лицом — и все в магнитный детектор. И тайная надежда на исцеление пространством, на удаление всех скорбей. Рев турбин, желтый бег одуванчиков, давление плиты на грудь, и в распахнутом светлом просторе, среди убегающих рощ, крохотная церковка в Шереметьево, к которой когда-то вышли с другой, позабытой, в предпасхальную звонкую ночь. Золото свечей в глубине, колыхание белых платков. И он ее целовал в ледяные недвижные губы, в чем-то уверял, о чем-то молил, истошно кричали грачи, и в липах внезапно пронесся огнедышащий крест самолета.
«Куда мы летим? — думал он отрешенно, не спасенный пространством. — И что за собой оставляем? Кто уходит от нас навек с гневным, любимым лицом?»
Крыло драгоценно и ясно, изделие из металла и лака, каждая заклепочка блещет. В нем, как в шкафу, покоится лапа шасси, насосы качают горючее, резцы высотомеров и датчиков. Мощно и ровно полосует польское небо. И Польша внизу вся собрана из кусочков, отрезков, вся выложена, как паркет для мазурки. И он, припадая к стеклу, глядит в раздвоении: один, постаревший, смотрит с польского неба, другой, молодой и поджарый, тащит внизу пулемет. И взводный орет, пригибаясь:
— Ложись, черт неуемный! Хочешь башку потерять?
Черные группы разрывов, шестиствольные минные залпы. И там, в лопухах и колючках, ударило его надрезом в сосок, и он полз, кровеня польские лопухи и заборы.
«Сами над собой пролетаем, — думал он, запуская ладонь под рубаху. — Над своими могилами, ранами…»
Самолет колыхнуло, будто вошел в иной воздух. Острый контакт с заоблачной, туманной Германией, с синевой глубоких дубрав. Там, думал он, зарождалось и копилось нашествие. Растачивались стволы оглушившего его миномета. Еще жив инвалид, которому он в рукопашной раздробил лицо автоматным окованным ложем. Как в коконе, готовый опять повториться, таился тот бой, где погиб его брат под Вязьмой, взятый со штабом в кольцо, — лишь чудом долетело письмо.
«Мой милый Николка, — писал ему брат на прощание, — уж больше мы не увидимся. А помнишь, как мама в Лосинке давала нам клубнику с сахаром и я у тебя выманивал ягоды?»
Он смотрел, как ныряет в тучах серая стальная земля и квадратная, в золоте нива, где их рожь, их хлеб, и испытывал к ним сквозь вражду тайную любовь и влечение, стремление обнять, принять и тугую дугу автострады с пульсирующим блеском машин, и нефтебазы, и ангары, и скопление железных путей, и бег самоходок по Майну. Франкфурт посылал в самолет отблески своих небоскребов…
Он стоял, пораженный портом и желтыми на земле одуванчиками. Громады заморских машин падали с неба и взлетали. «Боинг», одолев океан, приземлился, устало волоча под крылом требуху обугленных турбин. Белолобый гигант «Люфтганзы» уходил в небеса, как айсберг. Брюхатый БС-10, тяжелый от икры и молоки, колыхал плавниками.
И он, Ковригин, вдруг понял: он только что прожил вторично свою жизнь и судьбу, записанную крылом самолета. В московском разгромленном доме — брошенный пестрый зонтик. И кто объяснит, поймет?..
Ковригин очнулся. Молчал в темноте.
Эта другая, сидящая через стол, была чужой и ненужной. Он испытывал стеснение в сердце, а к ней отчуждение, враждебность. Смотрел, как вдалеке над заводом мечется красный отсвет — проходит ночная плавка. И хотел с статься один.
Она уловила мгновенно возникшее в нем удаление. Ей стало неловко, больно.
— Уже поздно, — тихо сказала она. — Мне надо идти.
— Да, да, — облегченно ответил Ковригин.
Поднялась и вышла. Окунулась в холод. Огибая гостиницу, вдруг захотела найти на темном дворе тот осколок стекла, отражавший вечернее солнце. Не нашла. Земля под ногами сорно, тихо хрустела.
Огненная купель
Лампа под красной тряпкой. В комнате душно, глухо. Набросаны комом вещи. На столе лекарства, стаканы. На кровати, в жару, в бреду, качая носатой темнолобой головой, стонал в беспамятстве старый горновой. Жена, простоволосая, изведенная бессонницами, подходила, снимала с подушки упавшее ото лба полотенце, сухое и твердое, накаленное его головой. Заменяла холодным и сочным, опуская на горячие шевелящиеся морщины. Видела, как он выгорает, как его становится все меньше и меньше. И хотела, чтоб затих и очнулся, взглянул на нее, напоследок сказал ей слово. — Сема, вот тебе свеженькое, холодненькое! Можа, легче будет? Да когда ж гореть-то перестанешь?
Ей казалось, от головы его исходит свечение. Лицом она ловила его жар и дыхание. Старалась различить его бормотания, угадать в них свое имя. Не могла, смотрела на него сквозь красный свет лампы.
Повторяла:
— Семушка, Сема!
А он не узнавал и не слышал. Стискивал на груди железные свои кулаки. И ему казалось, принимает у домны ночную плавку.
Печь сотрясалась в реве, била жирной струей чугуна. Кидала ввысь багровые дымные тучи. Белый ручей пробегал через тьму. И в глубоких ковшах лопались и взрывались красные пузыри и нарывы. Лязгал и свистел тепловоз. Было больно смотреть в кипение и клекот. И он, горновой, проводил сквозь пламя махину электропушки, погружал в зев летка. И печь, захлебнувшись, клокотала с хрипом и бульканьем. А он, сдавив рукоять управления, чувствуя плоть и страдание печи, закупоривал ее, усмирял, прерывая ее извержение. Она дышала над ним гигантским своим животом, грохотала подолами железных поднятых юбок.
В дверь позвонили. Жена, слабо шаркая, поспешила в коридор открывать. Сын завернул с работы проведать отца, усталый, раздраженный и суетный.
— Как батя? — спросил он, проходя.
— Горит.
— Вот беда-то!
Фарфоровая облупленная балеринка с отколотой по локоть рукой. Комод под салфетками, с гнутой бронзовой ручкой. Приемник «Рекорд», покрытый скатеркой, и на нем зеленая граненая пепельница. Все было знакомо, блекло.
Сын торопливо глотал подставленный матерью суп. Жаловался ей:
— Ты говоришь, похудел! Похудеешь тут!.. Черти, что они там с начальником цеха творят!.. К праздникам новую линию, хоть умри, а пусти! Не с них, с меня спросят. А кого они мне подсовывают? Мальцов-недоучек! Он мотор включил — пережег! Резец поставил — запорол! Компрессор пустил, остановить забыл и ушел! Я говорю, с ними год биться надо, тогда из них, может быть, рабочие выйдут… А он мне их — как готовые кадры! Я ему сегодня сказал: брось, говорю, Петрович, мозги мутить! Или да, или нет! Не с тебя, а с меня линию спросят!
Он гневно звякал ложкой, повышая голос на мать, ставя ее на место начальника цеха. И вдруг сквозь свой шум и ярость услышал, как в соседней комнате заскрипел, застонал отец, невнятно бормоча и стихая.
Сын поднялся, оставил ложку. Прошел к отцу, слыша сзади материнское шарканье. Отец лежал, костлявый, лобастый, в красном ламповом свете. Твердые, круглые, утонувшие в глазницах веки. Огромный дышащий кадык. Небритые щеки. Сын вглядывался в это знакомое, измененное болезнью лицо.
И внезапно вспомнил, через столько лет, словно что-то пронеслось и открылось: юнцом он вбегает домой, осчастливленный бегом и легкостью, проносится к отцу через комнату, готовый нашуметь, засмеяться. И вдруг видит: отец сидит в полутьме и плачет, большой, смуглолицый, весь залитый слезами, и зеленая пепельница тускло горит на столе.
Он тогда испугался, будто подглядел недозволенное. Не спросил, не окликнул, а тихонько ушел от отца, от его слез. И всю жизнь не решался узнать, о чем отец плакал, отчего была его мука, что лежало у него на душе.
И теперь через столько лет, глядя на отца, ловя его хрип и дыхание, он вдруг испугался: отец от него уходит. И уже никогда не спросить, что его мучило. Не обнять стариковскую голову. А все годы вспоминать и раскаиваться, почему тогда не утешил.
Он потянулся к отцу:
— Батя, слышишь? Это я, Андрюха, очнись!
Но отец не слышал.
…Грузили кокс и руду. В печи, закопченной и угольной, уходящей сквозь своды огромным морщинистым телом, окольцованной обручами, опоясанной связками труб, шло брожение и созревание. Ее распирали огненные и железные соки. Печь вздыхала, раздувая бока, выбрасывала из скважин ядовитые горькие газы.
Бригада, с мокрыми лицами, скакала, обжигаясь подошвами. Ремонтировали горновую канаву, выбивая из желоба красные слитки. И он, схватив стальную заостренную пику, задыхаясь от пекла, бил и бил в застывающий звонкий шлак. И напарник его, направляя брандспойт на железные перекрестья печи, остужал ее боль и страдание. Перевел струю на него, расшибая о спину твердый, шуршащий ворох. И он, благодарный, захлебываясь, ругнул его с криком и хохотом…
Еще позвонили.
Дочь вошла, одолев высоту этажей. На ходу поцеловала мать, кивнула брату. И, пройдя через комнаты, упала спиной на диван, как делала всегда, с малолетства, любя услышать глубокое диванное оханье, колыхание его пружин.
— Трамвая долго не было. Стояла, ждала минут двадцать! — Она радовалась, что опять у своих. Чувствовала себя молодой и веселой, постукивая об пол высокими каблуками. — Уф, едва вырвалась! То один, то другой! То один, то другой! Пока утолкла, уснули… А Федора снова нет, все по дружкам шатается! — продолжала она уже гневно и жалобно. — Вчера заявился с дружками! Все под этим делом, конечно! Дай, говорит, стаканы и чего закусить. Ну я дала и только сказала: сколько, говорю, это можно? День — хорошо! Другой! Но чтоб три дня подряд? Ты же человек семейный! Наверное, говорю, такие дружки, не пересыхает у них! Только всего и сказала. А он на меня как зашумит: такая, сякая! И все при чужих. Я послушала, послушала да ушла. Думаю, конечно, слова от меня не добьется — так при чужих позорить! Потом уж прощения просил. Я ему говорю: ну не стыдно? На что деньги тратишь? Тут, говорю, гадаешь, на что детишкам купить, все выкраиваешь… На Вальке обувь горит. Позапрошлый месяц ботинки купила, где его только носит, — уже подметка отстала. Опять покупай, расходуй. Катьке пионерскую форму купи, на тетрадки, на книжки дай, на кино дай… Какой-то спектакль ставить затеяли — на нитки, на тряпки дай… А сама третий год в том же платье хожу!.. Говорила себе: не роди второго, намучаешься. А он, Федька: роди да роди! И ты, мать, туда же: роди да роди! Вот и родила, и каюсь, своей жизни нету, не то что другие… А Федор свободный, где хочет бродит… И ты его, братец, оправдываешь! Сам с ним выпить не прочь! Все вы, мужчины, одинаковые!
Она распалилась, готовая винить и спорить. Но вдруг увидела их глаза, осуждающие, строгие, горестные. Опомнилась, спохватилась. Кивнула слабо на дверь:
— Папка-то как? Не лучше?
— Плохо, плохо с отцом!
Она сбросила туфли и беззвучно, в чулках, прошла к отцу. Стояла в полутьме, разглядывая в красноватом пятне тяжелый отцовский лик, худые, огромные руки, беспомощные, беззащитные.
И чувствуя, как горячо и туманно в глазах, вдруг вспомнила: давнишний, из детства, дождь, падение холодных капель. И отец, усадив ее к себе на плечи, накрыв с головой пиджаком, бежит по шоссе, весь промокая и встряхиваясь, а мимо в шипении и реве несутся грузовики. И горячие, сжимающие, сильные ручищи отца, и ей страшно и радостно на его трясущейся спине, и, выглянув из-под пиджака, увидала — близко на кипящем асфальте яркая стоцветная радуга.
Это пронеслось и погасло. Темнели бессильно отцовские руки, от них шел жар, словно в них выпаривалась, иссыхала отцовская жизнь и сила, и вот-вот совсем обмелеет, и хотелось к ним припасть, целовать. Но она чего-то боялась. Шептала:
— Папочка, папка!
Он не слышал, был от нее далеко, бок о бок с бригадой. Они, оглохшие, черномазые, липкие, швыряли лопатами белый песок, ровняя у желоба бровку. Шли вдоль русла прокатившегося стального ручья. Оно было пустым и иссохшим, лишь в глубоких омутах краснели железные лужи. Вдвоем, обжигаясь, выбивали из них красноперых, звенящих рыбин. Вышвыривали их шумно на берег.
Он ворочал ломом, гремя о слитки, чувствуя глазами, губами раскаленность земли. Печь, живая, следила за ним, колыхала в дышащей груди огненное молоко. Он торопился, готовя стальную купель. И напарник, Васька Цыган, ковыряясь в стеклянном шлаке, повернулся гибкой спиной. Его рубаха, измызганная сажей и копотью, прилипла к мокрым лопаткам, зажглась, проступила цветами…
Явился и стоял на пороге, отдуваясь и охая, старый отцовский друг, такой же, как и он, горновой, и уже на покое. Кряхтел, раздобревший, грузный, стягивал фуражку и ею же отирал пот.
— Всегда говорю: высоко, Сема, живешь! Потому прихожу редко… Ну как хозяин-то?
— Болеет.
— Знаю, знаю. Наше теперь дело такое, милая, — болеть.
И он вошел, слеповато щурясь, а увидев молодых, повеселел, стал зорче, сел, уперев кулаки в колени.
— Чего надулись? Поссорились, что ли? Всегда, сколько помню, цапались. Раз из-за кастрюли подрались: кому на голове таскать. Ну молодежь! Ну бойцы!..
Он захохотал, оживляясь, радуясь, что дошел, что сидит среди старых знакомых, где любят его и слушают, где можно поворчать и посетовать.
— Вот вы говорите, болеет… Я вам говорю, берегите здоровье, пока молодые. Особо желудок. А то по столовкам носитесь, хвать, кусь! Без режима, без графика. А желудок, он тот же мотор: чуть нагрузку превысил, бац — пробой! Язва! И ходите, мучаетесь!.. А второе дело — зубы беречь. Я хоть старик, а смотри, почти все целы!
Он, оскалясь, показал свои крепкие желтые зубы, победно крутя головой.
— Правда, я сегодня маленько маху дал. Днем пивка выпил и рыбкой остренькой, солененькой закусил. Нельзя! Все чегой-то мутит, вот тут!.. Ну где же Семен-то? — спохватился он. И по взглядам, по молчанию да раскиданным вещам и одеждам стал о чем-то догадываться. Заволновался: — Да где же Семен-то?
И пошел к нему переваливаясь.
Стоял, наклонившись над другом, тяжело дышал. И навстречу ему из раскрытых спекшихся губ неслось другое, горячее и сухое дыхание. Два их дыхания слетались, как две их души, о чем-то говорили и жаловались.
Он видел ясно: друг его исчезает. Уже наполовину ушел, уже не здесь, а с другими — таким было его обугленное, как горячий камень, лицо.
— Вот ведь, Сема, как у нас с тобой получилось!
Он думал, как сюда торопился. Хотелось прийти, посидеть. Потолковать о том и о сем: как черти заводские продули в футбол приехавшей команде; какую статейку прочитал он в газете про индийских слонов; как Василь, Цыганков тоже вышел на пенсию, встретился с ним в магазине, распили по бутылке пива. Вот об этом хотел говорить, как всегда, как обычно.
А до главного-то они не добрались. О главном они не успели. Все чего-то ждали, откладывали. Все чего-то было неловко.
А хотелось ему поразмыслить о другом, как они жили на белом свете и какой он есть, белый свет.
Как работали и себя не жалели. Как любили жен и растили детей. Как воевали и приходилось им убивать. Как и их убивали. Как дружили, надрывались у домны, то кляня ее, то лаская, называя в шутку Катюха. Как оба вышли на пенсию и, старея, среди хворостей, слабости начинали думать о смерти, и каждый думал свое, не умея с другим поделиться.
Вот об этом бы им говорить, вот к этому бы им прикоснуться.
— Не успели, Сема, с тобой!
И, глядя на друга, вспомнил, как строили эту Катюху, выдавали пробные плавки и прорвало у домны горн. Она взрывалась и ахала, кидала огнем и металлом. Его сбило горячим газом, удушило и скомкало. Он погибал среди стального дождя. И друг в кислородной маске кинулся в пекло и вынес его.
И хотелось об этом напомнить, о вечной своей благодарности, да только не было слов. И он повторял бестолково:
— Вот как, Сема, с тобой!..
Но тот был не здесь, не с ним…
Печь клокотала и булькала. В ней поспевала плавка. В медных, застекленных зрачках бушевало белое солнце. Бригада, торопясь и покрикивая, строила из глины новое жерло летка. Швыряли лопатами жирный черный раствор. А потом, схвативши трамбовку, в двенадцать рук раскачали и ударили с оханьем, скользили кулаки по металлу. Сквернословили, кричали и скалились. Отекали росой. Отбивались от газа и пламени. И он, надрываясь, со стоном, в едином со всеми дыхании, наносил удары. Казался себе огромным и мощным…
Все сидели у стола, растерянные и смятенные. Надо куда-то бежать, что-то делать. Или ждать и прислушиваться, боясь пропустить, не проститься. В темноте, из красного, чуть видного отсвета надвигалось на них беззвучное и огромное.
Жена пошла сменить полотенце. Отжала, положила на лоб. Присела на край кровати, почувствовала твердую тяжесть большого, длинного тела. Испугалась этой недвижной длины. Старалась вспомнить его иным.
Как летели над ними, опадая с деревьев, солнечные, сухие снега. Освещенные низким малиновым солнцем, они бегали по теням и сугробам, проваливаясь в их пышную глубину, собака вилась и металась, хватала снег горячим языком, и по дороге везли возы золотой, промерзшей соломы.
Крохотная деревенька в лесах. Кипение чугунов на плите. Над печкой качаются синеватые беличьи шкурки. И из жаркой ночной избы — в холод, в трезвон дороги.
Он впереди, она сзади. Ей он казался огромным в полушубке, в скрипящих валенках, в мохнатой, распущенной ушанке. Шагал широко и быстро, на нее не оглядываясь, увлекая ее за собой. И она, едва поспевая, в веселье и страхе, молила: «Не отстать, не отстать».
Крутая на поле гора. И он, дыша, убыстряя шаг, идет, подняв курчавый ворот овчины. Гора все круче и круче, а он все быстрее. И в ней одна только мысль: «Не отстать. Как сложится сейчас, так и в жизни».
Они вышли на ровное поле, на ясный небесный простор. И он, утомившись, шел уже тише. Чувствуя, как радостно ей, какие силы льются с небес в ее легкое, тонкое тело, она прибавила шаг, проскользнула мимо. Удалялась одна по белой пустой дороге. И слыша, как он отстает, внезапно подумала: «Все так и будет. Не гору одолели, а жизнь».
И теперь, сидя с края постели, сжимая мокрый ком полотенца, вглядываясь в лицо старика, узнавала в нем молодого.
Как загадала, так и вышло. Все у нас с тобой, как по-писаному. Все, как на той горе.
Свадьба была небедной. Родился и умер ребенок. Война, его рана. Ее горькое в степях ожидание. Негаданное его возвращение. И рождение детей. И труды над ними, и хлопоты. И мелькание лет. Их ссоры и примирения. Их усталость и старость. И вместе жизнь прожита, одним дыханием и взглядом, и вот та черта, на которой теперь расстаться, и он исчезнет во тьме, а ей одной идти по белой дороге.
И видя, как он исчезает, — минута, и нет его больше, — она кинулась мужу на грудь, целуя его руки и сухие, твердые губы:
— Сема, Сема, куда? Куда ты меня отсылаешь?
А он не внимал и не слышал.
Подводил к летке бурмашину, чувствуя в кулаках тяжелое дрожание моторов, трясение и гул земли. Налегал, прошивая кляп. И там, где рвануло белым и метнулся первый чугун, — такая радость и сила. Охватило светом весь цех, понеслось убыстряясь. Разделилось на два рукава в языках и кипении. Печь стенала в огнях, выпуская свою жизнь на свободу, высвечивая тьму до белого слепого пятна. И в бурлении и дыме — лица любимых и близких. Хохот жены, раскрутившей красную юбку. Дети скачут и вьются, давят ягодный сок. Друг раскрыл навстречу объятия.
— Сема, Семочка, голубчик мой ненаглядный! Да на кого же ты нас оставляешь? Да посмотри на свою доченьку, как она сиротой станет жить! Да посмотри на свово сыночка, как он на тебя-то похож, а ты от него улетаешь! Да взгляни, Семочка, на свого верна друга, как ты его оставляешь без совета, без ласки! Оглянись ты, Семочка, на меня, как же мне теперь одной управляться все дни, все часочки! Глазаньки твои закрыты! Чего они, твои глазаньки, видят?
Она билась над ним, дети ее унимали.
А он, убыстряя шаг, шел вдоль чистой стальной реки, исчезая в ее половодье…
* * *
Утро было солнечно-рыжим, с сухим степным солнцем на полу и на стенах. Ковригин, проснувшись, испытывал слабость и неясную печаль, удивление, рассматривая свою большую, в жилах и венах руку, попавшую в треугольник света. Чувствовал утомленное колыхание сердца, готовое превратиться с первым движением в слабые больные удары.
Зазвонил телефон. Главный экономист, невидимый Ковригину, но ощутимо подвижный, юркий, торопливо говорил в трубку:
— Доброе утречко, Николай Степанович! Как самочувствие, как здоровьице? Знаю, Ольга Кирилловна вас вчера навещала. Я справлялся, она говорит, слабость… Она у нас молодая, красивая, Ольга Кирилловна, но маленько, конечно, неопытная… Лекцию, Николай Степанович, на сегодня отменим? Полежите еще? А то с утра молодежь у меня толчется: будет Ковригин докладывать? Я говорю, сердце, сердце! А они афишку все равно не снимают, ждут. Как же, Ковригин в городе! Нельзя пропустить… Так я отколю афишку? А Ольге Кирилловне скажу, чтобы снова вас навестила?..
Непристойное, игривое и двусмысленное чудилось Ковригину в словах экономиста. Ожесточаясь, испытывая раздражение к нему и к себе, ответил:
— Объявление не снимайте. Лекцию прочитаю. Пришлите машину.
Он одевался, тщательно брился, повязывал на свежую рубаху дорогой малиновый галстук, следя за сердцем, опекая его, ограждая, не пуская боль на свободу. Заговаривал ее испытанным, счастливо найденным способом: если нельзя жить без боли, что ж, мы должны жить с болью.
И когда подкатила машина, спустился вниз, твердый, сухой, поджарый.
И опять комбинат радостно поразил его своей непомерной железной красой. Словно степь в этом месте проросла ветвистой стальной грибницей, и на ней, толпясь, тянутся вверх трубы, мартены, домны.
Он читал в лекционном зале, стуча по доске мелом, разбрасывая из-под рук белые брызги.
Читал с наслаждением, чувствуя упругость и встречное давление зала, понимание, готовность принять, отвергнуть.
Он увеличивал напор аргументов, дробя, перемалывая недоверие. И через дробность и множественность, почти неожиданно приходил к прозрачному, наподобие стеклянного шара, выводу. Наблюдал просветление, улыбки.
Ему была нужна эта лекция не меньше, чем им, собравшимся здесь. Он явился сюда, чтобы обнародовать свое детище, свою гипотезу. Говорил о слиянии пространств, стянутых по швам каналами, трассами, нефтеводами. О врастании друг в друга гигантских частей континента. И ему было важно сказать самому об этом, помимо всех книг, диссертаций. Произнести свое живое слово, услышав ответный отклик.
Кончил и ждал вопросов.
Поднялся молодой, невысокий казах с каменно-смуглым лицом, отграненным в скулах и веках.
— Вы сказали в связи с упоминанием о каналах, что пространство — категория не только географическая и политическая, но сегодня и технологическая. Что вы, собственно, имели в виду?
— Что я, собственно, имел в виду? Поясняю, — отозвался Ковригин, с удовольствием вглядываясь в его лицо с вишневым проблеском глаз. — Одно из чудес России — ее три великих низменности, на которые с хребтов и нагорий стекают воды и копятся там. В этих гигантских объемах, пропущенная сквозь тучи и льды, льется пресная вода. Сегодня эти объемы с экономической точки зрения рассматриваются как фабрики пресной воды и учитываются всей мировой промышленностью. В дальнейшем эти уникальные фабрики будут взяты под контроль индустрии, и их конечный продукт — вода будет нормироваться в мировом масштабе подобно энергии. Сегодня на Оби разворачивается операция «Нефть». Завтра, со строительством великих каналов, начнется операция «Вода». А в обозримой уже перспективе я предвижу начало операции, условно называемой «Кислород»…
Он говорил о переброске сибирских рек. О танкерах с пресной водой, плывущих в Японию. О витке водовода, захлестнувшем Западную Германию, Францию. Будто летал по орбите и в визир видел сеть голубых каналов. И все начинало смещаться, будто сдвинули окуляр. Время начинало двоиться.
И опять та веранда на даче с разноцветными разбитыми стеклышками. Пыхают угольки самовара. В тарелке омытая вишня. И семья за чаем. Дед шевелит беззвучно губами в расчесанной жестяной бороде, выплевывает на ладонь розовую косточку, закругляя витиеватую фразу. Отец, беззвучно смеясь, ему возражает, и на губах его сок от вишни. Бабушка сухой тонкой кистью с серебряным кольцом отгоняет осу от тарелки. Мать, молодая, в просторном, воздушном платье, открыла узорный краник, и вода пузырится, булькает.
Он все это видит единым взором, прижавшись худой спиной к плетеному стулу, и на сахарнице с синим грифоном, у самых глаз, пушистое, летучее семечко пристало, дрожит, готово вспорхнуть. И недетское, острое знание о них, о себе: они все еще здесь, еще вместе; их лица, улыбки, и он среди них, окружен их любовью, и что там у всех впереди? Задержать, задержать, помедлить… Только бы семечко не взлетело…
Это длилось мгновение. Ковригин возвратился в аудиторию, в звук своего резко звенящего голоса, в измерение собственной речи.
— Только пространства, подобные нашим, пригодны для гигантских экономических акций будущего. Мы, владея шестой частью света, обеспечили себе простор для глобальной экономической деятельности. Уже сейчас Европа не может себе позволить строительство таких комбинатов, как ваш. У них для этого не хватит ни воды, ни кислорода. Бельгия будет просто раздавлена таким комбинатом, он выпьет одним глотком все ее ручейки, вдохнет одним дыхом все ее маки, тюльпаны… Пространство заложено в сталь как стоимость. Ваши поставки проката в ФРГ и во Францию пока еще этого не учитывают. Было бы важным отыскать неявные, укрытые в сталь компоненты. Ведь если подумать, то и Ермак Тимофеевич свой шлем в вашу сталь перелил!..
И сквозь смех, кивки, понимание — опять ускользание в прозрачное разноцветье веранды.
Отец наклонился к деду, кивает ему в согласии. Темные гладкие волосы. Металлический блеск бороды. Ветер, залетев на веранду, шевелит воротник на дедовой легкой рубахе. В глазах у отца переливы. Пушистое семечко с крохотным темным зрачком зацепилось за сахарницу. Вот-вот оторвется, исчезнет. Еще мгновение помедлить, продлить их близость, единство…
Видение не мешало ему говорить.
— В сущности, речь идет о гигантской машине пространств. О дальнейшем ее усовершенствовании. О введении в нее новых узлов управления. Эта машина — пусть не пугает вас само слово, — доставшаяся нам по наследству, создавалась общей судьбой всех скопищ наших народов. В ней исторические движения и скорости, столь немыслимо разные по величине и по вектору, нашли свое интегральное выражение… Долгое время — теперь уже, как мы наблюдаем, прошлое, — Запад упрекал нас в отсталости. С петровских времен колол нам глаза своей технологией. Мы и сами себя упрекали, не видели у себя инженеров. Почему-то не могли разглядеть: пока они изобретали и строили свои паровые машины, мы изобретали и строили невиданный аппарат у трех океанов, закладывая в него свой инстинкт и опыт, все понимание пространств, ориентируя его в далекое, даже нам уже с вами не принадлежащее будущее. Они, на Западе, обладали швейцарскими, уникальной работы часами, а мы, не имея часов, владели часовыми поясами. Учились их заводить, прикладывая к уху то Чукотку, то Белоруссию. Наши предки берегли это создание как зеницу ока, пронося его сквозь все пожары и беды. Многое, многое в них теряя, сохраняя одно: великолепную, из земных и небесных колес, грандиозную машину пространств.
Он говорил, облучая зал, направляя вовне рефлектор. В нем же самом слабо горела и теплилась зажженная бог весть каким чудом свеча… Быть может, вчера, в ночном номере и в нем началось движение вспять, к оставленному, позабытому, а теперь вдруг снова открытому, без чего, как без хлеба насущного, и жить невозможно: в нем вся сила, весь смысл…
Семечко дрожит на фарфоре. Ветер, зародившись у океанов, летит на него, готовый сорвать. Но пока еще тихо, вишня на белой тарелке, все близкие вместе, и бабушка гладит мать по плечу.
— Возможно, — продолжал он, напрягая до звона голос, — мы оказались на пороге новых теорий, готовых объединить науки о человеке, пространстве и технике, придав им космический смысл. Ибо в конечном счете наша государственность и культура, личная жизнь и судьба протекают среди законов вселенной. И любое земное рождение — есть выход в открытый космос…
Мать поднялась, взмахнув широко рукавами. Отец шагнул ей навстречу, отбросив со лба каштановую, темную прядь. Вихрь их движений, как начало огромного ветра, упал на летучее семечко, качнул и сорвал. И оно понеслось сквозь дверь на свободу, в размытые дали. Он следил за его исчезновением, зная, что здесь все кончается, для него открывается огромный путь и движение, и где-то на грани всего он догонит пернатое семя, и, быть может, все повторится…
…Ольга сидела в своем кабинете, завершая дела, готовясь к скорой поездке в село. Приводила в порядок карточки с флюорографией. Клавдя, притихшая после вчерашних слез, помогала ей, делая надписи и наклейки. Временами останавливалась, мягко шевелила губами, вздыхала глубоко, осторожно. Словно сливала свой вздох с другим, в ней потаенно живущим.
Окно кабинета было открытым. Слышались голоса ожидавших приема рабочих.
— Эх, жил бы я в Америке! — говорил один, невидимый, с хрипотцой, с простодушной, к другим обращенной мечтательностью. — Нанял бы я убийцу. Заплатил бы ему тысячу. Сказал бы: убей ты нашего буфетчика Федора Тихоныча за то, что пива не доливает. Все на пене копейки выгадывает.
И в ответ смеялись, шаркали подошвами. Тянуло табачным дымком.
— Это Акулькин из конверторного, — подхватила Клавдя с девичьей смешливостью. — Оформляет курортную карту. С ним, как в цирке, не соскучишься.
«Как быстры в ней перемены! — удивляясь, с легким к ней отчуждением думала Ольга. — От рыданий к смешливости. От гнева к добру. Счастливо устроена… Наверное, это и есть здоровье?»
Она вернулась вчера из гостиницы, и ей было так тяжело, словно случилось несчастье. А в сущности, ничего не случилось: какой-то чужой человек, какой-то полурассказ и минутка сочувствия. И после расстались.
Но она сидела вчера у окна, не зажигая огня, глядя на далекие, усыпанные рубинами трубы чужого ей города. Думала о себе, о своем одиночестве, о вечной своей невысказанности. Откуда эта стыдливая боязливость и робость, неверие в себя, готовность уступить, стушеваться? Откуда молчаливое, ставшее внутренним богатством страдание?
С тех пор как болела мать и вяла у нее на руках, своей болезнью и горечью награждая ее, запрещая ей что-то, возникло в ней чувство вины и знание о невозможности счастья. И теперь, после смерти матери, оставался запрет на счастье как высшая справедливость.
Вчера она наткнулась на материн прозрачный шарф с почти несуществующим запахом ее духов, горьких, полынных дуновений ее лекарств и болезней, залетевший в эту жизнь из другой, где цветы на нем были живые и яркие. Держала на руках невесомую, в линялых расцветках ткань и думала: неужели всю жизнь будут следить за ней темные, ревнивые, готовые к слезам глаза матери, и если погаснут, то откроется невыносимое одиночество?
«Невыносимое одиночество…»
Она сидела, стараясь припомнить, о чем говорил недавно остролицый седой человек — о чем-то родном и понятном, — и было ей тяжело.
За окном балагурили…
— Я его спрашиваю: Федор Тихоныч, как ты, говорю, пены такой добиваешься? Мыло, что ли, в бочку закладываешь? А он кран вертит и так мне нагло, серьезно: это, говорит, пиво не наше. Американский пепси-кола. — Ну, говорю, сам и пей это песье кофе, а деньги давай назад! Взял гроши и ушел…
В ответ хохотали. Кого-то звучно шлепнули по спине.
Клавдя, держа на весу перо, заглядывала в глаза. Но Ольга уклонялась. Озабоченно и быстро писала. Ей больше не хотелось чужих признаний. «В своей тишине и покое…»
Вчера, сидя с материным шарфом в руках, поднося его к сухим глазам, смотрела: сквозь стрекозиную прозрачность расплываются красные на трубах огни. Выдыхала, выговаривала шарфу свои жалобы и свои обещания. Выкликала мать. Думала: надо смириться, укрыться в себе самой. Жить дневной мимолетной заботой, иногда через этот шарф, через другие оставленные ей тут заветы уноситься в прошлое, из которого мать и отец, оба молодые и ясные.
Утром, идя на работу, она повязала этот шарф…
Теперь погружалась в работу, ловя краем глаза выбивавшиеся на груди сиреневые переливы. Повторяла: «В своей тишине и покое».
— Ольга Кирилловна, — тянулась к ней Клавдя белым, полным ожидания лицом, — я к Николаю своему ходила. Свидание дали. Он плакал, руки у меня целовал. Срок, говорит, отработает, вернется. Семьей жить станем. Люблю, говорит, люблю! Прости и жди! Одна ты мое спасенье!.. Я и то думаю, потерплю, а там вернется… Может, правда, жить станем?..
Она заглядывала ей в глаза, ожидая помощи, встречной веры. И Ольга вдруг испытала такую к ней любовь, такое желание счастья для нее, для себя. Протянула к ней руки, коснулась ее, горячих. Они обе обнялись и заплакали по-девичьи.
— Все будет, Кланечка, хорошо! Все будет ладно, славно!
Они сидели обнявшись. И сквозь всхлипы и слезы она увидала: дверь отворилась, и Ковригин, улыбаясь мучительно, возник на пороге…
Они шли вдоль закопченных цехов, обгоняемые самосвалами.
Торопились, почти бежали. Он говорил сумбурно и сбивчиво:
— Я читал… меня попросили… тут, рядом… И показалось возможным зайти… Вы вчера так внезапно… Я и сказать не успел…
Ольга, убыстряя шаг, задыхаясь, отзывалась, не в ответ, а как бы желая опередить его торопливость, уклониться, не дать чему-то случиться:
— А я уезжаю завтра… в село. Мы шефы, и врачей не хватает… Спросили, кто хочет, и согласилась… А после в Москву на ученье…
— Вы вчера сидели и слушали… И мне показалось… Понимаете, после этого приступа, в сущности, рядовое явление… но какой-то сдвиг. Я здесь чужой и один… Да и вообще, если правду сказать… И вот мне вчера померещилось…
— Сейчас заводской автобус должен прийти… А кончится смена, трамваи битком, не сядешь…
— Я читал про свои пространства, а сам совсем про другое. Такая странная двойственность… За собой давно замечал. Но одно подавляет другое, два мира, огромный и камерный…
— Да, я же забыла! Я должна была вас спросить… Как ваше сердце? Ни вчера не прослушала, ни сегодня… Врач называется! Ну как ваше сердце, скажите?
— Плохо… болит… То есть нет, наоборот, все прекрасно! Найден рецепт, чудодейственный! Целительный лозунг! «Если нельзя жить без боли, то жить приходится с болью!»
— Я понимаю… лозунг… «В своей тишине и покое…»
— А я все думал сегодня, не успел вас разглядеть и запомнить. Днем вчера этот приступ дурацкий, потом эти сумерки… Думаю, какое лицо? Какие глаза? Лекцию читаю, а сам стараюсь вспомнить, какое у вас лицо.
— Это бывает, бывает… Облик помнишь, а черты ускользают…
— Смотрите, у вас шарф развязался… Со старомодным прелестным рисунком… Я знаю, если сквозь него посмотреть, то все начнет расплываться, лучиться, все в таких радугах тонких…
— Хотите взглянуть?
— Хочу!
Они почти бежали. Перед ними, возносясь в белесое, задымленное небо кольчатым бесконечным хлыстом, возвышалась труба, недавно построенная, с открытой амбразурой входа.
Мимо, по путям, с медленным лязгом проходил состав. На платформах, малиново-бледные, окруженные дрожанием и жаром, двигались слябы. Стало больно глазам, лицу.
— Спалят! И шарфика не останется! — увлек он ее к бетонному телу трубы. — Сюда, под защиту!
Они вошли под громадный шершавый купол, наполненный гулом и ветром. Ввысь уносился головокружительный, винтообразный прострел. Шумели сквозняки и потоки.
Она распускала на шее шарф, хранивший вчерашние ее суеверия и шепоты, ее горькие обещания, заветы. Протягивала ему. И воздушные силы вырвали у нее легчайшую ленту, закружили, утянули под купол. Шарф метался, мелькал цветами. Устремился в раструб и исчез возносясь. И Ольге казалось: мать, пролетая над городом, подхватила свой шарф, прижала к счастливому, молодому лицу.
Они медленно брели по вечернему, в этот час многошумному городу, с расходящимся рабочим людом, звякающими трамваями, воплями ребятишек. У подъездов одинаковых пятиэтажных домов собирались говорливые женщины.
Кто-то поливал из шланга еще безлистые, торчащие под окнами деревца. Кто-то в белой косынке зычно кричал в окно по-украински. Какой-то старик, сняв кепку, чесал ею лысину, откликаясь на зов.
После торопливого бега, неловкой, сумбурной встречи они вдруг успокоились, словно нашли и догнали вчерашнее состояние, ими потерянное. И найдя, обрадовались, испытав облегчение.
Они вышли к озеру, блестяще-розовому в сумерках. На берегу мальчишки разложили костер. Плавили в банках свинец, лили над пламенем. Все озеро казалось свинцово-горячим, выпукло налитым в своих берегах. По нему плыла малая темная лодка, в ней кто-то пел и выкрикивал. И вдруг стали пускать высоко желтые ракеты. Они медленно падали, затухая у самой воды.
— Вот, кстати, — сказал Ковригин, кивая на стеклянный куб ресторана с долетевшей гремучей музыкой. — Второй вечер морю вас голодом. Давайте поужинаем.
Она кивнула, сразу согласившись, почувствовав, что голодна.
Они ели с пылу остро-сочное, слезно-наперченное казахское мясо. Пили вино. Ресторан наполнялся, пестрел. Мерцали оставленные музыкантами инструменты. Ольге казалось: трубы, гитары, барабаны выплеснуло на влажную отмель, и они остывают, высыхают, золоченые, с изогнутыми хвостами, еще шевелящиеся рыбы и морские раковины.
Рядом были сдвинуты столики. За ними красовались женщины средних лет, похожие одна на другую своими прическами, кольцами, блузками, своим громким, в зал обращенным смехом. Сидели плотным, шумным множеством, одни, без мужчин, и им открывали шампанское.
По соседству черноликие, остроносые, кавказского типа люди ели быстро и жадно, блестя зубами, белками, хрустя, обсасывая кости. Раскаленные, с гончарными лбами, выглядывали из-за глазированных горшков и мисок, коньячных бутылок с наклейками.
Поодаль молчаливо и сдержанно сидело четверо белесых, степных, районного вида, в одинаковых бисерных галстуках, не касаясь графинчика с водкой, ожидая салат.
— Боже мой, какие все разные и какие похожие! Одним миром мазаные. Только слов не найду, но очень похожие! — сказала Ольга, весело опьянев, чувствуя краями глаз, как пристально, радостно смотрит на нее Ковригин. — Вы можете отгадать, кто они?
— Наши соседи? Ну кто, например?
— Ну вот эти.
— Красавицы? Это может быть залетный, мобильный отряд областных ревизоров, нацеленный на местную торговую сеть. После атак на бухгалтерскую отчетность, после смелого рейда по тайным тылам накладных, еще грозные, неподкупные, как амазонки, но уже очаровательные, нежные, готовы пленять, кружить головы.
— Ну, а эти? — смеясь, кивала она в сторону смуглоликих кавказцев.
— Это горные орлы обернулись орлами степными. Бригада кавказских плотников, чьими топорами, гвоздями строится вся колхозная и совхозная Сибирь вплоть до Тихого океана и чей вклад в устроение новых земель еще ждет докторской диссертации на тему «Современная роль кавказских народов в освоении пространств к востоку от Урала».
— А эти, перед магическим графинчиком?
— Из районного объединения «Сельхозтехника», или из районо, или из отдела культуры. Среднее звено управления. Вместе росли, учились. Вместе занимали посты. Знают все огрехи и дыры. Поднимают район, тянут. Из тех, кто не вылезает из газиков, до хрипа кричит: «Алло!», носит сводки в тоненьких папочках. Их любит рисовать «Крокодил», а они в своем простодушии продолжают на него подписываться. И, ей-богу, заслуживают скорее поклона, чем бездарных карикатур.
— Откуда вам это известно? Вы что, в районе работали?
— Было время, поколесил по районам.
— Ну, а мы с вами кто?
— Об этом надо спросить нашего официанта, понимающего в людях гораздо больше, чем люди в нем. Но и он станет гадать на кофейной, местной заварки гуще: то ли дочь с отцом, то ли врач с пациентом. В общем, две неясные птицы.
— Уж действительно птицы! Целый год живу, первый раз сюда залетела.
— А для меня, признаюсь, наши русские провинциальные рестораны столь же бывали важны, как библиотеки, если не больше. Во всех скитаниях, блужданиях для всех командированных лишенцев награда и радость — ресторан, где казенный уют подсвечен подслеповатой, под бронзу люстрой, пахнет слегка парикмахерской, официантки похожи на проводниц и биг бенд областного масштаба зашибает рубли и трешки, а в меню неизменный бифштекс с яйцом царит меж трех океанов, и публика все в том же наборе, словно возят статистов, рассаживая перед твоим появлением. И ты любишь их лица, ценишь постоянство сервизов, зная наперед, кто как кончит вечер.
— Как же кто кончит? Ну эти?
— Красавицы-то? Выпьют шампанское, губки бантиком, щечки маками. Закачают перманентами, подпевая оркестру. Затопчут под столом каблучками. А потом пойдут кружить и плясать вон с теми железнодорожниками, после каждого танца поправляя блузки, позволяя вести себя под руку. Не поддаваясь, однако, на искушение, ибо все-таки верные жены. В конце концов откажут своим кавалерам, споют хором популярную песню и пойдут отдыхать в гостиницу до утренней ревизии.
— Ну, а горные орлы?
— Пахнет на них из рюмок родными хребтами, а они, испытав ностальгию, пошлют в оркестр красненький хрустящий гостинец, и тот исполнит «лезгинку». А они воинственно, яростно, гневно спляшут ее, вызывая восторг местных дам.
— Ну, а наши, родные, с графинчиком?
— Те закажут второй. И, услышав «лезгинку», усмотрят в этом некий вызов, укол самолюбия и вместе с тем богатырский позыв. Пошепчутся с оркестром и спляшут «цыганочку», выделывая такие колеса, на которых далеко бы уехать, кабы не пора закрываться. Пойдут, унося в груди под галстуками грохочущие дизели, и долго еще в номере, сидя на кроватях, будут пить чай из автоклава и спорить по службе.
— Ну, а мы с вами как вечер окончим?
— Мы-то? Про нас до конца неизвестно. Во всяком случае обещаю вам не закатывать приступ.
Умолкли серьезно, до одновременного дрожания губ. Рассмеялись громко.
Возвращались на свои места музыканты, брали инструменты, осматривая их сияющие грани и раструбы, трогая в них невидимые центры звучания. Ковригин наблюдал отрешенные их движения, не адресованные к залу реплики. Будто они принесли с собой нечто понятное им одним, не удостаивая пьющих, жующих.
Вот припали к своим орудиям. Качнулись в согласии. И грянули медью, электрическим, струнным стенанием, громким, сентиментальным и сладостным, известным еще их бабкам, прабабкам, чудесно сохраненным, подхваченным ныне в этой земле и пространстве.
Ковригин испытал мгновенное, знакомое непонимание всего, бывшего дороже любого понимания. Драгоценный абсурд, в котором все то ли было когда-то, то ли вовсе никогда не бывало. Это длилось мгновение, как пролет частицы из того саксофона, и исчезло, оставив крохотную бескровную ранку.
— Снайпер, зрачок — и белочка синим комочком, — сказал он чуть слышно.
— О чем вы? — спросила она, заслушавшись.
— Эти дни, вчера и сегодня… Что-то кончается и достраивается, в который раз обретая ненужную цельность, чтобы исчезнуть. Тот ребенок с вишней на даче — не я… Тот солдатик, бегущий в атаку, — не я… Тот любовник, счастливый муж — не я… Все они стали не мной. Как бы отошли и, сойдясь в стороне, следят за мной, настоящим. А я, с другими глазами, лицом, с другим пониманием всего, ращу в себе нового двойника, чтобы снова отпустить от себя… Ведь странно, верно?
Она чувствовала его муку и момент ее появления, понимая ее не умом, а иным, в ней возникшим опытом.
— Да, понимаю… Я и дитя, я и старуха. Я и жена, и вдова. И песец, и рыба. Многое так и умрет не родившись, а иное родится, но потом все равно умрет… Вы об этом?
— Наверное, да. Вам это еще предстоит, а у меня уже было, есть. Кто-то выходит из меня, как из дома, все унося с собой. И мне снова, в который раз, обживать эти стены, углы.
— Расскажите о тех, кто вышел.
— О ком?
— Ну, о том, кто бежал в атаку.
— Где-то бежит, спотыкается.
— О нем расскажите.
Кругом танцевали. Тот стол, где сидели женщины, был пуст, и все они кружились и двигались, крупнотело, краснолице. И все опять повторялось…
…Белое поле ржи. По пыльному тракту, рассыпаясь, бежит колонна, кидая винтовки, сбрасывая скатки, мешки. Две бронемашины с крестами, выкатив на опушку дубравы, зыркая башнями, долгим, долбящим огнем бьют по пехоте, сметая ее на обочину, выстригая плеши. Колонна, теряя очертания, длину, наворачивается в орущий, пылящий ком.
Ей навстречу, вскинув наган, орет командир:
— Назад! В цепь! В атаку!.. Убью, стервецы!.. Вперед!
Гребет руками, стараясь удержаться на гребне, повернуть катящийся вал. Но его огибают, прыскают от него, не встречаясь глазами.
Горстка бойцов, растерянных, крутящих головами, подтягивается к своему командиру, остановленная его хрипом, готовая забыть о нем, отмахнуться, снова кинуться вспять. Он, Ковригин, заправляя ленту обмотки, видит оглупленное ужасом, со слюнявым ртом конопатое лицо пробегающего. И сквозь страх и тоску, сквозь слепую беду и позор под этим солнцем в пыли кидается к командиру. И тот утягивает его за собой криком, костяным, вперед устремленным телом, слабым блеском нагана:
— Остановить их!.. В атаку!.. Вперед!..
Малая горстка бежит по обочине, вдоль белой, горячей ржи, со штыками наперевес. Лица рядом бегущих. Бородач крестьянского вида, озабоченный, косолапый, неловкий, старательно обегающий кочки. Грузин, потерявший пилотку, с белым, словно счастливым оскалом, с золотым ярким зубом, узкоплечий и верткий. Остроносый худенький мальчик, городской, тонкогубый, с удивленной над бровями морщинкой.
Ковригин их видит, и свой штык, и дуло винтовки, и белую стеклянно-прозрачную, лучистую и мохнатую рожь, и сквозную, исчезающую синеву василька, и мелькнувший полет стрекозки, и высокие летние облака. В нем — надежда, и знание об этой земле, о тех, дорогих, на даче, и мысль: «Я бегу… Среди всех дорог эта узкая тропка. И нет другого пути…»
Машины из-под темных дубов, вращая округлыми башнями, высекали короткие трескучие вспышки. И рядом люди будто падали в травяные, темные ямы, проваливались по самую шею. Исчезли бородач, грузин. Мальчик, охнув, тянулся вслед из травы. Они бежали теперь вдвоем, командир и Ковригин, помещенные в светлое, уменьшающееся пространство между рожью, дубравой и небом.
На неловком скачке, наступив на свою обмотку, он упал, отпуская вперед командира, видя его удаление, зная свою перед ним вину, невозможность вскочить и бежать. Не вскочил.
Командир, ощутив на бегу свое одиночество, встал, озираясь. И, урча, пуская голубые дымки, машины вышли из-под волнистых дубов и двинулись на него, огибая, держа под прицелом.
Ковригин видел их ребристые колеса, кресты, короткие стволы пулеметов. И лицо командира, измененное, осветленное, будто явилось в нем знание о тех отступающих, бегущих и других, лежащих, о себе, одиноком, живущем.
Командир выставил руку, как в тире, сухой и стройный, и стал пускать одну за другой пули в броню и кресты. А потом приставил наган ко лбу и упал от неслышного выстрела.
Так и запомнил: чуть видное, в зеленой форме, лежащее командирское тело. Выхлопная гарь из машины. Смятые бегом колосья…
— Вот такой она была, та атака… Атака сорок первого года, — сказал Ковригин, возвращаясь в музыку, в свет, удивляясь свежести памяти. — Даже мохнатые колоски сохранились…
Ольга слушала его, испытывала робость. Он был удален от нее на огромное, ей не принадлежащее время, с той рожью, бегом, пыльной обмоткой, его молодостью, другими, от нее скрытыми лицами.
И одновременно был беззащитен, открыт, со своей седой головой, с вторжением в свою исчезнувшую молодость и обратным из нее возвращением.
— А сейчас, — загудел в микрофон солист нагловато, любезно и барственно, — мы исполним заказ наших гостей с Кавказа. Популярный народный кавказский танец «лезгинка»!
И ударили неистово.
Трое, вскочив, меднолицые, окрыленные, понеслись, вымахивая ладонями, подошвами, чертя локтями, темнобровые, белозубые, пылкие, под завистливое восхищение и аханье.
…Ковригин не касался ее, но чувствовал охвативший ее легчайший огонь. Свое отражение в ней. И то, как верно, истинно, милосердно он в ней отразился. И ему было важно ей говорить, в ней продолжать отражаться.
— Но была и другая атака среди прочих. Атака сорок третьего года… Совсем иная работа…
И сквозь топотание и плеск, неохотное умолкание «лезгинки» — те трое шли в крупных, горячих каплях, и один вытирался клетчатым красным платком, — Ковригин снова рассказывал.
…В сумеречных снегах запорошенная деревушка с чуть видными кольями прясел. Открытое поле с черточками заграждений. Полковые пушки бьют по деревне, перекапывая оборону. И в нем, Ковригине, мысль: «Пусть подольше молотят. Пусть одним стрелком меньше, может, моим и меньше».
Лейтенант пробежал по окопу, готовя атаку, озабоченный, молодой, курносый. А в нем, Ковригине, сдувающем снежок с автомата, похожее на радость движение: валенки успел разносить, перестали жать в подъеме.
За спиной, грохоча, наматывая снег гусеницами, вышли танки в белых мазках и подтеках. Проползли траншею, пролязгав у уха. И как бы прикидывая в уме их тонны и броневую защиту, успел подумать: «Еще бы пяток добавить, было б надежней для жизни».
По взмаху и окрику вылезти и начать продвижение по ребристому следу, чувствуя вонь моторов, стараясь укрываться за танками, пока не прибавили газ, не ушли вперед подавлять пулеметы и пушки.
Машины оторвались, ушли. И самое время отстать, ибо начался бой артиллерии, среди танков разрывы с гаснущим красным миганием. И уж лучше от них в отдалении.
Движение с негромким «ура» среди пулеметного стрекота. Чувство белизны и пространства с задачей экономии сил для будущего рывка рукопашной. А пока трусцой по мелкому снегу, прикидывая направление стрельбы. Примеряя ее на себя. Ломая траекторию бега, суеверно обманывая чужой зрачок и прицел.
Подбитый танк загорелся. Из огневого пролома что-то сыплется, льется. Шарахнуться от него поскорее, люк сейчас начнет открываться, пулеметы сведут на танке огонь, станут истреблять экипаж.
Рухнувшие прясла, репейник. Комки разорванной проволоки. Мятые бочки с горючим. Раздавленная пушка, с гарью, дымом и кровью. И здесь, на последней черте, на последнем рывке атаки, открыть в себе клокочущие, живые ключи, нестись к близким избам с копошением чужих мундиров, стремясь к ним жадно и бешено.
У пушки, прижавшись к щитку, ошалелый молодой батареец, оглушенный и раненый, опустил автомат. Пробегая мимо, ухватил на секунду его молодую жизнь. Отмахнулся от нее на лету, перепрыгивая гору стреляной меди, груды дымящейся ветоши. И почти забывая о нем, на последнем полуобороте, не сам, а силой движения пустил в него очередь, успев разглядеть его удивление в смерти.
И потом, после боя, когда варили в избе картошку, все влекло его встать, пойти за околицу, посмотреть то лицо у немца…
— А сейчас, — говорил в микрофон солист с утонченно-лживой задушевностью, — мы исполним музыкальный привет нашего гостя из Павлодара. Народный танец «цыганочка»!.. Просьба к остальным нашим гостям не занимать места для танца.
И с первым звучанием, торопливо, словно боясь упустить секунды, желая испытать всю, от начала, сладость, выскочил высокий парень в белоснежной рубахе, с открытой грудью, в начищенных башмаках. Ими засверкал, зашелестел, заметался. И мгновение его одиночества и господства. А потом все повскакало, кинулось, заходило ходуном, тряся чубами, прическами. Железнодорожники, ревизорши, «Сельхозтехника» пошли колесить и гулять под несуществующим солнцем.
Ольга, выплывшая из его рассказа, из тех снегов, в этот веселый, слегка туманный, многоликий ад, думала: кто она для него, если слушает, а он говорит? Кого он в ней видит? Кто там несся над ним в тех снегах, сберегая его от пуль? Что должна она совершить теперь и потом, от чего его защитить? И ведь где-то есть та деревня, то поле и безвестная, глухая могила убитого им батарейца?
— И еще была… Одна из последних… Атака сорок пятого года…
— Расскажите…
— Одна из последних…
…Немецкая ратуша с нишами по фасаду, с золочеными статуями королей и святых, с жестяной звонкой путаницей флюгеров. И с двумя проломами в центре — след от ударов самоходки, отдыхающей за углом, зарывшись кормой в развалины.
Военный переводчик выставил мегафон, предлагает им сдаться. В ответ два фаустснаряда, повесив дымные плети, рванули огненно в стену, пытаясь достать самоходку.
Ротный с забинтованным горлом, его булькающий приказ: «Атакуйте!»
И последний напор и ярость. Вал по этажам, выскабливающий, выдирающий с корнем. Подбрасывали их ударами вверх, к чердакам.
И те, ощутив свой конец, высыпали последним десятком. В рост, в черном, без касок, засучив рукава, выхватив кинжалы, ринулись сверху. Их командир, тучный старик, махал пистолетом, направляя бросок.
И такое ослепление в гневе к тем, с тесаками. Мгновенное их истребление, их последней гордыни. Молча, без криков «ура», раздувая за спиной крылья плащ-палаток, сводя огненное острие атаки, победное ее завершение.
Кинулся сквозь дым к командиру, но застыл, давая свершиться. Видел: старик засунул в рот дуло, стиснул зубами и выстрелил. Опрокинулся седой головой…
Ковригин очнулся. Вокруг распадался танец. Гомонили, смеялись. Звякала официантка подносом. Женщины, сдвинувшись в круг, пели знакомую песню. Оркестр убирал инструменты. Все было почти просветленным. И лишь по углам, улетая, чуть синела пороховая гарь…
Он провожал ее к дому по ночному угасшему городу, с темными, по-рабочему спящими зданиями. Чувствовал утомление, пустоту, смущение. Неясное в чем-то раскаяние. Хотел ее отпустить, расстаться.
Ольга шла молча, испытывая к нему нежность, благодарность. Хотелось его обнять прямо здесь, под фонарем, кидающим желтоватый круг на асфальт. Ну, не под этим, под следующим… Ну, под другим, под третьим…
Шла, не в силах разрушить возникшую оболочку, в которой напряженно, болезненно билась ее жизнь и желание.
— Пришли, — сказала она, останавливаясь у подъезда. — Спасибо… Завтра я уезжаю…
— Да? — спросил он. — Разве завтра? Это куда же? В село?
— Да, я вам говорила… Потом у меня отпуск… Потом на курсы в Москву… Но хочу уехать пораньше, провести свой месяц, ну не знаю где… может быть, в Ленинграде…
— Да, хорошо путешествовать, — рассеянно отозвался он.
Ольга чувствовала, как он удаляется в свое утомление, какая разница между ними и лет, и усталостей, и их связь на глазах исчезает. Сейчас разойдутся, наверное, никогда не увидятся. И есть еще секунды последние, — коснуться руки, сказать.
Не могла. В ней все окаменело, остыло. «Уж пусть как случилось», — думала она отрешенно.
— А я завтра в Караганду уезжаю, — сказал он. — Предстоят выступления, встречи… Хочу побывать на шахтах… Спасибо вам за исцеление… Может, черкну вам в село-то, с отчетом о сердце… Какой-нибудь рецепт подскажете… Как вам писать?
Он протянул ей блокнот, перо. Она бегло написала. Вернула блокнот и ушла.
Снег и уголь
Ночью дуло и давило на стекла, а потом стихло, и возникло бесшумное движение всего, наполнение сквозь сон. Утром Иван Тимофеевич пошел на это новое преображение за окнами. Все было в снегу: белый, нетоптаный двор. Крыша соседнего дома, умягченная, соединенная с небом. Подъемный кран с черно-белым полумесяцем крюка. И от этой неожиданной, открывшейся во все стороны чистоты Ивану Тимофеевичу стало тревожно, почти болезненно. Думал: «Как крот подземный… Точь-в-точь крот подземный…» Почетный шахтер, бригадир, с твердыми косыми ступнями, он неловко ходил по комнате, соединенной сквозь стекла с тревожащей его белизной. И опять, как все дни, тяготился утренней тишиной и бездельем до начала смены, с нетерпением, угрюмо поглядывал на круглый будильник.
Он стоял, повернувшись спиной к окну, чувствуя лопатками белый квадрат.
И оттуда, нанесенные из-под свежих сугробов и хлопьев, возникали нагретые солнцем, смуглые низкорослые избы, зелень травы. Толпится, гогочет их деревенский народ. Задрали лица и бороды. И сосед дядя Митяй, в розовой линялой рубахе, босоногий, нечесаный, слезает по лестнице с крыши, осыпая гнилую дранку, оставляя под трубой солнечно-огненный, золоченый лоскут, кусок от церковной кровли. Притащил из соседнего села, где рушили колокольню. Громыхал, выпрямлял, чистил. А потом взгромоздил на свою трухлявую, съехавшую набок хатенку, пришил гвоздями. И теперь, гордясь, наступает на кучу сухого навоза, позволяет всем любоваться.
Иван Тимофеевич почувствовал, как разрушилось видение, будто за спиной возникла помеха, заслонившая белизну.
Оглянулся — по двору, оставляя поперечные следы, двигался тучный старик. Останавливался. Кричал сипло, с присвистом:
— Я вам, черти, по сараям полазаю!.. Я, хулиганье вы такое, участкового на вас напущу!..
И от сиплого крика, от следов, истоптавших нетронутую поверхность, Иван Тимофеевич испытал к старику досаду, возводя ее затем на себя.
Еще несколько лет назад старик — не старик, а сосед, работавший в железнодорожном депо. Гонявший грузовые составы с углем. Они встречались после работы и кланялись. Тот, усталый, с чемоданчиком, в форменке, пахнущей смазкой, сухим теплым ветром, нагретой стальной колеей. А сам он гудящий, измотанный сменой. Басили друг другу похожими голосами о делах на дороге и в шахте. О нормах, начальстве, рекордах. О близком своем и понятном. Расходились отдыхать и отлеживаться.
Но вышел сосед на пенсию, и что-то в нем отключили. Первое время еще наряжался в фуражку, надевал колодки цветных орденов. Но потом все чаще появлялся на летнем припеке в мятой пижаме. Сидел, дремал, полнея, тучнея, клонясь небритой щетиной на жирную голую грудь.
Еще, бывало, Иван Тимофеевич подойдет к нему, полный сочувствия. Затеет разговор о серьезном, о политике или о новом пришедшем в шахту комбайне. Но сосед внимал равнодушно. Оживлялся лишь когда принимался бранить шумящих на дворе ребятишек. Да не мог дождаться пива в ларьке.
«Неужели и я так буду? — думал Иван Тимофеевич, глядя на протоптанную, безжалостную борозду. — Оглохну, ослепну — к тому, что ль, вся жизнь?»
Он чувствовал свою жизнь как неясную угрюмо-могучую силу, пребывающую в нем, словно внутренний, в постоянном движении корень. Отмирая в одной своей части, другой уходил все глубже, к самой сердцевине, каждый раз находя новые соки.
Медленно сжав кулаки, ощутив их тяжесть и жесткость, поразился, как крепко всегда был связан с этой неясной, ему не принадлежащей, но в нем угнездившейся силой.
Белизна окна волновала его и мучила. Возвращала давнишний цвет.
…Поле под зимней, синеватой луной, все в тенях, в застывших былинках. Багровое, чадное зарево двух далеких пожаров, долетавшее сюда как слабое колыхание бугорков и ложбинок. И он, оглушенный в дневной атаке, с перебитым плечом, выползает, продавливая грудью сыпучие ворохи, слыша, как лязгает, проседая под его тяжестью, бронированный наст. И одна только мысль сквозь замерзание, выламывающую боль: «Выжить, Ванюша, выжить!.. Доползти, язви твою мать!..»
Слабый оклик и стон в стороне. Поднялось под луной лицо, все в белой ледяной бороде, с мерзлым колтуном в волосах:
— Погоди, братишка… Спаси…
Их близкое дыхание и жизнь. Он пытался согреть другого, обломать на бровях сосульки. Не мог. Сам застывал, чувствуя, как оба они начинают уходить в бездушную лунную зелень.
— Слышь… Можешь ползти, нет?
— Никак… По обеим ногам садануло…
— Я поползу… застыну…
— Ага… Меня звать Петром…
Он двинулся дальше, слыша, как тот остается, затихает, превращаясь в бугорки и ложбинки. Думал: «Выжить, Ванюша!.. Тебе еще выжить придется!..» Выносил в себе свое выживание как высшую заботу и цель.
И потом, как неотпущенную вину и раскаяние, все не мог забыть то залепленное снегом лицо меж двух далеких пожаров: не узнал, молодой или старый, белесый он или черный…
Это видение возникло в нем, пытаясь задержаться, соединиться с другими. Ушло, как бы не найдя себе места. Вынеслось обратно, в бесцветный, прозрачный холод.
В дверь позвонили. Иван Трофимович радостно вздрогнул, двинулся открывать, ожидая увидать, не умом, а своей суеверной душой, нежданного, чудом воскресшего гостя. Но за порогом стояла остроносая женщина с набитой сумой, с мелкой в скороговорке усмешкой:
— Мышек травить не хотите? Мышки не мучают?
— Мышки? — переспросил он рассеянно.
— Мышеловочки не хотите поставить? Хозяйку свою спросите, не нужно ли?
— Нету у меня хозяйки. И мышек тоже нету.
— Так без хозяйки и живете?
И, раздражаясь на нее, он вытеснил ее взгляд угрюмым своим. Буркнул:
— Живем без мышей покамест.
Закрыл грозно дверь.
Еще думал о ней мимолетно, опять подставляя себя напряженной бестелесности света. В груди его, несуществующее, возникло воображение. Неслось разноцветно в снега.
…Их полк, возвращаясь с войны, выгружался в Москве, за товарными станциями. Колонны, перед тем как распасться, шли по мощеным улочкам. И навстречу высыпала женская и девичья толпа. Набежали — белоруко, многолице. Пробирались в колонну, мешая ее, рассыпая. Наливали на весу винные стопки, угощали, целовали. И он, растерявшись, принял из девичьих рук пляшущую, яркую чарку, обжегся, пролил на медали, разглядев молодые, хохочущие глаза. Рука с перстеньком протянула написанный адрес.
Он пришел и остался в ее тесной комнатке, в дощатом, у самой линии доме. Ночами громыхали составы и светил в окно то желтый, то красный глаз. Пахло ситниками от соседнего элеватора, и она пробегала по комнате, босоногая, белотелая, пытаясь поймать залетевшую ночную бабочку.
Оба, он и она, после всех лихолетий разглядели свою красоту. Она цепко, жадно, ослепнув, привязалась к нему. Купили посуду. Он выкрасил синим карниз. Посадил под окном тополь. И она, занавешивая ему глаза своей тончайшей рубахой, шептала:
— Ваня, хорошо нам с тобой. Хорошо?
И сквозь это казавшееся несомненным счастье он испытывал неясное беспокойство: жизнь щедра, необъятна. Не на этом одном кончается. Это только начало, будет много иного, ярче.
Он уехал от нее ненадолго, погостить к своим, в деревню. А оттуда заглянул на соседний карьер графита. А там и дальше. Покатило его по городам и по шахтам, по иным глазам и губам.
Было много других, державших и не державших. И за всей гульбой с гармониями, за всеми переездами, общежитиями как-то забыл о первой.
А после остыл и от них ото всех отвернулся. Постепенно исчезла радость в извечном повторении всего.
Но сегодня из снега, из холодных зимних небес принеслось и возникло: та огненная граненая рюмочка, синенький перстенек, запах теплого ситника. И ведь где-то в снегах стоит разросшийся тополь, и она, постаревшая, нянчит внуков, встречает не от него рожденных детей, и быть может, и в ней, как эхо: летает по комнате бабочка, на стуле гимнастерка с медалями, и кому-то позабытому шепчет: «Хорошо нам с тобой…»
Иван Тимофеевич растерянно слушал, оглядывался по углам, не зная, куда поместить эту память. Она была не его, не о нем, теперешнем. И, подержав ее, живую и бьющуюся, отказался от нее, выпустил обратно, в белизну.
Будильник звякал в пластмассовом кожухе. Безделье тянулось. И, не умея с ним справиться, Иван Тимофеевич торопил начало работы: «Скорей бы… Бригада даст дело».
Он включил было радио. Но там громыхало и звякало. Как те магнитофоны с кассетами, которые таскали с собой юнцы, собираясь во дворе под окнами, склонившись в грохоте длиннокудрыми, не перестававшими удивлять головами.
«Не мое… В ухе ноет…» — думал он, сердясь и робея, будто музыка просила его потесниться, не мешать ее грохотанию.
Он выключил радио. Согнувшись, достал из-под кровати гармошку, сдувая пыль с ее малиновых поблекших мехов, с медных позеленелых нашлепок, потресканных перламутров.
Сел, накинув ремень, положив ногу на ногу. Принял осанку, поведя плечом. Пробежал по кнопкам, но возникшее в старом инструменте звучание показалось ему из другой, отлетевшей жизни: другие — не он — плясали хмельно, топотали каблуки.
Он засунул гармонь под кровать.
«Не здесь и не там, нигде… Между небом и землей оказался… Так уж лучше под землю, в шахту!..»
Что еще его волновало, было высшим интересом и смыслом? Наполняло, становясь целой жизнью, а потом улетало бесследно, оставляя за собой пустоту? Деньги, слава — и они еще волновали. И за ними он гнался когда-то.
Шли на рекорд, не жалея ни себя, ни машин. Ломились в пласт, в преисподнюю. Он и другой, на соседней шахте, Семен Клименко, видно, яростней, злей, потому что обгонял его в тоннах. И, испытывая к сопернику зависть, негодуя, гнал бригаду, удерживая ее лишь на последних пределах, чтоб не рухнул пласт.
А тот заигрался, зарвался. Сдвинулись земные заклепки, накрыло аварией Семена Клименко и подручного его с комбайнером убило выбросом, еще двоих поломало.
Были похороны. Судили начальство, а он победил в рекорде.
И потом, пируя с бригадой, соря деньгами и хвастая: «Да нам прикажи, — пройдем под землей и на другую сторону выйдем… Тоже, бывало, ходили…» — пьянея от ресторанного гвалта, посылая в оркестр десятки, вдруг увидел красное пятно на скатерке. Очнулся в видении: погребальная медь, мать Семена Клименко у красного гроба.
Вышел весь хмель и спесь. Стало все пусто, ненужно. Так и сидел, трогая пальцами пятно на скатерке…
Подошел к комоду, где стояло зеркальце в рамке из мелких ракушек с надписью «Привет из Ялты». Потянулся к нему, собирая в туманном стекле свое отражение.
Тяжелое, угрюмое, старое, с седыми клоками бровей, смотрело его отражение. На вид напряженное, грозное, но с тревожным мельканием в зрачках.
«Неужели я?» — думал он, стремясь за этим лицом угадать другое, из блеска, веселья и счастья, о котором помнил, что было, но стерлось до последней черты.
«Что мне осталось?.. Работа!.. Только в ней теперь и спасаюсь! — бормотал он. — Только в ней одной и спасенье!»
Будильник затрещал. Иван Тимофеевич обрадованно заходил, собирая свой чемоданчик. Вышел в холод двора, пересекая его по протоптанной тропке, боясь задеть чистый снег.
Смена шла. Шахта, черный, ветвистый провал, взятый в бетонные оболочки. Напичканный железом, ржавым и накаленным до блеска. Пиленым лесом. Лязгающими электровозами. Дрожащий от моторов, компрессоров. Перевитый проводами и кабелями. С продернутыми канатными трассами и транспортерами. Пульсирующая черная вена, уходящая под землю, нагнетающая в преисподнюю воздух, электричество, свет, выжимающая на-гора ртутно-синюю шуршащую плазму.
Иван Тимофеевич, запустив людей в лаву, перехватив пласт от утренней смены, в треске, в мелькании косых лучей, сквозь стуки угля о каску, взрывы железа и пыли, рокот масленой, остро отточенной стали, чувствовал движение бригады как таранного инструмента, долбящего черную толщу. Соразмерность и общую жизнь машин, налегавших на них шахтеров, истечение угля и породы.
«Это вам не снеги белы, лопушисты, — насмешливо взглядывал он на кого-то, подымая глаза к низкому, схваченному крепями своду. — Вы нашего хлебушка, черного… а уж тогда говорите…»
Ему было здесь легко и свободно. Молодо, вертко двигался он в тесноте косолапым, сутулым телом.
Пласт тянулся в бесчисленных надрезах и дугах. В кольцах, надпилах и сколах. Драгоценный и влажный, со следами скользнувшего мимо железа. Отекающий древесным, чернильным соком.
Комбайн, звеня бронированным телом, двигался на сальной цепи, пропуская под собой наполненную транспортерную ленту. Вращалась, трепетала стальная острокрылая бабочка, выстригая пласт. Шнек выламывал мерцающие столбы угля, и они, покачнувшись, рушились наподобие лесных стволов, еще полных древнего птичьего свиста, шума листвы, порхания огромных стрекоз.
Уголь тек сочно-синий. Машинист, белозубый, с закопченным лицом, умерял рукоятями слепое громыхание машины. Высвечивал длинным, на лбу укрепленным огнем пыльные вихры. Припадал грудью к брускам механизма, будто шептал, уговаривал, поднимая его на страшное, непосильное дело. И комбайн, погребенный здесь навеки без света, обреченный умереть в бронебойной работе, сточиться об уголь, слушал его, доверяя ему в своей слепоте и силе. Глаз, извлеченный из железной глазницы, отнятый у машины, светил на лбу машиниста.
«Так, погоди… Ты мне профиль держишь или нет? — Иван Тимофеевич шагал озабоченно следом, вглядываясь в белую, млечную жилку кварца, отделявшую пласт от породы. — А то ты мне сейчас нарубаешь!.. Вон куда двинул!.. Еще чуть ниже возьмет — и конец… Уголь сточит, а порода — прах, пух, стояки тонуть начнут!.. Ну сейчас напортачит!
И он надавил своей лапищей на плечо машиниста.
— Ты что, спишь, нет? Комкаешь профиль!.. Куда в породу лезешь? За тебя кто исправлять станет? — гаркнул в близкое, засыпанное темной пудрой ухо машиниста. — Спишь, говорю?
— Извини, Тимофеич, забылся! — отозвался быстро, испуганно тот, перебрав рукоятки и кнопки, торопливо повинуясь грозному бригадирскому окрику. — Маленько забылся…
Иван Тимофеевич ощутил мгновенное действие своего приказания, скороспешное движение его рук, кулаков, чуть заметное смещение машины у кварцевой продернутой нитки. И уже пожалел о своем резком окрике, желал умягчить, ободрить.
— Как брат-то? Из больницы вернулся? — спросил он, перекрикивая стуки и скрежеты, зная, что брат машиниста, гоняя на мотоцикле, врезался в столб у дороги. — Брат, говорю, из больницы пришел?
— Ага, закрыл бюллетень! — откликнулся тот благодарно. — Вчера на работу вышел. Спицы в колесе перетягивает. Говорит, надо еще разок протаранить.
— Ну, ну, пусть разгоняется шибче!
И оба они хмыкнули, ощутив свою общность и связь. Шли за комбайном, пробиваясь во тьме кромешной.
«Так, хорошо, справедливо… — думал Иван Тимофеевич. — Тут у нас хорошо. Это там у вас наверху все вопросы. А у нас тут внизу все ответы».
И, отставая от комбайна, схватил лопату. Принялся швырять ошметки угля на транспортер.
«Начальство говорит: сам меньше работай. Ходи, где узкое место. А в шахте везде узко… А угля не дам — с меня и шапку, и голову сымут».
Рабочий просек, окруженный чешуйчатой железной защитой, шевелился, опираясь на гидравлические колонны, как гигантская лапчатая гусеница.
Иван Тимофеевич бросал лопатой, наддавая всем телом. Видел, как близкий к нему машинист крепи тянет рукоять управления. Стойка мягко, тягуче вбирала полированную опору. Ослабленный свод начинал трещать и ломаться. Прорывался сквозь верхние щели сыпучими черными струями. Осколки громыхали о каску. Застилали пылью огни. Машинист, задыхаясь, весь окутанный острой резью кристаллов, двигал домкрат конвейера. Толкал тяжеленную повисшую лапу. И она неохотно выпускала пяту, принимая новое давление свода, мощно подпирая его. А рядом, за броней, с костяным страшным треском рушилась пустая порода, навеки погребая пространство, где только что плясал человек.
«Чем тяжелей, тем легче», — глядел на машиниста Иван Тимофеевич. Знал: и месяца нет, как умерла у машиниста жена, оставив двоих ребятишек. Был весельчак, гоготун, а стал молчун. Будто сгорела в единый день вся счастливая его половина, оставив обугленный камень, — худые, неровные скулы, две глубокие дыры с глазами.
Он хотел подбодрить машиниста. Но не было верных слов, а только жалость и любовь к нему, идущему в стальной колоннаде.
А тот, подвигая опоры, задыхался под водопадом угля. Там, высоко на земле, в этот час совершалось. Где-то бежали в атаку по каменистой степи. Посаженное на весеннем свету, расцветало робкое дерево. Его дети играли в снежки, скакали и падали. Жена, неживая, среди клубеньков и кореньев, лежала, направив лицо в недалекое небо.
А он в глубине держал их всех на плечах, нес, любя и страдая.
«Чем тяжелей, тем легче», — глядя на него, повторял Иван Тимофеевич. И мыслью своей подставил рядом с машинистом под хрустящие своды плечо.
Смена летела в неуловимых проворотах часов, в челночном движении комбайна. Он устал от мотаний, но в его утомлении копились веселье и легкость.
«Люди мы черные, неученые, зато крученые да верченые, — бормотал он, оканчивая ремонт лебедки, проверяя ход барабана. — Хоть свету здесь мало, а видим зорче!»
— Тимофеич! — крикнул ему, пробегая, рабочий с кувалдой.
— Говори!
— Тупик сажать будешь, — подсобить?
— Сам справлюсь, — ответил Иван Тимофеевич, разгибаясь над урчащим, наматывающим трос барабаном.
Захотелось пить. Он отвинтил у термоса крышку, сдув набившийся в резьбу уголь. Ухватил зубами алюминиевое горло. Глотнул теплый, отдающий металлом чай.
Рядом молодой горнорабочий в белой замусоленной каске грохотал отбойным молотком. Заканчивал выемку ниши, чтоб комбайн, вернувшись на этот край, без помех врубился в забой.
Стоял над клокочущим транспортером, расставив ноги. Нацелил стрекочущий инструмент в стекловидно сверкающий пласт, выбирая в нем тайные узлы, сопряжения. Чуть касался их. И срывались с петель запоры, открывались черные створки, и с невидимых полок выпадали осколки сосудов и ваз, обломки статуй.
Иван Тимофеевич любовался его работой, его противоборством с горой. Напряженным упором его ног, головы и плеч, играющих с давлением земли. Он погружал молоток, налегая гибкими, неотвердевшими мускулами. Достигал острием нервной, глубокой точки. А достигнув, уклонялся, отскакивал, давая обрушиться на транспортер черным лепным карнизам.
Иван Тимофеевич чувствовал его молодость. Радость его неусталых движений. Пляску губ, бровей, свежих глаз, в которых сквозь кристаллы угля возникали девичьи лица.
Поймал на себе его молодой, быстрый взгляд, смутился. Спросил грубовато:
— Ты носом-то вертишь, газа больше не чуешь?
— Нету! Вчера маленько пахнуло. Должно, один, пузырек попался. Сегодня ни грамма… Тимофеич, вон чай-то льется! Дай глотнуть!..
Из наклоненного термоса лился чай. Иван Тимофеевич протянул термос парню. И тот припал и пил.
По вызову из хриплого телефонного рупора он смотался на нижний тупик, где случилась заминка. Кого-то ругнул на ходу: «Что ты, как пленный, работаешь?» Кого-то насмешливо цапнул: «Чего на острое сел? Портки прорвешь!» Кого-то ласково двинул: «Давай подсоби!»
Сам схватил топор, ударив свежий, с сосновой корой стояк.
Быстрей замелькали лопаты и пилы. В покрикивании, в поругивании, в пересмехе бригада вцепилась в дело. А Иван Тимофеевич незаметно, оставив запущенный механизм, вернулся на верхний, подлежащий осадке тупик.
Он работал, открывая замки у стоек, спуская из них давление. Тонким тросиком выдергивал их из-под кровли. И дощатые, упиравшиеся в свод поперечины начинали трещать и рушиться. Падали плотные пачки угля. Доски ломались. Запахло смолой. А он, уклоняясь, выхватывал уцелевшее дерево, аккуратно, по-мужицки, складывал в поленницу.
«Об чем мы еще горюем? Об чем другом вспоминаем?» — думал он.
Перетаскивал литое тело стойки, прижимая к себе, как ствол миномета. Начинал работать домкратом до нагрева, до пота, до липкого ручья из-под каски. И, пока работал, все сыпались и сыпались глыбы.
«Так что же нам, грешным, надо? Чего никак не находим?» — думал он, распрямляясь.
Он устал. Голова его закружилась. Он вдруг ощутил всю глубину земли, всю огромность прожитой жизни. Что-то случилось с ним: легчайший удар и смещение.
Будто в угольной толще раскрылись бесшумно двери и ударил свет, белизна. И в этом свечении тихо входили в добре и прощении: Семен Клименко, радостный, смуглый, горячий, раскачивая на груди шахтерскую медаль; и та, молодая и чудная, с голубым перстеньком, тянула, боясь расплескать, солнечную граненую стопку; и тот, замерзший в снегах, стоял перед ним посреди молодого луга, пшеничноголовый, держа в губах колосок. И там, где чернел недавно глухой, непомерный свод, там бился, звенел на ветру огненный золоченый лист, уходя в голубое небо, посылая в него лучи.
* * *
Для Ковригина была утомительной и неясной эта знойная карагандинская неделя. Особенно вчера, когда дел больше нет, мимолетные дневные знакомства рассыпаны и ты наедине с чужим, тебя не замечающим городом, с молодой вечерней толпой на главном проспекте, в которой нет тебе места, с гостиницей, облучаемый размытыми жизнями, скоротечными новосельями за стеной, всем гостиничным бытом, приспособленным для бесследного исчезновения, где сам ты учтен лишь номером на пластмассовой болванке ключа. И если прежде ты именно это ценил: свою оторванность, анонимность, — то теперь это пугало и удивляло.
И хотелось на каком-нибудь, чуть фальшивом переборе женского смеха за дверью спохватиться и мчаться в аэропорт на текущий рейс. Очутиться в Москве, где словно и не замечали твоего отсутствия.
Можно было уйти от знакомых, зная, что все они рядом, на расстоянии телефонного звонка. Отключив аппарат, оторваться с чуть слышным звоном ото всей планеты, оказавшись в невесомости своего кабинета, где собран, словно в кургане, для одинокого продолжения пути умертвленный любимый мир.
Бабочки в стеклянных коробках — разноцветное, порхающее вещество, остановленное взмахом сачка. Сведенное им в застывший парад полков. В каждой — память о реке, горе и поляне, о годе, числе и мгновении, когда вырвал из неба порхающий крохотный вихрь, остановив на секунду время.
Железный лоскут с заклепкой, оплавленный автогеном, — обшивка подводной лодки, — подобранный на кладбище субмарин в Кольском фьорде. Лодки лежали, обнажив свои кили и рубки, пятнистые, ржавые, и чайки, испятнав их пометом, застыли на них, как снег.
Мордовское на стене полотенце с красными крестами и солнцами, встающими домотканно из льняной белизны. Выхватил его из старинной брошенной утвари, подлежащей сожжению. И когда уносился на районном газике, уже трещало в окне православное дерево, возвращая язычество этим бугоркам, деревням.
И можно ко всему прикоснуться спустя столько лет, когда казалось, что все прошло переплав. Но сколько еще в перемолотой, оставленной в отвалах породе бесценных, неуловленных в спешке веществ! Сколько мыслей, родившихся на обочине да там и забытых!
Его записные книжки, истертые, пронумерованные, опечатанные, драгоценней любых библиотек. Помещенные в старый, дедовский секретер с бронзовой ручкой, исцарапанной еще детской отцовской шалостью.
Вот одна, почернелая, исписанная скорописью, пропущенная сквозь пылевую бурю в алтайской степи. Вот другая, все еще розоватая, словно влажная, с красными капельками, — заполнялась в реве и обмороке гигантской бойни с плывущими бычьими тушами. Вот еще одна, с размывом слов и чернил, — писал под секущим дождем, прижимаясь к броне командирской рубки, и тральщик шел по кромке нейтральных вод. И еще, вся пересыпанная голубыми и желтыми венчиками полинялых тувинских цветов, когда блистали ледники Саян и Усинский тракт в глубине чуть мерцал машинными стеклами.
Можно снова во все погрузиться.
Но не в этом, не в этом спасение.
Неделю назад, в Темиртау, подготавливаемое исподволь, словно запланированное в чьем-то тонком сознании, с ним случилось: сердечный удар, забытье и едва уловимый, на волос, крен в движении. Будто спутали всю программу, перебросив проводок на клеммах, — и старая цель исчезла. А вместо нее, вместо звезды путеводной, пыль и осколки.
Страх за себя, за свою сгоравшую жизнь, за ее быстролетность, случайность. Есть ли смысл и закон в ней самой, в этой краткой жизни? Есть ли прочный, пусть неназванный центр? Или вся она размыта в пространствах, готова исчезнуть бесследно?
«Вздор, регресс, слабоумие!» — казнил он себя.
Он спускался в шахты, где работали новые, экспериментальные комплексы в автоматических режимах добычи. Ездил на прокладку каналов, качающих иртышскую воду в карагандинскую степь. Провел пусковую ночь на мощной насосной станции до первых ударов машин. Встречался с экономистами, делал сообщения и доклады. Изучал с острейшим интересом материалы миграции, подтверждавшие его предсказание, — рождение вокруг Караганды промышленной агломерации, прессующей города-спутники и поселки.
Но при этом неудобство и мука его оставались. Будто вырвали дерево и снова вернули в яму — кроной в землю, корнями ввысь. И надо было продолжить цветение… «Продолжить цветение…»
Сегодня он ожидал приехавшего из Томска мелиоратора, приглашавшего его с лекциями в их институт. Там, в пойме Оби, начинался процесс освоения лугов и поречных пастбищ. Первые колонны техники устремились в топи и хляби. И местные спецы были бы счастливы услышать общую, «дальнобойную», как сказал по телефону мелиоратор, оценку их местных, как он выразился, «мозгований».
Ковригин пригласил его в дообеденный час, ибо после обеда у него был намечен спуск в шахту, где опробовался новый проходческий комбайн с программным управлением.
Мелиоратор пришел, белоглазый, конопатый, с щербатым, расплющенным ртом. Испуганно и ласково улыбался. Неловко топтался у двери. Представлялся:
— Корзинщиков я… Из Томска… Тут, грешным делом, семинар отраслевой, ну и я, так сказать, представитель… Я к нашим в Томск звоню, здесь, говорю, товарищ Ковригин, интереснейший, говорю, доклад. А они: ты, говорят, обязательно его замани, заполучи его к нам… Пусть уж крючочек сделает. Мы его примем по-царски. Катер, вертолет, — пойму нашу покажем. Будет доволен… Люди-то у нас замечательные… Так что если как-нибудь сможете, так уж будьте добры…
Он мягко бубнил, белобровый, стареющий, то ли седой, то ли просто бесцветный. Ковригин, разворачивая карту Оби, слушал невнятное, настойчивое его бормотание с неясно возникшим к нему раздражением.
— Ну, хорошо, — сказал он. — Укажите векторы ваших усилий!
— Так, так… значит, так… — забегал глазами Корзинщиков, не садясь, а в почтении и как бы пугаясь этой синей на карте жилы. — Тут, значит, мы своим умком пораскинули… Вот тут мы маленько тронули и тут вот… А дальше пока отступились… Обь у нас, знаете, как она, что? Надо сперва прощупать… Мы сейчас поселки мелиораторов строим… Ну жилье уже, конечно, столовки и всякое прочее…
— Это все хорошо, — прервал его Ковригин. — Но вы мне ваши мелиоративные планы… Точки приложения усилий.
— Так, значит, — сбился тот и покраснел, и волосы, брови ярче забелели на его покрасневшем лице. — Точки, значит… Ну сперва мы в совхозы, которые послабее, конечно… У которых кормовая база, как нож острый… Вот сюда, вот в этот район… Совсем, понимаете, затухает. Бегут, бегут, которые помоложе, у которых ноги быстры. А как же! Дороги тут путной нету. Телевизор не достает. Удобств никаких… Сюда бы, в это местечко, дорогу да путную линию электричества… Тут, знаете, какие места! Тут травушка для скотины — сладость! А воздух, а рыба! Тут жить да жить… И люди тут замечательные!.. Знаете, какие у нас люди!..
— Это все понятно, — раздражался Ковригин, чувствуя, как залипает его мысль в этих бормотаниях, топтаниях, в частых белесых морганиях. — Понимаете, мне интересно узнать проблему на несколько ином уровне. Ведь у вас, по-видимому, есть какая-то общая стратегия. Общая концепция освоения. Вот ее, если можно…
— Как не быть, как не быть! — зачастил виновато Корзинщиков. — Мы ведь только организовались… Институт еще молодой, и с кадрами еще туговато. Но смету уже утвердили… Поселки мелиораторов отстраиваем. Конечно, техники пока маловато. Тяжелых бы тракторочков подбросили. Мы в Госплан записку направили… Еще запчастей не хватает. А земли, сами знаете, тяжелые… Сибирские наши земли суровые… Нам бы еще единиц пятьдесят тракторов, мы бы фронт работ развернули…
— Чудесно. Понимаю. И люди у вас замечательные, — с издевкой, теряя терпение, сказал Ковригин. — Понимаете, всякая проблема имеет различные срезы. Различные горизонты, если хотите. Есть, скажем, взгляд со спутников. А есть — с телеги проезжей. Хотелось бы, конечно, чтобы люди, взявшиеся за освоение, которое в недалеком будущем станет не вашей местной, а общегосударственной темой, чтоб эти люди уже сегодня понимали динамику суммарных процессов. Чувствовали, в какой системе явлений им предстоит действовать… Вот смотрите!..
И он сделал над картой смахивающее движение, будто сдувал с нее шелуху бормотаний Корзинщикова и одновременно, скользнув тонко пальцами, натягивал координаты своих собственных мыслей, точные, остро стальные струны, издающие звон.
— Нефтегазодобывающая индустрия. Вышки буровых. Гигантский, размытый по пространствам, колеблющийся ареал расселения. Из бесчисленных вахт. Далее… Города. Центры кристаллизации. Здесь Сургут, Нижневартовск, Стрежевой. Выше — Надым, Уренгой, Салехард… Комбинаты по сжижению газа — метанол. Атомоходами взламывается Губа, Карское море… Одним словом, узел завязался гигантский. А чем кормить? Сейчас гоним из европейской части мясо, хлеб, молоко. Колоссальное напряжение поставок. Задача — разгрузить в этом отношении европейскую часть Союза. Посадить западносибирскую нефть на западносибирское мясо. На пойму посадить. Создать тут, на пойме, мясо-молочную индустрию. Вот постулат, вам ясно?..
— Мне ясно…
И опять, сливаясь с полярными радугами, светились дымные спектры заводов.
Хрустела белая корка моря, раздавленная броней ледоколов, и в промоинах шли корабли.
Увозили в трюмах сибирское подземное солнце.
Скрипела на морозе сталь буровых.
Брюхатый «Антей» выгружал на бетонное поле алмазные буры и красные бычьи туши, а на зимниках, пробиваясь в снегах, вязли колонны МАЗов.
— Далее… В пойму внедряться вслепую, по-дедовски, на глазок — бессмысленно. Неуправляемая, разрушительная стихия воды. Зависимость от десятка глобальных климатических факторов. Таяние ледников в Северном Китае и Индии. Раскисание в летние периоды тундры. Шквальные ливни. Ветровые и ледовые тромбы в Губе. Все это приводит к ударным паводкам, все ваши труды смоет и будет держать месяцами под разливом. Ни травинки не соберете. Миллионы впустую вколотите… Необходимо регулировать сток созданием каскада водохранилищ, дамб и плотин, на которых разовьются группы ГЭС и система переброски вод в Казахстан. На этой воде разовьется целинное поливное земледелие — раз! И промышленная индустрия — два! Уголь, сталь, пшеница!.. И далее, узбекский и таджикский хлопок и рис, в районах Арала и Каспия… Только регулирование стока даст возможность для фронтального внедрения в Томскую и Тюменскую пойму!..
Хлюпали в цветении трав нерестилища. Туманились дали пыльцой. Экскаваторы черпали черную гниль, прорезая дренажи и каналы. Вставали бетонные фермы, наполняясь коровьим дыханием. Застекленные, в стальных оболочках вращались роторы станций. Воды Енисея, Оби, включенные в новые русла, замкнули синие кольца в пшеничной Тургайской степи. Окольцованные пространства меняли свой цвет и запах.
— Вот вы говорите, что начали здесь, в этом пункте!.. Да это абсурд, простите! Эта глухомань, глубинка в отрыве от цивилизованных центров, она умрет! Должна умереть и зачахнуть. Массы населения стремятся вот сюда, их сгребает, метет, и вы тут ничего не поделаете! Здесь им уготован комфорт. Здесь дороги, культура. Здесь индекс цивилизации. Тут надо строить, тут! Здесь мясо-молочные комплексы. Здесь совхозы, современное жилье, удобства, дороги. Чтоб за два часа на автомобиле — и в Томск! Чтоб «Жигули» себе покупали и гоняли! А вы их обратно в болота?.. Там все должно травой зарасти, и эту траву на корм — мобильная бригада за месяц! Застоговала и обратно, из-под дождей к Томску, в тепло! Да тут же изотерма проходит, солнца чуть не вдвое больше, а вы их в холоде хотите держать!.. Новая, абсолютно новая сетка коммуникаций и поселений, а вы все за старое цепляетесь, друзья мои дорогие! Все на старый аршин мерите!..
Он поучал, возмущался. И одновременно прощал, чувствуя свое превосходство, свободу своих построений, разметавших беспомощный лепет.
Корзинщиков моргал бело-желтыми, ржавыми ресницами, улыбался мучительно:
— Вам, конечно, видней… У нас еще с кадрами, понимаете, проблема… В этом, говорите, пункте травой… Травой зарасти… конечно… И сам говорю: травой, лебедой… Там ведь у меня отец жив, изба… Мать там схоронена… Я к ним ездил недавно, могилку ее поправлял. Одни старики остались. Не съедем, говорят, отсюда. Здесь родились и помрем. Вы, говорят, как хотите, а мы уж тут. И света не надо, — с лампадками. И дорог не надо — тропочкой на погост. Силком не увезете, к избам, к лавкам себя прикуем… Вот я и думаю: как с батей быть? Как с домом, где родился? С материнской могилкой? Их-то как? Или вместе с травой стоговать?.. С этим, спрошу вас, как быть? Если не со спутников, а так вот, с телеги проезжей?..
Он говорил, преображенный, страдающий. Наступал на Ковригина своим крестьянским, для косьбы, для кузнечной работы созданным телом. И слова его посвистывали сквозь щербинку.
Ковригин, ошеломленный, смотрел на карту Оби, где в безымянной, ему безразличной точке жил старик, глядел, на бугры и на воды, из которых весь век подымалось солнце и садилось в кресты за деревней.
Он испытывал вину и раскаяние за свое превосходство, за гордыню, за тон поучения. За свое появление здесь, за касание отточенной мыслью и крылом самолета этих разливов, гор и степей. Хотел объясниться.
Но Корзинщиков стих и опомнился. Топтался беспомощно, улыбался. Косноязычно лепетал:
— Вам оно, конечно виднее… Вы нам подскажите, что, как… К нам-то непременно заедьте… Уж мы вас встретим… Люди у нас хорошие.
И ушел, оставив Ковригина мучиться над картой Оби.
«Да, да, неучтенные компоненты… Некое упрощение и допуск, — думал он, ходя мимо карты. — Некие безымянные суммы, не уловленные под купол системы… Отдельно данные жизни — его, моя…»
От торопился, собираясь на шахту.
В раздевалке в начале смены шахтеры на длинных лавках складывали одежды, обнажая бугристые спины, намотанные в подземных работах. Развешивали по крюкам штаны и рубахи. Вынимали из шкафов с номерками перепачканные робы, порты и портянки. Облекались, увеличивались в объеме. Напяливали кирзу, пластмассовые каски спасатели. Вешали аккумуляторы на пояс, помахивая шнурами и рефлекторами ламп. И Ковригин, поспевая за всеми, стыдился своего голого, отвыкшего от усилий тела, багрового шрама и думал:
«Отдельно взятые жизни, — да, они исчезают, их не учтешь. На них нельзя опереться. Та дача в Лосинке, мои старики, мать ведет брата Володю, и все мы под вишней, и вера в их близость, в уготованность их для меня. Весь состою из их голосов и улыбок, из своей к ним любви, весь этим исчерпан… Но потом они все исчезли, истребленные разным оружием, разных систем и калибров, и я вдруг выплыл на холод. Оказался не ими, а чем-то иным и меньшим. И это уцелевшее «я» продолжало без них движение. И разве это учтешь?..»
Вместе с бригадой он погрузился в клеть, стиснутый дышащими, большими телами. Лязгнуло. Клеть сорвалась с тормозов, окунулась в кромешность. И начался свободный полет в ледяном сквозняке, ударившем из сердцевины земли. Пахло недрами, камнем, железом. И в луче фонаря сыпалась и мелькала вода, плыли бетонные размывы колодца.
«Не потерять эту мысль об «я», — думал Ковригин, уносясь под землю. — Война. Мое «я» воюет. Бежит на черточку дота. Зарывается в мокрый снег. Стреляет в другое «я», то есть в другое «ты». Корчится на операционном столе. И одна за войну забота, ставшая ядром бытия, — выжить, превратиться в энергию бега, в удар скоротечного боя, в ненависть, в сон, в аппетит, в блиндаж, в оружейную смазку… И когда это кончится с приказом Верховного, с автоматным салютом, с эшелонами на восток, куда пойдет мое «я»?»
Они высыпали из клети. Двинулись торопливо по штреку, гурьбой, под неоновым трубчатым светом. Электровоз с вагонетками прогрохотал, груженный породой, прижав их к ребристой крепи.
Ковригин почти бежал за бригадой, мимо мокрых груд арматуры, штабелей пиленого леса. Путь ему пересекла мелким скоком жирная, гладкоспинная крыса, мелькнув любопытным глазком.
«Мои друзья в послевоенные годы. Наш общий запоздалый расцвет, пробуждение в жизнь, красоту. В каждом — осколок, рубец, но такое ликование и сила! Мы открыли себе друг друга, и те псковские холмы и озера, и белые церкви. Возможность идти к красноватым тяжелым стогам под желтой зарей, исчирканной темными птицами, пропадать во ржи и дубраве. А потом сходиться в застолье. Темные доски стола. Язык в медной лампе. Яишня, бутыль, помидоры. Их лица, лбы и глаза. И песня из темных ртов. Беседы о высших вопросах души… Я верил в этот союз. Учился у них. Был создан и соткан из них — из их ощущений и веры… Но неведомый сдвиг отношений. Нас развело, растолкало. Былое единство вдруг обернулось отдельностью. И, оставленный ими, лишенный их дружбы, оторвав их всех от себя, обнаружил, как я мал, безымянен. Как мало во мне своего. Я весь — отражение другого…»
Они вошли в наклонный просек с канатной дорогой. В туманном свечении, с медленным звяком, колыхая тормозными хвостами, двигались подвесные седла. Шахтеры хватались за них и исчезали. Ковригин тоже оседлал пролетающее железное кресло.
«Моя любовь и женитьба, казавшаяся искуплением всего. Наша встреча в Суханове, на январских желтевших снегах. Дворец весь заснеженный, с жемчужно-прозрачными стеклами, сквозь черные липы. Она являлась с мороза, садилась в читальне. И я, прерывая чтение, следил за шевелением ее губ, движением ноги под клетчатой тканью, пока не встречал ее быстрый, мной потревоженный взгляд… Тот граненый фонарь в переходе, где я поджидал ее. Душная зелень зимнего сада с кадками и японскими вазами, где я ее встречал ненароком. Огонь в каминной, куда нас одновременно влекло. И та пустая, ледяная беседка, в темноте заснеженный пруд, мигание огней в деревне. И ее горячая под сброшенной перчаткой рука, и наши дыхания, и, когда очнулись, — звонкий собачий лай, измененный рисунок звезд, окна дворца пылают… Наши первые годы, путешествия. Чувство полноты, завершенности. Мое «я» неочерченно перешло в нее, а вместе мы плыли то на белом пароходе по Вятке, то бежали на лыжах по Кольской тундре, то ныряли в синей крымской воде… И когда все кончилось, исподволь, через первые ссоры, неверия, через ее неудачные роды, вместо искупления всего — маленький трупик в больнице. А вместо единства и чуда — мое оглушенное «я», лишенное места в мире, вырванное из себя самого… Чье лицо она унесла на своем утомленном лице? И кто там остался во мне, если весь я был унесен?..»
Бригада рассеялась по рабочим местам, и Ковригин увидел то, зачем он сюда явился. Новый, зелено-красный, на разлапистых гусеницах, с литым низколобым телом, комбайн. Нацелил стальную длинную шею с компактно-зубастой головкой. Инженеры ощупывали его чешую, тянули кабельный поводок с кнопочным пультом. Набирали программу.
Ковригин вглядывался в его подземные, драконьи черты, отбрасывая град над землей, царевну у врат, коня и героя. Чувствовал драму металлического существа, обитающего в толще планеты. Сострадание к нему и влечение.
«Если не он, то кто?.. Если не мы, то кто же?..»
Нажали пуск. Взревели электромоторы. Комбайн повел бронированной зубатой короной, описывая упрямые дуги, дичась, не жалея скалы. Но сила программы, как некий в него заложенный ген, толкнула его вперед.
Чуть коснулся со слабым звоном — осыпался первый камень. И вторая дуга врезалась со стоном и рокотом. Хрустела порода, выскребаемая резцами. И вся голова комбайна превратилась в горячий, звенящий взрыв, и он погружал ее в слепую, бесконечную толщу.
«Так, так, — думал Ковригин, не спуская глаз с механизма. — Есть некое сходство и тождество… В добыче знания и опыта… В конструкции ума и мышления… И в общей с ним обреченности… Сквозь мертвую, пустую породу рвемся к далеким пластам, к рудоносным жилам, пока сквозь мрак и каменья не сверкнет золотник…»
Сердце болело. Он прижимался спиной к бетонной опалубке, весь окутанный пылью.
Зажег лампу, осветив перепачканную пятерню, в липкой влаге своды, ржавое железо опалубки. Наложил ладонь на рефлектор, затеняя его. И рука наполнилась светом, превратившись в нежно-алое соцветие. Ковригин изумленно разглядывал пульсирующий процесс своей жизни, в которой растворенно, не имея названия, существовала его боль, недавние мысли, и Корзинщиков, и безвестный старик в избе.
«Безумец я или кто?..»
Двое шахтеров отдыхали, сидя на бревне. Закусывали, отвинтив крышку термоса, развернув газету с едой.
— Ежели желаешь, я тебе семян принесу, — говорил один, цокая яйцо о выступ скалы, очищая его. — Ноготков принесу, табаков, садовых ромашек. Посей!
— Ага, принеси. А то под окнами голо. Как гляну, так скучно, — отвечал второй, извлекая из газеты сушеную рыбину. — Принеси ноготков…
Ковригин смотрел на рыбину в центре земли. На яичный желток. Все путалось и мешалось. Он куда-то проваливался, еще глубже, сквозь боль в груди, сквозь алый цвет своей пятерни, сквозь мысли о старике…
И, стремясь спастись, не исчезнуть, зацепился за последнюю отпущенную в жизни возможность, вызывал недавнее молодое лицо, Ольгину свежую, на него обращенную силу. Желал ее скорее увидеть.
Ольга читала в постели, слыша, как в ночной степи, далеко, урчат трактора. Еще один, лязгая плугами, высвечивая фарами тьму, прогрохотал за окном, колыхнув воду в графине.
«Ну вот и еще один день, еще один мой денечек», — думала она, откладывая книгу, забываясь.
И ей чудилось: на незнакомой, сочно-синей земле, хлюпающей зеркальцами воды, лежит сорный белый металл, то ли сорванная железная крыша, то ли рухнувший из небес самолет. Она идет среди обломков металла, стараясь не наколоться. И вдруг появилась мать, молодая, в кружевном позабытом платье, с нотной папкой на шелковом крученом шнуре. И так радостно, правдоподобно свиданье. Она тянется к матери, веря, что та жива, наконец-то явилась. Но мать, чуть касаясь земли, уходит, и снова мокрые травы и разбитый на них самолет.
Вдруг отец появился, не такой, как на снимке в альбоме, не в помятой шахтерской робе, а в черном глазированном фраке, похожий на музыканта. На один только миг возник, перехваченный в талии, и исчез, пройдя сквозь обломки.
В ней — внезапные слезы, понимание во сне, что сон, наваждение. Надо поскорее проснуться, чтоб не мучить себя.
Но следом третье лицо, родное, живое, усталое, движется мимо. Руки вплавь разгребают воздух. Шагает по тонким травам, желая исчезнуть. С криком, босая, по острым обломкам кинулась следом, боясь его отпустить, продираясь сквозь колючий металл, кровеня себе тело. Но он уходил, растерянный, огорченный, все оглядывался на нее, озирался.
Ольга проснулась… Маленькая комнатка в синих обоях. Забытая предшественницей журнальная картинка на кнопках. Беленькие занавесочки. Под окнами деревенские утренние голоса:
— Лизка приехала, говорит, в Ново-Михайловке магазин сгорел. Пока тушить кинулись, — одни уголечки.
— Кто у них там торгует? Верка Звонкова?.. Ну та знает, что делать. Небось наторговала недостачу рублей пятьсот. Вот ревизия в угольках и разбирайся!
— Не! Верка аккуратно торгует. Лизка говорит, они гуляли всем сельпо, с премии. Вина выпили, песни пели, а плитку забыли выключить. Ну и подхватилось.
— А может…
Женщины замолчали. Ольга представила их молчащие лица. Белые дома, наезженную тракторами, вывороченную колею, молоденькие тополя у больницы. И опять разговор:
— Мой-то Витька вчера на отцовском мотоцикле снова угнал. В два часа заявился. Где его леший носил? Я говорю, отец приедет, скажу. Он те трепку даст… Нету управы. Не знаю, что делать. Драть — большой вырос. А слов не слушает…
— Что делать? Терпи! Мама моя говорила, с детьми весь век терпеть. Плачь, а терпи. Нашептывай, уговаривай… Потому они — наши дети!
И опять замолчали.
— Ну, я пошла. Сегодня навоз выгребать… Вчера начала, не могу: спина болит. Сегодня, нет, думаю, надо кончать…
— Ну, ступай… Ты Лизке скажи, пусть зайдет, квитанцию занесет.
Ольга подымалась навстречу заботам.
Она совершала обход, заходя в палаты в сопровождении старшей сестры, обрусевшей казашки, чье овальное лицо казалось Ольге глазированно-смуглым, с гончарно-точным надрезом глаз. Ее звали Торгай, и книгу для записей она несла как поднос.
В эту пору сухой и горячей весны, посевных и огородных хлопот больных было немного, все больше старики и старухи.
Ранней зимой, отмотавшись по хлебным, уходящим под снег нивам, явятся почернелые комбайнеры. Лягут на койки лечить радикулиты, простуды. Протянут под кварцами вырванные из пекла и льда тела, медленно возвращаясь к покою. Их исхлестанные СК-4 примут механики, станут штопать пробои и дыры в бортах. Но это зимой, зимой…
Так думала Ольга, появляясь в палатах. Мерила давление, прослушивала. Торгай заносила в книгу имена больных и рецепты.
— Вот и гости дорогие! Здравствуйте нашей хате! — потянула от подушки голову в белом платочке голубоглазая ласковая старуха, бледная и прозрачная. — А мы слышим, по коридору — цоб, цоб! Ну, думаем, доктора бог несет…
— Как чувствуете себя, бабушка? — спросила Ольга, готовясь слушать. — Как аппетит?
— Слава богу, начала кушать.
— Перебои ощущаете?
— Покалывает.
— А ноги все мерзнут?
— Маленько.
— К деду надо ехать, согреет, — усмехнулась Торгай, освежая палату небольничной своей красотой и смуглостью.
— А я уж так жду не дождусь! — охотно, благодарно откликнулась старуха. — Сперва думала, не вернусь домой — так пекло. А теперь сняло. У меня дедушка столько слез пролил, думал, не вернусь. А я на него гляжу: милый, как же один-то будешь? Сердце рассыпается… Не знаю, как благодарить вас за то, что с дедушкой еще придется пожить. Не знаю, куда писать, — неграмотная… Думаю себе, видно, не пришла пора-то. Ангел-хранитель пока не велит. А как же, милая! — кивала она усмехающейся Торгай. — В каждом ангел-хранитель. Как в гнезде. Крылушки сложил и сидит…
Ольга слушала ее вялое тело. Через тонкие трубочки летели слабые биения и стуки. Чужая жизнь просилась в нее, открывалась во всей длинноте и усталости, во всей своей завершенности.
— Еще полежите недельку, — сказала она, убирая трубку, диктуя Торгай в ее книгу.
— Да уж больно устала, милая… И дедушка каждое утро приходит, зовет… Да уж воля, конечно, ваша, — улеглась старуха на подушку, утомившись, мигая синими глазками.
На соседней кровати, разволновавшись от первых прикосновений, подставляя Ольге худую, древовидную руку, завздыхала другая старуха:
— Раньше, бывало, в войну и мякину кушала, и лебеду, коровьи тошнотки, — желудок принимал. А теперь все че хошь заказывай, а желудок не принимает… Скорей бы уж помирать… И вам-то я надоела…
Ольга мерила ей давление, следя за бегом стрелки и одновременно вникая в старушечьи приговаривания.
— Да и какая жизнь была? Чего здесь оставлять-то?.. Муж на фронте погиб, город Ершов. Один сынок в реке утоп. Другого качала, немец в избу вошел, ногой пхнул, — зашибся насмерть… За дочкой сюды в Казахстан приехала. Думала, она меня провожать будет, а не я ее… Вот и живешь, и думаешь… — и она задрожала ртом, заронила мелкие, быстрые слезы.
— А ты не думай, бабушка Васильевна. — Торгай достала кусок чистой марли, вытерла ей ловко глаза.
— Как не думать? Оно не отходит!.. Когда дочку-то опускали, зять дал заклятие. Не забуду, говорит, тебя, жена, и мать не забуду твою… Вот и живу у зятя. Когда молчу — хорошо. А чуть поперек скажу — вот и плохо…
— Так и надо, бабушка Васильевна, — развлекала ее Торгай, пока Ольга щупала неясный, ускользающий пульс старухи. — В старости молчать надо.
— Спасибо, принимаете меня… Вы тоже старыми будете…
Торгай записывала округло, красиво, будто каждой буквой повторяла черты своего лица. Объясняла Ольге:
— Зять у нее хороший. Не пьет… Внуки приходят. Учатся хорошо. Так, нет, бабушка Васильевна?
— Задают больно много. Некогда навещать-то, — облегченно, наговорившись, наплакавшись, отвечала та. — Спасибо вам…
Переходя из палаты в палату, Ольга думала: хоть и горе, и слезы и она еще к ним не привыкла, они ее трогают и волнуют, но здесь хорошо, здесь она на месте. Свободна, без обычного своего стеснения раскрывается в том, к чему призвана, что любит, умеет. И этот маленький мир сельской больницы раскрывается ей навстречу своими судьбами, ожиданием помощи.
«Это и есть полнота. Это можно понять. Мы же земские люди, врачи. Это можно понять очень просто…»
Вошли в палату, неумело, но хлестко размалеванную по стенам зверями и куклами.
Мальчик, очень бледный, но счастливый и любящий в своем выздоровлении, светился весь.
— Ну, молодой человек приятной наружности, — Ольга ощупывала железки на его хрупкой шее. — Опять жаловаться станешь, что в халате ходить заставляют?
— Я жаловаться не хочу, — с бодрой готовностью откликнулся он. — Только девчонки в халатах ходят, а у меня брюки есть… Вы мне еще давление померяйте…
— Он брюки под матрас ложит, — говорила Торгай, перемигиваясь с мальчиком, — глаз вишневый, глаз серый, оба смеются, — чтоб стрелки на брюках. Солдатом будешь, да?
— Не, не солдатом. Врачом. Старика лечить надо, — и он кивнул на соседнюю койку, где сидел с ногами, по-восточному, бритоголовый старик казах, запахнув больничный халат, слепо моргая влажными, красными глазами.
— Как себя чувствуете? — спросила Ольга, бережно, боясь причинить боль, прощупывая его отечные ноги.
Старик молчал тяжело дыша. Вздрагивал острой двойной бородкой. Заговорил по-казахски.
— Что он? — вслушивалась Ольга в его жалобное приговаривание.
— Боится картинок, — перевела Торгай, кивая на стену, — говорит, ночь не спал. Эти черти снились.
И Ольга, глядя на долгоносых намалеванных буратин, глазастых космонавтиков, лунообразных чиполлин, испытала жалость к беспомощному старику, занесенному на эту кровать из степи, которую топтал весь век конем и ногами, ставил юрты, чабанил, не страшился ни волков, ни морозов.
— Переведите в другую палату, — сказала Ольга, вынимая трубку.
Слушала глухие неровные вздохи старика, похожие на стоны, удары. Будто что-то в нем разрушалось, прочное, древнее, но желавшее жить. Думала: «Сидит в нем, как говорила старушка, ангел-хранитель, молодой, узкоглазый, в бисерной тюбетеечке, с крохотной балалайкой. Сложил свои крылья. Скрестил ноги на узорной кошме, среди чайных пиал. И в проем его юрты — молодая, зеленая степь и кудрявое белое стадо. Но это просто он сам, не старик, а юноша, притаился среди стуков и вздохов».
«Мой, мой это мир… Мой удел… Тут останусь…» — думала она, принимая внезапно решение.
— Ольга Кирилловна, — просунулась в палату дежурная сестра, — вас там спрашивают.
— Кто?
— Не знаю. Из города. Я сказала, после приема выйдете… Да вон в окне-то…
Она взглянула, в молниеносном, все угадавшем ударе уже зная, предчувствуя, поджидая с утра и раньше, когда улетало от нее в пробуждении дорогое, мучительное, не исчезая, а переходя на иные круги и видения, готовясь опять возвратиться.
За окном, в поднятой от машины пыли, поставив у колеса дорожный баул, ходил Ковригин.
…Они сидели в ее маленькой комнатке, ошеломленные, обожженные внезапностью первых минут. Радовались и боялись обнаружить эту радость движением и словом, как бы от нее уклонялись. Но невозможно было уклониться в этом тесном, радостью их наполненном пространстве.
— А я к вам еду, гадаю: найду — не найду, найду — не найду… Далеко же вы в степь выкатили!.. А дорога, признаться, неважная… То асфальт, то гравий, то ремонт.
— Что же я сижу-то? Чай ставить, с дороги… Вы меня чаем, а я вас? Хлеб у нас тут хороший. Местной выпечки. Можно отрезать… А наутро, как свежий, не сохнет…
— А я думал, какое счастье, что адрес взял. Будто кто надоумил. Еду, а сам проверяю: здесь — не здесь. И поверите, взял и еще раз в другой блокнот переписал. На всякий случай…
— Тут дорога ой какая неважная! Меня на нашей «Скорой помощи» привезли. И так в пути укачало, что легла на носилки, так и ехала лежа. Что за места — не видала. А утром вышла из дома, — чудесно! Степь, река, утки над больницей летают. А дальше озеро синеет. Вольно…
— Эти наши разговоры, которые вдруг повелись… То есть я их затеял… Их надо продолжить. Они для меня так важны. За этим и ехал, как к исповеднику… Качу, а сам каламбурю: еду на беседу, еду на беседу… Чепуха какая-то, верно?
— А я все думала, как вы тогда добрались. Темень, город чужой… Начала свой шарф искать, а потом вспомнила: он же улетел… Ну как ваше сердце, скажите? Больше приступов не было?
— Не было, не было… Но побаливает. Пустяки! В шахте сидел, там комбайн, и я ладонью шахтерскую лампу прикрыл… В общем, та же моя философия. Проблемы в масштабе души. То были в масштабе страны и вдруг — в масштабе души. Ну пусть вы не исповедник, не надо. Но вы мой лечащий врач. И должен же я показаться!..
— Тут, знаете, больничка так себе. Но мне интересно… Я здесь одна, и все тут на мне. Я и хирург, и окулист, и педиатр… И боязно, и увлеклась. Я покажу, вы посмотрите…
— Да вы здесь знаменитостью станете! Из столиц приезжать начнут. Великий лекарь в степях объявился. Потянутся пешком, самолетами…
— А что, и останусь. Я почти уж решила. Выпишу книг медицинских…
На столе лежала толстая медицинская книга. Он тронул ее, залистал. И в мелькающем веере сверкнуло голубым и погасло. Он принялся снова листать. И в книге, на развороте, еще влажный и свежий, прилипнув к странице, напитав ее своим соком и духом и чуть покоробив, лежал темно-синий цветок с золотой сердцевиной.
Ковригин смотрел пораженно на нее, на цветок. Они сидели, умолкнув, захваченные единством. Между ними вращались от дыханий и взглядов тончайшие голубые лопасти…
Они расстались до вечера. Ольга вернулась в амбулаторию, где ожидали ее приема больные. А Ковригин отправился в правление совхоза. Там в намеченный час, запланированное еще из райцентра, по телефону, из кабинета секретаря райкома, ожидало его собрание совхозных специалистов, перед которыми он должен был выступить.
Вошел в квадратный директорский кабинет, выкрашенный грязно-зеленым маслом. За столом, перед селектором, оплывший вниз плечами и грудью, но все равно огромный, сидел директор. Вдоль стен на стульях плотно и многолице теснились люди, плечо к плечу, выставив сапоги, пыльные башмаки, похожие одинаковым видом серо-рабочих, мятых одежд, глиняно-красными сдержанными лицами.
Проходя к столу под их взглядами, чувствовал, как воздух еще тверд и плотен от умолкнувших басов.
Директор, двинув стол большим животом, подал огромную, как деревянный совок, ладонь.
— Товарищи, — сказал он, бегло скосившись на календарный листок с записью, — вот к нам в совхоз прибыл уважаемый, известный ученый… профессор… Николай Степанович Ковригин. Он нам прочтет доклад о наших же с вами местах, о целине. Я думаю, это будет нам всем полезно. Хотя у нас, сами знаете, забота на заботе, и засуха на носу, и с севом запаздываем, и корма не знаем, где взять, но все равно нельзя глазами в землю уткнуться, жить одним днем. Надо вверх взглянуть, вдаль — одним словом, чувствовать перспективу… А поэтому для нас большая удача — приезд Николая Степановича, и мы его сейчас послушаем.
И сел. И все, качнув головами, ногами, стали смотреть на Ковригина, спокойно, строго, с симпатией.
Он начал говорить, испытывая к ним интерес и в то же время робея перед разницей их подходов, их усилий, ощущений этой степи.
— Несколько столетий народ держал целину про запас, обходя плугом. Знал о ней, всегда имел в виду этот отложенный на завтра каравай. Теперь пришлось его взять. Не рано ли? Превращение этой степи из травяной, первородной в хлебородную, по существу, означает включение еще одной, значительной части земного шара в мировой экономический механизм. Целина пополнила не только хлебные житницы, но, если хотите, и народную психологию, и душу, наградив ее новыми оттенками. Усилия такого масштаба, будь то военные, экономические или пространственные, в которые народ погружен почти тысячелетие непрерывно, и сделали нас тем, что мы есть…
Он называл им цифры хлебных пудов. Напротив сидел казах. Его потертая роба еще пахла вспышками автогена. Кирза на ногах лоснилась от машинного масла. Руки все избились о болты и ключи, так что проступила в ногтях синева. Но где-то за усталой смуглостью лба и сухостью стиснутых губ таилась давнишняя, отлетевшая степь в грохоте конских копыт. Секущий по травам дождь. И он, потеряв свою шапку, сжавшись в мокрый комок, бьется на рыжей, гладко-горячей спине.
— Наши первые неудачи: потери от засух, от дождей и ранних снегов, пылевые бури, отток поселенцев, — все это несовпадение вековечной азиатской степи с завезенными машинами, семенами, с умением пахать и сеять. Мы медленно сближались со степью, учились ловить мимолетные, среди весенних дождей, часы сева. Вытачивали новые, угодные степи орудия. Выводили местные степные сорта. Мы перестали ломиться в открытую дверь, просто нагнули голову, чтоб не убиться о притолоку. И с этим поклоном вступили в степь заново, осторожно. Оказались среди урожаев…
Он рассказывал им предысторию. О суммах несметных затрат, непредвиденных и случайных убытков. О полях, уходивших под снег. О свалках израненной техники. Мысль его была о напряжении усилий, соизмеримых с ведением войны.
Угрюмый седой человек, бригадир или техник, с двумя насечками шрамов поперек крестьянского лица, весь в заботах о дожде и о севе, моргал малыми синими глазками.
— Сами знаете, целинные урожаи кочуют, пропадая на несколько лет, а возвращаются внезапно, — топят степь хлебом. Мы должны отступать в бесхлебные годы и вновь появляться всей мощью людей и техники, как только вернется хлеб. Мы должны убирать эти пульсирующие пространства новым, подвижным способом, наподобие десантов, экономя каждую умную голову, каждый дизель. Эта тактика останется верной, пока не обводним целину. Тогда величина урожая будет определяться программой на распределительном пульте, отдающем сибирскую воду среднеазиатскому хлопку, черной и цветной металлургии и вам, степнякам. А когда-нибудь после регулированию будут подвержены солнечные, световые потоки в рамках управления климатом и глобальной погодой…
Татарка в пестрой косынке уложила на колени отдыхающие, длинные пальцы. И он думал: как она его понимает? Или мысли ее о муже-чеченце, о четверых сыновьях и о хлебе насущном?
Ковригин подыскивал слова и примеры, обращался к этим людям. Отчитывался перед ними и им проповедовал. Ему были важны их крестьянские лица, их сдержанное внимание.
Замолчал, завершив. Встал директор:
— Если есть вопросы, задайте…
Все молчали. Директор продолжил:
— Если нет вопросов, поблагодарим Николая Степановича за интересный доклад. За то, что добрался до нас в такую даль. А сами мы, как было говорено, займемся хозяйством… Пусть Бурлаков и Гасапов пилораму проверят, почему пиловочник встал? А Хмеленко мне головой ответит, если в третью бригаду не подбросит горючее… Все! Расходитесь!
Поднялись, наполнив квадрат кабинета телами. Запрудили дверь, на ходу доставая сигаретные пачки. И говор их был о запчастях и горючем.
Директор легонько тронул за локоть Ковригина:
— Вы извините, спешка такая… Сам по полям еду… А вечерком прошу к себе в гости. Парторг подойдет, главный инженер… Побеседуем, как там в столице… Много, очень много вопросов…
Распрощавшись, укатил на газике…
Ковригин вернулся к Ольге.
Они встретились у больницы. Ольга, окончив прием, расставшись с белым колпаком и халатом, вышла к нему. Уже успокоенная, пережив к обдумав его приезд, взглянула прямо и ясно.
Увидела бледность, утомленность не успевшего загореть лица.
— Ваши больные припали к окнам. Стараются разрешить загадку, — сказал он с легким церемонным поклоном. — Давайте еще большую им зададим. Поведите меня на прогулку.
— Вам бы с дороги отдохнуть…
— Вот я и начал уже. Погуляем…
Они пошли от больницы, от ее запахов и беленых стен. Мимо кирпичной водонапорной башни с розовым линялым флажком. Миновали задворки, сорные и не убранные после паводка, с обломками старой швейной машины, клочковатым мехом мертвой собаки. Спустились по склону, где Нура, охваченная цветущими ивами, петляла, отрывая от себя старицы и болотца. Сухая трава блестела под низким солнцем, в розоватой степи чуть виднелись тракторы, вблизи паслись бело-рыжие лошади.
— Как прошло выступление? — спросила она. — Уже все село о вашем приезде знает. Даже больные: «Профессор приехал! Профессор!..»
— Надеюсь, что меня поняли. Выступление было полезным. А иногда смеюсь над собой: придумал себе эту миссию, агитирую, собираю голоса в свою пользу. А то, о чем я вещаю, явится и помимо меня, а может, и мне вопреки… Я говорю о жизни, которая должна здесь возникнуть согласно моим предсказаниям через полвека. Но меня уж тогда не будет. Двигаюсь в будущем, мне не принадлежащем. И вытягиваю за собой мое прошлое, в той же степени недоступное. Весь состою из этих встречных, в сущности, нереальных движений.
— Но я рада, что все-таки выпадают редкие реальные дни. Лужа, в которой стоите, очень даже реальна!
Он засмеялся, перескакивая вслед за ней по залитой, с брошенными жердями дороге, выбираясь на сушь.
— Я так рад, что вас вижу…
Солнце садилось в кусты, сплетя из них круглую, блестящую корзину. Нура под обрывом хлюпала мутной водой, начинала розоветь. Качала желтые тростники с бесшумными малыми птицами, повисшими на метелках.
— Вы мне рассказывали о детстве, войне, женитьбе. — Ее голова на солнце оделась летучим свечением. И было больно смотреть на путаницу веток, лучей. — Я сидела вечерами и думала…
— Заморочил вам голову своими жалобами, — ответил Ковригин благодарно, боясь потерять свечение в ее волосах.
— У меня в больнице лежит старушка. Очень слаба, на ладан дышит. И к ней приходит ее дед, навещать. Сядет у постели, возьмутся за руки и сидят, как дети… Мне их историю рассказали… Они где-то под Курском в одной деревне росли. Но она богатая дочь, а он бедняк. Любили друг друга, хотели пожениться, но ее родители не дали. Выдали за купца деревенского. И так разошлись. И весь свой век прожили порознь. Он ходил по войнам, по стройкам, женат был, где-то детей растерял. А она, как мужа ее раскулачили, с ним скиталась, на север, на юг, в эту степь казахстанскую, пока не умер. И тут, представляете, уже на старости лет встретились. Узнали, поженились. Будто им было загадано, а потом сбылось…
— Ну, это притча какая-то, — сказал Ковригин. — Сказка или как в старых песнях поется. Это чудо, почти несбыточное.
— А я и жду чуда. С детства в себе чувствую горячую точечку. Где-то во мне живет, светит, греет. Потом из нее чудо родится.
— Как вы сказали? Горячая точечка?
— Я эту точечку очень рано в себе ощутила. Может, раньше всего. Я в нее очень верю, в самые худые минуты. Я верю в чудо. У мамы не было чуда. У отца не было. А у этой старушки есть. Только она эту точечку называет по-своему: ангел-хранитель. А у меня другое название…
Заря в черных росчерках веток. На круче два последних красных пятна. Темная зелень воды. И утка снялась с течения с кряком и свистом, в ржавом своем оперении. Мелькнув над потоком, завернула за купы кустов.
— Да, — сказал он, — это все не имеет названия. Кто называет чудом, кто ангелом. У меня — летучее семечко… Наверное, у каждого есть. И у директора, с которым сегодня встречался… Мы только сказать не умеем. Может, за этим пушистым семечком всю жизнь и гонюсь?.. На броне атакующей… В самолете… Или в городской толчее в Столешниковом… Раз увидел его в Будапеште. В Венгрию залетело…
— Расскажите, — попросила она, — расскажите про Венгрию. Про летучее семечко…
И опять с удивлением, с готовностью он испытал ее простое и ясное стремление к нему, которое было наподобие внушения. Легкую силу, к чему-то его призывавшую, дававшую всему, что и прежде было известно, иное понимание и цену.
…Та венгерская сырая весна, когда приехал в Будапешт как эксперт, — дать пространственные характеристики и оценки сложным, пестрым ландшафтам, драгоценным для малой страны.
Его поездки по армейским учениям, по пасхальной, в дождях стране. В соборах чуть затуманились разноцветные стекла. Острая медь зеленела сквозь летучий сырой туман. Он гнал по прямым автострадам, точным, как прострел, в Европу — в Вену, в Белград, в Дюссельдорф. Навстречу в шипении, в реве хромированных радиаторов мчались «мерседесы» и «форды» к валютным особнякам Балатона. А вдали, за чертой виноградников, вставали шапки разрывов, полигоны дрожали от хода железных колонн… На перекрестке, пропуская туристов, заляпанный грязью, стоял транспортер, мокрый, с хлыстом антенны. Механик в танковом шлеме открыл в нетерпении люк…
— Вы не замерзли? — спросил Ковригин, видя, как на мгновение исчезнув, ее лицо вновь перед пим проступает, уже неясное в сумерках. — Позвольте, я вам куртку свою…
— Мне не холодно, нет. Продолжайте…
Да, да, он хотел продолжать. О сверхнапряжении борьбы…
— Там, на старой брусчатке, каждый камушек блестел в отражении. Гудели колокола на соборах, дождливый пасхальный звон. В гарнизонах им отзывались бессловесные солдатские песни. Одно погружалось в другое, и все тонуло в дожде.
Он испытывал физически, как склепана Европа, в перекрестьях границ, где каждая балка дрожит, принимая давление нагруженного борьбой континента. И нет зазоров и допусков. Отшлифованы, плотно пригнаны бруски государств. И смысл усилий — удержать равновесие конструкции.
Альпы, Апеннины, Арденны — их ветер шуршал в виноградниках. В мокрых сетках антенн бились коды натовских центров. Команды полков бундесвера. Позывные чужих субмарин.
Он работал днем на ландшафте. Лишь к ночи, измызганный, с сырыми ногами, возвращался в Будапешт. И всегда начинался дождь. Вспыхивали табло автострад. Сердце начинало болеть, и из тьмы и гудения ветра было внезапно, как взрыв: огненный спектр Ракоци, крутящееся в черноте разноцветье, ртутное течение улиц. Машина неслась в тончайшей пленке огня. И мысль: мое «я», ночной Будапешт…
Ковригин стянул с себя куртку. Осторожно, боясь коснуться ее шеи руками, набросил, почувствовав, как зябко, благодарно передернулись ее плечи, просторно погружаясь в тепло.
— Вы сказали, ночной Будапешт…
Он и днем был прекрасен, построенный из закопченного камня, с седой медью кровель, с точеной, обветренной готикой. Легкое жжение в горле от дыма печей и каминов, запах угля и серы. Вокзал — парящий ворох стекла и железа. Рынок румяно-зеленый, луково-золотой.
Венгерский майор с нетвердым русским выговором показывал Пешт. Зеркальные особняки и решетки Посольской улицы с туманным свечением площади Королей, где мадьярские всадники горячили на граните копей. А здесь деревья подымали черные сырые рога с набухшими почками.
— Тут наши висели, как груши, — говорил майор, подымая глаза туда, где в ветках сквозило серое небо. — На каждом суке два-четыре товарища… Я был в комендатуре. Ко мне приводили пленных. Кто такой? Имя? Подданство? Были ОАС из Парижа. Были старые, СС, через Австрию. Были свои, хортисты… Фильтрация через границу… Вон видите дом за деревьями? Вот этот, со львом? Видите? Вот здесь меня ранило в танке, — майор указал на дом. Тяжелый карниз из камня был взломан и изрезан осколками, как рассеченная бровь…
— Мне казалось, я это уже забыл, — сказал Ковригин, ступая за ней по холодной земле. — А теперь вдруг явилось: высокое окно с отражением блеска, ключевой камень в наличнике и уже потемнелые, словно заросли лишайника, насечки взрыва…
«Венгрия сама, — думал он, следя за миганием далеких полевых тракторов, — сама наподобие камня, заложенного в купол Европы».
Те последние дни в Будапеште, когда дело окончено, можно возвращаться назад, и тончайшее расслоение всего, будто в колокол на соборе, в его серебро и медь, влилась струйка иного металла, не слилась, а ушла в глубину, поражая тайным звучанием.
Запах бензина. «Икарус». Мальчик, продающий газеты. И я на скамейке, присел переждать мою боль. Будапештские голуби ринулись в дымку улицы, и один, отвернув, проплыл над моей головой. Больно в груди. Мальчик-газетчик покрикивает. Старик у бензоколонки держит отекающий шланг. Женщина с серо-голубыми глазами набежала, усмехнулась, чуть задела меня рукавом и скрылась, унеся мое отражение. Больно в груди. «Икарус» отъехал, выруливая, и сразу на свободное место сунулась другая машина. Заправщик обходит машину, отвинчивает крышку у бака. Красная колонка заправки с черным оглянувшимся псом. «Мерседес» под насосом. В счетчике движется стрелка. Больно в груди. И мое желание понять, пробиться сквозь чужой темно-каменный город, сквозь его соборы, дворы, закопченные трубы, прорваться в себя; вот же я, пусть больной, пусть смертный, но еще живой и дышащий, помещенный для жизни среди труб, домов и соборов, с моей неповторимой судьбой, вот же я, вот!
Словно малое пернатое семечко, оторвавшееся от той, бабкиной сахарницы, пронеслось надо мной в Будапеште, суля грядущую встречу, скрылось за мосты, за Дунай.
Ковригин очнулся. Казахстанская ночь… Пахнет травой, кизяками. Нура чуть отсвечивает под обрывом.
Они возвращались молча, дорожа отсутствием слов, соединенные его рассказом, холодом огромной степи. Ольга оставила Ковригина в маленькой свободной палате, где на столе в кувшине стояли первые степные цветы. Ночь его была без болей и страхов.
Сорок сороков
На стертых рычагах кулаки, коричневые, как корневища. На дрожащем стекле кабины бьется слюдяная, залетевшая в грохот пчела. Обгорелая, в красноватой окалине, пыхает дымом труба. За пыльным рыжим капотом распаханная казахстанская степь, полосатая, коричневая, как и его кулаки. Где-то здесь в отлетевший момент, у вывороченной плугом гряды, кончился четвертый его десяток и грозно, невесомо полетел уже пятый, спугнув серо-голубого степного луня, скользнувшего тихо на солнце.
Он оглянулся, пытаясь отыскать ту черту среди бесчисленных комьев, борозд. Но бороны шли, окутываясь прахом и пылью, дробя и ломая комки.
Земляная, пшеничная клетка, пережившая зиму, отшлифованная острыми вьюгами, запекшаяся на морозах и стужах, утаившая холодное, талое сияние снегов, окутанная прозрачным солнечным паром, готовая принять литое зерно.
Он знал эту клетку зеленой и пышной, охваченной летящими, лучистыми звездами молодых колосьев. Знал ее белой, огненно-яростной, разбитой ударами красных комбайнов. И голой, обмелевшей и тихой, в истоптанной, мятой стерне, в первых надрезах плуга до черной ее сердцевины. Он помнил ее в выпуклой льдистой броне, в мелких вспышках и радугах, изрытую кованым тракторным клином.
Ему казалось, над этой клеткой крутится колесо дождей, снегов, урожаев и его собственных дней и лет. И нет ни конца, ни начала в этих вечных степных движениях. И хотелось ему разомкнуть, отыскать на минуту концы, увидеть жену и детей, что-то понять и запомнить.
Неужели и в этот день никто не придет поздравить? Никто не спросит, как жил и что нажил? Что видел за сорок лет, а чего не пришлось увидеть? Что несет в себе, чего не донес?
Неужели весь век до конца кружить здесь бессменно, чтобы лечь, наконец, в борозду и увидеть напоследок все то же: плугами изрытую землю, пустое степное небо?
Николай водил рукоятями, глядел на пчелу, сбивавшую крылья о прозрачную преграду стекла. И была в нем печаль и тревога.
Далеко на дороге запылила машина. Встала, поджидая трактор. Николай, разворачиваясь, медленно грохоча по пашне, приближался к ней, радуясь и надеясь, что услышит весть о жене, сердечное, к нему обращенное слово. Подкатил к бензовозу и выпрыгнул, не выключая мотора.
Шофер Игнат Горбыленко стоял, прислонившись к капоту. Его мятый пиджак был обсыпан колючими прошлогодними семенами степной травы, будто где-то Игнат останавливал свой грузовик и лежал на груди в бурьяне.
Месяц назад умерла у Игната мать. Она болела годами, медленно немея, просиживая у окна своей хаты, все что-то высматривая в конце проулка. Игнат, одинокий, ходил за ней бережно, суеверно. Варил ей супы и бульоны, кормил ее с ложки. Укутывал ноги одеялом. Привозил из степи букетики бледных цветков.
Он купил легковую машину. По воскресным дням разворачивал ее у крыльца. Выносил на руках свою мать и сажал с собой на сиденье. Они катили в степь по асфальтовому синему большаку, возвращались под вечер. И худое лицо его матери чуть розовело, довольное, умиленное. И он на руках уносил ее в дом.
Когда она умерла, он все так же вечерами садился в машину, укатывал в степь. И если случалось кому подымать на дороге руку, всегда подбирал, подвозил. Но сажал назад, на сиденье, не туда, где садилась мать. Будто они еще были вместе, будто она дышала с ним рядом. И стояли на окнах дома синие сухие букеты.
Николай держал пульсирующий, пропитанный горючим шланг. Наполнял грохочущий бак. Смотрел на Игната, тайно стыдясь своих ожиданий, надежд на поздравление и ласку. Игнат, длиннорукий, сутулый, сам нуждался в добре и заботе. И, не умея сказать и утешить, Николай, сбивая с наконечника последние прозрачные капли, тронул его за обсыпанное семенами плечо.
— Молодец ты, Игнаша. Всегда поспеешь ко времени. Думаю, ну вот сейчас встану, заглохну. А ты тут как тут. Когда Петька Воронихин возил, что ты! Горе, одно! И где он, Петька, гонял? Одни простои. А ты молодец!
— А? — рассеянно отозвался Игнат. — Ну, я поехал. Надо на четвертую клетку. Там сегодня кончают.
«Никто тебе души не откроет, пока ты свою не откроешь, — думал Николай, опять направляя трактор на волнистую, распаханную бесконечность. — А как им свою открыть? Кто бы знать обо мне захотел? Только Катя, жена, да детишки».
Бороны вяло качались, окутанные солнечной пылью. Трактор глотал гусеницами пашню на кромке усохшей, отверделой и сочной, растревоженной металлом земли. Николаю казалось, что перед ним на степи развернули огромную, размытую по краям страницу. И строка за строкой он выводит рассказ о себе, и чьи-то напряженные лица следят за ним с высоты.
«Вот только б начать поскладнее».
И в нем яснее ясного, через все годы, переезды — орловское их село. Пятнистая броневая машина с крестом въезжает на кладбище у церкви. Мнет ограды, травяные могилы, хрустящие кусты бузины. Немец-денщик в пилотке ставит аппарат на треноге. Выстроил у самой машины соседскую Катю, большеротую, всю в слезах, ее деда Степана, бородатого, нечесаного и босого, и его, Николая, спрятавшего за спину исцарапанные кулаки.
Грохот и вонь мотора. Ужимки и смех денщика. Черно-синее стекло аппарата, готовое лязгнуть вспышкой огня и железа. И в нем, в Николае, чувство тоски и позора, страха и жалости к Кате, к босому угрюмому деду, к себе самому. Неразумное детское знание о великой, на всех них упавшей беде, заслонившей и высокое солнце, и близкую реку, и красную гроздь бузины, и старую кирпичную церковь, в которой под самым куполом, где звезды и крылатые ангелы, сидит наблюдатель с трубой.
Из избы выходит бледный, тощий полковник в черном мундире с темно-серебряным крестом у свежевыбритой шеи, чуть кровоточащей от мелких порезов. Движется на аппарат. И денщик нажимает спуск, козыряет полковнику, а им, троим, смеется желтозубо и радостно.
И ему, Николаю, хочется прижать к себе Катю, ее худые руки, в слезных подтеках лицо. Защитить от этого смеха, от зрачка аппарата, от выбритого полковничьего кадыка. Унести ее выше и дальше, сквозь липы, за поле, за лес.
«И ведь было такое? Со мной? Все осталось, до черточки. Оглянусь и увижу деда, — думал Николай, оканчивая борозду, поворачивая трактор у края поля, где начиналась дикая, нетронутая плугами степь, пересыпанная камнями, увитая упавшими бурыми травами. — Куда же оно все девалось, если вот оно?»
Он вел агрегат против солнца, сухого горячего блеска, на другой, чуть брезжущий край, где снежно белел солончак и дрожало, мерцало озеро.
Ложились под бороны строчки. В них открывались глаза и лица, гудели голоса, тянулись за трактором, будто бороны разрывали покров, выпускали их снова на свет. И тех двух молодых разведчиков, возникших из вьюги, сидевших с дедом Степаном в крохотной рубленой баньке. И короткий их бой за селом, где они, уходя, отбивались от немцев, ночные красные вспышки. И деда Степана в синяках, с опаленной седой бородой, перекрученного вервью, поднятого на башню с крестом под голую ветку липы. И полковника в бобровом меху, с длинной торчащей шеей, взмахивающего перчаткой. И денщика с аппаратом. И похороны деда Степана, тонкий, чуть слышный плач. И грохот заречных пушек, когда лыжники в белом выставили на горе пулемет и строчили по отступающим немцам, кося их у церкви и кладбища.
Все ложилось строка за строкой.
«Так взбороню и засею. Спроси меня, из чего хлеб родится? Да вот, из того, что помню».
Они, деревенские ребятишки, стояли над убитым, в снегу, полковником. Васька Глотов потрошил его сумку, высыпал из нее фотографии, пускал по рукам. И везде был полковник среди горящих домов и развалин.
Васька Глотов надевал на полковника сумку и фуражку с орлом. Они все сбегали к реке, к зеленой дымящейся проруби. Кто ведром, а кто банкой черпали воду. Торопились обратно на берег. Поливали полковника, его костяное лицо, хрящеватую шею в бритвенных мелких порезах, его длинное, тонконогое тело. Ждали, когда застынет под красным морозным небом. Втащили за веревку на гору, на укатанный скат. И Васька Глотов первый, держась за узду, вскочил на него и, стоя, толкнулся с твердым стуком и звоном, понесся с горы.
Они катались на нем и падали, визжали, смеялись. И у Кати лицо под платком было бледно-розовое, в мелких смешках, с золотым, безумным блеском в глазах. Протянула ему, Николаю, веревку. «Ну, теперь ты!» — сказала. И, наступая подшитым валенком на твердую деревянную грудь под острым Катиным взглядом, он испытывал ужас и счастье среди вечерних бескрайних сугробов.
«Все-то у нас, Катенька, было. С каких только гор не съезжали!»
Он увидел директорский газик, летевший в степи на крыльях из косой, развеянной пыли. Обрадовался его появлению, надеясь отпроситься у директора на нынешний вечер в село: «Так, мол, и так, Трофим Сергеевич, сами знаете, круглый праздник. Это тоже надо учесть. А то всю неделю в этом углу кручусь, восемьдесят километров от дома. Мои-то меня небось ждут. Это тоже надо понять».
Директор поджидал его, морщась и щурясь на солнце. Тучный, носатый, в сплющенной пыльной кепке, с большим животом, раздувавшим мучнистого цвета пиджак.
— Ты вот что, — обратился он к Николаю. — Тебе тут полклетки осталось, сам добьешь, на свой страх. Я к тебе агрегаты подсылать не стану — и так на тебя надеюсь. Двинем их на Кульджинскую клетку, у них там задержка, сразу два трактора встали. Ох, отстаем, отстаем по срокам! — застонал он страдальчески. — Если еще день, два проморочим, не закроем почвы — все! Уйдет влага! Ишь как парит, как тянет! Прогноз опять без дождей.
— Зима — снега чуть! — заражаясь его стоном, его страхом, заботой, сказал Николай. — Я говорю, снега почти не видали, Трофим Сергеевич. Как бы нам опять не гореть, как в третьем годе. Где корма брать будем? Опять в Курган, на край света, за соломой?
— Да мы уж послали разведку. Если что, говорим, к вам опять за соломой осенью. Но я все надеюсь, чуть-чуть нас да смочит! Нам бы легонький дождичек в мае-июне, и был бы у нас каравай! — с надеждой, суеверно, следя за белым пушистым облачком, проплывавшим над степью, произнес директор.
— А может, нанесет и набрызжет? — вторил ему Николай, провожая светлое, в сердцевине голубевшее облачко.
Они стояли, два хлебороба, встретившись взглядами в высоком, исчезающем облаке, охваченные посреди степи единой судьбой и заботой, истертые ею и измученные. Из засух, дождей и пшеницы были их мысли и души, их морщины, отемнелые лица, их запавшие степные глаза.
— Дай-ка воды, — попросил директор, втягивая живот, страдальчески, шумно захватывая воздух большими ноздрями. — С утра жгет желудок.
— Да она теплая, перестояла, — Николай достал из трактора пластмассовую белую флягу.
— Только глотну, — потянулся директор, отвинчивая запачканную соляркой крышку, припадая к горловине оттопыренными сухими губами. — С утра нажигает, — он вернул Николаю флягу. — Врачи опять в больницу зовут. Опять на свой стол приглашают. Режут, режут меня который год, километрами кишки вынимают. Чего там осталось, не знаю.
Николай кивал, сострадая, чувствуя вину за свое здоровье, за крепость свою и двужильность. Не знал, чем помочь, мял в руках флягу.
— Да теплая она, перегретая! Водовозка вот-вот подъедет, холодненькой, свежей забросит!
— Чоп-город знаешь на венгерской границе? Два раза его штурмовали. Там меня в живот наказало. У них там склады с вином. Дубовые бочки разбило, и все подвалы в вине. Касками его черпали и пили. Только вышел наверх, и пулька в живот. Фельдшер мне говорил: вино в тебе разлилось, все и сожгло… Ну ладно, давай борони!
Директор, морщась, сдвигая кепку на внезапно вспотевший лоб, залез тяжело в машину, покатил. Николай кивал ему вслед, следя за его исчезанием. Спохватился: о своих и спросить позабыл.
Пчела, оглушенная гарью и грохотом, вяло ползла по стеклу. Николай отпустил управление, давая трактору волю, и негнущейся черной ладонью, костяной, натертой рычагами до блеска, не боящейся пчелиного жала, стряхнул пчелу в другую ладонь, выкинул на воздух, подальше, чтоб не попала под бороны.
«Гусеницы провиснули, дергают. Не сбросились бы на поворотах со звездочек. Придется по башмаку вынимать. Ну еще пару разков проеду», — думал он озабоченно, ведя агрегат от нетронутой каменистой гряды к далекой соляной белизне…
Та черная липа у церкви в тяжелом опадающем гуле пчел и цветов, и гульба на селе, и ему уходить в солдаты. И Катя, усмехаясь, уклоняясь от его поцелуев, распустила из кос две синие ленты, повязала одну вокруг липы, а другую ему вокруг шеи. И после, стоя в карауле возле огромных военных ангаров с распиленными надвое самолетами, глядя, как взмывают с бетона остроклювые молнии, он доставал из кармана ленточку, старался поймать губами тонкие, сохранившиеся ароматы. Думал: она ждет его, пишет ему письмо, скоро службе конец, и вместе уедут в казахстанскую степь, пустую и чистую, без горьких могил, без слезной памяти.
И все-то, все-то у них впереди…
Николай тихо ахнул, поймав в себе то исчезнувшее предчувствие счастья. Поразился внезапному молодому испугу, залетевшему бог весть из каких времен в его усталое, постаревшее тело.
«А мы говорим: прожили! А мы говорим: старики!»
…Трактор, раскаленный и яростный, рассекает плугами дерн, выворачивает черно-синюю, не ведавшую света подкладку. Раскраивает степь со стоном и гулом. И с соседних озер, затмевая тучи и солнце, вяло, лениво, несметно подымаются птицы, путаясь крыльями, клювами, наполняя выси криками, воплями. И ему, Николаю, страшно и сладко: он тронул безымянные, вечные силы, двинул их с места, и они потекли, потянулись, захватывая в движение его, его беспомощный трактор, первобытные, слепые, могучие. Вот еще косяк налетел, кинул в черную жирную пашню серебряную, хлопающую жабрами рыбу.
…Трактор его нарезает клетку. Плывет в волнистых травах. Катя с ним вместе в кабине. Он, отпустив рычаги, обнимает ее и целует в бусы, в горячую дышащую грудь, в напряженные золотые глаза. И трактор качает их по холмам, по ковыльным гривам, и нет ни дорог, ни путей, только поле без края и ее пальцы у него на груди. Опомнились, когда прискакал к ним орущий взмыленный всадник, махал красной тряпкой, повернул их обратно: клетка вышла безмерной.
…Впился в штурвал комбайна, и поле, как плавильная печь, бушует, ревет раскаленно, и он, сталевар, принимает белую плавку из солнца, из хлеба, обжигаясь о копны и ворохи. И ток вдалеке, как слиток, окружен сиянием. И сквозь бой и рев механизмов, мелькание стрекоз и колосьев примчался измученный всадник: жена родила ему сына, народился пшеничный сынок.
…Пашет предзимнюю зябь. В небесах пустынно и звездно. И такая грусть, чистота от своего одиночества, от остывших полей и предчувствий, от ночного неясного ветра. Кто-то мчится в степи среди медных падучих звезд, несет ему весть: дочь родилась на исходе осенней зари, степная пшеничная дочка.
Когда он примчится еще, тот исчезнувший всадник? Какую весть принесет на своем постаревшем лице?
Николай шел теперь против ветра. Пыль от борон не мешала ему смотреть. Он видел, как низко летит перепончатый двукрылый самолет, не стремясь в высоту. Над другой удаленной клеткой он канет к земле, превращаясь в трескучую комету с прозрачным белесым хвостом, и, сбросив груз удобрений, облегченно взмоет и опять пролетит над ним. И может, с высоты прочитает исписанную Николаем страницу.
Николай был рад самолету, своей встрече над полем с тем, незнакомым, в кабине. Представил его розовое молодое лицо, глаженую форму, фуражку, чищеные башмаки на педалях. Сам же он трясся на раздавленном пыльном сиденье с куском обветшалой кошмы. Сапоги его были разбиты и смяты. На губах хрустела земля. Но он, земляной тракторист, посылал двукрылому летчику из прищуренных усталых зрачков два тоненьких синих луча, слив их с другими, небесными.
«Так что, гусеницы отладить? Чтоб шибче было летать?»
Он погасил грохотанье, вылез из трактора. Тяжелым железным ключом, напрягая грудь и живот, сдвинул с места гайку натяжного, стягивающего гусеницу винта. В гусенице, в башмачных звеньях, пальцы из белой стали ходили ходуном: пыль и песок, попадая в зазоры, вытачивали их, как наждак, и напряжение гусениц ослабело.
Николай молотком и зубилом обрубал в пальце шплинт, опрокинувшись на спину, подсунув ноги под тракторное нагретое брюхо, чувствуя его остывание, усталость, изношенность частей и деталей, медленно сгоравших среди черных и красных земель.
Трактор был стар, и скоро с ним расставаться. Скоро вырвут из него приборы и фары и безглазого кинут в степи на кладбище. И, испытывая к механизму жалость, Николай бережными, точными взмахами выбил из скважины палец, разомкнул гусеницу, отделил от нее зубчатый, начищенный до блеска башмак. Положил его осторожно на пашню, забыв убрать с него руку. Думал, держась за железо: когда, на какой посевной или жатве забылось то чувство счастья, сменившись заботой? Когда оно, предстоящее, вдруг стало уже прошедшим, и время — не ждать — вспоминать?
Он лежал у разомкнутой гусеницы, глядел в синеватую сталь.
В те годы то ли солнце сбесилось, кипело и взрывалось над степью. То ли сдернулись в земле глубокие потайные запоры, вырвались подземные безумные силы. Что ни год, то жар и бесхлебье.
…Чадно, с треском горит за селом сарай. Баба с воем бежит, тащит растрепанный куль. Мужики угрюмо и зло кидают в грузовик мешки, чемоданы, — еще две семьи уезжают. Катя вцепилась ему в рукав, молит: «Коля, уедем, Коля!» Над домами в степи подымается черный смерч, тощий, живой, костлявый, будто полковник в мундире, воссозданный из пыли и праха, настиг их в казахстанской степи. И в нем, Николае, ярость, гневное слепое упорство: «Замолчи, расстоналась! Никуда не уедем! А кто хошь, выметайся к черту!»
Буря идет по степи. Гонит по черному небу горячие пыльные тучи, комья колючих трав. Надувает в дома — на пороги, на окна — грядки сыпучей земли. Их дети в жару и в бреду. Фельдшер, лысый, с родимым пятном в поллица, бормочет, трясет головой, ставит примочки. Катя, изведенная, кидается к детям, припадает губами, мечется по дому, будто оббивает себя об углы. Он, Николай, ссыпает из шкафа с бельем в ладонь наметенную горстку земли. Вдруг кинулась на него с тонким криком. Стала бить его в грудь кулаками: «Ты их сгубил, не уехал! Ненавижу тебя! Ненавижу! Битюг бессердечный!» И упала без сил.
Ночь протекает. Дети и Катя забылись, чуть стонут. А он, Николай, босой, без рубахи, склонился над ними в робком, бессловесном молении. Верит в невозможность теперь расстаться, в их связь, предначертанность, в их земной, до конца им отпущенный путь. И тихо светлело в углах, свет прибывал. И под утро дети ровно и тихо дышат, лбы их в легкой испарине. И он, прикасаясь к жене, чуть слышно зовет: «Катюша!»
Николай подымался с земли. Звеня молотком и ключом, оканчивал перетяжку гусениц. Отнес на дорогу два изъятых стальных звена. Положил на видное место, чтобы после захватить на усадьбу.
Он работал, и солнце катилось. За ним тянулись вереницы разрыхленных борозд и его растревоженных, из прошлого вызванных мыслей.
По дороге пылила машина. Из разболтанной легковушки вышел и его поджидал узнаваемый издали, сухоногий, увешанный аппаратами, очкастый районный корреспондент Иван Петрович, знакомый Николаю уже долгие годы. Все тот же облупленный маленький носик, тусклое колечко на пальце.
— Давай вылезай, Николай, щелкну тебя, — махнул он, снижая с себя очки, протирая их чистым платочком.
— Да ну, Петрович, с детства не люблю аппаратов! — крикнул Николай, не глуша мотор.
— Давай, давай, не ломайся! В послезавтрашний номер. Обещаю тебе крупным планом.
— Да у меня твоими планами детишки всю терраску обклеили. Войду — пугаюсь. Из всех углов сам на себя смотрю. Неужели, думаю, такой страшный?
Они беззлобно вздорили под грохот двигателя. И вдруг Николай, выключая мотор, сказал:
— Слушай, Петрович, а сделай ты мне настоящее фото. Не в газету, где не поймешь: то ли человек, то ли трактор, — а чтоб можно было увидеть, какой я сейчас. Чтоб после детишки могли посмотреть. Можешь такое, Петрович?
Тот стоял перед ним, близорукий, в стоптанных запыленных ботинках, протирая стекляшки очков. И Николай вдруг прозрел, поразился: как тот постарел и слинял за эти годы, как поредели его вихры, сузились, потускнели глаза. А ведь было такое, когда возник в первый раз на поле, вспрыгнул к нему на мостик, и он, Николай, ругнул его злобно, готовый спихнуть, — так и тряслись по ухабам, крича и ругаясь, молодые, чернолицые, потные.
После, повстречавшись в районе, сидели и пили пиво. И тот, захмелев, хвастал Николаю, что целина для него — только школа, долго он тут не задержится. Его место в большой газете. Николай его слушал тогда, восхищался им и поддакивал.
Видно, не пришлось переехать. Засосали степные дороги, ребятишки, семья, жена — завмаг в промтоварах. Завертела текучка и спешка, заботы о хлебе насущном. И теперь уже ясно: весь век тому здесь колесить, в посевные и жатвы, как и ему, Николаю.
— Сделаю портрет, обещаю. Но как уж получится, — озабоченно ответил Петрович. Щелкнул его, стоящего у гусеницы. — Бывай! Теперь до уборки.
Легковушка его покатила.
«Не понять, не понять. То ли нас зацепило и держит, никуда с этих мест не пускает. То ли сами мы что-то держим, отпустить боимся. Может, эту степь да пшеницу?»
В ту зиму с тракторным клином он работал на дальней клетке. Напахивал снеговые хребтины, о которые разбивались и гасли змеи поземки. Радовался чистоте, белизне, радугам, закольцованным в небе.
Мотор задохнулся и смолк. Он раскрыл капот и рылся в горячем железе, глядя сквозь проемы в узлах на сверкание метельных ручьев, на малиновое низкое солнце, и спину ему холодило. Он кинул трактор на поле и стал выбираться. Ступал по хрупкому насту, рушась по пояс вглубь. Рассекал о кромки руки, выплывая из снежных прорубей, дымясь от пота и пара.
Небо зеленело, твердело. В мутной заре начинала недобро сверкать одинокая, как осколок, звезда. У глаз льдисто мерцала цепочка лисьих следов. И мысль его: «Не могу. Сил больше нету. Обманула чертова степь».
Он шел в черноте, заваливался. Дышал в раскаленное небо со страшными дымными звездами. Ловил их обугленным ртом. Ноги его застывали. Ватник хрустел, будто ломались длинные хрупкие иглы. Он совал под язык скрюченные пальцы и думал: «Конец степняку».
Упал и не мог подняться. Одежда твердела, будто небо ударами звезд выковывало на нем негнущиеся стальные пластины. Запаивала его в граненый футляр. И он смирялся и радовался, что конец непосильной работе, конец его степному мытарству. Вытягивал руки и ноги, чтобы небу было удобней ковать.
И когда погасла в нем мысль, и казалось, ушло тепло, и он уже превращался в эти снега, и звезды, и цепочки лисьих следов, вдруг увидел он стол посреди степи, и в облаке света его Катя и дети сидят и читают книгу, и головы их золотятся.
Он поднял и двинулся на их удаление, шел к ним, тянулся на последнее с ними свидание, на последнее целование и они плыли перед ним по степи.
Наутро, обмороженного, скрюченного, на заметенном большаке подобрала его машина дорожников, отвезла в больницу.
«А что, может, и прав Федор Тихонович? — думал теперь Николай, вспоминая слова библиотекаря, фронтовика без одной руки. — У нас, говорит, была война. У вас теперь — целина. А у деток ваших — Луна. Всем свое выпадает. Легко никто не живет. Может, от этих трудов и народ стоит, ни одна сила его рассыпать не может?»
Еще и еще трактор достигал края поля, толкался от него, как от берега, снова погружался в безбрежность. На одном повороте, оглянувшись, сквозь тыльное стекло Николай заметил, что крайняя борона, зацепившись, перевернулась, колотится зубьями вверх.
Он выпрыгнул, обежал агрегат. Рывком передернул борону на место. Выдрал из-под другой железный запутанный трос и старый, заржавленный лемех — память другой пахоты.
Бороны царапнули материк, растревожили блеклые, зимние травы. И запахло сильно полынями, свежими соками. Сквозь сухие, вялые ворохи цепких прошлогодних стеблей, сквозь сморщенные краевые ягоды и железные семена степь, полная света, тепла и ветра, оживала, набухала, готовая принять на себя табуны в отары, погрузить их в волнистую зелень.
Николай стоял, чувствуя жизнь степи. Малиновый жучок полз по его сапогу. Чайка, прилетев от озера, кувыркалась беззвучно, целила в него маленький серебряный клюв. У ног его из каменистой растресканной почвы тянулся синий чистый цветок с мохнатой золотой сердцевиной.
Николай опустился, не срывая цветка, приближая лицо, погружая его в голубые невесомые отсчеты, снежные ароматы.
Короста, обугленная, бурая, сохранила в себе и теперь выпускала наверх соцветия и почки, свой вечный, в глубинах укрытый дух. Николай неясно ощущал свою общность со степью, свое с ней родство. О чем-то, к нему обращенном, говорила лиловая, дрожащая от ветра звезда.
«Об ней, обо мне, об нас обо всех…»
Он закрыл глаза, неся под веками тающее изображение цветка.
Все последние годы — будто день да ночь обернулись. Непрерывные радения и хлопоты, колдовство со степью. Заново учились пахать, ловить дожди и снега, кидать зерно и снимать хлеба. Заговаривали степь, успокаивали обессиленную в тратах и засухах. Заводили ее в берега, улавливая и опутывая дорогами, проводами. Пускали на нее осторожно новые плуги и машины. И она, укрощенная и уловленная, задышала ровней и глубже, выдыхая ввысь урожаи. И он, Николай, меняя культиватор на сеялку, а жатку на безотвальные лемехи, только чуть успевал оглянуться: как дети его растут, как жена его вянет.
Трактор грохотал в стороне, звал к себе. Николай зашагал к нему. Нагнулся, поддев руками большой ком земли, ноздреватый, обветренный, словно обсыпанный пеплом, но внутри литой и тяжелый.
«Как же нам жить-то еще? Как же нам жить под небом?»
Он осторожно опустил ком на пашню, слив его с остальной землей, по которой ему до скончания века идти, поливая потом, слезами, готовясь в нее обратиться, расцвечивая ее хлебами.
«Вот только б мои пришли… Поглядели бы друг на друга».
Он боронил до захода солнца. И вечером, когда все золотилось и земля стала черно-красной, вся в следах от его борон, на поле прикатил грузовик. Из-за руля выпрыгнул сын, белозубый и смуглый. Дочь его обгоняла, что-то неся в руках. И Катя, жена, принаряженная, в новых туфлях.
Он двинул к ним трактор, и они, поджидая, стелили у края степи белую скатерть. Ставили бутылку с вином, стаканы, клали куски пирога.
Он шагал к ним, и тень его огромно уходила в степь, и он им казался идущим по земле великаном.
* * *
Ковригин и Ольга шли по полдневной степи, оставив шоссе, по шуршащей, сухой траве, на далекие мачты высоковольтной линии. Вблизи ослепительно белел солончак. Озеро за ним казалось огненно-синим, и в растревоженных ветром волнах качался лебедь.
Ольга под мостом у дороги отыскала последний горб снега, запорошенный пылью. Разгребла его до сочного, звонкого месива. Слепила снежок. И теперь несла в порозовевших руках, касаясь губами, роняя быстрые капли.
Ковригин шел рядом, считая падение солнечных капель.
— Ваш срок приближается… Вы свободны, и дальше Москва… И я прошу… Нам нельзя расставаться… Здесь не просто приезд и встреча. Здесь выше, глубже, я чувствую… Я прошу вас теперь понять…
Лебедь колыхался на водах. То скрывался в черную синь, то ложился всем блеском.
— Тогда, в Темиртау, с первой минуты, когда вы появились… Я к вам стремился… Вы видели, я к вам стремился… Мы все время сближались, нас словно влекло, ведь правда? Есть общее, ну не в нас, так над нами, и надо дорожить, дорожить… Мне было бы больно расставаться…
Они вошли под высоковольтную мачту, накрывшую их невесомым серебристым шатром. Сквозь драгоценные переплетения конструкций, вставленные в них, словно росписи, виднелись воды и земли, вились дороги. Посылали в них свои отсветы. В вышине, в перекрестке огненной меди, сквозь стеклянную зелень смотрело на них крутящееся, круглоликое солнце. И все звенело, качалось, словно славило их, вошедших.
— Вы слушаете меня? Вы согласны? — спрашивал Ковригин, погруженный в эти звоны.
— Я слушаю… Я согласна… — ответила Ольга. Снежок на ее ладони сгорал, превращаясь в маленькие падучие солнца.
Сквозь пальцы проливалась непрерывная капель. Ковригин целовал холодные, пахнущие снегом руки Ольги…
Часть вторая
Ковригин вышел обкуренный, весело-раздраженный, оставляя за собой в дощатом, людьми переполненном доме разворошенные разговоры и мысли, чувствуя их раззадоренные, с ним или против него умы, вынося на воздух незавершенный, принявший бестолковые, но понятные ему очертания спор. Председатель райисполкома, огромный, косолапый, с рыжими из-под кепки клоками, шел за ним косо и мягко, туда, где на сырой луговине стоял вертолетик Камова, застекленный пузырек воздуха, опушенный двойным винтом. Пилот расхаживал рядом, весь начищенный, как и его аппарат, в галстуке, накрахмаленный, бело-синий. Ольга заслоняла половину бортового номера, радостно повернулась навстречу Ковригину. И он ей кивал, улыбался, приближаясь по мокрой траве.
— Вот покажем вам район с вертолета. Чтоб вы лучше нас понимали. Чтоб учли наши охи, — басил председатель.
Они сели, колыхнув своей тяжестью хрупкое созданье машины. Ольга — рядом с пилотом, обратив к Ковригину золотистый затылок. А он с председателем сзади, и тот, наполнив кабину своим красным лицом, непомерными шевелящимися одеждами, тронул пилота за плечо:
— Пошли по трассе, а после зайди на Обь!
В косом возвышении взмыли. Мелькнули внизу, пропадая, крашеные разноцветные дома, телевизионный ретранслятор, нарезанные лоскуты огородов.
— Вы правильно нас поймите!.. Правильно, говорю, нас поймите! — сквозь рев и дрожание приближал председатель свои кричащие губы, захватив в вертолет яростное продолжение спора.
— Что?.. Чего вас понять? — тянулся к нему Ковригин, подставляя под крик свое ухо. — Ничего не слышу.
— Да я ору, как могу! Винт, что ли, вырубить?.. Правильно, говорю, нас поймите!
— Не пойму вас правильно в этой дробилке!.. Прямо в ухо кричите! — и сам вдувал слова в его раскаленное, мохнатое ухо.
— У вас подход государственный, а у меня, скажете, местнический?.. А у меня район — такое же государство! Вот!.. Люди на меня нажимают, кончай, говорят, завтраками кормить. Время, говорят, обед подавать. Вам понятна моя позиция?.. Понятна, говорю, вам моя позиция?..
— Понятна!.. Ваша позиция понятна!.. Чего ж не понять-то вашей позиции!
Они орали друг другу, привыкая к вою винтов.
— Вон, смотрите! — тыкал в стекло председатель.
Внизу, в густой таежной щетине, среди бесчисленных елок, открылась дорога с блестками луж в колее. Слюдяная струйка реки с бревенчатой перемычкой моста. Оранжевые, на равных интервалах грузовики, идущие плотной колонной.
— Вот они, голубчики, катят!.. «Татры», как и я, рыжие! Неделя — две, три колонны по нашей кровной дорожке! Прокатят на север, на нефть, и нету, исчезли. А дорожку нашу раздавят, и у нас после них сообщение во всем районе нарушено. Молока из совхозов не вывезти! Вот мы и отдуваемся всем районом во имя северной нефти. Вот вам и местничество!..
— Да на ваших дорогах черт ногу сломит! — Ковригин следил за исчезновением машин. — Скажите спасибо, что едут. Трассу торят, грузы везут для новых бетонок!.. Они там внизу сейчас, думаете, о чем говорят? Они ваш район клянут за его бездорожье! Чтоб его скорей пронесло!..
— Да на этом бездорожье, — обиженно ревел председатель, — простите, наши деды жили, и не худо, должен сказать!.. Мостик-то видели? Без гвоздей срублен. Лет семьдесят с гаком. Для телег годился и для полуторок тоже. А вы на него десятитонки пускаете и еще клянете, сердешного!.. Где же тут благодарность? Техника показалась, ушла — только поглазели. Кто-то ею где-то пользуется. Не мы!..
— Нечего глазеть! Проглазеете! Стыкуйтесь с Севером. В этом ваш долг и спасение. Не хотите — заставят! Деньги дают — осваивайте! Вы здесь вторым эшелоном себя считаете! Тоже в зоне прорыва!..
На прогале открылась деревня. Россыпи изб, тесовые крыши с дымами, наклоненными в одну сторону. И рядом, проточив зеленую гору, засыпав распил бело-мучнистым гравием, ходили два грейдера. Серебрились цилиндры насосной станции. Высоковольтная линия, чуть видная против солнца, мерцала тончайшей медью.
— Вот вам еще пример… Об этом завотделом культуры только что говорил, — председатель поворачивался к Ковригину. — Станцию построят и сгинут. А в умах деревенских после их стояния — раскол, перетряска. Кто вслед за мехколонной укатит, а кто останется, — давай, вишь, им новую технику. Доильные аппараты другие, трактора другие, машины другие. На прежних не хотим работать: старые!.. Далее, раскол в поколениях! Это же политика, так или нет? Это ж идеология! Старики еще, когда чарку выпьют, кадрили свои танцуют, а молодежь — такие свои танцульки, от которых у стариков слезы! Девки в штаны залезли, курят. Старики обижаются. А если этой молодежи, которая больно спешит, дать золотую технику, она ее запорет без опыта. Вот вам опять вопрос!..
— Да у вас вопрос на вопросе!.. — Ковригин с симпатией смотрел на его мужицкое, на раздумьях замешенное лицо, скользившее над тайгой. — Дайте молодежи лучшую технику! Ей, а не старикам. Хотите ее к цивилизации приобщить, а все третий сорт предлагаете… Тут ставка на молодое, а не старое!.. Не на нас с вами.
— Ну, мы еще покамест не совсем устарели. Мы еще кой на что в силе!
— Уже есть посильнее нас.
— Но и мы пока еще в силе.
Внизу, раздавив тайгу, вяло, мягко и грозно, черным бесконечным червем тянулся газопровод. Вертолет скользил над ним, повторяя плавные его повороты. Сквозь глубокую воздушную толщу чувствовался напор, шевеление разогретой стальной пуповины среди черных вспышек воды.
— Они эту нефть через нашу голову за тысячи километров кидают. А нас не замечают. Весь район исполосован. В прошлом году одну нитку рвануло, нефть на луга пошла, — теперь там лет пять ни травинки. Да еще загорелась, мы и туши, мы и лес спасай!.. Я вам все про издержки района толкую. Бремя-то мы несем, а оно никем не обсчитывается…
Ковригин смотрел на живую телесность трубы, опоясавшей землю, опустившей один конец в преисподнюю, повесившей на другом гроздья городов и заводов. Будто раскрыли полость земли, и всплыл кровеносный, бьющийся пульсом сосуд.
И он ощупал его, говоря:
— Моя мысль о молодежи проста. Палаточная романтика отжила свой век. Хотите освоить пойму, учтете сегодняшнюю психологию. Современная романтика освоения, уж если не можем без этого набившего слух словечка, включает в себя возможность сесть на сверхмощный агрегат К-700 или «Катерпиллер», включить электронную автоматику. Пользоваться в этих топях комфортом большого города. Уже осваиваются образцы надувных домов, переносимых с места на место, с вмонтированными телевизорами, калориферами, компактными платяными шкафами. Уже существуют образцы электронных приборов, отпугивающих гнус. На собрании у вас повторял и теперь: в век космических станций и атомной энергетики невозможно по-дедовски осуществлять глобальную операцию «Пойма»!.. Не так ли?
— Так, так, но только где их взять, эти ваши мячи надувные? Нам еще и балок в пору, и палаточка с печечкой не помешает!..
Теперь они летели над серо-пепельной гарью, над топкой, в белых зеркальцах луговиной. Там, уменьшенные и застывшие сверху, ходили корчеватели, нагребая ковшами валы. Желтые экскаваторы резали топь, просекая в ней блеском вспыхивающие дренажи и каналы. Весь угрюмый ландшафт был захвачен легкой, наброшенной на него геометрией.
— Вот мы сунулись в пойму, начали ее щупать местами, — говорил председатель. — Это только первая техника, а главная еще на подходе… Сунулись, говорю, а сами тревожимся: как бы не напороть! Много уже с мелиорацией напороли в природе. Наш район пока считается диким, а какой дикий, если весь железом набит! И лезут с ним куда ни попало. А земля-то наша, нам с нею жить, нам с нее кормиться…
— Все верно, никак не научимся. Нам бы заповедники тут устроить, — отозвался Ковригин. — С этим уже вошли в правительство, уже бьемся за это. По всему меридиану освоения — группа заповедников. В тундре, в тайге, в степи… Вам же отсюда виднее, выходите со встречными предложениями, поддержите нас.
— Нам-то виднее, ясно. Ладно, заповедник устроим. А как охранять? От тех же газовиков и нефтяников… Браконьер нынче знаете какой пошел? У него вездеход, скоростной катер, водолазный костюм, карабин, электроаккумулятор. Все это на беззащитную рыбу и зверя. Мы уж думаем подвижные бригады егерей сколотить, с амфибией, с рацией. Как на войне, ей-богу!..
Они замолчали, ибо близилось нечто еще неясное, безымянное, из синевы и размытых туманностей, из облаков и мерцаний, охватившее сквозь кабину все далекое, с кривизной горизонта пространство, дивное, дышащее в своей необъятной силе.
Вертолет миновал последнюю кромку елок, вынесся в пустоту и повис над Обью, плавно сносимый под недвижным облаком.
Ковригин испытал внезапное освобождение и счастье. Будто там, за чертой, остались его усталость, озабоченность и болезнь. И возникла свобода. Собственная безымянность. Радостное господство. Он сам был создан из этой не имеющей очертания силы и был выше ее. Творил ее, благословлял с высоты.
Обь гигантской излучиной, колыхнув собой землю, уходила ртутным, затуманенным к горизонту разливом. Охватывала равнину течениями, кольцами. Стискивала и вновь отпускала. Заливала собою небо. И чудилось вращение Земли. Слепая юность творения. Явление из белого света.
Ковригин прижимался лицом к островам и протокам, посылал им свое дыхание. И Обь отразила его вместе с солнцем, дрогнув, как гигантский латунный лист.
Пролетали над ржавым, в красных разводах болотом. Хлюпающим, выталкивающим из себя пузыри. Ковригин чувствовал его брожение, желание прозреть и родиться. Устремлял к нему свою силу и зоркость. И внизу раскрылся огромный сияющий глаз, благодарно и чисто. Отразил вертолет в хрустальном зрачке.
— Здесь опущу вас, — председатель надвинулся на него скомканной кепкой. — Чтоб руками траву подержали…
Он положил на плечо пилоту тяжеленную лапу. И вертолет стал снижаться, окунаясь в зелень. Коснулся дрожащей травы. Раздул ее винтом до блестящей подкладки.
— Самые луга дорогие, — говорил председатель, открывая дверцу.
В кабину ворвалось свежее зеленое чудо, стало плескаться, топко струиться по их лицам, рукам, по приборной доске. Зеленые языки волновались, наполнив кабину. Вертолет погрузился в зеленый холод и свет.
— Так прямо пройдете, километра два, до пристани. А оттуда позвоните, катер пришлем, — председатель пожимал Ковригину руку.
Ковригин и Ольга вышли, утонув по колено в стеблях. Дверца захлопнулась, защемив красный цветок. Вертолет взмыл, исчезая, унося цветок в поднебесье.
Высокая туча, переполненная дождем и сиянием. Воздушное движение травы. Даль залита водой. Они не знали, что делать с этой внезапной свободой и своим одиночеством. И как бы испугались.
— Вы ноги не промочили? — спросил Ковригин, удивляясь негромкости голоса, чуть слышного за свистом стеблей.
— Нет, ничего, — отозвалась она из-за ветра, вся закрученная зелеными водоворотами, уносимая в них.
— Как бы дождь не полил…
Летела пыльца. Туманили глаза и далекий крутояр в одиноко черневшей избой. Ольга, вся исцелованная травой, была благодарна ветру, разводящему их по двум серебряным, из колыханий дорогам. Шла по своей.
— Плащ и тот взять забыли, — донеслось до нее.
«Хорошо, хорошо, и пусть вдалеке, чуть слышно, и не надо другого, а только идти, идти в этих шумах и свистах…»
Ветер дохнул от тучи. Раздул траву до земли. Опрокинул ей на спину холодные, светло-темные ворохи, пропуская ее через них, отрывая: словно снял через голову зеленое платье и уносит, а она бежит за ним следом, удаляясь сама от себя.
«Хорошо, и не надо другого, ведь это и есть другое…»
Смотрела на плывущее к ней лицо Ковригина, видя, как ветер заворачивает его в тугое полотнище, путая ему руки и ноги.
Она окунула руку в живую, скользящую глубину. Закрыла глаза. Ловила сквозь веки свечение. Трава заливалась за ворот, ополаскивала шею и грудь. Казалось, несет ее, Ольгу, между солнцем и лугом.
— Вы исчезли… Не вижу, — донеслось из-за ветра.
— Я здесь, — на мгновение лицо сквозь метелки, и опять ничего. Только травы летели. Ее волосы перевились с травой. Она их ловила, выпутывала, а они вырывались. Трава не пускала ее, превращала в себя. И в кружении, мелькании — неясная, сладкая мысль: «Хорошо… Пусть будет всегда… Я — трава, и с ним — через ветер, воздух и шум…»
— Мы, как кони, бредем…
— Этим коням хорошо.
Ей обожгло висок крохотным, прилетевшим из неба ударом. Еще две капли упали на горячую шею. И из тучи, из ее синевы стало опадать холодом, блеском, погружаясь в легкость травы. Закипело, испаряясь о накаленные стебли. И вдруг рухнуло всеразящей, лилово-пахучей силой, превращая луг в бушевание.
Ртутные вспышки взрывались у ног, будто падали шаровые молнии, катались, выжигая прогалы. Превращались в тяжелых рыбин, и те рыли мордами травы.
— Где вы? Скорее ко мне! — услышала она сквозь хлюпы и грохот.
Они искали друг друга в ливне, на ощупь. Нашли и приближалась, сбитые тесно ливнем.
Она чувствовала, что стоит в водопаде. Платье ее промокло, стало прозрачным и тесным. Облепило груди, литые бедра и живот. Она стеснялась своей возникшей в дожде наготы. А он, стаскивая с плеч отекающий ручьями пиджак, пытался укрыть ее сверху.
— Теперь два дождя! — засмеялась она, видя его неловкие, похожие на бултыхания, движения. Уклонялась от струи, льющей из рукава ей на голову. — Ваш пиджак словно туча!
— Верно, ничего не поможет!.. Да вы все равно как статуя! — засмеялся в ответ Ковригин, глотая летящие по губам пузыри.
Волосы ее почернели. Стеклянно пропускали в себе ледяное скольжение. Она отжимала их. Они сразу же наполнялись тяжестью, вымывались у нее из ладоней. Было трудно дышать от закрывшей лицо воды, и Ольга дула, отгоняла дождь, перекидывая волосы за спину.
— Говорил вам, построим ковчег…
Его баул стал скользким, тяжелым. Тесно прижавшись, они в две руки волочили пиджак, плывший по травам, как лодка. Пробирались на исчезнувший косогор в избу. Ковригин сквозь холод чувствовал глубокое, идущее от плеча Ольги тепло.
— Придем в избу, добрые люди нас отогреют…
И, чувствуя вину перед ней за этот дождь, в то же время радовался близкому их движению по зеленой пене упавшего неба, под стучащим блеском взлетевшего луга.
Одолев бугор, вышли к избе. Черпая, осевшая набок, плывущая сквозь дождь, словно пристань, изба сквозила разбитыми окнами, настежь отворенной дверью.
— Вот вам и добрые люди, — огорченно сказала Ольга. — Мы здесь самые добрые…
Они вошли в полутьму. Было просторно и сыро. Текло с потолка. В окна с остатками стекол дули сквозняки. Печь белела с прислоненным ухватом. Пахло углями и тленом. Стояла кровать под одеялом. Стол с расколотой чашкой. Шкафчик, размалеванный тускло цветами, мерцал посудой. На коврике плыли лебеди, сидела в беседке красавица.
Казалось, хозяин ушел ненадолго да так и забыл вернуться.
— Хоть потоп переждем, — говорил Ковригин, оглядывая очертания чужого дома, чувствуя присутствие по углам исчезнувшего навек человека, — все-таки набрели на ковчег. Будем спасаться…
Ольга сидела на лавке, глядя на падение воды с потолка. Вся дрожала, обдуваемая сквозняками.
— Безумная моя затея с этим лугом! — всполошился Ковригин. — Вымочил вас, выстудил!.. Вы немножко подвигайтесь… Я сейчас!
Сам дрожа, стащил с себя рубаху, заткнул ею дыры в стеклах. Стянул с кровати одеяло, навесил на оконные косяки.
Испытывая к ней нежность, заботясь, он пробрался сквозь сени в крытый двор, наполненный шумом бушевавшего сверху ливня. Спугнул в темноте невидимую птицу. Среди тусклых щелей, гремящего железа отыскал поленницу дров. И рядом, будто знал, прислоненный топор. Нагрузился, осыпая звонкие сухие поленья, вернулся в дом.
— Бедная вы моя! — с той же нежной торопливостью оглядывая ее, повторял Ковригин, осторожно опуская дрова.
Ольга, оцепенев на скамейке, старалась сберечь в себе под ледяными одеждами тепло. Смотрела на приколотый коврик, на лебедей и улыбавшуюся, поджидавшую ее здесь издавна белогрудую деву. И было ей сквозь холод и дрожь хорошо: так вот сидеть без движений, доверяясь ему, его суете и умению, полагаясь на его силу, энергию и на счастливую, двигавшую ими обоими силу, завлекшую их теперь в старый, покинутый дом.
Ковригин, придерживая пальцем дровину, метко вгонял топор. Отрывал сухие лучины. Ольга, слушая их треск и шуршание, вспомнила те же движения, угол плеча, подбородка, когда встав на колено, звякал по камню у памятника: легчайший удар повторения.
— Или мы не крестьяне? Или спичек у нас не найдется? — приговаривал он, раскрывая баул, извлекая коробок.
Отворил заслонку в трубе. Дунул колдовски в полукруглый зев. Сунулся туда с берестой и щепками. Чиркнул невидимо. И вдруг озарился в локтях, в голых подвижных ребрах красноватым отсветом.
— Ну вот, — обернулся он вновь лицом, радостно глядя на свой огонь и ее приглашая радоваться. — Подвигайте скамью, моя статуя… Вылепил вас из дождя и глины. Теперь начну обжигать…
Они придвинули лавку к печи. Ольга села, наблюдая горящую бересту, а Ковригин подкладывал бережно поленья. И скоро, повинуясь ему, сильно и пламенно трещали дрова, окатывая их чадно-красным теплом.
Они сидели, касаясь плечами, еще не пережив, не заметив этого прикосновения друг к другу, а устремляясь к теплу. Ливень все так же шумел, прошибая крышу. Но изба уже наполнялась огнем. Колыхалась огненно среди пузырящихся далей.
— Ну и дождище! — сказал Ковригин. — Нанесло с океана… Изба наша плывет в океане…
И Ольга вдруг ощутила плечом его близкое движение, дыхание. Две их тесные, соединенные жизни, заключенные в огромное дождевое облако. Две их малые, во времени сведенные судьбы, охваченные водой и огнем.
Должно быть, и он уловил их касание. Замер вдруг, боясь шевельнуться, боясь обнаружить движением возникшую связь. Или вдруг потерять ее в неосторожном вздохе. Сидел напряженный, алый, переживая тончайшую, в касании возникшую близость.
А она закрыла глаза, чувствуя ими бесшумный, огромный полет земли и избы и светящееся, из прикосновений возникшее знание о нем, о себе. Переливалась в него, находя себя в нем, окружая его своей горячей, не имеющей названия силой.
— Я хотел… — чуть слышно произнес Ковригин. — И там, на лугу, и теперь… Я так дорожу…
А она, слыша его и не слыша, зная себя и острое прозрение свое о неповторимости жизни, медленно к нему поворачивалась. Охватывала ладонями его близкую, седую, на огонь устремленную голову. Раскрывала глаза, видя его блестящие, сине-стальные зрачки. Целовала брови, веки и рот, накаленную пламенем грудь.
И тьма обращалась в свет с проблеском воды. И она, отпуская ему свое мокрое, с проступившими соцветиями платье, открываясь в белизне из огня и ливня возникшего чуда, тихо спросила:
— Никто не войдет?.. И чтоб не лило на нас…
Провела в полутьме своей красной, занесенной над ним рукой.
Она проснулась от пристального, яркого взгляда. Через всю избу протянулся луч в разноцветном мелькании. Расплющился о стену дрожащим пятном. И с первым ударом зрачков в нее ворвались бесшумно и радостно: трава, водопады и пламя, обернувшись за ночь лучом.
Поднялась из тепла курчавой овчины. Он, еще спящий, протянул к ней ладони. Она благодарно скользнула по ним плечами.
— Куда ты? — спросил он.
— Спи… Я вернусь. — Пробежав через луч, ощутила спиной горячий росчерк.
Прошла огород, чувствуя, как кто-то радостный продолжает за ней наблюдать. Стояла на бугре, устремляясь в луга, в колыхание туманов. И в их белом движении видела: двое вчерашних бредут по негнущимся травам. Обернулась, — и Обь в стальной седине омывала гору. И в избе он ждет ее в разноцветном луче. И только пройти по росе, принеся ему на ногах свежесть и холод. Так думала она, опускаясь к реке по изрытому ливнем склону. Ставила на глину ступни. Оглядывалась нежно на свои отпечатки.
Спустилась к воде, спугнув желтоносую чайку. Стояла на зернистом песке. И казалось, кто-то только что здесь побывал и все это ей приготовил — чайку, всплески, солнечные круги. Медленно раздевалась, цепляя платье за куст. Подставляла себя синему холоду, вся закрытая от мира туманом, чувствуя свою молодую, горячую жизнь, таинственность своей белизны. Возможность стоять у края блестящей могучей реки. Или с плеском упасть в нее, наполнить собой, всю изменить своим теплом, своей мыслью, новым, возникшим в ней знанием.
На воде послышался шум. Надвигался. Раздвинув туман, выплыл на ртутную гладь, шипя и стуча, колесный пароход. Неправдоподобный, весь увешанный афишами, размалеванный буквами, лицами. Плавучий театр, еще спящий, волшебно возник и скрылся, оставив по себе ощущение: он и должен был появиться, кто-то выслал его из тумана.
Ольга ступила в воду, подняв руки, чувствуя прикосновения речного холодного пара. Колебалась на грани боязни. Разрушила ее вздохом единым. И сквозь шелест и плеск, со страхом и вскриком кинулась, испытав мгновенный, во все тело ожог и подводную силу течения, подхватившую ее властно и бережно. Привыкая, плыла, молча смеялась. Глазами, грудью, не остывшими от ожога ногами погруженная в жизнь реки.
Заплыла далеко и, устав, повернулась на спину, радуясь своей наготе, чуть прикрытой туманом. Закрыла глаза, прислушиваясь к колыханию воды, сама становясь течением. Зеленая ветка ольхи, сорванная ливнем с протоки, качалась рядом. Ольга ловила лицом ее зелень и запах. Думала: «Он — эта ветка. А я ее касаюсь губами».
И не было больше недавнего непонимания себя. А в превращении казалась себе прекрасной и доброй. И мать, прилетев к ней в образе седой чайки, беззвучно мелькнула в тумане…
Ковригин открыл глаза и проснулся легко и сразу, весь целиком, с небывалой, забытой легкостью. Лежал, наблюдая падение луча, медленное смещение пятна. В этой геометрии усматривался сконструированный просто прибор: движение солнца, щель, стена крестьянской избы и его зрачок, радостно все завершающий. Эта ясная устроенность мира открылась ему. И он знал: Ольга где-то рядом, сейчас перед ним возникнет.
Поднялся, пройдя по дому, боясь нарушить вчерашнее, поселившееся здесь состояние. Остывшие угли в печи. Поставленная косо скамейка. Мертвая красноватая бабочка. На притолоке крестик от злого духа.
Вышел в сени, и брошенный дом открыл свои углы, просясь в услужение. Подставлял черенки лопат, рукояти вил, топорища. Пыльную дугу с бубенцом. Ковригин слышал обращенные к нему голоса, уже заботясь о доме. Тронул бережно железную косу, прозвеневшую благодарно.
С бруском и косой вышел на солнце, увидев в траве синий, протоптанный Ольгой след. Пережил в мгновенном головокружении ее недавнее здесь пребывание, исчезновение под горой. Тонко, полумесяцем провел по косе точилом, извлекая из ржавого железа звучание и блестящую острую полосу.
Изба наблюдала за ним. И он сквозь стены чувствовал ее наполнение вчерашним.
Робея высокой драночной крыши, покосившихся в сарае ворот, он первым неверным движением срезал желтый цветок зверобоя, запутав косу в войлоке ячменника и горошка. Вторым погружением, вынося на железе темный сок, сразил у забора красную герань. А с третьего взмаха, вписав свое тело в полукруглые качания и дуги, стал косить, весь в мелких брызгах и радугах, стараясь не тронуть косой ее след. Так и шли с нею рядом, переглядываясь, пересмеиваясь.
Усталый, с мокрым лицом, стоял среди срезанного разноцветия. Представлял себе высохший звон и шуршащую глубину сенника. Ладони его горели. Ноги промокли. Он смотрел сквозь резную, летучую крону одинокой рябины на сквозящую синеву. И то ли ее вопрошал, радостно ожидая ответа, то ли благодарил безымянно за полученный тайно ответ. «Будет, ведь будет?» — спрашивал, сам не зная о чем. И в сияющих росах, с сочным и шумным движением пронесся заяц.
Ковригин вышел на заросшую, с чуть видной колеей дорогу. Услышал топотание и храп.
Две лошади, белая и гнедая, выпаривали из луга дымящийся след. Набегали на него. На их спинах, в раздутых рубашках, тряслись мальчишки, босоного и цепко. Встали рядом, воззрясь на Ковригина.
— Здравствуйте, — сказал он, дивясь на их соломенные, открытые волосы. — Это вы избу разорили?
Те молча его оглядывали. Потом что постарше ответил:
— Коней пасем. Два раза ночевали.
— А кто же до этого жил? Кто хозяин?
— Дед Василий Архипыч… Помер в прошлом году.
— Один, что ли, жил?
— Бабка его давно померла…
Они осматривали Ковригина, оценивая его появление, примеряя его к дороге, избе. Потом все тот же спросил:
— А вы как, по реке приплыли?
— Да с неба спустился, — неопределенно ответил Ковригин. — Так, говорите, Василий Архипыч?..
Дети и кони смотрели на него, не мигая…
Туман над Ольгой распался, и она увидела всю высокую, зеленью обрызганную гору, и избу, и двух разноцветных коней, и Ковригина, чуть белеющего рубахой. Узнала и, стремясь к нему через пространство воды и света и его призывая, плеснула, смыв его вместе с горой, занавесив сверканием…
Кони умчались. Ковригин, обернувшись к реке, увидел ее, осчастливленный, к ней потянулся. Сорвал мокрый лопух. Свернул в трубку. Сквозь листья ловил ее, далекую, на воде…
А она посреди реки, повторяя про себя: «Я — жива и люблю, и он видит! Это чудо, чудо случилось!» — быстро плыла, выбрасывая руки, роняя при каждом взмахе исчезающие прозрачные крылья.
— Ты ушла и след проложила, а я караулю твой след, — сказал Ковригин при ее появлении, оглядывая ее гордо и бережно при белом свете, стараясь не смутить свои долгим скольжением по мокрым волосам и лицу, прислушиваясь к звучанию нового «ты», изменившего самый образ ее.
— Я видела тебя и коней, — ответила Ольга, словно пробовала губами звучанье этого «ты», удивляясь открытости звука, возможности войти в него: один шаг, и коснуться лица.
— Мальчишки сказали, тут жил старик Василий Архипыч. В прошлом году умер, а старуха его еще раньше… В деревне по соседству есть лавка. Я дал им деньги, обещали еду привезти.
— Ты хочешь здесь поселиться?
— Траву на сенник скосил… Тут все на месте, нетронуто. Заходи и живи. Только чуть прибраться… Стекла вставить, латку на крышу посадить… Поживем немного. Поплаваем еще на ковчеге… Василий Архипыч нас принял вчера и сегодня не гонит… Поживем?
Она приблизилась, огладила его по голове и щеке, расправив ворот рубахи. Держала у него на плечах свои нетяжелые, сквозь рубаху живые руки. И он замер счастливо, ловя ее прохладно речные и жарко телесные запахи.
— Поживем, — кивнула она…
Они позавтракали хлебом и двумя узкими копчеными рыбинами — всем, что нашлось в бауле Ковригина. Запили колодезной водой, зачерпнув ее вместе с отражением промелькнувшей ласточки.
— Будем ждать лучших времен, — сказал Ковригин, стряхивая хлебные крошки.
— Прислушиваться к конскому топу, — ответила она, сметая со стола чешую.
— А теперь — разгребать стариковские клады, — поднялся он.
Ольга вышла наружу и стала шарить под окнами, выбирая осколки стекол, надеясь скрепить их с помощью глины.
А Ковригин, разыскав пустые корзины, начал разгребать пыльный ворох, загромоздивший проход в сенях. Весь лежалый, попорченный скарб, накопленный за жизнь стариком. Выдирал из спекшейся кучи стоптанные валенки, сапоги. Истлевшие зипуны и рваные шапки. Казалось, старик не желал с ними расставаться, удерживал за голенища, подолы. И Ковригин, борясь, уговаривал:
— Да все это дрянь, — сносилось!.. Не сердись, Василий Архипыч! Чистоту наведем, тебе лучше. Тебе же здесь, после нас оставаться!..
Задыхаясь от пыли, нагружал корзины мешковиной с гнилой мукой, ломкими кипами самосада. Торопился на свет и воздух, вываливал ношу в бурьян. И вновь возвращался, выволакивая обломки ткацкого стана, точеные берда, винты.
В мусоре ему попадалось железо. Из цепких рук старика он извлекал осторожно то ржавый граненый штык, то кованый гвоздь, то лемех. Бережно откладывая в сторону, испытывая влечение к старинному, пережившему век инструменту.
— Ты и воин, Василий Архипыч, и пахарь… Знаем цену и тому, и другому…
Он вынес на вилах охапку подхваченной в сарае соломы. Обложил ею сор и поджег. Занялось, задымилось, топорща пустые, давнишние колоски. Затягивало в жар потемнелое дерево, прах. Загорались, обращаясь в пламя и дым, стариковские годы, некогда светившее ему солнце, выпадавшие дожди и снега. Сапоги, в которых колесил по войнам, по пашням. И казалось, старик, прилетев на огонь, вьется в дыму, беззвучно крича и горюя, пытаясь спасти добро.
Ковригин чувствовал его боль и свою вину. Свое незваное здесь появление, потревожившее тень старика. Отгонял, отдувая его от огня, чтобы тот не обжегся. Просил у него прощения.
А Ольга колдовала над стеклами. Вставляла в раму, промазывая и скрепляя глиной, ломкие перламутровые осколки. Обернулась на его шуршание.
— Ты как ласточка над гнездом. Лепишь его по кусочкам.
— У ласточек стеклянные гнезда?
— О чем ты думала, когда я подошел?
— О чем?.. Могу сказать. О внезапности жизни.
— Это как же?
— О внезапности нашего знакомства. Всех твоих появлений. Вчерашнего дождя. И огня в печи. И как перешли на «ты». И твоего вопроса сейчас. Все важное, мне кажется, происходит внезапно, будто всегда и было… А ты о чем думал?
— А я — о непрерывности жизни. Если чья-то судьба исчезла или готова исчезнуть, другая берет ее на себя… Сжигал стариковский скарб, и старик затягивал меня в свою судьбу. А ты здесь звякала стеклышками, и я думал: «И я тебя в свою затянул». И пришел взглянуть, не в тягость ли это…
— Значит, мы думали об одном и том же.
— Вон еще одно стеклышко синенькое в лопухах…
Ковригин, вооружившись корзиной, набив ее доверху дранкой, заткнул молоток за пояс, насыпал в карман ком колючих гвоздей и полез латать крышу. А Ольга занесла в избу ведра с водой, готовилась мыть полы.
Травяным легким веником она обметала пыль с косяков, подоконников. И повсюду осыпались на нее мертвые невесомые бабочки. Она их подымала из сора, складывала на обрывок газеты, удивляясь их разноцветью.
Сверху, сквозь чердак, доносились тихие стуки. Стояли полные ведра. На газетном листе пестрели мертвые бабочки. И Ольга, глядя на них, вдруг ощутила покинутый дух избы, и ей померещились в бабочках прилетавшие сюда зимовать да так и застывшие по нетопленным углам все снохи, невестки, золовки, все тещи, свекрови — женские души, бушевавшие некогда здесь в своих ссорах, любовях.
«Беру их жизнь на себя», — думала она. И чуть колыхнулась в налитых ведрах вода. Изба нова, горяча. На дворе коровы и кони. Крик петуха, мычание. И чьи-то белые, быстрые руки прибивают к стене над кроватью коврик с лебедями и девой.
Ковригин, оседлав рассохшийся, просевший конек, привязав за трубу корзину, выстилал дранкой крышу. Ощупывал серую, изъеденную ветром, исклеванную и избитую птицами чешую. Накладывал бело-желтую, яркую щепу. И, чувствуя дыхание, упругость крыши, вгонял гвоздь и пришпиливал. Он выкладывал дорожку, смещаясь по щипцу, наслаждаясь своими стуками, меткостью, запахом просыхающей крыши, огромной Обью с двумя кораблями. Он чувствовал и Ольгу сквозь крышу, чердак, и это трогало его, волновало.
Ольга терла полы, шлепая тряпку, выжимая из нее хлюпающее озеро под свои босые ноги. Волосы сыпались на лицо, и она в движении отбрасывала их кивком, отжимала тряпку. Половицы начинали светлеть, круглились суками. От них подымался сырой древесный дух. И Ольга думала о всех топотавших тут свадьбах и проводах, о кинутых наземь березовых троицких ветках, о поминальных еловых лапах.
Ковригин вгонял в дранку гвоздь. Думал: нет ни прошлого, ни будущего. А только эта простая работа, хруст щепы, и он — в остановившемся времени. Жжение солнца сквозь рубаху. Шершавость крыши под ногой. И она, сокрытая в избе. Все недавние боли и страхи, нерешенные дела и вопросы не исчезли совсем, ходили где-то рядом, но были не в силах одолеть притолоку с наведенным крестом.
А Ольга стояла посреди избы, держа в руках запыленную люльку.
Она была беспомощна перед движением чужой, безвестной души. Держала в руках ее слабый отсвет. В ней были любовь и страдание, желание воскресить и вернуть. Мокрым подолом она тронула темное дерево, и на нем сквозь пыль, будто в стекле, загорелись красные розы. Она на них дышала, шептала. И такую потребность счастья для себя, для него, стучащего там и неведающего, испытала она, так заболели и налились ее груди, прижатые к люльке, что она сквозь улыбки и шепоты поднесла к губам алые, в разводах цветы.
«Нет, я не тот, кто стрелял и падал, подстреленный, — думал Ковригин. — Не тот, кто мучился в сверхусилиях, боялся, ревновал, тосковал об умерших. Я тот, кто сидит теперь, обладающий всем, на крыше старой избы, вгоняя гвозди в дранку, и старик, примостившись рядом, ревниво следит за работой, и стуки мои долетают сквозь дерево в дом… Еще последний удар, спущусь и увижу ее…»
Он спустился. Изба глянула на него чистотой потолка и пола. Стояла у окошка омытая люлька. На листке лежали сухие бабочки. Ольга, усталая, розовая от работы, стелила перед ним от порога красно-белый половик.
К вечеру прискакали босые наездники с белыми головами. Протянули Ковригину клеенчатую сумку с покупками.
— Вот спасибо! — обрадовался он, принимая. — А то хоть крапиву ешь… Слезайте, поужинаем за компанию.
Но всадники разглядывали его внимательно, весело. Разом повернули коней. Ускакали, разрубая лопушиные заросли.
— Ну теперь проживем! — выкладывал перед Ольгой Ковригин ржаную буханку, соль, бутыль с подсолнечным маслом, пачку с заваркой и сахар, кулек с картошкой и лук. — Теперь зимовать!
— Скрыться в избе, чтобы нас не искали. Чтоб забыли о нас…
— Только где-то в степях будут помнить: жила среди нас великая целительница, а потом исчезла. Дух ее подхватил и унес.
— И в Москве в академии будут вспоминать: жил среди нас великий географ, и его дух унес.
— Один трубочист заметил, как дух пронес их под мышкой, с очень озабоченным видом.
— Последний раз их видели на лугу. И вид у них был очень мокрый.
— С тех пор о них ни слуху ни духу. Только в деревенской лавочке чуть повысилась продажа чая и хлеба.
— Но этого довольно, чтобы сыщики-следопыты напали на след. Кинулись за ними в погоню.
— Стали разыскивать их с вездеходами.
— И с вертолетами.
— Со спутников увидали свежую латку на крыше.
— И в один прекрасный день явились за ними спасители: «Так вот вы, голубчики, где? Долго же мы вас спасали! Как вы тут без прописки живете? И профвзносы не платите?» И разведут нас по прежним местам. Меня — в мою степь, а тебя — в академию. А дух оштрафуют, чтобы не нарушал общественный порядок.
— Ну это еще как сказать! — смеялся Ковригин, сооружая из обломков кирпичей очажок в траве. — Найти-то, может, найдут. А за притолоку шагнуть не сумеют. А за притолоку-то им не шагнуть!..
Они ужинали, усталые от трудов. Бережно награждали друг друга ломтями хлеба, луковицами. Макали их в соль и в масло. Запивали чаем из стариковских чашек. И сквозь наборное окошко просвечивало разноцветное вечернее солнце.
— Еще одно дело, на сегодня последнее, — сказал Ковригин, внося на куске мешковины ржавый инструмент старика. — У тебя вон история Государства Российского, представленная в цветах и узорах, — кивнул он на люльку в шкафчик с посудой. — А это воплощение в железе… Хочу его перебрать…
Он разложил на лавке железо, стряхивая на мешковину ржавчину. Протирал поковки маслом, найденным у старика на божнице. И железо в его руках пробуждалось, наполнялось синеватой, смуглой силой, готовностью служить и работать.
Пачкая пальцы, чувствуя литую тяжесть, он наслаждался запахом металла и смазки, радуясь тому, что так же пахли и сияющий ротор турбины, и прецизионные, с программой станки, и канал скорострельной пушки — все тот же извечный запах нацеленного в труд инструмента.
— Все тебе приготовлю, Василий Архипыч, спасибо скажешь…
И зная, что Ольга любуется, ценит его работу, он раскладывал перед ней замки и ключи от исчезнувших амбаров. Топоры и зубила, избитые до щербин и отметин. Мастерки, утонченные в бесчисленных касаниях о печи. Удила, изгрызенные умершими лошадьми.
И жизнь старика была выкована из железа.
— Здесь и правда ковчег. Можно плыть хоть куда. Хоть космос заселяй, если хочешь…
— А мы и заселили вот этим свой космос. Вот этим Россию освоили. Сковали между трех океанов…
— Ты мне их передавай. Я тоже хочу подержать…
— Возьми. Полюбуйся. Все символы нашей веры… Вот ножницы для стрижки овец. Символ нашей кротости и терпения… Наш старик — не старик, а мальчоночек — прижался к дышащему овечьему боку, а отец настригает сально-серебряный войлок, и из всех щелей, подворотен выглядывают кони, петухи, коровы… Положи-ка на холст… — Он продолжал: — А вот, посмотри, подсошник. Символ нашей мудрости и пространства. Горизонтов внешних и внутренних, за которые стремится душа, добывая себе хлеб насущный… Наш старик молодыми руками налегает на горячие рукояти, идет за конем, выводя борозду, вместе с другими, несметными подымая небывалую ниву. И зреют в их душах великие урожаи… И его положи аккуратно… — передал ей, продолжая: — Вот штык с насадкой, коим прочерчены наши границы по камням и по водам, так что след их поныне не стерся… Старик в кровавом поту, одолев рубеж рукопашной, отдыхает после атаки. Сыплет из кисета табак, и штык его лучится в дожде… Положи его рядом с подсошником, как другое его воплощение, — протянул ей граненое жало. — А вот весы, стрелочка так тонко откована… Символ нашей меры и совести. Держат на своих рычажках два континента… Колеблется между Европой и Азией, между землей и небом, между Луной и Солнцем и не знает, куда устремиться… А старик, подняв на цепочках чаши, сыплет то соль, то пшеницу, кидая щепоть в недосып…
Вот плотницкий циркуль, похожий на корабельный прибор, измеряющий угол на солнце. В его растворе и дугах — окружность небесных светил, наших глазных орбит, наших мыслей, ходящих по широким кругам… Старик всю жизнь упирал заостренный конец, вымеряя другим, — то зыбку для сына, то гроб для своей старухи, то в последних усилиях, когда за окошком снег, себе крест из лесины, ставя его в изголовье… На, и его положи…
Ольга принимала из рук Ковригина потемневшие, чуть светящиеся инструменты. Оба они смотрели на железные созвездия, горевшие над судьбой старика…
— Взгляни, — сказал он. — Опять туман на лугах. Ночь холодная будет.
— Ты думаешь, те двое замерзнут? Опять придут греться?
— Надо бы протопить к их приходу.
— Вот удивятся! Прибрано, вымыто. Печь горячая. Их ждали добрые люди.
— Так я протоплю к их приходу.
Он сходил за дровами, гибко неся поленья. Зарядил ими печь, поджег. И печь, ожидая огня, вздохнула, будто включился с чуть слышным рокотом замурованный в толщу двигатель. Дрогнул сияющими раструбами. Рябина под окном напряженно расправила стальные лопасти, с тихим свистом врезала в воздух. Красный жар нарастал. Старик с налитыми ртутью глазами уселся на конек своей крыши. Изба колыхнулась, снялась с горы и, навесив огненный след, пошла над рекой и туманами. Вахтенный сухогруза, плывущего по ночной протоке, смотрел в бинокль на летящий пожар.
— Я тебе говорила о внезапности жизни… Увидела тебя в первый раз там, в синеватом, угарном тумане… Какой-то крюк красный. Какой-то мотор сгоревший. И ты беспомощный. Лица не видно, но я вся изменилась. Оробела как от испуга. Как от грозного предзнаменования… Потом я ушла и как бы забыла о тебе тут же. Ты как бы исчез. Какие-то больные, какие-то бумаги… Но чувствовала, что стала другой, будто изменилось движение, и я стала искать, куда. И вдруг опять тебя вспомнила. Понеслась к тебе, будто услышала крик…
Он гладил ей руку, от плеча, по всему ее живому скольжению, до самых пальцев, лежащих у него на груди. И думал: в судьбе ли, в природе задумано их совпадение, — знать не дано и не нужно. А просто закрыть глаза, остановившись в необъяснимости счастья…
— Знаешь, я всегда искала кому себя посвятить. Сначала маме, когда та болела и увядала. Ходила за ней днем и ночью, как за дитятей, и каюсь, появлялись у меня грешные чувства — от усталости, от раздражения, от мысли, что моя жизнь в этих заботах проходит, но я их гнала от себя… Когда мамы не стало, появились другие больные. Я считала долгом им себя посвятить, их старости, хворостям, но и тут появлялись сомнения: а я? А мне кто себя посвятит?.. И вдруг ты возник, и нет теперь грешных мыслей, а в радости и свободе думаю: буду тебе очень нужна. Могу для тебя многое сделать. Сердце твое пойму, как никто, лучше, чем все твои профессора понимали… Конечно, еще робею, но с самого начала казалось, когда слушала твои рассказы и муки, что наше с тобой родство очень глубокое, и очень тайное, и очень, очень давнишнее. Может, есть в нас общая кровиночка от какой-нибудь московской родни?.. Мы даже лицом похожи…
— Ну где уж там!
— А ты загляни! Подвинь сюда голову!..
Они потянулись к старому, в деревянном окаймлении зеркалу. И сквозь оловянный туман утомленного от бесчисленных взглядов стекла глянули их два лица, прижатые тесно друг к другу. Она руками водила по его бровям и губам. С пальцев ее слетали тонкие силы, рисовали ему другое лицо, яркоглазое и счастливое.
— Мне, знаешь, сейчас показалось: на окошке красный цветок… Ты не видишь?
— Тебе показалось.
— Да, померещилось… Мне в детстве всегда мерещилось. Может, и ты мерещишься?
— Как будто бы нет, потрогай…
— У меня в детстве, когда сильно болела, когда температура под сорок подскакивала, всегда начинался бред, один и тот же, из болезни в болезнь. Его теперь не опишешь. Он там и остался, в детстве. Но был в нем какой-то безмерный, наподобие провала ужас. Огненная пропасть внизу. И какая-то белая над всем красота. Ощущение, что жизнь моя колеблется между красотой и провалом… Бред исчез, а все равно ощущение осталось… Ты, правда, не видишь цветка?
— Нет, не вижу.
— Да вот, если так повернуться!
— Тогда я вижу тебя…
Дрова упруго, мягко ревели. Осыпались раскаленными бусинами. В рябину, в размытый центр лопастей, уселась блестящая, напряженная птица. Старик на крыше развевал на две стороны бороду.
И казалось, изба летит в высочайших прозрачных туманах.
Дева на клеенчатом коврике слушала их, румянясь лицом и устами. Лебеди плыли на звук, вытянув шеи, словно увидали кого-то, идущего через сад.
— Конечно, я не святая, — говорила она. — Раздражаюсь, обижаюсь, даже до горечи, до слез… Но все равно, не виню в этом жизнь и даже обидчиков стараюсь не винить. Я всем стараюсь желать блага… В школе у меня была одна обидчица, очень жестокая, столько уж боли мне причинила. Бывало, разгневаюсь, ну сил нет!.. А все равно, гнев утихнет, и я ей блага желаю, и от этого мне хорошо… И теперь главврач, очень несимпатичный, все время меня преследует. Но я не даю своим обидам на него опрокинуться, а и ему блага желаю… Я тебе признаюсь. С детства перед сном, последние минуточки, пока еще явь, но уже исчезаешь, я всем знакомым и близким желаю блага. Подругам по институту и школе, профессорам… Когда мама жива была, ей… А когда умерла, то все равно и ей, и отцу… А ты у меня появился, и тебе желаю… Ты не чувствуешь вечерами? Не чувствуешь, как и тебе блага желаю?
— Я чувствую, чувствую, кто-то желает, но только не знал, что ты…
— Я верю, нам будет с тобой хорошо! Нам будет с тобой прекрасно! Об этом все говорит. С самого начала все говорило… Как только тебя увидала, то не было колебаний, а приняла тебя всего разом, со всем твоим прошлым и будущим. Хочу, чтоб и ты меня принял… Откуда эта вера, не знаю. Но верю, нам будет с тобой прекрасно… И ты, и ты верь!..
Их изба летела в огромном ветре. Старик сидел на коньке. В его бороде краснел осиновый лист.
По лунному лугу
Не сон и не явь, а вся она деревянная, словно врезана в бревно, с невозможностью вздохнуть, шевельнуться, и от этого мука. Избы деревни. После аэродрома с дощатой будкой. И коровы бегут на поле, раздувая бока, на коротких ногах-колесах. У них из боков вырастают перепончатые двукрылья, и коровы одна за другой улетают, превращаясь в самолетные точки. Сергей, жених ее, утонувший весной в половодье, смеется из самолетной кабины.
— Вставай, Тонь, вставай! — мать будила ее, вырывая из муки, возвращая в свет голубоватого утра в розовый прогал занавески, за которой отец орудует шилом над старой военной сумкой.
Мать ставила на стол шипящую яичницу:
— Валька Рябкина уже прошла! Народ небось на барже собрался. Проспишь покос эдак-то, ночь-то гулямши…
За этим «эдак-то, ночь-то», уже проснувшись, ухватила им обеим понятное, о чем говорить не решались, о чем думали обе, отводя глаза. И сразу вместо муки ночной мука дневная. И недобрая к матери мысль: «Да что она вместе со всеми! Что пристали! Что я кому должна?»
И пока надевала платье, вспомнила вчерашние уговоры:
— Дай ответ, не мучь ты меня!.. Через три дня всей колонной уходим… Со мной поедешь?.. Я тебе говорю, старого не вернешь. Ты жива, он — нет! Приковалась ты к нему или как? Что ты кому должна?.. Поедем! Еще пару участков, и с газопроводом — хорош! В городе свадьбу закатим. У меня денег полно. Я вот этими руками да рычагами сколько хошь наворочаю… Желаешь, в городе станем жить, — меня и там нарасхват. А нет — на трассы вернемся. В Каракумы поедем. Дынь там, арбузов! А то на Сахалин, рыбки красной отведаешь!.. А то с управления человек приезжал, говорит, можно в Венгрию. От нас к ним нитку тянуть… Тонь, поедем! Счастлива будешь! Люблю тебя!.. А старого не воротишь…
Антонина брызгала себе в лицо.
— Грабли с синенькой ручкой возьми. Полегче казенных, — сказал отец, дырявя шилом кожаный отворот. — Чего я у тебя хотел спросить… Вон этот петух, что Серега тебе подарил… Стоит на виду… Давеча за шилом полез, чуть не спихнул, не разбил… Убрать, что ль?
Темный, внимательный взгляд отца. И печальный на его постаревшем лице. А в ней — досада и мука. На них, на себя, на глиняного, обожженного петуха, размалеванного красным, зеленым.
— Погоди убирать, папа… Сама уберу… Погодите вы все! — и выбежала, прозвенев граблями о крыльцо.
Совхозная баржа, нагруженная тракторными косилками, полная народа, урчала у пристани. Топорщились у бортов грабли и вилы. И ужо убирали мостки.
— Стой! Вон Тонька бежит!
И она с разбегу процокала по последней шаткой доске, подхваченная сильными ручищами. Втиснулась в гомонящую гущу, в папиросные дымы, в линялые кепки, платки. Директор поправил свою жестяную гнутую шляпу. Прогудел мотористу:
— Трогай!
Баржа отвалила мятым бортом, легла облегченно на быструю воду.
Шли к островам по протоке. За поручнями, в кругах и подводных течениях, стекленела Обь с погруженными в нее облаками. Горели пролетавшие пузыри. В мокром блеске тянулись острова. И пестрело чуть видное в туманах и росах стадо.
— Спасибо, Миколыч, тебе, обождал, а то бы осталась, — соседка, подруга ее, Валя, придвинулась, тронув локоть ее своим загорелым локтем. — А я так и знала, проспишь…
Их волосы, приподнятые ветром, складывались, спутывались, бело-черные, летящие. Спросила, скользнув языком по губам:
— Вчера опять Петька тебя провожал?
Антонина сжала до разноцветного блеска глаза, в которых исчезла пролетная серая уточка.
— Может, не надо бы тебе говорить, не мое это дело… Но все говорят… Быстро, говорят, Тонька Сережку своего позабыла. Быстро, говорят, слезки повысохли. Могила еще не обсыпалась… Видно, не терпится… Вот как люди-то про тебя говорят. Осуждают…
— Люди всегда осуждают, — сказала Антонина, отрывая свои желтые в легчайшем свете волосы от смоляных и тяжелых.
— Нет, не всегда, а правы!.. Подождать не могла? Жив был, ему говорила — подождем, подождем до осени. А нет его, и осени нет, а ты уж с Петькой на все готова!.. Я думала, ты Сережку любила. Все смотрела на вас и думала: вот любят!.. Он мне знаешь как о тебе говорил? Чего-то я ему сказать про тебя хотела, так он мне: не тронь, говорит, ее. Она святая! Вот он какой был, Сережка. Ему и после смерти верной быть до конца… У нас тетя Луша… Красавица, муж ее, дядя Толя, на войне погиб. Так сколько к ней после сваталось! Нет, говорит, и нет! Я, говорит, ему клятву дала, остаюсь верна… Так и не вышла замуж… Сережка-то был какой красивый, и все говорят, как герой погиб. Директор сказал, ему памятник на совхозные деньги поставят… А в Петьке этом чего нашла? Так, залетный. Есть — и нет его завтра. Много таких… Хвастает, деньгами трясет. Выпимший сколько раз приходил… Да ты посмотри!.. Самой же стыдно! Как людям в глаза глядеть?
И она, разрумянившись, удерживала летящие волосы.
— Ты, знаешь что… — тихо, так, что едва было слышно за стуком мотора, сквозь шелест и шум воды, сказала ей Антонина. — Ты меня лучше не тронь… Ты мне этим глаза не коли… Я знаю, ты за Сережкой ходила, ему на меня наговаривала. Да он не слушал тебя. Смотреть на тебя не хотел!.. И теперь мне завидуешь, всем нашептываешь, людей на меня наущаешь… Что ж мне, в воду за ним? Или, как тетка Луша ваша, всю жизнь в черном ходить? Что я, вдова, или кто?.. Это тебе к лицу черное будет… На тебя из парней никто не глядит… Все ты врешь обо мне!.. Перестань за меня цепляться!.. Видеть тебя не хочу!..
Гневно, острым локтем провела по чьей-то спине, протиснулась, успев разглядеть пораженное, с мокрыми глазами лицо подруги.
Баржа ткнулась в травяной берег. Народ вышел с гамом, визгом, осыпая в воду комья травы и глины. Зачалили трос о ветлу. По сходням выруливал трактор, туда, где скопились со вчерашнего сенокосные машины, сцепившись хвостами и иглами в колючий ком.
Еще посидеть, глядя на скошенный, неубранный, сладко вянущий луг. Закурить, пуская дымки. Повариха ставит на холодное кострище котел с водой. Выворачивает из дерюги красный говяжий бок.
— Макаровна, ты кашу станешь варить, солярки в ее поменьше лей!
— А она тебя, как трактор, заправляет!
— Ну тогда и автолу добавь, Макаровна!
— Хорош! Посидели! — директор покрыл лысину шляпой.
Повскакали суетливо и бодро. Кинулись к агрегатам. Замелькали в кабинах лицами, рубахами. Потянулись к зароду женские цветные платки.
Заколотило железом в железо. Затрещало моторами. Задымилось, заелозило. Стало расцепляться, разъезжаться, выворачивая высокие колеса. Выруливали дребезжащие грабли, похожие на стальные петушиные хвосты. Грохочущими железными бочками выезжали копнители. Крутились барабаны, месили зеленое сено, будто тесто, и на дальнем краю луга подымался, румянился стог. Укладчики жадно хватали клювами мохнатые ворохи. И все это скопище, вращая перепонками, крыльями, поднялось, рассыпалось по лугу, начиная трескучую карусель, покрывая собой крики, блеск глаз, потные, обращенные к небу, лица.
«Хорошо так-то вот!» — думала Антонина, колыхаясь на пружинящей вершине зарода, уклоняясь от шуршащих зеленых охапок. Отшлифованные о траву стальные зубья укладчика выскальзывали из копны. Антонина чувствовала мокрым лицом жжение лучей и трав, ликовала в работе, соединенная в ней с другими. И не было упреков, нареканий, незнания себя. А катилось солнечное колесо через реку и луг, поднимая ее на огненный обруч.
«Хорошо мне!» — повторяла Антонина.
Сенокос растекался по лугу, захватывая его живую, мятущуюся ширь. Косилка плыла среди вспышек травы, нанося удары в зеленую грудь луга. И луг начинал шататься, падал. Происходила мгновенная под солнцем смерть трав, их высыхание. В сброшенной зеленой рубахе бились, не в силах выпорхнуть, бабочки и стрекозы. На голой березе, зорко выглядывая, нахохлились два стервятника.
«Так бы всегда оставалось!» — думала Антонина, выносясь в работе на яркую вершину дня. Другой зарод вырастал рядом с первыми, и в них, как в ворота, лилась застекленная Обь и на ней самоходка.
Возвращались к обеду на берег измученные, опаленные. Впереди Антонины устало, повязанная темной косынкой, шла, глядя под ноги, на срезы травы, мать Сергея. Двигались вместе, молчали. Та обернулась, чувствуя за собой Антонину, подзывая ее молчаливо.
— Тетя Груня, постойте, — заторопилась та. — Что-то у вас в волосах зацепилось…
Осторожно выпутывала острую сухую колючку, поражаясь, как потемнело и ссохлось ее недавнее бело-румяное лицо, как побелели ее темно-густые волосы.
— Тонечка, Тонечка, — Сергеева мать устало вышагивала. — Не судьба нам была с тобой породниться. Все на тебя как на сноху поглядывала. Думала, съедемся… Телку уж сторговала. Считала, кого приглашать, у кого столы занимать… Сереженька больно тебя любил… Спит он, моя кровиночка, в сырой земле, а я, старая, по солнцу гуляю…
Споткнулась и охнула, стала руками выпутываться из чего-то невидимого. Антонина ее подхватила.
…Обь давила на берега половодьем. Отламывала кручи с деревьями. Срывала причалы. Топила острова, сливая протоки в одно слепое, не имеющее очертаний движение.
Спасали скот, гулявший уже на откорме по зеленевшим островам. Снарядили баржу и паром, сцепив их тросами. Загоняли на палубу одуревшее стадо. Буксировали в протоках. На стремени порвало трос, и паром, груженный коровами, повлекло по течению, и животные метались, крушили рогами поручни и начинали падать в воду, тонули захлебываясь.
Сергей, помогавший на барже мотористу, кинулся в лодку, захватив оборванный трос. Но первая крутая волна вывернула лодку мотором вверх, накрыла все пеной…
И играл под дождем оркестр. Стояли люди на кладбище. Мать все кидалась к сыну, целуя руки, лицо. А она, Антонина, без слез смотрела на неживое, измененное в смерти лицо и видела его недавним и шепчущим. Думала сквозь медные вопли: «Почему беда выбрала его среди всех?»
И теперь, стоя на лугу, держа в руках сухую колючку, смотрела на Сергееву мать:
— Тетя Груня… Вы не смотрите… Если бы только… Да что же это такое!.. Да что же это такое случилось!..
Побежала, а та смотрела ей вслед.
Она убегала от выкриков, стуков косилок, от ее провожавших глаз. Забивалась в болотное, не знавшее косы разноцветье.
«Может, не со мной, не меня?.. Или чтоб сгинуло все и исчезло…»
Проваливалась ногами в булькающий светлый холод. Остановилась у старицы, топчась на топких кочках.
«Опомниться мне, опомниться… В чем я таком виновата?..»
Стояла в сочном, пахнущем месиве трав, цветов, гудящей тьмы насекомых. Белые, душистые метелки дремы сгибались от тяжести бронзовых жуков. Трехгранная осока тихо посвистывала на ветру. Краснели соцветия татарского мыла. Топорщился черноголовник, перепутанный лиловым войлоком мышиного горошка. Могуче, в два человеческих роста, выпирали дудники, растопырив зонты. Все кишело комарами, мошкой, одуревшими от жара слепнями. В ленивой воде вспыхивали серебряные рыбины. Все двигалось над напором солнца и влаги, травяного сока. И была в лугах нетронутая непомерная сила земли, реки и цветения.
Антонина медленно брела в туманах пыльцы, неся в глазах бесчисленные блески и тени.
Луг оборвался. На содранном голом торфянике с запекшимися следами гусениц, среди груд перепрелых корней, черный, огромный, уходя на две стороны в бесконечность, лежал газопровод. Круглился боками, будто всплыл из болота, выдавленный подземными пузырями и силами.
Антонина приблизилась к нагретой солнцем трубе. Две желтогрудые птички вспорхнули и стали виться. Она прислонилась щекой к железу. В стальной пустоте гудело, струилось отделенное от нее пространство. Уходило, утончаясь, в прорезь болота и леса, в синий прогал реки, за проблески кораблей, самолетов, где другая, неизвестная жизнь подхватывала эти гулы и вздохи.
И лицо Петра, заслоняя другое, исчезнувшее, встало перед ней, словно вышло из железа наружу. Он, огромный, в металлической негнущейся робе, оседлал эту сталь, гнал ее через земли, хляби, дожди. Звал с собой:
— Поедем! О прошлом забудь! На руках тебя понесу! Никто не обидит! Словом никто не напомнит! Люблю тебя!..
Она слушала его призывания. Труба могуче гудела. И она, соглашаясь, шепча, прижималась к железу губами.
К вечеру, вернувшись домой, усталая, красно-горячая, дождалась, когда выйдут мать с отцом. Взяла разукрашенного глиняного петуха, пошла за деревню на гору, где малиновые, голубые, зеленые толпились на закате кресты, кудрявилась бузина и под свежим рубленым столбиком с жестяным венком и звездой лежал умерший жених. Могила, засеянная летучими семенами, уже опушилась.
Хотела повернуть и расстаться, но еще задержалась.
Обь сквозила в красных кистях бузины. Облака толпились на заре. Петух драгоценно мерцал рубиновой бровью. И здесь, под землей, совсем близко, было укрыто дорогое лицо, белый чуб, чуть сбитый в колечки, голубые глаза, рубаха с расстегнутым воротом, с разорванной петелькой. И она, Антонина, вдевала в иглу шелковинку, трогала ему дышащую грудь, ловя воротник.
— Пришей. А то матери некогда…
— А ты наклонись.
— Вот так?
— У тебя даже ворот в траве. Говорила тебе, не надо…
— А у тебя вон рукав в зеленом…
— Говорила тебе, оставь…
— Да, ладно, все равно тебе новое платье шить. Из города тебе привезу…
— А кольца закажешь?
— Конечно. И сережки куплю.
— Сережка мне купит сережки! Посмотрим, какие… А что у тебя руки в смоле?
— Да лодку новую строил. Старую-то унесло в половодье. А эта готова, смотри…
— А как назовешь?
— «Тоня», в воде не тонет… Садись-ка да петуха захвати…
Он сел на корму к мотору, поставив петуха на мыс. А она улеглась на дно, на сухие травяные охапки. И вынеслись на разлив.
Они правили в ширь и плескание. Мимо прошел пароход, оклеенный афишами, буквами. Там играла музыка, что-то кричали в медный начищенный рупор. Проплыла корова, блеснув в полутьме рогами. Зеленая ольховая ветка чиркнула листьями о борт. Пронесло перевернутую худую ладью с одинокой, застывшей чайкой. Пролетело, белоснежно мелькнув, пушистое пернатое семечко.
Шире Обь и темней. Блуждание зарниц и радуг. И там, где бело от звезд, в соляном мерцании, возник остроклювый петух в алом шуме и вихре. Прянул с неба на лодку. Уселся рядом с первым. И оба они забились красными молодыми крылами…
Очнулась. Земля холодна. Обнимает ее руками:
— Сережа, Сережа мой! Прости меня!
Тишина…
— Никогда тебя не забуду! Никуда от тебя не уеду!
Все тихо…
— Как тетка Луша, век буду верной! Милый ты мой Сереженька!..
Глиняный петух смотрел на нее не мигая.
…Они встретились и шли за деревней по раздавленной вездеходами дороге. Поселок газовиков в стороне, невидимый за елками, урчал моторами, звякал железом. Сквозь вершины светила ярко-льдистая лампа. Там тракторы грузили на баржи вагончики. Поселок готов был сняться и исчезнуть, оставив развороченный грунт, обрывки тросов и стальную громаду газопровода.
— А я уж волновался. Думаю, что случилось… Все прошли, тебя нет. Хотел бежать узнавать. Потом слышу, идешь… По шагам тебя узнаю… Так что же ты мне скажешь, Тонь? Решила? Поедешь со мной?
Молчала. Только скользила глазами по лунному, синеватому облаку, по реке, по спуску к воде, где у пристани светился, мигал приставший плавучий театр.
— А я тебя видел сегодня… Доваривал шов на капоте. Маску снял, чтоб ловчее, а то шовчик малюсенький… И как-то слезы нашли от света, и будто ты стоишь… Колька Семочкин мне говорит: «Что застыл? Кого увидал?» А что я ему отвечу?.. Тонь, не молчи, решайся! Зову тебя!..
Не отвечала. А смотрела, как лупа выкатывается из-за облака и за Обью, на всех лугах, ложатся легчайшие свет и тени. Обь с островами, покрытая тенью, неясно синела, чуть мерцали озера и старицы, и там, казалось, громче кричали птицы, распускались цветы на болотах. А другая половины земли сияла водами, росами, лежала в разноцветных туманах. Там одно за другим загорались озера. И хотелось в этот свет пойти, побежать по лунным лугам, в своем неведении и предчувствии огромной, конца не имеющей жизни, в тайном знании о всех концах и началах.
Она тянулась туда, исчезала. А он все просил:
— Тонь, ну скажи!.. Ответь!..
* * *
Мертвые бабочки пестрым мусором лежали на газетном листе.
— Они не дают мне покоя, — сказал Ковригин, склоняясь над ними, шевеля их своим дыханием. — Умница, что их собрала. Сколько их сюда занесло!..
— Листопад да и только, — ответила Ольга из дальнего угла, следя за Ковригиным. — Мне было жаль их выкидывать.
— Я увлекался их собиранием. Во все путешествия брал сачок и коробки. Многих почтенных людей это очень смущало. Скажем, едем в машине, какую-нибудь дискуссию о ресурсах ведем. И вдруг прерываю дискуссию, из машины вон и несусь скачками за бабочкой…
— Почему же перестал собирать? Почему теперь без сачка?
— Да стало жаль убивать… Хочешь, одну расправлю?
Ковригин выбрал ссохшийся, тусклый треугольник бабочки адмирал. Стал готовиться к действу.
Наполнил водой свой серебряный мятый кофейник. Поставил на очаг во дворе. В корабельной, отточенной форме кофейника, от высокой ручки с выбитой пробой к изогнутому носику с малым чеканным клеймом, таилось движение. В страшной дали, откуда приплыл кофейник, сидела большая семья. И теперь в серебре все живут их лица, чуть проступая в огне…
Из кусочка проволоки, отковывая ее осторожно на старом лемехе, изготовил пинцет. Извлек бабочку, легонько сдув с нее пыль. Ольга следила за движением бабочки у его губ, удивляясь нежности его прикосновений, словно он ее оживлял, возвращал ей дыхание.
— Она перенесла морозы, зимуя в избе. И жару. Она хрупкая, как фреска… Наверно, тронуть ее — и осыплется… Благословясь начнем реставрацию…
Он внес в дом кофейник с кудрявой, бьющей из носика струей пара. Установил на плите, подложив под донце тлеющие угли. Ухватил пинцетом хрупкое тельце бабочки. Внес в пар.
Горячая влага ударила в лопасти, колыхнула. Крылья дрогнули и чуть растворились. В разъятые створки глянула свеже-алая, бархатно-черная тьма. И Ковригину стало горячо и тревожно от этих глубоких, скрытых расцветок. Он держал бабочку в струе пара, поворачивая лепестки. И она вращалась, словно маленькая турбина. Ее энергия сквозь пинцет проникала в руку.
— Теперь она стала пластичной. Хитиновые сочленения утратили хрупкость. Раскрою ее и расправлю… Прямо над нашей головой, над кроватью…
Действуя пинцетом, он вонзил проволоку в проем крыльев, мимо алых углей, проколов слабо хрустнувший панцирь. Боясь дышать, перенес бабочку через пространство избы к источенным жуками венцам. Пинцетом раскрыл, словно крохотную книгу. Ее страницы распластались по дереву. И он соединил древесную твердь и крыло. Распинал бабочку, и она экранами крыльев посылала в него лучи. И он их ловил зрачками, губами.
— Посмотри, — сказал он, подзывая Ольгу. — Какая в этих пластинах огромная сила! Чувствуешь? В их бестелесности страшная тяжесть. Гора металла, расплющенная до фольги. Миллионы тонн земного вещества, утонченные до микрона ударами звезд… Присмотрись, присмотрись… В ней чудятся переливы зорь и ночей. Резьба исчезнувших трав. Оттиск прошедшей на грани творения жизни… Это план и рисунок земли, только в миллион раз уменьшенный. Вот, смотри, рельефы гор, оранжевых песков, ледяные полярные шапки… Смотри, вот здесь мы встретились, где земля красна от окалины и степь вся выжжена, заржавела… А вот жилка Оби, по которой плывут теплоходы, с чуть видными перемычками стальных мостов под Новосибирском и под Сургутом… А вот здесь — наша изба с капелькой огня в печи… А вот наш путь к северу, к черноте нефтеносных пластов, в копоть ГРЭС, буровых… Ты видишь, какая подробная карта?
Булавкой, словно крошечной указкой, он трогал ее зубцы и узоры. И Ольге чудилась в бабочке сетка меридианов, названия земель, вспыхивающие под тончайшим острием.
— Расскажи о своих путешествиях, — Ольга не спускала глаз с бабочки, чувствуя кружение, вовлеченная во вращение земли. — Где ты бывал… Проведи и меня за собой…
— Здесь написаны, уж не знаю кем, все мои прошлые маршруты. А если вглядеться пристальней, то и будущие. Все концы и начала. Вот от этого и станет не по себе…
— Хочу туда, в ее крылья…
Она коснулась булавкой резного отростка на нижнем крыле:
— Что было с тобой вот здесь?
Бабочка — маленький слайд, вставленный в окуляр аппарата. И на нем — пенная соль океана. Потухший курильский вулкан в черно-кудрявых деревьях. Самолет уносит на крыльях туманные, жужжащие солнца. Он, Ковригин ступает по штампованному, нагретому железу покинутого аэродрома. Сквозь ржавые круги и квадраты — зеленые перья бамбука, слюдяное скольжение змеи, запахи неведомых трав. И среди расколотых фюзеляжей, в белых лепестках алюминия, два бычка, одурев от страсти, бьются, бодаются в солнечной слюне и поту, и Япония через океан раскрыла над ними снежные зонтики гор, и ветер с Хоккайдо шевелит верхушками бамбуков.
Это было так остро и радостно, до пряных дурманов травы. Вернулось к нему, пройдя по огромным кругам. И он был благодарен ей за это возвращение вспять.
— А тут? Что ты видел вот тут?..
И в ответ Амур тяжело колыхнул белоснежный корабль. Он, Ковригин, ежась, в пузырящейся рубахе, пробегает по палубе в стекло и никель рубки. Синий взгляд капитана. Вечерние, перламутровые струи воды, омывающие отмель протоки. Выпаханный, занесенный песком старый японский дот. И далекая китайская джонка, перепончато-розовая, невесомая, парящая над своим отражением. И такое чувство небес и огромной порубежной реки, своего бытия, сносимого вдоль кромки границ.
Это вернулось, оглянувшись его собственным, нестарым лицом. И была необъяснимая связь между ним, настоящим, и бабочкой, и касаниями Ольги. Они были вписаны в треугольник, составляли единство, смысл которого от него ускользал.
— Ну, а здесь, где краснеет пустыня?..
Она чувствовала свою власть над ним, посылая его через столько лет обратно, возвращая ему его молодость, проводя по былым дорогам. И хотела, чтоб он на них не споткнулся, чтобы власть ее была доброй. Чтобы там, в его прошлом, было ему хорошо.
— Вот сюда, где краснеют пески…
Она видела его на ленивой воде канала, и баржа, груженная гравием, проходит в раскаленных песках. Круглятся пыльные юрты. Ревут верблюды, качая зобами, громыхая на них колокольцами. И женщина в красных одеждах откинула в юрте полог. Встретилась с ним узким счастливым взглядом, и он ей кивнул в ответ.
Ольга следила за их мимолетной, разноязыкой встречей через пространство воды, радуясь ей. Видела: рад и он, лицо его молодеет.
Теперь, касаясь белых бусин на крыльях, она проводила его над провалами армянских ущелий, погружая в синеву облаков. Блеск стального водопровода, переброшенного через спину горы. Он застыл, окунувшись по пояс в цветущую вишню, окруженный лепестками и пчелами. У него под ногой резная плита надгробья. И напротив, сквозь вишню, Арарат, удаленный в небо, весь слезится, прозрачно-стеклянный, охваченный чистейшим огнем.
Проделав путь по горам, вернулся в обсерваторию к ночи. Поднялся усталый на башню. Ствол телескопа одноглазо двинулся к звездам. Зрачок. Преломление линз. Голубые спирали галактик. И в гигантском звездном сачке трепещет и бьется бабочка…
Ковригин очнулся. Изба. Падение дождя в темноте. Ольгины руки у него на глазах.
Лисичка
— Нет, Леша, ничего ты не виноват, а просто и сказать тебе не умею, не так мы с тобой живем… Что-то во мне все горело, горело и кончилось. И на донышке не осталось. Не держи меня, все равно уеду…
Колотило водой по стеклам. Лампочка светила вполнакала. Мокрая роба мужа, явившегося с корчевки, висела на гвозде, перепачканная мазутом. Сапоги в рыжих мазках глины стояли у порога на листе газеты.
Полина вытирала полотенцем треснувшую тарелку, чувствуя облегчение от сказанного. Глядела в небритое, угрюмое лицо, в тенях и усталости похожее на вывороченный ком земли.
Он видел ее всю, от босых, упрятанных в галоши ног до мелко завитых волос. Пугался и ненавидел ее за эти слова, приготовленные к тяжелому его возвращению. Хотел, чтоб упала и разбилась из ее рук тарелка. Не знал, чем обидеть больнее.
— Поезжай, крутани хвостом! Свеженького захотелось? Люди мы черные, по пуп в грязи… А ты се чистенького отыщи! С им интересней! Ты на курорт поезжай, там их много! Отыщешь!.. Только сперва сама отмойся. А то сама на чушку похожа. Это мы тут не замечаем, глаза залепило. Для нас и такая сойдет. А те носом вертеть станут. Отмойся, отмойся!..
Она слышала его клокочущий голос, лютые слова, старалась вспомнить его таким, каким перед ней появлялся, меняя лицо, все ближе и ближе к этому, темному, с красными белками, с вывороченными бранью губами.
— Да куда ты одна подашься? Че ты можешь одна? — скалился он. — Кто тя станет кормить-то, за какую красу? Я тя поил, одевал, горбил на тебя, а ты мне вон что за мой-то кусок! Чего ты умеешь? Посуду грязную мыть? Цифирьки в тетрадку ставить? Да если б я главного инженера не уломал, он бы тебя учетчицей сделал, как же!.. Ты ж неумеха, раззява!..
Она видела другое лицо, успокоенное, чуть румяное, под высоким пыльно-серебряным пологом с пупочками увядшей травы и бледным пятнистым солнцем. Приподнявшись над ним, уснувшим, боясь разбудить, целовала воздух над его губами и веками, над белым прохладным лбом. И кто-то, звякнув кольцом, прошел через сени.
— Мы вам цену знаем, не держим! Сгиньте отсюда… Одни в болотах тонут, жилы железом рвут, а другие на тепленьком песочке полеживают!.. Я бы тебя с собой на войну не взял, — продала бы… Таких, как ты, к стенке ставили… Витька Морозов бабу свою хорошо учит! Синенькие рублевики под глаза наставит, глядишь, успокоилась, носит… Чуть сошли, снова… Такой подход, понимаете!..
Он целил в ее глаза, будто замахивался. А она в прозрении видела его под больничной матовой лампой после катастрофы на тракторе, с черными от боли, ищущими ее повсюду глазищами. Находил, и вся она отражалась в его страдании. Шептала ему и гулила, убаюкивала, брала на себя его боль. И он затихал, благодарно держа ее руку…
— Чего тебе не хватает? — вытягивая немытую, в размотанном шарфе шею, спрашивал он. — Денег? Полно на книжке… Вкалываю как зверь. Тряпок тебе надо? Погоди, все будет! Еще годок повкалываю, — машину купим. Уедем… Хошь, под Ставрополь, в винсовхоз, там у меня есть адресок. А хошь, под Фрунзе, тоже местечко фруктовое. Дом купим. А с машиной на фруктах всегда окупится. Для тебя же стараюсь… А ты вон мутишь чего-то… Ну чего, чего не хватает?
Уже не было злобы, а лишь недоверие и угрюмое непонимание. А в лице — тяжелое, обращенное к ней ожидание. Какой-то кивок головы, движение небритого горла — и вспомнила, как вернулся нетрезвым, упал на постель с ссадиной во весь лоб. Бормотал ей и каялся, кому-то грозил и винился. Она, в его винном дыхании, раздевала его, обмывала разбитый лоб. Укладывала в чистое. Выдавливала и цедила сок из квашеной капусты, выливала в его чмокающие губы. И он охал во сне, вскрикивал и махал кулаком. Она, складывая на груди его руки, видела рядом беззащитный большой кадык.
— А помнишь, что говорила? Под пологом что говорила?.. Клялась: «С тобой — на всю жизнь! Век тебя не оставлю! Куда хошь за тобой пойду!»… Это забыла? А я те верил. Верка Майорова как за мной бегала? Не ее, а тебя взял. Думал, помнишь, чего обещала. Что ж, тебе память обрезало?..
Он тоскливо круглил на нее зрачки, светившиеся далеким, чадным огнем. А она, все в том же непонимании себя, не откликаясь ему, не жалея, вспомнила, как, вернувшись однажды, увидела его, плачущего, с большим мокро-дрожащим лицом. В руках — конвертик с письмом: его мать умерла.
— Поль, погоди, одумайся!.. Погоди подавать заявление… Куда поедешь? Сколько прожили. Опять не накопишь. Одна жизнь-то, короткая! Люблю тебя… Пропаду я здесь. Пить начну. Или в ров какой кувырнусь. Поль, а Поль!..
Он тянулся к ней, постаревший, нескладный в штопаном свитере, измятых штанах, в сырых шерстяных носках. Трогал около нее пространство черной замасленной пятерней. А она уклонялась, сторонясь его слов и движений. Положив на стол оттертую до белого блеска тарелку.
— Нет, Леш, не проси меня, не держи… Ничего я к тебе не имею, а что-то в нас обоих неладно. Не могу я больше. Что-то во мне пропадает. Не так мы живем, а иначе и жить не умеем… Ты уж меня не держи, я решила…
Они стояли не касаясь друг друга под тускло красневшей лампой. Дождь колотил о стекла.
Механизированная колонна мелиораторов угнездилась на краю поселка, растолкав мелколесье, врезавшись домами и техникой в глину и топь.
Полина ожидала в прорабской, когда уляжется утренняя толчея вокруг главного инженера, чтобы отдать втихомолку заявление об уходе, — без лишних глаз, разговоров.
Машинный двор после ливня блестел водой и мазутом. Изношенные тракторы, без гусениц, с проломами в радиаторах, чернели на цветных подтеках бензина. Два бульдозера разворачивались осторожно в тесноте механизмов, выбираясь наружу. Желтый экскаватор, качая стертым ковшом, колыхался рывками на плоских подошвах, и экскаваторщик сквозь грохот кричал и грозил кулаком из кабины.
Она видела Алексея, погрузившегося в корчеватель, утонувшего в черном железе, серую едкую гарь его двигателя. Подумала о нем отчужденно, отпуская подальше. Туда, где на кромке поймы корчевали гиблую гарь, выпахивая скользские горы болотного зловония и тлена. Терпеливо ждала инженера.
А тот, седой, остроносый и яростный, нацелился гневно на мастера, выкрикивал, тыкая пальцем в окно:
— Ты смотри, черт те что у тебя на дворе творится! Лом у тебя или техника? На самом ходу бросаешь! Поехал, не так развернулся, и к черту!.. Ненавидите вы ее, что ли, технику? Она же тысячная!.. Я с тебя за нее спрошу! Я с тебя по копейке вычту! Я тебя под суд отдам!
— Все к черту брошу! — орал в ответ мастер, выпячивая перепачканные химическим карандашом губы. — Все только и знают: мастер, мастер!.. Ты ночи не спишь, болеешь душой, а тебе хрен благодарности! Рабочий с одной стороны долбит, начальство — с другой!.. Ищите другого мастера, а я опять на бульдозер сяду!.. И заработаю больше, и нервы сохраннее будут!
— Нет, ты у меня за нервы не спрячешься! Ты у меня тут поработаешь! Я тебя научу работать! Я вас технику беречь научу! Вы как здесь, на дворе, портачите, так и в пойму лезете! Там черт те что накурочите!.. С буковки вас переучивать стану! Как шапку носить!..
— Как шапку носить, мы знаем!
— Да, знаете!
— Знаем!
— Как же, знаете вы…
— Знаем…
— Уж вы-то знаете…
— А вот знаем…
Они стихали, ворча, отходя друг от друга.
Полина хотела подойти с заявлением. Но в прорабскую сунулся парень в военной форменке, в кирзовых сапогах.
— Я к вам, Владимир Григорьевич…
— Чего тебе?
— Как же, все вашими обещаниями кормимся… Сюда ехал, в газете писали: богатые перспективы, новая техника! А вы нас на лом посадили. Я в армии ракетовозы водил. А вы мне списанный трактор! День ползает, два на ремонте простаивает! Чего я на нем заработаю! Все новые трактора старички разобрали, а нам, молодежи, рухлядь… Не годится. Мы промеж себя толкуем: еще поглядим-поглядим и уедем… Зачем же тогда писать, в заблуждение вводить?
— Ты погоди, в заблуждение! — перебил инженер, укрощая его и тайно любуясь его молодой, смелой силой. — Толкуют промеж себя, нечего сказать, важные птицы… Вы думали, приехали, и вот вам все готовенькое, по красной дорожке? Ты человек военный, должен понимать положение… Нам вон в войну в Белоруссии трактора ночью выгрузили, а куда — впотьмах не видали. Они за ночь в болото ушли с головкой. Мы их пальцами из болота выковыривали да под бомбежкой ртом продували, голыми руками перебирали и для танков насыпь построили… А вам, вишь, трактор отремонтировать трудно на крытом дворе со всеми удобствами!
— Я не ремонтником сюда нанимался! А вы старичкам всю технику!
— Верно. Они, которых ты старичками зовешь, по десять лет в мехколонне. У них семьи, детишки. Их я должен в первую очередь заработком обеспечить, дать фронт работ… А у вас время терпит. Обвыкнитесь месяц-другой, покажите, на что годны. Мне к октябрю десять новых единиц техники присылают. Тогда уж вам в первую голову.
— Вы и тогда и мне, и Мартынову обещали… Теперь не забудьте!
— Не забуду я вас с Мартыновым. Я о вас, Егорушкин, помню…
Парень, повернувшись на каблуках, вышел, подхватив за порогом кувалду. А Полина удивлялась, как по-разному с каждым говорит инженер. И хотелось положить перед ним заявление и видеть его огорчение. Услышать расспросы: почему, с какой стати? И открыться ему, постороннему, образованному, знающему цену людям. Пусть выслушает и подскажет: как жить? Чего ждать за всеми дождями, моторами, получками, за таянием сил и старением? За неясным беспокойством и мукой, ожиданием бог весть чего? Что из всего родится? Пусть обнадежит, научит…
Но вошел начальник участка, маленький, коротконогий и сизый, в приплюснутом на брови берете. Сунул инженеру лохматую синьку, накрыв остальные бумаги. Стал требовательно жаловаться:
— Я, Владимир Григорьевич, торжественно обещаю: график сорвем и со сдачей запорем!.. Вы мне вовремя труб недодали, тристадвадцатку? Насосные передвижки, об которых вам обзвонился, где? Экскаватор траншеи нарезал, мне бы дренажи заложить да закрыть. А вы бульдозер назад отобрали к Манько! А вчера дождь прошел, и залило траншеи!.. Нет, Владимир Григорьевич, я торжественно вам обещаю: мы со сроками сядем!
— Ладно, Кузовкин, постой, — мягким голосом ответил инженер, оглядывая насмешливо и любовно берет блином, сизый нос начальника участка. — Мы у тебя вчера были. Хорошо у тебя, красиво. Травка, как изумруд! Скоро коровок пустим… Я любовался, думал: а ведь колебался — ставить или нет тебя на участок? А теперь вижу: правильно, что поставили, не ошиблись…
— Да тяжело, Владимир Григорьевич, не успеваю, — пробовал тот и дальше жаловаться.
— Успеешь, Кузовкин, я знаю. Ты молодец! Инженер, грамотный, свой же диплом проверяешь… Это пастбище твоим именем назовут, колышек вобьют… Насосы сегодня получишь. Их уж небось цепляют… Ребят мобилизуй на откачку… Бульдозер у Манько день-два побудет — и опять твой. Мы эту систему, кровь из носу, а должны до зимы опробовать. До морозов воду спустить. А весной коровок запустим… Будем молочко пить… Сегодня опять у тебя буду.
Он склонился над синькой, слушая терпеливо Кузовкина.
А Полина, глядя на его густую, ежом стоящую седину, на жадно-счастливое выражение, с каким шарил глазами по синьке, думала: «А знает ли он о моем? А меня-то научит?.. Ой ли!..»
Бьется до поздней ночи, мокнет в дождях, пропадает на топях. Наспех глотает обеды в рабочей столовке. Два дня ходил с порванным рукавом, а потом явился с цветной заплаткой, с самодельным наложенным швом. Недавно прилетела к нему жена, красивая и худая, с высокой, блестками пересыпанной прической, и сын, молодец хоть куда, студент. Гостили неделю. И лицо инженера было в это время иным, без жадной, цепкой горячности, а умягченное, помолодевшее и рассеянное. А потом жена и сын улетели, и он их провожал к самолету, неся букетик болотных цветов. И после ходил угрюмый, постаревший сильнее прежнего, желчный, пока не втянули его обратно в свой лязг и уханье железные ремонты, летучки, гонки по болотам и пастбищам.
Он-то чему научит?
Она дождалась, пока выйдет начальник участка, и хотела сунуть свое заявление. Но главный инженер сам шагнул к ней навстречу:
— Вот что, Полина! Послезавтра комиссия из области. Потребуют точную сводку… Ты сейчас ступай на участки, прими все что есть. К вечеру мне доложишь… Вон Клюковкин на бензовозе тебя до корчевки подбросит, а там уж дальше пешочком… Да, у своего будешь, всем им скажи: пусть в кулисы не лезут, корчуют ровную гарь… Так что давай обойди!
И выскочил, догоняя сварщиков, волочивших тележку с баллоном. А она осталась, мусоля написанное заявление.
Гарь топорщилась пнями, в колючем блеске воды, опушенная проседью иван-чая. Разрозненно ползали корчеватели, скрывались за грудами гнили. Поднимали негромкий рев, переходящий в скрежет и треск, в крушение вывороченных корней и стволов.
Полина, вымеряя участок, считала шаги, твердо и крупно ступая по следам гусениц. Огибала синие, нефтяного цвета лужи. Заносила цифры в тетрадь. Искала рассеянно, где среди тракторов работает Алексей. Старалась вызвать в себе теплоту. Не могла. Чувствовала пустоту, равнодушие.
Хотела представить, как пепелище, растревоженное ударами двигателей и ее легких шагов, обратится через срок в бархатные квадраты зелени, с продернутыми в глубине водяными сосудами, с фонтанами поливальных машин, с ленивым движением стада.
Но это виделось неясно и смутно.
«Вечером отдам, — думала она о заявлении, о сборах в дорогу, еще не зная, куда и как, самолетом ли, теплоходом, но уже стремясь и освобождаясь. — Чего им меня держать? Отпустят… Невелика птица…»
Черпнула сапогом гнилую воду, захолодившую сквозь портянку стопу. На ходу разглядела в луже свое отражение — большое, со стершимися чертами лицо, перетянутое косо платком. И стало больно и горько. Захотелось вспомнить прежнюю, разноцветную радость на губах и щеках, обращенную медленными бездушными силами: дождями, дорогами, ссорами, заботами о хлебе насущном — в это тусклое большое лицо.
То облако грозовое, несущее ком серебра. Зерно на току, накаленное, кипит от ударов ливня. Она, торопясь, скользит в языках пшеницы, наволакивает полу брезента, а ветер выдирает хлопающую ткань. Алексей, заезжий молодой комбайнер, хватает конец брезента. Вихрь раздул в их руках огромный дышащий парус, валит с ног, осыпает зерном и ливнем, грохочет огнем в синеве.
Вот лежит она на зароде среди белого пустого жнивья. И в ней ожидание, безмерная высота и гадание. Пролетный самолетик манит ее за край синевы. Она прикрывает веки, гадает на него, Алексея, и снова в блуждании света отыскивает самолет.
Их свадьба в вечерней избе. Окна открыты настежь. Женщины величально поют, глаза их красны от заката…
Полина очнулась испуганно от близкого дрожания мотора. Корчеватель с ковшом нагонял ее, лопатя грязь гусеницами. Алексей за стеклом ворочал управление. Застопорил трактор, открывая кабину:
— Садись! Тут топь… Не пройти…
И она подсела на измятые пружины сиденья.
— Инженер сказал: в кулисы не лезьте. Эти площадки подберите, — она видела его скрюченную среди рычагов фигуру в нахлобученной кепке, испытывая неловкость и внезапную усталость от вида его умоляющего лица. — А в кулисы не лезьте, — повторила она.
— Да ну его к черту! У него на дню пять сказок! Тычет туда-сюда щипками… Там хвать, там кусь! А наряд закрывать — пусто! Тут заработаешь! — И, испугавшись своего крика и грубости, сквозь рокот мотора кивнул на ее мокрый чулок. — Залила? Ноги застудишь…
— Ничего, — сказал она.
— Заявление подала?
— Не успела…
Он облегченно нажал на педали, двинул трактор вперед. Повел его напрямик по болоту. Рыхлая гряда заросших дерновиной стволов преградила движение. Он боднул ковшом, снимая колыхнувшуюся, упругую гору, на которой дрожал сырой цветок иван-чая.
Искоса, ловя глазами цветок, она наблюдала напряжение под робой его длинных рук, вцепившихся в рычаги, погруженных в железо. Корчеватель давил в своей слепоте и силе. Лицо Алексея ходило буграми, шея набухала жгутами сухожилий и вен.
И она вдруг подумала: и ему без нее быть когда-нибудь старым. И когда-нибудь ему умирать. И они, разделенные, друг о друге забывшие, исчезнут отдельно. Порознь унесут тот ливень в хлебах, краснолицых баб-величальниц.
Гнилая гора лопнула с треском, как взрыв, разметав осколки. И открылась далекая, затуманенно-серая Обь, баржа, груженная трубами, а вблизи — три корчевателя, сдвинутые тесно, звездой. Трактористы копошились у гусениц.
— Чего там у них стряслось? — выглянул Алексей из кабины.
Все трое пригнулись к земле. Один из них, Откаленко, ухватив руками слегу, бил ею куда-то вглубь.
— Эй, чего там у вас? — крикнул Алексей, выскакивая.
— Да вот, лису вышибаем…
Полина к ним соскочила. Полуразрытая нора уходила в толщу. Валялась замызганная лопата. Топтались сапоги трактористов в свежей земле. Румянилось возбужденно лицо Откаленко, играющего дубиной.
— Гляжу — дыра! Ухо приложил: рычит! Ну, думаю, стой!.. Фуфайкой другой ход забил, а тут копаю… Корень мешает, въелся… Может, так прибить и достать? А нет, солярку подлить, запалить? — спрашивал он белозубо, жадно и радостно озирая нору. — Она близко, видать… Глазищами светит!
Он нагнулся сильной спиной. Нацелил дубину в нору. Частыми ломовыми ударами стал бить в глубину, ахая, выдыхая. И под землей отзывались удары в живое, рычащее.
Полина заглянула в темень норы. И там сквозь мелькание слеги сочно и яростно вспыхивало. Гасло в момент удара. И вновь загоралось. Два рыжих огненных глаза. Лисица, принимавшая страшные, убивавшие ее побои.
— А если еще, то как?.. А если еще, то как? — высвистывал красным ртом Откаленко.
И у Полины померкло, и она, пробежав глазами небо, цветущую гарь, вцепилась с тонким визгом в рукав Откаленко:
— Ты что, черт, губитель?.. Ты что, по живому? Ты что, гад бессовестный?.. А если тебя дубьем? Если твою морду красную?.. Ты Машку свою так бьешь? Детишек своих так бьешь?.. Тебя на доску повесили, рожу твою бесстыжую, а ты тут вон что!.. А ну брось! А ну, говорю, оставь!
Она драла его за рукав, а он, ошалев, стряхивал ее, огрызался:
— Сдурела? Отцепись, говорю, отцепись!
Алексей надвинулся на него угрюмо, вынимая из рук слегу.
— Ладно, хорош, пошумели… Дело стоит… Айда!
И пошел, уводя Полину. Тракторы разъезжались. Полина уходила, поправляя платок, вся в ознобе. Ей чудилась под землей окровавленная, с электрическими глазами лисица.
Одолев овраги и рощу, Полина вышла на соседний участок, где на расчищенных площадях шла нарезка траншей и канав, укладка дренажных труб. Канавокопатель, разматывая черный вихрь фрезы, распарывал грунт, проводя сочный надрез. Трубоукладчик следом нагружал земляную рану тонким железом. Одинокий балок стоял под расколотой, набок сдвинутой елкой. Участковый мастер Иван Воробьев, держа у губ граненый стакан с водой, повернул к Полине белобровое, красивое, смугло-красное лицо, заулыбался глазами, продолжая пить.
— Вишь, как работаем, даже в жар бросает! — насмешливо произнес он, отставляя стакан. — Опять контроль пожаловал? На миллиметры нас станешь мерить? — рассматривал он ее мягко и ласково.
— Инженер сводку готовит. Покажи по плану, что сделали…
И пока разворачивал аккуратную, кусочком изоляции скрепленную синьку, она вспоминала, как недавно видела его за поселком, одного, у овражка, присевшего на упавшую лесину и поющего. Солнце опускалось в тучи за Обь, и он на сосне казался огромным и медным, как памятник, но лицо, обращенное к реке, было живым и печальным. Пел без слов, с нежным рокотанием, вздохами, незнакомую, в нем самом возникавшую песню. И Полине, притаившейся за кустом, казалось: если наделить эту песню словами, то в ней запелось бы о воле, разлуке, чьей-то напрасной жизни, тоскующей бог весть по чему на этих холодных водах. Так и ушла, его не спугнув. А теперь вдруг припомнила.
— Ты проскочи вот тут аккурат, — он провел по синьке крупным, правильной формы ногтем. — А потом приходи, вместе подобьем…
И она зашагала, заглядывая во рвы, где притаились трубы со свежими радужными швами. Думала: что же в ней такое творится? Какой такой жизни она себе пожелала?
Ей представлялась квартира в городе, большая, уютная, с люстрами. Хорошая обстановка. Ковры и дорожки. Представлялись дети, мальчик и девочка, их костюмчики, бег, быстрое мелькание голов. Представлялся муж, Алексей, нарядный, с хорошим, неугрюмым лицом, сидящий за накрытым столом, принимающий гостей и соседей. И их разговоры о хорошем и важном.
Она старалась наполнить свой образ чем-то еще, ускользавшим. Не могла. Мучилась, чувствуя, что картина ее не заполнена. Что-то еще, очень важное, оставалось за пределом всего.
«Ну, а те? А другие? Они-то как? Да хоть бы и Иван Воробьев!»
Иван в поселке самый заметный. В клубе под праздник выпустил стенгазету, расписав ее глазастыми тракторами и такими же глазастыми, красного цвета коврами. Уж год прошел как висит, а все нравится ей, Полине. Если тепло и погода, любил уйти из поселка, от мотоциклетного треска, ложился где-нибудь на припеке, листая книжку, — сколько раз сама наблюдала. Пьяным его не видали. Одевается чисто, мазут и железо смывает. А все один, все один. Вся его красота, аккуратность как бы напрасны. Жаль его, неизвестно за что.
Полина обошла участок, принимая работу, перешучиваясь местами с рабочими, сверяясь по синьке с проведенной ногтем чертой. Вернулась в балок. Мастер кивнул ей обрадованно:
— Смотрел за тобой. Думал, вот Полюшко-поле, как цапля, болота мерит…
Она, готовясь говорить о делах, вдруг спросила:
— Иван, а чего ты один, не женился?
— Я-то? Да так пришлось, не случилось, — без удивления, охотно отозвался тот.
— Ты же мужик-то ладный, характер мягкий. За тебя б любая пошла.
— Да вот одна не пошла. За другую я не пошел. Так и вышло.
— Что же, и будешь один?
— Вроде да.
— Ты же грамотный, умный. Я вон слушала, как песню поешь. Чего ж так жить? Надо бы по-другому…
— Меня осуждаешь?
— Да нет. Думаю, надо бы по-другому нам жить, а как, не знаю… Вон Откаленко на корчевке колом лису бил… В кровь… И радовался…
— Откаленко — дурак. Ему скажи: бить надо, и будет бить. А скажи: Откаленко, отдай свою кровь, а то доноров не хватает. И он те сцедит до капли.
— А ты-то жизнью доволен?
— Человек разве будет доволен? Им довольны, а он никогда.
— Вишь ты, умный! С тобой говорить хорошо, — улыбнулась она, удовлетворенная складностью, глубиной произносимых речей. — С тобой, вишь, как хорошо…
— А ты приходи ко мне, хоть сегодня. С твоим-то Алехой что за веселье!.. Ко мне приходи. Свет зажигать не стану и дверь не запру. Приходи! — Он обнял ее, приблизив красивое, в улыбке лицо.
— Что ты! Что ты! — ахнула она огорченно, испытав испуг и мгновенный горячий стыд: вон как он ее понимает! Вон как со слов ее охаял Алексея! И, разочарованно, зло отшатнувшись, вышла. А Иван следил за ней из балка ласково и туманно.
Готовые к сдаче пастбища, оправленные в аккуратную кромку изгороди, светились сквозь березняк синеватой, холодной зеленью. Будто привезли, раскатали зеленые рулоны, разрезав на квадраты, застелив ими недавнюю топь, рвы с железными трубами, всю измызганную, иссеченную землю. Поливальная установка хрупко занавесила небо стальной паутиной и бледным водяным разноцветьем.
Полина обошла две проходящие обкатку насосные станции. Рабочие исправляли кирпичную кладку, замуровывая выход трубы. Но сами насосы качали исправно.
Среди обрызганной, блестящей травы был открыт чугунный люк, обнажая скрытую подкладку пастбища: сварной изгиб водопровода, вентиль, шипящий мелкими струями. Из люка, упираясь острыми коленями и локтями, перепачканная ржавчиной, выскочила Варька Морозова. Увидела Полину, заулыбалась, завертелась суетливо, по-птичьи нацелясь веселыми сорочьими глазами. Под одним из них красовался свежий синяк.
— А я, вишь, из-под земли!.. Ты чего пришла? На фонарь мой взглянуть? — Не стояла она на месте, притопывая, потирая ладони. — Очень, что ль, видный?
— Да с того края заметный…
— А, ерунда! Сойдет!.. Сама виновата. Мой-то, Витька, вчера пришел, полполучки принес… Ну, думаю, буду пилить! А он не любит, страсть!.. Нет, думаю, буду пилить. Не ходи! Не шатайся! Не пей! Пол не марай сапожищами! Аванс домой приноси!.. И пилю, и пилю… Ну и допилилась. Да он потом сам же плакал, прощения просил. Под глазом мне рубль держал юбилейный… Через день сойдет!..
— Легкая ты, Варька! У тебя все сойдет. Позавидуешь… Как дочка-то?
— Хорошо. В интернате. Пишет: мамка, приедь!.. Гостинцев накуплю, в воскресенье поеду.
— Скучаете?
— А то не скучаем?.. Да, правду сказать, и скучать-то не больно есть когда. Ей — учиться. Уроков, говорит, задают полно. И я все бегом, бегом. Тут, на поливе, закончу, в клуб убираться. А потом мухой домой лети. Сам-то любит, чтоб к приходу его поджидала. Он ведь хороший, Витька…
— Да у тебя ить не первый…
— Да третий, если так-то считать. До Витьки была за Сашкой, за шкипером. Больно пил, ушла. А до него за лесорубом, за Федькой. Того на лесопункте сосной придавило.
— А кого больше любила?
— Да всех!.. У мужиков что? Чтоб еда была вовремя, одежа чистая и в праздник — бутылочку. Одинаково всем… Но, по правде сказать, веселей всех шкипер был. Пил, гулял! Во всех портах по Оби от Омска до Салехарда! Повеселились!.. Скучаю даже… Сегодня театр приплыл, пойдешь? На поселке афишки расклеили. Какой-то спектакль казать будут, про партизанов, что ли…
Осыпалась с неба серая, чуть подсвеченная радугой водяная пыль. Варька двигалась птичьим скоком, дергала сорочьим зрачком. Полина смотрела в синие, холодные травы, думала: «А может, и впрямь так надо? Легко, по-птичьи. Кинуть все — и пойти, и поплыть, полететь без оглядки по людям, по землям. Одним днем, одним скоротечным дыханием. Примут — не примут. Приголубят — обидят. Запомнят — навек позабудут. Как цыганка в красной накидке…» Может, и жить, как в спектакле, который смотрела давно с Алексеем в первой их молодости. Сцена в лучах и сверкании. Цыганские сарафаны и платья.
Алексей разбранил спектакль. Сказал: вранье, не бывает. А она-то знала: бывает. Только не с ней, с другими. Надо другой родиться. Цыганкой в красной накидке…
— Что я тебя хотела спросить, — тронула ее Варька за локоть, — не дашь до получки десятку? Любке купить гостинчик… А то Витьку попросишь — не даст. Скажет, со шкипером народила, пусть шкипер и платит… А ей сандалетки красные нравятся, как раз лежат в промтоварах.
— Зайди, я дам, — ответила Полина.
— Я зайду к тебе, Поль…
Обход ее завершался. Заткнув в карман ватника тетрадку учета, она устало брела к большаку, вдоль березовых островков. То ли след самолетных опрыскиваний, то ли ожог близкой осени: в круглых березовых кронах отдельно и ярко желтели ветки. Стадо ходило по пастбищу, черно-белое, ровно отсеченное от соседнего, пустого квадрата.
Полина поклонилась совхозному пастуху Андрею Тихоновичу, долголицему старику с блестящими стальными зубами. Тот ответил своей железной улыбкой, и Полина отрешенно подумала: «Трубы в земле железные, и трава железная, и пастух железный, и коровы ходят железные, носят железное молоко». Но Андрей Тихонович мигал на нее чисто и кротко стариковскими голубыми глазами. И Полина устыдилась своей неверной о старике догадки.
— Спасибо, говорю вам, луга нам сдаете, да… Хорошо, говорю, стало гонять. А то раньше, бывало, там клочок, там вершок. Пока нагоняешь за день, ноги в ремонт отдавай, да… А теперь хорошо! Запустишь в клетку, поглядывай. Лежи, вспоминай. Сгонял на пруды к обеду, опять лежи, вспоминай. Вот так…
— А что вспоминать-то? — спросила Полина, опускаясь устало среди колыхания рогов, блеска глаз, хруста и шороха, и подумала: «Что там, в убеленной голове старика, под трепаным картузом?» — А о чем вспоминать, Андрей Тихоныч?
— Да всяко! — ответил старик. — Камышин, родню свою вспоминаю. Отца с матерью. Как в подпасках ходил. Степь вспоминаю, Волгу… Я с коровами рос, с коровами, должно, и помирать буду. Их лучше людей понимаю…
— Что ж коров вспоминать-то? Так ты их от Камышина до сих мест и гонишь всю жизнь? Небось сколько кнутов перетер! — усмехнулась она.
— Много, много кнутов перетер. А еще больше об меня перетерли, да…
— Как же так, Андрей Тихоныч, об тебя?
— Я ведь, милая, в танках пастушил. Из подпасков да в танковую школу, под Царицын. Стрелком-наводчиком. Там нас гоняли, да… На броню плюнь — шипит. А ты люки задрай, целься, бей. Войну-то я в танке встретил, на польской границе, да…
Пестрая молодая корова приблизилась на звук ее голоса и встала, наставив широкие шерстяные уши.
Командир говорит: «Ты. Бакушев, как ихняя первая мишень покажется, не бей. Погоди, пока хвост увидишь. Потом в хвост зажигательным и в голову — вилку сделай. Зажгешь с двух сторон, а потом колоти по любой!» Я, как он научил, и сделал. Пять машин запалил. Да, видно, заигрался в горячке, да… Не заметил, как он сбоку пушку подставил и в борт мне всадил. Ничего не помню. Помню только, из огня меня вынимают, но уже не свои, а немцы. И танк мой саперными лопатками закидывают. Землей пламя сбивают, да… А танк-то этот тридцатьчетверка. Еще в ту пору секретный, все документы под пломбой… И его, значит, немцы на буксир, тягачом. А меня, значит, лечить, в лазарет. Чтоб потом на допрос о танке…
Полина видела: за головой пастуха на мгновенно вышедшем солнце блестели пруды. На мятый картуз уселся синий жучок. Корова шевелила раструбами ушей, озирала старика по-женски, печально.
— Приводят меня к генералу. Гляжу, по форме — танкист. Ихний переводчик спрашивает: «Какие, говорит, у танка данные? Какая скорострельность? Как в маневре, как в ходе? Разъясни, говорит, некоторые узлы генералу». Да… А я ему отвечаю: «…Ничего, говорю, не знаю. Документы под пломбой. Нам, солдатам простым, знать не положено весь чертеж. Посадили да выпустили. Ничего такого не знаю…» Да… А он: «Это ты врешь неправду! Пять машин поджег! Это надо так знать наизусть! Говори, а не то расстреляем!» — «Нет, говорю, не знаю…» Тут генерал встал да и трахнул меня по бинтам. Начали они меня бить, что дух из меня вон. Думаю, лучше б сразу из нагана пришибли… Но нет, оставили. В лагерь послали…
Полина ему внимала с двойным состраданием. К теперешнему, старому, вспоминающему на холодном лугу. И к тому, молодому, среди исчезнувших мук.
— А они нам сперва похлебку в пилотки лили, а потом перестали. День, три дня, неделю — ничего… Всю траву до земли поели, а через проволоку — луг нееденный, синенькие цветочки. Ну, думаю, пусть застрелят, а выползу, цветочков поем… Выполз, и ну их рвать, и за щеки! А он на меня с палкой! Бьет по чему ни попало, а я глаза сжал и рву цветы-то скорей, сколько выдержу… А ты говоришь, коровы, да… А уж мороз, уж декабрь, да… Барак-то прежде сочился, а тут весь примерз. Все соседи померзли, не дышат. Думаю, моя теперь очередь. Не хочу я тут помирать, а лучше наружу, на волю… Спустился на последнем дыхании, выполз наружу. А на небе-то звезды!.. Лег, лежу, и такие они надо мной синенькие, желтенькие, зелененькие, как у нас, в Камышине, над избой. И так мне хочется еще пожить да на них поглядеть! И дал я зарок. Если выживу, ничего больше не надо, а только жить и на звездочки эти дышать…
Коровы лежали, стояли вокруг, выслушивая исповедь пастуха. Смотрели на его знакомый, им принадлежащий облик.
— А вы говорите, коровы, да… Вы-то войны не видали. Чего вам, живите! Вам только жить да жить.
И он встал, распрямляясь. Махнул рукой без кнута. И стадо, окружив его черно-белым дышащим облаком, понесло к прудам.
Полина следила за их удалением. Лиловая туча, провиснув под тяжестью, просыпалась в прорехи дождем. Закрыла солнце. Лишь в узкую, перстами разъятую скважину били два голубых, серебристых луча. Касались прудов. И там клубились в дыме и свете.
Полина стояла на лугу, одна, под шевелящимся небом, ожидая приближения лучей. Но они замерзли на прудах в отдалении.
Что-то кончалось в ней. Отлетала другая жизнь, с ее молодостью, девичьей надеждой на небывалый свет и красу, с кружением по городам и дорогам, с угасанием и утомлением в трудах. И хотелось спастись, удержаться. Сохранить в себе этот свет. Но не было знания — как?
Лучи погасли. Трава казалась черной. Стадо исчезло в дожде. И вдруг померещилось, что от всех ее мыслей и смут случилось с мужем несчастье. Он, Алексей, переломан, перебит гусеницами, и это она, в желании самой спастись, его погубила.
Она отговаривала себя. Но видела его погибающим. Бежала, накрытая ливнем, подскальзываясь. Выскочила на большак, плывущий в воде и глине.
Ее нагнал бензовоз. Клюковкин, утром ее отвозивший, открыл дверцу:
— А я думаю, кто это бежит, бултыхается?.. Вишь, как счастливо встретились…
— С Алешкой-то что, не знаешь?
— А что? Ничего. Видел, домой пошел…
Они въехали под дождем в поселок. Вышла у дома и, хлюпая сапогами, страшась суеверно, вбежала. Алексей испуганно, напряженно поднялся. И она, как была в сапогах, видя его ждущие, в страхе, в любви глаза на худом, постаревшем лице, опустилась на железную кровать. И слезы мочили ее мокрое от ливня лицо.
— Поля, ты что? А, Поль?..
Он топтался рядом, не понимая. Боялся к ней прикоснуться.
* * *
Весь в пыльном чердачном солнце, теснясь к слуховому окну, Ковригин рассматривал стариковские залежи несметных консервных банок, пивных и винных бутылок. Огромную сорную кучу, тускло сверкавшую, гремевшую при слабых касаниях. Удивлялся: зачем старик скопил эту жестяную и стеклянную тучу над своей головой? Может, задумал, распрямляя банки, покрыть их железом избу? Или по крестьянской природе было жаль стекла и металла, добываемого в трудах? Или закидывал банки на небо, как кидают монеты в реку, оставляя знаки своих пирований, и во время грозы и ветра звенят чешуей под крышей былые застолья?
Ковригин, и сам не зная зачем, выбирал из груды банки. Четырехгранную, из-под американской тушенки, с облупленной красной нашлепкой. Круглую, плоскую, с изображением каспийской селедки. Луженную бронзой, из-под яблочных венгерских компотов. Спускался, держа их в руках, уже прицепившись к ним взглядом, уже затеяв работу, любя их жесть и конструкцию.
— Что, к зиме готовишься? Задумал консервировать ягоды и грибы? — спросила Ольга, наблюдая, как он расставляет банки. — Мне можно начать соление?
Он молча оглядывал банки, наждачной шкуркой осторожно, ювелирно очищая их от ржавчины. Старался не задеть остатков английской надписи, пучеглазую рыбью башку, розовое яблоко. Радовался их начертанию.
— Древняя, высокая живопись. Пусть люди любуются…
— Люди начали уже любоваться.
— Нравятся мне эти банки. Может, двигатель из них сконструировать?
— Отдохни. Пожалей горючее.
— Было время, когда только и делал, что выжигал горючее у всех видов транспорта. Изнашивал карданные валы, винты и колесные пары…
— По-моему, ты и теперь занят чем-то подобным. А меня пригласил в компаньоны! — засмеялась она.
— Жаль, что раньше не мог пригласить. Ты еще в куклы играла. Но я терпеливо ждал, когда ты подрастешь, а тем временем носился как угорелый. Знаю в Союзе каждый бугорок, ручеек. Спроси — опишу!
— И каждую консервную банку. Слушаю тебя внимательно, а все боюсь, как бы руку себе не рассек…
— Я искал тогда парадоксы внутри разнородных явлений. Старался раскрыть не лежащие на поверхности связи… Смотри, какая рыба и яблоко. Все это символы. Библейских времен. Только путеводитель почему-то английский…
— Смотришь на банки, а в глазах игра парадоксов.
— Вот-вот. Я написал в те годы статью о приложении труда. О последних русских кустарях в заволжской глухой деревне, где на хлипких домашних станочках вытачивают матрешек, коней, балалайки. Размалевывают их цветами…
— Они не последние. Вижу еще одного.
— Так вот, я написал о матрешках и об авиационных заводах, где строились межконтинентальные бомбовозы, те, что летают над полюсом. На обоих примерах я рассматривал перемещение готовой продукции…
— Матрешек завозили на полюс, а бомбовозы продавались на рынке?
— Да, да, по сходной цене.
Они смеялись. Ковригину было легко говорить, легко находить слова. Она их сама вызывала.
— Я изучал коммуникации, города и ресурсы. Один из неписанных моих постулатов в том, что народный характер тоже есть область ресурсов. Та драгоценная данность, которая вечно в работе. В тратах и восполнениях. Тот ядерный, горючий котел, которым движется шестая часть суши… В сущности, все мои работы об этом. Я начал их писать в Казахстане. О Казахстане были первые мои выступления…
— Вот видишь, и тогда Казахстан. И теперь. Водит тебя по казахстанским дорожкам под моим окошком.
«Казахстан, — думал он, — бодает рогами уральские кручи. Брыкает копытом Синьцзян. А в зеленых, бараньих его глазах отразилась Европа. Кинулась на него жарким телом. Опрокинула навзничь. Саданула по горлу лезвиями железных дорог. Сдирает пыльную шкуру пустыни. Из бараньего рассеченного чрева вытекают алые и медные реки… Европа их слизывает с пальцев. Разъяла ему череп, и урановый мозг засветился в ее пятерне. Она пьет его горячую кровь и пьянеет от силы. Вставляет ему новые почки — города и заводы. Они на ребрах — как елочные игрушки. Вкатывает в него пружины, валы, колеса. Глазища выворачивает ему в космос. Вкладывает в башку электронные думы. И баран из железа и стали дойдет и обнюхает цветки и колючки Василия Блаженного…»
— А что было после этих первых статей? — спросила она.
А ему вдруг явилось…
То старинное степное кладбище, сухие, прокаленные гончарно мазары, расписанные изнутри, словно белые юрты. Красным и зеленью — ковры и одежды. Желтым — оружие и сбруя. Пустынные зайцы с тихим звоном перескакивали через надгробья.
Все опять повторилось в далеком исчезнувшем солнце. Бензовоз ушел на Устюрт, запалив высокий фитиль розовой пыли. Скелет архара с обочины кинул в степь рогатую тень. Подножие горы дышало теплом нагретых за день могил. И казалось, что это не кладбище, а город, с минаретами, домами и улицами, женщины черпают из арыков блестящую воду, дымятся жаровни, старики вожделенно смотрят на мясо, много ребятишек, собак. Но это кладбище тихо круглилось глиняными куполами и луковицами, и легконогие зайцы звенели в невесомых скачках…
— Я сделал доклад, и меня сокрушили. Приклеили сто ярлыков, как в аптеке на флакончик с ядом. Боже упаси, чтоб не выпили!.. И началось мое великое долготерпение. Мои великое зимование и дрейф, которые были необходимы, как время года. Крона облетает, и наступает среди морозов сверхконцентрация. Эти несколько лет зимования — не дай им господь повториться! — я работал над книгой, оттачивая прогноз и гипотезу. Многие от меня отвернулись, те, кто питался рутиной. Многие громы на мою голову накликали. И была моя голова громоотводом, ловила атмосферное электричество.
— И ты ожесточился?
— Да всяко! Был на грани того. Да видно, ты уже начинала желать мне блага, там, со своими куклами. И этой беды не случилось. К тому же знали и я, и те, кто против меня: все в заблуждении, в прозрении служим одному и тому же. Государственные, что называется, люди. Лоб расшибаем, в порошок друг дружку стираем, а на уме одно — государство… Так уж устроены… Так уж, видно, устроены…
«Да, — думал он без огорчения, а почти с теплотой, вспоминая лица, молодые и старые, многие из которых забыты. — Мы все государственные, служилые люди. И всем, чем заняты днем и ночью, на земле и на небе, служим своему государству. Некогда, во время оно, сжатому в сверхплотный, крошечный свиток, между Звенигородом, Москвой и Коломной. С тех пор мы рождались и умирали. Пели песни и клали друг дружку на плаху. Молились и рожь молотили. И раскатали эту скатерку до трех океанов — расстелили самобранку. Мы сделали это как бы ненароком, случайно, охваченные кто бегством, сомнением, кто поиском обетованной земли. Хотя, конечно, были и стрельцы, батальоны…
Мы и поныне заняты огромной, неусыпной работой на завещанной нам земле. Одни — в одиночку. Другие — в колоннах. Но все равно — всенародно. Наши пляски, а то и ссоры, наши стихи, а то и горькие тризны — несметное богатство, все умножаемое.
Наши могилки, как ласточки, разлетелись на восток и на запад. И мы идем, как весна. Мы заняты домашним делом, но мир слишком нервно поглядывает, как мы корчуем болота или разогреваем моторы на тыловых танкодромах. Но, ей-богу, этот страх от незнания. Мы государственные, служилые люди, ибо так уж устроены наши речушки и луговинки. Наши низкие тучки и церкви, полные колхозного зерна и картофеля. Наши министерства, университеты и склады с вахтерами у дверей. Мы в великих трудах и радениях провели по земле черту, отметив шестую часть суши. И можно твердо верить, что эта черта не сотрется. Мы смотрим в будущее воспаленными от напряжения глазами. И когда одни глаза выцветают, рядом загораются новые. И пока светит на нас из вселенной гигантский прожектор, мы будем чувствовать свою одержимость, нашу государственную принадлежность, стремление к звездам небесным…»
Лица былых врагов исчезли. Оставалось только одно ее лицо.
— А как кончилось великое зимование? Как мамонту удалось уцелеть? — спросила она, трогая рыбу и яблоко, отвечавшие звоном.
— Просто он был не мамонтом, а первым современным слоном. А мамонты и ихтиозавры замерзли. Эволюция в нашу пользу…
— Просто я тебе блага желала…
Банки напоминали детали, отшлифованные до зеркального блеска. Нагретые его движением и силой, улавливали в светлую жесть воду, небо и луг. Голубоватые — наполнялись телесностью от ее близкой руки. Металл старых банок изменился, войдя в таинственную, звенящую связь с его рассказом, ее смехом и голосом. И он радовался этим копилкам, следил за их наполнением.
— Книга, которую ты писал, это та, что с цветком из Брюсселя?
— Ее перевод на французский… Писал ее, сидя на льдине, в полярной ночи, в моей комнатке в Столешниковом. Я тебя приведу, покажу… Копил листочки с каракулями… На машинистку деньги тогда с трудом наскребались…
— Я видела твой почерк. Как зернышки… Бороздка, и сыплются зернышки…
— Проросли быстрее, чем думал.
— Значит, такая всхожесть…
— В Темиртау я следил за выходом плавок. Так умер один сталевар, и бригада о нем горевала. Я думал: надо, как домна, жить… В тебя валят грубые руды, обломки скал, всякие нечистоты и яды. А ты божественной огненной силой, в непрерывном процессе, изливаешь чистейший металл…
— А как же твои недруги? Пришли и принесли извинения? «Простите, мы так ошибались…»
— Ну нет, это было иначе. Я все зимовал, все ночка тянулась. Радовался лишь одному: работа окончена. А что с нею делать, не знал. Ведь никакой наш специальный журнал печатать ее не стал бы… Один мой приятель, художник, с моих слов сделал выжимку и в виде курьеза, с карикатурами, с такими, знаешь, смешными уродцами, опубликовал в многотиражке… Потом то же самое, желая подработать, — в молодежном журнальчике. Другой молодежный журнал, чуть солиднее, обратился ко мне с предложением кратко изложить и со схемами — в рубрику «Ученые фантазируют». Потом позвонили из весьма солидной газеты, предложили в плане дискуссии, в плане почти химеры… А как вышла газета, через месяц — хлоп! Канадцы перепечатали, ибо те же проблемы: огромные территории, места освоений… После этого лавина публикаций… Вспахивают целину. Разрабатывают тюменскую нефть. Десант на Мангышлаке, в пустыню… Массовая информация подхватила мои рассуждения, подкрепляя ими свою публицистику. И в этом потоке уже специальные журналы открыли свои страницы. Перепечатки за кордоном… Вышла книга. Предоставили кафедру… С лекциями за рубеж… Ну да к этому времени и ситуация в нашем мире изменилась изрядно. Подключились иные силы… Так кончилась ледовая спячка и полярная ночь. Так солнышко мое наконец-то воссияло!..
Помолодевший, легконогий, он расхаживал по избе, взмахивал руками.
Она надевала платье, расправляя его по плечам, медленно поворачиваясь перед зеркалом. И пока она поворачивалась, выпал снег и застыла в ведерке вода, над рябиной протекли журавли, зайцы исследили сугробы.
…Снежная баба, мокрые руки горят. Обжигаясь, последний сочный комок прилепить ей на грудь и смотреть, как тает водянисто-арбузный Снег. Стоять, уменьшаясь, глядя на вялый огонь, вот-вот исчезну, и он останется один в белизне.
Вернулись в избу, гвоздями он прибил к потолку еловую лапу, влажную и парную от печного тепла. Раскрывали коробку, перехваченную золотистой тесьмой. Извлекали прохладное дутое стекло — глазастых петухов, окропленных блеском, лишенные веса шары, витязей, звездочетов. Разглядывали их на свету, расправляя петельки. Протягивали вверх руки, поддерживая ими стеклянные вспышки. Игрушки касались ветки, превращаясь в крошечный плод.
Новогоднее убранство стола. Жареный хлеб, картошка, черно-красная бутылка. За окном голубеют в полнолунье снега, тень от рябины, нетоптаная белизна.
— Последние минутки текут. Старый кончается, а новый уже налетает. Близко, рядом… Уже под горой…
До звона в душе она слышит приближение чего-то, светоносного и огромного, пересыпанного метелями, скользящего над лесами и льдами. Незримая острая грань охватила полнеба, сейчас их коснется.
— Посмотри, ожила от тепла, — он протягивает к лампе ладони. У пальцев его кружится бабочка, воскресшая от печной теплоты.
Мечется, покрывая стены огромной тенью. Тонко звенит о лампу. Он горстями вычерпывает ее в темноту, а она налетает на его светящиеся, раскаленные руки.
— Ну вот, с Новым годом!..
Над крышей избы бесшумно, ослепительно-грозно прошла молниеносная грань. Бабочка над их головами прочертила огненный след…
Ольга повернулась, оторвала от зеркала свое отражение.
— Смотри, мое платье вечернее. Нравится? Целый год его примеряла.
— Что ты затеял сделать? Ракету? Саксофон? Нефтепровод?
— У старика отыскал огарки. Захотелось соорудить светильник. У нас же в доме нет люстры. Сделаю, и повесим…
— Да ведь завтра уедем. Завтра катер придет.
— Пускай без нас висит. Когда-нибудь снова вернемся.
— Ты уверен? Земля такая большая, столько мест, где еще не бывали…
— Но есть и такие, куда хочется снова вернуться. Не сейчас, а когда-нибудь после.
— Зимой. В какую-нибудь зиму. Хочу видеть, как на лугах белым бело.
— Войдем под вечер — и люстра. Засветим и с валенок снег отряхнем.
И, увлеченный затеей, прицеливаясь, он извлекал из цилиндров бесчисленные таящиеся в них формы. Дуги, спирали, параболы, выхваченные силой зрачков, возникали и гасли. И он наслаждался своей властью над пустотой.
— Мы вернемся и отряхнем с наших валенок снег, — сказала она. — И будет на валенках наших роса…
Он выбрал банку с яблоком, надел ее на круглое, плотное поленце, готовясь к чеканке. Молотком, его узким скосом, стал наносить короткие, вспыхивающие удары, наполняя ими жесть. Выковывая метки и бусины, голубоватые капли и искры. Удар — вспышка! Звон! Звон! От зрачка — луч! От плеча — дуга! Встретились — вспышка, звон!
Металл струился, наполняя его теплом, и пальцы его оделись тончайшей блестящей пыльцой.
— Сегодня есть чувство прощания с этими днями, — сказала она. — Когда ты люстру затеял… Мы еще тут, и уже самих себя покидаем, и о себе самих вспоминаем. Вдруг полетели минутки, как искорки от твоих ударов.
— Старик пустил свои ходики и считает минутки.
— Мы ведь вернемся и отряхнем с наших валенок снег… Повесим под люстрой еловую ветку… И будет на валенках наших роса…
Изба, наполненная звонами, светилась из темных углов. Звоны уходили в венцы, стекали по столбам, переводам.
Он вкладывал в хрупкие стенки свое отражение, свою мимолетную память.
О сойке, которую мальчишкой убил из ружья на еловой поляне. Сверкнув синевой, прянула из неба к ногам, рассыпав по снегу красные катышки крови… Звон, звон!..
О брате Володе, выздоравливающем после ангины. Отец вернулся домой и поставил на стул в стакане осколок драгоценной сосульки… Звон, звон!..
О янтарных бусах жены, рассыпанных перед зеркалом на туалетном столике. И он стоял, слыша за спиной легкие, босые шаги… Звон, звон!..
И когда покончил с чеканкой, утонченный темно-серебряный светильник, еще без огня, но охваченный прохладным сиянием, расправил у него на руке свои кованые напряженные крылья.
— А теперь тебе, чуть поменьше… Думай о себе и смотри на мою работу…
Она смотрела и думала. А он выковал рыбу-светильник. Пустил ее в сумерках по избе. И она проплыла, как маленькая голубая планета, опустилась на пустую божницу.
— Ну а третий? Кому, не знаю… Просто луне да солнцу. Траве да снегу…
— Им всем, но и еще одному.
— Кому?
— Не скажу.
— Почему?
— Загадала. Я буду смотреть и гадать. Только ты бей легонько и тонко. И думай чисто и весело…
— Я постараюсь…
Уже к ночи он оковал латунью древесную ветку. Укрепил ее под закопченной матицей. На проволочках навесил светильники. И они закачались в избе волшебно и льдисто, как звезды.
— Ну вот и пора, — сказала она. — Катер пришел и ждет.
— Да, да, — сказал он. — Иду…
Подставил лавку и, поднявшись, укрепил в светильниках три малых огарка. Запалил, смотрел на их свет.
— Ну пойдем, — сказал он, опускаясь.
Они вышли. Закрыли дверь, просунув в щеколду тонкую веточку. Удалялись по тропке. Он оглянулся. Изба темнела, погрузившись в траву. В ней еще жили и двигались их тени, дыхания. Ему стало вдруг больно. Захотелось вернуться, кинуться. Защитить тех двоих, оставшихся. Ветер бежал по траве, накрывая избу. На реке остроносо чернел бронированный катер.
Часть третья
Он гнал на трубовозе по бетонной трассе, вызванивая на стыках черными телами труб, и Сургут вставал впереди вышками ретрансляторов, энергопоездами, блоками пакгаузов, складов. И, глядя на месиво железа и дыма, он думал: в начале всего были воды.
Свинцовые, пустые, холодные, текущие к океану. Уточка черной стрелкой срывалась с проток, долетала до пустынного седого разлива, терялась в кружении синеватых полярных лучей. Одинокий чум был обшит берестой. В пеньковых снастях тускло вспыхивала рыбина. На топкий берег, озаренный негаснущим светом, выходил сохатый.
Потом негромко застучали моторы. Катерочки, попыхивая дымками, засновали в протоках, по узким таежным речкам. Выгружали палатки, тюки. Геологи раскрывали планшеты, отбивали азимуты на ржавых болотах. Захлюпали в накомарниках, шестами щупая землю, комкая глину, песок. Просачивались в глубь континента, проходя по красным коврам костяники, водянисто-янтарной морошки. И глухарь, поводя вороненой синью, смотрел на людей с низких еловых суков.
Высоко загудели серые, с алой полярной отметиной самолеты, наполненные приборами, датчиками, длиннофокусными объективами. Летели месяцами, сжигали горючее, снимая плоские мутные топи. И потом в кабинетах ложились на стол сырые листы аэрофотосъемки, рентгеновские снимки Земли. Аорты и вены рек. Пузыри дышащих болот. Люди шарили линзами по чуть видным рельефам равнины.
Спутники, напичканные оборудованием, виток за витком просвечивали туманы. Зондировали с высоты, ловя отражения от лосей и медведей, от кипящих огнем нерестилищ, от старой гнилой ладьи, помнящей здесь, на Оби, песни Волги и Дона, блеск железной кольчуги, цветной атаманский бунчук. Луч из космоса проникал под мокрый таежный войлок, в подземный купол, где таилась черная гуща. Как зрачки, укрытые земными веками. И спутники ловили их подспудные блески.
На маленькие желтые плесы с грохотом, стуком пришли стальные баржи. Плавучие краны выгружали низкорослые вездеходы, приземистые, на болотных гусеницах тракторы. Свернутые в пружины рулоны разворачивались в сияющие оболочки нефтехранилищ, и танкеры, выбрасывая шланги, качали горючее.
Дымилась земля от огней и дождей. Хрустела тайга. Гремели взрывы. Бетонные плиты ложились на топи, и первые самолеты с воем приземлялись в тайге. Буровые погружали победитовые сверла, дробили череп земли, прорывались к недрам. И ударил черный фонтан. Бурильщик, обалдев от счастья, опуская ладони в теплую жижу, мазал себя по лицу.
Нефтепроводы гнали потоки тюменской нефти. Химкомбинаты принимали их в серебряные цилиндры и сферы. Совещались министры в Нью-Йорке, Токио, Бонне. Мировая пресса шумела о поставках, кредитах. А в тайгу продолжала ломиться стальная армада техники. И он мчал на трубовозе по трассе, вызванивая на стыках телами труб, и Сургут вставал впереди вышками ретрансляторов, энергопоездами, блоками пакгаузов, складов. И он думал: в начале всего были воды.
Ковригин окончил беседу с начальником порта. Говорили о переменах движений грузов, возникших после пуска железной дороги. Транссибирский плющ продолжал ветвиться, оплетал материк, кидая отростки на север, стремясь дотянуться до океанских ледовых кромок, и на восток, повисая меж Байкалом и Охотским гранитным карнизом. Метил уцепиться за выступ Чукотки, перекинуться на Аляску.
Ковригин завершил разговор, собираясь выйти к причалам, громыхавшим в дожде.
— Еще посидите немного, — сказал начальник порта, обветренный и пятнисто-красный, обожженный рекой. — Сейчас должен прийти художник… ваш, московский… Антонов. Покажет набросок панно. Мы заказали для порта. Взгляните, если хотите.
Входили в кабинет речники, крупнотелые, в галунах и нашивках, созданные из дегтя и золота. И художник, чье лицо, утомленное, чуть выцветшее и растерянное, показалось Ковригину по-московски неуловимо знакомым.
— Во, давай, Геннадий Антонович, взгляни, чего нам художник сработал. Давай сообща обмозгуем. — Они раскладывали перед начальником порта листы картона.
Корабли толпились заостренным железом, били носами в таежную твердь. Раскалывали ее бронированными топорами, и в пролом, расширяя его, заливая кишащим месивом, текли вездеходы, змеились трубы, катили платформы с панелями бетонных домов, турбинными роторами, буровыми. И там, куда все стекалось, город, разноцветный, как взрыв, светился гранеными радугами.
— Ну давайте высказывайте, кто чего думает… чего мы там говорили… Какую ты, Гаврюхин, критику наводил…
Речники топтались, вытягивая шеи, тыкали пальцами.
— Какую я критику наводил?.. Я говорю, как же сухогрузы носами в деревья уперлись? Тут же мель, топь… Они в первый год к барже швартовались. А причальные стенки поставили аккуратно, по графику. Стеночка — борт! Стеночка — борт!.. А тут на картине — аварийная ситуация.
— Сам ты, Гаврюхин, стеночка — борт, стеночка — борт!.. Это же образ, образ! А ты со своей техникой безопасности!
— Ты, Косых, погоди, дай сказать… Аварийная ситуация — это раз. Потом другое… У него корабли прямо в рыбу впоролись. Тут и сварщик работает, и в электроде прямо рыба плещет. Не бывает!
— Да это же картина и замысел!.. Может, он ей новую чешую наваривает! Может, он природу своими руками переделывает!
— Погоди ты, Косых, не суйся… Не бывает такого… И три: конечно, тут люди нарисованы, и бурильщики, и наш брат речник, но только уж больно мелко. А надо бы крупным планом, вот тут хоть! Портовик, нефтяник, геолог… Плечом, понимаешь, к плечу… Чтобы ясно было, какие тут люди у нас… Я в Тюмени видал, на вокзале. Хорошо… Мне понравилось.
— Ты, Гаврюхин, еще сталевара сюда добавь. Космонавта, колхозницу со снопом. Кого еще?.. А ты свой глаз чуть-чуть поверни!
— Это ты, Косых, свой глаз поверни!.. Тьфу, привязался!
Они сердито гудели сиплыми от речных простуд голосами. Терлись друг о друга золочеными галунами. А порт за окошком грохотал в дизелях, накрытый дождем и дымом.
— Гаврюхин с Косых чтоб не бодаться не могут, — сказал недовольно начальник. — Погодите друг другу глаза вставлять. Пусть художник расскажет. Путь товарищ Антонов сам сперва пояснит…
— Я поясню… что товарищи до меня говорили… — Антонов растерянно, огорченно не умел словами пробиться к их пониманию, и Ковригин испытал к нему родственную, московскую теплоту, сознавая близость их умов и подходов, которые нуждались в защите. Переживал его косноязычие, лепетание.
— Тут меня спрашивали, почему это вездеход и кустик клюковый столкнулись — и как бы взрыв. Как это может вездеход о клюквенный куст разбиться?.. Но это тоже символ встречи природы и цивилизации, этих болот и техники… Потом вот здесь вертолеты летят гусиными косяками, с подвесками мачт… Но это тоже как бы знак, чем наше небо наполнено… И видите, земля в разрезе, тут корни елок, а тут корни буровых сплелись и сосут нефть, а город на этом древе, как плод… Да это же нельзя рассказывать. Это надо принять… Тут творятся такие процессы, и нужна новая форма…
Он умолк, растирая себе руками лоб, чувствуя свою беззащитность.
Ковригин потянулся к эскизам. Начальник порта, заметив, повернулся к нему:
— Ну, а вам как? Что нам подскажете?
И Ковригин, стараясь быть ненавязчивым, не спугнуть настороженное их внимание, чувствуя важность их общей встречи над этими листами картона, сказал:
— Как я уловил и почувствовал общий замысел, здесь в образной форме представлено возникающее на этих топях единство человека, природы и техники. Я не живописец, не могу, так сказать, квалифицированно разбирать живопись… Просто слушал товарищей, и по поводу всего появилось несколько мыслей… Мы, что называется, не видим красоты техники, не замечаем заложенной в ней возможности искусства. А от этого и наше отношение к технике страдает, и природа, на которую обращена эта техника, частенько стонет… Мне кажется, искусство, которое с древних времен воспевает природу и человека, должно ввести сюда и технику. Непременно. Открыть в нас связь с механизмами, новое их понимание. Переплетание, уже неразрывное, нашей души, очеловеченной природы и современной техники. Вне этого триединства не существует ничего… Тут, в Сургуте, и в самом деле — увлекательнейшие процессы, складываются уникальные природно-технические организмы. И художник уходит от трафарета, по-новому их отражает… Мне кажется, ему надо верить, как верите конструктору вездехода или теплоэнергетику на ГРЭС. Он же тоже специалист, мастер…
Ковригин чуть поклонился Антонову, приглашая вернуться к эскизам. Чувствовал, как его высказывания изменили молчание. Как взгляды, напряженно-внимательные, искали подтверждения словам в разноцветий эскиза.
— Ну что ж, в общем, мне тоже нравится, — сказал начальник порта, — сделано капитально. Я подпишу. Конечно, еще в горкоме посмотрят, но там я скажу, что я «за»…
Он поднялся, окруженный своими золочеными сиплоголосыми заместителями, и уже сам гудел в селектор, вызывая далекий на подходе толкач:
— Ота-700! Ота-700! Почему с цементом задерживаете? Почему, спрашиваю, ночь стояли? Прием!.. Ота-700, ждем вас к утру с цементом! Дали «добро» на разгрузку!
Они окунулись в позывные реки, куковали с далекими, незримыми капитанами. А Антонов с Ковригиным вышли.
— Спасибо, что поддержали, — сказал Антонов.
— Мне эскиз в самом деле понравился…
— Я что-то разволновался!.. Не умею я объяснять, когда и так все видно. Да и слова им нужны и простые, и в то же время убедительные. Вот вы их нашли…
— Я заметил, что в таких местах, как Сургут, люди интуитивно тянутся к новому. Хотя, казалось бы, совершенно далеки от искусства. Не знаю, чем это объяснить.
— Да, да, вы правы. Интуитивно тянутся. Восприятие свежее и, в сущности, очень талантливое. Ждут, чтоб научили, и схватывают на ходу.
— В Москве бы хотел взглянуть на ваши работы. Вернусь в Москву через месяц.
— С удовольствием. Приму вас в мастерской… Тут, знаете, еще есть наш брат, москвич. Писатель Растокин. Архитектор Завьялов.
— Не тот ли, что проектировал города в пустыне?
— Вот, вот! Ему здесь тоже предстоит защищаться. Привез варианты Северного города… Готовится обсуждение. Приходите.
— Здесь, в Сургуте, пол-Союза толчется.
— Я вас познакомлю. В общем-то, люди разные, но занятые все одним. Ум-то на одно устремлен. На новые, как вы сказали, организмы… Пусть Растокин прочитает свою прозу, уже здешнюю, сургутскую… Любопытно!.. Мы непременно увидимся. Я вам постараюсь развить свои представления, как технику покорить эстетикой.
— Вы ее покоряете, а она вас.
— Спасибо, что поддержали, — повторил Антонов и ушел.
А Ковригин, разыскивая Ольгу, вышел к причалам.
Порт громыхал, чавкая дождем и железом. Тускло вспыхивали граненые кабины кранов. Туманились самоходки на рейде. А у причальных стенок корабли лязгали и теснились под разгрузкой, колыхая черными бортами, красными ватерлиниями.
Ковригин, промокая, пропитываясь жирным туманом, огибал горы доставленных грузов, вглядываясь в заводские клейма и литеры.
«Хорошо, хорошо… Там изба и трава, завитая ветром… А здесь эта синяя копоть, из неба натянутый трос, и контейнер с японским иероглифом подхвачен плавучим «Ганцем», трепещет, как кубик с азбукой… Хорошо, хорошо…»
Самоходка терлась о причал рыбьим телом. Растворила трюм, подставив чрево под дождь. Кран нависал над ней, окуная острый двурогий крюк. Выхватывал грузы, словно вырывал их с урчанием. Выдергивал сочные, разноцветные органы. Связки железных сосудов. Лиловый, как печень, котел. Катушки с кабелем. Кипы стекла. Самоходка становилась легче, всплывала. Качала якорными глазницами, розоватыми трюмными ребрами. Дождь полоскал ее распоротое, пустое нутро.
«Да, так о чем я?.. Там бабочка еще на стене, в печке остывшие угли. Я награжден некой возможностью счастья…» Он разыскивал Ольгу в напряжении и радости, готовясь увидеть среди холодной стали ее порозовевшее от дождя лицо, сказать, что счастлив и просит ее согласиться.
Баржа, огромная, словно взлетное поле, была уставлена сияющими цилиндрами в подвесках труб и манометров. Матрос с мегафоном, с мокрым клетчатым флагом кричал и отмахивал.
«Да, скажу ей, что я пережил… То пламя в печи и волшебное совпадение всего. Моих лет и опыта. Ее красоты, доброты… Если она согласится, если и в ней все так же, то был бы счастлив просить… Просил бы ее ответить…»
Он торопился ее увидеть, тут же во всем объясниться.
Рефрижератор, стерильно-белый, мерцал драгоценной рубкой, хромированной, как операционная. Кран погружался в его белизну. Над снежным бортом появлялась кровавая бычья туша, четвертованная, в розовом инее, в хрящах и обрубках. Безголово и дико катилась по небу, паря над скопищем техники. И навстречу ей, по дуге, улыбаясь оскаленным ртом, возникала рыжая «Татра», ныряя в дождевой туче.
Ковригин в ознобе, запрокинув лицо, наблюдал их скольжение, вдруг испугавшись совпадения дуг. Изумился невидимому в небе чертежу, по которому двигались бык и машина, и его напряженный зрачок стремился избежать столкновения.
Колесный пароход, бог весть откуда приплывший, нелепо раскрашенный, пялил с театральных афиш хохочущие рожи и рты. Кто-то вышел на палубу в мокром колпаке с бубенцом.
Ковригин, напрягаясь и мучаясь, слышал звон бубенца. И вдруг влажная, сочная боль, словно лопнул сосуд, залила глаза краснотой: красный рефрижератор, красная туча с дождем и в ней, как снежинка, улетающий маленький бык.
«Не хочу, не хочу! Не надо!»
Приступ в нем разгорался. Ковригин раскрывал рот, заглатывая холод и дождь. «С холодком, с холодком, пронесет!»
Расстегнул под плащом всю грудь и прижал ее к мокрой стальной трубе. К ее насечкам, зарубкам, клейму ОТК, к надписи мелом: «Сургут». И казалось, труба, войдя в резонанс с его сердцем, ахала и гудела.
«Неужели все кончено? Неужели сейчас?..»
И будто треснул бетон причала. И в пролом в бурлении и клекоте хлынула красная боль. Тепловоз тонул на путях. Матрос с мегафоном бултыхался, пытаясь выплыть. Краны кренились. В небесах бодался с машиной бык. И из этого ада, закрывая жерло трубы испуганным мокрым лицом, возникла Ольга.
— Что с тобой? Что?..
Та страшная, с подтеками ржавчины труба. «Скорая помощь», сквозь гарь и потоп летящая в городскую больницу. Его ослабевшее, с впалым животом и шрамом тело. Зубцы кардиограммы на текущей ленте. И в пиках, провалах — его страдание, его угасание. И гостиничный номер, и шприц в кипятке. Его колючие, чужие, против нее обращенные глаза.
В том, что случилось, Ольга искала свою вину. Не находила, но знала: вина существует. Быть может, в том, что беда случилась не с ней, хотя все у них было общим. И в том, что ей не дано взять на себя его боль. И в том, что в избе, среди трав и огней, она забылась, нарушила завет суеверий и страхов, еще материнский. И накликала беду на него. И он за нее поплатился. Доверился, к ней потянулся. А она не отошла, не исчезла в своем эгоизме. Подставила его под беду. И надо скорее вернуться в свою заколдованность, отказаться от реки и зеленой ветки, от травы. И это его спасет. Только это его и спасет.
«Вздор, что за вздор! — говорила она, читая его кардиограмму, встречаясь с главным врачом, бегая узнавать расписание самолетных рейсов в Москву. — Что за мысли нелепые!.. Его надо лечить… Я же врач. И кому, как не мне!..»
Она чувствовала: в эти дни между ними все изменилось. В нем возникла кремневая, жесткая грань, за которую он ее не пускает. Она и не хотела ее перейти. Пусть ему станет легче, а потом и грань умягчится.
Они были вдвоем в его номере. В ванночке с разобранным шприцем закипала вода. Блестели в коробочке ампулы. Он глядел на нее с подушки длинным, прямым, ее отдалявшим взглядом.
— Еще дней пять переждем, тебе станет полегче, и в Москву. Я узнавала, рейс ежедневно, — сказала она.
— В самом деле? Ты так решила? Уже все за меня решила? — усмехнулся он жестко.
— Кардиограмма у тебя неважная. Нужно показаться серьезному специалисту. Может быть, лечь на лечение…
— Подумать только, какие советы! Какие диагнозы!.. Да ты просто не видела моих кардиограмм. А я-то вижу, что никаких изменений. Очень хорошее сердце. Пылкое. Бьется в ритме с веком. И оставь, пожалуйста, свою беготню…
— Поверь мне, положение серьезное. Нужно показаться специалисту. Переждать, дать себе покой. А тут нет условий. Даже опытного кардиолога нет.
— А ты-то? Разве не опытный?.. Мне твоего опыта вот так хватит… К тому же я тот зверек, над которым уже проделано множество опытов. Профессорами и студентами. Гомеопатами и телепатами. Не одну диссертацию на мне защитили… Хочешь, и ты защитишь?.. Давай, начни защищать…
— Я смотрела в аптеке набор препаратов. И в больнице, у главврача…
— Оставь! Какие там препараты! Только знахарка поможет. Да ведь ты и знахарка, правда? Только без горба и клюки…
Он засмеялся трескуче и сухо, взглядывая на нее, нахохленный, остроносый. И ей захотелось подойти, прижаться губами к его смеющемуся, недоброму рту. Пригладить торчащий седой хохол. Укротить его раздражение, неуверенность. Смотрела, как лежит в серебристой щетине, сжимая на одеяле худой кулак…
— Мне жаль, — он сморщил брюзгливо лицо. — Жаль, что так получилось… Виноват, прошу извинить… Виноват, что тебя заманил, обременил собой. Это было безрассудно. Не знал, что делаю… Ты можешь лететь. Ведь и курсы твои вот-вот начнутся. Не вправе тебя задерживать…
— Ты говоришь и силы расходуешь. И волнуешься… Просто лежи.
— А что, мне нельзя волноваться? Ты мне запрещаешь? Ты все за меня решаешь? И про рейс, и про волнение, и про специалиста… По-моему, ты торопишься. Все это слишком поспешно. Конечно, я виноват и хотел бы загладить, но все-таки…
— Не надо, прошу…
— Ну да, я похож на истерика! Капризного, требующего ухода!.. Ты видишь меня в момент слабости… Когда меня грохнуло башкой о трубу… Когда мне врезало в челюсть… И я просто не могу быть благородным и милым! Не могу быть сильным и мужественным!.. Человеком с большой буквы! Или как это у вас называется?.. Если тебе неприятно, а я вижу, что тебе неприятно, ты ступай прогуляйся. Осмотри достопримечательности города. Ну, бетонку, строительство ГРЭС… Сходи к буровой, проветрись… Увидишь, очень миленький город. Венеция, ну просто Венеция!..
Она видела: он хочет ее обидеть. Хочет ей сделать больно. И увидеть, что она огорчилась. И за это казнить себя вдвое. Испытывала к нему нежную, горячую жалость. К его едким, бегущим от губ морщинкам, сухой тонкой коже на побледневшем вдруг кулаке. Не отвечала. Отводила глаза.
— Видишь ли, все справедливо. Даже в высшем, если желаешь, смысле… Нашелся, возмечтал о единстве!.. Отыскал словечко красивое! И на нем основал весь трюк… Напел тебе, нашептал, разжалобил, уволок за собой… И все по духовным мотивам… Да просто хотел зацепиться! За молодость твою, милосердие! Надышаться возле тебя напоследок!.. Трюк с кислородной подушкой… Не вышло, краник закрылся.
— Ну, пожалуйста, перестань, — она видела его смеющийся дергающийся рот, старалась быть мягче. — Ты должен прийти в себя. Должен снять перегрузку. Дней пять полежишь, и мы полетим… Все будет у тебя хорошо.
— Ох уж эта мне игра в «хеппи энд»! «Полетим! Полетим!»… В конце концов я не на туристической прогулке, которую можно прервать. Я на работе! В рабочей командировке. И прибыл в очередное место!.. А то, что было, — изба да трава — это лишь добавление, которого могло и не быть… Прекрасно, что было, не спорю, но в принципе могло и не быть. Это роскошь, которую я в мои годы мог себе позволить… Прости, что выбор пал на тебя!.. Как-то так, само собой полагалось…
Ей не было оскорбительно, горько. А почти весело. Оттого, что слова его не причиняют ей боли, а вызывают одно горячее сострадание. Она чувствовала твердую цепкость врача, приставленного к болезни. Терпение к страдающему пациенту. И любовь к нему, беззащитному, который был против нее.
«Все будет у нас хорошо», — внушала себе и ему, веря в свое умение, в свои терпение и кротость.
— Конечно, я жалок. Лучше б ты меня таким не видала… Лучше б села в самолет да летела в Москву… А я, когда выкарабкаюсь, приеду к тебе… Ну да разве ты полетишь? Ты же внушила себе, что должна меня спасать. Это нам со школьной скамьи внушают! С манной кашкой вдалбливают! Что должны друг дружку спасать!.. Раны там перевязывать… Кровь свою отдавать… Я же вижу, ты просто ждешь случая отдать мне свою кровь!.. А сердце свое не отдашь случайно? Может, пересадочку сделаем? А? По-товарищески…
— Сердце не сердце, а укол тебе сделаю, — улыбнулась она. — На это меня хватит, пожалуй.
— Да ведь, в сущности, я здоров, — устыдившись себя и ее улыбки, жалобно произнес он. — Уже почти хорошо. Такая специфика… Лежу, помираю, а через час хоть дрова коли… Поверь, мне гораздо лучше… К тому же здесь, в этом милом Сургуте, мне действительно хорошо. Я в своей тарелке… Область моих представлений… А ты: «В Москву, в Москву!» Не хочу я в Москву…
Он жаловался, дергая острым, сухим кадыком. Она подошла, положила ему обе руки на лоб. И он затих, закрыл устало глаза. Сжал ее руки, повел их по своим шершавым щекам, задышал в них губами.
— Вот уж тебе обуза…
— Ну что ты! Какая обуза?..
Когда, сделав укол, убирала шприц, осколки сломанной ампулы, он произнес чуть слышно:
— Спасибо тебе… Уж сделай еще заодно. Вскипяти чай…
Она достала его серебряный мятый кофейник. Наполнила водой. И, пока несла, ей вдруг померещилось, что все это было когда-то. С ней и не с ней. То ли девочка, то ли старуха. То ли клумба в цветах, то ли желтые под снегом деревья. Несла, боясь расплескать, наполненный серебристый кофейник.
Приступ был, как фреза, огненно саданувшая в грудь. Проточившая в ребрах, в плече длинные больные надрезы. Через несколько дней, как и прежде бывало, боль из этих надрезов стекла, обмелела. Невнятно скопилась в глубоком, под сердцем, колодце, оставив после себя вялую, обугленную пустоту. И эта пустота заполнялась теперь раздражением.
Он раздражался против нее, против тихих ее появлений, хотя ждал их капризно и требовательно. Раздражала ее сосредоченная, спокойная вера в свою для него необходимость, тем более что так оно и было. Ее молодость, свежесть, провинциальная нечувствительность к его состояниям казались ему оскорбительными, и он стыдился в ее присутствии своей немощи, худобы. И возмущался собой, казнил себя, уязвляясь тем еще больше.
Она ушла, обещая скоро вернуться. А он, прислушиваясь к невнятному колыханию под сердцем, оделся, оглядывая в зеркале свое усохшее, процарапанное на стекле лицо.
— Ты что, поднялся? — испуганно сказала она, занося волосами, одеждой исчезающий запах реки и хвои. — Ты с ума сошел!
— Напротив… Действую, чтоб с ума не сойти! — ответил он, повязывая галстук.
— Ты себя убиваешь…
— Ну ладно, зачем эти громкие выражения?.. Заходил Антонов… Ну художник, о котором я тебе говорил… Ну тот в порту, который предвосхитил мой приступ в образной форме… Сказал, что сегодня любопытное обсуждение… Проекты Северного города. Хочу быть… Один головастый человек выступает. Архитектор Завьялов. Он прославился городом в пустыне… Посмотрим, что он для Севера приготовил…
— Послушай меня, тебе еще рано, — слабо просила она.
— Наоборот, мне уже поздно, поздно! — смеялся он резко. — Я себя знаю… К тому же ты немного отдохнешь от меня.
— Нет, я пойду с тобой.
— А лучше б тебе отдохнуть…
— Ты меня гонишь?
— Боже упаси! Что ты придумала!.. Хочешь, пойдем. Может, и тебе будет интересно.
И вышли. И он давил в себе раздражение.
Они опоздали к началу. В полутемном наполненном зале на белом экране возникали картинки. Сам Завьялов говорил и показывал слайды. Контуры мобильного заполярного города среди тундровых синих поземок напоминали аэростаты и сферы, флотилию подводных лодок, серебристые фюзеляжи. Отшлифованные ветром, закрепленные стальными тягами, оплетенные монорельсами, казались летательным аппаратом, коснувшимся диких снегов.
— Вот видите, — хрипловато и тихо говорил Завьялов. — Возведенный в тундре, на открытых шквальных пространствах, такой жилой массив собран как бы в сверхплотный сгусток. Предельно сжат, закупорен, для арктических сквозняков. Бережет тепло. Он должен обладать наибольшим внутренним объемом при наименьшей рассеивающей поверхности, а стало быть, воспроизводить геометрию сферы… Видите, вся жизнь, все обслуживание сосредоточено внутри искусственной оболочки. Она отделяет человека от жестокой природы. Жители пользуются магазинами, ресторанами, почтой, плавательным бассейном, не выходя наружу. Не подставляют себя под удары пурги…
Ковригин с дальнего ряда всматривался в лицо архитектора, подсвеченное отражением проектора. Оно казалось знакомым, заостренно-волчьим, обожженным радиацией пустыни, прокаленным в полуночных льдах. «Как и я… Как и мы… Одним миром мазаны… В торосах, в барханах, везде свой домик поставим…»
Он заряжался колючим сухим электричеством, и заряд его был против Ольги.
Завьялов продолжал говорить:
— Ну, скажем, забросили стройматериалы кораблем, вертолетом… Строительство начинается с возведения каркаса. Сборного, из трубок, начиненных уже заранее системами обогрева. Его включают с первых минут сборки. И монтажники действуют уже не на жгучем морозе, а в зоне умеренных, человечных температур. Стройка благодаря этому протекает в сжатые сроки. Не парализуется холодом. А ведь это так важно на Севере!.. Видите, гроздья жилых ячеек как бы висят над землей, ее не касаясь. Все сооружение опирается на грунт лишь в нескольких точках, на сваях. Почему? Да это понятно! Почва в тундре тончайшая, создавалась тысячелетиями. Разрушь эту пленочку, и потекут зыбучие, как в Каракумах, пески. Придется заново реставрировать грунт. Привозить из далеких лесов травяной дерн, как здесь, в Сургуте. Или класть бетонные и железные сетки, как в Салехарде… Под опорами, на свободной территории разбиваются стоянки для вездеходов, амфибий, аэросаней. На плоские крыши садятся вертолеты…
Ковригин любовался куполами и сферами, возникшими в пустоте.
«Ум и блеск интеллекта — вот что бесценно… Способность пропустить сквозь себя все слепые породы, все черные шлаки и яды, и в итоге — хрустальные сферы… Вот что дар, а не то, что обман доброты, не то, что обман милосердия».
Он косился на Ольгу, чувствуя пространство между их близкими лицами как поле своего напряжения. Опять устремлялся к экрану.
— Хочу обратить внимание, — продолжал Завьялов, при взмахах выпуская в луч мимолетную тень. — Вся сферическая конфигурация этого массива должна быть тщательно выверена аэродинамиками. Вписана в турбулентный поток непрерывных вихрей и ураганов, дующих в этой гигантской аэродинамической трубе, от океана к Сибири. Этим снимаются дополнительные нагрузки в конструкции. Комплекс спасается от заносов. Снег летит сквозь опоры, не образуя торосов… А то ведь дворников тут не сыщешь… Такие здания-дирижабли связываются меж собой и местом работы закрытыми скоростными коммуникациями. Например, монорельсами на воздушных подушках, пневмопроводами. Эти виды транспорта уже начинают входить в обиход. Особенно эффективны они будут в полярных широта в тундрах, болотах. Ибо насыпать здесь традиционное полотно мучительно дорого. Легче ставить стальные мачты, пропускать подвесную дорогу…
«Конечно, — думал Ковригин, — он прав. Важна совершенная оболочка. А что такое отдельная жизнь? Кончилась, и не видно… Кому интересно, как ты болел? Смерть — это личное дело… А останутся его города. И моя гипотеза… А вы говорите, душа!..»
Он саркастически поводил на Ольгу глазами, приглашая ее возразить. Но она чуть белела лицом, и, казалось, ему улыбается.
— Основное свойство такого города — быстро менять место. Все сооружение демонтируется столь же быстро, как и собирается. По мобильности оно не уступает поселку из традиционных вагончиков. Но согласитесь, если ячейки выполнить в виде вагончиков, то нам придется транспортировать по протяженным дорогам, рекам огромную кубатуру, пустоту, воздух. Поэтому ячейки будут создаваться по типу спичечного коробка, с выдвижными блоками. Как матрешки!.. Или складными… Так завозятся на Север цистерны, свернутыми в сверхплотные спирали. Довезли — распускают, превращают в гигантские цилиндры… В компактном, упакованном виде — в бутоне — ячейки забрасываются на северный полигон и здесь, наподобие цветка, обретают конечную форму…
Завьялов кончил, выхватил слайд. Зажгли верхний свет, под которым закраснел стол под скатертью, с непременным болванообразным графином, трибуна с бронзовыми багетами, вся клубная красота, с призывами, с буровыми, с лепной потолочной виньеткой, размоченной ржавой сыростью.
Ведущий обсуждение, вспыхивая победно очками, звякал о стакан графинной пробкой, похожей на рыбий пузырь.
— Нас сейчас познакомили с экспериментальным проектом города для нас, северян. Каким его мыслят товарищи архитекторы. Тут, конечно, есть много спорного, но без этого и не бывает, потому что вы знаете, что истина, как говорится, рождается в споре. И нам хочется, чтобы вы выступали со своими пожеланиями, замечаниями. Я думаю, это будет полезно и для нас, и для самого архитектора… Пожалуйста, кто хочет?.. Какие будут вопросы?.. Пишите записки!
Выступали, подходили к столу, погружались в трибуну. Кто-то хвалил. Кто-то хаял. И Ковригин мучительно, испытывая неловкость за себя, за выступавших, за архитектора, удивлялся: как, оказывается, легко, по-домашнему, словно о пирогах с капустой, можно судить о сложнейших темах, над которыми прогорает целая жизнь, так и оставаясь непонятой, и все так-то легко, по-домашнему.
Выступала рыжая женщина, взволнованная, оскорбленная лично:
— Я вот смотрела и думала: на что это все похоже? Это какая-то посуда! Миски, кастрюли!.. И мы должны жить в таких домах? Лично я не хочу! И за детей наших тоже обидно! Неужели нашим детям придется?..
Выступал молодой, с приемами пропагандиста оратор:
— Я хочу сказать: спасибо вам, товарищи архитекторы! Спасибо от нас, северян! Именно о таких городах наш великий поэт сказал: «Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть!..» В конце концов сбудется то, о чем мечтал поэт, мы вырастим сады в Заполярье! Обязательно!..
Выступал нескладный, улыбающийся, ищущий поддержки у зала:
— Мне нравится, чтоб дом красиво смотрелся… Чтоб было на что посмотреть… Ну, там, колонны, что ли, или какие-нибудь, там, цветы налепили… А то посмотреть не на что… Это, конечно, я так считаю…
Затем волнообразно и барственно заполнил собой трибуну, выложив сдобно-белые, «дорогие» (как подумал Ковригин) руки, архитектор, то ли Зубавин, то ли Зубатов (Ковригин не расслышал, кто именно), и голосом бархатно-микрофонным, с лицом утомленно-красивым, «аперитивным» (определил его почему-то Ковригин), стал говорить. И Ковригин уже ненавидел его за классически-лживые интонации, за тонкую, действующую безотказно ложь.
— Я с большим уважением отношусь к фантазии моего дорогого коллеги, чье удивительное, до мелочей разработанное видение сделало бы честь любому научно-фантастическому роману. Но мои замечания относятся не столько к этому блестяще выдуманному городу, сколько к нынешним, реально существующим городам Севера, ну, скажем, к тому же Сургуту. Хотя в той же мере и к только что виденным опусам… — Он улыбался утомленно, похлопывая белыми ластами по золоченому багету трибуны.
Ковригин целил в него стальной гарпун, готовясь рассечь его мякоть, звякнуть о кость.
— Ибо все это пока что не город, — рокотал архитектор, — а — как бы это выразиться? — ремонтная база рабочей силы! Не спорю, вполне современная, в которой человек после вахты восстанавливает дневные траты. Но для гармонического бытия этого мало! И здесь достаточно говорили об этом!.. Что житель хочет от города? О чем мечтает?.. И рабочий человек вправе задать тебе, градостроитель, несколько конкретных вопросов…
Он выступал защитником этих простых трудяг, пекся об их комфорте, жизнь свою посвятил их благополучию и позволял им видеть свое утомление, свою непризнанность, свое мягкое, но настойчивое, до последнего вздоха служение им, труженикам.
— Где, — спрашивал он, обращаясь к залу, но искоса, мельком и хитро скользнув по Завьялову, — где в современном фантастическом городе, или просто в Сургуте, ребятне играть в партизан, в салочки, в прятки? Играют ребята, играют, но прячутся в гаражах, за машинами, за лотками… А где, любезный наш зодчий, влюбленным назначать свидание? У амфибии? У столба монорельса? Но все столбы так похожи один на другой!.. Нам нужно учиться строить. Нужно зорче присматриваться к наследию, да, да, и к классическому, о котором только что, пусть по-своему, говорил простой человек, когда мечтал о колонне, об узорной капители… Нельзя, нельзя окружать себя только техникой, наша душа бунтует!..
Ковригин взглянул на Ольгу. И ему казалось, что она соглашается, кивает говорящему, принимая всю его ложь и давая тем самым взрасти этой лжи. Радовался их соучастию.
— Здесь, в Сургуте, существует кольцевая бетонка, удобная для движения транспорта, а для людей такой улицы нет. Где она, та улица, на которой хорошо веселиться, и та, что создана для печали? О хлебе ты подумал, зодчий, столовых в твоем городе хватает. Что же ты не позаботился о духе?..
И он сошел с трибуны, позволяя себе аплодировать, но и кивая запрещающе: говорить — его долг. Долг высказывать истину. Выражать их неумелые, часто косноязычные чаяния.
— Так… Кто еще хочет выступить? — Ведущий мерцал очками, копя выступления. — Смелее, смелее, товарищи! Это же нас касается!.. Еще какие есть замечания?..
Ковригин, чувствуя, сколь велико его раздражение против отзвучавшего фальшивого краснобайства, против согласного и довольного, раскрасневшегося в многолюдье лица Ольги, тяготясь доморощенностью всех занавесочек, багетов, проржавелой лепной виньетки, — взял слово и вышел, отмахнувшись от ее слабого возгласа.
— Только что говорилось, что отток из Сургута объясняется отсутствием здесь Тверского бульвара, — тонко, почти визгливо начал Ковригин, мгновенно отыскивая Ольгу, в нее направляя визгливое свое острие. — Упрекали первых создателей в отсутствии прозорливости. Бранили Сургут за разбросанность, расчлененность частей, за несовпадение с классическими схемами, полный самотек первых этапов застройки, осуществленных без предвидений и прогнозов. — Он совладал с собой, переходя на холодную жесткость, создавая свои построения из отточенных кромок, вырезая словами стальную конструкцию. Помещал в нее Ольгу, говорившего до него архитектора, Завьялова и Антонова, кивавшего ему. — И вот, дескать, теперь задним числом приходится надевать на непокорный город смирительную рубашку продуманной классической планировки, делать прострелы на Обь, выявлять центральный проспект для прогулок и тупички с закоулками… И вот причесывают растрепанный город, придавая ему пристойный вид. А город Завьялова легчайшим смещением понятий переводят в разряд фантазий, школьных опытов на изобретательство… И вот в свете этих упреков хочется осмыслить Сургут, как он может открыться в скопище техники, складов, седых крестьянских домишек, бетонных ревущих трасс и благообразных пятиэтажных зданий, с «Орбитой», высовывающей голову из-за развешанного белья на веревках. И может быть, в этом кажущемся хаосе вдруг откроется гармония? А в нагромождении — необходимость и смысл?
Ольга видела, как он звенел, напрягался, отстраненный от нее на тончайший острый луч. Но понимала, но чувствовала: за что-то ее казнит. С чем-то в ней борется. Уничтожает ее тем, что сам вот-вот упадет, задохнувшись. Она тянулась на его клекот, умоляла: «Ну за что ты меня? Себя почему убиваешь? В чем я таком виновата?»
А Ковригин, прислушиваясь почти с ликованием к слабому жжению в груди, продолжал:
— Вам хотелось, чтоб Сургут предсказали? Чтоб оракул его предсказал?.. Да Сургут невозможно было предсказать и предвидеть! Он — экспромт! Экспромт, возникший на динамическом фоне нефтяных разработок! Их масштаб и характер врывался и ломал планировку. Сургут откликался на каждую буровую, на каждый зимник, на каждую нитку нефтепровода. Город-корабль… Город-мост… Город-вокзал… Таким его мыслят и видят… В этом смысле город, идя вслед за нефтью, расширялся и продолжает расширяться ударно, неся в себе неожиданности самого процесса. — Он глотнул жадно воздух, словно в груди шло горение и он усилил сжигание. — Сургут, если поднять материалы, заселялся не постепенно, не плавно, из года в год, из века в век, как большинство других городов… Нет, Сургут заселялся и строился силами удаленных центров, Москвы, Ленинграда, Тюмени, забрасывавших в него крупные контингенты людей, жилища, технику. Заселение напоминало стрельбу из дальнобойной артиллерии. Снаряды ложились в цель с вполне допустимым разбросом. Взрыв снаряда — и создан порт! Еще взрыв — и база геологов! Следом — буровики! Затем — эксплуатационники! Следующими были заброшены энергетики, мостовики и так далее… Подразделения после высадки сразу же начинали действовать! Окапывались на плацдарме! Создавали свои автономные опорные пункты!.. Высадка шла с интервалами. Каждый выбирал удобное место, которое и по сей день для него удобно. И не так-то просто сдвинуть с места эти живые, дееспособные группы, подминая их под общую классическую планировку, рожденную на иных пространствах, в иных условиях, в городах с иным назначением…
Ольга через головы ловила его лицо, приближая к себе. Чувствовала: он не видит ее. И она потеряла его, от него отлучилась. Другие люди им завладели, унесли его в самолете. А ей о нем вспоминать.
«Да что же случилось? Когда? На какой минуте?.. Когда упал и я к нему подбегала?.. Или вошла, а он галстук завязывал?.. Или только что?»
Она спрашивала его через головы. А он отвечал. Но не ей.
— Вы хотите, чтобы здесь появился Арбат или Невский? Но это утопия! Сургут создан во имя нефти, не имеет разветвленной структуры внутренних культурно-экономических связей подобно другим многоотраслевым городам… Сургут заострен на нефть! Возник как мощный протуберанец из центра! И, возникнув, оплодотворяет вокруг себя целую систему близких и далеких городов и поселков, крупных и мелких вахт, действующих с ним заодно, — добывающих нефть! Сургут — мобильная, высокоорганизованная «комфортная» вахта, куда приезжают профессионалы выполнять свой чрезвычайно сложный труд. Завершая его, они отбывают обратно в центры, уступая свое место другим. Не суть важно, сколько длится вахта! Восемь часов, как на пригородной буровой. Или неделю, как на дальнем месторождении, куда людей доставляют вертолетами. Или три года, как в Уренгое, Надыме. Или десять, двадцать, семьдесят лет. А при нынешних темпах выработки сроки эксплуатации месторождений резко сокращаются. И можно предвидеть время, когда Север станет плацдармом для развертывания технологии будущего, весьма недалекого… И к этому времени города, подобные продемонстрированному Завьяловым, унаследовав от Сургута весь его динамизм, станут естественной формой наших поселений на Севере…
«И опять я подстрелен, и танки по моей голове, и под вечер волокут по снегам, и хирург, одурев от крови, цедит спирт сквозь желтые зубы… Не о том, не о том… Страшен не приступ, нет, а то, что ввергнут в обман, возмечтав бог знает о чем. В избушке на курьих ножках, возмечтав о единстве, демонстрировал гармоническое бытие, миф о бессмертии. И железной кочергой по башке!.. Вы это хотели сказать? Вы этого хотели добиться?.. Да знаете ли вы, что мое непонимание дороже ваших всех пониманий? Мои осколки дороже всей вашей целостности! Да вы за моими осколками днем с огнем охотиться станете! Каждый осколочек еще на тысячу раздробите, отшлифуете — и в оправку, и себе в украшение!.. Вот ведь как мы разбиваемся! Вот ведь как сокрушаемся в прах! Нет и не может быть никакого единства, а динамическое равновесие взрыва. Интенсивность распада. И, пожалуйста, не суйтесь в реактор, а то пальчики себе обожжете!..»
Он чувствовал: в груди раскалялось набиравшее силу горение. Уловленное в тонкие стенки, светилось больной радиацией…
После обсуждения они сидели в кафе впятером, и Ольга, окруженная новыми знакомцами, казалась говорливой. А Ковригин через голову Антонова смотрел, как отсвечивают латунной окалиной чеканные витязи на стене и стойка вдали, словно пульт управления, с рычагами и вспышками, с винными льдинками и коктейлями. Кругом сидели, выставив локти на стол, слушая тихий джаз. Круглился из тьмы золоченый рог саксофона. Вдруг начинал голубеть глаз на лице ударника. А где-то рядом Обь в дожде катила ледовые волны. Мокли суда под разгрузкой. Тайга сырела в тумане. На островах размыто белели цистерны нефтехранилища.
Он старался себя успокоить, обратиться душой на людей. Видно, это кафе здесь ценили. Любили забрести в мягкую полутьму, где негромкие голоса, а под жестяными светильниками обветренные красные лица, выпуклые загорелые лбы. И сиди, сжимая задубелыми ручищами хрупкую, как елочная игрушка, рюмку с некрепким алжирским вином. Вон еще один подошел, кого-то хлопнул по могучей спине. Вскинули головы, заухмылялись. Потеснились, давая усесться. Смех, звон стекла.
Если прислушаться, их разговоры про дневную выработку и северные надбавки, про пуск агрегата, и где там застряли баржи с грузом рифленых панелей, и как приезжали немцы, и будто прораб из СМУ узнал одного по войне, и в то воскресенье была неплохая рыбалка, и надо опять на вездеходе махнуть за морошкой, и в женском общежитии сменили дежурную, и опять нефтепровод обжимали не водой, а нефтью.
Приходили, уходили. Сухие, поджарые. Двигали под сорочками, под модными джемперами упругими мускулами. Эти явились сюда, сбросив мокрые робы. С буровых, намотавшись с сальным железом, оглохнув от рева дизелей. Те несут еще в кулаках дрожание рычагов и сцеплений: подымали на дыбы оранжевые бульдозеры, а в стекла им били тяжелые струи. А эти встают и уходят, чтоб через час натянуть на глаза маску с синим стеклом и в бетонной громаде ГРЭС, в перекрестьях железа осыпать водопады сварки или водить языком автогена.
«Дюжий, дюжий народец… Да, но я-то подстрелен!..»
Ковригин смотрел на архитектора Завьялова, утомленного, почти злого, с волчьими заостренными скулами, вспоминал его город в пустыне, по которому шел когда-то, прокаляясь словно в тигельной стерильной печи. Город принимал и казаха с верблюдом, и физика-атомщика, заключал их в свою оболочку. Дома — из золотистого шелка экраны. Бросаешь в них свою тень, и ее тут же сжигает солнцем. Казалось, тебя фотографируют и тут же засвечивают пластинку.
Он поражался свободе, которую испытывал в городе, где не увидишь этих трагических колоколен с куполами, окислившихся во время московских пожаров, и толстостенных лабазов с замурованной памятью о румяных купчихах, городовых, лихачах. И площадей, на которые страшно ступить, ибо в каждой брусчатке чье-то лицо: стрельца с негасимой свечой, солдата, погибшего на волоколамских полях, или собственное, детски-печальное, ушедшее в черный камень.
Тут было легко и свободно. Иная геометрия, математика. Здания как светлые дроби. Относишься к ним, как они — к пустоте. Распахнулись шлюзы домов — и синева, белоснежный корабль. Распахнулись другие — пески, верблюд, словно памятник. Здесь хорошо прислониться к нагретой, уходящей ввысь клавише, смотреть, как мелькает сквозь дома самолет.
С балконов и ниш свисали полотнища ковров. Это старый казахский быт развесил свои знамена. Высоко под крышей молодая казашка лупила палкой по узорной кошме с жухлыми желтыми цветами, помнящими вечерние бешбармаки, унылые песни пустыни. Пыль тесным облаком опускалась ниже, где другая казашка лупила палкой по кошме с розовыми цветами из войлока, выбивая родовые предания, сказания о батырах и битвах. Пыль опускалась ниже, где третья казашка лупила по зеленым цветам, вышибая из них обряды и свадьбы, чаепития и стоны рожениц.
Ковригин вспоминал этот город, рассматривая утомленное лицо архитектора.
— Вот что я и хотел вам сказать, — он повернулся к Антонову дружелюбно и весело, но осматривая его едко и пристально. — Вы так интенсивно изобразили порт, что меня там хватил удар. Это высшая похвала работе… Ну, а как там начальник порта? Как там Косых? Они-то на ногах устояли?..
— Рад, что встретились в узком кругу!.. Очень рад! — кивнул Антонов. — Тогда еще вам хотел сказать о культуре… Мы как бы между двух культур, двух эстетик… Еще жива, нас наполняет крестьянская архаика, ну все песни, иконы, резьбы, и рядом как бы им вопреки, как некие им противоположности — турбореактивные двигатели и кобальтовые пушки… И если в первых для всех красота, божественность, то второе есть просто голая, часто просто отвратительная техника.
— Наш Антонов опять гарцует на своих заблуждениях, — тонко улыбнулся писатель Растокин, поглаживая и топорща плотную золотую бородку. — Ты иконоборец, Антонов, или, говоря языком твоего манифеста, — кобальтист, турбинист… Как жаль, что ты пренебрегаешь вечными состояниями духа! А в архаике они или в новом искусстве, не суть важно. Лишь бы были. А ты иконоборствуешь, о каких-то турбинах плетешь…
— Вот так они целыми днями, — устало сказал Завьялов, отхлебывая вино.
— Да какой там вечный дух! — отмахивался Антонов. — Говоришь языком первобытным… Ну какие там твои состояния?
— Ну, к примеру, я и мир. Или: смерть. Или вопрос: как жить? Или: откуда мы? Или: что есть время?.. Присутствуют эти вопросы, стало быть — сфера искусства. А нет, — как ни крути, просто газовая турбина чадит… — Растокин мотал клубочек своей бороды.
— Вроде бы мы заодно, а договориться не можем! Не люблю я эти твои вопросики! Не так в лоб: «Что есть время?», а гораздо безымянней… Как свеча, например, горит… Я говорю, что бьюсь над тем, как технику обуздать культурой, найти ей место в искусстве и покончить с разрывом. А то что получается… Да даже у вас, в языке… Где ваш нынешний язык сформирован? В крестьянской избе! В дворянской гостиной! Так? Поэтому-то вы все прекрасные пейзажисты и весь набор прежних чувств очень ловко описываете. Деревенщики ваши изумительные, потому что в архаике им легко, инструмент отработан… А опишите-ка скоротечный бой истребителей! Или железнодорожный мост с напряжением в узлах!.. Ни черта не получится!.. Язык сломаете!.. Вот я о чем!.. — Он звякнул пустыми рюмками.
— Слушай, вот я о чем…
— Никакой мост, даже самый железный в мире, не сравнится с чудным человеческим оком, на нас устремленным, — полусерьезно ответил Растокин, глядя на Ольгу, державшую рюмку у губ.
— Да ну тебя к черту, шут! — колыхнул стол Антонов. — Ольга, идемте танцевать! Ну эти все разговоры!.. А то он еще око опишет!
И они окунулись в медные громы, потерялись в тесноте и мелькании.
— Вы действительно живете и чувствуете в этих измерениях? — спросил Ковригин рассеянно, следя в толпе за хлопающим в ладони Антоновым и Ольгой, возникавшей из его хлопков. — Действительно свою внешнюю реальную жизнь объясняете этим набором?
— А внутренняя жизнь для вас нереальна? Мой опыт говорит о другом, — ответил Растокин серьезно. — Любой свой внешний изъян в профессии или в житейском я стараюсь объяснить внутренней ложью…
— Ну, скажем, мой сердечный приступ — от какой он внутренней лжи? Или культяпы инвалида войны?.. Оттого, что в детстве без спросу конфетку взял?.. Я утрирую, конечно, простите…
— Я вам не могу объяснить. Не знаю вашего опыта… Но мой мне подсказывает, что всякий разлад, всякий хаос, всякое нарушение законов внутренней жизни оборачиваются внешней катастрофой, художественной немотой… До той поры, пока не будешь помилован. Пока не вернется единство… Пока не увидишь красный сок на снегу…
— Очень поэтично, не спорю, — хмыкнул Ковригин, рассматривая кованую бородку своего антипода, перенося и вешая ее на стену рядом с чеканкой. — Я это все называю «литературщиной», простите мне мой жаргон. Все эти темы — это последний уже заповедничек, где еще поэту живется. Раньше он, бывало, смело брался объяснять теорию твердого тела или походя набрасывал проекты идеального общества. Ну, а когда специальные дисциплины все это у него отобрали, ему еще осталось топтать последний газончик с табличками: единство, душа!.. Ну, в общем, зубробизоны, последние экземпляры… Только не сердитесь…
— Я понимаю, мы все очень горды, — по-прежнему серьезно и тихо ответил Растокин. — Да и в самом деле, многое можем по части там северных городов или прочих концепций. Ну вот, когда речь идет о себе, о каком-нибудь сне: проснулся, а лицо все в слезах… Или, ребенок вскрикнул, очнешься, а это ты сам с седой головой… Вот тогда мы не знаем, что делать, куда бежать… Мы просто беспомощны…
— Ну, если нервическое и врач не поможет, то придется в заповедник, к зубробизону, к нашему тотемному зверю…
Ковригин почувствовал длинную, как удар хлыста, боль через грудь и спину. «Ну вот, не дает соврать. Просто детектор лжи да и только!..» — закрыл он в муке глаза.
Вернулись Антонов и Ольга, смеющиеся и горячие. Антонов забулькал вином над рюмками Завьялова и Растокина. А Ольга заслонила их близким, уже без смеха лицом.
— Что с тобой? Такое страдание… Это я? Что-нибудь не так? Ты весь изменился…
— Так, даже очень так! — отодвинулся он. — И танцуешь ты изумительно…
— Да мне все это не надо. Хочешь, уйдем? Побудем с тобой вдвоем. Я только и жду…
— Ну зачем же? Мне здесь хорошо. Среди людей, с которыми приятно. Есть о чем говорить. А то одичал по избам-то… Не находишь, что одичал?
— Тебе со мной тяжело. Ты словно меня боишься…
— Да ну что ты! Я бесстрашен. Вон как тот витязь чеканный!..
Растокин крутил в руке рюмку, прицеливаясь в маленький красный водоворот:
— Закрываем в душе заслонку, и никому не видно, что там у нас. Жена, добрый друг, сослуживец внешне милы, спокойны, а что там у них за заслонкой?
— В самом деле, что там у нас за заслонкой? — передразнил, раздражаясь, Ковригин. — Вы о себе или о нас обо всех?
— Главным образом о себе, — по-прежнему спокойно и благодушно ответил Растокин. — Но, подозреваю, у многих есть тайная мечта о единстве, о духовной целостности, и молча, немо ваш друг, сослуживец несут в себе эту мечту. Вся философия, вся культура — это усилие по обретению целостности и единства… Вы не согласны?
— Да какое у живого единство? О чем вы? Да в этой расщепленности — сила! Извлекаем сверхэнергию из своей расщепленности!
Джаз дунул на них свистящей, яростной медью.
— Пойдем… — сказала Ольга чуть слышно, тронув руку Ковригина. — А то, мне кажется, я сейчас разрыдаюсь…
— Да ну перестань! Все чудесно! С какой это стати?
— Мне больно…
— А ты обратись к Растокину! Он по этой части работает.
— Что мне делать? Уйти? Уехать?
— Не сейчас, подожди. Мы это обсудим…
И отвернулся к Завьялову, к его утомленному, заостренному лицу, ловя свое с ним сходство.
— Видел ваше детище в пустыне. Отличное детище…
— Да, наша матерь — пустыня… Когда там были и как? — Утомленность Завьялова исчезла, глаза стали желтее, песчанее, в стальных разноцветных точках. — Самого все тянет взглянуть на матерь-пустыню.
— Там у моря, за маяком, если идти на север… ну там, где водовод проложен… и два белых камня, напоминающих лошадей у водопоя, помню, я ловил там бабочек… Такая, знаете ли, страсть… И вот гнался, ударил сачком, поймал. Держу против ветра, и в кисее ее крылья огненно-красные, полосуют марлю, и ваш город с башнями, атомной станцией тоже словно в сачке… Так его и запомнил и вижу!
— Приятно, что мы познакомились. Хотелось бы поговорить поплотнее. Некоторые ваши идеи я готовлюсь использовать. Ваши пространственные концепции мне очень понятны.
— Что ж, в Москве повидаемся.
— С наслаждением слушал, как вы Зубкова распотрошили. Он, знаете ли, специально сюда прилетел, чтоб дискредитировать Северный город. Их мастерская свой проект выдвинула. Знаете, такой Версаль в Заполярье…
— Вот, вот, знаю этих аристократов, маркизов… Начинают все с гуманизма. Не спят, не едят, все о человеках пекутся. А в итоге вместо города — классически спроектированный ад с капителями и статуями на каждом углу. Памятник своей персоне возводят.
— Полстраны застроили своими беседками, — смеялся Завьялов. — Есть где играть в «казаки-разбойники»… И еще их тезис: строить в национальном колорите… Дома в тюбетейках, что ли?..
— Мне что понравилось там, в вашем городе, — вспоминал Ковригин. — Иду, а из ваших структур женщины свое добро на солнышко вывесили. Туркменский ковер. Казахская кошма. Русский половик. Украинские рушники. Такое ощущение: город, как инкубатор под солнцем, в котором происходит брожение разных компонентов и созревает универсальная жизнь…
Вот именно! И Северный город, какой он? Ненецкий? Чукотский? Он — механизм, который обязан блестяще работать хоть на Севере, хоть на Луне. А коврики в них стелите, пожалуйста!..
Опять ударило острием, вгоняя по шляпку в плечо. И медленно извлекать четырехгранный кованый клин, стиснув веки.
— Скажи им всем, что ты болен, что тебе невозможно сидеть, — тихо умоляла Ольга.
— Откуда ты это взяла? Мне хорошо! Я хочу танцевать! Пойдем, я не хуже Антонова… — Он поднялся, с силой беря ее за руки. — Ей-богу, мне хорошо!
— Ты наказываешь меня? За все, что было? Назад отбираешь? Тебе это нужно? Зачем? Я не понимаю тебя…
Он и сам не понимал, что за мука. Они стояли среди воющей меди. Лицо ее было в слезах.
Электрические люди
Подстанция звенела в ночи, как сбруя, в бубенцах изоляторов. Осыпала с гребенок искры. Медные вожжи стянули потное тело ГРЭС, и оно рвалось в них, мерцая красными топками, толкая пар из ноздрей, запряженное в эту топь. Лисы тихо выли на просеках, слушая ветер в стальных конструкциях, обложенные в тайге огнями буровых и поселков.
Три агрегата, врезанные в бетонный фундамент, как сияющие пузыри, сотрясались от рева огня. Вырабатывали непрерывную молнию. Четвертый, холодный и чистый, был уложен в купель. Вспыхнет мазут. Раскаленный пар ударит в лопатки тончайшего профиля. Двинется ротор. И город черной губой жадно выпьет новый глоток энергии. Шла последняя ночь перед пуском. Инженеры возились в шкафах, просматривая бесчисленные сервизы приборов. Копошились в сплетениях труб. И вдруг ультразвуком раскрыли дефект в водоводе. Изъян в двухтонной задвижке.
Вырезали ее автогеном. Выломали с хрустом, как окорок. И в трубе открылась дыра, словно полость в берцовой кости с вытекшим мозгом, с жирными отеками стали. Инженеры стояли над ней с несчастными лицами. Ночь над станцией гудела дымами и звездами.
Их собирали в маленький промерзший автобус, круживший по ночному городу под синеватым льдом фонарей.
Одного, хмельного, горячего, подняли из-за свадебного стола, грохотавшего рюмочным звоном. Невеста снимала фату, и розовый цветок жениха прижимался к ее груди. Скатерть горела винными пятнами, серебряной фольгой от конфет.
Другого разбудили в теплой постели. И жена, большая и белая, шептала ему. А он провел на прощание ладонью по темным ее волосам. Сунул железный кулак в рукав полушубка.
Третий сидел, закатив глаза, и слушал бульканье радио. Тихую тамбовскую песню, залетевшую на зимнюю Обь. И было ему горячо и печально, когда в дверь его постучали.
Четвертый сидел над книгой, сжав до румянца скулы. И в узких, острых его зрачках отражался чертеж. А ноги в носках двигались по узорной кошме, присланной из аула.
Их привезли на ГРЭС. Мастер тыкал жестким напильником пальца в разорванное железо. Они кивали. Разматывали кабель сварки, шланг автогена. Их промасленные железные робы шумели, как кровельные листы. Станция смотрела на них круглыми изгибами труб, тысячью сияющих глаз.
Петр Чухнов щурил хмельные молодые глаза, работая автогеном, погружая газовый резец в черное железо. Из холодной толщи выступали алые губы, шевелились, шептали Петру. Он касался их пламенем, не давал погаснуть. Губы целовались с огнем, а в Петре звенели его хмель и радость. И не темное литое железо лежало перед ним на бетоне, а ее легкое, гибкое тело на сверкающей оси кружилось и танцевало, отражаясь зеркальными вспышками. Хлопало его по глазам душистой медью.
«Ну еще, ну еще! Для меня танцуй! Не жалей каблуки, завтра пойдем, туфли новые купим! Чего еще? Платье, духи? Хочешь с бисером, как у Кланьки? Бросай ты свою работу, чего к столовке своей прилепилась? Заработаю, шубу куплю из песцов! Кланька увидит, ахнет! Когда за меня замуж пойдешь?..»
Он бормотал и смеялся в шуме своего аппарата. Турбинный зал казался ему свадебным огромным столом, от которого его увели. Ротор в черном кожухе, застегнутый на пуговицы болтов, был как жених. Фирменный знак горел наподобие цветка. А она танцевала, расплескивая медные пряди под самыми перекрытиями свода. Он обнимал ее, а она от него ускользала.
«Выходи! Не хуже, чем эта, свадьбу устроим! Я автогеном сто шуб тебе заработаю! Кланька про меня наговаривает — не слушай! Только скажи, и рюмку в рот не возьму. Да ей же обидно, Кланьке, что с ней гулять бросил. Видишь, тебя люблю!..»
Он двигал струей огня, словно кистью. Выводил цветы на крае белого блюда. Взять на поднос и нести, не пролив, розовый борщ в золотистых кольцах, в ароматном облаке пара. А она выскакивает из-за кипящих кастрюль, в блеске огня, заленоглазая и горячая, несет другие тарелки. Люди в робах бережно их принимают. А она ныряет в пар раскаленной плиты.
«Главное что? Жить, не оглядываться! Ничего не жалеть! Тряпки — тьфу! Если надо, магазин закуплю! Меня люби, я тебя! Кланьку не слушай! И столовую брось. Тебе с такими глазами в кино сниматься. Ты же артистка! Как поешь, как танцуешь!.. Танцуй для меня!..»
Он выписывал вензеля на стали, прогревая ее, обдувая жаркой струей кислорода, нежно касаясь. И сталь оживала. В ней открывались глаза и вновь закрывались веками. Они шли вдвоем под голубоватыми фонарями. Снег скрипел от мороза. У белого берега ледяная хрустящая лодка. Они садятся, обжигаясь о наледи. Их несет среди сугробов. Она прижимается к его распахнутой горячей груди. В небе круглятся многоцветные, исходящие кольцами луны. Она притягивает его жадно к себе. Шепчет: «Согласна… Пойду…» И на повороте протоки заглянула к ним в лодку бетонная громада трубы, помигала красными глазами и скрылась.
Петр Чухнов стоял на полу, на коленях, перед железной задвижкой. Водил по ней автогеном. В холодном черном железе сквозило белое тело, ее губы, глаза, ее чистые юные груди. И он боялся дохнуть, любуясь своей работой. Станция ревела вокруг колесами и валами турбин.
…Виктор Губкин надвинул на худое лицо панцирь маски. Стиснул рукавицами трезубец электродержателя. Нацелил на кромку стальную иглу. Легонько коснулся. Трескучая звезда взорвалась, заиграла. И он ощутил ее глазами, губами, словно живое, вылетевшее из него существо.
Сквозь маску зеленое кипение металла. Раковина в железе, как нарыв. Два луча. Запах озона. Рука несет на себе пузырь раскаленной стали, невесомую тяжесть звезды. Магистрали окружают его сжатыми потоками пара. Сыто урчат турбины. И он принимает на себя давление воды и огня. Электрод выкипает в его руке.
Перед тем как ему уйти, они лежали с женой в зеленоватом блеске окна. Живот у нее горой. В ней бьется младенец. И она, прижимаясь к мужу большим и горячим телом, шептала:
— Они мне говорят: не роди… Что в поясе узко и надо сечение. Или он, или я — выбирать… А я говорю: секите!.. А теперь вдруг так страшно стало. А вдруг умру? Вдруг, Витенька, я умру? Вот он тут бьется, ножками дергает, будто от меня отбивается, боится меня. Ну чего он, глупенький, боится? Разве у меня есть кто дороже? Ты да он. Для вас живу. А он, глупенький, отбивается…
Он слушал шепот жены, боялся пошевелиться. Думал: неужели это она, огромная и горячая, с шевелением припухших губ, лежит и боится смерти? И их нерожденный ребенок просится, рвется наружу? Неужели она, с которой ныряли в синеватой быстрой воде, и ее желтый купальник исчезал, появлялся? Они неслись босиком по траве. Стремительно-легкая, она разбрасывала маленькие радуги. И потом в кино все пахло от ее волос прохладной влагой, и тихонько смеялась, сжимая в темноте его руку. Неужели она, веселая, милая, приняла на себя огромную тяжесть и ушла от него далеко в своем страхе, любви? А в нем в первый раз возникло знание об этом мире, как боль, непонимание. И он думал: как жить в этом мире? Как в нем жить, умирать?
— Я его так люблю. Чувствую в себе его руки, ноги, его лицо. Уже вижу, какой он. Чувствую всю его жизнь, как родится, станет расти. Я бы вся в него перелилась. Всю себя по капельке отдала. Только б его никто не обидел. Только б ему не было худо… Если меня не будет, ты его не бросай. Если другую найдешь, все равно не бросай. Пускай ему горько не будет. Ты обещаешь, да? Обещай, что не бросишь…
Он боялся пошевельнуться, чтобы не пролить эту боль. Не двигаться, а слушать без слов ее дыхание, ловить ее близость и их исчезание. Будто уплывают во тьму, мимо зеленого ночного окна, и кто-то с нежностью их провожает. Но это искрился ночной фонарь. Жена расправляла воротник своей белой рубахи. И он думал: как ему жить? Что делать, чтоб она не исчезла?
— Когда это уже начнется со мной, ты где-нибудь рядом будь. Ну хоть под окнами или в коридоре. И когда я там буду лежать, то думай о чем-нибудь хорошем, нашем. Ну, как доставали кувшинки или как молоко пили… Помнишь, какой был кувшин, как бабушка его нам протянула?.. Думай об этом, и мне будет легче, а ты уж за меня потерпи…
Он гладил ее волосы, что-то шептал. Умолял, чтоб ей было не худо. Чтобы все прошло хорошо. И когда в дверь его постучали и надо было идти, он взглянул на лицо жены, словно вышитое на подушке, стараясь его в себе унести.
И теперь, стоя перед недвижной турбиной, закутанной в белый чехол, перевитой проводами и трубками, он думал, что это жена, недвижная и затихшая. Над нею блеск инструментов. И в дышащей плоти — тело готового народиться сына. И надо спешить, ибо теперь от него зависит успех всего.
Виктор Губкин касался железа легкой, шумящей звездой. Она играла, дышала в его руках. А сверху, из сплетения труб, смотрело лицо жены, большое и беззащитное.
…Киприян Стеклов надвинул на седую голову пластмассовую каску. Ссутулил костистые плечи, будто под робой были сложены твердые длинные крылья. Пустил шлифовальную машинку и, примерившись, коснулся камнем звонкой кромки металла. Жужжащий диск вышиб из стали маленькую злую комету. Она впилась Киприяну в живот, стараясь прогрызть до тела брезент одежды. Отскочила. А Киприяну казалось: домашний котенок играет, ластится к нему. И хотелось его поймать и погладить.
Перед тем как прийти на станцию, он сидел в общежитии и слушал по радио тягучие крестьянские песни. Те, что пели когда-то старики в его тамбовской деревне. Было ему от песен печально, и он вдруг подумал, что жизнь прожита, голова его вся седая, плечи стянуты невидимыми сухими ремнями. А ведь было такое: он мальчишкой стоит на горе, некошеный луг за рекой, и у него из спины вырастают длинные широкие крылья. Сейчас сорвут и кинут его в туманную от пыльцы луговину.
Как оно так случилось: вот и жизнь прожита, нет ни семьи, ни дома. А вся его сила и молодость расточилась по огромным пространствам, где стучал топором, обшивая лесами кирпичные стены заводов. Ворочал вибратором в горячем парном бетоне, закладывая тело плотин. Наваливался на отбойные молотки в антрацитовой лаве. Так и вышел весь гулом моторов, стуком колес, дымом огромных труб. Как жил и что нажил? Куда торопился? Зачем, за какой погоней сорвался из тамбовского захолустья?
Он работал, полируя задвижку, и было ему печально, и хотелось припомнить свою темную над речкой деревню.
Вот прорубь, зеленоватая, подернутая легчайшим паром. В дрожащей промоине пестреет зимнее дно. Мужики топчутся шитыми валенками в красной резине по обледенелому краю, тянут пеньковую сеть. Выволакивают ее с журчащей водой, расстилают, хлюпающую. И пенька одевается хрупким морозным звоном, стекленеет, шуршит. И в кошле — щуки, сомы, налимы, бьются в снегу. Бабы бросают их в ведра. А он, Киприян, держит радостно негнущуюся, полумесяцем щуку. И деревня вся в высоких дымах.
Дождь пробивает липы, выстилает сумеречную лесную землю холодным стеклянным блеском. И в сырости, шуме — шевеление, движение. Лезут грибы, прорывая сплетение корней, как стоглазое глянцевитое диво. И страшно ступить на живое, растущее. Он нагибается над белым грибом. Отламывает его с хрустом. Трогает губами, щеками, радуясь его тяжести, силе. Лукошко упруго расперто. В нем бархат и белизна сквозь дубовые листья, шумящие от дождя.
Их луг за рекой выкошен наполовину. Жар высыхающих трав. Тихие перезвоны миллионов стеблей с меркнущими цветами. И в его руках гаснущая, сбитая полевая геранька. Девочка в белом ситце сидит у балагана, у брошенных грабель и кос. И гвалт мужиков, и женские раскрасневшиеся лица. А он замер в напряжении тонкого тела, глядя на девочку, на ее маленькую босую ступню с нежно белеющей косточкой. В ней растущая тревога и сладость. Хочется подойти и накрыть зеленой охапкой девичью ногу.
Боже мой, с ним ли это было? Он ли стоял тогда перед сухим балаганом? Перед ним ли горела геранька, белела девичья нога? Отчего не вспомнил об этом ни разу ни в шахте, ни в бетонном гудящем месиве? А тут словно дверь отомкнули. И вот эти дали родные, разливы, серпик над рощей.
Что же делать? Как дальше жить? Куда нестись, мчаться? Откуда эта боль и печаль? Голова его вся седая, плечи как твердые окостенелые крылья, и он один на всем свете, и как быстро все прокатилось!
Отложить сейчас в сторону огненное железо. И прямо на мороз, на вокзал, на ночной проходящий поезд. Назад, через все пространства, в тамбовское его захолустье. И не снег, не сугробы, а за речкой июльский луг полон росы и цветов, и идти в его холоде на легких юных ногах. Заря каплями стекает с отточенных кос. И там, среди хруста и звона, все стоит балаган с потемневшими ольховыми листьями, и цветочек гераньки, как меркнущий глаз, и маленькая девичья нога из-под ситца. Подойти и накрыть ее теплой шелковистой охапкой.
Киприян Стеклов задыхался от нежности и печали. Водил шлифовальной машиной от плеча к плечу, будто косой, осыпая летучие ворохи. И ему казалось: сквозь железное сплетение труб, уханье и грохот турбин колышется луг в цветах. И он шагает с расстегнутым воротом, сбивая сырых мотыльков.
…Мирас Утарбаев усмехался скуластым лицом, смазывал задвижку машинным жиром. И в узких, острых его глазах отражался турбинный зал.
Его оторвали от чертежа, который он вывел рейсфедером в своей дипломной работе. Привезли на станцию и вручили слесарный набор. Он ловко ощупывал стальные детали, будто лепил их, ловя в материале невидимые жилы и мышцы.
Чертеж агрегата, оставленный на подрамнике, жил теперь в нем как образ. Ему казалось, что сияющий вал входит ему прямо в живот. В мышцах и нервах копятся заряды света, и он излучает их в беспредельность.
Он усмехался, подносил к губам оцарапанную ладонь. Слизывал капельки крови, ловя на губах ароматы озона и стали. Сам себе казался громадой электростанции.
Он стоит посреди тайги, окутанный дымами, уходя головой в тучи. Волосы его топорщатся, стоят от скопившегося в них электричества в мерцающей голубой короне, в фарфоровых подвесках. Всей массой летят к земле, ложась миллионами волосков на высоковольтные мачты. Он накрывает шатром волос Сибирь, Казахстан, Урал, и птицы садятся на гулкие медные нити.
Он усмехался и радовался, чувствуя себя источником сверхмощной энергии. Думал, кому он ее пошлет.
Он посылал ее любимому поэту, который не спал вместе с ним в этот час. Сидел под горящей лампой над белым листом, водя быстрым пером. Выкованный тонко листок. Дрожащие глаза человека. И в этом листке бьются батыры, гремят доспехи и шлемы, кони грызутся, и стрела дрожит в чьей-то дышащей груди. Капля света освещала битву. Станция грохотала подшипниками и валами.
Трубы взлетали вверх, превращаясь в сияющие фюзеляжи. Рушились с громом, как эскадрильи перехватчиков. Уносились в далекие пролеты.
Мирас посылал энергию своему другу Сабиду, работающему на угольном открытом разрезе на роторном экскаваторе. Они вместе служили в армии, ломая танками Кольские льды. Вместе учились теперь, готовясь к защите диплома. Он посылал Сабиду энергию в родной Казахстан, для его ковшей и редукторов. А вместе с ней — письмо и приветы, которые летели от мачты к мачте.
Мирас усмехался, поглядывая на близкую турбину в асбестовой оболочке. Она была как пшеничный пирог. Разломи, и глянет голубая стальная ягода.
Он посылал энергию деду, умершему два года назад. Лежавшему посреди степи в одинокой мазаре. Провода гудели над неглубокой могилой, охватывая легкие кости кружевом незримых разрядов. Будто баюкали старика. А вместе с ним — те старые костровища с маленьким вялым огнем, и унылые песни пустыни, и отары овец, бредущие по степи. И дед, сухой и усталый, вешает чайник в огонь.
Мирас посылал энергию в тайгу к буровым, не давая им остыть и замерзнуть. И энергия возвращала ему отражение. Он копил в себе знание об этих просторах. О шоферах, застигнутых в пути непогодой. О кораблях на Оби, выдиравшихся из ледового плена. О зернах, дремлющих в борозде.
Он черпал из своей головы ковши света. Лил их в ночь, наполнял ее, как чашу, энергией своей собственной жизни.
Под утро желвак заглушки был вживлен в стальной ветвистый сосуд. Бригада разошлась по домам.
Один вернулся на свадьбу. Другой склонился над белым спящим лицом жены. Третий лег и забылся, ловя сквозь сон деревенский мотив. Четвертый стал на кошму и с пестрого войлока озирал незавершенный чертеж.
А когда солнце вставало в метели, состоялся пуск агрегата. Вспыхнул факел. Загудели форсунки с мазутом. Взбухли от силы котлы. Турбина зашумела в чехле. Инженеры медными трубами слушали рев подшипников. Сотни приборов повели усами стрелок. Пульт управления замигал огнями. Подстанция подхватила новую стрелу электричества, метнула ее в бесконечность.
— Ты уж прости меня, какое-то наваждение, что ли… И это не от сердца, нет. А то ли вина глотнул, то ли эти головы садовые, с ними разволновался… Ты прости мои срывы…
— Ни капельки не сержусь. Понимаю… Пустяки, я так и решила… Этот Антонов очень, славный, правда? Да и Растокин… Красный сок на снегу… И Завьялов, матерь-пустыня…
— Мне уже лучше. Сейчас быстро доедем до ГРЭС… В одно касание. Только одним глазком. И обратно. Лягу отдыхать… Ты, наверное, права, надо в Москву. Наверное, полетим. Надо собой заняться.
— Ну конечно!.. А может, не надо на ГРЭС?.. Давай вернемся. И сразу ляжешь Давай я скажу шоферу?
— Нет, нет, доедем. Только одним глазком… Я эту ГРЭС хотел посмотреть… Экспериментальная, тут на северных топях. От нее целое семейство начнет размножаться, дальше, к Полярному кругу… Новое поколение ГРЭС… Взгляну, и хоть завтра летим.
— Хорошо. А в Москве покажешься хорошим специалистам. Может быть, в клинику, ну знаешь, полусанаторного типа, где-нибудь за городом, в каком-нибудь лесу… Стану тебя навещать после занятий…
— Все так и будет… Рад, что не сердишься, что простила.
Они катили в пустом рабочем автобусе по бетонке, встряхиваясь на колдобинах. Ольга в тусклом освещении видела жеваную спину шофера, стриженый затылок и кепку. Клеенчатое сиденье, протертое, пропоротое бритвой, с вырезанной надписью «Галя». И лицо Ковригина над острым плечом. Думала: как хорошо, что смягчился. Что горечь его исчезла, что кротостью своей и терпением сумела его умягчить.
«И дальше так надо. Не показывать вида. И хитрить, умягчать, уговаривать… Очень, ведь очень болен… Завтра на рейс, и в Москву… И впрямь хитра как лисица…»
Предчувствуя близкий полет, глядя на его дорогие брови, и лоб, и сжатые, чуть видные в сумерках губы, хотела запомнить этот бедный, случайный автобус, поручень, стертый бесчисленными прикосновениями рук, надрез на сиденье с безвестным именем «Галя».
Они прикатили на станцию и вышли в моросящую льдистую темень с черно-синей ночной зарей, в которой ревело и вспыхивало неочерченное копошение и месиво.
Строительство ГРЭС в ночи. Будто рвануло землю страшным взрывом, раскрыв в котловане черные стальные коренья фундамента. Погруженные в гнилые торфяники. В булькающую вялую глубину. Наполняя ее бездонными железными позвонками.
Они шевелились, извлекались наружу, наращивая вещество, чешую, кольчатые ребра. Словно огромной пилой провели по спине и брюху, и в распил видна вся жаркая утроба стройки. Дышащие легкие. Бьющееся сочное сердце. Свитки кишок и сосудов.
Корень еще в земле, а бронированная башка, раздувая ноздри, пяля рубиновые глазища, отряхивает с себя мох. Набирает кольца и звенья, готовясь ползти к океану.
Ковригин смотрел восхищенно в гигантский пролом стены, понимая, любя непомерную конструкцию станции. В нее улавливались небо и ветер, воды, огонь и подземные газы. Все мешалось кипятком и паром. Обращалось в невесомый полет энергии над стальными тонкими мачтами. Возводили ловушку, монтируя ее из покрытых ржавчиной балок, драгоценных легчайших сплавов. И Север глядел напряженно в разлом стены ночной блестящей рекой, розово-синим глазом зари, будто слушал какофонию звуков, удары металла о металл, рокот компрессоров, скрежет электросверл.
Вот вспыхнуло снова, будто за ржавым железом зажгли хрустальные люстры в подвесках. Заметались фейерверки и сполохи и погасли. Запах сгоревшей стали. Рабочий в брезенте проносит железную полосу.
— Вот видишь, а ты говорила… На это стоит взглянуть, а потом на всю жизнь запомнить…
Они шли в сквозняках под куполом котельного зала, создаваемого из огромных балок и ферм.
— Вот он, наш храм-то!.. Вот она, наша душа… И наше единство. В нем вся судьба, всех нас… Всем нам памятник рукотворный!..
Он прижался к стене, к холодным подтекам. Отпустил от себя пропавшую в сумерках Ольгу. Железная решетка сквозила до неба рядами квадратных проемов.
«Что-то душно мне, — подумал он. — Куда же она отошла-то?..»
Краны катились под сводами, прочерчивая над ним то ржавым двутавром, то кипой стальных листов, то изгибом трубы. Исчезали в перекрестьях клети. Оставляли в них ношу. Беззвучно возвращались пустыми. Клеть росла, принимая в себя вещество.
«Тесно мне тут, — беспомощно думал он, стремясь наружу, разыскивая Ольгу глазами. — Куда же девалась? Сама говорила, домой…»
Станция рокотала подземно. И звучали высокие хоры. И кого-то проносили под негаснущей темной зарей. И, слушая голоса механизмов, он различал в них невнятно и грозно: «Ой ты сад, ты мой сад», а дальше не было слов.
«Обо мне они или как?.. Куда же она исчезла?.. Оставила тут одного…»
И вдруг он почувствовал, что конец его близок и время его сочтено, он начал жить последнее, что ему оставалось, и пора прощаться. И от этого смятение и ужас.
Ольга возникла из темноты, улыбающаяся, разрумяненная.
— Знаешь, тут удивительно! Хорошо, что пришли. Теперь я тебя понимаю, — говорила она возбужденно.
— Да? — сказал он, глядя затравленно, с внезапной ненавистью к ее молодости и взволнованности. — Ты думаешь, что меня понимаешь? В самом деле так думаешь?.. Ну так вот, ты не понимаешь меня! Не можешь никак понять! Ты слышишь меня или нет? Ты не можешь меня понять!
— Что случилось? — испуганно спросила она. — Тебе нехорошо?
— Да, мне нехорошо, но я хочу, чтобы ты уяснила… Ты считаешь, что понимаешь меня, и пришла мне об этом сказать. С ног сбивалась, чтоб успеть доложить. Но это необязательно, слышишь? Необязательно меня понимать! И даже лучше, здоровей и счастливей — не понимать меня вовсе! И быстрей от меня спасаться!
— Я тебя умоляю… — сказала она, пробуя взять его руку.
— Перестань меня умолять, — он вырвал руку. — Я не привык к таким выражениям, хотя ты их так любишь и хочешь меня к ним приучить!.. Ты меня приручаешь, думая, что еще осталось время. А его не осталось, слышишь? Для дрессировки его не осталось!
— Умоляю, пойдем отсюда!
— «Умоляю»… Проклятый словарь! Поганый словарь! Но все равно, лишь бы ты меня поняла… Ты думаешь, что ты мой поводырь… Заблуждаешься. Нет поводка, понимаешь? Тебе кажется, что есть поводок, а он оборвался… Или не было его никогда. Уходи, а меня в покое оставь! Можно меня оставить в покое?
— Я тебя оставлю в покое. Доберемся до гостиницы, и я помещу тебя в твой покой, — пробовала она улыбнуться.
А в нем все срывалось с основ.
— Вот что… Я должен тебе сказать… Наверное, должен был раньше, но все цеплялся по глупости, по подлости, по недомыслию… Оставь меня, ради бога! Садись в самолет и лети! Я сбил тебя с толку и каюсь! Потом еще буду каяться. И за эти слова, и за все, но теперь улетай!.. Мы разные с тобой, совершенно! Нам разное предстоит совершить!
— А ты говорил, что едины, что нам предстоит одно…
— Я лгал, заблуждался… Все это не так!
— Но это так, я же знаю.
— Вздор, что за вздор! — смеялся он визгливо и с кашлем. — Думаешь, что мы можем быть вместе? Жить под единой крышей? Иметь детей?.. Ты об этом мечтаешь?.. Так вот, мы не можем быть вместе! Не можем жить под единой крышей! Не можем иметь детей!
— Почему?
— Потому, что я скоро исчезну, а тебе предстоит продолжать. Разные в жизни задачи!.. Твой румянец, твой радостный лепет, твое упование на счастливый конец — все это кажется мне глупым и оскорбительным! Я все это видел, поверь, и не хочу начинать сначала. Моя жена, с ее умом, красотой, с которыми тебе не сравниться, вот она меня поняла! Она от меня ушла! Дала вздохнуть напоследок! Не мучила меня суетной глупостью!.. Если видишь, что мне с тобой тяжело… что я тобой тягощусь… Если есть в тебе хоть капля понимания… Уходи! Исчезни!
Он гнал ее своим криком и ненавистью. И она, ослепнув от этого крика, усиленного гулом и скрежетом, побежала, спотыкаясь и путаясь, а крик ее нагонял, колотил болтами в затылок. У входа ей поднялся навстречу человек в перепачканной робе. Дунул в тонкую медную трубку. И станция откликнулась огнем и ревом, изгоняя ее из врат.
Ковригин, измученный и потрясенный, выбрался медленно следом. Наткнулся на промерзший пустой автобус со спящим шофером. Улегся, забываясь, на клеенчатое ледяное сиденье с вырезанным именем «Галя».
Ковригин спал, скорчившись на сиденье, слыша сквозь сон, как заводили автобус, перегоняли куда-то, как он наполнялся людьми. Кто-то тяжелый и тучный опустился рядом, притиснув его к железной бортовине. Борясь с усталостью, с ледяным жжением сквозь плащ, он с мукой просыпался, оглядывался. Было утро. Автобус мчал по мокрой бетонке сквозь сырой лес. И в нем гомонила сменная вахта нефтяников.
— Гаврилыч, а Гаврилыч, что у тебя голова-то в пуху?
— Да это его за вчерашнее баба щипала.
— У нее небось с его головы перина уже набралась. А, Гаврилыч?
— У него Митрофановна — женщина строгая, твердая. Он ее специально с Татарии вывез. У нее язык наподобие победитового долота. Можно в скважину спускать для скоростного бурения.
— Гаврилыч, давай ее к нам, на четвертую буровую, на твердые грунты!
— Не, она не пойдет. Она вчера у Гаврилыча в голове пятую скважину в кусте заложила. Все нефть ищет, а у него, где ни пробурит, все вино!
— О-го-го! А-га-га!..
Они смеялись так, что трясся автобус. Молодые, малиноволицые, в плотных, домашней вязки свитерах и брезентовых робах. Пихались под бока, ерзали, стискивая Ковригина.
«Куда-то еду… Куда-то везут… И опять против воли… Только бы не пришлось говорить, только бы не спросили… А упасть бы под какой-нибудь куст, глазами в мокроту и колючки… Забиться бы в нору по-звериному… Так нет же, опять спасители сыщутся! Станут кольями из норы выбивать!..»
Он чувствовал, как отделен от людей незащищенным страданием. А они, не видя его обнаженности, трут его своими железами, своими румянцами и щетинами. И он закрывал глаза от мучения…
Замелькали сквозь сосны серебристые, невесомые цилиндры. Потянулись сквозь вырубки трубы. Насосы-качалки колыхали своими клювами. Автобус свернул с бетонки, погружаясь в расчерченные квадраты месторождения. Остановился у буровой, разметавшей взрывом тайгу.
Бурильщики высыпали, гурьбой направились к красным вагончикам, махая сменной вахте, крутившейся среди дизелей. А Ковригин шарахнулся, ускользая от взглядов, скрываясь в кустах.
Месторождение — волнистые брусничники и черничники, чешуйчатое красное мелколесье. Рассекли прямыми ударами, испахали крест-накрест. Засеяли стальными семенами, и они сквозь зеленые мхи проросли высоковольтными мачтами, блюдцами ретрансляторов, гроздьями насосных станций, сияющими пузырями нефтехранилищ.
«Забиться под куст, исчезнуть, чтоб не искали… Чтоб не мучили, не спасали… Чтоб и я никого не мучил… Перед всеми чист, свят и белую рубаху надел…»
Ковригин спотыкался, кружил по просекам, путаясь в обрывках тросов, увязая в рытвинах, утыкаясь в насосы, качалки, в будки трансформаторов. Он не видел людей и казался себе единственным, пойманным в гигантскую клетку. И только деревья и ягоды бились вместе с ним в западне.
Он остановился, изможденный. Болотная лужа чернела в налете радужной пленки. Из обрезка подземной трубы разноцветно, с тихим шипением, брызгала вода. Сиреневый цветок иван-чая качал мокрой листвой. Ковригин застыл, чувствуя дрожание недр.
«Сроки мои сочтены, а не готов, не прибран… Кто меня приберет и отправит?» — думал он робко, стремясь победить свою панику, остановить свое разрушение.
Приблизился к луже и теплой рукой зачерпнул красно-синий тончайший шелк расплывшейся нефти. Смотрел, как текут по ладони цветные разводы жизни, безгласной, безмолвной, падают неуловимо сквозь пальцы.
«Может, этим я стану?»
Подошел к трубе, окунул кисть в шуршащий водомет, поразившись его теплотой и жемчужностью, термальными подземными запахами, недавним пребыванием в нагретой сердцевине земли. А теперь вода орошала ему брови и губы и о чем-то звенела. О невнятной, недоступной пониманию жизни была ее молвь.
«Или ею, безымянной?»
Влажный цветок кипрея чуть качался под ветром, в Ковригин старался понять, где лицо у него, где глаза. Но кипрей смотрел на него десятком маленьких лиц, не замечая его.
«Или им… Или ягодой клюквой…»
Но не было веры и знания. И страшен был сам переход, само погружение в землю. Там, в глубине, шла страшная игра и работа. Насосы из водяных горизонтов выхватывали воду и, сжав ее, рушили в пласт, нацелив в нефтяные скопления. Взрывались водяные шары. Били в нефтяные зароды. Срывали их с крепей, сминая в комки. Подгоняли под щупальца скважин. И те выпивали их жадно, ввергая в движение по трассам. Недра пузырились и пучились, в них не было тишины и покоя.
И он стоял потрясенный, без веры, без знания, трогал цветок иван-чая.
Ночью на станции приложили к его уху раструб и сквозь грохот сказали негромкое, ясное слово. О его конце. И он был застигнут врасплох. Выкрикивал что-то ужасное, что-то позорное, о чем вспоминать невозможно.
«Да что же, в самом-то деле? Будто раньше не думал?
Под пулями так не боялся. Будто не верил, не знал… Да, не знал и не верил. Был глух, иные звучания… А тут — столь ясно и тихо, сквозь все грохотания…»
С отвращением подумал о возвращении в Москву, о докторах и больницах. И возникла неясная, сладко-больная мысль: исчезнуть, как зверь или птица, чтоб следов не нашли. Проделать остаток пути на последнем остатке жизни к той заполярной черте, где воды, и синие тундры, и блуждание льдов в горизонтах.
«Как глухарь… Как волк… Как осетр… Без глаз посторонних».
От этой мысли, от образа птиц и зверей возникла надежда. Он шел через ломаный лес, неся в себе эту надежду.
Его вывело опять к буровой. Она чернела в дожде, окутанная гарью. На помосте под брезентом сотрясались моторы. Бригада, свинченная с буровой в железное топотание, давила сапогами сочные потоки из скважины.
Ковригин смотрел на них, узнавая недавних, из автобуса. Но не было веселья, румянцев, а ходили желваки и жилы, воспаленно светились глаза.
— Эй, что встал! Сторонись! — крикнули у него за спиной. Малый в робе, надрываясь, проволок металлический трос.
Неизреченное слово
«Лететь, не лететь? Ну, лететь, не лететь?.. Сунуться вслед за вахтой, за их полушубками. За шапками, за хохочущим Бузылем, несущим в коробке полуудавленного зайца, попавшего в стальную петлю. Полчаса в ледяной скорлупе, прижавшись к дрожащим шпангоутам, в грохотании, глядя, как тундра краснеет от солнца и заячье ухо торчит. И Иртыш, белым серпом врезанный в тундру, и янтарная россыпь поселка среди синего острова елей. Прямо с мороза войти к жене. Ледяные распухшие руки — на ее горячий затылок. И она снимает с меня мохнатую шапку, расстегивает пуговицы полушубка…»
Вертолет дрожал в свисте винтов, секущих перьями воздух, сметающих острую пургу с ободранных елей. Волнистый столб снега поднялся в зеленое небо, затуманил низкое солнце, иглу буровой, засасывая в себя вертолет. Машина взмыла упруго, косо понеслась, уменьшаясь. Сверкнула, как капля, обращаясь в точку.
«Ну вот и остался… А ведь лучше б лететь…» — думал Малахов, вслушиваясь в ровный гул дизелей. Буровая коснулась солнца. Фермы покраснели, распухли. Казалось, сталь, размягчившись, согнется надвое.
— Эх, надо было лететь! — сказал он мастеру Саркисину, топтавшемуся тут же. — Чего я раздумывал?
— Завтра улетишь, не волнуйся. Днем больше, днем меньше… Да к вечеру здесь вездеход пройдет. Гаврюха с седьмой буровой будет домой пробираться. С вездеходом поедешь…
— Верно.
— Пойдем-ка к Андрюше. Он что-то к себе зазывал. Прощальное угощенье готовит.
Малахов взглянул в небо. Там летело огромное облако, как бегущий огненный заяц.
Геолог Андрей Самарин сидел в натопленном жарко балке, на застеленной кровати. В лисьей пушистой шапке, красивый, тонколицый. Отвороты его черного полушубка кудрявились белой овчиной. Бурильщик Котяра, в замасленном ватнике, чистил самаринский карабин, проливая капельки масла. Поддакивал самаринским шуточкам, глядел на него с обожанием. На столе возвышалась бутылка заморского виски. На полу лежал огромный глухарь, лиловый до черного блеска, с заплатами алых бровей. Крылья были распахнуты, словно тугие вороненые рессоры. И от него шел могучий аромат птичьей убитой жизни, леса, крови и выстрела.
— Не улетел, Петрусь? И чудесно! — обрадовался вошедшим Самарин. — И куда торопиться? Расстаться всегда успеем. А когда еще встретимся?.. Ты послезавтра исчезнешь. Я — через две недели. А Марик — к весне… А все-таки мы здесь сдружились, сошлись. Пир закатим. Вот мой подарок обществу!..
— Хорош глухарище! — восхищенно сказал Саркисин, осторожно трогая птицу. — Когда же ты его?
— Да только что! Не успел отойти. Буровая была видна. Да тут и второй где-то был. Вертолет спугнул. А ну, Котяра, покажи трофей!
Котяра отложил ярко начищенный карабин. Подскочил к косачу и, приподняв руками за крылья, а зубами за пернатую шею, закрыв им себе грудь до пояса, заскакал, заскулил, поднося добычу Самарину.
— Ну, ну, Стрелка, умеешь! — потрепал Самарин Котяру по загривку. — Лучше пойди ощипи, да выпотроши, да испеки его, что ли, на кухне. А мы тут пока побеседуем, стол накроем.
— Слушай, Андрюшка, — сказал Саркисин. — Да что мы тут будем, в балке-то! Пошли под елку. Там и зажарим. Все-таки природа. Это больше запомнится.
— Да холодно.
— Ну что ты, холодно! Дров натаскаем, кострище разложим… Скажи, Котяра!
— Вольнее, вольнее, — хохотнул Котяра, поглядывая на заморскую бутыль, на Самарина, за которым ходил как тень, обожая его голос, лицо.
— Ну что, Петрусь, под звезды?
— Согласен, — кивнул Малахов.
Поднялись шумно и молодо. И, выходя из балка, Малахов заметил на полу капельки ружейного масла и крови.
Они выбрали одинокую ель у края болота. Котяра кинул на снег глухаря, неуклюже затанцевал, затоптался, вминая снег, проламывая наст для костровища. Самарин кинул тулуп, выложил на него бутыль, хромированные рюмочки, охотничий нож с инкрустациями. Саркисин обрубал топором сухие, звонкие лапы. Звякало железо. Отражало зарю. Буровая чернела на гаснущей зелени. И убитый глухарь медленно утопал, прожигая теплом свежий наст.
Малахову казалось: там, в глубине, в каменном мешке аргелита, другой огромный глухарь заполнил подземные емкости черной невидимой жизнью. К нему рвется долото победита, кроша костяную твердь. И в клекоте, плеске взорвется в небо, распоров снега, гигантское перо глухаря. Вспыхнет факел, как бровь. Но пока первобытная птица дремлет в яйце аргелита. А они топчутся над ней — их смех, голоса, дыхание.
— Котяра, вон там елка распилена! Для бани-то брали… Пойди притащи! Для костра вот так хватит! — командовал Самарин, весело, бодро взглядывая. — Иди, Петрусь, посиди. Посиди на дорожку…
Костер хрустел, стискивал огонь острым колючим комом. Будто красный лес свернулся в клубок, грыз сам себя. Пламя проедало темные ребра, тонко сочилось. Котяра отдирал от глухаря черные щепы перьев.
— Жаль, что разъедемся, — говорил Саркисин, уставясь в костер чернильными точками. — Как уж тебе, Андрюшка, не знаю, а мне жаль. Я, понимаешь, сроднился. Столько переговорили… Даже больно, правда?
— Да не умираем же! — рассмеялся Самарин. — Будешь в Москве, заходи. Встречу как родного.
— Э, нет! Там-то все по-другому… Это вот тут мы одно, в чащобе. А там мы разные люди. Ты профессорский сын, у тебя вон диссертация на подходе, свои знакомства. Ну, а я что? Был и остался полумастер. О чем ты со мной будешь говорить? Это тут я тебе собеседник, а там?..
— Да ну, перестань! Как не стыдно!.. Любишь ты самоуничижаться… Приезжай, встречу от сердца. Везде своя прелесть. Тут — своя. В Москве — своя… А соскучился я, братцы мои, по Москве!
— Счастливая у тебя натура. Везде ты прелесть находишь. Тебя, наверное, и любят за это. За то, что везде тебе прелесть. Тебе и глухарь за это на голову сел.
— Эй, Котяра! — повернулся Самарин. — Ты петуха-то почище. Да потом опали…
— Вав! — отозвался Котяра. — Есть, ваша честь!
Глухарь, голый, составленный из мускулистых бугров, колыхался на ладонях Котяры. Тот оттягивал петушиную шею, ногу с растопыренными пальцами. Подносил глухаря к огню. Птичьи бока начинали лосниться. Пахло паленым пером, печеной кожей.
— Ты, Андрюшка, не поверишь, как был важен твой приезд сюда, — продолжал Саркисин. — Я тебе не льщу, говорю от сердца. Зачем тебе буду льстить, все равно ведь разъедемся. Но ты, понимаешь… Ты внес какую-то новую атмосферу, что ли. Все как-то изменились около тебя. Новые мысли, чувства. Новые настроения. А то ведь всех засосало в топях-то этих. Сам знаешь, дичь, глухота… Да нет, не отмахивайся! Это я тебе перед отъездом твоим говорю, потому что мне жаль. Вот от этого…
— Да ну, Марик! Ну станем писать друг другу… Встречаться. Самолетами ведь очень просто! — ответил Самарин благодарно.
— Самолетами-то просто, только этого ведь не будет. С глаз долой — из сердца вон. Да это и ничего. Не вечно же тебе с нами нянчиться. Ты свое дело сделал, дал толчок. И все мы тебе благодарны. Вот Котяра, знаешь как он будет тосковать! Если б не ты, он бы пропал. Точно тебе говорю. Он уже пить начинал. А что делать? Сначала в трясине полмесяца пуп рви, а потом весь куш полумесячный просаживай. Так ведь, Котяра? Начинал закладывать? Крепко? Только Манюшкин, дружок-то твой, так и кончился. И тебе бы за ним, кабы не Андрюшка. Он же тебя в спектакль привлек, в вечернюю школу заставил идти. Глядишь, через годик окончишь. А там и техникум. А там и институт. А там диссертация. И будет наш Котяра всемирно известным ученым, как твой отец, а, Андрюшка?.. Ну шучу, шучу! Котяра шутки понимает. А что спас ты его, это правда. Он и сам это чувствует. Готов за тебя в прорубь. А, Котяра?..
— Уж и в прорубь! — смущенно ухмыльнулся Котяра, преданно глядя на Самарина. — В проруби холодно.
— Ну, а я? — продолжал Саркисин. — Да ты сам не знаешь, какое ты на меня влияние оказал. Не специально, нет. А просто всем своим обликом, что ли… Даже лицом своим, выражением глаз. И как одеваешься, как к людям подходишь… Ну ты ничего, ничего, выслушай! Я тебе в любви признаюсь, и ты потерпи. Ты же знаешь мою историю. Знаешь, каким озлобленным был. Да и теперь во многом, но не так, не так, как раньше… С моим-то жизненным опытом, со всеми моими неудачами кто хочешь озлобится. Бывали такие минуты, когда думаешь: все бы к черту взорвал! Все кругом дряни, гады!.. Но это тогда, не теперь. Ты меня смягчил, что ли… Вот и музыку любишь. Я ведь тоже стараюсь. Я еще ее, понимаешь, не до конца… Джаз люблю, песни советских композиторов, а сложную, классику, все-таки не слишком. Но научусь, научусь! Вчера Генделя слушал, забыл какую симфонию… У тебя культура. Ты настоящий интеллигент, не какой-нибудь там замначальника по кадрам Трюфилин, который из себя интеллигента корчит. У тебя культура высокая. Тебя учили, тебе отец дал образование. Сам же рассказывал: домой учителя приходили, по-немецки, по-английски. Вот ты и получился такой. А я от тебя хоть немного… Вот музыку учусь понимать…
— Все пластинки тебе оставлю, — сказал Самарин. — Да ты прямо мне гимн поешь…
— Спасибо за пластинки. Стану слушать. Ты же знаешь, я решил с четырнадцатой экспедицией двинуть. На Уренгой. Как там слушать-то? Это же не наш поселок. Там опять все с ноля. Колышки, палатки, в печке солярка. Тебе-то не нужно теперь в полевых условиях. Ты уж для диссертации весь полевой материал взял. Теперь академическая работа — чисто, уютно. Ты ж у нас теоретик. Тебе место в Москве, в академии, под крылом отца. Зачем тебе болота бурить? В ледовитый грунт залезать?.. Это наше дело, практическое. Ну да мы привыкли. Будем там в краткую минуточку отдыха твои труды читать. Уж ты присылай, ладно?
— Ты будто попрекаешь меня? — удивился Самарин. — За то, что я диссертацию сделал?
— Да что ты, Андрюшка, что ты! Я рад, наоборот! Рад за тебя! Ты прирожденный ученый! Потомственный! У тебя же запас эрудиции, культура. И талант, талант! У меня, например, этого нет. Я средних способностей. А у тебя культура плюс талант, вот и отдача. Что ж из того, что ты в детстве больше калорий потреблял! Не беда, и пусть, зато вот отдача… И учитель музыки домой приходил… Может, ты благодаря этой музыке свою теорию аргелитов развил! Может, ты Генделя слушал и все эти земные структуры ощутил! Воображение… Такое ведь только под классику можно вообразить. А если, скажем, хором «Едут новоселы» или «Мчатся самолеты», очень хорошие песни, но если их запеть, то под них хорошо трос железный тянуть, а чтоб на тысячу метров увидеть — это только под классику. И твои пластинки в Уренгой заберу, где-нибудь поставлю, стану наши вечера вспоминать… Ну, а Вале ты что подаришь? Она ведь еще сильнее, чем я, отъезд твой переживает. Ты для нее все. Ты ей знаешь что… Ты ей подари альбом Пикассо. Она говорила, что следующий спектакль хотела в духе Пикассо оформить… Подари ей, ладно?
— Да я хотел, да… и этот альбом тоже, — ответил Самарин. — А Котяре — вот этот нож. Котяра, хочешь нож? На!..
Котяра взглянул на кривой блестящий клинок с перламутровой ручкой. Засопел благодарно, радостно. Затоптался, обжегся о пламя. Выхватил из огня огромную глухариную тушу.
— Тесачок что надо! — хмыкнул он.
Малахов смотрел на шаровидную петушиную тушу, заключенную в шар костра.
«Хорошо, хорошо, — их речи, слова… В них человечность и искренность. И недостаточность слов. И от этого неточность и боль. Но ведь это дар, чтоб душа говорила с душой, не нуждаясь в словах и мыслях. Мы просто не умеем иначе, а нуждаемся в длинных тирадах, в подспорье огня и света, яростной напряженной работы. И идем друг к другу через непонимание и косность, чтоб однажды предельно открыться друг другу».
Котяра рассек глухаря, засунул в разрез кулак, выдирая внутренности, разбрасывая их в темноту. Промелькнув над костром, они зависали на морозных кустах. Кисть у Котяры была в липкой красной перчатке. Он положил петуха на полено и рубил его топором, четвертуя, отделяя сочные кровяные куски с блестящими осколками костей. Складывал аккуратно ломти, и они лежали на бревне, как детали, из которых по желанию можно снова собрать глухаря.
— А что бы вы сказали, ребята, — снова начал Саркисин, — если бы вам дали анкету? Ну, да знаете, бумажку со всякими там вопросами, ну, как делали у нас для исследования… Или, скажем, какой-нибудь корреспондент пришел брать интервью. Дескать, вы тут романтики, землепроходцы, даже вот в такой мороз, в тайге, с глухарем. А что вот вы понимаете под словом «романтика»? Ответьте для наших читателей в самых общих словах, не включая сюда заработки и прочие там всякие вещи… Что бы вы сказали, а?
— Ты репетируешь выступление? — мягко усмехнулся Самарин. — Послушаем тебя с удовольствием.
— Ну да, я и хочу! Ты верно заметил, что репетирую. Да и доставить тебе, как ты говоришь, удовольствие. Ты ведь все делаешь с удовольствием… И вот, пока ты здесь, я и хочу. Буду вслух, а ты поправляй. Ну так вот. Возьмем, к примеру, Котяру… Котяра, можно тебя взять как пример? Он говорит, что можно… Вот он, Котяра, бурильщик первого класса, гордость всей экспедиции!.. Не смущайся, Котяра, ты заслужил. Но если спросить его, зачем он оставил Татарию и махнул сюда, на Обь, и отсюда уже наметил стрельнуть на Мангышлак, а там, голову на отсечение даю, сунется в Туркмению, в самое пекло, а потом, по моему письму, — мигом в Уренгой. Если его спросить, чего он всю жизнь так болтается, — только чуток обжился, въехал в балок, открыточки с девочками в головах прикнопил, и первые деньжонки уже появились, — так вот в этот самый момент его словно клюнут, в его, Котяры, прекрасный лоб. Девочек откнопил, билет на самолет, и с чемоданчиком, в одной рубашечке на ледяной север с приветом. Ты его спроси, какой же это его романтизм носит? На север приехал, потому что на юге жарко? На юг — потому что на севере холодно? Да нет, не поэтому! А потому, что в нем самом: в башке льдышка, а в спине сковородка. А носится, носится, отдирается вместе со своим чемоданчиком. Дичает, пока случайный случай не сведет его с таким, как вот ты, Андрюшка. И тогда хоть в спектакле начнет играть роли там всяких преступников или фашистов. Так ведь, Котяра?
— Так! — хмыкнул Котяра, суетясь над разделанным глухарем. — Ща жарить начну… Шашлык!
— Давай, жарь, Котяра! Сейчас шашлык. Потом строганина. А потом бешбармак… Ну да ладно, Котяра как романтический человек понятен. Хоть сочинение пиши!.. Теперь возьмем меня… Ну, а меня, скажи, чего носит? За деньгами? Да где мне их тратить? Для кого? Тут если туфли хорошие купить, все равно пройти негде — болото. Ну вот ты меня теперь надоумил, стану фонотеку копить. Буду тебе высылать по полсотни в месяц, а ты мне — пластинки. Конечно, если нетрудно, хоть иногда… Стало быть, не за деньги живу, а вроде бы бескорыстно… Но и дело-то это нефтяное я не больно люблю! Поверишь, нет, Андрюшка, не больно мне нравится этот трос железный из болота тянуть! Признаюсь, не люблю это дело! Я бы, может, лучше наукой занялся, и какое-нибудь там открытие, аргелиты какие-нибудь, да уж поздно сейчас. К тому же не буду у тебя хлеб отбивать… Так чего, чего я ношусь?.. А то, что тряхнуло меня однажды. Садануло, перепугало насмерть. И я помчался и с тех нор не могу остановиться. Вон Бузыль-то зайца поймал! Если бы он его из петли не в коробку, а обратно на волю, то заяц бы бедный метался как угорелый всю жизнь, пока сам себя не загнал. Так и я! Мне в обычной обстановке, с обычными людьми — в тягость! Я бы в конторе, в коллективе благородных, чистеньких да смышлененьких… дня не выжил! Мне бы из этих топей еще поглубже. А еще б лучше меня на Луну запустили, там нефть искать. Вместо накомарника — скафандр. Только вот телекамер не надо, пожалуйста, чтоб не глазели с Земли, как я отважно нефть ищу… Вот и выходит, Андрюшка, что ты среди нас единственный, кто знает, зачем живет. Ты же знаешь, зачем приехал? Диссертацию сделал — и обратно… Прогресс науки. Просто, понятно, красиво. Не то что Котяра. Или я. Или Петрусь вот Малахов, поэт, мечтатель… Ставишь цель, достигаешь. И попутно облагораживаешь среду… Поэтому мне и больно, что ты уезжаешь. Я и рад, и мне больно… Тоже противоречие, да?
Котяра уже жарил птичьи куски, пронзив их острой еловой веткой. Куски бурели, пузырились соком. Шевелились, как огромные черно-красные бусы.
Самарин смотрел в огонь. В его синих глазах блестели две золоченые ягоды.
Он держал горящую веточку с отломившейся серьгой уголька.
— Ты говоришь, цель… ставлю, достигаю… А я вот думаю, разве может быть конечная цель у жизни, которая и сама-то имеет конец? Не знаю, не знаю… Результат всегда есть, он остается, а цель исчезает бесследно, как и сами мы исчезаем… Вот ты говоришь, благоприятные условия, отец — профессор, диссертация… И все как будто с укором. Да, наверное справедливо, ибо почему я, а не, скажем, Котяра? Почему мне столько любви, с самого детства, столько тепла, сердечности, как ты говоришь, калорий, а Котяра мыкался в это время по детским домам? В самом деле, я будто с рождения попал в какой-то луч, теплый и светлый. И он ведет меня, ведет… А куда? Не знаю… Не к диссертации же, как ты говоришь… Да и что такое наша отдельная, частная цель? Каждый гонится за своим, сокровенным, а важен лишь общий для всех результат. Он один на поверхности. Он всех уравнивает: и умных, и глупых, и злых, и добрых — всех, кто принимал в нем участие. Все мы, милый, с нашими целями отживем и исчезнем, и останется от нас некий тонкий рисунок жизни, как отпечаток папоротника на камне… Меня всегда волнуют эти оттиски… Только ценой собственной жизни мог легчайший мягкий лист врезаться в твердый камень…
— Андрюшка, Андрюшка!..
Малахов смотрел в синие золотящиеся глаза Самарина. Темные ледяные снега наливались морозом, высоким звездным блеском.
Костер был малой областью жизни, стиснутой чернотой, и Самарин своими словами будто расталкивал этот твердый, беззвучный воздух.
— Эта нефть внизу, сургутская наша нефть. Мы берем ее в оболочки, вылавливаем, выдавливаем из болота, как из губки. Кидаем нефтепроводы на запад, на восток, на юг — без конца. Котяра ее своими нежными растресканными лапищами вынимает из земли… А пойма Оби?.. Покончат с паводками, излишки воды соберут в искусственные моря и двинут на юг, в Казахстан, и там хлеба поливные! Вода несметная… Весной-то разлив был, Турково, Савино затопило… Котяра девчушек с крыши снимал… Смотрю, наш Котяра девчушками обложился, полушубком накрыл, а сам голый, дрожит… А я старуху с петухом… Отпусти, говорю, бабуся, спасайся!.. А она молчит. Так ее в амфибию и снесли, сидела с петухом на корме!.. Возьмут всю эту воду в оболочки и метнут в Казахстан. В Темиртау, на домны и блюминги. В Аральское море, а то обмелело. И главное, в оазисы хлопка… И представляете, эти снега, эти льды где-нибудь обернутся краснющим арбузом, дыней!.. Да мы эту воду кристальную — в ту же Европу, в тот же Бонн, как драгоценный русский напиток. Они там совсем обезводели. И вот водовод из России в Германию, мимо Вязьмы, Смоленска, где группа «Центр» прорывалась, где Мантейфель в танке катил, где братских могил не счесть. По всему этому — серебряная труба водовода, и обская вода ко всем их гансам и гретхенам. Как образ новейшей истории, новейшей политики!.. Я вижу, я думаю, — тут, в этих дебрях, развернется невиданная цивилизация. На нефтепластах, на газе, на океане термального кипятка… А где-нибудь в основании будут лежать истлевшие глухариные перья, угли вот этого костровища… Вот результат, вот смысл!.. А наши отдельные цели, неудачи, успехи, — их как бы и не было. Они никому не известны…
— Ах, Андрюшка, Андрюшка, — хлопал его по колену Саркисин.
Малахов слушал и видел синие, с золотыми зрачками глаза Самарина. Синее пламя костра с рыжими осыпающимися углями. Лучи и плоскости света секут темноту. Ромбы и стеклянные призмы врезаются в морозную топь. Аэродромы сковывают болота бетонной коркой. Лайнер с клювом, распушив оперение, опираясь на огненный хвост, садится. Город в радугах перекинул через застывшую Обь иллюминированные мосты. Ртутный поток движения. Огненная дрожащая хорда. И из звезд, из дымных созвездий смотрит гигантский глухарь маленькими зрачками галактик.
«Еще нерожденные люди, — думал Малахов, — дремлют в материнских утробах. Вырвутся в эту жизнь. Прочертят эти пространства усилиями, судьбами, своими временными конечными целями. И исчезнут, как мы… Неужели из сожженной нефти, из океана огня и света не вырвется новое слово, срывающее с нас оболочку непонимания и боли, открывающее нас друг для друга в беспредельной огромной любви?.. Я предчувствую, знаю: оно где-то здесь, безымянное, носится под этой елкой. Оно в косноязычии Котяры. В ревнивых речах Саркисина. В синих зрачках Самарина. Оно там, у жены, — сидит она с иголкой у лампы, штопает свои маленькие варежки. Вздрагивает, когда под окном, развалив ночь пылающими фарами, с ревом проходит колонна, продираясь к Сургуту…»
— Вроде испекся, а? Шашлычок-то? Сырой, нет? — говорил Котяра, вытаскивая из огня тяжелый шампур, отгрызая кусочек, прожевывая и прислушиваясь. — Хорош! Есть можно! Наваливайся!
Он разложил на бревне дымящиеся обугленные ломти. Самарин раскупорил виски. Налил в хромированные рюмочки стеклянистую от костра, рыже-золотистую влагу. Все потянулись и выпили залпом мгновенную жаркую горечь. Заедали дымящимся мясом.
— Ну и Котяра! Ну и шеф-повар!
— Чуток пригорело, а?
— Нет, сладко!
— Ух, горько!
— А ну плесни еще!
— Будьте здоровы!
— Живите богато!
— За твою диссертацию!
— Лишь бы нефть была…
— А виски найдется?
— А глухарятина будет?
— Котяра, бармен, налей-ка…
— Есть, ваша честь!..
Они жадно и весело допили виски. Съели глухаря, покидав в огонь розовые кости. Самарин слил из бутылки в рюмку остаток виски. Кинул бутылку в угли, и она распалась с легким звоном, как льдинка.
Котяра топтался радостно, огромный и красный от пламени. Самарин вскочил, сбил ему шапку на лоб, обхватил за шею, и они понеслись, проминая наст. Захватили за руку Саркисина, притянули за собой, втроем, обнявшись, заскакали, огибая шар света. Сдернули с места Малахова, встряхнули, стиснули крепко. И все вчетвером, выкрикивая, высвистывая, понеслись, вытанцовывая, подбрасывая ноги.
— Дави, дави!
— Чтобы нефть была!
— Да фонтан вдарил!
— Еще шибче!
— Рюмочку не пролей!
В молодых головах вспыхивало от хмеля и радости. Между ними металось огромное костровище. Они прыгали над костром, комом проносясь над ветреным пламенем. Озарялись, обжигались на миг. Хватали головни и с криком метали вверх. Угли с тихим ревом взмывали, вычерчивая рыже-голубые дуги. Падали с шипением в снег.
Малахов, вырываясь на секунду из света, видел над собой блеск звезд, полет головни. А там, глубоко, подошвами подшитых валенок чувствовал нефтяной горизонт, к которому шел турбобур. А тут, между толщью нефти и звезд, — тончайшая пленка жизни. Их тела и движения. Хохот, скачки, дыхание. Волна горячего света.
«Хорошо, так и надо… Братство по жизни!..»
Самарин поднял рюмку:
— Котяра, ну? Сядешь в костер — тебе! А то никому… Десять секунд, и тебе! Заключаю пари! Новый аттракцион!.. Десять секунд в костре, или что такое Котяра! Ну!..
Котяра, гримасничая, сел на снег. Ломтями наста натер ягодицы. Приложил к ним два толстых обледенелых комка и сел на угли. Скороговоркой досчитал до десяти. Вскочил, как ни в чем не бывало, сбивая с ватных штанов тающий, дымный снег.
— Ай да Котяра! — хохотал Самарин, выливая ему в рот рюмку.
— Ай да Котяра! — гоготал Саркисин, приседая, хлопая себя руками по бедрам. — Ну, насмешил! И ты молодец, Андрюшка! Аттракциончик придумал… Как в пьесе… С богатым купцом… Сам на самолет, и ту-ту, а нам на память — последнюю сценку прощания! Чтоб запомнили тебя. Да, Котяра? Вкусно? Не спекся? А за Андрюшку и без штанов бы в угли? Ведь это же роль, роль! Запомни, будешь представлять. Скажешь, меня один благородный человек научил!
— Да что ты, Марик? — растерянно улыбался Самарин. — Это же шутка, а ты так принял.
— Ну, конечно, шуточка, а я ее по-дурацки воспринял! Такая маленькая веселая шуточка. Ты такой шутник. У тебя так тонко, благородно выходит. Нам всем с тобой так весело, так радостно за тебя, за твои успехи. Спасибо, что прибыл к нам, осчастливил… Мне вот про Генделя рассказал, а Валечке нашей альбомчик подаришь про Пикассо, а Котяре лишний глоточек виски уступил!.. Но только я тебе скажу: напрасно ты такой сюда заявился, напрасно! Не должен был ты сюда заявляться!
— Зачем ты мне все это говоришь? — бледнея, сказал Самарин.
— По дружбе, Андрюшка, по дружбе! — тонко насмехался Саркисин. — Мы же друзья, да? По гроб жизни? Хоть больше никогда не увидимся… Так это я тебе свои дружеские мысли высказываю! Чтоб ты понял: не нужно нам твое благородство и даже вредно! И чем скорей ты уедешь, тем лучше! Я ведь твою фонотеку-то, знаешь что? Я ведь ее поколю, пластиночки твои под вездеход покидаю! Мне другая музыка нравится! Котярины песенки до того, как он тебя увидал! Вот ты уедешь, а он опять запоет. Он за спиртик опять возьмется. Виски-то нету, кончились! Он бы и рад за ними в костер, но вот беда, — кончились! Ну ничего, он и спиртиком северным будет утешен, как Колька Манюшкин, до конца! А Валюшка альбомчик твой сохранит. Она — сохранит! Конечно, погорюет и за нормировщика Генку Стрелкина выйдет. Не за профессорского же сынка! Для него профессорские дочки готовы. А альбомчик твой сохранит, как мечту, если, конечно, Генка не вырвет и не спалит. Он ведь, Генка, Пикассо не уважает. Галиматья какая-то! Не помогает ни жить, ни работать!
— Зачем ты мне это все? За что?.. — тихо сказал Самарин.
— А из зависти, Андрюшка, из зависти! — взвился с тонким смехом Саркисин. — Ты добрый, а я ничтожный, признаюсь! Завидую тебе. И вообще, и вообще!.. Вообще-то я тебя ненавижу!..
Он умолк, стало тихо. Было слышно, как звенят, распадаясь, угли. Тает снег вокруг костровища. Урчит буровая, невидимая под морозными звездами.
Малахов смотрел на выжженный пламенем круг. На талую, усыпанную пеплом землю с ворохом красных углей. И ему казалось: в это место врезался, выпав из неба, аппарат сложнейшей конструкции. Разбился в страшном ударе, обернувшись грудой углей. Малый дефект конструкции. Ничтожный просчет и промах. И вот катастрофа.
— Андрюшка, — начал тихо Саркисин. — Андрюшка… Что я такое сейчас?.. Я ведь не это хотел… Совсем другое, и вдруг… Я ведь совсем другое…
Они молчали. Звезды надвигались ослепительным блеском. Малахов думал, что жизнью дан ему еще один маленький опыт вечных людских усилий, направленных на открытие друг друга. Неудачный маленький опыт, ценность которого в том, что он состоялся. И их боль, и их муки, сгоревшее вещество их душ — неизбежная трата в непрерывной, начатой не ими работе по открыванию самих себя. И все они: и смущенный Котяра, и потрясенный Самарин, и бледный, несчастный Саркисин, и он сам, и жена, поджидающая его в поселке, — все они входят в огромный чертеж и план. Медленно, через непонимание и муку, движутся навстречу друг другу, чтоб через тысячу лет встретиться, наконец, в ярчайшей, ослепительной вспышке. И нефть лежала под ними, стиснутая давлением вселенной, как огромное, еще неизреченное слово.
Далеко в тайге, на просеке, раздался звук работающего механизма. Через минуту усилился, наполняя воздух твердым железом. Это вездеход, грохоча, рвал гусеницами лед. Перемалывал корни деревьев. Прорывался сквозь ночь в поселок. Гаврюха с седьмой буровой давил на рычаги, вглядываясь красными глазищами в мелькание охваченных светом стволов.
«Вот и ехать, — подумал Малахов. — Сейчас поднимусь, и прощаться. И, видимо, навсегда…»
Все повернулись на звук и слушали. Костер прогорел. Быстро темнело. И вот из ночи ярким белым снопом ударили фары машины.
* * *
Блочный дом в дожде озарялся свечением сварки, наращивал этажи. «Орбита» слепо пялила в тучи пустую глазницу. Бетонка тряслась и пружинила, подбрасывая ревущие тонны, окутывалась едкой гарью. Ольга ждала автобуса в аэропорт, ежась от сырости, задыхаясь от зловония бензина.
«Боже, за что на меня? За что на меня этот ужас? — думала она, прижимаясь к столбу, глядя, как парень без шапки, с мокрыми волосами и две девушки в одинаковых лакированных туфельках толкались и хохотали и машины едва не задевали их заляпанными бортовинами. — Мне-то за что этот опыт? Я-то чем заслужила?»
Колонна рыжих оскаленных «Татр» плотно, нос в хвост, прошла по бетону, и на кузове каждой было выведено мелом: «Сургут».
«Да что это я? — провожала она глазами колонну, стряхивая с себя тяжесть и гнет. — Да как он смеет со мной? Кто он мне?.. Жалкий! Весь ядом пропитан! Чужой!.. Думать о нем не желаю! Чтоб сгинул… Да я из милости руку ему протянула, из сострадания, а он в ослеплении… Нет его! Пусть один пропадает!..»
Зеленый, защитного цвета трубовоз, двухголовый и хищный, как ящер, пронесся приземисто на огромных баллонах, волоча железный хлыст труб. И в граненой кабине, как в зрачке, промелькнуло лицо и букетик.
«Все бред, наваждение!.. Этого нет и не будет!.. Сейчас на самолет, и исчезнуть… Я же свободна! Молода, хороша! Вся моя жизнь впереди! А он?.. Старик! Жалкий, едкий!.. И жестокий, жестокий!.. Как он смел, мне?.. Да упади он теперь на колени… Да ползи он за мной… Эту грязь на дороге целуй… Ненавижу! Нет его больше!..»
Девицы хватали парня под руки, пихали его под колеса на трассу. А он вырывался со смехом, уклоняясь от брызг и грязи. Остромордый, военного образца ЗИЛ с выхлопной трубой наподобие сжатого кулака проревел, колыхая в кузове привязанный зеркальный шкаф. И зеркало сквозь дождь хлестнуло ей по глазам упавшим небом, стальной оболочкой «Орбиты».
Ольга вдруг ощутила свою свободу, стряхивая с себя этот город и бред.
«Нет его!.. Истребила!..»
Она поднялась на носки, пытаясь разглядеть в скоплении машин автобус. И увидала: вдоль бетонки, черпая башмаками воду, качаясь, окутанный выхлопами, идет Ковригин, весь исхлестанный, грязный, с несчастным лицом, хватает ртом воздух, пробиваясь вслепую сквозь рев и железо. И такое внезапное больное влечение, и жалость, в прощение его, худого, неверно бредущего…
Он приближался. Увидел ее и вдруг встал. Так и стояли, не двигаясь, у бетонной дороги. Он беззвучно шептал, и она первая пошла навстречу беззвучному шепоту, а он ловил ее издали, протягивая худые раскрытые руки. И она, вдруг ослепнув, кинулась, обняла. Он ткнулся твердым лбом в ее плечо, дрожал, что-то пытаясь сказать. А она раскрывала свой плащ, прятала его от дождя.
— Ну и дождь!.. Ты вымок, продрог…
— Прости меня!.. Мне невозможно… Я шел… Торопился сказать.
— Ну что же это дождь-то какой!.. Весь до нитки… А я стою…
— Я должен тебе сказать… Я решил… Все известно, и уже не помочь… Но я торопился увидеть…
— Не надо… Все хорошо… Милый мой, все хорошо… Ты смотри, какой дождь припустился!
— Еще немного… последний отрезок… Я решил, как глухарь и осетр… И если ты можешь, прости!..
— Милый мой, ну что же нам делать? Родной мой, ну как же нам быть?.. Ах, какой дождь припустился!..
Наутро в порту их провожали Антонов, Растокин, Завьялов. Начальник порта связался по рации с проходящим на север танкером. И капитан согласился принять их на борт.
Стояли у причала, охваченные ветром.
— Вернетесь в Москву, сразу же объявляйтесь, — сказал Завьялов, поддерживая Ольгу под руку. — Мимолетное знакомство, но ценное. Продолжим его в Москве.
— А все-таки вы не отмахивайтесь от моей философии. Конечно, каждый со своей колокольни, но, может, в чем-то полезно, — улыбался Растокин, подписывая им в подарок свою шелестящую от ветра книгу.
— Возвращайтесь, давайте знать сразу, — топтался Антонов с рассыпанными по глазам волосами. — Приглашаю вас в мастерскую. Хочу показать работы…
— Увидимся обязательно, — благодарила их Ольга. — Послушаем про матерь-пустыню, про красный сок на снегу…
Смеялись в ответ, заслоняли Ольгу от ветра. Антонов пробовал с ней танцевать. Ковригин смотрел, как на серо-стальной реке возникает белоснежный танкер. Разворачивается ледяной громадой. И уже различалась по борту черно-красная надпись «КАМГЭС».
Часть четвертая
Танкер «КАМГЭС» — длинный серебряный клин, скользящий в белесых протоках. Подминает бронированным носом острова, буруны, песчаные, в негаснущем солнце откосы. Весь в патрубках, кранах, с красными пожарными надписями. Под гладкой сваренной палубой — мягкое рокотание машин, десять танков с горючим, толкаемых по Оби к океану. Люки открыты. В маслянисто-лиловой толще отражается небо. Дергается и пульсирует шланг. Сладко пахнет соляркой. По палубе сносит серо-смрадную гарь, сквозь которую драгоценно и чисто белеет толстолобая рубка, иллюминаторы, зеркальные стекла, ежи антенн и радаров.
На корме, у шлюпки в чехле, магнитофон врубает одну за одной на басах песни: про любовь, про Россию, про родимую мать. Малый в дырявой тельняшке моет зеленую палубу, направляя из шланга струю. У ржавой цепи — запасной четырехлепестковый винт. Парень его холит и драит, поливает, как стальное соцветие. Гнезда для болтов наполнены ртутно-белой водой. Солнце — клок света за размытой спектральной тучей. Встречный далекий танкер, с башнями, в озарении. Над ним нависают дожди. Уточка слабо мерцает. И твое неясное во всем этом участие.
Они поселились в соседних каютах, разделенных дрожащим, всегда пустым коридором со спуском в машинную часть, где в тусклом разноцветном чаду билось потное, горячее тело двигателей и мелькала блестящая спина моториста.
Они как бы отдалились один от другого. Торопились при встречах расстаться, словно боялись разрушить хрупкую, больную новизну, возникшую между ними.
Он точно стыдился ее после всего происшедшего. Страшился перед ней обнаружить свое чуткое поминутное ожидание, прислушивание к себе, в котором любой пустяк был освещен, на виду, важен своей болью, и можно было вдруг разрыдаться.
А она, понимая его не умом, а иным, в сострадании возникшим опытом, держалась в стороне, охраняя хрупкое равновесие своей любви и горя. И он ей был благодарен.
Встречались ненадолго, на палубе, у шлюпки, у флага:
— Как чувствуешь себя?
— Хорошо…
— А я книжку читаю, Растокина…
— Ну и как?
— Интересно. Потом и ты почитай.
— Почитаю.
— Ну я пойду… Какой тут север, разлив!.. Пойду…
— Ступай, дочитывай…
И расстанутся. До следующей, столь же недлинной встречи.
Он укрывался в своей каюте, прижимался к дрожащему стеклу, к начищенным медным деталям, наблюдая непрерывное течение берегов, плавные перемены в небесах и на водах, и мысли его были безымянны. Но в дверь каюты стучали, и возникал корабельный механик в затертых речных нашивках. Вздыхал, улыбался. Ласково смотрел на Ковригина. Спрашивал:
— Ну как там Москва-то? Какая погода?
— Да я уж давно из Москвы, — отвечал Ковригин, тяготясь его появлением, понимая его доброту, желание развлечь и высказаться, раздражаясь за то и другое.
— Брат жены у меня в Москве живет. Все приглашает: заедь. А когда? Все лето, с весны — навигация. До самого льда. А зимой — в затоне, ремонт. А отпуск дома прокрутишься…
— Я понимаю, — кивнул Ковригин.
— Да мне и не нравится в Москве, честно скажу! Для нервов тяжело. Все бегут, толкаются, шум… И сами москвичи какие-то гордые, ничего не ответят, не скажут…
— Да, все торопятся, — соглашался Ковригин, уклоняясь глазами от его ласково-синеньких глазок, желая, чтоб он ушел.
— Я бы там жить не смог. Тут уж нам как-то привычней…
Он кивал на окно, где, далекие, голубели на обрывах леса, и текли и желтели песчаные осыпи, и краснел нарисованный перышком створный значок. И начинал разговор добродушным, простуженным рокотом про ненцев, про нефть, про рыбу, про речные знакомства и случаи. А Ковригин устремлялся от него в открытые белесые небеса, картины озаренно касались его лица и, прощально кружась, исчезали.
— Я сперва, как с училища прислали на Обь, на развалюшку, на пароходик колесный устроился. Что вы! Топка, котел, труба… Запчастей нема, весь износился. Там латаешь, там прошибаешь. Хоть бы, думаю, ты утоп!.. Тогда уже нефть-то открыли. Скважины качают, а нефтепроводов нема. Ну мы баржами сырую нефть таскали в Омск, на перегонный завод. Две навигации на этой лягушке колесной… А потом танкерный флот подвалил, и меня на танкер, поммехом… Пароходик осенью загнали в затон по большой воде, а вода сошла, он и осел… Зимой, бывало, идешь и видишь, как его обдирают. Пацанье, мелюзга, и наш брат, механик… Потом автогенщики его начали резать, там ломать, там ломать. И как-то вроде перед ним виноват… А вышли весной с караваном, плывем мимо, а он горит, чадит, ребятишки его, должно, подожгли… И поверите, нет, — вот аж плакать хочется!..
— Понимаю, — соглашался Ковригин. — Это можно понять…
Навстречу, отражаясь белыми бортами, шла самоходка, голубовато-льдистая и прекрасная. Ковригин ощутил ее резвость и молодость, поймал на себе ее женственно-радостный взгляд. Будто обнялись и уже расставались. Ускользала из его открытых объятий, оглядывалась на него и кивала. И он отпускал ее навсегда.
— Нефть-то, говорят, кровь страны… Кто бы написал, как эта кровь доставалась… Себя не жалели, надо сказать… Раз в Губе весь флот льдом прихватило. Все хотели успеть разгрузиться, а как с полюса холодом даст, и сковало. Которые корабли потяжельше, разгонялись винтами, на лед въезжали и проламывали. Некоторые пробились, ушли. А полегче — на зиму. Вертолетами команды снимали. Не корабль — сугроб! Вездеход на борт свободно въезжал. Лежишь ночью и слышишь, как лед обшивку дерет. Шпангоут отрывает и им трюм, как ребром, протыкает. Только бы, думаешь, не искра, не взорвало б горючее…
— Да, пережили вы, — кивал согласно Ковригин. А сам тянулся к окну.
Там, на зеленой береговой луговине, островерхо светлели чумы. Близко колыхалась ладья. Двое тянули сеть. Один, в синей рубахе, цепко выбирал ячею. Другой, в рыжей робе, помогал ему. И вдруг над водой появилась белая морда, и скользкий ребристый осетр, еще весь сияя, выхваченный из глубины, изогнулся полумесяцем. Рыбаки валили его в лодку, глушили колотушками. И Ковригин отпускал их всех и прощал, отрывал от себя навсегда.
— Сейчас по Оби хоть с залепленными глазами иди. До Салехарда забот не знаем. А в Губе намучимся. Банка на банке. Пойдем по буям. Посмотрите, раза три на днище посадим. Тогда подзывай сухогруз, — и начнет вокруг нас танцевать, винтом из-под нас песок вымывать. А нет, так стой, жди норда, пока он водичку не подзадержит, поможет всплыть. А нет, так на плаву разгружайся, отливай половину горючего… — Механик приглашал Ковригина в их общую долю забот, украшал свою работу и реку. — В войну по Губе пароходами хлеб возили в Архангельск. А то и солдат, и снаряды — на Северный фронт. И два парохода пропало. Что такое? Вот один капитан плывет, видит, буй черный. Откуда? Всю жизнь проплавал, а на этом месте черного буя не видал. Подошел, — а под буем подводный танк с горючим. Немецкая подлодка из Карского заходила, заправлялась у буя. Ну сообщил куда следует. Буй уничтожили, а лодка исчезла куда-то…
— Да, интересно, — вторил ему Ковригин.
На каменные плоские лбы упало солнце, высветлив угрюмую зелень. И казалось, не полярные мхи, не эфирные жесткие верески в раскисших торфяниках, а спелая темно-желтая рожь, ветер завивает черные дубы, и лежи на теплой земле, глазами в синь, и сквозь листья — россыпи далеких родных деревень, и скоро она придет через рожь в линялом ситцевом платье.
Солнце ушло, даль потемнела, налилась гранитом и мхами. И Ковригин, благодарный за обман, и их провожал и прощался.
— Я в Москве уж три года не был, — говорил механик. — Женин брат приглашает: заедь. Думаю в этом году собраться. Вы мне свой адресок-то оставьте. Зайду, навещу, если можно…
— Да, да, конечно, конечно! — спохватился Ковригин, заискал по карманам блокнот. И, пока писал адрес, представил свою комнату, с гербариями и коллекцией бабочек, на столе деревянную хохломскую чашку, доставшуюся от покойного деда, а в ней стеклянный сохранившийся с детства шарик. И вид его через эти пространства, пустота, ненаполненность комнаты вызвали в нем умиление, удивленную жалость и боль. Глазам стало горячо и туманно, и буквы потекли и смешались, и рука повисла без сил.
— Рыбки вам привезу. Сходим пива попьем, — говорил механик.
Ковригин с усилием пробивался обратно сквозь горячий туман.
Окованный медью квадрат окна. Палуба — клепаный лоскут серебра. Выгнутый вал воды, раздвигаемый движением на север. И мысль: «Это я, со мной…»
Ольга у флага кормила хлебом чаек. Любовалась волнистым дрожанием птиц. Чайки остроклюво целили в упавший ломоть. Падали, расставляя оранжевые лапки. И, подвешенные за тонкие излучины крыльев, взмывали. Летели в зеленых, поднятых винтом бурунах.
Окна камбуза выходили на корму. И за ними среди начищенных кастрюль металось розовое лицо поварихи, зеленоглазое, с рыжим хвостом на затылке. Сыпала муку. Плюхала ведра с водой. Выскакивала раскаленная на воздух. Улыбалась Ольге козьими молодыми глазами. Опять погружалась в белизну муки, в красную медь кухонной посуды.
«Коза, — думала Ольга, радуясь ее скоку и рыжему огню на голове. — Пироги печет или что?..»
Если пройти вдоль палубы, у второго окна сидит и смотрит Ковригин, и можно к нему заглянуть. Но лучше не надо. Через час или позже.
В нем и в себе она чувствовала ожог от случившегося. Но он уже не мучил ее, а был ей дорог, как постоянное ощущение себя. Глядела на ломкую воду, вырубаемую винтами, поражалась, как много за эти недели она пережила и узнала. Словно подхвачена чьей-то волей, устремившей ее из прежней в другую судьбу, в переживание этих земель и весей, нового, горько-счастливого опыта.
«А дальше? А дальше?..»
Она предчувствовала: это только начало. В этих переменах от света к тьме она и сама менялась, принимая и свет и тьму, становясь и тем и другим для иной и самой ей неясной доли. Ею начато огромное, не имеющее окончания движение среди этих небес и вод, по людям, по слезам и утехам, за которыми ждет ее, отличив и избрав изо всех, то ли небывалое прозрение и счастье, то ли невиданная, слепая беда. И доля эта открылась ей больным и измученным, любимым ею человеком там, у окошка, которого бережет, за которым пустилась вслед, от которого терпит, но и рада теперь и ждет: когда позовет на помощь.
— Они обед чуют, слетелись! Я как плиту-то включу, кастрюли поставлю, и налетают, как по свистку. Меню им, что ли, вывешивать?
Повариха, выскочив и давно порываясь, заговорила с ней, с любопытством, по-женски оглядывая ее с ног до макушки.
— Да вы им кидайте крупнее!
— А вы, я смотрю, тесто затеяли? — дружелюбно откликнулась Ольга.
— Да капитан попросил: испеки! А то все каша да каша… А ваш-то товарищ нездоров, или как? Все запершись сидит…
— Да, наверное, работает…
И видела, как хотелось той узнать подробней о ней, о Ковригине.
— Давайте с тестом вам помогу, — предложила Ольга.
— Все в наших руках, — согласилась та быстро.
Они месили в тесной кухне, закатав рукава, касаясь друг друга горячими локтями, плечами. И Ольге было весело месить пшеничную мякоть на корабле, грозно устремленном на север.
«Все в наших руках», — повторяла она, сворачивая, раскатывая упругую телесность.
«Все в наших руках, — неясно обращалась она к Ковригину, распространяя на него свою добрую власть и могущество. — Не врач, не сестра милосердия, а стряпуха. За ночь пирог испекла…»
— Все говорят, в институты, в институты, учиться! — Повариха мелькала бьющимся рыжим хвостом. — Мать мне говорит: куда ты? Все люди устраиваются, кто учиться, кто на производство, а ты, говорит, одна без пути!.. А я говорю, какая же я, говорю, без пути? Я все в пути! На реке хорошо! До зимы проплавала, расчет получила, денежки есть, и гуляй всю зиму. Что хочешь делай! Хочешь — танцуй, в рестораны ходи, — кто что скажет?.. К весне нагулялась, — опять плавание, опять навигация. Нанимайся на камбуз. Хочешь сюда, на «КАМГЭС», хочешь — на «беломорку», хочешь — на толкач. Опять плавай… А мать говорит: без пути… А река-то разве не путь? — хохотала, сверкала чисто зубами.
— Да еще какой путь! — откликалась ей Ольга, понимая ее, принимая, соединяясь с ней через пшеничный дух нагретого теста, холодные дуновения с воды.
«Ему тут легче, я вижу… Нет такого напряжения, этих встреч, выступлений. Этих буровых, этих станций ужасных… Снимается нагрузка на сердце… А в Москве начну лечить. Изберу кардиологическое направление… Москва — не провинция. Центры, светила… Лекарства свои, заграничные… А главное — я буду с ним. Я же стряпуха, лекарка. Зелья ему наварю. Нашепчу, наколдую, втихомолочку от всех светил именитых…»
Она била и мяла тесто, приговаривая суеверно. Наполняла белую мякоть своим теплом, связывая с ней его исцеление. Верила сквозь все неверие в хлебные чистые силы, созревающие у нее под руками. Погружала в белизну все его немочи, все свои страхи. Желтоносые чайки заглядывали на ее колдовство.
— Все говорят: замуж, замуж! Мать говорит: счастье свое проворонишь! — Повариха на лету мазнула мукой лицо. — А я считаю, не мы счастье ищем, а оно нас… За мной парень один ходил, вместе школу кончали. Выходи, говорит, за меня! А я ему: какой ты, говорю, мне муж — в школьной-то форме! А он говорит: ну тогда я к тебе в другой форме приеду. И пошел в танковое училище. Через три года явился: лейтенант, с иголочки. Вот, говорит, я теперь в какой форме. Выходи за меня!.. А я уж, правду сказать, и забыла об нем. У меня любовь была с одним инженером из дока… Я над танкистом только посмеялась. Так он, бедненький, стреляться хотел! В Обь кидаться хотел!.. Я и думаю, чего нам замуж спешить, пока из-за нас в реку кидаются…
Она хохотала, дубася тесто. И на смех ее появился бесшумно матрос в дырявой тельняшке. Мигнул ей легонько и радостно. Взял графин с водой и пил из горла, проливая водяную жилку на бронзовую шею. Повариха прищурясь смотрела.
— Чего нам замуж спешить? — повторила она, когда матрос исчез. — Еще молодые, правда?
— Еще молодые, — ответила Ольга.
Она задохнулась в работе. Волосы посыпались на лицо. Она их отдувала. Отняла теплый снежный ломоть теста. Поднесла к губам. Зашептала в него, веря, не веря. Запечатывала в него все их общие горести. Вышла к флагу и метнула в зеленую воду:
— Чтоб рукой сняло!.. Чтоб ожил!.. Чтоб очистился!.. Все дурное — в воду и в реку!.. Рыбам и птицам небесным!
И две чайки с размаху расклевали белую мякоть.
Не было больше боли. Было почти хорошо. Но чувство убывания не оставляло его. Бесшумно, безгласно исчезало в нем и вокруг: розовая луна из-за кручи с красной полосой на воде; отсветы на железной обшивке — долгого северного заката; чайки, белые на черной горе и черные на красном закате; туманная голубоватая звезда за антенной.
День растаял, а в нем уменьшилось что-то — на этот закат и звезду. «Еще страничка… Прочитали, а что — не понять…»
Прошел ночной караван, четыре баржи и толкач. И налетел через воду печальный, прекрасный запах пиленого леса, дух еще живой древесины. И канул, оставив по себе пустоту. «Вот еще одна, — думал он. — Перелистывают и дочитывают… Картинки досматривают… Аккуратней… не загнуть уголки… А была интересно написана…»
Он засыпал под рокот машин. Во сне все чувствовал свое убывание, чутко к нему прислушивался.
Проснулся от тишины, от мягкого, колыхнувшего корабль удара. Прозвенели по палубе башмаки. И он поспешил на их удалявшийся звон.
Обожгло ледяным рассветом. Над черным скоростным течением проносился туман. Танкер белой громадой ткнулся в берег. Навис горой железа над зеленой сырой луговиной. Обнюхивал серебряными ноздрями рассыпанные долбленые лодки, островерхие берестяные чумы.
Машинист в башмаках на босу ногу, мелькая костяшками, сбрасывал трап.
— Может, рыбки у хантов закупим. Солить-то на зиму надо, — кивнул он Ковригину и сбежал на землю.
Ковригин спустился следом.
На мокрой жестко-синей траве, измызганной бензином, усыпанной ошметками рыбы, круглились три чума, одетые в бересту. И в них, за тонкими, дратвой прошитыми стенками, слышались дыхания спящих, кашли мужские и женские, сиплые, простудные хрипы среди речного холодного утра.
Ковригин осторожно, любовно оглядывал аккуратные швы в бересте, проложенные по древней безукоризненной выкройке. У входа на жердях и распорах висели мокрые бахилы из кожи, подвешенные за хвосты безголовые рыбы, полупровяленные, с желтым застывшим жиром, сонными синими мухами. Темнело холодное костровище с разбросанными сковородками. Бочка с сырой крупной солью. Ящики с гнилым рыбьим запахом, осыпанные чешуей.
«Вот он, северный город, прообраз завьяловского — думал Ковригин, жадно озирая чужую жизнь, отделенную от него первобытным своим совершенством, недвижной беззащитностью перед громадой приставшего танкера, закупоренную в бересту. И только железные, винтами вверх, лодочные моторы, говорили о ее готовности ускользнуть и исчезнуть. — В тундре — аэродинамика чумов. В пустыне — аэродинамика юрт… Завьялов подглядел и построил. Поклон ему до земли…»
Он обредал поселение, уже горюя, что придется расстаться, отпустить его навсегда. И захотелось пойти в туман по мокрой тропинке, не вернуться на танкер. Пусть плывут без него. Пусть забудут его. А он останется здесь, в первобытных мхах, в комарином гудении.
«То, что искал… Лучше не сыщешь… Никто не заметит… Пойду».
Он сделал шаг по тропинке, готовый скрыться в кустах. Оглянулся на танкер. Ольга стояла на трапе, в легоньком платье, охватив плечи руками.
— Чумы, — сказал он, подходя, чувствуя вину и беспомощность.
— Ты так рано проснулся?
— Спустись. Взгляни поближе.
— Да боюсь, что промокну…
Он увидел, что красная туфелька ее прохудилась.
— Отчего не сказала? Давай починю…
— Нету рыбы, ящики пустые, — сказал моторист, возвращаясь. — Должно, приемщик с вечера взял улов. А утреннюю снасть не глядели…
Он выбирал за веревку трап. Танкер вяло грохотал и отчаливал.
Ковригин зашел к Ольге в каюту. Протянул шерстяные носки. И, пока надевала, взял худую туфлю.
— Починю, принесу, — и ушел.
А она смотрела, как чумы исчезают в тумане, словно подымаются ввысь. Опять засыпала, чувствуя, как тепло и мягко ногам.
Проснулась. Солнце светило. Грело палубу. Ясный, стальной разгон, разделяя надвое реку, заострялся вдали. И там, далеко, на носу, сидел Ковригин.
Ольга, в теплых носках бесшумно пробегая по палубе, слыша, как стихает гром хвостового мотора, сменяясь мягким шипением воды, приблизилась к нему. Не окликая, смотрела, как продергивает дратву сквозь ее туфлю.
Он повернулся. Смотрел на нее. Лицо его было в слезах.
Мятый бабкин кофейник, как поденный корабельный прибор, нацелен на север. Лунные вмятины наливаются отражениями воды и неба. Танкер, повинуясь прибору, послушно рычит машинами. И мысль среди негаснущей ночи:
«Да полно, все я надумал!.. Наваждение… Пора очнуться… Другая широта, долгота, конец аномалии… Стрелочка повернулась на север…»
Ему казалось, силы вернулись. Он бодр, худощав, мускулист. Хмель в нем бушует. И вышел в рубахе на холод, хрустя на крыльце. Стоял весь в дыму, хватал губами мороз.
«А разве теперь не смогу? Пожалуйста, на здоровье!..»
Или упругое молодое движение по склону горы, когда вышел на травяную вершину, встал с горячей блестящей грудью, и такое господство над ущельями, реками, стадами на соседних горах.
«И теперь взойду, как на крылышках. Надо очнуться, прозреть!»
В дверь постучали. Боком, застенчиво просунулся механик, ласково, белесо моргая:
— Не спите, я видел… Хотел сказать… Сейчас в Гусарке пристанем. Хлеба закупим… Кто желает, бутылочку… Завмаг знакомый, подымем… Может, сойдете, посмотрите?.. Решил пригласить…
— Спасибо! Хорошо, что сказали… Конечно, пойду… Не спится, но бодрость, знаете… Хорошо пробежаться на берег. Ну, рыбки-то не достали?
— Чуть дальше достанем. У зырян достанем. Рыбкой вас угощу… А то что? По реке плывем, а в супу все консервы… По рыбке соскучился. Да и на зиму надо повялить…
Танкер гасил обороты. Делал тяжелую дугу по реке. Наваливал свои тонны на дощатую пристань.
«Спит, и пускай… — думал Ковригин об Ольге. — Пусть отдохнет. Тоже со мной намучилась… Уколы, уходы… Надо очнуться, воспрянуть, и что-нибудь хорошее ей…»
— С полчасика постоим, погуляйте, — сказал, проходя, механик. — А я кой-кого навещу! — Он мигнул хитро и ласково, кивнул на поселок, перепрыгнул на дебаркадер.
Ковригин шел по поселку, озаренному низким полярным солнцем. Было безлюдно и тихо, но не сонно, а как бы околдованно.
«Словно известили о моем приближении, и все исчезли, но только что… Унеслись и прячутся в тундре… Хотя, собственно, чего убегать?..»
Вот оранжевый трактор с открытой дверцей, но нет тракториста. Вот красный цветок за окошком, но рядом не видно лица. Вон висят на веревке женская юбка и мокрая мужская тужурка, еще с блеском капель, но хозяева скрылись.
Он чувствовал недавнее их присутствие. Они безгласно окружали его. Словно их обратили в этот цветок, в этот трактор, в синюю юбку. И они за ним наблюдают.
«Бабушка из кофейника набормотала мне свои сказки, — думал он, минуя поселок. — Про кота-баюна… Все колокола молчат и все струны…»
Его влекло по сырой, с наезженными колеями дороге. Пахли мхи. Краснела брусника. Гудели комары. И он думал:
«Не был, а как будто знакомо… Гусарка, а, собственно, что здесь?.. Все колокола молчат и все струны…»
Он поднял с дороги шелковую красную ленточку, будто только что ее обронили. Поднял белое птичье перо, тугое и свежее, с восковым окончанием. И рядом же — черное, с синеватым отливом.
«Бежали, летели… Роняли на дорогу… В связи с моим приближением… Ждали меня или как?»
Ему казалось необходимым и важным, почти неизбежным, появление здесь. Будто для этого пустился в путь, проломив скоростями полконтинента, чтобы идти сейчас в тундре по мягкой дороге, сжимая перья и ленточку.
«Может, все еще мое наваждение?..»
Перевалил через холм и встал. В низине, освещенные, отбрасывали длинные тени дощатые, на сваях, строения. Высокий забор. Ворота. На лугах островерхие башни. Дорога черным накатом обрывалась у запертых створ. По вершинам ограды плотно, разделенные строго по цвету, сидели притихшие вороны и чайки. Мерцали друг на друга зрачками. За стеной, невидимая, притаилась иная жизнь.
«Так вот я куда забрел! Вот куда заманило!.. А ведь знал, готов был увидеть…»
Он присел утомленно, разглядывая рубленый город, двухцветную тихую стражу, сам, своей тенью, уходя далеко во мхи.
«Их тоже всех обратили? Лишили языков и обличий? Так со всяким, кто сюда забредает?.. Что искал, то нашел…»
Он знал прекрасно, что перед ним звероферма. Пахло испорченной рыбой. За забором, в приподнятых на столбах клетках, свернулись песцы или лисы. Птицы ждут терпеливо кормления. Он все это знал. Но воздух был слишком ясен, и солнце недвижно, и тени длинны — от башен, от птиц, от его головы.
«Будто ждал, что сюда приду… Рано или поздно их встречу…»
Ему казалось, что это не птицы, а те, кого знал и любил, кого от себя отпустил, а теперь к ним вернулся. В их сомкнутых рядах на заборе есть место и для него. Можно взлететь и усесться, цепко схватившись лапками.
«Вот только к тем или к этим?.. Какой кафтанчик напялить?»
Ему казалось, в их чинных осанках, в неподвижно мерцавших зрачках он различает своих стариков, брата, отца и мать, исчезнувших друзей и знакомых.
«Очень простое решение, доступный пониманию чертеж… Маленькая звероферма в Гусарке, и мы все собрались здесь, под негаснущим северным солнцем…»
Он сидел у самой дороги, у закрытых ворот. Ожидал, когда их отворят. И его призовут. Он рад был их снова увидеть. Все эти годы удаления от них были медленным к ним приближением. И они, его милые, глядели на него с высоты, любовно и строго, следили, чтобы он не ушел.
«Да куда же дальше идти-то?.. Ради этого плыл и ехал…»
Словно не было долгих лет, я лежу среди пестрых подушек на нашей ковровой кушетке. И бабушка в кресле, напротив, на белом сбитом чехле. Ее вязаный теплый платок опущен на глаза. Ноги в стоптанных шлепанцах. Коричневая дряблая кожа под глазами, на подбородке. На сморщенном, перетянутом старостью лице, свет тающего мартовского снега, блестящих крыш и сосулек. И другой, внутренний, чуть брезжущий свет…
В соседней комнате мать вытирает посуду. Невидимая, звякает тарелками, ставит в буфет. Вот, знаю по звону, загремела большими, столовыми ложками с бабушкиными монограммами. Вот, слышу, ножами, со сточенными лезвиями, с выбитой пробой.
За окошком переулок в булыжнике. Чугунная тумба проела талый сугроб. В открытой форточке — воробьиные крики. И вдруг больная, внезапная мысль: вот бабушка жива, тихо понурилась, шлепанцы на ногах. А ведь будет день, и скоро, скоро, когда кресло ее опустеет. И я стану смотреть на белый чехол, вспоминать, как сидела тут в стоптанных шлепанцах.
Или, может, время это уже наступило? И я уже вспоминаю? Ну конечно, уже вспоминаю. И этот платок, и платье, и бессильные, тяжелые руки.
Мне так больно, горько. Я гоню эту мысль. Мокрые крыши нестерпимо горят. Бабушка дремлет в кресле. Кофта ее слабо дышит.
Так сидит она целыми днями. Но неожиданно, заслышав меня, пробуждается. Озаряется, целует меня в лоб много раз:
— Мой милый мальчик! Мой хороший, мой добрый мальчик!..
А мне так больно и хочется убежать.
Или сидим и пьем чай за столом. Так хорошо сидеть в красноватом отсвете абажура, рукодельного, материнской работы. Пить из старых, потертых чашек. И вот в одну из минут, всеми нами понятую и подхваченную, — что вот сидим, все еще вместе, и абажур над нами знакомый, и чай ароматный, и бабушкины щипчики с гнутыми ручками, и мать ставит чайник под лоскутную самодельную бабу, — бабушка, глядя на нас, опять озарится и таким глубоким, дрожащим голосом скажет:
— Милые вы мои, как хочется пожить еще с вами. Побыть еще вместе. Глядеть на вас, любоваться… Но скоро, скоро… Скоро уже… И будете вспоминать свою бабушку…
Нам бы обнять ее, покрыть поцелуями маленькую белую голову, стараться продлить, удержать эти дни и минуты. Но мы с матерью молчим, не говорим ничего, будто не слышим. Нельзя ничего говорить: ведь все еще вместе. А после будут и поцелуи, и плачи. Но не думать об этом, пока еще вместе, пока в чашках чай золотится и на щипчиках крошки сахара.
Под вечер накатится на бабушку усталость длинного дня, всей огромной прожитой жизни. Глядя на свои стынущие, неподвижные пальцы, скажет:
— Ах, как устала!.. Все мне в тягость. Уж скорей бы… — и замрет. И мне кажется, тени уже бегут на нее.
Однажды видел, как она перед сном, в ночной рубахе, сидела на постели, свесив худые, перевитые венами ноги. Держала на коленях розовую сафьяновую тетрадь с золотой надписью: «Красота и любовь». Листала страницы, исписанные мелким, порхающим почерком, — стихи моего деда, посвященные ей. Читала внимательно и серьезно. А прочитав, отложила тетрадь, легла удовлетворенная и спокойная.
«Так и запомню ее, — думал я. — Буду верить и знать, что она не исчезла бесследно, а обернулась какой-нибудь птицей и ждет меня где-то. И когда-нибудь, усталый и слабый, прожив огромную жизнь, я снова ее увижу. И услышу: «Мой милый мальчик! Мой хороший, мой добрый мальчик!..»
Ковригин сидел, глядя на птиц, было ему хорошо. Очнулся: через холмы, от реки, донесся рев корабля. Танкер гудел, звал его протяжно и требовательно. И Ковригин утомленно поднялся, оставив на месте перья и ленточку. Прощался с птицами, обещая вернуться.
— А я уж волноваться начал: куда исчезли! — улыбался механик, раскачивая авоську с бутылками водки. — Говорю вахтенному: а ну-ка сигналь!.. Хорош! Пошел! — обернулся он к рубке, где за толстым стеклом вахтенный уже крутил деревянное, окованное медью колесо и начинался грохот машин.
Ольга стояла у поручней, глядя на водяную гриву, слушая мерное дыхание корабельного чрева. Думала: «Он рядом, в каюте, но пока недоступен, не виден. Он как бы ушел от меня и идет в стороне, по своим очень трудным дорогам. Надо ждать терпеливо его появлений. Пройдет по кругам и вернется, и встретимся как ни в чем не бывало…»
Она видела: от зеленого берега оттолкнулась остроклювая лодочка, кинулась наперерез кораблю, вырезая стекловидный след. Была уже рядом. Желтоволосый человек в телогрейке правил мотором, аккуратно подводя лодку под высоченный борт танкера.
— Эй, чего? — пробежал, стуча башмаками, механик, свесился вниз. — Чего хочешь?
— Дай соляры! Вся вышла… Рыбу возьми! — крикнул человек, подымая конопатое лицо. — Налей соляры!
— Да некогда, торопимся… Рыба-то где?
— В сетях, в проточке…
— Я думал, с собой!
— Да близко! Возьмешь живую!.. Пока мотаемся, пусть нальют! — И он кинул вверх, а механик поймал пустую канистру. Передал ее подскочившему матросу.
— Зырянин рыбу дает, — подмигнул Ольге механик. — Сплаваем? — и прыгнул в лодку, заплясав на днище.
— Сплаваем! — неожиданно, будто радостно ее подтолкнули, согласилась Ольга. И, пугаясь, прыгнула в глубину мимо борта на подставленные сильные руки.
Лодка мгновенно отвернула от танкера по красивой, звонкой дуге. Метнулась к берегам и врезалась в узкую сочную горловину, поросшую травой.
— Ну как вы тут? — спрашивал механик Зырянина, вцепившись в борта. — Жить-то можно?
— А что? Рыба есть. Хлеб завозим. Солярка была бы…
— Комары не едят?
— Комары — горя мало. Медведь ходит. Хотим сегодня капкан ставить.
— Давайте ставьте. Обратно пойдем, шкуру куплю. А то все жена просит: привези шкуру. Обещаю, а нету… Она хочет к стене прибить.
— Заезжай, шкура будет…
Они назначили друг другу свидание среди разлива, и медведь, живой, уже был запродан. И Ольга поразилась близкому их языку, согласию, возможности понимать с полуслова.
Мотор заглушили, и лодка затихла, колыхаясь в яркой траве, в желтых надводных цветах, среди пузырей и течений. И в этом месиве ходила и булькала, подымала черно-синие горбы пойманная рыба, раскачивая заостренные вехи.
— Давай помогай! — торопился Зырянин, падая волосами на воду, хватая кулаками веревку. — Ща накидаем! Держи!
И стал одну за одной из дырявой сети выхватывать и кидать прямо в лодку, выламывая плавники и хвосты, огромных, отшлифованных рыбин…
— Не забудь, медведь за тобой! — крикнул на прощание механик.
— Сегодня капкан поставим! — отозвался, исчезая, Зырянин.
На палубу выскочила голоногая повариха. Следом — белоголовый матрос в тельняшке. Расставляли тазы, ящики с солью, выкладывали ножи.
— Налетай, подешевело! — топтался механик, гордясь добычей, прицеливаясь к бледно-голубому богатству. — Муксуны — первый сорт, неподдельные. На каждом проба чеканена!..
Они уселись кружком над рыбами. Надрезали их со спины. Разворачивали надвое. Ложками вычерпывали сгустки крови. Плескали за борт. Кровянили палубу. Откладывали разделанных рыб. И те лежали желтоватые, сочные, словно дыни.
— Провялятся, а зимой с пивком к праздничку! Пальчики обкусаешь! — говорил механик, кидая пузырь на ветер.
— Набегут женихи на рыбу-то! — смеялась повариха, поглядывая на матроса. Тот улыбался молча.
Двоили рыбу. Раскрывали, словно расстегивали молнии. И внутри, аккуратно уложенные, лежали языки черно-красной печени, сердце, белая, в прозрачной пленке икра.
— Не, в ресторане такого не жди! — чмокал механик, краснорукий и радостный.
— А мы с собой принесем! — повариха слизнула с ладони мазок икры.
— А ты кто такая, по ресторанам ходить? — пихнул повариху механик.
— Я не папина, я не мамина, — откликнулась та. — Я на улице росла, меня курица снесла! — и задергала подбородком, плечиками.
Медведь
За окнами его мастерской длинные застекленные блоки бойни, где, подвешенные на крюки, колышутся туши быков. Их разбирают, развинчивают, отделяя деталь за деталью. И вот уже нет ничего, только мокрый блестящий крюк да розовое облачко пара. А напротив — застекленные пролеты завода, где, подвешенные на цепях, качаются туши автомобилей. В них продергивают жилу за жилой. Вставляют окорока и суставы. Закатывают в глазницы глаза. И вот блестящий, оскаленный грузовик съезжает с конвейера, мчится по эстакаде, оставляя облачко дыма.
Но это — за окнами его мастерской. А тут — обломок резного камня из погибшего особнячка на Арбате. Паяльная лампа в разводах медной окалины. Самолетный лист алюминия. Женский плат с оттиснутой картой Парижа.
Антонов стоял в утреннем жидком солнце, пригревавшем его голую спину. Рассматривал холсты у стены.
Вот бой самолетов. Разящие удары ракет и пушек. В распоротых бортовинах кровоточат сердца и легкие, рассеченные сухожилия и мускулы. А внизу, сквозь клекот и вой сражения, затуманенный женский лик, многоглазый и слезный, собранный из озер, перелесков.
Вот белолицая дева сидит у окна. И там — зимняя Русь с заметенными стогами, церквами. Путник с котомкой проходит у верстового столба. И у девы на голом колене маленький красногрудый снегирь.
Антонов отчужденно, не любя, не любуясь, смотрел на холсты. Везде был он сам, себе одному известный, в разных обличьях. Его лицо глядело из страниц на бой самолетов. Он проходил с сумой, оставив в тепле снегиря.
«Каждый холст есть медленное собирание себя. И медленное с собой расставание. Касаешься холстины зрачками, губами. Ткань начинает светиться, повторяет твои черты. А ты уже мертв и пуст, с безжизненным серым лицом. Но в этой гибели начало твоего воскресения…»
«В сущности, — думал он, — весь человеческий род, поделивший между собой осколки красоты и уродства, собирает и то, и другое в одном лице. Это лицо — ты сам, по частицам, по крохам созданный из других на холсте. Ты вычерпываешь из мира себя, но мир не мелеет при этом. Лишь становится глубже. Он неисчерпаем, этот колодец, каждый раз после всплеска возвращает на гладь отражение…»
Неначатый холст, зажатый в подрамник, смотрел на Антонова. Нитяной, заполненный бледным солнцем. В коробках покоились краски, проступая сквозь защиту свинца радиоактивным свечением. Холст, как реактор, ожидал их стоцветной вспышки.
Но Антонов их не касался. Был отделен от холста. Образ, до конца не понятый, еще был разлучен с ним, в другом пространстве и времени. Словно другая душа тянулась к нему, и они медленно, в муке, сближались.
Заводы грохотали конвейерами. Трасса с машинами дымилась как бикфордов шнур. Город топорщился, подготовленный к взрыву. Антонов зажег свечу, разглядывая ее пламя при солнце. И, забыв погасить ее, вышел…
Медведь проснулся перед рассветом. Поднялся грузно, вытягивая передние лапы, прочерчивая по земле когтями. Холод пахнул под нагретое брюхо. Слипались в росе стебли, цветы, паутины. Перед глазами сидели два мокрых мотылька. Медведь зевнул, выдыхая пар. В него ворвалась ледяная струя, запахи воды и тумана, освещенных зарей вершин. Просыпаясь, весь звеня, он мгновенно слился с миром, ощутив его как силу своих мышц и когтей, как утренний голод и возможность движения. Плавно перепрыгнул цветок с мотыльками. Покатил в сияющих росах…
Утро Антонов проводил на заводе. Двигался в стальных испарениях, под туманными сводами, в которых бился, не в силах вырваться, косяк голубей.
Его сопровождал работник отдела кадров. Перекрикивал уханье цеха, метко тыкая пальцем в колечке:
— Слушай, вот тут нам плакатик устрой! Металлурга изобрази, настоящего! Красной краской, погуще! Чтоб как глянул человек, так работал охотней. И лозунг можно пустить, чтоб звучало… Прямо вот в этом местечке!
Антонов кивал. Всматривался, словно пил этот грохот и свет.
За чугунными заслонками набухало, будто подходили огромные караваи. Седой человек вяло стоял перед печью, опустив утомленно руки с железными ковшами ладоней. Антонов сквозь графитовую робу чувствовал его тело, растянутое непомерной работой, усталость в плечах и коленях, сонное равнодушие взгляда.
Медленно открывалась заслонка, выпуская пшенично-белое пламя. Но вместо каравая выпрыгнул красный, гривастый зверь. Кинулся слепо и яростно. Седой человек ловко уклонился. Избежал удара когтей и лязганья алой пасти. Присел и, радостно охнув, взял его на рогатину. Танцевал и приплясывал, обдуваемый ревом и буйным пламенем.
Малиновая глыба, роняя окалину, качалась, схваченная зубцами. Рабочий, весь стеклянный от пота, двигал ее под пресс. Разжимал заостренные зубья, гибкий и легкий. Возвращался на место. Замирал, старея, угасая, длиннорукий и вялый.
— А тут нам выдай кривую роста, — говорил кадровик, раскрывая белую сухую ладонь, чертя на ней ногтем график. — Я тебе цифирки дам, а ты их поярче оформи. Чтоб глянул человек и увидел: ага, вот мои рубежи! Вот мои перспективы!..
За прессом сидел машинист, крутолобый, с прилипшими завитками волос. В белках кровянели сосуды. Давил рычаги, тиская раскаленный металл, окруженный железом, приговоренный к огню.
Антонов ловил его хрип и дыхание. Принимал в себя оттиск горячего, искривленного усилиями тела. Чтобы бережно унести отпечаток, наполнить в мастерской другим веществом и светом. Посадить к подножию дуба с волнистой отлетающей веткой. Пусть лошадь пасется, краснеют ягоды.
— Люди у нас замечательные, — говорил кадровик, делая рукой полукруг, приглашая смотреть. — Передовики и смену воспитывают. Вот бы такой плакатик: старый и малый стоят у печи в строю едином… А? Подумай над этим!..
Соседний пресс содрогался. Выковывал в лязге трубу. Машинист, с черными провалами щек, с красным шрамом на лбу, трясся и скакал, похожий на всадника. И искры расшибались о его краснозвездный лоб.
Антонов наблюдал рождение трубы. Древовидное ее удлинение. Огненное железное дерево подымалось под своды, светясь листвой. И косяк голубей, налетев, отпрянул опаленный.
— Не бойся, рисуй от души! — кадровик взял Антонова под руку. — За все заплатим, по договору. Мы люди богатые, для рабочих ничего не жалеем. Сделай нам от души!
Дисковая пила отсекала окончания труб. Превращалась в белый моток огня. Освещала девичье лицо, восхищенное, с серебряными губами. Девушка вводила пилу в острый контакт, заключала себя в сыпучее солнце. И Антонову хотелось прижаться к ее лицу, поцеловать в губы.
Он покидал завод, оглушенный, унося мигающие вспышки. Казался себе железным и красным, в клеймах и оттисках.
Медведь брызгал росой, проминая зеленый след. Сбрасывая с шерсти быстрые радуги. Черными комьями взрывались перед ним глухари. Петухи, гневно вытянув шеи, взмывали с клекотом. Вламывались в ельник, озирались, краснея надбровьями. Медведь косился на них, продолжая бежать, ловя ноздрями душные, ароматные вихри, поднятые птицами.
Он чувствовал литую тяжесть своих касаний о землю, невесомость своих скачков. Нераздельность с травой и с небом. Бесконечность жизни, которая не кончалась на нем, а разливалась в смоляных пятнах света по корням елей, в сонных муравейниках, в глухарях, в солнце, которое имело, как и все остальное, запах и вкус.
Кусты голубики сверкнули зрелыми ягодами. Медведь почувствовал, как брызнула слюна на клыки. Погрузился в сладость раздавленных ягод.
Мать болела. Антонов навестил ее среди дня, лежащую без сил, заставленную склянками и флаконами. Выкладывал на стол булки, сыр, масло. Ставил на газ чайник. Убирал комнату, отирая пыль с тонкостенного, звонкого шкафа. И в шкафу, сколько помнил, все так же мерцали золоченые корешки старых французских романов, содержание которых так и осталось для него неизвестным. Акварель, написанная матерью в давнишнюю осень, слабо желтела аллеей, белела колоннадой беседки. А мать лежала под пледом, ревниво и обиженно за ним наблюдала.
— Ты бы тряпку-то хоть намочил, — сказала она. — А то пыль, а мне и так дышать нечем…
Ее жалоба, закрывшиеся веки, синеватые вялые пальцы на пледе отозвались в Антонове хорошо знакомой виной и болью. И он, пугаясь, винясь, чувствовал, как подымается в нем раздражение.
— Сосед вчера опять буянил, — сказала мать. — Страшилище! Напился, и опять у них там ругань… что-то бросали… Я ждала, вдруг снова начнет ломиться. Боялась на кухню выйти… За что мне такое? Неужели на старости не могу обрести тихий угол?.. Всю жизнь от чего-то зависеть, кого-то бояться… И теперь это чудовище за стеной!
Она замолчала. Антонов замер над прадедовским дубовым столом со стеклянными кубами давно пустых чернильниц. Когда-то он тыкал в них стальным пером, сидя над уроками. От чернильницы на тетрадь ложилась радуга. Он помещал буквы в красно-желтые и голубые разводы. Слова меняли свой смысл, наливались цветом. И бабушка с братьями звякали чашками, круглилась в окне колокольня, и было волшебство в соединении всего, таинственного в этом участия.
Много позже он ушел из дома, оставив прежнее свое ремесло — маленькие остроклювые снаряды, начиненные электроникой и взрывчаткой. На пульте загорался сигнал, снаряды навешивали над полем дымные дуги, танк чадно горел, расплескивая броню.
Он оставил все это, и Москву, и мать, мечтавшую о его благополучии и достатке. Предпочел рисование и странствия. Тогда-то и началось их с матерью раздвоение. Нарушение согласия, нанесение обид и болей. Пускай с опозданием, он выделялся в свою собственную жизнь и судьбу. Как бы вторично рождался, а она вторично страдала. И ее крик настигал его в путешествиях, гнал обратно.
Теперь он трогал грани пустых чернильниц, в которых исчезли радуги, старики, забытые красно-золотые слова.
— Посмотри, в каком у тебя виде куртка! В пятнах, обшлага обтерлись. Оставил бы, что ли, мне. Хоть рукав обмечу… И как ты можешь так жить?.. Не таким я тебя мечтала увидеть…
Она оглядывала его из полутемного угла. А он впустил в себя ее огорчения и страхи. И они отравляли его. Разрушали необходимое для работы единство. И он готов был бежать.
— Приходила соседка снизу, все сына расхваливает. Уж как хорошо живет! И невестка чудная, и квартира, и внуки растут, и докторскую защитил. Готовится в Америку с лекциями… «А как ваш? А как ваш?..» А что я могу сказать?..
Антонов чувствовал: они связаны с матерью, и из нее в него льются горькие соки. Они, словно два сосуда, переливают один в другого свои огорчения, возвращают обратно. И, желая спастись, отрубить эту боль, сказал спокойно и холодно:
— Знаешь, соседке ты что-нибудь придумай сама. Ну что-нибудь про Францию и Италию. А меня оставь в покое. Живу, как хочу. Ты ведь все равно не поймешь, чем и как я живу…
Он заметил, как мать уменьшилась от обиды под своим клетчатым пледом. Глаза заблестели влажно. А в нем — жаркое раскаяние, стыд, желание броситься к ней, целовать ее слабые руки на бахроме. Но остался стоять. Смотрел на желтевшую в окне колокольню, на деревце-карлик, растущее из дырявого купола.
Забулькал на кухне чайник. Он принес ей в постель горячую чашку, блюдечко с вишневым вареньем. Она пила, обжигалась. Молчала в своей обиде и старалась на него не смотреть. Но постепенно обида ее проходила. Ей нравился свежий хлеб, крепкий чай. Ей, скучающей целыми днями, хотелось говорить, вспоминать.
— Что я тебя хотела спросить… Ты не помнишь, во время войны вот тут у стола елка стояла? Нет? Не помнишь?.. Отец-то уже был в пулеметной школе, в Люберцах. А дом наш совсем опустел, все жильцы разъехались. Батареи чуть теплые. Ты в садике целый день. Холодище, немцы вовсю наступают. И вдруг в угловой магазин завезли партию елочных игрушек. Прекрасные такие, дешевые! Не удержалась и купила коробку. А у какого-то железнодорожника у Савеловского достала елку. Нарядила, думаю, будем с тобою встречать. А в этот, вечер, будто догадался о елке, пришел отец. В лейтенантском мундире, уже перед самой отправкой. Принес тебя из детского сада. Окна занавесили. Укрепили свечечки разноцветные. И ты все тянулся хватать не то петуха, не то павлина… Нет? Не помнишь?..
Он слушал ее посветлевший голос. Из теней и сумерек, из размытых исчезающих очертаний возникало нечто мерцающее, драгоценное, лучистое. Окутанное горячим туманным воздухом, в котором виделись чьи-то глаза, брови, мягкие губы. Но теперь у стола была пустота в мелькании пылинок.
— Нет? Ты не помнишь?
Глядя на мать, белеющую лицом на подушке, на полинялую акварель, он сказал:
— Хочу как-нибудь прийти к тебе с красками. Сделать твой портрет…
— Приди, приди… Сделай портрет, — улыбнулась она устало. — Будешь потом вспоминать…
Антонов суетился. Звякал чашками. Быстро простившись, вышел.
Кусты голубики окружали медведя. Выливали на него холодный брызжущий блеск. Роса зернами сбегала с маслянистого загривка. Медведь обнимал лапами куст, заталкивал в рот жесткие ветки, усыпанные дымчатыми ягодами. Чувствовал, как лопаются они под клыками и деснами, брызгая на язык кислотой.
Он набивал себе брюхо ягодной мякотью. Зубы были розовые и голубые от сока. Перебираясь от куста к кусту, он чмокал, урчал. Косился на соек, длиннохвосто, крикливо перелетавших на елках. А когда отяжелел и наелся, то улегся среди растревоженного и помятого ягодника. Сойки орали, раздувая зобы. И он дремал под истошные птичьи крики, чувствуя круговое движение крови в своем сытом, горячем теле.
У Антонова было свидание с другом, геофизиком Шахназаровым. Антонов поджидал его на Пушкинской площади, возле памятника, в копошенье толпы. Испытывал на себе бесчисленные удары глаз, лиц. Трассирующие пунктиры походок. Мимолетные вихри людских состояний. Каждый, пробегая, выбивал из другого мгновенную искру, насыщая воздух невидимым электричеством. Улица тускло светилась, пропитанная нервной энергией, разрываемая телами машин.
Двое рабочих в охранных оранжевых робах колотили ключами в фонарный столб. Отворачивали у основания литую створу, обнажали черное дупло.
— Засади, засади ему клин, черту ржавому! — с ненавистью ругнулся один. Шибанул ключом, повесив над толпой затихающий звон. Европейский турист завертел головой, принимая удар за колокол.
Антонов пристально, словно впервые, рассматривал столб. Выделял его из примелькавшихся форм. Столб стоял на краю тротуара, фальшиво задуманный, как цветочный, исполинских размеров стебель, распускавшийся в вышине соцветием фонарей. Был из другой эпохи, вызывал сострадание своей лживой, навязанной силою формой, призванной скрыть его черновую работу. И он выполнял ее стойко в своем шутовском облачении. Напрягался железным, внутри проржавелым телом.
Помимо ламп-колокольчиков, на нем висели прожекторы, озарявшие памятник Пушкину. Памятник спокойно отбирал весь свет на себя, принимая как должное это служение. Квадратные электрочасы, словно баскетбольная корзина, пропускали в себя бесчисленные людские подачи. Вырабатывали непрерывное время, раздавая его на две стороны: к Моссовету с золоченым гербом и к «Известиям» с иллюминаторами. Светофор под железной кепкой вертел разноцветным лбом. Постовой, подойдя к столбу, открывал в переговорном устройстве трубку, припадал к ней губами, будто надувал и накачивал столб. Выше топорщились гнезда флагодержателей. Сходились перекрестья троллейбусных проводов. Сердцевина, напичканная кабелями, несла сигналы и токи. Рабочий в робе подключил к проводку прибор, стрелка дергалась от ударов пульса.
Антонов смотрел на столб, находя в нем сходство с собой, подменяя его своим существом. Это у него, Антонова, раскрыли запястье и подключили к вилке прибор. У него из ребра вырастают часы. В его глазницах вспыхивают разноцветные лампы. Он закован в железный корсет. Растянут над площадью. По животу ему чиркают троллейбусные электроды. И толпа гудит, пробегая, не замечая его. Никто не бросит цветка. Только двое рабочих в два удара хрястнули, перебивая голени. Стон полетел. И турист-иноземец скользнул с любопытством, исчезая в толпе…
Антонов очнулся. Навстречу шел Шахназаров.
Медведь дремал в голубике, чувствуя сладость ягод. Брюхом касался прохладной земли, а мех на спине нагревался. Ягода в желудке начинала бродить. Ему захотелось пить. Он представил ручей, течение в поросших травой берегах, донную гальку. Вскочил, тряхнув волной шерсти. Колыхаясь, покатил по тропе, срывая с земли мимолетные ароматы.
Огромный упавший ствол преградил тропу, запорошив ее сором и щепками. Медведь набегал, ловя смоляные дыхания. Толкнулся, переносясь через ствол, расширяя на лапах когти. И в момент приземления слепой удар сбил его, оглушил, он рухнул и покатился шаром, слыша звон. Вскочил, трусливо метнувшись с тропы. И новый удар подсек его, бросив затылком, и, падая, гребя растопыренными лапами воздух, увидел свою заднюю ногу, белую кость, окровавленную дрожащую мышцу. На ней висела зубастая челюсть.
Медвежий капкан с коваными стальными пружинами раздробил ему кость. Цепь капкана охватывала поваленный ствол, была заперта на замок. Медведь об этом не знал, а в обмороке, оглушенный, лежал, глядя на белые щепы, на свою обнаженную кость.
Было приятно первые минуты молча сидеть над коктейлем. Оглядывать стойку, мигающую кофеварку, геральдику на заморских бутылках. Барменша, полногрудая, с мясистыми руками, напудренным влажным лицом, вся пересыпанная кольцами, блестками, смешивала химические ликеры и воды. Пускала смугло-красные ягоды.
Шахназаров грыз клыками трубку, угрюмо, из-под черных бровей крутил горчичными белками.
— Рад тебя видеть, соскучился. — Антонов с нежностью оглядывал его желчный знакомый облик, умный насупленный лоб. — Многое накопилось, поделиться бы…
Он и впрямь ожидал этой встречи. Собирался выдать на суд Шахназарова свое эссе о новой эстетике. О связи искусства и техники, о возможности их примирения, об их предстоящем синтезе. Ожидал услышать в ответ тонкие, всегда оригинальные мысли. Но Шахназаров перебил его с первых же слов. Начал гневно, визгливо жаловаться:
— Помнишь, тебе говорил: у нас баба-истеричка в отделе? Зарекался в группу ее брать, так нет — подсунули! А я в первый раз на нее посмотрел и решил: какой она специалист? Своих бабьих забот полон рот! Одиночка! На излете! Хочет последний ультрафиолет урвать!.. Какой с ней контакт? Она на тебя смотрит как на любовный объект. Видишь ли, не пошел ей навстречу, и она мне теперь истерики по каждому поводу закатывает… Да я знаю, таких, как она, — контингенты! Везде битком набиты! Нет проходу! А в деле — ни уха ни рыла!
Он шепелявил, брызгал слюной. Антонов сморщился, кожей чувствуя его раздражение. Будто пескоструйным аппаратом сдирали с него оболочки.
Он знал: несколько лет назад от Шахназарова ушла жена. Маленькая, белокурая, любила на людях садиться к нему на колени. Обнимала ручкой его костистую шею. Дула ему в брови. И он переставал дышать, умиленный, беззащитный, счастливый. Когда случилась беда, он помешался. Носился по Москве, пытаясь вернуть жену, корчась от унижения, горя. Боялся вернуться домой, живя в мастерской у Антонова. Плакал, строил планы возмездия, умолял, чтоб она одумалась. Антонов месяцами, забросив дела, возился с ним. Заговаривал, колдовал, отвлекал. Реанимировал. И тот возрождался на единственном чувстве ненависти к своей бывшей жене. Жил бобылем, истребив в своем доме всякую память о ней, сторонясь зачумленно женщин.
И, слушая его глумливую женофобию, Антонов чувствовал, что она направлена и против него как плата за доброхотство.
— Ну я тебе скажу, в этот раз у меня спецы подобрались, — хоть в петлю! Недоучки под пятьдесят! Казалось бы, вещи обыкновенные, а не могут усвоить. Мозги-то выполосканы! Запрограммированы на примитив. Им говоришь, и сначала они соглашаются и, может быть, восхищаются, а потом — агрессивная реакция! На тебя же с камнями!.. И по морде, по морде, чтобы не выделялся, чтоб не лез, не выпендривался, соблюдал профессиональную этику!.. И поделом. Меня учили, и теперь помалкиваю. Сделаю, что требуют, ни на волос больше. Хотите такие результаты получить? Пожалуйста! Или такие? Тоже пожалуйста!..
Карикатурно, с отвращением он описывал своих сослуживцев, зная, что мучит этим Антонова, и наслаждался.
Антонов прощал, терпеливо выслушивал. Блестящий спец, исколесивший с экспедициями Дальний Восток, Сибирь, Шахназаров увлекся прогнозами, опубликовал абстрактно-теоретическую работу, вызвавшую негативную реакцию. Его подняли на смех, недавние друзья отвернулись. Отвергнутый, слыша вокруг насмешки, он затаился, работал в треть силы, на пропитание. А тем временем его идеи под другими именами, очищенные от парадоксов, зашифрованные иным языком, стали появляться в печати. Защищались диссертации. Издавались карты прогнозов.
— Я-то думал, болваны только у полюсов концентрируются и вдоль экватора. А они, оказывается, равномерно покрывают оба полушария. Я, признаться, к американцам испытывал почтение. Но вот что Берроуз пишет: «Шахназаров переоценивает роль России в будущем распределении водных ресурсов. Амазонка и Миссисипи — надежные гаранты для обеих Америк!»… Да они — бульон из инфузорий! Биомасса! Только русские реки, пропущенные через лед, стерильны и ослепительны… Болваны!..
Он хохотал, потирая над столом шелестящие, насыщенные электричеством ладони.
Антонов привык к этим разлитиям желчи, к этим дозам отравленной радиации, обращенным против него. И, полагая, что хлебнул на сегодня довольно и пора дезактивировать друга, добродушно сказал:
— Да оставь ты мир погибать как он хочет! А сам отвлекись, развейся. Немного вина, немного радости, немного ласки. Вон, посмотри, барменша с тебя глаз не сводит! Ты ей явно по вкусу!
Барменша смеялась, поблескивая голубоватыми, вставными зубами. И Антонов видел, как побледнел, мгновенно высох, заострился Шахназаров, как пожелтели его белки.
— Ты что же? Ты что же… считаешь, что только такие и могут смотреть на меня? Только таких и достоин?.. Это оскорбительно, сверхбестактно! Как ты смеешь?
Антонов отпрянул, беспомощно улыбаясь, оглушенный этой внезапной, на него направленной злобой. Чувствовал, как краснеет, задыхается от обиды, готовый встать и уйти.
— Прости, — поспешно опомнился Шахназаров. — Прости, я вспылил. Но, ты же знаешь, это мой комплекс. Ты же знаешь, это мой пунктик жестокий!
Антонов не слушал. Обида разгоралась, превращалась в нетерпение и жестокость. «Конечно, — думал он. — Надоело! Во имя дружбы, во имя человечности выношу эти сорные его состояния. Избаловал, приучил! Пользуется мной как мусоропроводом, устраивает сброс нечистот. Уходит облегченный и светлый, а я, как отстойник, полон токсинов и ядов. Корчусь, перерабатываю, обезвреживаю, тратя на это душевные силы, свою энергию, человечность! Где же его хваленая экология, прозорливость? Как же можно среду, в которой обитаешь духовно, превращать в помойку, в клоаку? Кончено! Надоело!»
Сгорбленный, жалкий, погасший, сидел перед ним Шахназаров. Обреченный в своих фантазиях и пророчествах на непонятость, отчужденность, на вечное сгорание в усилиях соединить воедино расколотый вдребезги мир, — как и сам он, Антонов. И эта именно страсть и совместная их забота сдружили их и сроднили, вели их по мукам, по откровениям, поили то медом, то ядом.
Он смотрел на друга, не чувствуя уже обиды и горечи, а только нежность, любовь.
Ударами когтей и клыков медведь сокрушал капкан. Изгибался для нанесения удара. Но там, где в железных зубцах белела перебитая кость, там в момент рывка возникала пустота, и бьющие лапы взрыхляли тропу, и в ответ поражала его опрокидывающая, оглушающая боль, пересыпанная легким звоном.
Он принимался грызть цепь, поливая ее обильно слюной. Но клыки скользили и лязгали, сдирали до блеска железо, и сочилась из разорванных губ струйка крови.
Он с ревом кидался на ствол сосны, вонзая когти, длинными рывками распарывал кору до сочной желтой подкладки. Но упавшее дерево лишь слабо вздрагивало, цепь громыхала замком, сковав воедино сосну и медведя.
Он бушевал и бился, бурляще хрипел и выл. Взрывался жаркой, свирепой яростью. Брызгал кровью, ошметками травы и корней. Сломал себе коготь. И вдруг ослабел. Улегся с испариной на боках, со слезной, набегавшей на глаза влагой. Прижимался к земле колотящимся сердцем, уложив голову на передние лапы. Шерсть на загривке мелко дрожала.
Антонов спешил теперь в дом, давно ему милый. Суматошный московский дом, куда можно было прийти без звонка, не чинясь, и застать веселую кутерьму, новые знакомства и прежние, чуть позабытые. Вечно-трескучее колесо холостых появлений, бестолковых дружб и любовей. Из этого дома дорожки разбегались по всей Москве, и скакали по этим дорожкам в одиночку и парочками милейшие люди.
Хозяйка, поэтесса Катя Богородская, только что вернулась из Праги. В ее последней книге менялись в колебании чаш стеклянные ритмы русских заснеженных ямбов и электрические разряды и вспышки европейских биеннале и автогонок.
Она была дорога Антонову по первой крохотной книге стихов, которую он иллюстрировал. И в этих стихах необъяснимо для него и волшебно слилась Россия куполов и ампирных фасадов и крылатые самолетные чуда. Ему нравилась в ней проверенная московская красота и постоянный эксперимент поведения и стиха.
Их роман продолжался недолго и счастливо окончился, растворившись в подмосковной осени, с черными сырыми дорогами, убреданием в пустые леса, с огненной печью и внезапным ночным снегопадом, ослепившим их, отрезвившим. Они шли в белизне, уже разлученные новым временем года. Погруженные в иные стихи и картины. И в память о себе самих, идущих по первому снегу.
Теперь он явился и был оглушен с порога звоном стекла и музыки. Знакомый актер, давно отдыхающий от спектаклей, двинулся на него, издалека уже чмокая, загребая вместе с воздухом в объятия:
— Антонов! Явился! Посмотрите на него! Знаете, я его никогда не любил!..
Рыжая остроклювая женщина дрогнула оперением. Цапнула его когтями за рукав, скакнув на цепких ногах.
— Так это вы, Антонов без обертонов? А мы тут все в очередь на квартиру выстраиваемся. Вы вступите в наш кооператив, я надеюсь?
Белокурая, пухлая, похожая на Елизавету Петровну, с открытой грудью, но без маленькой алмазной короны, которая померещилась Антонову, смеялась румяными губками:
— Вы знаете, это гофманиана, гофманиана какая-то!
Хозяйка оттолкнулась от тахты, отделившись от полусидящих, полулежащих. Выпрямилась навстречу ему, успев ударить в клавишу магнитофона. Брызнула из-под своих золоченых бровей зеленью, смехом. В двухцветной замшевой юбке, руки в боки, притопывала туфельками.
— Антонов, здравствуй! — тянулась к нему, качая заостренно плечами.
— Здравствуй, Катюша, — обрадовался он мгновенной радостью и ей самой, и этому гаму, и слишком медленному для столь стремительной музыки вращению катушек, и ее туфелькам, которые, сброшенные, полетели в угол.
Босые, гибкие, тонкопалые ноги сухими пятками стучали о половицы. Переводя в танец свое движение по Москве, мигание ламп в метро, дребезжание троллейбуса, Антонов коснулся бедром двухцветной замши.
И не было больше утомления, незавершенного творчества, заговаривания себя самого. Этих лиц бесконечных, врывавшихся в него на каждом шагу, и он тратил на них молниеносные вспышки, унося с собой негативы. А было горячее топотание танца, ее волосы складывались в завиток, кружились мгновение тяжелым кольцом, раскрываясь, били его по губам и словно от его поцелуя рассыпались на летучий, прозрачный ворох, пропуская его сквозь себя, преображая, и опять неслась на него комета с человечьим лицом. Он просунул ладонь ей под волосы, на горячий затылок, навис над ней, и она, охватив его шею, скользила и билась под ним, обжигая дыханием, белым блеском зубов, касаниями груди, живота и бедер. И он задохнулся от внезапного, острого счастья, ощутив ее всю, от босых ступней до огненного, упавшего на висок завитка.
— Антонов, чучело ты мое золотое! Разве можно не являться так долго? — говорила она, танцуя теперь медленно нечто совсем другое, подаренное им саксофоном. — Ты чучело! Не можешь прийти по-человечески? Хочу тебе стихи почитать!
В изголовье кровати, в золоченой маленькой раме, висела его картина. Кудрявый бык с его, Антонова, ликом переплывал зеленое море, неся на спине ее, белогрудую, белоногую и ленивую, а вдали подводная лодочка с лезвием рубки охраняла их путь и движение.
— Антонов, милый, как ты там? Худой, утомленный… Ты страдаешь? В картинах твоих радость и сила; ты ярый, как бык, и смелый, как конь. И мудрый, мудрый, как дерево. Мы знаем бездну, бездну вещей, и не умом, а именно сердцем. Наши слезы и наши горечи обернутся не иначе как радостью. Карканьям мы не верим и крестам могильным не верим. Правда, Антонов?.. Слушай!
Она стала читать ему, закрыв глаза, с ликованием, вся заострившись, теряя вес и вещественность:
Я в черном свитере Похож на истребителя, Летящего под небесами, С жужжащими и черными глазами, Танцующего с дамою случайною, Пока не входит предопределенная, В расположенье звука удаленная, В сопровождена света по звучанию. Как в самолете к микрофону-мегафону, Я прислоняю губы к телефону, Чтобы на дальнем и военном расстоянии Найти иное и земное состояние. Когда придешь И прямо взглянешь в зеркало, Которое от радости померкло, Затем, что это я И в черном свитере, Похожий на двойного Истребителя.— Это ты, Антонов, тебе!
Он был теперь острокрылой машиной, ослепительно, грозно мелькнувшей над бетонными плитами, и уже вдалеке, превращаясь в звук, в океан, в материк, делал надрез стратосферы касанием крыльев.
Вокруг шумели, тормозили, гасили скорость.
— Послушайте, мы едем к арфистке? Она ждет, уже руки на струнах!
— А туники брать или нет?
— А где она, арфистка, живет?
— Да тут, у Средиземного моря!
— К арфистке, скорее!
По лестнице, оседающим книзу клубком, испугав у подъезда старушек, вынеслись на улицу. Ловили машины, грузились в такси.
— Антонов, ты с нами? — раскрывал голубые глаза актер. — Ты же знаешь, я тебя никогда не любил! — и лез целоваться, одной ногой углубляясь в машину.
— Как вы нам поможете с постройкой кооператива, Антонов? — саданула его когтем говорящая полудомашняя птица. — Будем созваниваться.
— Гофманиана, гофманиана какая-то! — смеялась пунцовыми губками та, что венчалась на царство.
— Ты с нами, Антонов? — Катя, зацепив его за руку, тащила в машину.
— В другой раз, в другой раз, — ответил Антонов, мягко и нежно отцепляя ее от себя.
Такси уносилось. Ему махали. Он остался один на краю тротуара, блаженно улыбаясь, еще держа за запястье ее теплую, чудную, упорхнувшую руку. Глазастые старушки недоверчиво и враждебно смотрели на него со скамеек.
Медведь лежал среди пекла, раскрыв сухую горячую пасть, мучаясь жаждой, болью, погружаясь в бред, снова всплывая. Он вытянул пойманную перебитую ногу, кровь слиплась и запеклась на шерсти. Но мышца влажно пульсировала, и на ней сидели зеленые жирные мухи.
Он закрывал глаза, стараясь погасить в них белые колючие точки, и, исчезая, освобождаясь, сбегал по тропе к черно-блестящему ручью, забредал, хрустя по дну, срывая на бегу языком сладкую звенящую воду, прижимаясь губами, пил, сосал, наполняясь силой и свежестью, пьянея, роняя с клыков капли. И опять возвращался в свою неподвижность, в белый колючий свет, ворочал сухим, обметанным сором языком.
Еще ему чудилось, как хватает талый и сочный снег, пахнущий небом и теплом, не замерзшей еще землей. Пятнает его до травы своей горячей стопой. Зарывается носом в студеную серебристую глубь до брусничных листьев, прожигая своим дыханием, красным молодым языком, блеском глаз.
Но бред исчезал. Снова было слепое свечение солнца, удушье и жажда, боль и ломота раны, на которой застыли мухи с зеленым отливом.
В сумерках Антонов возвращался к себе в мастерскую, обредая темные, пахнущие теплом подворья с глухими окаменелыми колокольнями, кирпичные щербатые стены старых лабазов с чуть приметными надписями прежних владельцев, ржавые крепи, каменные ступени и плиты, утонувшие в землю тумбы.
В подвальном окне с кованой, в завитках решеткой он увидел свет, услышал грозные, рокочущие звуки гармони, хор голосов. Пригнулся, вдохнув земляную и кирпичную прель и крапивные запахи. В сводчатом подземелье, спиной к нему, тесно стояли и пели. Гармонист на стуле выгнул напряженную, в жилах шею, почти положив на гармонь тяжелую стриженую голову.
Необычное почудилось Антонову в их стянутых, без шевеления позах, в их подземном пении.
Он обогнул дом, нырнул в подъезд с кованым витым кронштейном без козырька, спустился по подвальным ступеням, озаряемым тусклой лампочкой, приоткрыл обитую клеенкой дверь. И понял, прочитав табличку, куда попал.
Это был клуб слепых. Пели слепые. Баянист был слепой. Они сдвинулись тесно, в рокотах, гулах, и пели одним дыханием «Раскинулось море широко». Антонов смотрел на их освещенные, с черными ртами, сведенные судорогой лица. На их лбы и брови, под которыми вздрагивали мутные бельма, или зеркальная, отражавшая свет пустота, или лазурная слезная синь стеклянных глаз, или глухая, сжатая кожа стиснутых, сшитых век. Лица стариков со следами ожогов и шрамов, с черно-синей пороховой сыпью. И других, помоложе, как мгновенные оттиски взрывов, унесших их детские очи по сырым луговинам, и вдовы с воем бежали, предчувствуя, провидя беду. И совсем молодые, румяные, белые, луновидные, тронутые тихим безумием.
Песня, яростная, грозная, бессловесная, обнимала их всех и роднила, расширяла своды.
…Медведь лежал у сосны, усыпанный звездами. Утки невидимой стаей пронеслись над тропой, сели к ручью. Слышно было их кряканье и шум водяных ударов.
Боль отпускала его, превращалась в иное и безымянное. Он словно к чему-то готовился, к бесконечному, неочерченному, наступавшему на него молчаливо всем блеском и тяжестью неба. И он стремился к нему, отделяясь от травы, от леса, от утиного кряка, от зубатого, измучившего его железа, от всей своей горячей, дышащей плоти.
Он вдруг вспомнил, перед тем как забыть и расстаться, жаркую, млечную теплоту материнского брюха, сладкий запах сосцов и рыжий осенний лист, приставший к спине матери. И свой бой с молодым медведем, ярость и хруст раздираемой жаркой ткани, ненависть и слепое желание убить. И мягкое воркование серой, круглоухой медведицы, ее ласки и игры, невесомый бег по лунным, сверкающим травам. И нежность, волнение, беспомощность, когда их берлога наполнилась другой, новорожденной жизнью, кружение по весенним лесам, синим от медуниц. Все это налетело мягко и чисто, окатило счастьем и схлынуло, исчезая в стволах. И он не смотрел туда больше. Черная, звездная бездна открывалась ему, он поднял к ней свою косматую голову, ждал от нее и стремился, готовый в нее превратиться.
Антонов вошел в мастерскую, растворив дверь в темноту. И увидел — на окошке, среди разбрызганного, отекшего воска, слабо догорает забытая им свеча. В ее гаснущем, слабом свете чуть золотятся завитки на обломанной капители, колышется на гвозде прозрачный парижский платок, тускло отсвечивает лист самолетной обшивки.
Вдоль стен, погруженные в сумерки, стояли картины. Неначатый холст казался рамой с вынутым зеркалом.
С порога он смотрел на свечу. И вдруг, подхваченный кружением и болью, понял, что день его прожит, еще один его день, загадочно, невозвратно. В последнем, меркнущем пламени вьются, как мотыльки, исчезают лица любимых, и близких, и других, безымянных, порхающим хороводом, и он сам, исчезающий.
За окном слабо ухало и мерцало. На заводах от сотворения мира шло разрушение и воссоздание форм, круговорот и превращение материи. Антонов чувствовал свое бытие на тонкой кромке огня, отделявшей свет от тьмы. И не было знания ни о тьме, ни о свете, а только чувство того и другого, и неясное желание понять, соединиться с чем-то, от него отделенным. Будто чья-то иная душа просилась в него. Душа ли отца из безвестной, далекой могилы. Или чья-то иная, бездомная, позабытая, желала в нем обрести свой дом.
Антонов дохнул на свечу, погасив ее. Разделся и лег, забываясь.
Медведю казалось: медленно вращается над ним синева, звезды гаснут и заря зарождается в елях. И когда закраснело в небе и солнце было готово подняться, двое людей вышли из леса и встали в стороне, разглядывая медведя. Он смотрел на них не мигая, без злобы и страха, приподняв чутко уши.
Две красных струи ударили ему по глазам, и два красных солнца взошло и погасло. И медведю казалось: он, молодой и сильный, выбегает на берег осенней реки и мать призывно и нежно манит его с той стороны из тумана.
Антонов проснулся от слабого прикосновения к глазам. Очнулся, ощутив мгновенную легкость и счастье, чудо внезапного пробуждения. Словно добрая, могучая, всеведущая и вездесущая сила, прилетев из далеких пространств, вселилась в него, наполнив острым звериным знанием, зоркостью и любовью.
Было утро и много света. Холст был чист и нетронут. Антонов, закрыв глаза, положил на него первый белый мазок.
* * *
Впереди, на воде, среди блеска — черная точка. То ли лодка, то ли буй, то ли бревно. К ней, безымянной, направлен его ищущий взгляд. С ней, исчезающе-малой, соединилось его удивление, мгновенное ощущение себя: «Вот он я, один, без имени, стою под зарей, исчезая с каждым мгновением, глядя да эту случайную, ниоткуда возникшую точку…»
Так думал Ковригин на носу корабля, прижатый ветром к железу. Огромная и беззвучная размытая дыханием заря распустила навстречу перья. Черная точка на водах. На белой пожарной трубе за хвосты подвешены рыбы с распоротыми животами, с полуотрезанными головами, открыв напряженные рты. Словно поют, и мысль его о себе:
«Все абсурд. Лишено понимания. Не имеет цены и смысла, — только я, один, без имени, на холодной реке. Детство, война, любовь — все прошло, нет следа ни на водах, ни в небе. Впереди мимолетная точка, готовая тотчас исчезнуть…»
Он уже мог различить лодку. Черное семечко. След от мотора. Танкер ее догонял, не замечая, работая машинами во имя всей огромной реки и зари.
И Ковригин следил за ее приближением, готовым перейти в удаление.
«Все абсурд. Все случайно. Замыкается на меня одного. Но я-то, без имени, бессильный понять, исчезаю с каждым мгновением…»
Рыбы качались, подвешенные вниз головами, казненные за бунты и разбои. Обнялись в страшном братстве на дыбе и поют свои песни про зелен сад, про бел горюч камень, про соловья-кукушечку. «И все мы несемся на север…»
Лодка была уже близко. Он разглядел людей. Человек сидел на моторе, крутил головой в нахлобученной шапке, оглядывался на танкер. Голова другого чуть возвышалась над бортом.
«Куда-то торопятся, — рассеянно думал Ковригин. — Будто есть куда торопиться…»
Танкер надвигался на лодку, но она не уходила с пути. Человек у руля поднимался, делал знаки, что-то показывал.
«Рыбаки… Опять солярку попросят… Или рыбой торгуют… — Ковригин напряженно всматривался, пытаясь рассмотреть человека. — А второй-то пьян или как?..»
Лодка была совсем близко. Корабельный нос нагнал ее, едва не задев, и стал обходить. Ее сносило вдоль борта. Ковригин, свесившись, увидел близко лицо, узкоглазое, коричнево-смуглое, нахлобученную зимнюю шапку. Кричащий, зовущий рот. Человек, бросив руль, тыкал руками в другого, лежащего, — в женщину с распущенными волосами, бил себя в грудь и живот. А она, уцепившись за борт, узкоглазо выглядывала и, казалось, хватала зубами борт.
— Что? Что случилось!.. Не слышно! — крикнул он им.
Он видел их призыв в моление. Танкер равнодушно и слепо обгонял моторку. Человек бил себя в грудь, призывая, и женщина лежала на днище.
— Что у вас? — кричал Ковригин, срываясь с места, торопясь вдоль борта назад, не отпуская лодку. — Что хотите?
Он чувствовал, там случилась беда, и он был ее свидетель и почти участник, и их разносило всей мощью слепых механизмов.
Он бежал, грохоча, вдоль борта. Наткнулся на свернутый пеньковый конец. Схватил его на ходу, раскачал и, уже зная, веря, что не промахнется, вкладывая в бросок всю свою меткость, кинул. Веревка, распуская в полете кольца, хлестнула лодку и лежавшую женщину. Человек метнулся, схватил. Вцепился в нее руками. И Ковригин, упираясь ногами, чувствовал, как веревка превратилась в струну и на ней бьется другой человек.
Тот, перебирая кулаки, подгонял лодку под борт. Она уже скакала, остро резала воду у самого танкера, и ее засасывало под днище, колотило о железо, в ней, на оленьей шкуре, лежала женщина, глядя вверх, хватаясь за край, колыхая простоволосой головой.
— Держись! Оттолкнись! Осторожно! — беспомощно топтался Ковригин. Но танкер уже гасил обороты. Вахтенный в рубке крутил колесо. По палубе прыгал механик. Вырвал у Ковригин веревку, обматывая о стояк.
— Чего они? Чего стряслось-то? — сердито спрашивал он.
— Да они… Я увидел… Что-то у них случилось… — не умел объяснить Ковригин.
— Эй, чего надо? — перегнулся механик.
Сквозь стук металла и плеск долетел женский вопль и крик человека:
— Возьми, капитан, помоги! Баба мой помирает! Возьми, капитан!
— Да что с ней?
— Сам не знаю, что с ней. Помирать начала! Рожать начала!
Женщина, окруженная водяной пеной, открывала маленький черный рот. Ковригин чувствовал ее страх, ее муку и всю невозможность случившегося. Эту встречу на ночной огромной реке. Людскую беду, возникшую из безымянной точки.
По палубе подбегали матросы.
— Давай, капитан, возьми! Мой лодка плохо, слабо идет! Твой быстро. Возьми до больницы!
— А больница-то где?
— В Мужах больница… Мой лодка чуть-чуть идет!
Матросы кидали вниз веревочную лестницу. Лодочник нагнулся над женщиной. Что-то ей кричал, уговаривал. Помогал подняться. Она ухватилась за лестницу. Он ее поддерживал, подталкивал, раскачиваясь в пляшущей лодке. Матросы тянули наверх. Женщина, маленькая, в красном платье и в телогрейке, с большим животом, билась о танкерный борт, пока в шесть рук не втащили ее на палубу, и она легла на железо, обняв свой живот, поджимая ноги, словно хотела укрыться распущенными волосами.
— Да что же это такое? Что-то ведь делать надо! — наклонялся над ней Ковригин. — Одеяло ей подстелить…
— Я думал, когда родит? — Мужчина, хант, быстро облизывал губы. — Рыбачить будем… Чум жить будем… Потом в Мужи, больницу пойдем… А она: хочу рожать. Я в лодку сажал, а она кричит! Я газ даю, она помирает! Чего делать, не знаю!
Он трогал ее, лежащую. Потом обращался к механику, матросам, Ковригину. А она тихо стонала, гладя под телогрейкой живот.
— Чего делать будем, не знаю! — мялся механик. — Кажись, рожать начинает. А до Мужей часа два ходу. Врача-то у нас нема!
— Как же нема! — воскликнул Ковригин. — Есть врач! И надо быстрей!.. Есть, есть врач!.. Пусть по рации в Мужи сообщат, чтоб встречали, и давайте полный вперед! А мы к врачу! Да вот же она! — И он кинулся навстречу Ольге, которая, не понимая еще, что случилось, шла по палубе, удерживая свое рвущееся на ветру платье.
— Какая удача! — подбежал к ней Ковригин. — Рожает, ты ей помоги! Я стою, о своем, а они плывут, сначала точечка маленькая, а потом закричали… Ты ведь сможешь принять?
— Ведь я не акушер, — растерялась она.
— Да боже мой, тебя же учили!.. Вот она врач, поможет, — пропускал он Ольгу вперед.
И она, глядя на женщину, дрожащую на железе, на несчастного, забрызганного водой рыбака, на Ковригина и матросов, еще не понимая всего, видела: все ждут от нее чего-то, на нее уповают.
— Несите ее в каюту, — сказала она и повернулась к подбегавшей взлохмаченной поварихе. — А ты мне чайник и теплую воду! И таз! Прямо ко мне в каюту…
Женщину, стенающую, внесли в коридор, в каюту, положили на кровать. Ольга стягивала с нее телогрейку, резиновые сапоги. Повариха проскользнула с медным кухонным чайником и тазом, захлопнула дверь. И мужчины остались в полутемном проходе, который наполнился грохотом заработавших в полную мощь машин, и рыбак, опустив грязные, распухшие руки, все бормотал:
— Баба мой помирает, да?
Ковригин, смятенный, охваченный нежностью и заботой к нему, беззащитному, и к ней, чьи вопли слышались сквозь дрожание обшивки, гладил его по плечу:
— Да нет, все будет ладно! Врач хороший, поможет!.. Все у тебя будет ладно!
…Каюта. За окошком летящий поток. Брошена комом одежда. Чайник из красной меди. Женщина на кровати, словно натертая ртутью. Лунный огромный живот. Лунные груди. Голубой блеск открытых в крике зубов. И в ней начинает ходить слепая горячая сила, выминая бугры, вырывая слезный звериный крик. Хватает себя за живот, вытягивается до кончиков пальцев, будто тянут из нее сухожилия. Затихает, схватив зубами клок своих черных волос.
— Чего она не рожает? Рожай!.. Кричит, а родить не хочет?.. Рожай! — металась повариха, оглядываясь на Ольгу. — Ты ей хоть помоги!
А Ольга словно оцепенела. Смотрела в неумении, растерянности, не зная, с чего начать: «Так… Этот чайник ненужный… так… наложением рук… Этот муж ее потрясенный… И он там ждет у дверей… Так… если вспомнить про роды…»
Смотрела, как опять под ртутной, натертой кожей собираются на ее животе безликие, страшные силы, разрывая ее, и она своей хрупкой плотью сдерживает их появление, — тяжелое движение реки, стальной напор корабля. Ее пальцы хватают живот. Не людской, не женский, из горла летящий вскрик. И глушит сама себя. Заталкивает кляп из волос.
— Помирает она или что?.. Ты что, не можешь родить?.. Она что, не может родить? Да сделай ты что-нибудь! — хваталась повариха за Ольгу. — А то ведь умрет на глазах!
— Я знаю… сейчас… погоди…
Трубку на потную грудь. Грохот корабельных машин. Удары воды о днище. Жаркое аханье женского напряженного сердца. И сквозь бои и стуки — едва уловимое, готовое ускользнуть и исчезнуть постукивание нового сердца. Тонкая часовая пружинка, ведущая новое время, окруженная грохотанием.
Этот частый, настойчивый звук, отделившись от всех остальных, залетел в нее. Ей одной слышен. Ей одной адресован. Вступил в зацепление и связь с ее собственной жизнью и временем.
И от этого биения очнулась. Прозрела, возвращая к себе весь опыт врачебный, читанный в книгах. И другой, неписаный женский, от природы и высшего знания.
— Хорошо, хорошо, кричи!.. Так, хорошо, кричи!.. Напрягись, будет легче… Так!.. Еще немного… Кричи!..
И в крике и хрипе выскользнул в руки ребенок. Красно-блестящий, словно отшлифованный для скоростей и полетов. Коснулся ее рук, воздуха, блеска реки, горячего машинного грохота, занимая в пространстве уготованное ему место. Малая искра, контакт — подключили. Оторвался от матери, от темной ее тайной пуповины, соединяясь со всем белым светом. Уже кричал, дергал крохотными мокрыми кулаками, повторяя лицом и криком бессильно лежавшую мать, и томящегося за дверью отца, и белую в небе тучу, и сверкающий огромный поток, и ее, Ольгу, и Ковригина, о котором даже в эти минуты было тайное ее помышление. Открывал свой бархатный красный зев, звал всех к себе, и они, подчиняясь, вели вокруг него хоровод.
— Миленький, миленький мой! Ори, ори, масенький мой! — плакала повариха.
И всех их несло на север.
И было потом: утренняя пристань Мужич с санитарной машиной у сходней. Врач в белом колпаке и халате. Бабы-зырянки в зеленых и розовых, по-старинному скроенных юбках. Танкер, привалив, отдавал новорожденного. Маленький рыбак суетился, бормотал, благодарно светясь сухоскулым, остроглазым лицом. Махина с горючим, саданув гудком, отчаливала, выводила на стремя.
Ковригин снова стоял на носу.
Новая радость, вера, любовь явились к нему без зова. Распалось его горькое, на себе самом сосредоточенное ожидание. Он пустил чужую беду в свое больное сердце, и оно, больное, ему неведомым законом и чудом превратило беду в любовь.
Стоял на носу у пожарной трубы. Рыбины бились друг о друга всем своим серебром. Гудели колоколами. Он стоял под ветряной звонницей, и ему казалось: своей слепотой и прозрением он повторяет извечное движение жизни, извечный путь к океану.
Красный сок на снегу
И опять гремучие чаши моторов оторвали его от бетонного поля. Пронесли над дымным гигантским городом, над ледяными русскими реками. Снегопады, метели остались за крылом самолета. И открылись сухие легкие земли под азиатскими небесами с бирюзовыми куполами и минаретами. Прилавки базаров были пропитаны замерзшим фруктовым соком. Завалены многоцветьем холодных яблок, смуглых гранатов, кистями подмороженного винограда. Тянулись горы изюма, седые соленые груды жареных абрикосовых косточек. Мелькали тюбетейки, халаты. Бежали сиреневые ослики под высокими, окованными медью седлами. Падали с плеч на землю литые мешки белоснежного риса.
Азия, расписная, гончарного цвета, обступила Растокина. И он радостно погрузился в синеватый дым горящих жаровен, в аромат шипящего, пронзенного железом мяса. Смотрел, как плывут сквозь толпу фарфоровые чайники с самаркандским узором.
Он работал в Средней Азии, собирая материал о минувшей хлопковой жатве. Степь, бело-розовая, в тончайших снегах, дышала неживыми стеблями, горными водами в чуть текущих зеленоватых арыках. Взметалась ревом и цветом зимних узбекских праздников. Гудели медные длинноствольные трубы. Визжали тонкие тростниковые дудки. Ахали бубны и струны. Скакуны вспарывали снег на полях, и цепкие всадники с гиком выхватывали один у другого потрошенного, окровавленного барана. А по трассам с ревом неслись хлопковозы с белоснежными тоннами. И на хлопкохранилищах укутанные, перетянутые стропами бунты парили, как сияющие аэростаты.
Степь, уставленная по горизонту стрелами экскаваторов, была точно гигантский сборочный цех под открытым небом. Продергивали под землей сосуды дренажных труб. Натягивали из края в край бетонные желоба водоводов. Подключали газ, электричество. Будто из неба, бросали крест-накрест асфальтовые трассы. И в этих перекрестьях возникали усадьбы совхозов, голые молодые сады сквозили розовой синью.
Машина петляла вдоль горной реки, упираясь фарами в льдистые сухие снега. Растокин дремал. Очнулся, увидев на снопе света глинобитную стену, метнувшегося мохнатого пса, лица бегущих детей.
Его встречал мягкотелый, с округлыми движениями хозяин. Лил на руки теплую воду из горлышка тонкого чеканного кувшина.
— Немножко работал, немножко отдыхать будем. Узбекский чай пить будем!
В комнате с черно-алыми светящимися коврами, с раскаленной железной печкой Растокин пил горячий зеленый чай. Что-то говорил, засыпая. Путано отвечал на расспросы. И, уже погружаясь в сон, думал: труд его кончен, завтра унесут его самолеты навсегда от этих незнакомых круглолицых людей, безымянного горного кишлака. Промелькнув перед ним слабыми росчерками, все оборвется, исчезнет. В этой мысли не было горечи. Он уже спал среди полосатых одеял и подушек — один, на широком полу.
Среди ночи Растокин проснулся от легкого удара в грудь, — то ли тревога, то ли радость. Сразу вспомнил, где он. Вытянул в темноте под одеялом посвежевшее, отдохнувшее тело. Ощутил за стеной — не слухом, а всем лицом — близкое падение горной воды, далекие звенящие на морозе собачьи лай. И понял, что звездно. И вдруг, радуясь молодой своей бодрости, скинул одеяло, пробежал в носках по кошме, всунул ноги в башмаки и, открыв застекленную, звякнувшую тонко дверцу, вышел под небеса. И ахнул. Снег белел в темноте. Чернели огромные неясные горы. А над ними несметно горели разноцветные звезды, сливаясь у вершин в сплошной блеск и ливень, отражаясь в снегах, в воде. Он стоял ослепленный. И, замерзая плечами, испытывал давний, забытый восторг, чувствуя свою жизнь во всей полноте и силе. Прежнее позабытое знание о себе и об этих звездах вернулось. И Растокин, словно боясь потерять это ускользающее ощущение, вошел в дом.
Утром он долго лежал, не желая расстаться с легкой дремотой. С неприязнью ожидал звонкого стука в дверь. А когда постучали, открыл глаза и увидел потолок из сухих красноватых брусьев, золотистого, среди роз, павлина, намалеванного на глинобитной стене. Хозяин в зеленом халате улыбался с порога.
— Вставать надо, а? Два человек пришел, баран принес. Тандыр-кебаб делать будем. Народ из соседний кишлак гости придет. Народ угощать будем. Тандыр-кебаб смотреть надо!
Он мигал, причмокивал, весь сиренево-смуглый. Топтал шерстяными носками морозные пятна солнца.
Растокин оделся и вышел. Горы отвесно сверкали, распахиваясь синевой. Кишлак по уступам теснился в тонких голых деревьях. У вершин кружила высокая, чуть видная птица. Под серебристые абрикосы въезжали два всадника. Передний, в мохнатой шапке, держал перед грудью мешок, проступавший кровавыми пятнами. У другого в переметной суме торчали сухие поленья арчи, пучки зеленоватых ветвей.
Оба спрыгнули мягко. Привязали лошадей под деревья. Кони принялись грызть на стволах кору желтыми выгнутыми зубами. А узбеки раскатали по снегу мешковину, вывернув из нее розового ободранного барана, безголового, с обрубками белых костей. Баран окутался паром. Несколько красных капель упало на снег.
— Горни баран сами лучи, — хозяин мигал на обложенную валунами закопченную яму. — Огонь зажигать надо, жарить надо. Древний узбекский обичай…
И Растокину вдруг захотелось написать с натуры деревья, людей, барана, выхватывая мгновенные образы, не давая им ускользнуть.
Так он писал когда-то свои первые, молодые рассказы. И они были быстрыми, точными оттисками разноцветных картин.
Он прицелился взглядом, наблюдая, как узбек в пышной шапке выхватывает нож из чехла — клинок с костяной рукоятью в резных пестрых венчиках. Глядя на красного, окутанного паром барана, Растокин остро и сладко почувствовал возможность изобразить весь окрестный солнечный мир. Сквозь глаза, сквозь руки понесутся краски и формы. Ударят в бумажный лист, рассекая его лезвиями строк. И бумага вдруг обнаружит иную, бесконечную глубину отраженного мира, куда унесутся вершины с чуть видной медлительной птицей, и костистый кулак узбека, и следы лошадей, голубеющие на снегу.
Откуда возникло в нем это умение? Стремление все пережить и увидеть с одной только целью — записать потом на бумаге? Что рождалось в нем и вокруг все эти годы, до самой последней черты, когда вот он, Растокин, стоит сейчас в горной долине, погружаясь в розовый пар, и узбеки, хрустя сапогами, вытряхивают на снег сухую пахучую траву, рыжеватые крепкие щепы?
Откуда все это!
Процокал по дороге осел. С него соскочил немолодой длиннотелый узбек в стеганом, перепоясанном зеленью халате. Поклонился, погрузив на мгновение сложенные вместе ладони в подставленные ладони хозяина.
— Салям! — он кивнул и Растокину, отошел, встав в стороне под деревьями, белея под перевязью сединой.
— Уважаемый человек, — сказал хозяин Растокину. — На войне воевал. Танке два раза горел. Руки жег. Много орден имеет.
Растокин зорко взглянул на приехавшего, на бритое, в твердых морщинах лицо. На весь его смуглый, спокойный лик с легчайшими, чуть различимыми следами давних ожогов. И снова — на узбеков с бараном.
Они выбрали из ямы снег, сухие свернутые листья и давнишний пепел. Вычерпывали горстями, как воду. Оглаживали ладонями валуны. Натолкали в яму дров, запалили. Заметался маленький плотный огонь. Прозрачный дым устремился к вершинам деревьев. Кони тихо стояли в дыму. Белый, со стертым лиловым седлом. И темный, под малиновой ковровой попоной с черными кистями.
В Растокине снова была та давняя легкость и сила, свежесть и вера в себя, когда юные, он и жена — еще не жена, а невеста — кочевали по среднерусским городкам, деревням, ночуя то в стогах молодого сена, то в душных крестьянских избах у одиноких старух, то в тесных многолюдных гостиницах, то на хлюпающих пароходах. Они были в постоянном движении по чудесной летней земле, уставленной стогами, колокольнями, елками. Удивлялись родным раздольям, своей красоте и силе. Любили друг друга, увлекая в эту любовь свою память о милых и близких, свои надежды на необъятное будущее.
Он писал свои первые рассказы, разложив листы на влажных березовых плахах. Или на рыбных соленых бочках. Или на мокрых клеенках среди алюминиевых тарелок и ложек. Рассылал их в конвертах в редакции. И во всех рассказах была она, смуглая, с ее сладким и тихим хохотом, когда отбивалась от его поцелуев, а в чердачном окошке сквозь ветхие сети студеное море качало срубы деревни, черное дерево лодок, негаснущую за полночь зарю.
Однажды в поезде, тащившем зеленые скрипучие вагоны мимо выжженных косогоров и лохматых сохнущих елей, сидя среди баб, уставивших полки корзинами, она сказала ему, что у них будет ребенок и надо решить, что им делать, как поступить. Они сидели, прижавшись головами, глядя на домики стрелочников с выставленными дорожными знаками, похожими на церковные хоругви. Какой-то старик, расстелив на коленях платок, ломал хлеб негнущимися пальцами, вяло жевал рыбьим, беззубым ртом. А они решали, что делать.
Он оставил ее в маленькой придорожной больнице, а сам эти дни жил по соседству. Лазил на каменную колокольню с прогоревшим полом и содранным куполом. В войну на колокольне размещался немецкий пулеметный расчет. Солдаты варили обед в котелке, выламывая доски из пола, коптя потолок. Теперь в закопченном куполе жили голуби.
В день ее выхода из больницы Растокин зашел на почту и увидел: в газете широко, на две полосы, напечатан его рассказ, с его именем, с его словами и мыслями, ставшими вдруг пленительно незнакомыми сквозь печатные строки, черные, строгие, как чеканка на тончайшей фольге. Он читал, перечитывал. Прижимался к листам глазами, шепчущими губами. Нес газету раскрытой, как парус. Слепо перешагивал рытвины, распугивая кур, пропуская стучащие телеги.
Она стояла на больничном крыльце, похудевшая, бледная, в выцветшем сарафане. Он бросился к ней, отдавая газету. Она приняла, улыбаясь, щурясь от яркого света. Он следил ревниво и пристально, как бегают по строчкам ее глаза. И вдруг подбородок ее задрожал, и она зарыдала на больничном крыльце, держа газету с рассказом. И он, разом очнувшись, трезвея, понял все, что случилось за обшарпанной дверью больницы. Там осталось неосуществленное и навеки немое, не раскрытое в эту жизнь, в эти летние облака, в далекие луга и дороги.
Он пытался себя убедить: это нужно для будущих книг, для огромных зреющих замыслов. Да простится ему эта жертва.
Смотрел на свой первый рассказ, и ему казалось, что в газету ударил, как в броню, снаряд, опалив и его, и жену острыми жгучими брызгами.
Гости подходили и подъезжали. Кланялись хозяину и Растокину. Вставали под деревья, негромко гудя голосами. Еще один, горбоносый, с худым чернобровым лицом, с темными дугами под вздрагивающими влажно глазами, прошел мимо них. Хозяин сказал:
— У него горе большой! Мать умерла прошлый недель. Болел долго мать. Хороший сын, матерь на час не бросал, врачам на руках носил. Умерла, плакал сильно. Теперь к нам гости пришел. Народ горе свое говори, легче станет.
Растокин взглянул на темное от горя лицо. Но солнце слепило, и Растокин снова вернулся к барану, к коням, к смуглым валунам очага.
Кони стояли в тенях, сонные от солнца. Горец, опустившись на колено, расталкивал кулаком парные бараньи бедра. Порол клинком тушу, рассекая пленки и жилы. Высекал из барана красные клинья, шмякал их в груду. Кони терли морды о стволы абрикосов. Снег с деревьев, согретый дымом, сыпался на коней.
— Горни барашек вода пьет сами чисты, трава есть сами свежи, — говорил хозяин, трогая за локоть Растокина. — Кушать будем горни народный блюд!..
Его юношеская вера в единство, в нерасторжимость всего раскрывалась любовью к своим милым и близким: к матери, бабкам, дедам, собиравшимся на свои чаепития. Качание их серебряных старых голов. Старомодные речи. Вспышки их споров и ссор. Они вспоминали, словно смотрелись в старинное зеркало, чуть затуманенное. И видели себя молодыми.
Он верил в возможность единства, когда собирались друзья. Их комната без убранства. Стол без скатерти: бутылки, картошка и хлеб. И они, утомившись от споров и разногласий, запевали хором хлеборобные песни.
Умер дед. Лежал на дощатой лавке, длинный, костистый. Гроб смоляной, огромный, похожий на открытую дверь, стоял рядом с лавкой. Румяный человек в халате, как парикмахер, расчесывал алюминиевым гребнем мертвую голову деда. Кисточкой чернил ему брови. Завязывал по-парадному галстук. Будто готовил к театральному выходу и дед сейчас встанет, пройдет в открытую дверь.
Эта смерть была первой. Растокин плакал. Жалел худое, неживое, дорогое ему лицо. И вдруг сквозь горе, сквозь плач расставания почувствовал в себе иного, неплачущего человека. Этот другой остро, жадно смотрел, стараясь запомнить разведенные большие ступни в носках, алюминиевый гребень, розовую баночку с краской, мертвый седой хохолок. Тот, другой, следил с любопытством, почти с наслаждением, зная, что напишет об этом. О деде и о себе, рыдающем. В нем жило два человека и не было никакого единства, а только всегда раздвоение, всегда изначально. Один из них, искренний, плакал, любил, сомневался, пировал с друзьями в застольях. Второй, холодный и точный, следил за движениями первого, посылал ликовать или плакать, записывал его состояния. Весь мир со смертями, рождениями, в котором двигался первый, был для второго лишь поводом заполнить бумажный лист.
На снегу дымились ворохи мокрой баранины. Узбек развязал мешок с крупной солью. Стал брызгать ее горстями на мясо. Соль розовела, впитывалась. А он стряхивал ее с рук, вытирая ладони о мясо.
Еще один гость, крепкий, ладный, гибко соскочил с ишака, мотнув рыжей копной — лисьей шапкой. Улыбнулся свежо, румяно: — Салям! — и отошел, подпоясанный синей тканью.
— Молодой, а? Скажи, ходит легко? Забот мало, а? Опять жена два ребенка в один раз рожай. Молодец, а? Русский жена раз-два дети родит, и все. Узбекский жена шесть, восемь родит, нет остановки, дальше рожай! — хозяин смеялся.
На горы было больно смотреть. Женщина в черно-красных одеждах с ведрами шла к реке. И навстречу ей, мотая тяжелыми шерстяными боками, по голубым снегам протекло стадо коз…
В ту осень он плавал на тральщике в Баренцевом море, среди редких льдин, на которых стояли красноногие круглогрудые чайки. Вода с шипением омывала броню, качала на себе высокие сухогрузы под пестрыми заморскими флагами. Растокин, чувствуя, как обжигает ноздри морской сочный ветер, направлял бинокль на каменные фиорды, на стальные пограничные вышки. И знал: в эти дни в Москве печатается его первая книга.
По тревоге он бежал с командой вдоль грохочущей мокрой палубы, застегивая ремешок каски. У орудия дергался пламегаситель. Горячие гильзы сыпались медным ворохом. Трассы протягивались над пляшущим морем.
А он, глядя на далекие взрывы, думал о книге: как рождается она в этот час, наращивая страницы.
Он торопился обратно на базу. Гнал на машине мимо сопок в рыжих, дождливых лесах. И, взмывая на самолете сквозь тучи, прорываясь к чистому небу, ликовал и гордился своей властью над глубоким туманным миром, проплывающим под клювом машины. Ибо он одной своей мыслью мог создать эту землю, засеять лесами и травами, населить зверьем и людьми и вести их по судьбам, по смертям и рождениям. Земля казалась ему огромной книгой, написанной им самим.
Он примчался с аэродрома в редакцию. Книга лежала на столе, в пустой комнате, в пятне осеннего солнца. Он смотрел на нее не касаясь. Она казалась тяжелой, как слиток. А поднял, — легкая, живая, телесная, будто дышала, пульсировала у него на ладонях. Смотрела тысячью напряженных глаз. И он знал: это только начало. Его главная книга еще впереди. И ей, только ей посвятит он себя до конца…
Еще два гостя прошли, присоединившись к другим, под деревьями. Маленькие, крепкие, кривоногие. Прохрустели по снегу сбитыми остроносыми сапогами.
— Два брата, оба горы ходят. Кеглики ловят, дикобраз. Кабана пулей бьет, медведя бьет. Большой охотник! — хвалил их хозяин, цокая языком, трогая локоть Растокина.
Растокин кивнул.
В яме крутился огонь, как лисица в норе. Узбеки раскрывали шитые шерстяные кисеты с толчеными душистыми травами, собранными в горах, высушенными на летнем солнце, перемолотыми в деревянных домашних ступах. Лошади топтались в дыму. Над ними в прозрачных ветвях сидели две горлинки.
Тогда ему казалось, что он несет в себе источник небывалой энергии, своей собственной и завещанной прошлыми поколениями. В нем эти силы вырвались на свободу, толкали его в пространстве без устали, расширяли его зрачки восхищением, сообщали волю к познанию и творчеству, наполняли его рассказы и повести. Все годы, как день единый. Рождение детей. Самолеты. Болезни и смерть стариков.
На мордовской осенней ярмарке смотрели на него белолицые скуластые бабы в домотканых льнах и платках. Тянули с прилавков миски с сотовым медом, березовые увядшие веники, ведра огурцов, помидоров. Он купил у них коромысло, выгнутое, как лук, сусально раззолоченное, в листьях и цветах. Привез в Москву. А дочь без него родилась. Он стоял с коромыслом на больничном дворе, а высоко за стеклом чуть светлело лицо жены, державшей на руках ребенка.
Бил пулемет на сопке. Транспортеры мчались, выстригая из неба красный кусок зари. Солдаты отрывали от камней свои молодые, легкие тела, бросались по склону в атаку. Он шел по следам атаки, сшибая башмаками пробитые осколками фляжки, пустые рожки автоматов, россыпи стреляных гильз. Вернулся в Москву запекшийся, почерневший. Привез боевой патрон. А сын без него родился. Опять все то же окно на больничном дворе. И цветы все те же. А жена, бледнея лицом, подносит к стеклу маленький розовый кокон…
…Валуны в очаге раскалились, побелели от жара. Нож лежал на снегу, мерцая в желобке каплями влаги и крови. Откованный, закаленный, выточенный кузнецом в полутемной кузне. Украшенный резьбой, мусульманской священной вязью. Кто знает, сколько раз эта сталь погружалась в горячее баранье горло, в алый гранатовый плод, в сухую смоляную сосну?
Узбек хватал из кисета щепоти душистой травы, осыпал куски баранины, словно крестил их. Его друг накалывал мясо на заостренные ветки, клал рядами на снег.
К чему он стремился все эти годы? О чем писал? Что ему открывалось?
Держава, как гигантский авианосец, раздувая ядерные топки, набирала мощь и движение среди своих океанов. А он, как легкий перехватчик, взмывал с ее палубы и вновь возвращался, добывая знание неутомимо и жадно.
Он искал человека с новым сознанием и этикой в пекле целинных жатв, в антрацитовых лавах, в плавках огненной стали. И в себе самом, их всех в себе совместившем.
Все силы его напрягались. И в этих сверхнапряжениях разрывались связи прежних дружб и союзов. Друзья, которые прежде собирались в застольях, их песни седой старины уже не волновали его как когда-то. Ему казалось: друзья не понимают его, все еще в прошлом.
И он, неутомимый, свободный, уносился от них на крылатых машинах, сбросив с себя их дружбу, словно легкую одежду. А страна, как гигантский радар, охвативший полсвета, направляла его полет.
Узбеки бережно, держась за концы заостренных палок, несли мясо к яме. Укладывали его над раскаленным гнездом. Быстро накрывали ворохами зеленой арчи. Сосна начинала сочиться ароматами, дымом. А узбеки запахивали яму одеялом, кетменем нагребали землю. Сизые струйки пробивались наружу. Люди насыпали над ними курган. Укрывали жар в глубине.
Растокин слушал их речь, резкую, как струна. Следил за мельканием рук и халатов.
Баранье мясо зрело в земле, как корень. Наливалось силой и соком. Принимало в себя огонь, ароматы трав, горячих камней и дыма, благодать этой горной земли, прокаленной ночными звездами.
Он готовился начать свою книгу, свою основную, как ему казалось, работу, которую не делал никто до него, для которой он стольким жертвовал.
Ему хотелось описать бетонные блоки ГРЭС с полосатыми трубами, кидающими в ночное небо красный дым. И гул стальных агрегатов, вырабатывающих молнии света. Конструкции железнодорожных мостов, принимающих в натянутые дуги свистящие стрелы составов. Тишину вычислительных центров с сервизами приборов и ламп. Медно-масленый грохот корабельных дизелей. Он хотел описать индустрию, вертолеты, корабли, вездеходы. Новое время казалось ему выразимым в грандиозном поэтическом образе, и он над этим работал.
А за стенами его тесного кабинета болели и плакали дети. Целый день варилась еда. Стиралось и сушилось белье. И так каждый день, каждый день.
Иногда, глядя на измученное, потемневшее в тревогах лицо жены, он думал: неужели это они, молодые, любящие, шли тогда по цветущей обочине и она, разукрашенная ягодным соком, подносила ему на ладони горсть разомлевшей малины?
Хозяин ласково тронул Растокина за руку:
— Баран час лежал надо. Через час вынимать, кушать надо. Пока чай пить будем.
Из домов выносили длинные алые ковры, ворсистые, из грубой крашеной шерсти. Раскатывали их по снегу, прожигая его белизну. Гости усаживались вдоль этой огненной широкой дороги, подкладывая под себя попоны и седла.
Растокин опустился со всеми на ковер, чувствуя рядом их тесные плечи, двигающиеся руки. Утопил свои локти в узорах подушки. Перед ним ставили блюда и сласти. Круглые пшеничные лепешки. Тарелки с кристаллическим сахаром, крепким, как горный хрусталь. Яблоки, малиново-белые, запотевшие с холода. Сморщенный, смуглый изюм. Виноградные кисти с восковым налетом, как в инее, с обрывками вялой лозы. Коричневые, будто поджаренные, в сухой кожуре гранаты.
Первые стопки полетели по рукам. Люди пили, вытирали усы и губы ладонями, платками, полами халатов. И Растокин чокался, пил со всеми, принятый в их братство и праздник.
Среди голов и бород он вдруг увидел лицо старика в пышном белом окладе, чем-то похожее на лик покойного деда. Вздрогнул от внезапного видения, потянулся туда. Но ему передали стакан, сунули в руку горячий хлебный ломоть. Растокин выпил, охнул, окунул хлеб в растопленное масло.
Горлинки перелетали в саду над попонами стоящих коней.
Он увлекся молодой прелестной женщиной — скульптором. Появлялся вечерами в ее мастерской у Самотеки, у Троицкого подворья, где сквозь липы чернели ржавые главы огромной церкви, а к деревянному дому с витым козырьком подводили щербатые каменные плиты.
— Опять ты стучишь, мой милый. Я и ключ тебе отдала, и дверь для тебя открыта… Хочешь, сделаю слепок твоей руки с пером?
С этой веселой, чудесной женщиной было легко. Она, свободная от горького опыта, от вечных сомнений и страхов, не тяготила его чувством вины. Той вины, что он испытывал перед женой, глядя, как та бьется в огромных тенетах хозяйства.
Как-то она попросила взять ее с собой в поездку. Ей тоже захотелось взглянуть на технику, покоряющую дикие ландшафты. Он смеялся, говорил полушутя-полусерьезно, что напишет ее среди атомных станций, танковых армад, самолетов. И она соглашалась.
Он помнил их перелеты над Казахстаном, над белесой степью, солончаками, хлебами, сайгаками. В Темиртау они приходили в цехи, где на рольгангах мчались малиновые глыбы металла. Она казалась рыжеволосой, с ртутными расправленными глазами, когда сталевар прошибал у домны глиняный кляп и чугун опрокидывался слепящим водопадом. И он, Растокин, старался ее запомнить среди искр и отсветов.
Он вводил ее в пшеничные нивы, где плавали красные комбайны. Подставлял под хлестанье колосьев. Она ложилась, усталая, на груды зерна, сбрасывала туфельки, вытряхивала из них усатый сухой колосок.
Он знал, что напишет об этом. И, отпуская ее от себя, глядя, как бежит она по тонким выжженным травам, мелькая сиреневым платьем, знал, что она бежит по страницам его рассказов.
На ночной дороге под Аркалыком в их мчащийся газик врезался тяжелый, груженный зерном самосвал. Растокина выбросило из сиденья. Пронесло сквозь лопнувшее стекло и железо. Метнуло в кювет. Очнувшись, обливаясь кровью, он выкарабкался на асфальт и увидел ее, неживую, на взорванных грудах зерна.
В старом казахском мазаре, разрисованном изнутри винтовками, чайниками, самоварами, он плакал о себе, и о ней, и о великом своем грехе. Будто спала завеса из вечных радуг, цветов и под ней открывалась истина: все эти годы ему казалось, что он идет к своей книге, отметая с пути помехи, а он шел к этой смерти, отметая в себе человечность. И вот он пришел.
Он стоял, вцепившись в прокаленные надгробные камни, и думал: как могло случиться, что в творческом своем эгоизме, гонясь за красотой, он будто ослеп и оглох к тем душам и голосам, что звучали вблизи него. К своим милым и близким, ждущим, зовущим его. К друзьям, дарившим его своей дружбой. И к ней, любимой, погибшей, по сути, во имя него.
Как возникла в нем эта беда и жестокость? Кто он такой и какое ему за это возмездие? К кому ему броситься в ноги со своим великим раскаянием?
Он судил себя и казнил посреди казахстанской степи. Думал об абсурде своего рождения и жизни, которая так и пройдет для него непознанной, в погоне бог весть за чем. Надо опомниться, оглянуться, понять, что такое он сам. Что терял в эти годы? В чем виноват?
Они пили чай, заедая сластями. Опрокидывали чарки с вином. Узбек на упругих кривых ногах, радостно оскалясь и охая, поднес дымное блюдо с мясом. Бережно опустил на ковер рядом с яблоками. Выпрямился, усмехаясь, награждая всех ароматами дыма и пряностей, зыркая лилово глазами. Круглились запеченные бараньи куски. Из них торчали обгорелые деревянные стрелы.
— Тандыр-кебаб настоящий! — говорил хозяин, отрезая ножом лепесток раскаленной печени и курдючного дрожащего жира, складывая их вместе и протягивая Растокину. — Гостю сами нервы, сами кусны даем!
Растокин ел обжигаясь. Видел, как подъезжают новые всадники, слезают с коней. Присаживаются к общему пиру.
В саду было людно, шумно.
— Люди соседних кишлак приехали, давно не видал, — говорил хозяин, наклонясь к Растокину. — Немножко посидеть надо, то-се рассказать надо. Чай, вино попить и опять разъезжаться.
И опять на снег выносили ковры и подушки. Баранина дымилась на цветах и узорах. Растокин чувствовал себя в недрах другого народа, в самой его сердцевине.
И снова мелькнуло лицо его деда. Но это старый узбек смотрел на него долго и пристально.
В этот последний год Растокин понял, что не был сделан из сверхплотных, сияющих сплавов. Он обгорал и обугливался. Там, где прежде, как казалось ему, работал неисчерпаемый мощный двигатель, теперь осталась лишь груда рассыпанных деталей. Что-то случилось, умолкло в нем и вокруг. Он больше не мог писать.
Ему казалось, что он погибает от страшной, внезапно поразившей его болезни. Худой, раздраженный, несчастный, сидел, запершись в кабинете. Или бродил под ледяными дождями в тяжелых вечерних толпах. И спрашивал себя: что же случилось? Где был допущен просчет? Неужели там, на степной дороге, у смятых радиаторов, на рассыпанной груде зерна? Или раньше, в самом начале, на ступеньках сельской больницы, куда он вбежал с первым своим рассказом?
Свобода, которой он всегда добивался, разве эта свобода не была колоссальным, непрерывным трудом, ежесекундным, день и ночь, даже во сне, в болезни? Трудом, где он всегда одинок и никто не придет на помощь?
Или это только ему казалось, а мир, в самой важной сути своей, в тех бесчисленных человечьих страданиях, которые можно понять только одним состраданием, очеловеченный мир людей, далеких и близких, — до сих пор ускользал от него, оставляя в его сознании лишь цветную, неверную тень? А теперь даже тени нет. И не будет ни книги, ни творчества: он пуст и бесплоден.
Неужели за эти вины взят назад его дар? Неужели никогда не вернется?
Он бродил по каменной ледяной Москве. И в нем самом были камень и лед.
Он перестал писать свою прозу. Ездил в командировки от газет и журналов, публикуя статьи и очерки. Его охотно печатали. И, пропадая в поездках, все ждал, все надеялся, что будет помилован, что вернется к нему его колдовство.
Узбек с седыми бровями брал коричневыми цепкими пальцами плоды граната и над большой цветастой пиалой ломал их с треском. Выжимал огненный сок, струями, каплями, брызгами омывал белый фарфор. Откладывал обескровленную бледную мякоть.
Чаша плыла по рукам, полная сока, полная силы и солнца. Люди бережно, стараясь не разлить, передавали ее на ладонях.
Растокин следил за ее приближением, чувствуя, как влажно, остро и ярко в его глазах, в его душе, в его сердце. Тянулся к ней, к этой чаше, к этим людям в порыве своей к ним любви, своей благодарности, открывая свою кровную с ними связь. С их судьбой, с их жизнью. Связь, которую они дарили ему вместе с алым напитком.
Тот, в седине, со следами огня на лице, коснулся рукой фарфора. И Растокин ясно представил, как среди русской полынной степи билась в кипящей броне его юная жизнь. Как, прижимаясь зрачками к прицелу, он посылал снаряды из охваченной пламенем башни.
И тот, потемневший от горя, схоронивший мать, тоже тронул чашу рукой, омыл ее тайной слезой. И Растокин издали это заметил, метнулся к нему душой, прижался щекой к его темной худой щеке.
И тот молодой красавец с шелковистыми бровями, чья жена разродилась двойней, усмехался в свой пышный ус. Коснулся легонько пиалы, наполнил ее гомоном огромной семьи, ее ароматом и силой.
Следя за медленным приближением пиалы, Растокин увидел вдруг, как над ней колыхнулась борода его деда. Дед, живой и любимый, знакомый до последней морщинки, до последнего завитка в седине, смотрел на него, улыбался, кивал ему, ободряя.
Жена протягивала ему расписной сосуд, белолицая, молодая и чудная, как в тот давний апрельский день, когда шли среди холодных берез и из талых луж поднимались бесшумные серебристые птицы.
И дети его, любуясь на фарфоре цветами, передали ему эту чашу, наполнив ее своим смехом.
И она, не погибшая, а живая, красивая, сузила над пиалой зеленые прищуренные глаза, смотрела коротко, протягивала ему алый цвет.
Он видел их всех в этот миг, всех принимал в свое сердце. Пил гранатовый сок, его свежесть, его ледяную сладость, роняя капли на снег.
Хозяин провожал его до машины, говорил, открывая дверцу:
— Москва будем, обязательно гости придем!
И, отвечая хозяину, пожимая его ладонь, Растокин видел: раскатан красный ковер, люди, подложив под себя попоны, сидят вокруг плотно, стеной. Гуляют по кругу пиалы.
И, глядя на это, Растокин знал: путь его еще не окончен, а только лишь начат. И ему суждено пройти до самого последнего часа, испытывая на себе все напряжение жизни и выбранной им задачи. Плача, сострадая, ликуя, беря на себя людские грехи и заботы, чтобы в конце концов понять и ответить: что же такое этот прекрасный загадочный мир, в который его призвали, наделили глазами и сердцем? Мир, в котором мучаются, бьются и любят. Выпускают в небеса самолеты. Красят снег гранатовым соком.
Мотор подхватил его и понес мимо коней, кишлака, абрикосов на далекую, в туманах равнину.
* * *
Танкер шел в полосе дождей. То в ясном, воздушном просторе, едва касаясь реки, подымаясь к плывущим на север тучам. То внезапно меркло, окатывало звоном мокрое серебряное железо, смятая ветром вода начинала мелко сверкать, остро топорщиться несметными стеклянными иглами. Танкер зарывался в сыпучий шелест. А потом стихало, и вода начинала синеть. Солнце шевелило край пролетающей тучи, и близко, размыто загорались дымные радуги. Далекие, за разливами, тянулись тундры. Корабль плыл к разноцветным, упавшим с неба столбам.
…Ее платье свисает со столика. Знакомый на ситце выгоревший желтый цветок виден наполовину. Рассыпанные шпильки, светлый металлический гребень. Она потянулась, открывая шею, плечо с бретелькой, темный завиток кудели. Окунула голую руку в окно, в светлые брызги и ветер. И возвратила обратно, прижав к его груди ледяную, пахнущую рекой и небом ладонь. И чистый ожог от ее ладони погрузился в грудь, превращаясь в свечение, начиная тихое в нем движение. И лежать, закрыв веки, неся в себе отражение ее руки.
— Не холодно?
— Нет… Закрой плечо, а то брызги.
— Мне хорошо…
— Как ты думаешь, сколько сейчас времени?
— Не пойму. Может быть, утро?
— Нет. Думаю, полночь.
— В Казахстане сейчас звезды, темень… Ты не замерз?
— Нет… Хорошо от твоей руки…
Под палубой дрожала машина. Винт перепахивал толщу. Качался на платье цветок. И стиралась черта в ощущении своей груди, ее потеплевшей руки. Разница между ней и мыслью его о ней.
— Мы утром уже приплывем?
— Утром уже Салехард.
— И надо сразу лететь. Занятия мои начинаются. Утром в Салехарде, а вечером или ночью в Москве.
— Еще зачерпни за окном…
Она снова вынесла руку, держала ее среди радуг, дождя. Осторожно внесла щепотью, будто влила ему в грудь холод и цвет. И он нес в себе ее разноцветную руку.
— Тебе не кажется, что мы плывем по дуге? Смотрел по лоции: здесь русло прямое, а все мне кажется, что плывем по дуге…
— Мне кажется, мы плывем по кругам. Вот еще один круг одолели. Все эти дни мне казалось, что ты от меня удалился. Знаю, что в соседней каюте, слушаю тебя ночью сквозь дребезжание мотора, но чувствую, как ты далеко. Где-то ходишь, бродишь, чего-то ищешь, теряешь. Жду, когда возвратишься… И вот возвратился…
Опять окатило танкер коротким дождем, и он плыл в светлых испарениях, как айсберг. А потом палуба цвета голубиной груди блестела, словно мокрый каток, и чайка над ней пропорхнула.
— Да, я бродил, бродил. Ты это верно сказала… Бродил как подстреленный. Все тропки искровянил. Весь лоб расшиб, с моей-то мудростью! Все формулы жизни искал, как говорил Растокин, от ума, от гордыни, от своего единичного опыта, и все напрасно, тупик!.. А формула-то, бог мой, как проста! Так проста, что и объяснить не умею… То ли чаечка пролетела, то ли рыбка плеснула, и вот из черной точечки, из лодочки, как чудо сверкающее, твое просветление!.. Ну как тебе объяснить? Видишь, вот моя грудь, на ней твоя разноцветная рука, а кругом дожди и разливы…
— Кругом дожди и разливы…
— Мне кажется, в этих днях кончилась еще одна моя жизнь. Важная, но подготовка для новой, которая вот началась… Из той ничего не пропало, а только вдруг осветилось. Драгоценна каждая малость, каждое слово, лицо… Еще не знаю, что с ними делать, но что-то важное, главное!.. Главнее и нет ничего!
— А сердце? Как твое сердце? Болит?
— Болит. Но это не страшно. Оно и должно болеть. Сердце должно болеть. И о том рыбачке худосочном. О его круглолицей жене. Об их новорожденном сыне… Об умершем у печи горновом… О лисичке-сестричке… Понимаешь? Ты меня понимаешь?
— Понимаю. Тебя понимаю…
Танкер шел по дуге, созвучной с земной кривизной, оставляя на полных водах исчезающий след. Металлический гребень тускло сиял на столе. Колыхался цветок на платье. И она говорила:
— Все это время, как только друг друга узнали, как только я к тебе потянулась, начались наши встречи, разлуки. Встречались как бы случайно и удалялись вспять. Торопились увидеться, оглядеть, приласкать, одарить, а потом чья-то сила опять разводила. И бродили, аукались, стремились друг к другу… Но теперь-то уже не расстанемся? Теперь-то встретились? Станем вспоминать, как кружили. Как ты в деревню приехал… Как шли по лугам… Как сидел, одинокий, и дратвой чинил туфлю… Теперь-то уже не расстанемся?
— Милая ты моя…
Он обнял ее за теплый затылок, упрятав ладонь в скользящую глубину. Мягко к себе привлек. И почувствовал ее жизнь как продолжение своей. И все опять начиналось, танкер терял свои тонны, отрывался от вод и легкой серебряной тенью погружался в синюю тучу. И казалось, видна кривизна земли и другая ее половина. А потом все срывалось в блеск, и в закрытых глазах что-то билось, созданное из света и тьмы. Снова ровный рокот движения. Танкер в сиянии вод. На столе металлический гребень.
— Что-то я собирался сказать, — Он чувствовал голым плечом ее тихое дыхание. — Ах да, про новую жизнь, про ее появление!.. Как бы ниоткуда. Невидимый источник лучей. Но я-то знаю откуда. От тебя!.. От тебя ее появление. Ты сама водила меня по этим кругам. И вот привела… В тебе такое богатство, стольким владеешь…
— Ну что ты, чем я владею…
— А кротость? А твоя тишина? А твой белый свет?.. Ты выше, богаче меня. И я так виноват, так благодарен…
— Родной мой, ну какая вина? Просто ходили, аукались, терялись из вида, а теперь повстречались, и уже не заслонить ничем.
— В той, в моей прежней жизни было много важного, даже святого, от чего нельзя отказаться. От него и не стану отказываться, а просто поведу тебя по всем святым местам. И что обветшало — опять засияет. Откроется в новом свете.
— А куда меня поведешь?
— Приведу к себе в дом, чтоб пришла и ко всему прикоснулась. Ко всем любимым книгам. К старому, прадедовскому столу. К портрету бабушки в черной давнишней раме. К моим коллекциям, к коробкам с сибирскими бабочками и каракумскими жуками… Ну, знаешь, как жилье освящают, водой кропят…
— Утром в Оби зачерпну, а вечером уже могу окропить.
— Хочу показать тебе Москву, мою, ту, которую знаю. Троицкие подворья с заколоченными лабазами, с последними мещанскими домиками, где железные козырьки с завитушками и зимой за окнами привязаны новогодние елки, где кружил мальчишкой, мечтая бог весть о чем, неосуществимом и чудном, а из форточек то песни, то ссоры, то музыка…
— Хочу все это увидеть…
— Или встанем у Манежа, где вертится сверкающая карусель машин, и за розовой стеной светлеет дворец, и белые колонны, которые помню такими, на которые столько до тебя любовались, безвестных, но тебе дорогих.
— Увижу, все это увижу. Твоими глазами. Хочу посмотреть на дом, в котором родился, все твои дворики, переулочки. Хочу с тобой путешествовать. В ту деревню у речки, где хоронил старика. На то поле, по которому в атаку бежал. Непременно поедем… Я так верю в тебя, так рада тебе. Знаю, все у нас будет прекрасно…
«Да, теперь и скажу… Вот теперь и скажу… Теперь уж можно, без боли, — подумал он облегченно. — Что там, чумы или просто кусты?»
— Я вот что тебе хотел… Утром приплывем в Салехард, и ты полетишь одна… Начало твоих занятий, нельзя пропускать, и ты полетишь. А я еще ненадолго… Маленький отрезок на север… По Губе, до Таза… Ну знаешь, там Мангазея… Ну, первопроходцы… Сперва от Урала пешком до Оби, в кольчугах, доспехах. Потом все железо перековали на гвозди, построили лодки и плыли. Потом в Мангазее эти гвозди — опять на доспехи… Там остатки часовен, но теперь вертолеты и техника… Я прочитаю там последнюю лекцию. Я им обещал.
— Ты меня опять отсылаешь? — тихо спросила она, и он слышал, как горе ее возвратилось.
— Ну что ты, что ты! — торопился он объяснить, гладя, целуя ей руку. — Мы вместе, и новая жизнь… Мне так хорошо, светло… Ты полетишь, а я через неделю вернусь. Мне нужно закончить маршрут. Ну, понимаешь, там конечная точка маршрута, завершение процесса… И хочется обдумать, решить перед тем, как в новую жизнь!..
— И я с тобой. Не буду тебе мешать…
— Нет, нет, занятия твои начинаются. Мне ведь только на несколько дней… Да ты не волнуйся! С сердцем моим хорошо, с ним все хорошо…
— Я согласна, — тихо сказала она.
Шумела за бортом вода. Ветер летел в высоте, ложился на реку серыми вмятинами. Наваливал сверху тучу. И она охватывала танкер своим водопадом, грохотала коротким ливнем. И опять отпускала, уносимая к югу — к травам, лугам и протокам. А в открывшихся свежих просторах — черные кручи и лбы в снежных пятнах. Полярный Урал подходил к оконечности суши, наваливался на Ямал, погружался под воду, всплывал еще раз позвоночником Новой Земли, опускаясь в ледовое море. Обь прижималась к хребту, завершая бег по равнине, готовясь сойти в океан.
«И пусть ей будет не больно. И пусть ей будет светло…» — Он гладил и целовал ее руку.
Сверкали снега на кручах. Сиял на столе гребешок.
Утренний порт Салехарда. Заливные, в синем блеске луга и зеленая круча горы с деревянными цветными домами. Баржа под разгрузкой. Штабеля ярко-желтых насосов. Вездеходы, энергоблоки и трубы. И на их тихую гладь с тонким треском садятся гидросамолеты, встают на поплавки, словно долгоногие кулички. Гигантская китовая туша плавучей электростанции «Северное сияние». Стук катеров и моторок. Тонкий негаснущий месяц. И под ним, освещенные солнцем, плоты из красного леса тянутся вслед за буксиром. Лиловые горы угля, и в блеске, дыме лучей проплывает морской кораблик с белой надстройкой, красной ризкой на черной трубе.
Они простились с командой танкера и шли по городу вдоль дощатых, набитых стекловатой коробов с упрятанными водопроводными трубами. Мохнатые лайки кидались бесшумно навстречу. Двое подвыпивших в морских фуражках качались и пели. Трепался над улицей линялый кумач с призывом.
Ковригин хлопотал о билете. Снесясь с городским начальством, достал последнюю броню на текущий утренний рейс.
Они сидели в аэропорту среди тяжелых полярных вертолетов. Дерн на земле был содран, тундра текла песками. Поле, скованное аэродромным железом, туманилось пылью. АН-24 голубел в стороне под заправкой. Толпился, ожидая посадки, пестрый северный люд.
— Соловьев, Соловьев, ну кончай!
Студенты из стройотряда угнездились на рюкзаках, и одна, белозубая, яркая, накаленная здоровьем и молодостью, толкала чернявого парня с гитарой:
— Ну кончай, Соловьев, сыграй! Ну будь человеком!
Тот прижимал к гитаре сбитые в кольцы волосы, хлестал по струнам. Девицы, одинаково меняясь в лице, начинали кивать головами и, поймав мотив, громко, яростно пели:
Мы кладем тугие рельсы, А пока Отправляем даже в рейсы Облака…Сбивались, хохотали, чересчур громко, чуть веселее, чем следовало. И все тонуло в реве вертолетных винтов.
— Мне так тяжело, — сказала Ольга. — Как в ссылку…
— Ну что ты, милая? Пустяки! — говорил Ковригин. — Билет я тебе передал? Представляешь, такая удача! Последняя бронь — командира авиаотряда. Добрые люди, дай бог им здоровья!
— Я так не хочу улетать… Еще есть время. Пойди сдай билет. Я буду так волноваться…
— О чем волноваться? Смотри, сегодня у нас понедельник. Да? Ну а в четверг прилечу. Всего-то три дня!.. Я тебе дам ключи. К приезду чай вскипяти. Я же великий чаевник.
— Ключи не возьму. Одна к тебе не приду. Только с тобой.
— Хорошо, сам тебя приведу. Но тогда свидание назначим… С этим же рейсом в четверг.
— Где назначим свидание?
— Ну где-нибудь, чтобы ты не плутала… Ну на Красной площади, что ли, у Василия Блаженного. Ровно в полдень. Прямо с самолета! Запомнила? Ровно в полдень!
— Буду ждать, — сказала она.
Девицы опять тормошили чернявого парня. Дергали его за кудри. А он отбивался, хватал их за шею.
— Соловьев, руки, руки! Ну поиграй, ну будь человеком!
Он сутулил сильные плечи, принимался бренчать. А те на своих рюкзаках сдвигались плотнее, начинали лихо с куплета:
Мы кладем тугие рельсы, А пока Отправляем даже в рейсы Облака…Опять сбивались. Хохотали. И вертолет их глушил своим воем.
— Я тебе хотела сказать очень важное, но слов не найду… Очень многое хотела, и может быть, время, но какое-то оцепенение… Не решаюсь. Уж когда прилетишь, тогда…
— Всего три денечка… А чтоб не скучала, вот это…
Он открыл баул, извлек серебряный мятый кофейник.
Книгу со своими работами, перевод на французский. Начал листать. Открыл на страницах два легких сухих соцветия, темно-алое и голубое.
— Вот возьми…
И положил ей в сумку.
— Граждане пассажиры, — задребезжал громкоговоритель, — объявляется посадка на рейс триста двадцать четыре, вылетающий маршрутом Салехард — Москва. Просьба к пассажирам пройти на посадку…
— Вот и все, — сказала она. — Вот и все…
Они прошли на перрон, и их разделило, разнесло. Студенческие куртки с нашивками. Чья-то собачья шапка. Кепки и фуражки. Он видел Ольгу, уходящую через взлетное поле. Она оборачивалась и махала. Еще раз мелькнула на трапе.
Самолет загрузили. И он стоял, бело-синий и маленький, среди желтых песков.
Ковригин слабо махал.
Загудели моторы. Самолет пробежал, взлетел. Качнулся и исчез на солнце. Ковригин смотрел в пустоту, еще звенящую самолетом, думал: «Как, в сущности, просто…» Люди кругом расходились.
Он брел мимо взлетного поля с раздавленным аэродромным железом. Пахли под ногами сухие мхи и багульники.
Радар крутил кружевными антеннами, вальсировал в тундре, раздувал стальные юбки. Огромная низина открылась глазам. Обь сверкала. Черная труба газовода разрубала долину. Туманилась Лабытнанга, и за ней Уральские горы, снега с Ухтой и вятской землей, над которой летел самолет. Ольга прижималась к стеклу, ловя его мысль о ней.
Ковригин сорвал гроздь голубики. Горький и пряный вкус слабо обжег ему губы. «Как, в сущности, просто… — думал он. — Боль. Чистота. Синяя ягода на губах…»
…Гидроплан пронес его над мохнатыми ржаво-серыми тундрами, опустил на Тазовскую губу у поселка, среди волнистой, мерцающей синевы, в которую хотелось идти навстречу далекому ото льдов летящему ветру. И корабль, белоснежный в низком вечернем солнце, плыл по незримой воде, краснея в лугах ватерлинией.
И казалось: тебя здесь ждут, для тебя несутся малиновые озаренные утки, для тебя эта чистая синь. И ты долетел, и рад.
Ковригин, сойдя на берег, двигался под зелеными кручами. Жадно рассматривал побережье. Гидросамолеты распластали свои перепонки, гудели пропеллерами, раздувая разводы солнца. Гнилые, осевшие в воду баржи топорщились ржавым железом, и рядом толпились разноцветные челноки и баркасы. На рейде вытянулись в длину сухогрузы и качались плавучие краны. Под железным навесом работали дизели станции, черня траву несгоревшим топливом. Экскаватор рвал ковшами дерн, обнажая под травой белые, как сало, прослойки мерзлоты.
«Хорошо, хорошо, приятно», — думал Ковригин, пробираясь среди хлама и луж.
— Как мне в райком пройти? — спросил он у молодого бородача в летной форме, присевшего на ящик от фруктов.
— Не скажу, — смутился тот. — В Надыме, в Уренгое в каждый дом проведу, а тут — не моя сторона.
— Ступай на поселок, подскажут, — сунулся к ним дизелист, весь черный и глазированный, держа на огромной ладони сальную шестерню. И опять пролетели утки, красные, с тонкими шеями, и Ковригин подумал: «Мне… Для меня…»
Он шел по поселку, вверх-вниз, по увалам. Старался понять планировку и смысл. Понимал. Восхищался его дикой нелепостью, цепкостью, здесь угнездившейся жизнью.
Свистопляска улиц со сдвинутыми, раздрызганными тротуарами. Водопровод, выдавленный мерзлотой из земли, укутанный ветошью и опилками, забитый в один бесконечный ящик, по которому гулко идут пешеходы, перепрыгивая через торчащие ребра проволоки. Проблески газовых труб, воздетых к небу, и на них ворохи высыхающего белья. Лежневка центральной улицы, раздавленная тоннами грузов, изъеденная гусеницами, усыпанная болтами, отсеченными оленьими копытами.
«Это надо было увидеть… Знал, подозревал, но теперь своими глазами… Встреча тундры и техники…»
Скопище старых и новых домов. Щитовых, засыпных или рубленых. Сочно-смоляных, благоухающих стружкой, и седых, ободранных буранами, сухими метелями, пескоструйными аппаратами Арктики. Яркие, спектрального цвета бараки и рухнувший, обгорелый остов из гофрированного железа, крючья изогнутой арматуры.
«Это следует воспринять, не отвергнуть… Найти всему понимание», — думал он, увлекаясь увиденным, испытывая радость.
Свалки и помойки, как клумбы, цвели этикетками отечественных и заморских консервов. Обступали дома, мерцали жестью, сочились невысыхающей влагой. Сжатый, засыпанный ими «Дом образцового быта» краснел плакатиком, красными в окнах гераньками, растущими в тех же консервных банках.
Стая огромных собак неслась, распушив загривки, уклоняясь от догонявшего их вездехода. Перекресток двух улиц, одна из которых летом превращалась в ручей, и машины перебредали ее, подымая водяные усы, а люди переходили по шаткому, скрипучему мосту наподобие качелей. Зимой же, по-видимому, ручей замерзал, превращаясь в классический зимник, принимал на себя городской гусеничный транспорт, а люди мостом не пользовались, и он висел под снегами, как айсберг.
«Какой-то антимир. Но нам-то в нем хорошо!»
У магазина стучал мотором подъехавший кран со стрелой. Водитель выносил буханку, беззлобно огрызался на кричавшую вслед ему женщину.
У тротуара, в мерзлой горе, открылась пещера с одинокой печальной лампочкой в глубине. Продавщица в белом халате клала на весы мокрые гири, оленьи языки. И за ней в темноте висели на крюках замороженные туши зверей.
Он шел, исследуя сложную капиллярную сетку рытвин, ручьев, железного и древесного сора, представляя, как зимой поселок превращается в огромный сугроб с желтым мерцанием окошек под черным небом в страшных горящих звездах, и вездеходы буксуют в снегу под вспышками полярных радуг.
«Понятно, понятно. А как же иначе? Явились в горячке боя, упали в снег где придется. Одно на уме: чтоб не сдуло, не смело контратакой пурги. Все это оттиск первых минут десанта, намеченный в схватке рубеж… Счастье, что такое увидел…»
В этом хаосе ему чудилась утаенная от глаз соразмерность. В бессмыслице — не имеющий названия смысл. В откровенном неумении расставить дома и машины — искренность и наивность, не стыдящиеся своего неумения. Все жило, шевелилось, расталкивая тесную оболочку. Громоздилось, стиралось в прах, оставляя догнивать умершее и тут же на гнили возводя новое.
Он дошел до райкома. Двинулся по пустым коридорам, мимо открытых в кабинеты дверей, на стрекот пишущей машинки.
Секретарша в приемной, перестав печатать, рассеянно на него посмотрела:
— Да уж нет никого. Времени-то сколько! Петр Никифорович завтра будет, с восьми. Но у него партактив, — и она снова застучала, забывая о Ковригине.
А тот, выйдя в пустой коридор с облупленной стеной, с металлической урной, полной окурков, вдруг почувствовал мгновенное утомление, тяжесть. Закрыл глаза, стараясь понять, что случилось.
Надо в гостиницу… Лечь…
Длинный барак гостиницы был рядом. Хозяйка, маленькая, в блестящей блузке, как змейка, возникла перед ним улыбаясь. Он видел за ее спиной, сквозь открытую дверь: две другие женщины в бигуди, закрутив полотенцами головы, ели консервы из банки.
— Отдельных нет номерочков. Есть на четыре коечки, одна пустая. Есть двухместный. Одну коечку майор милиции занимает, но он не ночует. Можете вторую занять… Вы к нам надолго, нет?
— Два дня. Вот паспорт… Где номер?
Прошел за ней следом, видя, как узко блестит спина.
— Вот ваша коечка, занимайте…
И ушла, чуть помедля, улыбаясь ему, унесла паспорт. А Ковригин сел на кровать, кинув баул. Смотрел утомленно на милицейский поношенный френч.
Было пусто, тяжко и от этого жалкого номера, от вида чужой одежды, от безвестности своей и затерянности. И захотелось вдруг сняться и в панике, схватив баул, пуститься обратно на берег, где еще гудят гидропланы, и успеть унестись, в надрыве, меняя машины и скорости, на последнем дыхании, на излете очутиться в Москве и катить в экспрессе в ночных домодедовских рощах.
Это длилось мгновение. За окном была белая ночь. Все гидропланы спали. И паника его прекратилась, перейдя в тихое, грудное страдание.
«Это было уже… Знакомо… Пройдет, как и прежде…»
Ему расхотелось ложиться. Было душно и пахло окурками. Он снова вышел, передав ключ хозяйке. Женщины в бигуди замолчали при его появлении, перестав есть консервы.
Он вышел на воздух. Остромордый огромный пес, свернувшись у входа льдистым комком, поднял голову, взглянул на него знакомыми голубыми глазами.
Он вышел за поселок, за свалки. Здесь стояли три вездехода со сгоревшими радиаторами, лопнувшими траками, вывороченными трансмиссиями. Будто шли на больших скоростях и напоролись тут на засаду, на тупые удары гранатометов, вышибающих из бортов ошметья металла. Он сел на продавленное сиденье, трогал ржавые рычаги. Глядел сквозь несуществующие стекла, как в триплексы, на мягкую синеву равнины, уплывающей к океану, на черную летящую точку. Думал: «Чем разбиты машины? Неужели пушистыми травами? Неужели той синевой?» И ее лицо вдруг возникло перед ним на мгновение, заслонив пустое окно. И он поразился, какая в нем жизнь и любовь к ней, желание и невозможность коснуться. Он тянулся к ней, пока не ткнулся лбом в острый рычаг.
«Белая ночь. Мое наваждение. Спит далеко, а лицо ее блуждает со мной. В сущности, в этом нет колдовства. Все их лица блуждают со мной…»
Сердце его болело. Он осторожно пронес свою боль мимо клетчатой будки радиостанции, под тонкой паутиной из ромбов, колец, треугольников. В них, невидимые, бились сигналы и сквозила предзимняя даль, от которой сжималось сердце.
Он поднялся на травянистую гору. На вершине, отбрасывая тонкие, легкие тени, стояли ненецкие нарты, напряженные, как сочетание стрелы и лука. Застыли полозьями на последних зябких цветах. Плотно, как перетянутые стропами парашюты, на них покоились зимние одеяния чумов. Казалось, распусти шпагат, раскрой шатер из шкур, и дохнут из него и повеют белые пороши зимы.
Он касался чудесного полированного дерева нарт. И она опять прошла невесомо по стекленеющим травам, босые ноги золотились на солнце.
«Мы все оттуда приплыли и все туда уплываем!» — звучало в нем неизвестно откуда, пока следил за ее исчезанием.
Старое ненецкое кладбище открылось ему. Дощатые ящики на кольях, смятые снегами, сдвинутые ветрами, разоренные псами и птицами. Во мхах белели останки, древний прах, помнящий бубны шаманов, пляски у коптящего пламени. А рядом, разметав погребенья, вырастали гигантские цистерны с горючим, как подземные пузыри, прорвавшие чахлый дерн. И сквозь сияющие их купола безбрежно зеленели луга и протоки, и он тянулся туда, в волнистые, влекущие тундры.
Разбитый самолет расплескал по мхам алюминиевые белые брызги. Будто рухнул на край кладбища, раскололся в страшном ударе, рассыпав моторы, шасси, куски плоскостей. Застыл ослепительной грудой, изодранный, с сорванными лопастями. Тундра вокруг дергала пушистыми головками отцветших трав. Краснела созревшими ягодами.
Ковригин подошел к самолету, прислушиваясь к посвистам ветра. Перешагнул обломок с облупленной черной цифрой. И замер: на кромке металла дрожало и билось крохотное пернатое семечко, готовое вот-вот упорхнуть. Он застыл, радуясь чуду свидания. Сердце его болело. Но сквозь боль в нем росло ликование. Знание об этой земле. О всех любимых и близких. И о вечном на земле пребывании.
Он слабо шагнул. Семечко сорвалось, полетело. Кружась, уменьшалось, лучась в синеве. И убитый брат Володя пробежал улыбаясь, звал его за собой. Ковригин шагнул и пошел за блестящим маленьким вихрем, летящим в волнистую синь…
Ольга стояла на Красной площади у цветастых, мохнатых голов Василия Блаженного. Вся в нетерпении, окруженная пестрой толпой. Площадь блестела. Розово-красная башня несла в себе золоченый обруч часов. Ольга смотрела на стрелки, торопя их сближение.
«Как он тогда сказал? Ровно в полдень?.. Вот сейчас, вот сейчас увижу!..»
Люди, волнуясь, начали тесниться к воротам. Из ворот, неся на штыках маленькие драгоценные солнца, вышли солдаты. Двинулись, охваченные кипением голов.
Ольга вглядывалась, ожидая его появления.
«Вот сейчас, вот сейчас увижу…»
Стрелки в кольце сближались. В ней все напряглось в предчувствии звона. И уже лилось и звенело, наполняя безымянной бесцветной силой огромное синее небо. Круглились зубчатые главы…
Москва, 1975 г.Место действия
Русь, ты вся — поцелуй на морозе.
Синеют ночные дорози.
В. ХлебниковЧасть первая
1
Сибирь. Минус сорок. Котлы ревут и грохочут. Форсунки выхлестывают струи огня. Манометры дрожат от давления, вот-вот брызнут стеклами. Кочегары в мазуте и саже заглядывают в глазки: блеск зубов, потные лбы, рыжие отсветы. Дым из трубы лохматый и черный с багровым подбрюшьем.
— Кончай фуговать! Сбросим давление!
— Форсируй! Приказ генерального!
Дрожание фундамента. Клекот и хлюп кипятка. Пузыри огня. Кочегары гладят железную кожу котлов. Чешут горячую шерсть. Котлы пялят красные бычьи глазища, дергают гривы, хвосты.
— Врешь, не замерзнешь! Ста граммов не надо!
— К огоньку, погрейся!
— Чайку с кипяточком!
— Баньку с березовым!
— Держи, черт, давление!
Ходят косолапо и весело. Над трубой качаются звезды, хрупкие сквозные вершины. Город в березовой роще топорщит свои этажи…
Пушкарев, генеральный директор, подкатил к котельной в момент пожара. Выскакивая, единым взором охватил случившееся: горящий, пропитанный топливом снег, бегущий разлив огня. Понимая, пугаясь беды.
Кругом голосили:
— Братцы, горим! Сигай!
— Снегом, снегом туши!
— В нефти снег-то!
— Сейчас взорвет, ахнет!
— А ну, спасайся, беги!
Кинулись врассыпную. Главный энергетик Фуфаев с несчастным лицом хватал их, клял, умолял:
— Куда? Оборудование!.. Огнетушители!..
Сам кидался в огонь, опаляясь. Выскакивал, сбивая с ног жидкое, липкое пламя.
Пушкарев властно, гневно одернул его, отрезвляя:
— Что вы, как баба, мечетесь! Вот машина! Гоните сюда экскаватор! Ковшом рвануть и отсечь!.. Ну, быстро!..
Пламя тянулось к хранилищу, отражалось в обшивке цистерны. Красный ручей подтекал к котельной, начинал лизать стену.
— Лопаты!.. Бросайте от стен!
Под окриками Пушкарева люди взялись за лопаты, хоронясь от жара, следя за зеркально-красной цистерной.
Подкатил экскаватор. Парень в телогрейке, в волчьей, косматой шапке счастливо смотрел на пожар.
— Давай, слушай, двинь! — командовал и молил Пушкарев. — Пройдись ковшом, садани! Можешь, нет садануть?
— Мне что! Могу садануть!
Въехал в озеро огня. Стоял в красном плеске. Горели колеса. Пламя хватало железо. Он двигал рычагами в кабине, в раскаленном пекле, мотая волчьим мехом. Экскаватор качал зубатой пастью, лязгал о землю, сдирая с нее огонь. Подавал и вычерпывал ковши, полные пламени, роняя горящие капли. Продрал борозду, отсекая от цистерны пожар. Выехал на одних ободах, курясь и дымясь. Парень выпрыгнул, отрезвевший, в опаленной, дымящейся шапке.
— Как фамилия? — Пушкарев подбежал, сбивая с него тлеющий уголь. — Как фамилия?
— Солдатов…
— Черт безумный!.. Спасибо!.. Двойной оклад!.. — не удержался, поцеловал его в губы.
— Слава богу! Кто бы мог подумать, что течь… — главный энергетик Фуфаев радостно и виновато топтался.
— Вы за разгильдяйство под суд у меня пойдете! Размазня! — зло, беспощадно отрезал ему Пушкарев, видя, как тот весь заострился и высох.
Отвел от него глаза. Старался успокоиться, вглядываясь в мигание огней на трассе. Самосвалы, груженные грунтом, гнали по бетонке в тайгу. Словно выпущенные из дальнобойных стволов, били и били по стройплощадкам, где в лязге, вспышках и скрежетах выковывался из тайги комбинат.
2
После бессонной ночи, выбритый, с белоснежным воротом, в вольно застегнутом дорогом костюме, Пушкарев принимал в кабинете корреспондента центральной газеты. Тот неделю колесил по стройке и сегодня просил о последнем перед отлетом в Москву свидании. Пушкареву был важен этот визит. Все дни осторожно и пристально он опекал журналиста, незаметно наполняя его тщательно отобранными впечатлениями.
Они сидели за маленьким, «камерным» столиком перед чашечками душистого кофе и коньячными рюмками. Пушкарев смеялся шутке журналиста о старенькой местной гостинице, где на батарее вырос айсберг, потом постепенно спустился на пол, медленно подвигался к кровати.
— Ну прямо как в Гренландии! Честное слово! Я чувствовал себя мамонтом в период оледенения.
— Ваши журналистские бивни, я надеюсь, не стали от холода хрупкими?
— Я кутал их в тулуп, который вы мне помогли достать. Благодарю, отличный тулуп. Мамонт остался жив.
— Как ваша вчерашняя рыбалка? Мои ребята не слишком вас замотали?
— Спасибо за вертолет. И уха была, и строганина, и прочее. Даже айсберг немного подтаял.
— Жаль, рано от нас улетаете. Мы бы совсем его растопили.
— Знаете, не стоит. Без него бы в номере стало еще холодней.
И опять засмеялись громко и дружески, коснулись крохотных рюмочек.
— Остались ли довольны увиденным? — Пушкарев, перестал смеяться, зорко и твердо оглядывал газетчика серыми, с жестким блеском глазами. — Вам удалось среди всей нашей свистопляски разглядеть комбинат?
— Он вырисовывается. Трудно, но вырисовывается. Его рисунок заметен. Вы мне его показали.
— Я открыл вам все карты, все наши проблемы. До этого я уходил от прессы. Считал преждевременным показывать комбинат. Нам нужно было зацепиться. Захватить эту землю, удержаться на ней. Прошлая зима была страшной, нам было не до прессы. Но сегодня с захваченного плацдарма уже виден комбинат.
— Да и эта зима вас не балует. То лед, то огонь, то лед, то огонь…
«Знает о пожаре, или красное словцо?» — Пушкарев исследовал любезное, внимательное лицо, в котором чуть бледнела усталость, нетерпение отвесить последний поклон, успеть к самолетному рейсу. И последнее любопытство, к нему, Пушкареву, вежливо раскрытый блокнот.
— Ну теперь-то нас никакие огни отсюда не выжгут! Теперь в эту землю такие миллиарды вложены, что они сами в рост пошли. Такие гигантские силы сюда устремились, что хотим мы того или нет, а комбинат будет построен. Я решил: пора его показывать. Я знаком с вашими публикациями. Серия статей о газопроводах отличная. Интересны публикации о северных городах, о методах освоения Севера, остро поставлен вопрос. Рад, что именно вы к нам приехали. Мы своих проблем не скрываем.
— Благодарю, — кивнул журналист. — Надеюсь быть вам полезным.
— Народ должен узнать о комбинате. О небывалом, в масштабе всей экономики, явлении комбината.
— Чудо о комбинате? — чуть улыбнулся журналист.
— Народ должен поверить в чудо о комбинате и устремиться сюда. Мне нужны инженеры, — пусть едут. Нужны администраторы и спецы управления. Я их приму. Стройке нужны рабочие, — упомяните о высоких заработках, о новейшей, валютной технике — о «магирусах», «камацу», «каперпиллерах», о жилье для рабочих. Пора надавить на министерства, срывающие поставки. Пора упрекнуть Госплан… Ссылайтесь на меня. Документами я вас снабдил. Резче… резче… Вот какой материал я хотел бы увидеть…
— Надеюсь, все это будет. Одна маленькая просьба. Среди всех проблем мне бы хотелось, разумеется очень деликатно, тактично, упомянуть и о вас. Суждения. Взгляды. Несколько черт к портрету.
— Я думаю, это неважно. Реклама нужна комбинату. А людей, интересных, колоритных, здесь сколько угодно. Например, Сегодня — знаете вы или нет? — на ночном пожаре отличился молодой рабочий, Солдатов, рискуя жизнью, гасил пламя. Вот о нем напишите!
— Я понимаю, но все-таки… Генеральный директор есть генеральный директор. Как вы, лично вы, чувствуете комбинат? Что он для вас, для вашей личной судьбы? Как он возник в вас впервые?
«Как он возник впервые? Он все еще возникает, и это на целую жизнь. Но мне некому об этом поведать».
И вновь на один только миг из зимы, из минувшей чадно-огненной ночи, вспыхнуло.
Он повис в вышине над прозрачной туманно-солнечной бездной. Ему в лоб, плечи, грудь врезаны блестящие чаши винтов. Земля в разноцветной пыльце, в разводах травы открывает удивленные, слезные очи, расчесывает на реках и старицах солнечные гривы, пускает ввысь утиные стаи, хлюпает рыбой, дышит. И он, в силе своей и молодости, реет над чудным, не имеющим очертания лицом.
«Ну разве теперь рассказывать про первый полет над Сибирью? И кто бы тогда угадал? Какая там цель и судьба? Был просто полет над Сибирью… И второй через много лет…»
С газовиками и химиками кружил в самолете, исследуя район планировки. Ему казалось: внизу все то же лицо. Но к нему прикоснулся хирург, меняя черты. Длинные прямые надрезы газоводов, дорог и трасс. Стальные блестящие скрепы насосных станций. Острые иглы опор. Медная дратва, продернутая в шрамах и швах. Аэродромы как пластыри, мерцание металла. И в сумерках — сочные, в брызгах тампоны — красное пламя факелов.
Он летел над огромным операционным столом. Казался себе хирургом. Опускал из неба отточенный скальпель. С его лба и висков срывались невесомые вихри, неслись к земле, ложились оттиском. И земля, страдая и мучаясь, принимала на себя его лик.
«Только с неба его и увидишь, а внизу — кромсанье и месиво. Бойня, бессмыслица. Абсурд. Сгорание дней. Но когда-нибудь, к старости, после всех потерь и кромешности, напоследок взлететь к небесам и в утреннем солнце среди всех лесов и озер, откованное из лучей и конструкций, стальное и ясное, обращенное к небу, увидеть свое лицо — построенный комбинат… Вот где закон отражения. Закон переселения душ. Чудо о комбинате… Но разве об этом поведать?..»
— Вы сказали о стратегии стройки. Об остроте момента… — газетчик бегал ручкой в белом блокноте, сеял мелкие семена, — в чем острота момента? Стратегический смысл управления?
— Отвечу, — Пушкарев собрал свой ум в пульсирующую горячую силу, в недрах которой бился образ комбината, — я отвечу, в чем острота… Вот! — он поднялся и ударил указкой в карту, черкнув по Оби и Ямалу, по зелени тундры. — Газ! Пузыри земли! Месторождения открытые, неоткрытые! Наше сырье!.. Далее, — он резко рассек континент по рекам и топям, — трубы! Нитка за ниткой! К югу, на Урал, и к нам сюда, в Николо-Ядринск!.. — Указка буравила малую, чуть заметную точку у синей дуги Иртыша, а за окнами башенный кран вонзил стрелу, как острый конец указки. — Тут мы, наша стройка! Сюда на больших скоростях движутся колоссальные силы. Оборудование с наших и зарубежных заводов. Газопроводы! Строится флот супертанкеров! Атомные ледоколы! Сырье с еще не построенного комбината считает Госплан, переводит в рубли и доллары и на эти не существующие еще миллиарды планирует грядущую сталь, пшеницу, электронику. Вот они, силы, бьющие в нас из настоящего и будущего! Стратегический смысл управления в том, чтобы их встреча была синхронна. Чтоб стыковка прошла безупречно. Если возникнет разрыв, в него, как в прорву, потекут баснословные средства. Вот в чем драма момента! Стянуть в кулак эти силы!
Он сжал кулак до синих бугров жил, и в стиснутой ладони бились и рвались на свободу железные дороги и реки, людские несметные жизни, хрипел и орал континент, а он, Пушкарев, держал его под уздцы.
— Про порт мы уже говорили. Я бессилен! Войдем с докладом в ЦК!.. Весной по воде сюда поплывут колоссальных размеров реакторы. Как я их буду сгружать?.. Далее!.. Аэродром, автомост, очистные сооружения…
Журналист торопился писать, быстро взглядывая на белый лоб человека. Там, в этом белом пространстве, работает и грохочет машина, мешая бетон и металл, и серые глаза человека вспыхивают электричеством, сталью.
— Вы спрашиваете о зарубежных поставках… Ну поймите, наконец, не мы зависим от них, а они от нас. Речь идет о создании глобальной индустрии, в которой России благодаря ее пространствам и ресурсам отводится ведущая роль. Запад не в силах создать подобные гиганты промышленности. Перепоручает их создание нам. Вкладывает деньги, оборудование, инженерное знание, немалую долю труда, обеспечивая долю продукта. Они участвуют. Да. Но рули управления у нас. В этом, повторяю вам, миссия и сила России, ее успех в современном мире…
Журналист, забыв о самолете, черкал жадно, вкривь и вкось, старался ухватить пушкаревские мысли, их неожиданный поворот и игру. Понимал: ему предоставлен редкий случай, открывается смысл и форма того, что вблизи, на стройплощадках выглядит бесформенными, дымными грудами взорванной земли и тайги, криком охрипших людей, варевом моторов и техники.
— Вас волнует экология, охрана природы? Всех сегодня волнует. Но от чего охранять? От техники? Да понимаете ли вы, что драма природы — это в первую очередь драма техники? Спасать надо технику! Непонимание, неприятие техники, тайная к ней враждебность, бессознательный, доставшийся нам по наследству первобытный инстинкт приводят к гибели техники и, как следствие, к крушению природы. Мы, инженеры, пытаемся создать здесь невиданный гибрид естественной природы и индустрии. Старый Николо-Ядринск… Его обошли пятилетки. Он бы мог стать Магниткой, если бы ему повезло, если бы он стоял на железной горе, а не на горе из обычной глины. В него во время войны, спасая индустрию от нашествия, могли привезти заводы, и он бы теперь был не хуже Челябинска. Но, увы, его обошли. К нему не могли доехать, ибо просто-напросто не имелось железной дороги. Даже позднее, когда ахнула нефтью Тюмень, когда по Иртышу мимо Ядринска в разобранном виде провезли целые города, такие, как Сургут, Нижневартовск, даже тогда наш милый Ядринск все еще был захолустьем. Вы тревожитесь за его куполочки и луковички? Вам жаль его ветхости? Трухлявых резных карнизов? Да они и так уже сгнили. Их проточили жуки-короеды. Здесь, куда мы пришли, была сухая, мертвая ветвь российской истории. Так срезать ее и бросить в огонь? Но в каждой засохшей ветке таится живая, ждущая почка, перенесшая долгие зимы, готовая ждать еще хоть тысячу лет, чтоб когда-нибудь кинуться в рост. Мы пришли сюда, в Ядринск, обламываем мертвый сук, выращиваем новую молодую вершину…
Журналисту казалось красивым худое, почти изможденное, в острых углах лицо Пушкарева. Он им любовался. Был захвачен и ввергнут в его рассуждения. И хотелось узнать: кто он, откуда? В каких размышлениях и спорах оттачивались его построения? Кто его любит и ценит? Кто ненавидит?
— Простите… — он отложил блокнот, давая этим понять, сколь доверителен, деликатен вопрос, — и еще несколько слов о вашей личной судьбе и карьере. Как вы шли к комбинату?
И словно свернулась спираль, унося в глубину свой звон и свечение. Пушкарев, изменив резко тон, вернул ему любезность и легкость. Отшутился на вопрос журналиста:
— Да какая уж там судьба! Пускал заводы. Матушку-Русь коптил. В министерстве, как говорится, чиновничал. А потом получил в награду этот лакомый ломтик земли. Вот и мнем его день и ночь, авось что-нибудь слепим!
С тихим смехом они притронулись к рюмочкам, завершая свидание.
— Ну что ж, благодарю, — сказал Пушкарев, — хорошо, что нас посетили. Буду ждать материал.
— Я вышлю гранки. Вы сможете внести коррективы.
— Не хотите написать о Солдатове? Под заголовком: «И в огне не горим»?
— Боюсь, что придется набирать заголовок: «Самолеты уходят без нас»!
— Опаздываете? Ничего, я дам вам машину. А в аэропорт мы сейчас позвоним…
Он набрал номер:
— Здравствуйте, говорит Пушкарев. Ваш рейс сорок семь на подлете? Задержите его на полчасика. Да, не больше… Спасибо! — И повернулся к журналисту, вставая: — Повторяю: комбинату нужна реклама. Пусть о нем узнают и рабочие и интеллектуалы. Я жду и тех и других.
Пожимал на прощание чуть влажную от писания руку, дружески вглядывался в глаза. Провожал до дверей. Возвращался к столу, усмехаясь: «Ну вот и ладно. Московская птичка полетела в столицу перышки чистить. А мы еще тут покоптимся…»
— Алло! Котельная? — резко и грубо, услышав на проводе главного энергетика, выдохнул в трубку. — Как с давлением? Форсируйте! Держите тепло, черт возьми! И чтоб языком до земли все вылизать! В белых халатах ходить заставлю! Все!..
3
Он работал с двумя заместителями, Мироновым и Янпольским, рассматривал докладные и письма, усадив их напротив себя. Миронов выглядел утомленным и серым, сутулый, с пепельной, начинавшей рано седеть головой. Янпольский, белокурый красавец, в клетчатом свитере, с сочной усмешечкой на румяных губах, могуче и молодо двигал плечами. Миронов, докладывавший о котлованах и свайных полях, казался пропитанным мельчайшей цементной пыльцой. Янпольский, сообщавший о поставках тяжелого оборудования, был подвижен и свеж, как с мороза. У Миронова в Москве остались жена и сын, он тосковал и томился, слал непрерывные письма. Янпольский был холостяк, часто летал в Москву, был любим в министерстве, выполнял самые сложные поручения, работал ловко и умно, с постоянной, чуть заметной иронией к себе самому и к работе. Оба зама не любили друг друга. Пушкарев это видел и знал. Ценил их обоих.
Они обсуждали тонкий, щекотливый вопрос. Комбинат создавал систему автоматизированного управления по новейшей, уникальной программе, включавшей управление не только группой заводов, но и движением газа и нефти с северных далеких пластов, режимами стальных трубопроводов, графиком железнодорожных составов, ритмами производства и города, паром, водой, электричеством.
Систему разрабатывали кибернетики Новосибирска, группа молодых инженеров. Но московский головной институт зарился на лакомый кусок, хотел оторвать свою долю. Комбинат готовился провести совещание по проблемам АСУ, рассылал приглашения, и было неясно, приглашать или нет москвичей? На правах наблюдателей или просто обойти их вниманием?
— Не нужны они нам, Петр Константинович, — хмурился на Пушкарева Миронов. — У новосибирцев блестящий проект, а эти — по устаревшей методике. Их только пусти, и проглотят. Они уже пронюхали и звоночками щупают. Если пригласим, значит, в пай бери! А Сибирь, слава богу, и сама может справиться. Мы и сами с усами!
— Вы не дипломат, Николай Владимирович, — тонко язвил Янпольский. — Понимаю, из вас, как и из меня, брызжет сибирский патриотизм. Хотя прописаны-то мы кто на Кропоткинской, кто в Марьиной роще. Ну да все равно сибиряки, даже с усами! Усы-то в Сибири, а хвосты в Москве!
— Москвичей приглашать нельзя. Пригласим, откроем все карты, а они на правах головного приберут все дело к рукам. А их опыт известен — на три с плюсом. Пусть решает генеральный директор, но я бы не стал отдавать им молодежь на съедение!
— Какие-то джунгли, да и только! Вас послушать — лязг зубов, блеск клыков. Да ведь никто никого не съест. Москвичей обойти невозможно. Они пока головные. И этика требует, и давние отношения. Но пока суд да дело, пока будут раскачиваться, новосибирцы тем временем — а это я точно знаю — из лаборатории создадут институт, и им Москва — не указ! Таким образом, и скандала избежим — а он нам в Москве ой как не нужен! — и при своем интересе останемся. Ибо мы ведь тонкие дипломаты, Николай Владимирович, московской выучки, хотя и кладем животы за Сибирь…
Миронов не скрывал неприязни. Янпольский рядился в свою иронию. Пушкарев не мешал, извлекал энергию их умов, аргументов. Ему была важна их непрерывная, с первых дней возникшая распря. Каждый, не принимая другого, нес свои собственные свойства и качества, острей проявляя их в стычках. Он, Пушкарев, пожинал, плоды, снимал урожай их столкновений, соединяя крайность их выводов. Готовясь принять решение, он как бы заряжал аппаратчиков, посылая в них слабый первичный импульс, заставляя работать. Они, повинуясь импульсу, включали свои умы и уменья, а он, генеральный директор, подхватывал результаты, подвергая отбору, выявляя прозрачный вывод. Он подбирал заместителей, инженеров, начальников служб тщательно и ревниво, безжалостно выбраковывая неспособных. Эти двое были ему драгоценны.
— Согласитесь, Николай Владимирович, это вам не грунт и не сваи, это вам электроника, — поддразнивал Янпольский Миронова.
— Замы, я выслушал вас со вниманием, — перебил Пушкарев. — Приглашение в Москву пошлем. Мы не можем выглядеть зарвавшимися, не знающими своего места юнцами. Но пошлем его так, чтобы они его получили за день до открытия совещания. Мы искренне рады гостям, ничего от них не скрываем. Но в это время года, насколько я знаю, много нелетных дней. И бедные пассажиры, проклиная Аэрофлот, сутками сидят в Домодедове… Все! Переходим к другому вопросу…
Другой вопрос касался новых микрорайонов, недавно заселенных домов. Выходили из строя лифты, мусоропроводы, горели электрокабели.
— Одного понять не могу, — едко и зло говорил Янпольский, — мы эти дома чуть не воздухом сюда завозили. Они дороже валютных. Помню, я эти лифты вышибал, в главке до крови дрался. Хотелось самое лучшее! А здесь что за дикий народ! Ломают и ломают! Стекла в парадных расколоты, мусоропроводы забиты, из окон пустые консервные банки вышвыривают! А кабели почему горят, знаете? Они из балков и бараков, из клоповников своих перетащили «козлы» со спиралью! Как включат всем домом — Днепрогэс и тот сгорит! Черт знает что за люди!
— А что удивляться! — угрюмо возразил Миронов. — Дом, как машина. Надо учить им пользоваться. Они таких домов в жизни не видели. Всю жизнь по вагончикам, по баракам, по клоповникам, как вы изволили сказать. Это их первое человеческое жилище. Надо вести пропаганду, как пользоваться электроплитами, горячей водой, канализацией. Я вот знаю, ядринские старушки приходят к нам из старого города на лифтах кататься. Для них это чудо, как первый паровоз. Тут терпение, такт нужны… Надо народ воспитывать…
— Пока мы будем воспитывать, всю нашу цивилизацию по гаечкам на грузила растащат. Вы думаете, мир от нехватки нефти погибнет? Ничего подобного! Просто кто-нибудь из ваших воспитанников в атомный реактор бросит дохлую кошку!
Пушкарева не раздражала злость Янпольского и не трогала видимая доброта Миронова. Он знал: важна не доброта и не злоба аппаратчиков, а эффективность работы. Сколько милых и славных людей, с прекрасной душой, не умели справляться с делами, не выдерживали перегрузок и темпов, быть может, в силу своей доброты. Не душа важна, а умение. Ибо строят не монастырь, а заводы. Судьбы этих двоих, о которых он кое-что знал, мало его занимали. Тайная тоска по семье у Миронова, любовь и умение пожить у Янпольского были тем основанием, которым держалась, питалась их эффективность. Тем горючим, что двигало их безотказно на штурм мерзлоты. Он знал: комбинат, медленно вырастая под тусклым небом, рано или поздно выпьет румянец Янпольского, засыплет лицо Миронова седой жесткой пылью. Таков их общий удел. Плата за эффективность. Но они платят ее добровольно.
— В каком состоянии снежный город? — спросил Пушкарев, обращаясь к Янпольскому. — Я просил мне докладывать.
— Сломали! Опять изгадили! Уроды какие-то! Архитекторы, как вы приказали, слепили его заново, все теремочки, опять раскрасили, полили водой. Вчера я шел, ну просто заглядение! Ребятишек полно! Как леденец, блестит! А ночью какой-то подонок исколотил! Ломом или чем? Я не знаю! И со злобой, знаете, со смаком крушил! Если поймаем — судить! Все-таки не понимают они красоты! Удивительно!
— Город починить и покрасить, — сказал Пушкарев. — Передайте архитекторам, чтоб сегодня же!
— Да, но, Петр Константинович, ведь только что реставрировали, это же деньги, труды какие! И опять ведь сломают! Лучше бы охрану поставить… И надежнее и дешевле обошлось бы.
— Нет! Ни в коем случае. Пусть сами поймут и привыкнут ценить. А пока мы будем восстанавливать. У нас нет другого выхода. Будем восстанавливать каждый раз, не жалея трудов и денег, пока не перестанут ломать. Это и есть урок воспитания.
«Хотя, в сущности, любезные замы, эффективность лишь средство, а не цель, да простят мне роскошь так думать. Ведь, в сущности, и нефть добывая, добываем самих себя. Сжигая ее, тайно надеемся услышать из пламени, сквозь грохот всех комбинатов новое слово о себе и о белом свете. В этой чертовщине кромешной, в ссорах, борьбе и лукавстве, нет-нет и сверкнет надежда… Как этот Солдатов в огне… А мы говорим — эффективность».
Ему захотелось об этом сказать. Но, видя розовые, в чуть заметной усмешке губы Янпольского, лицо Миронова, покрытое серой окалиной, Пушкарев, испытав без боли миг одиночества, очнулся:
— Третий вопрос!.. Мне надоело толочь воду с ступе! Три министерства барахтаются, отфутболивая друг другу проект порта. Подготовьте записку в ЦК. Прошу вас, — кивнул он Янпольскому, — резче о срыве работ! Ссылайтесь на их же письма. Нам нужен порт, черт возьми!..
Отпустив заместителей, Пушкарев погрузился в сметные стоимости. Выбитые на машинке, текли миллионы. Поливали из ковшика лунку посреди Сибири, куда ткнули росточек, и он уже начал тянуться, пускать в глубину корешки, чтоб, окрепнув, проткнуть нефтяное подбрюшье, присосаться к чернильной тьме, превращая ее в жар и свечение. С легким звоном стальной листвы распушить над Сибирью крону. И когда-нибудь, стариками, после всех трудов сесть под ним и прозреть: что есть зло и добро? Что есть жизнь и близкая смерть? Как прожили свои зимы и лета?
Он поставил под сметами подпись.
Ему доложили — начальник местной милиции просит его принять.
— Пригласите, — сказал Пушкарев.
Начальник, майор огромного роста, в несвежем милицейском кителе, багровый от ветра, с красными шершавыми кулаками, неловко вошел в кабинет. Смутился, зашаркал ногами, моргая белесыми, в рыжих ресницах глазами.
— Садитесь, садитесь… — Приветливо, чувствуя его несмелость, робость, слегка раздражаясь видом сильного, растерявшегося перед ним человека, Пушкарев ободрил: — Ну, прежде всего вам спасибо, навели наконец порядок в микрорайонах. А то черт те что творилось! Лезли с самосвалами, с кранами, с тракторами! Сети, коммуникации рвали. Как обед, так приезжают к домам сто самосвалов, все сметают. Спасибо, что с этим покончили.
— Конечно, это, как вы сказали, мы сделали, — привыкая, смелея, благодарно сказал майор. — Машин с каждым месяцем больше. Дороги плохие. За рулем молодежь. Чуть подучился — и сразу на большую машину. Народ-то горячий, и стукаются! Но мы, как можем, стараемся!
— Теперь еще к вам вопрос. Мне доложили, что на стройплощадках появились случаи угона техники, кражи моторов. Настало время выделить туда участковых.
— Это мы думали… Это мы сделаем…
— Далее… Вы мне присылали сводку месячных нарушений? Сколько у нас ЧП?
— За январь столько, сколько раньше, в старом-то Ядринске, за год не собиралось. Четверо на тот свет отправились.
— Так что же вы, спрашивается, задерживаетесь с реорганизацией ваших служб? Им место здесь, в новом городе, а не в вашей, извините, деревне. Люди будут продолжать прибывать, всякий, в том числе и сложный, народ. Вы должны мне в городе обеспечить порядок. Тут, именно тут стройте свой центр. Я посмотрел, что у вас за машины. Старье! Почему с этим медлите? Требуйте электронику, технику. Входите в свое министерство. А мы, со своей стороны, вас поддержим.
— Да, мы понимаем. Мы проект подготовили. Мы вам доложим по форме…
— Хорошо. А теперь вас слушаю.
— У меня тут к вам просьбица есть, — опять замялся майор, — личного, как говорится, порядка…
— Говорите…
— Наш работник… Сергушин… Ну тот самый, который в микрорайонах порядок навел… У него несчастье…
— Какое?
— Да жена померла при родах. С двумя детьми остался.
— Чем можно помочь? Где живет?
— Да в бараке. Живут ужасно.
— Дети большие?
— Старшая учится. А младшей, говорю вам, два месяца. Грудная.
— А как же справляется?
— То бабка его, то соседка придет. Сам-то весь день на работе. А барак старый, в щелях. Дует. Младшенькая все простужается. Так вот, нельзя ли помочь? Дать квартиру в ваших домах…
— Квартиры! Квартиры! Все у меня просят квартиры! А вы знаете, кого мне нужно селить в первую очередь? Шоферов, экскаваторщиков, строителей. Тех, кто комбинат строит. У меня даже инженеры живут в общежитиях, семьи перевезти не могут. А вы говорите — квартиру!
— Я понимаю, — виновато заморгал майор. — Это конечно…
— В следующем месяце сдаем еще одну двенадцатиэтажку, — сказал Пушкарев, опять уловив в себе легкое к нему раздражение за эти мигания. — Как, вы сказали, фамилия? Сергушин? Ну, пусть подает заявление. Будем делить квартиры — обсудим. Конечно, он работу провел немалую. Спасибо ему передайте… Что еще?
— И еще одна просьбица маленькая. У нас свой оркестр в милиции. В городе вроде бы лучший. На все вечера приглашают. А с инструментами туго. Барабан продырявился. Вы бы не смогли по своим каналам через Москву барабан достать?
— Ну, это дело попроще! — рассмеялся Пушкарев. — Милиция должна иметь барабан. Чтоб ее было слышно. Достанем вам барабан. Играйте на здоровье!
4
Сквозь его кабинет проходили монтажники, энергетики, дорожники. Надвигались красными, накаленными ветром лбами. Сердились, просили, лукавили, то отказывались, то соглашались. Казалось, каждый заносил с собой запах мерзлого грунта, железа и смазки. Проволакивал сквозь кабинет гремящие трубы, звенья двутавров, лязгающую и дымящую технику. Пушкарев в ответ сердился и требовал, одновременно наслаждаясь их напором и молодостью, с ними чувствовал себя инженером. Позвонил секретарь горкома:
— Вы не забыли, Петр Константинович? Наша интеллигенция ждет вас. Выступите перед ними?.. Как зачем? Хочет вас лично увидеть. Узнать о комбинате, что называется, из первых уст. Пусть приобщается. Пусть вносит свой вклад. Важно политически, Петр Константинович, — увещевал секретарь.
Пушкарев был занят. Ехать ему не хотелось, хотя неосторожно и пообещал секретарю, что выступит. Он не любил старый город. Встреча с местными старогородцами казалась ненужной, лишней.
— Да я же не ликбез, Иван Гаврилович, — сопротивлялся он. — Пусть приедут на стройплощадки. Подключу инженера, он им расскажет…
— Нет, нет, Петр Константинович, важно, чтобы вы сами. Пусть узнают хозяина комбината. Интеллигенция у нас хорошая, вы увидите. Патриоты!
— Не знаю, не знаю, — Пушкарев морщился и уже соглашался, глядел на часы, вызывая машину: «Тоже мне няньку нашли! Просветителя! Мигом — туда и обратно…»
Надел пальто и шапку, вышел к машине и задохнулся от белого солнца, треска и звона. Стоял мгновение, щурясь, сжимая глаза, вновь раскрывая их в свет и грохот.
Новый город блестел этажами. Разворачивал ровные гребни башен. Стучал, дымился и строился.
Зубастые фрезы грызли траншеи. Трубные стыки бледно играли сваркой. Бульдозеры ровняли площадку. Оранжевый грузовик с панелями выруливал у котлована. Мелькали робы, полушубки, ватники. Орали «майна» и «вира». Было людно, густо. Казалось, город, пролетев полземли, приземлился гудящей армадой и люди крепили его, приваривали и привинчивали к твердым подземным опорам.
«Хорошо, хорошо!.. Мое!..» — думал Пушкарев, заглядываясь на обвешанного цепями мордастого, в негнущемся брезенте парня, тащившего под мышкой пучок электродов.
Сел в машину, кивнул красавцу-шоферу:
— В старый город. Сережа…
При выезде на бетонку им козырнул постовой, удерживая жезлом поток самосвалов.
Пушкарев мимолетно разглядел худое, твердо-медное лицо постового. «Сергушин? У него жена умерла? Надо помочь мужику».
Впереди, в солнечном морозном тумане, млечная и размытая, возникла колокольня кремля. Парила, не касаясь земли. И вдруг опустилась, вросла основанием в твердь. И кремль, белокаменный, в снегах и сосульках, осторожно-жестокий и нежно-воздушный, опоясал гору, навис над иртышской кручей зубцами и башнями.
— Стой-ка, Сережа, — внезапно сказал Пушкарев, — погоди минуту. — И вышел, повинуясь невнятному, каждый раз возникавшему желанию взглянуть с горы.
Он пробрался по скрипучему насту, усыпанному семенами бурьяна. Подвинулся к круче, голой от снега, в пепельно-песчаных осыпях. И старый Николо-Ядринск широко раскрылся внизу, в перламутровых дымках, с белыми прогалами улиц, с лоскутами заснеженных крыш. Черный, деревянный, в каменных островерхих церквах. Пушкарев охватил его взглядом до туманной, в мерцании скрытой дали, где иртышские льды и леса лишь угадывались в слепящем просторе. Испытал беспокойное, манящее, недоброе и больное влечение к городу, не любя его и тревожась, стараясь прочесть с высоты его смысл и образ.
Город толпился, лубяной и бревенчатый. В нем что-то варилось, клубилось, неясное среди изб и посадов, уже столько веков, выпуская из бревен своих и церквей призрачный дух. Словно город вот-вот оторвется от бренной земли и со стуком и скрипом, всем роем полетит над Сибирью и сгинет, оставив горстки сухих черепков, холодные угольки и подковы.
Пушкарев смотрел, не мог оторваться. Здесь, в старом Ядринске, умер его отец. Где-то здесь, среди камня и дерева, ржавых резных водостоков, все живет его тень. И он, Пушкарев, смотрит на город, не любя его за отцовскую участь, за свою сыновнюю любовь, и вину, и муку, за неясный смысл совпадения: старый Ядринск и умерший отец, и мощь комбината, и каменный в небеса прострел колокольни, по которой скользит его быстрый, слезный от мороза взгляд, туда, в вышину, где дымная синь и обклеванное птицами золото, и на тонкой игле, раскрыв жестяные крылья, мчится ветряной ангел.
«Да, не забыть спросить у Янпольского, — подумал он, вспоминая о готовой под снос слободе. — Пора завершать путепровод. Какого черта медлят со сносом? Почему не пускают бульдозеры? Выселить — выселили. Квартиры новые дали. Развалюхи пустые стоят. Труха, тараканы мороженые. А то, чего доброго, и пожары начнутся! Надо потребовать — пусть пускают бульдозеры!»
Он вернулся к машине. Промчался по узким и тихим улочкам, мимо нарядных и ветхих срубов, к городскому театру.
Обогнал сани с ворохом ярких бумажных цветов. Возница стоял твердо в рост и правил. Лошадь была укутана в байковое полосатое одеяло, влажно-курчавое, стянутое узлом на груди.
«Славная зебра», — подумал он, провожая байково-зеленую лошадь и цветочный ком веников и букетов.
Перед тумбой с афишами приплясывала молодая, в белом полушубочке женщина. Держала букетик бумажных цветов. В театр входили люди.
Молодо, весело женщина осмотрела Пушкарева длинным смеющимся взглядом. И он, раздражаясь, взошел на крыльцо, унося с собой ее взгляд, ворох бумажных едко-горящих цветков.
Театральный зал, пыльный и ветхий, был знаком Пушкареву. Однажды, в первые дни, случайно забрел на спектакль, мгновенно утомившись, соскучившись от вида неумело-наивной постановки, аляповато-картонных декораций и такой же картонной игры актеров.
На сцену был вынесен столик под красным плюшем, графин, микрофон. Серого цвета занавес слабо отделял все это от близкого провала кулис, захламленных, тленно-серых, как погреб.
Прожекторы, безвкусно-лиловый и розовый, слепили глаза. Пушкарев почувствовал себя одиноко высвеченным этим опереточным сиропом. Зал молча ждал, наполненный угрюмыми, заскорузло-неяркими, как ему казалось, людьми.
Его представила заведующая отделом культуры — запомнил ее фамилию: Лямина — слишком эстрадно и радостно.
«Будто конферансье на гастролях, и сейчас их начну веселить, пошленькими шуточками щекотать… А секретарь-то сам не приехал! Как же, золотые минутки!.. Глупец, что согласился!..»
Но было уже поздно отказываться, и он говорил в микрофон, быстро и резко, рассказывая о комбинате, не любя зал.
И закончил словами:
— Когда-то, при царе Горохе, к вам сюда заглянула история. Оставила кремль и несколько знаменитых могил. А потом заскучала и ушла. Не понравилось здесь истории, тесно стало. Николо-Ядринск два века жил памятью о мимолетном величии да считал петербургские драмы, которые отзывались здесь появлением великих мучеников. Но ведь этим нельзя гордиться, не так ли? — Он почувствовал неверность выбранных слов. Понял, что делает промах, обижает их, задевает их честь, самолюбие, попытался исправить дело. — Ядринск был захолустьем, тупиком истории. Даже в последнюю войну, когда в Сибирь из-за Урала прибывали эшелонами целые отрасли производства и сибирские города одним ударом утраивались, обретая сегодняшнее лицо, вам достались одни беспризорники и детские дома. Вы не знали, что сидите на нефти. Нефтяники заезжали к вам, как путешественники на экзотический остров за пресной водой, за бананами, парус, борт подлатать, и шли дальше, минуя вас, к главной цели. — Снова понял, что говорит неверные, обидные горожанам слова, раздражался на них, на себя. Еще раз попробовал спасти положение, не сумел, ударил сплеча: — Теперь с этим покончено. Главная цель — комбинат! Здесь возникает цивилизация высшего стандарта. Инженеры становятся основной интеллектуальной силой. Комбинат ожидается с нетерпением не только в Союзе. Его ждут в Японии и Америке. Для города, повторяю вам, начинается новая эра. Я слышал, кто-то уже подыскивает городу новое имя, более созвучное времени. Я хочу, чтобы вы посильно включились в современный процесс. Вы нужны! Покажите приезжим со всех волостей, что они явились не на пустое место. Покажите им свою старину. Но и требования к вам немалые. Вы должны осознать процесс и найти в нем свое место. Ибо здесь возникает иное, небывалое измерение жизни, которое необходимо принять!..
Он замолчал, услышал жидкие хлопки, и возникла тишина, напряженная, многоглазая в сумерках зала.
— Кто хочет слова, товарищи? — радостно вопрошала в микрофон Лямина. — Какие будут вопросы?
— У меня есть вопросы!
— Пожалуйста, товарищ Городков!.. Это Городков, работник газеты, литератор, — доверительно и как бы гордясь, сообщила Пушкареву Лямина. — Пожалуйста, пожалуйста, к нам, сюда…
На сцену торопливо выскочил лысоватый моложавый мужчина в несвежем костюме и бисерном галстуке. Сразу же не понравился Пушкареву своим желтоватым, желчным лицом, безвкусным, провинциальным галстуком.
— Тут товарищ генеральный директор остроумно сравнил нас с папуасами, дескать, кокосы, бананы, и мы, конечно, со своей стороны, благодарны, что вот наконец нас заметили, разглядели в подзорную трубочку. Открыли и на карту нанесли, а то мы в неоткрытых очень томились и все ждали, когда это за нами приедут, и научат вертикально ходить, и вместо пальмовых и прочих листочков приучат брюки носить!..
Зал засмеялся, заерзал. Городков передернулся своим острым лицом, кинул смешную живую гримасу в сторону Пушкарева:
— И очень нам интересно знать, какое это имя для нас придумали. Остров Пасхи? Или, может, Нефте-Пушкарск? А?
И опять засмеялись. А Пушкарев, понимая, что собирает дань своей собственной бестактности, признавая рассудком его правоту, испытал вдруг горячую ненависть к говорящему, к его юродству и дерганью.
— Но мне бы все же хотелось высказать маленькую поправочку, на правах, так сказать, дикаря. Вот тут говорилось, что история нас обидела. Но пришли наконец смелые люди, викинги, и принесли нам на блюдечке историю. Новейшую, со Знаком качества. Вот какой взгляд высказывается. Так оно, наверное, видней. С высоты современности, со спутников, самолетов. А ведь, пожалуй-то, было иначе! Ведь тут-то, в Николо-Ядринске нашем, в богом забытом городишке, тут-то ведь мы Ермака за своего почитаем. И Аввакума тоже. Отсюда, от кремля, от Никольского собора, полки на восток уходили. Пусть, кто не знает, в кремль к нам пойдет и посмотрит: там пушки лежат тагильского, нижнетуринского литья, которые Платов с собою взять собирался, когда пришла в его атаманскую голову фантастическая мысль прогуляться в Индию. А наша-то колокольня и без спутников за всей зауральской Россией присматривала, до Амура, Уссури. Тут ведь, у нас-то, великие просветители жили, которым до сего дня Сибирь низко в ножки кланяется. Тут церкви сибирского барокко стоят, каких в мире нет. Тут библиотеки с рукописными книгами и ноты крюками. А в Отечественную войну полгорода воевать ушло и не вернулось — Москву отстаивали. Мы здесь караваны судов снаряжали, Северным путем Ленинград и Мурманск кормили, блокадное кольцо прорывали. А нам говорят — мертвая ветвь истории. А нам говорят — бананы!.. Нет, не мертвая ветвь, не бананы, а город с драгоценнейшим прошлым и с реальным настоящим, с современными живыми людьми. Конечно, мы в деревянных домах живем, и мы для вас деревянная пристань, и вы хотите всем своим железом пристать, чтобы удобнее было чалиться, и мы хрустим и ломаемся. А это несправедливо. Нужно помнить, что Николо-Ядринск — город и от вашего нашествия его лихорадит. В магазинах до вас всего было вдоволь, мясо, рыба — без очереди, бери не хочу. А теперь у каждого прилавка хвосты, приезжий народ их выстраивает. Кинотеатры, бани — битком! Преступность растет. Да у нас, в старом Ядринске, двери не запирались, а теперь что ни ночь — драка, бывает, ножи в ход пускают. Мы, ядринцы, по ягоды на окраину ходили, за домом грибы брали, а вы нам все леса, все ягодники вырубили, бетонки по ним пустили. Химия рыбе не товарищ. Посмотрим, что с Иртышом сотворите. Ваши браконьеры-«строители» по лесам рыщут, бьют что попало. За что же нам так уж благодарить-то вас? Какое такое новое измерение пришло? Вы внушаете нам чувство нашей неполноценности, а это не по-доброму. Культура дается вековыми усилиями оседлой народной жизни, она всегда местная, неповторимая. Мне кажется, те, кто приехал к нам жить, кому мы оказываем гостеприимство, должны поступать, как добрые гости. Хотите осесть здесь? Пожалуйста! Но тогда вы должны стать нами, а не мы вами!
Соскочил под аплодисменты, любимый залом. А Пушкарев, ошеломленный, оскорбленный, готовый уйти, удерживал себя.
— Кто еще собирался выступить? — спрашивала Лямина.
«Собирался? Да у них тут заговор, что ли?» Он подумал, что надо встать, объясниться: их спор не о том, здесь нет места спору. Он ненароком, сам того не желая, задел их больное место, их городское единство и общность. И от этого обида, ненужная, готовая обратиться в ссору. Надо встать, объясниться. Но не встал, уже уязвленный, вовлеченный в борьбу.
— Прошу вас, товарищ Голубовский! Сюда, на сцену, Егор Данилович!.. А это директор нашего музея, краевед заслуженный…
На сцену, шумно дыша, поднялся тучный человек в широкой, «толстовской» блузе, с черным, старомодно повязанным бантом, но с глазами бедово-молодыми и синими. Тряхнул красивой гривой седых волос:
— В самом деле, я хотел бы возразить нашему многоуважаемому гостю, в речах которого есть и сила и выразительность. Однако существуют две стороны медали. На одной, золоченой и яркой, выбито гордое слово «комбинат». А на другой, медной, позеленевшей от времени, — «Николо-Ядринск». Вот на эту, лишенную позолоты, я и предлагаю взглянуть…
Пушкареву уже несносны были его мягкое, почти доброе краснобайство, блуза и бант.
— Я бы хотел обратить внимание наших уважаемых новых хозяев, ибо они не только гости, но и хозяева, на некоторые факты, которые не могут не внушать беспокойства. Нашему городу грозит быстрое и скорое разрушение, ибо могучие грузовики-самосвалы, которыми вправе гордиться строители, катают по городу день и ночь, уничтожают улицы, тротуары, расшатывают фундаменты, перетряхивают наши ветхие срубы. Затем… Я мельком видел размещения нового порта, аэродрома, дорог, и в связи с этим планом стирается с лица земли наша слобода Захромы. Уже дома повыселены, зияют битыми окнами, будто тать прошел, а что они там построят, это одному богу известно, и что еще задумают снести, нам с вами не скажут, никто их за руку схватить покуда не может. На той стороне Иртыша, в слободе Кондашовке, тоже начинают ломать. Под снос попадает несколько домов — святыни, реликвии местной истории. Конечно, инженеры, как сказал наш гость, меняют духовный климат. Но не всегда в благоприятную сторону. Один инженер, во всяком случае он так себя назвал, ходил по домам, выпрашивал или скупал за бесценок иконы, книги, дворянскую и мещанскую мебель, картины, гербовые бумаги, печатки и посылками, контейнерами отсылал их бог весть куда. Тупик превратился в проезжую дорогу, и по ней стали увозить наши ценности. С могилы декабриста, факт всем печально известный, вор свинтил чугунное распятие, ясно, что не здешний человек, а приезжий. Факт пострашней браконьерства, о котором до меня говорил Городков. Уж не знаю, где теперь это распятие? И последнее… В кремле одно из зданий ансамбля, а именно — ризница, приспосабливается под гостиницу для высоких гостей. Нужно отдать должное вкусу руководителей комбината: вид из окна на Никольский собор, приятно после банкета пройтись по кремлю. Но ведь все-таки это кремль, а не постоялый двор! Святыня общесибирского значения!
И ушел, гордо вскинув голову. Пушкарев уже без паники, без раскаяния, с острым, злым любопытством наблюдал зал.
Говорил главный режиссер театра, крупнотелый, сильный, слащаво-фальшивый, в ярком свитере. Выбрасывая вперед руку, поводил в зал ладонью.
— Наш театр старее волковского в Ярославле! Пусть приходит к нам товарищ Пушкарев и посмотрит, чтобы лучше узнать нас. Мы как раз начинаем репетицию новой драмы. Этим, что немало, мы сможем наградить наших новых сограждан!
Тяжело поднялся на трибуну человек, которого Лямина представила театральным мастером Файзулиным.
— Я ничего не хотел… Только сказать… Мы тоже стремимся… И мы с современностью… Даже есть работы… Я хотел показать…
Он сделал кому-то знак. Серый занавес взвился. Обнажилась собранная из алюминиевых и железных обрезков скульптура. Файзулин врубил динамик, и дикая, невообразимая, из грохота и скрежета, музыка наполнила зал. Робот залязгал, завозился, в нем закрутились колеса. Поднялся смех, гвалт. Файзулин счастливо, влюбленно смотрел на свое детище. А Пушкарев, гневно бормоча: «Балаган! Черт знает что такое!» — поднялся и рванулся к выходу. Уже не раскаивался в содеянном, не чувствовал перед ними вину, а сознавал свою правоту. Гнал сквозь город черную «Волгу», прошибая трухлявое дерево.
5
И лишь на пути к стройплощадкам его гнев превратился в нетерпение и нервную зоркость. Проносился вдоль бетонной дуги моста, потно-блестящей, в синеватых осыпях сварки. Словно лопнула поверхность земли и вышло наружу напряженное тугое ребро. Мост новейшей конструкции завершался, готовый принять на себя тягачи и стотонные грузы. Пушкарев обрадовался встрече с мостом.
Бетонка в вечерних красноватых наледях солнца дрожала, размытая скоростями и гарью. Оранжевые толстолобые «магирусы» в дизельных реактивных дымах мчали, груженные грунтом. Бульдозеры торили обочины, сметая мелколесье. Экскаваторы рвали лед. Черные хлысты водовода, еще не сваренные в распилах, вызывали ощущение звона. За прозрачными лесными вершинами громоздились градирни ТЭЦ, еще пустой, ледяной, но Пушкарев, проезжая, предчувствовал в ней бушевание огня и пара.
Люди крутили рычаги, штурвалы, сварочные аппараты. Дымилась земля, насыщенная железом. Казалось, вырывается, выламывается из человеческих рук, а ее, оковав, усмиряют в страшных усилиях.
«Вот он где, дух-то! Вот оно, дело-то! Это вам не пьески, не луковки, а всем народом, всем дыхом!.. Что они там лепечут, слепцы! Сегодня народный темперамент и дух исчисляется мегаватт-часами энергии, миллионами тонн добытой нефти!..»
Ему казалось: здесь, на стройплощадках, завинчивается огромная гайка. Усилиями его и ему подобных эти дикие, нелюдимые земли, пропущенные сквозь жар и удары, привинчиваются к другим, уже обжитым и скованным. Еще один лист обшивки вкраивается в бортовину Сибири.
Он думал: и этот день, сливаясь с минувшими, ломится, осыпаясь искрами, вспышками, беззвучно кричащими лицами. Исчезает молниеносно, как состав сквозь туннель, цепляясь бортами, унося на острых углах его жизнь, его тело, наполняя глаза дымом и копотью. Но к вечеру, когда он упадет почти бездыханный, комбинат, стальной и стоглазый, сделает еще один малый вздох.
«Словно роды…» — усмехнулся он, объезжая обрывок троса.
Он выдавливал из себя комбинат бесконечно малыми порциями. Еще в полусне, в пробуждении, с первых утренних мыслей в нем копилось и строилось: падали бесшумно деревья, возносились мосты, насыпались беззвучно дороги. А потом в течение дня все рвалось на свободу, обращаясь в грохот и свет, одевалось бетоном и сталью.
— Сережа, постой тут, а я немного пройдусь!..
У опушки пестрели домики стройучастка. Топтались люди. Отъезжал бензовоз. Шофер из открытой дверцы ругал кого-то.
— Ну вы, химики, еще приползете, попросите!..
Пушкарев осматривал стоящую технику. Японский бульдозер «камацу» грозно выставил бивни.
Отточенный и граненый, продрался сквозь лес, намотав на себя красные куски сухожилий, оставив позади багровую парную дорогу.
Нож, отполированный до зеркального блеска, нес в своем лезвии охлажденный синеватый воздух.
Пушкарев осторожно приблизился. Подставил бок ледяному зеркалу. Почувствовал на ребрах резь и ожог. Словно мгновенно отвердело нутро. И в груди нарастала красная льдина крови.
Стальное озеро колебало отражение. Осины с зыбкими, готовыми пасть стволами. Волнистый, испуганный снег. Надвое разделенное солнце. И его лицо, отпечатанное на белом железе.
Шофер, ругавший кого-то химиками, уже не ругался, а, выскочив из кабины, широкоспинный, в робе и ватнике, возился с этими «химиками», такими же, как и он, толстоспинными, краснолицыми шоферами.
— Витька! Седых! Черт лупоглазый! Ну, я тя накормлю обедом-то!
Гоготали, хлопали друг друга увесистыми ладонями, награждали литыми шлепками, валили в снег, расшвыривая сугроб горячими, могучими телами.
— А вы что, всегда такой или только по праздникам? — услышал он смех у вагончика. В пятнах морозного солнца стояла женщина в белом тулупчике с букетом бумажных цветов, та, что встретилась ему у театра. И Солдатов, все в той же волчьей пушистой шапке, поигрывая носком сапога. — Что вам в огонь-то соваться?
— Вот и он мне, корреспондент, говорит: «Чего вам соваться?» А я ему отвечал: «Меня, — говорю, — мамка в животе носила, с горки раз покатилась и в прорубь упала». С тех пор на меня озноб напал. То живу, как все, ничего. А то озноб нападет, и рвусь в огонь, чтоб согреться. Где горит, туда и рвусь. Так всю Россию обошел и сюда добрался.
— А я думала, что вы только по праздникам…
Она хохотала. Блестели влажные белые зубы. Губы розовели сквозь пар. Солнце под ноги насыпало яблок. Пушкарев вдруг увидел, как свежа она, хороша. Оглядел ее всю, будто обнял под курчавой овчиной.
— Раз прибег я на Каму. Может, слышали? Речка такая. Дали мне там экскаватор. Ладно, Солдатов берет. День, ночь, день, ночь. С худой палаточки начал, а кончил палатами. Денег — во! Ковров себе накупил, хрусталей, шкаф полированный. Ну, думаю, теперь невесту сосватать и жить. Раз черпали мы грунт под фундамент, черпнул ковшом — гля! А на зубьях серебряный браслет. Оттер, отмыл, ну блестит! Смотрю на него, и вдруг, не знаю с чего, озноб напал. Такой озноб напал, что хоть все шкафы, хрустали в огонь! Так и сделал. Такой с дружками подняли жар, что все в неделю спустили. Как есть остался. И дальше рванул, чтоб согреться!..
Смеются, похрустывают на снегу. Пушкарев любовался их молодостью. Слушал смех, говорок. Завидовал их простоте.
— А вы в баньку почаще ходите. Там жарко!
— Ну вот. Очутился я на Кольском. Там трубу к самому морю варили. Варю и варю. Как шелковая! Шва не видать! Лето, зиму варю. Всю тундру верхом на трубе проехал, уже море близко. Ладони до дыр сносил. Ну ничего. Начальство новые выдало. «Доваришь, — говорит, — мастером участка поставим». Я киваю, варю. Только раз ночью выходят двое из тундры. Во какие огромные! Ростом с лесину. Подошли ко мне, постояли. Через трубу перешагнули и медленно так шажищами, как два крана, дальше ушли. А куда ушли, там свет и огонь поднялся. Привидения, думаю, или с другой планеты. Другим говорю — не верят, на смех подымают. А на меня вдруг озноб напал, не могу согреться. И вот у Байкала оказался.
— Ну и выдумщик вы! И так складно все. Вы случайно на танцы не ходите? Я вас вроде на танцах видела…
Сторож вывел из вагончика лохматую овчарку. Уложил и стал посыпать ее снегом. А потом веником смотал его, как с ковра. Мех заблестел, заискрился, словно стеклянный. Собака лежала, высунув алый язык, дыша сочно паром.
— Ну вот, на Байкале поставили Солдатова на отсыпку дороги. Сыпем, звенья кладем. Сыпем, звенья кладем. Жизнь там — во! Песцов, горностаев — мешками! Бери не хочу! Рукавицы, в которых вибратор держал, соболями отделал. Чего еще? Только раз в вагончик возьми и влети шаровая молния. Около самого носа прошла. Рубашку на веревке прожгла. Подержалась у окошка и выпорхнула. Только и успел, что из дробовика ее ахнуть. И опять на меня после молнии озноб нашел. Кинул все и дальше подался. Вот до вас дотопал, у огонька сегодня погрелся!
— Солдатов, не ври до конца! Нам немного оставь! — крикнули ему шоферы, оставляя свою возню, расходясь к машинам.
— Ты, Седых, правду любишь? — оскалился Солдатов. — Ладно, скажу. У тебя, Седых, голова бубликом, в середке пустая… А теперь возьми-ка ты барышню в кабину и вези аккуратно в город, а не так, как грунт возишь. А вечером, если хочешь, я тебе про бублик продолжу!
Они смеялись, а Пушкарев думал: «Да, вот они где стыкуются, комбинат и Николо-Ядринск! Помимо тех краснобаев. Хиханьки, хаханьки — и общий язык находят. На танцульки пойдут…»
Женщина оторвала от букетика бумажную розочку, протянула Солдатову. Пушкарев, радуясь своему открытию, двинулся обратно к машине.
6
Он объехал строительство, вписывая его рваные очертания в стройный, циркульно-ясный чертеж.
Машина летела обратно по морозно-солнечным наледям, догоняя колонну «магирусов». Пушкарев рассеянно, утомленно смотрел на бегущий впереди самосвал.
И внезапно на дальней дистанции уловил косой и разящий удар по трассе, колыхнувший бетон, лесную опушку и небо, сбивший прочь самосвалы, раскрутивший их волчком. Встали, развернув борта, чадя и коптя.
«Волга» подлетела. Пушкарев выскочил и увидел расколотый, с выдранным, дымящим радиатором «магирус». Среди брызг стекла, в провале кабины потрясенное, живое, в красных надрезах лицо шофера. И беззвучно кричащая знакомая Пушкареву женщина в тулупчике. А на трассе горой, охваченный красным паром, выпуская убитую горячую жизнь, лежал лось, раскинув обрубки ног, и они дымились на концах, как головни.
Вместе со всеми Пушкарев топтался, утешал, извлекая из кабины, ощупывал и оглаживал, убеждаясь, что невредимы, ахая, перебивая, выкрикивая. Но это минутой позже.
А в первое мгновение застыл, пораженный этим огромным внезапным ударом. Посреди Сибири в метеорном взрыве столкнулись косматый зверь и железная, в хромированных деталях машина. Он, Пушкарев. Она, беззвучно кричащая, с преображенным, прекрасным, залитым слезами лицом. Словно удар пришелся по нему, Пушкареву.
— Витька, Седых, живой?
— Я иду ему в хвост, гляжу, он на Витьку прет!
— Да где успеешь! Оба под семьдесят гнали!
— Хуже нет лосей. Как бомба! У него кости, как рельсины. Железо насквозь прошибают!
— Моли бога, Витька, что жив, что он тебе по капоту врезал!
Шофер, весь в порезах, ощупывая воздух руками, заикался и всхлипывал:
— Я шел, и он-то откуда?.. Не успел… Разве можно?..
Женщина, с рассыпанными волосами, в растерзанном полушубке, задыхалась в слезах:
— Господи! Господи! Господи!..
На трассе возникла пробка. Подкатывали грузовики. Водители выскакивали, чертыхались, охали. Жалели машину. С любопытством рассматривали мертвого зверя.
Лось лежал среди работающих моторов, окруженный радиаторами, переломанный, перебитый. С вырванным горлом, из которого выступал обрезок хрящевидной трубки, и хлестала черная гуща, и летело неживое дыхание, одевая лес, машины, людей в красный воздух. Оторванные копыта валялись в стороне, на бетоне. Одно, с розовой бабкой, висело на обрывке кожи. В губастой костяной голове одиноко и жутко стекленел темный глаз. Вместо другого кровенела дыра, из нее подымались и лопались пузыри. Люди наклонялись, осторожно трогали пальцами шерсть.
Раненый грузовик тихо звенел металлом. С разодранной железой губой, с проломом в крыше. Шофер гладил оскаленную рваную сталь, бессмысленно складывал осколки стекла.
— Как чувствуете себя? — Пушкарев поддерживал под руку женщину. — Вот здесь, на щеке, чуть порезано, — своим платком коснулся ее щеки, сняв отпечаток ранки.
— Какое несчастье! Какой-то рок! — говорила она не тем бойко-слободским говорком, а глубоким, влажно-певучим голосом, поразившим Пушкарева волнением и силой. — И зачем я поехала? Господи…
Она прижималась к Пушкареву. Ее рука с золотым кольцом несколько раз сильно и жарко коснулась его руки.
— Очистить трассу! Давайте кран сюда! — командовал он, увидев полосатый колесный кран.
Появился металлический трос. В несколько рук, ловко, умело накинули лосю на задние ноги. Зацепили за крюк. Кран заурчал, потянул. Лосиная туша, шурша, скользнула, оставляя на дороге щетину, влажную лежку. Оторвалась от бетона с утробным стоном. Повисла в воздухе, не касаясь мордой земли. И казалось, что убитый лось парит в небесах над темными башнями ТЭЦ, машинами и железными трубами. Пролетает над стройплощадками, кропля из небес мелкими красными каплями.
Лося опустили в кузов. Самосвал ушел, колыхая звериное тело. Машины двинулись, размазывая по бетону багровые полосы. Унося на протекторах отпечатки винного цвета.
Пушкарев, посадив с собой женщину, ехал в город.
— Что вы тут делали? — спрашивал он ее, видя, что она успокоилась.
— Хотела посмотреть… Я актриса… Давно хотела… Думала, поеду, взгляну. Вот и взглянула… — перед зеркальцем она доставала помаду.
— В театре? Актриса театра?
— Да, и хотела взглянуть… Господи, какое несчастье!.. Спасибо, спасибо вам!.. — платком она вытирала порез на руке.
Он довез ее до театра и высадил у резных куполков и шпилей. Уходя, она благодарила его, еще бледная, но ожившая. И он хотел в ней узнать ту, недавнюю, которую видел у афиши с бумажным букетиком и, немного позже, с Солдатовым. Не мог, видел другую женщину.
Поздно ночью он явился в свою пустую, похожую на гостиничный номер квартиру. Сел устало, оглядывая голые стены. Тяжело закрыл веки. И под ними беззвучно и трепетно вспорхнул бестелесный, уже не существующий день. Волчья шапка металась в пожаре. Хлестал по афише букетик бумажных цветов. Лось аэростатом проплывал над вершинами леса, свесив блестящий трос. И под ним — белоснежное, в слезах и улыбках лицо.
Очнулся, прогнал наваждение. Взял телефонную трубку.
— Иван Степанович, как там у вас, на котельной? — вызвал он энергетика. — Вы там меня за утреннее, того, извините… Погорячился. Виноват… Ну, спасибо… А за котлами следите. Держите, ради бога, давление!
Повесил трубку. Через минуту снова поднял.
Услышал голос командира авиаотряда.
— У меня к вам просьба, так сказать, личного свойства. Ваши ребята в Москву летают. Пусть там купят букет… Ну да, букет… Ну какой-нибудь там… Ну розы или что там увидят… Да уж, прошу вас.
Засыпая, увидел: в черном сибирском небе из-за Урала, над снегами и льдами, в лунных размытых кольцах, тихо летит букет, оставляя в пространстве слабый светящийся след.
7
Горшенин держал белое, свежевыструганное древко новой кисти, чувствуя ее теплоту, кроткую готовность служить, принимать горячую нервную силу его ладони, превращаться в твердую стальную упругость разящего инструмента. Кисть, зрачок, прозрачный стакан воды, краски, расчлененные и уловленные, заключенные каждая в крохотную фарфоровую темницу, и белый приколотый лист, и то место в груди, где среди дыханий и сердечных биений, еще бестелесная, живет и цветет картина. И это разделение всего: мира вокруг, дыхания в груди, красок, воды и бумаги, — мгновенный удар зрачка, сближающий все в единство.
Горшенин работал все яркое, морозное утро, стараясь не потерять ни луча из этого желтого, сквозь замерзшие окна солнца. Держал влажный лист на свету, передвигая его медленно по столу, совершая ежедневное, по дуге, движение от подоконника с острыми сквознячками холода и озябшим цветком к стене, где солнце терялось и висел старинный корабельный фонарь с надписью «Св. Николай». И это скольжение за светилом и одновременное совершение работы приносило ему ощущение счастья и космического смысла того, что он совершал.
Он писал большую огненную акварель, себя и жену, — не нынешних, а тех, что когда-то, казалось, совсем недавно, сидели за этим столом, удивленные своей близостью, возможностью встать и друг друга коснуться. Любил этих двух, исчезнувших, одевал в небывалые дорогие наряды, угощал золоченой рыбой, ставил перед ними огненно-зеленые чарки, и в окно за их головами по заросшей травою улице текло красное стадо, неся на рогах деревянный город, резные карнизы и ставни.
Очнулся от звона стекол, хриплого дрожания и лязга, сотрясавшего стены, чашки в шкафу, воду в стакане. Выглянул. Три огромных грузовика бросали из выхлопов дым, запрудив всю улицу, въехав в нее граненым железом. Передний, проломив мосток, рухнул в яму, накренился и, взбухая от яростного рева, буксуя, вышвыривал из-под себя гнилое дерево, лед, ворочался посреди улицы, готовый вот-вот ударить ребристым бронированным кузовом в косые ворота дома.
— Кузьма, черт! Приглуши! Сейчас трос накину, дерну! — шофер из задней машины, цепкий, ловкий, с веселым лицом, вытащил из кабины блестящий трос, накинул на крючок. Уселся за руль. С тяжелым ревом, натянув стальную струну, стал пятиться, выволакивая осевший грузовик на ровное место. Выволок, выскочил из кабины, снимая трос, крикнул сквозь дым:
— Вертай назад! Айда по другой поедем! По этой и кобыле не пройти. Живут же люди!
Вся армада, пятясь, оставляя тяжелые вмятины, задевая бортами голые ветки деревьев, развернулась на перекрестке и с затихающим гулом исчезла. Шла, невидимая, по соседней улице, сотрясая хрупкое, промерзшее основание города.
Горшенин сквозь отчуждение испытывал восхищение, желание запомнить глазища огромных, отразивших улицу кабин, бронированные ребристые туши, дым и храп и цепкого человечка, набросившего на клык стальную узду.
«Нет больше за окнами стада, а идут самосвалы…»
Он снова вернулся к столу, рисовал, меняя воду в стакане делая ее то красной, то желтой, то синей. Акварель перед ним пламенела. Лицо жены безмятежно и ясно смотрело с листа. Горшенин подумал: в который раз оно, как луна, восходит над ним, торжественно поднимаясь в зенит.
Он работал всю эту зиму, меняя листы, складывая их в толстую папку. Торопился, изнемогая, чувствуя свою неопустошимость, неисчерпаемость, удивляясь возникшей силе и страшась, что вдруг она в нем оборвется. Было чувство, что в мире и в нем достигнут еще один, крайний, предел, за которым открывается иная, бог весть какая, но иная жизнь и судьба, и надо успеть дожить в этой, прежней, готовой к завершению жизни, доглядеть и запомнить, перенести на бумажный лист.
Он отвлекся, глянул в окно. Увидел Лямину, маленькую, озабоченную, куда-то спешащую с туго набитой сумкой, из которой хищно торчала замороженная рыбья голова. Почувствовал мгновенное раздражение: «Вечно она спешит, все по делам! В результате этих дел ядринской-то культуре только цвести, ан нет. Зато в сумке ее всегда торчат то кабаньи копытца, то куриные лапы, то рыбий хвост…»
Третьего дня приходил к ней, пытался затеять разговор о выставке, о своей первой, единственной, для которой теперь работал, которая виделась ему напряженным стоцветным единством картин, — о себе, о близких, о Ядринске. Но она опять отмахнулась: «Потом, потом, в другой раз. В музее нет помещения, экспозицию о комбинате надо готовить. Все это, Горшенин, непросто. Потом, потом, в другой раз!» — и заспешила, хватая сумку.
Забыл о ней. Погрузился в легчайшие бульканья кисти, в круговое движение солнца.
В дверь постучали. Ожидая увидеть жену, кинул взгляд на влажный дышащий лист. Громко сказал:
— Открыто!
Вошла укутанная в платок, малиновая с холода старая врачиха Лопатина, жившая на другом конце города. Мялась у порога, состукивая с валенок снег.
— Я к вам, Алеша… Ой и холодно! Все собиралась зайти, да боялась. Думаю, зайду, помешаю…
— Ну что вы, Анна Тихоновна, проходите.
— Просьба у меня к вам, Алеша.
— Какая?.. Да вы садитесь, садитесь!
— Мой-то Глеб Гаврилович осенью помер. Хорошо схоронили, не жалуюсь. Весь город пришел. Ограду на могилу поставили, да так и стоит непокрашенная. Все некому. Как жив был Глеб Гаврилович, все к нему. Днем и ночью, с постели подымали в бурю, в пургу, всех лечил, всем помогал. А теперь того, другого прошу. Там краски нету, там кисти. Так и стоит непокрашенная. Вы художник, Алеша. Вы не думайте, я заплачу…
— Ну что вы, зачем?.. Но ведь знаете, какое сейчас время красить. Все в сугробах, завалило, в таком холоде краска плохо ложится.
— Уж сделайте, Алеша, прошу! У Глеба Гавриловича через неделю рожденье. А оградка его такая голая, корявая. Места себе не нахожу. Уж пожалуйста, Алеша, вы художник, сделайте, я заплачу. Глеб-то Гаврилович всем помогал днем и ночью…
И, видя, что он отказать не в силах, быстро сунула ему в руки конвертик и проворно, по-молодому выскочила, не взглянув на акварель в пятне солнца, оставив на полу темные брызги от растаявшего снега.
В конверте лежала десятка. Горшенин закрыл его, собираясь догнать и вернуть, и тут же вспомнил, что в доме нет денег. Его акварели, такие для него дорогие, для других ничего не стоят. Даже не глядят на них и не видят. А он уклоняется от заработков, от писания объявлений, плакатов, ничего не приносит в дом. Все деньги идут от жены, небогатые актерские деньги. Сегодня явятся гости, даже не на что их угостить, и эта десятка, которую он непременно вернет, сегодня как нельзя кстати. И, мучаясь, раздражаясь, теряя внутреннее равновесие, подумал: «Затем и понадобился художник, чтобы могильную оградку покрасить?»
Но вновь одолел свою слабость. И пока уходило солнце, подымаясь вверх по стене, к старинной фонарной меди и надписи «Св. Николай», завершил акварель. Смотрел, утомленный, как в сумерках драгоценно сверкает картина и двое сидят за столом, боясь шевельнуться от счастья.
Вечеринка кончалась гамом, хмельными шутками. Артист Слепков, вывернув шубу, дыбом подняв воротник, ревел медведем. Артистка Гречишкина, сдернув с себя поясок, повязала ему на шею:
— Пойдем, Миша, пойдем! Здесь больше не подают! Здесь нас не любят! Ко другому двору, ко другому!
Вываливались на холод. На улице под туманными фонарями слышался посвист и смех. Горшенин их провожал, помогал одеваться.
Иные еще сидели за столом, но уже не касались рюмок. Жена Горшенина Маша улыбалась устало, скинув туфли, устроилась на кушетке. И во всем улетающем гаме, в чадном, непрозрачном воздухе сверкала на подрамнике приколотая акварель, венец его дневных, ненапрасных усилий, и рядом — пустой, неначатый лист, словно белая открытая дверь в другое пространство и время.
— Горшеня! Алеша! Воззрился! Все свою дролю рисуешь. А что, хороша, хороша! Маша, а ну расскажи, как ты его к себе присушила? Словом, травой или каким другим колдовством?
Городков, литератор, счастливо смеялся, ласково манил Горшенина, приглашая в застолье.
— Ты давай нас всех нарисуй! — Голубовский, директор музея, встряхивал гривой, расправляя бант на груди. — Сейчас же садись и рисуй! Для потомства! Как веселились предки.
— Знаешь, так это, бегло, угольком, угольком! Набросай! «Лучшие люди Николо-Ядринска», — Творогов, режиссер театра, вычерчивал пальцем фигуры. — Ну садись, Алеша, немного хлебни!
Горшенин пригубил рюмку, провел рукой по плечу Городкова.
— Алеша, иди сюда! — позвала жена. — Слепков так орал, что оглохла. Вот он так же роли ведет своих купцов, генералов. На рыке, на рыке! Не люблю!.. Алеша, ну иди же…
Горшенин сел на кушетку, накрыв ладонью кончики ее ног, чувствуя сквозь чулки теплое шевеление пальцев. И она благодарно, устало улыбнулась ему. Он вдруг заметил на ее руке свежую царапину, перехваченную платком.
— Это что? Где порезалась?
— А так, пустяки, зацепилась!
Друзья за столом гомонили, перебивая друг друга. И Горшенин опять испытал к ним любовное бережение, нежность. Обнял их всех и бережно отнес к белому пустому листу. Следил, как пропадают они на бумаге. Их тени высыхают и блекнут, теряя свои очертания.
— Нет, но каков он, этот-то Пушкарев, генеральный! Генерал-губернатор, их превосходительство! Явился и первым делом — нате вам — переименовать! Быстро это у них с именами. Дескать, история вас забыла, а я вас вспомнил. Немытых, нечесаных, некрещеных. Ты будь Тишка, а ты будь Гришка!.. Навидались мы таких за три века. Из Москвы к нам в золоченых каретах, а обратно в Москву в сермяге, на простой телеге. И правильно: не ври, не воруй, не бесчесть добрых людей! А ловко я ему про Нефте-Пушкарск ввернул, аж весь передернулся! И про брюки вместо пальмовых листочков, хотя и не очень прилично. — Городков желчно и весело хохотал, вспоминая дневное выступление, свою победу над Пушкаревым. — Убегал, хвост дымился! Так ведь я говорю, Егор Данилыч?
— Да… Нет… Правильно… Спесь сбивать надо, — соглашался Голубовский, кивал поощрительно, барственно. — Пускай свое место знают. Нас ведь купцами не удивишь, сами, слава богу, купцы. А вот ты подымись над своим купечеством, над своим лотком, над мошной. Ты прозрей, утеплись сердцем, заплачь. Пойми свою вину — и смиренно, смиренно… Тогда и примем и научим, если смиренно попросит. Все книги, все тайники. Читай, научайся, вкушай от вин и от брашен… Да ведь не будет этого. Сразу видно: слепец и гордец! И сколько мы от подобных убытку несем! Они без любви, чужие. Им ничего не жаль: ни деревьев наших, ни вод, ни храмов, ни нас самих. Они по нас пройдут, не заметят… И хорошо вы ему про высший дух заметили, Кузьма Афанасьевич!
— Да, хотелось мне его щелкнуть по носу, и, по-моему, удалось, как вы считаете? — польщенный похвалой, оглядывал всех Творогов. — Я прав про духовный театр. Да если бы нас в Москве показать, мы бы кое-кого и затмили. Вот погодите, выйдем с новой пьесой, я добьюсь. Заставим о себе говорить. Я вас уверяю…
— А ему, по-моему, понравился робот, — Файзулин, чумазый, радостный, чиркал без надобности зажигалкой. — По-моему, он обратил внимание… Ему нравятся роботы. Я на стройку ходил, они там рвут грунт. Может, сделать им электросапера? Программу вложил и пустил. Подошел к скале — бах! Взорвался!
— Да ну тебя! — замахали на него. — Ну тебя к шуту с твоими железками!..
Горшенин смотрел на их бодрые, в смехе и говоре, лица и как бы выхватывал все их движения и жесты, успевая сберечь и запомнить, спасти из бесшумного пламени, в котором все исчезали. Упрямо-воинственный лоб Городкова с больной, беззащитной морщинкой в бровях. Величавую пышность движений Голубовского и неуверенность хрупкого, старчески слабого запястья. Красивую широту Творогова, в которой едва сквозило недовольство собой, зависть и ревность, тайно его разрушавшие.
Горшенин все это видел. Брал каждого за руку, подводил к листу, пропуская в белую дверь. И они исчезали, кивая, оглядываясь, оставляя на листе свои лица. А потом их смывало, и они выцветали. Уже не они, а другие сидели, шумели в застолье.
— Вы правы, Егор Данилыч, — говорил Городков. — Но мы не должны позволять. У нас есть гордость и честь, мы должны их бить по рукам. Есть чем и кому, сегодняшний день показал. Настал удобный момент: наш главный, Корнеев, в отпуске, и я замещаю. Дать фельетон о сегодняшнем. Его, пушкарский, бред и нашу отповедь. С акцентом, с акцентом! Я говорил с Корнеевым, он понимает, согласен. Тоже, слава богу, ядринец! А потом — серию статей о славном ядринском прошлом. О наших великих людях. Не оставить никого равнодушным, дать понять, что здесь не пустырь. Ах, если бы мне его на часок, Пушкарева, я бы ему, московскому умнику, раскрыл смысл русской истории! Показал ему земство! Россия земством сильна. Так ведь, Егор Данилыч? Минины, Ляпуновы оттуда. Ломоносовы, Менделеевы… Если в Москве огонь духа слабел, то в земствах неугасимо пылал. Из земства его снова в Москву приносили. И тогда и теперь, ведь так? И теперь ведь Москва из Сибири не только нефть, но и культуру качает. Сибирские книжки читает. Греется от наших огней. Так ведь, Егор Данилыч?
Горшенин видел желтоватое, блестевшее от пота лицо Городкова, его бисерный галстук и мятый пиджак. Восторженные, бегавшие по лицам глаза. Он казался себе зачинателем великого дела, умным и смелым, окруженным сподвижниками. Он, Городков, в глухомани выносил замысел. Оттачивая слово и мысль, читал замусоленные, старые книги из прежних, уцелевших библиотек, собранных Голубовским в музее. Просиживал в крохотной кухоньке над листами бумаги среди кастрюль и баков с водой. А рядом, в единственной комнатке, теснились жена и дети, вечно болевшие, изводившие его чувством вины, заботами о хлебе насущном. И он со своими листками был навеки прикован к ним, к ежедневным хождениям в редакцию, в деревянный, сыростью пахнущий дом. И Горшенин любил его яростное лицо с чуть заметной морщинкой страдания.
— Нет, я прав про огонь? Прав или нет, Егор Данилыч?
— Правы, мой дорогой, совершенно правы, — Голубовский кивал камергерской головой. — Нам есть чем гордиться, и пора перестать стесняться, шапку ломать. Выставим свои ценности напоказ. Говорите, статья? Хорошо. Рад, что Корнеев с нами. В музее я открываю выставку. Николо-Ядринское письмо, парсуны и доски. Десятилетиями собирали, хранили от огня и погибели. Мы выставим — и пусть обомлеют. Пусть посмотрят, от чего отказаться хотели. Не Суздаль, не Новгород, не Строгановы, а местная, ядринская, небывалая школа. Откуда наш Горшеня талант свой ведет? Да может, от этой школы! И как несправедливо, друзья: в Помпее откроют какую-нибудь малую фресочку, какой-нибудь листик аканфовый, так на весь мир трубят. А тут целая школа национальной живописи, и ни гу-гу! Ну ничего, мы-то кое-что знаем и кое-что можем. Не только газета, но и музей, музей как центр культуры. Кстати, помните, говорил вам про экспедицию в Мангазею? Пора ее начинать. Я достал древнейшие чертежи ладей. Построим, сошьем — и по Иртышу, по Оби, до Губы, до самого Таза. Чем не Кон-Тики? Кликнем ядринским молодцам клич. Мангазея-то в Ядринске начиналась!
Голубовский смеялся, синел глазами, и Горшенин ловил его нестарческий, сочный смех, радуясь за него. Было Голубовскому хорошо. Он забыл о мучающей его язве. О тающих силах. О жене, рыхлой, ворчливой, равнодушной к его музею, тонкому пониманию и вкусу. Забыл и не помнил своей печали по любимому сыну, который уехал от него после ссор в Ленинград и стал инженером, отмахнувшись от отцовских архивов. Все это было за пределами их теперешних мыслей, общего их цветения.
— В тупиках-то дух копится. А в туннелях — один сквозняк, один свист! Так-то вот!
— А знаете, отчего мы духом сильны? — Творогов легонько стукнул себя по сердцу и лбу. — Оттого, что мы все едины, от одного корня. Если Егор Данилыч в своих архивах поищет, то мы и родословно сплелись, нет сомнения. Прабабки, прадедки наши переженились, переродились, наплодили тьму-тьмущую. Плодовиты были, нечего сказать. А уж потом внуки-то их забыли родство, передрались, в Иртыше друг дружку топили: разогнали один другого по всей России, а то и дальше, и вот мы как бы врозь, каждый свою фамилию носим. А надо нам опять родство ощутить, вокруг пня разрастись. Вокруг пня от старого священного древа. Вот в чем наша духовная задача. Пусть мы не древо, а куст. Погодите, и для древа настанет время. Есть у нас таланты, мыслители. Иной раз, чего греха таить, скажешь себе: «Ай да Творогов! Ай да сукин сын! Какая находка!» А актеры наши разве хуже столичных? А наша Машенька? А Алеша, Горшеня наш, — какие работы! А Файзулин, неистощимый на выдумки! Мы не бедны, нет, не бедны!
Он рокотал поставленным басом. Горшенин верил в его веру. Не хотелось знать о вечных его сомнениях и ревности к столичным знаменитым режиссерам, чьи спектакли учил наизусть и копировал после поездок в Москву.
— За возрождение! За ядринский наш Ренессанс!
— Верно, за братство, родство!
— За Николо-Ядринск! За странствие в Мангазею!
Горшенин любил их единство, из давних, забытых времен дотянувшееся в этот воздух и свет. Пускал их всех в белизну бумаги, и они возникали на ней, как в раме, в белых холщовых рубахах.
Голубовский подсел к Горшенину:
— Ну как дела, Алеша? Как с выставкой? Ходил в исполком?
— Лямина говорит, не до выставок. Нет, говорит, помещения. В музее у вас какую-то экспозицию про комбинат хотят развернуть. А мне с моими картинами и думать нечего.
— Что? Комбинат? Ну это мы поглядим! Это мы еще посмотрим. В музее покамест хозяин я! Открываю выставку ядринских писем и одновременно твою. Преемственность, непрерывность традиций. Так я, Алеша, решил и слова моего не меняю. И ты уж, пожалуйста, давай торопись, к весне откроем.
— Я тороплюсь. Сегодня еще одну работу закончил.
— Видел, да… Замечательно!.. А как с парсуной? Реставрируешь? Уж ты постарайся, Алеша. Увидишь, это великая вещь! Там Ермак, Ермак! Уж ты ее сделай любовней!.. Музей-то наш бедненький, сам знаешь, деньжонок нет. Заплатить тебе сейчас не смогу. Ну как-нибудь выкрою после…
— Конечно… Не волнуйтесь… Все сделаю…
— Маша, Машенька! — Голубовский с церемонным поклоном подошел и взял ее руку. — Что же, Машенька, вы молчите? Скажите что-нибудь! Вы должны освятить наш союз!
Горшенин видел, все это время жена тихо сидела, почти закрыв глаза, чему-то улыбалась. А теперь медленно поднялась, давая Голубовскому целовать свою руку.
— Очень вас сладко слушать. Соловьи, соловьи… Не знаю, что и сказать. А вы завтра ступайте-ка на рынок да зайдите в лавку, где пьяный Михеич звериные шкуры принимает. И увидите: у него на крюке лосиная кожа. Михеич скоблит ее ножом, посыпает солью и вас всех завернуть в нее хочет. Вот вам и все наше земство. Все ваши статейки и пьески…
Поднимались притихшие и смущенные.
— Пора, пора, засиделись!
— Маша устала…
— Алеша, спасибо!..
Уходили, оставляя неубранный стол.
8
Город ночной и морозный. Железное, седое от инея дерево срубов. Тусклые замки и засовы. Наледи в водостоках. Скрип на снегу. Редкие тени прохожих. И чей-то в проулке голос, захлебываясь хрипом и холодом, отрешенно поет: «Подарила мне цветочек, красный, белый, неживой…» Горшенин сидел у окна и смотрел на старый корабельный фонарь в медной оковке с выбитой надписью «Св. Николай», доставшийся ему по наследству от прадеда, светивший сто лет сквозь тусклые сибирские ночи. «А теперь его свет — для меня, и пальцы мои в керосине, Маша, не попав в его луч, отделенная от меня полутенью».
— Алеша, уедем отсюда! Сейчас, сию же минуту! Нам недолго собраться. На поезд — и к утру далеко. Уедем, Алеша!
— Маша, куда и зачем мы уедем?
— Да куда глаза глядят, только бы не глядели больше на эти заборы, засовы, на убогое, истлевшее дерево, вот на эти потолки в трещинах, на эти косяки сырые. На лица, на улицы, вывески, на этот ужасный театр. Бежать! Мочи нету!
— Отчего? Так вдруг? Что случилось?
— Они говорили: начало, новая эра. Городков, он наивный, несчастный. На лбу написано, что несчастный. Здесь не начало, а конец. Кончилась целая жизнь. Не наша с тобой, а большая, до нас. Тянулась, тлела, и остался последний огарочек, чадный. Гаснущий этот фонарь. Это мы, про нас… Уедем, убежим! Надо сменить этот воздух, этот город и, если можно, сменить имена, обличья, оставить их здесь умирать, а самим убежать. Да хоть проводницей в вагоне. Чаек по утрам, веничек, трусь-трусь, пассажирские хаханьки, за окошком день — ночь, день — ночь, а об этой жизни больше не вспоминать. Уедем, Алеша!
— Маша, как я уеду? Мама все время болеет. Бабушка на ладан дышит. Вот-вот ее не станет, денечки ее считаем. Уеду, а на другой день и случится… Живут потому, что я здесь. Так кровно все связаны. Одному больно, а другой плачет. Сторожу их вздохи, их печали, их последние дни. Да и город-то наш сторожу, засовы, которые запираться не могут, вывески, на которых ничего разобрать невозможно. Сторожем здесь поставлен. Как мне уехать?
— Что сторожишь-то, Алеша? Какой ты сторож, кладбищенский? Ходишь со своим фонарем, освещаешь кресты. Здесь все уже умерло. Давным-давно! Все прах и тлен.
— Прах и тлен… Но ведь прах-то дорогой. Тлен-то бесценный. Может быть, дороже его и нет ничего, в него обратились твои милые, близкие. Неужели от них бежать, когда зовут, умоляют? И чувство такое, что все они подлежат воскресению. Не знаю уж как: чудом ли, кистью моею… Их толпы, родня, соседи, отец, врач Глеб Гаврилович, тетка Анюта, известные, полузабытые. Гудят во мне голосами, просятся обратно в эту жизнь. Они никуда не ушли. Глядят то из чайной ложечки, то из старого фонаря, то из луны, то из половицы. Вон видишь — лист бумаги. Непрозрачный, глухой. Но если прислушаться, он чуть слышно звенит. Будто бьются мотыльки о стекло. И если раскрыть, вылетят их бесцветные, бестелесные души, всей несметной толпой, обретут свою плоть. А я смотрю на кисти, на краски и думаю: если не я, то никто.
— Думай, думай. Пока ты их воскрешаешь, я-то у тебя погибаю. Я задыхаюсь. Ты хочешь дождаться, чтобы я умерла, а потом меня воскресить? Что умерло, то для тебя и ценно? Ну а живым что делать, если они жить хотят, если им тошно, если они здесь места себе не находят? Кто их спасет? Городков? Или Творогов? Или пьяный Михеич в лавке?
— Маша, это пройдет. Это бывает. Это минута такая… — растерянно, беспомощно он тянулся к ней, не зная, чем помочь.
— То-то и оно, Алешенька, что пройдет. Есть мы, и нет нас.
— Тебе со мной худо, да?
— Нет, Алеша, не то… Я все думаю: мне бы себя задавить какой-нибудь тяжкой работой. Чтоб ни вздохнуть, ни разогнуться. Кули с мукой таскать. Или баржи лесом грузить. Или дрова колоть. Чтоб намотаться за день, а к ночи бух в кровать и забыться. Или лучше, как наши бабки-прабабки, рожать и рожать, год за годом, чтобы все силы, все соки — детям! Чтобы ни дня, ни ночи, а в кормлениях, в заботах, в страхах. Но я ведь и этого не могу. И этим меня обнесло. Вот, скажешь, и места себе не находит. Может, это нерожденные дети мутят и мутят меня, зовут вон из дому?
— Машенька, это пройдет… Я сегодня рисовал ту нашу давнюю трапезу…
— Ты мой милый, мой добрый! Я ведь вижу твои тайные мысли. Тебе бы сына… Тебе бы сына, да дочь, да еще сыновей, дочерей. Не будет тебе со мною добра. И мне не будет, я знаю. Я уж лучше уеду. А иначе беда… Мне кажется, вот охватит нас с четырех углов, и сгорим. Огня на нас, Алеша, огня! На все наше старое древо, на все наши прежние мысли! Да ведь он уже, огонь, занимается!
Горшенин гладил ей волосы, длинные, до острых плеч, чувствуя, как они вздрагивают:
— Пушкарев-то, директор, я ведь тоже слушал его… Он правду сказал — мертвая ветвь. Здесь, в нашем Ядринске, целые роды и семьи вяли веками, бились о низкое небо, о холодную воду, о мерзлую землю. Мы — последние, и вся наша мука — от них, от исчезнувших. Эту муку завозили сюда по этапу, на фельдъегерских плюмажах, в золоченых табакерках петербургской тончайшей работы. Уж это место такое — Ядринск. Другого нет в Сибири, а может, и во всей России. Исчез давно старый Петербург, Москва десять раз свой камень меняла, а Ядринск стоит, как был, ни одного нового дома не выстроено. И бог весть что здесь сохранилось, какой сон течет под луной, что там ночами грезится нашим горожанам, о чем сверкнет на ходу синеокий старушечий взгляд, о чем таком улыбается на базаре татарочка в лисьей шапке. Вот откуда твоя тоска. Она не твоя, а наша общая, вековечная, ядринская. Мы, Маша, с тобой похожи, мы очень с тобой похожи. И чувство огня и пожара… И этот наш вечер сгорает, как та наша давняя трапеза. Что же нам делать? Только верить, любить. Знать, что и до нас любили и верили, и нам завещали. И силой этой веры, любви через все огни и пожары мы не умрем, а воскреснем…
— Алеша, мой добрый Алеша… Ты прости меня… Это бред, наваждение… Не слушай меня… Иди ко мне! Нам только любить и верить… Мой милый Алеша…
Фонарь прогорел и погас. Но там, за окном, за трубами, пахнущими дымом и стужей, за темным крестом мертвой церкви, начинало слабо сиять. Сильней и сильней. Тихий шум и плеск и свечение. Озарился столб колокольни. Полыхнули под карнизом сосульки. И в свете и плеске, пригибая дымы, разбрасывая яркие искры, в небе возник пароход. Колотил колесами, и были видны его медь и труба, красно-белая надпись на борту «Св. Николай», и флаг за кормой, серебряно-влажный. Проплыл и канул, оставив мерцание и звон. Тише, тише — и смолкло…
Пусто. Замки на воротах. Бег одинокой собаки. За черными срубами, захлебываясь хрипом и холодом, кто-то отрешенно поет: «Подарила мне цветочек, красный, белый, неживой…»
9
Маша спала. Горшенин убрал со стола, вымыл и вытер посуду, стараясь не звякать, испытывая нежность и жалость к жене. На глаза ему попался ее тулупчик. Рукав расползся по шву. И Горшенин, достав иглу, зашил его суровой ниткой, вдыхая знакомые ароматы овчины, легкий запах ее духов, одежд и другой, чуть слышный, театральный запах кулис и подмостков.
Маша пропадала в театре, задерживаясь на репетициях. Ставили новую пьесу. Что-то не клеилось. Маша нервничала, раздражалась. Правила и черкала роль. Листочки с переписанной ролью валялись повсюду, и Горшенин, желая понять, что тревожит и мучит жену, взял кипу страничек, начал читать.
То ли неясность письма со множеством зачеркнутых слов, то ли мысли об истекшем дне, — но он не мог увлечься, проникнуть в замысел, отыскать ту незримую ось, вокруг которой вращалось действие.
Отложил страницы. Подошел к верстаку.
Натянутая на подрамник, стояла парсуна неизвестного мастера. Сквозь копоть и трещины виднелся воин в казачьем костюме с бердышом и пищалью. Над его головой, уже расчищенная Горшениным, летела красная птица. Голубовский считал, что воин на парсуне — Ермак.
Горшенин медленно, вечерами, реставрировал картину. Бережно раскрывал старую живопись. Укреплял, не давал осыпаться, волнуясь от мысли, что повторяет движения исчезнувшего живописца, несет в своих зрачках блеск других, исчезнувших глаз.
Он работал растворителем, снимая легчайшими касаниями кисти столетний нагар с птицы. Пламенно-красная, она напрягала крылья, казалась теплой, почти живой. Нанес на нее драгоценно-прозрачный лак, и она вдруг стала стеклянной, и он увидел сквозь ее прозрачную грудь, как бьется в ней маленькое алое сердце и зоб дрожит в тихом клекоте. Выпорхнула из-под кисти, пробила со звоном стекло, вылетела в ночь. Металась, взмывая и кувыркаясь, облетая золотеющие купола. Исчезала, превращаясь в крохотный красный уголь. Вернулась на верстак, дыша мягкой грудью, принеся на клюве крупинку золота. И Горшенин ласкал ее отшлифованные полетом крылья, наносил последний горячий мазок.
«Ночь, старый Ядринск стиснут морозом, и печи в домах остывают после полуночи, Маша спит, в ногах ее старый тулупчик, мои пальцы перепачканы краской, и у глаз — стеклянный, огненно-красный изгиб крыла, и зоркость моя, и радость посреди ночи, посреди снегов, сонных деревень и лесов».
Он снова тронул странички пьесы и другими, преображенными знанием глазами начал читать. И то, что прежде лежало прахом, вдруг воскресло для жизни. Неслись черно-белые птицы, похожие на ночи и дни. И среди них — одна, яркокрылая, похожая на алое диво.
Атака в степи. Кони катятся, как медные литые шары. Рвутся сухожилия, лопаются вены в глазах. Лава — в стрекозином блеске поднятых сабель. Ветер срывает с голов шапки, вся степь в растоптанных шапках. Всадник бьет в тарелки над лохматой конской башкой, орет в звоне. Другой разворачивает во всю грудь гармонь, душит в руках малинового зверя. Третий поднял вверх трубу — раздирающий вой тонкой меди.
Бородатый мужик лупит плетью коня:
— Куды, волк, куды? Овса не видал? От тебе, от тебе, дьявол! — розовый пузырь вздулся на конских губах.
Парень целует коня в горячие уши:
— Булан, Булан, милый! Ну теперь выручай, теперь выручай! А я тебя не забуду! — Конская пена ему на лицо.
Матрос закусил на ленточках золото, пустил над собой веером шашку:
— И-ех, яблочко цвета конского, покатилося в степь задонскую! — Шмякнуло ему в грудь чьей-то шашкой. Калмык из-под лисьего меха мерцает зеленью глаз, грызет плеть зубами:
— Шайтан, кулды-мулды! Офицер рубить будем! И-ии, ох-ох! — Завизжал вместе с конем.
Бледный малый схватился за цепку на шее, крестит лоб саблей:
— Осподи, помилуй! Осподи, помилуй! — Конь дьяволом на него обернулся.
Два коня трутся рядом боками, свили хвосты в одну свистящую косу. Два бойца глядятся друг другу в лица.
— Слышь, Петь, если что — матери расскажи! В обозе письмо, отдашь! — кричит один, посылая вперед луч от сабли.
— Брось, Федька! Сам с матерью расцелуешься! А шапку твою с письмом пропьем! — кричит второй, слыша, как на саблю его уселись свистящие птицы.
— Слышь, Петь, сапоги тебе оставлю и рубаху чистую, ненадеванную!
— Эй, брось! Сапоги сам спляшешь, а рубаху девки бисером разошьют!
Сабли ложатся в воздух крестами. Впереди плетни, огороды, далекие купы подсолнухов. Первые вспышки выстрелов.
Горшенин сидел над страницами пьесы, испещренными рукою жены. Красная птица смотрела на него не мигая.
10
Он любил эти ночные часы. Тишина, темнота. Поиск в ночи.
Он — раскрытый в небо радар. Плавно качает антенной, процеживает небо. В закрытых глазах, на экранах — бесчисленные малые искры. И внезапная вспышка. Ярче, сильней. Дрожит и пульсирует, вызывает боль и тревогу. Слабый сигнал, принятый из небес. Мольба о спасении. Весть о гибнущей, охваченной пламенем душе, падающей книзу. И он в тревоге, в панике. Шарит антенной, стараясь понять: где источник страдания? В каком участке вселенной происходит бедствие?
Тут, на Земле. А точнее?.. Беда в Ядринске, здесь, под боком… Близко, за Иртышом, в слободе Кондашевке. В доме, где мама и бабушка… Бабушка!
В этот час, думал он, вся длинная улица темна, непроглядна. Только в доме, на втором этаже, бросая отсвет на снег, одиноко и желто горит окно. В комнате, знакомой до трещинки на старинном буфете, мать, полуодетая, опустошенная, сидит молчаливо, без слез. Среди склянок, бурей разворошенных предметов, на ярком свету — бабушка, маленькая, неживая.
Видение сорвало его с места. Накинул шубу. Нахлобучил шапку. Не веря, моля, возвращая вспять образ, отдаляя его назад, в мироздание, превращая снова в звездную точку, бежал по морозу. Силой любви и души гнал в обратную сторону время, воскрешал ее хрупкую жизнь.
Пронесся по рынку, где на голых, луной залитых прилавках блестела подсолнечная шелуха, темнели застывшие лужицы брусничного сока. Миновал пустынную, без теней, площадь с ледяной колеей, с жестяными старыми вывесками и одной подновленной, тускло-глянцевой. Пробежал белый каменный короб бывшего постоялого двора, развалившийся, со щербатым дверным оскалом. Вынесся на ветреный, метельно-жгучий простор Иртыша, изломанного льдами, — след прошедшего осенью последнего каравана. Бежал и поскальзывался по накатанной, в наледях, дороге, глядя на мутные ночные вспышки огней на том берегу, на зарево стройки. На заречную Кондашевку надвинулась вдруг из снежных лугов и лесов железная труба газопровода, уткнулась в деревянные улицы и грызет их, долбит, осыпает искрами. Вот и берег, проулок. Скрипят упрятанные в снег тротуары. Звякнул знакомо мосток. Ближе, ближе. Сейчас возникнет окно, желтый свет на сугробе. Не гори, не гори! Погасни! Вывернул за угол. Встал, дыша остро паром. Двухэтажный бревенчатый дом. Черные, в лунной слюде окна. Обломанная резьба по карнизу. Натоптанный снег у ворот.
Горшенин стоял утомленный, чувствовал морозное жжение в ноздрях. Не умел объяснить: то ли время и впрямь отступило, вернулось в предчувствие, укрыло в себе до срока будущую ночь, горящее окно, мать, сидящую среди склянок с лекарствами. То ли пережитый им страх был еще одной вестью о буре, долгие годы летящей из неба. За луной и за тучами, в иных мирах и пространствах налетает комната с желтым горящим окном.
Он стоял, замерзая, смотрел на лунное мерцание стекол. Собака, мелькнув загривком, пробежала и канула в тень.
Он был здесь днем, приходил купать бабушку. Мать болела. Ей было не под силу топить, носить воду, наливать жестяную ванну. И Горшенин с утра, разведя печь, накалил переднюю комнату, «залец», как они ее называли, натаскал ведра с горячей и холодной водой, отшучиваясь, отмалчиваясь на материнские раздражения и возгласы.
Бережно, боясь своей силы, чувствуя бабушкину непрочность, страшась повредить и нарушить ее хрупкую жизнь, он омывал ее, удивляясь: вот из этого малого тела вышла на свет его мать, он сам, весь грохочущий век со смертями и гибелью близких, весь мир с облаками, хлебами, — еще держится, колеблется, связанный с бабушкой тонкой сухой пуповинкой. И пока она жива, на свету, через этот невидимый стебель соединяет его, Горшенина, с иным, потусторонним временем, с иными голосами и лицами, с исчезнувшим светом и воздухом, который жив, пока она жива, и умрет, если ее не будет.
Он проделал все, как велела мать. Вымыл ее и отер. Одел в чистые одежды. И она, посветлев, но и страшно утомившись, без сил, едва переставляя ноги, поддерживаемая им, перешла в прохладу соседней комнаты, улеглась на кровать. Он накрыл ее клетчатым пледом. Она вдруг поймала его руку, сжала, потянула к себе:
— Алеша…
— Что, ба?
— Вот теперь бы и умереть… Чистая…
И опять в нем неумение, незнание, что сказать и ответить.
Бабушка, обессилев после купания, дремала, плед чуть вздымался дыханием. Мать, тоже без сил, растратив их на волнения, прилегла, накрыв себе ноги пестрыми шерстяными подушками. Горшенин сидел в качалке, погрузившись в ее ветхую удобную глубину. Слабо покачивался, прислушиваясь к похрустыванию половиц. Мать, поглядывая на бабушку, говорила:
— Вот сейчас заснула, и до ночи. Спит, спит, а среди ночи проснется и начнет звать: просыпаюсь, бегу, несу ей то, это. Только лягу, засну, опять. Вся ночь разбита. Под утро она у меня позавтракает и опять засыпает, а я уже не усну. Хожу весь день, ноги едва волочу. А потом все опять повторяется. Все у нее перепуталось — день, ночь. А я не знаю, сколько я могу продержаться…
Он слушал, слабо покачиваясь.
Давно, когда мать выходила на пенсию, помнил, как надеялась она обрести наконец свободу, весь вдовий век промаявшись в Ядринске, остаток сил и лет посвятить путешествиям. Побывать в любимых с молодости Москве, Ленинграде. В приморских пальмовых городах. Мечтала о Киеве, о Владимирской горке, откуда повелась русская слава.
Но ни разу не выехала из своего двухэтажного дома. Бабушка старела, дряхлела, быстро выпадала из жизни. Нельзя ее было оставить ни на день, ни на час. И это угасание, казавшееся сначала мгновенным, растянулось на долгие годы, захватило в себя и ее. Мать и бабушка, связанные неразлучно, обе старели среди столетнего осыпающегося дерева, теряющего резьбу, завитушки. И мать иногда роптала:
— У нее ведь знаешь как? То выпадет светлый день. Ясная, тихая, говорить начнет, да так складно. Молодость вспоминает в таких подробностях, удивляюсь! Как венчалась, гостей по именам, диву даюсь! А то вдруг затмение. «Ты кто? Ты кто?» — на меня. Ей что-то мерещится, что-то ужасное. Вскрикивает, оглядывается по сторонам. То наводнение — какие-то дрова у нее плывут. То ее преследуют видения, она мучается и потом без сил лежит пластом, как мертвая…
Цветастые шерстяные подушки на материнских ногах, истертые и линялые, чуть подсвеченные и оживленные солнцем. И мысль: если бабушка умрет, то мать, постарев мгновенно, займет место бабушки под клетчатым пледом, а он, Горшенин, — материнское место, накрыв себе ноги подушками. И все сместится, приблизится к той черте, за которой все исчезает. Бабушка своим щуплым, худеньким телом, как плотиной, держит, отделяет от них темную бездну, и они ей не в силах помочь, лишь видят, как начинает сочиться тьма из ее потухших очей, безжизненных черт. Не станет бабушки, и тьма эта хлынет на мать, ее превратит в плотину.
И теперь сквозь солнечный луч и порхание пылинок он следил за дыханием бабушки, стараясь припомнить, каким было ее нестарое родное лицо, певучий, любовно звучащий голос, когда она говорила ему: «Ты ангел души моей!»
— Раньше хоть чай поднималась пить. А теперь и к этому равнодушна. Лежит, все лежит. Одену ее, посажу в кресло, а она опять ляжет. Совсем ослабела. Не знаю, не знаю…
Он понимал это «не знаю, не знаю»: бабушкино старение — как медленное исчезание, будто с иртышской кручи сползает вечернее солнце и уже подножие с черно-бурлящей водой в тенях и туманах, а на самой вершине, на пучке летящей травы, задержалось и бьется последнее живое пятно. Бабушка вся уже умерла, вся не с ними. Им остался лишь крохотный, узнаваемый лоскуток, и они с матерью держат его в руках, стараясь оберечь, но и он на глазах исчезает.
— Не знаю, не знаю… — повторила мать тихо.
Матери хотелось говорить. Она искала сочувствия.
Жаловалась на соседей:
— Этот Мызников наш — такое несчастье! Как он над Клавой своей измывается! Вчера опять пьян явился и ну кричать, ну кричать, и даже бил ее, кажется. Она к нам прибежала, у нас заперлась, а он, громила, колотится: «Отдайте ее! Высажу дверь!» А ведь в детстве такой был тихонький, слабенький, вечно к тебе приходил в игрушки играть. Дам ему сахар, сосет и всхлипывает.
Он чувствовал усиление боли и одновременно усиление любви. Любовь, боль. Любовь, боль… Больше боли…
— А Ивана Тимофеевича встретила на лестнице третьего дня. Стоит такой тихий, такой горестный. На палочку свою опирается. «Здравствуйте, — говорю, — Иван Тимофеевич, как здоровье?» — «Погасло, — говорит, — у меня в глазу, совсем погасло. То хоть в одном чуть брезжило, чуть светило, а теперь погасло, тьма полная…» И пошел, пошел, палочкой тук-тук-тук. Хороший он, Иван Тимофеевич…
Любовь, боль. Любовь, боль. Больше боли…
— А что же Маша-то твоя совсем о нас забыла? То забегала, бывало, а то ни ногой. Все репетиции? Все скачет? Не знаю, какая уж она артистка. А за тобой плохо смотрит. Похудел, побледнел. Все хвать да кусь! Так нельзя. Говорила тебе, приходи к нам обедать. Материнский-то стол все сытнее…
Любовь, боль. Любовь, боль. Больше боли…
— Алеша, а ты ведь последний Горшенин! После тебя не останется. Сколько их было! Казалось, какой род могучий! Всех подобрало, смыло. Неужели, Алешенька, никого после себя не оставишь? Неужели и впрямь ты последний?..
И в нем — такое бремя любви и страдания, непосильный избыток боли, невыносимый, через край, через слезы, что он торопливо поднялся, неловко обнял мать, поцеловал седой материнский висок и слепо, натыкаясь на углы, выскочил, слыша за собой ее слабый возглас.
…И теперь, среди ночи, он стоял перед темными окнами, ловя сквозь мороз их теплое излучение.
11
Закрывая двойную кожаную медноклепаную дверь кабинета, в то же время движением бровей, раздраженным взглядом отсылая прочь секретаршу: «Да, два часа не пускать! Да, никого, ни единого! Никаких телефонов! Геологи подождут, успеют! Янпольский? Статья в газете? Какая, к шуту, статья? Потом, потом! Никого!» — и уже идя от запертой двери, в повороте, неуловимо меняя выражение лица на веселое, любезное и подвижное, Пушкарев вернулся к столу, не к рабочему, в телефонах, бумагах, а к длинному, краснополированному и пустому, за которым недвижно, тучно сидел управляющий трестом Хромов. Набрякший, багровый, твердый, похожий на корнеплод. И только маленькие синие глазки дергались быстро и весело и в углах заплывшего рта, среди жестких морщин, тонко держалось лукавство.
— Ну вот, нас теперь не достать! Чувствуйте себя спокойно, как в бункере… — и занял место напротив, гостеприимный хозяин.
Титульный список строительства лежал перед ними. Белый листок с перечнем предстоящих работ, с их миллионными стоимостями. Пушкарев, не читая, по одной длине строчек, знал рисунок предстоящей борьбы. Хромов взглядом тянул к себе миллионы, попридерживая насыпи, свайные поля и дороги. Пушкарев выдавливал из него объекты, платя не щедро, скупясь, выкладывая казну за готовый товар. Скрываясь за любезностью, испытывал к нему неприязнь, недоверие, к его раскормленной, распиравшей пиджак груди с ромбиком-значком, к розовеющей сквозь волосы голове, к перевернутому в стол отражению. «Валет, ну просто валет двухголовый, бубновой масти!» — усмехался он значочку в петлице.
— Что ж, Антон Григорьевич, начнем новый раунд? Постараемся быть объективными. Максимум доверия, минимум разногласий.
— Вы, Петр Константинович, часом, не в Министерстве иностранных дел работали?
— Я предлагаю, Антон Григорьевич, поэтапный подход. И путем, так сказать, взаимных уступок, в духе взаимопонимания прийти наконец к соглашению.
— В духе Хельсинки, Петр Константинович?
Они посмеивались, глядя один на другого, не любя, но зная друг другу цену, понимая свое двуединство, которым держалась стройка, свою борьбу, нелюбовь, из которых рождалось любимое их дитя — комбинат.
Зеркальный стол. Хрустальная пепельница. Одинокий листок бумаги. Две сигареты с тонкими голубыми дымками.
— Нет, я вас спрашиваю, вы подтверждаете мне эти объемы и сроки? — Пушкарев задыхался дымом, оскалясь, скосив подбородок, выдувая на титульный лист табачную гарь. — Подтверждаете или нет?
— Не знаю. Не готов отвечать…
— Почему не готовы?
— Не готов.
— Нет, отвечайте!
— Вы эту идею неделю продумывали, мне подсунули и хотите, чтоб я вам разом ответил. Дайте и мне тоже подумать.
— Нам с вами некогда думать. Вы мне к весне должны от порта к основным стройплощадкам дороги отсыпать, уложить полотно и пустить рабочие поезда. Чтоб я с навигации мог сразу от кораблей везти оборудование на объекты. Чтоб не было свалки в порту. Чтоб не губить в этой свалке реакторы. А вы говорите — подумать! Тут некогда думать. Да или нет?
— Наверное, нет…
— Как же так? В обкоме вы обещали. На штабе стройки вы обещали. В конце концов, нас с вами обязали обоих!
— Ну, это политика! А у меня не хватает ресурсов!
— Каких ресурсов?
— Сами знаете, каких. Мне нужно, как минимум, еще сто пятьдесят самосвалов. А пришло только сорок. С горючим перебои, половина машин простаивает. Бульдозеры, экскаваторы на этих грунтах и морозах летят, как игрушки, чини да чини, а ремонтная база — горе одно. А вы меня все гоните, не даете тылы наладить. Вот вам и ресурсы!
— Ну, знаете, надо быть справедливым! Сорок самосвалов — это только первая ласточка. Идут еще шестьдесят, лучше меня знаете. Затем валюту вам выделили, будете западногерманские грузовики получать, «магирусами» вас комплектуют. Перебои с горючим — неделя, две, не больше, непостоянный фактор. Это уже решается, обком занялся. А что касается ремонта, так прошлой зимой ни мастерской, ни станков, ни калориферов у вас не было. На пустом месте, на морозе, голыми руками чинили и вроде не жаловались. А теперь закрытые мастерские отгрохали, тепло провели, и нате вам — ремонтировать негде!.. Это не разговор! Не могу принять возражения!
— Послушать вас, сладкая получается музыка, Петр Константинович. Нравится мне ваша музыка: «не могу принять».
— Кто платит деньги, тот и заказывает музыку, Антон Григорьевич!
— Очень хорошая музыка, просто заслушаешься!
— Оба под нее пляшем, Антон Григорьевич, ничего не поделаешь!
— Да что-то не вытанцовывается! Вы говорите — дороги отсыпать. А где, спрашивается, обещанные карьеры? Где песок? Почему новые карьеры не открываете? Чем я вам сыпать буду? Манной небесной? Это вам раз!.. Второе: где документация на отсыпку дорог? В районе порта, в черте города насыпь проходит. Там дома попадают под снос. Вам этот снос горисполком утвердил? Нет? Вы мне документацию еще толком не выдали, а уже сроки требуете. Да я вправе вообще закрыть глаза и уши — ничего не знаю, не ведаю. Никаких сроков! Кладите на стол проектную документацию, тогда и разговаривать станем!
— Проектная документация есть, вы прекрасно знаете! С домами еще горисполком жмется, свои развалюхи жалеет, но мы на них через область надавим. Так же и с карьерами. Думаю, Бужаровский карьер через пару недель откроем. Опять район артачится, им там, видите ли, луговину жаль, а что стройка готова встать, на это им наплевать! Ладно, с этим уладится. Сможете технику в Бужарово гнать, на отборный песочек! Так что все ваши увиливания, Антон Григорьевич, как на ладони… Итак, я снова вас спрашиваю: подтверждаете вы мне эти объемы и сроки?
Дым. В хрустале окурки. Лукавые синие глазки.
— Хорошо, Антон Григорьевич, согласимся на компромиссном решении. Но все-таки будем еще раз говорить специально по этой позиции. Теперь еще один вопрос…
Он чувствовал нежелание Хромова, его осторожную неуступчивость, неохотное следование его, пушкаревским, требованиям: вперед, вперед, пусть с жертвами, пусть с потерями, но вперед, в самое пекло, в сердцевину работы, на центральные стройплощадки, где должен задышать комбинат, и с первым вздохом и пуском, искупающим все потери, можно оглянуться, сбросить сверхнапряжение, подобрать огрехи. Но это потом, не сейчас: сегодня — комбинат, комбинат!
Он знал: Хромов на ледяном пустыре своим опытом, хитростью, неусыпным радением совершил почти невозможное. Создал строительную ударную базу, костяк управления. Заманил, закупил лестью, посулами, дружбой инженеров, и они за минувшую страшную зиму сколотили штурмовые группы, зацепились за лютую землю, начали рвать тайгу. Но сил пока что не много. Их размывает, разносит. Изнуренные первым броском, люди выбывают из строя, откочевывают в края потеплее. Техники не хватает. Рабочих, шоферов в обрез. И управляющий трестом подтягивает и собирает тылы, наращивая мощь для удара. А он, Пушкарев, понимая его беды, движим иной заботой: сроки, весна, навигация, газоводы, идущие с севера, грядущий неуловимо короткий момент их стыковки и встречи. Комбинат, комбинат!
— Так вот, еще один вопрос… Почему на участках наливных эстакад сваи не бьете? Почему со сваями тянете?
— Какие там сваи? Там еще лес не убран. Как срезали осенью, так и лежит. Какие там сваи?
— Почему не убираете лес? Срезали — вон с участка! Законсервировали площадь. Вам здесь к весне эстакаду выводить, а вы лес не убрали!
— Мы строим обводные дороги, чтобы лес вывозить.
— Зачем мне ваши обводные дороги? Они вам нужны, а не мне. Комбинату они не нужны. Денег на них не дам.
— Дороги нужны. Чтобы лес вывозить. Денег не дадите, лес так и будет лежать.
— Сожгите!
— Кто вам позволит? Лесники хай поднимут.
— Не поднимут. Бросовый лес, мелколесье. Строевой древесины нет. Дрова да гнилье. Сожгите!
— Бумага будет? Минлеспром дает добро?
— Уже дал добро. Бумага идет. Жгите, вам говорю! Вы, как юннат, Антон Григорьевич, честное слово! Скворечни мы с вами строим или комбинат?
— И то и другое, Петр Константинович, и то и другое…
Пушкарев, теряя терпение, давил в себе гнев. Отшучивался, хитрил, балагурил. Глазами отшвыривал от себя хромовские толстые щеки, потный розовый лоб. Опять приближал. Вспоминал, как прошлой зимой встретил Хромова в автоколонне, в теплушке-вагончике, когда шоферы, измотавшись на смене, вповалку спали, а брошенные машины отдавали тепло, остужали моторы под черными раскаленными звездами. Хромов умолял, угрожал, выкрикивал что-то о деньгах и о долге. Потом грубо, по-мужицки послал их ко всем чертям, хлопнул дверью вагончика, тяжело и грузно полез в кабину и завел самосвал. Шоферы сонно выходили из тепла на стужу, стояли медлили, угрюмо поверив ему и на этот раз, взялись за баранки, двинули машины в тайгу.
— Хорошо, Антон Григорьевич, за эти пусковые объекты мы с вами оба спокойные. Хлебозавод вы мне днями сдаете. Хотите, вашим именем назовем? Не хотите? Не надо… Так… Автомост, загляденье, построили. В Москве таких нету. Может, его назовем вашим именем? Тоже не хотите? Не надо… А вот очистные сооружения вы как ни отказывайтесь, а сдайте мне в этом году!
— Я знаю, Петр Константинович, вы бы очистные сооружения с удовольствием назвали моим именем, и я не возражаю, потому что, если правду сказать, частенько в дерьме купаюсь. Но в этом году очистные сооружения мы не сдадим.
— Мы же договорились как будто? В прошлый раз вы почти согласились!
— Именно — почти!
— Что ж мне, по-вашему, город не строить? Как мне жилье вводить? К чему подключать прикажете?
— Придется пока что к старым трубам.
— Вы шутите? Да они на пределе! Вот-вот прорвутся!
— Какие там шутки! Понимаю. Но в этом году не сдадим.
— Я буду жаловаться на вас в министерство.
— Жалоба вам не поможет.
— Почему?
— Не поможет!
— На следующей неделе — штаб. Вынесу этот вопрос на штаб. Скажу секретарю обкома — Хромов срывает строительство города. Я прекращаю финансировать стройку!
— Так вы не скажете.
— Скажу! Хромов саботирует сдачу объектов!
— Так вы не скажете.
— Скажу! Постоянно, с первого дня, Хромов ставит мне палки в колеса! С первого дня игнорирует генеральную линию стройки, постоянно увиливая, распыляя средства по мелким, второстепенным объектам, вечно ссылаясь на объективные причины, маскируя за ними субъективное нежелание. И если сроки пуска комбината поставлены под угрозу срыва и государственные миллионы вот-вот начнут утекать сквозь пальцы, то это, разумеется, и моя вина, как генерального директора, но лишь потому, что генподрядчик, то есть товарищ Хромов, отказывается понимать основную стратегию стройки и в силу своего недомыслия…
— Прошу вас, Петр Константинович, оставить эти выражения для штаба. Сейчас я слушать их не намерен…
— Нет, послушайте!
— Нет, не намерен!
— Мы с вами не сработались, Антон Григорьевич, не сработались!
— Да уж как хотите, Петр Константинович, как хотите!
— Да так и хочу!
— Как хотите!
— Так и хочу!
— Как хотите.
— Вот так вот и хочу!..
И умолкли. Сидели, покрасневшие, злые, не терпящие один другого. Медленно остывали, отвернув лица, дымя сигаретами.
— Черт те что… нервы… — Пушкарев в досаде, но и примирительно, исподлобья взглянул на Хромова.
— Именно нервы. Беречь надо… — ответил тот как будто еще обиженно, но уже не желая сердиться дальше.
— Да где там беречь! Вы-то что, бережете?
— А то нет! Берегу. Развлекаюсь…
— Это как же это вы развлекаетесь?
— Ну, в театр хожу…
— Вы? В театр?
— Очень люблю… Советую… Нервы хорошо успокаивает.
— Что ж, и артисток всех знаете?
— Кое-кого и знаю.
— А Горшенина есть такая?
— Есть такая. Это ихняя прима. Звезда, по местным масштабам.
— Вот уж не думал, Антон Григорьевич, что вы такой театрал!
— Нервы успокаивать надо. Вот вы их мне сейчас измотали, и вместо того, чтобы в больницу, я в театр. Восстанавливает духовные силы…
И, слушая управляющего, уже не испытывая к нему недавней вражды, Пушкарев вспомнил ярко и сочно: наледи солнца, истерзанный красный снег, плачущее бледно-прекрасное молодое лицо, и в нем, Пушкареве, от виденья — внезапная, похожая на сладость тревога, желание ее снова увидеть. Пронеслось на мгновение. Исчезло…
Лакированный стол. Пепельница, набитая до отказа окурками. Похожее на валет отражение. И с новым запасом терпения, глуша в себе личное, едкое, он продолжал:
— Так вот что я хотел вам сказать, дорогой Антон Григорьевич. Прекрасно понимаю все ваши трудности, но давайте через «не могу», через силу, чтоб хоть к концу года, хоть под занавес, а очистные сооружения сдать…
Хромов грузно, в белых бурках, протопал из кабинета. Секретарша, выпустив его, тут же сунулась к Пушкареву:
— Петр Константинович, к вам Янпольский хотел… Статью показать в газете. Просил сообщить, как закончите…
— Да какая статья! После, после!.. Миронова ко мне, срочно!
И, усаживая перед собой заместителя по капитальному строительству, кладя ему чистый лист, косясь на окурки в пепельнице, говорил:
— Пишите, пишите… Подготовить следующие вопросы… Незамедлительно, к штабу!.. Первое… Добиться от райисполкома разрешения на открытие Бужаровского карьера… Второе… Требовать от нефтеснаба ликвидировать перебои с горючим… Третье… Ускорить прохождение бумаг в леспроме на ликвидацию нетоварного леса… Четвертое…
Он диктовал, сжав веки, вытапливая из себя недавнее напряжение. Умолк, слыша, как продолжает шуршать перо заместителя.
— Вот и все… Только с этим не медлить! Чтоб к штабу все было сделано! Довольно поблажек Хромову. На этом он будет пойман… Да, еще я хотел вас спросить… Как там со снежным городом? Стоит или снова сломали?
— Снова сломали, — ответил Миронов, поднимая от бумаги худое, болезненное, с воспаленными веками лицо. — За ночь снова сломали.
— Так, хорошо… Восстановим! Скажите архитекторам, пусть восстановят. Поглядим, кто упорней! Ладно, с этим все ясно… А слободу Захромы вы мне скоро снесете? Пускайте, пускайте бульдозеры!.. И вторая слобода за Иртышом, как ее? Кондашевка? Вывели к Иртышу газопровод — хорошо! А с насосной станцией тянут! Торопите, толкайте их! К весне, к навигации, чтоб насосная станция — в действие! С кораблями придет оборудование. В месяц поставим колонны, и чтобы сразу газом опробовать. К осени — первый продукт! Я на штабе так и скажу. Торопите их в Кондашевке!
Он закончил, отпуская Миронова. Но тот медлил, что-то пытался сказать, неуверенно двигал губами.
— Что еще? — спросил Пушкарев.
— Петр Константинович, личная просьба… Дня на четыре, на пять отпустите в Москву. За свой счет! Или в счет сверхурочных!.. Понимаете, у жены день рождения. И уже полгода не виделись…
Пушкарев оглядывал бледное, осунувшееся лицо заместителя, чувствовал его неуверенность, испытал мгновенное к нему раздражение.
— Простите, Николай Владимирович, — улыбаясь, ответил он. — Понимаю, мотив уважительный, семья, жена, день рождения. Но между прочим, автомост не достроен, и проблема городского тепла не решена, и план по земполотну срывается, и свайные поля отстают, и с гулькин нос до весны. Так что не взыщите, а отпустить не могу. Уж как-то так получилось: все мы тут холостяки оказались. Комбинат — наша жена, и дите, и невеста. Может, это и жестоко и несправедливо, но нам сейчас не до семейной жизни, ведь так? У нас тут фронт, и семьи, если они есть у кого, пусть подождут. Вот пустим комбинат, тут уже кто хочет — свадьбы играй, жен и детишек выписывай. А пока не до них. Правильно я говорю?
— Может быть… — виновато, вдруг покраснев, сжавшись под колючим пушкаревским взглядом, ответил Миронов.
— Так я вас прошу, Николай Владимирович, не забудьте про обе слободы!
И, отпуская Миронова, мимолетно подумал: ведь, в сущности, его совершенно не знает. Что там у него на душе? Каков он, его заместитель?
12
Телефоны, свесив пороховые шнуры, молчат, словно маленькие взрывные устройства. Копят ночное молчание, беззвучно сближают контакты. Замкнутся. И первым звонком вдребезги взорвут всю огромную льдину дня с вмороженной красной зарей. Лишь к вечеру упадут осколки в угрюмый, низкий закат, в мигание фар на бетонке. И ночь как воронка от взрыва.
Но пока телефоны молчат. И Миронов, пользуясь тишиной кабинета, открывает кожаный переплет, стопку приготовленных к утверждению бумаг. Читает приказы, письма. Одних касаясь пером, утяжеляя их легкость металлически-синей подписью, приземляя их. Другие оставляет пустыми, пуская на новый круг, словно аэродромный диспетчер, управляющий бумажными эскадрильями с опознавательными знаками министерств.
«Убедительно просим… доставку запчастей, — ведет глазами Миронов, — ввиду тяжелых грунтов и быстрого износа… в противном случае… пусковых объектов… не гарантируем».
Закрыв глаза, останавливает бегущие строчки… И стальная гусеница, истерев лист бумаги, звонко лопнула. Вездеход, как подбитый, завертелся на месте, колотя кормой о деревья.
«Стой, глуши!»
«Трос подводи!»
«Не могу, застыл, подсоби!»
«Чтоб им самим в болото!..»
Белый лист. Высыхающая синяя подпись.
Вошла секретарша. Мягко, радостно оглядела его. Свежая, шелестящая с мороза, излучала утреннюю домашнюю красоту, готовность слушать. Светилась улыбкой, желтым обручальным колечком.
— Вам чаю налить, Николай Владимирович? — спрашивала она каждый раз, зная его пристрастие, уже включив в приемной электрический самоварчик.
— Только погорячей. Чтоб чаинки плясали! — благодарно откликнулся он, радуясь ее молодой, светлой женственности, этой пустяковой, ставшей обычной заботе.
Она взяла стакан с серебряным, темно-литым, привезенным из Москвы подстаканником, звякнула тихо и вышла. А он погрузился в бумаги.
«Обращаясь к дирекции комбината… дополнительные сметы на оплату вертолетных работ… ускоренный монтаж оборудования».
Страница распалась… Вертолет лупоглазо и грозно, сжигая дымное топливо, пронес в когтях стальную конструкцию.
««Сто седьмой», держи координаты!»
«Дайте поправку на ветер!»
«Ровняй по оси, «сто седьмой»! Вира, вира!»
«Понял вас, вира, вира!»
««Сто седьмой» приступайте! Ставь ее, как стопку, Сережа!»
«Понял вас, приступаю!..»
Чернильный росчерк. Бумага отсвечивает алюминием.
Секретарша внесла стакан. Миронов кивнул, не взглянув, лишь заметил опускающие быстрые пальцы с обручальным колечком. Тронул губами обжигающую дымную кромку, а ладонью — серебряные, выпуклые, греющие узоры подстаканника. И вдруг по цвету, аромату, касанью вспомнил: их домашняя скатерть, жена ставит блюдце с вишневым вареньем, сын наклоняет свою детскую, с красными петухами чашку. И он так любит их далекое, оторванное от него чаепитие, так одинок в это темное сибирское утро.
«Несоблюдение мер пожарной безопасности… района прокладки дорог… и близкого залегания торфа… что вторично приводит… в кварталах седьмом и девятом…»
Огненный, чадный хруст. Ветреное ревущее пламя. Словно сдернули с сосны мохнатое покрывало, набросили на соседнюю, и та вскипает, бьется в растерзанной красной рубахе.
«Технику, технику отводи, хрен безмозглый!»
«Гля, полушубок дымится!»
«В торф не суйся, провалишься!»
«Встречный будем пускать!..»
Поставил последнюю подпись, почувствовал, как утомился. Бумаги, чуть коснувшись, унесли с собой его утреннюю силу и свежесть.
— Николай Владимирович, еще чайку? — секретарша вошла и преданно на него смотрела.
— Нет, спасибо… Я хотел вам сказать… Я очень благодарен за эти знаки внимания… Я очень, очень ценю…
— Ну что вы, такие пустяки… — она смутилась и вышла. А Миронов подумал, какая она славная, и какой славный у нее муж, и как важно, чтоб кто-то не просто тебе подчинялся, а в этом денном и нощном кручении, без милых и близких, относился к тебе сердечно, ценил твои маленькие, никому не известные прихоти.
Миронов не знал, почему секретарша смутилась. Вчера они с мужем пригласили к себе гостей. Пили вино и дурачились. Муж, захмелев, при гостях устроил ей шутливую сцену, ревнуя к Миронову. А она, смеясь, приглашая и других посмеяться, говорила:
— Ну, нашел к кому ревновать! Его и своя-то жена, видно, бросила, ехать к нему не желает. Да разве можно любить такого? Бублик, сухарь сушеный. Только в чае его и мочить! — И тут же передразнила: — «Мне бы горяченького! Чтоб чаинки плясали!»
И все смеялись ее верному, злому копированию…
Начало дня. Канонада. Будто сдернули маскировочные сетки и ударили из всех калибров. В кабинет заходили люди. Их лбы, глаза, говорящие рты, явные и тайные мысли. Каждый плюхал в него, как снаряд, оставляя вмятину. Он отвечал на удары, летящие со всех сторон, откликался на телефонные очереди. Пробегал сорванные с телетайпа депеши, вызывал людей. Одних направлял в котлованы, в варево огня и болотного пара, других — в микрорайоны, к пустым, еще ледяным коробкам многоэтажных домов.
Он подхватывал на лету изменившийся за ночь рисунок стройки: что сорвалось, что возникло. Убыстряя одно, замедлял другое. Он чувствовал давлением аорты ход огромной машины, запущенной здесь, в сумрачных ледяных горизонтах. Живая и грозная, она наращивала валы и колеса. Осыпалась, отмирала в одних частях, взбухала скоростями и ревом в других. Захватывала в себя новые земли, леса и топи. И сам он, Миронов, был думающей, живой, исчезающей частью этой гигантской машины.
Задерживалось рытье котлованов. Сверхмощные бульдозеры, сведенные в единую группу, распались по мелким объектам. Дизельные копры простаивали, ожидая простора для свайных полей. На площадках копились сваи. Весь ритм замедлялся, захлебывался. Миронов нажал на селектор:
— Елагин, зайдите ко мне…
Архитектор Елагин был несимпатичен Миронову. Молодой и холеный москвич появился на стройке внезапно. Миронова раздражала его изящная веселость и легкость, щедрое барственное радушие. Жена-красавица щеголяла в заморской шубе среди мятой кирзы и роб, обесценивая пальтушки и шубейки конторских женщин. Миронов был против, когда Елагину слишком поспешно дали квартиру в новом доме. Необъяснимо негодовал и страдал, когда на вечере Елагин вышел, несмотря на нетопленный зал, в белоснежной рубашке, с золоченой трубой и исполнил джазовое соло.
И теперь все, вместе взятое, питало его неприязнь, хотя речь велась о бульдозерах.
— Удивляюсь, Анатолий Иванович, как можно было не видеть, что строители обводят вас вокруг пальца. — Миронов разглядывал безукоризненный серо-стальной костюм архитектора. — Быть может, следовало чаще бывать на стройке?
— Но у них же были мотивы, Николай Владимирович, — оправдывался Елагин, чувствуя в Миронове тончайшую к себе нелюбовь. — Мотивы вполне объяснимые!
— Согласитесь, все наши мотивы вполне объяснимы. Разумеется, вполне объяснимы и достойны уважения те мотивы, по которым вы брали на этой неделе отгулы. Но это тем не менее помешало вам быть вполне осведомленным о работах на вашем участке. И я, к сожалению, получил запоздалую информацию из третьих рук.
— Да, мои мотивы вполне объяснимы и уважительны, — покусывая пунцовую губу, Елагин выслушивал этот язвительно-мягкий выговор.
— Ведь вы хотите связать себя со стройкой надолго, не так ли? Вы не какой-нибудь там летун или мелкий карьерист. Вы хотите до тонкости узнать производство. Понимаете, что без этого любая, даже министерская должность — липа, мыльный пузырь. Я с великим почтением отношусь к вашей решимости. Более того, восхищаюсь вашим отцом. Направил вас в самую гущу, отведать, что называется, жизни. Ведь он-то до своих-то высот ой как долго шел! С цехового мастера, если не ошибаюсь? Кто-кто, а уж он-то чужд династических веяний. Ну, этих династий известных! Ну, когда у академика и сын обязательно академик, у министра и сын министр! Толкнул вас, любимого сына, в топь, грязь, в железный вагончик. Где кирза в глине, а роба в машинном масле. Надо, надо узнать, почем что. Каков он, рабочий люд, в каких столовках питается, под какие пластинки танцует? Так я вас понимаю? — Он видел, как розовые клейма бегут по лицу Елагина. Тайно радуясь, продолжал: — Но мне, Анатолий Иванович, на правах, что называется, старшего хочется дать вам совет. Не по части саксофона, не по части трубного гласа, а насчет производства. Вы все-таки не доверяйте уж так своей интуиции. Чаще бывайте на месте. А то из-за ваших, разумеется мотивированных, отгулов опять три дня потеряли и будем их ночами наверстывать. Люди станут рвать пупы, потому что кто-то ведь должен их рвать? Ведь правда? Так или нет, Анатолий Иванович? Вы свободны, простите, что задержал…
И отпустил его, весь кипя желчью. И вдруг затих с болью при мысли о собственном сыне. Без него растет, видит и чувствует. Без него — сыновние мысли, тетрадки, рисунки. К нему бы… К ней бы… К обоим…
Он больше не думал о Елагине, кого-то бранил в телефон за огрехи на теплоцентрали…
Елагин уходил потрясенный. На этой неделе ушла от него жена. Села в самолет и умчалась в своей драгоценной шубке. Он умолял остаться, говорил, что здесь его место, здесь его выбор и цель. Она смеялась, называла болваном, звонила в Москву, в министерство. Оставшись один, разорванный и смятенный, брал свою золоченую трубу, наполнял опустевшую комнату медным печальным стенанием. Сегодня он хотел подойти к Миронову за помощью и подспорьем.
«А он по щекам, по щекам!..»
— Николай Владимирович, вы свободны? — полувошел, полузастыл на пороге, выставив локоть с бумагами, молодой инженер Буханцев. Невысокий, ловкий, пружиня улыбкой и взглядом, знал, что любим и поэтому будет принят.
Миронов кивнул, довольный его появлением, его умным взглядом, точной энергией слов и жестов.
Иногда ему казалось: люди, его окружавшие, напоминали птичий косяк с постоянной перестройкой в полете, со сменой вожаков и ведущих. Одни удивляли в первый момент могучим порывом, радостной безбоязненностью и вдруг как бы внезапно уставали, никли, тянули вниз, словно натыкались на невидимый провод. Другие держались до времени в гуще, ничем не проявлялись. Но в момент напряжения вдруг начинали мерное движение вперед, принимая косяк на себя. Буханцев был из тех, кто уже приобрел ускорение, таил в себе будущую высокую скорость, но не спешил ее обнаружить. Неторопливо, верно брал себе все больше простора и ветра.
— Николай Владимирович, выполнил ваше задание. Построил развязку бетонного кольца и проспекта. Даже в ГАИ уже был. С ними все согласовано. Не хотите взглянуть?
— Давайте!
Чертежи, выполненные аккуратно и грамотно, указывали развитие дорог в новых микрорайонах. Соединение бетонных, струнами натянутых трасс и городской магистрали, еще безымянной, называемой Проспектом.
— Ого, да вы тут даже дорожные знаки развесили! — усмехнулся Миронов, разглядывая геральдику знаков.
— Я, Николай Владимирович, составил письмо, чтоб прислали не жестянки, а стеклянные, с подсветом, как в Москве.
— А то какие же? Правильно, все самое лучшее. Для себя ведь вешаете. Машину-то покупать не раздумал?
— Не раздумал. Надеюсь, к весне. Тогда на рыбалку съездим.
— Да я не рыбак.
И они улыбались, разделенные возрастом, служебными уровнями, но знающие о своем единстве и сходстве.
— Подписываю, — утвердил развязку Миронов. И подумал: сколько упрямых жизненных сил не растрачено по русским городкам, откуда выходят вот такие, накопив в своих палисадниках, в своих флигельках и домишках стремление сбросить с себя захолустье, цепко схватиться за жизнь. И этот курянин, поначалу невидный и тихий, вдруг двинул, опережая других, легко одолевая барьеры. Миронов радовался его продвижению. Как-то в шутку сказал: «Вы, Буханцев, этот город для себя строите. Вы его мэром станете. Помяните меня!» И тот улыбнулся глазами.
— Николай Владимирович, вот, я вам хотел подарить… — Буханцев положил на стол лакированный свежий журнал. Аккуратно открыл страницу. И Миронов увидел его, Буханцева, статью: «Использование надувных сооружений в районах Сибири и Крайнего Севера». И дарственную, сдержанно любезную надпись.
— Благодарю, благодарю. Прочту непременно. Вы молодец!
— Кстати, хотел вам сказать, Николай Владимирович, мне удалось добиться первой партии надувных складов. Один уже поставили. В нем ротор для ТЭЦ разместили. Очень эффектно!
— Поеду на объекты, взгляну. Вы молодец, Буханцев!
И снова возвращение вспять. Они втроем идут по крохотным улочкам от Таганки. Ампирный дворец сквозь черный чугун решетки смеется янтарными окнами. Куст, обрызганный хрупким льдом, в синеватом фонарном блеске. Сын трогает куст, перезвон и шуршание.
Кануло…
Держал на обложке журнала свою тяжелую руку. Не знал, что вчера Буханцев, имея только два экземпляра журнала, долго раздумывал: дарить, не дарить. Буханцеву было жаль журнала, его красоты, вкусного типографского запаха, своей набранной шрифтом фамилии. Но все-таки решил подарить, полагая, что предстанет в глазах начальства в выгодном свете и одновременно польстит вниманием. Обдумывал надпись. Вкладывал в нее уважение, сердечность, понимание своей скромной при этом роли.
Он видел расположение к себе Миронова. Чувствовал свою молодую растущую силу. Знал, рано или поздно обойдет и Миронова. Но пока, не год и не два, он должен быть рядом, оберегать и питать это ценное покровительство. Поэтому, сделав надпись, он испытал облегчение, уже больше не жалея журнал. Достал записную, книжечку, внес в нее ежедневные пометки о своих расходах. Он был холостяк, копил на машину и берег копейку…
Миронову казалось, день горел, как стальной электрод. Люди являлись, и каждый нес свое электричество. Их сближение, как искра, испепеляло долю их общих мгновений и жизней. Мельчайшие раскаленные брызги застывали на растущих железных конструкциях комбината.
— Анна Валентиновна, — нажимая клавишу селектора, он вызвал сметный отдел. — Тут вертолетчики просили сметы пересмотреть на монтаж. Вы подготовили?.. Зайдите ко мне, пожалуйста…
— Сейчас зайду…
И пока шла, Миронов, как всегда, когда ждал ее появления, испытал неясное, неловкое чувство, похожее на вину, на ожидание, на продолжение чего-то, а чего, он и сам не знал.
Осенью, на праздничном вечере, они оказались в зале на соседних креслах. Смотрели концерт, танцевали. Он провожал ее под моросящим дождем по ужасным, развороченным техникой хлябям. Подавал руку, переводя через рытвины. Перед парадным церемонно раскланялся, поцеловал руку. И возникло мгновение неловкости. Стояли молча, в смятении, топчась на липком бетоне. Торопливо разошлись. С тех пор Миронов чувствовал существование неназванных, почти отсутствующих отношений между нею и им. Знал, что и она это чувствует.
— К вам можно, Николай Владимирович? — она явилась, прямая, сдержанная, в строгом платье, с тонкой ниточкой жемчуга на шее. Разложила перед Мироновым сметы. Вместе их разбирали. Она коротко, ясно, с легким, как казалось ему, напряжением давала пояснения. От нее исходил чуть слышный запах неярких духов. Он видел твердый перехват платья под грудью, близкие жемчужинки на шее.
— Вы отдайте их тогда вертолетчикам. Чтоб и у них и у нас была ясность, — он радовался быстрой, аккуратно произведенной работе.
Завершили разбор. Она собирала бумаги, готовилась уходить. И, преодолевая себя, с веселостью, почти естественной простотой, сказала:
— Вы, Николай Владимирович, как-то обмолвились, что соскучились по домашним пирогам. Ну, так… приходите сегодня, отведайте… Суровцевых пригласила, — добавила она торопливо.
— Сегодня?.. — Миронов беспомощно, не умея ответить, путался в тончайших, из невидимых паутинок и нитей сотканных отношений. Видел, как они начинают рваться. — Сегодня? Не знаю… Постараюсь. Сегодня вечером на ТЭЦ… Должен там быть… Вот если после… Если успею…
И знал, что не придет, видя, что и она это знает, стыдясь своей лжи, горюя бог весть о чем, но и облегченно выпутываясь на свободу из этих, теперь уже воистину несуществующих отношений, провожал взглядом ее, уходящую, прямую и строгую, с пшеничными волосами.
Анна Валентиновна шла по коридору, улыбаясь и боясь разрыдаться: «Дура, какая дура!.. Пироги, пироги!.. Бусы жемчужные!.. Так меня, так! Крепче, крепче! Мало учили, а все не научили!.. Господи!.. Дура…»
Вечером Миронов оставил кабинет, полный телефонных звонков и табачного дыма. Выехал на объекты. Окунулся в зеленый, свежий, твердо-прозрачный воздух.
Уже строилась группа заводов в подспорье основному гиганту.
Расчертили тайгу на огромные квадраты. И в каждом, как в кадре, расчлененное на отдельные части, совершалось движение.
Валили лес визжащими пилами, открывая с падением каждого дерева все больше пространства, пустого морозного неба.
Выволакивали на просеки поверженные, кронами вниз, стволы. Корчевали и жгли обрубки, костровища теплились, как чьи-то живые, засыпанные пеплом глаза.
Бульдозеры наносили ножами длинный надрез котлована, отверзая в земле парную, с черной сукровью рану, погружались в нее, не давали сомкнуться.
Ухали в котловане копры, готовя свайное поле, вгоняя в грунт четырехгранные спицы.
И готовое поле в ровных бетонных саженцах, вживленных в лед, принималось расти.
И уже вздымались ветвистые фермы, наполняя пространство ребристой листвой. Сталь вырастала, кустилась. Новый лес, сваренный из двутавров, качался, скрипел, сыпал огненные семена. И казалось, в железных кронах скачут железные птицы, у железных стволов ходят железные звери, лязгают, искрятся, дымят.
Миронов наблюдал эту смену жизней. Исчезание лубяной и древесной, появление стальной.
Он понимал: чьей-то волей, огромной, коллективной задачей им всем было вменено перекроить эту землю, слепить ее заново из огня и металла.
Сваебойные машины ползали на гусеницах, вколачивая гнездами сваи, качали тугими мачтами, подтягивали на тросах пиленые стержни, впивались в вершину. Дизельный молот ахал, садил, вгоняя граненую ось, окуная ее в стонущий грунт. Машинист выглядывал из кабины мазутным натертым ликом, сверкал белками. Коперщик управлял тросами, дергал, плясал, маленький, кривоногий и цепкий, запрокинув скуластое, в блеске зубов лицо. Как звонарь, играл намотанными на кулаки веревками. Но вместо белых летящих проемов, поющей просторной меди дымно взрывался молот, выплевывал красные языки.
«Под уздцы, под уздцы… Звяк зубов в удила… На дыбы посреди Сибири…»
Яркая и скользящая, в небе горела луна. Миронов шагал по глыбам в грохоте и брызгах мазута. Чиркали о луну мачты сваебоев. Луна попала под молот, забилась о наковальню. Маленький кривоногий кузнец звонко зашлепал, чеканя на ней клеймо, фирменный знак ОТК. Свая с луной уходила в землю, погружалась навеки.
Миронов не знал, что в этот час жена пишет ему письмо. Ее почерк легкий и быстрый. Буквы нацелены все в одну сторону, к нему. Пишет, что живы-здоровы. За окном мягкий снег. Новый дом напротив вырос и совсем закрыл тот крохотный старый дворик, где они, жених и невеста, когда-то встречались. Сын приносит из школы тройки, бузит с друзьями. Недавно явился с шишкой на лбу. Собираются в Сибирь на житье. Только не знают, как быть с кошкой и цветами в горшках, не везти же с собой на край света.
13
Пушкарев, отпустив Миронова, торопился в горком, на собрание хозяйственного актива. Уже вызвал машину, поднялся и двинулся к двери. Но навстречу ему вошел в кабинет Янпольский, смущенный, нетерпеливый и нервный, держа перед грудью свежий номер ядринской газеты, как бы продолжая читать на ходу.
— Петр Константинович, я все собирался… Вы были заняты.
— И сейчас убегаю… Ну что там у вас? Все уши мне прожужжали. Какая такая газета? Землетрясение в Иране?
— Ближе, Петр Константинович, гораздо ближе. У нас под ногами.
— Подумать только! Так-таки и у нас?
— Я, Петр Константинович, по старой привычке всегда пробегаю прессу, крест-накрест. Центральную, и журналы, и местную, и даже радио и телепрограммы, на всякий случай…
— Что, опять многосерийный фильм про Сибирь?
— Вот! — Янпольский протянул газету, где красным карандашом был отчеркнут фельетон «Генеральный лектор».
Пушкарев, вцепившись в первые строчки, остро, порывисто стал читать, сузив лучики глаз, словно выжигая текст из газеты. А Янпольский, следя за выражением его лица, продолжал говорить:
— Я думаю, это инспирировано. Можно судить об общем к нам отношении и в общественном мнении, и среди аппаратчиков. То-то я заметил, в последнее время стало труднее работать! Ужесточилась позиция города. Карьеры наотрез не дают, к водопроводу не пускают. Грузовики наши с улиц гоняют. На всё лимиты. По-моему, это хорошо продуманная публикация, виртуозная, некустарная. Это очень неприятно и вредно. Не говоря уже о престиже… Такие выражения фельетонные…
Пушкарев глазами бежал по странице.
«В неком городе, в неком театре, некие жители имели счастье лицезреть и прослушать некого лектора…» «Не называя имен, однако надеясь, что в позвякивании металлических фраз, похожих скорей на команды…» «И были бы счастливы уберечь себя впредь от генерал-губернаторских замашек…» — и все в том же роде, насмешливо, желчно. И в конце — подпись автора: «Городков».
Кончил читать. Взглянул на ждущего, растерянного Янпольского. Весело, с небрежной легкостью отбросил газету:
— Право, вы напрасно волнуетесь. Такие пустяки! Этого следовало ожидать. Мы им пока непонятны… Идет борьба, перестройка. Это, если хотите, их боль. Они имеют на это право, и надо быть снисходительными…
— Да, но… Местное руководство! Как можно допускать?
— И местное руководство, и последний обыватель в чем-то очень похожи. Ядринцы! Всю жизнь на мешке с крупой сидели. Для них комбинат — тотальная угроза их укладу, стилю, образу мыслей. В какой-то степени он для них — катастрофа. Они чувствуют, что при новых масштабах их начнут заменять новые руководящие кадры. Их вытеснят инженеры, наши с вами помощники, для которых управление будущим городом, комбинатом, всем регионом есть проблема АСУ, кибернетическая проблема. Местные это чувствуют, и вот их живая реакция. Она естественна и вполне объяснима.
— Да, но престиж!.. Уже, я слышал, посмеиваются… Видел, даже наши газеткой шуршат. Это не может не повредить!
— Ну, вы такой дипломат и политик, неужели не знаете: скандал — лучший друг популярности. В конечном счете я готов быть смешным, если комбинату от этого польза. А нам от этой статьи — несомненная польза. Противник себя обнаружил. Стало видно, что он не опасен. Это курьез, не больше…
— Но все-таки…
— Честное слово, вы преувеличиваете значение этой заметки. Забудьте. Есть дела поважнее… Лучше скажите, разгрузили ротор? Он где? В надувном ангаре? Приеду взглянуть. После актива.
И он весело, дружески, смеясь серыми помолодевшими глазами, провожал Янпольского. Дождался, когда дверь за ним затворилась. Резко придернул к себе газету. Начал снова читать. И весь отвердел, заострился, и губы его дрожали, побелев от бешенства.
Через четверть часа в горкоме он сидел за столом президиума, рядом с секретарем, глядя в зал, наполненный крепким, чуть помятым, чуть заскорузлым народом, оттаивающим с мороза, покашливающим сдержанно в кулаки. Собрание актива посвящалось трудной зиме и близкой, обещавшей быть трудной весне.
— Про порт мы, конечно, не будем хвастать, — узкое место и в прошлом году, и в этом. Но мы, как говорится, все сделаем, а навигацию вытянем. Дадим комбинату грузы, — говорил начальник порта, короткий, квадратный, в синем форменном кителе, с мелкой, репьем торчащей макушкой на бугристой большой голове. — Пока комбинат свой порт еще будет строить, и это, как говорится, дай бог, мы, конечно, со своей стороны, к весне третью стенку отладим и два крана поставим. Тяжелехонько, но, думаю, вытянем…
Пушкарев, чувствуя в кармане сложенную газету, недоверчиво, пристально процеживал зал, старался читать на лицах: «Чужой, свой! Чужой, свой!»
«Этот свой, — слушал он речника. — Этому и новый порт поручу. Этот с нами пойдет…»
Секретарь раскрыл блокнот, но не писал, а, слушая выступления, машинально черкал. Пушкарев, скосив глаза видел домик с оконцами, нарисованный секретарем.
Выступал начальник железнодорожной станции, лысый, долгоносый и желтый от никотина, в черно-золоченом мундире, с хриплым, мегафонно-застуженным голосом:
— Вы знаете, товарищи, как мы бедствовали в прошлом квартале. Нас затоварили так, что все тупики забиты, и больше нам грузы не слали. Но мы это положение во многом исправили, заторы свои расхлебали! Хотя ночи и теперь не спим, но, по-моему, комбинат на нас не обижен. Если к весне нам строители реконструкцию затянут, тупики и отводные пути не проложат, опять будет беда, и комбинат нам спасибо не скажет. Поэтому есть еще эти два месяца, и надо нам всем сообща…
«И этот наш, с нами, — одобрял его Пушкарев. — И этот в нашей упряжке. Статеечками его не собьешь. Свой мужик, хоть и ядринский…»
Секретарь рассеянно вырисовывал домик. Окружал его палисадником, сажал рядом деревце со скворечней. Пушкарев едко подглядывал.
— Конечно, с теплом беда! Не хватает тепла. И как следствие — увеличение за последние месяцы легочно-простудных заболеваний, что не могло не сказаться на общем состоянии рабочей силы, — говорила начальник горздрава, красивая, полнолицая и румяная, похожая чем-то на исполнительницу народных песен. — А весной нас снова ждет рост желудочно-инфекционных заболеваний, и мы уже начали проводить профилактику, главным образом в рабочих общежитиях комбината. В связи с этим хочется сказать о новой больнице, введенной в конце прошлого года. Это, конечно, подарок городу, и спасибо за него комбинату. О таком оборудовании мы никогда не мечтали, и не скоро бы оно у нас появилось…
«На здоровье, рады стараться… И эта солистка с нами. — Пушкарев и ее принимал в свой круг, отрывал от других, еще не прошедших проверки. — Кто следующий? Пожалуйста, подключайтесь к детектору».
Выступал представитель горкомхоза — маленький, косоротый, суетливый, похожий на клеста человек, щелкающий языком. Уверенно и быстро вертелся на трибуне:
— Лопнула теплотрасса — баня закрыта, и угроза над детскими садами, школами. Все городские системы подачи тепла устарели, и только ввод комбинатской ТЭЦ решит эту проблему. Но пока ремонтируем и латаем старую трассу, сварщики наши ночи на морозе работают…
На трибуну вышел редактор газеты, моложавый, спортивный, с жестами и голосом часто говорящего на людях.
— Товарищи, главное направление идеологической, пропагандистской работы — это ориентация города, всех наших сил на помощь комбинату…
Кстати, поддерживая оратора полностью, я хотел вас спросить, Иван Гаврилович, вы не читали сегодняшнюю нашу газету? — Пушкарев положил перед секретарем и расправил страницу с красной пометкой. — Вот, взгляните из любопытства…
— Сегодняшняя? Нет, не читал, не успел… С утра к активу готовились…
— Пробегите краем глаза. И маленькую справочку… Эта статья тоже в плане подготовки к активу? Именно к этому дню приурочена? Взаимодействие города и комбината? Продуманное политическое выступление, к которому мне прикажете отнестись именно как к таковому?
Секретарь уже читал, весь подобравшись, нахмурившись, метался глазами по строкам.
— Видите ли, — тихо говорил Пушкарев. — Поймите меня правильно, Иван Гаврилович, здесь нет ни тени личной обиды. Просто мне казалось, что тенденция на слияние комбината и города несомненна, первостепенна. Именно об этом мы говорили с вами в обкоме, в кабинете у Игната Степановича, и, казалось бы, вы соглашались. Никаких разделений на «свой, чужой». Все едины, все ядринцы, все служим главному — комбинату. Но что же теперь получается? Брошен вызов, раскол! И именно теперь, когда силы предельно напряжены и рассеивать их преступно.
Секретарь кивал и читал, и по лицу его бежали красные пятна.
— Я хочу, Иван Гаврилович, обратиться за разъяснением в обком, но прежде, конечно, я счел своим долгом спросить у вас. Может, я что-нибудь не понимаю? Может, мы в самом деле воспринимаемся местным руководством именно как враги? Здесь господствуют взгляды на комбинат как на обузу, как на вредное, разрушительное явление. Так давайте выясним это в обкоме! Через несколько дней у нас штаб. Игнат Степанович приезжает. И прежде чем решать наши технические проблемы, давайте решать политическую! Как можем мы опираться на помощь города, если вместо помощи будем встречать враждебность, получать удары в спину?
— Какое-то недоразумение… — сбиваясь, слабым голосом говорил секретарь. — Поверьте, Петр Константинович, это недоразумение. Главный редактор Корнеев только сегодня из отпуска, я сразу вызвал его на актив… Городков замещал… И уверяю вас, без нашего ведома… Мы немедленно выясним! Прошу вас, Петр Константинович, пока не давать этому ход!
— Конечно же, Иван Гаврилович… Я считал своим долгом сначала к вам. У меня было подозрение, что в аппарате не могут работать люди, ставящие нам столь недвусмысленно палки в колеса…
— Ну мы, Петр Константинович, слава богу, знаем друг друга! Ведь прошлая зима показала нашу дружбу и наш союз. И тогда, в кабинете у Игната Степановича, хороший был разговор… Мы разберемся!
14
В темном, подслеповатом помещении редакции, с прогнутыми потолками и железными черными накаленными печами, Городков с утра разбирал заметки, готовя номер. Уже сдал полномочия вернувшемуся из отпуска редактору Корнееву, который, возникнув на миг, бодро и дружески хлопнул его по спине, подмигнул, причмокнул и умчался на актив: «Вернусь, расскажу! Было одно приключение!»
Сотрудники за столами шелестели бумагой. Корреспондент Филофеев пачкался клеем, монтируя обрезки статьи, старательно двигая подбородком. Крутил толстой шеей в неуютном, не слишком чистом нейлоновом воротнике.
— А здорово ты Пушкареву врезал, молодец! Талантливо! Так и надо нам всем писать, злободневно, остро. Это и есть актуальность! Это и есть публицистика! От души поздравляю!
Литсотрудница Варварьина звенела огромными стальными ножницами, роняя стружки бумаги, льстиво улыбалась Городкову:
— Каких-нибудь три недели вы редактора замещали, а какой сдвиг в работе! Сколько интересных, по-настоящему свежих материалов! Я давно говорила, вам место не в заместителях. Вам нужны ширь и простор… Прекрасная, в лучшем смысле патриотическая статья. У меня дома муж читал, и свекровь, и соседи. И все говорят: «Городков замечательно пишет». Вам не в областной газете — в центральной место. Не боюсь вам это сказать…
Городкову было приятно. Утром у газетной витрины, несмотря на мороз, толпились люди. И он, хоронясь за углом, издали наблюдал их топтание у стенда.
Сейчас он правил статью, бездарно, вяло написанную, о ходе работ на стройке. С нетерпением ждал возвращения Корнеева, чтоб обговорить с ним серию краеведческих статей и рассказов в продолжение поднятой темы.
Грохнула дверь. Главный редактор Корнеев, сдернув шапку, оставляя на полу ромбики снега, прошел в кабинет, бросив на ходу:
— Городков, зайдите ко мне!
Это официальное обращение «зайдите», стремительный, деловой хруст башмаков позабавили Городкова: «Федя актер, но не слишком… Придется выслушать его отпускной, водевильный вздор».
Сложил вырезки и вошел в кабинет, видя спину редактора, вешавшего пальто на гвоздь, его пунцовые, воспаленные уши.
— Ну как съездил? Вид у тебя курортный, как на открытке: «Привет из Сочи»…
— Позвольте! — перебил его истерично Корнеев, брызнув слюной. — Я буду сейчас говорить, а вы будьте любезны послушать!
— Федя, что ты?
— Ибо я не намерен! Не намерен терпеть!
— В чем дело? — спросил Городков, видя дерганье губ, совино-кошачью желтизну в глазах.
— Да? Вы спрашиваете, в чем дело? Хотя это я должен был бы спросить у вас, но вы не удосужились, исполняя обязанности, ввиду возвращения непосредственного начальства… Непосредственного моего возвращения… — Он сбился, дернулся, выхватил и швырнул на стол скомканную, замусоленную газету с красной чертой. — Вы вероломно, воспользовавшись отсутствием… торпедировав все усилия… поставив под удар меня… сотрудников, весь коллектив… столкнуть лбом горожан… вредные, порочные цели…
— Стоп! Что случилось? — Городков начинал понимать, что речь идет о фельетоне, что бешенство неподдельно. — Это ты имеешь в виду?
— Вот это!.. Это!.. Этот поклеп!.. Эта клевета!.. Это что, недомыслие или, наоборот, тонкий, точный расчет? Попытка торпедировать? Ставка на обывателя?!
— Подожди! Перестань! — пытался урезонить Городков. — Какой поклеп? Обычное выступление. Обычная критика… Мы же говорили с тобой о необходимости усилить газетную критику… Ты сам все время говоришь на планерках: не хватает острых, дискуссионных материалов на местные темы… Нравственность, культура, традиции… Взаимоотношения города и комбината… В том числе и в критическом, дискуссионном аспекте!
— Ложь! Не говорил никогда! Я в этом деле не замешан! Самоуправство!.. Воспользовался отсутствием… с больной головы на здоровую!
— Ну как же не говорил? Говорил! Хотел провести «круглый стол» с участием интеллигенции. И именно о комбинате и городе!
— Не замешивайте меня в это нечистоплотное, грязное дело! Да, я хотел «круглый стол», но с других позиций! Под другим углом. Город и комбинат неделимы!.. И мы не позволим шельмовать наши лучшие кадры… Да, я утратил на время бдительность и готов понести наказание… Вверился чуждым взглядам… Но я всегда говорил: комбинат — это благо для Ядринска! Мы приветствуем его от души и готовы все силы и средства… Но ошибка моя в том, что не увидел лицо!
— Да какое такое лицо? Такое же, как твое! В конце концов, ты можешь мне объяснить, что случилось? Кто тебя кипятком ошпарил? — Городков раздражался все больше, слыша в редакторской речи второй диалог, не с собой, с кем-то иным, невидимым. — Мы можем объясниться спокойно?
— Я повторял и буду всегда повторять: комбинат принес сюда возрождение! Прогресс и культуру… Я это всегда повторял! Комбинат воспринимается нами как долгожданное и давно обещанное благо! Покончив с убожеством, с бескультурьем… Ведь даже канализации не было!
— Не смешивай культуру с канализацией. При Менделееве в России тоже канализации не было… Иными словами, — заражаясь его бешенством, уже не владея собой, ненавидя испуганно-разъяренное, тигрино-овечье лицо, сказал Городков, — иными словами, ты хочешь, чтоб я ушел? Давай лист бумаги!
— Ты должен быть благодарен… Я делал тебе добро!
— Спасибо твоему гуманизму. Ты был всегда гуманистом. Корнеевы всегда были гуманистами. Педагоги, музыканты, присяжные. Но холуев среди них вроде не было…
— Прошу выбирать выражения!
— Я их выбираю старательно… Холуев среди Корнеевых не было. До самого последнего времени… Давай, говорю, бумагу!
Городков, ненавидя, испытывая налетающее головокружение, кидаясь в него и страшась, преодолевая страх рождающимся чувством свободы, не садясь, размашисто и разгульно написал заявление об уходе, щелчком откинул Корнееву лист.
Вышел, смеющийся, легкий, едва не ударив дверью подслушивавшую Варварьину. Прошагал мимо сотрудников, глядевших на него с ужасом из-за своих столов.
Уже в городе, забыв запахнуть ворот шубы, язвил, улыбался, продолжал сокрушать. Молодо, слушая морозное курлыканье ступеней, поднялся по деревянной Никольской лестнице под кремлевские стены, любя бесснежные, дикие осыпи, гончарно накаленные холодом, из которых остро, могуче торчали башни и главы. Запыхавшись, пронес свое горячее лицо через кремль, где нетоптаный снег лучезарно белел, и синели тени шатров, колоколен, и платовские пушки в сугробах поглядывали на восток. Вошел в музей, в натопленную комнату Голубовского. Старик, рассыпав гриву по сутулым плечам, нацепив очки, трогал желтоватыми пальцами старинный сундучок, окованный железом, с узорным секретным замком и облупленным рисунком: мохнатое, зеленое дерево, и под деревом, поднявшись на задние лапы, высунув красные языки, целуются лев с конем.
— Сережа? Ну как хорошо!.. Сию минуту о тебе подумал… — И с порога, радуясь старику, Городков спешил ему все поведать. О своем освобождении, победе. Возбужденно, сбиваясь и его возбуждая, принимая его благословение на новую жизнь.
— Да вы же знаете, Егор Данилыч, Корнеев бездарный, бесцветный. И в сущности, несмотря на хищные зубки, беззащитный! Вцепился в свой маленький ломтик — и сыт и счастлив!.. А ведь были, были надежды! Стишки писал, домой ко мне прибегал читать. Тянулся, тянулся. Со школы тянулся, троечник, слабачок, белесенький и бесцветный. Мучился, завидовал чужому таланту. И теперь вот реванш взял! Нате вам, отомстил! На колени хотел поставить! Хлеба лишил, кормилец!.. Да я из его нечистых, нечестных рук корки не возьму! С голоду умру, не возьму!.. Ведь прав я, Егор Данилыч?
— Прав, мой милый, сто крат!.. Ты избежал величайшего искушения, величайшего! Искушения хлебом!.. Гордись, гордись! Каменья, обращенные в хлеб, но в каждом таится камень, и ты разгадал и отверг! Ибо сказано, что не хлебом единым… И мы это крепко помним. Хлебы не на полях, в душе у нас хлебы, белоснежные, ситные, нескончаемые, утоляющие глад. В душе замешено наше тесто, брошены дрожжи и медленно всходят, от века к веку. И сквозь жары, огни выпекаем мы хлеб духовный!.. Вот что с тобой происходит: выпекается хлеб твой духовный!
— Да я, Егор Данилыч, лучше дрова колоть или глину месить, а ему не поклонюсь! Пушкареву не поклонюсь! Думали меня сломать… А я жив и свободен, вот он! Я теперь, Егор Данилыч, писать… Наконец-то стану писать. Свое, любимое, долгожданное…
— Да, Сережа, конечно… Будешь писать… Теперь ты свободен от сидения в редакции, и все силы искусству. Ты, Горшенин, Маша, Файзулин — вы наши таланты, ядринцы, пусть неоцененные, но таланты, и рано или поздно узнают… Из каждой избы, из каждого глухого угла Русь выводила таланты… Ничего не исчезнет, Сережа! Вот, смотри, сундук… И в огне горел, и в воде тонул, и кровь на нем, и слезы, и саблей колот, кистенем бит, пулей стрелян, и злато у него отобрали, и самоцветы, и замок сломали, и ключ позабросили, а главное богатство — все в нем! Красота его в нем, искусство живет! Ключи от красоты не подобраны, и конь со львом все целуются! Не о слезах, не о крови, не о злате их поцелуи, а о красоте и любви.
— Я, Егор Данилыч, хочу книгу про Ядринск. Откуда Сибирь повелась. О наших родах и судьбах. Летопись… Как вот это дерево, все корни, все листья, до древности… Труд один, на всю жизнь…
— Я тебе помогу, Сережа, с наслаждением, пока силы есть. Все архивы — твои. Днем и ночью являйся, зови. Я ведь думал: мой сын меня сменит. Увы, увы — отвернулся. А ты пришел! Ты мне как сын, Сережа!
И он, разволновавшись, со слезами обнял Городкова, поцеловал в губы. И Городкову казалось, два красных нарисованных зверя откликнулись ржанием и рыканьем.
15
Любящий, вдохновленный, Городков возвращался домой.
Шел через рынок, радуясь синеватому, твердо-холодному снегу, солнечным пятнам на прилавках, на лицах, на грудах товара. Ему чудилось: петухи трясут красными гребнями, кукарекают, хлопают крыльями, выклевывают из снега золотые блестящие зерна — так выглядела и гомонила толпа.
Лисьи меха, опудренные инеем, дергали на ветру ворсом, сыпали искры. Старухи-татарки гладили их вдоль спин, голов, разбросанных в стороны лап. Меха выгибались и вздрагивали от прикосновений старух.
Парень, скинув поношенную шапчонку, открыв белесую макушку, нахлобучил мохнатую собачью ушанку, утонув по глаза в растрепанных черных космах. Татарка совала ему под нос круглое зеркальце, цокала языком, уговаривая:
— Ах, хорошо! Ах, модно! Самый красивый сейчас!
Женщины останавливались перед кипами домашних, рукодельных кофточек, блузок, пальтушек. Отгибали и трогали края невесомо-воздушных пуховых платков. Подбрасывали на ладонях клубки крашеной шерсти. Одна из них, скинув валенок, открыв узкую, гибкую, молодую стопу, обтянутую пестрым носочком, натягивала сапожок.
— Да возьми! С топоточком! Всех перепляшешь! — уговаривала ее хозяйка.
Темный, закопченный мужик, со следами вчерашней гульбы, набросив на плечи тулуп, волочил его по снегу.
— Да бери, пока продаю! Не прогадаешь! Морозы еще все впереди, — внушал он двум робким, видно приезжим, парням в зябких, несибирских пальтишках, щупающим нерешительно и завистливо углы курчавой овчины.
Зная, любя рыночную, петушиную сутолоку, клюквенные, огуречные запахи, бойкие, зоркие или терпеливо-величавые лица, примелькавшиеся уже на улицах, чувствуя, что и его узнают, Городков огибал прилавки с живыми кроликами, мешками кедровых орехов, забавные стеклянные шары, в которых плавали восковые русалки, рыбки и водоросли. Черенки лопат белели сочно, пахуче. Коромысла чернели коваными, только что из кузни, крючками. Точеные шкатулки краснели резными сердечками. «Все это мое и любимо… Теперь опишу…» На ступеньках рыночной закусочной, выскочив на секунду, посмеивалась повариха, молодая, окутанная паром, как из бани, в крепеньких, на босу ногу, валенках, розовея полными икрами. Рядом Михеич, рыночный мужичок, хмельной и обросший, сдувал с пивной кружки пену, толкал повариху локтем.
— Чего смотришь? Не видел? — усмехнулась повариха Городкову, чуть приподняв юбку над круглой, яблочно-румяной коленкой. — Пойди-ка постой у плиты. Не так еще выскочишь!
— Пиво сегодня — во! Возьми кружечку! — приглашал Городкова Михеич.
Пузыри отрывались от кружки, летели над рынком, перламутрово переливаясь. Городкову казалось: повариха, возчик колдуют, заговаривают толпу и его приглашают. Знают нечто о нем, о толпе, о ее петушином клекоте.
Проходя мимо лавочки с вывеской «Заготживсырье», увидел в раскрытую дверь кадки, пахнущие кисло и едко, косорукого, ловкого малого, кидающего соль на прилавок, и кто-то перед ним разворачивал парной, кровавый ковер свежей лосиной шкуры.
Городков испытал на мгновение душное головокружение и ужас. Хотел разглядеть и припомнить. Но дверь затворилась. Повариха дула на пиво. Сорвавшись с хохочущих губ, мимо Городкова пролетел крутящийся перламутровый шар.
Двухэтажный дом, с необбитыми литыми сосульками, валившими его набок, встретил Городкова черной грудой угля во дворе, от которой уже тянулась пепельная закопченная тропка — следы жены и соседей, выбегавших с ведрами за углем. В сумерках на лестнице дунуло в Городкова запахом сгнившего дерева, холодной пищи, тонкой вонью старого, населенного плотно жилья.
С мороза, еще неся недавнее возбуждение, и радость, и внезапно возникшее беспокойство, Городков вошел и словно ударился о другой воздух и свет.
В тесной кухоньке, среди шипения убегавшей и сгоравшей еды, теплой сырости развешанного по веревкам белья, ведер с мыльной водой, жена, блестя потом, опоясанная фартуком, вышла к нему, шумно шаркая стоптанными, на босу ногу, шлепанцами.
— Ты скажи им обоим, что я отказываюсь за ними ухаживать! — с порога раздраженно и беспомощно, перенося на него раздражение, говорила жена. — Я им охрипла твердить: за уроки! за уроки! за уроки!.. Лодыри царя небесного!.. Опять сегодня по двойке принесли… Нет уж, теперь ты, будь добр, в школу иди, объясняйся, а я не желаю, довольно!
Гневно схватив тряпку, звякнула крышкой, выпустив облако жирного пара, сбросив на плиту кипящую пену.
— Оля, все это пустяки… Это все пустяки… — сникая вдруг и слабея, сказал Городков. — У меня сегодня… Сегодня опять важная новость… Выслушай меня и пойми… Я сегодня порвал… Подал заявление Корнееву… Одним словом, ушел из газеты! Наконец-то появится время, стану писать… Егор Данилыч очень меня одобряет!.. Мы должны с тобой все обдумать, подсчитать наш семейный бюджет…
Жена молча смотрела на него, держа крышку тряпкой. Ушла за развешанные рубахи, брюки и простыни. Только виднелась ее голая нога с желтоватой пяткой. Городков угадывал и страдал: она кипит раздражением.
— Я так и знала… — Жена вновь появилась, и он вдруг удивился, какими тонкими и бесцветными за все эти годы стали ее губы, когда-то пухлые; свежие на круглом наивном лице. — Так я и знала…
— Что ты знала? — морщась, спросил Городков.
— Знала, что этим кончится.
— Что кончится?
— Все кончится, все надежды…
— Да какие, какие надежды?
— Думала, ну, слава богу, хоть немножко все утряслось. Могу вздохнуть. Просвет появился… Так думаю, а у самой сердце чует: не надолго, не надолго! Опять все полетит вверх тормашками!
— Да что ты причитаешь, как плакальщица? Ничего ужасного не случилось. Просто Корнееву кинул на стол заявление. И почувствовал облегчение… избавился от этого идиота, свободен… Стану писать. Наконец-то займусь своим делом.
— Станешь писать? Своим делом займешься?.. А кто моим делом займется? Кто обо мне подумает? Ты свободен, какое счастье! А я, я свободна? Пятнадцать лет надрываюсь, тащу семью, копчусь и вялюсь, как рыба, у этой проклятой плиты. Как ломовая лошадь, таскаю на себе воду, уголь, дрова, сумки с едой, которые тут же исчезают, как в прорве! И так, я вижу, будет до конца дней, потому что, видите ли, ты все эти пятнадцать лет только и делал, что собирался писать!
— Ну прошу тебя, перестань… Мы должны обсудить серьезно…
— Я-то надеялась: ну, слава богу, образумился, взялся за ум. Приличная работа. Положение, твердая зарплата… Что-то появилось в доме, немного оделись, голые стены прикрыли и детей одели… Какие-то перспективы… Надежды на квартиру, выбраться из этой страшной развалюхи. Комбинат дома строит, конечно, для своих в первую голову, но и горожанам, людям уважаемым, тоже кое-что достается. Корнеев мне говорил, он обещал, он был готов хлопотать… Корнеев прекрасный, умница, терпеливый, терпел тебя, благ тебе всяких желал и меня всегда ободрит.
— Не говори вздор! Он балбес и долдон! Это идиотство! Что ты говоришь?
— Идиотство?.. Я всегда говорю идиотство! А ты всегда говоришь только умные вещи! Говоришь и пишешь! Стоит тебе обрести свободу, сесть за стол, и ты напишешь гениальную вещь! Весь мир обомлеет! «Ах, ах, Городков! И подумать только, в таком захолустье и такой гениальный писатель!» Пятнадцать лет ты все садишься за стол, и теперь уж мне ясно, что не напишешь ни строчки. Ты неспособен! Все твои лоскутки, все твои записочки и листочки, они дальше начала не сдвинулись. Ты неспособен!.. Кто-кто, а я-то знаю тебе настоящую цену! Уж я-то тебя поняла! Ты хочешь писать, потому что тебе не дает покоя чужая слава! Ты завидуешь всем мало-мальски известным писателям, поносишь их, а сам не в силах написать и двух строк!.. И этой твоей неспособности, этой зависти, этой болезни я принесла себя в жертву! Свою молодость, свежесть, свою красоту! Не уехала из этого проклятого городишка, из этой проклятой норы!
— Замолчи! — задышал тяжело Городков. — Замолчи!
— Нет уж, дай мне сказать! Дай мне теперь сказать! То все ты говорил, а я, дура, пятнадцать лет каждое слово твое ловила, твои проповеди о свободе и долге, весь этот сор и труху, но теперь уж дай мне сказать… Ты меня заточил в этой проклятой норе, как волчицу, как самку, заставил рожать и кормить, а когда хотела выть по-волчьи, ты мне про долг начинал! О высоком предназначении женщины, матери… Долг русской женщины, русской матери… Все о долге, о долге, а сам, эгоист, думал лишь о себе! Видел и слышал себя одного!
— Замолчи, я прошу! Ты видишь, я на последней черте!
— Нет, подожди про черту!.. Ты придумал меня или вычитал где-то и решил, что жена и женщина должна быть такой. Ты хотел воспеть меня, выдуманную, или вычитанную, или вымученную в какой-нибудь дурацкой беседе с твоими друзьями заумными, все хотел меня написать. Я читала, подглядывала в твоих листочках. Этакая чистая, печальная, кроткая и обязательно верная, ждущая тебя всю жизнь за лесами, горами учительница, или пряха, или Ярославна, а ты, герой, томишься в плену, или покоряешь дальние страны, или лежишь в чистом поле, а я в слезах, но и с чувством долга, как настоящая русская женщина, жду тебя целую жизнь… Так? Правильно я говорю? Ведь все ненаписанные твои романы об этом?
— Прошу тебя замолчать! Иначе… — Городков ненавидел ее потное, горчичное лицо, голые, криво стоящие ноги, бегающие тонкие губы. — Иначе я знаешь что?..
— Ты эгоист, погубил мою жизнь! Губишь и жизнь детей, внушаешь им всякий вздор, дикие свои представления! Ты толком никогда не работал! Чтобы жить так, как ты живешь, надо, чтобы кто-то рядом надрывался во имя тебя, нес тебя на себе, губил себя. И все твои разговоры о творчестве и о долге…
— Замолчи! — заорал Городков, срываясь на гневный визг… — Сейчас же, сию же минуту! Дура, жестокая дура!.. Замолчи, иначе… Иначе я пошлю тебя к черту, как послал Корнеева! К черту!
Он сжал кулаки, двинулся на нее, ослепнув от бешенства, видя, как дергаются страхом ее глаза. Она отступила, уперлась спиной в мокрую, тяжелую простыню, отпечаталась в ней большим, начинавшим тучнеть телом. А он, вдруг сломавшись, сникнув, как перебитый, ссутулился, прошел мимо нее в комнату, где двое сыновей, прижавшись друг к другу и вытянув шеи, слушали его крик.
Сидел за тесным столиком, разбирая старые рукописи, стараясь извлечь из них недавнее ощущение силы, предстоящего творчества. Не мог. Все казалось блеклым, неумелым, ненужным. Устаревшим и умершим в зародыше, неподхваченным, бескрыло упавшим. Рукописи — гора линялых лоскутьев. Потянул — и опять обрывок.
Жена, переживая ссору, ушла к соседям. Два его сына мастерили на полу духовое ружье, скрежетали напильником, стучали и спорили, и он, отвлекаясь, гнал их в постель:
— Спать! Ну, кому говорю!
Тощая стопочка, еще один замысел. Будущий роман или повесть. О первопроходцах, основавших Ядринск. Вышли ватагой на иртышские кручи, перековали мечи и кольчуги на якоря и ладейные гвозди, двинули на ладьях к низовьям. Причалили у зеленой горы, вновь перелили железо в мечи и кольчуги, приняли от ордынцев бой. Атаман, предводитель, пал от каленой стрелы. Умирая, увидел свой дом в Великом Устюге, и жена в светелке, почуяв беду, рассыпала нитку бус…
«Нитку бус из речных жемчужин…»
Недавно он мечтал, как об этом напишет сильным, издревле льющимся слогом, одолевая скудость нынешней речи. Уже начал сбор казачьих песен, баллад, снимал описания старинных ладей и стругов. Отложил до лучших, самых важных времен, и теперь, когда эти времена наступили, увидел: замысел был пуст, как покинутый дом.
Сыновья пилили, сорили опилками, и он в который раз, сердясь, повторил:
— Завтра вас не добудишься! Сколько мне вам говорить? Крикнуть на вас? Мать придет, чтобы были в постели!
— Ну сейчас, ну, пап, ну сейчас!
И еще одно начинание, оборвавшееся на первых страничках. Повесть о вятском мужичке, идущем за вещей пчелкой на Урал, через горы и реки. Явился под Ядринск и там, где опустилась пчелка, узрел иконы и книги. Срубил часовню, стал крестить инородцев, славясь своей кротостью, прозорливостью. А под старость явилась к нему его жена, богомолка, черница. И они, старики, молча издали поклонились друг другу…
И для этого уже не было слов. Сладость повести за долгие годы лежания прогоркла. Неужели права жена, и он не способен писать, и все его начинания — только суетность слабого, неспособного к творчеству духа?
Сыновья колотили гвозди, целились готовым ружьем. Городков, страдая, уводя себя от истинного центра страдания, перенося его на детей, вибрирующим, отвратительным себе самому голосом произнес:
— Неужели мне встать и раздеть вас силой? Неужели вам не жаль отца? Неужели моя мольба к вам не доходит?
— Нет, папочка, миленький, ну, пожалуйста, не сердись… Мы сейчас, еще только минуточку…
Или, может, сюда, в этот замысел, устремить трудолюбие, талант? Вывести из сумерек к свету. Повесть о зодчем-скитальце, строившем по Сибири соборы из белого камня. И в каждом воплощался образ жены. Когда мастер умер, она двинулась на поиски мужа и повсюду, на озерах и реках, узнавала себя в белом камне, отраженную на небесах и на водах…
Фальшь и неправда, которые он не умел себе объяснить, казались ему нестерпимыми. Весь лежалый бумажный ворох был грудой беспомощной фальши. Все причиняло страдание. И эти бумаги, и мысль о жене, и взвизгивающие, стучащие дети. И, поймав их визг, этим визгом объясняя свое несчастье, невозможность сосредоточиться, ухватить ускользавшее чувство, Городков отшвырнул кипу рукописей, с грохотом встал, кинулся на детей:
— Я вам говорил! Говорил! Не щадите!.. Я должен сам!..
Схватил с силой старшего, шваркнул ружье о стену, стал раздевать, обрывая пуговицы, с силой вытряхивая его из одежды. Видел его слезное, потрясенное, в испуге лицо. Ужаснулся сыновнего испуга, кинул все и, сам в слезах, бормоча: «Боже мой! Боже мой!» — вынесся в ночь.
16
Он несся слепо в ночной пурге, не узнавая размытые, в багровых окнах дома, валившие на него трухлявые бревна, косые крыльца, цеплявшие колючими водостоками, бившие створками дырявых ворот. Город ломился за ним следом, треща перепонками, хватал, колотил, царапал, таращил из подворотен крутящиеся злые глаза.
«Да, свобода моя, свобода!.. Корнеева, жалкую газетенку, унизительный труд отбросил!.. Жена, вульгарная, нелюбимая, только о быте, не понимала меня никогда, — и ее стер на пути к творчеству и свободе!.. Дети, мои милые дети, в неведении, ясноглазые, врастают незримо в свою будущую драму, — и их стер на пути к свободе!.. Мое творчество, казавшиеся огромными замыслы, ожидание трубного гласа, — не раздался, глухота, немота! Что осталось? Друзья? Этот город? Зимняя, неоглядная, любимая, растаявшая в горизонтах Россия?.. И небо? Высшее знание? Но где оно? Где оно? Где оно?..»
Он задирал лицо. За кривыми черными трубами, зубчатыми сосульками, расколотыми чашами куполов морозно и сочно лилась пустота, высасывала из земли последнее тепло. И хотелось спастись, зарыться червем в землю, защититься от зияющей, беспощадной пустоты неба.
«Боже мой, боже мой!..»
Его крутило метелью по улицам, выносило на площадь и вновь затягивало в тесные, слепые проулки. В буране чудились барабаны и флейты, мелькали штыки, кивера, полосатые бревна шлагбаумов. Секли по голым спинам, красным от кровавых крестов, волокли на шинелях, забивали в железные крепи. Весь город кружился в пурге под военные посвисты дудок.
«А может быть, это во мне вековечное, ядринское, и я не рожден для свободы? Может, мы, ядринцы, не смеем посягать на свободу? Она нам заказана, не по силам, не по ядринскому духу и складу, который всегда в узде, всегда за шлагбаумом, и нужен пропуск, за казенной печатью, чтобы дали вид на свободу, въезд на свободу, казенный указ на свободу? Может, в этом наша ядринская судьба, ядринская сила, ядринский высший смысл? Жить в несвободе?..»
Ему приходило на ум: сейчас же явиться домой к Корнееву, покаяться, ухнуть в ноги, умолять о прощении, чтобы взял его назад на работу, ибо дети, семья, и нельзя так жестоко, а он в свою очередь станет верой и правдой, безупречно, образцово стараться…
Или нет, напротив… Гордо, один, в укор всему городу, будет ютиться в подвале, зарабатывать на хлеб своим детям тяжким трудом, колоть ледяные поленья, выгребать ледяные смердящие нечистоты, и пусть все видят и знают…
Или нет, это тоже дико… А пойти к друзьям, к Горшенину, Голубовскому, занять на дорогу денег, погрузиться с детьми и скарбом и уехать прочь из этого проклятого места, и начать все с новой черты…
Нет, и это немыслимо…
На тонкой, почти незримой цепочке, уходящей под пальто, под одежды, под самую кожу, внутрь тела, оковавшей сердце и столб позвоночный, он бегал по улицам. А другой конец был привинчен к кольцу, вмурован в кирпичную стену, и, пожалуйста, ходи на свободе, вокруг дедовских, платовских пушек.
Он очнулся на рынке. Было темно. На пустых задубелых прилавках гуляла пурга. Стыло чернели ларьки. Лишь в одном брезжил свет. Городков потянулся к нему.
Под тусклой лампочкой, на ступеньках столовой, разглядел знакомую повариху и возчика. Рядом стояли сани и лошадь в попоне из байкового полосатого одеяла, стянутого узлом на груди. На санях топорщился сетчатый ящик, из ячеек напряженно и молча выглядывали петушиные головы.
Михеич запускал в ящик руку, выхватывал бьющуюся в клекоте птицу, клал головой на крыльцо. Повариха огромным ножом секла петушиную голову. С мягким коротким стуком голова отскакивала к другим, отсеченным, дергала клювом, моргала. Откупоренное, горячее тело било парной струей, шлепало крыльями, летело в мужичьих руках.
Городков дико смотрел на их ночную работу. На уловленных в ящик, превращенных, заколдованных птиц. Ждал почти с нетерпением: возчик сует руку в ящик, петух в кулаке клокочет, взмах сечки, льющаяся дуга. Петушиные жизни с воплями взмывали в черное небо, безголовые, слепо летели над городом.
Измученный, задеревенелый, Городков плелся по улицам. Хотелось в тепло, выпить чашку горячего чая. Но не было сил возвращаться в разгромленный дом или к друзьям, — опять разговоры, тягость.
Он ткнулся в грохающую железом обитую дверь единственного ресторанчика в городе. Грязь, дурная струя тепло-прогорклого воздуха. У вешалки, бранясь с гардеробщицей, топочут подгулявшие парни. Кто-то проносит завернутую в газету бутылку. Какие-то девицы в стекляшках. Кляцает джаз. Фальшиво поют в микрофон. Но все-таки не мороз, не ночное безлюдье.
Городков разделся, двинулся в накуренный, переполненный зал, отыскивая свободное место. Обрадовался, углядев в дальнем углу чистый, нетронутый столик. Хотел было сесть.
— Нельзя!.. Здесь не обслуживаем! — Официант, горбоносый, смуглый, с блестящим лакированным пробором, свесив с локтя салфетку, преградил ему путь. — Не обслуживаем!
— Я только поесть, и чаю…
— Сказал: не обслуживаем! — враждебно и резко прогонял его взглядом официант.
Городков, оскорбленный, готовый спорить и гневаться или сдаться и униженно, покорно уйти, смотрел в неприступное, твердо-презрительное лицо, нездешнее, чужое, и уже сдавался.
— Нет, отчего вы уходите? Прошу, садитесь… — раздался за спиной спокойный, приветливо-властный голос прошедшего сквозь зал человека, обветренно-красного, сию минуту с мороза. — Товарищ Городков, если не ошибаюсь?.. Прошу вас, садитесь. — И, обернувшись к улыбающемуся, ставшему гибким официанту, сказал: — У меня к вам просьба. Скажите, чтоб не уходила машина…
Городков, повинуясь, почти машинально опустился на стул. Перед ним, с розовыми заостренными скулами, с серым веселым блеском в глазах, стоял Пушкарев.
— Тут, видите ли, для нашей дирекции оставляем столик. Быть может, и не совсем этично, но, знаете, мотаешься по объектам до ночи, семей-то нет ни у кого, ужин дома не ждет, ну, и едем сюда. Хоть накормят!
Он улыбался, благодушно и дружески рассматривая Городкова, приглашая садиться. А тот, смутившись, бегая взглядом, бормотал:
— Да, я понимаю… без ужина…
— Знаете, — продолжал Пушкарев, — я все эти дни искал случая встретиться. Объясниться после того недоразумения в театре. Ну, после моего выступления, во многом, сознаюсь, нелепого, которое могло произвести неблагоприятное впечатление. Могло задеть, даже обидеть, оскорбить… Поверьте, это ненароком. От неточных формулировок. От внезапности первой встречи… И я все хотел повидаться и подробнее объяснить…
«Он что, издевается? Не знает, что меня вытурили? Не его ли рук дело? Мало ему уничтожить, а еще и поглумиться? Как кошка с мышкой? — исподлобья, ненавидя, взглянул, краснея и наливаясь подозрительностью. — Выскажу ему сейчас все! До последнего! До последнего!»
Но тот, словно не заметив, плескал в бокалы шипящую воду, любезно подвигал Городкову.
— И вот теперь рад случаю, чтобы принести извинения и сказать: вы поняли меня неточно, вернее, я выразился тогда неясно. Моя мысль о местной культуре, о ядринской местной истории не имела целью отрицать ее как таковую. Я хотел лишь сказать, что вектор современной истории внезапно ударил сюда, в Ядринск, всей своей мощью. Государство вновь, как некогда, выбрало Ядринск центром своих замыслов и свершений, открыло ему, быть может помня о его славном прошлом, огромное, ориентированное в далекую перспективу будущее. И мне кажется, эта мысль должна вдохновлять, а не ранить…
— Историю Ядринска надо знать, чтобы точно о ней судить, — мрачно, не веря пушкаревскому простодушию, подозревая его в лукавстве, сказал Городков.
— Совершенно верно, и я не вступаю в спор с вами, историками, краеведами, местными интеллектуалами. Но, собираясь сюда на строительство, я тоже, хотя и чуть-чуть, коснулся ядринских архивов и книг, земских старых источников. Изучая геологические карты, рельеф, климат, трудовые ресурсы, я читал и историю. Увлекся и хотел бы продолжить, но, увы, нет ни сил, ни времени. Запомнил, например, и все собирался расспросить поподробней о местной легенде. О вятском мужичке Тихоне, которого пчелка разбудила и повела за Урал, и он все шел за ней, пока у Ядринска в камнях не отыскал иконы, чаши и книги и выстроил церковь, и как по его доброте медведи к нему приходили. И вот теперь, как-то зайдя в ваш музей, увидел образ Тихона Ядринского… Знаете, удивительный образ!
Рассказ о пчелке поразил Городкова. Он дрогнул, потянулся к Пушкареву, стараясь угадать: кто он, сидящий перед ним человек? Враг, глумящийся, лицемерный? Или некто другой, еще непонятный, но зачем-то искренне стремящийся к нему, Городкову?
— Наш город… — сказал он, сбиваясь, — чтобы его полюбить, здесь нужно родиться… Нужно знать его сердцем, несмотря на ветхость и жалкость… Нужно всем сердцем, всем сердцем!
— Именно сердцем! Наша сердечность, душевность, наша мягкость и совестливость — от земства, от городков, от околиц. И в этом смысле любовь к своему крыльцу, ручейку, городку — источник нашей сердечности, нашей глубины и душевности. Здесь вы правы, не спорю. Но кроме сердечности есть воля, чувство общих небес, горизонтов. Необъятных, не имеющих имени. Есть чувство единства помимо всех крылец, околиц — единства судьбы, беды. Бесконечной в обе стороны истории, под общим небом. С огромной, почти непосильной задачей, несомой из века в век, из огня в огонь. Мечта о грядущей правде, о грядущем совершенстве. Выражаемая то косноязычно, то ясно. То молитвенно, то с проклятиями. Земцем или петербуржцем, крестьянином в домотканом холсте или комиссаром в «чертовой коже». И эта мечта о правде, пусть запредельной, но неизбежной, защищаемая то вилами, то пулеметами, сочеталась в нас с государственной волей. Со строительством единого, огромного дома, единого, небывалого града, вместилища правды… Вот это хотел я сказать, а вовсе не обидеть!
— Да, так, пусть так, — заторопился Городков, чем-то уязвленный, но и обрадованный, введенный Пушкаревым в круг любимых своих размышлений, и так просто, естественно, будто много раз говорили, почти на одном языке, продолжая вчерашний, ненадолго прерванный спор, и это его поражало. — Пусть так… есть известная истина… Но нельзя закрывать глаза. Нельзя бить единством множественность! Каждая изба, каждый дом, каждая семья есть в известной степени град, в котором селится правда… Мы привязаны узами сердца к родному косяку, к родной могилке, к скворечнику. А вы это все железом… Вы это все на ветер… Нельзя! Нельзя порывать с оседлостью!
— Оседлости нет и не будет. Мы кочуем, кочуем. Появляемся, исчезаем. То у самых льдов вдруг увидят наше лицо, то в рыжих песках. Переливаем мечи на орала и куем из плугов мечи. Отрываемся от родных столов, от родных могил, от берез и скворечен и идем… Ну а вы-то разве не странник? В вас-то разве есть утоленность? И на вашем лице — ожидание. И вы напряженно глядите поверх берез и скворечен, стараясь услышать: что там, за поднятым ветром, за громыханием железа? И вы, и вы странник…
Похожую на головокружение сладость и муку чувствовал Городков от этих почти колдовских и таких правдивых и истинных о нем, Городкове, произнесенных слов. После всех испытаний, растерзанности, равнодушия близких этот чужой человек, недавно ненавистно-враждебный, говорит о нем его тайное, задушевное, глядит ему прямо в сердце.
— А вы, а вы? Странник?
— И я… Как и все…
— И что же там слышите? За железным поднятым ветром?
— Новое знание. О земле, о природе, о душе, о рождении и смерти и о том, как жить человеку…
— Откуда оно и в чем?
— Может, из космоса. Может, из недр земных. Из нашего личного и всенародного опыта. Из горчайшей, другим неведомой горечи. Из тысячелетнего, другим неведомого ожидания. Из нашего богатства, обилия. И из нашей нищеты, обездоленности. Одним словом, из нас…
— И оно начинает звучать?
— Еще очень невнятно. И надо строить антенну, телескоп, сверхмощный приемник. Стальное ухо, нацеленное в зенит. Чтоб услышать сквозь все помехи, все неверные шумы чистый сигнал.
— Вы уверены, что он раздастся? Вы строите такой телескоп?
— И вы и я. Мы строим огромную, меж трех океанов, антенну из стали, огня, электричества. Вплетаем в нее хребты и синие реки, леса, цветы и хлеба. Наши смертные, быстротечные жизни и стремящиеся к бессмертию души. Который век всенародно творим небывалых размеров глазницу и ждем, когда в ней раскроется всевидящее ярое око, примет в зрачок новый свет. Мы все инженеры, от поющих синеглазых старух до убитых в полях пехотинцев, ибо строим нашу машину, неся в себе ее древний чертеж…
Дешевый, дрянной ресторанчик с затоптанным полом. Скверный, визгливый оркестр с прыщавым певцом. Подгулявшие парни, девицы, скользящий у столов официант.
Городков поражался быстролетности пушкаревской мысли, ее свободному планированию, внезапному вертикальному взлету и резкому пикированию к точно выбранной цели.
Пушкарев вдруг менял язык. Говорил о нефти, о технике, о строительстве комбината, делясь с Городковым выкладками, математикой стройки, погружая его в пучину своих дел и забот, открывая политический смысл своих действий, сложную игру и борьбу интересов. Как равному, доверительно давал беглые, острые характеристики городских и областных начальников. Жаловался, сомневался, фантазировал вслух. И вновь возвращался к своим метафорам о народе, государстве, пространствах, о высших истинах жизни.
Городков старался понять, как сочетается в нем выпуклая земная конкретность с вогнутыми объемными образами и мысль, подобно лучу, то ложится цветными спектрами, то сводится в огненный, жалящий фокус. Удивлялся преображению лица: нервное, подвижное, как ртуть, во всех чертах, чуть серебристые волосы, блестящие молодые глаза. Готов был его полюбить, тянулся к нему.
— Я хотел вам сказать… Этот мой фельетон… Вы, наверно, читали… Там было много обидного… Я сожалею…
— Ах, фельетон! Ну что вы! Не скрою, вначале — да, было обидно. Потом улеглось: все наши обиды ничто перед нашим единством и общностью. Сквозь обиды, сквозь страшные, нас раздиравшие пропасти пришли к единству, чтоб затем в сверхусилиях, не теряя ни крупицы, ни маковки, ни единой души и голоса, вымолвить новое слово жизни. Чтоб мир его услыхал!
— Да, вы правы!.. Мы такие!.. Чтоб мир услыхал! Городков почувствовал, как горят его щеки румянцем.
От Пушкарева к нему лилось напряженное, пульсирующее, светоносное поле.
— Я хотел вас просить, — сказал Пушкарев. — Ведь, в сущности, я одинок… И вам благодарен… Благодарен за возможность высказаться.
— Напротив, это я благодарен!
— У меня к вам есть предложение… Просьба… Почти личная просьба… Вы писатель. У вас есть дар. Вы владеете этим искусством. Вы — ядринец сердцем, как вы говорите. Для вас дороги и святы эти места… Идите ко мне работать. Не волнуйтесь, вы будете совершенно свободны! Наблюдайте, смотрите. Вникайте в процессы. Открою вам доступ повсюду. Ко мне в кабинет в любое время, на любые, самые тайные встречи. Открою все карты… И потом вы напишете, когда сочтете возможным и нужным. Ведь должно остаться свидетельство!.. Бросьте вашу газету! Оклад вам кладу инженерный… Я вас очень прошу… Понимаете, мне нужен человек, который фиксировал бы какие-то моменты нашей борьбы… Чтоб схватывал самую суть и давал оценки и устно и письменно. Сюда скоро начнется наплыв самых разных людей. Журналисты, иностранцы, люди культуры, политики… Меня не хватит на всех, и я нуждаюсь в помощнике, который бы меня понимал, вел эти встречи, контакты… Для вас же этот материал бесценный…
Ошеломленный, мгновенно пролетев мыслью весь сегодняшний несчастный день с изгнанием, семейными ссорами, с отчаянием, с тупиком, куда вдруг уткнулась жизнь, и с внезапным, ослепительным выходом, Городков кивал головой:
— Вы правы!.. Должно остаться свидетельство!.. Я согласен! Готов писать…
— Теперь же? Вот с этой минуты?
— С этой минуты!
— Тогда я вас приглашаю. Сегодня был пущен в строй новый хлебозавод-автомат. Теперь мы накормим горячим пшеничным, чистейшей выпечки хлебом наших рабочих, весь город, для которого больше нет проблемы хлеба насущного. Я ждал этого часа, ждал пуска завода. Хочу вам его показать. Хочу, чтобы вы увидели…
«Каменья, обращенные в хлеб, и в каждом таится камень», — путано прошелестели слова Голубовского, смешного, старомодного старца среди ветхих своих сундучков, истлевших писаний. А здесь — этот сильный ум, доверие этого властного, откровенного, искреннего человека, возможность действовать, жить, писать, все с новой черты, с новой открывшейся ему философии.
— Едем, конечно, едем! Посмотрим завод!
Они вышли. Из метели, словно ожидая их появления, бесшумно выкатила черная «Волга». Уселись, помчались в теплой бархатной полутьме, высвечивая лед на дороге.
17
Хлебозавод на окраине. Окутан паром, сдобным ситным дыханием. Словно плюхнулся посреди Сибири каравай, прожигая румяными боками снега и льды.
Подкатывают муковозы. Причаливают, как корабли, трутся железными конусами с надписью «Мука». Привинчиваются стальные присоски, и завод, вдыхая и чавкая, выпивает содержимое трюмов.
— Ну ты, «сыпь мука, лей вода», долго меня будешь держать?
— Ну, ты «крути, Гаврила», обождешь, не первый!..
Пушкарев с инженерами отошли к мигающему электронному пульту. Стояли в серебристом свечении. А Городков озирал возбужденно пространство цеха, перевитое жгутами и трубами, в которых гуляла и летала мука. Рушилась в красные шары магнитных ловушек, в лязгающие и шуршащие сита. Осыпалась в глубокие стальные мешки.
«Сотворение меня и хлеба… После недавней смерти и гибели — в новую жизнь… Он хлебопек, а я хлеб…»
Заглядывал в стеклянный зрачок на снежное, до синевы, вещество растертых зерен, прилетевших в сибирскую зиму из далекого лета. Вдыхал сладостные ароматы нивы, дождей, колосьев. Связывал с белизной свое возрождение.
«Сотворение меня и хлеба…»
Хромированная, в блеске деталей машина сбивает тесто. Урчащая квашня как чрево, как родящее лоно. Сквозь стеклянные пуповины — течение живых ручьев. Вода и мука, сладкие и соленые гущи, желтые маслянистые соки. Дрожь и биение. Ходят стальные бедра. Стоны и скрежеты. На машине — пот и испарина. Идет брожение и рост. Машина, подобно кратеру, в непрерывном извержении теста. Льется, как лава. В центре земли — не огненный, расплавленный шар, а пшеничное тесто. Течет на поверхность, и в нем раскрываются изумленные очи.
Городков шагал вдоль транспортера, ловя сладко-кислые телесные запахи.
«Тело, тело мое… Стремится стать, превратиться… Прозреть, поверить… Верю, верю, хочу!..»
Работницы в белых одеждах, молодые, млечно-румяные, касались теста, словно вливали в него свою женственность, пунцовость щек, наделяли тайными плодоносными силами. Одна, белорукая, отхватила комочек, прижала к губам, будто слово сказала, кинула обратно.
Крутились огромные барабаны. Мигали приборы. Дергались красные стрелки. Синеватый луч касался железной заслонки. Она отворялась, и из неба шлепал ком теста. Приносил за собой дух хлеборобной России. Лежа на противне хранил в себе красоту и силу несозданных черт.
Городков смотрел на этот чуть шевелящийся, зреющий, излучающий свечение ком, казавшийся чудом, явленном в их городке. В нем таинственной силой пребывал от века он сам, молодой и старый, его дети и еще не рожденные внуки. Сливалось прошлое с будущим. Таилось пророчество Пушкарева о грядущем великом знании.
«Печем всенародно свой хлеб… Добываем великое знание…»
Рокотали диски и лопасти, лепили батоны и булки. Выстраивали рядами на длинном жестяном полотне, и начиналось мерное движение несметных пшеничных стад, хлебных полков, батальонов, и рыжая молодуха протягивала тонкую трость, пасла их и правила, провожала в печь.
Городков следил за строительством хлеба. И думал о Ядринске, спящем в ночи после дневных трудов и усилий. А здесь рождались хлебы, чтобы наутро его накормить, вернуть ему силу и свежесть. Пушкарев и инженеры у пультов — в ночном радении о хлебе, в бессонных заботах о городе.
«Все лучшее, на что я способен… Вся доброта, белизна — детям, жене, друзьям… Пусть все у них будет счастливо… Пусть у них будет благо… Наутро — горячий хлеб…»
Печь мигала глазницами, уходила в пролеты накаленным, мерцающим телом. Как реактор, несла заряд несметных энергий.
Городков хватался за рычаг с набалдашником, открывал смотровое окно. Вспыхивал свет, и на черном противне, в жаре, текли хлебы, и в каждом копился взрыв, непомерная творящая мощь, способная строить мосты, пускать в небеса самолеты, топить в океане льды.
«И я, и я приобщился…»
Жар пропитывал хлеб, румянил бока. Казалось, в печи медленно восходит заря. В черноте, над Сибирью, над ночными льдами и реками вставало румяное хлебное солнце. И Городкову чудилось, что это и в нем восходит новая вера, возможность нового творчества.
Печь растворилась, и на свет, огнедышащие, словно слитки, выплывали хлебы.
— Ну как? Вам понравилось? — Пушкарев смотрел на него, улыбался. Железная гребенка сметала с противня булки, с мягким стуком ссыпала в ящики. Тележки катились к выходу, где их ждали грузовые фургоны. — Отведаем свежего?
Он переломил булку, выпустив из нее летучую душу.
Протянул Городкову. И тот благодарно принял.
Часть вторая
1
Спешить по морозу, обжигаясь взглядом о твердый солнечный воздух, через выскобленную холодом площадь, хрустящую от каждого шага к островерхому курчаво-мохнатому, убеленному за ночь театру, мимо афишной тумбы, краснеющей утонувшими в инее буквами, сквозь задний дворик со свежими следами метлы, с черенками лопат из сугроба, по деревянным, полированно-скользким ступенькам с брошенным обглоданным веником, хлопнуть дверью и из жестяного, яркого света — в полутемную, душно-сухую прихожую, где привратница кивает в ответ из старинного кресла с лоскутной подушечкой, пробегают, потирая ладони, красноносые актеры, из директорской слышны голоса: похожий на блеяние, раздраженный — директора и басистый, грозно-рокочущий — ссорящегося с ним Творогова, — и пахнет близкой невидимой сценой, пылью и сладким тленом, и стучат, собирая декорации для вечернего действия, и дрожит от стука хрусталик в старинном фонаре перед зеркалом.
Маша Горшенина вошла в зал для репетиций, уже многолюдный. Одни мусолили тетрадки с ролями, бубнили по углам, другие дурачились, радуясь утренней встрече, опозданию режиссера. Открыли облупленное пианино и били в него легкомысленно в четыре руки. Зал, дощатый, с провисшим верхом, с расколотыми плафонами, был сир, неуютен. Деревянные козлы, изображавшие конницу, стояли вразброд. Над каждым с потолка свисала веревка, за которую, как за саблю, должен был держаться наездник. В общей груде лежали растерзанная гармошка, старое кавалерийское седло со стременами, мятая труба и поддельные, тупые, из кровельной жести сабли.
Все это кинулось Маше в глаза, породив знакомое уныние.
«Наше утро, и мы все налицо…»
Гречишкина подлетела к ней, чмокнув в щеку, подбросив на ладони Машин серебряный медальончик, который давно ей нравился. Нацелила свое лисье личико:
— Машенька, что-то ты сегодня неважно выглядишь! Больна? Не спала? — с фальшивым участием оглядела ее. — А у меня, ты знаешь, Ольгунька такая разумная, ночью не пикнет. Покормлю, и спит, спит… А из меня молоко течет в три ручья, даже не думала до замужества, — она показала на свою набухшую, тяжело лежавшую грудь с проступившими на платье влажными пятнышками. — Располнела я, да? Тебе-то хорошо, худенькая, не рожала! Поэтому тебя Творогов на роль поставил. Ну прямо как девочка! Наша Маша, как девочка!.. Кому что, кому что! — она ощупывала ее талию, тонко смеялась.
Гречишкина долго, мучительно не могла выйти замуж. Вышла наконец за приезжего инженера. Родила дочь. Только что получила квартиру в новом доме. Гордилась перед всеми своей удачей. На правах подруги мучила Машу.
— Ты знаешь, мой Витя говорит: «Брось ты свой театр! У нас дочь, занимайся ребенком. Прокормлю вас!» А я ему отвечаю: «Нет уж, мой дорогой! У тебя комбинат, у меня театр. А на машину вместе будем копить!» Он ведь, Витя, очень хорошо зарабатывает. У Пушкарева на отличном счету. Быстро растет!
Витя был маленький, угреватый и верткий. Каждый раз поджидал ее на «газике» после спектакля, и она выпархивала к нему нарочито шумно, целовала, миловала его на людях. И Маша вдруг вспомнила, как еще недавно, заплаканная, прибегала к ней Гречишкина, рассказывая об очередном неудачном романе…
— Ты себе не представляешь, Машенька, какое это новое чувство, когда у тебя ребенок родился! Как жаль, что это тебе не знакомо! Начинаешь всех, всех любить! Какое-то обновление! Все в новом свете. Я только сейчас по-настоящему почувствовала себя женщиной…
Она теребила у Маши на груди медальончик, оглаживая ее по плечам. А Маша думала: только вчера Гречишкина говорила за ее спиной злые слова.
— Ты к нам приходи на новоселье, обязательно. Витино начальство явится, Пушкарев обещал. А из наших я Творогова, Слепкова и тебя позову. Представляешь — три комнаты, ванная, горячая вода, батареи, электроплита. Все новенькое, блестит! Витя чешский гарнитур выписывает. Всю мою старую рухлядь или сжечь, или распродать с барахолки. Я вчера со старой квартиры съехала, нажилась в слободе, хватит, сыта по горло! Захромы-то под снос, говорят. И то пора. Не понимаю, как мы можем жить в этих трущобах и играть в театре, говорить об искусстве? Не понимаю!.. Ты к нам приходи обязательно!
Дом родственницы Гречишкиной на окраине, у оврага, одноэтажный, бревенчатый, где ей отвели половину. И как благодарна и счастлива была Гречишкина, приведя к себе Машу, показывая теткины салфеточки и скатерки, медный с прозеленью подсвечник!
И, думая об этом, Маша поражалась: сколь прост и несложен рисунок их отношений, нелюбовей и ревностей, сколь прозрачна их хитрость и бесхитростна жажда жить, как слабы и неспелы их души, так и не успеют дозреть. И, испытывая к ней и к себе изумление, прозрение и жалость, почти любовь, она сняла с себя серебряный медальон, надела на Гречишкину:
— Вот, я хотела тебе подарить… К рожденью Ольгуньки, к новоселью… — И, поцеловав ее, заметила недоверие и радость в ее мигающих глазках.
Слепков, развалясь в старинном поломанном кресле, собрал вокруг слушателей. Витийствовал, двигая грозно бровью, выпучивал белки. Старейший в театре, сытый и ленивый, как отъевшийся кот, пользуясь славой любимца публики, работал спустя рукава, скверно учил роли. Играя купцов и промышленников в сибирской неисчерпаемой, как нефть, драматургии, выезжал на кряканьях, уханьях, рыках, засучивании рукавов на здоровенных волосатых ручищах, на пьяной, бурной игре, оставаясь в душе ленивым, холодным и давно износившимся.
Теперь он собрал вокруг молодежь. Рассказывал, как ездил недавно в Москву, побывал в актерской студии у известного режиссера:
— Да, так вот… Поставил он, значит, вокруг себя студиозов и задает им задачку в виде, так сказать, разминки. «Как, говорит, должен, по-вашему, умертвить себя мавр Отелло, если при нем в этот миг ни кинжала, ни пистолета? Как он в припадке ревности наложит на себя руки?» И тут же начал показывать… Делает вот так!
Слепков с силой откинул голову, обнажив клокочущее и бурлящее горло.
— Вот сюда вот себе!
Он приставил к кадыку твердый, как зубило, палец, погружая его в связки жил и сосудов, багровея, хрипя, вываливая на лоб глазища.
— И убил!
Слепков отнял палец от горла, шумно дыша. Актеры завороженно смотрели.
— И вот он на глазах у всех гениально себя убил, так что, знаете, дух вон, да и только, и предлагает студиозам вслед за собой придумать что-нибудь этакое. Ну, те толкутся беспомощно, потрясены, ничего придумать не могут. И тут, я черт меня, знаете, дернул, и говорю: «Вы убили себя гениально, но ведь можно и так…»
Слепков, не вставая, повел руками, разгоняя круг слушателей, открывая перед собой пустое пространство.
— И что я сделал?.. Разбегаюсь, как вихрь, как барс, не знаю, откуда силы берутся. Разгоняюсь до нечеловеческой скорости… Отрываюсь в скачке от пола, вытягиваюсь горизонтально над землей, на уровне груди… Лечу головой вперед, как стрела, к бронзовой ручке двери. И бьюсь об нее, раскалываюсь, рассыпаюсь в страшном ударе!.. Смерть!.. Все подбегают, и он первый! Подымает меня… Слезы на глазах. «Вы, — говорит, — голубчик, нашли такое решение, перед которым я преклоняюсь!»
Маша видела потное, воспаленное лицо Слепкова, его мясистую пятерню. Испытывала к нему легчайшую брезгливость, презрение. Месяц назад в поисках места заезжал в Ядринск гонимый ветром неудач когда-то подававший надежды режиссер. Провел у Слепкова вечер за бутылкой. Рассказывал столичные полуистлевшие сплетни, прогорклые анекдоты о Мейерхольде. И эту историю, где героем был Охлопков. Слепков забыл, что Маша забегала на минутку и слышала эту историю. И теперь, бог весть почему, не прощая ему его ложь, его пошлость, она сказала с легкой усмешечкой:
— Поразительное совпадение, Юрий Тимофеевич! Точно такой же эпизод мы, помнится, слышали от приезжего Коломийца, но прыгали не вы, а Охлопков в присутствии то ли англичанина, то ли немца.
Молодежь захихикала. Слепков набряк гневом. Расхохотался хрипло и, как казалось ему, благодушно:
— Ну уж и пошутить нельзя, Машенька! Не даст разыграть!
Глаза его с ненавистью скользнули по ней. В зал вошел Творогов, шумно и грозно, переживая ссору с директором. Захлопал в ладоши:
— Так!.. Внимание!.. Хватит наконец демагогии! Кто-то ведь должен заниматься искусством!
И Маша, откликаясь на его раздраженный и властный голос, ловя в мохнатом окне размытые образы солнца, успела еще раз отрешенно подумать:
«Наше утро, и мы все налицо…»
Репетиция шла. И Маше все казалось ничтожным и вялым. Поддельное, под народный говорок, многословие, обветшалость и дряхлость зала, домашние, кто в чем, одеяния актеров. Путали роли, пытались играть, но ложно, и сникали, чувствуя фальшь. Творогов кричал, зажигался, кидался и тормошил. Выкрикивал, выклеивал действо. Расставлял актеров, крутил и менял местами, но общий вялый итог от этого не менялся. И сама она казалась себе тусклой, бездарной. «Бог мой, неужели не чувствуем, как, в сущности, все нелепо: мы, наша игра, наши роли?..»
— Так, еще раз попытаемся!.. Чувствуйте непрерывность потока и одновременно: нельзя дважды ступить в ту же воду… Вот кончилось первое действие… атака… птицы на саблях… Рубаки, раны, бинты… Часть бойцов осталась на поле… А эти двое, Петька и Федор, чудом уцелели и теперь отдыхают… И вот здесь наша с вами находка! Складывайте вещи погибших, тельняшку, гармошку, сабли, как на курган… Но труба уцелела! Труба уцелела, блестит, готова опять заиграть атаку! Эту сцену давайте… Маша, очнись! Ты ведешь эту сцену! Откровеннее, резче!.. Выход на тебя, на тебя!.. Ну представь, кончился бой, и эти два парня, оба хороши, молодцы, и ты хочешь успеть ухватить! Ты же женщина, Верка, Венерка!.. Сталкивай их лбами, играй!.. Не забывайте: мы народный театр, так дайте же народный дух, темперамент! Дух! Темперамент!.. Ну пожалуйста, начнем со второго действия.
Маша, приступая, глухо и слепо, слушая покрикивания Творогова, не помня слов, в повороте головы и лица, сквозь закрытые, сонные, на окно устремленные веки, вспомнила морозное солнечное утро, и от этого будто с ветки осыпался иней, и она распрямилась, тугая и гибкая, и открылось зрение и цвет, налетал долгожданный звук, Маша ловила его, успевая поражаться преображению.
И не было обшарпанного, лысого пола, провисшего потолка. Молодая вишня шумела от ветра, вся в крапинах ягод. Купол собора желтел в листве. В кружеве крестов носились стрижи. Телега стояла под вишней, и сено свисало на спицы. Девка Верка сидела в телеге, положив на колени тарелку ягод…
Все распалось. Обшарпанный пол. Тетрадка с ролью. Творогов пришлепнул в ладоши:
— Так, так!.. Кое-что намечается… А ну повторить сначала!..
2
Уже оделась, собралась уходить: домашний обед, успеть накормить Алексея, а может, пообедал у матери, но все равно к ее приходу заглянет, и вечером снова спектакль, и играй в пустом зале, населяй пустое пространство купцами, казаками, любовницами, картонными страстями, и слезы несоленые, и вино непьяное, и косы приколоты, и у Слепкова отклеился ус, и два-три размытых случайных лица среди красного плюша кресел, под ветхой лепнинкой, под стекляшками люстры.
Так думала она, выходя, когда возникла перед ней волчья лохматая шапка, опаленная поверху, и малиновое от мороза, яркоглазое и хмельное лицо надвинулось на нее.
— Здрасьте! Так вот ты где? А я Солдатов. Не забыла?
— Солдатов? Ну конечно, не забыла! Все бежите, никак не согреетесь? Что, снова озноб напал? — Она усмехнулась, вспоминая недавний солнечный снег на вырубке, рабочий вагончик и кто-то вывел на снег овчарку, холил ее веником. — Ну конечно, не забыла!
— А приглашала на танцы. В баньку. Я думал, правда. А ты обманывала. Ты артистка!
— Уж простите, так получилось…
— Слушай, поедем со мной?
— Куда?
— Поедем! Увезу тебя!
— Да что вы! — Она смеялась, разглядывая лицо под волчьими космами, думала, что он шутит. Но лицо напряглось, натягивалось и дрожало у скул, трепетало губами, зрачками.
— Слушай! Ты цветок подарила! И я сразу решил — судьба! Поедем! Я судьбу чую, от нее бегу, а она настигает! Ты — судьба! Обманывала, а я угадал! Поедем!
— Да куда мы поедем? Зачем?
— Решайся! Пойми свою жизнь! В секунде жизнь, поняла? Нет ничего, пустота, а решила в секунду, и все взялось! Как пуля! Другая жизнь за секунду! Я ничего не боюсь! Ножа не боюсь. Штыка не боюсь. Войны не боюсь, чумы! Секунда, и нет ничего! Секунда, и все появилось! Решайся!
— Да на что решаться! У меня все есть. Я замужем. Не хочу другой жизни. Я счастлива.
— Нет, не то! Все хотят другой жизни! Другого счастья! Один раз живем! Догадайся: вся жизнь в наших руках! Ты цветок подарила. Поедем!
— Да я пошутила. Вы же сами сказали — артистка.
— Я тебе браслет принес! Из земли выкопал! Все бросал, а его возил! На! Для тебя берег!
Он вынул из-за пазухи плоский серебряный браслет, весь в цветах, письменах и узорах. Протянул ей:
— На! Для тебя! В земле сто лет пролежал! Для тебя!
— Солдатов, милый, ну что вы? Вы верите в то, что вы говорите? Куда мы можем поехать? Вы да я?
— Скажи, куда хочешь? В Африку? В Антарктиду? Хочешь, в тайгу уйдем. Никогда никого не увидим, до смерти! Избу своими руками срублю. Рыбу ловить, зверя бить! Ты, я!
— Да разве мне место в тайге, посмотри!
— Не надо! В Москву повезу! В шелк одену! У меня руки — во! Хочу — угли голыми руками гребу! Хочу — рубли! Каждый день будешь платье менять! Как в посольстве! Министры ахнут!
— Солдатов, вы благородный, прекрасный человек. Вас несет без путей и колотит, колотит обо все углы. Вам нужна добрая, кроткая, терпеливая женщина, которая бы ходила за вами, рожала вам детей, стирала рубахи, и вы успокоитесь, милый, безумный Солдатов!
— Нет, не то! Не хочешь сейчас, не надо! Ждать буду! Сама придешь! Побежишь, станешь звать, и приду! Потому что судьба, как пуля. На браслет, держи… Ухожу!
Сунул ей в руки серебро. Рванул на полушубке крючок, будто его душило невысказанное, огромное и немое, вставшее дыбом в душе. Выскочил вон.
А она осталась, держа в руках браслет.
3
Безумное и хмельное было в его словах, но и грозное, привлекательно-чудное. Тупое и дикое, но одновременно прозрение. Яростное и слепое, но и светлое, озаренное. И браслет-то он выхватил наподобие ножа. Но был беззащитен, и хотелось приласкать его, снять с головы опаленного волка, положить на лоб прохладную ладонь. Чудилась некая угаданная правда о ней, от которой всю жизнь отбивалась, не умела отбиться. Бесформенный, охваченный пламенем ком пролетел, и в огне сверкнули на нее чьи-то очи. Так и жила весь день, стояла за хлебом, готовила обед, играла вечерний спектакль. И вот сидела теперь одна перед тройными старинными «петербургскими», как их называли в театре, зеркалами, среди вороха кружев и лент, коробочек с гримом, флаконов, бессчетно отраженная среди сумрачно-радужных граней, будто ее раскрутили в застывший зеркальный вихрь.
Услышала: далеко, сквозь пустой театр, шаги. Твердо, ровно. К ней, сюда. Ближе, ближе. В сумерках соседней прихожей сквозь раскрытые двери возник человек. Еще неясный лицом и ростом. Шел, вынося из тьмы безымянное, но уже налетающее, обретающее очертания, как чудо, расталкивал темноту, оставляя багряный, темно-гаснущий след. Шагнул на порог, под люстру. Пушкарев, осыпанный по плечам нерастаявшим инеем, держал в руках букет роз. Улыбался с поклоном, с тихим блеском смеющихся глаз. Клал перед ней живую, дрожащую гору цветов, рассыпая их перед зеркалом на колючие зеленые ветки с тугими остриями бутонов, полураскрытыми, еще в движении лепестков, соцветиями, тяжелыми, твердо вырезанными росистыми чашами. Только что из сада, с хрустом садовых ножниц, с запахом дождя и земли. Наполнили комнату, погасили все остальное, били, как красный прожектор. И она, пораженная, ослепленная, тянулась к ним, боялась тронуть, медленно погружала в них горящее лицо, восхищенную, изумленную улыбку, в их глубину, прохладу, в их бархатно-чистые запахи, чувствуя шеей, губами бесчисленные живые касания.
— Боже мой! Откуда?
— Простите, опоздал на спектакль… Торопился, хотел вас застать…
— Откуда они?
— Это вам. Все эти дни я хотел… Тогда наша встреча… Я чувствовал себя виноватым…
— Разве есть такой сад?
— Есть такой сад и садовник.
— Боже мой!
Ночь, мороз, глухомань — и букет красных роз. Их Ядринск, ледяной и железный, — и букет красных роз. Их пыльный, убогий театр с пустыми рядами, с остывающим стоном печей — и букет красных роз. Упал из его рук. Зеркала подхватили, ввергли в вихрь отражений. Огромный, бесшумный взрыв, созданный из алых цветов. Он тихо смеется.
— Не удивляйтесь. Их привезли самолетом. Еще днем они были в Москве.
— Разве возможно такое?
— Ну конечно, такое возможно…
Она видела: он рад ее счастью. Радовалась тому, что он видит. Улыбалась, ловя на себе его взгляды, когда доставала глиняный старый кувшин, стирала кружевом пыль, черпала кружкой воду. Накалываясь о черенки, по одной погружала в горловину ветки, расправляя их повисшую тяжесть.
— Их страшно нести домой. По такому морозу. Пусть останутся здесь…
— Конечно, пусть остаются…
Ей казалось, она ждала его появления. Весь день, с утра, был напряженным внутренним знанием того, что случится.
Он помогал ей одеться. Иней у него на плечах стал мокрой росой. Лицо его розовело, несло в себе отсвет близких цветов. Они прошли сквозь сумрачный, опустелый театр, и она чувствовала оставленный в сумерках пьющий воду букет.
Он провожал ее к дому, тихо беседуя, но она, повинуясь не себе, а движению окольных сине-белых лунных проулков, уводила его мимо дома, погружала в деревянное бестелесно-прозрачное стояние очерченных тенями домов.
Не было дневного мороза, а в голубых распахнутых небесах, среди легких колец и дуг, наполняя мир их бесшумным звучанием, стояла луна. Светила из пустынно-пышного неба на крыши в притихшем блеске, в тончайших, хрупких сетях, упавших от деревьев и труб, от резных карнизов и дымников.
— Хорошо!.. Удивительно!.. Я так редко бываю здесь, в старом городе. А здесь хорошо, — говорил он, прислушиваясь к пиликанью гармошки за деревянной стеной дома.
— Вы все там, у себя на горе, — отвечала она, глядя, как в морозном стекле проплывает красный нитяной абажур.
— Раньше бывал здесь чаще. Вот у этой часовни. А дальше дом декабриста, пожарная каланча. Верно? Я не ошибся?
— Вы здесь раньше гуляли? Когда?
— Как только приехал. Поселился здесь, в старом городе. Дел никаких. Никого не знаю. Никто меня не знает. Вот и гулял.
— Значит, успели узнать…
— Может, и вас тогда встретил? Прошли, рукавами коснулись. Да не заметили! Случая не было…
— А теперь случай…
Они шли в хрустах, звонах, рассыпали их по сухому, твердому дереву упрятанных в глубину тротуаров. Весь город откликался чуть слышно деревянно-бревенчатым эхом, разносил их шаги до окраин.
Глаза его оделись прозрачной влагой, видели глубже, острей. Мерцающую зеленую струйку льда внутри чугунной колонки. Спящих нахохленных галок, скрытых в завитках колокольни. Прошлогоднюю бабочку в слуховом окне. Крупинку позолоты на ржавых стрелках остановившихся древних часов. Она улыбалась своей прозорливости. Смотрела на две их скользящие, в рукавах сплетенные тени.
— Вы сказали: думали думы… О чем?
— О разном… Здесь умер мой отец. Не помню его совсем… Я ходил и думал: вот и он здесь когда-то прошел. Взгляд его упал на эту вывеску, на этот карниз, и теперь, спустя столько лет, наши взгляды встретились… Или человек идет мне навстречу, — может, он видел отца? О чем-нибудь с ним перемолвился в какой-нибудь очереди за керосином, за хлебом. И вот я иду за ним следом… Или вдруг, особенно ночью, внезапная мысль: а что, если отец не умер, а просто состарился здесь, укрылся, и там, за углом, за этой часовней, поверну и увижу его? Бегу, тороплюсь за угол — пустота, белый снег, собака бежит…
Она слушала его чутко и поражалась. Неужели это тот, почти мифический, всемогущий, нелюбимый в городе человек, который два дня назад выхватил ее властно и грозно из месива льда и железа, увез, ослепленную зрелищем убитого зверя, — теперь, утонченный в своей худобе, хрупкий в лунном свете, как юноша, шагает рядом, доверяя свои одинокие, никому не известные думы?
— Вы приехали сюда, и никто не догадывался о вашем здесь появлении. Но ваши планы уже были с вами. Здешняя жизнь стала другой! Хотя никто и не знал.
— Вы правы, вы правы! Ходил по городу и уже носил в себе комбинат. Сколько раз среди этих домишек, ржавых вывесок и заборов создавал комбинат прямо в небе, во всей его красоте! Нес через город его армаду, пока не утыкался в какой-нибудь овраг. Очнусь — пустырь, рассохшаяся банька.
Луна скрывалась за крышами, выпуская клубящиеся тени и свет. И казалось: по карнизам и трубам, отталкиваясь бесшумными лапами, бежит пушной, легкий зверь, развевая синеющий хвост.
Они поднимались по Никольской слабо хрустящей лестнице на волнистую гору. Среди мерцающих скатов остроконечно тянулись шатры и главы. Выносили к луне засахаренные бутоны, тугие, готовые треснуть. Распирали гору подземными корнями и клубнями. Лестница цепко хваталась за кручу. Вдоль нее прозрачно круглились деревья. В каждом, застекленный ветвями, горел фонарь.
— Крутая… Не устали? Мы не быстро? — спросил он, опережая ее на ступеньку.
— Да мы все по этой лестнице, от мала до велика… — шагнула она к нему на приступку.
— Я сказал вам: иная жизнь… Знаете, когда я приехал и бродил по городу, было необъяснимое чувство. Тут, в Ядринске, очень давно таится, поджидая меня, возможность иной жизни. Здесь уготована мне, быть может с рождения, иная жизнь… Рос, работал, бог весть где меня носило, столица, окраины, армия, пускал заводы, ездил за кордон, а тут терпеливо все эти годы поджидала меня моя жизнь, другая… Какая? Не знаю… С вами так не бывало?
— Со мной? — она погружала в лестницу скрипы, слыша, как они отлетают и гаснут к вершине, к подножию, исчезают в горе и в небе.
— Ты живешь, иногда очень сильно, ярко, часто безумно. Тратишь свою жизнь, но одновременно чувствуешь: в тебе существует возможность другой жизни, неизвестно какой, но другой. Будто около твоего главного сердца, среди его стуков и грохотов, притаилось второе, чуть слышное, иногда совсем замирающее, — как слабый зародыш, в котором таится твое второе дыхание, твоя вторая, ждущая тебя терпеливо судьба… Вы такое не чувствуете?
Она слушала дрожание деревянной струны, натянутой по горе.
— Ты занят огромным делом. Тебе кажется: ну еще лет пять, ну еще лет десять, еще один комбинат, еще один город, и эти железные посевы дадут наконец свои долгожданные всходы, свой ослепительный результат, связанный с преображением земли. В этом готовом наступить, но всегда ускользающем преображении ты усматриваешь свою главную цель. Но в то же время чувствуешь: в тебе, глубоко, есть вторая твоя сердцевина, дремлющая малая почечка. Спилили основную вершину, и начнется рост, вырастет другая, непохожая ветвь, с иной листвой, с другими цветами, плодами… Такое вы не испытывали?
Она улыбнулась. Ей казалось: она медленно движется вверх, а лестница течет к ней с горы, и в их встречном движении возникает недвижность — ледяной неподвижный шар дерева, в нем недвижный синеватый фонарь.
«Лестница… Мы все, от мала до велика… Иная жизнь… Спустилась от вершины к подножию, глядь, и жизнь прожита…»
Та девочка с легким цоком, чуть касаясь ступенек, несет в волосах белый бант, туфелька вот здесь соскочила… С Алешей под этим фонарем целовалась, и он губами из губ отнимал кисть черемухи, такой горьковатой… Вся в черном спускалась, проводив на кладбище маму, и вот тут покачнулась, кто-то бережно взял под локоть… И когда-нибудь в старости задохнуться на этой ступеньке, вцепиться в перила и вспомнить: когда-то стояли, фонарь искрился сквозь лед, и кто-то, почти позабытый, говорил про другую жизнь…
«Мы все, от мала до велика…»
Лестница возносилась в лунную туманную высь. Погружалась в земляную мерзлую толщу. Круглились башни и главы. В той глубине, откуда они вырастали, в незримых подземных палатах, расписанных цветами и птицами, пелись песни, горели свечи, текли погребения, венчания, лили дожди, шли снега, и скоро, так скоро и она по шатким ступенькам уйдет в глубину горы, в подземные, чуть слышные звоны. Но пока эта влага в глазах, морозное жжение голой руки, схватившей перила, и он, наклоняясь, вопрошает жадно, отгоняя от губ перламутровое облачко пара.
— А с вами такое случалось?..
Арка в кремлевской стене с крупицами былых изразцов. В открытый проем кто-то смотрит, зазывает их пристальным взором. Повинуясь, прошли под аркой. И ей показалось: за ними неслышно захлопнулась дверь, и они остались одни среди ровной, бесшумной белизны кремлевских снегов и соборов, и тот, кто их звал и манил, — все та же луна, высоко, одиноко светившая.
— Летом здесь были пушки.
Он искал их глазами. Нашел, зорко, издали радовался их темному, чугунному блеску. А в ней мгновенное видение: ходили тут летом с Алешей, весь луг был зеленый, в золотых одуванчиках, и у пушек паслись белые козы.
«Все говорят о другой, притаившейся жизни. И он, и разудалый Солдатов. Секунда — и новая жизнь. Перейди черту — и другое…»
Никольский собор возносился огромно в жестяных куполах. Держал среди них луну, раздувавшую синеватое пламя. Маша смотрела, — луна коснулась железного шара, стала за него уплывать. Взгляд ее был в куполах, среди бугров и вмятин, белого блеска.
«Я… эта ночь… все известно… пусть до половины исчезнет».
Она ждала, когда луна уйдет до половины в главу собора. А пока своей властью и мыслью отсылала его, и он удалялся послушно в чуть слышных скрипах. Стоял далеко у пушек, и она сквозь пространство чувствовала его движения и шорохи.
«Пусть до половины погаснет…»
Железная кровля вырезала в луне полукруг. Глазам было больно и ярко от черно-белой отточенной кромки. Думала:
«Новая жизнь… И мне сейчас хорошо…»
Она подзывала его неслышно, торопя приближение, и он откликался, словно чувствовал ее волю и мысль. Подошел и стоял беззвучно. Следил за скольжением невидимой стрелки. И когда луна погрузилась до половины в главу, одев ее тончайшим свечением, Маша в лунном затмении зрачков повернулась к нему, на его робкое: «Не замерзли?» — положила руки на плечи, прижалась к наклоненному в радости, счастье лицу, к сухим горячим губам.
— Нет… Хорошо… Не замерзла…
4
Руки перепачканы краской. Скомканная, брошенная на пол тряпка в подтеках и кляксах. Рабочая рубаха, продранная на локтях. Мокрые кисти и банки с мутной серо-зеленой водой. А посреди всего, в исчезающей полосе готового потухнуть солнца — заполненный лист.
Горшенин закончил картину. Не отпускал ее, продолжал любоваться. Между картиной и его грудью еще двигалось многоцветное поле, соединявшее их. Еще неслись из груди снопы бесшумного света, ударяли о лист, оставляли изображение.
Снова взял кисть, тронул воду, краску и, едва прикоснувшись, бумагу. Вычерпывал из себя последние капли цвета, чувствуя, что не мелеет при этом. Весь налит, пропитан, до слезного переполнения глаз, силой, свежестью. Его грудь словно колодец, прорытый к неиссякаемой глубине и одновременно несущий ослепительное отражение неба.
«Удивительно, — думал он. — Я подарил ее или мне ее подарили? Я наградил ею или меня наградили? Может, и есть другое, более высокое счастье, но, должно быть, оно возможно за пределами жизни…» — он все еще касался картины, теперь уже одними глазами.
На картине он и жена, взявшись за руки, шли по красному лугу среди трав, шмелей, осыпанных росой паутин и белела в лугах старинная ядринская колокольня. Под ними, на исчезнувшем синем лугу, молодые его бабка и дед шли, взявшись за руки, и белела в лугах все та же кремлевская колокольня. И туманился третий луг, с еще не рожденными травами, и двое других, нерожденных, шли, взявшись за руки, и исчезнувшей белизной светилась в лугах их ядринская колокольня.
Кто-то звякнул на лестнице ведрами. Горшенин очнулся, прислушивался к соседскому кашлю и шарканью. Прошла за окошком машина, и он проследил ее ход. Почувствовал, что плечам его холодно, дома не топлено. Вдруг понял, что голоден, за работой забыл пообедать.
Между ним и картиной понеслись, сначала редкие, потом все быстрее и чаще, звуки, ощущения, мысли, отделяли его от листа, разрушали цветоносное поле. И вот он уже ходит по дому, глядя на сложенные у печки дрова, накинув на плечи свитер, жует на ходу черный хлеб, изредка беспокойно оглядываясь на картину.
Весь день над ней просидел, а в доме нет денег, Машину зарплату доедают. Он опять уклонился от заработка, хотя предлагали в клубе оформить стенды, написать плакаты и лозунги. Кому нужны его акварели? Наполняет ими полки и папки без счета, а потом они бесследно сгниют.
И, страшась этой мысли, суеверно ее отгонял: нет, не сгниют, не бесследно! Голубовский хлопочет о выставке. Ядринское письмо. Век нынешний, век минувший. И он, Горшенин, из нынешнего… А десятку врачихе отдать? А оградку покрасить? А бабушка, а мама, а Маша?
Заботы, волнения, не похожие на недавнее счастье, владели им. Он вытопил печку, чтоб вечером Маша не мерзла. Приготовил обед, чтоб пришла с работы, поела. Спрятал картину в толстую папку, к другим. Взял эту папку и завернутую в газету отреставрированную парсуну и отправился в музей к Голубовскому.
Голубовский, весь день страдавший от болей в желудке, помолодел лицом, сложил губы в восхищенную улыбку, держал развернутый свиток парсуны, воззрясь на воина в казацких одеждах, на красную птицу, на весь сверкающий военный убор.
— Ермак, несомненно, Ермак! Ну и что ж, что нет подписи! Надо заявить о находке! Выставим ее в обозренье! Жемчужина! А была ведь, как уголь. Ну какие твои руки, Алеша, воскресительные!
— Иногда, Егор Данилыч, мне кажется, что все мое дело тщетно. Зачем работаю? Зачем живу? Кому нужны мои вещи? Пишу их — счастлив. Кисть отложу — и страхи, неверие. Может, я ошибаюсь, Егор Данилыч? Надо взять кисть и идти рисовать во весь рост рабочего с мастерком? А то сижу, малюю ненужные листы, а жизнь-то кругом совсем другая. О другом говорят, другого хотят, в другое веруют.
— Стыдно, Алеша, стыдно. Ведь ты же исторический живописец. Это твое дело. И чего терзаешься? Руки-то у тебя золотые. Смотри-ка, парсуна… Было, совсем исчезла, все о ней забыли, под ноги кинули. Ан нет, опять подняли! Искусство так просто не умирает. Оно только прикидывается мертвым, когда холодает, а потом опять оживает. Вот подожди, откроем выставку, посмотришь, какой будет успех. Весь малый зал — тебе! Всю твою папку развесим. Уже пора окантовывать, Алеша, пора в рамки, под стекла.
— Не верится даже, Егор Данилыч…
— Будет, Алеша. Верь. Я здесь каждую вещицу вот этими руками собрал, по крохам музей слепил. Даю тебе, Алеша, честное стариковское слово — откроем твою выставку, покажем тебя широко, и своему брату ядринцу, и залетным пташкам.
Голубовский смеялся, синел глазами, и Горшенин наполнялся его верой, благодарный ему.
5
Там, за стеной, где бабушкин старенький коврик с темными маками, старинным ее рукоделием, — «приданые маки», — говорила Горшенину мать, — там, за «придаными маками», соседская ссора и гвалт. «Чтоб ты пропала! Сгинь! Ноги моей больше не будет!» — «И ладно, и проваливай, ладно! Глаза мои на тебя не глядят!» — все это там, за стеной. А здесь, перед маками, на широкой постели, на высоких, взбитых подушках, бабушка его подзывает:
— Алеша, не уходи, дай руку!.. Слышишь, не уходи, умираю!.. Еще немного побудь, а там и пойдешь… А там и пойдешь меня хоронить. Сам, ты сам закопай, слышишь? Никому не давай!.. Вера, где ты? Подойди ко мне, Вера… Прости меня, Вера!.. Сколько я тебе хлопот причинила, всю жизнь тебя связывала… Отпускаю… Разрешаю… Милые вы мои, простите меня!.. Отхожу от вас, отхожу…
Ее маленькая белая голова стремилась подняться. Шея бурлила дыханием. Слабое, щуплое тело, вечно дремавшее, вдруг пробудилось. В нем бились оставшиеся последние силы, стремились вон, а тело в ужасе натягивалось, не пускало, будто под вязаным сбитым одеялом пульсировала пружина — вот-вот распрямится и стихнет.
Горшенин держал ее сухую, с горячими выпуклыми косточками руку, чувствовал, как цепко она схватилась. Умоляет, упорствует, но ее отрывает, относит. Он не может ей быть спасением, и это их последние живые касания.
— Мама, мама, она что, умирает? Что же делать? Врача? Лекарства?..
Мать щупала бабушке пульс, клала ей руку на лоб. А та возводила глаза, старалась их обоих увидеть.
— Алеша, ты мать не бросай! Слышишь, мать не бросай! Дай слово, обещай, что не бросишь!.. Бросишь ведь, знаю, бросишь!.. Вера у меня золотая!.. Вера, дочь моя, где ты? Где же ты?.. Боже, а ты кто такая? А ты, а ты кто такая?.. Вера, Вера, ты где?..
Она водила глазами, не узнавала дочь, ослепленная другим, надвигавшимся, страшным видением. Не хотела его, стремилась обратно в их голоса и лица. Душа ее сотрясалась, выдиралась из плоти.
— Вера, поцелуй меня, Вера!..
Горшенин чувствовал: кто-то невидимый и огромный стоит у окна и ждет терпеливо, давая бабушке настрадаться последним страданием, надышаться последними вздохами, а потом протянет к ней свои руки, поднимет на них ее жизнь, и унесет.
Он видел, остались минуты и что-то надо успеть: то ли прощаться, то ли стараться запомнить, то ли что-то еще. Но не было догадки и сил, а лишь оцепенение, почти равнодушие и лежащая на поверхности мысль: бабушка умирает.
— Вы дрова, дрова уберите! А то поплывут. Опять в Иртыш уплывут… Братья, Миша, Коля, скоро увидимся! К вам, к вам!.. Господи, прими душу рабы твоей!.. Не суди мя, господи, по грехам моим, а суди мя, господи, по милосердию твоему!.. Боже мой, боже мой, боже мой!..
Горшенин, оцепенелый, окованный по рукам и ногам, слушал ее молитву. Знал, что минуты кончаются. Те самые, которых боялся и ждал. Готовился к ним долгие годы, отдаляя, отталкивая из ночи в ночь колдованиями. А теперь, когда наступили, была пустота и холод. Цепенящая в душе неподвижность.
Его взгляд скользил по лекарствам, одеялу, по бабушкиной руке. Упал на пол, где стояли стоптанные бабушкины шлепанцы из красного войлока. И вид этих смятых, изношенных шлепанцев вдруг остро и слезно, с горячим, рыдающим вздохом разбудил его. И не мысль, а больное, жаркое знание: она умрет, ее унесут из дому, а шлепанцы останутся здесь. Ее уже не будет, а шлепанцы сохранятся, неся в себе отпечаток ее исчезнувших ног.
Это чувство разбудило его. Кинуло к ней навстречу. И, еще не понимая, что делать, но не желая прощаться, одним своим страданием, любовью, горячей, протестующей волей он заслонял ее от того, дожидавшегося, подставляя себя, а ее уводил, загораживал, обманывал и хитрил. Что-то создавал и развешивал между нею и тем, безымянным, какой-то вздор, чепуху.
Она говорила:
— Еще виновата, каюсь… Господи, и ты прости, прими мя во царствие твое!.. Вера, Алеша, где вы? Хлопот вам будет со мной… Обмывать, хоронить, поминки… Простите меня!..
— Бабушка! — перебивал Горшенин. — Бабушка, хочешь чаю? Сейчас чай поставим! Крепенького, как ты любишь. А я булки принес. Знаешь, какие булки? Знаешь, какие булки стали у нас выпекать? Белые, сдобные. Сейчас все вместе чаю попьем… булки с маслом. А? Хочешь?..
— Да что ты! Я умираю! — потрясенно, с рыданием ответила бабушка. — Не видишь, я умираю?..
— А знаешь, кого я встретил сегодня? Корнеева, помнишь? Ну, мы еще вместе учились… Ну, ты его еще не любила… Он меня тогда к яме подвел и спихнул, а ты за ним погналась, как орлица… Остановил меня, о тебе спрашивал. Велел кланяться, если ты его еще помнишь.
Бестолково и путано он сбивал ее с мысли. Сбивал саму мысль о смерти. Не давал этой мысли подняться. Только хотела взлететь, а он ее рушил обратно, в пыль, к земле, как майских жуков. Верил: от него сейчас все зависит. Умрет, не умрет. Ни секунды бездействия, равнодушия, холода, — бабушкина зыбкая жизнь колеблется на его вере, любви и деятельности. И он торопился:
— Представляешь, у него, у Корнеева, у бывшего врага моего, дети теперь, и он никакой не враг и даже приятель. Удивительно, верно?
— Алеша, о чем ты?.. Ведь я умираю… Прощайся со мной…
— А Маша, знаешь, Маша моя новую пьесу играет. Репетирует с утра и до ночи. Через месяц премьера. А вот возьму да и поведу тебя! Возьму да и поведу! Выкуплю ложу. А? Пойдем? В ложу тебя на руках донесу!
Он видел: что-то по крохам сдвигается. Своей суетой, говорливостью он отвоевывает обратно малые доли времени. Лукавством и хитростью отводит бабушку от черты, за которую та устремилась. Оттаптывает, оттесняет от края. И продолжал горячо:
— А я все, знаешь, картину никак не начну! Не готов, не готов! Все нет света в душе, все нет покоя и ясности… А ведь, знаешь, я, пожалуй, из-за тебя стал художником. Ты меня рисовать научила. Помнишь, оленя мне нарисовала? Ну помнишь, синий олешка?..
Он верил в возможное чудо.
И чудо свершилось. Напряженным, верящим духом, обдираясь до крови, до обморока о встречное, слепое каченье каменного колоса, он замедлял его ход, останавливал. Чувствовал того, незримого, за спиной. И когда изнемог, обессилев, оглянулся, того уже не было. Сквозь окошко — зимнее солнце. Бабушка забывается, дышит. С матерью они склонились над бабушкой, следя за ее дыханием.
— С ней это бывает, — сказала мать. — Ей кажется, что она умирает. Страхи ее мучают. Вызову врача. Пусть успокоительное пропишет.
— Да… врача… непременно…
Он был утомлен, без сил. И словно забыл об одержанной победе. Верил в лекарства, врача.
— Под вечер приду, проведаю…
Он вышел на лестницу, еще шумную от недавней соседской ссоры. Боясь, чтоб его не окликнули, выскользнул на свободу.
6
С ведерочком жидкой, на растворителе, краски, с упрятанной за пазуху кистью он шел на кладбище выполнять поручение врачихи, отрабатывать израсходованную десятку. «Еще утром был счастлив, и вот уже нет покоя и ясности. Нет света в душе. Не прибрано, не устроено мое маленькое хозяйство. Как ни мало, а тревожит. Мама да бабушка. Да Маша. Да несколько милых сердцу друзей. Да несколько близких, покрытых снегом могил. Да мой городок с белым камнем и черным деревом. Да перечень русских, громких и негромких имен, освятивших собою Россию. Да эти воды. Да эти небеса. Да эти звездные хоры, поющие о чем-то невнятно то светло, то грозно, но нету сил угадать…»
Он вышагивал вдоль трассы, громыхавшей разноцветными, дымом окутанными машинами. Не замечал их, а, свернув в проулок, очутился перед воротами кладбища, распахнутыми настежь. Искрясь и топорщась колючим звенящим ворохом, толпились могилы в смятых, обесцвеченных морозом венках, скрученных заснеженных лентах.
Кладбище начиналось за старым земляным валом, звалось Завальным, тесно сходилось к маленькой каменной церкви, окружало ее, как кольцами древесного среза.
Горшенин шел по дорожкам, читал знакомые фамилии, те, что продолжало носить полгорода. Подмахивало ими бумаги, подписывало на школьных тетрадях, выкрикивало на собраниях. Их деды и прадеды шумной толпой, отгалдев, отстреляв и отплакав, успокоились здесь, соблюдая порядок во времени. Горшенин нашел могилу своих двух дедов, бабушкиных братьев, Николая и Михаила. Один из двух крестов покосился.
Горшенин пробрался в сугробах. Колыхнул хрустнувшим, подгнившим, обмороженным корневищем креста. Поправил его, с силой осадив в глубину. Подумал: весной он придет с топором и лопатой, нарастит в основании крест, сохранив дубовое навершье.
Смотрел, как стоят широкоплече и тихо, радуясь приходу внука, дед Николай и дед Михаил. Вспоминал их живые лица, звучания их голосов.
Отыскал могилу врача, отоптал ее, отбрасывая пригоршнями снег. Поставив в сугроб ведерко, застывая на морозе, стал красить.
За кладбищем из железного, сорно-колючего вороха оград и крестов взметалась ввысь новая телевизионная мачта, пятнистая, сквозная, вонзившаяся острием в небеса. Горшенин, окончив работу, возводя глаза, шел на нее, не слыша, а чувствуя взглядом ее металлический посвист, дрожание напряженных конструкций.
Два автогенщика, молодой и постарше, работали у основания мачты, обдувая синим огнем трубчатую лапу опоры. Сбрасывали маски, перекрикивались, держа на весу шипящие горелки. Горшенин остановился, наблюдал их работу, пытаясь найти ей образ, любуясь ими и одновременно страшась оплавленной стали, решетчатого, тугого плетения огромной мачты.
— Чего смотришь? — спросил его пожилой, оглядывая ящик с красками. — Покойников рисовал? Тут покойников нету, все живые!
— Да он кресты, загородки красил. На кладбище такие халтурят, — оскалился молодой. — Слышь ты, мачту покрась. А то, вишь, вся в пятнах. Подсадить?
— Да ну, пусть идет. Мы тут и сами художники. У самих вон кисточки есть, что хошь нарисуем! — Пожилой поднял трубку с огнем, начертив ею в воздухе вензель.
Не сердясь за пренебрежение, Горшенин наблюдал их работу. Ему казалось: они садовники, поливают мачту синим огнем, и она, как трубчатая, возносимая к небу заросль, увеличивается у них под руками.
— Слушайте, дайте и мне! Дайте и мне попробовать! — попросил он их вдруг.
— А сможешь? Небось не держал никогда, — сказал тот, что постарше. — А ну попробуй. Почувствуй, как мы малюем, — и протянул аппарат.
Горшенин, и в самом деле не державший никогда автоген, одним провидением, одним ощущением привыкшей работать руки принял огнедышащую кисть. На обрезке железа, не отрываясь, чувствуя пламя и упругость металла, единым движением начертал живое, летящее диво с Машиным восхищенным лицом, с бурей крыльев над ее головой. Смотрел, как остывает лицо и у глаз, словно слезы, стальные брызги.
7
Ночь, блестящее, в лунном свете окно с темным, погибающим от холода цветком, и она говорит: — Алеша, родной, я так люблю тебя, так тобой дорожу. Помнишь, на лестнице, на Никольской, мы стояли и ты у меня черемуху из губ отнимал? Кого, как не тебя, мне любить? Наша жизнь, Алеша, такая короткая…
— Сегодня кончил еще одну акварель. Выставка будет, я знаю. Егор Данилыч обещал под честное стариковское слово. Он там хозяин полный. Еще бы, столько лет в музее. Не им чета. Сделаем выставку, обязательно!
— Да, да, непременно… У тебя есть такая картина про Никольскую гору. Искала ее недавно, хотела посмотреть, не нашла. Она на выставке будет?
— Конечно, все будут. Теперь, когда дело сделано, я займусь хозяйством. Заработаю, вот увидишь. Я же всегда зарабатывал. Возьму заказы. Ну во-первых, артель слепых. Они меня приглашали. Понимаешь, некоторые еще видят чуть-чуть, им нужны ориентиры. Яркие пятна на стенах. Ну зеленая стена, красная, синяя, поручни желтые. Обещали хорошо заплатить.
— Я думаю, Алеша, ну какая другая жизнь? Если и в этой нам хорошо, то какая другая? Еще станем вспоминать эти денечки как самые счастливые. Вон твоя рубашка на стуле, вон мое платье, темный цветок на окне. И мы вместе, и печь истоплена, и ужин был вкусный, спасибо, что приготовил, и в доме нашем мир да любовь. Ну какая другая жизнь?
— А еще в зверосовхоз приглашали. Там клуб нужно оформить, песцов рисовать. Заработаю кучу денег.
— Ты прекрасный художник, Алеша! Тебя признают, поверь. Твои картины прославятся. Ты мастер чудесный… Другая жизнь, для чего? Неужели лучше, чем эта? Всего не объять. Все уже было, и есть, и возможно одно повторение. Мой театр, мои репетиции, наш дом… Слава богу, здоровы. Слава богу, войны нет. И любим друг друга… Какая такая другая?
— Понимаешь, удивительно, когда работаю, счастлив, а окончил — будто птицы садятся на голову и долбят и долбят. И денег-то нету, и с выставкой все неясно, и с бабушкой нехорошо…
— Алеша, помнишь, как мы сидели за трапезой и боялись прикоснуться друг к другу, а потом прошло по улице стадо и оводы зазвенели о стекла… Много ли нам с тобой надо? Какие деньги? Какое еще богатство? Чтоб были живы-здоровы, любили, жалели друг друга.
— Вот погоди, заработаю, куплю тебе на рынке платок. Сегодня проходил, молодуха стоит торгует. И какая же красота!
— Луна-то какая, господи! Это все искушение. Луна нам дана в искушение.
— А ты занавеску подвинь…
— Надо цветок убрать. Совсем он зачах.
— А некуда… Ну спи, моя Машенька, спи!
8
Солдатов, растрепанный, с красным, парным лицом, сидел в ресторане, придерживал тарелку с куском плохо прожаренного мяса, отрезал ломти и кормил маленького красноносого человечка в грязном намотанном шарфе.
— И вот если ты голова, то поймешь, какая здесь любовь происходит. Оставил я ее ровно как десять лет, час в час, а перед тем, как уехать, говорю: «Не могу, — говорю, — на тебе жениться, хоть и люблю больше жизни! Нельзя! Не время! Родина, — говорю, — зовет и требует. А ты, если сможешь, дождешься. Я к тебе по календарю через десять лет явлюсь». И уехал… Ну, пашу я эти десять лет, мотаюсь по Союзу туда-сюда, а она ждет. В армии, на границе трублю — ждет. На ГРЭС, на ТЭЦ вкалываю — ждет. Газопровод варю, стыкую — ждет. И вот приезжаю сюда к ней обратно, а она полгода не дождалась, за другого вышла. «Вот он я!» — говорю. А она: «Ах, ах! Что же ты мне не писал, я, — говорит, — думала, тебя в живых нет, вот и вышла. Но все равно тебя люблю!» А она артистка, красивая, сама плачет, руки мне целует. «Ладно, — говорю, — решайся. Вот тебе три дня. Или со мной поедешь, или я — в воду! Решай сама!» И ушел, а она мне на прощание розочку подарила. И вот сегодня первый день проходит. И еще два дня мне осталось. Буду жив или нет, не знаю! Вот так вот!
Человечек кивал, хрустел жадно зубками, мелко моргал, косясь на Солдатова, запивал из рюмочки.
— Я тебя сразу понял и беру к себе! Пальцем тебя никто не тронет! Мы с тобой кто? Мы с тобой люди прорыва! Первый эшелон! Первопроходцы! У нас с тобой что? Башка? Нет, у нас с тобой руки! Глянь! Я этими руками, если хочешь, гору взорву и нитку в иголку вдену! Я их в огонь и в лед суну! Вот они, наши руки! Я этими руками любой пожар потушу, а если захочу, то такой запалю, что сто лет не зальют! Я — Солдатов, понял? Понял, кто я такой? А он говорит — двойной оклад!
Человечек, оглядываясь на Солдатова, подносил ко рту рюмку. Солдатов не пил, но был как хмельной. Визжали музыканты. Гривастые, потные парни, сбившись в круг, танцевали, вывертывая стоптанные каблуки.
Солдатов гудел:
— Я стихи сочиняю, понял? Могу про любовь, про войну! Могу, как Есенин, складнее… Слушай стихи, ну!.. — Он булькал горлом, выкатывал свои синие глаза, напрягая жилы. — «Но ты меня жди навсегда, и я через всю Сибирь ворочусь и вернусь, и мы уж с тобой никогда…»
Солдатов обнял человечка, налил ему рюмку, бережно поддерживая за подбородок, заставил выпить, отер ему губы ладонью, любовно запахнул ему шею обтрепанным шарфом.
— Мы ведь смерти с тобой не боимся? Так или нет? Мы с тобой хоть в реку, хоть в океан! Ты по Союзу спроси, кто такой Солдатов? Покажут, расскажут! Ты на Чукотке спроси — расскажут! Все всем роздал, ничего не жалел! Всех люблю!
Он вдруг встал, направился к выходу. Нахлобучил опаленную волчью шапку, промасленный ватничек. Кинулся на сиденье тяжелого, поджидавшего у ресторана бульдозера. Нащупал стартер. И загремел, затрясся, врубаясь в ночь фарами. Бормотал сквозь слезы и гарь: «Подарила мне цветочек, красный, белый, неживой…»
9
Ночью сквозь новый микрорайон прогрохотал тяжелый бульдозер, слепо блуждая среди котлованов, крутясь у открытых траншей. Наехал на люк теплотрассы. Навалился гусеничными тоннами, проутюжил. Протанцевал в развороте. Тяжелая крышка люка, обломившись, рухнула вниз. Из разрушенной трубы ударил пар, кипяток. Упало давление. Котлы в котельной, содрогаясь огнем, гнали жар в дома, но он уже не достигал жилищ, вырывался клубами, опадал снеговыми хлопьями.
Мороз навалился на ночные, спящие башни. Стиснул жгучими звездами. Надвинулся близким лесом, ледяным Иртышом, вдувая в щели и швы острые сквознячки, высасывая тепло, просачиваясь струйками сквозь металл. Превращал дома в каменные остывшие горы.
Просыпались люди. Кидались щупать стены, ребристые батареи. Пугались холодного, неживого железа. Чертыхались, роптали. Бросались к проснувшимся детям. Навьючивали на них, на себя шубы, одеяла, ветошь. Выскакивали на площадки. Кляли, грозили. За окнами тускло и твердо горело злое звездное небо. Пушкарев проснулся от телефонного звонка.
— Петр Константинович, беда! — задыхался, сбиваясь, главный энергетик. — Разрыв теплотрассы! В районе второго люка!.. Потери тепла!.. Собираю группу ремонтников!
— Сейчас буду! Электриков, электриков соберите!
Выбегая из дому, нес исчезнувший, ускользнувший смысл сновидения, телефонный возглас: «Беда!»
Два грузовика, ревя моторами, скрестили фары. Люк, как гейзер, в ртутном извержении пара. Мечутся люди. Головы, плечи в инее. Янпольский кричит шоферу, вскочил на подножку, двигает грузовик. Миронов, хватая лом, сдвигает обломок плиты. Главный энергетик, отгоняя рукой парное кипение, рвется к люку.
— Где бригада?
— Послали!
— Перекрыть, перекрыть задвижку!
— Звонят мне все! А что я могу ответить?
— Черт слепой, как нагадил! Найти его, гада, — под суд!
— Сейчас они знаешь что? Они «козлы» повключают! Они все свои самоделки-спирали в розетки вставят!
— Десять минут, и света нигде не будет! Кабели полетят, предохранители от таких перегрузок. Сейчас посмотри: десять минут, и света не станет в городе!
— Сука такая, подонок!..
— Беда! Если тепло упадет, все стояки в домах, все батареи к чертям промерзнут, вдребезги разлетятся! Посреди-то зимы! Беда!
— Бежать по домам! Пусть фугуют паяльными лампами! Поддерживают тепло в стояках! Послали за паяльными?
— Задвижку, задвижку закрыть! Отсечь до прихода ремонтников.
Пушкарев появился в момент, когда главный энергетик Фуфаев кинулся в люк. Задыхаясь от пара, утонув в воде, надрывался, крутил сальный вентиль. Обломок плиты соскользнул и упал ему на ногу. На крик бросились шоферы, извлекли его, несчастного, бледного, потерявшего шапку. Поддерживали под руки, а он боялся поставить на землю ушибленную стопу. Пушкарев налетел на него:
— Да зачем же вы сами полезли? Безрассудство!.. В больницу!.. Янпольский, электриков вызвали? Поставить их прямо в домах с комплектами предохранителей. Будут гореть — пусть меняют! Кабели тяните поверху! Сейчас начнут лететь!.. Чтоб тепло мне держать! Любой ценой, до утра!.. Что стоите? В больницу! Никаких!.. На моей машине!
Подкатывала летучка с ремонтниками. Выгружали сварочные аппараты, маски, обступали люк. Крюками и ломами гремели о мерзлый бетон.
Пушкарев, кутаясь, застывая в легких башмаках, пропитываясь сыростью, отдавал команды, рассылал людей, расставляя их в больных, уязвимых точках, — старался оцепить город незримой сеткой усилий, сберечь улетающее тепло.
Здесь, перед ним, звякал насос, выкачивая воду из люка. Били в упор фары грузовиков. Рабочие спускали вниз тросы. Шипели язычки автогенов. А рядом в сумерках горели всеми пролетами окон разбуженные дома. Мигали на бетонке огни самосвалов. И была прямая, готовая лопнуть связь между ними и Пушкаревым, проснувшимися домами и бегом машин к стройплощадке.
— Какая температура в квартирах? — спрашивал он у диспетчера.
— Плюс девять, — отвечали ему.
Внезапно на части фасадов гасли все окна, словно их вырубали одним ударом, отсекали от города. Минуты темноты и отсутствия — и вновь загорались. Будто здания падали в обморок и опять воскресали. Город умирал по частям, а его тормошили, подымали, не давали застыть и забыться.
— Какая температура в квартирах?
— Плюс семь…
За темными окнами, невидимые, скользили огарки, чиркали зажигалки, мигали фонарики. Люди метались, натыкаясь на углы и на стены.
— Какая температура в квартирах?
— Плюс пять…
Ночь. Половина домов погасла. Стуки движка. Кашли и хрипы бригады. А в нем, Пушкареве, мгновение пустоты и усталости, цепенящей, ледяной неподвижности. Бессилия, бессмыслия всех его криков, команд.
Что он может, если выгорела дотла вся подземная нефть и ползут ледники, сдирая с земли города, и выпит последний глоток кислорода, и разорваны покровы небес, и от звезд сквозь драные голубые рубахи мчатся жгущие вспышки лучей, — что он может?
Он стоял, прислонившись спиной к кузову, закрыв глаза, с онемевшими ступнями, чувствуя, как леденеет. Но не было сил шевельнуться. И лишь слабая, сонная мысль: все ничтожно, вся его жизнь и усилия, всю Сибирь не согреть, бесполезно, и огромная, задуманная им машина рухнула, лишь лопнул единственный железный сосудик.
Он слегка приоткрыл глаза. И то ли блеск упавших снежинок у фары, то ли слабый удар, перебой остывающей крови, — к нему вернулось, обретая очертания, минувшее сновидение. Деревянная хрупкая лестница. Синеватый в ветвях фонарь. Машино лицо, удивленное в счастье…
Оттолкнулся спиной от кузова. Напрягся, хрустнул всем телом. Прижал онемелые ладони к радиатору.
— Сколько швов заварили?
— Еще пара осталась.
— Какая температура в домах?
— Плюс четыре.
— Включайте резервный кабель…
Под утро, на заре, новая задвижка была вживлена в магистраль. Люди стояли на истоптанном, закопченном снегу у разъятого люка, почернелые, в рубцах и подтеках. Пушкарев оттирал глаза разорванной в кровь ладонью. Смотрел, как из белого леса подымалось солнце и летело бесшумное дыхание зари и в нем, крохотная, длиннохвостая, трепетала сорока, и казалось, что и солнце, и высокая птица, и весь белоснежный, в дымах и моторах, день был создан ими, чумазыми, ободранными о ночное железо, выпущен на свободу из опаленного, обледенелого люка.
10
К полудню в горкоме собирался штаб стройки. Утром прилетел секретарь обкома, прямо с самолета, не заезжая в город, укатил на объекты. Без местных властей, Пушкарева колесил по бетонкам, оглядывая насыпи, котлованы, каркасы цехов и градирен. Останавливался ненадолго в бригадах, цеплял их словом, пристреливался наметанным глазом к вагончикам, кухням, ремонтным летучкам. Схватывал в разговорах мгновенный, неуловимый рисунок стройки.
Штаб — ежемесячный сбор инженерно-хозяйственных служб, упрямых суждений, несогласий, встречных, не находящих друг друга усилий. Обид и жалоб. Накопившихся узлов напряжений. Характеров, технических замыслов, утаенных резервов. Хитрости и искусства борьбы. Всеобщего напора, надрыва, коим движется в стуже громада строительства, увеличивая обороты, наматывая на себя все больше железа, горячих людских дыханий. Штаб — примирение в единстве, сложение общих сил, оглядывание и осмотр на ходу запущенного ротора стройки, прослушивание его биений и стуков.
Пушкарев, красноглазый, похудевший за ночь, входил в горком вместе с тесной, плечистой толпой инженеров. Кивали, пожимали руки. Зорко и нервно обменялся взглядом с управляющим трестом Хромовым («Ладно, Антон Григорьевич, посмотрим, как ты сейчас запоешь про очистные сооружения!»). Перемигнулся с замами Янпольским и Мироновым («Ничего, не волнуйтесь, игра, как всегда, будет в одни ворота»). Дружески, подчеркнуто весело пожал сухую руку секретаря горкома («И у нас с вами полное единодушие, Иван Гаврилович, не так ли? Комбинат и город едины?»). Приветливо кивнул Городкову («Ничего, привыкайте. Мои проблемы — ваши проблемы. Ничего от вас не скрываю»).
Янпольский, небритый, застывший после ночных радений, в огромных мохнатых унтах, остановил Пушкарева:
— Петр Константинович, аргументацию я приготовил. Если спросят, в Захромах приступили к сносу домов, бульдозеры я сегодня туда направил. В Кондашевке с газопроводом все у нас хорошо, и только насосные станции…
— Все хорошо, — оборвал его Пушкарев. — Маленький вам совет. Понимаю, ночь была аховой, вы приняли ледяной душ и все прочее, но все же… Вы руководитель, у всех на виду. По вашему виду косвенно судят о состоянии дел, о духе, о тонусе стройки. Разве мы в Заполярье, на льдине? Зачем нам унты? Разве нет в домах горячей воды для бритья?
И пошел, сухой, подвижный и резкий, белея кромкой воротничка. А Янпольский, покраснев от обиды, беспомощно топтался на месте.
— Так… Собрались? — сказал секретарь обкома сквозь затихавшее ерзанье, кашли. — А теперь хочу вас спросить… Кто вам дал право так обращаться с теплом? Как вы можете столь легкомысленно, столь небрежно-преступно обращаться в Сибири с теплом? Вы где живете? В Сочи? В Ташкенте? Разве вам непонятно, что наши усилия разлетятся вдребезги, если мы не научимся сохранять тепло? Добывать его здесь, во льдах, как золото добывают, и удерживать, беречь каждую калорию! Что же это получается? Мы создаем у себя гигантскую энергетическую базу, качаем отсюда энергию на все стороны, а сами замерзаем? Да вы что, не понимаете, что это вопрос прежде всего политический! Нет чистой экономики, чистой инженерии, а есть экономическая политика! Вы хотите дискредитировать в глазах своих же людей идею нового города, нового комбината? Да? Я спрашиваю у вас: какая температура в домах?
— Сейчас плюс девять, Игнат Степанович, — сказал Пушкарев, чувствуя, что жесткая, гневная речь секретаря обкома была против него, Пушкарева.
— А вы своих детей, товарищ Пушкарев, станете держать при такой температуре? Нет? Так почему чужих держите? Как могут работать бригады на стройплощадках при минус сорок, если ночью замерзали в квартирах? Какой мы с них план можем требовать?
— Ночью была авария, Игнат Степанович. Она устранена. К вечеру поднимем температуру до плюс шестнадцати, — ответил Пушкарев угрюмо, сжимаясь от резкого, при общем молчании, выговора.
— Аварий в Сибири зимой быть не должно! Следует предусмотреть резервные варианты, исключающие возможность аварии! Почему тянете с вводом ТЭЦ?
— ТЭЦ собираем по графику. А ввод жилищного фонда опережает сроки. Подключаем дома к временной, блочной котельной. А котлы маломощные…
— Только в этом дело?.. Перебросим к вам, хоть по воздуху, новые блоки, предназначенные для тундры. Я позабочусь. Но чтоб собрать их в пять дней! Слышите? Сколько вам надо людей для этого? Снимите с других объектов. Сто? Сто снимите! Пятьсот? Пятьсот снимите! Но чтоб через неделю новая котельная работала! Обеспечивайте тепловые режимы!
Пушкарев испытывал давление секретарской воли и власти, внутренне не уступая и споря. («Да зачем же пятьсот? Что им, балки таскать на спине? Одной бригадой управятся! — Самолюбиво язвил: — Как мальчишку, при всех прутом…»)
Уязвленный, вспоминая минувшую ночь, докладывал о проблеме тепла (панельные дома несеверных, устаревших серий, скверное качество сборки, обилие щелей и дыр, трудности с мазутом для топок). Оборонялся, ссылаясь на техническую неизбежность проблемы. Но чувствовал: секретарь прав и выговор его справедлив.
— Так, все ясно… Это относится прежде всего к вам, к генеральному… О тепле — все заботы! Все силы! Как на войне! Не спите! Сами на морозе ночуйте, но чтоб в квартирах было тепло!
— Комбинат все делает в этом направлении, Игнат Степанович, — сказал секретарь горкома.
— А вы что, в роли адвоката? Это и ваша компетенция! Горком должен требовать с комбината! В старом Ядринске, в развалюшках, теплынь, дымки из труб, а в новом городе сосульки на батареях, ванные, полные льда? Так, что ли?
— К вечеру температуру поднимем до плюс шестнадцати! — хмурясь, повторил Пушкарев.
— Ну, а теперь перейдем к строительству…
Люди, приумолкшие было после резкого старта, медленно разжимались, развязывали языки. Разгорались, повышали голоса. Схватывались сперва осторожно, потом все яростней, откровенней, вспыльчиво нападая, виня.
Секретарь обкома не мешал. На время устранялся. Исподволь, остро и даже, как будто весело наблюдал споры и схватки, петушиные наскоки и выпады. Иногда поощрял кивком, коротким колким словечком, давая спору накалиться, вскипеть, выплеснуть с кипятком самую суть и боль, чтобы потом в несколько твердых фраз подхватить ее, сделать главной, открыть ее выпукло всем, прежде чем принять решение.
— Нет, подождите, дайте ему высказать все! Он в этот мост, как в бога, верит. Я по такому мосту поеду… Продолжайте, пожалуйста!
Пушкарев, уже остыв от обиды, удивлялся пластичности его поведения. Тяжелая, негнущаяся, не терпящая возражений жесткость — и мгновенная уступчивость, нервная легкость, принимающая форму согласия. Серое, утомленное перелетом, изведенное усталостью лицо — и сочный, светлый блеск умных глаз. Округлая мягкость и вялость плеч, кабинетная осторожность движений — и внезапная боксерская реакция стиснутого кулака, секущий, ребром, пролет заостренной ладони.
Почти незаметно, взывая то к одному, то к другому, перекидывая клеммы, замыкая их накоротко и вновь размыкая, сводя разноголосие в единое и уже неделимое слово, он добивался острых и точных контактов: его, Пушкарева, с Хромовым, начальников СМУ и дорожников, управленцев и инженеров. Пушкарев, привыкший быть хозяином, чувствовал сейчас над собой другую волю и власть.
— Я думаю, именно так мы и запишем это решение. И уж никто — ни заказчик, ни подрядчик не посмеют его нарушить, ибо они перед всеми нами демонстрировали завидное единодушие!
Пушкарев понимал природу его власти. Силу и гибкость всеобъемлющей, мобильной структуры, действующей у него под руками.
— Полгода назад было уже одно совещание. Что, мало времени? Как можно проектировать новейший комплекс, закладывая устаревшие решения? Все тот же тяжелый бетон, стопудовые конструкции? Где ваш металл? Облегченные фермы? Где блеск вашей инженерной мысли?
Секретарь обкома был сам инженером. Внезапно инженерная страсть прорывалась, и он начинал говорить языком конструкций. Нападал, оборонялся, уступал техническим аргументам. Но потом опять инженер подчинялся политику.
Пушкарев тонко нацелил его на Хромова, уклонявшегося от прокладки дорог в районе речного порта:
— И вот управляющий трестом товарищ Хромов, ссылаясь на отсутствие проектной документации, хотя таковая, в сущности, есть, отказывается закончить работы к весне, к началу навигации…
Но Хромов, боец и провидец, выставил вместо себя молодого, пылкого начальника СМУ, и тот заявил:
— Мы решили начать отсыпку, не дожидаясь документации, потому что время не ждет, нитку поведем от причалов!
— Молодцы! — встрепенулся секретарь. — Больше, больше активности! Поддержим инициативу дорожников!.. Как фамилия? Веткин? Правильно, начинайте отсыпку, пока проектировщики чухаются. Я разделяю с вами ответственность!
Хромов, довольный маневром, сам повел наступление:
— Вот только непонятно, почему дирекция торопит нас со сроками, с одной стороны, и тормозит наши усилия — с другой? Почему медлит с открытием новых карьеров? Почему консервирует Бужаровский карьер? У меня отсыпной грунт на исходе… Это раз!.. Далее, бетонорастворный завод мы пускаем в срок, как и обещали на прошлом штабе. А вот песок для растворов где? Давайте спросим дирекцию, давайте спросим геологов: где обещанный песок для растворов? Где разведанные месторождения? Игнат Степанович, я заявляю ответственно: нависла прямая угроза срыва…
Поднялся прилетевший на днях из Москвы инженер-мостовик Тихонов. Его мост небывалой, уникальной конструкции уже бился, пульсировал, словно бетонно-стальная струна. Сам же Тихонов, худой и костлявый, с испитым болезнью лицом, казался стоящим на костылях. Говорил глухим клокочущим голосом:
— Бетон, бетон нужен! Мосту бетон нужен! Мы простаиваем, ждем бетона по капле. Каждую бадеечку чуть не руками выскабливаем. Разве не видите, без бетона мост голодает!
И сел, тяжело дыша, радея о своем детище, которое изгибалось в снегах над избами, колокольнями, как радуга из металла и тверди. Люди кормили его и поили своими соками, силами. Тихонов, изможденный и высохший, казался донором, отдавшим мосту живую, горячую кровь.
Пушкареву было известно: Тихонов тяжко болен, и дни его сочтены, и он явился сюда, чтобы проститься с мостом, взглянуть на его красоту, на любимые, дорогие черты.
Плотно, голова к голове, сидели старые, молодые. Мерцали глазами.
«Вот они, — думал Пушкарев, — хозяева техносферы, мастера сварных и бетонных работ, знатоки моторов. Наше богатство. Наш инженерный фонд, калиброванный на лютых морозах. И на каждом — одно и то же клеймо: «Ядринск, нефтехимкомбинат».
Говорил геолог, молодой, в белом свитере, накаленный морозом и молодостью. Давал секретарю объяснения:
— Здесь, под Ядринском, растворные пески найти очень трудно. Мы расположены далеко от Урала, а механизм образования песков связан с отложениями, смывом разрушаемых отрогов. У Салехарда, например, такой песок в изобилии, а у нас если есть, то малыми, редкими линзами…
— Разведайте линзы! Не возить же песок из Салехарда!
— Мы делаем все для разведки. Но успех невелик. Есть, правда, место с растворным песком под Щелковом, но на нем сосны, леса первой категории…
— Подождите с лесами. Ищите в болотах. Обязываем вас отыскать.
И казалось: вопреки геологии, вековечным размывам Урала, где-то в топях, в брусничниках, известные секретарю, таятся песочные линзы и их непременно откроют.
— Теперь песок для отсыпки… Так что у вас с Бужаровским карьером?
Поднялся хромой, со шрамом во все лицо с черными порошинками предисполкома Белорыбов. Заволновался, забубнил, закрутил головой:
— Игнат Степанович, там, под Бужаровом, луга, пойма… Нельзя изымать из ведения совхоза!.. И так половину земель комбинат отобрал! То трубопровод, то склад, то бетонки! А теперь пойма! Там же травы, такие места золотые!
— Сколько гектаров?
— Сорок…
— Комбинату нужны карьеры. Возьмут песок и аккуратно закроют.
— Да какой аккуратно! Вломятся с техникой, все раскурочат! Весной зальет, бросят все и уйдут. Только природу загубят!
— Почему загубим? — раздраженно сказал Пушкарев. — Рекультивируем. Дадим гарантии. Аккуратно склоны карьера закроем. Будет озеро. Дадим вам гарантии.
— Знаем ваши гарантии!
— Часть лугов сохранится, будет озеро, рыбы напустите…
— Рыбы? Да хоть в Иртыше-то оставьте! А то рыбу нам напустят…
— Я вас понимаю, — сказал секретарь. — Но комбинату нужен песок, и придется, как ни крути, пожертвовать интересами совхоза. Комбинат висит не в воздухе. Та земля, на которую мы его посадили, автоматически перестает быть сенокосной. Здесь будем собирать другие урожаи… Так что давайте отводите карьер…
— Я — солдат, Игнат Степанович! Я подчиняюсь! Я — солдат! — тряхнул Белорыбов седой головой, стукнул палкой и сел.
Так проходил их штаб, один из многих.
11
После штаба секретарь обкома задержал Пушкарева и ядринского секретаря. Выглядел утомленным, серым. Жадно курил.
— Я хотел вас спросить… в продолжение разговора… Как у вас тут отношения складываются, как сотрудничество? Нет разногласий? Город и комбинат общий язык находят? А, Иван Гаврилович?
Тот неуверенно, тревожно взглянул на Пушкарева. Но Пушкарев будто и не заметил. Спокойно, вполне благодушно ответил:
— Никаких расхождений нет, Игнат Степанович. Город очень нам помогает, себе отказывает, а комбинату идет навстречу. Да по-моему, и комбинат городу все нужнее, все полезнее. Правда, Иван Гаврилович?
— Сегодня вас белыми булками угостим, Игнат Степанович, с нового хлебозавода. А какую мы клинику отстроили, комбинат достал оборудование, Ядринску и не снилось! Так что, по-моему, комбинат мы все принимаем как свое кровное дело.
— Вообще мы стараемся, Игнат Степанович, чтобы не было этого членения: город и комбинат. Чтоб сами понятия слились.
Секретарь обкома кивнул, зажигая новую сигарету:
— Да… хорошо… не выпускайте этого из виду… Не выпускайте из виду, — вы строите не только новое производство, вы строите здесь новое общество. Это само по себе не менее важно, чем комбинат. Знаю, процесс непростой, мучительный. Не одним днем совершается. Но задача, повторяю: создать здесь не просто уникальное производство…
Усталое, потухшее было лицо ожило, ухватило острую, напряженную мысль:
— Мы политики и должны смотреть дальше и выше сегодняшней экономической конъюнктуры. Заселять эти места, создавать здесь устойчивый и одновременно динамично развивающийся общественный организм, здесь, в этих полупустынях… Благодаря этому мы обеспечим себе простор для завтрашних акций. Сибирь станет плацдармом для развертывания технологий будущего. Водородной энергетики. Космической энергетики. Русская Сибирь — один из столпов, поддерживающих мировое небо… Не временный, легко размываемый слой населения, а коренное, высокоорганизованное общество должно в скором времени взяться за эти задачи. Думайте, думайте об этом… Сквозь все техсоветы и штабы…
Он говорил, давая истинное, нечасто произносимое имя тому, что зашифровано в бессчетных сводках и выписках о добытых нефти и газе, о строительстве железных путей. Говорил этим двоим, его понимавшим.
Умолк, гася свою мысль, резко ее сжимая, планируя уже не будущее, а стелющиеся дымы лесосек и котельных.
— Да, так вот что хотел… — Добавил он. — В Ядринск направим блоки котлов, как обещано. Не мешкайте! Монтируйте сразу! Чтоб было тепло! Форсируйте ТЭЦ!
— Уже привезли агрегаты, — сказал Пушкарев. — Кончаем возведение градирен.
— Видел, видел, но форсируйте. В области будете отчитываться.
— Вы у нас не останетесь, Игнат Степанович?
— Нет, улетаю в Тобольск. Вертолетчикам позвоните, что выезжаю.
— А мы думали, в баньку сходите. Строганинки отведаете…
— В другой раз, в другой раз… Люблю вашу баньку, но уж теперь в Тобольске попарюсь. Хотя у них тоже не больно-то жарко! Тоже с теплом ерунда! И их кочегарить придется…
— У нас все будет нормально. К вечеру плюс шестнадцать…
— Хоть бы четырнадцать… Вертолетчикам позвоните: я выезжаю.
И встал, стряхивая с мятого рукава табачный пепел.
12
После штаба Пушкарев и Янпольский подбивали бабки. Оценивали изменившуюся ситуацию, перестановку сил, свои сильные и слабые стороны. Вновь рассматривали речной порт, наливные эстакады, реакторы и колонны, несуществующие, заложенные пока еще в рублях и идеях.
Янпольский заглядывал в свой блокнот, выуживая последние крохи:
— Вот еще что, Петр Константинович… Вы будете выступать перед студентами? — Речь шла о студентах-ядринцах местного набора, которых дирекция под своей опекой направляла в химические институты, — еще один способ слить комбинат и город: комбинат подплывает, и на борт его вместе с приплывшими ступит команда из ядринцев.
— Да нет уж, вы сами… И лучше всего: возьмите автобус, покатайте-ка их по стройплощадкам, дайте им самим пощупать руками и поговорите по душам. Поласковей с ними, поласковей, как вы умеете…
— Уж я найду слова, не волнуйтесь! — записывал Янпольский. — Теперь еще вот что… Мы в кремле-то «красный домик» затягиваем. Надо побыстрее отделать. А то, вот видите, секретаря обкома и принять-то негде толком. Весной министр приедет. Надо нам все-таки принимать по чину… Прошу вас, Петр Константинович, отпустите для меня один «камацу». Пусть теплотрассу продолбит…
— Не хотелось бы в кремль с «камацу». Городские нервничать будут…
— Да что им нервничать! Гостиницу построим — им же домик вернем как игрушечку. Там ведь сейчас жуть, запустение…
— За день управитесь? — спросил Пушкарев.
— За полдня!
— Ладно, беру грех на душу…
— Хорошо… И еще вот что… Тут архитекторы, я вам говорил, приехали. Предлагают на обсуждение проект стыковки старого города с новым. Идеи планировки, сохранения старых построек. Вы будете смотреть, или я?
— Я. Непременно… Очень важно, я сам… Кстати, хотел вас спросить: как с нашим снежным городом? Все ломают?
— Нет, Петр Константинович, третий день не ломают. Удивляюсь!
— Вот видите! — оживился Пушкарев. — Видите! А вы и Миронов не верили! Я вам говорил — кто кого! И не станут больше ломать!
— Посмотрим, — покрутил головой Янпольский.
— Не станут! Ручаюсь! Благодарю за прекрасную новость!
Забегал по кабинету, радуясь этой малой победе, за которой мерещились другие, крупнее.
— Вы об энергетике нашем справлялись? Как он там, Фуфаев, что?
— Трещина в стопе. Наложили гипс. Рвется сюда.
— Пусть не рвется и успокоится. Может, к нему заеду… Все-таки голову надо иметь на плечах…
Янпольский ушел. А он, усмехаясь, все еще думал о снежном городе.
Он знал, как строится оно, то новое общество, о котором говорил секретарь. В три ухвата, в три неравных присеста, волна за волной. Первые землепроходцы малыми ударными группами просачиваются в мерзлоту, подкрадываются втихомолку к тайге. И бьют ей под дых, всаживают нож в селезенку, заваливают с хрипом и стоном. Взрывают, долбят в страшной, денной и нощной, не знающей передышки работе, сами истребляясь, ломаясь, рассеиваясь в необъятных пространствах. Сгинули как сон, оставив за собою проходы — трассы, причалы, посадочные площадки, на которые приходят строители. Деловые, веселые, терпеливые к морозу и жару, вводят в прорыв механизмы. Раскачивают, расшевеливают поваленную навзничь тайгу, наваривая на нее другое лицо, беря ее в цепи, ослепляя сваркой, сращивая ей спину двутавром. Уходят, оставив завод и город. И следом являются поселенцы, укореняются, наследуя начерно слепленный кусок территории, — третья, коренная волна, начинают жить, рожать, умирать, забывая о первых двух, ведя свою память с себя.
«Вот так заселяем топь, превращая ее в квартиру со всеми удобствами, с платой за телефон и за газ. А говорят, ходили медведи. А говорят, летали орлы… В ЖЭК, к трем часам, на собрание…»
13
Молодой архитектор Елагин рассматривал тонкий рисунок пером, взятый из своей дипломной работы. Северный город, похожий на семейство космических кораблей. Серебристые сферы и чаши. Как купола сквозь метель. Ловят в антенны полярные вихри. Стремительные фюзеляжи конструкций летят сквозь пургу. Весь город в сверкании и блеске, в мелькании винтов, лопастей. Опустился из небес как чудо, коснулся дикой земли. Одно усилие, нажатие невидимой кнопки — и сорвется в звоне, исчезнет среди северных бурь.
Тонкий рисунок пером.
Щелкнул селектор. Миронов раздраженно сквозь трески спросил:
— Что Елагин еще не явился?.. Елагин, зайдите ко мне!
Елагин спрятал рисунок. Встал, готовясь принять на себя раздражение начальника. Откликался на него своим собственным. Шел коридором дирекции, где уже гомонили, курили, кричали, заряжаясь несогласиями, желчной энергией.
— Просили зайти? — Елагин вошел к Миронову.
Тот поднял на него измученное лицо с простудно-больными глазами, обметанными губами, в которых дергалась обжигающая папироса.
— Да, просил… Почему разрешили закрыть тепло-трассу?
— Мне казалось, пусть рабочие потихоньку закрывают. А то все разрыто, снег в траншеи насыпет…
— Да уже насыпал, насыпал!.. Тепло пустим, а снег растает, и всю изоляцию к черту! Всю работу к черту!.. Кто вас учил? Кто, спрашиваю, учил вас так думать?
Он сорвался на крик. Ему было больно кричать. Он морщился и кривился:
— Вы были на трассе? Я вас спрашиваю: вы там были вчера?.. Были?.. Но никто вас там не видел!.. Какая халатность!
— Вчера, — чувствуя, как слабеет и глохнет от крика, ответил Елагин, поражаясь, как может, как смеет кричать на него этот противный, чужой человек, на него, Елагина, к которому мать по утрам подходила с тихим смехом, нежно дула в спящие, не желающие просыпаться глаза, которого так любили и холили за его доброту и умение, — как он смеет кричать? — Вчера, — повторил он, готовый сам сорваться в крик, в слепоту, удерживаясь на последней слабой черте. — Вчера я весь день провел на подстанции, ибо вы сами сказали: важнее всего электричество, надо бросить все остальное.
Миронов почувствовал в Елагине эту последнюю перед взрывом черту. Задержался на ней, еще толкаемый гневом, но отступил. А Елагин вдруг испытал пустоту, утомление от этой секундной борьбы.
— Вызывал не за этим, — устало сказал Миронов. — Вчера опять был разговор с генеральным. Дома должны сдать к концу квартала. С коммуникациями опять проволочка. Очистные, подстанции, магазины… Поезжайте по всем объектам, проверяйте степень готовности. Вечером мне доложите. Если поздно вернетесь, домой позвоните. Ну, я до девяти-то здесь протолкусь… Мой «рафик» возьмите, сорок восемь ноль шесть…
Уходя, Елагин слышал, как начальник, раздражаясь, кричал в телефон:
— Вы почему нам пар не даете? Опять нас морозить вздумали? Черт вас возьми с вашей котельной!
И опять мимолетно мелькнуло: его северный город, купола, фюзеляжи, тончайший рисунок пером…
Гастроном, злосчастный объект, в бесчисленных рубцах переделок, одним своим видом вызывал в Елагине физическую боль и страдание.
Заведующая гастрономом, в платке и цигейке, готовясь принять магазин, беспокойно оглядывалась. Боялась, чтобы ее не обманули, не обвели вокруг пальца. Оглаживала прилавки, сдувала пыль с холодильников.
— Вот, опять поцарапали!.. Да что вы их, гвоздями скребете?
Пожарный, пышущий здоровьем старик, выкатывал глаза. Мысленно поджигал магазин, проламывал витрины баграми, выбивал топорами двери, лил воду и пену.
— Здесь у вас доступ заужен!
Проектировщик, с маленькой черной бородкой, язвительно-ядовитый, внутренне устранялся от этой нелепой, сто раз перекроенной и уже не его планировки, принимал ее как неизбежное зло.
— В сущности, не мне же больше всех надо! Сначала вы хотели кафе, потом парикмахерскую, а теперь гастроном… Мы ответственны все в равной степени!
Прораб, сдающий объект, стрелял плутовскими глазами. Был похож на приказчика, кидающего на прилавок скверный товар, с лёта ошеломляя небывалой ценой:
— Сделаем вам магазинчик что надо! Еще премию нам начислите. Еще в ножки поклонитесь.
Елагин понимал их общее, цепкое друг к другу внимание, недоверие. Старался казаться сухим, озабоченно-строгим:
— Начнем с подвала. Записывайте все замечания. Вместе подобьем и обсудим…
— Хоть с подвала, хоть с чердака! — весело метнулся прораб. — Все от души покажем!
В подвале лопнула труба. Вода хлестала, заливая пол. Слесари хлюпали сапогами, закрывали вентили.
— Ничего, не обращайте! — прораб кинул доску, сооружая временный мост. — Завтра же откачаем! Бывает…
— Да ведь сырость! Все преть начнет! — горестно охала завмаг, стряхивая с шубы грязные брызги. Сновала по углам, взглядом развешивала по крюкам заиндевелые туши, укладывала кули с крупой, расставляла бутылки.
Двери в морозильник, сваренные из ржавых обрезков, в заусенцах и термических швах, косо прилегали к стене, оставляли свищи и дыры. Завмаг раздраженно совала в щель руку:
— Да что же это такое! У меня тут мясо сгниет!
— Не сгниет! — бережно, как полированную, оглаживал дверь прораб. — Резиночку подложим… Рашпильцем тронем… Подкрасим под дуб… Колбасу свою сохраните в лучшем виде…
Елагин был угнетен видом скверной работы. Вдруг тоскливо подумал: зачем он здесь, в этом темном подвале? Он, лучший студент, выпускник, чей проект уникального города был отмечен премией. Любимец профессоров, кому сулили блестящее будущее, звали к себе в институты. Манили проектированием посольства, выставки, театра. Как, из какого каприза он предпочел этот дикий угол земли, оставил дом и родных, очутился в этом ржавом подвале?
— Ну-ка, ну-ка сюда! — звал пожарный. — Как у вас с деревянными переборками? Здесь не проходит по нормам!
— Позвольте, а это откуда? Это еще что за прелесть? — едко, визгливо из глубины коридора восклицал проектировщик.
— А как мы тележку тут будем катать? Не проедет! — возмущалась завмаг. — На себе, что ль, таскать?
— Не волнуйтесь, — умащал прораб. — Здесь щиточком закроем. Тележка пройдет. Треску на тележке, ну а семгу и на ручках пронесете, не страшно. Будет, нет у вас семга? — он причмокнул и подмигнул.
После этого причмокивания всех взорвало. Словно издеваясь, прораб привел их в гиблое подземелье, пугавшее оббитым кирпичом и голым железом, подземелье, по которому пробежали охваченные паникой люди, колотя по стенам молотками, оставляя на полу и на стенах следы своего бегства.
Всех сцепило в ком возмущения.
— Нет, вы мне объясните, пожалуйста, откуда эта прелесть? Я требую! — вопил проектировщик.
— Почему пожарные нормы не держите? А вот возьму да и наложу вам запрет! — багровел пожарный.
— Тут конфеты растают, не то что рыба мороженая! И где тут с тележкой проедешь? — возмущалась завмаг.
Прораб вдруг сбросил свои шальные взгляды, улыбки, свои балаганные, как у гармониста, движения. Черный, жилистый, злой, огрызался на них по-волчьи:
— А вы как думали? Все перекраиваете, язви вашу душу! На ваших переделках хрен заработаешь! Все бегут! Скажите спасибо, мальчишек, сопляков, отыскал, хоть чего-то сделали!..
Елагин кричал вместе со всеми. Понимал сквозь собственный крик, что все это трудности зимней, в снегах возникающей стройки, дыры на этих необъятных пространствах, которые приходится затыкать и латать своим криком, ознобом, личным страданием и болью.
Возмущались, кипели, пока вдруг не выдохлись разом. Расходились, не глядя друг другу в глаза. Торопились скорей разбежаться…
За очистные сооружения он не тревожился. Ибо виделось завершение. Всю ночь работала смена строителей. Но для пущей уверенности завернул и туда.
Въехал в зловонный, скрывающий солнце пар. В циркульных чашах булькало желтое варево. Туманилась стрела крана. Два новых бетонных, врезанных в землю отстойника вспыхивали изнутри электричеством. Опускалась на веревках бадья с горячим гудроном. Заливали швы, сваривали трубы — готовили для города искусственную, железную почку.
Двое автогенщиков отдыхали у журчащей сточной трубы. Утомленные, с потемневшими за ночь лицами, отламывали хлеб, заглатывали ломти сала.
— Ты вари уголок не шибко, а на весу, на весу… В одно касание, — поучал один из жующих. — Это тебе не телебашню варить. Там трубища — во! А тут аккуратней!
— Да я и не шибко. Но все одно прогорает. Жесть больно тонкая, — оправдывался другой, нарезая ножичком сало.
Елагин, еще не привыкший к злому дыханию отстойников, старался не смотреть на этих двоих, жующих.
— Елагин, ты что ль! Здор'ово! Опять к нам? Спасибо, не забываешь, — инженер Тройнов с намороженными, розовыми щеками сорвал рукавицу, сжал Елагину руку.
— А ты что, всю ночь здесь топтался? — удивился Елагин.
— Так точно. С рабочим классом… Да кто у вас еще так работает, кроме нас? Ночи не спим, света не видим. Снег жуем, железом закусываем. Сам видишь, чем запиваем… Премия будет, нет?
— Будет. Вам будет. Я слышал, говорили в дирекции…
— Если будет премия, приглашаю. Мой стол, моя музыка, мои женщины. А то одичали в дыре чертовой! Вот так по дырам вся жизнь проходит…
— Зачем же в дыру-то ехал?
— А шут его знает! — засмеялся Тройнов. — Спрашиваю себя: ну в самом деле, чего сюда сунулся? Чего не имел?.. Квартира что надо. Машина в гараже. Должность, оклад — позавидуешь. Жена устроена. Ну чего не хватало?
На них наносило желтый зловонный пар. И Елагин вдруг вспомнил: псковский монастырь на горе. Разноцветье и золото глав, будто вынесли на подносе драгоценный сервиз.
Старался не дышать теплым и едким паром. Спросил рассеянно:
— Так чего же тебе не хватало?
— Да ну, не пойму и сам! — Тройнов схватил горсть снега, сжал горячо, глядя на блеснувшие струйки. — Наверное, еще разок захотелось жизнью тряхнуть. Поиграться да почудесить… Проклинаешь вагончики и городишко гнусный… Где-то там у тебя жена молодая. Где-то сын без тебя растет. Думаешь, плюнуть на все, в самолет, и айда!.. А все равно интересно… В конторе служить не могу. А вот так, с бригадой, под прожектором ночку в сварных и бетонных работах — это пожалуйста!
Со своим здоровьем и крепостью, в меховом воротнике, неуклюжий, цепкий, Тройнов казался сильным зверем.
— Елагин, а чего ко мне не заходишь? Хорошо в прошлый раз посидели. Клавдя о тебе все спрашивает: «Где, — говорит, — твой архитектор?» Она тебя что, к себе, что ль, тогда увела? Видел ее комнатушку? Гитару видел? Это я ей струну порвал! — и он захохотал белозубо.
Елагин вдруг остро, больно пережил ту вечеринку в вагончике с раскаленной электрической печкой. Жарилась рыба, булькала водка. Моргали быстроглазые женщины. И одна, в пуховом платке, повела его по снежному городку. В комнате на стене круглобоко желтела гитара. На кровати, выставив из-под одеяла маленькую круглую пятку, спал ее сын. И теперь воспоминание об этой голой детской ноге и было той болью о ней, о себе, о спящем ребенке. Но думать об этом не место, не время.
— Как-нибудь загляну, — сказал он Тройнову. — А вы к воскресенью заканчивайте.
— Будь спокоен. Вкалываем без суббот. Премию только гоните!
Прошагал мимо двоих, жующих.
— Я тебе что говорю? Вари осторожней. По касанию чувствуй!
— Да я варю на дыхании. Только жесть больно тонкая…
Оранжевый огромный бульдозер с радиатором, зачехленным в попону, ровно и мягко звенел. Плавно, без рывков и усилий двигал железными бивнями. Рвал ледяной, твердый грунт. В кабине мелькало лицо под волчьей шапкой, оглядывалось назад, где висели связки металлических мускулов, сияющие поршни гидравлики. Бульдозер менял обороты. Крюк на взбухающих бицепсах погружался в землю. Мягко, словно жир, порол мерзлоту, бестелесно проходя сквозь твердь, оставляя в ней рваный след. И казалось: вот так, без усилий, с ровным бархатным рокотом, он пройдет через всю Сибирь, членя ее надвое. Но крюк поднимался, бульдозер пятился, белая сталь ножа сгребала льдины.
Через рытвины и сугробы Елагин вышел на открытое место. И обрадовался, весь встрепенулся, не признаваясь себе, что стремился сюда с утра.
На отброшенной ударом опушке, среди сора, неразберихи траншей и труб, был виден малый отрезок проспекта, заиндевело стиснутый лесом, живой, зацепившийся за враждебную землю.
Дома-башни, образуя простой и свободный ритм, голубовато мерцали гранями. Стеклянный прострел витрин был еще пуст и бесцветен. Но уже на кронштейне качалась латунная рыба, чуть позванивала в летучем инее. Фонарные столбы, отвесив несколько гибких поклонов, тут же обрывались, глядели серебристыми глазницами. Трасса, короткая, закупоренная в обе стороны буреломом, была покрыта бетонными плитами, ровно, точно уложенными.
Этот малый, незаселенный ломтик проспекта был наградой за всю кромешную, казавшуюся бесконечной работу, в которой терялось понимание себя, своей высшей, задуманной цели: лишь одно молниеносное, из снега и ночи, черно-белое мелькание дней, без следа, без осадка, без памяти.
Но оказывается, след оставался. Выпадал осадок. Эти дома, фонари, витрины.
— Начальник, когда со мной займешься? — в стоптанных валенках, в полушубке на одном крючке, в разноухом малахае, смотрел на него тощий, небритый мужик. — Когда со мной-то займешься? Нет силы терпеть. Айда, погляди, как живу!
Это был лесник, еще недавно живший в глуши, на отшибе, в бревенчатом доме. Теперь его лесные угодья, сенокосные поляны и просеки пришлись под удар проспекта.
— Глянь, как живу!
Его дом чуть виднелся за грудами пней и кореньев. Вдоль сарая, оторвав смоляные щепы, проходила траншея. Автогенщики резали сталь. Дренажные кольца подкатились под самые окна, заслоняя цветочек гераньки, испуганное бабье лицо. Экскаватор с ковшом урчал посреди огорода. Над домом нависли потрескивающие высоковольтные жилы. Дребезжал пневмомолот. И в ответ безумно и хрипло мычала корова. Весь дом был уловлен, опутан железом. Темнел беззащитно среди огней и отточенной стали.
— Баба говорит: сожгло бы нас, что ли. Когда же оно все кончится?
— Вам квартиру дадут. К концу месяца дома заселяем, и вам дадут обязательно, — ответил Елагин, глядя на стожок среди гусеничных следов.
— Да на кой мне твоя квартира? Что я в нее, с коровой? Что я в нее, с курями? Баба моя говорит: умру, а не съеду. Пущай трактором давят. Лягу и буду лежать…
Елагин слушал его причитания. Думал: город, сконструированный и запущенный с другой половины земли, пронесся через полконтинента, врезался в эти дебри. И кто мог предвидеть, что удар придется по сырому стожку? По красной гераньке? По мычащей корове?
— Куда мне еще писать? В район писал. В область писал. В Москву писал. Туды мне, что ли, писать? — лесник тыкал пальцем в небо, но и там потрескивала голая медь электричества.
Встречи, подобные этой, вдруг отнимали веру, что твое искусство и творчество, твой будущий Город, одним своим появлением осчастливит людей. Этот, в своем зипунишке, не желал его Города.
— Вам квартиру дадут обязательно, — неуверенно повторил Елагин.
— На кой ляд мне твоя квартира! У меня гриб под окнами рос, ягоду какую хошь бери. Два года поляну чистил, каждую прутину ножом срезал, — только сено пошло родить. На кой ляд мне твоя квартира? Давай лес обратно сади!
Лесник злобно играл белками, дергал желваками. Елагин испытал на себе его ненависть, его бессилие. А в ответ — свое сострадание, свою перед ним вину. Знал: в его горе есть и его, Елагина, вина. А как искупить — непонятно.
В будущем многолюдье проспекта, под коркой асфальта, все будут таиться белые цветы сенокоса, будет реять над городом дух безумной коровы…
Когда-то давно они с женой шли над непомерной, лесами поросшей кручей. Озеро длинным влажным разливом омывало гору, стелило у берегов блестящие россыпи, долгие сизые перья упавшего ветра. Легли у края обрыва. Запрокинули головы, окунув их в воздушную бездну. И все перевертывалось, голуби падали вниз, озеро лилось в небеса, и они, обнявшись, летели среди вод и разливов.
Елагин прогнал наваждение…
Приемная. Табличка с фамилией Белорыбов. Стук секретарской машинки.
— Пожалуйста, вас просят. Пройдите!
Елагин сидел с председателем исполкома, рассматривая его ржавые кустистые брови, шрамы на щеках, упрямо насупленный лоб. Теряя терпение, в который раз указывал пальцем в схему.
— Вот наш микрорайон, видите? А вот ваша водопроводная нитка. Тут же рукой подать! Позвольте нам подключиться. Врежемся за день, даю вам честное слово! Никаких перебоев с водоснабжением не почувствуете!
— Нет, не могу разрешить. Объясняю… Первое… У меня на этой нитке баня висит, столовая. Значит, их отключай?.. Второе… Водопровод у нас маломощный, самим не хватает. Вы у нас воду выпьете…
— Да что вы боитесь, не пойму? Выберем один день, небанный. И мигом врежемся. А насчет перегрузок, ведь временно просим вас выручить. Тянем свой водовод, мощный. Вам же завтра из него вода пойдет!
— Ваши «завтраки» нам известны. Завтра, по вашим словам, у нас рай будет. А пока что одно разорение. Всех путных людей от нас на стройку к себе сманили, хоть плачь! Пожары от ваших огней вот-вот пойдут, ночи не спим, караулим. Мы деревянные. Нам до вашего рая еще продержаться надо.
— Странно вы рассуждаете! Что мы, захватчики к вам явились? Оккупанты? Разве у нас не общее дело? На штабе вчера говорили… Как прикажете вас понимать?
Елагин надавил на эти рыжые брови испытанным, если умело им пользоваться, способом. Одной интонацией собрал под свои знамена невиданные грозные силы. И устыдился своей попытки, услышав все то же упрямое:
— Как хотите, а врезаться не дам.
Елагин знал, существует два центра, два города: ветхозаветный, шаткий и новый, растущий. Этот второй снижается здесь, как ширококрылый «Антей», готовый раздавить хрупкую полосу, использовав ее раз, для посадки. Он, Елагин, служит в экипаже «Антея». А этот, недоверчивый, несогласный, был в аэродромной прислуге.
Новый город возьмет от старого только название. Рассосет, перемелет бесследно в бетонных и стальных жерновах деревянный, легчайший прах. Другие люди перехватят инициативу у прежних. Станут управлять отсюда связками железных дорог, газопроводами, гроздьями городов и заводов.
Для него, Елагина, хлопоты о водопроводе, о бане были временными, изнурительными, заслонявшими любимое целое. Для предисполкома Белорыбова они и были тем целым, которому он служил. Они, из разных мест, сошлись ненадолго, случайно.
Елагин умом понимал свою правоту и победу. Но тайным, невнятным чувством стыдился своего превосходства.
— Так вы не дадите согласия?
— Не дам.
— Вы же знаете, к концу квартала дома должны быть сданы. Я доложу о разговоре генеральному. Вопрос все равно решится.
— Надо с умом решать. А не так, чтобы люди страдали.
— Да кто говорит о страданиях? — опять заражаясь нетерпением, сказал Елагин. — Ладно, простите, что потревожил… Будем решать в другом месте.
И, забрав свою схему, недовольный им и собой, вышел…
К вечеру Елагин подъехал к подстанции — последнему объекту, за которым следил.
Широкая, седая от снега просека пробивала леса и поляны. Распахнув стволы, висели три медные жилы. Плавно срывались с металлических мачт. Стремились вниз по дуге. Мягко взмывали. Усаживались на мгновение на далекую стальную вершину.
Елагин стоял под линией, среди электрических тресков. Чувствовал ее мощь, бег невидимых в меди, неслышно ревущих сил, омывавших Сибирь. Город строился на берегу этой медной трехжильной реки, выходил к водопроводу, готовился пить и глотать.
— А вот сами смотрите, как сделано. Лачком покроем да вам сдадим в упаковочке!.. Мы вам в ручки положим, вы нам в ножки поклонитесь! — бурачный от ветра, электрик радовался приходу Елагина. Приглашал взглянуть на работу.
Елагин задирал голову к мачте с призрачно-сквозным перекрестьем. Высоко, среди стекла и металла, ходил человек. Попадал головой на солнце. Заслонял его. Тихо бил и звенел, словно вытягивал из огненного клубка медные нити, развешивал над полем и лесом.
— Мачту, как обещались, выровняли, — продолжал электрик. — Громоотводы наладили. Да что там! Сами заинтересованы поскорее сдать!
Елагин почти не слушал. Чувствовал, как устал. Голова его тихо плыла от вечернего солнца, от узорного стального плетенья мачт. Сталь росла и кустилась. Цепко стебель за стеблем, охватывала небо и землю. Расцветала, как сад. И садовник ходил в небесах по стальным ветвям и вершинам. Раскрывал соцветия и почки.
— Сами, говорю, заинтересованы сдать поскорее, — электрик переступал валенками, залитыми изоляционной резиной. — Мне ведь тоже квартиру дают. Хватит, говорю, мне таскаться по Руси-матушке. Пусть другие попробуют. Сколько я этих подстанций построил — ужас! Пора свой дом заводить, пора детей растить. Правильно, нет? Человек должен дом иметь, чтоб было где детей растить. А те, которые не набегались, пусть походят, поездят.
Он кивал на того, в высоте, который балансировал на уровне солнца. Казалось, оттолкнется от мачты и пойдет по медной скользко-блестящей струне над лесами, полянами продолжать свой путь по земле.
— Работы на день-другой… Оградительную решетку поставили, а под ней лаз. Не годится! Кошки, собаки пролезут. Мы в Усть-Илиме подстанцию сдали, а кошка, чертяка, пролезла да на контакты прыг — и замкнула. Такая дуга пошла!.. От кошек, от птиц беда… Тут все сова летала, все сесть норовила. Я говорю: стукните ее от греха, ребята. Замкнет к черту!.. Ну один из наших, Ляшенко, долбанул ее дробью. Должно, помирать полетела.
Тревога и похожая на предчувствие тяжесть пребывали в Елагине. Хотелось очнуться в свежести, в молодой, светлой силе, вернуть отлетевшую надежду на небывалую долю, но не было сил. Держала ледяная земля, низкое, без птичьего крика небо, под которым он, Елагин, не юный, не прежний, пытался прозреть и очнуться.
Ему казалось, он лежит на стерильной, не окропленной еще белизне. Квадратные глазницы домов смотрят на него напряженно. Фонари наклонились над ним, готовясь светить на грудь. Жестяная чеканная рыба стучала, как метроном. К нему подключили от мачт оголенные провода и контакты. Вводили в кровь водовод. И уже с тихим бархатным ревом начинали подходить механизмы. Сжимались могучие бицепсы, заносили над ним блестящий, криво заточенный нож.
Очнулся. Сизое, стиснутое морозом лицо. Улыбка на толстых губах:
— Через пару деньков принимайте работу!
— А сова? Вы сказали, сова…
— Ляшенко ее долбанул. Крен дала и помирать полетела.
— Куда?
— Да вон, за лесок!..
Дорога, наезженная самосвалами, с хрустким вафельным следом от промчавшегося вездехода, скользила, звенела. Елагин миновал ободранное, продуваемое насквозь мелколесье. Иртыш недвижной громадой, в сорных, снежно-пыльных откосах, ахнул пустынными льдами. Рваный, застывший разлом от последнего осеннего каравана топорщился глыбами. В них словно вмерзли лязг и скрежет железа, истошные гудки, крик мегафонов. От этой пустоты и огромности отвердели глаза. Брови и щеки жгло от бесчисленных полетов песчинок.
Елагин шагал, испытывая грудью непомерное давление реки. Ее рубленых, кристаллических льдов. Бесшумного слепого движения могучих подледных вод, колыхнувших землю плавной дугой. Осыпая кручи, стремился Иртыш к океану.
На снежном лугу, запорошенные, лежали стальные трубы с надписью «Манесман». Как многоствольные, гигантских калибров минометы.
Елагин заглядывал в кольца труб. Вырезал округлые, охваченные железом картины голых ивняков и откосов. И вдруг под ногами увидел сову.
Опрокинувшись на спину, она отсвечивала выпуклой грудью. Чуть раздвинула крылья, круглоголовая и пернатая, с расширенными янтарными глазами. Он испугался ее электрического взгляда, ожидаемой, но такой невероятной встречи. Медленно наклонился.
Сова, не мигая, смотрела бесстрашно, не сторонясь его взора.
Елагин стянул рукавицу, тронул нагрудные перья. Грудь была твердой, перья не гнулись. Он поднял сову, с тихим хрустом оторвав от наста. Держал на весу, разглядывая оцепенелый клубок когтей. Сова была жестяной, ломкой, чуть засахаренной от снега. Глаза золотились в ледяной голове.
Пальцы, державшие птицу, замерзли. Он протянул ее навстречу дующей железной трубе. Птица, попав в струи ветра, качнула крыльями, как маленькая модель самолета. Неживая, откликнулась на движение родных полярных стихий.
Елагин держал сову в аэродинамическом ревущем раструбе. Проверял ее крепость, летучесть, убеждаясь в ее совершенстве. Бережно положил на снег, на прежнее, оставшееся от нее углубление. Вернул обратно отливку, металлически-белую скульптуру совы.
Он стоял над убитой птицей. Труба хлестала его порошей, сдирала тончайшие оболочки, одну за другой. И, чувствуя, как уменьшается, как улетучивается его тепло, он думал:
«Это так, это так… Меня все меньше и меньше… И вот металлический луг, металлическое небо, и птица, и, в общем, иная жизнь, не та, что казалась возможной…»
Труба грозно и хрипло ревела. Валила с ног. И он думал:
«Моя мать стареет одна, и некогда ей написать… Мой Город из легких фантазий превратился в угрюмую тяжесть, в невозможность полета и чуда… Моя жена давно не моя, в ином пространстве и времени. А я в этот миг стою на ледяном сквозняке, всеми забытый, ненужный… И как же мне дальше жить?»
Убитая белоперая птица. Труба — как огромный, нацеленный на нее дробовик. Его зрачки вмерзают в птичьи ледяные зрачки. И мысль — об очерствении души, об ущербе любви и веры.
Ему было худо, темно. Лютый сибирский ветер, кандально звенящий, выдувал остатки тепла. И, чувствуя, как погибает, как глохнет от свиста последнее живое звучание, он стал выкликать, не зная кого, в этой темной сибирской ночи.
Он звал горячо и жарко. Глядел не в небо, а на убитую птицу. Связывал с ней все лучшее, на что уповал: отчий дом, материнское родное лицо. И другое лицо, любимой. Свой чудный задуманный Город. И что-то менялось в ночи.
Дальний, чуть слышный звук…
Слабый проблеск и свет…
Звук все выше, ясней…
Свет просторней и шире…
И внезапный взрыв…
Белизна снегов…
Совиный клекот и крик…
И крылатая буря…
Город, как семейство космических кораблей, приземлился в снегах. Серебристые сферы и чаши, отшлифованные пургой. Антенны ловят полярные вихри. Стремительные фюзеляжи конструкций. Город в сверкании и блеске, в мелькании ринтов, лопастей опустился из неба как чудо, коснулся земли. И Елагин любил крылатое и звенящее, из бурана возникшее диво.
Это длилось одно мгновение и исчезло как сполох. Город вдали вспыхивал ртутным светом, ворчал моторами, лязгал. Но было иное звучание. Иное понимание всего. Вернулось, обойдя по кругам, знание о себе и о мире. О высших задуманных целях, данных на великое испытание и силу, на великую мечту о цветении.
Елагин поклонился невидимой в сумерках птице. Вздохнул глубоко и пошел в этот грозный, ледяной, электрический мир продолжать вековечное дело. Отдавать свою душу живую. Наделять этот мир душой.
14
Из окошка музея — белые, толпой стоящие башни и храмы, их знакомые лица с каменным выражением глаз, задумчивых лбов, тихих улыбок. Батарея чугунных пушек, без лафетов, с ледяной, детьми построенной бабой. От ворот — темная, туго натянутая тропинка, по которой идут в музей нечастые посетители. Возникнут на мгновение у окон кабинета. Хлопнет тяжелая дверь. Голоса в прихожей. И замирают, затихают по залам.
Стайка школьников задержалась у пушек, засовывая в дула снежки. Речники-курсанты в коротких бушлатах простучали на крыльце чечетку, застывшие, торопились зайти в теплоту. Одинокий, приезжего вида человек остановился, поднял глаза к высокому кружению галок в Никольских куполах.
Голубовский, директор музея, с утра чувствовал себя неважно. Болел желудок. И уже в который раз он заваривал чай из трав, прятал горячий чайник под лоскутную матрену, стоявшую тут же, на столе кабинета. Нет-нет да укладывался на старинную, красного дерева кушеточку, прислушиваясь к шагам в коридоре, — как бы не застали врасплох. Закрывал глаза, чувствуя слабое, нескончаемое жжение. Но потом с усилием усаживался, отводил ото лба жестко-белые длинные волосы. Бодрился распрямлялся, вставал.
Он готовил к открытию выставку картин Горшенина, собранных тут же, у стен кабинета. Любовался их тихим разноцветьем. Любил их, думая о непрерывном в Ядринске плодоношении, то буйном, то кротком, сквозь все суховеи и заморозки.
«Право слово, чудеса, чудеса… И откуда он знает? О себе, обо мне, о всех нас? И об этой горе? И о кладах?» — думал Голубовский взволнованно, разглядывая одну из любимых.
Ядринская в откосах гора. В ее глубине тихо спят казаки в кольчугах и шлемах, разметав железные бороды. Монахи в клобуках, смежив веки над старыми книгами. Барыньки в кружевах, кринолинах прижали к груди веера. Чиновники в вицмундирах с кипами карт, чертежей. Убитый комиссар в портупее, с горькой улыбкой, держа в кулаке наган. Раненный в бою под Орлом танкист с повязкой на ослепших глазах. Все уснули в глубокой горе. Их оплетают тонкие корни. Хрупкое деревце пробилось наружу, раскрыло под небом цветок. И он, Горшенин, прижался к цветку губами, ловит его аромат.
«Чудо о Ядринске… Так просто, дивно!..»
Он переходил от картины к картине. Близоруко вглядывался, то усмехаясь, то хмурясь, отбрасывая белую гриву. Чувствовал телесную боль и душевную, ее побеждавшую радость. Думал, как выставит в залах картины, явит миру их красоту и мир, на мгновение очнувшись, узнает себя таким.
Женский портрет, Маша. Черпнула горстку синей иртышской воды, и в ладонях, в пригоршне, отразились перевернутые кремлевские церкви, дерево срубов, лестница с фонарями, и он сам, Горшенин, — в ковшике из ее ладоней. А она усмехается, смотрит на воду, словно думает: то ли сделать глоток, то ли выплеснуть.
«Нет, не на силе и гордости, а на робкой любви и сомнении — вот на чем основать свою душу… Отданы в руки друг другу на сохранение, на бережение и несем, боясь расплескать…»
Он присел, ловя голубые отсветы картины, потеряв из глаз Машу, но все еще чувствуя ее усмешку и тайну, ее власть над пригоршней воды.
«Кто захочет, поймет… Не теперь, так когда-нибудь после…»
Все последние месяцы его мучили боли в желудке, а с ними — темные мысли о неизлечимой, поселившейся в нем болезни, о близком конце. Он боролся, заставлял себя не думать, засиживался в музее, в фондах и книгохранилищах. Не любил возвращаться домой, где поджидала его оглохшая, бестолковая, засохшая в старческих хлопотах жена. И хотелось написать большое письмо сыну, позвать к себе, повиниться за былые с ним ссоры, за отцовское свое нетерпение. Но все откладывал. То отчеты, то просмотры собранных летом по деревням крестьянских нарядов, прялок и утвари. А теперь вот эта маленькая драгоценная выставка любимого им Горшенина.
Еще картина, чуть отсвечивающая у окна.
На холодном, предзимнем лугу кружат красные хороводы. В студеную воду заплывает осенний табун. Пастух играет на дудке, и люди под тихие посвисты прижимают к груди отлетающих птиц. Прощаются с ними, и их лица печальны и тихи. Кони плывут. Краснеют сарафаны в лугах. Печально поет береста. И все так знакомо: вот он сам, Голубовский, седой и усталый, отпускает на волю кукушку, свою тихую, осеннюю душу. Вон Городков отпускает на волю дрозда. Файзулин целует стрижа. Маша под холодным дождем проносит свой алый подол, Горшенин прижал к устам дудку из седой бересты.
«Как верно, как верно! — думал Голубовский умиленно и грустно. — Звучание рожка… Наши души… Наше единство в лугах… Нет, не архангельской грозной трубой, от которой падают города, обновится и очистится мир, а от кроткой седой бересты, в ее слабом звучании…»
В коридоре мелко зацокало. Не успел Голубовский подняться, как без стука вошла в кабинет маленькая остроглазая женщина в шубке с собольим воротником, в черно-бурой шапочке, заведующая отделом культуры Лямина.
— Ах, Егор Данилыч, не помешала? Вы работаете? Все работаете? — скользнула она в кабинет.
И Голубовский, смущенный тем, что его застали лежащим, улавливая в ее возгласе тонкое притворство и насмешку, поспешно поднялся, пробурчал:
— Принял лекарство да вот прилег на минуту, по совету врача… Здравствуйте, Ирина Романовна!
— Вы нездоровы, Егор Данилыч?.. Вид-то у вас, правда, неважный… Не отдыхаете! Как вечером ни пройдешь, все ваше окошечко светится. И когда, думаешь, Егор Данилыч отдыхает? Нельзя, нельзя так! Надо себя беречь. Вы у нас в городе старейший работник, отдых себе заработали. Можно и на молодых возложить!
И опять Голубовскому показался тайный, колкий намек на его немощь и старость, нежелание уйти на пенсию, отдать свой пост молодым.
— Чем могу служить? — мрачно, уставясь в пол, спросил он.
— Да я к вам, в общем-то, на минутку, — весело щебетала Лямина. — Проходила, дай, думаю, зайду. Давно не была в музее, а ведь очень важный участок работы… Ну вот, обошла все залы и к вам заглянула. Ну чтоб высказать свои впечатления. Ну может, маленькие свои замечания…
Голубовский не любил Лямину, ее льстиво-сладкую, неискреннюю манеру говорить, мелкое, остренькое лицо, круглые бегающие глаза и в улыбке ровные блестящие зубки. Насторожился и ждал: что там, за влажным, красным ее язычком, за ласковыми ее пустячками?
— Слушаю вас, Ирина Романовна, — он опустился в кресло у окна, стараясь отвлечь ее любопытный, скачущий по картинам взгляд: по Никольской горе с цветком, по красным на лугу хороводам, по горстке иртышской воды с отражением церквей, фонарей. — Слушаю вас…
— Видите ли, Егор Данилыч, вы, и это я всегда говорю, вы наш старейший, опытнейший и незаменимый работник, всеми уважаемый, золотой наш фонд, если можно так выразиться. Так много сделали и делаете для музея, несмотря на свой возраст и хворость, одним словом, поймите меня правильно и совсем не в плане упрека… — Она улыбнулась из-под своей чернобурки ласково и кокетливо. — То, что я вам скажу, не упрек, а скорее совет, скорей не служебные, а личные мои замечания, но, может быть, будут полезны… Видите ли, Егор Данилыч, когда я прошла по залам, то мне показалось, что у нас в музее существует, ну как бы это выразиться… Существует некоторый, что ли, перекос, некоторый крен в общей картине музея…
Голубовский вдруг вспомнил, как недавно видел Лямину в магазине, хватавшую жадно и цепко крендель копченой, редкой в Ядринске, колбасы, она ловко, с полуулыбкой совала колбасу в клеенчатую сумку, из которой торчала мороженая щучья голова, и было в ее жесте и полуулыбке торжество и ощущение добычи.
— Какой перекос? — спросил он, глядя на медленное падение зимнего солнца, на картину у стены.
— Некоторый излишний перекос в старину, Егор Данилыч! Излишнее увлечение нашим далеким прошлым, идеализация его, если так можно сказать, и одновременно недооценка сегодняшнего момента, современности, сегодняшних славных страниц… Понимаю, согласна! — заторопилась она, видя, как рассерженно встрепенулся Голубовский. — Патриотизм, воспитание на примерах прошлого, традиции… Но во-первых, традиции традициям рознь… И затем, в разумных пропорциях… Главное-то для нас все-таки современность!
— Музей, Ирина Романовна, не клуб, и его тема — история, то есть в основном минувшее, исчезающее, скрывающееся за горизонтом, и все наши силы, весь наш опыт к тому, чтобы не дать ускользнуть и исчезнуть…
Цветок на Никольской горе пламенел и кружился, белые башни встали толпой за окном, прислушиваясь к их разговору, и опять, в который уже раз, из этих ли уст, из других, — двуязыкость речей, изнуряющее непонимание, тщета, нелюбовь и враждебность. Вот только белые любимые башни, кроткая их беззащитность…
— Не упрощайте, не упрощайте! — решительней, жестче сказала Лямина, все еще улыбаясь. — В экспозиции почти совсем не отражена современность. Например, строительство комбината. Для дворянских одежд, карет, побрякушек у вас нашелся зал, но нет ни одного стенда с рассказом о нашей замечательной стройке, а ведь с нее, согласитесь, для Ядринска начинается новая эра, новая, если хотите, история!.. Вы извлекли из запасников целые иконостасы и развесили их, как мне кажется, без должного отсева, отбора, и одновременно я не увидела у вас фотографий наших передовиков, картины стройки, цифр, рубежей… Вы, как я вижу, готовите выставку Горшенина, а комбината будто и нет для вас…
— Позвольте, но эти иконы, эти иконостасы — гордость нашей ядринской школы! Мы их спасли, сберегли, по крохам, чуть не из своего кармана, своими силами отреставрировали… Московские искусствоведы приезжали — ахнули! Это новое, неописанное явление, сибирская школа!
— Но согласитесь, Егор Данилыч, к нам в Ядринск едут не искусствоведы, а молодые рабочие, желающие строить гигант нефтехимии. Они приходят в музей, хотят знать, что за стройка, какие масштабы, что их, собственно ожидает. А вместо этого мы им предлагаем ядринскую школу иконописи и картины местного самоучки…
— Но позвольте, мы предлагаем им высшие ценности! Высшую национальную культуру! Мы им глаза открываем!
— А комбинат, по-вашему, низшая ценность? Не на него ли в первую очередь мы должны открывать глаза, а не на эти сомнительные акварельки? И в этом, именно в этом я вижу главное ваше упущение… Равнодушие ко дню сегодняшнему, излишняя увлеченность днем позавчерашним!
— Но позвольте! — взволновался Голубовский. — Мы собрали все лучшее, что имеем… Не меньше, чем в Суздале… Вы просто отстали! Сегодня другие взгляды!.. Преодолели непонимание!.. О каждой фресочке — в центральной печати как о национальном достоянии… И только мы в Ядринске… У нас в Никольском росписи гибнут, но об этом вы ни словечка!
— Я повторяю, Егор Данилыч, и это не только мое мнение! — сухо оборвала Лямина. — В работе музея наметились серьезные недостатки, и настало время их устранить. Вы, как трезвый человек, должны разумно подойти к критике и учесть в рабочем порядке…
— Трезвый человек?.. В рабочем порядке?.. — задохнулся Голубовский. Ему показалось: в живот вонзились стрелы, выпущенные из меткого лука. Ожгли его болью. Он схватился за торчащее древко, за ястребиное оперенье, старался выдернуть. Но зубчатый наконечник застрял, дергая живую плоть. Внутри лился жаркий, больной ручей. Башни за окном стали красными. — Это вы-то мне говорите? Вы, вы?.. А где вы были, когда мы спасали культуру? В магазине? За колбасой и за щукой?.. Где вы были, когда мы из огня иконы, к груди прижимая, спасали?.. Вы, с видом невежды!.. Своим перстом указующим!.. Не позволю! Я вам не мальчишка!.. Под вашу дудку плясать… Под ваш контрабас железный!.. Нет! Не позволю!
Ему казалось, совершился обман. Она проскользнула в его кабинет, усыпила льстивой, сахарной речью, и следом за ней крадутся незримые, враждебные силы, готовые сгубить. Хлынут со стуком в парадные двери, растекутся с ревом по этажам, круша хрустали и фарфор, обрывая кружева, кринолины, кидая в огонь ветхое дерево, и он проглядел, допустил.
— Вы уважаемый в городе человек, Егор Данилыч, и нам не нужно ссориться. Мы же делаем общее дело. Музей — проводник культуры, один из ответственнейших участков. Мы хотим, чтобы наши люди не отворачивались от современности, не отворачивались от процессов, обновляющих нашу жизнь. Вы знаете, в этом плане были допущены некоторые ошибки, эта статья в газете, неосторожная и неумная, и мы должны извлечь уроки… Сегодняшнее лицо нашего города — комбинат, и каждый, кто хочет служить своему городу, должен это понять. Я — против горшенинской выставки, за скорейшую экспозицию, посвященную комбинату…
— Вы пришли мне это сказать? Да?.. Мне?.. Об этом?
— Успокойтесь, Егор Данилыч! Я пришла к вам с добром!
— Вы за этим ко мне пришли?.. Ко мне?.. Чтоб сказать?..
— Вам нельзя волноваться, Егор Данилыч, вы нездоровы…
— Вы явились ко мне как лазутчик и пустили стрелу!
— Что с вами, Егор Данилыч, вам плохо?
— Вы хотите все это разрушить, да?
— Да что вы, Егор Данилыч, что с вами?
— Вы все это ненавидите? Вам это все мешает? Вы хотите все это стереть?
— Вы с ума сошли, Егор Данилыч!
— Нет, я вас разглядел!.. Нет, я вас разгадал! Разгадал!..
Боль била ключом. Из-за красных ворот и башен тучей летели стрелы, впивались ему в живот. Камень хрустел и крошился от грохота стенобитных машин. И вот в проломе ворот, окутанный гарью, увешанный щитами и пиками, в блестящих разящих зубьях, в чешуе и свернутых кольцах, не таясь, возникло чудовище. Надвигалось на соборы и башни, и на огненном лбу, на драконьем огненном лбище было выбито «КАМАЦУ».
Это было как бред. Голубовский, выпучив полные ужаса голубые глаза, схватившись за живот, опускался со стоном на пол.
15
Таким его и застал Горшенин, забежавший в музей. На кремлевском подворье — японский бульдозер. А здесь, на музейной кушеточке, задыхался старик в мелькании лучей и пылинок.
— Алеша, вовремя, вовремя, на подмогу!.. Главное, внутрь не пустить!.. Главное, в себя не пустить, в свою душу живую! Алеша!
— Егор Данилыч, вам худо? Что, опять разболелось?
— Стрела, Алеша, вероломная!.. Но все пустяки… Поделом, поделом… Просочилась, усыпила, и вот тебе!.. Но все пустяки, поверь…
— Может, вам чаю, Егор Данилыч? Где болит? Может, домой проводить?
— Мы, Алеша, крепость вокруг себя возвели! Башнями обстроили ладно! Пищали ближнего и дальнего боя!.. Покровская башня, Стрелецкая!.. Звонничья башня, Сварожья!.. А они хотят тихой сапой, подкопом, подкопом… Главное, внутрь не пустить! Отстоять святыни и храмы! На стенах биться, до последнего вздоха, до последнего трепета! В душу свою не пустить!..
Он видел над собой испуганное любящее лицо Горшенина, был ему благодарен. Все путалось в его голове — боль и восторг. Среди пылающих теремов, опаленных, комьями пролетающих галок он произносит вещие, рвущиеся из души слова, свои прощальные заветы другим, молодым, столпившимся у его изголовья.
— Егор Данилыч, а может, в больницу? Может, пойдем в больницу? Надо вам показаться, ведь все время мучит…
— Все пустяки… показаться… Жизнь прожита… Старик… Болезнь неизлечима, я знаю… Но не страшусь!.. Чего мне бояться? Смерти? Смерти я не боюсь! Смертью нас не возьмешь! В смерть мы, Алеша, не верим! В тлен мы не верим! Все стрелы сквозь нас пролетают, а главного им не задеть!
— Егор Данилыч, дорогой… Давайте-ка мы с вами в больницу. Сейчас добуду машину, и мы потихоньку… Надо вам показаться. А то вы все травами, травами. Бог весть что надумываете про себя. А надо к врачу, к настоящему…
— Да что нам врачи, Алеша!.. Мы сами себе врачи, сами себе лекаря и целители! Знаем концы и начала. И знаем свою бесконечность!.. Мы в детях своих не кончаемся. И в этих белокаменных, чудных, всю жизнь за нами следящих церквах. И в народной молве. И в этих снегах неоглядных. И в водах. И в небесах. И в звезде загоревшейся. И в ковшике из любимых ладоней, на которые легли отражением. И в высших, нам с тобой неведомых, неизреченных тайнах, Алеша! Вот где мы бесконечны!..
Сквозь боль и жжение в нем пребывал восторг от прекрасных найденных слов, от одержанной духовной победы в присутствии Горшенина, в присутствии любимых, белоликих, весь век на него глядящих соборов, которым и он подобен, из того же белого камня, на которых, сквозь все пожары, ни уголечка, ни пятнышка.
Он знал, что болен, и болезнь его безнадежна, и он приговорен. Но не чувствовал страха, а только нервный, горячий восторг и любовь к Горшенину, державшему его руку, к покосившимся, знакомым до последней ставенки домикам, мимо которых мчала его в больницу машина.
Когда осматривала его молодая докторша, старался не смотреть на свой вялый живот. Шутил, а не вскрикивал, когда пальцы докторши вызывали боль. Послушно отдал медсестре свои капельки крови. Равнодушно отнесся к известию, что это не аппендицит, ибо знал прекрасно, чем болен. На предложение остаться, провести ночь в больнице, чтобы утром продолжить обследование, ответил галантно: «Я ваш пленник, Арина Саввична. Повинуюсь, отдаю свою шпагу!»
Его поместили в отдельную, в новом корпусе, небольшую палату с металлическими блестящими трубками вдоль стен, с хромированными циферблатами, уложили на подвижное, в винтах и подъемах, медицинское ложе.
И Голубовский остался один среди больничной чистоты и покоя, тонких лекарственных запахов. Лежал, прислушиваясь к угасающим болям в желудке, остывая от возбуждения.
От холодного блеска трубок, хромированных хирургических отсветов его охватила тревога. Некому было исповедоваться, завещать. Неужто и впрямь конец? Так просто? Не в ратном поле, не в честной битве, не в родном углу, а в больничной палате? Далекие голоса в коридоре, звяканье склянок, его беззащитность, покорность — неужели вот так все кончается? Скоро он уйдет и исчезнет, превратится в ничто, в пустоту, в холодную землю.
Ему стало страшно. Но он ухватился за мысль о земле, за образ земли, не могильной, а огородной, синеватой, влажной. Туманно дышащей у него на ладони; с копошением мельчайших существ, с розовым, притаившимся в сердцевине червем.
«Да, да, земля, ее тайна!.. Тайна нашей земли… Не германское чувство крови, не восточное чувство семьи, а именно русское, русское чувство почвы, чувство земли и пространства, их тайны! Вот где сила и смысл!.. Не боюсь, не страшусь… Есть уроки, есть заповеди… Есть писаные и живые примеры… Белое, белое чувство!.. Не ужас, не страх, не темное тление могил, а белое чувство земли!.. Как тот старовер Студенецкий…»
В молодости он ходил в экспедиции по ядринским деревням, собирая по избам книги. Старик в Студенцах обещал ему Четьи-Минеи, рукописные, с алыми буквицами: «Умру, а тогда забирай». Они сидели в доме старика. Тот распушил по рубахе невесомую, прозрачную бороду. В головах стоял тесаный крест, распуская, смоляные благоухания. Висел отрывной календарь. Смородина шевелила в окне листами. И старик, положив на колени книгу, рассказывал ему свою жизнь, вздыхал, улыбался.
Он вернулся потом в деревню и увидел тот крест на могиле. Жена старика передала ему книгу. Он листал тяжелые, в метинах воска страницы, снимал с них отрывные календарные листики и высохшие листья смородины. И ему казалось: из красных буквиц старик посылает ему поклоны.
«Вот так же, без страха, с величием… Белое, белое чувство…»
Недавнее восхищение и вера вернулись к нему. С любовью и светлой печалью он представлял себя покрытым землей, но как бы живого, всевидящего. Из ног, из груди, живота, пробивая почву и дерн, вырастают белые зонтичные соцветия, в них дремлют мотыльки, бронзовые на солнце жуки, и сын, утомленный дальней дорогой, присел и нюхает белый цветок.
«Чудо о Ядринске… Чудо о жизни и смерти… Чудо о земле и о небе…»
Он засыпал, забывался, и было ему хорошо.
Стоглазое, бесформенное пролетело над ним во сне, промерцало глазищами. Голубовский проснулся в ужасе, в холодном поту. Ловил над собой исчезающий шум и полет: «Я!.. Умру!.. Неизбежно!.. Я!.. Неизбежно!.. Умру!..»
Не умом, не фантазией, а всей ужаснувшейся, трепещущей плотью почувствовал, что смертен, умрет. Не когда-нибудь после, а теперь, очень скоро, сейчас. Всем нутром, цепенея: «Я!.. Неизбежно!.. Умру!..»
— Сестра! — крикнул он слабо, — Сестра!
Никто не откликнулся. Блестел зрачок циферблата. И сквозь страх, сквозь сердечную слабость — остро, панически: «Жить!»
«Как же так? Как так можно оставить и бросить? Надо спасать… врача! Да не этих, девчонок, не в Ядринске… Кустари, захолустье. Есть же другие… Есть клиники, профессора… Сыну письмо написать… Есть медикаменты, лекарства… Есть заграничные средства… Это лечат, я знаю… Долго, долго живут… Недавно читал в газете… Пересаживают сердце и почки… Ведь строят какие-то центры, средства идут от субботников… Я тоже… есть моя доля, убирали музейный двор… Есть же в Москве институты… обмен делегаций… Должны же меня спасать!.. Не могут так просто на свалку!.. Деятель науки, культуры… Сколько лет посвятил… Ценный для общества… Должны лечить и спасать!.. Позвонить в исполком, председателю!»
— Сестра! — крикнул он тонко. — Сестра!
Не откликнулись. Беспощадно и тускло сверкали трубки на стенах. Было страшно и дико. Глаза его были в слезах. Чутко, сжавшись в постели, ловя в себе боли и всхлипы, он ждал приближения утра.
Вошла Арина Саввична, лечащий врач. Голубовский капризно и умоляюще потянулся на ее белизну и свежесть:
— Почему же так долго? Я ждал!.. Нельзя же так… Поместили, оставили… Ужасная ночь!.. У меня музей, дело, ответственная работа.
— Немного задержалась с обходом, — улыбнулась она. — Давайте-ка, Егор Данилыч, измерим давление…
Брезгливо, страшась и надеясь, смотрел на свою худую руку, перетянутую жгутом, не понимая, наблюдал за дерганьем стрелки.
— Плохо спал… Ужасная ночь!.. Что у меня? Только правду! Что показали анализы?
— Кровь у вас нормальная. Будем исследовать дальше…
— Дальше, дальше… Все исследовать. А ведь время идет! Время идет!.. Вы от меня скрываете… Но ведь минуты уходят, и можно совсем запустить… Я читал: чем раньше, тем легче…
— Успокойтесь, Егор Данилыч, ведь надо знать, что лечить. Я предполагаю, у вас обычный гастрит. Переволновались, перенервничали — и обострился. Вам нельзя волноваться…
— Нет, позвольте мне волноваться!.. Вы должны мне дать направление! В Москву, в приличную клинику! Не хочу вас обидеть, но все-таки разная степень, разные медицинские уровни… У сына есть связи, он покажет профессорам, пусть посмотрят как следует!
— У нас, Егор Данилыч, очень хорошая больница. Может, и первоклассная по местным масштабам. У нас оборудование не хуже московского. К нам из Тобольска, из Тюмени приезжают. Комбинат, вы знаете, достал уникальные комплекты. Областная больница таких не имеет. У нас есть гастроскоп японский, и я хочу, чтобы вас посмотрели, чтобы сняли все подозрения…
— Когда же это посмотрят?
— Да сейчас. Я уже попросила.
— Я знаю, вы разрежете и зашьете, а правду не скажете! Как у Сенцова, у директора Дома культуры. Разрезали и зашили, и он, наивный, ходил… Я не хочу, чтоб скрывали. Мне нужна картина болезни…
— Да никто вас резать не станет! Просто заглянут в желудок и на экране увидят картину. Ну, немного неприятно… Не больно, а скорей неприятно, ну чисто психологически, зато досконально… Великолепный прибор!
Он чувствовал под прохладными терпеливыми пальцами свой скачущий пульс. Пытался прочесть на ее чистом, розово-млечном лице, на ясном, безмятежном челе свой приговор. Видел одну ее красоту, верил, не верил.
Одетого в серый, не по росту обвислый халат, в шутовские красно-синие тапочки, стыдящегося, раздраженного, но надеющегося, его повели в кабинет, где другая, незнакомая женщина-врач встретила его строго и сухо:
— Садитесь!.. Вот тут… Подождите…
Она писала на листиках. Притулившись на краешке стула, Голубовский осматривался. И вдруг увидел прибор, тот, к которому его привели. Который, не сразу заметный, царил в кабинете. Которому прислуживала эта, пишущая…
Маленький, черный и гибкий, свернулся блестящей змеей. Сверкая чешуйками, выставил лобастую головку, нацеленную на него, Голубовского. И он содрогнулся от гадливости, от вида чешуйчатого, кольчатого тела, холодного, всевидящего глазка, застигнутый им врасплох, — жалкий, в шутовском облачении, без близких, больной. Страшился, умолял пощадить…
«Змейка… Хотят заставить вкусить… змейку заставить вкусить… Не позволю! В себя не пущу! В душу свою не пущу!»
— Вот сюда ложитесь, пожалуйста! Смелее, смелее! Вот так… — Его, обессиленного, подсаживали на высокое длинное ложе. Словно привязывали, приковывали, набрасывали шоры, вставляли шею в хомут. — Вот так, ничего, ничего!.. Больно не будет!.. Будете носом дышать. И как можно глубже!
«Нет, не дать, не позволить!.. В Душу свою не пустить!.. Да, да, надо жить!.. Чудесный прибор, японский…»
Он почувствовал, как в открытый зев, растолкав язык и зубы, маслянистая, юркая, молниеносно сверкнув чешуей, скользнула черная змейка. Устремилась в него, сжимаясь и разжимаясь. И он, выпучив глаза, задыхаясь и беззвучно крича, заглатывал ее все глубже, испытывая отвращение, ужас.
«Господи!.. Жить! Только жить!.. Не могу, не могу!.. Умираю!..»
— Так, ничего страшного… Я ничего не вижу!.. Вот здесь небольшое воспаление… у стеночки… Ничего особенного… И у луковицы… Потерпите немножко!
Он содрогался желудком. Слезы лились. В нем, в самых недрах, в самой его сердцевине, моргал и хозяйничал чужой любопытный глаз. Высматривал и выглядывал все его сокровенное, тайное и святое. Делал явным.
«Жить!.. Только жить!» — он молился и плакал.
— Ну вот и кончено! Вы молодец, герой! Молодой и тот не выдержит столько!.. Все у вас в порядке!
Голубовский, в трясении пальцев, благодарно, умиленно с внезапным облегчением и слезной стариковской слабостью натягивал красно-синие тапки. Еще до конца не веря, но и веря уже безусловно, ввергаясь обратно в жизнь, трунил, усмехался, отвлекал врача от писания:
— Ну какой замечательный прибор! И как вы быстро, умело!.. Мы, старики, привыкли терпеть! Это молодежь нетерпелива, изнежена, а мы, старики, привычны… Да нет, я в общем-то знал, но надо было проверить. А то, знаете, все беспокоит, все сидишь над архивами, хочешь сосредоточиться, а он отвлекает!.. Да, вы правы, вы правы, не надо так близко к сердцу, а лучше пропускать, пропускать…
Утомленный, измученный, но счастливый, он вернулся в палату.
16
Среди дня явился к нему Городков. Принес пшеничный, еще теплый ситник, поразивший Голубовского своей невиданной формой, теплотой, белизной. Городков, пошушукав с сестрой, раздобыл стакан крепкого сладкого чая, угощал Голубовского булкой с маслом, и тот с наслаждением ел.
— Это вам безвредно, Егор Данилыч, я у врача узнавал. Ничего, слава богу, опасного.
— Опасности нас минуют… Ах, вкуснота-то какая! Откуда в Ядринске ситник?
— Новый хлебозавод выпекает. Комбинат еще только строят, а булки уже выпекают. Политика такова, Егор Данилыч: сначала накормить человека, а потом предложить работу. И клиника эта с новейшей аппаратурой из области той же политики: сначала сделать человека здоровым, а потом предложить работу.
— Правильная политика, ничего не скажешь! — соглашался Голубовский, расслабленно улыбаясь, после всех пережитых мук наслаждаясь вкусом теплого хлеба.
— Понимаете, Егор Данилыч, я был не прав. Мы все были не правы. Это наша ошибка. Я узнал Пушкарева поближе. Очень близко узнал. Поверьте — человек удивительный! Энергия, одержимость! Он Ядринск поднял на дыбы!
— А что, может быть! — посмеивался Голубовский, счастливый своим исцелением, приходом Городкова, его вкусным подарком.
— Знаете, он чем удивляет? Ничто не выпадает из его поля зрения. Казалось бы, такое строительство, министры ездят, народу тысячи, миллионами ворочает, а вдруг взял и спросил о вас, о вашем здоровье.
— Неужели? Неужели знает, что болен?
— Представьте! Я ему рассказал о вас, о вашей судьбе, о вашем, если так можно выразиться, подвиге жизни — о музее. Он, оказывается, бывал в музее, расхвалил его.
— Почему же ко мне не зашел? Я бы провел его сам.
— Да постеснялся, наверное, не хотел вас обременять.
— Ну какое там может быть бремя.
— Да, и еще… Узнал от меня, что у вас сын инженер, живет вдалеке от вас. Сказал, что теперь на комбинате место ему непременно найдется. Толковым инженерам здесь почет, квартира, перспектива роста. Так что вы напишите сыну-то!
— Напишу непременно! Зачем ему скитаться, блудному сыну. Пусть возвращается. Здесь его примут, обласкают. Так и сказал — квартира? Напишу, непременно напишу…
— Лямина дура, Егор Данилыч. Просто дура, временное явление. Есть настоящие головы, понимающие проблемы культуры, умеющие ценить культурные кадры города. Я боюсь, что она своим появлением, своим бестактным разговором с вами исказила в ваших глазах, Егор Данилыч, одну хорошую, стоящую идею.
— Какую идею?
— Нам надо действительно, и как можно скорее, устроить в музее выставку, посвященную комбинату. Я понимаю, Горшенин, его чудесные акварели… Но они своего дождутся. Алеша еще молодой, время его еще впереди. У нас, как вы знаете, Егор Данилыч, запускается свое, ядринское телевидение, и первую передачу, серьезную передачу, поручили составить мне. И я хочу ее сделать в музее, с вашим участием и с участием, пусть это не покажется вам странным, с участием Пушкарева. Музей в целом, освещающий славное прошлое города, и небольшая выставка, освещающая сегодняшний день комбината. Интервью с Пушкаревым и с вами. Отчет о работе музея. Передача и на областное телевидение пойдет, и даже, наверное, в Москву. Рассказ о вас, о вашем детище. Вы ведь всю жизнь посвятили музею, и время теперь обнародовать. А Алеша наш еще молодой, у него еще все впереди…
— Верно, — кивал Голубовский, — у Алеши все впереди…
— А сыну-то вы напишите, блудному сыну.
— Напишу, напишу непременно… У Алеши еще все впереди…
Похудевший, изнуренный, но вновь воскресший, Голубовский восторженно синел глазами. Городков уже вынул блокнот с оттиснутой надписью: «Нефтехимкомбинат», набрасывал план будущей передачи.
17
Бегло, уже на память, без тетрадок с ролями, повторили два первых действия. Атаку с убитым конем, поединок на саблях, полет на кленовой телеге. Подхватили третье действие. Маша не репетировала, а играла, видела — и другие играют. Ленивый, вялый Слепков обходился почти без штампов. Гречишкина вела свою роль легко и весело. Творогов не мешал. Забился в угол на старом кресле и оттуда воспаленно, готовый вскочить, но не вскакивая, следил за движением пьесы.
Как черный огромный грач, вздулась весенняя пашня. Новый «фордзон» дышит нагретой смазкой. Петр в кожаной куртке сидит за штурвалом, в грохочущем, потном железе. А Федор с ключом лежит под брюхом машины. Вокруг — ворохи юбок, рубах, визги гармоней. Девки отплясывают как во хмелю. Летят над дорогой травяные ошметки. Гвоздики вспыхивают в башмаках. Под малиновой кофтой — точно живой петух. От юбки отскочила тесьма. Парень прижал сапогом. Треск. Хохот. Белая в подвязке нога.
Девки машут подолами над Федькиной головой, щурятся на железо…
— Страшенный! А рога-то есть у него?
— А ты пошшупай, пошшупай!
— Ему на расплод тракториху надо. Каждый год тракторята пойдут!
— Федь, а Федь, ты чего? Его доишь?
— Не мешайте ему, а то копытой лягнет! Петр Тимофеевич, а Петр Тимофеевич, а нас обучать не возьмешься?
— Верка тебя обучит, под трактор кинет!
— Ой, глядите, старики идут! С ношей!
По дороге от села шли старики. Несли на широких плечах старые сохи. Подошли, сложили у трактора, отирая с бровей пот. Поклонились Петру:
— Принимай товар, Петр Тимофеевич…
— Гляди, дубовая. На ней еще отец пахивал.
— Ты дохни, дохни. Она, голубушка, аржаным пахнет!
— Грудь у ей лебядиная. И иду я за грудью ее лебядиной до вечерней звезды…
— Небось тышшу верст за ней отшагал?
— Куды ж нас за новой-то жизнью? Сами как старые сохи. И нас в огонь…
Деревенский поэт Кеша, служивший писарем, напружинил под рубахой грудь:
— Старики, оставьте свои ахи и охи, кидайте в огонь свои сохи. У нас нонче новое время, за трактором пойдем кидать в землю семя.
— Опять стихами пошел пороть, — вздохнули старики.
Старик Антип Архипыч взял Петра осторожно за полу кожаной куртки. Руки у него до земли. Борода заткнута за кушак. Он весь земляной и черный, точно его только что выпахали из борозды. Он больше всех на своем веку перевернул земли. Отвоевал три войны. Турка одного руками пополам разорвал. Но с тех пор на Руси прошумело много урожаев, много турок народилось и померло своей смертью. А из глаз Антипа Архипыча льются день и ночь бледные слезы.
— Петенька, — сказал дед, — погляди ты на нас светлыми своими очами. Об тебе в книгах писано, что твоему приходу быть. Примешь ты тут за нас большую муку… с угодниками воссияешь. А стары-то угоднички из каждого цветика на тебя зрят, из каждой тучки, из каждой сохи деревенской… В огонь их, сохи, в огонь. Приехал Петька на железном коне!
Старики покололи свои сохи, кинули в пламя, и дубовая сила легким дымом унеслась в облака.
— Вдовы, вдовы идут! — закричали девки.
И вправду шли по дороге вдовы. В первый раз скинули свое черное. Набелились, нарумянились. Подвели угольком брови. Нацепили яркие бусы. Подходят к трактору. Сцепились за руки и запели неяркими голосами: «Ты не радуйся, ель-осинушка, не к тебе идут девки красные…»
Боялись тронуть масленое железо. Но их влекло, будто это была пахнущая, в клейких листьях береза и они, молодые, вышли к ней ожидать женихов. Девки перешептывались, глядя на вдов:
— Вот уж горькие-то! Неужто и нам так петь?
— У Ляпихи мужик на германской остался.
— А у Лукачихи на гражданской.
— У Еланихи кулаки убили.
— У Авдульки сгинул невесть куда.
— О-хо-хо! — вздохнул старичок. — Где только с нашего села косточки не белеют!..
Вдовы водили хоровод. То одна, то другая вешала на трактор свои дутые бусы и приговаривала:
— Леша, соколик мой, можа, ты жив! Прилети ко мне, и как же я тебя приласкаю! Все твои рубашечки постирала! А синюю, любимую, накрахмалила. Скушно мне без тебя, ой скушно! Хожу тебя на дорогу встречать!
— Андрюшенька! — заливалась вторая. — Как там тебя саблями порубали! Какой ты был стройный да горячий! Какая у тебя была красивая голова! Каждую ночь я в подушку реву. Зачем мне моя горячая душа, мое белое тело! Сохнет оно без тебя. Сосед Макарка все мимо окон ходит, все стережет. Утоплюсь я, Андрюшенька, али еще чего сотворю!
— Сеня, Сенечка! — голосила третья. — Ходила я нынче к бабке Уле, молилась с ней ночь напролет. Жив ты, Сенечка, скоро приедешь! А я уже баньку приготовила. Когда же ты возвернешься?
Дутые бусы качались на железных тракторных рычагах, будто капельки крови, будто кисти рябины, будто алые губы.
Налетел легкий дождь, смочил всех у трактора. И потекли по вдовьим лицам румяна из бураков, белила из мела, угольком подведенные брови.
Гречишкина, одеваясь, на лету обняла Машу, поцеловала воздух около ее щеки:
— Твой медальончик — прелесть! Всем так нравится!
— Слушай, — сказала Маша. — У меня к тебе просьба… если можешь… Ко мне приезжает двоюродная сестра из Тобольска. Ну погостить, повидаться… И боюсь, она Алешу стеснит, у него такой период, начало работы… И вот я подумала: твоя старая комната, ну на Овражной!.. В Захромах. Ты бы не позволила? На несколько дней.
— Ну конечно, какие разговоры! Пусть поживет… Только оттуда все вывезено. Одна рухлядь осталась. Дом-то вроде сносят. Мы рухлядь в новую квартиру брать не хотим. Все новенькое… А сестра пусть живет. Вход отдельный. Старуха за стеной, тетя Феня, глухая, она не стеснит. Прибраться там немножко, протопить, и пожалуйста. На, Машенька, на! — и она, порывшись в сумке, вынула и передала ей ключ на колечке.
Маша шла по вечерней, теменью покрываемой улице, сжимая под варежкой ключ. Усмехалась, мучилась, гнала свою муку прочь, обращая все в шутку и шалость. Заговаривала себя и обманывала, удивлялась тому, как ловко заговаривает и обманывает. Сердилась, уверяла, что мысли ее о другом. И действительно, были они о другом, но за ними скрывалось еще не названное, не ставшее целью и замыслом, но уже и названное, уже и ставшее. И сама неназванность делала обман ее тоньше, муку тоньше, и от этого ей становилось все веселей.
«Мысли ветреные, мысли ветреные… Зачем-то сестрицу придумала. Милую несуществующую сестрицу… А в самом деле комната Алеше нужна, под мастерскую. Алеше надо сосредоточиться, нужны тишина и покой, и я, как жена… Сейчас приду, рубахи ему переглажу. Свитер начну вязать из бухарской шерсти, ибо жена и хозяйка… Мысли ветреные, мысли ветреные…»
Впереди шел мужчина, нес на коромысле полные ведра. Вода плескала на снег, оставляла лужицы. Маша старалась на них не ступать.
«На эту не ступлю и на эту… А все, что было, — пустяки, действительно, шалость, кокетство… Луна, фонари… Розы принес… И женское мое любопытство, женское мое легкомыслие. Розы, внимание, средь зимы из-под снега. Много ли надо!.. Но и кончено, и довольно, подумаем теперь о другом. О спектакле, как он будет смотреться… Все-таки бедно, жалко. Занавес старый, мышами изъеден. Гармошечки наши замусолены, из спектакля в спектакль кочуют. Где уж там алые меха!.. А рубашки, а сарафаны — все ветошь!.. Ах, если бы шелка! Ах, если бы ожечь, ослепить!.. Вот когда праздник-то! Вот когда чудо в театре!»
Две женщины в теплых платках, неся под мышками свертки и веники, прошли из бани. Прокраснели в сумерках накаленными, багровыми лицами.
«Да и где же, в нашем-то городе! Все на виду, все знают друг друга. Вмиг заметят, разнесут, разбазарят. Рассудачат. Всегда судачили, купчихи молодые от злых языков в Иртыш кидались. Что ж, и нам, что ль, кидаться? И нам, что ль, ряску надеть?.. Господи, что это я?.. Алеше сюрприз приготовлю. Будет ему мастерская. Ах, ты моя сестричка, сестричка! Как же ты в Тобольске-то у меня оказалась?»
Захромы. Отыскала дом, крайний, косо выходивший на крутую, кустарником поросшую кручу, где кончался, упираясь в косогоры, город и петляли гористые перелески, ягодные и грибные летом, а сейчас сквозные, в свистящей пурге. И вдруг обрадовалась удаленности, запорошенности дома. Молниеносно взглянула вдоль улицы: не идет ли кто?
Оконце на одной половине морозно светилось. Там коротала вечер старая тетка Феня. Маша через другую, хрустнувшую льдом калитку по заметенной тропке поднялась на крыльцо. Достала ключ. Он долго не погружался в замок, и Маша, приблизив к железу губы, чувствуя едкий, каленый запах металла, дула, дышала, согревая замок, отмораживала его, чтоб впустил, признал за свою: не за худым явилась, за добрым.
В темных сенях пахнуло осиной, дровами. Отворила на ощупь дверь. Нашарила выключатель. Зажмурилась от голого, резко-белого, не смягченного абажуром света. Лампочка на шнуре. Разгром. Сор и хлам на полу. Дощатый, сбитый гвоздями топчан. Оборванный клок обоев. Комом кинутый половик. У печки медно-зеленая, с закопченным стеклом керосиновая лампа. Огарок свечи. Коробок. Дешевенький, в спешке забытый транзистор.
Брошенное, нелюбимое, изжитое гнездо. Ушли, чтоб уже не вернуться. Маша молча разглядывала, удивленно и брезгливо. Думала: что за блажь, что за дичь? Взять и уйти. Что за искушение? Чуждый дом, чуждый дух. Нежилой и нечистый, выталкивающий ее своей обнаженностью. Взять и уйти. И, решив уйти, качнулась к дверям. Но не ушла, а внесла охапку осиновых, с рыжими лишайниками поленьев. Затопила печь.
Затрещало, запахло дымом. В щель от заслонки лег на половицу красный луч. Стараясь не перешагивать его, оглядываясь на него, постоянно его ощущая, внесла совочек с метелкой. Зашуршала, видя, как заструились в луче пылинки. Намела на совок горстку сора, усмехнувшись, кинула в пламя, озарилась на мгновение летучей вспышкой. Так сжигала она прежний дух, изгоняла прежнее, чужое присутствие.
Отколола от платка булавку. Пришпилила бережно клок обоев. Постояла, послушав гул в печи. Схватила половик. Выкинула в темень на снег. Чистила, пудрила, скребла прутьями, вспомнив вдруг недавнюю овчарку, которую холили снегом. Внесла тряпичное, пахнущее холодом рукоделье, постелила половик у порога, привстала на посветлевшее полосатое бело-розовое плетенье.
Она сновала, кружилась по комнате, неуловимо, касаниями изменяя ее, обращая к себе, в свою веру. Задернула занавески. Плотней. Еще плотней. Передвинула керосиновую лампу. Медь на ее теплые, чуть влажные пальцы откликнулась тонким, печальным запахом.
Разогрелась, скинула тулупчик. Уложила на топчан, кудрями наружу. Встала посреди, у красного трепещущего луча. Коснулась рукой виска. Нащупала бьющуюся живую жилку. Медленно провела по бровям, чиркнув ладонь мягким ударом ресниц. Огладила шею и на ней уловила все то же живое биение. Скользнула рукой на грудь. Под ее мягкой, жаркой, стиснутой платьем тяжестью билась все та же, ее, молодая и горячая жизнь. Прижала ладонь к животу, к бедру, потянулась к колену. Попала в красный хохочущий луч. И вдруг, ужаснувшись, но и радостно прозрев, поняла, что все это время только и делала, что в нетерпении ждала, колдуя, надеясь, ждала свидания с ним. Желала его увидеть. И вся ее робость, и хитрость, и смелость были женским о нем волхвованием, — когда дула и шептала в замок, приворотно сжигала пыль в печке, задергивала занавески, — о нем, Пушкареве, в желании его увидеть, билась по всему ее телу неверная, радостная и горячая сила.
18
Она поджидала у Никольской лестницы, пропуская редких, сбегавших сверху прохожих. Невидимый в вышине скрип и постукивание, темный на белых ступеньках бежит человек, и опять пустота, синеватые одуванчики фонарей.
Придет, не придет? Дела задержали? Или просто забыл? Или просто одумался: ну что ему в ней, в провинциалочке легкомысленной? И от этого мука, и стыд, и гнев, и румянец. Повернуться и уйти, чтоб ни следа, ни следочка. Остановилась. Скрип и стук в вышине. Темный бежит человек. Не он. Пустота ступенек. Голубоватое стекло фонарей.
— Добрый вечер! Вы здесь? А я торопился! — Незаметно, бесшумно подкатила машина, брызнула светом. И Пушкарев, улыбающийся, громкий, вышел из машины, растворив широко дверцу. И с его появлением, от его громкого, смелого, нетаящегося голоса в ней — ответная смелость и радость, встречное, похожее на игру влечение.
— Да куда же нам деться? Кружим на одном пятачке. Целую жизнь одни и те же ступеньки считаем. Это вы одним махом сто верст покрываете. Повсюду вас видят. То музей, то больница, то редакция. То купола золотить собрались. Вот уж ядринские бабки свечек за вас понаставят! Сманиваете к себе на службу наших людишек. Кому калач, кому крендель. А много ли нашим надо, на черствых-то хлебах? Помани, и быстро бегут.
— Это вы что же, с Городковым видались? — смеялся он белозубо.
— Мимолетно. Вот на этих ступеньках. И как это вам удается? То за первейшего врага вас почитал. А то — лучший друг и соратник. Да как носится с этим! Какой важный! Летописец, он, что ли, у вас? Записную книжицу мне показывал. «Русские рубахи висят на плетнях Аляски…», «Урал кулаком подбиваем, чтобы мягче было лежать…», «Нефть и культура едины…» Тарабарщина какая-то! Вы действительно так выражались, или он вас по своему обыкновению, по-городковски, переиначил?
— Сам не пойму!
— Старика Голубовского, говорят, излечили наложением рук. Так кто же следующий? Творогов остался, Файзулин. Или, может быть, я?
— Уж вы мне такое понаписали! Так уж меня прочитали!
— А как же! Черным по белому. Только знайте, я ведь с вами войны не вела. Наоборот, вы меня чуть не погубили на своей стройке ужасной.
— Ну какая с вами война! Мир на веки веков!.. А знаете что? Вы ведь стройку-то не разглядели. Она вам действительно должна казаться ужасной. Давайте поедем туда! Ненадолго… Мне надо там побывать, и вас прокачу, покажу. Увидите, что не ужасна!
— О медведя меня разобьете?
— Ну что вы! Я бережно, драгоценно. Знаю, кого везу. Ядринскую знаменитость, красу…
Последние слова говорил он, усаживая ее рядом с собой, пуская вперед машину. И Маша, погружаясь в мягкий, теплый рокот мотора, исподволь, быстро взглядывала: где, в каких словах, интонациях таится продолжение того, что случилось недавно на лунных блестящих снегах?
Примчали на стройплощадки. Вспышки, взрывы. Подсвеченные фарами, ползали механизмы, поворачивали красные, оранжевые бока. Вращали перепонками, клыками, хвостами. Блеск стали, удары бивней. Бурлила распоротая, охваченная дымом земля, падали деревья.
Маша слушала лязг, стенание, слепла от вспышек. Ей казалось: здесь ходит огромная зубчатая пила. В местах распила — брызги огня и льда. Пила ходит вперед и назад по тем местам, где когда-то брели с Алешей по ягодникам, по солнечным травяным перелескам, пугая краснобровых прыскающих рябчиков, и у кипы тяжелых, слипшихся колокольчиков он нагнал ее, протянул травину с ароматной, отекающей соком гроздью.
— Ну вот тут и встанем, — Пушкарев затормозил машину. — Вот для нас важный объект. Строим ТЭЦ. А это градирня. Смотрите, любуйтесь.
Будто ухнуло ударом из неба. Выжгло, разметало, повалило веером леса. Выпахало черную жирную пропасть. И из нее подземной давящей силой подняло тяжелую округлую башню, еще всю опутанную торфяным прахом, ошметками корневищ. Медленно, на глазах она продолжала свой зимний упрямый, из центра земли направленный рост. Верхняя кромка ее жила и пульсировала, словно выжигала над собой нужное ей для роста пространство.
— Ну как, хороша матрешка? Тут будем тепло добывать. Сибирь согревать…
Он объяснял ей устройство станции. Она не понимала, но ей казалось: здесь, в этой башне, его, пушкаревской, волей уловленные, ходят тучи и облака, выпадают ливни, грохочут громы и электрические молнии выхватываются его обожженными пальцами.
— Секунду!.. Сейчас вернусь!..
Махнул ей рукой, пропал в темноте. А ей казалось, сам превратился в эту башню, взметнувшись огромно и мощно. Расширил плечи, держа каменное холодное небо, вгонявшее его обратно вглубь. Упирался, пружинил, выстаивая под непосильной ношей, вращая синие, отекающие огненными слезами глазища, дрожал и скрипел сварными железными мускулами.
— Вот вам, держите! Начнем восхождение. На подмостки, на сцену. Слышите, вас ждут, аплодируют? — Он протянул ей пластмассовую желтую каску. Натягивал такую же, красную. — Только застегнитесь. А то наверху ветер… — и взял ее мягко, но властно под руку.
К ним пристроились двое в толстых брезентовых робах. Отвлекали Пушкарева.
— Петр Константинович, перебои с бетоном! Невозможно стало работать. То сидишь ждешь. А то холодный привозят. Какое тут качество с холодным бетоном при минус-то сорок! Дышать на него? Или за пазухой греть? Шугните их там, на бетонном заводе, Петр Константинович! — гневался один, с квадратным, ободранным пургой подбородком.
— Ладно, шугнем… Ты мне вот что скажи: как твой метод, себя оправдывает? Я тебе говорю: патентуй! Такие идеи на дороге не валяются. А я поддержу! Пусть-ка Север поучится, как в мерзлоте бетонное дело форсировать!
И тот менял гнев на хриплое довольное похохатывание.
— Ну, а вы что скажете? На старой градирне своим оборудованием обойдетесь или немецкое выписывать? — обратился Пушкарев к другому, моложавому.
— Зачем немецкое? Может, в тропиках с ним и лучше, а тут вряд ли. Я бы наше оставил…
— Ладно… Ты мне лучше вот что скажи. Правда, что у вас на бетоне женщина беременная работает? С ума вы сошли?
— Петр Константинович! Мы ей говорим: с высоты уйди! Нет, не хочет. Она шестой месяц ходит. Буду, говорит, до конца ходить, до отпуска. Это, говорит, моя специальность, и не имеете права!.. Она там кнопки на гидравлике давит. Не такая уж и работа тяжелая. Может, высотник у нее родится, трубоклад. А может, и космонавт…
Маша слушала их смешки, говорочки. Они не обращали внимания на приближавшуюся башню, занимавшую все небо, нависшую выгнутыми оплавленными краями.
Подымались по свинченной лестнице вдоль шершавого, в рубцах и бетонных швах, не имеющего очертаний тела. Топорщились коросты и наледи. Проплывали вверх связки гибких стальных хлыстов, чиркали и звенели. С высоты влажно и огненно лились искристые косы. Ложились башне на плечи и грудь, а она отводила их за спину, и они, невидимые, продолжали светить и литься. Кран навесил парящее стальное двукрылье. В скрипе подтягивал окутанную паром бадью. Прижавшись к башне, змеились ввысь провода и трубы. Башня жадно сосала земное вещество, увеличивалась, стремилась в звезды.
Голова у Маши кружилась. Схватилась за поручень. Вдруг вспомнила: летний день, мать полощет в речке белье, а она окунула в теплую воду свои детские ноги, и выпрыгивают блестящие рыбки.
— Устали? — коснулся ее Пушкарев. — Еще немного… — и увлек ее выше, на кручу.
Достигли вершины плоского кольца, уставленного ртутными фонарями. Двигались люди, мелькали касками. Били, швыряли и свинчивали. Топотали по кругу.
— С дороги! А то сшибу!
Машинист махал из кабины. По рельсам, звеня, прогрохотал тепловозный тягач, тащил вагонетки с бетоном.
— Наш БАМ, заоблачный, — зыркнул на Машу рабочий. Рванул рукоять вагонетки, оскалился золотыми зубами, вывалил бетонную гущу на железные скрепы.
— Ну ты мне, черт рыжий, и подсунул вибратор! — Косолапый, с русой бородкой, окунул в бетонную гущу грохочущий инструмент.
— А ты ему вставь, пусть попробует! — отозвался парень, стягивая железные прутья. Плел огромную стальную корзину, захватывая все больше ветра и неба, строил ловушку для звезд.
«Башня, та самая… Все языцы… Хотят дотянуться до неба… И меня, и меня увлекли…» — думала Маша. И опять оглушил машинист:
— А ну с дороги! Сшибу!
Земля была далеко. Вся изрезана огненными письменами, словно писали их на снегах и лесах.
— Не правда ли, есть на что поглядеть? Вот они, наши храмы! Вот они, наши фрески! Вот они, наши колокола! — Пушкарев смеялся, и его смех тонул в лязге и скрежете.
Маша, оглушенная, оторванная от земли его волей, вознесенная в это звездное, обжигающее пространство, вдруг подумала: все они — она, Пушкарев, Алеша, и работающая где-то здесь, ждущая ребенка женщина, и убитый лось, и рябчики, и скакавшие белки, и травы — уже вошли в эту башню. Все они связаны уже неразрывно. Сошлись своими судьбами; теперь не уйти, не распасться, а надо, сжав от слезного ветра глаза, все это принять.
«Да, надо это принять… Да, от слезного ветра глаза…»
— Ну как вам, нравится? — он надвигался своим вопрошающим лицом. — Не жалеете, что сюда поднялись?
— Нет… не жалею… Только вот слезы… от ветра. Люди топотали на башне. Вели свой сумрачный, огненный в небесах хоровод.
19
И как будто не было, а пригрезилось. Осталось за лесами. А здесь, на иртышском откосе, успела взойти красная, побелевшая, поголубевшая луна. Озарила далекие, тихо-туманные льды, сонную, зимнюю неподвижность. И при лунном высоком свете лицо его было не яростным, не огненно-бешеным и счастливым, а утомленным, робко-печальным, неуверенным и почти беззащитным. И такая возникла жалость и нежность. И некому его вдохновить, утешить его в одиноких, неминуемо-горьких минутах.
Так думала Маша, глядя на Пушкарева, чувствуя к нему любовное, смешанное с болью влечение, свою от него зависимость и одновременно возникшую то ли там, на башне, то ли тут, на откосе, свою над ним не гордую, а смиренную власть.
— Я хотел вам сказать… — он протянул руки, и тень от его движений полетела к луне. — Хотел вам сказать…
Но она ускользнула.
Мимо снежных голубых бугорков, зонтичных усохших соцветий, пепельно-белых осыпей вышли на открытый иртышский лед, на голые наледи с мириадами вмерзших пузырьков. И сколько ни есть этой огромной ледовой реки, от самых китайских гор до океана, в этот час не было на ней ни души, кроме них. И река, опоясав полсвета, бережно их несет на себе, пропуская под ними сонных, застывших рыбин, слабо звенящие буруны и потоки.
Под ногами зашуршало, зазвенело. Брызнуло белым и фиолетовым. Словно с разбега наступила на поднос с посудой и посыпались осколками рюмки и вазы, граненые стекла и хрустали.
— Вот горе-то! Кто-то здесь стол приготовил, а я так неосторожно, неловко! — остановилась, запыхавшись, огляделась.
Рыбаки с пешней побывали здесь, выкалывая прорубь. Запаянная, тускло-зеленая, она круглилась тут же. А рядом голубела прозрачная гора льда.
— Стеклодувы здесь побывали. Выдували вазы, бокалы…
— Или шлифовщики стекол. Строили телескопы…
Он поднял гладкую глыбу, поднес к глазам, смотрел на луну. Свет, проходя через призму, ложился ему на лоб зеленовато-розоватыми кольцами, а глаз казался голубым и дрожащим.
— Что вы там видите?
— Кратеры… Моря… След космонавта… А вон мужик на телеге едет… Наш, вологодский…
Она взяла полированный, граненый осколок с крохотным золотым пузырьком. Направила на луну. Уловила в отверделой воде сияние. Медленно поворачивала перед глазом. И казалось, в лед вморожена хрупкая стрекоза, оборванный розоватый цветок, развод пролетевшего и рябью застывшего ветра.
— Я хотел вам сказать… Все эти дни с нетерпением… Когда мы расстались… И после… По десять раз на день все искал повторения… Выражение глаз, когда повернулись… И брови, их дрожание, и близость… Бросить все, и к вам, на спектакль… Повторить, но не так, не в ночи, не под мертвенной холодной луной, а иначе… Чтобы раскутать, расколоть ваш платок… Чтоб шубу от вас принять, усадить, греть вам руки… Это можно? Скажите! Я думал, я хотел вас спросить! Это можно?
— Это можно, — сказала она. — Я тоже ждала… На башне ветер до слез… Очень холодно… Возьмите меня под руку…
И потом, через год, через жизнь, до старости, до смерти и дальше, все будет течь вереницей: крались к морозной калитке, лязгнул и лег на ладонь обжигающе-синий замок, и запах осиновых дров, и жаркая темень комнаты, робкий огонь над лампой, и легкий электрический треск, блуждание слабых зарниц.
— Ну хоть фитиль притушить…
И там, где был красный луч, — темная башня в ночи пялит свои глазища. Треснула, как коробочка мака, и из трещин, разрывая покровы, расправляя огненные, трепетные лепестки, накрыло все небо — цветок, и мучение, и счастье, еще удержать цветение, опадало, гасло в ночи, тьма по углам, неяркое горение лампы.
— Ну хоть бы фитиль притушить…
Возвращались ночью, пронося свои синие тени по заборам, мосткам и воротам. Останавливались в сумерках, поднимали лица к небу, и на них осыпалась невесомая лунная изморозь.
— Кто это? Посмотри! — вдруг испугалась она, вглядываясь под каменную арку развалившихся, старых ворот. — Не видишь? Кто-то прошел!
— Да нет… Никого… Показалось, — ответил он, проводя ладонью по ее серебристым бровям.
— Или кошка… или собака… Поленом звякнула…
И ушли. А из темного подворья, укутанный в шубу, выглянул Слепков с пораженно-радостными глазами. Еще долго крался за ними, таясь в подворотнях, бормоча: «Слепков — это вам не кошка! Слепков — это вам не собака!»
20
Горшенин поднялся бодрый, с серьезным намерением посвятить день не живописи, хотя соблазнительно белел приколотый свежий лист и лежала новая, нетронутая коробка красок, а отправиться в артель слепых в Кондашевку, где сулили ему немалый и быстрый заработок. Стоило лишь день или два поработать над росписью стен, одевая их в яркие, прошибающие слепоту цвета, для тех, кому еще брезжил свет. Сама работа и мысль, что она для слепых, нравилась Горшенину.
Нарядившись в робу, прихватив рабочий набор, вышел на улицу. Забежал по пути в театр в надежде увидеться с Машей. Не застал, но нашел Файзулина.
Согласно режиссерскому замыслу спектакль должен был играться условно, без декораций, с одними конструкциями.
Из проволоки и железного хлама Файзулин сооружал искусственный трактор «фордзон». Упрятал в него мотоциклетный мотор, навесил зубчатые скрежещущие колеса, вставил медную трубу граммофона. «Фордзон» грохотал, выбрасывая искры и дым, крутил колесами, мигал огненной фарой. На скрежет и стук вбегал Творогов. Умолял, ломая руки:
— Только театр не сожги!
Файзулин двигал в его сторону свои огромные, перепачканные мазутом и ржавчиной ладони, и тот скрывался.
— В технику надо верить. С техникой надо дружить…
Тощий, костлявый. Худая шея, торчит из мятого ворота потерявшей рисунок рубашки. Колени на брюках протерты, пузырями. Пиджак осыпается нитками. Файзулину было холодно, и он старался согреться в движении. Перепиливая ножовкой визжащий прут, скалил от напряжения никелированные, блестящие зубы. И казалось: он и сам собран изнутри из металлических деталей, на которые натянута чехлом смуглая кожа, с чужого плеча одежда.
— Понимаешь, какая чушь собачья! Все они, как черти, техники боятся! Вот народец, не дай бог! На толокне замешены!.. Моя тетка Марфа вчера мне устроила. Все инструменты, детали из комнаты выкинула. Орет не хуже Творогова: сожгешь, сожгешь! Бензином, видишь ли, углы ее провоняли! Хорошо, говорю, хоть мышами не пахнет. А она: сожгешь!.. Согнала с квартиры… Дай, говорю, еще два дня подыскать помещение, а эти, говорю, вещи не трожь, я их заминировал, вот, говорю, проводок. Тронешь — взлетишь со всеми комодами!.. Ну вот и не знаю теперь, чего делать. Там у меня два мотора сгоревшие, замечательные. Ну я их сюда притащу, в театр. А спать мне здесь не дадут или можно? — Файзулин не роптал и не жаловался, а и сам посмеивался, удивляясь случившемуся.
— Пока у нас поживи, — сказал Горшенин. — Пока не подыщешь квартиры. Маша не будет против.
— Да нет, ни к чему. Я тут перебьюсь. Ты в другом помоги… Аэродромного механика встретил. Там у них, говорит, вертолет разбился. Они, что поважней, поснимали, а остальное списали. Мне бы нанять грузовик да кое-что от них увезти. Там вещи бесценные! Шутка ли дело — авиация! Вертолеты не каждый день бьются… Так вот, одолжи рубликов двадцать. Творогов мне начислит, и тогда расквитаюсь.
— Ты знаешь, рад бы, да нет ни копейки. Иду на заработок.
— Нету? А жаль! Ну да ладно… Имей в виду! Имей, говорю, в виду!.. Техника не так мертва, как вы думаете. Видит, слышит и помнит. Все помнит! И когда-нибудь человеку предъявит счетец! Такой маленький счетец, где будет указано, сколько машин разбил, сломал. Все эти данные есть. Во всяких министерствах, отчетах, и вычислительные машины их помнят. И счетик предъявят, когда техника достигнет свободы!
— Тебе-то не предъявят, я думаю, — говорил Горшенин, чистым платком перевязывая ему руку. — Тебе не предъявят, ты свой. Тебе техника скульптуру поставит. Из консервных банок…
И, глядя на замерзшую, нечистую шею Файзулина, думал: если бы ну хоть бы на день, на миг пережить ему, Файзулину, славу, успех, вспышки фотографов, гонорары, газетные вырезки, и какая-нибудь рядом с ним красивая женщина, и он в белоснежной рубахе излагает свою философию внимательному искусствоведу, — если бы! Или, может, и без этого счастлив?
Файзулин держал на весу свою забинтованную руку. Оглядывался на «фордзон», поводил зябко плечами.
— На-ка тебе! — Горшенин снимал свой свитер. — Мне Маша новый свяжет, а ты давай-ка носи!
— Ух ты, спасибо! — Файзулин, не отказываясь, радостно влез в свитер. — Теплище!.. Слушай, Алеша, а давай-ка я твой портрет сделаю, а?
— Из разбившегося вертолета? С фарой во лбу? Номерной знак три тысячи двести семь?
— Ну да! — удивился Файзулин, — А ты откуда знаешь? — и засмеялся счастливо, скаля стальные зубы, разглаживая на груди греющий его подарок.
Город кормил, когда широко, когда поскупее. То вывеску на жести — плодоовощторг. То плакатик на фанере. Рекламу. В столовой — картинку. В магазине — витринку. И если не гнушаться, то и впрямь кисть кормила. Он и не гнушался сегодня.
Артель помещалась в заиртышской слободе Кондашевке. Слепые собирались туда и из проволочек и цветной бумаги мастерили венки. Раз в два дня из города приезжал возница Михеич на санях, запряженных лошадью в полосато-зеленой, сшитой из одеял попоне, нагружал венки, увозил. И потом пестрели кондашевские цветики на городском кладбище, на сельских погостах, шелестели под вьюгой и блекли.
По пути увидел знакомца Ивана Тимофеевича, палочкой хрупко ощупывающего мостовую, будто выстукивал клад, огибая подвалы и ямы.
— Иван Тимофеевич, здравствуйте, — Горшенин взял его под руку. — На работу? А я к вам, в артель…
— Алеша, ты? Здравствуй, — обрадовался тот, поспешно прижав его руку локтем. — К нам, говоришь? Пойдем… Четыре ноги, два глаза. Думаешь, собака? Нет, это мы с тобой, — и засмеялся трескуче и сухо, повернув невидящее, в маковых порошинках лицо.
— И что интересно, Алеша, мне видения приходят, особо во сне. И такие, понимаешь ты, явственные, как фотографии. Все, что напоследок, перед тем как ослепнуть, увидел, все и приходит. Ну прямо как фотография! Проявляй — и в газету.
— И что за видения, Иван Тимофеевич?
— Танк вижу, Алеша, башенный его разворот с крестом. Как ведет по мне дуло, а наш ефрейтор Курных на карачках, бочком к нему кособочит, и бутылкой… Это вижу… Санитары волокут носилки с нашим лейтенантом Трофимовым, и рука у лейтенанта лежит рядом, отдельно, и он сам бел как мука… Это вижу… Прорезь моего «Дегтярева», и из танка, что поджег Курных, сыпят немцы, а я их сбиваю прямо с брони… Это вижу… А ярче всего взрыв. Будто ухватило меня за глаза, дернуло и долой с корнем!.. Вот что вижу, Алеша…
Иван Тимофеевич шел, прижав его локтем, откликаясь послушно и чутко на каждый его поворот. А Горшенин, страдая, захватывая глазами синее небо, пугаясь синевы, красоты, думал: каким искусством и чудом, слезами из чьих очей оросить его пустые глазницы? Бережно, горстями, вычерпнуть из них страшную темень видений. Вплеснуть обратно белизну снегов, лица любимых и милых, этот красный кирпичный карниз с прозрачной сосулькой, этот черный в розах платок. Что он может, художник, в своей слепоте и бессилии?
Артельный начальник встретил его строго и сдержанно. Жилистый, в начищенных с запахом ваксы сапогах, хрустнул, вставая, ремнем. Повел его в мастерские, позвякивая связкой ключей.
— Сперва оглядим, а потом о цене сговоримся… У нас новая идея возникла. С цветовыми указателями подождем…
Слепые сидели в три аккуратных ряда за черными, как в школьных кабинетах, столами. Перед ними лежали ворохи бумаги и проволоки, листья и лепестки. На ощупь, цепко выхватывали, нанизывали, закрепляли. Создавали бутоны и розочки, прикручивали их к стебелькам. Вращивали стебельки в металлические гибкие ветки, свивали венок. Все тихо звенело, шуршало.
— Нам нужна наглядная агитация. Вот здесь вот накрасьте плакат с обязательствами. Не очень большой, не разгоняйте копейку. Я вам дам цифровой материал и тексты о сверхплановых сдачах…
Горшенин смотрел на работающего, седого, с тихой улыбкой, на плавные взмахи рук. Старался понять, что скрывалось за плотными веками, кому, невидимому, махала его рука.
— А вот тут заготовьте плакат про строительство комбината. Тут можно побогаче, поярче. Пусть наши люди знают, что в едином строю со всеми. И наш есть вклад, наш трудовой процент.
Горшенин смотрел на другого, чернявого, с резким лицом, с ухарским, сбитым чубом. Губы дрожали. Стеклянные глаза устремились яростно вдаль.
— А вот тут, у окна, можете дать картину! Дайте рабочего во весь рост! И надпись про труд про ударный!
Слепые сидели, однозвучно вызванивая. Горшенин, проходя вдоль рядов, боялся нагнать на них ветер своими движениями. В невидящих их глазницах пикировали самолеты, взрывались мосты, катился вопль рукопашной. А их живые глаза были от них далеко. Смотрели из трав. Текли в океанах. Летели по ветру. И он, Горшенин, в своей слепоте должен прозреть один за них всех. Пробиться сквозь темень к небывалому, под спудом укрытому свету, чтоб открылось во лбу всевидящее ярое око, одно на всех, и в нем, избежавший тления, отразился мир.
— Ну как, сговоримся? Давайте о цене сговоримся!
— Вы что? Вы ум потеряли? Какие цифры и планы? Разве за этим шел? По-моему, вы просто болван!
Начальник, ошарашенный, отшатнулся.
Горшенин уходил, любя их беспомощно. Мысленно прижимался глазами к их глазам. Выпускал из своих — кому оленя, кому цветущее дерево. Тихо, опечаленно вышел.
Думал: боль, боль… От обид, от кровавых ран. От летящей пули и от тихого слова. Больно младенцу с первым вздохом. Больно старику со вздохом последним. Куда девается, где копится, в каких кладовых и толщах? Может быть, в нефти? И ночью из факела — красная, с распущенными волосами, беззвучно кричащая боль…
Так думал он, проходя мимо веселых, очень русского вида бабенок, торгующих семечками, мимо плотных мешков с орешками, у которых приплясывал, похлопывая себя по бокам, смешливый мужичок.
Горшенин кружил по морозным, нарядным от солнца и падающих сверху дымов, бело-красным, черно-кирпичным улицам и думал: ну а радость? Она-то где? Откуда берется? Куда исчезает?
Тогда, за городом, он шел по горячему лугу вдоль маленькой речки, среди цветов, колеблемых ветром и звоном, в мелькании пчел, мотыльков, разрывая путаницу люцерн и горошков, погружаясь по пояс в прямые прозрачные травы и опять выходя на разводы гвоздик и ромашек. Жарко. Пот на лице. Трудно шагать. Хочется к воде, наклонился. И вдруг — молниеносный, отраженный от вод удар, белоснежный свет. По реке вскипели буруны от прянувших рыб, от серебряных спин и голов. И он, Горшенин, охваченный счастьем, стоял, исполненный света и силы.
Ему захотелось сейчас побывать на том месте, на том незабвенном лугу.
Домишки слободы Кондашевки. Поворот на Иртыш. Знакомые елки с гроздьями галочьих гнезд. Вот и луг. Но луга не было.
Шло медленное шевеление гусениц. Ровное грохотанье окутанного дымом пространства. Торчали колючие остроконечные травы из проволоки. Вспыхивали синие мотыльки электросварки. Речка была упрятана в черные железные трубы с надписью: «Манесман». Сваебои вгоняли в землю заостренные балки, словно пришпиливали луг; опрокинутый навзничь, он пытался вспорхнуть, но его прибивали, блестящей фрезой подсекали поджилки, били в грудь и живот.
Горшенин стоял, зажмурившись, переживая обморок. Пережил. Прощался с умершим лугом, закрывая ему веки, клал на них два золотых рубля.
Продрогший, продирался сквозь стальное искрящееся пространство, туда, где в полях, хлестнув по снегам тяжким, из неба, ударом, чернел газопровод.
За лугом, на окраине Кондашевки, пестрели вагончики четырехугольным строем, в плакатиках, номерах, опутанные проводами, антеннами. Курились дымками. На двух деревянных столбах краснела пузырящаяся кумачовая надпись: «Авангард».
Горшенин, застыв окончательно, гремя этюдником, топтался между домиками. Не выдержал, ткнулся в дверь. Попал с мороза в натопленный тесный балок, где в чугунной печке ревело белое каменноугольное пламя. Двое жильцов, в расстегнутых рубахах, грубых носках, потные, брюквенно-алые, сидели на постелях и пили из кружек парной кипяток.
— Извините, — едва выговорил Горшенин. — Застыл… Хоть на пять минуток пустите…
— Хоть на десять, — кивнул один, пожилой, с седеющей, колюче постриженной головой. — Хоть на пятнадцать.
— Кипяточку возьми, пожгись, — сказал молодой с малиновыми щеками, белозубо хмыкнув, наливая в свою же кружку из чайника бурлящую струю. — На-ко! — протянул Горшенину. — А где-то я тебя видел!
— Где-то мы его видели, Сенька! По ящику его узнаю!
— А знаешь, Степаныч, где? Да когда телемачту варили. Он с кладбища шел. Ты автоген ему дал.
— Верно, девку крылатую выжег!
И они уставились на него, удивляясь встрече. А Горшенин благодарно пил кипяток, поглядывая затуманенными от мороза и пара глазами на ледяное оконце, на бутылку, в которой торчала веточка тополя с набухшими почками, на грубую, комом навешанную одежду, на валенки, оклеенные резиной, на приколотых по стенам журнальных девиц. И действительно их вспомнил обоих у подножия мачты, похожей на стальную поднебесную заросль, и они, как садовники, поливали ее из брызжущих медных трубок, и она распускалась у них под руками огромными многоцветными зонтиками. И стало ему хорошо. Показались не случайными их лица, утомленные, разогретые, размякшие тела, готовые вновь собраться в узлы и жилы.
— Слышь, а ты бы нас срисовал! — сказал пожилой. — Давай сними с нас портрет. Я бы бабе своей отослал. Пусть поглядит, что жив, что шею наел, а то все в письмах плачется, что да что ешь, да промерз, да кощеем ходишь. А я ей портрет пошлю. А Сенька матери отошлет… Срисовал бы!
— Я бы пожалуй, — ответил Горшенин. — Да только когда? Когда вас поймаешь?
— А чего нас ловить? Уже пойманы. Бери да рисуй. Все одно нам сидеть отдыхать…
И Горшенин, еще без желания, скорей от неловкости, раскрывая промерзший этюдник, укрепил кнопками листы ватмана и негнущимися, несогревшимися пальцами, но все быстрей, все охотней, увлекаясь, сделал два мгновенных живых наброска, ухватывая на бумагу их грубые, сочные черты и взгляды, чуть тронув за их головами пространство с хрупкой веточкой тополя.
— Сенька, да это ты, точно! — восхищался седой. — Твой носище!.. И я вроде тоже!.. Ну ловко! Ну быстро! Ну молодец! А я думал ты только кресты подновляешь. А ты взаправду художник… Сенька, а ну покажи человеку свои карябания! Покажи, покажи!
— Да ну брось, Степаныч!
— А чего бросать? Давай, не стесняйся! Лови момент! Он же художник. Он те скажет точно, может из тебя толк выйти или нет. Где ты еще на художника набредешь, а тут он сам к тебе в берлогу забрался.
— Вы что, рисуете? — спросил Горшенин. — Покажите…
— Да ну… это так… еще с армии, — сконфузился парень, но уже лез рукой под кровать, чем-то гремел, извлекая кипу не слишком опрятных, смятых, на чем придется, рисунков, где были скалы, море, подводная лодка, портрет морячка, девушка с косами. Горшенин с любопытством листал, находя в самодельных, неумелых работах следы дарования.
— А цветом? А красками? Вы не пробовали?
— Раньше и красками пробовал. Да кончились. А тут не найти.
— Приходите ко мне, я дам… Вообще, в рисунках много хорошего. Если б серьезно заняться, тут, мне кажется, есть над чем поработать.
— Да ну, — довольный, но делая вид, что не верит, отмахнулся парень. — Автогеном рисую. Такой же, как Степаныч, художник.
— А ты слушай, что тебе человек говорит. И я тоже ему говорю. Попробуй, учись! Автоген автогеном, а может, черт знает, и есть в тебе что-то!
— Приходите, — приглашал Горшенин. — Возьмете краски и кисти. Кое-что я вам покажу. Кое-чему поучу. Заглядывайте, если хотите.
— А куда? — спросил парень.
— Краски у меня здесь, в Кондашевке. Знаете, где дом недавно сгорел?
— Знаю.
— А я напротив. Горшенина спросите. А вообще, у меня выставка скоро, в музее, — сказал он вдруг. — Приходите оба.
— Приду, — сказал парень, еще посмеиваясь, но уже пристально и ревниво оглядывая свои рисунки, сравнивая их с горшенинскими.
— И я приду. А за портреты спасибо, — сказал Степаныч. — Бабе своей пошлю. Рожа-то во! Как бульдозер! А то она в письмах все плачет.
Горшенин вышел, согревшись, на холод. И захотелось скорей в музей, торопить Голубовского с открытием выставки, пожаловаться ему на болвана из артели слепых, выслушать вдохновляющие похвалы.
21
И был счастлив его увидеть. Не раздеваясь, с порога оглядывал его радостно.
— Как чувствуете себя, Егор Данилыч? Ну все обошлось, слава богу. Как себя чувствуете?
— Хорошо, Алеша… Ты пришел… Я как раз хотел… Я о выставке…
— Да я тоже по этому поводу. Я уже стекла достал. А рамки я закажу. А может, и сам их сделаю. Файзулина помочь попрошу.
— Тут видишь ли, как получилось, Алеша…
— Да вы не волнуйтесь, Егор Данилыч, все будет отлично. Названия я от руки напишу, у меня есть бумага золоченая, плотная. На ней напишу.
— Тут одно затруднение, Алеша. Понимаешь, есть всякие люди… Алеша, послушай…
— О чем? А, о выставке? Затруднение? Да вы не волнуйтесь, Егор Данилыч!
— Обстоятельства переменились, Алеша. Выставку твою отложили. Вместо нее комбинатская. Понимаешь, Алеша, может, мы все ошибались? Может, мы все заблуждались? Ведь это тоже история, и нужно прозрение, новый взгляд на себя, чтобы древность прозреть в современности. Ведь и Петра вначале не приняли! И Петра вначале отвергли! Понимаешь, Алеша?
— Понимаю, Егор Данилыч, — слабо ответил он, понимая одно: случилась беда, огромное для него несчастье.
— Открывается телевидение, Алеша, и первая передача, как сказал Городков, о нас. То есть о музее, и он говорит, будет очень все интересно, и главное, — к чести города.
— Но как же так, Егор Данилыч… Как отложили?
— Может, мы были не правы, Алеша? Накормить, исцелить — ведь это немало! Для голодных это немало и для хворых немало. И надо быть эгоистом, очень сытым и очень здоровым, чтобы это отметать с полуслова. Да, это сделано грубо, да, это сделано силой, но в России все делалось силой. Про Петра, про Петра не забудь. И нам это надо осмыслить. Я сыну так и пишу: нам нужно с тобой осмыслить.
— Значит, не будет выставки? — слабо спросил Горшенин, беспомощно озираясь, углядев на столе свою папку с уже собранными, упакованными в нее акварелями.
— Алеша, милый, ты погоди!.. Почему не будет? Отложена! Ты молодой… у тебя еще все впереди… Не суди меня, старика!..
Голубовский тянулся к нему, умоляющий, трясущийся, жалкий. Горшенин взял картины и, забыв на стуле шапку, вышел. Голубовский, растрепанный, догнал его уже на морозе. Нахлобучил ему на голову шапку:
— Шапку забыл… Не суди ты меня, старика…
Сраженный вероломством, изболевшийся, исходившийся, Горшенин ждал в нетерпении Машу, не веря в себя, думая о тщете предпринятой им работы, дающей короткую видимость счастья, обрекающей его на непрерывное несчастье. Неужели так слабо, доморощенно и кустарно? Неумелец, провинциальный самоучка? Никому не интересно, не нужно? Но ведь кто-то восхищался! Маша всегда восхищалась! Ее вкус, ее чувство, ее удивительное, искреннее восприятие — в нем нет ни лести, ни вероломства. Пусть придет и посмотрит, опять вдохнет в него веру, поднимет его из развалин. Они станут разбирать рисунки из давнишней, заповедной папки, из той поры, когда не ведали боли, жили зиму у старухи тети Поли в избе, и он являлся с мороза, длинноногий, неусталый и бодрый, и они обе, Маша и тетка Поля, радовались его появлению. Повесить на кованый гвоздь пересыпанную снегом шубу. Скинуть валенки и в вязаных носках подсесть к их столу. Вечернее чаепитие. Играли в карты. Возились с черным котом, катавшим цветной клубок. Тетя Поля, устав, уходила вздыхать на высокую старушечью постель. Маша бралась за книгу. А он — за кисть, покрывая белоснежный, с утра дожидавшийся лист огненной акварелью. Рисунки его были о жизни казаков — о стрельбах, охотах, играх, о весенней пахоте и хождении за три моря. К полночи лист был готов. Маша отрывалась от чтения, подходила. И они молча любовались огненной, волшебной картиной, вдруг возникшей в глухой избе, под крики ночных петухов.
Повернулся ключ. Вот и она. Наконец-то. Ее белый тулупчик. Горшенин встрепенулся навстречу.
— Наконец-то! А я волновался… Темень, одна. Говорят, неспокойно от этих приезжих.
— Приезжие!.. — со смешком уклонилась она от объятий. — Чего так бояться приезжих? С рогами они, что ли? Такие же, как и мы, грешные… Твои-то друзья уже разглядели. Их-то уже приручили. Городков в придворных писцах. Голубовский, восторженный-то наш старикашка, Карамзин-то наш ядринский, говорят, историю комбината писать собирается. Может, и тебе пора? Серию акварелей: «Нефть-матушка», или «Газ-батюшка», или «Мы, комбинатские!» — засмеялась, а ему вдруг послышалось в смехе чуть слышное дребезжание, как стекло в окошке, и внезапное продолжение испуга, продолжение дня, полынный вкус на губах.
— Я тебя ждал, понимаешь… Давай посмотрим работы, — он шел за ней следом в комнату. — Хотел, было, сам, один, а потом подумал, что нет, и тебе будет важно. Хотел разобрать нашу папку, ну ту, казачью-то. Давно собирались.
— Нет, не сегодня, потом… Не станем сегодня смотреть. Я устала. И все-то мы с тобой назад оборачиваемся. Уже ничего не видно, а все назад. Быльем поросло. Сами не заметили, как солнечный свет обратился в лунный, а тот — в свет керосиновой лампы… Нет, не хочу… Устала…
На другой половине комнаты, закрыв глаза, она распускала поясок на платье.
— Ты устала?.. Странный день… Хождение по людям. Файзулин продрогший, и ты сказала про свитер, и я счел возможным отдать… Потом Иван Тимофеевич, как танк бутылкой поджег, и я им оленя и дерево… Потом этот луг железный с какой-то немецкой речкой. Потом музей, Голубовский. И под вечер такая боль. Наша общая боль…
— Как я устала слушать про боль!.. Наша общая боль!.. Воскресить!.. Извини, боль не общая, а твоя! Мне не больно! И даже, напротив, — мне хорошо!.. Почему я должна болеть? Я здорова! Почему ты меня заражаешь? Если болен, надо маску носить. Когда грипп и люди по той или иной причине вынуждены общаться, больной надевает маску. Если ты не желаешь маску, тогда я надену. Я не хочу болеть, понимаешь? Не хочу участвовать в воскрешении. Я живая, хочу жить, сама, сию минуту, во имя себя, а не твоих, подлежащих воскресению родственников. У меня душа, глаза, губы, у меня бедра, живот, и все это не желает твоих панихид! Раньше я думала, это твое искусство, а теперь вижу — безумие какое-то! Да, я знаю, твоя бабушка скоро умрет, да, ей сто лет, ну и что? Не хочу, не могу сидеть у ее постели, считать ее минуты. Не хочу, понимаешь?
— Маша, как ты можешь так говорить? Я хотел с тобой поделиться. Бабушка вот-вот исчезнет, и нас все меньше и меньше, мама, я, ты, и надо тесней… Вот сейчас, с тобой. Вижу, горишь, исчезаешь, а нету сил, нету слов… Маша!..
— Потому что бессильный! Не способен к действию. Только стон! Что по тебе проехало, рассекло? Не хочу! Не хочу твоих стонов! Все кругом действуют. Посмотри на Городкова, на Голубовского, — очнулись, занялись действием. Для них есть пример. Есть люди, которые, не ведая страха, делают свое огромное дело, давая другим пример. А ты — заколдован. Боль, боль! Ты же мужчина, хозяин! Посмотри на наш дом. Все ветхое, рухлядь! Нечего на стол постелить, может быть, твои акварели? Нечего на себя надеть! Надоело! Ты заколдовал меня, лишил воли, страсти, прежних привязанностей. Ах, жена художника! Ах, какая гармония! А я не такая! Я не героиня, не монашка, не схимница. Я женщина! Люблю наряды, праздники! Не хочу твоего колдовства! Кончено твое колдовство!
— Маша! — сказал он потрясение. — Что ты, Маша! Ведь ты понимала! Ты соглашалась!..
— Прошло. Перестала. Иная жизнь! Вы все про иную жизнь… Вот и иная!..
— Но мы же вместе!.. Я же с тобой!.. Я же люблю!..
— Что ты можешь со своей любовью? Праздник мне можешь устроить? Нет, не можешь? А посадить на самолет и к морю, где тепло, вода голубая? Это можешь? Что, и это не можешь? А на башню поднять? На башню можешь меня поднять, на Вавилонскую башню? Даже и это не можешь? Ну, а самый пустяк? Ребенка мне можешь родить? Да, ребенка? Как, и это не можешь?..
Она смеялась, снимая платье. Не стесняясь его, обнажалась. А он бормотал:
— Маша, это ужасно… Это ужас какой-то… Я хотел посмотреть работы… Мне нужна твоя вера… Что живу не напрасно, и эту боль превозмочь…
— Замолчи! Оставь ты про это!..
— Машенька!
— Прости… Я устала… Действительно, странный день. Наговорила тебе. Извини… Этот злой Слепков, мне кажется, он задушит меня в подворотне… И эта мышка Гречишкина, все ребеночка мне своего подставляет… Уж ты извини… Ты еще поработаешь, да? Там ляжешь? И хорошо… Спокойной ночи, Алеша…
И ушла. А ему казалось: на том месте, где только что было ее лицо, еще оставались говорящие губы, очень красные.
Часть третья
1
У бетонки, за нефтехранилищем, за колючей путаницей серебристого сквозного металла, — гладкое, дышащее, круглое. Легчайшая оболочка, омываемая солнечным ветром. Воздушный шар на стальных якорях, рвущийся ввысь. Пушкарев, подходя к надувному складу, ощупывал его глазами, мысленно подбрасывал на ладони.
Спасаясь от холода, вошел в теплые, тихо гудящие сумерки, радостно замер: нет, не ошибся, — огромный дышащий кокон, в нем, драгоценная, укрытая, зреет куколка.
Под пустынным куполом на высоких штативах два прожектора скрещивали лучи. И в их перекрестии, подвешенный на струнах, переливаясь, весь в бело-холодных струящихся кольцах, застыл ротор. Чистые холсты покрывали его наготу. Калориферы обдували его длинное, стройно лежащее тело. Словно сотворили его в тайне от жестокого, бесформенного мира. Упрятали под свод от слепых разрушительных сил. Берегут и лелеют до времени.
Мастер-старик наклонялся к нему и микрометром, не дыша, убеждался в его совершенстве. Зеркальная сталь туманилась от дыхания. Отражала глаза, губы.
— Петр Константинович, завтра еще один прибывает. Вот тут поставим! — Главный энергетик Фуфаев, прихрамывая, шел навстречу.
— Хорошие у вас ясли. Значит, привозят младенцев?
— Их хоть сейчас на ТЭЦ отвози. Да вот автомост задерживает. Когда они автомост открывают?
— Еще неделю просили.
— Ну, слава богу! Я думаю, Петр Константинович, хватит нам с котлами возиться. Доживем до настоящих температур. Поднимемся до настоящих энергий.
— Вот и я говорю, слава богу!
И они, понимая и радуясь, смотрели на сотворенное диво, боясь помешать старику, его бережным, сквозь холсты, оглаживаниям и касаниям.
«В сущности, чему удивляюсь? — думал Пушкарев, глядя на ротор. — Его извлекли и доставили к нам из недр высочайшей культуры. Он мог быть задуман, создан там, где являлись один за другим плотной, непрерывной волной Ломоносов, Пушкин, Глинка».
Представлял, как готовый ротор везли по ленинградским проспектам, мимо дворцов и соборов, а потом на платформе по зимней России, мимо лесов, деревень, над великими застывшими реками, все тем же извечным путем, за Урал. И Сибирь встречала его все тем же узором звезд, как и тех, безымянных, владевших ладьей и пищалью.
ТЭЦ уже выламывает из тайги свой ребристый скелет. Вставят ротор в грудную бетонную клетку. Раскаленный пар ударит в лопатки турбины, и забьется, засверкает, задышит легированная сердечная мышца. С самолета увидят разливы ночных огней.
Так думал он, любуясь на ротор, и внезапная мысль: зачем все это, когда есть медная лампа, и ее лицо между светом и тьмой, и чем темнее, тем ярче оно — до боли, до счастья в зрачках? Зачем все это, когда есть простая лампа?
Видение посетило его и исчезло.
Огромный купол. Стальная громадина ротора.
2
Он принимал посетителей по личным вопросам. Вопросы были знакомы. Угадывались с первых шагов, когда, робея, переступали порог кабинета, оступаясь, вышагивали по ковру, шевеля беззвучно губами, — значит, о чем-то просили. Или резко, отшвыривая робость, мерили шагами ковер — значит, требовали.
Уже приходили двое. Автогенщик, недавно женившийся, жена ожидала ребенка. И женщина — инженер техотдела, мать-одиночка. Просили квартиры, надеялись этим визитом побыстрей передвинуться в очереди. Второй год терпеливо ожидали черед в общежитии, на людях, в толчее, в общем гаме и гари. Связывали с получением квартиры начало другой, новой и на этот раз истинной жизни.
Обоим он не отказывал. Обоих записал, обещал помочь, зная, что новый, готовый к заселению дом уже поделен и расписан, уже кончены ссоры и споры и квартиры, еще нежилые, вспыхивающие сваркой, звякающие мастерками, уже имеют жильцов, в них живут. И этим двоим здесь рассчитывать не на что. Пусть наберутся терпения до следующего года.
Приходила молодая учительница, хрупкая, красивая, возмущенная. Жена инженера-технолога. Говорила: муж загружен работой, не бывает дома ни днем, ни ночью. Какая же это семья? Она устала, бросит все и уйдет. Нельзя же наваливать все на одного человека! Есть же, наконец, и другие. Они с мужем уедут в Свердловск, где ее отец, директор завода, всегда найдет для ее Сережи хорошее место.
И пришлось, сердясь на нее и жалея, уговаривать, рассказывать о себе самом, подводить к макету комбината, показывая квадратик завода, директором которого он видит ее Сергея, толкового, умницу, с большим инженерным будущим, если, конечно, она, жена, исполнится мудрости и смирения, не измучает его, не собьет с толку, не утянет со стройки.
В конце приема появилась бледная, с измученно-дерзким лицом девица в натянутом свитере.
— Примите меня на работу!
— А вы кто, простите, по специальности? — устало спросил Пушкарев.
— Я филолог.
— Вот как? Ну а мне нужны инженеры.
— Все равно примите.
— Едва ли вы нам можете пригодиться. Вы несколько ошиблись выбором. Видите ли, мы собираемся здесь перерабатывать газ и нефть, а не изучать литературу. Мне нужны химики, а филологов ищут в каком-нибудь другом месте.
— Я не собираюсь изучать литературу. Я хочу работать на комбинате. Я не глупа, с высшим образованием. Если подумаете, найдете для меня дело.
— Да уверяю вас, не найду, — с досадой сказал Пушкарев. — Ну зачем вы приехали?
— Я разочаровалась в филологии. Филологический подход к жизни устарел. Сейчас не век филологии, а век техники. Хочу изучать технику на комбинате.
— Мы почти единомышленники. — Пушкарев с любопытством разглядывал сухо блестевшие, одержимые глаза, думал: «Вот еще один диковинный мотылек, налетевший на прожектор комбината. Побьется, упадет, опаленный, и, очнувшись, в ужасе улетит». — Я почти с вами согласен. Но, увы, не вижу, как вам помочь. Я набираю к себе инженеров, причем калиброванных, с отличными дипломами, готовыми до пуска комбината забыть о женах, невестах и выдавать тройную норму. Здесь не место для изучения техники. Здесь место ее создания. Нет, не могу вам помочь.
— Ваш кадровик меня обнадежил. Месяц назад заполнила у него анкету. Наведываюсь через день. Он говорит: ждите. Я сняла угол. Проела все деньги. Сейчас продаю на толкучке вещи. Жду. Хочу наконец ясности. Да или нет? Так зачем же он повторяет — ждите!
— Кто повторяет?
— Кадровик.
— Черт знает что! — Пушкарев гневно нажал на селектор. — Позовите ко мне завотделом кадров!.. Черт знает что!..
Вошел кадровик, седовласый, щуплый. Сразу покраснел, увидев сердитое лицо Пушкарева. Топтался, не приближаясь к столу.
— Ближе, ближе!.. Вы позволили заполнить анкету?
— Да, Петр Константинович, позволил…
— Зачем? Что вы имели в виду? Позволили, значит, хотели ее обеспечить работой. Какой? Да отвечайте же! Какой?
— Я полагал, Петр Константинович… Я считал…
— Что вы считали? Вы обнадежили человека! Что вы можете ей предложить? Место судомойки в буфете?
— У нас есть в техотделе вакансия и в лаборатории, техника фотокопирования…
— Вздор! Как вы можете доверить техническую документацию человеку, не смыслящему в инженерии? Или тонкое лабораторное дело неподготовленному?.. Вы путаете кадровую политику. Государство тратило тысячи, делая из нее филолога, а вы подсовываете ей занятие, в котором она некомпетентна. Вы, кадровик, допускаете грубейшие служебные просчеты!
— Я думал, Петр Константинович…
— Нет уж, послушайте, когда я говорю!.. Вы держите человека в напряжении целый месяц! Треплете ему нервы. Прививаете ему комплекс неполноценности, горький социальный опыт. Кто учил вас так обращаться с людьми? Где она, пресловутая чуткость? Внимание к человеку? Что же мне теперь прикажете делать? Из-за вашего разгильдяйства принять ее на работу? Вбить тромб еще в одно место, и это теперь-то, при острой нехватке грамотных спецов, когда секунды считаем!
— Петр Константинович…
— Я вас предупреждал в прошлый раз, но, видимо, не подействовало. Что же мне, переходить к оргвыводам? Не настало ли нам время расстаться?
Волосы кадровика были очень белыми, а лицо очень красным. Он лепетал. Руки дрожали, мусолили папку с бумажками. Девица в кресле готова была бежать. И Пушкарев жерновами своей воли и власти перемалывал кадровика, беззащитно стоящего. И вдруг очнулся:
«Что я, ослеп?.. Нельзя… На каком основании? Сам-то не лучше… Девица безумная, старик седовласый… Его заклюю до инфаркта… Ведь многое мне понять не под силу, а решаю, рублю сплеча…»
Так думал он, отпуская обоих, чувствуя свою вину и беспомощность, поражаясь этому новому для себя ощущению. Закрыв глаза, нес в них огненный, с бронзовым отсветом, сумрак.
К нему явился Миронов, худой, бледный, с глубокими подглазьями. Раскрыл папку с делами. Тусклым голосом докладывал о переписке с министерствами, о продолжающихся распрях с городскими властями.
— Но одно, Петр Константинович, все-таки решить удалось. Всю слободу Захромы отдали наконец под снос. Здесь мы их победили, правда ценой немалой. Всю девятиэтажку приходится отдать слободским. В один дом всю слободу запихаем. Сегодня иду, а на доме кто-то мелом начертил: «Захромы». Так что вот, сегодня пускаю бульдозеры. Можно снос начинать.
— Подождите! Снос!.. Подождите! — испугался вдруг Пушкарев, представив вчерашнюю комнатушку, лампу, половик, висящий на дверях замок, падающий под ударом бульдозера. — Дайте-ка план!
— Но вы же сами торопили со сносом! — удивился Миронов, разворачивая перед Пушкаревым план. — Я выделил шесть бульдозеров. Снял с насыпки дороги. Прораб упирался, давать не хотел.
— Правильно упирался. Много сняли. Оголили дорогу. Хватит и двух! И начните сносить вот отсюда. Овражную пока не сносите. Поняли? Овражную пока не сносите!
— Хорошо, Петр Константинович, понял…
— Ну а как с мостом? Пошел наконец бетон? Мост не голодает? Мостовик-то наш, Тихонов, помню, убивался на штабе: мост, говорит, голодает. С чайной ложки его кормим.
— Тихонов умер. Пришла из Москвы телеграмма. Не дожил до пуска моста. А бетон пошел. Все нормально.
Пушкареву вдруг стало больно. За умершего Тихонова. Он испытывал к нему постоянное сдержанное сострадание, к его большому костлявому телу, провалившемуся, как пропасть, лицу, над которым висел и лучился мост небывалой конструкции.
— Жаль, — сказал Пушкарев, — Тихонова жаль.
— Да, — слабо ответил Миронов.
Он сидел перед Пушкаревым, молчаливый, изнуренный, тусклый, с погасшими, полузакрытыми глазами. И Пушкарев вдруг почувствовал всю усталость своего заместителя, всю его печаль, влечение к дому, его ночные каждодневные письма к жене и сыну, нагружавшие авиапочту воспоминаниями, уверениями, страхами. Испытал мгновенное к нему сочувствие, понимание сквозь шелест докладных и приказов, сквозь скрежет бульдозеров.
— Николай Владимирович, — сказал Пушкарев. — Значит, вы проследите. Чтоб Овражную пока не трогали… И вот еще что. Вы меня просили об отпуске. Возьмите на недельку, слетайте к своим в Москву. Сейчас еще время терпит. Вот весна придет, тогда не до отпуска. Дней не будет хватать. А сейчас поезжайте. Отдохните, взбодритесь.
— Да? — обрадовался Миронов. — Полечу!.. Как раз у сына рождение! Думал, на рождение жены, да дела не пустили. Зато на рождение сына. Спасибо, Петр Константинович, а то, верно, к весне дней не будет хватать. А насчет Захром я распоряжусь. Сам бульдозеры поставлю, по плану…
И ушел, возбужденный, с новым блеском в глазах, с чуть заметным румянцем.
3
Пушкарев проверял состояние насыпей и готовность автомоста, сдерживающего поступление грузов на площадку ТЭЦ.
Песчаный карьер — ржаво-рыжая, беззвучно кричащая гортань над иртышской кручей. Экскаватор, дергая цепями, грузил самосвалы. Оранжевые «магирусы» и зеленые КрАЗы выстроились в хвост. Шоферы бранили кого-то, пролезшего без очереди.
— Насобачился обязательства брать, так, думаешь, на тебя вся колонна горбить станет? Ты повкалывай в общей лямке, а тогда и бери обязательства!
— Совесть иметь надо! Дай и другим заработать. Не у одного тебя ребятишки!
— А ну выруливай! Вон твое место, первое с заду!
Один из «магирусов», обиженно фыркая, выворачивая квадратную хромированную морду, выезжал из ряда, огрызаясь, дымя. Вставал за облупленным КрАЗом, недобро сверкая глазницами.
Пушкарев обгонял на бетоне скоростные дымящие самосвалы, полные грунта. На мгновение встретился взглядом с водителем сквозь хрустальную толщу стекла. Чистое, молодое лицо. Белая рубашка, галстук, золоченый браслет на руке. Разноцветное мигание пульта.
«Как летчик, — подумал, довольный тем, что исчезли с появлением новой техники промасленные шоферские робы, избитые железом ручищи. — Как летчик», — и все оглядывался на ровно ревущую машину с хвостом реактивного дыма, прошибающую фюзеляжем пространство.
На стройплощадках ползли гусеничные экскаваторы. Выгрызали трухлявый, рассыпавшийся торф, выскабливая место под будущие фундаменты. Самосвалы подруливали задом, вываливали песок, и бульдозеры ровняли новую, привезенную землю, готовую принять на себя стальные и бетонные тонны. Пустые самосвалы подставляли ребристые короба под ковши экскаваторов, забирали торф, увозили плодоносную почву на колхозные угодья — на гиблом болотном месте создавали новое поле.
«Торф отсюда, песок сюда. Вырубим лес, построим завод. Сроем гору, напустим озеро. Засыпем болото, насадим поле. Лунный грунт на Землю, земной на Луну. На Луне земля, на Земле луна. Что за черт в нас сидит, никак не уймется!»
В кабине «магируса» он увидел знакомую волчью шапку, сине-серые шальные глаза.
«Солдатов, Солдатов», — припомнил он.
— Солдатов, ты как здесь? Ты же на бульдозере или на экскаваторе, если мне память не изменяет…
— Память не изменяет. Не должна изменять. Память — не баба, — усмехнулся Солдатов, открывая дверцу. — Правильно увидели, сел за, баранку. Есть у меня такое право. Есть разные права человека. У меня, например, есть права на трактор, на бульдозер, на самосвал, на вездеход, на чертоход, еще на что? Я ведь тут у вас ненадолго. До весны. Весной уеду.
— Куда?
— Что-то в пустыню мне захотелось. Давно я не был в пустыне. А я пустыню люблю. Дружок зовет, в пустыне, говорит, одну такую штуковину строят, похлеще, говорит, твоего комбината. Меня приглашает. Солдатова везде приглашают.
— Жаль… Тебе и здесь было неплохо. Квартиру дадим, жену найдем.
— У Солдатова много жен и много квартир. Его везде ждут. Говорю: что-то в пустыню мне захотелось. Душу хочу отвести. Может, там какой пожар начинается…
И, захлопнув дверцу, рванул с места, удаляясь, колыхал оранжевым кузовом.
Удивляясь ему и тут же о нем забывая, Пушкарев подкатывал к автомосту, плавной дугой перепорхнувшему через железнодорожную насыпь. Любил его отточенную, совершенную красоту, возникшую как простая, ясная мысль среди путаницы елок, снега, строительного сора. Старался вспомнить сутулого, болезненного инженера, автора проекта, с которым виделись каждый раз мельком, но интересно говорили, расстались месяц назад на штабе, чтоб больше не встретиться. Но вот сейчас встретились. Пушкарев мысленно кланялся мосту, кланялся инженеру.
«Тихонов, Тихонов. А была возможность общения, даже, кажется, дружбы… Не случилось… И теперь никогда не узнать, кем он был, кого любил, ненавидел, кто в нем не чаял души. А остался мост. Но ведь мост ничего не расскажет…»
Пушкарев обогнул бетонные опоры моста, слыша скрежет железных, готовых к завершению работ. Поднялся по стремянке наверх. И Ядринск, вечерний, окутанный нежным розовым паром, в церквах, колокольнях, с внезапно заблестевшей тусклой позолотой крестов, колыхался среди льдов под низкими небесами. И Пушкарев, поразившись его красоте, вдруг остро почувствовал: там, среди деревянных домов, охваченных розовым дымом, есть старый дом, и комната, и медная лампа, и он любит этот новоявленный, не похожий ни на какой другой город, вдруг ставший для него драгоценным.
4
Расплавленные обрезки двутавра с каплями синей стали.
Раздробленная гусеницей доска с каплями красной смолы.
Потный, ревущий компрессор с каплями дрожащей воды.
Кулак с трезубцем держателя, огарок стальной иглы.
Трескучий огонь, и слезы в зрачках.
Растресканная до крови губа и выдох паром.
Бой в металл.
Лязг цепей.
Скрип ключей.
— Гайка диаметром…
— Чертов снег!
— Болт трехдюймовый…
— Сам скажи мастеру…
— Ну тя к бесу!
— По-бе-ре-гись!
Автомост новейшей, бесшовной конструкции на гибких V-образных опорах выгнулся длинным телом, пропуская под собой размытые, в свисте, составы. Уперся бетонными пятками в городскую окраину. Запрокинул в небо бетонное лицо. Врезал бетонные ладони в снега окрестных полей. Его грудь из балок и плит в мерзлых наростах и наледях. Вдоль хребта в стальных желобах гудит водовод. Труба в асбестовой шубе качает горячий пар. В свинцовой рубашке повис телефонный кабель. Мост, живой и дышащий, несет свою жизнь в единстве земли и неба.
Варились последние стыки. Мост был готов стряхнуть строительный сор, принять на себя ревущие тонны. Небо над ним не имело веса и цвета, сеяло белизну. В глубине под опорами таилась брусчатка старого тракта, гниль древнего былого моста. Новый мост отпечатал в бетоне его хрупкий чертеж.
Кран с полосатой стрелой и обрывок железного троса.
Бульдозер с ковшом.
Каток.
— Взяли, ребята!
— Еще разом!
— Ну ты, косолапый!
— Сам не обедал!
— Залить за ворот…
— И так мокрый!
— Еще маленько!
— По-бе-ре-гись!
Далеко от тех мест сотрудники института наполнили актовый зал. Ахнул в ретрансляторах гимн. Поднялись из кресел, вытягиваясь. На сцену вынесли знамя. Маленький лысоватый директор неумело стискивал древко. Пронес бархатно-красное расшитое полотнище. Шагал на месте, сверкая стеклышками очков, пока кто-то не принял знамя, умело и бережно поставил к стене.
Уселись. Директор взошел на трибуну. Поздравил коллектив с наградой, с высокой оценкой, с выплатой премий.
— Вот теперь, товарищи, с полной уверенностью можно сказать, мы были правы, отстаивая наш мост, кладя на него, как говорится, и душу и тело. Он полностью себя оправдал. Не уступает, а, наоборот, опережает по всем показателям мосты предыдущих конструкций. Именно там, в суровых условиях, где важна быстрота, дешевизна и прочность, наш мост сооружен в кратчайший, небывалый срок. Готов принять на себя уникальные грузы. Теперь, повторяю, воочию видна наша правота. Скептики уже замолчали. Они уже с нами, товарищи. В этот радостный день, когда мы празднуем трудовую победу, разрешите еще раз высказать слова благодарности в добрую, незабвенную память ушедшего от нас прежнего директора, безвременно скончавшегося Евгения Григорьевича Тихонова, чей организаторский и инженерный талант мы так высоко ценили. Как жаль, что он не увидел свое детище, свое творение, свой мост. Предлагаю, товарищи, почтить память Евгения Григорьевича вставанием!
Снова встали. И опустились со стуком спинок. Расходились в вечернюю, ревущую моторами сырость. Несли в себе это неловкое стояние молча, скоротечную, красно-бархатную минуту торжества, черно-бархатную минуту траура.
Два сослуживца, не желая так быстро расстаться, завернули в ресторанчик, где звякала музыка, пела певичка поддельно-цыганские песни. Сидели, наслаждались теплом, возможностью рассуждать и раскидывать.
— Директор-то наш больно собой невиден. На паучка похож на какого-то. Одно слово правда — не дожил Евгений Григорьевич до моста своего. Немного не дотянул, — говорил один, едкий, длинноголовый, с хрящевидными ушами, похожими на капустные листья. — Чуть-чуть не дожил. А сколько его добивался, сколько ждал! Может, и ушел-то из-за него раньше срока. А вот взглянуть не пришлось. Я что думаю: может, ему за все и аукнулось? Может, это ему в наказание?
— Ну какое еще наказание! — возразил второй, румяный, ситный, с розоватым старческим пухом на голове. — Сегодня жив, завтра нет. Сегодня ты, завтра я. Пусть, как говорится, неудачник плачет. Без всякой мистики. Какое тут наказание?
— А все-таки есть. Может, и не надо мне говорить такое. Может, это и нехорошо. Тем более, что правда, то правда, — инженер-то он был дай бог. Такую башку поискать. А все-таки мост-то свой Евгений Григорьевич из живых людей сделал. К мосту своему по живому шел. По нас с вами шел.
— Это уж точно. Под ноги себе не глядел.
— Как он Филиппова-то, старика раздавил! Кто бы подумал? «Учитель, учитель!..» Вперед себя пропускал. А оплел, оплел и аккуратно так в яму спустил. Ну что говорить, у Филиппова мозги высохли, старая перечница. Только и знал, что старыми орденами трясти. Против тихоновского моста воевал. Но все же нельзя так! Старик, уважение, седины. Труды, переводы. По всей России мосты стоят. А он его хлоп и в яму. Как он мне плакал, Филиппов, как клял ученичка своего, да поздно!
— Уж точно. На пенсию ловко его спровадил. Со срамом, но почетно. Старик-то недолго после того протянул. Правду говорят, после пенсии долго не жить. Я как выйду, решил, — хоть вахтером, хоть билетером, а буду работать. Нельзя отрываться от дела.
— Согласен, башка у Тихонова была золотая. А душа? Какая душа, позвольте спросить? А вот души-то у него и не было. Железобетонная конструкция вместо души. Этот мост вот тут вот у всех встал. Я ему говорю: «Евгений Григорьевич, смилуйтесь. У расчетной группы сил больше нет. Ночами работаем. У меня все дома больны, некому воды подать. Дайте отгул, ради бога!» А он мне: «Мне, — говорит, — нужны работники, а не больничные сиделки». Так и не дал отгула. Когда документацию гнали, у нас одна сметчица, беременная, от усталости в обморок упала. А он хоть бы что! Беспощадный был человек!
— Как к себе, так и к другим. Себя уморил до смерти. Вот пример, как не надо работать. Работаешь — отдыхай. Совмещай работу и отдых. Вы, кстати, профкомовскую путевку берите, не раздумывайте. Ну и что ж, что зима! Освежитесь, водички попьете. Мне в прошлом году понравилось. Я и в этом хочу заявить. Посмотрите на меня. Старик, а румянец. Молодым сто очков вперед дам.
— И еще вам скажу, хоть и грех. Мы ведь с Тихоновым-то до директорства его друзьями были. Кому первому проект моста показал? Мне. Кто против Филиппова ему помогал? Я. Думал, и после запросто, по-товарищески. Куда там! Директором стал — подменили. Вся дружба побоку. Новых молодчиков себе понабрал, чтоб все ему в рот смотрели, славу ему пели. А чуть что не по его — до свиданья! От филипповцев всех поизбавился и мне грозил, как свидетелю его махинаций. И понял тут я, правда уже с опозданием, что не дружба ему нужна, а чтоб все под его дудку плясали да мост его строили! Не было, не было совести!
— Ну это тоже, знаете, на совести одной не проедешь. Был хозяин. Держал институт. А то ведь с нашим-то братом как? Не цыкнешь — вмиг разболтаемся. Вот вы, вы… Что вы про нового директора распускаете? Что, мол, слабый, мол, раньше марка была. Что вы с Бритиковым против него затеваете? Я ведь знаю, хотя и молчу.
— Что вы такое знаете?
— А вот знаю, хоть и молчу.
— Ну, что именно?
— Был, говорю, хозяин. Язычки пообрезать умел. И новый тоже хорош.
— Я и говорю: хорош.
— То-то. Ну выпьем.
— Выпьем, давайте выпьем. Выпьем за хозяина. А то, вы правы, нам с вами твердость нужна. А то ни работать, ни дела делать не станем. Выпьем за хозяина. Пьем за тебя, Евгений Григорьевич. Как тебе там? Как ты там теперь без нас поживаешь?..
И они выпили, осторожно друг на друга поглядывая. Принялись смотреть на певичку, на приколотый к платью цветок.
Мост — гром.
Мост — блеск.
Сварщик прикован к мосту.
Укол электрода — огонь.
Укол электрода — хрусталь.
Сварщик как люстра в огнях.
Погасла…
Пустота. Ветер в спину и в бок. Сварщик висит на цепях.
Стыки как бетонные челюсти. Сжали железные зубы. Сварщики наваривают на них красно-золотые коронки. Зубы сыплют искры. Спаиваются намертво в стальном оскале.
Мост пульсировал светом, словно стеклянный. В нем струились и теплились сосуды и трубочки крови. Виднелось алое сердце. Вздымались прозрачные легкие. Мост дышал, наливался. Наполнял пространство огромной зреющей жизнью. Нес в себе слабую память о былом, деревянном.
— Маску подай!
— Запотела!
— Кабель подчисть!
— Пробьет!
— Эх, просыпались иглы!
— А ты в голенища заткни!
— Висишь, как летчик, качаешься…
— Как космонавт…
— Ладно, кончай травить!
— Ладно, пошел варить!..
Иглы, уколы, люстры.
Стеклянный в огне человек…
Автомост…
Старая, сморщенная, мать умершего Тихонова, Екатерина Андреевна, получала у себя дома пенсию, усадив почтальоншу. Близоруко целилась пером, не решаясь коснуться строчки. Почтальонша, знавшая ее долгие годы, терпеливо и жалостливо следила за дрожанием руки.
— Вот, моя милая, дожила. И глаза не видят, и руки не пишут, — усмехнулась Екатерина Андреевна, ставя каракули-подписи. — Пора, пора собирать пожитки. Да вот что будешь делать — земля не берет. Мужа взяла, сына взяла, а меня, старуху, не берет. Видно, еще нужна для чего-то тут.
— Еще поживите, на белый свет поглядите, — вздохнула почтальонша, стряхивая в ладонь мелочь. — Еще денежки вам поношу.
— И вот, говорю, не пойму, зачем меня на земле держит? Они ушли, а я осталась. Так себе, небо копчу. Кому это нужно?
— Внукам нужно. Внуки вас навещают?
— Им со мной скучно. Слепая, глухая, зачем я им? Скорей бы, скорей… — она закивала вслед исчезающей почтальонше, и все расплылось, стало водяным, бестелесным в слезящихся светлых глазах.
День продолжался как бесшумное, чуть заметное шевеление тени и света на блеклых обоях, как дремота ее и усталость, сквозь которые залетали случайные мысли или чувства. Трепетали недолго, обессиленно падали. И опять дремота без мыслей, течение из сумерек в сумерки.
— Скорей бы, — слабо повторила она, сидя в кресле, трогая полысевшую от бессчетных касаний, истертую до волокон резную ручку. — К Грише, к Жене…
Ей казалось она, сын и муж разлучены случайно и ненадолго. Соединятся и встретятся для совместного продолжения жизни. Это умиляло ее и радовало. Она думала снова о сыне, не о том, неживом, в холодных цветах, с чужой отточенно-белой линией лба и носа, а о другом, внезапно к ней возвращенном. О маленьком, жарко орущем, с красным и влажным ртом, когда раскрывала, поражаясь пульсирующей, цепкой силе его крохотных рук и ног. Грудь ее мгновенно набухала от его крика и запаха.
— Женя, опять нам заново жить…
Исчезнувшие, небывалые дни на их даче в Орловке, тоже теперь исчезнувшей. В мокрых, без птичьего крика лесах, в желтых, сжатых полях с косыми полетами галок больнее чувствовалось ее раннее вдовство и покинутость. Усилием любви превращалось в слезную нежность к сыну, хрупкому во всех чертах и движениях, беззащитному, с шелестящим, прозрачным смехом. Целовала его в теплый хохолок, в воротничок рубашки, беззвучно плача о себе и о муже. А сын, заглядевшись в соломенную полевую воронью даль, спросил косноязычно и мягко:
— Все плачешь и плачешь. Разве все навсегда умирают? — и пошел и пошел по стерне.
Течение быстрых, ветром пронесенных лет, когда возникло их сложное, живое единство. От тянулся и рос, а она уменьшалась, отдавая ему свой румянец и цвет и чувствуя свою жизнь средоточием любви и бережной власти, вокруг которых, наподобие легкой планеты, шло вращение сыновней судьбы. Малым светилом он удалялся и вновь приближался, вызывая в ней приливы страха и нежности. Она вела его по кругам, и они вместе летели, созданные один из другого.
И первое потрясение, разлад, напугавший ее. Она вдруг увидела: сын может он нее отделиться, продолжить полет отдельно. И такая ревность, и боль, и гнев, и вина на сыне. Как он мог, как он смел ослушаться? Как мог о ней не подумать? И смирение, начало пугливого, на всю жизнь ожидания.
Она хотела, чтоб он стал историком, как и отец. Окружала его книгами мужа. Подарила коллекцию бронзовых хрупко-зеленых колец, ожерелий, извлеченных мужем из древних псковских курганов. Полагала: оборванный труд одного будет подхвачен другим и тем самым осуществится высшая, задуманная в их роду справедливость. Но он сказал, что желает строить мосты. В этом видит призвание.
— Почему? Какие мосты? Что за вздор? Есть, наконец, память отца! Это можно счесть за измену…
— Я тебе не могу объяснить, — ответил он, бережно отводя ее гнев. — Мне нравятся мосты, их стальные лучистые формы. Чувствую их напряжение и крепость. Мне видится некое тождество, волнует их затканное сталью пространство…
Их союз потрясался. Появление молодой, обожаемой сыном женщины, а в ней, матери, — недоверие и ревность. Рождение внуков и уход их всех от нее под другую крышу, а в ней — обида и боль. Их женские ссоры с невесткой, обращения к нему. И их примирения, когда купали, кормили, лечили непрестанно болевших детей, деля между собой неоглядные труды и заботы. Вечная боязнь за него, уносящегося на сибирские реки, где строит мосты, ночные молитвы о нем и счастье при его возвращении. Спустя много лет она поняла, что все это было похоже в других родах и семействах — обычное смещение центра. Сын вылетел из ее притяжения, оттолкнул ее. И вернул обратно в лоно новой семьи, повел вкруг себя. И они, в своих ссорах и радостях, продолжали полет.
С тех пор ее как бы заслонили от сына другие, ставшие родными лица. И он стал недоступней и дальше. Его судьба, во многом ей непонятная, шла в отдалении. В изнурительных поездках, в сокрушительной с кем-то борьбе, в жестоких победах над кем-то, в замыслах каких-то проектов. Она удивлялась: неужели этот жесткий, угрюмый, начинавший седеть мужчина и тот розовый, хрупкий отрок, убегавший от нее по траве, — неужели они одно? И была от этого робость, любовное, горькое удивление, похожее на моленье о сыне.
В последний год сын болел, и что-то в нем таяло, его стальная неприступность и жесткость. Он начал к ней возвращаться, в то время, когда понимали друг друга по вздоху, по тихому смеху, по быстрому, в поля обращенному взгляду, где солома, стога и галки и такая осенняя тишь.
— Мама, ты помнишь в Орловке на веранде было такое стеклышко, которое все время звенело? Ты его все хотела заклеить, — он обнял ее за плечи, неуверенный, большерукий, и она замерла, чувствуя, как время, опрокинувшись, понесло их обратно, на далекие синеватые тропки, расцвеченные палой листвой. И такое круженье и сладость, — ее сын, ненаглядный и милый, к ней снова вернулся, и уж будут теперь неразлучны.
Теперь, когда все отшумело, одна среди бесшумного перебора теней, забываясь дремотно в кресле, подумала свою любимую мысль. Скоро, скоро выйдет из осинового на ветру мелколесья на ту тропку в стерне, все в гору, в гору, мимо разрушенной кузни, где под елкой и тополем стоит их дом, с темной, отсыревшей верандой, и стеклышко звенит на ветру, и в комнате на бревенчатых стенах висят расписные подносы и за длинным столом сидят ее муж и сын, оба молодые, похожие, радуясь ее появлению. Принимают в застолье, чтоб уж никогда не прощаться.
Мост выгибался разящим, вдаль уходящим прострелом. Казался отрезком планетарного, охваченного свечением кольца. Сварщики таились в его поднебесном теле, обнаруживая себя водопадом комет. Подвешенные на цепях, парили. Ныряли и перевертывались, роняя струи огня.
— Расход металла…
— Момент вращения…
— С моментом инерции…
— В борьбе с коррозией…
— Ваш амперметр…
— Блуждание токов…
— Покройте пленкой…
— Мороз и влага…
— Если можно, еще сигаретку. Только такой ветрило, не знаю, как прикурить…
Мост выдирался из сорной трухи домишек, из разорванных мокрых полей как бетонное ребро земли. Был частью единой и неделимой планеты. Его железо, намагниченное полюсами, было едино со всем мировым железом. Его бетон был частью земных пород. Влага в его водоводе была все той же водой, текущей в океанах и реках. В телефонном кабеле, в перевитых медных волокнах, билась людская речь:
— Катенька, Катя, слышишь меня? Ну как там, доченька, в твоем общежитии? Ты платочки мои получила?..
— Приезжай, говорю, отец умер. Да, пришлем телеграмму. Нет, без тебя хоронить не станем…
— Ты Сивкову хвост-то намыль! Что он накладные не шлет? Ты ему скажи: к прокурору захотел или как? Ты прокурором его пугни…
— Деньги шлю, и довольно! А видеть тебя не хочу. На сына высылаю, и все. А тебя сто лет не видал…
— Катя, Катенька, плохо слышу тебя! Ты платочки получила?
Мост сочетал воедино бесчисленные разобщенные части. Сам был частью сотворенного прежде мира, входил в его план и чертеж. Нес в себе древнюю деревянную память о старинных стуках и скрипах.
Вера Ивановна, жена умершего Тихонова, не могла уложить расшалившихся сына и дочь. Они кидались подушками, визжали, дразнили друг друга, пока мать, выйдя из себя, не накричала на них:
— Бессовестные, когда же вы меня пожалеете? Был бы отец, он бы цыкнул на вас!
В слезах, слыша, как утихли дети, казня себя за то, что по ничтожному поводу тронула память мужа, вышла на кухню. Плача, жалея себя и их, мыла посуду. Думала, как сложно стало с детьми, как все вдруг рассыпалось, вышло из рук. Устройство дома и быта, налаженно-хрупкий механизм знакомств и родственных связей — все разбрелось, утратя былое единство. Ибо этим единством был он, ее Женя.
Дети уснули. Она вошла в кабинет мужа, уже тронутый переменами. Сын обосновался за отцовским столом, набросав тетради, рисунки. Дочь перетащила к себе разноцветные шерстяные подушки с кушетки отца. Вера Ивановна почувствовала, как налетает на нее обморочность ночных одиноких часов.
Так ценили возможность оказаться наконец вдвоем, когда дети здоровы и спят, умолк телефон, прокрутилось грохочущее колесо исчезнувшего, испепеленного дня. И вот чудесная тишина кабинета, шерстяные подушки. И можно тихо, устало лежать, наслаждаясь самой тишиной, белизной его белой рубахи. Или звуком его близкого голоса, когда он рассказывал об институтских делах, колко, едко высмеивал старца Филиппова, посвящая ее в хитрости научной борьбы, никогда до конца ей не ясной. Но верила: в ней победит справедливость, ум, доброта ее Жени, его талант и энергия.
Теперь, вызывая недавние и как будто возможные дни, она, до почернения света в лампе, ощутила, что этого нет и не будет.
Но он вдруг вошел и сел рядом с ней на кушетку, положив большую горячую руку ей на лоб, проводя по бровям и векам. И она успевала губами касаться его ладони, скользящей на шею и грудь.
— Подожди, дети могут проснуться…
И опять они лежат в легкой, прозрачной траве, худые, серебристые, словно упавшие из небес, в отпечатках стеблей и листьев. Она занавешивается гривой трав, пригибая ее к животу, к коленям, умоляет:
— Ну пожалуйста, не смотри на меня. Лучше туда, туда, где белая лошадь пасется…
Неужели где-то существует то место и можно подняться, поездом, самолетом добраться туда и увидеть сквозь снег остатки темных метелок, коснуться себя, исчезнувшей?
Он уносился в поездки. Возвращался белозубый и смуглый, вынося на лице отблеск далеких рек, запах лесов. Его рассказы о мостах и дорогах, о стальных лучистых конструкциях, сквозь которые проносились составы. Она ожидала ребенка, неподвижная и тяжелая, в колокольном просторном платье. Вязала на спицах, распуская шерсть. Колдовала, мотая клубок:
— В этом белом клубочке — все твои пути и дороги, все метелки, бураны, все твои встречи. Сколько ни кружи, ни плутай, а ко мне вернешься.
Он смеялся счастливо, держа на раскрытых пальцах белую пряжу.
Медленно, почти незаметно, исчезая и вновь возвращаясь, ушел в отдаление тот свет. Рождение детей. Бег стремительных, похожих на бурю лет. Словно бежали по льду, торопясь скорей пробежать. Не успев оглянуться, оказались на той стороне. И время уже вспоминать.
— А помнишь, в Карелии белье полоскала, и вдруг рубахи поплыли, как белые гуси?
— А помнишь, лодку смолил, а я тебе бруснику носила?
— Подожди, а как звали того старика-балагура, который брагу варил? Баня-то у него загорелась, и мы ее тушили в ночи…
— Нет, не помню, как звали…
Но свет уходил. Были беспомощны его удержать. Каждый возвращался в свое, не вместе, а порознь.
Мост, который он проектировал, новейший, небывалой конструкции. Ей казалось, что этот мост, возникнув однажды как робкий, серебристый на кальке чертеж, разрастался с годами в громаду, охватившую мужа своими конструкциями. Им отдавал свой румянец, свою силу, кровь, доброту, становясь железней и жестче.
Однажды, изведенный на службе, больной, раздраженный, кричал на нее, на детей:
— Вы можете меня пощадить? Что вы нагружаете меня своими тоннами? Я ведь рухну, рухну! Неужели не можете меня пощадить?
Ей казалось, у мужа появилось недоступное ей измерение и он не замечает ее. Ночами слушала его частое сухое дыхание. Чудилось, что и он, и она, и дети уловлены в стальные узлы. Все небо над ними склепано из железных квадратов и ромбов.
Он болел и таял, сначала дома, потом в больнице. Мост уже строился, и он знал, что ему не встать, все рвался увидеть мост. Молодая женщина-врач, лечившая его, возникшая позднее на похоронах, — Вера Ивановна сквозь горе успевала удивляться ее слезам, испытывая к ней, темноволосой и смуглой, недоброе, враждебное чувство. Эта женщина за несколько дней до развязки позвонила ей ночью:
— Евгений Григорьевич хочет вас немедленно видеть…
Их ночное свидание в палате, в бестелесных, стерильных сумерках. Его худое, бурно дышащее горло. Глазища, блуждающие под седыми бровями. Говорили о детях, отметках, о подарках к рождению сына. Он вдруг тихо сказал:
— Вера, Вера, как быстро все пролетело… Куда оно все подевалось? Еще бы немножко пожить. И быть может, все по-другому… Ты прости меня, Вера. Нет, не понять, не понять… И куда оно все подевалось?..
И теперь, в пустом кабинете, слушая беззвучную протяженность ночи, видя ее малый озаренный отрезок, теряющийся в обе стороны в бесконечность, думала отрешенно: в самом деле, не понять, не понять. И куда оно все подевалось?..
Желтая каска.
Красная каска.
Белая каска.
Пар!
Свист!
— Сгинь, обожгу!..
Рабочие в пластмассовых шлемах орудовали трубками с паром. Обдували железные стыки жаркими, шипящими струями. Нагревали железо, готовя его к бетону. Накрывали бережно сухими холстами, как скатертью.
Въезжали на мост самосвалы. Вываливали жидкий, в парном дыхании раствор. Наполняли бадьи и корыта. Бетонщики лопатами, как хлебопеки, шлепали тяжелое тесто. Окунали вибраторы в сдобную гущу. Месили, сбивали в квашне. Бетон созревал, неся в себе стальную начинку, спекая намертво стыки.
— Давай шибче!
— Буханку черного!
— А хошь бородинский?
— Не, мне с изюмом!
— Ему ситный!
— А мне батоны!
Мост, упругий и гибкий, пружинил, играл тетивой. Сжимался, откликаясь на холодный, плывущий с севера воздух. Сквозь вой и грохот вибраторов в нем неслышно скрипело исчезнувшее старое дерево, лежал в глубине обломок оброненной подковы.
Молодая женщина-врач, Кира Аркадьевна, с темными непокрытыми волосами, заблестевшими на воздухе изморозью, вышла на волю после праздничного карнавального вечера. Садилась в такси вместе с доктором Шмаковым, который ухаживал за ней и за которого она собиралась замуж.
Утром на операции она ассистировала Шмакову. Была белизна, забрызганная красным. Билось липко-алое всхлипывающее сердце. Пахло спиртом, йодом, распахнутым парным нутром. Несколько часов шла операция. А вечером, заслоняя все это, — танцы, пузырьки шампанского, не очень умные, не слишком смешные шутки Шмакова, который охватывал ее шею цветной бумажной лентой, сыпал ей на волосы конфетти.
Садясь в такси, она вдруг остро почувствовала абсурд пролетевшего дня: сначала белое в красных брызгах, потом шампанское в пузырьках, а теперь золото куполов «Ивана Великого», мимо которого они проносились, и Шмаков наклонился к ней, не чувствуя ее состояния, каламбурил:
— Я сказал Никулиным: «Друзья, до коньяку ли нам?»
Она чуть отстранилась, следя за исчезающим черно-сверкнувшим золотом. И вдруг поймала на куполах проблеск высокого молчаливо-зоркого лица, в котором узнала, захотела узнать лицо инженера Тихонова, кого недавно любила, спасала, не сумела спасти. Подумала: в ее жизнь негаданно, на кратчайший миг ворвалась другая душа, которую так хотелось удержать и понять. Не хватило умения и сил. Отлетела, оставя по себе боль, отражение то на куполе, то на воде.
Казалось, недавно он приходил к ней, занося вместе с запахом табака ворохи трескучих, электрических состояний, которые постепенно гасли от ее прикосновений. Утихал, умягчался, следя за ее легким счастливым кружением по комнате: накрывала на стол, подставляла глиняную пепельницу с остатками вчерашнего пепла, задергивала шторы. Говорил ей:
— Господи, как у тебя хорошо! Мне всегда казалось, что в этом безумном городе должна же быть вот такая комната, вот с такой занавеской, с такой вот пепельницей, где так хорошо…
Он жаловался, как измучен работой, как теряет к ней интерес. Этот мост его раздавил, и надо опомниться, уберечь, что еще можно спасти, куда-то бежать и скрыться. И она его может спасти.
Теперь, когда все уже позади, но все-таки остался еще крохотный уцелевший зеленый лоскуток жизни, хочется его уберечь, укрыться ото всех. Чтоб — лес, тишина, может быть, падают шишки, может, белочка синим комочком и чтобы ты…
В больнице, забываясь, пьянея от уколов, держал ее руку и все говорил про какой-то старый извечный мост, по которому им всем предстоит пройти.
Теперь, в летящем такси, отпуская золоченый, случайно слетевший образ, думала: все осталось незавершенным, неясным и будет неизбежно забыто в другой, возникающей жизни, которую готова принять.
Старый мост через реку уводил на пылящий тракт.
Из города выступали полки в колыхании штыков, киверов, входили на шаткий мост, исчезали в хлебах. Кто-то с криком кидался им вслед, срывал с головы белый плат, хватался за солдатский рукав.
— Соколик ты мой ненаглядный! Да на кого ты меня покидаешь? И за что нас с тобой разлучают? Тебя на злую войну снаряжают? Да кто же тебя там приголубит? Да кто же тебя там поцелует? Да кто же тебя там обымет? Востра сабля тебя приголубит! Быстра пуля тебя поцелует! Сыра земля обымет! Не увижу больше твои ясные очи!..
Полки пропадали в хлебах, в зеленых ржаных колосьях.
Колодники выходили на мост. Гремели цепями по бревнам. Крестились на далекий собор. И кто-то бежал им вслед, хватал арестантскую руку, совал серебряный рубль.
— Уж ты мой горький голубчик! И кака така наша доля? Отымают тебя от мово сердца! Целовала твои ручки, ножки! Любила твое молодо, бело тело! А теперь обобьют твои ручки об железо! Изотрут твои ножки об дорогу! Изведут по тюрьмам твое бело тело! А мне по тебе убиваться…
Пропадали колодники в хлебной дали под крики дергачей, перепелок.
Выходили на мост богомольцы. Скребли посохами бревна. И кто-то им вслед убивался:
— Уж тако теперь наше счастье! Уж таки теперь наши слезы! Отлетает от нас наш родимец! Не мила ему родна сторонка! Не красна ему молода невеста! Не наряден ему злат-серебрян перстень! А мила ему матерь-пустыня! Красна ему черна ряса! Наряден деревянный посох! Ему бога молить, а мне слезы лить!..
Исчезали богомольцы в хлебах и травах.
Старый мост чернел над рекой. Блестел на бревнах обломок оброненной подковы.
Двенадцатилетний сын умершего Тихонова слышал, как мать, вздыхая, ходит по комнатам, сестра чуть слышно что-то лепечет во сне. Он не спал, а думал, как всего два года назад все вместе мчались на машине по летней горячей степи среди разлива белой пшеницы. Под вечер, когда солнце садилось, отец поставил машину у края дороги, у одинокого большого холма, и позвал их на курган. Мать и сестра не пошли, а они с отцом взобрались на пологий, округлый склон, хрустящий горячими травами. Отец говорил о князе, лежавшем в холме. Степь, красно-медная от низкого солнца, казалась огромной, дышащей, с гудением далеких комбайнов, с полынными ароматами.
Отец, большой и сутулый, смотрел в степь. Лицо его казалось усталым, печальным. И такая любовь к отцу, желание потянуться к нему, прижаться щекой к его красной от солнца щеке. Что-то спросить, узнать. Таким и запомнить.
Все пронеслось и исчезло, словно уже было когда-то. И, глядя на холм, насыпанный другими, исчезнувшими навеки руками, сын спросил:
— А разве и мы так исчезнем? Разве все навсегда умирают?..
Автомост выгнул в темноте свое тело. Опустевший, огромный, чуть искрился в свете прожектора. К полуночи снег перестал. Ветер раздул облака, и в небе высоко и бездонно открылся другой мост, необъятный, мерцающий.
5
Главный режиссер Творогов пил утренний, скверно сваренный кофе, поглядывая на Любовь Андреевну, бывшую билетершу театра, подругу жизни, с которой жил неразлучно долгие годы, худую, с накрученными на железки седеющими волосами.
Она ходила шумно по комнате, развевая халат, говорила:
— Так вот, представляешь, мне снится, что к нам приходят Елена Гавриловна, завторг, и завбиблиотекой Семен Ильич, и оба такие молодые, румяные и ничуть не таятся, и не где-нибудь, а у нас. Я ей говорю: «Елена Гавриловна, все-таки неудобно, у нас гости бывают, люди. Могут войти». А она только: хи-хи-хи! — Любовь Андреевна улыбалась голубоватыми вставными зубами, а Творогов отворачивался, закрывался краешком чашки.
Этот тонкий, горячий, в кофейных крапинах краешек закрывал всю убогую, когда-то казавшуюся временной, а теперь ставшую постоянной обстановку маленькой комнаты с засаленными над кроватью обоями, с афишами на скверной бумаге, где синими лысыми буквами отовсюду кричало, словно взывало о помощи: Творогов! Творогов! Творогов!
Как так случилось, что он, молодой и талантливый, явился однажды в Ядринск, презирая его и смеясь, надеясь перебиться в нем временно одну театральную зиму и продолжить движение к другим, столичным театрам, веря в свою звезду, в близкую свою знаменитость, и застрял тут? И временная, случайная должность, временная квартира, временная сожительница стали вдруг постоянными, стали им самим, несут на себе его имя: Творогов! Творогов! Творогов!
— И такие они, знаешь, полные, румяные, довольные. А я себе думаю: ведь могут войти, и твое положение, имя. Нельзя же так, в самом деле…
Творогов морщился, старался не слушать. Неужели все его молодые усилия, сулившие успех дарования, так и канули здесь, поблекли, засалились среди этих обоев, дурацких снов, утренних скоротечных репетиций и вечерних кустарных спектаклей в полупустом театре, никому не известных, тускло и быстро сгоревших в изъеденном мышами зале, где отвратительный, застиранный занавес…
Впрочем, стоп! Вот именно — занавес! В нем-то, в нем-то все дело!
Два дня назад явился в театр бодрый, долговязый, ироничный человек, назвавшись Янпольским. И передал в дар театру от комбината, «где много, поверьте, много настоящих театралов», передал в дар огромный бархатно-алый занавес «для новой вашей премьеры, о которой уже наслышаны, которую ждем с нетерпением, на которую придем, если не прогоните, всей дирекцией». Рабочие с натугой вносили тяжелые, запорошенные снегом огненно-красные свитки, и актеры подходили и ахали, оглаживали огнедышащий бархат.
Все недели занятый с головой репетициями, Творогов тем не менее замечал: что-то вокруг происходит. Какой-то крен, возбуждение. Какие-то разговоры. Какой-то фельетон пролетел. Одни за него, другие, как водится, против. Мелькнули Городков, Голубовский. Бранили комбинат, Пушкарева. Потом все умолкли, пропали. И возник этот крен.
Как-то при встрече с Городковым, топчась на морозе, желая поддержать разговор, он стал ругать сгоряча Пушкарева. Но Городков, к удивлению, не подхватил, уклонился. А потом заметил, что нельзя оставаться в хвосте. Эпоха, совершая великое, иногда принимает угрожающие черты, и нужна прозорливость, чтобы в ней разглядеть величие.
Забежал в музей к Голубовскому взглянуть на коллекцию народных костюмов. Желая угодить, что-то съязвил про космических незваных пришельцев в касках и спецодежде во главе с Пушкаревым. Но старик рассердился. Стал говорить о хлебах, накормивших голодных. О целителях, исцеливших больных. Потом перешел на петровскую реформу, вспомнил о ботике Петра, о дедушке русского флота.
«Сам ты дедушка русского флота», — раздраженно бормотал Творогов. Но чувствовал: что-то случилось. Другие что-то узнали. То, что неизвестно ему. Узнали и стали пользоваться. А он, как всегда, приотстал. Опоздал, проглядел, проворонил. Благодаря своему бескорыстию, неповоротливости, служению искусству. Не будь всего этого, он не угнездился бы здесь навечно. Его имя давно бы блистало в столичных списках. Но он пассивен и вял. Другие его обскакали.
«Ну что ж, зато талант. И пусть в тени, неизвестен. Зато творю, созидаю. Вот и сейчас придумал такое, что вправе сказать: «Ну и сукин сын, Творогов!» И подачками нас не купишь. Как же, сейчас побежали! Спасибочки, тряпочку нам поднесли! Рады служить, стараться! Нет, брат, мы не из тех».
А все-таки что же случилось?
Он видел: рядом с ним происходят события, сотрясающие прежнюю жизнь, Городков получает квартиру, выбирается из халупы. А он опять проморгал. Занавес — от кого и откуда? Как расценить и понять? Что скрыто за занавесом? Намек на кого и на что?
— И вот ты представляешь, — продолжала Любовь Андреевна, разворачивая перед зеркалом тощие завиточки. — Стоят они так, взявшись за руки, такие оба счастливые. И вдруг открываются двери и полно народу. И мне так страшно, страшно! Что же теперь нам всем делать? И проснулась… К чему бы это? К чему бы это? К чему такое приснилось?
— К тому, что бурду завариваешь! Лучше воду пустую хлебать, чем это пойло! — Творогов сердито поднялся, не глядя на оскорбленную Любовь Андреевну, оделся и пошел в театр.
6
Он «запускал» репетицию, «подымал на крыло» утренних, рассеянных, не желавших работать актеров, дымивших, судачивших, в домашних заботах и помыслах, в шуточках, сплетнях, в мелких своих несогласиях. Хитрили, делая серьезные мины, говорили о роли, вступали в прения, но, в сущности, отлынивали, не хотели работать. И он, режиссер, медленно и с усилием сбивал с них нагар и копоть домашних суесловий и мыслей, нацеливал в дело, ждал, пока не блеснет усилие настоящей работы.
— Вы не поверите, всю ночь не спала. Думала, как лучше мне выйти. Молча и прямо на Петра и на Веру, на их целование. Уставиться и клюкой в них: «Ироды, ироды!» Или не глядя, будто их нет, и мое проклятие не им, а всей новой жизни. Я — безумная, злая колдунья, проклинаю их всех: «Ироды! Ироды!» — Гречишкина весело, кокетничая с Твороговым, моргала кукольными чистыми глазками, — Хоть и малая роль, не чета горшенинской, а думаешь о ней дни и ночи!
— Ну, хватит притворства! Сколько можно в ступе воду толочь! Давайте наконец репетировать! — оборвала ее резко Маша. Повернулась к Творогову напряженным, бледным, нервно-красивым лицом, и тот успел разглядеть быстренький, злобный, непрощающий взгляд Гречишкиной, сразу же утонувший в радостных мелких морганиях.
— Конечно! Начинаем! К барьеру! — Творогов хлопнул в ладоши. — С начала четвертого действия!
И снова быстролетно подумал: «Нет, мы пойдем и узнаем, кто там скрылся за занавесом!»
Горшенина репетировала страстно, с наслаждением. Играла, словно не лысый, заляпанный пол, не голые лавки, а сцена, переполненный зал, разноцветное мерцание прожекторов. Любила, надеялась, верила, счастливо-молитвенным голосом выговаривала:
— Конь, а конь, ты чего? Ты добрый конь? Ты к нам с неба заехал? Возьми ты нас, конь, с собой. Возьми ты нас, конь, с собой по небу воду возить!
Но Слепков все время срывался в фальшь, в равнодушие. Подсовывал надоевшие, набившие оскомину жесты и интонации. Творогов останавливал его то и дело:
— Слепков, дорогой, играйте любовь! Ну взгляните вы на нее с любовью! Представьте — она ваша жена, молодая, прелестная, доступная. Можно руки протянуть, обнять. Вы любите, желаете ее. Ну как смотрит человек, когда любит? Ну как смотрел Онегин?.. «Нет, поминутно видеть вас, повсюду следовать за вами… та-та-та-та… смотреть влюбленными глазами!..» Влюбленными, Слепков, влюбленными!.. Взгляните же наконец как следует… Так, начали!
Но Слепков взглядывал по-воловьи, тупо. Выпучивал свои неясные, бог весть на кого и на что глядевшие вчера очи. И Маша не выдержала, шмякнула об пол тетрадку с ролью:
— Нет, невозможно! Я лучше со столбом буду репетировать! Они оба деревянные, но столб честнее. Я не знаю, он актер или полотер. Неужели не чувствуете, что ножом по железу скребет? Ведь это бездарно, Слепков!
— А сама-то, сама-то!.. Тоже мне, звезда поднебесная! — багровея, защищался Слепков.
— Ага, хорошо! Вот это у тебя получается! Злость у тебя получается, а любовь нет! Злыдней ты можешь играть!
— А тебе играть знаешь кого? Тебе с твоим нахальством знаешь кого играть? Кого-нибудь, кто ночью по Захромай от своего мужа с чужими мужиками гуляет. В подворотнях обжимается и думает, что все шито-крыто. А у людей-то глаза тоже есть, тоже кое-что замечают! — задыхался Слепков.
— Стоп! — крикнул Творогов. — Перерыв! Перерыв на пятнадцать минут!.. Маша, ну разве так можно? Он же тебе товарищ. Ну не клеится сегодня. Ну не в ударе. А у тебя тоже не всегда получается. Надо его вдохновить!
— Сальный анекдотик ему рассказать, тогда вдохновится!
— Ну, ну, ну! — погрозил Творогов. Видел, как со злыми, возбужденными лицами шепчутся в углу Слепков и Гречишкина. До него долетело, испугало, на что-то навело мимолетно:
— Да что ты! А я-то думала, чего она ключ у меня попросила? Сестра, говорит, приезжает. Так вот она какая сестра!
— Это знаешь какая сестра? Скажу, да ты не поверишь!
— А ну скажи, скажи!
Они опять зашушукались, и Гречишкина таращила круглые, в радостном ужасе глаза.
Творогов, испугавшись их шепота, на мгновение догадавшись о чем-то и прогнав, как безумство, свою догадку, захлопал громко в ладоши:
— Так!.. Конец перерыва!.. Репетировать!..
Снова играли. Слепков все так же фальшиво. Творогов ему помогал, не обрывал, а нахваливал:
— Так… молодец, лучше!.. Вот теперь хорошо… получается!.. Молодец, Слепков, хорошо!.. Вот теперь замечательно!.. Маша, Слепков, молодцы!
И они вдруг поверили в то, что они молодцы. В то, что у них получается. И вдруг действительно получилось. Негаданно и случайно возникла интонация правды, и в ней растворилась, разрушилась преграда слепоты, глухоты. И они увидали друг друга…
Кончив репетировать, Творогов распустил актеров. Бродил по пустому театру, слыша, как звякает железом невидимый за сценой Файзулин. Сквозь прель и сырость доносился бензиновый запах паяльной лампы.
И опять подозрение и догадка еще неизвестно о чем вернулись к нему вместе с горьким раздражением и обидой: что-то кругом творится, все знают о чем-то, чего он, Творогов, не знает, все начали действовать втайне от него, во благо себе, а он все в неведении:
«Что же они все скрывают? О чем по углам шушукаются?»
Бухнула дверь. Застучали шаги. Вошли Городков и Голубовский, занося с собой холод и снег и мгновенно, проходя мимо раскаленной печки, оттаивая, окутываясь влажной испариной.
— Театралам поклон и привет — энергично кивал Городков, распахивая шубу и плюхаясь в кресло, и Творогов успел разглядеть его новый костюм, красный, в полоску, галстук, смелый и модный. «А ведь раньше таких не носил!» — Мы на ходу, на минутку… Горшенина нет?
— Ищу его целый день. — Голубовский снимал свою бархатную боярскую шапку. — Он не здесь, не в театре?
— Не слежу, не слежу. Делом занят! — раздраженно сказал Творогов. — Файзулина пригласил. Того и гляди театр спалит. Ну просто горе!
— А Маша как? — осторожно спросил Городков, и Творогов почувствовал эту осторожную вкрадчивость, за которой таилось ускользающее и двусмысленное.
— А что Маша?
— Ну вообще… Как себя чувствует?
— А как она должна себя чувствовать?
— Ну как репетирует, и вообще… Я просто так, к слову, спросил…
— Ну ты ведь знаешь, ей нелегко, — туманно, с сочувствием сказал Творогов. — Все говорят, ты же знаешь…
— Что говорят? — переспросил Городков.
— Ну ты сам, наверное, знаешь… Ну про ее ночные прогулки, про Захромы… Что сама и ключ попросила… И их видели, как в подворотнях… Ну что я буду тебе говорить?.. Ты ведь и сам все знаешь!
— Да, да, — закивал Городков. — Видите, всем уже все известно. И не только на стройке, но и в городе. Я-то думал, только на стройке.
— А я, наоборот, думал, что в городе…
— То-то и оно, что везде. На стройке их видели вместе, он в машине ее привозил, подымал на градирню… Потом на Иртыше… И в кремле… А сюда он к ней не приходит? В театр к ней не приходит?
— Кто? — спросил Творогов.
— Да он, Пушкарев.
— Пушкарев?! За ней?! — обомлел Творогов от мгновенной открывшейся ясности, ужаснувшись открытию, но в восторге от своей тонкой игры. — Знаешь, нет, не приходит… Я все боюсь, что придет!.. Нельзя же так, прямо на людях! В конце концов, Алексей тут бывает… Есть какие-то нормы, приличия!.. Вот это да! Вот оно как обернулось!.. Нет, пока не приходит.
— Да что вы, братцы? На что вы все намекаете? — Голубовский сердито крутил своей гривой. — Вы что, с ума посходили?
— А вы что, разве не слышали? — Творогов засмеялся трескуче. — Ничего не замечаете за своими делами? Надо иногда и оглядываться! Надо знать, что в мире-то делается, Егор Данилыч!
— Вы хотите сказать… — гневно насупился Голубовский. — Хотите сказать, что Маша… Что Маша и Пушкарев… Что Алеша… Вы хотите эту гнусную сплетню?
— Да это не сплетня, Егор Данилыч, — посмеивался Творогов. — У всех на виду! Сначала я пресекал. Бессилен, Егор Данилыч, бессилен! Думаете, мне приятно? Моя актриса, прекрасные знакомые, Алеша — друг наш общий! И вот тебе раз! Хотел посоветоваться: как быть? С ней поговорить? С Алешей? Может, пойти к Пушкареву? Так и так, кончайте эти шашни! Кончайте этот разврат! Женщину позорите! Весь город!.. Может, к нему, а?
— Ну нет, нельзя, — поспешно сказал Городков. — Дело интимное, личное… Как мы можем? Нельзя!
— Тебе нельзя, я понимаю, Пушкарев-то теперь твой начальник. Твой благодетель! Слышали, слышали! Жизнеописание начал? Житие? А об этом эпизодике умолчишь? Нет? Ну посмотрим, посмотрим!
— Да это все ложь, вранье! — гремел Голубовский. — Гнусная сплетня! К Маше пойду и спрошу… Прямо спрошу!
— Как же, она вам ответит! — ехидничал Творогов. — Как папаше родному! Как батюшке! Так и так, Егор Данилыч, каюсь, грешна! Вот он, ключик-то. Хожу, хожу в Захромы! Соблазнил меня лихой человек!.. Думаете так? Да она вам, как дикая кошка, глаза повыцарапает! Чуть кто намекнет, она, как кошка, кидается!
— Может, Алеше сказать? — предложил Городков. — Всем вместе пойти и открыть глаза? Нельзя же так, мы друзья…
— Нет, нет, лучше молчать, молчать. Время покажет, — сказал Голубовский.
И, напялив свою боярскую, с бархатным верхом шапку, суетясь, цепляясь за углы, по-стариковски торопливо вышел. Вслед за ним исчез Городков. Творогов заходил и заохал:
«Ну дела, ну дела! Вот оно что, оказывается! Вот что плетется!.. А ловко я их подвел! Ловко я их обнаружил!.. Ай да Творогов, ай да сукин сын!.. Думали от меня утаить! Да я же актер, актер! Я же насквозь их вижу!»
Ходил по пустому театру, слыша, как шипит паяльной лампой Файзулин.
«Сожжет, ей-богу, сожжет, — рассеянно думал Творогов. Коснулся плечом линялого занавеса. Словно обжегся, заострился мыслью: — Ах, так вот я о чем! О подачке! Ведь это Маше гостинчик! Оскорбительно! Есть иные каналы и формы. Бюджет отдела культуры. А здесь — на тебе! Спасибочки, вот спасибочки! Нет уж, пойду объяснюсь! Объяснюсь резко и твердо! Пусть забирает назад. Сейчас и поеду! Файзулина с собой захвачу!..»
Решительный, восхищенный собой, он пришел к Файзулину, лежавшему навзничь под трактором.
— Мне нужна твоя помощь! Немедленно! Едем!
— Ага, я сейчас, — послушно, не спрашивая, согласился Файзулин.
— Только руки отмой, ради бога. И на лбу пятно масла.
— Ага, ага, — улыбался виновато Файзулин, оттирая ветошью лапы.
7
Взвинчивая, себя накаляя, не давая остыть, Творогов явился в дирекцию, потребовал Янпольского.
— Заместителя генерального нет. А вам, собственно, что? — черненькая курчавая секретарша оглядывала его с любопытством.
— Мне, собственно, все! — гневно, разжигаясь от ее наглого тона, выдохнул Творогов.
— Если что-нибудь срочное, генеральный у себя, — кивнула секретарша на дверь.
— Вот его-то мне и надо! Он-то мне и ответит! Файзулин, пойдем! — И, нахохлившись, выставив презрительно губы, выкатив грудь колесом, он прошел сквозь двойные, обитые кожей двери. И пока проходил — вылуплялся из самого себя, выпутывался из рукавов, из гневного плотно сшитого лица, из всей своей горделивого покроя осанки. И уже притихший, робко перенес через порог ногу, пошел по ковровому ворсу.
Пушкарев, сидящий над бумагами в глубине кабинета, не сразу поднял голову. Секунду писал. Мимолетно взглянул. Еще раз. Что-то дрогнуло, веселое и незлое, в его серых глазах. Быстро встал. Зашагал навстречу:
— Очень рад! Проходите!
За обе руки усадил Творогова в глубокое шершавое кресло. Сжал Файзулину черную лапищу своей белой сухой рукой. Уселся напротив, не на прежнее место, а через маленький полированный столик. Литая хрустальная пепельница. Заморская пачка с верблюдом. Творогов, не глядя в его близкую, радушную, белозубую улыбку, начал торопиться, сбиваться:
— Мы вот пришли… Простите… Минуту одну… Оторвали… Понимаю, дела, дела… Но очень хотелось от всего театра, от всего коллектива и от себя лично… Ваш дар, знак внимания, и мы, со своей стороны, в знак признательности… Как вы, несмотря на огромную занятость, и все же не упустили из виду… И очень, и очень кстати. Прекрасный, изумительный бархат!
— Что, действительно кстати? А мы посовещались, решили: преподнесем родному театру. Рад, что угодили!
— Да, да, — продолжал мучительно мямлить Творогов, с ужасом глядя на заморского, явившегося в Ядринске верблюда. — Нам, конечно, далеко до столицы. Силы наши не те. Вдалеке от центров… Реквизит обносился… Труппа так себе, плохонькая… большая текучесть… Конечно, вы знакомы с другой сценой, с другой режиссурой. Нам, знаете, но хватает культуры.
— Ну что вы, отличный театр! Я несколько раз бывал и каждый раз получал удовольствие. И именно от режиссуры. «Даурия», например. Смелая, очень современная постановка, а, казалось бы, материал архаический. Или «Иркутская история»… Я даже хотел после спектакля пойти поблагодарить вас. Да как-то не решился.
— Правда? — встрепенулся Творогов. — Понравилось? «Даурия» в самом дело неплохо поставлена. Пьеса-старинушка, и пришлось, как говорится, реанимировать. Новая кровь, дыхание. Жаль, что не пришли за кулисы. — Он вновь почувствовал себя волевым и напористым. Уселся поудобнее в кресле, благодарно, с симпатией взглянул на Пушкарева, на его лицо, показавшееся вдруг милым, моложавым, почти мальчишеским. — Вы позволите? — он потянулся к сигаретам. Закурил от вспыхнувшего газового язычка пушкаревской зажигалки. — Файзулин, курите! — свободным, красивым жестом пригласил Файзулина. — А труппа у нас в самом деле прелюбопытная. Есть просто таланты. Горшенину, например, не заметили?
— Кажется, да, заметил. Отличная, труппа…
Творогову стало вдруг хорошо, уютно в этом большой, блистающем новизной кабинете, где поминутно решаются важнейшие, ответственные дела. А теперь из его, твороговских рук льется сладкий дымок, он не спешит говорить. «Ну и что ж, что занятой. Что ж, что генеральный. Что ж, что без пяти минут министр. Значит, считает нужным. Мы ведь тоже не просто, а люди искусства. Не со всяким, знаете ли, станем…»
Он вспомнил утренний скверный кофе, тощие ноги Любови Андреевны. Прогнал наваждение.
— Я искал встречи с вами. Но вы опередили меня, — произнес Пушкарев. — В городе любят театр. Ядринск на редкость театральный город. Все говорят о премьере. Ведь вы готовите новый спектакль? Все его ждут с нетерпением. И вот в связи с этим у меня возникла… не идея, а… как бы лучше выразиться… Предложение!.. Весна на носу, а с ней — навигация. Очень трудный, решающий для комбината момент. Грузы пойдут лавиной. Их надо брать прямо с причалов, сразу монтировать. А зима, вы знаете, была непростая. Я замечаю, люди устали. И вот я подумал… А что, если вашу премьеру провести не в театре, очень славном, очень милом, но все-таки, согласитесь, крохотном, камерном, а прямо на стройплощадках? А? Как вы на это смотрите?
— Что вы имеете в виду? — насторожился Творогов, почувствовав в пушкаревских словах грозное, сладостное приближение своей долгожданной минуты. — Как вас понять?
— Очень просто. Вы проводите свой первый спектакль под открытым небом, среди рабочих, среди механизмов, ну, знаете, как на фронте! Вдохновляете людей и сами, разумеется, вдохновляетесь, играя на переднем крае борьбы и работы. Мы вам сколотим открытую сцену. Поставим микрофоны, динамики — чтоб на всю тайгу! Хотите, пригоним прожекторы. Выстроим рядами грузовики, и люди сверху, из кузовов, будут смотреть. По-моему, это эффектно! Будет сенсация! На весь Союз! Можно ее подготовить. Вызовем из Москвы журналистов. Дадут репортажи, рецензии. Крупнейший комбинат и рабочий театр! А? Как вы считаете?
— Надо подумать. Надо подумать, — отвечал Творогов, а сам уже ухватился за нежданную, возникшую чудом возможность. Знал уже твердо: вот случай, которого дожидался годами, в который и верить уже перестал. Томился в безвестности, чах, задыхался. И теперь возникло: сенсация, из Москвы журналисты, репортажи, рецензии, комбинат и рабочий театр. — Надо подумать. Надо подумать…
Зависть — ненавидел себя за нее, чувствуя, как точит его, выедает. Глухота, безымянность — они глушили талант, живое чувство и мысль. Театральная бедность в латаном-перелатаном здании, с затасканными костюмами, ничтожными сборами, скороспелыми спектаклями. Его собственная, домашняя бедность — ненавистный ячменный кофе, Любовь Андреевна, опостылевшая комнатушка.
Все это кончается, исчезает бесследно, сейчас, сию минуту, в этом кабинете, и надо бить на лету.
— Заманчивое предложение, не скрою. И знаете, так уж мы устроены, режиссеры, сразу начинает вертеться, вытанцовываться кое-что… Конечно, вы правы в одном, искусство должно идти к массам, облучать их. В этом вы совершенно правы!
— Разумеется, я далек от искусства, далек от театра. Что поделать, уж такая работа. Но иногда, выезжая на стройплощадки, поражаюсь: как это все театрально — движение механизмов, вспышки огня, музыка двигателей, явление людей, — какое-то действо! Помню трубный завод в Челябинске. Действо огненное и стальное. Рождение труб, огромных, как киты, среди пара, горящего газа, режущих инструментов, колокольного боя!.. Или рождение грузовиков! Все это тоже театр. Может, я ошибаюсь? Может, мне интересно это как инженеру?
— Да нет, не вам, не только… — бурно вмешался Файзулин. — Я вон ему толкую. Выкати, говорю, на сцену машину. И ремонтируй! Интересно! Капот открывай, меняй карбюратор, включай, заводи! Во как смотрится! В зале-то все шоферы!
Творогов замахал на него руками. Однако Пушкарев, посмеиваясь, но и серьезно закивав, подхватил:
— Ведь это ваша скульптура тогда взорвалась так эффектно? Ну на том диспуте нашем, на комическом? Я с удовольствием вспоминаю. Где же я видел такое? Ах, да, в Роттердаме! Бело-стальная, отшлифованная, горящая, как солнце, плита вращается над толпой среди блеска машин, стекла. Фантастическая вертушка!
— Как карусель! — радостно скалился Файзулин.
— Например, наш новый проспект. Назовем его проспектом Техники. Возьмите и сделайте для него скульптуры. Не из гипса же ставить! Ну, скажем, техника, которая строила город. Поднимите на постамент экскаватор со сточенным о мерзлоту ковшом. На другой — КрАЗ с вмятинами от булыжников. На третий — вертолет, обломавший винт о ледяное небо. Разве не памятники нашим трудам и радениям? После войны на постаменты подняли танки, самолеты и пушки. А после наших трудов, таких же огромных, как битвы, мы поднимем наши машины. Займитесь, мы оформим заказ!
— Возьмусь, а что? Ей-богу, возмусь! Это по мне! Мое!..
— А к вам у меня будет еще один разговор, особый, — мягко отворачиваясь от Файзулина, обратился Пушкарев к Творогову. — У нас есть молодой архитектор, одареннейший парень, Елагин. Он показал мне проект театра, свой, собственный, очень, на мой взгляд, оригинальный. Я мало что в этом понимаю, но, по-моему, необычно. Переменный объем зала, выдвижная сцена, какая-то кибернетика, я бы сказал. Давайте-ка вместе соберемся, посмотрим проект, обсудим. Если общий язык найдете, то утвердим да и построим. Старый резной теремок сохраним там, под горой, а здесь, в новом городе, — основная, новая сцена. Как вы на это смотрите?
Творогов покидал кабинет опьяненный, боясь чрезмерно высказывать радость.
В коридоре наскочил на него Городков:
— Ну где были? У генерального? Ну и как впечатление?
— Здравомыслящий, весьма здравомыслящий человек, — кивал Творогов.
— Мужик головастый, — поддакнул Файзулин.
— Головастый! — усмехнулся Городков. — Да такие головы в Ядринск раз в сто лет заглядывают… Я вот что… У меня на квартиру ордер. Вот он. И вас всех приглашаю. Ну не новоселье, еще в голых стенах, а так, освятить, переселить домового. Горшениных позову, Голубовского. Приходите… А насчет головы, эта голова золотая, да, золотая…
И убежал, размахивая ордером. А Творогов подумал: «Ну что ж, справедливо. Резать пирог, так уж поровну. Ай да сукин сын, Творогов!..»
8
Маша увидела Пушкарева еще далеко, на углу. Заметила его нетерпение, его взгляды, летающие вдоль улицы. Углядел ее, встрепенулся. И она заспешила, глядя под ноги, чуть усмехаясь. Так, не глядя, попала в его объятия. На мгновение прижалась легонько, чтоб его не обидеть, отстранилась.
— Нельзя… Иду, а сама оглядываюсь. Будто кто следит. Будто в каждой подворотне глазища.
— Да мало ли куда ты идешь? Кому интересно…
— Старушечкам из окошек. Подружечкам из-за угла. Думаешь, мы одни? Незаметны? У всего города на виду…
— И пускай. Иди сюда. Не бойся. Кто нам что скажет?
— Найдут, что сказать. Нет, не нужно! Еще светло. Хоть бы ночь, дело другое. Да и то, у старушек глаза кошачьи. Вот если б шапку-невидимку надеть…
Сказала. И радостно испугалась. По желанию надвинулся край потемнелой тучи. Пахнуло из отяжелевшей, провисшей, развязавшейся над головой наволоки, посыпало, помело. Наполнило улицу плотной, сеющей, живой белизной. Скрыло дома, тротуары. Пальто его стало рябым. Воротник в белых метинах. На брови, на лоб налипало пушисто. Он хмурился, тряс головой, отдувал от губ. Хотел ее разглядеть, ловил ее в поднявшейся, по улице летящей пурге.
— Хорошо! Сильнее! Чтоб старушкам очи засыпало! И не холодно! Весна…
Подняла лицо к пятнистой, опадавшей прохладе. Принимала ее на губы, на щеки, на раскрытые, моргающие от прикосновений глаза. И чудились, вместе с запахом холодных небес, чуть слышные, бог весть от каких морей, ароматы земли, травы, готовые обернуться горячим светом и зеленью, истошным криком летящих стай.
«Весна… Не успели оглянуться… Алеша… Ключ в рукавице… От всех занавеситься… Сильнее, сильнее мети!..»
Он обнимал ее в снегопаде, смеялся близко сквозь снег. А потом начинало дуть, подхватывало их под руки, толкало в спины. Гнало и крутило по улицам в непроглядной метели, натыкая на углы, на ворота, на ржавые скобы и кольца.
— Куда мы? Так и в поле унесет, и за реку. Где мы?..
На секунду распадалась завеса, и возникало: кирпичная старинная церковь; понурая лошадь, несущая на остывшей спине целый сугроб; белоусое яркоглазое лицо старика, ломавшего хлеб, — жевал его вместе с усами и снегом. Ей вдруг показалось, что на площади увидела мужа, пробиравшегося под вывесками сквозь пургу, и больно дрогнуло сердце, не страхом, а виною и жалостью. Но все унесло и засыпало. То вдруг померещилось, что в буране злобно и весело блеснули глаза Слепкова. Но не было времени разглядеть: он или просто двойник.
— А это мы где же? В Мангазее? — Пушкарев схватился за рубленый стояк коновязи. — Что за воинство в снегопаде?
— Да нет, это просто рынок. Торгуют свежевыпавшим снегом…
Вдоль прилавков, неподвижно и важно, убеленные, в наплечьях и шлемах, стояли старухи. Перед ними, засыпанные, лежали уснувшие лисы. Желтели и серебрились хвостами. Казалось, старух слепили и сваляли из комьев, вставили глаза-угольки, натерли бурачные щеки.
— Чем они тут торгуют? Мать, чем торгуешь? — спросил у одной Пушкарев, разглядывая белый пустой прилавок.
Старуха шевельнулась. Выставила из шубы руки. Погрузила их в снег прилавка. Что-то нащупала. Всплеснула и дернула. И в распавшемся снеге огненно раскрылся платок, черно-алый, золотой, огромный, в листьях, цветах. Сверху на него падали хлопья, и казалось: коснувшись платка, превращаются в красные розы.
— Господи, красота-то какая! Говорила, весна!
— Вот и надень.
— Ну что ты!
— Я хочу. Сейчас повяжи!
Он взял с прилавка платок, встряхнул. Накинул ей на голову и на плечи, завязал широким узлом.
— Как боярышня! Как княжна! — любовался он восхищенно.
— Как княжна, — важно кивала старуха.
Он заплатил. Повел ее в снегопаде. Маша видела, как трепещет у глаз огненно-черный, с золотым край. Чувствовала на себе восхищенные, счастливые взгляды. Думала: «Все чудесно. Все в новом свете. Все по эту сторону снега. По эту сторону жизни. На плечах дареный платок…»
9
Сумерки. Ключ на ладони. Замок как железное яблоко. Упало с железной ветки. Снег, снег… Тьма занавешенных окон. Светится уголь в печи. Их руки столкнулись в потемках, нащупали медную лампу. Вспыхнула спичка. Пламя на медной ноге. Снег, смех…
Скинула мокрый платок. Темная россыпь капель. На полу гребешок. Пуговка оторвалась, полетела. Смех, смех… Пушкарев поднял Машу, понес. Посыпались звонкие шпильки. Плечо его золотое. Близкий блещущий глаз. Смех, смерть…
Лампа пылала и жгла. Туманилась, разгоралась. Острое жало огня. Смерть, смерть…
Лампа поднялась в небеса, оставляя заоблачный след далекой минувшей зимы с криком ночных петухов, с красной колодой карт. И кто там глядит за окном? Смерть, снег…
С высоты, от огня, в пламени огненных крыл, с раскаленным лицом, с закрытыми, серебром натертыми веками, ринулся в клекоте, в счастье. Целовал, умирал, исчезал, оставляя за крыльями шесть гаснущих тонких полосок. Скрылось. Темнота по углам. Пламя с синей каемкой. Снег, снег…
Сбоку, искоса она смотрела на его неподвижную голову. Одна, близкая к ней, сторона была в тени. Другая — в озарении. Грань темноты и света проходила по тонкому носу, сухим, остро сжатым губам, твердому, чуть поднятому подбородку, разливалась по дышащей груди. Маша вглядывалась в прямое, высокое движение лба, в плотно закрытое серебристое веко.
— Спишь? — спросила она.
— Нет, — сказал он, помедлив. Веко его дрогнуло, но не открылось.
— Чувствуешь, как смотрю на тебя?
— С одной стороны смотришь ты, а с другой — лампа.
— Вон, гляди, твой дареный платок на полу.
— А снег все сыплет, не знаешь?
— Я вот думаю: мы уже месяц с тобой. Встречаемся, разлетаемся. Все утайками, урывками. И разглядеть-то тебя не успела. Да и ты меня. А уж кто мы такие, ты, я? Откуда да что? Это и подавно по знаем.
— Ты — княжна. Старуха мне подтвердила.
— А что ты думаешь, и княжна! Мама свой род ведет из Петербурга. Прадед был ссыльный. А до этого служил в Петербурге, даже шпагу носил. А сюда приехал, шпагу забросил, женился на мещаночке. Стал траву косить. У нас шкатулочка от него сохранилась. Дорогой, столичной работы.
— Я и говорю: княжна! А в шкатулочке бумаги с гербами. На владение Сибирью. А я твой смиренный холопишка.
— Ну уж холопишка! Больно смел!.. Нет, правда, ты-то какого рода и звания? Ничего о тебе не знаю…
— Мы — москвичи. В Москве рождаемся, а умираем, кому где придется. Слава богу, Россия просторна. Прадед был фантазер известный. Он был химик, но ему химии оказалось мало. Все носился с проектом Города-Башни, утопического идеального города, где бы люди жили в братстве и святости. Был знаком с Менделеевым, Циолковским. В нашем семейном архиве есть письма к нему Циолковского с эскизом ракеты. Один мой дед — инженер, пускал первую в России паровую турбину. Другой — астроном. Отец был историк. Изучал историю освоения Россией Сибири, Дальнего Востока, Аляски. Сделал несколько блестящих прогнозов. Нашлись головы и в науке и в политике, которые их подхватили. Вот такие мои дедки-прадедки. А я их внучек-правнучек. Тянусь в ту же сторону. Теперь ты знаешь, откуда взялся? — замолчал улыбаясь.
Ей казалось, она входит в его московский пустующий дом. Тревожась, боясь, шла по мягкому ковру кабинета, погружая в ворс босые ступни. Лампа отразилась в потрете за черной и золотой рамой. Грозно-веселый старик, его прадед, осматривал её пушкаревским зрачком, и она ослепила его, подняв высоко лампу. Другое лицо, отца, моложаво повторяло постаревшие сыновние черты. Рядом — карта, розовато-коричневая с голубым.
За стеклами полок тускло желтели медный микроскоп, телескоп — пушкаревское родовое оружие, которым целились в яблочко жизни. На полках туманились книги.
Вздрогнула от внезапного телефонного звонка, выкликавшего хозяина тоскливо и безнадежно. Дала ему умолкнуть. На столе, разбросанные, лежали конверты, надписанные просторным, добродетельным женским почерком. И был соблазн раскрыть, прочитать. Удержалась, сложила в стопку.
Поставила на радиолу пластинку, забытую в пестром чехле. Слушала нежные вздохи меди, звяки ударника, шелест клавиш. Танцевала посреди кабинета. Думала: вот что он любит слушать.
Открыла наугад толстую книгу. Наткнулась на английскую речь. Огорченная, отложила.
Сидела на кушетке, глядя на миганье огней за шторой, вдыхала запах его жилья, стараясь его запомнить. На прощание пальцем на пыльной раме вывела «Маша». Захватив лампу, упорхнула.
Опять была рядом с ним.
— Я хотела тебя спросить… Ты был женат? Кто эта женщина?
— Какая?
— Я хотела сказать… Ну та, с кем ты был прежде. Ведь в Ядринске ты один.
Почувствовала, как неслышно, мускулами лица и груди, окаменел, замер, отделился от нее, укрывшись возникшим видением. И не ревностью, а влечением, желанием разгадать и понять потянулась к нему мерцающими глазами, на близкую складочку у стиснутых губ. Как видела эту морщинку другая? Такой же глубокой и резкой? Или складочка была тогда мельче?
— Нет, я не был женат, хотя и не пойму почему. Я об этом ее просил, да, наверное, не теми словами. В том, что нас связывало, было много глубины и силы и одновременно какой-то поначалу тончайший и даже, как нам казалось, прекрасный надлом, который она совершила то ли из чувства игры, то ли из иного, мне неведомого, непонятного опыта. Она была богаче меня душой, желаниями, чувством. Знаю, что любила меня. И одновременно каждый раз как бы играла в меня и в себя, причиняя этим страдание. Видно, такой уж склад. Так возникла постоянная, почти необходимая боль, которой она разукрасила наши отношения. Так повелись утонченные обиды, которые мы, любя, наносили друг другу. Это длилось несколько лет, пока она училась. Я начал ездить — то один завод, то другой. Каждый раз увозил с собой маленькую гибель наших объяснений и ссор. И странное дело: облучая больные, отмирающие участки души то каракумским солнцем, то норильской стужей, чувствуя, как становлюсь все меньше, суше и жестче, испытывал освобождение. Сколько их было, этих крохотных ампутаций! Она вдруг что-то почувствовала, испугалась — за меня, за себя. Стала проще, искренней, — никакой игры, а одна только женственность, доброта, ожидание семьи, материнства. Но боль, которую она придумала прежде и теперь меня в ней упрекала, эта боль была необходима, стала частью моей к ней любви. И я сам, уж не знаю, как это у меня получилось, сам превращал наши встречи, наши прогулки в ночи в череду небольших непрерывных взрывов. Поворот машинки — взрыв — и на воздух взлетают ее милые, любимые губы, которые только что целовал, и подмосковная золотая роща с отражением усадьбы в синем пруду, и белый карниз Манежа, и ее занавеска в окне, сырая от близости гудящего во тьме водостока. Все это тянулось и длилось, рассекаемое движением самолетов, и однажды, вернувшись, я узнал, что она вышла замуж, без любви, как она говорила, а просто, чтобы окончить наше общее помешательство: ведь должен же быть конец. Но это не имело конца, а все продолжалось. То в письмах, то в нежданных ее появлениях, во время которых мне казалось, что я люблю ее сильно, как прежде. У них родился сын, а потом и дочь. Она ввела меня в дом и тут же призналась мужу. Просила меня простить, говорила, что это конец, я и соглашался с облегчением, с накопившейся за годы усталостью, провожая ее тихо вдоль Яузы, отпуская на горбатом мосту. Но и после все длилось, затухая, не желая погаснуть, — столько было в нас живых, горячих веществ от юности, от радости, от надежды на небывалую, счастливую участь. Пока наконец я не уехал сюда, в Ядринск, и возникла совсем другая, рождавшаяся исподволь тема. А она? О ней вспоминать не время. Быть может, когда-нибудь в старости встретимся, умудренные долгой жизнью, близкой смертью, и спокойно, одним умом, свободным от чувства рассудком попробуем все объяснить. Но это потом…
Его темная половина лица. Кромка света на лбу и губах. Маша с благодарностью, успокоенная, не мешала ему молчать. Еще один ломтик его прошлого, ей не принадлежавшей судьбы был выхвачен и внесен в ее жизнь. Усмехнулась: по кусочкам, по крохам собирает она свое царство — свое знание о нем. Там речка, там кустик, там холм — и еще одно княжество наше.
— Какое княжество? — спросил он негромко.
— Разве я что-то сказала?
— Мне показалось, прости…
Лампа колыхала шаткую чашу света. Капли лились через край, брызгали ему на грудь. Она, наклонившись, прижималась к этим каплям губами.
— А друзья? Кто твои друзья? — она нацелилась на следующий белый, не зарисованный ею кусочек, желая открыть еще один остров и дать ему свое имя. — Ведь здесь у тебя нет друзей. Ну а там, в Москве? Кто там тебя окружал?
— Друзья? Я скажу… — В ответе ей почудилась горечь, и удивление, и обращенная к ней благодарность за эти вопросы, выведывания. — Уж как-то так получалось… Не раз и не два, а, пожалуй, с самого детства… Появлялся друг и мое к нему обожание, преклонение, готовность любить и верить, жертвовать собой и служить. Такое чувство, что он выше и лучше меня. Знает нечто, мне неизвестное. Но потом, постепенно, в самых недрах дружбы и общности возникали силы расталкивания. Слабый толчок и сдвиг, расшатывающий единение. Один, другой, третий. И дружба вдруг рассыпалась, обломки падали мне на голову, и я, потрясенный, застигнутый врасплох, выползал из-под развалин, ободранный, без одежд, уходил с горьким знанием и опытом своего одиночества. И так каждый раз, каждый раз. Отчего? То ли строил в сейсмоопасной зоне. То ли в здании не хватало каких-то важных, сверхпрочных конструкций. Не знаю. Но все мои дружбы, самые яркие и глубокие, подчинялись этой модели. Как с Коленькой Туркиным, с самого детства. Одна и та же модель…
— Расскажи про Коленьку Туркина…
— Мы вместе учились. Он был паренек умный и смелый. Раз попался мне на глаза и сразу влюбил в себя. Их дом был полон. Старший брат и отец, охотники и рыболовы, приветливая энергичная мать. Счастливая, живая семья, так не похожая на мой тихий, траурный дом. Наши игры, в которых всегда он был впереди…
Она держала его горячую руку. Его губы утратили жесткость и улыбались. Она повторяла его улыбку. Видела: два подростка сидят на полу и стеклышками шлифуют струганые мачты и реи, и потом их корабль, толкаемый ветром, летит через пруд, черпая парусом воду. Закутались в шали, нахлобучили старые шляпы, оседлали стулья, с грохотом скачут, пронзая пиками коврик, и чашка брызнула на пол осколками. Накануне охоты, расставив картонные гильзы, взвешивают дробь, блестящие черные зерна, крупчатый серый порох, вгоняют латунный капсюль, и бессонная от волнения ночь перед выездом, и утренний синий снег за окном электрички, откос с промелькнувшим заячьим следом.
— Я любил его, люблю и по сей день. Своими охотами, ночлегами в избах он мне открыл в первый раз за чертой московских вокзалов деревенскую лубяную Россию, ту, где жили волоколамские, еще нестарые вдовы, и уже порастали лесом солдатские могилы, и краснел кирпичом разрушенный столб колокольни, и в пустых озаренных проселках с первым ледком, замерзшей рябиновой веткой вдруг, невидимая, звучала гармошка, — вот за что я ему благодарен. Вот чем он меня наградил…
Она видела его, одиноко стоящего на весенней заре перед гаснущей темной березой. Сладко пахнет сухая стерня. По опушке текут ароматы воды, земли, нерастаявшего мокрого снега. Голосистая птаха сидит на вершине, и грудка ее, напрягаясь от пения, розовеет. И он, в восхищении, забыв на плече ружье, один, в предчувствии летящего к нему, безымянного. Так и запомнил себя: поднятые в небо глаза, струящаяся крона березы, на вершине малая красногрудая птица.
— Помню одну из зим. Наша дружба становилась серьезней и глубже. Читали одни и те же книги, передавая друг другу. На рисунках наших были одни и те же машины невиданных, нами изобретенных конструкций, к созданию которых готовились приступить. Тогда впервые я тронул библиотеку отца, и мы начинали блуждать по старой дедовской карте от Петербурга к Камчатке и Командорам. Наши головы наполнялись новыми жаркими мыслями, а тела — молодыми острыми соками. Любили ездить в деревню под Лобней. Деревенские девчонки, визгливые, смешливые, ждали нас с нетерпением. К ночи мы сходились на гору, блестевшую от лунного морозного снега. Катались на санках. Падали, боролись в сугробах, как волчата под мартовской полной луной. Как мы их только не мучили! Забрасывали снежками, опрокидывали в наст, дергали, тормошили, они отбивались до злобы, до крика, до слез. Убегали от нас, заплаканные. И тут же вновь возвращались на гору, к нам, к луне, к нашим игрищам. Как-то я не смог поехать в деревню. То ли сам заболел, то ли мама хворала. Он уехал один. Мы встретились снова и брели, как обычно, с портфелями среди талых ручьев, на которых трамвай раздувал водяные усы. Я спросил про луну, про гору, про подружку, которой отдавал предпочтение, ее козьим глазам и скачкам, ее стоптанным валенкам; рука, ледяная от снега, вдруг неверным, случайным движением касалась живой теплоты шеи, запястья, колена. Я спросил: как она? И услышал — уже не помню, в каких словах, но в других, не из нашей с ним речи, — что они были вместе, и это у них случилось, и то, что случилось, было отлично. Помню, вдруг на апрельской солнечной улице мне стало темно и тускло. И такая боль, одиночество, чувство потери. Мы вдруг оказались по разные стороны огромного, нас разделившего знания. Оно разводило нас прочь из нашего отрочества, из нашей дружбы. Он, измененный, наделенный познанием, уходил от меня, а я, беспомощный, жалкий, наблюдал за его удалением. Так кончилась наша дружба, моя первая дружба. Последующие были иными, но чем-то похожи на эту…
— Знаешь, что я в тебе углядела? И тогда, когда лося убили и я мчалась в твоей машине. И после, когда розы принес и гуляли по городу. И на твоей каменной башне… Знаешь, что в тебе углядела?
— Что ты во мне углядела?
— Ты ведь взведен, как оружие. Заряжен какой-то строящей и одновременно разящей энергией. Нацелен во все стороны сразу.
— Ну просто пулемет, да и только!
— Вот именно! Явился сюда, застрочил, загрохотал среди нашей тишины, вороньих скрипов, мышиных шелестов. Всех разбудил, растревожил. Одни побежали на твое голошенье, другие кинулись прочь. До сих пор у нас не поймут, что ты принес в Ядринск. Беду или радость?
— Ну а ты как думаешь?
— Ты мне скажи: возможен, ну не бог, не святой, не ангел, возможен иной среди нас человек? Иное создание — не жалкий, не угрюмый, не робкий, без страхов и зависти, без тайных постыдных умыслов, отдохнувший от огромной, заложенной в нас усталости после всех потрясений. Чтобы свет, ликование, бесстрашное приятие жизни. Возможно уже теперь преображение человека? Я все ищу такого. Я бы сыграла его на сцене. Да нет пока такой роли. Но ведь если нет, надо выдумывать!
— И будет еще одна выдумка. Может быть, из трудов земляных и железных, из грозных предзнаменований о будущем возникнет такой человек? Я верю. Но только в великих трудах, великих чаяниях. Что мы ищем антеннами в небесах? За кем гоняемся в самолетах? Кого высвечиваем под землей? Да все его, человека. И вдруг нежданно найдем — в самом пекле, в огне. Мы построим такой мартен, с такой температурой плавления, чтобы весь шлак истории, весь металлолом распустился в чистейшую сталь. Может, из нее, из сияющих сплавов будет отлит человек? Новый, как ты говоришь.
— Ты чем-то похож на Алешу, на мужа. Разные совершенно, но все-таки чем-то похожи.
— В самом деле?
— Глядите в разные стороны. Если встретитесь, не поймете друг друга. Пожалуй, поссоритесь, разругаетесь. Но все-таки очень похожи. Нет одного без другого.
— Очень приятно слышать. Про мужа очень приятно.
— Ну прости, что я это сказала. Это так… Это только мое, прости… Мне так нравится с тобой говорить. Угадывать тебя. Открывать тебя понемногу. Ну ты продолжай, рассказывай. Ну, значит, стал ездить. Поехал в Казахстан. А какой он? Я ведь нигде не была. Какой он для тебя, Казахстан?
— Казахстан… Там я строил заводы, группу заводов. Мой первый строительный опыт… Ты слушаешь?
— Да, говори…
Она касалась его руки, невесомо, чуть дрожащими пальцами. И рука от ее касаний начинала светиться. Тронула лоб, повела по виску, подбородку, скользнула на грудь, выводя на ней слабый узор. С пальцев ее слетали бесшумные силы. И он в полутьме терял свой вес, уплывал от нее, лежал на воздухе. Угасал. Возвращался.
— Мне кажется, все эти дни кто-то смотрит за мной, наблюдает. Сквозь заборы, сквозь стены. Из неба, из снега. Будто чьи-то глаза на мне. Внимательно следят, терпеливо ждут: чем все это кончится? Во что обернется мой грех и вина и какая за это кара? Вот и сейчас кто-то смотрит, не чувствуешь?
— Никого. Только красный в печи уголек. Нет ни греха, ни кары. Только ты, я.
— Есть, есть кара!
— Нас не карают, а награждают. Этой комнатой, керосиновой лампой, снегопадом.
— Мне хорошо, я счастлива. С утра не дождусь, как приду сюда. Отомкну замок, запалю лампу. Как ты придешь, весь в снегу… Но вот только глаза… Какая-то черта вдруг надвинется, какая-то погибель. Будто бегу, оступаюсь по тоненькой кромочке, по хрупкому такому ледочку.
— Ну что ты, ну какая погибель? О чем ты?
— Давно, еще девочкой, во дворе на нашей поленнице я увидела бабочку. Маленькая, яркая, ослепительная. А на тельце — шесть крыльев. Четыре красные, пламенные, а два совсем малые, желтые, в черных крапинках. Потом, во время болезней, в бреду мне все чудилась эта шестикрылая бабочка, маленькая, страшная и прекрасная. После я все спрашивала у родителей, у подруг, у учителя по ботанике: есть ли такая бабочка? Они говорили, что нет. Но я-то знаю, что есть.
Он обнимал ее, тихо отдувая от нее все тревоги, касался губами волос.
— Милая ты моя… Милая моя, любимая…
10
Горшенин всю неделю работал в зверосовхозе под Ядринском, выполняя заказ. Оформлял банкетную, притаившуюся за столовой комнату, где дирекция потчевала именитых гостей, явившихся поглядеть на сибирские меха. Рисовал на стенах голубых песцов, красных лисиц. В снегах кружили веселые звериные хороводы, глядели изумленно-радостные золотые глаза.
«Делаю деньги, — думал он. — Вы хотели, чтоб делал деньги? Пожалуйста! Вам не нужно мое искусство, а нужно мое ремесло? Пожалуйста! Делаю деньги, но честно. Буду зарабатывать деньги, и никто никогда не услышит о моих акварелях, даже Маша, даже она. Буду просто честным ремесленником, как те два автогенщика…»
Горшенин сдал работу директору, получил расчет — конверт с деньгами. Сидел в кабинете директора, уговаривавшего его заключить договор на новое дело, поглядывал, как распушился на вешалке мех директорской шапки. Сам директор, грудастый, с толстым затылком, радостно подсовывал Горшенину листки договора:
— Вот, подпишите! Заплатим, как сегодня, аккордно! Копеечек мы не считаем. Мы в казну чистое золото сыпем, так чего нам для нужных людей копейки считать! Только уважьте, сделайте, как сейчас, от души. Дом культуры нам распишите, чтоб наши люди, могли хорошо отдохнуть. Чтоб было на что посмотреть. И знак нам фамильный выдайте. Как ОТК! Глянули на него хоть в Англии, хоть в Японии: ага, лисички из ядринска! Ага, норки, из Ядринска! Чтоб фирма гляделась!
— Сделаю все, — отвечал Горшенин, пробегая листки договора с указанной суммой. — Вот только хочу осмотреть хозяйство. А то сидел в четырех стенах, а хозяйство посмотреть не успел. А после уж к вам зайду.
— Конечно, сперва оглядите. Вот все говорят: комбинат, комбинат прославит наш Ядринск. А мы, что ль, не комбинат? Мы, что ль, Ядринск не прославляем? Наши меха по Союзу на первом месте. В Лондоне на аукционах идут нарасхват. Сибирский-то воздух для меха — самая сила! И крепость, и цвет, и блеск. Дунешь — волной побежит.
И он дул, напружинив щеки, разгоняя от себя невидимые пушистые волны, и глаза его счастливо искрились.
— Да, — говорил Горшенин. — Хочу посмотреть. Эмблема мне уже видится.
— Знаете, — продолжал директор, — мы у себя решили поднять культуру. Люди наши достойны, заслужили. Музыкальную школу построили, детки на баянах, на скрипочках стали играть. Торговый центр открыли, загляните. Надо нам нашим людям вкус прививать. Так что уж вы постарайтесь! Поярче чтоб, понарядней! А о деньгах не заботьтесь, будете довольны. Примем работу, и сразу расчет. В ту же минуту!
— Я пройдусь, осмотрю хозяйство, и тогда решим окончательно. Тогда и скрепим договор.
— Добро! Идите смотрите. И сразу ко мне, подписывайте!
Зверосовхоз в бору — рубленый, в заснеженных соснах поселок. Прямые накатанные улицы, дым завитками летит из труб. Пробежит запряженная в кованые саночки лошадь. Мелькнет за окошком геранька. Пролязгает трактор. Прогудит самосвал. И если пройти от банкетного зальца по невидимой тропке, то выйдешь на широкую вырубку, уставленную навесами с клетками. Длинный, ровно спланированный звериный город как продолжение поселка откроет свои переулки и улицы, и тысячи напряженных, ждущих, ужасом позолоченных глаз вдруг уставятся на тебя, и ты неподвижен и пойман этим множеством ярких, угрюмых, ждущих своей участи лиц…
Горшенин шагал вдоль клеток. За стальными решетками, косо расставив ноги, выгнув седые спины с черными шлейфами дрожащих от ветра хвостов, стояли лисицы. Нацелили дуги насупленных бровей, недобро дергали желтыми зрачками. Сжатые, как пружины, вдруг распрямлялись в прыжке и тут же внутренней силой гасили движение, усмиряли скачок, падая ногами на сетку, извлекая из нее слабый стон.
Природа, дикая, рассеянная по лесам в гонах, лунных свадьбах и игрищах, с тайной гнезд и берлог, вековечная, от звезд, от ручьев, от дымных утренних трав, была здесь уловлена в железные сетки. Горшенин, робея, чувствовал близкую, ускользавшую от понимания тайну: он и лисицы жили единой, неделимо разлитой в пространстве жизнью, отделенные друг от друга тончайшей сталью.
Остроносые лица. Косматые баки. Белые кончики закрученных пушистых хвостов. И огромные, круглые, вопрошающие очи: «Кто ты? Зачем ты сюда пришел? И кто я? Зачем эта тонкая сетка? И что за пределами клетки? И за пределами жизни? Не знаешь? И я не знаю».
Норки вились, догоняя друг друга, — пушистое скользящее колесо. Верткие, напряженно-ищущие, не замечали его. Вытягивали заостренные головы, влажные нюхающие носы, чутко торчащие уши. Он склонился, чувствуя теплый звериный запах. Рассматривал удивленно и нежно пушистые брюшки, тронутые проседью грудки, снежинки в черной, до стеклянного блеска, шерсти.
И в ответ — бесшумное кружение по клетке, с легким звоном, будто бьют коготками по струнам, играют на гуслях про свою пугливую жизнь, — о еловых вершинах, тетеревах, замороженных ягодах. «Кто мы такие? Не знаешь? И мы не знаем».
Женщины-звероводы в робах, платках, халатах собрались под навесом у домиков. И две из них ссорились крикливыми голосами.
— Глаза твои бесстыжие, так про меня говорить! Ты видела, что я брала? Нет, ты скажи ты видела?
— С Витькой своим все к себе гребете, свое от чужого отличать не умеете. В прошлый раз только метлу положила, отвернулась — нету! Кто проходил?
— Да Кланька Захаркина!
— А ты докажи, докажи! Бросаешь черт те где инвентарь! К Кузьме, что ль, от мужа бегаешь? Невтерпеж?
— Ах ты, язык твой брехливый! Брешешь, чего не надо! Да я знаешь что!.. Я знаешь куда на тебя?..
— Что, видать, правды не любишь!..
Из домика вышла могучая краснощекая женщина, держа в руках шприц, соединенный с флаконом.
— Бабы, кончай браниться! Дело стоит…
И они гурьбой, еще ворча, огрызаясь, двинулись к клеткам.
Натягивали рукавицы, отмыкали крышки. Просунув руку, ловили зверей, бьющихся, грызущих, визжащих, выволакивали за хвост. Перехватывали другой рукой оскаленную, кричащую голову. Выгибая дышащим брюхом, подносили к краснощекой. И та ловко, сильно вонзала иглу, впрыскивала яд, и норок снова кидали в клетку. Они начинали скакать, метаться, превращаясь в темный, испуганный вихрь. А женщины двигались дальше, хлопали крышками.
Горшенин, потрясенный, сопрягая свою недавнюю работу в банкетном зальце с тем, что ему открылось, двигался следом, будто его зацепили крючком, волочили за ними, заставляя смотреть и видеть. Чувствовал своим животом удар входящей иглы, остренькое ядовитое жало. Это он, обезумев, выгнув хрустящий хребет, бился в брезентовых рукавицах. Его, измененного, награжденного страшной каплей, кидали обратно в клетку, и он бросался, расставив лапы, на звонкую прозрачную сеть. Еще не чувствуя, не понимая, старался умчаться, несся по кругу. Но капля яда настигала его в полете, поражала ударом, и он опадал, оседал, прерывая движение. Удивленно потягивался. Сворачивался в завиток, зарываясь в хвост головой. И последний, неяркий, застекленный в глазах вопрос: «Ну и что? Что же дальше? Я жду…»
Женщины плотно и быстро шли по рядам. Хлопанье крышек, визг, бабий смех, красные и золотые платки. Белый снег.
Там, куда они подходили, подымалась волна орущей, не желающей гибнуть жизни. И потом угасание, спад. Провал тишины и смерти. Горшенин шел следом, неся в себе тишину, поражался ее простоте.
А там, впереди, продолжался танец и звон. Женщины мелькали платками, топотали, выкрикивали. Горшенин все ждал, что из неба, сквозь сосны и снег, грянет удар. Все объяснит и откроет. Но они удалились. И уже катилась тележка. Старик кидал на нее кульки омертвелых тел. Следом шел угрюмый косолапый мужик с огнеметом. Просовывал в опустевшую клеть наконечник. Пускал в нее рыжий шумно-огненный вздох. Пламя сжигало следы безымянных звериных жизней. Сквозь сосны неслись в небеса пепельные завитки и волокна.
Горшенин вернулся в город измученный, изведенный. Собирался к матери за Иртыш. Забежал домой узнать, не пришла ли Маша. Дом выглядел пустым и холодным. На кушетке лежала папка с его акварелями, болтались распущенные тесемки. Он отчужденно глядел на папку, ненужную и чужую. Решил захватить ее к матери, спрятать подальше от глаз в крохотном материнском чуланчике.
Шел, неся под мышкой незавязанную тяжелую папку, растерянный, угнетенный. Машино лицо, лицо умирающей бабушки, скачущие в клетках зверьки — все мешалось и путалось. Он шел через лед по наезженной, пустой в этот час дороге среди острых зеленых льдин, вывернутых корабельными днищами. Не видел, как из развязанной папки выпадали акварели, ложились на лед.
«Маша, — думал он. — Где же ты, Маша?»
Елагин сидел за баранкой «уазика», гнал через Иртыш, виляя в скользкой колее. Оборачивался к сидящему рядом приятелю, молодому инженеру Буханцеву.
— Они мне не могут простить, что отец мой начальник главка, что я джазмен, на трубе играю, что знаю три языка, что бывал за границей, что жена явилась сюда в норковой шубе. Мой проект небесного города — бельмо у них на глазу. Зачем же мне здесь оставаться? Не приняли здесь меня!
— А ты все к приемам привык, чтоб ковровые дорожки под ноги стелили? Вот твой батюшка скоро прибудет, ему раскатают от самолета до «красного домика», это ему по чину, понравится. И тебя подозревают в том же, по естественной связи с отцом. Тайно за тобой наблюдают. Не за быстрой ли карьерой приехал? Вот и неси свой крест. Неси, говорю, свой крест. Вопреки всему. Вкалывай, чтобы времени не оставалось для боли. А если больно, играй на трубе. Не помогает, приходи ко мне, поговорим по душам. И когда-нибудь, после всех трудов, братец ты мой, после всех великих терпений, откроются тебе удивительные, зарытые в этих местах драгоценности. Вкалывай, жди, терпи!
Елагин выкрутил руль, взвизгнули тормоза, машину занесло, ударило выхлопом в льдину. Под колесами что-то сверкнуло и вспыхнуло, словно кусок перламутра.
— Что за черт? — Елагин выскочил из кабины, подзывая Буханцева. — Посмотри, что это?
Он держал акварель, на которой по зеленым лугам расплескались красные хороводы, кони плыли в лазоревых водах. Пораженно смотрел: впереди на дороге лежали картины, будто сидели на льду разноцветные птицы.
— Я тебе говорил про зарытые драгоценности! Давай тихонько езжай!
Елагин медленно двигал машину, а Буханцев шагал впереди, поднимая с земли горячую, бог весть откуда прилетевшую жизнь. У противоположного берега они догнали медленно бредущего человека с развязанной папкой.
— Вы что? Вы откуда? Это все ваше? С ума вы сошли? — Елагин тормошил застывшего, не желавшего говорить Горшенина, запихивая его в теплое нутро машины.
11
Заместитель генерального директора Янпольский сидел в кабинете, обдумывая предстоящий визит на стройку начальника главка. Визит не сулил неприятностей. Уже был подготовлен перечень тем и вопросов для первого совещания, сформулированы просьбы со стороны комбината, оценены ожидаемые встречные требования. Оставалось решить, как получше принять начальство, чем удивить и порадовать помимо традиционной ухи и поездки в охотничий домик.
В этот момент обдумывания и вошли к Янпольскому Буханцев и сын ожидаемого начальника главка Елагин.
— Простите, что помешали. Мы ненадолго. Есть одна, что называется, просьба, или, лучше сказать, предложение. — Елагин, не дожидаясь приглашения, сел, закурил, достав сигареты, угостил через стол Янпольского.
— К ценным предложениям относимся со вниманием и даже поощряем их премиями, — дружески ответил Янпольский, приглашая и Буханцева сесть.
— Мы поставили надувной склад, — продолжал Елагин. — Он пуст, если не считать одного установленного в нем трубоагрегата. Мы хотим устроить в помещении склада выставку, нет, не техники, не дизайна, а изумительных акварелей местного ядринского мастера. Я помню, когда был с отцом в Нидерландах, нас поразило, что на одном производстве, в цеху, где шел химический процесс, на стенах висели картины, отличные дорогие работы, как символ чистоты и стерильности. Помню, отец сказал, что был бы рад увидеть такое в Союзе. И вот мы подумали: склад пуст, пространство огромное, освещение люминесцентное, работают калориферы, происходит предварительная наладка агрегата, а на стенах пусть висят акварели, тем более что они превосходны… Как вы на это смотрите?
— Как я на это смотрю? — синие холодные глаза Янпольского всепонимающе смотрели на Елагина. — Жалею, что не был в Нидерландах, иначе эта мысль пришла бы мне самому, — и он засмеялся. — Кстати, вы поедете встречать на аэродром отца в нашей с Пушкаревым машине? Или дать вам отдельную?
— Я не поеду встречать…
12
Неверное дрожание света в закопченном стекле, и комната — вдруг в подтеках, в ошметках обоев, с торчащими пустыми гвоздями, с чужим расшатанным ложем, со следами чужого несвежего быта, излетевшего вон, — вдруг вид этой комнаты поразил, оскорбил ее, показался ей ужасающим и несносным, с привкусом стыда и позора. Почему она здесь? И должна укрываться? Воровски, дожидаясь тьмы, красться, снимать этот отвратительный, тяжелый замок, вытапливать комнату, изгоняя из нее огнем и дымом запах тления и сырости, сладковатый настой лжи и утаивания? Почему он об этом не думает? Почему он все не изменит?
Вздор! Что это я? Все это вздор один!
Нет, не вздор, не вздор!
Почему заставляет меня таиться? У него пустой дом, взял бы меня к себе! Предложил переехать! Другое дело, я бы сама не пошла. Но он-то, он-то неужели не видит? Неужели не чувствует? Может, стыдится меня? Может, я ему помеха по службе? Боится молвы, неприятностей? Или просто меня боится? Боится моих притязаний? Вот и держит меня в этой комнате. Значит, это ему с руки. Значит, я для него забава помимо службы, утеха.
Господи, что за вздор! Мелкий, никчемный вздор!
Нет, не вздор, не вздор!
Сплетня пошла, сплетня уже завилась, по городу потекла. Слепков пустил или кто? Или Гречишкина? Каждый шаг караулят! Ужимочки, глазки, смешки! Слепков, тот просто хамит. А Гречишкина все про ключик, все про сестричку! Творогов улыбается лживо, отводит глаза. Городков повстречался, стал ни с того ни с сего про Алешу спрашивать. Голубовский тоже вдруг невпопад начал про семейную жизнь, про верность, про одинокую старость, — совсем из ума выжил. Знают, все знают, а молчат. Грязь, грязь, пакость! На весь город!
Запуталась я или что? Чего сама-то хочу! Надо что-то решать. А он-то молчит, не решает! Но ведь он мужчина, он решать должен! Сам должен все разрубить!
Почему же он должен? И не должен совсем! Сама во всем виновата!
Нет, он должен, он должен!
Такой ее застал Пушкарев. Явился заснеженный, бодрый, с бутылкой вина. Обнял ее у порога, положив на горячую шею ледяные ладони. Поцеловал, оставив винный вкус на губах.
— Ох, сегодня едва отбился. Московское начальство прилетело, ну, знаешь, встреча, строганинка, ушица. Две рюмочки выпил, не больше! А ну-ка, накрой на стол! А ну-ка, разрежь осетра!
Наполнил пространство движением, звуком голоса, смехом. Разворачивал пакет с мороженой белотелой рыбой. Открывал бутылку. Ставил две серебряные рюмочки.
— Петр, — сказала она, — Петр, ты меня слушаешь?
— Я — Петр. Я тебя слушаю.
— Петр, уедем отсюда!
— Отсюда? Конечно, уедем. И очень, к сожалению, скоро. Бульдозеры подступают. От Захром ничего не осталось, только этот последний кусочек.
— Нет, Петр, я не о том. Совсем уедем из Ядринска.
— Куда? На Северный полюс?
— Так невозможно! Больше так невозможно! Это воровство, это ложь, это хуже! Неужели не чувствуешь?
— Маша, я сам об этом хотел… Нам надо решить…
— Я хочу с тобою уехать. Совсем, с глаз долой. Со всех этих злых, внимательных глаз, следящих за каждым движением. Они и сейчас следят. Кто-нибудь и сейчас за окном.
— Да нет никого. Я шел, оглядывался…
— Вот видишь, и ты… И у тебя воровство и ложь.
— Да нет, мне-то что! Я за тебя волнуюсь.
— Если волнуешься за меня, если любишь, если все твои уверения про другую жизнь, про чудо моего появления, если все это правда — уедем!
— Дождемся отпуска и уедем…
— Я не о том, не об отпуске. Насовсем!
— Маша, милая, невозможно. Ну как я уеду? Тут работа!
— Но ведь ты говорил, что чудо! Что такое раз в жизни бывает! Если так, то уедем!
— Все это правда. Но я не могу уехать. Это невозможно, пойми! Я не принадлежу себе. Ну разве сама не видишь?
— Ну конечно, ты не можешь уехать. И Алеша не может уехать. У всех у вас дело, великая забота. У тебя комбинат, у него — картины. И все ваши слова о любви подслушаны у других, у тех, что были до вас, что могли бросить дом и усадьбу и пойти за звенящим монистом. Вот оно, монисто, звенит. Так иди же за ним, иди! Что тебя не пускает?
— Маша, милая, зачем ты устраиваешь мне испытание?
— Прости. Действительно, вздор. Действительно, испытание. Не тебе, мой милый, — себе. Устроила себе испытание.
— Маша!
— Прости, ничего. Это блажь. Просто женская дурь. Ведь и женщины теперь не такие, нет никакого мониста… Налей-ка вина!
И пока он наливал, и рука у него дрожала, и струйка краснела, успела подумать: «Мне поделом, поделом, и надо больнее, больнее…»
13
Над Сибирью повисло огромное облако. Мерно кружило, черпая с севера бураны и вьюги, а с юга — дожди, птичьи стаи. Мешало их, кидая на землю обсыпанных снегом птиц. Небеса провисали, словно их давило и мяло, вырывало из них снегопады, и они утончались, теряли вещественность, силу. И вдруг среди ночи бесшумно ахнуло взрывом, осколками звезд. И наутро в пробоину хлынула синь, огненный белый жар. Стало жечь и выпаривать. И Сибирь в голубых испарениях шуршала, осыпалась, сочилась, выгибая мохнатую спину. Поднималась, как зверь, из воды и снега.
В эти дни Городков, получивший в новом доме квартиру, учинил новоселье. Уже пришли Голубовский с женой, Творогов с Любовью Андреевной, Файзулин, Маша пришла одна, без мужа. Дожидались Горшенина, а также, быть может, если время позволит, потому что дел у него невпроворот, самый пик, — заглянет и Пушкарев. Мужчины, повязавшись передниками, лепили пельмени, выстраивали их несметные батальоны. Поглядывали на клокочущую кастрюлю. А женщины с хозяйкою во главе ходили по комнатам, осматривая новый дом.
— Вот тут у Сережи кабинет. Наконец-то он сможет от нашего шума-гама запираться. Это так ему необходимо в его новой работе. Дверь ему обобьем, чтоб ни звука… А вот тут вот детская. Ну, кроватки пока наши старые, не смотрятся, но я заходила в горторг, обещали. А вот тут спальня. А когда гости, видите, стол подвигаем к кушетке, и стала гостиной… — Жена Городкова, розовая, счастливая, гордясь богатством, водила гостей, округлыми движениями приглашая любоваться.
— Да уж теперь у вас комнаты — аукаться можно. Не то, что раньше. Зайти было страшно. Варили, стирали, ели, друг на дружке сидели. Разве сравнишь!.. Вот только жаль, что все окна на север. Отказались бы, — жена Голубовского тыкала пальцем в оклеенную обоями стену. — Надо бы на южную сторону…
— А вы бы отказались? У нас там вообще света не было! — чуть раздражаясь, защищала свой дом хозяйка.
— А все-таки здесь холодновато у вас, я скажу. Высоко. В щелки-то дует. Батарейки вон чуть теплые. Нет, у нас хоть и тесно, а печка своя. Протопил, сиди грейся. А здесь говорят, в сильный-то ветер насквозь промерзает, — поджав завистливо губы, заметила Любовь Андреевна. — Хоть и тесный угол, да теплый…
— Ну уж кто что любит, кто что заслужил, — победно улыбнулась ей хозяйка в лицо.
Маша ходила со всеми. Молчала, прислушиваясь беспокойно к звукам на лестнице, не участвуя в женских разговорах.
«Все знают, но делают вид… Тончайшее во всех лицемерие…»
— Мужчины, мужчины, к столу! Сыпьте пельмени! Сколько ждать можно? Кто не пришел, подойдет!
Потекли на блюде дымящиеся, парные, охваченные духом пельмени. Посыпались на тарелки. И весь стол погрузился в родные сибирскому сердцу ароматы, так что и окна запотели, а лица расплылись, затуманились. Гремели рюмками, наливали водку. Метали перец. Мазали тарелки горчицей.
Творогов поднялся из пельменного облака, держа на весу стаканчик. Молодцеватый, бодро-голодный, возбужденно-воинственный.
— Слова, слова прошу… Итак, поднимем бокалы, содвинем их разом… Эту полную чарку за этим хлебосольным столом, собиравшим нас не раз и не два в той, прежней жизни… И теперь в этом просторном доме, где столько яств… — он чуть сбился, глотая слюну, оглядывая кивающие, вторящие ему взглядами лица. — За хозяев, так сказать, и за их новоселье… Но в то же время и за наше общее новоселье, за нашу новую жизнь и за наше, я не боюсь сказать, братство. Выпьем!
Откинув голову, красиво и быстро опрокинул стаканчик. Не моргнув, а только выпучив глаза, послал следом слезящийся пельмень.
— Да, да, за новоселье!..
— За хозяев!..
— За братство!..
— Маша, Маша, а ну-ка и ты! За братство и ты давай! — Творогов наливал ей водку, посмеивался, благодушно кивал, заставляя выпить.
«Лицедей… И я, и мы все… Братство сплошных лицедеев!»
Пили, шумно ели. Маша к еде почти не притрагивалась, но уже выпила несколько рюмочек. Раскраснелась, молча усмехалась. Оглядывалась то и дело на дверь.
— Егор Данилыч, — говорил Городков Голубовскому, — Егор Данилыч, а ведь действительно с новой черты… У меня кабинет, и начал новую повесть, но не ту, которую грозился… Да, историческую, но не из прошлого, а из наших дней, потому что это тоже история, ведь правда, Егор Данилыч? Это тоже история, и надо о ней сказать, надо ее запечатлеть, а кому ж, как не нам!.. И вот я решил: с юношеской печалью о прошлом пора наконец покончить, и повесть моя будет о Ядринске наших дней, главный герой — человек, руководитель строительства, на котором лежит ответственность, который в себе совместил, в своем уме, в своем духе… одним словом, я начал работать, скоро вам почитаю отрывки, ибо нуждаюсь в благословении вашем.
— Благословляю, благословляю! — радостно кивал Голубовский, осторожно, чтоб не испачкать, отводя за уши седые пряди. — Прав! История — скорее то, что есть и будет, чем то, что было! И в известные моменты жизни, в известные мгновения истории являются люди, на которых как бы лежит печать, или, если хотите, высшее бремя истории. И твой герой, если я верно понял, должен выразить дух современной истории. Кстати, должен вам сообщить, что новые препараты, которые мне прописали и любезно достали, чудотворны. Боль не чувствую, ем, что хочу. Файзулин, голубчик, передайте мне блюдо. Благодарствую! — И он, улыбаясь, свалил себе в тарелку изрядную порцию пельменей.
— Все-таки как мы, братцы мои, ошибались! — качал головой Творогов. — Как мы могли так ошибаться? Ой и такой и сякой! И нас-то он не понимает! И город-то оскорбляет! И статейки про него писали, и хулу возводили! А он вместо мщения простил, призвал к себе. Сам, сам призвал! Руку протянул! Это, братцы мои, свидетельство благородства. Это, извините, не в каждом найдете… Правда ведь, Машенька? Правду я говорю?.. Ну-ка, налью тебе… Водочки! Давай-ка налью!
— А если бы вы знали душевные качества, — подхватил Городков. — Казалось бы, власть необъятная, людей тысячи. Тут, если хотите, и деспотом стать недолго. А он — добрый и справедливый. И народ это чувствует. На стройке его любят. Я специально спрашивал: не боятся, а именно любят!
— А главное, башка золотая, — подтвердил Голубовский. — Башка золотая! Вперед на сто лет видит. Петровского склада ум. Это я вам говорю не шутя. Петровского склада ум!
— И что удивительно, — сказал Творогов, — знает и понимает искусство! Когда он вызвал меня к себе, я идти не хотел. Думал, ну о чем говорить, что может быть общего? А потом услышал его суждения о театре, его суждение о литературе, о живописи. Оказывается, он в нашем театре бывал. Наших артистов знает. Маша, представляешь, он и тебя знает! Как же, говорит, Горшенину знаю. Очень хорошая актриса! Правда, Файзулин? Как он говорил о скульптуре!
Файзулин утвердительно, радостно хмыкнул. Городков приподнялся:
— Друзья, да что там! Выпьем за Пушкарева! Придет он сюда или не придет — дел-то у него, не у нас с вами, — но все равно он здесь незримо среди нас присутствует. — Выпьем за генерального директора, за Петра Константиновича…
Все потянулись, зачокались, и женщины тоже. Лишь Маша не тронула рюмочку. Щурила на них глаза то ли гневные, то ли хохочущие.
— А где же Горшенин? Куда он-то пропал?
— Что-то в последнее время совсем от нас откололся. Подозрительно, честное слово! Маша, ты что за Алексеем не смотришь? Чего он дичится? Возьми его, деточку, за руку да к нам приведи. Мы его уму-разуму научим. Сколько можно на месте топтаться? На мелочи разменивается, а главного разглядеть не умеет.
— Вот именно, главное!
— Надо вот что! Надо взять Горшенина да и представить его генеральному. Алексей отличный художник. Ему на комбинате дело найдется. Пушкарев ему дело найдет. Нельзя же так отрываться!
— Маша, учти: Горшенин на нашей совести! На твоей он совести, Маша! Ну что ж ты молчишь-то! Скажи!.. А тебя Пушкареву представить?
Маша поднялась, улыбаясь, держа блестящую рюмку. Оглядела всех, приветливая, любящая. Очень ясная и спокойная. Только рюмка немного дрожала.
— Ну просто не знаю, что и сказать. Конечно, благодарю и признательна за честь быть представленной… Немного робею, потому что такой человек, с заслугами, величина непростая, и как-то с бухты-барахты. Дескать, вот вам, любите и жалуйте…
— Да ничего, не робей. Мы представим, — поощрял Городков.
— Конечно, я постараюсь, как вы говорите, быть честной и в то же время полезной, хотя не представляю, как я, артистка, могу быть ему полезной да одновременно и честной… Впрочем, простите, какая-то двусмысленность, потому что волнуюсь…
— Ничего, Машенька, ничего, нам понятно, — снисходительно кивал Голубовский.
— Только подумаю, чего бы у него попросить, прежде чем самой стать для него полезной? Может, белых булок? Ситничков пожевать, а следом квартирку, а взамен, ну не книгу о нем написать, не по нашим талантам, а вот оду прочесть, монолог о сильном, прекрасном, могучем и добром директоре, — это могу, это по силам. Но, конечно, оставаясь при этом честной…
— Маша, что за шутки!
— Или, может, пилюльки у него попросить, дефицит патентованный… — Она чувствовала, что пьяна. Видела, как спаивает ее Творогов. Не противилась. Не было сил замолчать. Не могла. Не хотела. — Или, может, попросить, чтоб похлопотал за меня в высших сферах — пусть присвоят почетное звание? Или, на худой конец, переведут в областной театр, поближе к славе, потому что ведь хоть и малое дарованьице, и талантик крошечный, даже и нет никакого, но сколько можно в глуши, сколько же можно в безвестности, когда другие в знаменитостях ходят!
— Черт знает что такое! — бормотал Творогов. — Пьяна она, что ли? Надо было пить и закусывать…
— И еще, очень верно вы все про Алешу… Что он-де на совести. У меня и у вас на совести. Совесть замучила, пока он, Алеша, не с вами, на мелочи разменивается, а надо главное хватать полной пригоршней. Успеть, пока дают, пока кидают. Всеми лапками, зубками, клювиками вцепиться и урвать — кто квартирку, кто сыну местечко, кто хоть тряпку паршивую, дешевую занавеску! Как это вы верно про совесть!
— Ну, довольно! Хватит! Садись!.. Что мелет язык, не знает!
— И последнее еще сообщеньице! Маленькую подробность не знаете. А должны, потому что друзья. Ведь все мы друзья, не так ли? Тайн никаких быть не может? И теперь у нас в друзьях генеральный, стало быть, общее дело и все мы одна семья? Ну так вот, что я вам сообщаю. Представлять меня Пушкареву не надо, я и без этого представлена. Я его любовница, слышите? Любовница! Только Алеша не знает. А вот вы теперь знаете! Только сейчас и узнали? Полное для вас откровение? Да подумать только! И посмотрим, что вы станете делать! Вызовете на дуэль Пушкарева как благородные люди за честь оскорбленного друга? Или помчитесь к Алеше рассказывать? Или в меня каменья?.. Да нет, ничего не сделаете! Вот ведь как я вас связала! За вас, мои милые! С новосельем вас, с новосельицем!
И она, засмеявшись, дунула в чарку, плеснула на скатерть и ушла, накинув тулупчик, хлопнув дверью. А они, обомлев, сидели.
— Какой-то бред, да и только! Кошмар какой-то!
— Сейчас Алексей придет. А следом за ним Пушкарев. Что говорить-то? Как их вместе сажать?
— Открыть Алексею глаза! Пусть знает! Слышали, что она про нас говорила? Взял бы да врезал, не посмотрел бы, что баба! Пусть Алексей знает, какую змею пригрел! Тоже мне олух, уши поразвесил, черт те чем занимается, а она к другому в постель! Нет, сейчас придет, и все ему на тарелочке!
— А как вы скажете? Вы что, имеете право? Вас что, поставили следить за нравственностью? Наблюдать за чужими женами?
— Тогда пойти к Пушкареву! Сказать, что это свинство! Гнусно, неблагородно! Да за это можно к ответу! Прямо от имени города…
— Ну снова здорово! Это уже было однажды. Опять затевать? Да в конце концов, он мужчина. На то и щука в море, чтоб карась не дремал. Она к нему прибежала, а не он к ней. Что он, неживой? Такой же мужчина, как все!
— Истеричка! Черт те что про нас наплела! Нет, ей нельзя прощать! В старое бы время в деготь, да в пух, да пустить по городу! И сейчас ославить невредно!
— Да нет, невозможно! Бросит тень. На Пушкарева. На нас с вами… Нельзя! Невозможно!..
— А все-таки надо ее проучить!
— Пушкарев вам проучит!
— А вы что, доносить побежите?
Повскакали, загалдели. Над разгромленным, смятым столом, над остывшими, мокнувшими пельменями.
— Стойте!.. С ума вы сошли!.. — крикнул Городков. — Она опутала нас, окрутила, поссорила, а на деле нет ничего!
— Как это нет?
— А просто! Машку не знаете? Все выдумала! Уж вы-то режиссер, и понять не могли? Все выдумала!
— А ведь верно, выдумала!
— А мы, дураки, поддались! А она над нами хохочет!
— Да я это чувствовал, только говорить не хотел!
— Выдумщица чертова!
— Фу ты, ведьма глазастая!
— Егор Данилыч, разрешите налить! Давайте еще по маленькой!
— Да не берите холодных… Мы сейчас свеженьких пельмешек запустим…
Но тосты не клеились. И они старались не глядеть друг на друга.
14
Сочилось, текло и блестело, и тут, под ногами, размывая колеи, унося нефтяные разводы, желтые соломины, и на том берегу, влажно полыхавшем в тумане. Млечное, парное тепло лилось на откосы, топило снега, и они на глазах оползали, стекали водами в неподвижный Иртыш с бронированно-синим льдом, с набрякшей, чернильной дорогой, по которой медленно, робко шли машины. Казалось, лед выгибается, напрягая береговые замки и крепи, выпучивается изнутри глубокой, взбухающей силой. Последний удар луча из-за тучи, последняя малая капля — и запоры сорвутся. Бурлящая мощь солнца, воды и ветра превратит Иртыш в грохочущий взрыв.
Горшенин смотрел, как рабочие вбивают на съезде столб, укрепляют полосатый шлагбаум с красным, запрещающим знаком. Еще немного, и дорогу закроют, и она, опустев, станет мокнуть, выделяя накопившиеся за зиму яды, неся в себе оброненные болты и подковы, пока ледокольными ударами не надломит ее по кускам и, дробя на осколки, поволочет к океану, растворяя бесследно в пенистых водах.
Горшенин смотрел на берег в перевернутых лодках. Некоторые смолились, окутанные едкими голубыми дымками. Оттаявший грязно-блестящий город под бегущими тучами вспыхивал светом и тенью. И было ему неясно, тревожно. Жизнь двоилась вокруг, ускользала из фокуса. Таила в себе другое, недоступное разумению название: и рабочие, отаптывающие струганый столб, и буксующая в жиже машина, вся весенняя грозно-ликующая округа — несли в себе иной, неподвластный пониманию смысл. Сулили то ли боль, то ли высшее счастье. То ли близкое прозрение и творчество, то ли скоротечный весенний обман.
С тех пор как два инженера нашли его на дороге, несчастного, обмороженного, привезли к себе, отогрели, сидели всю ночь, перебирая картины, восхищаясь работами, с тех пор он словно отдал себя в руки других и только смотрел, как картины его, одетые в стекло, были развешены в огромном, дышащем на ветру дирижабле, и стены пульсировали от скорости лёта, и картины на них казались иллюминаторами в иной, разноцветный мир, над которым пролетал дирижабль.
По городу, без всяких с его стороны усилий, были развешены на видных местах афишы, и на фонарных столбах у бетонки, и в новых районах, и даже на бортах самосвалов. И он видел, как вдруг на его выставку пошли и поехали люди. Останавливались у склада машины, рабочие автобусы, тракторы. Вваливались галдящие, целыми бригадами, группы, глазели, курили, не стесняясь, тыкали пальцами. Одни гоготали, другие стояли задумчиво, иные, обойдя один раз, возвращались, застывали перед какой-нибудь из картин, и однажды явилось начальство, целая свита, и долго рассуждали, сравнивали почему-то с Нидерландами. Из старого города приходил знакомый народ, поздравляли его. И Лямина прибегала, тоже поздравляла. Творогов, Городков, Голубовский явились втроем и долго дружески восхищались, трясли ему руки. Возникали люди с кинокамерами, с осветительными лампами, расставляли треноги, слепили светом.
Все это налетело на него и повисло пестрым внезапным ворохом, помимо его воли. А он, оцепенев, не мог шевельнуться душой.
Он понимал: кончился огромный, светоносный период его жизни, цветущая ее половина. И надо перейти в другую. Но первая, завершившись, все еще не пускала. Держала голосами и лицами — образом юной жены, нестарыми мамой и бабушкой, памятью о себе самом, молодом и счастливом. Все еще были здесь, и все уже отлетели. Кто — в другую половину судьбы, а кто — за ее пределы. И так мучителен взлет, первый тяжелый взмах…
Он чувствовал: что-то копилось вокруг за невидимой прозрачной завесой, какое-то грозное, на него обращенное знание. О нем, о жене, о друзьях. И лишь слабый удар луча, блестящее падение капли — и лопнет недвижная твердь и знание прорвется, превращая его жизнь в сокрушительный взрыв и движение.
Но не было капли, луча.
Его ждали на выставке с телекамерами, хотели взять интервью. Но вначале он решил заглянуть домой. Поднимался по лестнице. Его окликнул сосед:
— А вам записка!..
Он взял, прочитал. Рукою матери было написано:
«Алеша, бабушке очень худо. Приходи скорей!»
Оставил на столе записку. И, торопясь, в предчувствиях, страхах побежал за Иртыш, в Кондашевку.
15
Стройка среди талой воды в черном железе и лязге. Словно закладывают огромный корабль, одевают закопченной обшивкой, навешивают винты, наполняют нутро масленой грозной сталью. Подымутся воды, и корабль всплывает в драгоценном сиянии рубки, с красными вдоль борта отметинами.
Пушкарев появлялся на стройке с первым лучом. Объезжал площадки, ловя огрехи, радуясь тяжелым, нарастающим массам насыпей и дорог, бетонному многоглавые градирен. Торопился назад, в кабинет, хватая со стола телеграммы из Омска, Тобольска, Тюмени, — там, в затонах, собирался флот, грузили трюмы. Ждали движения льдов, чтобы следом пустить караваны. И в Ядринске, на недвижном еще Иртыше, кипели причалы, ожидая внезапных таранных ударов сухогрузов и барж, истошных гудков, стона и скрежета кранов. Свежие рельсы уводили от причалов в тайгу.
Работы прибавилось вдвое. Он едва управлялся, подымаемый утром на гребень ударных работ, сбрасываемый с колеса поздней ночью. Но сквозь надрыв техсоветов, планерок, сквозь тяжесть непомерных усилий в нем возникло и жило белое и как будто серебряное чувство этих дней, облаков, талых вод, внезапных, ошеломляющих его мгновений неподвижного, огромного, похожего на оцепенение счастья, в котором постоянно присутствовала она, его Маша.
— Знаешь, я им все рассказала. Безрассудство мое или что? Слушала, слушала их лепет. Думала: «Ну, мудрецы, а главного-то и не знаете. А про главное-то и невдомек. И никогда не узнаете». Подумала и вдруг рассказала…
— Рассказала, и ладно. Чего скрывать? Пусть знают. Переедешь ко мне, какие могут быть тайны!
— Алеша не знает. Они сказать не посмеют.
— Сама скажи. А хочешь, я?
— Нет, пусть это тебя не заботит. Это моя забота.
— Но ведь не может вечно так продолжаться?
— Отчего же не может? Как раз и может. Думаешь, мы одни? У всех то же самое. Вечно одно и то же. А ты уж решил, что одни…
— Ну не шути, я прошу… Мы с тобой прячемся, свет боимся зажечь. Хочу, чтоб ты жила у меня. Какую-нибудь люстру ярчайшую, чтоб глазам было больно. Хочу видеть тебя при свете.
— Вот что придумал — люстра… Как бы эту лампу не задуть. Едва теплится. Неосторожно дохнул — и погасла! Чуть повернулся — и тьма! Ну зачем нам люстра, скажи?..
— Хочу, чтобы не было тайны. Чтоб не крались в потемках, не урывали часочки. Ты должна все открыть. Должна переехать ко мне. Вот кончится эта горячка с рекой, пройдет флот, и поедем с тобой путешествовать. И вернемся мужем и женой.
— Твоя горячка не кончится. Флот твой все будет идти. А лодочка моя будет стоять. И никуда мы с тобой не поедем. Здесь началось, тут и кончится.
— Ты так говоришь… Я совсем не дорог тебе?.
— Ты мне очень и очень дорог. Только прошу, никуда не зови, ничего не меняй, ничего не тревожь. Все будет, как есть. Мою блажь про отъезд забудь. Милый, ведь все хорошо!
— Конечно, все хорошо…
Он закрыл глаза. И сквозь веки — недавнее дневное видение. Ослепительный, плоский, бегущий в снегах ручей. Она, хохочущая, стоит в летящей воде. Пускает ему ольховую ветку. Он с легким плеском выхватывает ее из воды. Касается губами набухших почек. Чувствует ее смех, движение через яркое пространство ручья…
— Ты знаешь, я думала сегодня: зря я ропщу. На что? На кого? Должна благодарить, не роптать. Природа дала мне талант, ну не бог весть какой, но все-таки. Хоть и больно с ним, но не тускло, не глухо, не немо. Наш театр, пусть брюзжу на него, а по-своему хорош и любим. Светит и греет, а это не так уж мало по нынешним холодам. Мои друзья далеко, как известно тебе, не святые, да в этом ли дело? Покажи мне святых-то! Но зато люди все яркие, нет среди них пошляков, любят меня. Я бываю к ним несправедлива, виню их, а сама-то я ангел, что ли? Судьба подарила мне такого человека, как муж, и такого, как ты. Ну разве это не счастье? Думаю, господи, за что мне такое? Мне все, а другим ничего.
— Кому другим?
— Я тебя повезу в деревню, на Иртыш. Там есть такая деревня, где живут рыбаки. Весь берег в лодках. Железные старинные якоря, кладбище старых кованых якорей и рассохшихся лодок. Черные избы, баньки спиною к реке, кони на мелководье. Там живет женщина Фрося, у которой я несколько раз останавливалась во время концертов, с которой иногда переписываемся. Совершенно одна, рыбачит зимой и летом, наравне с мужчинами тянет, надрывается, тяжеленные сети, изломана непосильной работой. Должно быть, я единственная, от кого слышит ласковое слово. Почему? Мы обе женщины, живем в одно время, почти в одном месте, и разная такая судьба. Почему мне все, а ей ничего?
— Хочу поехать с тобой в деревню. Посмотреть на якоря и на лодки.
— Да, там чудесно. Цветы в заливных лугах. Лошади на мелкой воде. Фрося возьмет нас на лов, увидишь, как ловят рыбу.
Снова закрыл глаза. Увидел березу, белый, разделенный на струи ствол. И сквозь голую, розовую, ветрено-прозрачную крону — синий, бьющий из неба прожектор. И ее восхищенное запрокинутое лицо.
— Наверное, это сон, наваждение, и надо проснуться. Чтоб кто-нибудь крикнул, тряхнул за плечо. Хоть этот безумный Солдатов…
— Ты знакома с Солдатовым? Город, где все друг с другом знакомы.
— А вот и не все. А Алеша? Разве ты знаешь Алешу?
— Опять ты о нем? Не говори, если можешь…
— А я и не говорю, я думаю. Ему без меня худо, а я вот с тобой. Розами ты меня пленил? От роз твоих наваждение?
— Маша, ты что говоришь?
— Прости, с языка сорвалось. Все это неправда, я знаю.
Закрыл глаза. И сухая в бурьяне обочина в переживших зиму стеблях. Пыхнул спичкой, и хрустящее, колкое пламя побежало по склону. Они стояли в стеклянном дыму среди летящих огней. И потом ее шарф, ее платье и волосы все пахли сладчайшим дымом, все чудился треск падающих невесомых стеблей.
— Я знаю, что тебя наградила. До старости, до смерти запомнишь. Отпечаталась в тебе, как кольцо в воске.
— Вместе и будем помнить. Да ведь не завтра же начнем вспоминать? Жизнь-то еще не окончена. Ей еще длиться. Столько еще увидим с тобой! До внуков доживем и до правнуков.
— Соловей кукушечку уговаривал, уговаривал, все обманывал… Ничего этого, милый, не будет. Все это день единый. Проснемся — и нет его. И сам будешь рад. Такое хорошо ненадолго.
— Господи, ну что ты выдумываешь! Ведь я тебе говорил… Иногда мне прежде мерещилось, что такое возможно, но думал, никогда не случится. А оно случилось!.. Ты станешь моей женой, переедешь ко мне. Мой дом всю жизнь был пустым. А теперь возвращаюсь и думаю, как войдешь в него ты. Говорю с тобой, улыбаюсь. Этот город, недавно почти ненавистный, теперь я его люблю. Тебя в нем люблю. Мне казалось, в моей душе есть слабая, чуть живая почечка, которой никогда не расцвесть. А теперь, как та ветка ольхи, которая плыла по ручью… Воскрешение того, что погибло…
— Я же говорю, вы с Алешей похожи…
— Если б ты вдруг исчезла, для меня бы это было бедой. Пошел бы, полетел за тобой, пешком, самолетом, чтоб снова тебя увидеть и чтоб все повторилось.
— Милый, это уже было однажды. Зачем же опять повторять? К чему тебе такие заботы?
— Я люблю тебя. Разве ты не видишь? Посмотри — это я! И люблю!
— Это ты, я вижу, и любишь. А это я. Это мы… Доживем до летних лугов, до цветов, где кони на мелкой воде.
Он слышал, как на крыше зашуршало и с медленным шумом сполз и рассыпался подтаявший ворох снега. Лежал теперь под окном сырой отекающей грудой.
16
Пушкарев чувствовал, как она ускользает, удаляется, его покидает. Их свидания все реже, она становится все недоступней, а он, пугаясь ее удаления, поражался себе: неужели это он, Пушкарев, захваченный огромной, казалось, одной на всю жизнь задачей, пьющий из источников могучей энергии, меняющий волей своей и властью течение человеческих судеб, движение рек и недр, — неужели это он сидит сейчас в просторном своем кабинете среди телефонных тресков, входящих и выходящих людей и мысль его не о кубометрах и тоннах, не о реакторах и поставках сырья, не о громаде ворочающегося, встающего из снегов комбината, а о Маше, о ее тонком цветном поясочке, о ее гребешке, о том, что вчера не пришла, и, должно быть, не придет и сегодня, и в нем — тончайшая, в области сердца, боль, неуверенность, непонимание себя, равнодушие ко всему, что не связано с этой болью, с этим горьким непониманием, которое дороже любого прежнего понимания.
Янпольский докладывал, как обычно: сжато, серьезно, точно, но с глазами, излучающими иронию к себе самому, докладывающему, к серьезности своего изложения:
— На передний план, Петр Константинович, таким образом, выступают две первоочередные задачи. Завершение в сжатые сроки, до ледохода, газонасосной станции за Иртышом, в Кондашевке, доставка им туда материалов и оборудования через реку, пока не разорвалось сообщение. Это раз. И второе. Форсированное бетонирование площадок под реакторы и колонны. Если мы с этим сладим, то к навигации, когда подойдут грузы, сразу, с перевалки, ставим на фундамент колонны, подключаем к газопроводу и летом дадим первый продукт. Пусть первичный, пусть опытный, пусть несколько капель, но формально комбинат будет пущен. Это ваши мысли, Петр Константинович!
Пушкарев рассеянно слушал, пристально, но не видя, рассматривал молодое красивое лицо заместителя, его синие, с холодным дрожанием глаза, улыбающиеся мягкие губы. И вдруг, прерывая его, сказал:
— Все это так, хорошо… Но вы не думали вот о чем… Эти наши с вами усилия, наши с вами годы и жизни, на что они все уходят? Ну еще одна насосная станция, еще один бетонный фундамент, еще одна навигация, одна весна, одно лето, еще один комбинат, а там еще и еще… Все наши помыслы и усилия на это, а потом устареет конструкция, изменится технология, кончатся в конце концов нефть или газ, и все наши усилия к черту. Уже никому не нужно, забыто, выбрано другое сырье, другие источники энергии, а о нас с вами и не вспомнят… Кто мы такие? Зачем? Истопники? Кочегары? Вечно в подвалах, оглохли от ревущих котлов. А ведь где-то над нами есть светлые, чистые комнаты. В них живут нормальные люди. Читают, слушают музыку, награждают друг друга любовью, дружбой, и им нет до нас никакого дела… Так ли мы с вами живем? Так ли тратим свои бесценные жизни?
Янпольский изумленно смотрел на него, забыв о своей иронии. Старался понять. Ярче заблестел своими голубыми глазами, чуть улыбаясь, сказал:
— Но кто-то ведь должен ходить в истопниках, Петр Константинович, чтобы в комнатах было тепло. Потом, не навечно же мы в кочегарах! Вот, даст бог, пустите комбинат, и обратно в Москву, в министерство. Министр наш стар, скоро на пенсию, а вы, Петр Константинович, на отличном счету… Да и тут, в Ядринске, не все же время в подвале. Можно, я считаю, подняться в эти теплые, чистые комнаты, ну хотя бы в театр пойти, какую-нибудь пьесу про любовь посмотреть…
Пушкареву вдруг померещился тонкий намек в словах заместителя. Он сухо его оборвал:
— Так, хорошо… Записывайте. Выделить еще десять машин в Кондашевку. Чтобы грузы возить днем и ночью. Река пойдет не сегодня-завтра. А площадки, я вам скажу, давно было пора бетонировать. Не знаю, чего вы возитесь! Чтоб к приходу колонн фундаменты были готовы!
Весь день, в приемах и встречах, он не мог дождаться сумерек. Отпустив машину, направился в Захромы, надеясь увидеть Машу, зная, что не увидит. В слободе хрипели бульдозеры, расшибая ковшами деревянные срубы. Высвечивали фарами мутную пыль и прах. Дом на Овражной был темен, снег перед калиткой не топтан. Пушкарев заспешил к театру: может быть, там репетиция. Но театр был заперт. Тогда он пошел к ее дому, выбирая те улицы, где гуляли. Узнавал щеколды ворот, жестяные водостоки и дымники, над которыми в тот первый их вечер катилась луна, и лицо ее было белое, в серебристой, лунной росе, опушенное мехом. Но и в доме ее окна были черны. Тогда он вспомнил: она говорила, что ее муж сейчас за рекой, в Кондашевке. Пушкарев, сам не зная зачем, поражаясь себе, — неужели только затем, чтобы быть поближе к ней, к ее недосягаемости, недоступности? — пошел к Иртышу, к его ледяной пурге, к мерцающим огонькам Кондашевки. Бродил среди темных, в наледях улиц, надеясь на чудо встречи. Знал, что оно возможно. Продрогнув, неся в оледенелом теле живую, горячую боль, боясь ее потерять, брел обратно.
17
Горшенин, весь день проведя у постели поминутно слабеющей бабушки — то тихое забытье, то мгновенные прояснения памяти: «Ты, Алеша? Как я тебя люблю!» — тревожась о Маше, вернулся в город, надеясь увидеть жену. Не нашел, огорченный, проплутал по улицам, снова возвращаясь к страхам о бабушке, заторопился к Иртышу, в Кондашевку.
Через реку по наезженной, уже раскисавшей дороге, среди обтаявших глыб и тросов, вмерзших в лед железных крюков и прутьев, пробирались сани. Возчик Михеич приезжал в Кондашевку, в артель слепых, забрал урочный груз наработанных жестяных венков. Задержался с мастером, распивая бутылочку. Выехал по-темному, сидя на проволочном ворохе, гнал лошадь через Иртыш, насвистывая и причмокивая. Сани, соскользнув с колеи, застряли в надолбах льда, запутались в крючьях и проволоке. Михеич, не слезая, кричал и ругался на лошадь, дергал свирепо вожжи. Слез и рвал ее под уздцы. Толкал сзади сани, пыхтя и ругаясь. Плюнул, встал, отдуваясь, кляня конягу, не зная, что делать.
На него и набрел Пушкарев, возвращаясь в город.
— Стой! Слышь, милый человек, подсоби! А то ишь, ячменна кладь, задом вильнула и втряскалась! А эти, чертяки, всю реку железом заклякали! Крюк на крюке! Вишь, сани поймались! Давай хоть маленько толкни!
Пушкарев стал послушно толкать, поскальзываясь, слыша хрип и фырканье лошади, ругань возчика, огромный, студено-серый ветер и подледные гулы и бульканья еще спящей, готовой к пробуждению реки. Думал: «Это я? В самом деле? Ночь, сибирская река, мои мысли и боль о Маше, эта лошадь и сани, моя проходящая жизнь?»
— А ну давай шибче! — командовал возчик. — Ну ты, ячменна кладь! Ломом тебя по башке!.. Фу ты черт, втепались! Вморозило их али как?
Из тумана и влажной изморози, неверная, шаткая, возникла фигура. Михеич окликнул:
— Стой! Слышишь, милый человек, подсоби! Вкатюрились мы тут, бельмо ей на глаз! Подтолкни!
Горшенин послушно и молча подошел к Пушкареву, ухватился за задок саней. По крику Михеича оба, не различая друг друга в лицо, но касаясь плечами, локтями, стали толкать сани. Михеич зло понукал не то их, не то лошадь. Горшенин поскользнулся. Пушкарев его поддержал, и тот, отпуская сани, сказал:
— Спасибо!
— Несчастная лошадь…
Пушкареву вдруг показался необъяснимым и важным этот случайный обмен словами с невидимым чужим человеком посреди ледовой реки, готовой сорваться и бесследно стереть среди пены и льдов эту встречу, саму память о ней, слабый человеческий голос, и пока они вместе, еще не разошлись, не пропали, могут обернуться друг к другу, поведать о своем, сокровенном. Он-то о Маше, а этот, другой, о чем?
На берегу, на съезде, вспыхнули фары. Лизнули дорогу. Выкатили на лед. Понеслись, увеличиваясь, ослепляя. Были уже близко вместе с ровным тяжелым рокотом двигателя. Михеич, выскочил, замахал руками. Грузовик накатился и встал, уперев бело-огненные фары в оскаленную лошадиную голову со сверкающим слезным глазом. Шофер выпрыгнул из кабины. Михеич кинулся ему объяснять.
— А магарыч будет? — хохотнул шофер в пушистой, волчьего меха шапке. — За простой! Мне груз везти на насосную, а ты со своим конягой путаешься!.. Ну ладно, сейчас дело будет!
Ловко и весело, словно радуясь, извлек из-под сиденья толстенный трос, набросил петлю на крюк «магируса», попадая шапкой в бьющий, алмазный свет фар. Другой конец проволок над лошадиной спиной, сквозь оглобли. Охватил им полоз саней. Пушкарев, узнавая Солдатова, хоронился в тень. Мимолетно подумал: «Янпольский послал машины… Начались ночные рейсы на станцию!»
— Ну вы, кавалерия, отвали! — крикнул шофер из кабины. Стал пятить машину. Лошадь визжала и билась, чувствуя у тела напряженный, гудящий трос. Сани хрустнули, вырвались из капкана. Рывком, поддав лошадь, вынеслись на дорогу.
— Ой, ловко! — ликовал Михеич, подскакивая на подножку. — Ну ловко, ячменна кладь!
— Ладно, дед, не хвали! Сила в моторе…
Шофер убрал трос, прыгнул в кабину и погнал «магирус», врезаясь во тьму, неся впереди снопы драгоценного света. Михеич, счастливо чмокая, уселся на ворох венков, покатил по дороге.
Пушкарев и Горшенин еще постояли на месте и молча разошлись. Пушкарев — за удалявшимися санями, звякающими чем-то печально и тихо. Горшенин — за исчезающим светом машины.
18
Мать, изнуренная за день, спит за стеной. Ночная лампа горит. Столик с лекарствами, с чашками, с оброненной серебряной ложечкой. Старый шкаф с отцовскими книгами отражает в стекле красноватый огонь. На кровати, на высоких подушках, утонув маленьким, сморщенным лицом, бабушка в забытьи. Горшенин, обессиленный нескончаемым течением ночи, смотрит беспомощно, как выгорают в этом маленьком любимом лице последние капли жизни.
Ему показалось, что она задремала. Задышала тише, спокойней. Выключил свет, прислушиваясь к ее близким вздохам. Лежал, боясь заснуть. Но его усыпляло, устремляло в слепое скольжение сна.
Проснулся от внезапного, чуть слышного звука внутри себя, похожего на легкий хруст сухой обломившейся ветки. Лежал, не раскрывая глаз, зная не разумом, не страхом, а всей возникшей в нем тишиной, что это случилось.
Он медленно протянул во тьме руку. Нащупал лампу. Включил. Медленно повернул голову вдоль шкафа с отраженным в книгах огнем, вдоль столика с чашками и оброненной серебряной ложечкой, на кровать, на подушки, где темнело маленькое, уже не дышащее, беззащитное, не нуждавшееся в защите лицо.
Горшенин встал. Осторожно прошел босиком в соседнюю комнату. Включил свет.
— Мама, — позвал он. — Мама…
Утром бабушка, маленькая, убранная, в белом платочке, лежала на постели, укрытая пледом. Окруженная предметами, сопутствовавшими ей весь век ее жизни. Узорная, из разноцветных стекол лампа на бронзовых потемнелых цепях. Старинный буфет с едва золотящимися чашками и тарелками — остаток свадебного, поколотого наполовину сервиза. Разросшийся цветок на окне, который посадила когда-то. Истертый коврик с маками — давнишнее ее рукоделие. Стояли под кроватью ее стоптанные шлепанцы, а в углу — отполированная прикосновениями сосновая палочка.
Мать, в черном торжественном платье, в батистовом черном платке, озабоченно-тихая, растерянная, гремела посудой. В комнату входили, вставали у порога немногие соседи, знакомые. Иван Тимофеевич вошел осторожно, на ощупь, стягивал шапку, занося на валенках снег. Стоял в черных очках, с приподнятым хохлом на макушке. Появился Мызников, трезвый, деловой, с зацепившейся за свитер стружкой. Он строгал в сенцах тесовые доски, вошел на минуту, смерив бабушку плотницким острым, снимающим мерку взглядом. Его жена Клава помогала матери, стряпала винегрет, ставила на подоконник бутылка с вином. Появилась старушка из соседнего дома. Приблизилась к бабушке и стояла, негромко приговаривая:
— Милая ты моя, что ж ты меня не встречаешь? Чай не завариваешь? Не усаживаешь?
Горшенин, раздобыв две лопаты, оделся, собираясь на кладбище, за Кондашевку, рыть могилу, не зная, кого пригласить на помощь.
По лестнице, грохая каблуками, подымался парень в полушубке.
— Где тут Горшенин живет? — спросил он, щурясь в полутемных севцах. — Горшенин, художник?
— Это я, — ответил Горшенин, стараясь разглядеть человека.
— Это вы? А меня не помните? Я Сенька, сварщик. Вы сказали: зайти за красками… А эта ваша выставка в складе? Я говорю ребятам, я знаю его, схожу к нему. Краски мне обещали…
— Да, да, помню… Только вот видите… Горе у нас… Я на кладбище… Могилу копать…
— А кто помер?
— Бабушка… На кладбище мне…
— Не знал, простите… Думал, дай зайду, возьму краски. Про выставку расскажу. Мы с ребятами были, нам нравится. Ребята привет передали. А то день у меня свободный, делать нечего, дай, думаю, зайду.
— Да, да, понимаю…
— А давайте вам подсоблю. Все равно делать нечего. А вдвоем ловчее. Давайте!
Он принял у Горшенина обе лопаты. Тот кивнул благодарно. Они вышли на свет, на воздух.
Горшенин шел, расплескивая звонкую воду, видя, как плюхаются черно-синие стальные грачи с желтыми костяными носами. Узнавал милые с детства коряво-дуплистые, озолоченные по вершинам ивы, старый мост на косых столбах и далекий, в березах, бугор кладбища. И хотелось ему, охватывая глазами всю любимую, неоглядную, родную красу, хотелось ему плакать, не от горя, а от той неясной двойственности, то ли больной, то ли сладостной, в которой являлась жизнь: это он, молодой и счастливый, идет вдоль душистых ив, пугая неохотно взлетающих птиц? Или другой, изнуренный, в день бабушкиных похорон расплескивает талую воду под истошные крики грачей?
Семен чавкал впереди сапогами. Покуривал молча, не досаждая разговором Горшенину. И тот был благодарен незнакомому, нежданно явившемуся человеку.
Поднялись на бугор, и открылись поля, бесснежные, в белесых гривах и проседях, в набухших пашнях, в напоенных водой суглинках. И студеный, туманный, тронутый весенними силами, но еще неподвижный Иртыш.
И Горшенин знал: здесь, на этом бугре, в этих днях и минутах, завершается огромная, важнейшая часть его жизни, отлетает назад, превращается в память, готовя ему освобождение от прежних страхов и горестей, давая место другим. Оно еще здесь, не ушло, еще собрано в тесной их комнатке под стеклянным цветным фонарем. Но вот-вот исчезнет, отпуская его для других исканий, наградив на прощание, до конца, до последней черты, своей чистотой и любовью.
Так он думал с расплывшимися от слез глазами, в которых дрожало голубое и белое.
Горшенин копал, стоя с головой в яме, отсекая лопатой металлически-твердые подковки земли. Вышвыривал вверх. Яма оттаивала. Сочная чернота оплывала в открытую солнцу и ветру глубину. Белел перерубленный березовый корень. Водяная блестящая струйка прорвалась и падала в яму. Высокая над могилой береза мотала голыми ветками. Качала орущего, в растопыренных перьях, грача. Семен, устав от копанья, сидел на корточках на краю:
— У меня тоже дед помер. Так я в отпуск приезжал, изгородку ему сварил. Ты давай покажи, какую, я те мигом сварю.
Горшенин копал, натирая волдыри на ладонях. Небо из могилы было высоким и синим. Грач улетел, но, сверкая, пронесся чибис. Все двоилось и плыло. Вспомнилось: бабушка сидит под березой, читая книжку, а он глядит на нее, на белую шляпу, на юбку, и сверху упал птенец, угольный, с алым зевом, и он, обрадовавшись, несет вороненка бабушке.
Теперь он копал и думал, что не зароет свою память о бабушке, а посадит сюда, словно дерево, и оно будет цвести и расти.
«Только Маши все нет… Только бы Маша пришла…»
— Слышь, смотри! — сказал сверху Семен, — Иртыш, что ль, пошел?
Протянул Горшенину руку, помогая выбраться. И тот, осыпая ногами землю, вылез наружу, вглядываясь сквозь поля.
За гривами старой стерни, в огромном, пустом, с голубыми лучами пространстве, двигалось, менялось далекое, неразличимое живое, грозно прекрасное. Мерное, плавное шевеление, едва различимое среди движения ветра, неба, ручьев.
А в нем, в Горшенине, в его слезных глазах, в рвущейся на простор душе — внезапный удар счастья, прозрения. Могучая, всеведущая и вездесущая сила тронула его всем своим светом, распахивая настежь просторы. На последних, сочно-белых снегах, у гремящей льдами реки расставляли столы, далеко, до лесов и полей. И сидели в неоглядном застолье, на сколько хватал глаз, все живые и мертвые, жившие на этой земле. Его прадед и дед, павший в сражении отец, его мать в белоснежном наряде, и бабушка, вся в кивках и улыбках, и друзья, их любимые лица, и Маша, жена, с сияющим, чудным лицом. Все сидели и ждали его. И там, где недавно темнела яма, вырастало огромное, шумящее листьями дерево, покрывало собою небо.
19
В сущности, все уже кончено. Кануло, пусто, и надо об этом поведать. Ему, Петру, поклониться, чтоб простил. А после к Алеше, пасть ему в ноги, чтоб судил и казнил! Только как? Где силы-то взять? Нету сил на признание…»
Маша шла слободой, пустой и безлюдной, без дымов, без собачьих лаев, с мерным звяком гусениц и моторов, внезапным хрустом и скрежетом падающих ветхих домов.
«В сущности, что оно было? Искушение? Мечтание? Я-то все та же! Смертная, грешная, ядринская, как Алеша как-то сказал. И пойду, упаду ему в ноги, как делали бабки-прабабки. Вот только решиться».
Она подошла к знакомому дому с протоптанной узкой дорожкой, хранившей следы их ног. Стояла, сжимая ключ. Не хотела входить. С нежеланием, тоской, с чувством вины думала, как придет сейчас Пушкарев и она ему скажет… Поведет рукой по убогой, облезлой комнате с холодной печью, незажженной керосиновой лампой: «Очнемся, уйдем!..»
Залязгало, задымило в проулке. В блеске гусениц, держа на весу стальной передник, выкатил бульдозер. Парень со смехом крикнул ей из кабины:
— Чего стоишь? Твой, что ли, дом? А если сломаю?
— Ломай! — она вдруг обрадовалась, восхитилась: — Ломай!
— Ишь ты, какой прораб! Без тебя знаю. Это за сегодня четвертый. Смотри, как надо!
Он плотно уселся, качнул рычаг. Бульдозер двинулся с места и ударом ножа проломил трухлявый забор, уперся сталью в рубленый угол, надавил, крутя гусеницы. В недрах дома повело, заскрипело, потянулось, не желая рваться, и вдруг с громким, похожим на вопль, ударом треснулось и раскололось. Лопнул бревенчатый короб, рассыпался, и бульдозер въехал в грязную тучу пыли.
Маша смотрела на эту сокрушительную работу и вдруг почувствовала свободу, облегчение от бремени. Глядела, как крутятся гусеницы, истребляя ее недавнее, казавшееся ослепительным прошлое, и, резко выхватив из кармана ключ, кинула в развалины дома под гусеницы бульдозера, быстро повернулась, пошла.
За углом проулка увидела машину. Пушкарев, поймав ее за руку, почти силой увлек на сиденье. Она отворачивалась от него, говорила:
— Да нет, все пустое! Все прошло, и нет никакой другой жизни, а только эта.
— Не верю! Так не бывает! Нам невозможно так просто… Я люблю тебя!
— Я устала. Пойду. Все было хорошо. И довольно… У тебя иные заботы. Зачем тебе это? Ты скоро тоже очнешься. Ты спрашиваешь, что это было? Наваждение, или, как у нас говорят, напущение.
— Перестань, замолчи! Мне больно!
— Больно? И слава богу! Слава богу, что нам еще больно!
Она выскользнула из машины. Пушкарев вышел следом за ней. Шли по улице. Он удерживал ее руками, глазами, умоляющей речью:
— Нет, так не можешь уйти! Это нельзя разорвать, нельзя исключить!.. Ту лестницу с фонарями… И тот снегопад, когда розы на платке из-под снега… И с шелестом посыпалось с крыши, и зрачки твои дрогнули… Это не может исчезнуть. Что ты придумываешь? Для чего? Мне в наказание? За что?
— Ну какое там наказание? Спасибо тебе за все. Не суди меня. Мы будем встречаться, кланяться. Ведь мир-то наш тесен, городок-то наш тесен. Но ни словом, ни жестом… Как чужие.
— Нет, не чужие! Ближе, дороже нет никого! Я тебя не оставлю. Это минута, ты устала. Наверное, и я несносен с этой работой… Пойди отдохни. Ну хочешь, на неделю расстанемся? Ну на месяц? А потом, как ты обещала, — луга, цветы, кони на мелкой воде!
Они почти бежали. Прохожие на них озирались. Она отмахивалась от него, отбивалась:
— Оставь меня, умоляю! Мне теперь о другом!.. Приду и хоть в ноги!.. Или просто встану, скажу: так и так, если можешь, прости!.. Ну оставь, уже скоро дом!
— Маша, милая, я понимаю: молва, злые языки, городишко… Ну хочешь, уедем? Завтра! К морю, в цветение, в весну… И все у нас будет… только словечко!.. Выслушай меня!.. Ничего мне не нужно, только ты!.. Ведь такое раз в жизни, и нужно беречь, дорожить…
— Оставь меня!
— Ну что он тебе, твой муж… А я… Помнишь, как поднимались на башню?.. Маша, вспомни, я умоляю!..
— Оставь, я тебя не слышу!
— Маша!
— Я не слышу тебя!..
Резной теремок театра отразил окошками солнце. Пушкарев остался один, глядя, как она исчезает. И казалось: театр в огне.
20
«К Алеше, теперь к Алеше! Простит — и навеки с ним, в глаза ему открыто глядеть, в глаза его чистые, добрые!.. Не простит — сей же час соберусь и уйду, непрощенная, на край света!»
Так думала Маша, почти бежала по городу. Столкнулась с Городковым.
— Ты куда, Маша. Борзые за тобой или кто?
— Алеша где? Мне нужно к Алеше!
— Да он на выставке. Там его ждут. У него триумф, понимаешь! Я давно предсказывал, время его придет!..
Не дослушала, побежала.
Пузырился огромный склад, как юрта. Столб с афишей. Людно. Мелькнул зрачок кинокамеры. И по стенам, повсюду, куда ни глянь, она сама смотрела из синего, алого, колеблемого ветром пространства, с кротким, чудным лицом.
«Алешенька, я не такая!.. Я грешная, темная… Алеша, прости ты меня!.. Где ты, Алешенька!..»
— Гляди, да это она, — услышала за спиной Маша. — Везде она самая нарисована! — рабочий в спецовке смотрел на нее изумленно. — Коля, она, говорю!..
Подскочила Лямина:
— Маша, здравствуйте! А где же ваш муж? Мы все его ждем. Такой важный для всех нас день! Такая прекрасная выставка! Где же он? Съемочная группа волнуется…
И ее не дослушала. Выбежала, метнулась к дому.
Вбежала в комнату. Холст, кисти, краски, голубая рубаха мужа. На столе записка: «Маша, бабушка умерла…»
На мгновение оглохла. Очнулась. Ну конечно, туда, в Кондашевку. Там, где мост, дуплистые ивы, — там признаться Алеше, искупить не слезами, не клятвами, а всей промелькнувшей их юностью, всей красотой и любовью, всей верностью до конца.
Выскочила на улицу — и к реке. Иртыш стоял черно-синий, набухший, пропитанный светом и донной влагой. По льду на середине ходили вороны. Мальчишки кидали камни в водяные закраины. Из воды, у затопленной железной баржи, выгибалось зелено-белое ледяное ребро, источенное лучами, стекало капелью, осыпалось колкими, шуршащими иглами.
Две машины застыли у спущенного шлагбаума. Шоферы стояли рядом, угощали папиросами дорожника, караулящего переезд.
— Вы не в Кондашевку? — подскочила Маша. — Не подвезете?
— Кто бы нас подвез, — невесело хмыкнул шофер. — Вон начальник на лед не пускает… Пусти, начальник, у меня амфибия, мне во как надо! У меня корова телится. Баба одна не управится.
— Стоп, ребята, отъездились, — затягивался дымом дорожник. — Жди, пока Иртыш не пройдет. Дорога не держит. Ухнетесь — мне отвечать. Будет тебе корова.
— Мне туда надо, — Маша тянулась к ледяному сверканию. — Мне в Кондашевку…
— Вот погоди деньков пять, пройдет лед. Пустят паром. Проедешь!
— Да мне сейчас!
— Ну тогда вертолетом.
И он сурово закрутил на крюке веревку, закрепляя намертво бревно с красным знаком.
Маша кинулась в сторону, вдоль берега, — везде была вода, метнулась обратно в город: может, и впрямь вертолетом? Позвонить Пушкареву, поможет… «Господи, да что это я!..»
Ее нагнал грузовик, рявкнул над головой и встал. Из кабины с бронзовым, загорелым лицом, белозубо скалясь, высунулся Солдатов:
— И куда это мы бежим? И кого это мы потеряли?
— Солдатов, вы? Это вы?
— Это мы, Солдатов, а что?
— Солдатов, голубчик, спасите! Они не пускают!.. Мне очень нужно… Они говорят, пять дней… Мне нужно в Кондащевку. Они говорят, вертолет… Помните, вы мне тогда обещали… Позвать, когда будет худо… Солдатов, родной!
— Конечно, какие дела! Мне самому нужно. Вон видишь, заглушки везу на насосную. Заглушки привезу — пустят станцию, а нет — погорят на неделю. Опять на Солдатова Родина смотрит! Руку давай! Садись! Да мы с тобой птицей! Тут оттолкнемся, а там приземлимся! Солдатов сам вертолетчик! Ну, садись, говорю!
Она впрыгнула, хлопнула дверцей, Солдатов развернул грузовик, оглядываясь на нее счастливым лицом. Она ему улыбалась, кивала. С грохотом промчались по улице. Вынеслись на берег. И, не сбавляя хода, огибая шлагбаум, отмахиваясь от беззвучно кричащего, машущего дорожника, рванули на лед. Врезались в воду, подняв над радиатором столб. В скрежете, лязге, выруливая, объезжая промоины, гнали среди сверкания, шевеления льдов. Он оглядывался на нее с восхищением. И они летели под его гиканье, крик:
— Подарила мне цветочек, красный, белый, неживой!..
21
Пушкарев выкатил на «Волге» к высокому яру, где стоял обветшалый дом, готовый под снос, с дырявыми боками, выбитыми стеклами, осыпающийся деревянной трухой. Одинокий корявый дуб протягивал к Иртышу железные ветки. На другой стороне плавной дугой, возникая из туманных полей, разрубая заречную слободу, чернел газопровод. Обрывался у кручи, собираясь нырнуть под лед. А здесь ему готовили встречу, рыли берег, точили ложе. Работали бетономешалки, ползали тракторы и бульдозеры. Парень в робе крутился у теодолита, заглядывал в окуляр, кому-то махал и кричал.
Пушкарев видел блестящие крыши нижних домов, прогалы улиц, съезд к Иртышу с темной дорогой через сочное пространство реки. Видел, как внизу остановился оранжевый «магирус» и женщина, неразличимая отсюда лицом, но угаданная Пушкаревым по белому тулупчику, пестрому платку, по бог весть какому еще, не имевшему объяснения сходству, — женщина кинулась к шоферу, и они говорили, отделенные от Пушкарева огромным объемом блестящего воздуха, а потом она села в кабину, и грузовик, пропадая за домами и вновь появляясь, двинулся к съезду.
Пушкарев подскочил к теодолиту, отстраняя парня. Прижался глазом к прицелу и сквозь тонкую сетку видел увеличенную кабину, Машу, ее платок. Грузовик, минуя шлагбаум, подскакивая, скатился на лед. Помчался, одинокий, оранжевый, по зыбкой дороге, окутываясь взрывами брызг. И все столпились вокруг Пушкарева, наблюдая движение машины.
— Куда черт понес! Переправа закрыта! Ухнет!
— Лед как кисель!
— Ни себя не жалеют, ни технику! Во, гляди, провалился!
— Нет, опять выскочил!
Пушкарев следил в окуляр за гонкой машины. Окунулась по ось. Вильнула прочь от промоины. Зарылась радиатором. Занесло, развернуло хвостом.
С высоты откоса, отделенный от Маши, страшась за нее, зная, что она его покидает, оставляет его навсегда, молился за нее бессловесно, чтоб ее спасло, сохранило. Несся над ней, выхватывая из воды грузовик, провожая к другому, далекому берегу.
Видел: машина, одолев Иртыш, ухватилась передними колесами за наезженный скос. Повисла, борясь и цепляясь, готовая сорваться. И последним усилием выбралась на твердую землю, окутываясь грязью и дымом, покатила к домам слободы. А Иртыш, словно поколебленный этим последним толчком, переполненный последней каплей, дрогнул, покачнулся в своих берегах, мерно двинул свои ледяные поля с дорогой, торосами, истошно кричавшими птицами.
Пушкарев все смотрел в перекрестие на исчезнувший грузовик.
Земля отрывала от себя последнюю зимнюю твердь, превращая ее в грохочущее ледовое мессиво. Река сосала, грызла, колола льдины, перевертывая их, подымая, опрокидывая наотмашь в тяжелую грязную пену. Силы света и ветра неслись над Сибирью, сжигая остатки снегов, одевая ее в зеленое, синее.
Пушкарев объезжал стройплощадки, где начинали бетонировать фундаменты под первые колонны реакторов. Свободная от леса равнина, взрытая, похожая на весеннее вспаханное поле, с редким движением тракторов и бульдозеров, дымная и парная, словно в свежие, черные борозды упали обильные ливни, готова была к посевной.
Он подъехал к первому котловану, наполненному колючим железом. На кромке стояли люди. Бетонщики, в робах, плечистые, в сапогах, с цветными эмблемами на рукавах и на касках, держали вибраторы словно рукояти плугов. Желтые краны свесили над ямой крюки. Ковши экскаваторов, стертые до блеска ножи нацелили в яму свои зеркала, бросали снопы отраженного солнца. Высокая туча, голубая и сизая, накрыла шатром котлован. Все оглядывались на пустую дорогу, ждали появления бетона.
Янпольский, взволнованный, чисто выбритый и парадный, подошел к Пушкареву:
— Петр Константинович, с завода сейчас звонили. Бетоновозы пошли. Скоро будут. Начинаем первую очередь.
Пушкарев кивнул. Оглядел стройплощадку, изумившись, задерживаясь взглядом на веренице людей, приближавшихся к нему сквозь робы и каски бетонщиков.
Творогов улыбался ему и кивал, осторожно ступая, по-капитански прикладывая ладонь к бровям, озирая лоно котлована.
— Петр Константинович, я считаю, вот здесь! Здесь мы будем играть спектакль! Ни в каком ином месте! Там, внизу, мы ставим помост, там сцена, актеры. Здесь, по склонам, размещаются зрители, тысячи, как в греческом амфитеатре. Именно здесь мы даем представление!
— Отличная мысль! — слегка улыбнулся Янпольский, любезно поддерживая режиссера, переводя его бережно через лужу мазута. Но не забудьте, стройка идет. Вам понравился котлован? Но к тому времени, когда вы явитесь сюда с вашей пьесой, котлована уже не будет. Здесь встанут колонны! Вот такие громады, похожие на космические ракеты. Здесь будут газ, огонь, производство.
— И отлично! Это то, что требуется! — Файзулин шлепал напрямик, без дороги, зажав в руках обломок топливной трубки, пытался ее продуть. — Это то, что надо! Фюзеляжи, ракеты! В последней сцене летит космонавт. Если бы вы запустили реактор, мы бы играли среди огня, рева форсунок. А что, в самом деле! Вы бы не могли запустить комбинат к началу спектакля? — он продул трубку, издал сквозь нее радостно-хриплый клекот.
— Вы отличный трубач, Файзулин, — заметил подошедший Елагин. — Две трубы и оркестр сваебоев. Ваше предложение надо серьезно обдумать. Даже можно выдвинуть лозунг: «Даешь комбинат к началу спектакля!» — И умолк: под синеющей тучей почудился ему вдруг его город, крылатое многоглавое диво чуть слышно прозвенело и кануло.
— Не знаю, не знаю, как мы здесь станем играть, — недовольно ворчал Слепков, с сожалением глядя на свои новые, перепачканные грязью ботинки. — Какой-то помост, реакторы! Провалишься к черту в этот реактор, и сделают из тебя чистый бензин. А ведь я не Файзулин. Бензин из меня не получится!
— Надо меньше мучного есть, тогда и помост не провалится, — усмехнулась Гречишкина. — Уж нам-то с Машей провал не грозит. Мы обе хрупкие, легонькие!
— Пожалуйста, встаньте сюда. — Янпольский выбрал им место повидней и почище. — Посмотрите, как прибывает бетон. Тоже своего рода театральное действие. Премьера, если так можно сказать.
Пушкарев стоял среди тесно сдвинутых плеч, мохнатых ушанок, заглядывал в открытую яму. Старался усилиями своего страдающего рассудка и духа вызвать в себе былую, острую подвижность и бодрость, войти в контакт с этим зрелищем железа и техники, с нацеленными в работу людьми, опять ощутить свою жизнь как единство. Знал: Иртыш несет на себе ледоход, следом идут караваны, принимая в борта удары последних льдин. Везут на огромных палубах сияющие, отражающие солнце махины, провозя их мимо лесов, поречных деревень и поселков. Плывут разобранные на части, развинченные заводы сюда, к стройплощадкам. И он, Пушкарев, поставленный в этом месте, должен свести их в единстве. А в нем оно есть, единство?
— Бетон! — сказал Янпольский. — Наконец-то!
Зашевелились, задвигались, повернулись глазами к дороге. Из леса по наезженной трассе выкатила машина. За ней другая, третья. Приближались, вращая полосатые конусы, в которых ворочался свежий бетон. Им открыли пространство, они подкатывали, осторожно выруливали, вращая стальными квашнями. Пятились к краю площадки, опуская закупоренное сопло.
— Еще, еще! — махали шоферу, подводя его бережно к кромке. — Да не бойся? Не упадешь! Поддержим!.. Стоп, хорошо! — Бетонщики в нетерпении крутили касками.
Янпольский подошел к Пушкареву:
— Петр Константинович, прикажете начинать?
— Начинайте…
— Погоди! — крикнул здоровенный, с рыжими колючими баками, в грубовязаном свитере и железистой робе бетонщик. — На счастье!
Выхватил из кармана горсть монет, брызнул ими вниз.
— Ага, на счастье! — отозвался другой. Стал шарить в карманах, ничего не нашел, кроме оторванной пуговицы от военного бушлата. Кинул ее в котлован.
Янпольский, улыбаясь, хлопал себя по бокам. Выдернул из манжета посеребренную, с камушком запонку, кинул ее:
— На счастье!
Гречишкина засмеялась. Выхватила гребешок — метнула вниз. И все, кто ни был, подходили и сыпали в яму, засевали ее, как сеятели. А потом отступили.
— Давай!
Громче заработал мотор. Горячая, сплошная, тяжкая гуща, хлюпая, потекла, заливая дно, сочно, густо. И ее ровняли и правили, окунали вибраторы, и одно за другим началось грохотанье, сотрясавшее плечи и лица могучих с расставленными ногами людей, погружавших в бетон свои силы.
Пушкарев смотрел на их яростное движение. Ему казалось: у них под руками из бетонного варева медленно, набирая рост, прорастают кинутые сюда семена. Земля, вскормленная трудами и потом, любовями, упованиями, болями, начинала творить урожай.
«Сеем, сеем друг в друга свою боль, свою веру, любовь, и когда-нибудь, через все ожидания, каждый снимет свой урожай…»
Земля клокотала, кипела. В ней шло созревание, творение. Всплывали и лопались пузыри. Разрывались земные крепи, и из них, одетые звоном, в осыпях сварки, вздымались железные башни, качались, мерцали огнем. Громады заводов и ТЭЦ вставали в лесах, окутанные дымом и паром, подымали бетонные головы, пялили в небо глазища, рассыпали по окрестной тайге серебристые ворохи мачт. Пушкарев своей силой и волей, измученным любящим духом, своей верой взывал, выкликал из варева льдов и туманов, вековечных топей и мглы. И на зов его шли корабли, рассылая по могучей воде вой далеких гудков, мчались по рельсам составы, летели в небесах самолеты. И он сам, огромный, стальной, в электрических вспышках, но любящий, живой и дышащий, царил над землей.
Елагин, ступив ногой в мазутную лужу, держась за Файзулина, воздел в синеву глаза. И ему казалось: из тучи, в звоне тончайших труб, как эскадра космических кораблей спускается его Город. И люди в робах и касках готовы его принять.
Рядом с ним Творогов. В восторге, с измененным лицом, побледневший, смотрел на топот и лязг среди дыма, огня и бетона. Туча из неба посылала в него сноп голубых лучей. Колыхала небесный занавес с вышитыми птицами, зорями, движением звезд и светил. И под этими зорями скакали и падали кони, колосились хлеба, целовались и умирали люди, несли на руках кричащих младенцев, подставляли под светлые ливни. И в вечном возрождении всего чудилась ему дивная пьеса, еще никем не написанная, никем еще не поставленная.
Обугленный шар в раскаленных малиновых пятнах сел на дикую твердь. Оплавились крылья антенн. В люках — бушевание огня. Треск и удары обшивки. Космонавт, припадая к визиру, глядел на враждебный грунт. Томился предчувствием. Устремлялся душой к оставленной далекой Земле. К любимому, дорогому лицу.
— Тебя нет, ты исчезла. Между нами пустыня звезд. Все нацеливаю свои телескопы туда, где тебя оставил, где было нам хорошо. Тебя нет, но ты есть. На карте маршрута лежит перстенек, что ты потеряла однажды в половице нашего дома. Слышишь Меня? Отзовись!
— Я знаю. Я тебя наградила. Быть может, когда-нибудь на другой половине вселенной мы встретимся. Да только не узнаем друг друга.
— Узнаем. Как же нам не узнать? Видишь, в моем корабле среди пультов, приборов стоит медная лампа с треснутым закопченным стеклом. Лежит горстка колючих семян, собранных с сухого бурьяна, что терся о наши стены, и нам казалось, наш дом звенит. И висит твой темный, в розах, платок.
— Ты взял все мои подарки?
— Если мне суждено вернуться и я снова спущусь на Землю, я зажгу нашу лампу, раскину платок, и из роз посыпется чистый снег, засинеют на горе фонари, заиграет огонь в печи, и ты снова сбежишь ко мне по высоким скрипучим ступеням. Да? Так и будет? Скажи!..
22
Над Сибирью шел самолет. Министр возвращался из ледовых прибрежных тундр, где в низовьях Оби и Таза, когда-то безлюдных, строились новые города и заводы. Министр слушал эксперта, разложившего на столике карту, вставал, ходил по дрожащему салону, снова садился.
— Наше глубокое убеждение, Петр Константинович, в целесообразности концентрировать группы заводов, подключая их к сложившимся прежде структурам. Это все ваши мысли, ваш прежний ядринский опыт.
— Я вас понял, вы уже говорили… Мне эти мысли известны…
Отворилась дверь пилотской кабины, и, снимая наушники, вышел командир корабля. Наклонился к министру:
— Петр Константинович, вы просили… Будем сейчас пролетать. По курсу Николо-Ядринск…
— Ах, да! Благодарен…
Он прижался к иллюминатору острым лицом.
Недвижно вращались винты. В пустой синеватой бездне, где кудрявились и зеленели леса и петляла речная блестящая лента, выплывало в прозрачной дымке чешуйчатое, живое, стоглазое, посылало ввысь к самолету неясные, размытые отсветы.
Министр, не отпуская глазами проплывающий город, читал из неба ясный, понятный ему чертеж. Наблюдал квадраты площадок, наполненных сложной, ветвящейся россыпью, весь живой серебряный росчерк построенного комбината. Кварталы и площади города с крохотными колючими вспышками окон и мокрых крыш. И старые, потемнелые слободы с кривыми улицами, с белым острием колокольни. Он вглядывался в глубину, разбирая протекавшие внизу письмена. И вдруг молниеносно из бездны, приближаясь на тонком луче, возникло и прянуло, прижалось к окну самолета другое, молодое лицо, счастливое, в трепете крыльев. Летели рядом, разделенные круглым стеклом, что-то шептали друг другу.
Город исчез. Снова клубились леса. Но и их накрывали тучи. Внизу шли дожди.
— Но все-таки, Петр Константинович, мы же не можем не учитывать прошлый опыт, — вежливо настаивал эксперт. — Ведь помните, на коллегии министерства…
— Да, да, — ответил министр. — Помню…
Он смотрел в иллюминатор, и ему казалось: за самолетом все тянется, не желая отстать и погаснуть, след промелькнувшего, явленного ему чуда.
Торговцево, 1978 год
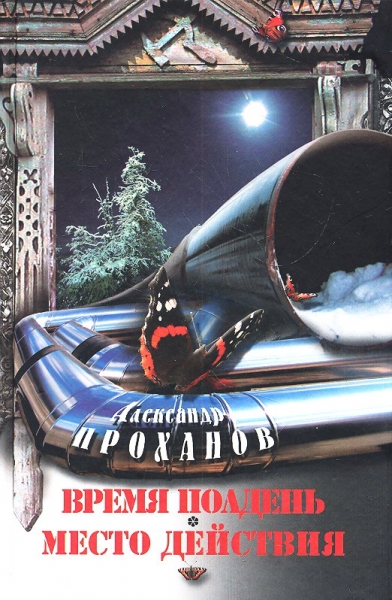


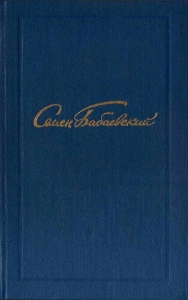
Комментарии к книге «Время полдень. Место действия», Александр Андреевич Проханов
Всего 0 комментариев