День и час
ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ Роман
На фотографии видна часть вагона, окно с приспущенным стеклом и две высунувшиеся головы в нем. Одна — мгновенно узнаю — принадлежит Ваньке Никулину. В глубоко насунутой кепке, смотрит куда-то вбок. Физиономия не сказал бы, что сияет от радости, но при общем минорном выражении правый глаз лукаво сощурен. Кому-то подмаргивает.
Ваньке проще: он прощается с друзьями по строительному техникуму, находящимися где-то за кадром, на перроне, да с невестами — сколько их, несостоявшихся невест, будет еще в его залихватской и на тот момент всего лишь двадцатилетней жизни!
Невесты, как потом выяснится, были сильной Ванькиной слабостью.
Другая голова принадлежит мне.
Вообще-то сейчас уже можно бы самокритично сказать: п р и н а д л е ж а л а… Вот эта юная, хотя мне, Сергею Гусеву, здесь в отличие от Ваньки д в а д ц а т ь д в а, наголо остриженная, какая-то по-юношески угловатая. И это худое лицо с глубоко запавшими скулами. И эта длиннопалая ладонь, выставленная из окна в виновато-прощальном жесте. Принадлежали…
У Ваньки голова тоже остриженная, голомызая, но кепка довольно ловко скрадывает это. Моя же, подставленная солнцепеку — а фотография изумительно передает эту всепроникающую солнечность июньского дня! — как будто бы дважды обнажена. Так и выражение лица: если Ванька еще хорохорится, то мне — видно — не до подмаргиваний.
Потому что человек, еще один, которого захватила фотография, ее еще одно действующее лицо (вернее, лица-то и не видно: только копна волос, хрупкие плечи, обтянутые кофточкой с короткими рукавами, да руки, бросившиеся было к окну, а потом — поняли: не достать, не преодолеть, не удержать — уже не по-девичьи, а по-женски поникшие на полпути) — моя жена.
Потому что за нею — на фотографии его нет, но в жизни-то он уже есть, существует, правда, находясь в данный момент далеко от этого перрона, от этого города, у бабушки, — я вижу из вагона еще и восьмимесячного своего сына Митьку.
Ванька уезжает от невесты, я уезжаю от жены и сына.
Как сказано в одной мудрой книге: «А теперь пора вспомнить, что ты не ребенок, а глава дома и что дети твои плачут и просят хлеба…»
Правда, хлеба вроде бы не просят, но в городе, где я их оставляю, у них нет даже своей крыши над головой. А плакать — ревет будь здоров, особенно по ночам. Развивает легкие.
Стало быть, разница у нас с Ванькой не на два года, а на нечто большее. «…Что ты не ребенок, а глава дома».
Глава дома — без дома.
Потому и жест, и выражение лица у меня, тогдашнего, не просто прощальные, а еще и виноватые.
А вообще-то вот что обнаженнее, больнее всех передает драматическую суть мгновения: вот эта густая копна светлых волос, вот эти хрупкие плечи, вот эти прервавшие свой полет — как подстреленные — или так: на последнем дыхании п л а н и р у ю щ и е (о них действительно не скажешь, что они повисли, они еще плывут, еще парят, снижаясь кругами к земле) руки.
Говорят: в мольбе воздетые. А эти — в мольбе опущенные. Так еще над клавишами зависают: еще миг и… Впрочем, есть в ней самой, в этой юной женской фигурке, что-то и от струны. Которая уже даже не на пределе, а на самом надрыве. Когда уже не упругое, звучное сопротивление, а одно податливое, невыразимо печальное смирение.
Лица, повторяю, не видно, лицо повернуто к вагону, а поди ж ты — все налицо.
Нет, это несомненно лучшая фотография в жизни нашего редакционного фоторепортера Паши Фоминова (провожавшая меня группа сотрудников «Молодого ленинца» деликатно подалась в сторону — их на фотографии нет, — выпустив на авансцену мою жену, ибо поезд уже тронулся), хотя нигде и не публиковалась. Да и сделана почти случайно: Паша тоже отступил вместе с другими «младоленинцами», как мы тогда себя называли, и только в последнюю минуту, спохватившись — реакция профессионала! — щелкнул затвором.
Паша должен быть благодарен мне: не угоразди я в стройбат, не было б у него этого звездного часа! (Впрочем, кто знает о нем — фотография-то лежит под спудом.)
Отступили, давая нам возможность побыть вдвоем — хотя бы через этот раздирающийся обрыв, который жена поначалу тщетно пыталась преодолеть, перелететь — руками.
Отвернувшийся в сторону (может, тоже из деликатности?) Ванька Никулин — на тот момент я-то еще и не знаю, что это Ванька, что это Никулин, который станет одним из лучших моих армейских друзей.
Я — тогдашний. Жена — тогдашняя. Вот и все действующие лица. Да еще всепроникающее июньское солнце, которое так ослепительно бьет в объектив Пашиной камеры.
Да, в той группе сотрудников «Молодого ленинца», которых нет на этой фотографии (зато они есть на других: Паша создал целую фотолетопись моих проводов в армию!) стоит и тогдашний редактор нашей газеты Володя Колесников. Это он, сердобольный, ходил к краевому военкому (мол, может, перенесете парню призыв еще хотя бы на год: учится заочно в университете, а главное, пусть семья хоть немного встанет на ноги). Военком пообещал: если выполним план по призыву. Но план не выполнили, и меня забрали в последний день призыва. Поэтому я, обнадеженный было, и не простился толком ни с сыном, ни с женой. Поэтому и в стройбат попал: других команд уже не было…
А что стройбат: хорошо, что служил когда-то именно в стройбате. Что есть что-то полезное, построенное мною — и мною тоже — на этой земле. А солдаты — где еще такие трудяги, где еще ты нашел бы таких друзей, как в стройбате? Вот Ванька Никулин — собственной персоной…
Два солдата из стройбата Заменяют экскаватор…Помнишь?
…Да, жена тоже тогдашняя, юная. Но, может, потому что лица ее не видно, она-то, мне кажется, — в с е г д а ш н я я. Копна волос, беззащитные, подавшиеся вперед плечи, робко поникшие руки… Даже не всегдашнее, а что-то вековечное ухватил в этой фигуре, в этом мгновении провинциальный фоторепортер Паша Фоминов.
На каком российском полустанке, в какие только годы не стояла она! И может, хорошо, что лица не видно, а есть только этот общий, извечный абрис прощания?
Вновь и вновь смотрю на невесть откуда выпавшую фотокарточку и ловлю себя на мысли: а ведь рука-то ее, молодая, тонкая, гибкая, с м и р е н н а я и смирившаяся, уже тронула незримую клавишу. И эта щемящая, сокровенная — сама душа парусит, распрямляясь, под нею, — извечно русская, как и извечно женская, бабья мелодия уже звучит, нет, уже голосит, уже заполонила, залепила старенькую карточку точно так, как залепило заветный Пашин объектив неуемное, всепроникающее солнце Ставрополья.
На вокзале, отправляя воинский эшелон, играли марш «Прощание славянки».
Недавно прочитал в газете, что один старый царский генерал, эмигрант, волею судеб оказавшийся в Америке, услыхав в глухой ночи по приемнику седьмого ноября сорок первого года в репортаже со знаменитого теперь парада на Красной площади марш «Прощание славянки», решил бесповоротно: надо возвращаться, надо пробиваться домой, в Россию…
А ведь прислушайтесь: в этом марше и впрямь есть что-то от журавлиного: высоко-высоко в небе — «курлы». Прощание и одновременно — зов. Призыв. И плачет, и кличет…
1
Нет, не только сейчас, задним числом, в самолете, а еще раньше, сразу, он понял, что это произошло по его вине. Почувствовал. Почуял. Враз захолонувшим нутром, шкурой, прилипшими к полу пятками. Он и испугался-то в первую очередь своей вины. Собственно говоря, у него еще с вечера было ощущение, что добром это не кончится. Лежал тогда не раздеваясь в спальне на кровати, изо всех сил стараясь удержать свою помаленьку стухающую злость на том достаточно энергичном уровне, когда легче верить (уверить себя), что ты безусловно прав и что гнев твой безусловно праведный. Чего только не летело в костер! — обрывки старых споров, обид, предположения (управляемые, на длинной и все-таки крепко намотанной на руку вожже), что жизнь не удалась, что вечная его поденка никем в доме не ценится и даже не замечается, что…
Костры гудят высокие, Костры горят горючие…И все-таки пламя спадало, когда через захлопнутую дверь он услышал, что жена прошла в комнату к теще и, плача, стала допытываться:
— Ты что, обещала ему к вечеру капусты потушить?
— Да нет, — медленно, недоуменно отвечала та.
— Как же нет! Он говорит, что обещала, — продолжала жена запальчиво. — Скандал мне на кухне устроил. Не кормят его, видите ли. Переработался! Бутылку швырнул, мне стеклом ногу порезало. Вон, смотри, кровит…
Вот тогда-то он и почувствовал неладное.
Пусть бы та что-то ответила, пусть бы тоже закричала (чего он, честно говоря, и представить не мог — чтобы теща кричала), пускай бы, наконец, заплакала.
Только бы не молчала.
Он это молчание там, за стенкой, не то что слышал, чувствовал — осязал. Оно затягивалось, и он погружался в него, как в холодную осеннюю воду: так ему становилось неуютно и тоскливо. И хоть лежал по-прежнему при полном параде, кожа от соприкосновения с этим сопредельным молчанием стала пупырчатой, гусиной. Мальчишеской. Не дядя — 182 на 82 — лежал наискосок расфуфыренной кровати, а нашкодивший пацан.
«Зачем она?» — уже не с раздражением, а с неприятным для себя удивлением думал он о жене.
Это было впервые — что жена на него кому-то жаловалась…
Теща молчала.
Он не лежал на кровати — он был придавлен к ней, потому что уже тогда почувствовал, как на него, на его дом надвигается, наваливается беда.
2
Вспомни Муртагина.
Азат Шарипович Муртагин.
Подполковник Муртагин.
Чингисхан.
Почему Чингисхан?
Вспомнил?
Он был невысокий, в меру плотный той не очень твердой, податливой, выспевшей плотностью, что нередко первой отличает людей восточной крови. Ее даже можно было бы назвать не плотностью, а полнотой, если бы не исходящее от нее ощущение, предчувствие скрытой и скрытной силы, пружины, упрятанной в недрах этой мякоти. Она, кстати, характерна и для некоторых представителей меньших, если их можно назвать меньшими, братьев человечества, в коих природная сила сочетается с известной осторожностью и даже некоторой барственностью. Негой. Немного сутулится, голова на короткой шее почти всегда опущена вниз. Он и ходит, глядючи не по сторонам, а неизменно себе под ноги. То ли настолько занятый своими мыслями, то ли в такой степени осторожный, коррегирующии каждый свой шаг.
Шаг у Муртагина неспешный, мягкий, кошачий. Во что бы ни был обут — а ты видел его и в сапогах, и в валенках, и в дешевых офицерских туфлях, — всегда кажется, будто скользит по полу в сафьяновых «черевиках» с заломленными носами. Муртагин имел способность неслышно и неожиданно вырастать у человека за спиной. Даже ваша обычно скрипучая, как немазаное тележное колесо, дверь к нему нечувствительна. Раскрывалась мягко, беззвучно, оглянешься — на пороге подполковник Муртагин. Смешно сказать, первое время ты вскакивал при его появлении. Обдергивал гимнастерку, вытягивался во фрунт:
— Здравия желаю, товарищ подполковник!
Правда, это продолжалось недолго. На второй или третий день тот в ответ сказал:
— Успокойтесь, товарищ сержант.
С тех пор вы здоровались за руку. К тому же однажды на теперь уже спокойное, почти цивильное «товарищ подполковник» он ответил, что его зовут Азат Шарипович. И назвал тебя по имени. Но это у нас не прижилось. Ты его по-прежнему за редким-редким исключением (когда вы не на людях, когда вы, например, за полночь сидели над каким-либо докладом: он в своем кабинете, а ты один в вашей общей комнате со скрипучей дверью, он писал, а тебе приносил готовые странички перепечатать — машинистка Валя давно отпущена — и, если что не так, поправить: «Я же человек нерусский») звал товарищем подполковником. Он это принимал и больше тебя за редким-редким исключением Сергеем не погонял. В понятие «если не так» входили, между прочим, не только орфография и синтаксис: принеся иной раз очередную страничку, Муртагин требовал или просил (считай как хочешь) прочесть ее при нем и, вроде бы шутливо, но довольно основательно стоя у тебя над душой и даже заглядывая в нее своими темными, лишенными блеска и оттого как бы впитывающими все вокруг глазами, спрашивал: а что думают на этот счет товарищи сержанты? а товарищи рядовые? — когда еще переводил тебя на службу в политотдел, он первым требованием ставил знать мнение рядовых. У вас с ним установилась дистанция вытянутой руки — наиболее короткая по армейским меркам: не каждый офицер здоровается за руку с сержантом.
Кстати, все в вашей комнате здоровались с ним за руку. Майор Ковач — старший инструктор по оргпартработе. Маленький, крепкий, открытое лицо, светлые, с проседью волосы отброшены назад. Вот кто любил здороваться! Рука короткая, короткопалая, всегда тщательно вымытая и крепко, до скрипа вытертая простым солдатским вафельным полотенцем. Рука довольно сильная, поленообразная, и, как многие небольшие, но коренастые (он и сам поленообразный) люди, он любил этой силой козырнуть. Насладиться. И здоровался так: еще только завидя вас, еще только идя навстречу, уже широко отставляет правую руку, а сойдясь, с улыбкой, с довольным смешком всаживает свою ладонь (это уже не полено, это уже клин!) в вашу. И удовлетворенно хакает:
— Хха!
Дровосек.
— Вот это поздоровались!
Если ваша ладонь улетит при этом выше вашего носа и если вы по прошествии здоровканья будете долго трясти свои слипшиеся, онемевшие пальцы и дуть на них, как на горячие сосиски, майор Ковач отечески утешит вас:
— Годен к нестроевой!
Майор Ковач все делал с удовольствием. С азартом. Он не жил — аппетитно поедал эту жизнь. С удовольствием отчитывал молоденьких ротных замполитов (вот на кого ты смотрел с большим интересом, когда они, особенно новички, появлялись в вашей комнате, где им предстояло пройти, как сыновьям Тараса Бульбы, испытание батькиным рукоприкладством, — а каждого нового человека майор Ковач подвергал особо строгому освидетельствованию на предмет годности или негодности к строевой). Когда не бывал в подразделениях, с удовольствием сидел над своими отчетами, каждый раз напевая при этом одно и то же:
— А где мне взять такую песню?..
Все-таки больше всего майор Ковач любил здороваться с тобой: рука у тебя была когда-то подходящая. Тоже большая, тяжелая, фамильная. От тесного общения с лопатой ладонь сама стала похожей на лопату. Майор Ковач с удовольствием здоровался с нею. Это не то что игрушечная ладошка капитана Купрейчика, инструктора по культмассовой работе. Завидя майора Ковача, капитан Купрейчик начинал жалобно морщиться. Такое впечатление, что капитан иной раз не прочь бы улизнуть, разминуться с напористым майором, предпринять маневр наподобие того, который закладывает прогуливающий школьник, заметив на улице учителя. Но маневрировать в узком штабном коридоре или в вашей общей комнате невозможно. Таран неизбежен!
Штаб сборно-щитовой, временный, походный. Самое капитальное в нем — это два основательных, мордатеньких часовых из комендантского взвода, стоящих у входа со старомодными карабинами у правого носка.
Стоило вспомнить штаб, как тут же в памяти всплывет и капитан Откаленко, твой тогдашний непосредственный начальник. Великолепная грудная клетка на великолепном торсе, и тот в свою очередь — на замечательных ногах. Длинные, стройные, мускулистые. Пособие по ногам. Когда капитан Откаленко заступал дежурным по части и приходил на развод в перетянутой ремнями «пэша» и в хромовых сапогах, то на него любо-дорого было посмотреть. Особенно на сапоги. Отчим у тебя был сапожником, и ты не раз видел, как, стачавши голенища, он жестоко распяливал их на деревянном брусе — даже клинья загонял, чтоб растянуть побольше — обильно смазывал ваксой, начищал, надраивал до глубокого, кажется, изнутри идущего лоска и так оставлял голенища (распятия голенищ) на несколько суток: чтоб они приобрели форму.
Форма замечательная! Кажется, щелкни ногтем по зеркальному сапогу капитана Откаленко, и он зазвенит. Запоет — так прочно стачан и так искусно надраен.
На лацкане капитан носил значок мастера спорта. Когда-то играл в футбольной команде Группы войск в Венгрии.
Если подполковник Муртагин скользит, то капитан Откаленко выступает. Вальяжно, капризно, переставляя замечательные ноги, как переставляет их подобострастно ведомый под уздцы какой-нибудь знаменитый иноходец на дорогом аукционе.
Между прочим, командир строительной части подполковник Каретников, под началом которого ты прослужил — строителем — первый год до перевода в политотдел, всех заслуживающих того ругал одной формулой:
— Надо работать, а не изображать конский топот за кулисами!
Семнадцати лет, в сорок третьем пришедший добровольцем на фронт, подполковник Каретников, видно, давно не был в театре. Не знает, что сейчас не только конский топот, но и нежный вздох изображают фонограммой.
Единственное, что подкачало у капитана Откаленко, это волосы: голова уже лысовата. Короткая стрижка, надо лбом — едва отрывающийся от макушки жиденький растительный мысок. А так все на уровне: лоб, крупный нос, маленький, обычно плотно сжатый рот.
Рот плотно, по-мужски сжат, а все-таки и кажется, будто играет на этих сухих губах этакая капризно-снисходительная усмешка. Она венчает капитана Откаленко. Даже когда его, не дай бог, отчитывает подполковник Муртагин. Очень тихо, немногословно, но внятно. Слышно. (Может, потому и слышно, что вашу многолюдную комнату вмиг заполняет тишина.) Даже тогда у обратившегося в слух и послушание — такая значительная самолюбиво-стреноженная масса послушания! — точнее, н а д этой многотонной массой, над капитаном Откаленко витает его капризно-снисходительная усмешка. Язвительный нимб.
Хотя губы плотно, до побеления сжаты.
Высоко несет свою улыбку капитан Откаленко. И как бы там ни суетился, ни пыжился майор Ковач, встретивши его утром в коридоре или в кабинете, капитан просто подает ему не глядя большую вялую руку: что хочешь, то с ней и делай. Вяло подает, как внаем сдает. А что с нею сделаешь: рука хоть и безвольная, а неподъемная, к носу, будь спок, не взлетит. Да и энтузиазм, пыл пропадает, когда вот так ее подают. На, упражняйся, мне не жалко. Не убудет. И майор тушуется. Тискает ее, сановную, на бегу, смущенно — вот и все здоровканье.
Энтузиазм требует ответного интереса. Тепла. Вот почему майору Ковачу больше нравится здороваться с тобой. И вообще с рядовым и сержантским составом. Рядовой и сержантский состав охотно поддерживает его чудачество. Потрафляет ему. Майор общителен, легко вступает в разговор, у него масса знакомцев во всех частях. Когда вы с Откаленко проводите совещание секретарей комитетов комсомола частей (а проходили они обычно в зале на втором этаже), каждый из них считает своим долгом на минутку спуститься вниз, забежать в вашу комнату: поздороваться с майором Ковачем.
Поскольку части военно-строительные, то секретари комитетов комсомола не офицеры, а сержанты. Даже к самому скучному совещанию сержант относится иначе, чем офицер. Для него это в любом случае отвлечение от будничных дел, увольнительная на целый день: многие добираются в городок из дальних, глухих мест, которые на военном языке именуются скупо и исчерпывающе — «точка».
Казармы на точках тоже сборно-щитовые. Стенки тонкие, легкие, я бы сказал, утлые. Как листья в гербарии. Горят, как стращают новобранцев старшины, две минуты…
Временные. Кочевые. Вечный поход.
Если совещание уже само по себе знаменовало известное разнообразие в жизни сержантов, то здоровканье с майором Ковачем — это его неофициальная часть. Концерт после совещания.
Хотя, надо отметить, концерт вполне искренний. В нем много энтузиазма и тепла — с обеих сторон. Майора любили. Дверь в комнату не закрывалась, и капитан Откаленко, помощник начальника политотдела по комсомольской работе, снисходительно взирал на шествие этой народной любви.
Пожалуй, майору Ковачу, как расходившемуся мальчишке, хотелось подчас столь же решительно поздороваться и с подполковником Муртагиным. Но он не решался. Робел. Причины тут совсем не те, что в случае с капитаном Откаленко. И начальственным положением Муртагина они тоже не исчерпываются. Муртагин расположен к майору. Хотя понять его расположение или нерасположение к человеку было трудно: так он ровен со всеми. Скажем, все догадывались, что к капитану Откаленко он нерасположен, но тем учтивее ведет себя с ним. И упомянутые отчитывания случаются очень редко. Муртагин не кисейная барышня: чихвостя человека, сам не шел румяными пятнами, но разносы его в самом деле были редки и скупы.
Правда, стоило Муртагину выйти за дверь, как все его укоризны, только в значительно умноженном числе и весе, капитан Откаленко тут же переадресовывал тебе, своему инструктору…
Что касается отношений Ковача и подполковника, то Муртагин конечно же знал о его чудаковатых манерах. И руку ему, вполне возможно, подавал не без некоего лукавства в своих смородинно-темных глазах.
Но тот не мог себе позволить панибратства.
Даже будучи расположен к человеку, подполковник Муртагин не располагал к панибратству.
Он не любил эффектов. В том числе эффектов чинопочитания или, наоборот, «свойскости».
Майор пожимал ему руку и сразу брался за дело.
Хоть подполковник Муртагин и значительно моложе командира части Каретникова, хоть и невозможно, пожалуй, найти двух менее похожих и внешностью, и характером людей, чем эти, но и в его присутствии было как-то неловко, а не только боязно расходовать себя бог знает на что. На конский топот за кулисами.
Кто еще ходит, опустивши глаза долу? Пахари — за нескончаемой бороздой…
3
Его детство отравлено страхом: мать жила с отчимом, обходительным, даже вкрадчивым человеком в трезвости, но страшно преображавшимся с первой же каплей вина: побелевшее, помертвевшее лицо его косоротило слепой звериной яростью, он бешено — так воют и рвутся юзом пошедшие траки — скрипел мелкими крошившимися зубами и матерился запредельным, задыхавшимся от мгновенно взятой высоты, от разреженности, леденящим кровь речитативом.
Отчим, Василий Степанович Колодяжный, человек пришлый, нездешний и по происхождению — откуда-то прямо с войны, — и по своей сапожной, беспривязной профессии. И мат его тоже был нездешним. Пугающе изощренным, темным, как чужая молитва. Его ругань была изощрена не только и не столько в словах — свои, деревенские мужики «самовыражались» многоэтажнее, с сопением нагромождая друг на друга богов и боженят, кресты и прочее, и все равно их доморощенный мат никого особенно не пугал. Свои и перебрехивались-то лениво, для порядка, чтоб не забыть этот птичий (собачий) язык. Отчим же не был пустобрехом. Его ругань была изощрена в злости. Обеспечена «золотым» запасом — мгновенной всамделишной яростью. В его ругани и мата как такового не было — одна злость. Собственно говоря, и молитву молитвою делают не сами по себе «божественные» слова — у деревенских мужиков они присутствовали в полном раскладе, — а страсть. Страсть — вот что роднит мольбу и проклятье.
Ругательства отчима были темны, непонятны, но от них стыла кровь — как от выхваченного посреди заурядной бескровной, «свойской» драки финского ножа.
Для других родительский дом на всю жизнь остается самой надежной защитой. Для Сергея же он был самым уязвимым местом на земле. Солнечное сплетение. Он и сейчас ему снится таким — средоточием боли, опасности и любви. Сколько раз, отчаявшись унять, утешить, улестить мужа — такие робкие попытки вызывали новый взрыв бешенства, — мать подхватывала свой малолетний выводок и на ночь глядя пускалась огородами вон со двора.
Помните картинку: сестрица Аленушка с братцем Иванушкой бегут от грозы. Какой-то мосток, обнявшие Аленушкину шею детские ручонки, повернутая к нам, озаренная молнией простоволосая голова. Мать была старше Аленушки, да и не так хороша: доярки смолоду, «смаличку» выглядят старше своих лет. И кроме детских ручонок, пугливо обвивавших ее шею, еще две пары ладошек цеплялись за грубую диагоналевую юбку. И не гроза бушевала за ними…
Хотя почему не гроза? В хате все крушилось, трещала под топором последняя мебель, окна озарялись изнутри сполохами ослепительно лютого мата. Когда они утром, рано-рано, чтоб тоже их поменьше видели (напрасная предосторожность — в селе каждый знал, что Настю «гоняют»), подходили к хате, отчим, напевая что-то себе под нос, мирно бродил вокруг нее, вымеряя сантиметром выбитые шибки: ничей дом в селе не стеклился так часто, как Настин.
Ночевать они бегали по чужим углам. Мать даже к родственникам на ночлег не просилась, а все больше по товаркам мыкалась. Стеснялась родственников. Постучится в чужое окно: пустите, мол, люди добрые. Люди выйдут, глянут: а как не пустишь, если за матерью — еще трое. Пустят их в комнату, к столу пригласят, а мать непременно и от ужина откажется и вообще всеми силами старается занимать со своим выводком как можно меньше места. Отсутствовать. Сидит где-нибудь в темном углу, дожидаясь, пока в том же углу кинут им на всех пару фуфаек да соломы на подстилку, обхватит руками троих своих сыновей, чтоб не шебаршили (а они, чувствуя момент, и играют молча, отъединенно, автономно, не смешиваясь с хозяйской детворой), и отсутствует. Наблюдает из своей темноты за ярким кругом чужого семейного стола. Чужого счастья. Как семья, ведомая главой, покойно ужинает, как преимущественно вокруг него, главы, колготятся вечерние хозяйкины руки — много чего виделось ей из чужих углов. В том числе собственная незадавшаяся бабья доля…
Такой она Сергею и запомнилась. Аленушкой. Гонимою. Может, и впрямь по репродукции, что висела у них в простенке, — а в каком сельском доме не было в те годы этой репродукции: то она бежит, то над тем же мостиком сидит да слезу точит. Всего две ипостаси. Из другой, счастливой части Аленушкиной жизни репродукций почему-то не было. Что касается Серегиной матери, то тут счастливой части вообще не последовало. Драма завершилась в первом действии. Может, потому еще она и запомнилась ему Аленушкой, с е с т р и ц е й, что старухой он мать не увидел. Она умерла молодой. Он же у нее был старшим, так что немудрено, что она так и осталась в его памяти, в его жизни матерью-сестрицей…
Молва о «выступлениях» отчима достигла младшего Настиного брата, проживавшего в другом районе, и тот однажды нагрянул к сестре — проучить дорогого зятя. Отчим как раз, опять натворивши дел, отлеживался в кровати (слава богу, железная, сечению не поддавалась), приходил в себя. Материн брат был и моложе отчима, и мощнее. Отчим уже выходил из золотой мужской поры, уже ехал с ярмарки: его уже потихоньку гнуло и выпаривало. Так вроде еще больше закостеневший, зажелезившийся, с топором к нему не подступись, а вот на излом, да если еще через колено, да с замечательным словом, с которым не то что человека — черта своротить сподручно, так и окажется, что гнуться не гнется, а вот ломаться — ломается! Еще как ломается, ибо никакого железа, оказывается, там, внутри, и нет — так, труха. Черная, изъязвленная старыми ранениями кость.
Да если еще взяться за него такими сомовьими ручищами, как у Серегиного дядьки. Да если еще приспособить его на дядькино колено, на котором не то что позвоночный, человеческий, — телеграфный столб затрещит… В отличие от отчима дядька только вступил в золотую мужскую пору — да и от природы ему отпущено больше: в любую дверь ему приходилось входить, по-бычьи пригибая низкий, заросший светлым волосом, безрогий (как будто их ему только что спилили, чтоб не «брухался», и два свежих спила зудят, чешутся, так и подмывает попробовать ими на прочность, «на вшивость» все, что встречается на пути) лоб. Не просто моложе, а лет на двадцать моложе отчима был Серегин дядька, недавний артиллерист на острове Шикотан, а теперь замечательный комбайнер, только что вернувшийся с уборки урожая на целинных и залежных землях, возвращавшийся через саму Москву и привезший с целины свернутый в трубочку почетный диплом и справку на пять тонн хлеба, которые он намеревался по получении на месте перегнать в муку, а муку продать на базаре и перегнать в автомобиль «Москвич-406» — последнее слово тогдашнего отечественного легкового автомобилестроения. Неосуществленная мечта — дядька всю жизнь слишком легко верил начальственным справкам.
…Дядька остановился над кроватью с невесть откуда взявшейся заводной ручкой в руках и хрипло сказал, чтобы родственничек, чудак на букву «мэ», поднимался: надо выйти во двор поговорить.
Тишина установилась в хате. В этой тишине явственно извивались сквозняки, в разбитые окна засекало нудной осенней мжичкой. И разор был очевиднее, оголеннее. Жили они и без того бедно, а тут еще этот погром — что есть горше порубленной, поруганной бедности?
Мать брата не видела, она была в сарае, доила корову. В хате был один Сергей: мать, возвращаясь с ночлега в чужой хате, прошла сразу к Ночке, а он, стараясь не смотреть на отчима, не видеть его и самому быть невидимым, проволок братьев мимо кровати, мимо него в переднюю комнату и там уложил их досыпать.
Дядькин возглас — Сергей тоже не видел, как тот прошел в хату, не знал, что дядька приехал, что он здесь, рядом, — застал Сергея в передней комнатенке, и он, заслышав его, уже кинулся к двери: дядьку Сергей любил, скучал по нему, а теперь вдвойне обрадовался его приезду. Но последовавшая после возгласа тишина взрывной волной отбросила Сергея в глубь комнаты, к кровати, и прижала его там, распластала над тихим безмятежным сном братьев. Тишина пала, как снег, все собою забелив.
— Я тебя в гробу выдою, — прозвучало в ответ в этой тишине.
Жутко прозвучало.
И долгий зубовный скрежет. Как будто бы его, дядьку, этими мелкими, злыми, как у хорька, зубами перемалывают. Обрушивают — в доме у них была, осталась от черных дней такая крупорушка, состоящая из двух каменных кругов; один, совсем тяжелый, неподвижный, и другой, полегче, с железной отполированной ручкой: хватаешься за нее обеими руками и крутишь, подсыпая внутрь круга в продолбленный «колодец» просо или кукурузу в зависимости от того, какую кашу затеялась варить мать…
Если круги пойдут друг по другу вхолостую, из-под них, обжигая, искры летят.
Дядька растерялся.
Строго говоря, и ругательства-то никакого не последовало, так, чушь собачья. Химера. Но нас и пугают-то больше всего химеры. То, что невозможно представить, что не приснится даже в дурном сне. Химера, с лихвой обеспеченная самой реальной, неподдельной, иссушающей ненавистью. Слова могли быть и другими, слов вообще могло не быть — один этот срывающийся змеиный шепот. Шип. А тут вдобавок полное, стреляющее единство — слова и шипения. Слова и жала. Жала и яда.
Дядька стушевался.
Через приоткрытую дверь Сергею был виден только отчим. Сразу заострившийся нос, побелевшие скулы с выпершими желваками, неплотно прикрытые глаза — он сам-то лежал в кровати, как в гробу! Напрягшийся, бледный, ушедший теменем в подушку. Затравленный.
Дядьку Сергей видеть не мог — тот оставался за чертой дверного проема. В глубине души Сергей даже обрадовался этому. Ему стало обидно за дядьку. Там, где он должен стоять, было только молчание, сопенье, нерешительное переступание с ноги на ногу. Вполне возможно, что дядька и разродился бы чем-либо. Он был вовсе не робкого десятка, и Серегиному отчиму бы несдобровать. Но в самом зените паузы, выигранной, выуженной отчимом, в хате появилась мать. Она вошла в фуфайке с чуть подвернутыми и до лоска зализанными теленком рукавами, с доенкой в руке: подоила корову и направлялась к сепаратору. Еще не переступив порог, мать увидела и брата и мужа, поняла, что здесь происходит, оставив доенку, бросилась к брату, обняла его, обвила, заворковала: когда же это он приехал, как прошел, что она не увидела! Да и немудрено, что не увидела, в сарае возилась, у коровы, молочка сейчас парного попьем, завтрак сварганим. Как я за тобой, братка, соскучилась, а тебе, Василь Степаныч (короткий, быстрый взгляд на отчима), тоже хватит вылеживаться, вставать надо да бежать к Нюрке-продавщице, попросить по такому случаю бутылочку беленькой, окаянной.
Василь Степанович вскочил — он принял игру моментально, тем более что речь зашла о бутылке. С дядькой было труднее: тот все мотал головой в поисках ускользнувшей препоны, которую необходимо было сокрушить, бодал пустоту. Стянув с него шапку, поднявшись на цыпочки, сестра долго, осторожно гладила эту все тише и тише бодавшуюся голову…
«Окаянная» — одно только слово и вырвалось.
То был еще не самый страшный день. Самым страшным, если не считать дня, когда матери не стало, когда умерла от тяжелой, стремительно развившейся болезни, был день другой.
Начало лета. Он с братьями ходил в лесополосу за тутовником и абрикосами. Места у них степные, даже пустынные, скудные. Никаких грибов, ягод, орехов. Единственное, что можно с о б и р а т ь, — это то, что растет в лесополосах, высаженных когда-то путем всеобщей повинности в рамках великого плана преобразования природы и разделявших совхозные поля на просторные четкие соты. Соты, в которых наливались, зрели, если не истреблялись суховеями, хлеба. А что в лесополосах? Тутовник, яблони-дички, абрикосы… Абрикосы! Кто-то дерзнул посадить их в этих гиблых местах (может, просто другого посадочного материала не было?), и какой же отрадой были они для детворы! Родили скупо — в полном соответствии со всем, что родилось в этой степи. Чтоб «набрать» их или просто полакомиться ими, приходилось прочесывать многие километры продольных и поперечных лесных полос. Продольных больше, и их называют просто «лесными»: «пошел в лесную». Поперечных, то есть параллельных селу, лесополос меньше, и если имеют в виду такую полосу, то говорят: «пошел в поперечную», «нашел в поперечной». Поперечные обильнее, потому что стоят п о п е р е к весенних талых вод.
Абрикосов мало. Они не доспевали, не додерживались до зрелости. Сохранялись, как правило, лишь на самых верхушках, поближе к солнцу, подальше от досужих глаз. Их надо сперва высмотреть, а потом еще, обдираясь в кровь, добраться до них. Они были д о б ы ч е й, эти абрикосы. И какой! — крупные, плоские, вроде как пришлепнутые с боков — так матери пришлепывают на клеенке или на дощечке только что слепленные пирожки (косточка внутри абрикоса тоже сплюснутая, как облизанная волной галечка). Развернешь ладонь — и вполовину ладошки светится, сочится сладким ароматом желтый, с красными подпалинами, с примятыми от твоего охотничьего усердия краями плод. Звезда, добытая с неба!
Порубленные в войну — топором войны — сады возрождались в селе трудно, медленно, спустя десятилетия, и посадочный материал для них давали лесополосы. В первую очередь — абрикосы. Они приходили из степи и становились под окнами.
Вспомните «Видение отроку Варфоломею» Нестерова. Вытянувшийся в струнку, в д е р е в ц е мальчик в белой полотняной рубахе. Так и они вытягивались по весне, облитые молочно-розовым цветом, внимая под окнами какому-то своему видению. А летом, случалось, погибали. Изъятые из-под спасительной сени старших собратьев, не выдерживали здешних засух. Вода во дворах привозная или приносная, за несколько километров, из артезиана, и никому даже в голову не приходило расходовать ее на полив этих сомнительных жильцов на белом свете. И тогда на место погибших заступали другие. Такие же тонюсенькие, молчаливые, зябнущие под бесконечными осенними дождями. Такие же сомнительные. И — такие же внимательные. Упрямые. Пока село наконец не зазеленело, не закурчавилось, издали, с бугров, похожее в голой и горькой степной балке на потаённое женское лоно.
Сей хрупкий, молитвенно замерший отрок Варфоломей — не кто иной, как несгибаемый Сергий Радонежский. В детстве.
С о б р а т ь можно было лишь то, что росло в лесополосе. Все, что росло в поле, можно было только украсть.
Да, детвора обносила абрикосы загодя. Не выдерживала этого томительного ожидания: лето над степью струилось медленно, отстойно, балка с селом на дне превращалась в его неподвижный прозрачный омут. С апреля по октябрь — лето. Сильнее нетерпения подгонял детвору в лесополосы азарт: вдруг абрикосы обнесет кто-то другой. Кто кого опередит! Их можно есть и уже начавшими зреть, желтеть — бурелыми. Но их можно есть и совсем зелеными, когда плод только-только сформировался. К тому времени он уже успел побывать никаким, трава травой — когда был завязью, едва вылупившейся из облетевшей цветочной скорлупы. Горьким, когда набирался мякоти — ее и мякотью-то не назовешь: такая жесткая, грубая, — когда в нем зарождается косточка. Затем наступает непродолжительный период, когда абрикос кислый, приятно-кислый, вяжущий. Его не едят — его грызут. Прямо с крупной, еще не затвердевшей, белой, молочной косточкой и с молочным же, тоже только-только народившимся ядрышком, заключенным в этих живых податливых створках.
В это самое время абрикосы, как правило, и обносили. Надо поймать момент. Раньше невкусно, позже — поздно.
Сергей момент не упустил и теперь возвращался из лесополосы с добычей. День уж переломился, сгорел. Молодой упругий огонь зачинающегося, восходящего лета сменился теплым и долгим тлением, столь характерным для здешних июньских вечеров. Тихо, просторно. Горизонт очистился от марева, от белей, от продуктов сгорания, оседавших на нем, когда день пылал в полную силу, в бешеную, до самого солнца, высоту, с прекрасной тягой, с цикадным гудом, свирельно отдававшимся в ушах. Горизонт как будто протерли — как мать по весне моет, протирает окна, и мир сразу раздвинулся, раскрылся и на какое-то время примолк.
Исчез, растаял в бесконечности цикадный звон жары, пропали, стушевались перед этим внезапно открывшимся необозримым простором дневные звуки, а вечерние, донные, глубокие, в т о р ы е, еще не решались выступить вперед. Странный, удивительный миг прозрения и немоты: мир словно накренился — можно заглянуть далеко-далеко, даже за горизонт, за борт — и онемел. Замычит, собираясь домой, затосковав по дому, по оставленному теленку, чья-то первая, самая нетерпеливая корова в стаде. Густой, протяжный, тоскующий мык низко-низко понесется, заполощется над степью, и конец немоте, заколдованности. Сразу как прорвется все: собачий лай, переклик соседей, тарахтение моторов в степи. А там уже как-то разом, словно от одной спички, и звезды вспыхнут.
Так, наверное, взрываются в шахтах горючие газы: копятся-копятся в бездонной глубине, невидимые и неслышимые, пока не достигнут роковой концентрации, пока не чиркнет нечаянная спичка. Правда, небо вспыхивает молча, немо, вслушиваясь, всматриваясь в отходящую ко сну землю. Или просто бездна так глубока, а звезды так далеки, что звуки не достигают земли: только свет, только ореол взрыва без его сердцевины — грохота.
Сергей тащился с братьями по степи. Младший сидел у него на горбу, средний держался за руку. Они медленно, притомленно двигались по колено в этой сцеженной предвечерней тишине, одни в необъятном, расступившемся вокруг них пространстве. Впереди уже возникло село, и даже их улица уже отслонилась, выделилась из общей, словно ссученной вместе массы домов, когда Сергей заметил, что навстречу им, размахивая руками, кто-то бежит. Поняв, что его увидели, заметили, человек, мальчик — то был Митька Литвин, сын многодетных хохлов Литвинов, которых на улице звали смешным прозвищем: «Гасу нэма?» (так часто мать их, мать-кормилица, тощая, черная, сгоревшая в заботах, ходила по соседям занимать (без отдачи) керосин: «Гасу нэма?») — закричал:
— Вашу мамку Колодяжный зарезал!
Крик низко-низко несся над степью, и казалось, даже травы были вспугнуты им: зашелестели, заструились, прогибаясь под этой ношей. Все очнулось, зашевелилось, зашептало испуганно, залопотало. Не с коровьего мычанья, не с чьей-то перебранки — сумерки начались с этого истошного крика. Сергей сначала остановился. Замер. Невольно оглянулся вокруг: вдруг это не к ним, вдруг — чудо — следом идет кто-то еще. Степь до горизонта и за горизонтом была безжалостно пуста: только они да бежавший навстречу, припадая в траву, размахивая руками, Митька Литвин.
— Вашу мамку зарезали! Вашу мамку зарезали!
Первым опомнился самый маленький из них. Прямо над ухом у Сергея раздался пронзительный вопль. И без того звеняще-высокий, он — толчками — все набирал и набирал высоту, уходя в бездну, в которой вот-вот должны были засветиться первые звезды. Если крик Митьки Литвина стлался над самой землею, то вой их младшего брата ударил сразу ввысь. Брата как будто бы самого резали. Сергей однажды видел, как резали новорожденного ягненка. Ягненок был каракулевый, и его определили на шапку. Самые первосортные шапки — из ягнят. «Курпейчатые» — говорят о них. Овцы, когда их режут, совершенно безгласны, покорны: лежат, заломив, словно для удобства режущих, шеи, заведя потускневшие глаза. А ягнята — блеют. Еще не могут смириться. Мужик, стоя на коленях, опустил нож, и из-под его рук взлетел, выпорхнул вместе с цевкою горячей крови, забился, затухая и серебряно кувыркаясь в вышине, изумленный, протестующий, неизвестно куда, за какие пределы пытающийся вырваться крик. Стон. Плач. Песнь…
Так и у брата. Слов не было в его крике. Со словами у него вообще еще туго. Увереннее других он знал слово «мама». Его, судя по всему, и понял. Его, судя по всему, и кричал.
— А-а-а-а-а-а! — лезвийно вскинулось, встало, засветилось надо всем вокруг. Как молния. Только обычная молния бьет с небес по земле, эта же вонзилась с земли в небеса.
— А-а-а-а-а-а!
Руки его, обнимавшие Сергея за шею, разнялись: он поехал по Серегиной спине вниз и свалился в траву. Сергей его не удерживал. Для него это был сигнал к действию: вместе с братом с него свалилось объявшее его, сковавшее оцепенение. Бросил на землю бидон, доверху забитый спеющими абрикосами — они мягко раскатились по траве, — и побежал навстречу Митьке. С размаху налетел, схватил его, оробевшего, за грудки, затряс что было сил, хрипло, отрывисто повторяя:
— Что ты мелешь, гад?
Митька года на два младше Сергея, они были закадычными друзьями.
Когда-то в тридцатые в их селе была комендатура. Сюда со всей округи были собраны раскулаченные. Из тех, кто помельче, пожиже, кто Соловков вроде бы не заслуживал, хотя угол, где расположено село с его вечными засухами, пылью, безжалостными ветрами — летом они реяли над степью, как исчадья далеких пожаров, зимою же со свистом несли над нею скупой, разъедающий кожу снег, — было не слаще Соловков. Соловки местного значения: в плодородном и в общем-то благодатном крае это едва ли не единственное гиблое, изгойное место. Лишай, порча на здоровой, цветущей шерстке ставропольских степей, чья жизнеспособность, плодовитость иссякает здесь, на юго-востоке, под опаляющим дыханием великих закаспийских пустынь.
Во времена комендатуры село, видимо, было поделено на «сектора» — для удобства управления. В нем и сейчас сохранился длинный кирпичный барак, в котором жил разный пришлый люд, не имевший своего дома, угла. В последние годы барак был поделен, буквально посечен на соты (с прорубленными для каждой отдельным ходом) — «квартиры», но тем не менее его до сих пор называли не домом, не общежитием, а комендатурой. По его первому предназначению. В память о коменданте и его «комендантской части», тоже состоявшей когда-то сплошь из пришлого люда. Так и сейчас: и люд чужеродный, перекати-поле, и барак — даже по названию — чужеродный. Секторам когда-то были дадены цифровые наименования: «девятка», «одиннадцатка», «двенадцатка». Наименования сохранились, правда, неофициально. Люди так и погоняли друг друга: «А, это двенадцатка!» Или: «Мы из девятки».
Во времена комендатуры, опять же, наверное, для простоты управления, село потеряло свое название. Его тоже заменили цифрой. Д е с я т о е. Отсюда, возможно, и наименования секторов — не с единицы, а сразу: «девятка», «одиннадцатка», «двенадцатка»… Десяток как основа, как исходная позиция, все остальное вокруг него. Было Николо-Александровское, стало — Десятое. Цифра въелась как тавро. Комендатуры давным-давно нет, а село так и зовут: Десятое да Десятое. «А, десятские». «Мы — десятские…»
Сергей и Митька были самые что ни на есть десятские, ибо сама принадлежность к Десятому предполагала почти пырейную живучесть, вечную трудоспособность — оба они были в своих семьях старшими детьми и просто не помнили себя в совершенном безделии: их многочисленные заботы подрастали быстрее них самих, — способность «держать» удары, причем не только метафизические…
Способность к возрождению. Тоже, можно сказать, как у повилики или пырея. Ты их с корнем, с корнем, а дождик брызнул — глядишь: опять полезло чертово семя. Зазеленело. В земле, казалось, и корешка не осталось — один дух. Дух — и зазеленел.
В шестьдесят седьмом году Сергей работал в здешней районной газете. К пятидесятилетию Советской власти районка печатала полосы, посвященные селам района, истории, сегодняшнему дню. Вспомнили и о Десятом. Готовить полосу поручили Сергею. Об истории он особо не распространялся — какая уж тут история. А вот в сегодняшнем дне нашел весьма примечательную деталь. В полосах среди прочих социальных достижений условились показывать и общую сумму вкладов у сельчан на сберкнижках. Специальное разрешение получили у милиции и в районной сберкассе. Так вот: общая сумма в Десятом, а этому селу отвели полосу в последнюю очередь, как бы стыдясь, и то не первую, как было с другими, а последнюю, четвертую, — оказалась больше всех.
Дух — зазеленел…
— Ты что мелешь, гад!..
Еще чуть-чуть, и он вытряхнет из Митьки душу. Но Митька не сопротивлялся и не кричал. Он терпеливо ждал. Он знал, что надо терпеливо ждать, пока человек придет в себя. Только белобрысая голова его с закрутившимся, как у барашка на лбу, чубчиком жалобно болталась взад-вперед.
— Она у нас дома, беги, — выдохнул он, улучив наконец паузу.
Сергей и сам уже понял, что Митька говорил чистую правду. По Митькиному лицу. Оно было необычно бледное, испуганное. Жалкое. Как сорванный цветок, мелькнуло почему-то в голове.
Сергей отпустил Митьку и не разбирая дороги побежал в село. В горле пересохло, ноги подгибались, сердце колотилось так, что казалось, его слышно на всю степь.
Страшные, одна страшней другой, картины возникали перед глазами. Мать лежит, запрокинув, как овца, голову, и на шее у нее зияет закипающая черной пеной рана. Мать-то уж точно не кричала. Мать у них — овца.
Сергей вбежал во двор Литвинов. Двор, обычно такой многолюдный, многоголосый, пуст. Пересек его, на мгновение задержался на порожках, — может, все это сон, может, и Митьки не было, и крика его, вести, прошелестевшей, как змея, по степи?
Когда видишь, как ползет змея, всегда кажется, что это сон. Трава зловеще раздвигается, в ней остается влажный след, и ты, еще только завидев, как бесшумно, словно там, в глубине ее, вовсе и не ползет, а т е ч е т, раскрывается, приоткрывается эта доселе плотная и однородная травяная масса, как эта раскрывшаяся, раскроившаяся, темно-зеленая, влажно, нутряно зеленая ранка приближается к тебе, ты, еще не встретившись глазами с лишенными век, химическими — состав серной кислоты — глазками гадюки, на мгновение замираешь: сон?
Так прошелестела над степью страшная весть, так, химическими немигающими глазами, встретила, на мгновение парализовала его эта необычная, не к добру, тишина в литвиновском дворе. Сергей толкнул дверь.
В хате было полно народу. Все многочисленные Литвины, за исключением Митьки, и их соседи. Они образовали плотный, гомонящий, испуганно суетящийся круг, но, увидев Сергея, замолчали, расступились, чтобы через минуту запричитать и засуетиться с удвоенной энергией.
В центре разорвавшегося круга, поддерживаемая Литвинкой, сидела на табуретке Серегина мать. В лице ни кровинки, когда-то густые, а теперь поредевшие, порыжевшие, потускневшие косицы развились и жалко топорщились по бокам. Она обернулась к Сергею, взглянула на него померкшими глазами. Глаза у нее маленькие, простенькие, глубоко упрятанные. Светлые-светлые, с едва угадывавшейся, словно со дна сквозящей голубизной. Как два теплых, робко посвечивающих из укромной глубины голубиных яичка. Сейчас они были необычно темны. Она увидела сына, и вместе с радостью в глазах, во всем ее облике обозначилось чувство вины: столько людей, шум, столько хлопот — теперь вот и он, Сергей, будет втянут в этот гам вокруг нее. Что касается самого Сергея, то он в первый миг и не понял, что почувствовал, когда увидел мать, сидящую на табуретке. Точнее, чего больше было в его ощущениях — радости, что мать, слава богу, жива, пусть хотя бы п о к а жива, или жалости? Он увидел ее как-то всю сразу: и эти бедные, пожухшие на концах, будто их вымачивали, кудельки, и эти глаза, и эту виновность… И его сердце, доселе больно, гулко громыхавшее под самым горлом, как обернули тряпкой. Удары стали глуше, мягче, оно потеряло молодую упругость, набухло, набралось непрозрачной влаги, соку, вмиг перезрело, минуя столько еще не прожитых стадий. То была жалость, жаль, острая, горячая, горячая, как слеза, и захлебнувшееся ею сердце деревянной колодезной бадьей ринулось вниз. Он заплакал.
На коленях у матери стоял таз с керосином. Она держала в тазу ладони. И без того красноватый, цвета легкой ржавчины, керосин окрашивался лениво поднимавшимися снизу, со дна, малиновыми, багровыми языками. Кровью. Когда Сергей заплакал, мать пошевелила рукой, попыталась поднять ее, забыв, что руки в керосине, неосознанно, привычно хотела погладить его по голове, но Литвинка молча мягко удержала ее руку в тазу. Мать только пошевелила пальцами, а со дна тазика сразу поднялся, вспучился, словно извергнулся под керосином, алый лоснящийся сгусток.
— Ты чего плачешь, сынок? Не плачь, все хорошо, — сказала, выпела она странным, неожиданно чистым, девичьим, не своим голосом.
Она была еще в шоке, еще не пришла в себя.
Так же, как со дна таза от ее ладоней тяжело поднималась кровь, точно так со дна ее светлых глаз всплывала боль.
Оказывается, пьяный Колодяжный накинулся на нее с ножом. Она выскочила во двор, он догнал ее. Все хотел дотянуться ей до горла, она пыталась урезонить его, обезумевшего, хваталась в горячке за нож руками, и Колодяжный ее рук не жалел. А ножи в домах у сапожников, у мастеровых всегда востры, как жала… Она еще долго потом ходила с забинтованными руками, носила их перед собой, нянчила, баюкала. Первое время не могла ни в доме прибрать, ни по хозяйству управиться, ходила неприкаянно по комнатам, по двору, извелась, почернела, как Литвинка, не столько от боли, сколько от этой своей беспомощности. Ненужности. Ее лишили рук, а она сразу всю себя почувствовала лишнею. Потому что руки в ней были главным. В том числе — главным, деятельным, ласковым, связующим механизмом между нею и окружающим ее миром. Нею и детьми. Нею и коровой Ночкой. Нею и всем-всем вокруг.
В те дни Сергей научился женской работе. Научился доить корову — мать стояла рядом, подсказывала, разговаривала с коровой, поглаживала ее наглухо забинтованной, страждущей и оттого еще более чуткой рукой. Сам искренно напуганный случившимся, юлил перед нею Колодяжный. «Настенька, Настюшечка, Настюрочка…» — знал, чем взять. Целыми днями домовито стучал сапожным молотком, а скудную денежку, которую приносили ему за починку односельчане, тут же, не глядя переправлял Насте. Небрежно так, как само собой разумеющееся, отводил протянутую клиентом руку к жене: «Ей, ей отдайте. У нас она хозяйка…» «Хозяйка», святая простота, рдела от смущения. Корова Ночка, в отличие от хозяйки, была не столь простодушна. Колодяжный человек сноровистый, бывалый, по дому убирался еще ловчее, чем Сергей — опять же присуща мастеровым свойкость, родственность любой работе, — но когда попытался подойти с доенкой к корове, та неожиданно затревожилась, заупрямилась и в конце концов лягнула его. Погнувшаяся доенка, жалобно зазвенев, покатилась в сторону, сам Колодяжный, отскочив, обиженно потирал ушибленное колено. А ведь смирнее, смиреннее Ночки, казалось, не было в стаде коровы.
Руки у матери заживали плохо. Уже и повязки сняли, выпростали руки из пеленок, а они, натруженные за день, к вечеру снова и снова сочились кровью. Раны не закрывались, а когда наконец зарубцевались, на месте их на всю жизнь остались черные, пугающие следы. И без того темные, обожженные работой ладони сразу стали старше самой матери. Они как будто трещинами пошли. Гладишь ладонь, а она вся в этих глубоких, занозящих сколах — как черная, старая, хотя и теплая еще иконная доска. Вот уж воистину: «изъ одного дерева икона и лопата…» (Даль).
На них бы молиться, а она стесняться стала своих ладоней. Все люди, здороваясь, протягивают друг другу ладони, а она, наоборот, здороваясь, прятала их под передник, как будто ладони у нее, как у школьницы, в чернилах. И если случалось ей бывать в каких-то компаниях, на свадьбах, руки всегда держала под столом, на коленях. У Сергея даже фотография сохранилась, перекочевала к нему: деревенская свадьба, на переднем плане, прямо в траве, мужики сидят, точнее полулежат, клонясь друг другу на плечо, и каждый держит в руках бутылку и стакан, тянут их вперед, как будто предлагают фотографу выпить. За ними, на втором плане, стоит народ посерьезнее, в том числе жених с невестой — невеста вся в белом, одно лицо темное, загорелое, крестьянское. Все держатся друг за друга, за руки (жених обнимает невесту, и рука его на самом законном своем месте — у нее на груди), одна Настя стоит отъединенно, с краю, сбоку припека, заведя руки за спину. Спрятав их от фотографа. Людей немного, видно, из всей свадьбы для фотографирования выбрали только родню. Не всех Сергей знает по именам. Но лица ему знакомы все — даже лица тех, кого давно уже нет в живых. Он ориентируется среди них так, как ориентируется на местности человек, попавший после долгого перерыва на родину. Разве важно на родине знать названия улиц? Он вырос среди этих лиц и так рано оторвался от них, что они навсегда остались для него молодыми. Такими, как на этой фотографии. Может, он и не узнал бы их сейчас, постаревшими, а молодыми узнаёт. Это лица его детства. Родина детства. Родина. Родня. У всех на груди приколоты гроздья цветов. Цветы живые, не бумажные: люди сфотографированы под огромной, старой, корявой грушей, возносящей ввысь целый смерч молодых, глянцевитых, плотно сомкнувшихся листьев и объятой по периметру фосфоресцирующим свечением, — весна. У яблонь цветы — розоватой щепотью, чашечкой, у груши — простецкие, плоские, крупной, молочно-белой четырехпалой ромашкой. Крестом? Груша, вышитая крестом?..
На обороте фотографии надпись красными чернилами:
«На память братику Ване от сестрицы Лиды. Ваня, жилаю тебе с этой фотокарточкой прийти домой боивым и здравым домой. Ой! Ваня быстрей иди домой, жилаю, чтобы дни твоей службе проходили тебе низаметно, чтоб быстрей, быстрей домой. Ваня прошу любить и жаловать всех, все это тебе останется в воспоминании об гражданской жизне. Стем сестрица Лида».
Рефрен: домой!
Ваня — один из тех, кто сидит с бутылкой на переднем плане и кого давно уже нет в живых.
Ах, как хорошо, бурно, лупато, осиянно цветет на карточке древняя, необоримая, каждую весну возрождающаяся груша их рода… Груша их Дома. Жива ли она сама?
…Сергею больно было смотреть на ее руки. Больно было видеть, как легко попалась она на удочку отчима. Что она простила его — враз, легко и безоговорочно. Сам Сергей еще тогда, от Литвинов, кинулся к своему дому, зажав в руках топор. Где высмотрел в чужой хате, как схватил — Сергей и сам не помнил этого. Его перехватили уже во дворе: мать заметила и закричала все тем же высоким, пронзительным, не своим голосом. Никто в суматохе не заметил, как он цапнул топор, как выскочил, а она — заметила. Почувствовала, сама еще не пришедшая в себя. Когда его перехватили, он остервенело сопротивлялся, ругался, взрослые вынуждены были повалить его наземь. Как раз в это время во двор входил Петька, младший Серегин брат сидел у него на горбу, средний держался за руку. Петька и был приставлен к Сереге на ночь: присматривать, чтобы тот опять не вытворил чего-нибудь. Если что — звать взрослых. Рано утром Колодяжный сам пришел к Литвинам за женой и детьми. Виновато, искательно здоровался со всеми, у всех просил прощения. Сергей поразился: как легко мать, еще обескровленная и обессиленная, поднялась ему навстречу, вложила свои закутанные, с проступившими вишневыми пятнами на марле ладони в его, бережно протянутые к ней.
Тут было что-то не то.
Тут было что-то, смутившее даже Литвинов.
Оно смутило и Сергея. Сбило с панталыку. Не то что поколебало его желание, ночную клятву во что бы то ни стало о т о м с т и т ь, а загнало это желание внутрь. Они шли домой. Колодяжный вел мать, рядом с ними топали младшие дети, Сергей плелся в некотором отдалении. Он бы, может, вообще не пошел домой — пусть себе воркуют, — если бы мать время от времени не оборачивалась к нему, не улыбалась бы ему, слабо и виновато. Искательно.
И все равно потом стоило ему увидеть перед собой утопленную (как будто в его волосах свила себе гнездо неведомая птичка) лысинку Колодяжного, — когда тот сучил молоточком, сидя на низком сапожном стульчике и напевал свои протяжные хохлацкие песни, — у него зябко чесались руки. Взять топор или лом, подкрасться и — с размаху. Не-ет, он-то как раз ничего не забыл! Наоборот: чем больше млела перед отчимом мать, тем горше, злее, острее закипала в нем жажда мести.
Однажды чуть было не осуществил ее. С вечера приготовил топор, сунул под кровать в комнате, в которой обычно работал отчим. Днем оставалось только выбрать момент, когда они останутся в комнате вдвоем, — работал тот всегда с увлечением, даже с упоением (тоже свойство настоящих мастеровых), не замечая ничего вокруг, тем самым он, вечно распевающий за работой, напоминал на своем табурете с сиденьем из сыромятных ремешков скворца на голой весенней ветке. Голова певчески задрана, глаза устремлены в окно напротив, в утро, в небо, а руки сами легко и привычно делают привычную работу.
Дывлюсь я на небо, Тай думку гадаю: Чому ж я не сокил, Чому ж не литаю?..Это была его любимая песня, и когда он ее пел, забыв обо всем на свете, мучаясь и наслаждаясь какой-то своей неизреченной болью, у матери, незаметно оказывавшейся в хате, начинали мелко-мелко дрожать ресницы. Откликались на эту муку. Да только ли они откликались? — в комнате в этот момент как будто создавалось напряженное силовое поле, свежо и тревожно — последний, перед дождем, знобящий вздох пойманного ветра — касаясь, омывая каждого, кто здесь был.
Они с отчимом несколько раз уже оставались в комнате одни, Сергей подходил к кровати и даже один раз как бы по делу лазал под нее, пошебуршил там и вылез с пустыми руками. Отчим по-прежнему сидел над чьим-то сапогом. Мелко-мелко, как кузнечик лапкой, сучил своим легоньким сапожным молотком, вытаптывая на подошве стежку из медных гвоздей. Совершенно беззащитный, спиной к Сергею. Голова певчески задрана, глаза устремлены в окно напротив…
Больше дела, Меньше слов. Завтра выполним Улов!..Сергей был измучен и опустошен. С мыслью о мести — такой — пришлось расстаться. Ему-тогда шел двенадцатый год. А через два года матери не стало. Так и остались ее руки неотомщенными. Впрочем, кому было мстить? Последний раз Сергей видел отчима через год после смерти матери. Приезжал в село к родственникам из города, где вместе с братьями воспитывался в интернате на полном казенном обеспечении. Автобус шел по селу, когда Сергей увидел в окошко отчима. Он не сразу узнал его. Прямо у обочины, обдаваемый пылью, стоял неузнаваемо состарившийся, опустившийся человек. Человек согнулся, когда-то внушительный остов одряхлел, завернулся, оканчиваясь, как гнутый ржавый гвоздь, жалкой, помятой, ржавой от загара шляпкой — лысиной. Был он пьян? Пустые, выцветшие глаза устремлены на автобус, но вряд ли кого в нем видели. Повисшие, выхолощенные руки дрожали. Встречал кого? Ждал автобус, надеясь, что в нем приедут на каникулы — или хотя бы проедут мимо — его дети? Мать не была зарегистрирована с ним, и когда она умерла, Сергей просто забрал братьев и ушел от него — сначала к родственникам, а потом в интернат. Отчим не возражал. Скорее всего, он побоялся возражать. Мать умерла от раковой опухоли, но Сергей не понимал тогда, что такое «рак», и твердо считал, что причиной смерти были ее изувеченные руки.
«Вашу мамку зарезали!» — и этот крик, обескровленное, почти потустороннее лицо матери, медленно обернувшейся к нему от таза с кровавым вулканом на дне: все это навсегда врезалось в память, в душу — а последняя была в тот страшный миг растревожена и размягчена как воск — и соединилось, срослось с понятием смерти вообще. Мать, слава богу, оказалась живой, но в тот день Сергей впервые понял, осознал, что она умрет. Что она смертна.
Даже не подтвердившись в тот момент, весть, прошелестевшая над степью, все равно была вестью о смерти. И он уже больше не забывал ее. Так глубоко вошла в него, так, обжигающим тавром, втравилась. Нельзя сказать, что теперь он был п о д г о т о в л е н к смерти матери. Смирился с ее неизбежностью. Он и сейчас, почти сорокалетним человеком, не может смириться с тем, что матери — нет. Все его существо по-прежнему восстает против этого. И с годами этот бунт — особенно в минуты душевной смуты — даже горше, болезненней. Потому что он сам понимает его безнадежность. Нет, весть не подготовила его. Она отравила ожиданием. Тайным, подспудным, но неусыпным. В чашу его сыновней любви капнула яду, и она замутилась, со дна ее всплыли боль и кровь. Он знал теперь, что все кончится, и это знание и было тем самым цитварным семенем, что так горчило и так, до слез, опаивало. Раньше, обидевшись на что-то, он часто на ночь глядя убегал из дома. Уйдет недалеко, ляжет в канаве, в траве, положив руки под голову, и смотрит, как вызревают на небе звезды, как они роятся, как это беззвучное, размеренное роенье вдруг пронзит, затрепетав, почти что вскрикнув, одна всегда неизвестная — никогда не угадаешь, какая упадет — звезда. Управившись по дому, по хозяйству, мать не выдерживает, выходит его искать. Бродит вокруг, зовет его, сначала строго, потом все пронзительней и, наконец, чуть не плача. А он, пока мать на него не наткнется, лежит и ни звука в ответ. Ему даже нравится, ему даже сладко мучить ее. Какой же дурак! Знал бы, что совсем скоро сам будет вот так же потерянно бродить впотьмах и звать, звать мать — безответно. Вернее, теперь-то, после того страшного дня, он и об этом догадывался; Теперь-то больше не прятался. Наоборот, ходил за матерью, как большой, неловкий теленок.
…Сейчас он знает, хорошо знает, что такое «рак», но в глубине души по-прежнему связывает два этих дня воедино: день, когда были загублены материны руки (они, развороченные до костей, так и не выздоровели окончательно, болели от работы, болели на погоду) и когда было поражено в ней все остальное. В детстве же просто уверен был, что она погибла от ран, нанесенных отчимом. Что рак? — может, рак оттого и приключился. Отчим, конечно, о его мыслях догадывался. Они, наверное, явственно читались на Серегиной физиономии. Возможно, отчима и самого посещали эти несостоятельные, но мучительные догадки. Словом, когда Сергей, глядя ему прямо в глаза, заявил, что забирает братьев и уходит, тот смолчал. Понуро отвернулся, потом сказал: мол, зачем же уходить из своего дома, он, отчим, и сам отсюда уйдет.
И вышел.
Братья с двух сторон молча вцепились Сереге в руки. Не то что забрать, увести — их отодрать от него было бы невозможно. Да отчим и не собирался уводить, хотя, в отличие от Сереги, это теперь были целиком его дети.
Сергей говорил с вызовом, нарывался на скандал, а скандала не получилось. Отчим просто ушел. Сергей с удивлением почувствовал, что отчим его, кажется, побаивается. Словно тому — задним числом — стало известно про топор. И все-таки жить им одним, втроем, было почти невозможно. Сергей понимал это. Дом продали, деньги положили на книжку, а сами какое-то время пожили у родственников — до устройства в интернат.
…Кому было мстить? Человеку, прошедшему всю войну, не единожды раненому, контуженому и, в общем-то, тоже изувеченному? Сергей в детстве удивлялся, как отчиму удавалось во гневе так жутко, длинно — казалось, искры сыплются — скрипеть зубами. От его скрипа кровь в жилах стыла. Честно говоря, Сергей и сам хотел научиться так же скрипеть, чтобы тоже пугать народ. Скрипнул — и все замерли! Нишкни! А стоило отчиму заскрипеть зубами, так его не то что мать или дети, а даже самая забубенная компания начинала бояться. Замирала в растерянности и страхе. Но сколько Сергей ни бился, ни упражнялся тайно, в одиночестве или при младших братьях, стараясь нагнать на них страху, такого зубовного скрежета у него не выходило. Так, писк. Курам на смех. Даже самый маленький братишка, как ни таращил Серега на него глаза, только лыбился, на его потуги глядючи. И лишь много позже, взрослым уже человеком, вспомнив нечаянно об этих своих смешных завидках и упражнениях, Сергей неожиданно для самого себя понял: чтобы так скрипеть, надо быть контуженым.
Сам поразился простоте своего неожиданного, хотя и запоздалого открытия.
В следующий их приезд на каникулы им мимоходом сообщили, что отец-то их непутевый (младшим отец, Сергею — отчим) помер. Как-то тихо так, не по-своему, не так, как ему бы полагалось, помер. Не от белой горячки, не от поножовщины. Просто, тихо сошел за этот год на нет. Старуха зашла, у которой он жил, занесла жестяную коробочку из-под чая, в которой были орденская книжка отчима и его награды. Их остатки, то, что не затерялось. Был там, между прочим, и орден Славы третьей степени. Сергей долго хранил коробочку в интернате, но сберечь все-таки не смог. Затерялась она вместе со всем содержимым. Трудно сохранить что-либо, когда нет самого хранилища — дома. В интернате вечерами мальчишки часто просили Сергея достать из-под матраса коробку, открыть ее, дать потрогать, а то и поносить потускневшие солдатские регалии. Когда спрашивали, чьи это, Сергей сначала говорил: отчима. Потом, незаметно для самого себя, стал отвечать: отца.
И странное дело: чем дальше уходит Сергей от детства, тем чаще вспоминает отчима не с чувством неосуществленной, неудовлетворенной мести — а значит, собственной несостоятельности, ибо все, что мы не осуществили, все, что не отомстили, мстит потом нам, подтачивает нашу цельность и состоятельность. Нет, он вспоминает о нем с чувством вины. С чувством жалости и вины. Разведенные раньше по разным полюсам, теперь они постепенно воссоединяются в его памяти — мать и отчим. В жизни они помирились раньше. В памяти же вон сколько лет потребовалось для примирения. Да и ссорились ли они в жизни? — скорее это сам Сергей находился в состоянии необъявленной (вслух) войны с отчимом. Теперь ненависть куда-то ушла, растворилась, хотя он по-прежнему верит, что в могилу мать свел все-таки отчим. Если не свел, то, во всяком случае, поторопил. Он верит в это и все равно жалеет его. И чувствует себя виноватым: что позволил ему так незаметно, бесследно, так беспризорно сойти на нет. Умереть в безвестье, в чужих стенах. Что не были при нем, что ни разу не видели его после отъезда из дома младшие Серегины братья, его, отчима, сыновья, — это уже серьезней. Его вина, что он отлучил братьев от их отца. Что когда-то провез их мимо него, растрепанного, потерянного, вышедшего встречать автобус. Хороший, плохой ли, он им родной. А Сергей распорядился за них. Отлучил.
Может, и он его, отчима, поторопил?
4
Да, это было впервые, что жена на него кому-то жаловалась… Слышать это было неприятно. Тем более что уверенность в своей правоте прошла. Ему уже и самому было стыдно за свою выходку. Так бывало уже не раз: под глубоким, покойным теплом смиренности в нем всегда что-то тлело. Добраться туда было непросто. Но если уж его что-то пронимало, причем, на первый взгляд, подчас не самое обидное, не самое существенное, если уж доходило, пробивалось до углей по каким-то закупоренным путям озонное дыхание обиды, гнева, то все в нем мгновенно занималось бездымным бешеным огнем. Мог ударить, мог вцепиться в горло, швырнуть что угодно, наговорить самых скверных слов: жуткие, темные, горячие, неизвестно как попавшие т у д а ругательства вылетали как раскаленные камни. В другое время никто, и сам он в том числе, и не подозревал бы о таких залежах. В минуты ярости его самого била дрожь, он чувствовал, что лишается основательности, основы, якоря, воспаряет, теряя силу, обращаясь в почти бесплотный, злой, сам себя жалящий дух.
Исчадие ада.
Или это отчим мстил ему, окопавшись где-то на самом дне этого с виду весьма благочинного молодого человека?
Правда, от таких вспышек больше всего страдал сам Сергей. Мгновенно начинавшиеся, они так же мгновенно и проходили, оставляя ему душевную опустошенность. Выжженность. Стыд и раскаяние. Те, против кого вспышки были направлены, чувствовали это и, пожалуй, пользовались этим: с ним после подолгу не разговаривали, а если и заговаривали, то лишь для того, чтобы напомнить о безобразной выходке, поддержать в нем состояние искательности и раздерганности. Правда, не заметил, что стеклом, оказывается (теперь, когда услышал об этом, у него дрогнуло сердце), порезало ногу жене. Что кефир брызнул по всей кухне — это видал. А вот что порезало…
Сергей перевернулся на постели вниз лицом. К черту все! Зарыться, забыться.
Теща тогда так ничего и не ответила жене. Но через несколько минут Сергей услышал (вот ведь странно: зароешься в подушку, бежишь от всех звуков, от самой жизни, гонишь ее, а звуки, жизнь еще острее — через подушку-то! — жалят тебя), как она грузно поднялась в своей комнате и медленно, тяжело прошла мимо его закрытой двери на кухню. Готовить. Зачем? — ему совсем не хотелось есть. Перегорело. Да и хотелось ли ему есть раньше? Это было воскресенье, день практически единственный на неделе, когда Сергей наконец-то принадлежал себе. Детям и письменному столу. Эти слова можно бы написать и через запятую, и с двоеточием. Себе, детям и письменному столу. Себе: детям и письменному столу.
Он дорожил каждой крохой такого времени. Трясся над ней, дрожал голодной собачьей дрожью. Дети ему не мешали. Он сидел за письменным столом, они, случалось, висели на нем, как пиявки, и все равно ему не мешали: научился писать и так. Лишь в крайнем случае, когда у него что-либо не получалось, не вытанцовывалось, выставлял их из комнаты и закрывал дверь. (Для самой маленькой закрытых дверей в доме не существовало: будучи выставленной за дверь, она тут же поворачивалась на одной ножке и простодушно вламывалась в комнату опять — у него уже не поднималась рука выгонять ее снова, и она устраивалась рядом с ним, за столом, что-то черкала на его листах, посапывала, ластилась к нему, и это ее посапывание, шебуршанье, это ее существование рядом, даже когда у него что-либо не получалось, ободряло, поддерживало, грело. Он напоминал себе хату, под стрехой у которой прилепилось ласточкино гнездо.)
Он и теперь втайне побаивался, что вот сейчас откроется дверь и войдет, впорхнет Маша. И что он тогда будет делать? Зарываться еще глубже? Как сохранит остатки своего гнева? Как взглянет на нее — и каким она увидит его? Ее-то, пожалуй, ему стыднее всех. Даже стыднее самого себя.
Может, то и был бы самый простой выход из тупика — если бы в комнату впорхнула Маша.
Но она не вошла. Иногда только ее ножонки в теплых шерстяных носочках — теща связала — шустро-шустро (все — бегом) протопывали мимо его закрытой двери, и этот ее беглый домовитый топоток всякий раз отзывался в нем. Правда, совсем уже другой, не глухой, нотой. Там, внутри, трогали что-то сильно-сильно натянутое и оно вибрировало. Звенело.
Дзи-инь…
Да нет, конечно, не так уж и хотелось ему тогда есть. Просто день, который всегда экономил для себя, оберегал от любых посягательств, пошел коту под хвост. Редакция участвовала в проведении международного журналистского семинара, и Сергей был определен в группу встречающих. Целый день провел в Шереметьеве. Встречал, обнимал, садился в машину, вез в гостиницу. Потом возвращался назад, опять встречал, опять обнимал, опять вез. И так целый день. Дело даже не в хлопотах. Дело есть дело, и как человек служивый Сергей все-таки привык интересы дела ставить выше собственных, частных.
Хотя разве не дело то, чем он занят обычно по воскресеньям?
Да, к концу того воскресного дня Сергею стало совершенно очевидно: то, чем он сегодня занимается, на что тратит «личное», как говорят в армии (сорок пять минут: подшить воротничок, написать письма, покурить, почитать — как много в нем умещалось!), кровное время, — недело. Именно так, «недело». Вместе, слитно. Все что угодно, может, даже весьма существенное, но — недело. Ощущение пустоты и некоторой нечистоплотности осталось после всех этих ни к чему не обязывающих торопливых объятий и поцелуев (вообще-то Сергей терпеть не может целоваться с мужиками, и когда приходится-таки подчиняться этой дурно, заразно распространившейся по свету моде, то потом невольно тянется к платку), после столь же ни к чему не обязывающих, вымученных разговоров в машине: как долетели, какая у вас там погода, а у нас, видите, ранний снег. О да, конечно-конечно. Москву и надо смотреть в снег…
Он бы, может, и начал какой-то другой разговор, да сменявшиеся переводчики и переводчицы каждый раз уверенно, привычно толкали его на этот расхожий, никуда не ведущий путь.
На ужин в гостинице Сергей не остался. Там было кому остаться и без него. Но это уже дела не меняло. Не могло изменить. День был вытрачен, выброшен, домой он вернулся злым. Прошел на кухню, потребовал есть. Перед ним поставили ч т о-т о и бутылку кефира. Бывая не в настроении, он все женины блюда не из тех, что когда-то готовила мать — борщ, галушки, лапша, картошка с мясом, опять борщ, лапша, и т. д., — называл этим уничижительным прозвищем: «что-то».
Вот тут-то он и вспомнил о тушеной капусте. Она, кстати, была из разряда тех давних, материнских, основополагающих разносолов. Вот только обещал ли ему кто в действительности или он это выдумал, ляпнул вгорячах, следуя капризу своей гневливой фантазии? Он и сейчас, самому себе, не может ответить на этот вопрос со всей определенностью.
— Какая капуста? Ты что, в ресторане?!
Покажите, пожалуйста, ресторан, где подают тушеную капусту с салом. Чтобы она шкворчала, парила и разносила под праздными размалеванными сводами крестьянский, колхозный, работный дух…
Он отодвинул ч т о-т о от себя, а бутылку с кефиром швырнул на пол. Выматерился, вполголоса, неразборчиво, сквозь зубы, как матерятся или очень злые или шибко интеллигентные, обремененные детьми люди. Звучит это примерно так:
— сство… сство… сство…
Чтоб не разобрал никто из малолетних. Хотя для малолетних, пожалуй, важнее не слова — мало ли что они могут выражать, — а интонация. Она куда определенней и страшнее. Когда в дом входит, вламывается, как тать, эта интонация, малолетние, а их у него трое, печально — слава богу, что не пугливо, — жмутся по углам. Он замечает это, хотя и не может остановиться сразу, хотя подчас э т о, как ни странно, распаляет еще больше, подстегивает, подзуживает. Распаляется, а у самого сердце тоже сжимается, печально и пугливо. У него-то — и пугливо тоже. У него-то оно обременено и другой памятью. В такие минуты он и себя-то слышит маленьким мальчиком. Маленьким, пугливо сжавшимся мальчиком — себя, взрослого, разъяренного, чужого.
Что замышляет в эти мгновения его старший, тринадцатилетний, безотрывно следящий за ним темными, пристальными глазами откуда-то от телевизора?
Даже в те мгновения, а не только позже Сергею бывает стыдно перед ним, особенно перед ним, всевидящим и пока молчаливым, пока г р у п п и р у ю щ и м с я, — Сергей когда-то занимался спортом и знает, что такое сгруппироваться перед броском, но сладить с собой не может. Так глубоко отравлен. Порода…
— сство… сство… сство…
Детей в тот момент, слава богу, на кухне не было (может, случись на кухне Маша, ничего и не стряслось бы?), а жены в отличие от них прекрасно понимают все подобные аббревиатуры. Хлопнув кухонной дверью, Сергей ушел в спальню. Жена осталась на кухне. Одна. Он не знал, что осколком бутылки ей поранило ногу.
Теща, оказывается, весь день лежала в своей комнате. В комнате, которую она делила с Машей.
5
Помнишь, как ты впервые увидел Муртагина? Была поздняя осень. Вы работали на строительстве жилого офицерского городка в Красных Сосенках. Красные Сосенки — это название района в городке, где располагается штаб инженерно-строительного соединения. Название неофициальное, прилипшее само по себе. История его, рассказывают, такова. Городок старый, даже древний. Центр его, сердце составляет старинная ткацкая фабрика. Точнее, две фабрики: ткацкая и швейная, находящиеся практически под одной крышей: Ну, крыш-то много, потому что здания старые и разбросанные, автономные — мануфактуры ведь не знали конвейера, — а вот изгородь точно одна.
Капитальная, жженого кирпича — уж не в Батыевы ли времена зарождалась у нас легкая промышленность? — крепостная стена, сокрывающая такие же красные, цвета ржавчины, толстостенные, непробиваемые приземистые строения. Здесь и располагаются испокон веку ткацкая фабрика и небольшое швейное производство. По существу — цех при ней. В войну, говорят, выпускали портянки. Вещь и в мирной солдатской жизни, по себе знаешь, незаменимая, а уж на войне, наверное, тем паче: сухие портянки — походный солдатский дом. И греет, и лечит. Можно сказать, мы дошли до Берлина в энских фланелевых портянках. И текстильное, и швейное производство, разумеется, преимущественно женские. Так что фабрика и в этом смысле тоже — сердце Энска. Чувствилище, сотнями, тысячами женских тропок связанное с каждым домом городка. Дома в городе почти все одноэтажные, деревянные, потемневшие от времени и непогоды, что делает его еще более старозаветным. Если и не темное, то уж сонное царство. Сонное женское царство — благодаря производству, благодаря двум длинным, дощатым, довоенного кроя общежитиям и профтехучилищу, которое здесь называют бантохранилищем, хотя никаких бантиков пэтэушницы не носят, предпочитая ничем не взнузданные молодые гривы. Городок и впрямь юбочный.
Когда возникла нужда в гарнизоне, жилые дома для офицеров стали строить на окраине городка. Деревянные дома на улицах стоят плотно, как бревна в плоту, тяжелые, неразъемные, набухшие. С блочным, бетонным и все равно карточным по сравнению с этим вечным, фундаментальным деревом «небоскребом» в них не въедешь, не вклинишься. На окраине — то есть на пустыре, поросшем мощными, редкими, будто ненароком оброненными сеятелем соснами. Их и называют Красными Сосенками. Почему-то так, уменьшительно, с о с е н к а м и — это корабельные-то, в два обхвата, сосны, чтобы взглянуть на упершиеся в небо вершины которых, надо придерживать шапку на собственной макушке. Их, похоже, и впрямь когда-то сажали, и они когда-то были маленькими, махонькими сосенками. И привязанность к ним так и кочует из поколения в поколение: «сосенки». Почему красные? Их высокие, почти обнаженные тела (кроны — как до самой шеи задранные, приготовленные к снятию платья: осталось еще одно неуловимое движение) напряженно выгнуты, подставлены скупым северным ласкам и женственно смуглы. И только утром, на восходе солнца, и вечером, на закате, стволы нежно, стыдливо розовеют. Белый пуховый туман плавает на пустыре, под ногами соснового бора, пронзенный, потоптанный самим воплощением солнечных лучей — темные кроны в этот час как-то скрадены, и кажется, будто влажно-алые, женственные стрелы летят не с земли в небо, а с неба на землю. В землю.
Бор — нечто тайное, сумеречное, пугающее слышится в этом слове. А тут — свет, простор, нега. Может, потому б о р о м их никто и не зовет.
Строительство жилого офицерского городка в Красных Сосенках начали с танцевальной площадки. Да-да, не с бытовок, не с колерных, не с сараев, не с того рукотворного хаоса, который окружает и предваряет у нас пока любую мало-мальски значительную стройку, а с такой необязательной и даже странной, если не вредной в подобных обстоятельствах вещи, как танцплощадка. Чья-то светлая голова придумала: гарнизон, воинский постой сразу стал желанен в городке. По вечерам, особенно в выходные дни, когда солдатам давали увольнительные, потянулись к Красным Сосенкам от фабрики, от общежития, от ПТУ, от женского, девичьего сердца городка, да, считай, и от каждого его дома теплые, прочные — шелковые! — ниточки. Два сердца образовались в городке: одно — давнее, традиционное, — в центре, где фабрика, и другое — новое, упругое, молодое, веселое — в Красных Сосенках. Там, где посреди деревьев, посреди развернувшейся строительной площадки возник прочный, ладно и весело сработанный солдатами — чай, для себя старались! — дощатый настил с решетчатой оградой и с крытой затейливой эстрадой для оркестра.
Настил соорудили высокий, капитальный, с бетонированной подушкой, чтоб в любую непогоду танцплощадка не тонула в грязи. И она действовала, делала свое дело — в любую погоду. И еще как делала! За два армейских года ты на стольких солдатских свадьбах побывал, первые ниточки, узелки которых завязывались на этих вот капитальных, охрою крытых досках. В городке есть Дом культуры имени летчика Чкалова (вон как стонало женское сердечко по мужским фамилиям!), недавно появился и Дом офицеров, в фойе которого тоже пляшут по выходным. А все равно солдатская танцплощадка в Красных Сосенках самая популярная, притягательная. Похоже, она и разбудила сонное царство, действует даже зимой, в самые лютые морозы.
Солдаты приходят туда группками, вольным строем, в шинелях, стоящих колом, и в шапках-ушанках с поднятыми наверх «ушами». Вообще-то в такие морозы шапки положено опускать и даже завязывать на «поворозки» под подбородком, и офицеры, особенно пожилые, фронтовики, такие, как твой бывший командир части подполковник Каретников, строго следят за этим. И поначалу, от казарм, получивши увольнительную и должные наставления на плацу перед штабом, солдаты идут в полном согласии с требованиями устава и своего пожилого начальства, но при подходе к танцплощадке обязательно останавливаются и уши у шапок щегольски, молодцевато задирают наверх. Нарушают форму одежды — и многие из них потом, вернувшись с танцев, долго и решительно, с жалобными воплями бегают по казарме, по узкому проходу между двумя рядами хохочущих двухъярусных коек, зажавши ладонями собственные уши, колер которых колеблется от цвета кровельного железа до цвета гусиных лап.
Девчонки же в такие вечера приходят на танцы до бровей закутанные в пуховые, кроличьего или козьего пуха, платки. И в валенках. Валенок здесь не стесняются: городок-то, во-первых, рабочий, а во-вторых, северный. Зато как же они хороши, эти бойкие, окающие, пунцовощекие, осененные, опушенные (кристаллические реснички инея по краям платка, то есть совсем уж у самых бровей — и на бровях! — у щек, у самых губ — и на губах?) молоденькие ткачихи в коротких, теплых, уютных валеночках, на которые даже если и наступишь неуклюжим солдатским сапогом, то все равно не больно!
Руки, когда подходишь к ним, они держат, так мягко опустивши по швам и чуть-чуть развернув, раскрыв, заиндевевшие ладони — как и губы — по направлению к тебе. Вот она я вся — бери!
Ладони у них даже под пуховыми рукавичками, даже через шинельную драп-дерюгу твердые. Определенные. Средоточие нежности и — работы.
Солдаты шагают к танцплощадке строем, ткачихи летят к танцплощадке стаей.
«Чья-то светлая голова…» Забыл: чья? Позже, когда уже служил в политотделе, случайно на одном совещании узнал, догадался, к т о на свой страх и риск распорядился строительство жилого офицерского городка начать с сооружения танцплощадки. Совещание было значительным, специально на него прибыл генерал из Москвы.
Приезжий генерал держал на совещании строгую генеральскую речь, в которой помянул между прочим и о том, что отпущенные на оборону Родины народные средства надо использовать только на предусмотренное дело, а не разбазаривать на сомнительные объекты, вроде всяких там танцулек — «как то было в прошлом году в вашем же управлении инженерных работ, когда некоторые присутствующие здесь товарищи допустили использование служебного положения и вмешательство в сферы, выходящие за пределы их компетенции. Забыли, что они всего лишь политработники, а не строевые командиры, принимающие единоначальные решения, да и то в пределах четко очерченного круга служебных полномочий».
При этом, оторвавшись от бумажки, генерал быстро, косвенно, но вполне определенно взглянул на сидевшего неподалеку от него, в президиуме же, подполковника Муртагина. Тогда-то ты и догадался, кому обязан своим появлением на свет «объект», функционирующий в Красных Сосенках. Чьей голове — темной, темноволосой, крепко сидящей на плечах голове подполковника Муртагина.
А что — голова ничего. «Еду-еду — не свищу, как наеду — не спущу…» А она даже бровью не повела. Как сидела себе, так и сидит, чертит что-то в записной книжечке. Конспектирует?
Стройка в Сосенках продолжается, домов все прибавляется и прибавляется. Они отстоят на приличном расстоянии друг от друга, и сооружают их, стараясь не повредить деревья. Сохранить сосенки. Люди как бы заселяют Сосенки, вьют среди них гнезда. Зато сбереженные красавицы сосны придают в общем-то унылым блочным пятиэтажкам хоть какое-то своеобразие. Офицеры, населяющие пятиэтажки, молоды, дворы полны детворы, и это еще более усиливает ощущение гнездовья.
Кто хоть когда-нибудь был строителем, тот знает, что такое стройка поздней осенью. Холод, грязь, уже схваченная льдом, но затем расквашенная сапогами и колесами, сквозняки. На строительстве этого дома работало много первогодков, и ты в том числе. Только-только закончился курс молодого бойца, «карантин», как его еще называют, — когда вы бегали кроссы, изучали уставы и стрелковое оружие, ходили строевым, без конца строились…
— Отрабатываем подход к начальнику… Подход к начальнику — это искусство, — наставлял нас старшина Зарецкий. — Своевременный отход от него, — добавлял после некоторой паузы, — талант.
С окончанием карантина по существу закончилась и ваша военная служба. Служба закончилась, началась работа. Стройка, которая для многих вовсе не была в новинку: среди новобранцев были и закончившие строительные училища или техникумы, были даже парни с высшим строительным образованием. Да и те, кто специального образования не имел, в мирной, гражданской своей жизни тоже, как правило, были связаны со стройкой или, по крайней мере, с конкретным, рабочим, мастеровым делом. Тут все были рукастые. Таких, как ты, безруких интеллигентов, «композиторов», как определил вас старшина Зарецкий, — раз-два и обчелся.
Да, был строгий распорядок, были даже политзанятия с изучением военной машины возможного противника и империализма в целом, было хождение строем в столовую и из столовой, на работу и с работы. Н а р а б о т у и с р а б о т ы — и военной в вашей службе была только форма, еще не обвалявшаяся, не пригнанная, мешковато сидевшая на вас.
По форме вы были военными, по содержанию вы были каменщиками, штукатурами, нормировщиками, землекопами — последние преимущественно из числа «композиторов».
А вообще, наверное, после войны это и были-то самые стратегические, самые военные войска — военные строители…
И вот в один из первых дней на стройке, холодный, неуютный, когда порывами — будто там обметали амбары, летевшая с неба пороша забивалась в пустые еще оконные проемы и во все щели, за ворот, в самую душу, казалось, надувало, — в такой день на стройку приехал Муртагин. По его распоряжению всем новобранцам велели построиться на улице перед домом. Строй получился неровным — не потому что, скажем, старшина Зарецкий был недостаточно ретив — ретив, еще как ретив! — или у вас так быстро выветривался карантин, просто какой может быть строй на строительной площадке? С ее ямами и горбами. И строй, как ни ярился старшина, получился с ямами и горбами. Возможно, старшина еще долго бы совершенствовал его, бегал из конца в конец, если бы подполковник не остановил его, сказав, что предела совершенству нет, а тут все-таки не плац, а стройка. Работа.
Он поздоровался с вами, вы по уставу ответили ему (и старшина, и командир роты остались довольны: ответ получился таким свирепо-дружным, как будто отвечали Чемберлену), и подполковник неторопливо пошел вдоль строя. Он подходил поочередно к каждому солдату, и цель столь тесного общения вы поняли не сразу.
Помнишь: стояли руки по швам, поедая глазами самое непосредственное (страшнее кошки зверя нет) свое начальство — старшину Зарецкого, — а Муртагин подходил к каждому из вас. Поднимал руку к твоей голове и проверял, как на ней, на твоей голове, сидит твоя солдатская шапка.
Перчатки он снял, и оказалось, что руки у Муртагина теплые. Повертел шапку на твоей голове и прошелся ладонью по шее. Сказал бы «по холке», будь на тот момент хоть малейший намек на холку. Какая холка на землеройных работах! Ствол, на котором еще ничего лишнего. Ладонь прошлась по нему, погладила, даже похлопала дружески: мол, расти большой, да не будь лапшой… Тебя этот жест, может, тронул больше, чем кого-либо другого. Безотцовщина — кто еще вот так, по-мужски, по-отцовски, как работник работника, похлопывал тебя: ступай, дорогой, такова наша мужская доля. Как хомут на ходу поправил…
Шапки сидели неправильно.
Цигейковые, с матерчатым верхом, они то ли от старости, то ли от плохого хранения скукожились, ссохлись и сидели как на свинье ермолка, мелко, на макушке, слетая при мало-мальски шальном порыве ветра, при резком наклоне кумпола. Накануне старшина выдавал шапки без примерки, по списку. Ты пробовал поменять свою не столько из-за того, что маленькая, сколько из-за ее неказистости: уж больно сморщенная, зализанная, даже обсмоктанная, звездочку на такую цеплять стыдно, но старшина легонько так взял тебя за плечи, развернул к двери и, посмеиваясь, выставил из каптерки:
— Носи, Гусев. В этой шапке не один воин помер.
Пошутил.
Подполковник Муртагин шел вдоль строя молча. Старшина Зарецкий первым смекнул, в чем тут дело. Он был смекалист, старшина Зарецкий. К середине обхода он, неотступно следивший за подполковником, вытянувшись во фрунт в хромовых, офицерских — не по уставу — сапогах, в теплом, на вате, бушлате, в шапке с хорошей пушистой цигейкой и суконным верхом (шапка тоже не по чину: офицерская), стал нездорово-малиновым. Так светится, накаляясь, чугунная плита. Темные крупные рябинки, усеивавшие лицо старшины, были как пятна бурой отслаивающейся окалины на этой рдеющей буржуйке.
Последним в строю стоял Абдивали Рузимурадов, узбек. Вообще-то в роте узбеков было много. В большинстве своем веселые, общительные, нежадные — им слали посылки, и они потрошили их прямо в казарме. Каждого оделяли непривычными гостинцами: сушеными, напоминающими слипшиеся сыромятные ремешки полосками дыни, урюком, желтоватыми, тоже липкими кусками, обломками не то сахара, не то засахарившегося меда. Надо сказать, даже то, что, в общем-то, было вам знакомо, в узбекском варианте оказывалось непривычным — непривычно сладким. Виноград — привяленный («На чердаках вялим, каждую кисть вешаем отдельно на ниточке и вялим. Э-э, дарагой, после этой армии приезжай ко мне кишлак, чердак ходить будем, там мно-ого чего есть…»). Но от привяленности гроздь, кажется, еще больше потяжелела. Полновесная, двух-, трехъярусная, с муаровым налетом, сообщившимся ей за те несколько дней, что она успела провести в темном, сдержанно-духовитом, прохладном таинстве восточного чердака, словно кутающаяся в черную, паутинной тонины шаль, кисть царственно хороша. И сладка! — так неожиданно, радостно, проникающе, от кончика языка до кончика пальцев. Так необычно сладка, медвяна, как, кажется, и не может быть сладким ничто живое, не химическое, растущее из грешной земли. Кишмиш — наверное, привялость и придает ему такую дополнительную колдовскую сладость. Заточение, выдержка на чердаке — это как продление вегетации, процесса накопления, добирания сахара или его перехода в другое состояние — в сверхсахар, в мед. Да что виноград — редька у узбеков и та оказывалась сладкой. Крупная, непривычно зеленая и — еще непривычнее — сладкая!
При всей общительности они все-таки больше держались друг друга. Землячества. И общительность была не столько каждого в отдельности, сколько землячества в целом. Довольно замкнутое сообщество, доброжелательно обращенное ко всем, кто его окружает. Рой. Они вообще любили кучковаться: в казарме, в уголке или в Ленинской комнате, обмениваясь полученными из дому письмами (им чаще слали посылки, нежели писали письма), живо и вместе с тем укромно обсуждая какие-то свои домашние новости. На стройке — где-нибудь в удаленном от начальства закутке. При первой же возможности разводят костер. Разживут костерок, соберутся в кружок и посиживают на корточках. Работники послушные, в меру старательные, правда, из всех работ больше всего любили ту, что у нас называлась «варить клей». Готовые квартиры отделывались обоями, для них нужен был клей, разновидность клейстера — его и варили. Точнее, растапливали твердые, окаменевшие куски этого клея в ведрах на костре. Работа плевая, одного человека для нее хватило бы за глаза, но ваши южане — так повелось, что варка клея сразу и без споров оказалась в их ведении, — всегда просились на нее скопом: по двое, по трое, а то и вчетвером. И привлекала их, думаю, опять же не столько легкость этой работы, сколько возможность вот так посидеть вместе у огня.
Но Абдивали Рузимурадов совсем другой узбек. Особенный. Индивидуальный — достаточно сказать, что он всегда держался особняком. От всех, в том числе и от своих земляков. Он тоже был добродушный, улыбающийся, но — сам по себе. В стороне. Рой, сведенный количественно до одного индивидуума. Доброжелательно обращенный — своей вечной чуть растерянной улыбкой — ко всему, что его окружает, но при этом, даже при улыбке, прочно замкнутый в самом себе.
Ты не забыл его? Вообще-то улыбкой все его общение с окружающим миром и исчерпывалось. Он и слов-то никаких не произносил: только улыбался. Улыбка его — универсальный ответ на все случаи жизни. Старшина Зарецкий влепляет наряд вне очереди за нерасторопность на построении, а рядовой Рузимурадов, вместо того чтобы мигом обдернуться, вытянуться, щелкнуть каблуками (вы щелкали когда-нибудь каблуками кирзовых сапог, в которых только что обслуживали бетономешалку?), козырнуть и бодро — старшина любит, чтобы бодро — выпалить: «Есть наряд вне очереди, товарищ старшина!» — вместо всего этого военный строитель рядовой Рузимурадов долго собирается, вытягивается, переступает с ноги на ногу и застенчиво улыбается.
По-русски он не говорит, потому что не умеет говорить по-русски — разве что улыбаться.
Но впечатление такое, что он и по-узбекски-то не умеет. Перекидывался, конечно, фразой-другой с земляками, но — изредка и, чувствовалось, по незначительным поводам. А так предпочитал уединение. Даже работать — отъединенно от других.
Вряд ли его вполне понимали и сами узбеки. Рузимурадов узбек, но из какой-то очень уж глубокой узбекской глубинки. Высокой. Откуда-то с гор, с самого поднебесья, с отгонных пастбищ, где Абдивали, внук чабана, сын чабана и сам чабан, и провел до этого всю свою пока недлинную жизнь. Там, наверное, и привык к одиночеству. Может, у них в горах и язык-то свой был. Узбекский, но — свой, особенный, просеянный от лишних слов. Слова остались самые необходимые.
И внешне отличался от других. Сам молодой, а в лице есть что-то общее со старой, археологической, из-под бог весть каких напластований бережно, пальцами, извлеченной керамикой. В той обожженности, закалке, когда уже и не поймешь, керамика перед тобой или бронза. Закалка, что качеством неизвестно какому пламени больше обязана — натуральному или огню времени, вечности, мучительному, тяжелому и верному. Глаза, почти лишенные ресниц и потому странно господствующие на лице, и с такими огромными темными зрачками, окруженными столь же темной, отсвечивающе-темной, сросшейся со зрачками радужкой, что кажется, будто и глаза тоже подверглись этому медленному, осторожному обжигу. У Петрова-Водкина есть «Голова мальчика-узбека». Неизвестно, как вся голова, а странные, притягивающие глаза мальчика-узбека принадлежат твоему сослуживцу Абдивали Рузимурадову.
Он темнее, подкопченнее всех других узбеков, хотя в варке клея никогда не участвовал: работал один, несмотря на то что работать одному ему было трудно. И вытягиваться перед старшиной военному строителю рядовому Рузимурадову тоже было трудно. Потому что если есть в тебе всего-навсего метр с кепкой, то тянись не тянись — не прибавится. Он и в работе сторонился всех потому, наверное, что никому не хотел быть в нагрузку. Крепко, не на живую нитку, сшит, ухватист. Маленький, но твердый, ладный, как гладкий лещинный орешек. Что касается роста, то первое время его донимали расспросами: как умудрился попасть в армию? В нем же наверняка нет необходимой «нормы» — полутора метров. Спрашивали и на русском, и на узбекском. Абдивали только смущенно улыбался в ответ. Лишь к исходу первого года он наконец заговорил, научился говорить — сначала по-русски, а потом и по-узбекски. К тому времени все, кажется, и забыли о своем навязчивом вопросе, а он вспомнил о нем. Очнулся. Созрел.
— Барана мало давал, — сказал вдруг однажды во время обеда, когда отделение молча и дружно работало алюминиевыми ложками, вычерпывая ими до дна, а потом еще и вымакивая хлебным мякишем содержимое алюминиевых же чашек. — Барана мало давал, — повторил Абдивали при общей изумленной тишине, ни к кому конкретно не обращаясь. И счастливо засмеялся: то ли оттого, что одолел наконец какой-то внутренний барьер, произнеся не одно слово, как раньше, а целых три подряд, то ли довольный, что в конце концов столь обстоятельно и исчерпывающе ответил на занимавший сослуживцев вопрос.
А вы уже давно забыли свой вопрос и сидели, ничего не понимая. Честно говоря, мы и сами были поражены такой словоохотливостью Рузимурадова. И потом: какие бараны? При чем бараны — когда народ сидит и упорно наминает вегетарианскую солдатскую пищу: гречневую кашу с таком? Уж не спятил ли малый часом? Все недоуменно переглянулись, оторвавшись от святого солдатского дела — вдвойне святого, если ты служишь в строительном батальоне, а не в роте почетного караула. Рузимурадов же, напротив, углубился в чашку. И, только заметив недоуменные взгляды, настороженную тишину — даже алюминий не звякал, — пояснил, опять же с невероятной словоохотливостью:
— Военком надо было привести пять баран, а я только три с гор привел. Не знал. А назад было идти лень да и баран жалко. Ладно, думаю, отслужу. И служу! И два баран целый остался. Сэкономил! — выговорил он по слогам трудное политическое слово и опять засмеялся, довольный и тем, что справился с таким заковыристым словом, да и тем, что «два баран» действительно целехоньки и ждут не дождутся с действительной своего хозяина.
…Отделение хохотало так, что на вас ошарашенно оглядывалась вся огромная и до отказа забитая солдатская столовая с длинными деревянными столами и опилками на полу — чтобы и чище, и суше, и теплее, и тише. Сосредоточенные, с капельками пота на лбу лица отрывались от священнодейства и разом поворачивались к вам. Хохот был мощный, нутряной, здоровый, и путеводным колокольцем в нем выделялся смех рядового Рузимурадова.
Ты не забыл?
Но все это было много позже, почти через год после описываемого события.
Собственно, его разговорчивость, относительная, конечно, с этого признания и началась. Так ребенок: все впрок видит, все впрок понимает, а говорить начинает вдруг. Количество переходит в качество.
Что касается двух баранов, нельзя не вспомнить и такую малость. Она относится к первым дням службы. Шагали строем с работы на обед. Путь пролегал по улочке, имевшей скорее деревенский, нежели городской вид. Сельская, даже проселочная дорога посередине, снегом повитая, но все еще яркая, молодая, второго, осеннего, помета трава на обочине. По траве вдоль улочки не совершенно трезвый мужичок, расставив руки, гонялся за овцой. Видно, выскочила из клети, а там и из калитки и, ошалев от воли, от холода, от этой сочной, хотя и подмороженной травы, понеслась куда глаза глядят.
Как же остановился Рузимурадов! Другие перешучивались на ходу над незадачливым «ловцом», а Рузимурадов, не обращая внимания на явное неудовольствие старшины Зарецкого, приотстал (ему вообще тяжело было шагать с нами в ногу, особенно если учесть, что направляющим в роте был двухметровый богатырь шахтер Алеша Пахомов и замыкающий Абдивали, как правило, просто, без всякой «ноги» семенил за вами следом) и несколько раз ласково, даже взволнованно повторил:
— Чак, чак, чак…
Овца остановилась как вкопанная, а потом, круто изменив направление, послушно подошла к нему, уткнулась замшевыми подрагивающими губами в колени. Абдивали, перехватив ее поперек живота, ловко взял овцу на руки и понес навстречу подбегавшему, запыхавшемуся мужичку. Хозяину. Ввиду такого бережного отношения чужого человека к его скотинке хозяин уже не мог, как наверняка был намерен ранее, пнуть ее сапогом в бок, а вынужден был тоже принять овечку, матку, на руки и так, на руках, понес ее к своему двору. Абдивали вернулся к вам, получив — в обмен на беззаботную улыбку — от старшины Зарецкого свой законный наряд вне очереди за нарушение строя.
Рота уже не смеялась. Рота шла и спинами уважительно чувствовала, что следом за нею, последним, едва поспевая, семенит счастливый в данный миг человек. Рота, пожалуй, даже завидовала ему. Человеку, который из всех слов знает только необходимые. Независимо от того, к какому языку они приписаны.
«Чак, чак, чак…» — это на каком языке? На овечьем?
Такой вот человек стоял на левом фланге. К нему, последнему, и подошел наконец подполковник Муртагин.
Вряд ли требовалось трогать рукой шапку рядового Рузимурадова, чтобы понять, как она на нем сидит. Невооруженным глазом видно, что это не шапка на нем, а он в шапке. Сидит, стоит. Находится. В шапке находится, в бушлате находится, в штанах находится и особенно (с головой) находится — в сапогах. Все на нем велико, все — шалтай-болтай. Не Абдивали Рузимурадов, а военный строитель рядовой Филипок. Сын полка. Смешной и, чего греха таить, жалкий в этих одежках с чужого плеча.
— Как тебя зовут? — спросил Муртагин.
В ответ ослепительная белозубая улыбка.
— Как тебя зовут? — повторил Муртагин свой вопрос по-узбекски. (Рассказывают, он специально выучил чуть ли не все языки, представленные в его соединении.)
Еще более ослепительная улыбка: Рузимурадов тогда был еще несокрушимым молчуном. Еще только улыбался.
Тогда Муртагин сказал несколько слов на языке, который не поняли даже наши узбеки.
Абдивали расцвел. Пожалуй, т а к о й улыбки мы у него еще не видали. Вся мордаха, включая обычно грустные, самостоятельные, отстраненные глаза, — одна сплошная улыбка.
Что за язык то был? Овечий?
Муртагин сдержанно улыбнулся, и старшина Зарецкий тотчас подхватил его улыбку, отразил и даже значительно увеличил. Но старшина Зарецкий рано радовался, считая, что гроза, слава богу, миновала. Муртагин хоть и улыбнулся, но это не помешало ему подозвать старшину, и тут, на левом фланге, не столько перед всем строем, сколько перед замыкающим, перед Абдивали…
— Объявляю вам двое суток ареста с содержанием на гауптической вахте, — негромко, но внятно (не только Абдивали — все услышали!) произнес он, поднося ладонь к виску.
— Есть, — подавленно, совсем не так, как учил вас отвечать в подобных случаях, ответствовал старшина.
Своевременный отход, которому он обучал вас, тоже не получился…
В тот же день в политотдел были вызваны командир части, замполит и заместитель командира по хозяйственной части.
6
Сергей то ли уснул, то ли забылся, выдохшийся, увядший, — только законченные изверги, пожалуй, способны поддерживать в себе постоянный, ровный, работоспособный тонус злости, — когда дверь в спальне тихо отворилась и в нее вошла теща.
— Иди на кухню. Я тут капусты потушила, поужинай…
«Я тут…» Одно только слово, да какое там слово, полслова подправила, и все вышло почти безобидно. Без обиды на него. Я тут приготовила, пойди поешь. Скажи она «я там…» — уже звучало бы иначе. Я слышала тебя, негодяя, я там приготовила, удовлетворила твою чванливую прихоть — ступай лопать.
Что оставалось делать? Промолчать, притворившись, что не видел ее и не слышал? Отвернуться?
Или так же просто, таким же тоном, каким она заговорила с ним, ответить, что он ничего не хочет, что он извиняется за свои безобразия, за доставленные хлопоты, но пусть его оставят в покое. Но даже ответить ей так — тоже значило обидеть. Это ведь не он в ее доме жил, а она жила у него. Сергей, сам когда-то не раз живавший у чужих людей, слишком хорошо знал психологию человека, оказавшегося, пусть хотя бы временно, под чужим кровом.
Молча встал и пошел на кухню. Теща медленно проследовала за ним. Какое-то время посидела с ним за столом, молча подвигая к нему то заранее нарезанный хлеб, то солонку. Теща старой, домостроевской закваски: Сергей всегда с пренебрежительным удивлением слушал мужиков, жаловавшихся на своих тещ, на их сварливость и встреванье не в свои дела. У него такого не было. Ни на какие приоритеты теща не посягала, никуда не вмешивалась, а если и принуждена была иной раз реагировать на стычки Сергея с женой, то всякий раз выступала не на стороне дочери, а на Серегиной.
Во всяком случае, вслух. Что она думала про себя, об этом никто не знал.
Хоть она и сидела перед ним, а все равно видно было, что вообще-то ей не до него. И не до них. Была бледна, голову ее туго, как бы спасая от невидимых ударов, повязывал, пеленал тяжелый теплый полушалок, бескровные, темные, иссеченные пучки пальцев мелко дрожали. Всю ее, чувствовалось, донимал внутренний озноб. Посидев с ним, встала и ушла. Сергей почувствовал облегчение.
Точно так, как своего старшего сына, Сергей, наломавши дров, стеснялся в доме и этой чужой молчаливой женщины. Она напоминала ему мать своей способностью быть не на виду, не в центре, и в то же время — везде. На кухне, когда к его уходу на работу там неизменно появлялся на столе завтрак. В «малышовке» — так в доме называли комнату, в которой жила обычно теща и его младшая дочка, — когда там среди ночи вдруг возникал высокий, испуганный спросонья Машин плач, а потом так же неожиданно затухал в ласковом тещином шепоте. И жена, обычно вскидывавшаяся по первому тревожному зову, теперь, когда в доме теща, не летит стремглав из спальни, а лишь перевернется со вздохом на другой бок. Знает: мать заберет Машу к себе в постель. В дни, когда теща живет у них, жена и спит иначе: не сторожит по ночам дом, детей, а зорюет всласть, безоглядно, сама обращаясь в девчонку.
Оставляя дом на мать. Передоверяя его ей.
Так когда-то в детстве и его мать, оставаясь почти незаметной в доме, давала ход, движение всему, что составляло эту солнечную систему детства, — д о м. Была так чисто, «заподлицо» пригнана, прилажена, приработана к нему, что сама казалась частью, органом дома. Душой? Сердцем? Скорее сердцем, ибо душа бесплотна и созерцательна, а сердце деятельно. Трудолюбиво. Это его упругие сокращения чувствовались, осязались, как пульс, в любом закоулке дома, гнали сюда тепло, кровь: у матери и у дома единый круг кровообращения. Сердце не бесплотно, оно во плоти и, стало быть, имеет способность уставать и даже останавливаться.
Останавливается сердце у матери — и замирает, немеет, о с т а н а в л и в а е т с я дом.
Внешне теща совсем не похожа на мать. Мать посуше, помельче, пошустрее при той же несокрушимой молчаливости на людях. Обычно молчаливость — привилегия, удел людей крупных, основательных, самоценных. А тут молчаливость, затаенность маленького, в общем-то, человека. В этом всегда есть что-то печальное. Правда, оставаясь одна, замечал Сергей, мать начинала негромко и быстро-быстро говорить. Сама с собою. Человек выглядывал из норки. Обсуждала свои заботы, строила планы. И еще очень часто вела нескончаемый разговор с отчимом. Монолог. Как истов, как убедителен был этот молитвенный шепот, едва не срывавшийся временами на плач. И все — об одном: как бы мы хорошо жили, если б ты, Вася, не пил, если бы ты держался дома, если бы жалел себя.
Себя!
Никогда не решавшаяся надоедать ему лично — высказать, «вычитать», по выражению сельских баб, полный реестр нотаций прямо в бесстыжие, «залитые», опять же по сугубо местному определению, или, наоборот, в только-только прохмелившиеся «зенки», обращалась к отчиму вот так, робко, опосредованно, через окружавшую ее стихию.
«Вася» — Сергей и не слышал никогда, чтоб она его так называла в глаза.
К слову, в последнее время Сергей и в себе стал замечать эту странность: тягу к разговору с самим собой. Нет-нет да и поймает себя на том, что говорит сам с собой. Правда, пока он произносит только одну и почему-то всегда единственную фразу:
— Скоро поедем домой…
Потом спохватится: что за чертовщина! Какой «домой», если он и так дома, находится, например, в ванной, бреется безопасным лезвием, взяв себя за намыленный подбородок и задирая свою физиономию, как будто приготавливая ее к взнузданию? У него и дома-то другого нет. Если о том далеком, деревенском, так от него давно и следа не осталось. Он, оставленный, покинутый, в какие-то восемь — десять лет как будто сгорел: дотла, дочиста, даже пригоршни золы по себе не оставив. Вознесясь — дымом, знойным, плакучим степным маревом с этой грешной земли. Выструился — в том медленном, призрачном вихре, что стоит невесомым, незримым и вместе с тем неумолимым столбом надо всем сущим на свете и именуется временем. Огонь времени — это тлен.
Трава проросла там, где когда-то был его д о м.
Так вот, единственное, чем были похожи внешне теща и мать, — это руки. У матери они тоже были большие, словно вещь, разношенная, растоптанная ее владельцем. Надо сказать, мать и сама обращалась с ними, как с какой-либо необходимой в хозяйстве, но весьма прозаической вещью. Скажем, распаривши их, чистила ножом. Как чистят, скоблят домашнюю утварь, как точат инструмент.
Руки и у той, и у другой натруженные, тяжелые: душа выглянула наружу. Когда говорят «душа болит», то бьют себя почему-то в грудь. Если душа — это любовь, то у матерей она слишком деятельна, чтобы целиком помещаться в груди. Свой мир, свою солнечную систему они объемлют руками.
Душа болит — применительно к матери это болели загубленные отчимом руки. Израненная — в кровь! — душа.
Последнее его воспоминание о живой матери. Раннее-раннее утро. Он, сонный, выходит на порог своей хаты и тут, на пороге, обнаруживает мать. Как продолжение сна: матери несколько месяцев не было дома, лежала в больнице в районе. Она, видно, только что сошла с автобуса, не хотела их будить, сидит, отдыхает на порожках. Сергей бывал у нее и в больнице, но тут особенно резко бросилась в глаза ее нездоровая худоба — первое, что он почти бессознательно, еще не проснувшись окончательно, про себя отметил и отчего у него жалостно, уже по-сиротски защемило сердце.
Тень помещалась на порожках, легкая, светлая, почти прозрачная. Он молча опустился рядом, мать взяла его голову, уложила к себе на колени и стала легонько перебирать его отросшие, запущенные волосы, искать в них. А искать конечно же было чего: слишком долго они прожили в доме сами, без ее заботливого догляда. Всходившее солнце сдержанно грело, нежило их. А мать баюкала его кудлатую, большую, тяжелую — может, тоже от подростковой худобы и легкости всего остального в нем — голову. Сергей и по сей день явственно, отчетливо, счастливо (хотя и с таким глубоким, болезненным, болящим душевным эхом) помнит, чувствует эти большие жесткие пальцы, с которых даже больница, даже болезнь не свели сухие окаменелости мозолей. Как ласковы, как чутки были эти функциональные, работе подчиненные руки! Мать молчала: что б о л ь ш е е, более существенное, более ласковое могла она высказать словами. С ним разговаривали ее руки. С ним разговаривала, прощалась с ним ее душа.
А как Маша льнет к тещиным рукам! Купается в них, как в полноводной реке с теплым и сильным течением, с пологими берегами, на которых ждет-дожидается тебя то ягода-ежевичка, то лещинный орешек, то еще какая нечаянная радость. Посмотрит Сергей, как самозабвенно они забавляются друг с дружкой, послушает, как заливисто, колокольчиком хохочет, барахтаясь в тещиных руках, его дочка, и даже ревность шевельнется в нем. Сыновей — а теща помогала им с женой вынянчить и первых двух — не ревновал, а эту вертишейку, случается, ревнует.
Что бы он ни делал, чем бы ни был занят дома, а краешком глаза ревностно следит за Машей, за ее стрекозьими маршрутами…
Все последовавшее потом, под утро, Сергей помнит так, словно это случилось вчера. Закроет глаза, и перед ним опять и опять проходит это.
Было, наверно, часов пять. Дом спал. Как обычно в дни разладов с женой, Сергей лег не в спальне, а в общей комнате, которую в семье чопорно зовут «залой». Здесь стоит диван из гарнитура «Клеопатра», купленный лет десять назад, когда они только переехали в Москву и получили здесь первую свою квартиру. Денег на весь гарнитур не хватило, а жене очень уж хотелось «купить мебель». Так были куплены диван и два кресла к нему. За эти годы и диван и кресла вытерлись. Пребывая в нежном возрасте, каждый из новоявленных Гусевых торопился оставить в них свою отметину, знак своего пришествия в этот мир, застолбить территорию, не единожды справить на ней как минимум малую нужду, отчего «Клеопатра» порыжела и выглядит сейчас простушка простушкой. Никаких демонических поползновений, никакой царственности. Вышла в тираж: жена уже поговаривает, что все вокруг «меняют мебель», на что Сергей предпочитает помалкивать. Сергея такая Клеопатра — такая больше всего! — устраивает. Без цирлих-манирлих. Покладистая: никто тебя не гонит, не шпыняет, даже если ты взобрался в кресло с ногами. И спится, и думается ему на диване хорошо. Не по-стариковски — по-мальчишески хорошо. Может, потому жена и ревнует его потихоньку к «Клеопатре», и подумывает ее сбыть…
Дом спал. Но под утро сквозь сон Сергей даже не расслышал, а почувствовал странный, тревожный шум. Как будто кто-то двигался от «малышовки», тяжело, грузно, слепо оступаясь и хватаясь за стены в узеньком коридорчике. И сдавленно мычал.
Какая глубокая, неизъяснимая тревога исходила от этого слепого движения и шла волнами, предваряя его, проникая сквозь двери, стены и даже сквозь самый сон!
Беда!
Как ужаленный этим ощущением беды, вскочил Сергей с дивана, закружился волчком. Отыскать штаны, попасть ногой в штанину… Дверь открылась, и в свете фонаря, торчавшего за окном, Сергей увидел тещу. Она стояла в дверном проеме, тяжело опершись левой рукой о косяк. Правая как-то странно вывернута, повисла плетью. Теща опиралась о косяк не только левой рукой, но и плечом, привалилась к нему и вся подалась вперед, а правая рука висела отвесно — ладонь вывернута тыльной стороной, — как беспомощная, безжизненная, вывороченная ласта.
Седые, обычно увязанные в аккуратный пучок и покрытые косынкой волосы растрепались, повисли пегими космами. Левый глаз широко раскрыт — беда и в нем, в нем в первую очередь свила свое воронье гнездо. Правый наполовину задернут веком, так что лишь полоска темного, черного, горячечного света выбивается снизу. Рот перекошен, силится что-то вымолвить, а получается только одно:
— А-а-а-а-а…
Как тогда, в детстве, над степью.
И боль, и страх — и в первую голову, пожалуй, страх, испуг, изумление, потрясшее человека до самого основания, — и мольба о помощи… Все было в этом крике. Она вся была — крик, застрявший в двери, как в горле. Почему выбрала именно его дверь? Пошла не в спальню, к дочери, куда было ближе, а направилась сюда, в «залу»? Больше надеялась на его помощь? Жалеючи дочку, хотела первым известить его? Крик ее был таким сдавленным, словно она все-таки не хотела поднимать липшего шума: авось еще обойдется. И дочка, передоверившая дом матери, ее не расслышала.
А может, она потому и явилась к нему, что знала, кто виновник ее беды? И встала над ним, как немой, с этими характерными для н е м ы х мучительными, сдавленными звуками — укор. Здоровая, боялась даже намеком, взглядом обидеть, задеть его. Теперь, лишившаяся речи, встала над ним, жалко прыгавшим на одной ноге, пытаясь попасть другой в штанину, всей глыбой, скопищем гнева, горечи и укоризны, обнаженных в своей силе и прямодушии. Как судия.
Как там в «Шинели»? «…то, наконец, даже сквернохульничал, произнеся самые страшные слова, так что старушка хозяйка даже крестилась, отроду не слыхав от него ничего подобного, тем более, что слова эти следовали непосредственно за словом «ваше превосходительство»…»
Сколько же лет это копилось?
7
Он и сейчас, в самолете, когда они наконец набрали высоту и теща постепенно успокоилась, замерла под простынями, которыми тщательно укутана, спеленута, опять и опять вспоминал именно этот глухой предутренний осенний час. Стоило только прикрыть глаза и на миг расслабиться. А ведь прошло сколько: ноябрь… декабрь… январь… февраль… март… апрель… май… июнь… прошло без малого восемь месяцев. И чего он только за эти восемь месяцев не видел! У него вообще такое впечатление, что все это время не смыкал глаз.
Он дежурил у тещи по ночам. Днем — жена, а ночью — он. Теперь они с женой сторожили ночью каждый звук. Каждый стон больной. Все поменялось.
А стоны были разные. Было тонкое, почти детское, но непрерывное, ничем не остановимое, ни лекарствами, ни уговорами, поскуливание, на которое и их дети вдруг начинали отзываться среди ночи высокими, смятенными, сонными голосами. Чувствовали родственную, страждущую, обратившуюся в детство душу и отвечали ей. Было громкое, в голос, в крик, рыдание. Блочные городские дома не приспособлены к такому открытому, нутряному, полногласному проявлению боли, сами бог знает из чего слепленные, они и человека, заключенного в них, толкают к эрзац-чувствованиям, делая его вечным рабом «тона», приличий и т. д. Рабом, даже когда так приспичит, проймет, что только в крике, в вопле, истошном, утробном, и можно хоть на мгновение избыть душевную или телесную муку. В такие минуты — да что минуты, часы! — они с женой болезненно прислушивались и к тому, что творилось за чужими стенами. Так и ждали стука или телефонного звонка: мол, что там у вас за безобразие, уймите же, наконец! Но ничего, никто ни разу не стукнул и не позвонил, хотя слышали их, конечно, все шестнадцать этажей… Дом, где свила воронье гнездо беда.
А утром Сергей ехал на работу. Служба есть служба, и надо было держаться за нее и исправлять ее должным образом. И первое, что делал, войдя в кабинет, это запирал его изнутри на ключ, швырял «кейс», а сам, не раздеваясь, плюхался в кресло. Клал руки на стол, укладывая на них голову, и пять — десять минут спал. В отруб! Полный вакуум, ни грез, ни кошмаров.
Солдатиком в воду.
Пока не начинали скрестись в дверь нетерпеливые сотрудники и секретарша не делала нескольких кряду предупредительных звонков: просят соединиться такой-то и такой…
Собственно говоря, спать он начинал еще в машине. Втиснется в черную «Волгу», которая вот уже несколько лет возит его на службу и со службы, захлопнет дверку, поздоровается с шофером, а пока тот ответит, Сергей уже спит. Правая рука держится за ручку над передней дверцей, а голова болтается на плече…
И все же не только поэтому ему кажется, что все эти месяцы не смыкал глаз. Так много он видел — поэтому и мнится, будто глаза его вовсе не закрывались.
Нырянье под воду с открытыми глазами.
Столько всякого он, может быть, не видел давным-давно. Жизнь как раз входила в берега. Когда-то, когда еще работал в Ставрополе, в краевой молодежке, верхом журналистской карьеры казались должность собственного корреспондента какой-нибудь центральной газеты. Не надо строчить в номер, в командировки можно ездить не на два-три дня, а на неделю и даже больше. Почет опять же, машина. Вся страна тебя читает… К ним в редакцию захаживал собкор центральной газеты: поиграть в шахматы. Часами просиживал над доской со все сменяющимися партнерами, в разговорах — преимущественно в жанре совета — был медлителен и вальяжен. Куда ему торопиться? Он и писал не какие-нибудь заметки и корреспонденции, а эк-зер-си-сы. Новый журнализм! Беллетристика факта!
Беллетристика о чабанах, кочующих в беспредельной степи (просто гонят овец на стрижку с Черных земель, с отгонных пастбищ, на центральные усадьбы. По-хорошему надо бы стричь их там, на месте, не мучить овец этими бестолковыми переходами, во время которых они и заболевают, и скидывают в весе, а шерсть загрязняется и падает в сортности, да на Черных землях не хватает рабочих рук).
Беллетристика о секретаре обкома комсомола…
А его сначала послали в большую газету на стажировку. Там он вроде бы показался, и стажировку продлили. Командировали в Казахстан — осветить уборку урожая. Был год жестокой засухи. Газеты отводили «под хлеб» полосы — известно ведь: чем меньше хлеба, тем больше печатают «про хлеб». И он мыкался из совхоза в совхоз, с элеватора на элеватор, с одной железнодорожной станции на другую. Не спал сутками, маялся животом. Забористая североказахстанская осень: грязь, а он в пресловутой «болонье», в которой от плевка не спасешься, да в дырчатых летних сандалиях. Пропылился, прокоптился (пользовался в основном попутным транспортом — как наземным, так и небесным, то есть «кукурузным»), исхудал так, что сам вполне мог сойти за какого-нибудь комбайнера. Героя первой полосы. А что: комсомольская братва с ним особенно не чикалась — в командировочном удостоверении черным по белому отпечатано: «нештатный корреспондент».
Какой почет, какой комфорт человеку, если он — нештатный? Сбоку припека. Не положено! Протокол на него не распространяется — а мы в последние годы были большими, искушенными ревнителями неписаных протоколов.
У космонавтов принято понятие: нештатная ситуация. Есть штатные, обыденные, а есть нештатные — неожиданные, непредвиденные и, как правило, нежелательные.
Увы, нештатный зачастую и есть нежелательный.
…И охрип: через день вызывала по телефону Москва — телефонистки с редакционного коммутатора, как минерши, выискивали его то в одном районном центре, то в другом, и он диктовал, диктовал, покрывая ором несовершенство связи с «глубинкой». Можно было предположить, что голос его достигал Москвы не по проводам, а так, нагишом, в свободном полете.
Заметки о передовиках, острые сигналы о непорядках в перевозках зерна, репортажи об участии в уборке воинов-автомобилистов — вот о ком писал он с особым настроением! И встречался с ними охотнее всего. Потому что эти парни в пропыленных, насквозь выгоревших гимнастерках так напоминали ему его недавних сослуживцев, военных строителей. И те и другие были солдатами-строителями. Солдатами-трудягами. А он все-таки скучал и по отходящей — как трогается поезд — юности, и по своей стройбатовской братве… О механизаторах, прибывших сюда с других концов страны. Какие там экзерсисы — сплошной прагматизм! Сплошная газетная черняга. Страна, как то бывало уже не раз, ждала выручающего целинного хлеба, и Сергею, как и множеству других собратьев-газетчиков, наводнивших в те осенние дни скупые безоглядные степи, не было продыху. Печатали его тоже через день, командировку — опять же по телефону — все продлевали и продлевали. Так она растянулась на целый месяц.
А когда вернулся наконец в редакцию, его тут и оставили. Утвердили вскоре собкором по Волгоградской области. Привезли, представили. И тут же опять пошли телефонные звонки из редакции, задания, да Сергей и сам не сидел сложа руки. По-прежнему чувствовал себя, как на стажировке. На смотринах. Колесил по Заволжью, выискивал интересных людей, влезал в чужие распри.
Бедная старенькая, горбатенькая «Волга», державшаяся на проволочках, завязочках да на честном слове шофера Вити Дородникова, шебутного медведицкого казака, которому даже нравилась такая цыганская жизнь, — Сергей так и не дал машине, как старой заслуженной кобыле, сдохнуть своей спокойной смертью… Да и сам так и не успел вкусить воображаемых прелестей собкорства. Через год его перевели в Москву на должность заведующего отделом сельского хозяйства. И здесь он еще по инерции ездил, стараясь совмещать обязанности заведующего и корреспондента, но в его жизнь уже вошло корпение над чужими материалами (нередко действительно «материалами», сырьем), вошли ночные дежурства, придумывание заголовков, сокращение «хвостов», составление планов и справок. Потом стал редактором, членом редколлегии — таких не столько журналистских, сколько сопутствующих журналистике, обозных обязанностей стало еще больше. Через два года — ответственный секретарь. Какие поездки, какое общение — его журналистский мир сузился до редакционного коридора. Да еще типографии, к которой приходилось то подлаживаться, то ругаться с нею. Всегда чувствовал себя в газете рабочей лошадкой.
Возможно, и у него выходили бы «экзерсисы», но они от него не требовались. Не для этого его брали сюда. И «двигали» тоже не для этого. Точнее — слишком жестко и много требовали с него другого, чтобы его хватало и на экзерсисы. Кто-то очень остроумно сказал: «Шоколад — черный хлеб авиации». Черный хлеб газеты — ну, во всяком случае, не шоколад. И призвали его не в кондитеры. В пекари. Правда, со временем с новыми передвижениями эта его нелегкая, порой даже надсадная черновая работа становилась все больше… как бы это сказать — «цеховой», что ли. Уж больно специальной, даже специфической. Никто не отрицал ее полезность и даже важность. Но эта замкнутость пространства, это таинство для посвященных, на поверку нередко оказывающееся игрой ума (еще чаще — нахватанности), не более того. Реальный выход в жизнь стремится к нулю: в редакции шумят, хвалят друг друга, утверждая, что печатание газеты без линеек — это революция, а читатель этой революции и не заметил: не только бескровная, но и бесплотная, умозрительная «революция». В минуты таких невеселых размышлений Сергей вспоминал излюбленное ругательство своего давнего армейского командира:
— Вы работаете или изображаете конский топот за кулисами?!
Конский топот за кулисами… Конечно, может быть такое, что в газете виден один ответственный секретарь. Верстка, макет, броскость необыкновенная. Но, положа руку на сердце, надо признать, что это плохая газета, где прима — ответственный секретарь. Рабочий сцены. Примой, убежден Сергей, должен быть тот, кто берет взяток и копит мед.
Еще через три года назначили заместителем главного редактора. В определенном смысле служба стала вольнее. Поначалу было такое впечатление, будто его «снизу», из преисподней вдруг подняли в светлую, благостную обеденную залу.
Где подают.
Где говорят «Вы» — с большой буквы.
Вы, Сергей Никитович…
Времени стало больше. Уже не так жестко прикручен, припаян к повседневному ходовому механизму редакции. Уже мог бы отлучиться с галеры — в жизнь. В командировку. Писать самому, а не только править, делать умнее — или глупее — других. Но три года, которые просидел сиднем, дают себя знать. Стал тяжеловат на подъем, прирос к креслу, к машине, к дому. Сергею сейчас стыдно признаться в том даже самому себе, но что греха таить: он стал побаиваться. Воздуха. Писать в газету — если ты учишь писать других, решаешь участь их работ, то сам должен писать лучше их.
О эта уверенность, дерзость, наглость неискушенного в столичном токовище провинциального стажера! Который диктовал стенографисткам, даже не зная их имен, про все, что видел вокруг: косовица хлебов напрямую, перевозка зерна, выездная торговля в поле. Даже не знал, как, в каком виде, с сокращениями или без них, с переделками или без переделок, его печатали: просто стенографистка, улучив паузу, сообщала: «Вас напечатали — на первой полосе». «На второй?..» Да для него тогда это и не было главным. Главное — проорать. Приложить ладони рупором и проорать — в белый свет. Верил: услышат.
«Повсеместно не хватает пылезащитных очков. У комбайнеров воспаляются глаза…»
«На Аркалыкский хлебоприемный пункт вместо крайне необходимой зерносушилки прислали транспортер для погрузки свеклы, хотя свекла ни в районе, ни в области вообще не выращивается…»
Что ему несовершенства районной связи! Он сам был передающим-орущим — устройством, воткнутым раскаленной вилкой прямо в жизнь.
Это и темами-то назвать нельзя. Так, песнь акына. Наглость, происходящая от неведения, от неумелости.
Но ведь слышали, черт возьми! Газет со своими «материалами» он действительно почти не видел. Не до них, да и доходили они сюда, в степь, еще беспорядочнее, чем телефонные звонки. Но номер с «последушкой» в пятнадцать строк по поводу очков попался-таки ему на глаза: на полевом стане кто-то прицепил его кнопками прямо поверх доски с социалистическими обязательствами и «последушку» — ответ из Союзсельхозтехники — обвел красным карандашом. Сельхозтехника клялась восполнить упущение. Там так и значилось: «В ответ на сигнал т. Гусева из Тургайской области сообщаем…» Так он впервые увидел свою фамилию в центральной газете. Он был горд, словно увидел напечатанными те собственные слова, которые давеча вкричал, вдунул, в д о х н у л в холодную телефонную трубку.
Тогда он не писал, тогда он, воткнутый вилкой в развороченную степь, с и г н а л и з и р о в а л.
Заместителю главного редактора сигнализировать не пристало.
И он стал готовиться к командировкам. Выбирать, изучать тему, формировать досье. Подготовка затягивалась (тут еще подворачивались поездки за границу, и надо было выбирать: или туда, или сюда). Подготовка усложнялась, совершенствовалась. Он уже готовился на волю с таким печальным тщанием, с каким люди, наверное, собираются в тюрьму.
К тому же и поездки, если они и случались, теперь больше походили на пикники. Ведь сейчас в его командировочном удостоверении было отпечатано совсем другое: ж е л а т е л ь н ы й.
— Здравствуйте, Сергей Никитович, как хорошо, что вы прилетели к нам в гости, — говорили ему, беря под белы руки в аэропорту.
Откуда пошла у нас эта мода, эта блажь: принимать командировочных как дорогих гостей? И ездить, соответственно, не в командировки, а в г о с т и?
Не работать, а гостить. Этакое всеобщее «в человецех благоволение»? Полный ажур во всех делах: никому не стоит никого побаиваться, всем надо совершенствоваться лишь в говорении друг другу комплиментов. Минимум официоза, максимум интима. Сама служба становилась не служебной, а салонной.
Круговая порука грешков. Каждый в чем-то где-то… У каждого рыльце в пушку — так стоит ли об этом?
— Сегодня в нашей программе посещение дома, где останавливался Михаил Юрьевич Лермонтов. Да-да, доезжал и до наших захолустных пределов…
«Программа»… Опять же минимум дел, максимум безделья. С непременным — все эти дни пребываешь в подвешенном состоянии и сам не поймешь, то ли подшофе, то ли в стельку — «отведываньем». «Местного производства…», «Только для узкого круга…», «Сам Никита Сергеевич велел когда-то присылать для его стола…» Слоноводство какое-то — провели тебя, как слона на веревочке: вид нашего города с моря, лучшая доярка, винные погреба, в которые еще не ступала нога человеческая (а ты, дурак, и развесил уши), экспериментальный свинокомплекс, поляна Земфиры («Видите, даже трава еще примята, как баловались они с Александром Сергеевичем… детская музыкальная школа — «Здравствуйте, дети, это наши гости из Москвы», — и глупо улыбающиеся «гости» влекутся сквозь строй юных дарований и их бесплотных наставниц к новой цели) — все бегом, все вприглядку. И, наконец, опять аэропорт, в горячем прощальном жесте воздетая рука, которая, впрочем, деловито опускается, как только ты ступишь на трап: слава богу, сбагрили. Гость на казенный счет… Из таких поездок возвращаешься скорее опустошенным, нежели обогащенным.
Хорошо еще, что когда-то, в самом начале своего служебного спурта, «отрыва», завел дома толстую конторскую тетрадь с шершавыми желтыми листами, в невыделанной плоти которых, как насекомые в меду, застряли щепочки, опилки и прочий древесный мусор. Перо идет по ним, как по стерне, со скрипом, с натугой, осязаемо преодолевая сопротивление этого стройматериала…
Почему он думает об этом сейчас? Чего ради пустился копаться в себе?
Летят на «ИЛе-86». Самолет настолько громаден, что правильнее сказать: квартируют на «ИЛе-86». Движения, полета не чувствуется. Под тобою прочный, чуть ли не бетонированный пол, по обе стороны от тебя, как в кинотеатре, ряды покойных кресел, фильм, вероятно, крутят скучный: люди дремлют, уйдя в кресла, как улитки в раковину. Что там делается за иллюминатором, Сергею не видно: иллюминатор задернут занавесочкой, и та даже не пузырится. Не шелохнется. Штиль. Ноль движения. Лишь рев, тяжелый, надсадный и такой ровный, всепроникающий, что кажется, будто он заиливает, обволакивает здесь все и вся. Кажется, вытряхни, «выбей» пассажиров, как «выбивают» арбузные семечки, из самолета, и они и на воле будут сохранять сидячее положение в предписанном билетам порядке.
Но Сергей благодарен гулу…
8
Сколько хлопот потребовала от него эта, по здравому размышлению, совершенно неминуемая операция — отправка парализованной тещи домой. К ней на родину. Несколько раз бывал в Министерстве здравоохранения РСФСР, в управлении скорой помощи населению. Почти больничные коридоры с дешевыми линолеумными полами, с такими же дешевыми тиражированными плакатами на стенах, которые Сергей видел когда-то еще в своей сельской амбулатории. Сколько у нас врачей на тысячу душ населения, как оказать первую помощь пораженному электрическим током — словно человек, приводимый, как правило, крайней необходимостью сюда, в эту едва ли не последнюю инстанцию вспомоществования, искал помощи именно такой — советом. Ликбезом. А за высокими дверями трудолюбивое пчелиное жужжание, урчание, внутренняя налаженная жизнь, в которую и стучать-то со своей болячкой боязно. Сергей всегда робел в подобных палатах невытравимой простонародной робостью, безотчетным страхом перед любым присутственным местом. Так и не научился напористости, умению показать себя, обронить к месту, что он не хухры-мухры, а заместитель главного редактора центральной газеты.
Штурм этого чиновничьего бастиона длился несколько дней. Осада — применительно к Серегиному характеру.
Заявление. Сведения о прописке больной. Справка из института высшей нервной деятельности человека, в котором последние три месяца лежала теща, о том, что состояние больной позволяет транспортировать ее самолетом.
Томительные ожидания. Люди, в кабинеты которых он наконец попадал или которых он наконец заставал в их кабинетах, занятые, обремененные папками и телефонными звонками, ставили визы на его бумагах с осмотрительностью привратников рая.
Сергей жадно следил за каждой чиновной рукой.
Он трусил. Боялся этих задержек и возможных непредвиденных обстоятельств.
Московская станция санитарной авиации — господи, когда б еще побывал здесь! Санитарным самолетом больную везти нельзя. На такое расстояние не летают. Аэропланы у нас, понимаете ли, маленькие, маломощные. «Морава» — 250 километров в час, и через каждые четыреста верст посадка. Знаете, сколько вы будете лететь до Минеральных Вод?
Молодой человек, успевший, видно, стать важной птицей, манежил Сергея с явным удовольствием. В отличие от своих министерских начальников он работой обременен не был. Деликатно отворив дверь к нему, Сергей только что застал молодого человека за пристрастным изучением через зарешеченное окно — станция располагается в полуподвальном помещении — проходящих мимо (пролетающих, проплывающих, про-шествующих) женских ножек. Молодой человек делал им смотр. Сравнивал. Ставил визы: годятся или нет. Сергей сидел перед ним в испарине.
— Но выход все-таки есть, — смилостивился над ним молодой человек в летной форме. — В таких случаях мы сотрудничаем с Аэрофлотом. По нашему требованию он предоставляет места в рейсовых самолетах, и наш медицинский персонал доставляет больных до места назначения. У вас сидячая больная или лежачая?
— Лежачая, — выдавил Сергей.
— Значит, для нее положены два места. Только придется недельку подождать, сейчас у нас просто нет свободных рук. Медицинского персонала, понимаете ли, не хватает…
— А если без персонала?
— Можно, конечно, и без персонала: оформим вас как нашего представителя. Но вы можете взять на себя всю ответственность за больного человека? У вас что — медицинское образование?
Сергея раздражал этот наставительный тон, и он вдруг с грубостью, которой и сам от себя не ожидал, рявкнул:
— Нет у меня медицинского образования. Что толку, что она восемь месяцев была в руках у медицинского образования?
Похоже, молодой человек был несколько обескуражен переменой интонации. Живой интерес появился в его глазах — почти как давеча, когда смотрел в окошко.
— Она кем вам доводится? Матерью? — спросил он просто.
— Тещей, — буркнул Сергей.
— Да, торопитесь же вы ее отправить, — произнес тот, взглянув на Сергея еще пристальнее, и принялся оформлять его бумаги.
Сергей смолчал.
Потом с требованием станции поехал в «Трансагентство». Все здание здесь было поражено очередями. Они пронизывали его, извивались, ветвились, клубились. Прямо корневая система. Только не та, что в земле, а та, что вспыхивает в грозу на небе, в облаках, — так они все были наэлектризованы. Тронь любую — нокаут. «Оказание первой помощи пораженному электрическим током…» Но Сергей, как и учили его на станции, тем не менее протиснулся к самому окошечку, как к амбразуре, и, не обращая внимания на чувствительные токи, возмущенные толчки под ребра, громко сказал:
— Станция санитарной авиации просит три места на Минеральные Воды, — и протянул в окошко бумаги.
Толчки прекратились. В очереди на мгновение воцарилось затишье: дыхание беды коснулось и ее.
Потом еще надо было договариваться на городской станции «Скорой помощи» о карете до аэродрома. Отъезд пришелся на субботу, и на станции санитарной авиации своей машины в этот день не было.
Договорился.
Они снесли тещу на одеяле вниз, во двор, уложили на носилки, установленные в машине на тоненьких рельсах, вкатили их по этим рельсам внутрь и закрепили, застопорили. Сколько раз за это время он вносил и выносил ее из дома! Тогда еще казалось, надеялось: на несколько дней, ну, на несколько месяцев. В больницу. Из больницы. В больницу скорой помощи — когда она у жены упала с кушетки и рассекла ухо и заушную полость. По звонку старшего сына он тогда прилетел домой и увидел в «малышовке», которая теперь была полностью отдана теще, такую картину. Теща, поверженная, по-детски всхлипывающая, на полу, голова у нее в крови. Седые волосы, перемазанные кровью… Над нею, на коленях, со смоченным водой полотенцем в руках, дочь — жена. Она уже и кровь не вытирает, а просто уткнулась головой в материно лицо и рыдает. В голос, как по умершей. И дети его стоят вокруг, над матерью, и тоже плачут. Громче, пронзительнее всех — Маша. Размазывая слезы кулачками по щекам. У старшего слезы злые, горячие. Не смог он, мужчина, помочь матери: видно, они вчетвером пытались перенести тещу на кушетку и не справились. Измучились, выбились из сил — у сына и сейчас еще слезы текли вперемешку с капельками пота. Как ни напуган был Сергей, а все равно где-то в подсознании отметилось, грустно обозначилось: дети его непривычно запущенные, необихоженные. Даже Маша, всегда праздничная, выглаженная, вылизанная, как кошечка, и та стояла в замызганном платьишке и в спустившихся на сандалии гольфах. Печать беды, неблагополучия лежала и на них. Жена хоть и ушла с работы, а все равно ее на всех не хватает. На беду и на них: детей, мужа — всех остальных. Всех остальных, включая, пожалуй, и самое себя. Она, которой никогда не давали ее возраста, за несколько месяцев догнала свои годы и уже, кажется, их опережает…
Сергей поднял тещу, вызвал «скорую». Вынес ее с санитарами, отвез в Первую градскую больницу. Потом возил в институт, а через три месяца из института. И вот теперь — на аэродром. Первое время он и носить ее не умел. Волок то с друзьями, когда в составе «скорой» были только женщины, то с санитарами на носилках, носилки не проходили в узких, без конца переламывающихся коридорах, не вмещались в лифтах. А теща у него действительно тяжелая, крупная, к тому же парализованный, неуклюжий, нередко не понимающий, чего от него хотят, человек кажется тяжелее собственного веса. Первый раз, помнится, они ее чуть не уронили. А затем Сергей наловчился, приспособился, и уже не санитары командовали им, а он командовал санитарами. Укладывал тещу в плотное, крепкое шерстяное одеяло, сам брался за два его конца впереди, у изголовья, напарник хватался с другой стороны. Так, вдвоем, доносили до лифта, а там и до машины.
Сергей ревностно следил, чтобы и из квартиры, и из дома ее выносили головой вперед.
Жена располагала ее на одеяле, теща, сразу уменьшившаяся, с жалобно подогнутыми коленями, вопрошающе взглядывала на него из этой своей старческой колыбели: «Куда?»
— Потерпи, потерпи немножечко, — говорил в ответ на ее немой вопрос Сергей, стараясь нести как можно ровнее.
…Она лежала на носилках в «скорой», Сергей с женой сидели с двух сторон у ее изголовья. Жена гладила ее выпростанные руки и все говорила, говорила. Об их родном городке, в котором та не была почти год, о ее доме и огороде, которые ждут ее забот, о своих сестре и брате — брат живет в одном доме с нею, — ее, тещиных, детях, которые так ждут ее домой и так рады будут ее возвращению. Говорила вполголоса, ласково, увещевательно, как малому ребенку. Теща смотрела на нее — правый глаз у нее тоже стал понемногу открываться — покойно, грустно, рассеянно и внимала ей так же кротко, как дети внемлют шепчущим что-то на ухо матерям. И только когда поворачивалась на какое-то короткое время к Сергею, в глазах ее опять возникал, всплывал из бездны, выворачивая за собой непроглядную темень, все тот же тревожный вопрос: «Куда?»
Сергей молчал.
А может, ему только чудился этот вопрос?
Раннее субботнее утро. Солнце просачивалось сквозь задернутые занавески автомобильного салона и делало их похожими на крылья бабочки — невесомыми, напоенными теплым желтым светом. Шум просыпающегося города сюда, в машину, почти не проникал. Сергей смотрел на жену, и ему казалось, что не только тещу, но и ее, жену, он сопровождает в «скорой», как вез, сопровождал ее трижды в роддом.
Только тогда он вот так же гладил ее руку, и она — вот так же — покойно, рассеянно, но с затонувшей глубоко-глубоко тревогой слушала его увещевательный шепот…
Так они проследовали через всю Москву, добрались до «Внукова». Следом за ними шла машина Серегиного приятеля. В ней кроме приятеля сидели еще двое — Серегина подмога. «Скорая» въехала прямо на аэродром и подрулила к медпункту.
Врач медпункта внимательно читала каждую из поданных Сергеем бумажек.
И опять он сидел напротив на жестком стуле, положив руки на колени и стараясь выглядеть как можно спокойнее.
Белоснежная наколка, такой же белизны и отутюженности халат, приятное молодое лицо, напоенное желтым утренним светом. Вот только узковатые, экономные губы чересчур поджаты, да в уголках рта тоненькая, волосяная, но уже прорезавшаяся складка.
— С таким заболеванием, как у вашей больной, полгода нельзя перемещаться по воздуху, — сказала молодая женщина, строго взглянув на Сергея.
Он сидел, повернувшись к ней, он никак не мог видеть лицо жены, но затылком почувствовал, как оно напряглось и замерло. Жена в последнее время перестала краситься, волосы, в которых потихоньку заструилась седина, закалывает простецки торопливым узлом. Лицо как бы выпросталось, вылупилось из скорлупы — тоже простое, без претензий, даже простонародное. Оно теперь почему-то напоминало Сергею лицо его собственной матери, которое знало одну-единственную косметику, один макияж, да и то лишь летом, — простоквашу или кислое молоко. Женщины-колхозницы мазались им — лицо и шею, — чтоб не «сгореть» в степи на уборочных работах. До сих пор, правда, смутно-смутно уже, видятся Сергею эти странные лики.
И на этом выпроставшемся, обрезавшемся лице жены как-то сразу заметнее стали глаза. Они и раньше обращали на себя внимание. Один из друзей Сергея — он и сейчас находится здесь, в числе подмоги — поэт, холостяк (точнее, вечно разведенный), не то что взбалмошный, а несколько неупорядоченный человек, откровенно побаивается Серегиной жены, и когда они однажды тайком на балконе разливали принесенную поэтом початую поллитровку, объяснил это так: «У твоей жены слишком трезвые глаза». Сергей тогда немножко обиделся, но еще больше поразился — точности определения. В самом деле трезвые. Глаза постоянной трезвости. Видящие тебя, Сергея, в особенности в беспощадно-правдивом свете. Со всеми потрохами и недостатками. На которые она Сергею беспрестанно (правду в глаза!) указывает. Указует. Сергей указания сносит, он к ним притерпелся, привык, научился не слышать их (тем более что он и сам не такого уж высокого мнения о себе и с большей частью выявленных женой — жены это как ОТК, в руки которого мы попадаем по прошествии известных лет, и, возможно, слишком поздно, неисправимо поздно — недочетов вполне согласен; согласен с их наличием: черт с ними, прожил же вон сколько лет, проживет и дальше). И все же время от времени взрывается. И тогда уже жена при всей ее трезвости побаивается его. Особенно пьяного.
Пьяные о себе повышенного мнения…
Так было.
А в последнее время у нее и с глазами что-то происходит. Их строгость, их трезвость как бы обратились вовнутрь. В себя. Как при затемнении. И сразу будто меньше зелени стало в них. Листва сброшена. И болезненно-чуткие, обнаженные, стынущие пространства открылись в них. Как в голом осеннем саду с его слюдяным воздухом, темными слезящимися стволами, печаль кинутых гнезд. И неярким, теплящимся светом, обращенным внутрь. Если раньше сад, отражая, дробя, умножая его мильоном своих молодых, блещущих, полированных алмазов, источал свеченье (помните у Пришвина: «весна света»), то теперь он сам вбирает скупой осенний свет. Вдыхает. В саду что-то умерло, завершилось, исчерпалось и что-то, возможно, нарождается. Он б о л е е т — отплодоносив, деревья действительно болеют.
Веки у глаз, с серенькими ненаклеенными ресницами, набрякли, покраснели, и это усиливает впечатление болезни. Глаза стали еще заметнее и все лицо оттенили болезнью и мукой, придав ему пугающую ликообразность.
…Сергей не видел в этот момент ее лица — сидел к ней спиной, — но знал, как оно напряглось и застыло. Как сжались в комок ее ладони, шершавые, как бы стирающиеся, как бы подавшиеся от бесконечных стирок, от того задорного остервенения, с которым она начищает всевозможной химией посуду, раковины и ванну. Когда по ночам она еще, случается, ласкает его, он со смешанным чувством благодарности и неловкости слышит ощущает, как они стараются, два этих подавшихся оселка, извлечь из самих себя всю максимально возможную нежность. Как бережно п р а в я т они его обширную, уже задобревшую, запыхтевшую, накатанную — ни сучка ни задоринки! — от урочной сытости спину…
Медсанчасть аэропорта — это был последний пункт на пути Сергея с тещей из Москвы в Минеральные Воды и далее в Буденновск, где за спиной у него еще стояла жена. Дальше, к самолету, уже нельзя — не положено. Только сопровождающий.
Это был последний пункт, где еще можно было повернуть вспять. И вовсе не этого, судя по всему довольно своенравного, ангела-целителя в белоснежном облачении боялся Сергей. Как и не тех бдительных привратников рая, с которыми имел дело до сих пор. И не задержек как таковых.
Только человека, неслышно дышавшего — или не дышавшего — у него за спиной. Жену. Того, что любая случайная задержка могла подтолкнуть жену к перемене принятого решения.
Принятого ею! — видит бог: Сергей в этом не участвовал. Всячески старался сохранять нейтралитет. Видел, что жена на пределе, что б о л е з н ь перекидывается и на детей, что они измучены и не обихожены. Что все, что могло дать — и не без его помощи — дальнейшее пребывание, лежание тещи в Москве, исчерпано. Что с точки зрения здравого смысла ей бы, пожалуй, и впрямь лучше было бы сейчас в родных стенах; из тех стен, из ее хаты, тещу хоть можно вынести во двор, на свежий воздух, под вишни и яблони, ею же когда-то и посаженные. С одиннадцатого этажа это сделать куда сложнее. Что те же соседки, старухи, в числе коих иные и сами уже дышат на ладан, которые наверняка будут навещать ее, — беленькие платочки, нарочито громкий разговор о том о сем, с вопросами, обращенными непосредственно к теще, как будто и она в нем участвует или хотя бы может участвовать (правда, ответов никто и не дожидается), — все это может скрасить ее беспросветное одиночество.
Наконец, лучше бы перевезти пока живую, чем перевозить потом т е л о.
Все это он видел, знал, предчувствовал, но молчал, не подталкивал неизбежное.
Но и не противился ему. Дежурил у постели, сбивался с ног в поисках лекарств и снадобий (ноотропил — только польский, а не наш аналог пирацетам! Гаммалон — только японский, а не наш аминалон! — господи, как же падки мы все на чудеса, как ждем чуда, наивно доверяясь целительной молве, как склонны искать пророков в чужом отечестве). Добивался консультаций у профессоров — увы, эти светила средней руки повторяли то же самое, что в самом начале сказал первый же врач «скорой помощи», зелененький юнец, у которого Сергей нечаянно высмотрел в саквояже с инструментами потрепанный медицинский справочник.
Устраивал тещу в Боткинскую — не каждый коренной москвич сподобится лежать в ней! — и даже «пробил» Институт высшей нервной деятельности человека. Но хранил неизменное молчание, если заходила хотя бы самая отвлеченная речь о будущем. О будущем тещи. Применительно к такому человеку, к такой болезни понятие «будущее» означает только одно: будущее, дальнейшее местопребывание. Будущее, сведенное к местопребыванию. Не противился решению, трудно, болезненно зревшему в душе у жены. Предоставил ей всю муку решения — так ему казалось честнее. А она, возможно, ждала, искала его поддержки, беспомощная и растерянная. Или — его сопротивления.
Тонула, не в силах принять решение, но ты ей на помощь не спешил.
И она решилась. И вот тут-то, когда она наконец решилась, принялся за дело с непривычной энергией и торопливостью. Может быть, только эта энергия и выдавала. И как то бывает при барьерном беге — перед каждым новым барьером у тебя на мгновение замирает сердце, — так и здесь перед каждым новым или тем более неожиданным препятствием все напряглось внутри.
Каждая пауза могла стать непоправимой.
Каждая пауза продлевала душевную муку жены. Это и было то сопротивление, которого она так ждала. Чаяла. Ждала, в первую очередь от него, но его, спасительный круг сопротивления, опоры, протягивали другие. Он не протягивал, протягивали другие — объективные обстоятельства. И она могла воспользоваться ими. Ибо решение хоть и было принято, но душевного покоя оно не принесло. Скорее напротив: теперь она мучилась не только болезнью матери, но и своей. У нее болела совесть — это Сергей знал. Видел.
Это был, пожалуй, последний барьер: дальше, сразу за медсанчастью, открывалось чистое летное поле.
— У нас после инсульта прошло значительно больше, чем полгода. Посмотрите внимательнее историю болезни.
Сергей прямо, в упор смотрел на молодую женщину — под его взглядом та даже вынуждена была оторваться от бумаг — и слова эти тоже произнес ей прямо в лицо. Негромко, раздельно.
И все-таки они предназначались не ей, хоть она и вскинула тревожно свою красивую голову (белоснежная шапочка, казалось, не сидела на волосах, а парила в них, как в теплом восходящем потоке). Не ей. А той, что сидела напрягшись и дышала — или не дышала — за его спиной.
Конечно, он мог бы сказать жене, что отправляем, мол, временно, с полгода побудет в Буденновске, у твоих, а затем снова заберем сюда. Так и будем ухаживать — по очереди. Делают же так другие. И всем будет легче, у каждого будет отдых. Отпуск. Иначе ты первая же сама себя загонишь… Конечно, он мог бы ей сказать хотя бы это. И время пока не упущено, пока не поздно: сказать можно прямо здесь, на последней черте, при прощании, и это было бы так уместно, так скрасило бы прощание, прибавило ему сердечности. И прощанию ее с ним — на время, на три дня. И прощанию ее с матерью — далеко не на три дня. Прибавило бы сердечности и — надежды.
Но это была бы такая откровенная ложь!
Женщина, вспыхнув и поджав и без того тонкие губы, еще раз листает историю болезни.
Нашла дату, когда случился инсульт: 12 ноября прошлого года. У них «в запасе» было еще два месяца. Сверх шести…
— Хорошо, мы вас отправим. Ждите, вас пригласят на борт до общей посадки.
Жена за его спиной потихоньку заплакала.
9
Ждали недолго. Вскоре их действительно пригласили к самолету. Чтобы лишний раз не перегружать, не переваливать больную, им разрешили подвезти ее к аэробусу не на аэропортовской «скорой помощи», а на городской, на той, в которой она все это время, пока шло выяснение, и лежала.
Они вышли из медпункта, и тут случилось одно небольшое событие, которое теперь, в полете, часто вспоминалось Сергею. Да это и событием не назовешь. Просто они вышли и столкнулись со строем суворовцев. Строй вольный, нестрогий. Юные, раскрасневшиеся лица — два алых погона на плечах и два на щеках, — стриженые затылки. Отроческой свежестью повеяло от этого утреннего, солнечно-румяного, весело переговаривавшегося строя. Подростков то ли отправляли куда-то на каникулы, то ли на летние полевые учения, если таковые у суворовцев бывают, то ли просто куда-нибудь на Кубань, в колхоз, на первую черешню. Как бы там ни было, их наверняка выпускали на волю, на вольницу — пусть хотя бы строем — из четырех стен, из надоевших за учебный год классов. И они откровенно радовались этому.
В полет!
В самом деле, как скворцы-сеголетки, в этих черных скворчиных мундирчиках…
Видимо, их подвезли на автобусах организованно прямо к летному полю — так они оказались здесь, с тыльной стороны аэропорта. Кто строил рожицы, кто прыскал в кулак, кто подталкивал локтем товарища. Словом, они вели себя как обыкновенные школьники, мальчишки, хотя рядом со строем и шагал — он, пожалуй, был тут единственным, кто действительно ш а г а л, — их командир, дородный, усатый дядька Черномор.
Идут себе озорные, веселые, несмотря на ранний подъем, вольные — даже в строю. Тем более что и дядька их командами не донимает. Вернее, команды-то подает: «Выше ногу!», «Тянем нос-сочек!» — но сам же, единолично, их и выполняет. И тем и довольствуется. Самозабвенно шагает полковник Черномор!
Идут себе и идут. Если бы не эти черные скатки за спиной — шинельки все-таки пришлось взять с собой — да музыка, что идет за ними следом.
За мальчишками — нет, не шагал, не летел — мреял марш «Прощание славянки». Играли его такие же суворовцы, подростки, они шли вслед за строем, на некотором — в шаг — отдалении от него. Играли «вполголоса», как бы предназначая его только для своих же, для суворовцев, а не для всех обитателей «Внукова» — чтоб не нанести урон пассажирообороту. Не отвлекать, не вносить сумятицу. Из-за этой приглушенности и казалось, что марш — мреет. Не суровый, едва отбеленный плат звучно полощется над асфальтом, а реденькая «газовая» косынка вьется вслед за черным юношеским строем.
И Сергей, и его жена, и его помощники остановились как вкопанные. Больная в машине и та повернула голову и долго-долго смотрела с носилок в окошко с отдернутыми занавесками — на мягко колыхавшийся за ним, как бы в такт платочку, строй.
Всех достигло это чуточное касание…
Как беззаботно все выглядело бы, не будь этих тоненьких скаток за спиной да не будь этой мреющей музыки позади!
И юность, подростковость, угловатость их сразу стала заметнее. Их словно углем начертили, набросали наспех, выделив в них самое существенное — эту щемящую мальчиковатость.
А платок был наверняка девичий — из тех, которые дарили на прощание и которые, принимая впопыхах, засовывали в самый внутренний, самый потайной карман. Оттуда, из-под сердца, и грел, и пах. В какой еще мелодии так простосердечно — дыханием — соединяются мужественность и нежность, пафос и печаль. Понуждение — все-таки марш, и мольба — все-таки плач.
Может, и хорошо, что его в ы д ы х а ю т…
Сергей и его спутники словно на струну натянутую натолкнулись. Гонка гонкой, и вдруг на какое-то мгновение — стоп. Промежуточный финиш: такое ощущение было у Сергея. Только не ленточка — струна. Где-то глубоко-глубоко, в самом голоснике, протяжно отозвалось эхо этого непредвиденного столкновения.
Серегина жена кинулась к машине, достала из сумки коробку конфет и успела-таки сунуть ее самому маленькому оркестранту. Замыкающему. На ходу расстегнула ему пуговичку на гимнастерке и сунула прямо за пазуху. Тот так и продолжал свой путь — с трубой в руках и с коробкой конфет за пазухой. Так и нес впереди свою невесомо-тревожную мелодию.
10
Жена прощалась с матерью здесь, в «скорой». Их, мужчин, по существу посторонних, пропускали дальше, к самолету, — чтобы легче было занести туда больную, ее же, родную, единственную здесь родную, дальше не пускали. Лишним на летном поле находиться не положено. Родная — лишняя.
Прошел разделявший их строй суворовцев, и жена, не тратя дорогое, стремительно убывающее, уплывающее из-под ног время, побежала к машине, к матери, кинулась той на грудь — наискосок, и мать спокойно, увещевающе погладила ее раскрывшиеся волосы, в которых уже проблескивает седина. Такая яркая, морозно-ослепительная в этих простеньких, сереньких, узлом заколотых волосах. Трап оказался довольно крутым, и они несли больную под углом. Та была испугана, ничего не понимала, и загнанный взгляд ее уже не вопрошал, а кричал: «Куда?» Такой жалкой ее Сергей еще не видел. Места у них были в хвосте, а заносили они ее впопыхах — вот-вот должна была начаться общая посадка — через носовой пассажирский трап, и теперь, внутри самолета, ее нужно было перенести от носовой части до хвоста аэробуса. Как ни широки проходы, а им было тесно. Больную пришлось нести на поднятых руках, над перилами, над креслами. Да и слишком много их тут собралось. Несли только двое — Сергей и его друг, вечно разведенный поэт. Остальным пристроиться было некуда, и они только бестолково суетились.
Народу много, а родного единственного человека как раз и не было. Может, это в поисках дочери и надсаживался, изводился ее молящий взгляд. Успели занести носилки до общей посадки. Им с тещей отвели целый ряд — последний. Сергей поднял подлокотники, разделявшие кресла в ряду, кресла застелили толстым ватным одеялом, потом простыней, уложили на них больную, сверху прикрыли по самый подбородок простыней. Сергей примостился рядом. Наспех прощался с друзьями, каждый сказал свое ободряющее слово теще — все слова остались безответными, — и подмога гурьбой двинулась к выходу. Навстречу уже шли первые пассажиры. Те, кто проходил в их салон, настороженно, украдкой оглядывались на последний ряд, на Сергея, на простыню, на человека под простыней. Такое соседство смущало. Будь это не самолет, а, скажем, поезд, к нему бы отнеслись спокойно. А тут самолет, и не какой-нибудь, а аэробус на три сотни душ, только что пущенный по трассе Москва — Минводы. Трасса курортная, время летнее, июнь, и большинство пассажиров наверняка торопится на отдых. И предпочли бы, конечно, совершенно беззаботный, насколько это возможно на борту самолета, перелет из обыденности в праздник. Человек под покрывалом их стеснял. Не то что обыденность — сама беда, очевидная, беззастенчиво-обнаженная, хоть и прикрытая этим белым саваном, летела вместе с ними. В этом был если не зловещий, не пугающий, то уже точно — предостерегающий знак.
Сергей, сопровождающий беду, тоже попадал под эти любопытно-настороженные украдчивые взгляды. Чувствовал себя под ними неуютно. Тоже словно больной, таящий скрытую угрозу этому сообществу здоровых, благополучных, не обремененных особыми печалями людей.
Людей вокруг много, даже чересчур много — а ведь еще несколькими минутами раньше казалось, что этот караван-сарай и заселить-то, наполнить до отказа невозможно. И все-таки теперь наконец он остался с больной наедине. За чертой — никаких преград, никаких препон. Холодок вкрадчиво заплясал у него в груди. Как-то все сложится, справится ли? — об этом он подумал, пожалуй, впервые. Раньше ему, занятому преодолением препятствий, это даже не приходило в голову: справится или не справится. Честно говоря, он и предостережению молодого человека на станции санитарной авиации не придал особого значения. Воспринял его как очередное препятствие, которое нужно во что бы то ни стало и как можно быстрее преодолеть. Проскочить. Зато теперь все вспомнилось в одночасье. Справится ли? — да, людей вокруг много, даже слишком много. Не вокруг, а впереди, спиной к нему. Затылками — три сотни затылков впереди. Не хватало еще, чтобы из-за них с тещей поднялась суматоха, чтобы им потребовалась помощь извне, от этого ушедшего в кресла сообщества.
Впрочем, теща быстро успокоилась и даже, казалось Сергею, задремала. Большое, округлое, до сих пор бледное, бескровное лицо зарозовело. Словно какая-то еще не истребленная болезнью волна жизни с трудом поднималась где-то в глубине, в недрах большого, обезвоженного тела и чуточным, неслышным плеском достигала этих обесцвеченных, иссеченных морщинами щек.
Что придавало значительности покоящемуся на подушке лицу? Смеженные, прикрытые глаза? Седина, выбивавшаяся из-под платка и обрамлявшая лицо ослепительно белым, рафинированно белым венцом? За время болезни седина выровнялась, отбелилась, растворив, освоив встречавшиеся раньше пятна желтизны, тусклой замутненности жизни. Процесс этот шел и сам собой, болезнь же ускорила его: то, что растянулось бы на годы, совершилось в год. Волосы как бы жили отдельно от нее самой, их поражающая белизна словно положила невидимую границу, тень отчуждения между ними и этим широким, бледным и все-таки пока не восковым лбом, между ними и этими смутно зарозовевшими щеками. Они не жили отдельно, они умерли отдельно, первыми, вспыхнув перед смертью невесомым светом пережитых старухой мук.
Венец был терновым, просто терн был цветущим.
Недавно жена, вспомнил Сергей, постригла тещу. Раньше та носила косу, но коса то расплеталась, разметывалась по подушке, то, наоборот, сваляется от долгого, неподвижного лежания колтуном, мешала и больной, и врачам, голову трудно было промыть. Жене давно советовали обрезать материну косу, но она все тянула, не решалась и отрезала совсем недавно, перед отправкой матери домой. С этой прической, с роговым гребешком в подрезанных волосах теща сразу стала похожей на стахановку — не хватало только задорной косынки да туфлей под названием «комсомолки». И похожей на Серегину мать — такую, какую он и не помнит вовсе, а знает лишь по фотографии, д р у г о й фотографии (их всего-то две и сохранилось). Мать фотографировали за хорошую работу, шаль за ее спиной растянули — в верхнем углу карточки так и остались видны часть лица и руки мальчишки, стоявшего на стуле и державшего за один край темную клетчатую шаль. Ее фотографировали за хорошую работу на ферме, для диплома — тогда еще не было досок почета и в ходу было другое выражение: «фотография на диплом», — снимали, наверное, прямо на ферме, потому что в пацане, держащем шаль, Сергей задним числом узнал сына совхозного зоотехника Юхно, который был лет на пять старше его.
Ее фотографировали за хорошую работу, а она взяла и поставила у своих коленей Серегу. Сергею тут года четыре, не больше. Черные короткие штаны с лямкой через плечо, белая, в полосочку рубаха, сурово насупленные брови и черная, шерстяная, пожалуй, с пуговкой наверху, фуражка на голове. Фуражка-то зачем? — дело, судя по всему, происходило летом, в жару. Чтобы показать: есть и фуражка, и штаны с помочами, и носочки… И мать сидит на табуретке с короткими волосами, с задорно повязанной косынкой, в черных туфельках с пряжками и пуговичками под названием «комсомолки» — наверняка бегала домой переодеваться. Сергей-то знает, как, в какой одежде работают на ферме. Сегодня работают, не говоря уж о том, как работали тогда. Ворот у белой кофточки чуть-чуть расстегнут, единственное, что не празднично на этой фотографии, — руки, выпростанные из засученных рукавов и сложенные матерью на коленях. Как черны они на белом! — уже загоревшие, задубевшие от солнца и от работы, но — сильные, уверенные, но — еще не искалеченные. Она их еще не прячет: вот они, мои руки! Она еще вся дышит молодостью и уверенностью. Такой ее Сергей не помнит. Т а к у ю от него застят даже не годы: слишком густо, черно пошли в ее жизни вслед за этим счастливым и ранним часом напластования и наслоения, из-под которых т а к у ю было просто не рассмотреть. И не запомнить.
Почему она поставила его рядом с собой? Боялась, что другого случая не представится? — какие там фотографы в селе в пятьдесят первом году: потому и награждали ударниц их собственной же фотографией. И уговорила, упросила фотографа? Или наоборот — настояла?
Вот они, мои руки. Вот он — мой сын.
Отца своего Сергей не знает.
Теща тоже, наверное, была когда-то ударницей. И носила такую же прическу и туфли с названием «комсомолки». Только теперь волосы у стахановки совсем-совсем седые. Безжизненно седые. И сама стахановка, когда-то несомненно моторная и трудолюбивая, тоже почти безжизненна. Неподвижна. Глаза прикрыты, и нездоровая асимметрия в лице почти незаметна. Разве что правый угол у рта чуть-чуть ползет вверх да весь его кривит иногда пробегающая по увядшим, как и щеки, губам смутная, невольная, бессознательно-страдальческая усмешка. Да это и не усмешка вовсе — так, губы вздрагивают.
Самолет уже опробовал турбины, уже его вывели на взлетную полосу, уже он взревел, как бугай, которому неожиданно показали красную тряпку — перед тяжким броском вперед, перед тараном. А теща так и пребывала в отрешенности — и от Сергея, и от самолета, и от выстроившихся на многие метры вперед затылков, да и, казалось, от самой болезни. Сергей и сам, глядючи на нее, стал успокаиваться. Ничто не предвещало худа. Может, так и пройдет весь полет и его страхи напрасны? Подумал о жене: как безотрывно и больно следит она сейчас оттуда, от медпункта, за их самолетом, за его могучим — тут не бугай, тут стадо бугаев, сокрушительно ринувшихся вперед, — разбегом. Ладони опять, наверное, сжаты в горячий комок. И когда они, разбежавшись, наконец взлетят, и весь их долгий полет ее стонущая душа будет лететь рядом с ними. Острая жалость к ней, может, впервые за эти восемь месяцев такая острая, подступила Сергею к сердцу, подтопила его, горячая и вязкая, выталкивая сердце наверх, к горлу, и у него перехватило дыхание.
Самолет оторвался от бетонки, сразу обретя упругую легкость и плавность пущенной в зенит стрелы.
И тут она закричала.
Сергей даже не заметил, когда больная вышла, выскользнула из состояния покоя и напряглась под простыней, как тяжелая, басовая струна, которую рванули что есть силы. Выбившись из-под простыни, заметалась по ее прохладной, саванной поверхности обезумевшая ладонь. Как будто что-то искала, мелкое, завалившееся в складки простыни, — гривенник? Все теребила ее края, разглаживала и поправляла, то стараясь потуже подвернуть под себя, то, наоборот, распуская концы простыни до пола. Обирается! — первое, что успел подумать Сергей, и похолодел. Даже не столько еще от ее крика, сколько от этих пугающих знакомых движений бледной, морщинистой старческой руки, из которой словно сразу, одновременно вынули и душу, и плоть. Была рука, тугая, сильная, а за время болезни осталась одна пергаментная облатка. Рука выползла тихо и незаметно, как выползает змея из выношенной шкурки, покидая ее, белую и неживую шелушащуюся, оставляя на произвол судьбы где-нибудь на полынном кустике.
Обирается!
11
Обирается!..
Тот, самый первый врач, зеленый юнец со «скорой помощи», как только вошел в комнату и увидел ее, распростертую на кушетке, увидел эти судорожные и вместе с тем монотонные, монотонно-судорожные, нескончаемые, заведенные движения, эти блукания руки в поисках чего-то утраченного, ускользающего, так сразу же обернулся к шедшему следом Сергею и, глядя прямо в лицо, сказал:
— Она же у вас обирается. Не жилица…
Сергею не надо объяснять, что такое «обирается».
Сергею вмиг вспомнилось, как обиралась перед смертью мать. Слабые, затухающие пробежки полупрозрачных пальцев по краю простыни — она словно проверяла на ней, ею же когда-то подрубленной, каждый стежок. Уже была в беспамятстве, уже никого не видела, никого не узнавала, и только руки — и впрямь как еще живая, искавшая выхода душа — боролись с обступившей тьмой. Невыразимо печальное, завораживающе-печальное зрелище. Мать умирала у него на глазах, и он не мог отвести взгляд от этих последнюю работу делающих рук.
Как он мог забыть!
Теперь и в больнице, когда ему выпадало дежурить подле тещи, пристальнее всего следил за ее р у к а м и. За ее здоровой рукой. Покоится она или мечется, перебирая простыню или одеяло. Несколько суток рука не находила покоя: обираясь, теща то полностью вынимала, выпрастывала одеяло из пододеяльника, то — опять же бессознательно — пыталась вправить его обратно. Остановить это загнанное, нескончаемое снованье — так понял Сергей свою первоначальную задачу. В этом, даже больше чем в том, чтобы ворочать больную, когда приходили медсестры с уколами, и делать разные другие, требовавшие мужской силы дела, видел смысл своего сидения в больнице. Гладил ее руку — кожа на руке (раньше он этого и не знал, не замечал) оказалась чуть-чуть рябой, ноздреватой, как пропекшийся кислый блин. Брал ее ладонь в свою. Нельзя сказать, что это с самого начала выходило у него вполне естественно. Сергей стеснялся: в палате кроме тещи лежали еще четыре женщины.
Палата тяжелая, почти у каждой кровати кто-то сидел, и все уже, конечно, были осведомлены — когда только успели — что Сергей з я т ь, а не сын. Ему казалось, что его уличат в неискренности. Да что казалось, он стеснялся и самого себя. Его отношения с тещей были лишены какой-либо натянутости, но и сентиментальности — тоже. Женясь на женах, мы одновременно женимся и на их родственниках. Правда, жену еще можно выбрать, а уж ее родственников выбирать не приходится. Родственники попались вроде ничего, и теща тоже, слава богу, ничего, без эксцессов. И Сергей не то чтоб терпел ее, когда она надолго поселялась в его доме, а даже привыкал к ней. Приходя вечером с работы, Сергей с удовольствием видел ее в «зале» среди своего семейства, объединившегося вокруг телевизора, в кресле, с неизменным вязанием на руках и неизменным же Серегиным чадом на коленях. Правда, сами чада с годами меняются: сначала — старший сын, потом средний, а теперь вот и, кажется, прочнее всех оседлала и бабкино колено, и бабкино сердце Маша. Чада меняются, принадлежность их неизменна — Серегины. Этого достаточно, чтобы Сергей был по отношению к ней ровен и доброжелателен. Но и не более того. И дело не только в том, что она, как ни говори, для него чужая. Сергей слишком хорошо и больно — а с годами, кажется, все больней — помнил свою мать, чтобы быть сентиментальным, сюсюкающим, ненатуральным с чужой пожилой женщиной. Он и чужих детей никогда не прижимал, не подбрасывал, не гладил по голове — потому что слишком любил своих. И с чужими детьми был ровен, даже ласков, но — без фальшивых ужимок.
Ему и в голову не приходило проводить параллель между тещей и матерью. Он хотя и называл эту чужую женщину матерью, но это было просто данью приличиям.
А с годами и жену стал звать матерью. Так тоже было принято в том кругу, в котором он когда-то рос. Тут слово «мать» тоже не отражало какую-то новую, более высокую степень нежности, близости. Напротив — было индексом привычки. Он сразу двух женщин в доме называл матерями, но сыном себя не чувствовал. Больше того. Когда жена чересчур уж допекала придирками, зло отрезал:
— Не забывай, что я тебе муж, а не сын!
Матери… Давно привыкший к самостоятельности, отпочкованности, он и не ждал от них материнства. Иногда только, возвращаясь с дежурства, топтался у двери, ленясь лезть в карман за ключом, потихоньку шевелил дверную ручку — звонить нельзя, сразу детей перебудишь — в надежде, что жена или теща не спят, ждут, услышат и откроют.
Слышали редко. И тогда он лез-таки за ключом и, открывая скрипучую дверь (когда же, наконец, смажет ее машинным маслом!), так же, как о двери, устало, беззлобно думал: эх, мать бы услышала. Мать бы ждала…
Входил в прихожую, и из глубины квартиры сразу слышалось в темноте робкое, вкрадчивое шлепанье босых упругих пяточек. Маша! — вот кто его всегда слышит, чует, чувствует и крадется навстречу ему, боясь не темноты, а того, что разбудит, вспугнет мать и ей нагорит за то, что не спит, за то, что встала босая из постели. Он принимает ее, сонную, ступающую во тьме скорее наобум, чем вполне осознанно, на руки. Та тычется теплыми со сна губами ему в подернувшуюся к ночи жесткими, колючими пеньками щеку, в шею, спрашивает на ухо, тоже не вполне проснувшись, что он принес. Сергей, принимая ее одной рукой, другой кладет на тумбочку «дипломат», расстегивает его, вынимает из заготовленного кулька конфету (узнала бы жена о таком святотатстве!), сует ей в ручонку. Стараясь не шуметь, сбрасывает, сдирает, уродуя задники, нерасшнурованные туфли и, по-прежнему не зажигая свет, в носках, крадучись несет дочку на ее место, в ее еще не успевшую остыть кроватку.
Вот кто его ждет, слышит, вот кого ему надо было бы по справедливости называть матерью!..
И вот теперь в больнице брал руку, гладил, пытался мягко удержать в своей ладони, остановить, пресечь ее агонию. Делал шаг за шагом из им же очерченного когда-то круга.
А рука мягко, почти по-девичьи выбиралась, выскальзывала из заточения и продолжала свое слепое, спотыкающееся блуждение. Душа на излете… Шага его не принимала. Не доверяла.
Заходившие в палату врачи и медсестры, даже если направлялись к другим больным, каждый раз останавливались у кровати Серегиной тещи и, чуть заметно покачивая головой, молча смотрели на них. На больную и сидящего сгорбившись возле нее Сергея. Все ждали…
А в один из дней, вернее то была ночь, рука остановилась, Сергей, как обычно, накрыл ее своей ладонью и, согнувшись на жестком больничном стуле, не заметил, как задремал. Сколько спал? Минуту? Час? Не понял. Но первое, что заметил, проснувшись, — ее рука так и покоится, накрытая его ладонью. И сама больная, кажется, спит. Спит? Рука теплая, мягкая, — спит.
С тех пор больше не обиралась.
И вот сейчас, через много месяцев, в самолете — опять. Лихорадочные, рыскающие движения: как будто человек срывается, летит в пропасть и ему не за что ухватиться. И крик, такой же, как, наверное, при падении в пропасть. Крик, которому тоже не за что зацепиться.
Крик на предельной ноте, глаза раскрылись, разверзлись, моляще уставились на Сергея. Первый, перед ними, ряд затылков зашевелился, словно высокие, «ришельевские» кресла сразу стали неудобными для них, К Сергею оборачивались недоуменные лица.
Сергей растерялся, взмок. Случись это в больнице или дома, в привычной обстановке, быстрее б нашелся, что делать. А здесь растерялся. Громадная масса людей, находившаяся рядом, сковывала его. Рядом — и так далеко. Он словно испугался огласки в чем-то неприличном. Как будто сразу всем все открылось: кого он везет, куда, в каком состоянии. В том, когда по воздуху лучше не летать. «Полгода нельзя перемещаться по воздуху», — мгновенно вспомнилась своенравная, как кобылка, докторица из аэропортовской спецсанчасти, которую он, казалось, так успешно осадил, поставил на место. «Перемещаться» — слово-то какое отыскала. Откуда и куда?
В салоне сразу засквозило и бедой, и чуть-чуть скандалом. Хорошо еще, что рев от двигателей здесь, в хвосте, такой, что волосяной, сверлящий вой больной слышен только Сергею да одному-двум рядам пассажиров. Ближе к середине, к носу, конечно, тише. Сергей малодушно благодарил случай за то, что места достались в хвосте. А может, для транспортировки больных всегда выделяют именно этот, последний, ряд, чтоб не шокировать здоровых?
Теща рослая, двух мест ей мало. Ее и уложили сразу на три, опустив промежуточные подлокотники. Сергей же примостился у нее в ногах, на самом краешке, практически на крайнем подлокотнике. Как воробей на жердочке. Когда больная закричала, он засуетился, задвигался и вообще по сути дела встал. Только согнулся в три погибели, прячась за спинки впереди стоящих кресел. И с чужими недоуменными, сострадающими, а может, и осуждающими взглядами не хотелось встречаться, да и боялся, что стюардессам издали будет видно, что он не знал, как было предписано, своего места и не пристегнулся к нему ремнями.
Поймал тещину руку сразу в свои ладони, как в створки раковины. Рука пугающе холодная, дряблая и даже чуть-чуть осклизлая. Согревал ее, гладил, говорил какие-то ласковые, растерянные слова, которых она конечно же не слышала. Он и сам их не слышал, чувствовал, что губы его шевелятся, выговаривая, выпевая что-то ласковое и успокаивающее. Может, слова, которые он шепчет в приливе нежности и жали дочке Маше, когда та болеет, мечется в кроватке, ища прохлады и успокоения. Слова тогда рождаются сами, он над ними и не задумывается. Конечно, мог бы дать теще что-либо из захваченных в дорогу лекарств, успокоительного, хотя бы усиленную дозу тазепама. Но с некоторых пор даже в критические моменты они перестали давать ей успокоительное. Не доверяют успокоительному. Опять же вспомнилось почти забывшееся, почти зажившее. Когда умирала мать, их сельская фельдшерица оставила Сергею в доме беленькие таблетки. «Когда ей будет особенно больно, — сказала, — давай». Сергей и давал. Как только мать застонет, он, сам мучаясь от ее боли, давал ей эту беленькую рафинированную таблетку.
Когда ей особенно больно… Ему казалось, она и не выходит из этого состояния — о с о б е н н о й б о л и. Где бы он ни был — в доме ли, во дворе, где ему приходилось управляться по хозяйству, поскольку отчим пребывал с горя в запое, чутко улавливал, угадывал эти неслышные стоны, они резонировали в нем, как в колоколе, и он стремглав несся на них со стаканом воды, чайной ложечкой и с крохотной таблеткой в ней. Мать переставала стонать, опять закрывала замутившиеся глаза — раньше, когда была здорова, они напоминали спелые-спелые, почти прозрачные виноградины, теперь же с каждым днем болезни в них как бы шло новообразование клетчатки, твердой, мутной, застящей все и вся. Сергей считал, что матери становилось легче. Откуда было знать ему, что она не болеет — умирает. Откуда было знать ему, что от ее болезни покамест нет лекарств. И что таблетки, которые он ей протискивает сквозь сцепленные зубы, не лечат, а скорее калечат. Лишь много лет спустя от той же фельдшерицы узнал, что таблетки были снотворные. Даже не болеутоляющие — снотворные. Значит, вполне возможно, что это по его вине мать умирала в беспамятстве, никого не видя и не узнавая. И может, последней, смертельной каплей и была-то не боль сама по себе, а эта мелово-белая, мучнистая таблетка. Цикута. И тогда, выходит, он, сын, а вовсе не отчим поторопил ее смерть. С тех пор он и не доверял таблеткам, особенно таким, безжизненно белым, рафинированным. По одному виду которых чувствуешь: отрава.
Теща объята паникой, как пожаром.
У Сергея никак не выходило нащупать пульс. Он наверняка был, но такой поверхностный, секущийся, идущий не тугой, волнообразной струей, а веером, микроскопическими брызгами, что Сергею не удавалось различить его в том хаосе, в который он погружался, внимая чужому больному телу. Искал пульс, как ищут акупунктуру — точки или точку, через которые даже в хаосе можно пробраться, пробиться к живому. Чтобы не только ты нашел, почувствовал чужую секущуюся жизнь, но чтобы и тебя, твой пульс, все твое прорывающееся сквозь чей-то панический страх участие тоже различили, почувствовали, вняли ему — как голосу разума, спокойствия и поддержки.
Подать руку человеку, балансирующему на крае бездны в тщетных поисках опоры.
Человек получит опору — пусть податливую, непрочную, требующую от него собственных усилий, пусть! — и, вполне вероятно, задержится, зацепится в своем безудержном скольжении во мрак.
Ты же почувствуешь себя даже не более усталым — более смертным, чем раньше.
…Он, кажется, мало-помалу нащупывал ее пульс. Рассеянный, тот все же собирался в пучок, пусть слабый, вялый, с трудом, редко, но доходил до его пальцев. Как заблудившийся свет, как пробивающийся в тумане пароходный гудок. Не то свет или звук, не то обман зрения или слуха. В эту минуту он не слышал ни гула самолета, ни тещиного крика. Они, конечно, существовали, он отмечал их краем сознания, но это был всего лишь фон, на котором, как на грубой восковке кардиограммы, змеилась, корчилась и ломалась, пропадала и появлялась вновь, вычерчивалась тревожно тонкая, как трещинка, кривая ее пульса.
Он слушал пульс, он, кажется, сам его порождал, вдыхал силой своего сострадания и страха, когда почувствовал он, что кто-то подошел к нему и положил руку на плечо.
12
А ведь это Муртагин принимал тебя в партию.
Принимало, естественно, партийное собрание, потом была парткомиссия — все как положено. Но партийный билет, точнее, серенькую, совсем не торжественную кандидатскую карточку ты получал из рук Муртагина.
Не забыл?
Карточку получал не один. Только из вашей части было двое — ты и ефрейтор Степан Полятыка. Ты к тому времени прослужил месяцев пять — кандидатом в члены партии тебя принимали по рекомендациям, взятым еще до призыва, у старших коллег по «гражданской» работе. Степан же — бывалый солдат. Служил второй год, весной предстояло увольнение в запас.
Служил… Трудно себе представить нечто менее служивое, чем ефрейтор Степан Полятыка.
Работал — этим его служба исчерпывалась сполна. Степан плиточник. И не просто плиточник, а плиточник-мозаичник. Пожалуй, по штату в строительной части, тем более вашего назначения, плиточники-мозаичники вовсе и не предусматривались. Это уже искусство, а здесь необходимо ремесло. Работа. Объекты, которые возводили, тоже меньше всего нуждались в панно, мозаиках и прочих финтифлюшках.
Точность! Копки и кладки — вот в чем они больше всего нуждались.
Это и была единственная тонкость применительно к вашим основным строительным объектам.
Свою специальность Степан получил еще до армии. Ты же с ним познакомился на строительстве офицерской столовой. Это огромное двухэтажное сооружение, в котором по окончании строительства, пожалуй, можно было приютить сразу всех неженатых офицеров гарнизона. Все холостяцкие офицерские общежития Энска могли со временем столоваться в этом железобетонном заведении, соединившем в себе по воле безвестных проектантов довольно-таки угрюмые черты фабрики и казармы.
Столовую надо было сдать в новом году, поэтому работы на ней шли в три смены, круглосуточно — ночью при свете прожекторов — в лихорадочном темпе. Все тут бегало, носилось, крутилось и гремело. Ее громада кишела людьми, сновавшими по обоим этажам, по перекрытиям и даже по кровле, — все работы, включая заливку кровли горячим битумом и настилку рубероида, велись едва ли не одновременно, напоминая тем самым кишащий муравьями глиняный термитник.
Сходство тем полнее, что люди, как и муравьи, были одинаковы: шапки, фуфайка, перепоясанная ремнем, сапоги. Солдаты.
Разница лишь в том, что муравьи трудятся молча, здесь же звучали отрывистые команды, гудели бетономешалки, рокотали, грозно выбрасывая короткую, но толстую, упругую, пульсирующую струю пламени, мощные калориферы, которые одновременно и обогревали рабочие места, и сушили штукатурку на стенах.
Это был муравейник эпохи НТР.
И лишь один человек выпадал из лязга, грохота и суеты. Пребывал в молчаливом каменном веке. В веке мускульных усилий. Сбросив куцую солдатскую фуфайку, сгорбившись, как горбятся все истинно мастеровые люди, сидел на корточках и с помощью самолично обструганных палочек и шпагата делал только ему ведомые разметки в заранее приготовленном еще не затвердевшем бетоне. Возле него стопками лежала разноцветная керамическая плитка. Собственно, никто ему по цвету ее не подбирал: просто везли то, что было на складе, что получали на товарной станции. Он уже сам потом с помощниками сортировал ее, складывал стопками. Да и цвета у плитки самые что ни на есть расхожие: коричневая, белая, мутно-зеленая, желтая — вот, пожалуй, и все. Плитка толстая, грубая, глазурью тоже облита абы как — короче, та, которой облицовывают стены и полы в самых общественных, общественней некуда, заведениях.
Этой плиткой Степан облицовывал пол в офицерской столовой.
Часами напролет просиживал на корточках, сбив шапку на самый затылок, — звездочка всякий раз оказывалась у него где-то на боку, что вызывало смутное беспокойство у вышагивающего вдоль фронта работ своей роты старшины Зарецкого: проходя возле Степана, тот каждый раз задерживался, деликатно кашлял в кулак, но делать замечание все же не решался. Из-под шапки Степана распустившимся крылом выпадал темный, слипшийся от пота чуб. Увлекшись, прямо рукавом Степан любовно протирал каждую плитку, проглядывал ее как яичко, на свет — нет ли трещин где в глубине. Руководствуясь какой-то своей геометрией, которую целиком держал в голове и которая пока лишь едва-едва угадывалась, намечалась «на местности», некоторые плитки обрезал, подгонял, подчинял своей шпагатной разметке.
Это делается так. Берется плитка, переворачивается тыльной стороной, с помощью деревянного метра и остро заточенной стамески на ней в нужном месте делается глубокая решительная риска. Потом плитку кладут себе на колено и резко, не примеряясь и не колеблясь, как стекольщик стекло, разламывают по риске, надавив ладонями на края.
Главное — быстрота и натиск. Никаких рефлексий!
Попробуйте.
Не вытанцовывается?
«Тяму» не хватает?
А у Степана вытанцовывалось. А у Степана хватало. Только пыль оседала на штанах, — так мельник ходит весь в мучной пыли.
Тут грохот кругом, железо и камень, огонь и ругань, командиры и подчиненные, а человек себе сидит на корточках и колдует по разметкам своего воображения. Есть ли что-то менее служебное, военное, чем солдат на корточках? Ему стоять, вытягиваясь в струнку. Шагать, играя каждой мышцей и задирая донельзя начищенный носок. Бежать, ползти, зарываться в землю… А тут — сидит, как ребенок, играющий в песочнице. Худые коленки враскорячку, мальчишечьи лопатки, эти наши недоразвитые крылья (с годами не то что не развиваются, а и вовсе тонут, вязнут в благоприобретенном жирке), под гимнастеркой свободно перемещаются. Шевелятся. Щуплый, смуглый, носатенький — впрямь скворец с его мастеровитой сутулостью. Глаза только большие, навыкате, необычного, зеленовато-табачного цвета.
Он, случалось, и на обед не ходил, и тогда отделение приносило ему обед сухим пайком и без лишних слов ставило рядом с ним. Кто хлеб в газетке, кто луковицу, кто банку тушенки.
И каждый, кто б ни шел мимо, старательно огибал приготовленный к облицовке участок пола и вместе с тем не обходил его окольными путями, а наоборот, прижимался к нему, насколько это возможно, чтоб только не ступить в вязкий бетон, не сбить нечаянно колышек и не запутаться в хитросплетении шпагатных силков. И обязательно хоть на мгновение останавливался возле Степана. Даже Муртагин однажды остановился. Шел-шел, потупив по обыкновению глаза, а тут как споткнулся. Постоял посмотрел — сопровождавший его комбат Каретников стоял на некотором отдалении и молча, но весьма удовлетворенно усмехался: знай, мол, наших!
Подполковник Муртагин хотел что-то сказать, но смолчал, повернулся к комбату Каретникову, понимающе поймав лукавую комбатовскую усмешку, сам улыбнулся в ответ, и они двинулись дальше.
Командир части наверняка не случайно из многих путей, которыми мог провести по «объекту» начальника политотдела, выбрал именно этот. Это и между ними был, пожалуй, самый короткий путь, потому что на этом пути между людьми, похоже, падал первый, самый прочный барьер.
И сновавшие по своим заботам солдаты тоже неспроста выбирали дорогу поближе к ефрейтору Степану Полятыке.
Все заглядывали на свет Степановой работы.
А работа была еще зашифрованной, еще только угадывалась, сама еще билась в шпагатных силках. Но с каждым днем становилась все явственней, все отчетливей — а может, и в ее неотчетливости, незавершенности было свое обаяние: каждый «достраивал», завершал ее сам, домысливал, довоображал в меру собственной фантазии. Еще несколько дней, и выпростается она из-под шпагата, и распрямит крылья, и поплывет, праздничная, по офицерскому полу.
Над офицерским полом.
Думается, что и офицерским-то пол делала именно она, Степанова работа. А без нее это был бы барак бараком. Разве что двухэтажный, громадный да железобетонный. Фабрика и казарма — одновременно.
Пол в офицерской столовой с каждым днем все отчетливее превращался в палисадник. Пышный южный палисадник где-нибудь под Тернополем — ефрейтор Степан Полятыка был родом из тех благословенных мест. Палисадник такой пышности и такого изобилия, что не вмещаются за забором, за штакетником, а просачиваются, «пропотевают» наружу, как пропотевает хмелем и сахаром винный дубовый бочонок. Подсолнухи — идешь, и кажется, будто шляпки их поворачиваются тебе вослед.
Твердые, ребристые, толщиной в мужскую кисть стебли подсолнухов обвивал вьюнок: цветы у него маленькие, напоминающие зрачок. Потом еще цветы — кажется, их называют «ленок». Похожи на ромашки, но стебли значительно выше, а лепестки у́же, длиннее и расположены в соцветии не так густо, не так кучно, как у ромашки. У ромашки лепестки гуще, накрахмаленные и наутюженные, протокольные, официальные, так сказать — как стоячий воротничок. У ленка же они изнеженные, томные, вяло раскинутые на сонной волне летнего безветренного зноя.
И маки еще разбросаны по офицерскому полу — некоторые с облетающими уже лепестками. Так вот, старшина Зарецкий, сам откуда-то с Украины, не перед ефрейтором Степаном Полятыкой робел, а перед этими подсолнухами, перед вьюнками, перед ленком и, разумеется, перед маками с их облетающими чашечками — внизу, у основания, темными, с подпалиной, а выше сплошь алыми, вощеными: другие перерабатывают солнечный свет в хлорофилл, а маки — сразу в кровь. Останавливаясь возле Степана, он словно останавливался перед родной белой мазанкой, которую не видел уже не один год.
Как удавалось Степану это разноцветье и разнотравье при таком-то скудном выборе плитки? Пожалуй, он действительно был искусным мастером. Талантливым мастером.
А все вы, включая старшину Зарецкого, командира части Каретникова и даже включая подполковника Муртагина, — талантливыми зрителями.
Все вы, включая командиров, офицеров с их кочевой жизнью, находились вдали от родных мест, от дома, северная, для большинства из вас непривычная зима входила в силу, мела и гудела за бетонированными стенами, жесткие армейские будни (хочешь не хочешь, а все-таки армейские) брали вас в оборот. Будни, которые были, помимо прочего, днями, сутками пуска, сдачи объекта заказчику — с их суматошной напряженностью, нервотрепкой, форсажем, физическим и нравственным. А тут — палисадник, оранжерея под благодатной пленкой всеобщего любования и, чего греха таить, потакания. Степан по собственному почину работал едва ли не сутками, потому что понимал: он один может подвести, задержать всех. Всю работу. Ему об этом никто не напоминал, никто не подгонял его: вал форсажей, тон которым задавали планерки, а тон последним в свою очередь задавал командир Каретников, а то и командир всего управления инженерных работ подполковник Котов, находящийся, как вы знали, на генеральской должности, — этот вал, приближаясь к «палисаднику», как-то сам собой стихал, разбивался о невидимое препятствие. Вроде не эфемерный палисадник, а черт-те какой волнорез. Мол. Молчаливая, не различающая чинов и рангов, людская круговая порука — что может быть крепче, волнорезнее?
Степана никто не подгонял, не ширял в бок, но он сам все понимал. Потому и выкладывался, потому и на обед, случалось, не ходил. А круговая порука выражалась еще и в том, что, скажем, после о с т а н о в к и Муртагина Степану привезли из областного центра несколько ящиков плитки и х у д о ж е с т в е н н о й крошки, предназначавшейся для отделки облдрамтеатра. Вероятно, в обмен. Вероятно, облдрамтеатру кроме художественной крошки нужен был и бетон, а у военных строителей он самой высокой марки.
То ваша молодость (а у кого-то воспоминание о молодости), ваша грусть, тоска по далекому дому, ваши причудливые предутренние (с вечера ничего не снилось: валились как убитые) сны, ваша потребность в тепле и, смею надеяться, в красоте, ваши не задействованные впрямую в строительстве и тем не менее имевшиеся в наличии, резервные, подпочвенные, подпитывающие собственную, личную, духовную стройку в каждом из вас силы, соки души — все это прибавляло красок в скудной Степановой палитре. Заставляло сиять в вашем воображении даже то, что сиять никак не могло. В чем по существу и не было их, красок. А может, и самому Степану прибавляло дара. Если не вдохновения, то дыхания, размаха. Смелости, дерзости. Как ни искусен он был, а вряд ли делал что-либо подобное раньше. Вряд ли это получалось у него так, как сейчас. Да и вы, окажись в других, более щадящих, более расхожих условиях, вряд ли воспринимали бы палисадник так, как тогда. Талант бы слетел мигом.
Вот, скажем, окажись ты, сегодняшний, в Энске. И зайди в офицерскую столовую, хотя столичных журналистов в офицерские столовые не водят: все больше в сомнительные «боковушки» — как придел в церкви — с хрусталем и совсем другим меню, нежели в общепитовской точке, к которой эта боковушка присобачена…
А может, талант, хотя бы такой, все-таки не слетает, как дорожная пыль, а закрепляется, оседает, намывается где-то в нашей душе?
Это же надо было придумать: в офицерской столовой столь смирный, столь провинциальный, столь простонародный палисадник!
Объект в «объекте», освещавший своим домашним, спелого лета, светом эти казенные пространства. Наверное, даже традиционные офицерские суточные щи будут напоминать здесь материнские или тещины борщи!
Над палисадником, над маками, над ленком, над вьюнками, даже над подсолнухами Степан поместил двух петухов. Роскошные петухи вышли с помощью художественной крошки! Взвившиеся кверху когти и шпоры выставлены вперед, клювы издают почти орлиный клекот, глаза горят, как будто там, за этим слюдяным окошечком, пожар бушует. Сердце, печень, селезенка — все пылает праведным огнем и гневом. Просто страшно заглянуть, припав к глазку, в эту топку. Крылья… Но самое замечательное — хвосты. Задраны, как два бунчука, как две хоругви, осеняющие битву. И все цвета радуги, то бишь все цвета облдрамтеатра имени Михаила Юрьевича Лермонтова представлены в хвостах — от кирпичного до лазоревого, отпускавшегося, видимо, исключительно для дамских артистических уборных.
Вот уж кому Степановы силки были нипочем — вашему, зрительскому, воображению, точнее в о с п о м и н а н и ю, улетавшему далеко-далеко за пределы столовой, за этим — тоже д о м а ш н и м — петухом. Во смеху было, когда они выскользнули, дерясь (а попробуйте петуха удержать, это все равно что дать в нежные девичьи руки отбойный молоток), из-под Степановых ладоней! Когда вы поняли, угадали, кого он гондобит над подсолнухами, когда вы их, незабвенных, узнали.
То была единственная дань военному предназначению объекта. Поезжай в Энск, побывай в офицерской столовой. Кто знает, может, полы в ней до сих пор не засыпают опилками?
Таков был ефрейтор Степан Полятыка, с которым вы по двадцатиградусному морозцу бежали через весь городок к штабу УИРа, к политотделу, где должны были вручать кандидатские карточки…
13
Не выдержал, встал кто-то из пассажиров? Или стюардессы заметили непорядок? Сергей ведь, по существу, не сидел, а стоял, неудобно согнувшись, так, что тело онемело и заныло. Поверни он только голову, и ему сразу станет ясно, кто к нему подошел и положил руку на плечо. Но поворачиваться не хотелось. Боялся отвлечься, потерять след, нить, спугнуть зарождавшуюся под его пальцами завязь. Разомкнуть цепь — между током своей жизни и чужой.
Ему не хотелось поворачиваться еще по одной причине. Ладонь, которая лежала на его плече, была теплой и участливой. Она не осаживала — поддерживала. Небольшая, но не студенистая, а вполне определенная, с основой, с нежно упрятанной и все же осязаемой арматурой — а такие ладони всегда вызывали в нем больше доверия, нежели амебообразные, обволакивающие и в конце концов обкрадывающие. Она излучала тепло и спокойствие. А чего греха таить: у Сергея и у самого сейчас нервы на пределе. И это молчаливое, доверительное участие тронуло его неожиданно глубоко. Ему не хотелось поворачиваться. Ему на мгновение захотелось просто склонить голову набок, к плечу, коснуться щекой этой невесть откуда явившейся, опустившейся, как, кружась, опускается на плечо голубь, ладони. Бывает такое: человек изо всех сил держится в неравном противоборстве, а пришли ему на помощь, хотя бы просто слово доброе, жалостливое сказали — и он разнюнился. Взвинченность, тревога, паника, которую так тщательно, из последних сил старался скрыть, — все разрешилось этим невольным мимолетным порывом. Детства, ребячливости?
Сергея самого била дрожь. То ли набрался холода от коченеющих старческих рук, уже подернутых осклизлой тиной, первым зловещим выделением тлена (Сергей держал в ладонях обе руки больной: и здоровую, и парализованную, бесчувственную). То ли холод зарождался в нем самом — от растерянности, от страха, что он так и не совладает со столь грозной ситуацией. Привезет труп — как посмотрит тогда в глаза жены? И эта трусливая, эгоистичная мысль мелькнула у него — как он посмотрит. Каково будет ему…
Ладонь же, покоившаяся на плече, источала ровное, спокойное, молчаливое тепло, которое свободно проникало, падало, в п а д а л о в него и так же легко, без натуги, как вино, или еще легче — как свет, смешивалось с его кровью, достигало кончиков пальцев и, искрясь на перекате, на п е р е п а д е, попадало в завязь, во все-таки вспухавший, зарождавшийся под его пальцами, мерцающий (врачи говорят: «мерцательный») родничок пульса.
Как бы там ни было, а дружеского, участливого и, что особенно важно, молчаливого прикосновения оказалось достаточно, чтобы Сергей взял себя в руки. И сразу явственнее, полнокровнее стал пульс больной. Он был напряженным. Словно ударяли не в колокол, а в подвешенный лемех, и грубый, немузыкальный, бьющий по перепонкам набат разносился по всему телу. Пульс был спазматическим, но он был и постепенно становился ровнее. Глубже.
Может, это и был дополнительный источник, в сущности, совсем незначительный, но которого как раз и не хватало? Теперь цепь действительно замкнулась — боли и сострадания, смятения и веры. И там, где еще минуту назад циркулировал разрушительный холод, теперь брала верх другая, накапливающаяся, стихия. Среда тепла и покоя. Жизни.
По мере того как проявлялся, менял тональность пульс больной, менялся и ее крик. Теперь он конденсировался: шел на низкой, грудной ноте, стал громче, осязаемей и вместе с тем естественней. В нем, как и в пульсе, тоже появились новые, глубокие оттенки. Ж и з н ь примешивалась к нему. Вам доводилось слышать, как к опустошительному, смертоносному свисту степного суховея примешиваются первые крупные, живые и животворящие, косо летящие с мглистой вышины капли долгожданного, выстраданного степью и людьми дождя?
Сергей обернулся.
Собственно говоря, он уже мог бы догадаться, кто это.
Когда они входили в самолет, когда неловко и натужно, на поднятых руках, несли по проходу носилки, стюардессы были тут же, занимались своими делами: с минуты на минуту должна была начаться общая посадка. Нельзя сказать, что они были равнодушны к чьему-то несчастью, которому надлежало лететь на их борту. В конце концов это ведь они, стюардессы, отвели Сергею с тещей целый ряд, ибо в билетах у них места были указаны — порознь. Нет, они не были равнодушны, они были просто привычны. Привычны к горю. Вероятно, оно нередко сопровождает их. Привычны к обыденной предполетной работе, которую делали споро, привычно, переговариваясь друг с другом, делясь домашними новостями и всякой всячиной, не имеющей никакого отношения к полету, в чем, возможно, заключался свой, несколько суеверный шарм. И только одна из них, невольно заметил Сергей, дрогнула. Она стояла у самого входа, и Сергей прошел совсем рядом с нею. Как ни занят был носилками, как ни ныло тело от только что преодоленного подъема, от ноши, которая лишь теперь, когда он вслед за напарником ступил в салон самолета, стала для него легче, уравновесилась, Сергей все же поневоле скосил глаза и взглянул ей, стоявшей изнутри у входа, в лицо. Их лица оказались на какой-то миг рядышком, в нескольких сантиметрах друг от друга. Лица оказались рядом, только на разной высоте — стюардесса была пониже Сергея. Она вообще была невысокой, молоденькой, и темно-синяя униформа облегала ее так же плотно и естественно, как обнимает еще не зимовавшее, весенней посадки деревце его здоровая, нигде пока не траченная, эластичная, воздухопроницаемая кора. Ее и корой-то не назовешь: кожура.
Но это — и рост, и форму — Сергей рассмотрит позже, вот сейчас, когда поворачивает голову к незнакомцу (незнакомке?), чья ладонь лежит у него на плече. А тогда, при входе, увидел только лицо. Круглое, миловидное, но в ту минуту напуганное и даже потрясенное. Перед девчонкой только что проплыла неподвижная, укрытая до подбородка простыней, со сложенными на животе, горкой выпиравшими под простыней руками, с прикрытыми глазами на мертвенно-бледном лице больная, а продолжением этого ряда явилась собственно Серегина физиономия. Кулачок еще увидел — плоский, с побелевшими косточками, прижатый в нечаянном порыве к чуть растрескавшимся, лишь по краям, по периметру обведенным, обозначенным помадой губам. Словно девчонка хотела вскрикнуть, да вовремя удержалась. Глаза увидал, близко, вплотную. Крупные, темно-карие, бархатистые, чем-то похожие на изнеженные, в черных пятнышках крылья ночных бабочек. Глаза настолько бархатисты, что кажется, будто они, как и крылья у бабочки, подернуты тончайшей, легко ранимой пыльцой. Флером, сквозь который нежно просвечивает, пульсирует вся живая аура, все строение крыла или глаза — с его прожилками, с его затаенной, уязвимой тканью. Сергей прошел мимо, в нескольких сантиметрах, и она проводила его взглядом.
Среди стюардесс она была самой молодой. И, пожалуй, самой неопытной. То есть ко многому еще не привыкшей. В том числе к людскому горю, которое летит рядом с тобою. Была еще незащищенно чувствительна к нему. Потому и сейчас, находясь далеко от Сергея, она, именно она, почувствовала, что т а м что-то неладно, и подошла.
Обернувшись, опять увидел ее глаза. В них сейчас не было такого испуга, как раньше. Они встревожены, но не так панически, как тогда. Теперь в них больше сосредоточенности.
— Может, объявить, чтобы подошел врач? — сказала просто и негромко, глядя ему в лицо. — На борту наверняка найдется доктор.
Она была еще настолько н о в е н ь к о й, что пока хоть и неосознанно, но с видимым удовольствием произнесла этот арготизм — «на борту».
Сергей покачал головой:
— Не надо, сейчас уже не надо.
Может, минуту назад он и согласился бы с ее предложением, но сейчас видел, верил: перелом наступил. Все обойдется, должно обойтись. Он переломил. Они переломили: Сергей, больная, то, что в ней оставалось живого, и эта девочка. Цепь.
Лицо его опять было в испарине, волосы прилипли ко лбу.
Она почему-то не снимала ладонь с его плеча, и он так и оставался в прежнем неудобном, полусогнутом положении. Только голова вполоборота повернута к ней. Он и сам не хотел, чтобы ладонь снялась с его плеча — как птица с ветки, — потому даже развернуться к ней сполна не спешил. Чтоб не спугнуть. Что на него наехало? Благодарность к ней? Жалость к самому себе? Ощущение себя нуждающимся в защите? Маленьким? Смертным?
— Тогда принесу чаю, — сказала она опять же без нажима.
— Не надо. У нас есть кипяченая вода — там, в сумке, в термосе, — показал глазами на пол, где, не поместившись под сиденьем, стояла его дорожная сумка, разбухшая от простыней, пеленок и прочей поклажи. В руках Сергей по-прежнему держал согревающиеся тещины ладони.
— Нет, я все-таки принесу.
Рука снялась легко и стремительно. Только след ее, казалось, еще теплился.
Пошла по проходу, то одной, то другой рукой придерживаясь за спинки кресел. Шла, чуть наклоняясь вперед, как при встречном ветре, — самолет все еще набирал высоту. Вернулась быстро, неся в руках два стакана чаю, балансируя по гулко подрагивающему, словно по мелкой волне с бешеной скоростью пущенному проходу. Один стакан сразу передала Сергею, он стал поить больную. Чай был остывшим. Та сама подняла голову и пила жадно, крупными, редкими глотками. Глотки чередовались со всхлипываниями, чай проливался. Зубы мелко вызванивали о стекло, седые волосы выбились из-под белого старушечьего платка, растрепались.
В другое время Сергею было бы стыдно, если б в такую минуту, как сейчас, рядом с ними оказался посторонний человек. Болезнь никого не красит — как больных, так и тех, кто ходит за ними. И есть в ней минуты, а иногда и часы и даже целые сутки, есть в ней ситуации не для чужого глаза. Это только на первый взгляд непосвященного человека, навестившего больного в присутственный день и в урочный час — на двадцать минут, с цветами и кульками, — болезнь выглядит чуть ли не благостной, благородной, нематериальной. Лишенной плоти и, стало быть, прозы. Белые халаты, белые простыни, слабое мановение бледной, с голубыми прожилками руки. А у серьезной болезни есть своя материя, своя ворвань, своя кровь, свой чад и пот. И свой последний час.
Но все это не для посетителей. Не для чужого, пусть и сочувственного, взгляда. Это даже не фундамент — подвал, погреб болезни, над которым высится более или менее — это уж кому как повезет — благопристойное сооружение хворобы.
Если бы другой человек в такую минуту оказался рядом, тогда б Сергею было стыдно. Другой человек. А эта опять стояла рядом, опять положив ладонь ему на плечо (надо же ей за что-то придерживаться, сообразил Сергей), и он при ней, не стесняясь, делал обычную, черную, к р е с т ь я н с к у ю работу сиделки. В другой бы раз устыдился, а тут — нет.
Ее участие исходило так же, как тепло от ее ладони. Проникало, впадало, легко смешиваясь с кровью и разносясь с нею до кончиков пальцев. Впрочем, время, минута тоже играли свою роль. Сергей был расслаблен, измотан, и вряд ли в иной ситуации душа его была бы так благодарно восприимчива, так подвержена участию и добру. Так отзывчива на них — стечение обстоятельств, в результате которого порог восприятия, даже не порог, а вал, ограждающий душу, как ограждают город со стороны моря, вообще сошел на нет.
Со стороны моря — как со стороны жизни. И м о р е, воспользовавшись временным снятием блокады, хлынуло. Прямо на улицы, на мостовые, в окна нулевых этажей…
Напоил больную и только отнял стакан, как она высвободила из его ладони свою правую, здоровую, руку и поднесла ее к губам — вытереть. Это было первое более или менее разумное, интуитивно разумное движение. Сергей быстро наклонился, выхватил из стоявшей в ногах сумки чистую, выглаженную пеленку, промокнул ей губы, лицо — оно у больной тоже сразу покрылось испариной. Та перестала всхлипывать, взглянула на него прояснившимися и, как показалось Сергею, благодарными глазами.
У него отлегло от сердца: вроде обошлось.
Самолет наконец закончил набор высоты.
Самолет закончил набор высоты, но ладонь стюардессы по-прежнему оставалась у него на плече. Конечно, она могла бы держаться и за спинку кресла — даже надежнее, но выбрала его плечо. В ы б р а л а… Или положила нечаянно? Он понимал, чувствовал, что тут был выбор. Вместе с благодарностью он уже почувствовал нечто вроде элементарного мужского тщеславия. Беда уже отпустила его, как отпускает человека болезнь, когда человек в состоянии ощущать уже не только боль, не только суть, но и что-то другое, привходящее. Так и он.
— Напейтесь и сами, — она приняла из его рук чуть недопитый стакан, а ему вложила в ладонь другой, полный.
Сергей действительно хотел пить. Чай был крепкий и очень сладкий. И хорошо, что холодный. Сергей осушил его залпом.
Она унесла пустые стаканы, но через некоторое время вернулась вновь:
— Вы могли бы пойти покурить, а я пока побуду с нею.
Сергей не курит, но ему показалось, что если он сейчас откажется, то она к нему больше не подойдет. Цепь разомкнется. А ему этого не хотелось.
Отказ и ее бы обидел. Словно он не доверяет ей. Не хочет впустить в святая святых. В погреб, куда она и без него, без его приглашения уже вошла. Отказ означал бы его попытку вернуться к исходным рубежам. Сделать вид, что ничего существенного не произошло?
А что, собственно, произошло? Случилось?
— Спасибо.
Поднялся, уступая ей крошечный уголок кресла, что занимал, вышел в проход, и она мягко и ловко разместилась на пятачке, в который он едва втискивался. Сняла с головы у больной сбившийся платок, вынула из ее волос роговой гребешок и стала мягко, не торопясь охорашивать седую растрепанную голову.
Растрепанная, оскорбленная седина — что может выглядеть более жалко и униженно?
Больная покорно повиновалась аккуратным, расторопным ладоням, а потом и вовсе прикрыла глаза. Уснула?!
Торчать здесь Сергею не имело смысла. Разминая затекшие ноги, почти не чувствуя их, побрел в хвост самолета.
14
Перед кабинетом Муртагина собралось тогда человек пятнадцать. Солдаты, сержанты. Шинели оставили в гардеробе: никем не обслуживаемый закуток с длинными рядами вешалок недалеко от входа в штаб — вот и весь гардероб. Все аккуратно, даже щегольски заправлены, затянуты, кирзовые сапоги лоснились от крема и распространяли приятный, крепкий запах скипидара. Военный строитель хоть и занимается строевой во «внеурочное», нерабочее время, а при случае, будьте покойны, тоже сумеет подать себя. Грудь колесом, выправка…
Пройдет — девушки от восторга стонут: ладно скроен, крепко сшит. Девушки не знают, что одежка-обувка солдата-отпускника вряд ли принадлежит ему. Не в том смысле, что она, как и сам солдат, принадлежит родному государству. Нет, просто солдата в отпуск провожала вся казарма. Все, что было лучшего у нее, — отпускнику. Счастливчику — для полноты счастья. У кого-то реквизируются самые лучшие, шикарнее всех в роте ушитые брюки, у другого — китель, у третьего — сапоги или ботинки. Конечно, есть щеголи, которые умудряются безукоризненно подогнать и потом содержать в идеальном порядке весь комплект собственного обмундирования. Но это редкость, и чаще отпускник экипируется скопом, «миром». Тут причудливым образом соединяются естественное желание отпускника выглядеть поэффектнее, «повоеннее» и тщеславие тех, кто формирует его гардероб.
Штаны, дважды побывавшие в отпуске… Звучит! — даже если законный, коренной, так сказать, владелец не был удостоен такой чести ни разу.
Впрочем, здесь нечто большее, чем тщеславие. И широта, и какими-то неисповедимыми путями реализуемая в подобном снаряжении тоска по дому. Особенно если отпускник твой земляк. Если едет в твои родные края. В таком разе человеку нет отбоя: каждый предлагает хоть что-то взять у него. Хоть чем-то коснуться, достигнуть, дотянуться до родного дома. Не зря в армии так дорожат землячеством. «Земеля…» — есть в армии такое неармейское, неуставное, ласково-домашнее обращение. Земляки держатся друг друга, льнут друг к другу, как льнут пальцы в пригоршне. Разними их, разъедини, и что-то будет пролито, утрачено. Теплый воздух дома — вот что хранят сросшиеся пригоршни землячеств.
На фронте говорили: земляк дороже брата…
Многочисленные значки и знаки военного отличия, обильно украшающие бравую грудь отпускника, и те нередко с миру по нитке. Напрокат…
Зато возвращается земляк, и приходит его черед отдаривать. Возвращать. Идет дележ и домашних гостинцев, которые тотчас пускаются в распыл всей ротой, всей казармой, а главное — дележ новостей. Несколько дней будут вытряхивать и выуживать их у отпускника его земляки. Даже когда вытряхивать уже нечего. Все, выговорился человек, вытряхнули человека. Вывернули. Разве что на попа его, бедолагу, еще не ставили. Несколько дней будут возбужденно кучковаться около него. И у тебя, хоть ты и не состоишь с ним в землячестве, тоже появится невольное желание подойти к их кружку, послушать.
Испить из пригоршни.
И вы со Степаном, и другие солдаты, собравшиеся в узком коридоре штаба по столь торжественному поводу, тоже экипированы как отпускники. По тому же артельному принципу. Все впору, все как на строевом смотре. И все равно чувствовали себя в коридоре скованно, не в своей тарелке. Все были из разных частей, пожалуй, лишь вы со Степаном из одной, друг друга никто практически не знал. Пришли слишком рано — боялись опоздать. Сержанты комендантской роты, и без того впустившие вас в штаб со скрипом, только из-за мороза, а так, мол, могли бы и на улице подождать, не генералы (для них, действительно строевиков, был некоторый лоск в том, чтобы лишний раз «прижать» вашего брата-строителя, показать свою власть), бдительно поглядывали на вас и велели не распыляться, не создавать затор в коридоре. Держаться одной стенки. Правда, что касается затора, то штабные ефрейторы с тоненькими папочками легко и ловко, ухитряясь никого не коснуться, не зацепить, прошивали ваш что ни говори, а тяжеловатый, большей плотности, чем их, повышенного удельного веса конгломерат, снуя по штабу по своим неотложным интеллигентным делам.
Вот кто был подобран и вылощен куда чище вашего! Гибкие, выглаженные — как ни крути, а рядом с ними вы все-таки выглядели утюговатыми. Утюговатыми были в первую очередь ваши руки, большие, натруженные, красные и негнущиеся с мороза, которые вы к тому же не знали куда девать.
Это сейчас ты научился их почти не замечать…
И ваш удельный вес, и ваша плотность в конечном счете определялись ими.
У штабистов же ладошки тоже штабные — ладные аккуратные, с ровно подстриженными, а не обломанными ногтями. «Писарчуки!» — незлобиво перешептывались вы.
Знал бы тогда, что через полгода сам будешь бегать здесь же, в штабе…
Ровно в десять Муртагин пригласил вас к себе.
Кабинет у него небольшой, вы и сюда сразу внесли ощущение громоздкости, запруженности. Чернорабочести. Рассаживались, сконфуженно громыхая смерзшимися сапогами, на стульях вдоль стен. Муртагин сидел за столом, внимательно рассматривая каждого из входящих и кивком здороваясь с ним. Дождался, пока уселись, еще раз обвел вас, теперь уже всех вместе, своими темными, как бы светомаскировочными глазами, помолчал.
Составляли вы теперь и в его глазах что-то совершенно единое, целое, цельное или оставались конгломератом?
Тишина установилась поразительная — при таком-то скоплении народа, при такой-то его громоздкости, при том, что среди вас наверняка были простуженные: работа на свежем воздухе…
— Не знаю, что сказать вам в такой день, — наконец начал Муртагин, медленно поворачивая пальцами обеих рук тонкое, граненое жало карандаша. — Правда, не знаю, что сказать, — повторил он так, словно разговаривая сам с собой.
Потом и карандаш отложил в сторону как нечто отвлекающее. Сцепил пальцы и держал их на столе перед собой. Руки у Муртагина маленькие, бледные, отечные. Ты тогда еще не знал, что у него нехорошо с сердцем, но что это были руки нездорового человека — факт. Наверное, эти невзрачные, нежизнестойкие руки — болезнь гнездилась где-то совсем в другом месте, но выдавали ее пока лишь они, столь непохожие на те, капитальные, грубой выделки, полные жизненных соков и сил, что лежали сейчас на ваших коленях, а также его возраст, положение, — могли бы разделять вас и этого человека. Сидевших друг против друга.
Если бы раньше ты не видел его на стройплощадке. В том числе — когда он проверял, как сидят на вас солдатские шапки.
В кабинете Муртагина собрались люди, уже послужившие в армии, и так же как ты, если не ближе, с ним были знакомы и другие.
Муртагин молчал.
Может, помолчи он еще дольше, добиваясь, как на сцене, самой эффектной паузы, заговори чуть-чуть другим, слегка любующимся своей глубиной и проникновенной значительностью тоном, вы и заподозрили бы его в позерстве. В заигрывании. Но он молчал ровно столько, сколько молчит человек, собираясь с мыслями. Человек, который еще несколько минут назад занимался совсем другими, будничными делами. И ему требовалось время, чтобы переключиться на дело иного порядка. Он не хотел делать его по инерции. Не хотел, чтобы тень рутинных, будничных забот легла и на это неординарное дело — а до вашего прихода, скорее всего, сидел над какими-нибудь бумагами. Вполне вероятно — отчетами.
Он-то еще не раз будет вручать кандидатские карточки. Но у вас такого события больше не будет. Он понимал это и хотел, чтобы вы такое событие запомнили.
Потому и собирался с мыслями.
Не верю универсалам, легко переключающимся с одного дела на другое. С одной стези на другую. Попахивает шарлатанством. Трюкачеством — от таких блестящих, без примеси пота, безмятежных пируэтов и пассажей.
Не все то золото…
Как это ни сомнительно и даже ни примитивно, но больше верю проявлениям натуги и усилия. Пусть хотя бы они свидетельствуют о р а б о т е мысли. Работа — с преодолением мертвой точки, со скрежетом, с напряжением и с увлекающим в конце концов пафосом хоть и железного, не парящего, отдающегося в каждом ребре — как товарный, тяжеловесный, тоже повышенного удельного веса, состав по рельсам — и все-таки движения. Толчки, железная сопряженность рельса и колеса не хуже, если еще и не правдивее, чем бесплотный посвист ветра в ушах, обозначает факт движения. Видимое усилие хотя бы показывает, что работа мысли чего-то стоит самому мыслящему. Такой мысли — больше веры.
То, что ветвится, преодолевая сопротивление пространства, оно-то, как правило, и плодоносит. Не телеграфные столбы, а все-таки ветви.
…Голос, которым заговорил Муртагин, был глуховатым, больше в себя, нежели на аудиторию. Заговорил с остановками. Чувствовалось, что мысль его петляет, ныряет и он, стараясь передать ее наиболее точно, каким-то внутренним взором (а его светонепроницаемые глаза таковы, что кажется, будто человек одновременно смотрит и на тебя, и сосредоточенно, безотрывно — в себя), не спеша, но цепко следит за нею. Как малограмотный для вящей верности читая по слогам, еще и водит пальцем после каждого удачно прочитанного и одновременно как бы вывороченного, вызволенного пальцем на свет божий слова, удовлетворенно, по-детски хлопает свободной ладонью о колено и покрывается счастливой испариной.
Разумеется, малограмотным Муртагин не был. Грамотен, искушен, и еще как грамотен: по первому, гражданскому, образованию авиационный инженер плюс военно-политическая академия, которую заканчивал заочно. Но тон, каким заговорил с вами, был таким, словно человек не только сам размышлял вслух, прилюдно, но и вас приглашал к размышлению. К совместному поиску истины. Приглашал! — вот в чем секрет. Выковыривал слова и, подымая голову к стоявшему рядом безвестному и юному ликвидатору неграмотности, предлагал не только оценить его старания, но и вместе попробовать на вес вывернутое им, д о б ы т о е слово. Да-да, он, грамотный, искушенный, как будто ждал от вас, зеленых, оценки. Ты понял, что он тогда учил вас? Но при этом и сам-то ведь учился — вот в чем штука! По слогам, по словам. Добывая их, эти слова, и предлагая вам тоже попробовать, понянчить их на ваших основательных ладонях.
Марина Цветаева писала, что своих детей она любила н а в е с.
Уважение — вот что почувствовали, расслышали вы в первую очередь в его глухом, спокойном, раздумчивом голосе.
Уважение, к которому вы здесь, в гулком и вышестоящем штабе, были особенно чувствительны. Может, потому что вас им тут, прямо скажем, пока не баловали.
Почувствовали уважение в его словах, еще не вникнув в смысл самих слов. В существо затронутого вопроса. Но его тон сам по себе вызывал внимание. И, в общем-то, расположение. Грань, которая могла возникнуть между вами, не возникла.
Он уважал в вас мыслящих людей. Мыслящих работников. Вот оно, пожалуй, самое счастливое единство понятий «мысль» и «работа». М ы с л я щ и й р а б о т н и к!
Сидели перед ним полтора десятка м ы с л я щ и х (по его глубокому убеждению, которое вы слышали в голосе Муртагина и которое передавалось от него вам самим), но — с хорошими, умными, подлинно строевыми, если можно говорить о них, как о солдатах, руками, которым вы как-то сразу нашли подходящее место: они спокойно, веско лежали у вас на коленях. Отдыхали.
— Я был недавно в Москве, на совещании. Жили в гостинице. Совещались несколько дней. На совещание каждое утро добирались сначала на метро, потом пешим ходом. Интересно все-таки по Москве-матушке походить: заседали допоздна, и вечером на это, честно говоря, времени не оставалось. И вот бежим утречком с соседом по номеру к зданию, где проходило совещание, — слушать с утра пораньше лекции и доклады. Бодрые, с командировочными портфельчиками. А сосед мне, надо сказать, попался веселый, остроумный. Компанейский. Вечером скучать не давал: анекдотец расскажет, по рюмочке предложит пропустить. В общем, вполне современный мужчина средних лет. Как и я.
В этом месте Муртагин опять сделал некоторую паузу. Вроде засомневался, задумался на мгновение: а средних ли он лет? И так ли современен? Может, уже и не средних — сам не заметишь, когда, с каких пор — не средних. Это ж как пейзаж за окном меняется: постепенно, вкрадчиво, накапливая перемены микроскопическими дозами. Как в детской книжке: чем отличается рисунок «а» от рисунка «б»? А ничем — там у тигра, несущего бедного козленка, на боку пять пятен, а здесь, кажется, пять с половиной… И современный ли? Может, не заметил, когда отстал от поезда?
В его молчании не было кокетливости. Он не ждал бурных возражений: «Да что вы, товарищ подполковник! Да вы же у нас еще орел! В расцвете творческих сил и способностей…» В этой минутной остановке — запнулся человек — тоже была своя, вызывающая доверие раздумчивость. Ну, может быть, наряду с раздумчивостью была в этой заминке и доля лукавства. Подтрунивания над самим собой. Что всегда вызывает у окружающих интерес и расположение — когда человек подтрунивает не над ними, окружающими, а над собой.
— И каждый раз наш путь, — продолжал Муртагин, — пролегал мимо одного транспаранта, висевшего на углу. «Слава КПСС!» — было написано на транспаранте. И вот однажды утром, когда мы, как всегда, торопились на заседание, приятель мой остановился на этом углу, задрал голову и говорит: «Опять какой-то Слава Капээсэс, а я-то думал, что сегодня уже Слава Метревели…»
Муртагин снова помолчал. Все невольно подобрались, напряглись: уж очень непривычный разговор получался. Не соответствующий моменту. Куда он клонит? Как-никак вы не в курилке, а в политотделе. Часовые за дверью. А что касается «славы», так она действительно на каждом углу. У нас любая стройка, можно подумать, для того только и возводится, чтоб стать очередной вешалкой славы. В «Славах», как в строительных лесах…
— Я сказал ему тогда, что это очень хорошо — быть остроумным человеком. Но беда в том, что в острословах-то у нас никогда недостатка не было, с честными — сложнее… Правда, он мои слова всерьез не принял. Можно сказать, поднял меня на смех. Чего кипятишься, говорит. Человек живет как минимум в трех измерениях: в бытовом, обиходном, в служебном и, наконец, в духовном, возвышенном. Отсюда и честности у него как минимум три: обиходная, на каждый день, служебная — за исключением выходных и духовная — перед самим собой. Вот сейчас мы с тобой живем обиходной, как говорили в старину, обывательской жизнью. А переступим порог, предъявим пропуска, пройдем в зал заседаний и вступим в жизнь служебную. Со своими нормами — в том числе честности. А ты, дорогой, смешиваешь их. Это даже не воинствующая ограниченность. Это еще хуже. Это, дорогой, называется эклектизм. Знаешь, есть такое слово?..
Муртагин-то это слово знал. Знал его и ты, газетчик. А вот знали или нет его те, кто сидел с тобой рядом, тяжело, неловко напрягшись, стараясь уследить, не потерять ход замысловатой муртагинской мысли и покрываясь испариной, — в кабинете хорошо натоплено, да и работа уж больно необычна, не та, с которой имеешь дело каждый день, — тут ничего нельзя утверждать с полной определенностью. Но Муртагин слово объяснять не стал. Вообще объяснять ничего не стал, сидел, уставившись в столешницу, набычив, пригнув крепко, корневищем в самую глубь посаженную на плечах голову.
Он сам — думал.
— Тебе, говорит, и доверяться-то опасно. Шуток не понимаешь. А все потому, что эклектик: мерки служебной жизни тащишь и в жизнь обиходную. И потом, еще неизвестно, кто из нас двоих честнее: ты или я. Так и сказал: ты или я. И остановился посреди тротуара, и повернулся ко мне, и заглянул в лицо. Ты или я? И понимаете, товарищи мои дорогие, в такой постановке вопроса тоже ведь есть своя доля правды. Кто честнее?
Муртагин даже по столу ладонью пристукнул, как бы ставя после этой фразы не вопросительный знак, а восклицательный. Глухой такой, как и голос Муртагина, но очень явственный стук получился. Знак повышенного внимания. Но вас и не надо было понуждать к вниманию. Вы и так сидели не шелохнувшись. Это скорее для себя Муртагин ставил ударение. Такт отбивал. Обозначал водораздел.
— Скажу откровенно: я тоже против подобных славословий. Как по адресу отдельных личностей, так и по адресу сообщества личностей, каковым является партия. Мы — партия работников, и хмельное самовосхваление нам не пристало. Не к лицу. Мы же об этом забываем. Какой-то всеобщий молитвенный дом. Бьем поклоны самим себе. А лбом в половицу — не самая рабочая поза. Ценнее аршинных транспарантных здравиц чье-то конкретное «спасибо». Может быть, и не произнесенное вслух. Ценнее — общее, не кичливое, но глубоко внутреннее, становое ощущение здоровья и благополучия — в человеке, в семье, в государстве в целом. Это как стальная нитка в канате: ее не видно, но в деле она чувствуется! Обнаруживается — делая дело. Как сердце в человеке — с его мерным рабочим боем. Бой у него рабочий, для дела, по делу, как говорите вы, молодые, поэтому его без надобности и не слышно. Не будильник, чтоб тарахтеть на всю ивановскую…
Муртагин прав: здоровое сердце работает почти молча. Слышно больное, надсадное или захлебывающееся. Тогда же вы могли только догадываться, что у Муртагина не все благополучно с сердцем. И поэтому не оценили в полной мере его последнюю аналогию. Вернее, оценить-то оценили — хорошо говорит начальник политотдела. Излагает. Но чем оплачена эта красивая аналогия, еще не знали. Не расслышали здесь связи, перемычки между мыслью и болью.
— Но такое зубоскальство мне противно. Глумливый смех, прочитал у большого писателя, — один из трех человеческих пороков. А вообще пустозвонство, во что бы оно ни рядилось, всегда остается пустозвонством. Разница только в уровне, масштабах звона. В децибелах — на всю ивановскую — или на ушко. С мыслящим, — Муртагин выделил это слово, — сомнением зубоскальство, дурносмешество ничего общего не имеет. Там — боль, тут — самолюбование. Оно, в отличие от сомнения, не только ничего не создает, но ничего всерьез и не разрушает. В общем, с совещания мы в тот вечер возвращались врозь. В гостинице попросил дежурную переселить меня в другую комнату. Расхотелось мне жить с соседом. Причину такой просьбы не объяснял, но та оторвалась от своих бумажек, взглянула на меня и усмехнулась: «Что за комната у вас такая, что все рвутся из нее вон? Ваш товарищ тоже попросился перебраться в другую. Только что его переселили. Теперь вы…» — «Теперь уже не надо», — сказал я и взял свой ключ. Иду и чувствую, с каким осуждением смотрит она мне в спину. Наверняка решила, что скандалисты. А еще военные… К чему я это все рассказываю? — Муртагин снова перевел взгляд со своей заваленной бумагами столешницы на вас. — Да еще в такой день? Сам не знаю. Чтоб умом пораскинули, — неожиданно улыбнулся он. Улыбка была чуточной, краешком губ. Вообще при всей ровности характера ты и после никогда не видел Муртагина смеющимся самозабвенно, хохочущим (так что в этом плане его соседу по гостиничному номеру определенно не повезло, слушатель ему попался неблагодарный), только улыбка, редкая, сдержанная и почему-то всегда чуть-чуть виноватая. Он словно винился за сам факт минутного веселья. И сейчас улыбка получилась такой же. — Просто сидела эта история во мне, и, наверное, надо было перед кем-то выговориться. Считайте, что я перед вами выговорился.
Опять помолчал, нагнувши круглую, черноволосую — ни одного седого волоса! — голову, снова взял карандаш.
— А вообще даже если в каждом из нас и на самом деле сидят трое или четверо или сколько б там ни было человек, то я хотел бы пожелать вам, чтобы каждый из них не стыдился б другого. Ближнего. Не гнушался бы им. Чтобы труженик не стыдился в вас коммуниста, чтобы коммунист не стыдился труженика. Чтобы они жили полной и согласной жизнью. Не знаю, какая уж для этого необходима честность: первая, вторая или десятая. Знаю одно: она должна быть взаимной, обоюдной. Честность друг перед другом и перед делом, которому каждый из вас обязывается отныне служить. А главное, повторяю, помните, что партия — это в первую очередь сообщество делателей дела. Судя по всему, работники вы отменные. — Муртагин еще раз обвел вас взглядом и, как мне показалось, особого внимания удостоил наши руки.
Кандидатские карточки вам еще только предстояло вручить. Визитные же были при вас — внушительно лежали на коленях. Впрочем, руки согрелись, оттаяли, помягчели, теперь это были уже не те красные, негнущиеся, почти чужие «руки, как крюки», с которыми вы вошли вначале в кабинет Муртагина. Теперь это были уже свои, обвыкнувшиеся, способные даже к такому тонкому бюрократическому делу, как выведение собственноручной, желательно покрасивее, позатейливее, подписи в кандидатской карточке. Да и сами вы обвыклись в кабинете Муртагина, уже не сидели так, будто по аршину проглотили, а были живыми, согревшимися людьми. Ни один еще не проронил ни слова, говорил только Муртагин, но все равно вы сидели друг против друга как собеседники. Чувствовали себя собеседниками и держались в соответствии с этим чувством, самосознанием, освободившись от былой скованности и безгласности.
Очень трудно быть собеседником, мыслящим работником, когда руки — непременно по швам.
— Вот и оставайтесь хорошими работниками — в первую очередь. Нам всем надо крепко работать, если мы хотим чего-то добиться. «Пахать» — так, по-моему, вы говорите?..
Он опять улыбнулся, и ему улыбнулись в ответ. Точно: вы тогда не говорили «работать», «работа». Бросали небрежно: «пахать», «пахота»… У вас почему-то было принято о работе говорить с долей усмешливости.
Да, в таком определении работы была, конечно, своя игра. Наигранность — говорить о ней свысока. Тон был наигранным, небрежным, а работа, работенка — взаправдашняя. Особенно в конце года, в горячее времечко сдачи объектов заказчику. Пахота! Может, потому как раз и говорили о ней свысока. Петушились…
— Так, — улыбнулись ему в ответ.
— А вообще-то, — продолжал с улыбкой Муртагин, — один ученый человек, профессор, говорил, что хороший пахарь не тот, кто хорошо пашет, а тот, кто хорошо пашет, но при этом еще и любуется своей пахотой. В этом смысле одного хорошего пахаря среди вас знаю наверняка. Степан Полятыка — имел честь видеть его работу как таковую и то, как он ее делает. И как относятся к ней другие. Так что давайте с него и начнем вручение ваших партийных документов.
Муртагин встал, нашел в стопке кандидатских карточек, лежавших на краю стола, Степанову, направился к нему.
Степан тоже поднялся — давненько никто не видел его в строго вертикальном положении, худое, заострившееся, глазастое лицо его горело темным, кузнечным, словно мехами его кто обмахивал, румянцем.
И руки, наверное, снова стали чугунными.
15
Когда вернулся, больная дремала. Тщательно причесанная голова ее покоилась на хорошо взбитой подушке. И вообще вся она за эти пятнадцать минут преобразилась. И дело не только в том, что была спокойна, что муки и корчи оставили ее. Она была ухожена — вот что сразу заметил Сергей. Заметил даже с некоторой уязвленностью. Что значат женские руки! — ведь он делал все то же самое, и навык у него за эти месяцы выработался недюжинный, а все равно сейчас она была обихожена лучше. Старушечьего платка нет, волосы хоть и расчесаны, но вольно лежат на подушке, да и простыня, укрывавшая тещу, была, во-первых, смененной («О, и в сумку уже заглядывала», — подумал Сергей, но новость эта его не задела, как раз к ней-то, может, более всего заслуживающей порицания и настороженности, отнесся совершенно спокойно, как к чему-то само собой разумеющемуся), а во-вторых, не подоткнута, как у него, со всех сторон, а тоже лежала свободно, внакидку. Ворот голубенькой шерстяной кофты расстегнут: в самолете тепло, и чувствовалось, что больной так легче дышится. Изменений немного, да и где тут развернуться. Все вместе, даже немногочисленные, а порой и неуловимые, они как раз и создавали ощущение заботы и уюта, которых раньше, при всей Серегиной старательности, не было.
Возможно, поэтому она и спала так безмятежно? Как ребенок — с седыми волосами…
Ладони у нее лежали поверх простыни и только иногда чуть-чуть подрагивали, как подрагивают они и у детей, словно волны невидимых сновидений пробегают по ним. Добровольная Серегина помощница, сидевшая все на том же подлокотнике, мягко поглаживала больную, заглядывала в ее дремлющее лицо.
А может, в этом и заключается разница между заботой и любовью? Хотя о какой любви, привязанности может идти речь, они даже незнакомы — девчонка и его теща.
Или — между заботой и состраданием?
Что-то в этих размышлениях беспокоило его. Ну ладно, любовь, привязанность, хотя все равно он по-своему привязан к больной — в этом не может быть сомнения. Но сострадание… Разве можно упрекнуть его в недостатке сострадания?
Он не знал, заметила ли стюардесса его. Знает ли, что он стоит тут, рядом. Надо как-то дать знать о себе.
Поколебавшись, он все-таки тронул ее за плечо.
Она поспешно обернулась, решив, возможно, что за нею пришел кто-то из подруг, стюардесс. Темный распахнувшийся веер волос очертил перед ним стремительный полукруг. Сергей уловил запах нагретой травы. Это в окружавшей-то их сплошной химии.
Увидев его, улыбнулась. Сказала, поправляя волосы:
— А она у вас красивая…
Сергей подумал о том, что эту фразу слышит второй раз. Сам он никогда и не замечал, красива его теща или нет. Ему это как-то ни к чему. Жена — еще куда ни шло, а уж теща…
— А она у вас красивая…
16
В ту ночь, еще не поняв, что случилось («Что-то», — вот все, что пронеслось у него в голове), наспех натянув штаны, Сергей ринулся от своего дивана к дверям и здесь, в дверном проеме, едва успел поймать тяжело, кулем повалившуюся ему на руки тещу. Даже не довел — дотащил ее до «малышовки», уложил на кушетку, выхватил из кроватки Машу. Маша не спала, сидела, уцепившись ручонками в прутья спинки, молча, с поблескивавшими в полутьме глазенками: точь-в-точь обезьянка в загоне. Может, теща-то и уходила не к нему, а от нее. Не хотела пугать ее, проснувшуюся, еще больше. Отнес Машу в кровать к жене. Здесь, в спальне, еле оторвал ее ручонки от себя. Сердечко, казалось, билось прямо у него на груди, как жилка на виске.
Когда вернулся в «малышовку», теща была не на кушетке, а на полу. Упала. Сдавленно стонала, уткнувшись лицом в палас, силилась подняться на одной руке, другая, вывернутая, безжизненная, только мешала ей. Словно уже и не принадлежала ей. Было в ней что-то от большого, неуклюжего, подло сраженного зверя. Какого там зверя! — в детстве Сергею довелось быть свидетелем последних минут их коровы. Та схватила где-то протравленного зерна и издыхала прямо посреди двора. Лежала, вздувшаяся, на боку, пыталась подняться, то опять припадала прямо к земле, к траве, хватала обезумевшим ртом и траву, и землю, зажимая, задавливая рвущиеся вон рыдания. Пожалуй, смерть коровы еще и потому так врезалась ему в память, что он не мог забыть мать, ничком лежавшую рядом с коровой. Корову еще можно было дорезать, чтобы воспользоваться хотя бы мясом, и мужики стояли с ножом и веревками рядом, наготове, но мать все медлила. Так и пала Ночка, так и мясом ее не попользовались.
Было в теще что-то и от Ночки, насмерть сраженной отравой и так и не понимавшей до последнего — и чем дальше, чем ближе к концу, тем более не понимающей, — что же с нею стряслось. Но было в ней что-то и от матери, оплакивающей Ночку. Так вот соединилось, срослось, самого ударило под сердце, уже почуявшее — раньше, чем он осознал это в полной мере, — его вину.
Поднимал тещу на кушетку — ухватил ее под мышки, но она безвольно проваливалась, выскальзывала у него из рук, — когда в комнату вбежала, босиком, в ночной рубашке, жена. Жена у него всегда отличалась крепким, девичьим сном. Особенно сейчас, когда на руках у нее трое детей: первую смену крутится на работе, вторую дома и ночью валится замертво. Перенеся Машу, не стал ее будить, еще надеялся, что обойдется. А Маша, видно, разбудила. Первая поняла: не обойдется. Жена какое-то время стояла рядом, замершая, насмерть перепуганная и тоже пока ничего не разумеющая. Лишь потом, когда мать уже снова была на кушетке, бросилась, обхватила, запричитала.
И тут же он услыхал ни с чем не спутываемый топот босых Машиных ножонок.
А следом с треском распахнулась дверь в комнате, где жили сыновья…
Да, они еще не знали, что такое инсульт. Даже после ухода доктора втайне, каждый про себя, надеялись, что все это не про них. Теща ведь и раньше жаловалась на руки, на ноги: мол, крутят, немеют. Как она выражалась, «терпнут». Сдержанно жаловалась, так, чтобы зять не слыхал. От других старух весь день только и слышишь об их болячках. Эта же если и обмолвится, то лишь в том случае, если ее допечет. И то именно обмолвится, а не пожалуется. Сообщит — между прочим, без выражения в голосе, без драматических эффектов, к которым так склонны ныне старушенции. Рука. Нога. Голова. Как будто речь о чужой руке, ноге, голове. И от всего у нее одно лекарство: ну, полежать немного на диване, ну, укутать руку ли, ногу, голову теплым, козьего пуха платком…
Она при нем и полежать-то стеснялась: стоило Сергею заявиться домой, как она поднималась — чаще всего собирать ему на стол. И без всяких там покряхтываний и причитаний. Она терпеливая, теща. Года два назад сломала ногу: Машу в санях везла, а навстречу машина, ступила на обочину, в снег, оступилась, нога и хрустнула. Сергей потом ее в поликлинику водил. Так она и в поликлинику шла своими ногами и даже под рентген, на довольно-таки высокий железный стол, сама взгромоздилась. Губу только закусила, и в лице — ни кровинки. После, когда снимок уже получился, врач со второго этажа прибежал вниз, отыскал их в очереди и давай Сергея отчитывать: как это у вас больная с таким переломом сама ходит, да еще без костылей. Бригаду с носилками вызвали. Да только не воспользовалась теща ни носилками, ни бригадой, ни машиной «скорой помощи». Громоздкая она для легкового транспорта. Потому и в Серегину служебную «Волгу» никогда не садится. Стесняется: ее в «Волгу» втроем впихивать надо. Когда Сергей встречает ее на вокзале, то «Волга» везет ее поклажу, а сами они с тещей добираются до дома более поместительным общественным транспортом. Так, опираясь на Серегино плечо, настырно закусив нижнюю губу, и по поликлиничным кабинетам проковыляла, и домой добралась.
Врач перед ним шебаршил, шумел, а Сергей не мог сдержать глупой улыбки: какие ж носилки, какие ж санитары, носильщики выдержат его тещу… Вы ж посмотрите на нее: в ней же килограммов сто двадцать, не меньше.
Ничего-то он тогда не знал. Не догадывался — о том, что ждет и ее, и его через два года…
Так и на сей раз, втайне надеялись, выдюжит. Сделал ей доктор два укола, таблеток дал, расписку с них взял: мол, от госпитализации отказались, — жена выводила ее мелко-мелко дрожавшей рукой. А только он за дверь, обиженно, даже не попрощавшись с ними — мальчишка и есть мальчишка, — как они с женой кинулись к телефону: звонить в платную поликлинику. Уж оттуда зеленого не пришлют… «Оттуда» прислали не зеленого. Очень деловитый, лишенный, в отличие от юного доктора, эмоций человек средних лет в добротной пиджачной паре, на которую с небрежным форсом, буркой, наброшен белый халат. Еще только переступив порог, мэтр сообщил, что он прибыл на такси, и осведомился, приготовлен ли у них пакет, ибо после осмотра ему задерживаться недосуг — практика у него обширная. Жена стала совать ему впопыхах двадцать пять рублей, но тот повторил раздельно: «Пакет» — и попросил Сергея проводить его в «ванную комнату».
Жена осталась в прихожей, недоуменно комкая в пальцах двадцатипятирублевку. Она еще не пришла в себя, была слишком обескуражена свалившимся на нее горем, чтобы понять, о каком «пакете» идет речь. Чтобы вообще думать еще и о соблюдении приличий — деньги в конверте.
Правда, само достоинство купюры мэтра явно смягчило: Сергей и его жена были настолько неискушенными пациентами платной медицины, что еще не разбирались в иерархии ее неофициальных ставок. Потому и отвалили рядовому, в сущности, врачу профессорский куш — как отступную за страх. Словно хотели откупиться от надвигающейся беды. Беда уже надвинулась, уже грянула, им же хотелось надеяться, что она пока в пути и ее еще можно отвести. Что ж, долгие последующие месяцы научат их разбираться и в том, кому какого объема конверт подсовывать за традиционным чаепитием на кухне, а кому и неприлично давать конверт (конверта не хватит), а грамотнее, искушеннее презентовать, скажем, двухтомник Марины Цветаевой, сборник Высоцкого, или «Фаворита», или альбом Тулуз-Лотрека, или пластинку с записями песен из «Юноны и Авось».
Так хочется быть снобом! — особенно нам, интеллигентам в первом поколении.
По преданию, Наполеон Бонапарт, которому в первые, энергичные годы императорства просто недосуг было заниматься рутинным дворцовым флиртом, довольствовался тем, что приглашал самых изысканных дам Версаля, жен своих строптивых и рафинированных вельмож, к себе в кабинет, не отрываясь от бумаг, предлагал им раздеться, а потом, кинувши беглый насмешливый взгляд на смущенную очередную красавицу, повелевал ей, ждущей, быстренько одеваться. Удостаивал только взгляда. Не больше! Тем и ограничивался, экономя время для государственных дел. Время экономил, службу исполнял, владения приращивал, но так хотелось отличиться и в других приличествующих владыкам делах.
Тоже — император в первом поколении.
Увы, мнение мэтра в дорогой пиджачной паре совпало с мнением неоперившегося птенца, как потом, после, совпадали с ним приговоры и еще куда более дорогостоящих и респектабельных спецов.
— Только больница, — повторил врач по итогам осмотра, обращаясь почему-то лишь к жене Сергея, вставшей у двери, загородившей ему проход, будто решившейся стоять здесь до последнего, до тех пор, пока не свершится чудо исцеления. Пока ее заложник не совершит его. Только тогда можно будет ступить в сторону, выпустить его на свободу в обмен на здоровье матери. Сергей сам испугался выражения ее лица. Решимости и отчаяния. Нижняя губа закушена, в лице ни кровинки…
— Только больница, и немедленно, причем хорошая больница, — повторил врач вполголоса. — Иначе до утра может не дотянуть…
Он коснулся ее плеча, и странное дело: Серегина жена послушно отступила в сторону. А ведь казалось, легче будет сдвинуть гору. Одно живое прикосновение, и гора повиновалась.
Он и вышел совсем иначе, чем его юный коллега — зеленый пролетарий бесплатной медицины. Учтиво попрощался и даже коротко кивнул на прощание с порога. Что позволено юнцу, то не позволено мэтру — оплачено!
Остаток дня Сергей провел в попытках пристроить тещу в «приличную» больницу. День был воскресный, связей во врачебном мире он не имел, как, впрочем, и в иных подобных мирах, и дело решилось только поздно вечером. Опять приехала «скорая», он помог снести больную вниз, в машину, сам сел с нею рядом. Жена осталась дома, с детьми. И мальчишки, и Маша были напуганы, подавлены. Маша плакала.
В больнице Сергей тоже помог внести тещу в приемный покой. Ее переместили на больничную каталку, фельдшер «скорой помощи» ушел. Сергей остался. Приемный покой располагался в подвальном помещении: цементированные проходы, по которым изредка с гулом катили носилки на колесиках, метлахская плитка в комнатах, глубокая, непроницаемая тишина — как только замрет вдали грохот очередной каталки. Ощущение отрезанности, отъединенности от всех и вся. В этом плане приемный покой напоминал убежище. Наверху больничные палаты, капище ночных страданий, боли, здесь же — тишина, пронизанная тем же напряжением, ожиданием, что так характерны для всякого рода убежищ. Два мира, верхний и подвальный, подпольный, и где-то за стенами еще и третий, самый большой, в чью реальность здесь почти не верится. И грохочущие каталки с закутанными по самые подбородки, молчаливыми ношами — как всепроникающие вестницы этих трех миров.
Воющие патрульные «джипы» в глухое безвременье комендантского часа…
Единственное несоответствие с убежищами, забитыми обычно до отказа, — людей здесь почти не было. Тишина и пустота…
Больную принимала маленькая седенькая старушонка. Видно, давно на пенсии, подрабатывает на полставки, врачей-то кругом не хватает. Она была так молчалива (за все время не сказала ни слова), так долго что-то писала у себя за столом, копошилась, не производя ровно никакого шума, что сама казалась порождением тишины. Сгустком тишины, осадком.
Присесть было некуда. Сергей стоял у каталки, поглаживая закоченевшие тещины руки. Глаза у нее закрыты. Ноги у Сергея гудели, он сам уже воспринимал все как в полусне.
Наконец старушка поднялась, подошла к ним, стала осматривать больную, задавать вопросы, и Сергей понял, что она глуха. Потому и сидела молчком, потому и в вопросах старается обойтись минимумом.
Сергей помогал теще отвечать на них. Но не шепотом, как это делала недавно жена, а в полный голос, да еще наклонясь прямо к сморщенному, как заморенный груздь, ушку. Больная не понимала вопросы, врач не воспринимала ответы. Сергей метался между этими автономными мирами — каталка с ее печальной ношей.
Миры хоть и были автономными, не сообщающимися, но все равно походили один на другой: старость.
Сергей подумал о том, какая ж тогда тишина должна стоять в ушах у этой полуглухой старухи. Ее глухота, ее старость — как убежище в убежище.
Могильная…
Явились два санитара, молодые, но запущенные, явно пьющие. Один из них, с изумлением заметил Сергей, немой. Во компания: прямо как нарочно их подобрали, можно подумать, кто-то, формируя ночную бригаду, задался целью не оставить входящему сюда, съезжающему на грохочущей каталке, никаких надежд на выход. Служители Тартара.
Переодел больную в казенное барахло, неумело, неуклюже, смущаясь находившихся в комнате чужих людей, хотя они, особенно старушка, не обращали на него никакого внимания. Больная тоже, чувствовалось, стеснялась. Ее била дрожь: в этом каземате довольно прохладно, и процедура переодевания вышла особенно жалкой и неловкой.
Сергей спросил у старушки: не может ли он проследовать за больной в палату? Та ничего не ответила, занимаясь своими бесшумными и незаметными делами. Сергей повторил вопрос громче. Ощутил, как выжидательно напряглась тещина рука — та поняла, о чем речь.
Старушенция оторвала голову от своих бумаг, будто очнулась от бюрократических сновидений, взглянула блеклыми — тоже два выпавших осадка тишины — глазами на него, на его замершую тещу, подумала и слабо покачала головой.
— Там женская палата, — сказала тем обезличенным, хотя и громким голосом, каким говорят глухие.
Пожалуй, будь она помоложе или будь помоложе больная, которую привез Сергей, старуха не была бы так безучастна, и вполне возможно, что даже разрешила б ему подняться в палату, а там, возможно, ему и позволили бы остаться на ночь. Но старуха и сама была уже у роковой черты, и страх перед последним часом, и даже, похоже, равнодушие к нему, словом, она уже неспособна была (вышел, истощился горючий материал) на жалость к своей же товарке и вверила ее своим безразличным подручным по Тартару так, как если бы они и впрямь катили перед собой не каталку, а катафалк.
Немой, пожалуй, катил даже с некоторым мстительным, мстительно-равнодушным удовлетворением.
Сергей связал тещины вещи в узелок и медленно побрел вон.
На его «до свидания» старуха никак не отреагировала, даже голову не подняла от бумажек. Приход-расход…
В лабиринте этих казематов — корпусов в больнице чертова дюжина, а подземные ходы, вероятно, общие — немудрено и заблудиться, хотя они и были залиты ярким, ровным, бесстрастным светом. Сергей шкурой чувствовал обступивший его агрессивный холод и невольно прибавил шагу.
Дал деру.
Вот наконец и обитая жестью дверь. С облегчением увидел, что она, кажется, не заперта.
Вышел на улицу. Постоял. Шел снег. Разлапые плоские хлопья вначале летели на землю, на асфальт, а затем, подхваченные каким-то восходящим потоком, снова взмывали вверх, парили, порхали, роились, двигались то по касательной, то вообще наискось, наперерез основной массе, приближая процесс снегопада к хитроумному искусству ковроткачества. Тихо. Пусто. Слепо. Второй или третий час ночи. Правда, и тишина, пустота совсем другие. Движущиеся, пульсирующие, объемные. Живые. Ток дремлющего рядом города, ток снега — тоже как ток усталой крови.
Сергей плохо ориентировался в городе, да еще в такой непривычной обстановке. Долго не мог сообразить, какого направления ему держаться, и двинулся наобум — в поисках такси.
Можно сказать, что его сегодняшний полет начался тогда, с того ночного прохода по незнакомому почти ночному городу (а он действительно за все эти годы хорошо узнал в Москве только одно: дорогу из дому на работу в машине и дорогу с работы домой — тоже в казенной, разгонной — не путать с «персональной», персональная ему не положена, не по чину, машине; студентом-заочником и то чаще бывал в музеях, особенно в Третьяковке и в Пушкинском, в театрах, и даже ресторанах, словом — в Москве, а став москвичом, Москву забыл, не до Москвы ему теперь), мягко, ласково, неслышно атакованному с воздуха снегопадом.
Брел, засыпаемый снегом, как старая ломовая кляча, с узелком под мышкой, и мысли его мешались. Вспоминался вчерашний, теперь уже позавчерашний день, и все, что последовало, обрушилось за ним, чувство стыда и непоправимой вины, вытесненное было необходимостью энергичных действий, вновь овладевало им. Возвращалось — как возвращаются бесшумные ночные тени. И как ни пробовал успокоить, усыпить что-то в себе, спровадить — не изгнать, а деликатно, мягко, одной ладонью взявши за плечо, а другой в спину, в спину, но безоговорочно выставить, вытеснить этих непрошеных ночных гостей, — тени не изгонялись. Не вытеснялись. Клубились, сгущались, вели ночную пляску.
Что произошло — роковое стечение обстоятельств или закономерный финал? Позавчера произошло или значительно раньше? И только ли перед этой старой, зависимой от него женщиной он виноват?
Что произошло с тещей — он об этом теперь, в самолете, с помощью врачей — имел представление. Что происходит или уже произошло с ним, этого он не знал. Знал только, чувствовал: п р о и с х о д и т.
Тогда же подумалось: а ведь напрасно он оставил ее там, в больнице, одну. Надо было правдами или неправдами, а все-таки пробиться с нею в палату. Каково ей там сейчас одной? Он пытался представить путь, который проделывала она. Одна, точнее, в сопровождении двоих конвоиров, один из которых — немой. Вестник еще более дальней дороги…
Подспудно Сергей помнил, что его ждут дома, что жена там не находит себе места. Переживает: и за мать, да и, не исключено, за него. Ждет не дождется новостей. Но шагу прибавить был не в состоянии. И телефон-автомат тоже искать не хотелось. И устал: такой длинный-длинный день был у него позади. И не мог вырваться из плена своих невеселых мыслей. Прибавить шагу значило сбросить их, стряхнуть, чтобы ринуться вскачь. Сбросить… Они въедались в него, как споры пока неведомых растений. Они еще зацветут — бог знает какими цветами. Да и не хотелось ему торопиться: когда еще он побудет один, когда у него еще будет такая передышка — путь домой?
Предчувствовал: не скоро.
Как будто уже тогда предвидел этот сегодняшний полет…
Шел, куда ноги несли, махнув рукой и на такси. Да и как ловить его в этом кромешном снегопаде. Даже удивился, когда рядом с ним, вынырнув из этой движущейся, шевелящейся белизны — как вычурный парчовый, белой парчи занавес в театре, — проткнув, пропитав ее сперва двумя жирными пятнами света, а затем и капотом, притормозила машина.
— Пьяный, что ли? — просто и весело спросил, приоткрыв дверцу, шофер.
— Трезвый, — буркнул Сергей, продолжая шагать. Почему-то решил, что это милиция.
— Ну, тогда садись, подвезу, — все с тем же забавным, и, главное, редкостным для московской шоферни простодушием сказал шофер.
Машина его слабо ползла рядом с Сергеем — он и втиснулся в нее на ходу.
— А я думаю: еще собьют человека, надо бы подобрать, — с ходу продолжил шофер, прибавляя газу.
Он вообще оказался разговорчив, видно, боялся задремать, потому и притормозил, завидев возможного собеседника; Сергей из приличия время от времени что-то отвечал ему, и теперь его мысли, его т е н и кружились на фоне этой необязательной и так не соответствующей им болтовни: о раннем снеге, о бензине, о тружениках ГАИ…
Узел с тещиными вещами держал на коленях.
Жена действительно ждала его так, словно он должен был привезти ей весть о материном выздоровлении.
А рано утром, часов в семь, снова был в больнице. Жена пока осталась дома: надо было проводить в школу сыновей, пристроить к кому-то Машу — та в детский сад тогда не ходила.
Нашел неврологический корпус, поднялся на третий этаж, стал искать нужную палату. В коридоре полутемно. Горела одна настольная лампа — на столике у дежурной медсестры — да еще лампочка в другом конце коридора. Медсестра дремала, положив голову на обнаженный, мягко очерченный светом локоть. Будить ее Сергей не решился. Два или три человека ковыляли из конца в конец коридора. Туда и обратно. Именно ковыляли: кто волочил левую ногу, кто правую. У одного мелко-мелко тряслась голова, словно он что-то поклевывал на ходу, у другого она вообще выворочена набок. Еще день назад Сергей был так темен, что, встречая в жизни подобные уродства, чистосердечно считал их следствием физических увечий. Никак не думал, что волочащаяся нога может быть как-то связана с головой, с катаклизмами головного мозга. Сколько еще такого рода открытий предстояло сделать ему в ближайшие месяцы…
К людям, сосредоточенно дефилировавшим по коридору, обращаться тоже не хотелось. Они хоть и не спали, но, чувствовалось, пребывали в том состоянии, когда человек никого, кроме себя, не видит и не слышит. Замкнут, «зациклен» на себе.
Больница в ранний час. Неверная тишина, неверный покой…
Выход один: потихоньку заглядывать в каждую палату. Что он и сделал. Тещу увидел в первой же палате, в которую отважился приоткрыть дверь. Лежала, разметавшаяся, расхристанная, ноги съехали на пол, и какая-то старушка, тоже в больничной хламиде, согнувшись пополам, силилась поднять их на кровать. Сергей, не раздеваясь, кинулся на подмогу. Уложили, укрыли, поправили и стояли возле кровати — Сергей и чужая, еле-еле отдышавшаяся бабуля. Вот тогда, глядя на мучительно запрокинутое с бессвязно шевелящимися губами лицо больной, старушка и сказала слова, повторенные сейчас стюардессой:
— А она у вас красивая… — Помолчав, добавила с укоризной: — Что ж вы ее на ночь одну оставили? Нельзя было оставлять. Всю ночь металась, встать рвалась, куда-то идти, к какой-то Маше, несколько раз чуть не упала с кровати. Пришлось ее сторожить…
Тещина кровать стояла в палате пятой, дополнительной, у самой двери. Тесно. Люди на кроватях закутаны и неподвижны. Спали они или только делали вид, что спят? Если б не бабка и не теща, то и невозможно бы понять, женская это палата или мужская. Это была палата т я ж е л ы х — вот что определялось сразу, вот что чувствовалось в этой обманчивой тишине.
Соседка по палате, Серегина помощница, еще минуту постояла, повторила:
— Очень красивая старуха. Большая…
И направилась в свой угол.
Красивая, потому что большая… Что верно, то верно. Мать у его жены большая, рослая, сильная. Прорву работы за свою жизнь перевернула. А как сядет, бывало, в кресло, поднимет ладонь, изготовит ее, как поднимают, изготавливают правую руку, пускаясь в пляс, женщины на свадьбах — рука согнута в локте и легко приподнята, растопыренная розой распустившаяся ладонь делает неторопливо-лукавые вращательные движения: взад-вперед, взад-вперед, и движения эти, сама изготовка сопровождаются вступительным, п р о б у ю щ и м полы притопыванием да еще зазывным припевом, приговором, речитативом:
Охи-охи, девки блохи, А ребята комары. Девки ходят до полночи, А ребята до зари……да посадит на эту ладонь, как на табуретку, голопузую Машу, и Маша тоже в свою очередь поднимет правую руку и растопырит крохотные розовые пальчики и тоже крутит, тоже поводит этой своей только народившейся розой (полупрозрачной, рдеющей на свету, цедящей свет чашечкой шиповника) и тоже приговаривает, припевает что-то свое, и тоже топает ножкой, попадая в мягкую, теплую, большую бабкину грудь, — такой изначальной женственной силой веет от этой пляски!
Они действительно пляшут, оставаясь практически неподвижными. «Баба», как зовет ее Маша, — сидя в кресле, и Маша — располагаясь на своем табурете и только ногами на весу подпрыгивая: распашонка пузырится, глазенки блестят. Сиянием счастья мордаха ее может сравниться разве что со сдержанно-озорной, непривычно озорной, лукаво-озорной, округлой, как у луны, физиономией «бабы».
Да, может, матери, то есть Серегиной жены, вроде бы занятой домашними хлопотами, а на самом деле исподтишка наблюдающей и за этими двумя плясуньями, да и за Сергеем.
Танец. Гимн бесконечной жизни. Наверное, есть свой незатейливый смысл в том, что пляшут они («две Мотьки», — погоняет их, улыбаясь, жена) свадебный танец.
Такой, вероятно, и должна быть прародительница рода — сильной, сдержанной, даже в старости не лишенной женского обаяния.
Странная штука: ладони у них движутся легко и в унисон. Чувство такта, ритма, бог знает какими путями сообщившееся от бабки к Маше. Разница лишь в том, что у Маши-то ладошка пуста, продуваема светом и ветерком, а бабкина большая, тяжелая, с грузом. Впрочем, какой там груз — ладонь как облатка, грубая, корявая, но надежная, защитная. Как ложе, содержащее в себе этот невесомый венчик — Машу.
Есть в ботанике такое выражение — ц в е т о л о ж е.
Наши матери, наши бабки — наше цветоложе. А мы в свою очередь то же самое для своих детей и внуков.
Была сильной, такой, что, казалось, сносу не будет. Сейчас же остался только остов, и тот, кажется, усыхает с каждым часом.
…Рассказать девчонке, когда, при каких обстоятельствах впервые услыхал эту фразу? И о больнице рассказать, и не только о больнице. Не только о болезни. Не только о чужой болезни, которую он волею судьбы сопровождает, но и о том, что смутно мучает и его самого. О себе. Да разве расскажешь обо всем, тем более в такой ситуации. Даже смешно: посидите, пожалуйста, еще на подлокотнике, а я возле вас постою — рука на вашем плече — и все-все расскажу. Поведаю. Исповедуюсь — замечено ведь, легче всего исповедоваться перед людьми чужими, случайными, да они и слушатели самые благодарные, может, потому, что никаких реальных действий от них не требуется. Сиди и слушай, хоть бы вполуха. Коротай время. Удовлетворяй праздное любопытство.
Почему человек иногда разговаривает сам с собой? Да потому, что, не встретив такого слушателя, изобретает, открывает его в самом себе. Это он не говорит — это он слушает. Себя. Самый благодарный слушатель, хотя тоже, как правило, бездействующий.
Правда, что-то подсказывало Сергею, что э т о й рассказать можно. И что, возможно, тут не потребовалось бы долгого, полубессвязного — как сам с собой — потока слов. Где-то читал: подводная лодка поднимается к поверхности и в неуловимую долю секунды в зашифрованном, сжатом, спрессованном виде «выстреливает» по радиосвязи весь сгусток обширной информации. Представил себе, как, вспоров водную гладь, играющей рыбкой взлетает, выплескивается этот радиоимпульс, эта радиопружина, сжатая до звенящей убойной силы, чтобы продолжить полет в свободном эфире.
Пучок — не столько смысла, сколько ч у в с т в а: нервов, страсти. Это потом уже, приняв и расшифровав его по назначению — где-то за тысячи километров — чувство (не зря ведь и м п у л ь с) переводят на язык мысли, слов.
Она опять обернулась к больной, поправила простыню, погладила напоследок и поднялась. Повернулась к Сергею — черный, шелковый ночной шатер ее волос опять на мгновение раскрылся, и откуда-то из его сумеречной глубины опять пахнуло привядшей травой. Не хотелось думать, что это шампунь. Хотелось думать, что это запах, не привнесенный извне, а присущий самому ухоженному, подвитому шатру.
А что? — шатер и трава. Вполне естественно. Родственно.
Сергей улыбнулся.
Как ни широки проходы в аэробусе, а два человека все равно с трудом могут разминуться в них, и они опять оказались лицом к лицу. Его улыбку она заметила.
— Ну вот, вы уже и улыбаетесь, — сказала. — Повеселели. — Потом простодушно добавила: — А то на вас лица не было. Страшно было смотреть. И неизвестно, кого спасать в первую очередь — вас или больную.
— Спасибо. Вам бы служить не в авиации, а в реанимации.
Она энергично замотала головой. Шатер словно ветром надуло.
— Не-ет, я трусливая.
Тут уж они улыбнулись одновременно. Сообразили, как смешно звучит ее признание — на высоте одиннадцати тысяч метров. На высоте ее будничной службы.
Все-таки здесь, в хвосте, чтобы нормально разговаривать, нужно наклоняться друг к другу.
Сергей наклонился к ее уху, едва-едва, розовой мочкой выглядывавшему из-под волос — запах скошенного разнотравья стал еще ощутимее, — и сказал серьезно, даже серьезнее, чем намеревался:
— Вы не трусливая. Вы — хорошая.
Мочка из розовой стала алой.
— Перекусить хотите? — спросила, коротко взглянув на него.
Если бы не ее ухо, он и не понял бы, расслышала она его или нет. Да он и сам теперь стеснялся тона, который взял. И поторопился переменить его.
— Нет, спасибо.
— А то бы я принесла мамины бутерброды.
— У меня тоже есть бутерброды.
— Ну тогда мы произведем обмен! — выпалила и, не дожидаясь его возражений, заторопилась по проходу.
Сергей еще постоял над больной. Она по-прежнему дремала, и он опасался ее потревожить. Странная все-таки эта девчонка: ушла, упорхнула, а цепь, на какое-то время сомкнувшая их троих, не разрывается, и самый точный индикатор этого неспешного течения жизни по замкнутому кругу — покой, да что там покой — жизнь, заботливо, любовно обихоженной женщины, дремлющей сейчас перед ним. Можно ли назвать чужими людей, побывавших в подобной переделке?
Улыбнулся, вспомнив ее недавние слова: «Неизвестно, кого спасать в первую очередь…»
Степень беды — в степени неожиданности, вероятности, ибо беда, к которой притерпелся, уже как будто и не беда. Не зря говорят: стерпится — слюбится. Но с другой стороны — как не свыкнуться с бедой, не притерпеться к ней, чувствовать, осязать ее свежо и больно, ожогом, в каждом случае лететь на ее зов, словно в первый раз, словно вот эта девчонка с так хорошо, естественно пахнущими волосами? Как не смириться с бедой, с чьим-то увечьем, не терять надежды самому и не дать ей выдохнуться, избыть даже в самом обреченном ближнем, как научиться бороться за кого-то до последней черты?
И так ли уж все сделали они (кто они? — он!) там, в Москве!
Он замечает, что уже давно сидит на своем месте, на своей жердочке, благо больная по-прежнему не проявляет никаких признаков беспокойства. Словно недавнего катаклизма и не было, словно это был дурной сон. Какое-то время еще исподволь ждал стюардессу: вдруг действительно прибежит. С нее, судя по всему, станется. С мамиными бутербродами. Чудачка. Пожалуй, он потому и догадывается, что ей можно рассказывать, что уже знает наверняка: часть, толика, единица его жизни уже струится, циркулирует в ней. С самой первой и самой трудной минуты. Что она уже не чужая.
И еще об одном догадывается он: она не из тех, кто слушает вполуха, и мало того, что вполуха, необязательно, а еще и с заранее, загодя, изначально и вместе с тем намертво сложенными руками. Человек сердечного действия, порыва. Только вот чем она может помочь ему, е г о беде?
Стюардессы не было. Он понял, что там, в их служебном отсеке, куда она столь шустро устремилась, у нее нашлись, образовались какие-то свои неотложные дела. Не исключено даже, что получила нагоняй от старшей за такую длительную самовольную отлучку. Мысли его текли, менялись, смешивались, он погружался в них все глубже, и они — на дне — становились все тревожнее и неуютнее.
17
В свое время ты много помыкался по районам. В том же 67-м успел поработать и на Саратовщине — тоже в районной газете. Все газеты, включая районки, щедро писали на историко-революционные темы, искали героев, чествовали ветеранов. Вы тоже провели смотр «революционных сил» района, писали об участниках гражданской войны, конниках Буденного, активистах колхозного строительства. Тебе, разумеется, не терпелось отличиться. Как же! — двадцать лет, студент-заочник факультета журналистики МГУ, чернила кипят. Очень хотелось отыскать нечто необыкновенное, найти в районе какого-нибудь подзабытого пламенного революционера, чьего-нибудь сподвижника и написать о нем — так, чтобы весь район ахнул. Ездил в областной центр, копался в архивах, в редакцию вернулся с горящим взором: нашел! Узнал, что в одном из ваших сел, в Толстово-Васюковке, еще в двадцатом году открылся первый народный дом, расположившийся в бывшем божьем храме, и что командовал этим домом уроженец Толстово-Васюковки, «героический участник боев с белоказаками и иноземными интервентами, награжденный за храбрость именным оружием революции и вернувшийся в родное село по сабельному ранению» большевик Антон Башкатов. Кинулся с этим сообщением к редактору, в райком партии. Странное дело: о большевике Антоне Башкатове никто ничего не знал. Может, давно помер?
Хотя, может быть, в этом и состоит вся соль — в том, что о нем никто ничего не знает? В таком случае мы имеем дело с поиском и открытием, совершенным районным публицистом Сергеем Гусевым.
В Толстово-Васюковку районный публицист летел как на крыльях. Уже в автобусе стал расспрашивать старух об Антоне Башкатове. Старухи, возвращающиеся с пустыми корзинами с базара, пожимали плечами. И только одна из них, самая молчаливая, сидевшая отдельно от товарок, вселила надежду. Слушала расспросы, но до поры не участвовала в общей беседе — кого только не вспомнили бабули, пока доехали до Толстово-Васюковки. Череда замечательных личностей от попов до тридцатитысячников прошла, прошествовала со столь же замечательными характеристиками перед тобой. Кроме той, которую искал, — личности большевика Антона Башкатова. И лишь когда уже выгружались из автобуса и ты помогал бабкам, как тяжелым яйценоскам-гусыням, сходить, переваливаясь, с его ржавых ступенек, та самая, не принимавшая участия в разговоре и воспоминаниях старуха, сердито отведя и ей просунутую руку, сказала, обираясь, уже на земле:
— Сходи в мехмастерские.
И, повесив пузатую корзину на руку, степенная, в темном, двинулась — опять-таки в одиночестве — по улице. Даже со спины вид у нее был столь неприступен, что преследовать ее публицист не решился.
Мехмастерские… Неужели он еще работает — в мехмастерских? Пусть даже сторожем. Вот это была бы удача: ветеран гражданской войны еще в строю. Ты, конечно, чувствовал зыбкость своих обольстительных предположений и, чтобы хоть на какое-то время сохранить их, уберечь от возможного пагубного столкновения с действительностью (уже знал на своем куцем опыте, что действительность многообразнее, неожиданнее и беспощаднее идеальных «публицистических» схем), больше ни у кого не стал спрашивать об Антоне Башкатове, а узнал только дорогу к мехмастерским.
Мастерские на некотором удалении от села, на выгоне. Шагал, полный надежд и смутных опасений, указанной дорогой. Стояла середина октября, обычно красивое, яркое и спокойное время в этих местах на границе Поволжья и срединной России. Если и не пышное, не величавое, то, во всяком случае, и не поспешное, не впопыхах, не на бегу, а исполненное сдержанного достоинства природы увяданье. Но на сей раз накануне прошел дождь со свирепым ветром. Ветер и до сих пор не стих. Дул с отчаянными порывами. Подгоняемые им, высоко в небе, словно бесплотные волчьи тени, бешено неслись серые, голодные облака, обрывки облаков, туч, дождя, разметанного, рассеянного ветром. День холодный, неприютный, осень как бы враз вылиняла, краски ее потекли по былым чертогам грязными потеками. Почти вся листва сброшена, сорвана, деревья, встречавшиеся на пути, метались, терзаемые ветром, не как опавшие, а как ободранные. Выскубленные.
К удивлению, мехмастерские находились в старой церкви. Сомнений быть не могло: в указанном направлении располагалась только она. И в церковном дворе, и, не помещаясь за полуразрушенной оградой, вокруг церкви стояли тракторы и машины. Церковь оказалась большой, осанистой, красного кирпича, с длинной, крытой позеленевшей, как рыбья чешуя в тине, черепицей пристройкой. Храм. А может, и монастырь при храме был — уж больно поместительна пристройка к нему. Церковь, видно, раньше стояла если и не в центре села, то на его излучине, по касательной к селению. С годами же, по мере того как она теряла свою власть над селом, селение все отдалялось и отдалялось от церкви, строилось в другом, «светском» направлении: поближе к центру, к правлению колхоза, к магазинам, пока и без того слабое касание не утратилось совсем. Они разомкнулись — церковь и село. Полоса отчуждения легла между ними. Село помаленьку развивалось, церковь стремительно хирела. Вследствие этого развития, умножения у села и возникла в ней новая, теперь уже сугубо материальная, утилитарная нужда. Негде стало хранить прибавляющуюся технику, вот и решили воспользоваться храмом. Очень капитальным, самым капитальным в Толстово-Васюковке сооружением.
Рассуждая на сей счет, ты и подходил к церкви. Подойдя вплотную, обратил внимание, что в мастерских-то, пожалуй, никого нет. Машины, тракторы, плуги, сеялки стоят, а народу не видать. Только тут пожалел, что сгоряча дунул в Толстово-Васюковку воскресным днем: не мог дождаться понедельника. Но делать было нечего. Надо войти внутрь и попытаться найти хоть одну живую душу. Не могли же всю эту технику оставить без присмотра. А может, он и в самом деле работает сторожем? — надежда еще не покидала тебя.
Живую душу нашел. Сама нашлась. С внешней стороны церковный забор опоясывали запущенные заросли кустарника. Все тут было вперемешку: сирень, одичавшая смородина, желтая акация. Летом сквозь них не продраться, но сейчас все голо, жалко, сиро. Обломанные и ободранные непогодой ветви, скребущиеся о полуразрушенный, осыпающийся кирпич. Да еще под таким тоскливым, неспокойным небом. В этих кустах и бродила, пробиралась, не обращая внимания на цеплявшиеся колючки и ветки, живая душа. Душа была в ермолке и в замызганной хламиде, не поддающейся ни описанию, ни определению. На ногах имела стоптанные кирзовые сапоги с подвернутыми голенищами.
Несмотря на всю эту странную, но вместе с тем еще материальную одежду, душа выглядела такой тщедушной, скрюченной, бесплотной, что казалось: лишь стоптанные пудовые кирзачи с навернувшейся на них грязью удерживают ее на бесприютной земле. Занятие у нее, насколько успел заметить, странное: собирала среди кустов всевозможную рухлядь и бережно засовывала в торбу, болтавшуюся за спиной. Какие-то опорки, всякую рвань — их сначала сурово исследовали палкой, поворачивая то одной стороной, то другой, а потом, в случае удовлетворенности осмотром, той же отполировавшейся от долгого служения палкой поддевали и спроваживали в торбу.
Летом все это старье было заткано листвой, зимой его завалит снегом. Вероятно, заросли давно использовались здешними жителями в качестве свалки; это был фильтр, сито, поставленное поперек течения деревенской жизни. И чтобы выгрести его, надо было в самом деле ловить момент, пользоваться межсезоньем, оголившим на какое-то время содержимое сита — неприхотливые отложения провинциально струящегося быта.
Сапоги, хламида, ермолка вполне могли пополнить здешние залежи.
Ты тоже направился в кусты, поздоровался, спросил, где найти товарища Башкатова.
Отвечено тебе не было: палка как раз делала смотр очередному опорку.
Повторил вопрос громче, наклонившись вплотную к ермолке.
К тебе недовольно обернулись, на тебя взглянули снизу вверх. По задранному мичуринскому клинышку ты понял, что душа — мужеского пола.
Человек стал молча выбираться к воротам, и по энергичному движению бороды (как хвост у трясогузки) ты понял, что предложено двигаться за ним. Вошли в ворота, потом прошли внутрь храма. Здесь тоже стояла техника, пахло газойлем и солидолом, на полу лежали приготовленные к ремонту узлы и агрегаты. Пересекли его и двинулись в пристройку. Здесь проход сразу сужался, окна располагались редко, были узки и находились под самой крышей. Их вялый свет не достигал выщербленного каменного пола, таял, как первый снег, не долетая до земли. Старик ковылял, что-то неразборчиво шепча себе под нос, корреспондент следовал за ним. На какое-то время стало не по себе. Куда он ведет? И эта безлюдность, и мертвая тишина вокруг. По правую руку время от времени попадались узкие, крепко траченные временем двери. Кельи? Тогда тут и впрямь был монастырь. Сумрачность, затхлость, дыхание поверий и старых, пугающих тайн.
И кто он, этот старик, что идет не оборачиваясь и в то же время в полной уверенности, что ты как на веревочке послушно следуешь за ним?
Вы как будто спускались куда-то — ниже и ниже.
Читатель, конечно, уже догадался, что это и был Антон Башкатов. А вот ты сразу не сообразил, не усек, что перед тобой-то и есть, и бродит в церковных зарослях душа большевика Антона Башкатова! Не догадался… Уж больно разными они оказались: романтический образ Антона, который уже успел-таки родиться в твоем горячем воображении, и этот реальный старик в кустах — сам как достояние сита. Фильтра.
Да, то и был Антон Башкатов. Собственной персоной! Душой…
Он открыл одну из узких рассохшихся дверей, и вы точно оказались в келье. Тоже узкая, с высоченным потолком и со стрельчатым окошком, из которого сеялся все тот же вялый, неяркий свет. Деревянный топчан, застланный ватным одеялом не первой свежести. Груда книг и старых, изодранных журналов на нем. Старый, первых выпусков радиоприемник «Ригонда» в углу прямо на полу. Голая двухсотсвечовая лампочка под потолком: храм, разумеется, был электрифицирован.
Минимум, сделавший бы честь и иному схимнику.
И все же это был второстепенный минимум.
Главным было следующее.
Вся противоположная от топчана сторона чуть ли не до потолка завалена опорками. Сапоги, валенки, ботинки, туфли — вернее, то, что было когда-то сапогами, валенками, ботинками, а сейчас было преимущественно рванью. В торце же кельи стоял сапожный верстак, перед ним низкий сапожный стульчик с сиденьем, вырезанным из голенища кирзового сапога. На этом стульчике и сидел в данную минуту товарищ Антон Башкатов.
Ты расположился на топчане.
Антон Башкатов, надо заметить, как только вошел, отставил в сторону торбу, стянул хламиду, умостился на стульчике, обвязавшись предварительно на удивление аккуратным, никак не соотносящимся с остальным гардеробом кожаным фартуком — ты и раньше замечал за мастеровыми этот особенный форс: идет анчутка анчуткой, зато ящичек с инструментом блестит на солнце, как отполированный, — посадил на нос очки с круглыми стеклами и молча принялся за прерванную работу. Ставить латку на ботинок, который лежал, дожидался его на верстаке.
Кроме рваного ботинка был на верстаке еще один предмет, который сразу же привлек внимание. Чернильный прибор, и не абы какой, а мраморный, с голубыми прожилками на бледном, дородном, купечески-холеном теле. Две чернильницы с откидными колпачками, стакан для карандашей и ручек (гусиных перьев?), пресс-папье: нежная канавка в мраморе — как ложбинка меж пухлых грудей. И все это — на могучем, килограммов в пять, постаменте.
О эти мраморные письменные приборы! Много лет спустя столичная Газета, в которой ты тогда работал, обратилась к читателям с просьбой присылать в редакцию старые фотографии из семейных альбомов, имеющие отношение к нашим зоревым годам. Фотографии пошли. Нельзя сказать, что их было множество. Нет. Вероятно, их вообще не так много — фотографий тех начальных лет. Да и те карточки, что были, сохранились, дошли до потомков, немыслимо выдирать из семейных альбомов и слать куда-то в редакцию в неопределенной надежде, что их напечатают или хотя бы вернут. Обращаясь к читателю, как-то не учли это простое обстоятельство. И тем не менее за несколько месяцев фотографий поднакопилось порядочно. И оригиналов, и копий. Шли и шли они потихоньку, пересекали страну во всех направлениях, плыли, покачиваясь, в сегодняшнем дне — вестники времен минувших. Как листья на тихой воде. И вот в урочный час все оказались разложенными у тебя в кабинете. Пол застелили газетами, на газетах разложили фотографии. День вчерашний пристально смотрел с беспокойного лона дня сегодняшнего.
Стал их рассматривать вкупе, осторожно ступая между ними, и обнаружил: почти на всех фотографиях люди изображены с двумя непременными атрибутами. Либо с оружием в руках, либо с писчебумажными принадлежностями. С оружием даже реже, чем с ручками, карандашами, бумагами, а то и с рукой, пугливо возложенной на телефон. Ручки и карандаши наизготовку, и даже, кажется, слышен их сосредоточенный скрип по бумаге. На одной фотографии за столом снялась одна комсомольская ячейка. Парни и девчата вперемешку. Короткие прически, косоворотки, юные прямые взгляды. И у каждого в руках — какая-либо из деталей мраморного, разъемного чернильного прибора. У кого стакан, у кого чернильница…
Что им оружие! Оружие было привычнее. Эти, другие атрибуты другого мира куда более внове. И поэтому — желаннее. И потому по молодости лет ими и хотелось похвалиться, обладание ими засвидетельствовать перед вечностью или хотя бы перед своей далекой и близкой родней. Да, за этими атрибутами стояла грамота, к которой они так рвались и которой, освоив хотя бы ее зачатки, так гордились.
Но не только она.
За ними стояло большее — Власть.
Кто до революции больше всего мордовал простого человека? Царь? Министр иностранных дел? Министр внутренних дел?
И все же надоедливее всего, въедливей всех (бог высоко, царь далеко, а этот вот он, впился, всосался прямо в загривок) мордовал чиновник. Бюрократ. Сатрап с ручкой или с гусиным пером.
Вот он, вожделенный скипетр: ручка с пером. Ручка и телефон.
Власть переменилась!
Народовластие — это народ, вооруженный пером.
Факт народовластия свидетельствовали стихийно эти наивные, покинувшие насиженные гнезда семейных альбомов фотографии.
Если палку перегнуть в одну сторону, то, разгибаясь, она излишне выгнется в другую. Перекос с нашей бюрократией — не является ли одной из его причин столь крутое и долгое (до семнадцатого года) отлучение людей от пера?
В роскошном чернильном приборе торчала обгрызенная ученическая ручка. Амбарная тетрадь лежала, раскрытая, рядом. Бумага в тетради желтая и даже на вид жесткая, грубая, чем-то сходная с хлебом голодных лет: плохой выпечки, со следами лебеды и опилок, примешанных к муке с отрубями. Зато почерк, которым покрыта бумага, поражал своей изысканностью. Как будто на бумаге, как на пяльцах, распяли ажурное кружево. Тетрадь тоже запомнилась. Ты сам с той поры питаешь слабость к амбарным книгам.
Оба молчали. Ты в недоумении, дед — с полным пренебрежением к тебе. Безразличием. День за непробиваемой, зажелезившейся стеной шел на убыль.
— Красная Армия разута и раздета! Войска Михаила Фрунзе в обмотках форсируют Сиваш! Красная Армия нуждается в сапогах и валенках! Ввиду исключительности момента разрешено ношение неуставной одежды и обуви вплоть до ботинок из свиной кожи — этой принадлежности империалистических армий — и лаптей! Красной Армии необходима помощь всего трудового народа!
Он кричал, не переставая орудовать дратвой и щетиной, — вероятно, был сапожником старой выучки и не признавал крючок, это нововведение в сапожном деле. Пользовался шильцем и навощенной свиной щетинкой: крючок делает слишком большие проколы, шильце и щетинка же, заменяющая иглу, пришпандоривают латку герметически. Времени уходит больше, зато качество латания выше.
Ни капли гнилой сивашской влаги не проникнет через такую латку!
Голос у Башкатова оказался звонкий, мальчишеский, бородка опять тряслась, как уже не единожды цапнутый кошкой хвост у трясогузки.
Да, Антон Башкатов был болен. Так давно болен, что люди и забыли уже о нем. Забыли его фамилию, имя забыли, забыли, кем он был, Антон Башкатов. И знали — только такого.
Сухопарая старуха в темном, что единственная вспомнила его, — как бы она не была из тех нескольких монахинь, которых комиссованный, порубленный белыми красноармеец Антон Башкатов выкурил когда-то из божьего храма, приспособив таковой под народный дом. Уж она-то его, окаянного, запомнила навек. И не простила — даже такого, блаженного. Он выдворил ее в мир, но она его волюнтаристского дара не оценила.
Его забыли. Помнили только по его виду да по приписке к храму, то бишь мастерским. Живет там один, пишет что-то в амбарной книге… Писарь. Душа, она и есть душа: без имени, фамилии, без особых материальных примет.
Люди его забыли, он же их не забыл. Ничего не забыл участник сивашского перехода Антон Башкатов. Помнил!
Ты тогда ничего не написал о нем. Вернулся в редакцию растерянный. Тебя расспрашивали о большевике, интересовались следами: нашел или нет. Ты буркнул, что большевика нет, на том разговоры и закончились. А со временем и сам стал забывать о нем. А тут вспомнил. Резко, ярко. Муртагин, наверное, разбередил. Щуп какой-то просунул до самого дна, до самой «мантии», сквозь мантию — и оттуда ударила горячая цевка.
Как же это нет большевика? Есть, черт возьми, имеется в наличии! Как раз большевик-то и есть!
Сумасшествие само по себе не новость. Всю жизнь люди сходили с ума. На почве ревности, сребролюбия, властолюбия. Не выдержав обрушившегося горя…
Здесь же человеком овладела совсем другая идея. Иного порядка, иного регистра. Идея добра и сочувствия людям. Идея несправедливости. Она и раньше владела им, а на каком-то этапе, на каком-то повороте его жизни стала всеобъемлющей и всепоглощающей. То, чем человек жил, болел, стало его душевной болезнью. Не на почве корысти — на горных породах.
Такого сумасшедшего можно не только жалеть.
Голос — запомнил. Как он больно бился в тесной келье, обламывал крылья о ржавые стены, о стекло в высоком стрельчатом окошке, к которому с обратной стороны уже приложилась тугим, заросшим ухом осенняя деревенская темнота и тишина.
Тогда ничего не написал о нем, но теперь, когда возвращался со Степаном Полятыкой в часть, воспоминание о нем проснулось, очнулось протяжным, бередящим душу эхом.
Раз в полгода к Писарю приезжает повозка из соседнего района, из детского дома. Пацанва собирает старье со всей округи, ходит не только по задворкам, но и по дворам. Явится, молча станет в дверях, как некий непреклонный представитель продразверстки. Обувьразверстки. И вид у него при этом совсем не нищенский! Не просительный. В твоем селе нищих несколько пренебрежительно звали «кусочниками», походя выделяя в них тунеядствующую праздность. Кусок дать дадут, но вдогонку, для детей — в порядке поучения — назовут кусочником. С высоты своей трудолюбивой зажиточности.
Нет, тут на пороге дома стоял не кусочник.
Ты записался в Красную Армию?
Которая штурмует Сиваш в лаптях и обмотках.
И хозяйки безропотно несли выношенную (а порой и просто ношеную, надеванную) одежку и обувку к ногам бессмертного старца. Тот строго обследовал ее палкой, а обследовавши и признавши годной к починке, поддевал и засовывал в торбу.
Очевидное гнилье свирепо отшвыривал назад, в сени, к зардевшейся — не удалось провести революционную бдительность — хозяйке.
Правда, мало кто решался надуть его: люди знали о повозке, что раз в полгода навещала старика.
Он помогал хозяйкам поддерживать в доме чистоту и порядок. Добровольный чистильщик, мусорщик, трубочист. Тряпичник. Только тряпичник оставлял людям взамен денежку, свисток, резинку или игрушку, этот не оставлял ничего.
Ничего материального. Потому что нечто другое все-таки оставлял. Даровал — людям, что еще минуту-другую смотрели с порога ему вслед. Удалявшемуся с торбой на костлявой, гнутой, словно металлический обод, спине.
Отпущение грехов? Или, напротив, — ощущение тревоги и безотчетной вины, настигшее как это позже и тебя?
У наезжавшей братвы старик требовал приема амуниции по списку, по реестру. Составлялся акт — с подписями, с печатью, которую ребятишки ставили с особым азартом, таковой служил ластик, обрезанный под треугольный штемпель военно-полевой почты. Вместе с обносками он каждый раз припасал для них мешок-другой отборной картошки. Считалось, что это — его юные добровольные помощники, которые берут на себя дальнейшие хлопоты по доставке вещей и провианта до станции, откуда и то и другое направится прямиком в действующую армию.
Считалось… Никто не знал, что он считал на самом деле. И что знал, а чего не знал. О чем догадывался и о чем нет.
Что горит на детях так же, как на солдатах? Обувка…
Нет, возвращаясь со Степаном в часть, вы не бежали, не скакали, взбрыкивая, как два жизнерадостных стригунка. Шли, погрузившись каждый в свои мысли и воспоминания. Муртагин разбередил.
18
Что он знает о жизни человека, который лежит сейчас перед ним? И который прожил с ним бок о бок много лет. Он, журналист, который уже в силу своей профессии должен интересоваться чужой жизнью. Он и интересовался — уезжая, улетая подчас за тысячи верст от родного дома. За тысячи верст — интересовался, а тут, под одной крышей с ним жила чужая жизнь, которую он почти не знал и которой почти не интересовался. Жила неузнанной — его устраивала их взаимная автономия.
Боялся амортизации души?
Хотя какая там автономия — она-то от него зависела. Крепко зависела: не могла долго жить без Маши, без дочери. А когда была под его крышей, ела его хлеб. Уже поэтому первый шаг должен был бы сделать он — щадя ее достоинство. Он же едва ли не подчеркивал свою независимость, отчужденность от нее, спокойную, добропорядочную. Все было очень пристойно, без каких-либо анекдотических ситуаций, случавшихся в других семьях, и вместе с тем — никак.
— Ты что, обещала ему с вечера капусты потушить? — кричала в запальчивости жена своей матери.
А та не могла это обещать ему хотя бы потому, что он никогда б не попросил у нее тушеной капусты. Он и разговаривал-то с нею порой только через жену, как через переводчика.
Она бы, может, и хотела пересечь ровно вспаханную, аккуратную полосу отчуждения, «заступить» по простоте душевной, как «заступают» прыгуны в длину, да уже побаивалась его. Независимого.
А так ли уж независим он был от нее? Жена даже ласковее становилась, когда к ним приезжала ее мать. Наверное, потому, что сама обращалась в девочку, в дочку. Что уж говорить о Маше — вот уж кто неутомимо сметывал все расползавшиеся края. Бабка в ней души не чаяла, и Маша платила ей той же монетой. Переносчица любви, главный инструмент диффузии.
Да, диффузия между их мирами все же была, свершалась исподволь. Просто он слишком старательно делал вид, что не замечает ее.
Слишком старательно и долго.
…То ли солнце переместилось, то ли самолет относительно солнца переместился так, что яркий блик упал через иллюминатор на лицо больной, у нее вздрогнули ресницы, и, боясь, как бы она не проснулась, не забеспокоилась, Сергей, поднявшись, задернул шторку, потом еще до самых губ прикрыл ее лицо платком. Взмахнув, опустил его, не расправляя особенно, ей на глаза и потом надвинул поглубже, как бы защищая от загара.
Раньше в его селе ни детских садов, ни яслей не было, с бабками ему тоже не повезло — отсутствовали, и ребенком, находясь безотлучно при матери, а значит, и при ее работе, Сергей не раз наблюдал, как вот так же, насунув глубоко на лицо белые платки, отдыхали женщины, колхозницы в тени под сараем или под деревом. Особенно в пору уборки хлебов, на току, в послеобеденный час, когда степная жара становится совсем нестерпимой. Подстелют фуфайки или прямо так, на горячую землю или на травку, улягутся, подсунув под голову какой-нибудь узелок, платками закроются, шаль или пустой амбарный мешок на ноги накинут, чтоб нечаянный ветерок не задрал их подолы, и отдыхают, соснут маленько. А солнце-то движется, не стоит на месте, и тень тоже передвигается. Ложилась в тени, а глядишь — тень-то уже и съехала с них. А женщинам лень подниматься, переходить на новое место, ранняя, зоревая побудка, тяжелая работа, жара сморили их, и они ограничиваются лишь тем, что в полудреме, считай неосознанно, все глубже и глубже надвигают, насовывают на лица свои белые, выгоревшие, взбрызнутые водой косынки. Тем и спасаются. Мужик случайный пройдет рядом, ухмыльнется: бабы-то хоть и под мешками, а лежат, выгнув крутые, тяжелые бедра, как на подбор. Как буренки вокруг водопоя. Лица вот только — все равно, правда, загоревшие, почерневшие за лето под нещадным солнцем — одинаково, по самые подбородки, занавешены этой белой чадрой. Да что лица — с лица, как известно, воду не пить.
Мать и Сергея укладывала рядом с собой, но ему становилось скучно и душно вот так, смирно и бездеятельно, лежать среди сомлевших, пышущих жаром теток. Они вбирали солнце так же, как впитывало его зерно, собиравшееся на току, или замершее от зноя дерево, как впитывала его, заполняясь им до отказа, через край (и то, что было ч е р е з к р а й, дрожало, переливалось по горизонту горячим маревом) сама степь. И он потихоньку выбирался из-под ласкового плена дремотной материнской руки, с трудом перешагивал через материных товарок и ковылял к своим одиноким забавам…
Лицо больной было накрыто, и оттого руки ее — тоже на белом — сразу бросались в глаза. Да, они заметно похудели, побледнели. И все-таки болезнь словно облагородила их. Кожа помягчела, истончилась, теперь она едва ли не светилась. Все, что было под нею: кости, переплетение вен и сухожилий, — все стареющие, износившиеся, потерявшие упругую силу стропила проглянули сквозь нее, как сквозь прохудившуюся кровлю. Их опустили в болезнь, и они в ней, что называется, отбелились — и многолетний загар, и никакими водами и щелоками не смывающиеся мозоли, и сила — все сошло, растворилось, осталось в ней.
Жалкими стали руки. Необязательно было заглядывать в лицо — руки сообщали все.
Неожиданно вспомнилось, как однажды в Москве его навестила крестная мать.
Крестная у него хорошая. Привечала его и когда мать жива была, без гостинца к ним не приходила, к себе зазывала, покормит, по голове погладит. Своих трое, а все равно и его, как своего, жалела. Пожалуй, даже иначе, чем своих, тоньше. Жальче. Своих — кровнее, неизбывнее, на то они и свои. А его — тоньше, с нечаянно выскальзывающей слезой: безотцовщина. А когда мать, ее подруга, умерла, жалость стала еще острее. Виноватее, что ли. В интернат приезжала — с брезентовой сумкой, с узлами, с пирогами. В черном плюшевом жакете, в полушалке, неловкая, робеющая перед их интернатской оравой. Разыщет она его и прямо здесь, в коридоре ли, во дворе ли, начинает потчевать деревенскими гостинцами. Возле них сразу собирается разнокалиберный табор, преимущественно мелкота, и, протягивая руки, потчуется тоже. Во дворе ли, в коридоре крестная всегда образовывала веселый затор, толчею наподобие тех, которые производит крошка хлеба, брошенная в аквариум с мальками. Прожорливые рыльца поддевают ее с разных сторон, кружат, и она на глазах тает — таяли оклунки и припасы.
Голодными они не были, да и не бог весть какие лакомства привозила крестная. Детвора окружала ее, как сколок домашнего тепла. Потереться об ее плюшку, понюхать, потянуть задранными носами степного воздуха, который крестная тоже привозила с собой — в узлах, в складках жакета, в волосах. Многие из интернатских, «инкубаторских» мальчишек и девчонок тоже были родом из сел, многие росли без матерей.
Сергей и стеснялся ее приездов, и ждал их, воздуха, воли, д о м а ему здесь тоже не хватало.
Ездил к ней на каникулы. И сам ехал, и двух младших братьев брал с собой. Они некрещеные, мать их окрестить не успела, крестных у них нет, и его крестная стала крестной и им, тогда совсем еще маленьким.
А с годами, когда оторвался, отпочковался и от села, и от интерната, связь с нею ослабела. Теперь уже не он ее, а она его стала стесняться. Тушевалась перед ним — грамотный, в самой Москве живет. В селе он бывает редко, раз в четыре-пять лет, и то мимоходом. Сразу — на кладбище, а уж после кладбища зайдет к ней, посидит, рюмку выпьет, платок ей оставит и — опять на автобус, в райцентр, а там дальше, куда-то по своим служебным неотложным делам. Потом уже не на автобусе стал приезжать, а на легковой машине, и не один, а еще и с человеком, провожавшим его «от Ставрополя, от края». Крестной бы гордиться, а она стала стесняться его еще больше. С этой машиной он еще торопливее. Крестная машину невзлюбила: стоит перед хатой, уткнувшись мордой в ворота, как недоеная корова. Она уж и приваживала ее: и шофера обедать усаживала, и с о п р о в о ж д а ю щ е г о ублажала, угодить старалась. А Сергей все равно спешил: машину казенную, мол, неудобно держать (что ей станется, железке-то?), к вечеру, засветло надо поспеть опять в Ставрополь или в другой район. И шофер, бесстыжий, поддакивает: да-да, чем раньше выедем, тем лучше. Ни обедом их, этих городских начальственных шоферов, не проймешь, ни парой-тройкой отборных арбузов, что уже вынесены, уложены ею в багажник за труды. Лучше б на лошади приезжал. Лошади дай сена или торбу с овсом подвяжи к морде, и никуда она торопиться не будет. И человека с родины, из гостей торопить не станет. Лошадь — она понимает. Не железная…
Завидев его, крестная всякий раз изумится, руками всплеснет и точно так же искренне, по-девчоночьи изумится потом его очередному городскому платку.
Почему-то каждый раз привозит в подарок платок. Проще подарка не сыскать. Да и места в портфеле не занимает.
Поездки все реже и реже. Уже и не вспомнить сразу, когда был в последний раз. Сейчас вот тещу довезет, сдаст шурину, шоферу по специальности, а сам съездит в свое село. На кладбище, потом к крестной. Обязательно съездит.
И к братьям надо съездить. Сколько же он не был у своих братьев, живущих здесь же, в крае, в городке под названием Изобильный? И они почему-то давненько у него не были.
Ты не задумывался, почему они так давно к тебе не приезжали?
Крестная же теперь к нему не приезжает. Ездила, пока был мальчишкой. Пока, считала, была в ней нужда. Пока он сам знал, чувствовал нужду. Нужду в ней и нужду как таковую. Правда, тогда он не считал себя ни бедным, ни обойденным. Счастливая пора, почти лишенная осознанных материальных забот — одни метафизические. Только когда она безвозвратно улетает, понимаешь: то и была нужда.
Восславим нужду, которую не замечаешь, которую, грустно отводя глаза, замечают лишь окружающие.
Нужда была исчерпана, и вместе с нею исчерпалась необходимость в крестной. Это узы кровного родства люди принуждены волочить за собой даже в том случае, если они давно отмерли, изжиты. Сергей стал взрослым и — раз в Москве — само собой разумеется, зажиточным. В Москве — все есть…
Нужды, нехваток он теперь, по ее представлениям, не знал. Хотя в обращенном на него взгляде Сергей по-прежнему угадывал жалость. И от этой жалости у него, особенно после кладбища, после рюмки, першило в горле. Он уже был в том возрасте, когда сиротство тоже становится не материальной бедой, а скорее метафизической. Но такую нужду — и крестная это понимала, чувствовала — не избыть. Чем она нематериальней, тем труднее поддается выдворению. Ухватиться не за что.
Они отдалились друг от друга, исчерпали необходимость друг в друге — он в ней необходимость, она в нем участие — стали видеться реже и реже.
Г о р е израсходовалось, хотя она тоже понимала, что израсходоваться вчистую, без остатка, без горечи, переродиться оно все-таки не могло, потому и смотрела на него, взрослого, полнеющего, с машиной и сопровождающим, едва ли не с тем же состраданием, что и в интернате.
Вроде он на всю жизнь там заточен — в интернате.
И вот — приехала.
Заехала случайно: добиралась в город Киров, где у нее после службы в армии остался, женившись на северянке, младший сын. До Москвы добралась, а до Кирова билет взяла только на утро. Уже собралась было заночевать на вокзале, расположилась со своими узлами и оклунками, да в последний момент решилась — попросила соседку по скамейке позвонить по телефону, что записан был у нее на бумажке: Сергей однажды оставил, и она сохранила.
Та позвонила, Сергей поехал на вокзал, привез крестную домой.
Это было ранней весной, теща как раз жила у них, но уже собиралась на родину — домой, к огороду.
Теща и крестная мгновенно нашли общий язык: дом, огород, дети…
Поздно вечером, когда скромное, на скорую руку, застолье уже закончилось, когда дом уже засыпал, Сергей пошел на кухню вытащить оттуда засидевшуюся неугомонную — особенно при гостях — Машу. Застолье было на кухне, теща и крестная теперь убирались, и Маша застряла у них. Подошел к застекленной двери и остановился. На кухне уже царил полный ажур: посуда вымыта, убрана, все блестит. Старухи сидели за столом, на котором праздничная скатерть уже заменена клеенкой. Расположились друг против друга и пили из блюдечек чай. Блюдца высоко подняты, каждая держала свое в правой руке, упиравшейся локтем в стол. Пальцы растопырены, темные, узловатые, неловкие. Нежные скорлупки дорогих блюдечек, в которых и чай-то просвечивал, как яичный желток, и которые старухи держали с пугливой осторожностью, оттеняли эту натруженность и корявость. Сергея поразило сходство этих мирно беседующих рук. Да, впечатление было такое, что беседуют не люди, а их руки. Хорошо, лучше, чем лица, освещенные, они мягко двигались навстречу друг другу, поворачивались, кланялись. И все опять было, как и в случае с его матерью: крестная внешне не походила на тещу, а вот руки у них — одинаковые.
У всех троих одинаковые. Правда, мать была лет на двадцать моложе их, сегодняшних, но руки у нее всегда были старше нее.
Эти женщины нашли даже не общий язык, а другую, еще более существенную общность — рук. Потому и знакомство их состоялось так легко и естественно.
— Дояркой работала? — послышалось из-за двери как бы в продолжение его раздумий.
— А как же, — охотно отозвалась крестная.
Мать у него тоже работала дояркой. И дояркой — тоже.
Маша сидела между ними, прямо напротив Сергея, подперев щечки двумя крепенькими и розовыми кулачками и поводя темными глазенками то вправо, то влево. То к одной руке, то к другой.
Может, как раз благодаря этой корявости бабкины руки и обладали для Маши дополнительным притяжением? Сергей втайне ревновал дочку, наблюдая по вечерам, с каким самозабвением ластится та к темным тещиным ладоням. Липнет — каждым волоском. Трещинки, морщинки — они как бы для того и предназначались. Тоже диффузия, взаимопроникновение.
О какой же автономности миров можно говорить, если солнышко у них одно! Маленькое, вертлявое, хворающее, но такой насыщенной, взрывной концентрации тепла, что его в доме хватает на всех.
Причудливо все-таки устроен человек. Все, что еще несколько минут назад так мешало Сергею — и гул самолета, и обилие незнакомых людей, в чьем молчаливом, но неусыпном плену он пребывал, — все теперь, когда опасность миновала, обратилось во благо. Не рассеивало его внимания, не отвлекало его силы, а было неназойливым фоном, на котором спокойно и сосредоточенно текли его мысли…
Что он вообще знает о ней? Знает ли самое существенное — может, оно теперь с ее катастрофически нарастающей немотой и уйдет навсегда в забвение? В забвение — для него, ограничившегося этим бытовым, скупым, оскопленным представлением о человеке: «здравствуйте», «до свидания», «тушеная капуста»…
Что было существенным? Война? Да, она ведь была на фронте, служила в санитарном эшелоне. Откуда он это знает? От жены? От тещи?
От Маши! Ну да, конечно, от Маши. Приходит однажды с работы, открывает дверь, а Маша, заслышав, как он возится с замком, уже поджидая его в прихожке, кидается ему на шею, обнимает и горячо кричит ему прямо в лицо:
— Наша бабушка фашистов видела! Только она не убивала их, а спасала.
— Ну, мать, это ты уже какую-то антисоветчину выдаешь, — засмеялся он, внося ее в комнату, где сидело вокруг телевизора остальное семейство — на сей раз он приехал не так поздно, — и сажая ее на колени к бабке, чтобы самому разуться и переодеться: жена с ее неистребимо провинциальными представлениями о чистоте и порядке вышколила.
Все-таки Машу он тоже иногда, под настроение, в шутку величал матерью.
— Зарапортовалась ты, мать. Видеть, может, и видела, но спасать — это что-то не то.
А теща вдруг сдвинула свои круглые роговые очки на самый кончик носа, взглянула на него из-за стекол и проговорила спокойно:
— Ничего она не путает. И такое было: в одном вагоне свои маются, а в другом — подобранные немцы. Не дай бог только сказать своим, что в соседнем вагоне — немцы.
Так она заговорила с ним впервые.
Тут бы ему, наверное, и присесть, и спросить ее самому, пусть бы рассказала подробнее. Фильм по телевизору шел военный, и она находилась в том состоянии, когда душа словно просыпается, смелее заявляет о себе. Когда она исполнена и достоинства, и непривычной, не выказываемой в обыденной жизни решимости, и желания поведать что-то разбередившее ее другой душе.
Может, то и был случай, когда она — первая — делала шаг навстречу. Из круга, очерченного им и покорно принятого ею. Он же, правда, на миг замешкавшись, повернулся-таки и ушел. Раздеваться-разуваться. Куда как важное дело! Ему стало стыдно — теперь, задним числом. Стыд настиг как запоздалое эхо.
19
Он все-таки старается быть примерным родителем и раз в месяц, скопом, листает дневники и тетради сыновей. Любопытные истины открывает иногда в этих тетрадях. И почему-то каждый раз примеряет их к себе. Тогда ему кажется, что сыновья не уроки записывают в эти замурзанные тетрадки, а свои тайные, беспощадные мысли о нем. Об отце — то, что еще не решаются сказать в глаза. Узаконенная форма оппозиции. В общем-то, чушь собачья, его досужие домыслы, но он от этой однажды взятой в голову дури отрешиться не может и подчас в самой невинной фразе ищет подспудный смысл. Подтекст. У младшего сына, например, в тетрадке по ботанике прочитал: «Прогрессивные черты дождевого червя». И ниже перечень этих самых прогрессивных черт. Первое, второе, третье… «Реснички», способствующие пищеварению, чувствительность кожного покрова. И еще ниже рисунок, портрет «прогрессиста». Дождевой червь в разрезе, с ресничками и кожным покровом. Тщательность исполнения его насторожила. Так и представил Митьку с высунутым от усердия языком.
Он, Сергей Гусев, и есть прогрессивный дождевой червь! С ресничками. С чувствительным покровом. (С чувствительным ли?) И карьеру делал так же — ни одной ступеньки не пропустил. Ползком. Переваливаясь с места на место.
«Самое постоянное свойство тел — инертность». Это он уже почерпнул из тетради старшего. И опять поразился как точности определения, так и его полной соотносимости с ним, Серегой Гусевым. Инертность, стремление к сохранению места и состояния.
Есть у него на работе женщина, умница, напористая, яркая газетчица, статьями и очерками которой он зачитывался, когда еще служил в молодежке. Она с любопытством восприняла его первые заметки, когда он появился в этой столичной Газете (во многом ее Газете, ибо они с Газетой делали славу друг другу и ревностно делили ее). Восприняла едва ли не единственная из «золотых перьев» редакции: другие просто не заметили его, храня олимпийское величие. Он ни в коем разе не мог вмешаться в их скрытый, болезненный и вместе с тем плодотворный для Газеты спор, ничем не мог угрожать ни одному из этих чувствительных самолюбий. А вот она что-то почувствовала. И нашла его, тогда еще просто безвестного внештатника, претендента в собкоры, и сказала доброе слово, отчего у него благодарно загорелись уши.
Тем более что он как раз стоял среди таких же, как сам, провинциалов. Претендентов.
И после не раз хвалила его — и так, в коридоре, и прилюдно, на летучках. И он тогда, кажется, действительно пророс: в сонме «золотых», вечнозеленых, увенчанных лаврами, как своими естественными кронами, неожиданно проткнувшийся, проклюнувшийся побег. Для кого-то неожиданно, для нее — угаданно.
Перевели в Москву, «на этаж», как говорят у них в Газете, стал перемещаться, переливаться по служебной лестнице, и теперь уже эта женщина сама приносила ему в рукописях свои статьи и очерки. Первому. Правда, не столько уважая в нем начальство (как и у любой примы, ее отношение к начальству лишено пиетета, тем более к начальству того уровня, какой представлял для нее он), сколько подчиняясь опять-таки какой-то своей, не то женской, не то журналистской интуиции. Он понимал это и старался не ударить лицом в грязь: его замечания были краткими, а похвалы не дежурными. Принятие материала у них до сих пор напоминает экзамен. Материал сдает она, а экзамен почему-то сдает он.
Его замечания скупы, похвалы тонки, хотя и не велеречивы. Энергия в проталкивании материала на полосу — неизменная. Неизменная степень энергии, хотя, конечно, коэффициент полезного действия ее различен. Чем он мог помочь ей, когда заведовал отделом? Да практически ничем: у нее самой возможности для проталкивания были куда выше. Но, заполучив статью или очерк, а в редакции и то, и другое, и третье, независимо от жанра, зовется одним почти строительным словом — «материал», тут же принимался «интриговать»: шел по начальству, заручался поддержкой девушек из секретариата, рисовальщиц макетов, уславливался с выпускающим, что шедевр, как только начальство примет решение о его публикации, будет поставлен без «хвоста».
Публикация во власти начальства. Зато «хвост» (места на газетной странице сплошь и рядом дают в обрез, и тогда в материале образуется излишек, из него лезет «хвост», и автор с болью душевной вынужден сокращать свое произведение, то есть поступать с «хвостом» так же, как часто поступают и в реальной жизни, — «рубить»: и такое палаческое выражение тоже гуляет в редакциях) находится почти всецело во власти выпускающего.
Выпускающий — далеко не самый большой человек в редакции — крепко держит за хвост любую приму. Даже не признающую высокое редакционное начальство.
Любую ведьму.
Возможности проталкивания по мере служебного роста тоже росли. Теперь он может без лишнего трепа поставить ее статью или очерк прямо в номер, который ведет. Даже если номер придется поломать, покорежить, всовывая в него не предусмотренную никаким планом неожиданность — а очерки примы всегда неожиданны и, что тоже существенно, громоздки.
Старожил редакции, знающий каждого ее сотрудника как облупленного, сам еще со времен районки имеющий основательный опыт работы «внизу», в этой неумолчной кочегарке газеты, в типографии (в редакции не говорят «пошел в типографию», а сообщают: «иду вниз»), искушенный в «нижних» условиях и взаимоотношениях, он может призвать к порядку даже самого выпускающего. Просто вернуть ему полосу по пневмопочте вниз с большим вопросительным знаком напротив хвоста, выставленного у примы.
Его побаиваются — даже выпускающий.
Побаиваются…
Один из ее очерков читал совсем недавно. Она, заложив ногу за ногу, сидела напротив в кресле, курила, с притворной непринужденностью ожидая приговора. Вот ведь тоже странность: его оценки всегда похвальны, а все равно ждет она с плохо скрываемым напряжением и чем старше становится, тем напряженнее ждет. Ей уже и сейчас крепко за пятьдесят. Сергей понял: она забрала себе в голову, что именно по его реакции раньше всего поймет, что начала сдавать. Что ее материалы становятся вторичными, что она повторяет самое себя или — не приведи господь — кого-то другого. Что пошла по второму кругу…
Мужчины, замечал Сергей, такими комплексами не маются. Они и в старости проще, грубее. Прима же борется со временем. Замужняя женщина с детьми и внуками на руках, она до сих пор ухожена и отполирована. Или так: старость понимает по-своему, капризно, как еще одного начальника. Еще пытается ни в грош ее не ставить. Хотя понимает, что тут рано или поздно — лучше поздно! — гордыню придется смирить. Покориться. Понимает и с куда большим рвением — чем старше становится, тем с большим, более яростным — следит за тем, чтобы ржавчина не пошла внутрь. Внутрь — в ее материалы. Здесь-то она кладет себя всю, не щадит живота и за Серегиной реакцией каждый раз следит, как за вычерчиваемой у нее на глазах кривой кардиограммы.
Не дай бог ему сфальшивить!
Переживаемое Сергеем ощущение экзамена во многом определено этим мучительным, хоть и лукаво, по-женски скрываемым вниманием, облучением, под которым он находится, пока читает материал.
Экзамен они сдают оба. Только он — ей, она же кому-то менее конкретному Времени, с которым так яростно борется? И которое, кажется ей, в качестве своей секундной стрелки выбрало, подсунуло ей этого парня?
Хотя какой он парень — ему самому тридцать семь.
…Сергей еще не закончил читать, когда она как бы между прочим произнесла:
— Давно хотела тебе сказать, что ты отвадил людей: не хотят материалы тебе нести. Говорят, кому угодно, только не Гусеву.
Сергей, оторвавшись от текста, вопросительно глянул на нее.
— Двух слов, говорят, не скажет. Берет ручку и сразу начинает править.
— А что же надо делать?
Она длинно выдохнула дым.
— Уважать человека. Сказать, в чем он ошибся. Объяснить. Выслушав его резоны, убедить в твоей правоте. Поймет, примет — сам исправит.
— И опять принесет читать? Второй раз?
— А как же ты хотел? Тебя самого-то как учили?
— Тут не учеба. Тут — работа, за которую получают деньги, — досадливо поморщился он и снова уткнулся в рукопись.
Не смотрел на нее, но почувствовал, как она съежилась. Как затянулась глубже прежнего…
Так, может, все это находится в одном ряду? — думал он теперь, в самолете. И то, что он по существу не интересовался человеком, столько лет жившим с ним бок о бок, и то, что с каждым годом утрачивалась связь с людьми, окружавшими его в детстве и поделившими с ним когда-то его горе? И то, о чем совсем недавно сказала прима?
Сам-то он считал, что так профессиональнее: взять ручку и поправить, вместо того чтобы пускаться в нравоучения. Сам, будучи молодым и начинающим, не любил, когда начальство сажало рядом с собой и, красуясь собственной демократичностью и красноречием, научало его — теоретически, — как надо писать. Испещряя пометками едва ли не каждую строку его рукописи.
Пометки же были одного, самого общего толка — вопросительные знаки. Такие же, какие он иногда ставит сейчас выпускающему. Только в его знаках в данном случае куда больше и экспрессии, и определенности. Старый Карл, выпускающий, знает, как на них реагировать: ставить материал без «хвоста». Пусть даже в ущерб другим: значит, материал, считает ведущий редактор номера, стоит того.
Как реагировать на вопросительные знаки, когда им несть числа, когда они рассыпаны по каждой странице, Сергей не знал. Не знал тогда, не знает и теперь. И предпочитает общаться сразу с текстом, а не с автором. Без посредников. Думал, что за это ему благодарны, а оказывается, его за это не любят. Видят в этом пренебрежение, снобизм.
Он считает, что экономит время, свое и чужое, они же, выходит, считают, что он экономит собственную душу. Боится амортизации.
Стремление к сохранению места и состояния.
20
Ты войны не видел: родился уже после нее. Так получилось, что, кажется, никто из близких родственников на ней не погиб. Сия горькая чаша их миновала. А может, все дело в том, что близких родственников у тебя раз-два и обчелся. Или многих из них просто не знаешь: мать умерла рано и вместе с нею, рано, оборвались родственные связи. Село, в котором родился, тоже особых сражений не ведало. Десятские бабки до сих пор вспоминают о немецком «ироплане» (от ирода?), пролетавшем в сорок втором над Десятым и бросившем на него две бомбы. Одна упала неподалеку от школы, другая почему-то на самой окраине — сорвалась! Фронт был рядом, и все же главные события на нем происходили в стороне от села. Так что зрительного представления о войне у тебя не было. Только умственное. Зрительное пришло значительно позже и совершенно неожиданно.
…Весна выдалась ранняя. Заканчивался первый год армейской службы. Ты прочно вошел в ее колею, чувствовал себя уже едва ли не бывалым солдатом. «Старик солдат», как говорят в армии. Первого мая вместе с другими солдатами получил увольнительную в город. Но в город не пошел: взял какую-то книжку и ушел в совершенно противоположном направлении — за город, в поле.
Какую-то… Ты помнишь книгу, которую тогда читал? Не забыл?
«Вся королевская рать». Роберта Пен Уоррена…
Этот факт нуждается в комментарии.
Армии ты побаивался. Сознайся — побаивался. Не службы как таковой, не физической, стройбатовской работы — деревенское, а потом еще и интернатское происхождение привили в этом смысле отличный, стойкий иммунитет: если когда и боялся работы, то тонкой, мастеровитой, которой нужно учиться с детства, и учиться под чьим-то, лучше всего отцовским, приглядом, грубой же, физической (сила есть, ума не надо), не боялся никогда, напротив — старался выбрать именно ее, чтоб не опозориться в другой. Той, что требует тонких изначальных навыков, которых конечно же ни безотцовщина, ни интернат дать не могли.
Побаивался другого.
Зажатый распорядком, враз оторванный от привычной обстановки, волновался не за руки, а за голову. Боялся, что в новой круговерти, в оторванности от интеллигентной среды растеряешь и без того неглубокий «культурный слой», не без трудов приобретенный в последние годы. Что он не выдержит испытания армейскими буднями, и его развеет, размечет без следа — как человек, занимавшийся в молодежной газете сельской темой, ты знал, что такое ветровая эрозия почвы. Знал не только теоретически: в свое время пыльные бури проносились по степям как пожар. Все иссушающий и испепеляющий. Земля после них действительно выглядела г о р е л о й. Погорелицей. И тут тоже — эрозия. Пустить все на ветер. А этот слой был ох как нужен. Слишком многое мечтал ты с его помощью вырастить.
Ты не забыл свои мечты? Не предал их? Человек склонен переоценивать значение того, чего ему самому не хватает. Так и ты, пожалуй, переоценивал значение «культурного слоя» — в ущерб другому, неокультуренному, подспудному горизонту. Несущему. Почва и порода — их взаимоотношение, их участие в рождении живого наверняка сложнее, тоньше, прихотливее, чем ты тогда мог предполагать.
А какой слой приобрел, нарастил в армии? Что поделаешь — может, и хорошо, что панически боялся тогда «эрозии». И выработал супротив нее свою систему «почвозащитных» мер, если выражаться агрономическим языком.
Система предусматривала и такое.
Положил за правило просыпаться на час раньше общего подъема и, не слезая со своего второго этажа металлической солдатской кровати, читать. С вечера запасаться книгой и утром читать. Со временем втянулся в строгий армейский распорядок, он почти не тяготил, в нем умеючи можно было отыскать не освоенные старшиной Зарецким «белые пятна» и распорядиться ими с пользой для себя, в том числе для наращивания своего культурного слоя, «гумуса», но эта привычка осталась на все два года службы.
Спит, посапывает, досматривает последние, утренние, самые заветные (остатки — сладки!) сны вся огромная, никакими перегородками не поделенная казарма; подремывает даже дневальный у входа, «на тумбочке», опять же по армейскому выражению.
Если это зима, то в проходе казармы горит неяркий свет — одна из лампочек как раз рядом с твоим изголовьем. Если весна или лето, то прямо в низкие окна брызжут лучи восходящего солнца. Солнце бродит по спящей казарме, заглядывает в молодые лица, щекочет, наклоняясь, теплыми волосами, нашептывает — наверняка девичьим голосом! — что-то каждому на ухо. Последний час покоя и молодой здоровой неги. Час массовых полетов — вы были еще в том возрасте, когда во сне летают. Растут.
Ты тоже летал. Все, что прочитывалось в тот благословенный час, буквально впечатывалось и в память, и в душу. В память — по причине ее утренней свежести, незатоптанности. В душу — потому что размягчена, разнежена, взрыхлена покоем, пронизана солнцем. Взвешенная в восходящем потоке солнечного света, она была восприимчива к малейшим дуновениям.
Так же как светом, все, что читал, было пронизано спокойной, тоже утренней грустью по жене и сыну, по дому, по родным, так явственно встающим перед глазами краям. Плыло по неспешной волне собственных размышлений. Само по себе это не было горючим, но это была та насыщенная кислородом среда, в которой г о р ю ч е е — сгорало. Идеально, без остатка, без копоти. Срабатывало. То, что читал, жадно принимал в себя, входило в согласное соприкосновение с тем, что жило в тебе, и — срабатывало. Давало толчок.
Душа во сне тоже не только летала, но и росла.
Однажды казарма была досрочно, как по тревоге, поднята хохотом. Ты «проходил» «Мертвые души».
«Да чего вы скупитесь? — сказал Собакевич. — Право, не дорого! Другой мошенник обманет вас, продаст вам дрянь, а не души; а у меня, что ядреный орех, все на отбор: не мастеровые, так иной какой-нибудь здоровый мужик…»
Все, что прочитано при таких обстоятельствах, — это не чтение для убийства времени: в метро, на ходу, на бегу, помнится долго-долго. Причудливой формы лист, оттиснувшийся где-то в каменноугольных пластах, с годами его линии не стираются, а становятся еще резче. Письмо из века в век, из одного этапа человеческой жизни в другой.
В те дни читал «Всю королевскую рать». Джек Верден, Вилли Старк, Анна… Уже подсохло, земля окутывалась дымом первой зелени. Как на старинных гравюрах: грянул неслышимый выстрел, и поплыло паутинкою облачко, разрастаясь, затягивая, заживляя доселе темную, грубую, неприбранную землю тончайшим живительным маревом. Земля внутри него — как плод, развивающийся в питательной и одновременно охранной среде околоплодных вод. Бродил, с удовольствием наблюдал и вдыхал весну, столь непохожую на ту, что так решительно — вот уж где действительно выстрел! — хозяйничает в такое время в родных местах. Присаживался на пень или камень, раскрывал книжку. Так совершенно случайно оказался на кладбище.
Кладбище вынесено за городок, в поле, и окружено кустарником и редкими деревьями. Это даже не рощица, а так, самосев, неумолимо заволакивающий, засоряющий с послевоенных времен не паханные из-за нехватки рабочих рук углы разом обезлюдевшего Нечерноземья. На кладбище было пусто. Ты сразу поразился его размером: из одного конца едва виден другой. Правда, кустарник вторгается и сюда. Длинные, колючие, едва зазеленевшие языки его вкрадчиво пробивались между могил, стараясь и их покрыть вторым, уже окончательным, нерушимым слоем забвения. Городок маленький, а кладбище как с чужого плеча.
Бродил среди обычных провинциальных могил, которые здесь, на севере России, еще лишены той железобетонной прочности, вычурности и основательности, с какой они обустраиваются у вас на юге, и удивлялся этому явному несоответствию городка и кладбища. Удивлялся, пока не наткнулся на необычайно длинные ряды одинаковых надгробий. Невысокое, с овальной оконечностью, из кирпича сложенное надгробие, обозначающее изголовье могилы, и перед ним сама могила. Плоская, без всякого холмика, просто аккуратный, экономный, чуть вытянутый прямоугольник, тоже выложенный, обозначенный по периметру жженым кирпичом. Как обкладывают газоны — углами кверху. Прямоугольники расположены вплотную друг к другу, так что у каждой их пары одна сторона — общая. Локоть к локтю. И надгробия тоже идут часто и ровно — строем. Надгробия покрашены белой краской, но краска старая, облупилась, облезла, однако надписи видны хорошо: их сначала выцарапывали, а потом заливали темной краской. Надписи и звездочки над ними, тоже предварительно нацарапанные и тоже темные. Не то краски другой не было, не то от времени. Все одинаково на этих надгробиях. Разные только фамилии. Да реже — звания.
Рядовой Пономарев Иван Петрович.
Рядовой Остролуцкий Сергей Степанович.
Гв. сержант Шарипов Абдулла.
Старший лейтенант Падалко Василий Васильевич.
Казалось, фамилиям нет конца. Ты как будто действительно вступил в другой, теневой, если не потусторонний город.
Царство.
Другие, обычные могилы тоже печальны, как печально любое наше последнее пристанище. Разнообразные, по-разному обихоженные, с крестами и звездами, с оградами и без, с березкой, кустом сирени или смородины, с деревянной лавочкой и столиком, на врытом в землю столбе — для поминальных дел. Если ограда, то непременно с открытой калиточкой. Чтоб душа выйти смогла, объясняли когда-то. Что земли навалено два метра — это ничего, главное, чтобы калиточка была отворена. Эти же, необычные (хотя, строго говоря, они-то как раз и были самыми обыкновенными и потому что одинаковы, и потому что устроены скупо, строго, без фантазии и излишеств, функционально, так и хочется сказать — по уставу) могилы вызывали чувство более сложное и глубокое, чем печаль.
Скорее ужас.
Эта одинаковость и эта бесконечность наводили на мысль о чем-то механическом. В нашем традиционном представлении смерть все-таки больше связана с областью духовной, чем физической, физиологической. Здесь же ей грубо возвращена вся ее посконная правда. Натуральность — если не натуралистичность. Смерть низводилась до процесса сугубо механического.
Машина смерти.
Машина смерти — это и есть война.
Как оглушенный, бродил меж этих сомкнутых рядов. Каре со знаком минус. Была еще одна закономерность, которая усиливала отличие этих могил от других и от которой кровь в висках стучала еще больнее. Даты. Суть даже не в том, что подавляющее большинство мужчин (изредка-изредка встречались, правда, и женщины), лежавших под этими надгробьями, ушли из жизни, что называется, в самом расцвете сил. И порой даже до расцвета, до полнокровного рассвета — когда жизнь еще только раскрывалась. Развиднялась.
Восемнадцать… Девятнадцать… Двадцать один… Но еще горше другие цифры и другие даты. Даты смерти.
8.VII—41 г… 8.VII—41 г… 9.VII—41 г… 10.VII—41 г… 11.VII—41 г… 12.VII—41 г… 13. VII—41 г… 13.VII—41 г… 13.VII—41 г… 14.VII—41 г…
Ни дня не пропущено!
Сорок первый, сорок второй, сорок третий, сорок четвертый, сорок пятый и еще несколько месяцев сорок шестого — ни дня не пропущено. Каждый день могила и даже несколько могил на день. Поэту принадлежит выражение «четки дней». Это были четки дней, развернутые, перебираемые войной.
Не сразу сообразил, в чем тут дело. Знал, что в годы войны городок был тылом, ближним, но тылом, никаких сражений тут не было. Потом понял, и догадку после подтвердили старожилы: в войну здесь были развернуты крупные прифронтовые госпитали. Городок, ткавший помимо портянок еще и марлю для бинтов, часть продукции стал оставлять дома. Так что это умирали раненые. Возможно, из-за них и вынесли кладбище за город — так много требовалось простора. Первая могила, помеченная восьмым июля, с большим надгробьем, на котором написано полтора десятка фамилий, — братская. Это, вероятно, день, когда в городок прибыл с фронта первый эшелон с ранеными. В первой могиле похоронены те, кого сюда с фронта не довезли, точнее довезли мертвыми. Потом пошла рутинная госпитальная жизнь — день за днем. Могила за могилой.
Могилы размещали почти впритык одна к другой, копали их предельно узкими, так и получилось, что одна из сторон выкладываемых кирпичом прямоугольных гробниц из каждой пары могил общая. Экономили кирпич. Так и получилось, что весь их строй — не только локоть к локтю, а еще как бы и взявшись за руки. Взявшись за руки — несуществующие. Несуществующие — среди весны, среди закипающей жизни, которая посягала даже на тлен, на смерть, на ее удельную вотчину.
В то майское утро ты и получил самое реальное представление о войне. Лист, тонко и строго оттиснувшийся в каменноугольных глубинах и так — оттиском — сохранившийся, преодолевший время.
Сохранившийся ли?
Такому восприятию тоже, наверное, были свои благоволящие причины. Весна, одиночество, настроенность к чувствованию и размышлению, то, что сам уже вкусил солдатской жизни. Пусть мирной, и все же — солдатской. Это было продолжением утренних бдений.
Растем, когда летаем.
И когда ходим по своей земле.
Вернулся в часть, нашел комбата Каретникова, обратился к нему с просьбой разрешить получить на складе бидон краски, кое-какой материал и шанцевый инструмент.
Комбат был как раз при орденах, крупный, праздничный, улыбчивый — в другое время это был человек совсем из другого теста, немногословный, жестковатый, по обыкновению большинства кадровых военных всегда стоявший на крепких ногах так, словно именно эту пядь он в данную минуту и защищает. Вообще-то у вас не батальон, а военно-строительная часть, но командира, фронтовика, вы звали комбатом. Наверное, и звали так потому, что он и в мирной воинской жизни оставался фронтовиком.
Правда, ты знал комбата и другим. Он с самого начала проявлял к тебе сдержанный интерес: видимо, кто-то из штабных, из канцелярии, имевших дело с вашими документами, доложил ему, что среди новобранцев есть журналист. А журналист — пока еще фигура не массовая, вызывающая любопытство. По крайней мере не в каждом стройбате служит ваш брат газетчик. Иногда по вечерам Каретников призывал тебя в свой кабинет. Читал в это время почту. В вечерней командирской почте были и такие письма, с ответами на которые приходилось крепко ломать командирскую голову. Девушка, не получающая писем от солдата, сурово пеняет командиру: загоняли, мол, заездили, человеку некогда слово черкнуть. Солдатская мать пишет, что от сына ушла жена, ушла к другому, но сын этого еще не знает, и мать ума не приложит, как ему, солдату, об этом сообщить. Придумайте что-нибудь, найдите, как ему сказать, чтоб не от нее, не от матери, узнал. Кто-то кому-то не пишет, кто-то кого-то не любит. Или солдатской семье не уделяют должного внимания — да мало ли каких еще невоенных писем приходит военному командиру.
Каретников просил помочь с ответами, всякий раз взявши слово не болтать лишнего солдатам. Иногда засиживались допоздна, и тогда он приказывал дежурному по штабу вечно румяному, с нежным девичьим пушком на щеках ефрейтору Грише Грищуку принести два стакана чаю. Так, постепенно привыкнув к тебе и к вашим вечерним беседам за стаканом горячего чаю, и рассказал, как семнадцати лет, мальчишкой, добровольцем ушел на фронт, после попал в школу по ускоренной подготовке младших офицеров-артиллеристов (на погонах у него до сих пор эмблемы артиллериста, а не строителя, эмблемы ремесла, противоположного тому, которым он занимается без малого четверть века) и в восемнадцать лет принял командование батареей. Да, на фронте он был комбатом, вы, его сегодняшние солдаты, знали об этом и звали его так же, как звали его те давние подчиненные. Однажды ты сам спросил его о первом бое — профессиональное любопытство. Он подумал, помолчал, потом сказал, что боя как такового не помнит: ни его конкретных целей, ни как именно он проходил. Помнит, что было п о с л е первого боя.
…Скорее всего, они отражали танковую атаку. Скорее всего, их батарею засекли и гвоздили по ним не только из пушек и пулеметов, установленных на танках. Когда все было кончено, восемнадцатилетний человек, шатаясь, побрел от орудий прочь. Над ним еще грохотало, правда, грохот, как гром ветром, уже сносило в сторону. Еще летели вверху спекшиеся комья земли и опускалась поднятая взрывами пыль. Дым, гарь, ад. Еще не подобраны убитые и не перевязаны повторно, как следует, не наспех, раненые. Не поставлено на колеса искалеченное и перевернутое прямым попаданием орудие. Еще требовались его, командира, решительные действия и указания, чтобы привести хотя бы в относительный порядок выстоявшую, сдюжившую, но изувеченную батарею. А он, едва понявший только одно — о т б и л и, — в последний раз дал отмашку высоко задранной рукой, помимо его воли до окостенения пальцев сжимавшей рукоятку офицерского пистолета, приказал что-то сорванным, петушиным еще голосом и, не оглядываясь, не разбирая дороги, пошел прочь.
Еще не зная толком, какой ценой досталась победа.
Оставил поле боя, говорят о человеке, справившем труса. Он же почти бессознательно оставил поле п о с л е боя — место, зрелище, наверное, еще более страшное, если не учитывать одного обстоятельства: на э т о м поле тебя уже не убьют.
Ему нестерпимо хотелось спуститься к протекавшей рядом реке и напиться. И плеснуть водой в горячее, потное, впитавшее, кажется, всю окружавшую его грязь и гарь лицо. Лицо, ставшее чужим — от грязи, от гари, от срывавшегося с губ чужого крика. Перевести дух. Очнуться. Прийти в себя, ибо не только лицо, он весь казался себе чужим.
Он уже спустился почти к самой воде, когда заметил в речке, недалеко от берега, своего солдата: когда только тот успел опередить его, командира? Разувшись, оставив сапоги с портянками на песке и задрав штаны, стоял тот по колено в воде и палкой подтягивал к себе плывущие, вздувшиеся трупы немцев. Оглохший, зачумленный лейтенант не сразу понял смысл этого уженья. Дошло лишь когда увидел, как тот, нагнувшись, деловито разжимает утопленнику челюсти и внимательно заглядывает в рот.
Лейтенант задохнулся от юношеской ярости. Рванулся не раздеваясь в воду, движимый очевидной необходимостью ударить, придушить, уничтожить мародера, но успел только поравняться с ним, как его начало рвать. Как рвало лейтенанта! И пот, и грязь, и гарь, и кровь, и, казалось, самые кишки его вот-вот поплывут рядом с этими мерзкими трупами… И юность… Солдат с испуганной жалостью смотрел на него.
…Свой рассказ комбат заканчивал уже не сидя за чаем, а тяжело расхаживая по кабинету. Помещение штаба части, как и казарма, тоже было сборно-щитовым, легким, временным, перепончатым и жалобно скрипело под его шагами.
Каждый раз, когда тебе доводилось видеть подполковника Каретникова суровым, гневливым, угрюмым, ты вспоминал худенького, истерзанного лейтенанта из его рассказа. Тоже открытие войны — у каждого свое.
— И что же, один будешь красить? — спросил подполковник.
— Нет. Поговорю с ребятами, желающие наверняка будут.
При слове «ребята» он поморщился — не любил цивильных атавизмов и не поощрял их в «военнослужащих».
— Ну, это другое дело. Только так: не больше десяти человек и можете трудиться сегодня, завтра и захватите третье мая. Четвертого быть на рабочих местах!
— Есть! Разрешите идти?
— Разрешаю.
Козырнул ты лихо, с удовольствием, весьма недурно сделал «кру-гом!» и даже каблуками щелкнул, выжав все возможное из кирзовых, нестроевых сапог, — знал, что комбату это понравится.
Конечно, желающих в одной твоей роте нашлось более чем достаточно, в «десятку», список которой вы составляли вместе с ротным замполитом, попали не все, были даже обиженные. На складе вам выдали все необходимое, и вы почти три дня провели на солдатском кладбище… У старушек, обихаживавших могилы по соседству, цветы посеяли: ноготки, анютины глазки… Дни стояли теплые, тихие, копившиеся весенние соки брызнули наконец так, как брызжет молоко из набухшего материнского соска, ласково вправляемого в беззубый младенческий рот. Работали вы с удовольствием.
Год спустя, когда ты уже служил в политотделе, подполковник Муртагин, начальник политотдела, между делом неожиданно спросил: не хотел бы ты, как в прошлом году, поработать с ребятами на воинском кладбище? Двадцатипятилетие Победы… Только лучше всего взять тех же солдат, что были в прошлый раз, я, мол, позвоню в часть, чтобы их на день-другой отпустили. А вы, Гусев, были бы у них за старшего. Если, конечно, согласны?
Откуда он знает, что ты был там в прошлом году? — это было первой твоей мыслью. Уже на кладбище, неспешно орудуя кистью, сообразил: скорее всего Муртагину об этом рассказал подполковник Каретников.
Вечером восьмого мая подполковник Муртагин попросил, чтобы назавтра к десяти утра ты собрал у штаба управления всех солдат, с которыми работал на кладбище.
— Увольнительные им будут, я уже договорился.
Около десяти утра, начищенные и наглаженные, вы уже топтались перед штабом, правда, совершенно не понимая, для чего вас тут собрали. Впрочем, другие-то в глубине души считали, что ты все-таки что-то знаешь, но «темнишь».
21
На какое-то время в самолете он забылся.
Ему привиделся поезд с красными крестами на крышах и на боках, с проломленными вагонами, задымленный, очумелый, пробирающийся по равнине толчками, короткими перегонами, перебежками — сам словно контуженый. Калека, выползший из-под развалин, из-под грохота, из-под гибели и еще не верящий, что он живой. И вот тянется по выжженной, изувеченной степи где-то в Донбассе, а смерть неотступно преследует его. Преследует извне, в пикирующих на него самолетах — тогда поезд, как гусеница в минуту опасности, останавливается, цепенеет: для него это тоже практически единственный способ самозащиты, — или в неизвестно откуда высунувшемся на насыпь рыле заблудившегося вражеского танка. Преследует изнутри: смерть — в нем самом, из всех его пассажиров она пассажир самого дальнего следования. На полустанках, на разъездах, а то и просто посреди степи он принимает раненых и оставляет умерших. Поезд курсирует от линии фронта, от ближних подступов к передовой к ближнему тылу, к стационарным госпиталям, и всюду за ним тянется печальный след. Могилы — на полустанках, на разъездах и просто в степи. Кровь и гной, бред и мат, стон и зубовный скрежет… Эти страдания, эти корчи судорогой пробегают от буксы к буксе по самому эшелону, по вагонам, по их деревянной обшивке и громыхающим жестяным крышам. Между фронтом и тылом, между житницей и ульем — тяжелая, перегруженная пчела, собирающая горький мед войны.
Поезд входил в затемненные города, останавливался на запасных путях; ощущение физической боли следовало вместе с ним, передаваясь — судорогой — городу, тылу.
Он где-то читал: уже после первых месяцев войны кресты на вагонах стали соскабливать или закрашивать, ибо, завидев их, немцы атаковали эшелон с особым остервенением.
Санитарный эшелон состоял из трех частей: впереди, сразу после паровоза, следовали два-три более или менее комфортабельных вагона, в которых размещалась собственно медицинская часть со всеми своими причиндалами, потом шли теплушки с ранеными, а замыкала эшелон открытая платформа с установленными на ней спаренными зенитными пулеметами — вот и вся, скорее символическая, защита.
Зимой в теплушках, застланных соломой, устанавливали железные печки-буржуйки, раненые сами — из «ходячих» — топили их. Над печками, сгрудившись, выворачивали белье и гимнастерки, вылущивали вшей и блох, те дождем сыпались на раскаленное железо и трещали так, словно буржуйку посыпали порохом или солью.
Раненых грузили с эвакопунктов. Те, особенно в первое время, были забиты. Раненые подчас даже не лежали, а только сидели: положить человека было невозможно. Негде. Случалось, подходят забрать того или иного названного врачами, пытаются поднять его, сидящего, а он — мертв. Сжатый живыми, сидит — мертвый.
— Заберите вот этого старичка, — командует врач.
А «старик», весь в бинтах, с сивой щетиной на щеках, выговорит еле слышно, выдохнет черными спекшимися губами:
— Я двадцать третьего года рождения…
Возраст иногда определить было трудно, но принадлежность к тому или другому роду войск санитары определяли легко. По ранам. Пехота — пулевые или осколочные ранения, танкист — в бинтах по самую макушку. Не человек, а матерчатая кукла. И очень часто слепой: горел…
Откуда он, Сергей, это знает? Тоже из книг? Нет. Ведь у него отчим бронебойщик, был ранен, ждал отправки на эвакопункте, ехал потом в санитарном поезде и лежал в госпитале в самой Москве, чтобы через полгода, спасенным, вернуться на фронт. Он об этом и рассказывал Сергею, когда тот был еще мальчишкой. И это его рассказы позже, в интернате, пересказывал Серега вечерами в спальне одноклассникам, выдавая их со временем за рассказы своего о т ц а.
А потом забыл. Когда, на каком витке растерял и эту поклажу?
А что, если его отчима везли в Москву на том самом санитарном поезде, где служила санитаркой вот эта, теперь старая и беспомощная женщина?
Тогда она не была ни старой, ни беспомощной. В молодости наверняка была и сильной, большой, и спокойной. Она всегда, до самой болезни, была спокойной. И — передающей свое спокойствие другим. В этом смысле она, наверное, была идеальной санитаркой. Сестрицей.
На мгновение представил, как молодая, измученная, невытравимо деревенская (хоть и в гимнастерке, хоть и с погонами, а все равно — деревенская, свойская, матерински свойская) женщина прямо на шинели тащит вдоль вагонов окровавленного, стонущего, бредящего солдата.
Отчим рассказывал, что их состав в пути разбомбили, теплушки загорелись, и он, н е х о д я ч и й, чудом остался жив: санитарка выволокла из огня. Вытащила на чем-то.
На шинели?.. А может, на одеяле? Ведь, честно говоря, это он не сам догадался, что больную лучше, сподручнее носить не на носилках, а на одеяле. Не совсем сам. Просто однажды, готовясь перевалить ее на подставленные носилки, заметил, что она здоровой рукой и взглядом показывает на одеяло. И понял: на одеяле они пронесут ее по любым закоулкам. И им легче, и ей не такая мука.
Ее знание — из войны. Его знание — от нее. Еще один факт диффузии. Жизнь не приемлет автономий. Даже когда нам удобнее независимость друг от друга. В сущности, все мы, люди, пусть опосредованно, подпочвенно, пусть самим воздухом, замкнуты друг на друга.
Когда они вносили ее на одеяле в самолет, Сергей обратил внимание, что она до крови закусила губу. Крупная, седая, значительная — пожалуй, значительности придавали не столько ее седина и дородность, сколько это читавшееся по ее лицу, по закушенной губе преодоление боли. Только он тогда ничего не понял. Ни он, ни другие люди, стоявшие в проходе.
Откуда в ней это и ч т о, собственно говоря, прошло перед ними?..
22
Ждать пришлось недолго. Ровно в десять к штабу подъехал «ГАЗ-66». Небольшой военный грузовик с откидными деревянными лавками в кузове. Из кабины грузовика вышел Муртагин — в гражданской одежде, — а потом принял оттуда через распахнутую дверцу двух нарядных маленьких девчушек. Хотел спустить их на землю по очереди, но девчонки, уже стоявшие в кабине наизготовку, подрагивая задранными вверх огромными бантами и не желая уступить друг дружке дорогу, прыгнули к нему на руки одновременно. Чуть с ног не сбили, обхватили в четыре руки за шею, смеялись, и он под этим венком (или хомутом? венком-хомутом?) осторожно, не спеша нагнулся и ласково поставил обеих на землю.
Венок — еще и потому, что девчушки сжимали в руках по букетику простеньких синеньких цветов, диких фиалок, которые здесь, в лесной стороне, называют п р о л е с к а м и.
Девчушки были дошкольницы, погодки и очень похожи между собой. Темные тонкие волосы забраны в две тугие косички. Гладкие прически с пробором на две стороны делали их головки аккуратными, обточенными, как у ласточек. Вертлявость голов только усиливала такое сходство. Правда, надо лбом, как бы подчеркивая эту четкость и аккуратность, вился, путался, нежно шевелился сквозящий лом иссиня-черных паутинок. А глаза у обеих серые, с коричневыми крапинками, вкраплениями, как воробьиные яички в двух пушистых укромных гнездышках. Редкое сочетание: темные волосы и светлые глаза. А объяснение, наверное, в том, что жена у Муртагина, как ты потом узнал, русская. Девчонок можно было бы принять за близнят, если бы не та особая строптивость, неуступчивость сестре, которая была сразу заметна в меньшей и которая как раз и выдавала ее с головой: вот эта настырная козявка и есть младшая.
Это было очень непривычно — видеть начальника политотдела в сером штатском костюме да еще весело конвоируемого с двух сторон малолетними дочками. В каждой руке он держал по крохотной розовой ладошке, напоминающей свернувшуюся, просвечивающую на свету раковину с ее бледно-земляничной, глазированной изнанкой. Две другие ладошки примерно с таким же бережным старанием сами держали на вид прохладные, зябкие пучочки цветов. Вообще-то других цветов не было, рано, и эти уже привядшие, томно расслабившиеся фиалки, извлеченные откуда-то из лесной глуши, как юные утопленницы из пучины, так же как последние, были особенно, необыкновенно хороши и так же привлекали, приковывали общее внимание. Синие-синие, настырно синие, как бы подспудно выработанные, сконденсированные всей темной лесной чащобой…
Троица направилась прямо к вам. Вы смущенно примолкли. Даже ты не ожидал такого поворота. Подполковник Муртагин поздоровался с каждым за руку. Девчушки, забавно оттопыривая подолы штапельных платьиц, сделали кокетливые приседания с одновременным выставлением вперед и чуть-чуть накрест правых ножек в вишневых лакированных туфельках с носочками — может, только для того и выставляли, чтоб вы не обошли вниманием эти замечательные башмачки (по крайней мере у вас таких не было!), и хором приветствовали вас:
— Здра-авствуйте…
Словно они были солдаты, они были строем, а вы — индивидуумы.
Правда, младшая, уже от себя, уже обособленно:
— Товарищи…
Тоже индивидуум.
Все засмеялись. Контакт!
— Транспорт подан, предлагаю садиться, — пригласил Муртагин.
Вы, переглядываясь, забрались в грузовик, расселись на лавках. Муртагин посадил в кузов и дочек — солдаты осторожно, по одной, приняли их — и сам поднялся следом, хотя шофер, ефрейтор, и приглашал его с девчонками опять в кабину.
— Мы уж со всеми, с ветерком, — отшутился тот.
Девчушки сначала жались к отцу, потом первой осмелела младшая, перебралась к тебе — кроме башмаков, ей крайне требовалось обнародовать и другую обнову: ожерелье из ракушек, ловко обхватывавшее ее растительную шейку. Ей казалось, что т а к его никто не видит, не замечает (у старшей ожерелья не было — этого ведь тоже могли не заметить!), и ты, посадив ее на колено, потрогал эти шероховатые чешуйки. Настоящее, не какая-нибудь пластмасса.
Все остальное у них с сестрой было совершенно одинаковым.
А потом и ее сестренка оказалась у кого-то на руках, и затеялся общий разговор, шутки, смех. Шофер не торопился, пыли на дорогах еще не было, теплый ветерок дышал в лицо. Ехали хорошо. Сперва освоились с присутствием муртагинских дочек, потом с присутствием здесь, в кузове, самого Муртагина. Машина выбралась за городок. Дорога, которую выбрал шофер, была на удивление оживленной. Правда, по ней преимущественно шли, а не ехали. Попадались и легковушки, и мотоциклы, и велосипеды, но в основном народ двигался по этой дороге пешком. Двигались группами, большими и малыми, двигались в одиночестве. Шофер осторожно, уважительно обгонял пешеходов. Благодаря его аккуратности, уважительности ваш легкий военный грузовичок не выглядел чужеродным в этом неровном, то загущенном, то, наоборот, разреженном — один-два человека на десятки метров — и все-таки непрекращающемся людском шествии.
Путники двигались к кладбищу.
Вы, оказывается, ехали туда же.
Оставили машину у ограды и, смешавшись с толпой, вошли на кладбище. Особенно много народу у воинских могил. Здесь стоял характерный приглушенный ропот. Ропот старого горя, ропот долгожданных и неожиданных встреч, которые, возможно, и были бы шумнее, азартнее, не будь за спиной у встречающихся этих безмолвно сомкнувшихся рядов.
Живые встречались с живыми. Живые встречались с мертвыми.
Изредка из этого приглушенного ропота вырывался высокий, пронзительный крик или стон, преимущественно женский, но тут же гас, мягко принимаемый, успокаиваемый этой утешительно-размеренной волной. Напряжение, которое медленно, исподволь накапливалось в неспешном людском прибое, надолго разрешалось таким надрывным криком или стоном.
Для такого крика есть только одно определение — м а т е р и н с к и й. То как будто не женщины кричали, то как будто кричало само материнство.
В подавляющем своем большинстве это были люди приезжие — в городке просто физически не могло набраться столько народу, кровно связанного с этими могилами. Как вы вскоре поняли, люди приехали сюда и с ближних, и с дальних концов страны. Приехали семьями, приехали поодиночке. Кто-то не был здесь давно, кто-то не был никогда. Собирались не один год и приезд приурочили к дате — двадцатипятилетию Победы. Это были родственники и однополчане тех, кто покоился здесь, под надгробиями со звездой. Кто умер от ран в здешнем госпитале. Их дети и внуки, братья, племянники, матери.
Матери… Они были стары, старухи. Кто-то собирался приехать всю жизнь, пока наконец собрался. Кто-то понял: дальше откладывать некуда, и, уже поддерживаемый другими сыновьями и дочками, внуками и племянниками, поехал сюда, в дальнюю сторону, на последнее свидание с с ы н о м.
У него, возможно, уже и имени нет, затерялось, отмелось за ненадобностью, неназываемостью, одно состояние, одно определение — сын. Как и материнство. Сын да еще — солдат.
Мой сын — солдат, мой отец — солдат, мой дед — солдат.
До дедовства имя точно не доберется, у внуков останется только одно: что дед был солдатом.
Благо что есть местечко, землица — в два аршина, — куда можно приехать, прийти, поплакать и помолчать.
Женщины стары, но стоны их не старушечьи. Молодые, высокие, пронзительные. Даже странно: старуха, сгорбленная, в темном, поддерживаемая кем-то из молодых, и такой чистый, такой девичий, чайкой взмывающий крик. Так, наверное, кричат, когда рожают.
Памятью кричали — о сносях, о родах.
Эти вскрикивания не нарушали общей обстановки, царившей на воинском кладбище. Тут слышались печаль и негромкая радость. Радость встреч с однополчанами — они, не видевшиеся многие и многие годы, узнавали друг друга даже не по лицам, а по могилам тех, к кому пришли разными дорогами. Пришли из разных мест, из разных городов и сел, чтобы здесь случайно встретиться и обняться.
Горькая радость встречи, свидания с дорогой могилой. Чья-то мать, сестра, жена, чьи-то дочь или сын видели эту могилу впервые. Да, для кого-то это последняя, неумолимая точка в длинной и призрачной веренице бессонных надежд. То были и слезы искупления, выполненного долга — для кого-то, для чьей-то матери, возможно, уже последнего. Рыдания не были надрывными, истошными, неуправляемыми; в плаче, более концентрированном и проникающем даже сквозь эту хладную толщу, сквозь мать сыру землю, плакалось-сообщалось о том, как жилось и как ждалось.
Тоже мать — сыра земля…
Кто-то бывал у этих могил уже не раз. Нынешний приезд у них не первый. И печаль, которая его сопровождает, тоже имеет свои особенности. В ней уже нет былой горячечности и безысходности. Перегорело, притерлось, почти смирилось с реальностью вечной разлуки. Тут уже больше тихой, п е ч а л ь н о й радости, нежели надрыва. Печальной радости от встречи — пусть хотя бы такой. Если вообще соединимы эти слова: печаль и радость.
Можно ли было остаться безучастными ко всему происходящему здесь? Ни у кого из вас не лежал под здешними плитами ни отец, ни брат, не наши однополчане встречались, но вы тоже были захвачены и этой печалью, и этой радостью. Первыми, как самые легкие, невесомые, были подхвачены ими муртагинские дочки. На одной из плит они по слогам прочитали женское имя — «М а - р и - я» (на фамилию у девчурок грамоты не хватило) и положили к ней свои букетики. У этой могилы никого не было, но одна из женщин, находившаяся рядом, у другой могилы, заметила их, то, как они осторожно укладывали пролески поближе к изголовью, подошла, присела возле них на корточки, прижала к большой, непокрытой, поседевшей своей голове их темненькие, точеные, на бутоны похожие головенки.
И заплакала.
И девчонки тоже, подчиняясь какой-то особенной, тайной, еще и им самим непонятной женской цепной реакции, вспыхнули, как две соседние спички, заплакали. Не капризно, не канюча, не обиженно. Плакали маленькие-маленькие женщины, маленькие-маленькие матери, маленькие-маленькие жены, может быть, маленькие-маленькие вдовы. И их негромкие голоса естественно обозначились, отразились в этой разноголосице. Разноголосице, в которой и в силу ее сдержанности, настроения, и какого-то общего, длящегося, мощно и незаметно-властно организующего все окружающие звуки аккорда, было что-то от хорала.
Вступление. Или, наоборот, эпилог.
На кладбище были военные и кроме вас. То там, то здесь среди штатских весенних одежд возникало темно-зеленое армейское сукно. Но то были, как правило, люди пожилые. Военные в запасе, в отставке. С наградами и воинскими знаками, с погонами и без погон. Фронтовики, как принято говорить, ветераны. Несмотря на мундиры, они уже почти не отличались от штатских. Не казались военными.
Старость — самая штатская должность на свете. Самая гражданская. (И самая обязательная — хочешь того иди нет.)
Причина даже не в подпорченной годами выправке. Укатали, мол, сивку крутые горки. Была в этих людях особенная, может, даже более глубокая, чем в других, размягченность, податливость происходившему, его настроению, которое действовало на них так же, как действует на пожилых людей сама атмосфера. Сразу, впрямую, не беря во внимание ни окружающие их стены, ни защищающие оболочки, — на сердце, на кровь, на суть! Податливость и всеведение.
Кабы молодость з н а л а, кабы старость м о г л а.
У Толстого есть такая мысль: человек всеведущий, всечувствующий не может быть военным, во всяком случае полководцем.
Вы тоже не были полководцами, но мы-то были еще военными. Еще точнее — молодыми военными. Молоденькими, почти безусыми солдатиками.
Да, вы были молодыми военными, солдатами, «солдатиками», как подчас действительно ласково, жалеючи, сама с собой скажет на улице иная старуха, долго следя взглядом за солдатским строем, и для многих здесь, наверное, напоминали тех, кого они когда-то провожали на фронт. Провожали, но не встречали. Встретили только тут, на кладбище, — под могильными плитами.
«Сержант Иванов Р. А. 1922—1944 гг.» Все, что осталось.
А вы были живыми и напоминали ушедших — живыми. Воскрешали. Молодыми и живыми. И потому тоже вскоре оказались в центре внимания. «Внимание» — довольно нейтральное слово, обозначающее чисто зрительное восприятие кого-то или чего-то. Вы же оказались в центре, в солнечном сплетении самых сокровенных человеческих чувств. Настроение, концентрировавшееся здесь, требовало выхода, точки заземления, приложения к чему-то более живому, отзывчивому, отвечающему, чем эти безнадежно бесстрастные, безответные могильные плиты. Человек не выносит безнадежности, он ищет — слепо и вместе с тем чутко, — как бы уткнуться горем в нечто более теплое, живое, чем камень, пустота, чем реальность, в конце концов.
А вас и искать не надо было. Вы сами оказались рядом, под рукой, п о д г о р е м.
В грозу случается видеть, как молнии, выбрав один, чаще всего самый высокий предмет, не жалят, а как бы стремительно садятся на него, льнут к нему, обнимают и, заставляя его светиться обливным, фосфоресцирующим светом, буквально стекают, изливаются по нему вниз.
Могучее, раскидистое дерево, оставаясь невредимым, то и дело вспыхивает, проявляется в негативе кромешной тьмы, само как продолжение, превращение молнии, ее заключительная фаза.
Так и на вас излилась вся чаша собравшегося, сбродившего здесь горя, но и в еще большей степени — нерастраченной, невостребованной, искупительной любви.
Вы сами засветились от этой любви.
Вдобавок ко всему люди каким-то образом узнали, что это вы обиходили к празднику могилы их близких. Вероятно, здесь не обошлось без Муртагина. Как бы там ни было, а новость мгновенно облетела всех собравшихся на кладбище. Она, разумеется, только усилила интерес к вам и послужила, так сказать, формальным поводом изъявления и без того определившихся чувств.
Дала отмашку молнии.
Вы не намеревались хвалиться своей работой, и все же приятно было, что люди о ней знают. Это делало естественней вашу причастность к ним, к их горю. И к тем, кто лежал в этих могилах.
И это в ваших собственных глазах делало хоть как-то оправданнее, заслуженнее ту теплоту и ласку, в которую вы окунулись. И которая по сути — вы это понимали — была адресована другим.
К вам подходили, вас поминутно подзывали, обнимали и целовали, и вы обнимали и целовали…
Ты помнишь: старая женщина плакала у тебя на плече и называла сыном, хотя ты ей скорее годился во внуки, и гладила твои волосы, и ты, держа в одной руке давно снятую фуражку, другой, влажной от волнения, тоже благодарно и утешительно гладил конец разметавшегося над нею черного платка.
В ту минуту и вправду вспомнил и материнские руки, и то, как она, твоя мать, когда-то ясным и теплым еще осенним утром, уже прощаясь с тобой навеки, печально и ласково перебирала, сидя на порожках вашего дома, над которым уже заскользила тень раннего сиротства, твои запущенные мальчишеские волосы. Как давно это было! И как давно никто не гладил тебя по голове и тем более — не называл сыном.
Вас наперебой угощали самым вкусным из всего, что было принесено сюда, даже предлагали выпить рюмку-другую — мол, таким молодым и крепким не повредит, — и вы с молчаливого попустительства Муртагина выпивали, не каждую, через раз, через два раза, но выпивали с руки, на ладони поднесенную чарочку, и это вам, кажется, в самом деле не вредило.
Потом на поляне рядом с кладбищем сам собой организовался широкий поминальный круг, и вы с муртагинскими дочками тоже оказались в нем. Поминки, как то случается в России, закончились песнями, и вы, обнявшись, тоже пели вместе со всеми — и про то, как бьется в тесной печурке огонь, и про Киев, который бомбили. И эту горькую вдовью отраду — песню-иносказание, песню-фантазию, песню — неумирающую надежду:
Вот кто-то с горочки спустился, Наверно, милый мой идет. На нем защитна гимнастерка, Она с ума меня сведет. На нем погоны золотые И яркий орден на груди. Зачем, зачем я повстречала Тебя на жизненном пути?Мальчишкой ты слышал, как пели эту песню бабы, вдовы в нашем селе. Сколько горечи и страсти вкладывали они в эти в общем-то незатейливые, не бог весть какой поэзии и смысла исполненные слова! Своим пением, голосом, горем они совершенствовали их, «доводили», наделяли волшебной силой и тем иносказательным, почти неуловимым, а только чувствуемым, угадываемым смыслом, на которые слова эти изначально и не претендовали. Пароль выбирают из самых расхожих слов и выражений. Так и эта песня прихотливо выбранным, выдернутым из бездны подобного вдовьим паролем реяла в пятидесятых над городами и весями державы. Высоко, сильно, больно — когда вдовы были так молоды, а раны столь кровоточащими.
Когда лежащий впереди «жизненный путь» казался еще бесконечно долгим, и это обостряло боязнь одиночества.
И укор, и надежда слышались в этом горячо возносимом женском призыве: а вдруг и впрямь возьмет и спустится их вековечная бабья защита и пойдет, шелуша в прокуренных пальцах колосья, по спеющим хлебам — в гимнастерке, в погонах, с орденом, как с государственной печатью, удостоверяющей мечту.
Пароль был — отзыва не было: защитная гимнастерка уже проросла защитной же молодой травой.
Песня бодрая, бодрящаяся, если говорить применительно ко времени — лакировочная, а надо же: была употреблена по совсем противоположному назначению. Тоже в духе российского человека: коли припрет его горше некуда, он, исчерпав причитания, заводит частушку. Да еще и шапку наземь хлопнет, и сапогом вывернет что-либо удалое, хотя на душе у самого чернее ночи.
Попробуй совладать с таким!
…Вечерело. Машину Муртагин отпустил, и вы возвращались вместе со всеми, кто был в этот день на воинском кладбище. Притомившихся муртагинских дочек несли по очереди на руках.
Поскольку сам он еще с утра был в штатском, никто и не догадался, что этот неторопливый и неразговорчивый человек — ваш начальник.
Ты помнишь этот день?
23
— В связи с сильной грозой в районе Кавказских Минеральных Вод наш самолет вынужден будет произвести посадку в аэропорту города Ростова-на-Дону…
Смысл этих слов дошел до Сергея не сразу. Он слишком глубоко был занят своими мыслями, чтобы отреагировать на них так, как отреагировали другие пассажиры. Все разом, как по команде, зашумели, завозились, многие повскакивали с мест, заглядывая в иллюминаторы, за которыми по-прежнему простиралась сплошная безмятежная синева.
Никому не верилось в серьезность сообщения, никому не хотелось садиться в Ростове. До Минеральных Вод оставалось ведь рукой подать. Кто-то уже видел себя дома, кто-то — в санатории.
Но, пожалуй, больше всех не хотелось и не верилось Сергею.
Все вокруг суетились и возмущались, а он сидел, тупо уставясь перед собою.
Посадка, неизвестно какой продолжительности, сидение в аэропорту, потом снова взлет. Что, если именно взлет так плохо действует на больную? Меняется давление, в том числе, возможно, в сосудах головного мозга — и без того пораженных сосудах… Перевел взгляд на тещу. Та, похоже, ничего не слышала. Или не поняла. Или просто не хотела ничего слышать и понимать, погруженная то ли в собственные думы, то ли в дрему или забытье. Лицо ее было все так же спокойно, глаза прикрыты, легкая тень от белой косынки, которой Сергей прикрыл ей лоб от пробивавшегося даже сквозь занавеску в иллюминаторе солнца, мягко скрадывала черты. Скрадывала и вместе с тем придавала им жизни, подкрашивала — жизнью — их бледность и немочь. Впечатление было такое, что она все-таки скорее думает свое, отдаленное, нежели спит.
— Уважаемые товарищи пассажиры! Просьба занять свои места и пристегнуть привязные ремни. Наш самолет пошел на снижение и через двадцать минут произведет посадку в аэропорту города Ростова-на-Дону.
Опасения Сергея оправдались. Стоило самолету сойти с горизонтали и как стрела на излете плавно скользнуть под уклон, как женщина тотчас встрепенулась, глаза ее раскрылись — здоровый широко, округло, как развороченное гнездо, больной же, что стал открываться совсем недавно, слепящим полумесяцем — и тревожно, вопрошающе вперились в него. Как будто достаточно было этого едва наметившегося наклона, чтобы установившееся в больной равновесие оказалось нарушено. И боль, тревога, паника снова хлынули через край. Она заметалась. Сергей опять взял ее похолодевшие руки и наклонился к ней.
Все начиналось сызнова.
Только на сей раз чувствовалось, как больная изо всех сил старается не соскользнуть в пучину. Она не кричала, напротив, стиснула зубы так, что губы ее еще чаще посеклись резкими побелевшими морщинами, сама удерживала, подавляла рвущийся изнутри крик. Сама крепко держала здоровой рукой теплую, влажную — он опять не на шутку испугался — Сергееву ладонь.
А за иллюминатором безмятежная лазурь сменилась сперва мутным и вязким молоком, потом клубящейся чернотой. Шабаш темных, беснующихся теней, туч, похожих на дым и гарь близких пожарищ, — самолет, сопровождаемый мощными толчками, пронизывал их, словно еще на ступеньку, еще на круг спускался в саму преисподнюю. Изредка и пока безмолвно вспыхивавшие, опоясывавшие самолет молнии отбивали такт этому тяжелому, грузному движению, вели счет ступенькам и кругам. Сергей помимо занавески задернул их окошко еще и брезентовым щитом, да больная и так не могла видеть происходящего снаружи, ибо голова ее была повернута от окна к Сергею. Но она видела все. Затылком ли, почти касавшимся стекла, глазами ли, больно вперившимися в Сергея и по его лицу читавшими, наверное, все, что видел и чувствовал сам Сергей, всем ли своим встрепенувшимся телом. Опять заметавшимся, на каждый всплеск молнии отзывающимся собственным мучительным прибоем — как море отзывается луне. Нервами. Болезнью. Она не просто видела, она участвовала в этом роковом движении и всячески старалась затормозить его или хотя бы не потерять путеводную обратную нить — Серегину руку.
Помогала ему.
Теперь в самолете было неправдоподобно тихо.
К Сергею кто-то подсел, прислонился к нему — иначе им было не поместиться здесь — так что он почувствовал спиной, через взмокшую рубаху, чье-то быстро-быстро трепетавшее сердце.
Помогали ему? Искали защиты?
Сели они благополучно, и в самолете тотчас все снова зашумело и засуетилось.
24
Два года армейской службы подходили к концу, и вспомни: это ведь Муртагин постарался, чтобы ты уволился в запас одним из первых в соединении. Но сначала вызвал к себе, предложил написать рапорт с просьбой о зачислении в кадры Советской Армии.
— Присвоят лейтенантское звание, направим в одну из частей заместителем командира по политчасти. Сразу замполитом, — говорил он, расхаживал перед тобой, заложив руки за спину и время от времени испытующе взглядывая на тебя. На тебя — сидящего: Муртагин с самого начала усадил тебя на стул. На один из тех дерматиновых стульев, на которых вы когда-то сидели, получая в этом кабинете из рук Муртагина кандидатские карточки. И все твои попытки подняться пресекал мягким, но недвусмысленным кивком своей и без того всегда несколько опущенной головы.
Ты отказался. Мол, надо еще закончить университет, в котором тогда учился заочно. Мол, люблю журналистику и другого дела для себя не представляю.
Как-то очень неубедительно отказываться — сидя. Так бы и вскочил, щелкнул каблуками: «Никак нет, товарищ подполковник! Имею желание возвратиться домой, участвовать в выполнении заданий пятилетки!» И все дела. А когда отвечаешь сидя, это уже предполагает р а з г о в о р, а не рапорт.
А что ты мог ему сказать?
Ты уже спал и видел, не спал и все равно видел себя дома. Какая уж там любовь к журналистам — разве что платоническая…
Муртагин говорил с глухим. Сосредоточившимся — средь бела дня — на своих сновидениях.
— Ну хорошо, вы свободны, — сказал он наконец, остановившись возле окна и глядя куда-то на улицу. Там на небольшом плацу капитан Откаленко, заступающий дежурным по штабу, проводил развод караула. Теплый майский вечер. Мягкий воздух. Длинные, подрагивающие лучи спускающегося солнца осторожно ложатся на плац (как разнородна их фактура — луча, эфира и асфальта!), касаются, пронизывают слабые еще кроны березок, высаженных вокруг плаца, ровесниц и плаца, и штаба, и гарнизона. Пронизанный солнцем молодой лист кажется еще более живым. Листья трепещут, приникнув основаниями, тонкими хоботками к молоденьким ветвям. Они упоены, опоены весенним нектаром. Капитан Откаленко вышагивал, красуясь, перед строем. Медленно и значительно перебирал красивыми длинными ногами, как перебирает ими аргамак, осторожно, словно полную чашу, несущий на спине перед парадным строем важного, еще более породистого, чем сам, седока. Иногда капитан останавливался, поворачивался лицом к строю и, покачиваясь с пяток на носки и обратно, назидательно задирал указательный палец. Голоса его слышно не было. Муртагин поморщился. Вышло это у него непроизвольно, а заметив, что ты увидел, засек на его лице эту мелькнувшую досадливую мину, он торопливо повторил:
— В таком случае вы свободны, и я постараюсь, чтобы вас отпустили пораньше.
И пожал руку, как бы разрешая тем самым наконец подняться.
— Спасибо, Азат Шарипович.
Ты был рад. Честно говоря, муртагинские резоны пролетали у тебя мимо ушей. Ты в них особо и не вслушивался. И его неожиданное предложение воспринимал только в одной плоскости: оно лишь оттягивало возвращение домой. Так через три-четыре недели будешь дома, а прими муртагинское предложение — и этот срок наверняка оттянется.
Шагая по штабному коридору, ты был доволен тем, что так легко, сравнительно легко преодолел черт знает откуда взявшуюся препону. Уже чувствовал себя дома. Правда, была где-то в глубине души и доля смущения. Нет, не своим отказом — он в любом случае был предопределен, — а собственной неубедительностью. Не сумел объяснить. Не сумел объясниться. Как будто в прямом смысле тень недоразумения, недопонимания легла между вами. А тебе не хотелось, чтобы между тобою и Муртагиным легла тень. Чтобы она осталась между вами: все-таки так или иначе, а тебе вскоре предстояло проститься с этим человеком. Улучу минуту, настроение Муртагина и обязательно заговорю, думал ты. Скажу, что я газетчик, что занимаюсь этим с младых ногтей и в сущности ничего другого не умею, что только это меня и влечет. Что как бы там ни было, а каждый человек должен приносить пользу именно на своем, а не чужом месте. Что можно, конечно, делать и чужое дело, и, если стараться, оно, пожалуй, даже будет получаться, выходить, и все-таки той же пользы будет больше, если делаешь свое, а не чужое. Все-все ему скажу. Время-то ведь еще есть — не меньше трех недель, хоть Муртагин и пообещал похлопотать, чтобы отпустили пораньше.
Муртагин обещание сдержал. Поговорил с начальником штаба, и на тебя стали готовить приказ об увольнении в запас.
Был ли ты баловнем Муртагина? Нет. Ну вот, например. Должность, на которой ты служил в политотделе, была старшинской. И паренек, занимавший ее до тебя, дослужился-таки до старшины. Ты знал его, он неоднократно бывал и в вашей части. Невысокий такой, ладный, интеллигентный. Саша Скориков, ленинградец с незаконченным высшим. Образование у него техническое, инженерно-строительное, потому и попал он в ваши войска, но, как и все ленинградцы, независимо от образования, Саша прирожденный гуманитарий. Легкий в общении, способный к разговору, опрятный, аккуратный. Единственный из солдат срочной службы ходил в офицерской полушерстяной форме. Весь такой обдернутый, начищенный, доброжелательный — и солдаты, и командиры любили его легкой покровительственной любовью. В вашей службе, что ни говори, а крепко связанной физической работой, с потом, с грязью, с цементом и бетоном, Саша был кем-то вроде городского гостя в деревне в страдное время. Он не был снобом, он разделял эти заботы — на уровне разговоров. Да от него большего и не требовалось! В вашей части тоже служил ленинградец. Женя Семенов — он был у вас кочегаром. Кочегаром, похожим на трубочиста. Когда выходил на свет божий, у него невольно щурились глаза, что было особенно заметно, потому что у него в такие минуты вообще видны были только глаза и зубы. Бывая по делам в части, Саша всегда на минуту забегал к нему. Однажды ты наблюдал их встречу. Саша, подстелив газету и заложив ногу за ногу, сидел на ящике с углем. И ни одной помарки! Как ни одной помарки в речи. Его в преисподнюю спусти, он и там приземлится строго на газетку. И продолжит разговор о полярности настроений в стихах Цветаевой и Ахматовой…
Насильно его спускать не придется. Сашу можно встретить и в части, и на стройке, на крыше многоэтажного здания, где работали кровельщики, и куда ты, например, поднимался по прилаженной к стене наружной пожарной лестнице не без легкого зуда в поджилках, и в траншее, и в шахте. И ни грязь, ни цемент, ни битум, ни пот, ни мат — ничего к нему не приставало. Как и в кочегарке. Женька, ваш домовой, ваш теплоснабженец, снабженец казармы теплом и, значит, д о м о м, сидит напротив на корточках трубочист трубочистом, а этот, на газетке, как новая копейка. Он не гнушался вашим солдатским, неинтеллигентным местопребыванием — иногда этого достаточно, чтобы человека любили. Проку от его посещений было немного, но вам интересно было на него посмотреть и его послушать. Некоторым, думается, даже его потрогать — взаправдашний или нет.
Кочегар Женька тоже был интеллигент, преподаватель истории с высшим образованием, служить ему надо было год. Но с какой истовостью перекрестился он в кочегары! Даже чумазость его была чрезмерная. Истовая. Такое впечатление, что он сажей пользовался, как пудрой. Как гримом. Что это было? Реакция на армию, на окружение? Женька, к слову сказать, интеллигент потомственный, сын профессора. Желание опроститься, упроститься и таким образом — в состоянии п р о с т е й ш е г о — прожить, пережить, переждать этот армейский год? Так или иначе, но отношения потомственных неинтеллигентов с Женькой-кочегаром, казалось бы, рубахой-парнем, своим в доску, были куда отчужденнее, настороженнее, чем с Сашей Скориковым.
Да, перед увольнением в запас Саше по инициативе Муртагина было присвоено старшинское звание. Как же засияли алой продольной лентой погоны на его плечах! Как сиял сам Саша! Румяным колобком прокатился по всем частям, представился, с удовольствием произнося и выслушивая свой новый титул. Старшина! — куда как аристократично. Гуманитарии вообще питают повышенную слабость к военной форме, званиям и прочей офицерской атрибутике. Поэты, литераторы, военные журналисты… Посмотрите на фотокарточки времен войны. Сущие штабные генералы по выправке, по отглаженности. Или адъютанты штабных генералов. Хорошие, славные люди, незаменима их роль в те роковые годы, и все-таки труженики войны — не они.
Богатыри — не вы. Не мы. Как и не штабные генералы, как и не адъютанты штабных генералов. Мыслители — может быть, но не богатыри. Богатырь — понятие физическое. Помнишь фотографию — таких карточек немного, может, потому что засвидетельствованное ими явление наверняка было таким частым, повседневным, рядовым (не то что п о э т н а в о й н е), что его и запечатлеть никто не торопился, — как солдаты волокут в распутицу пушку? На руках, на пупках, рассупоненные, расхристанные, в черных от крови и гари бинтах, по колено в грязи, и пушка в ней по самое горло. Волокут ее, словно русскую печку. Как будто и не война вовсе — винтовка болтается за спиной, как досадная н а г р у з к а, — а неизбывная, надрывная, богатырская работа. Работа богатырская, а телосложение не всегда ей соответствующее. Оттого и глаза повсеместно на лоб лезут.
«Взять на хопок» — есть такое выражение. Кто знает, что такое «хопок». А вот смысл выражения чувствуется, чуется хорошо: взять переломить, заломать что-то или кого-то крайним, предельным, нутряным напряжением сил. Напряжением всего нутра, таким, от которого не то что глаза — кишки лезут.
Труженики, чернорабочие. Богатыри.
Так вот, Саня дослужился в политотделе до старшины. А ты как пришел сюда сержантом, так сержантом и оставался. Никаких званий, благодарностей, почестей, писем на родину… Семена Чепигина, политотдельского художника, а после, когда Семен уволился в запас, — его сменщика, живого, смешливого, всеобщего любимца Витальку Гордеева Муртагин всегда отмечал. Отличал. Зайдет, спросит, как творческие успехи, улыбнется. Семен — человек молчаливый, медлительный, среднего роста, но исполненный какой-то земляной, а скорее мучной, крупитчатой, как куль с мукой, тяжести. Тяжесть добродушная, добрая, молчаливая. Стол Семена стоял в углу вашей общей политотдельской комнаты, он молча и безотказно возился там. Ватман, краски, кисти, перья, планшеты — заказов у Семена было по горло. Что касается наглядной агитации, то ваш политотдел вообще ставили в пример другим. Зиждилась же примерность на Семеновых плечах. Благо, что плечи были основательны. Художник всегда народ мастеровитый. Рукастый. Семен не только рисовал, но и сам сколачивал щиты, рамы, разъезжал по частям, по глубинке, помогая замполитам наживать несложное их хозяйство. Не столько служитель муз, сколько их работник. Семен засиживался за своим столом допоздна, когда все уже расходились. У него вообще был свободный режим (опять же не без муртагинского вмешательства) в том смысле, что он мог приходить в штаб, когда ему заблагорассудится: и рано утром, и ночью. Возился в углу, не вступал в общие разговоры, время от времени вспыхивающие в комнате, и тем не менее от него, как от мешка муки в телеге, как от добротного — черпать и черпать — чувала в заветном простенке, шло, достигало всех спокойное дыхание тепла, доброты и силы.
…Муртагин подойдет к Семену, спросит, как творческие успехи, улыбнется. Семен, оторвавшись от дела, поднимется, потопчется в ответ, что, видимо, означает полный ажур по части творческих успехов.
Столь же внимателен, снисходителен был Муртагин и к художнику, сменившему Семена, когда Семен уволился в запас.
Вот их Муртагин любил. Баловал — и Семена, и Виталия. Молча, ласково. Хотя трудно, конечно, определить ласку, когда она молчалива, — просто к их столу Муртагин, пожалуй, подходил еще неслышнее, чем к другим, и тут была не только природная вкрадчивость, тут была, если хотите, уважительная робость. Как жеребенка гладят.
У тебя же он насчет творческих успехов никогда не интересовался. Только насчет работы.
Они для него были людьми другого теста, умеющими делать нечто, чего не умеет он, и подлежащими в силу своей исключительности его, муртагинской, защите. Ты же ничего исключительного не представлял. В тебе он видел р а б о т н и к а. Своего. Такого же, как он сам. Точнее — могущего со временем (верил — скоро) стать таким же, как он. В сущности, его представление было похвалою тебе. Похвалою в стиле Муртагина: без лишних слов. Похвалою работника — работнику.
Мне кажется, этот воз — по тебе. Вот и вся похвала.
Как будто может быть похвала красноречивее!
Если Семен и Виталий были для него стригунками, требовавшими бережного и ласкового, шутливо-ласкового, покровительственно-ласкового обхождения, то ты для него был гужевым транспортом. Рабочей лошадкой. Муртагин угадывал в тебе стати владимирского тяжеловоза. И торопился впрячь в воз, который и сам волок.
А ты уверен, что Муртагин не ошибся? Что темный глаз его оказался столь не по-азиатски даже, а скорее по-цыгански зорок, цепок, привидущ, что верно угадал какие-то твои преимущественно будущие владимирские стати? «Нно-о, Савраска!» Конечно же будущие, какой там из тебя работник, инструктор был тогда! — н а ч и н а ю щ и й работник, как впервые запряженный, только от вымени, молокосос.
А ты отказался.
И он сразу же, впервые за все время, дал тебе поблажку: похлопотал об увольнении в запас в первую очередь.
Возможно, после отказа ты для него сравнялся с Виталием и Семеном. С художниками. Он держал тебя за работника, а ты оказался художником. И он потерял к тебе интерес. Нет, эти ребята, художники, тоже были для него интересны. Но то было скорее любопытство. Интерес к тебе был проще, прямее, корыстнее. Интерес цыгана, приценивающегося к лошади. Довезет до Бессарабии или нет? Федот оказался не тот, и интерес утратился.
Уж не увольнял ли он тебя из армии, не убирал ли с глаз долой — не оправдавшего надежд? Так часто бывает: сначала человек вызывает у нас интерес, потом, когда мы в нем обманемся, досаду. Один вид его, встречи с ним вызывают досаду. Изжогу. Чтоб ты не досаждал — первоочередное увольнение в запас можно было расценить и так.
А ты никогда не задумывался об этом после?
25
Все надеялись, что в Ростове их задержат ненадолго. Самые горячие головы, похоже, даже не собирались поначалу расставаться с привязными ремнями. Мол, посидят десять — пятнадцать минут, и недоразумение развеется. «Посидеть», конечно, никто не позволил. Пассажирам предложили спешиться, покинуть аэроплан, пройти в зал ожидания, не рассредоточиваться и ждать сообщения о вылете. Вылет предполагается через час.
Сергей тоже втайне надеялся отсидеться. Люди нехотя, потихоньку, поминая вполголоса и погоду и заодно Аэрофлот, поднимались, а Сергей так и оставался на своем облучке. Да и куда ему дергаться? Одному не справиться, а просить кого-то помочь… Поскольку они с тещей сидели в последнем ряду, то далеко не все и видели их, знали, что в самолете летит больная с сопровождающим.
Сопровождающий…
Правда, два-три человека, сидевшие перед Сергеем и тещей, уже поднявшись со своих мест, уже направляясь к выходу, все же вопрошающе-участливо обернулись к ним. Надо же!
Значит, знали, значит, слышали. И не суетились, не поворачивались в их сторону, не глазели на них, когда теща кричала.
Сопровождающие беду.
Сейчас, на земле, на тверди, они поворачивались, но, встретив совершенно спокойный, даже отрешенный Серегин взгляд, молча отводили глаза и с чувством исполненного долга ступали в проход. А чего Сергею волноваться? Самолет менять не будут, а это самое главное. Никуда он не денется, а полетит рано или поздно, как миленький, в Минводы. А непогоду они готовы переждать и здесь. Здесь даже предпочтительнее: меньше посторонних глаз.
Да и не понесешь же ее на руках — нужны носилки. Где их взять, к кому обращаться? Нет уж, лучше они посидят на месте, пока их не выдворят. Для выдворения нужны подручные средства — тут уж Аэрофлот позаботится. Вот если бы больной стало плохо, если бы она опять сорвалась в панику, вот тогда стоило бы волноваться. Он уже многому научился на этом пути — в том числе распознавать, отделять действительные причины для тревоги, беспокойства от мнимых. Зерна от плевел. Правда, больная тоже заподозрила неладное. Поднимала голову и, заметив людское движение, вопросительно смотрела на Сергея. Хотела что-то спросить, но не решалась или боялась, что не справится с вопросом, не сумеет выговорить его. Но это было обычное, осмысленное, закономерное беспокойство. Оно его не пугало. Оно его даже радовало, как радует первый осмысленный вопрос больного, находившегося в долгом забытьи. Сергей поправил подушку у нее под головой и вполголоса, наклонясь к самому уху, сказал:
— Ты не волнуйся. В Минводах гроза, и самолет пока сел в Ростове. Это ненадолго.
Сергей знал, что она уже глуховата, но она его услыхала. И через глухоту, и через другую, более дурманную, тяжелую пелену. Услыхала и поняла. И кивнула головой в знак того, что поняла. А поняв, что не она явилась причиной всеобщего непорядка, успокоилась. И вновь смежила глаза — доверилась ему. Глаза у нее с годами становятся светлей. Как у матерой волчицы. Когда-то был блеск, и, надо полагать, когда-то, не на Серегиной памяти, горячий, текучий, а с годами словно вступал в реакцию со всем увиденным. А повидано, опять же надо полагать, немало. Вследствие этой медленной, рутинной, но необратимой реакции блеск преобразовался в свет. Ясный, полдневный (глаза так и обдают им и лицо самой женщины и лица тех, на кого они обращены), и все же — свет. Другая интенсивность, другая фактура, если можно говорить о фактуре применительно к свету. Легче, рассеянней, разреженней и вместе с тем — более проникающая, способная к преодолению пространства и преграды. Скорость света. Не полдневный, а послеполуденный. Когда не ломит глаза, когда видно глубоко-глубоко и ясно. Ясновидение. В последнее время Сергей иногда побаивался ее взгляда. Пелена, заволакивавшая, леденившая ее сознание, ее небо, имела два незамерзающих и немутнеющих прорана. Два с тех пор, как стал потихоньку отходить закрывшийся было правый глаз. Во искупление немоты и тьмы, сковывавших ее. Чем больше покров облаков, тем глубже просвет между ними. И — уже по одним лишь законам физики — тем значительнее радиус его действия. Свет дальнего действия. Дальнего следования. Невесомый, рассеянный. Путешествующий — куда, до каких далей и глубин может долететь, доплыть он в этом своем свободном, рассеянном падении.
Не шальной, сокрушительный, залпом ливень, а легкий, сеющийся, обложной дождик лучше, глубже пропитывает землю, просачиваясь до самого ее животворящего лона.
С глазами происходит то же самое, что с опавшей листвой. Первоначально почти карие, они бледнеют, исходя, источаясь светом, столь странным, даже противоестественным в ее теперешнем положении. Хотя так ли уж медленно протекает эта реакция? Болезнь — ее катализатор. Последний раз он видел ее глаза абсолютно темными, черными в ночь, вернее, на рассвете, когда с нею случился инсульт…
Да, Сергею иногда самому кажется, что за время ее болезни и перед его глазами прошло больше, чем за многие годы перед этим. И не просто прошло, а впиталось, въелось, вступило в реакцию и с его, Серегиной, жизнью. Неизвестно, как там насчет цвета, цветом своих глаз Сергей уже не интересуется, недосуг, но его глаза тоже п о с т а р е л и на эту болезнь — это точно. Он не просто больше повидал, увидел, он больше стал видеть. У него угол зрения изменился: шире стал, полнее. Его глаза стали больше вмещать. Видишь и то, что впереди, и то, что сбоку, и то, что сзади, — тоже видишь. Так ему кажется…
Так что же тогда говорить о ее глазах?
Зоркость она с годами не теряла. Вплоть до самой пенсии работала на лентоткацкой фабрике, есть в ее городке такая. Сергей определенно и не знает — и это, оказывается, не знает, — кем она там работала. Знает, что у станка. Там помаленьку и глохнуть стала. Сергей эту фабрику помнит: девчонки из интерната проходили на ней производственное обучение. Фабрика маленькая, игрушечная, а шуму-то — по тротуару мимо идешь, и то через стены слышно. Слух стал садиться, и теща еще и поэтому была неразговорчива, особенно с Сергеем. Стеснялась: вдруг чего недослышит, переспрашивать придется. Лучше помолчать. Он же с разговорами тоже не набивался. О чем ему с нею беседовать? О погоде? А вот на глаза никогда не жаловалась. Глаза не подводили. До последнего без очков управлялась. Как то часто бывает, с нарастанием глухоты они у нее словно еще острее становились.
— Ты не волнуйся.
Как только теща заболела, Сергей сразу стал говорить ей «ты». Раньше обращался только на «вы», а тут какого само собой получилось. Над причинами перемены не задумывался. Он просто интуитивно понял, что в новой ситуации вежливо, безлично «выкать» нельзя. Это значило бы только подчеркивать незыблемость — несмотря ни на какие передряги — полосы отчуждения. Усложнять контакт, и без того затрудненный болезнью. А контакт ему нужен был уже хотя бы для того, чтобы легче, сподручнее было ходить за нею. Грубоватое «ты» было его неосознанным жестом первой помощи.
Пока… Говоря ей «ты» здесь, в самолете, он впервые ощутил новую степень тепла. Он был благодарен ей. За то, как держалась во время посадки, за то, что все правильно поняла, что успокоилась, без понуждения доверилась ему. Почему он почувствовал это только сейчас? Просто подошел срок? Сказалось пережитое ими вдвоем за эти полтора часа? Сказались подспудные неторопливые раздумья, овладевшие им в полете? И полет-то длится пока полтора часа, именно полет, стрела, скорость, а не «цоб-цобэ», и столько было в этом полете горячки, нерва, лихоманки, а нить его незваных размышлений все не прерывалась, прялась: веретено помимо его воли делало свое дело — спускалось, кружась, ниже и ниже, глубже и глубже.
Созревание даже в ботанике тончайший, слабопредсказуемый процесс, в котором случайность может все поставить на кон. «Захватит», «прихватит», щуплость, низкая клейковина, слабый набор сахаристости — господи, сколько там всего! Жгут, вихрь входящих — разной мощи и даже разной природы: от сил неземных до сил поземных.
Теплое касание чужой руки. Из вихря причин и следствий нельзя устранять и эту привходящую случайность.
Наклонившись к самому уху больной, сказал ей: «Ты не волнуйся…»
Думал, что цепь, круговая порука добра замкнулась на ней, на больной, а она, выходит, замкнулась на нем. На здоровом.
На здоровом ли?
Отсидеться не удалось. Аэрофлот их не забыл. К самолету подрулила машина «скорой помощи» с санитарами, и в сопровождении все той же стюардессы они были доставлены в зал ожидания. Расположились на лавке, стали ждать. Но вылет, как водится, откладывался и откладывался. Ох уж это коварное «не рассредоточиваться»! Лиха беда начало. Теперь уже и над Ростовом вовсю разгулялась непогода. За широкими, из стекла и железа, окнами потемнело, не по-летнему захолодало, порывы ветра, то пустые, порожние, сквозные, то усиленные, нагруженные, как свинчаткой, дождем, внахлест обрушились на аэропорт. Порой на стеклах даже дробь вызванивалась — ветер, топя, сшибая друг с дружкой, опрокидывая где-то в вышине ливневые, океанские тучи, и сюда доносил ледяное крошево. Родичи писали, что уже несколько недель здесь, на Северном Кавказе, стоит сушь. И вот она сломалась: грозно, болезненно.
Больная лежала спокойно. Лишь когда окно, у которого они устроились — в уголке, чтобы их меньше видели, — в очередной раз обдавало недоброй кристаллической пылью, вздрагивала, открывала глаза, смотрела в окно, потом на Сергея и удрученно покачивала головой. Для нее, уроженки юга, град вовсе не романтический вестник небесных крушений, а сама беда: здесь, на земле, под ногами.
Делилась тревогой с Сергеем.
Пассажиры роптали, натягивали сброшенные было пиджаки и кофты. «Не рассредоточиваться…» Одна только вынужденная посадка их аэробуса заставила трещать по швам зал ожидания. Триста непредусмотренных душ, точнее, седелищ, ищущих в свою очередь, куда бы «приземлиться». Да и все расписание, весь график движения пошли на слом. Один удар стихии, и прекрасно вычерченные линии «Из аэропорта Ростов вы можете вылететь…» потеряли перспективу. Сложились, как телескопические антенны. Из аэропорта Ростов вы не можете вылететь… Карта утраченных возможностей. Народу в зале ожидания прибывало и прибывало: рейсы отменялись или переносились. У Сергея имелся дополнительный источник информации: опекавшая их стюардесса. Она то убегала куда-то по своим делам («Я тогда в самолете не смогла сразу вернуться, потому что на меня навесили кучу хлопот: непредвиденная посадка». — «Например?» — с шутливой строгостью спросил Сергей. «Например, посуду мыть», — прыснула она). То возвращалась снова. Ее дорожная сумка-«батон» так и оставалась на лавке возле Сергея: место занято! Подруги ее давно были в служебной гостинице, отдыхали, а она все колготилась с Сергеем и его тещей. Таскала им бутерброды («мамины» тоже пошли в ход), кефир, даже бутылку пива для Сергея расстаралась — видно, все из той же служебной гостиницы.
— Если вам куда надо, вы идите, отлучитесь, я присмотрю, не бойтесь, — она хоть и смущалась, но повторяла эту фразу весьма настойчиво.
Присмотрю. Как будто тещу могли украсть. Или она могла подняться и уйти. Заблудиться. Он качал головой:
— Мне надо только в Минеральные Воды.
— С этим обращайтесь этажом выше, — улыбнулась она и показывала пальцем в небеса.
Есть люди, чья помощь навязчива. Есть люди, чья помощь как м и л о с т ь. Такой помощью даже не милуют, а карают. Есть и такие, от которых ее лучше не ждать: помогут на копейку, а благодарности требуют на рубль. Помощь девчонки была не только легкой, естественной, она так же естественно и принималась. Усваивалась.
Дождь перестал, но ветер не утихал. Вместе с грозовыми тучами он, напружинясь, крепко упираясь в землю, по-бурлацки наклонясь вперед и зажав на плече пеньковый конец, доволок, приземлил, гася ее, топча ногами, как гасят парашют, и самую верную тучу — ночь. Просвет в тучах так и не прорезался, не мелькнул. Столь тесно, плотно шли они друг за дружкой, гроза и ночь. В зале ожидания включили свет. Прибежав после очередной краткосрочной отлучки, девчонка виновато остановилась перед Сергеем и его тещей.
— Все, до шести утра застряли. Надо располагаться на ночлег.
Нельзя сказать, что это известие Сергея обрадовало. Он был опытный клиент Аэрофлота и знал: утро вечера мудреней — железное правило воздушных путешествий. Объявили вечером задержку рейса, сразу бросай под голову командировочный портфель, вытягивайся на лавке (торопись занять, позже желающих станет больше: народ сообразит что к чему) и — спи спокойно, дорогой товарищ: утром, возможно, воспаришь.
Но глаза девчонки, стоявшей в позе провинившейся школьницы — перепачканные чернилами пальцы теребят сатиновый фартук, — так удручены, так неподдельно горюют и каются (как будто она в одном, симпатичном лице представляет все инстанции и Аэрофлота, и «этажа выше»), что впору успокаивать ее саму. Не к лицу ему ни разнюниться, ни наброситься, как то через минуту-другую, после объявления в динамике, дружно сделали остальные пассажиры, с негодованием на всех и вся. На что и перед кем ему негодовать? Благодарить надо…
— Что ж, будем готовиться на ночь, — только и сказал он и посмотрел на больную. Та лежала с открытыми глазами, прислушиваясь и присматриваясь к чему-то своему. Здесь шум, гам, толчея, а человек мучительно прислушивается к себе, к своей немоте.
Труднее всех достанется ей: ночь на этом диване среди чужих людей, без смены, без движения… Наверное, Сергею не удалось все же в полной мере сохранить бравый вид — девушка быстро присела перед ним на корточки. Безупречно чистые, хорошей выделки и выпечки (теннис? волейбол?) пальцы с отвердевшими, полированными лепестками ногтей обхватывали высунувшиеся из-за форменной юбки тесно сведенные колени.
— Вы не падайте духом, мы что-нибудь сейчас придумаем, — горячо заговорила, заглядывая ему в лицо.
26
Палата в Боткинской больнице. Молодая женщина лет сорока двух — сорока трех. Уже упоминавшаяся бабуля со стрижкой комсомолки двадцатых годов. Молоденькая девушка с расстроенной координацией движений. Первое время, выходя из палаты в коридор, она старалась пройти мимо Сергея как можно прямее, чтоб не зацепить нечаянно его. Однако чем больше старалась, тем сильнее ее бросало из стороны в сторону. Худенькая, хрупкая, в длинном запахнутом халате, она напоминала язычок пламени на ветру. Жалко и больно было смотреть на нее, бродившую словно впотьмах: дунь посильнее — и уже не поднимется. Лишенная сопротивляемости пространству, прохватываемая насквозь вкрадчивыми дуновениями неслышимых для других, для здоровых, сквозняков и сама бесприютная, как бы не имеющая привязки к местности. Потерявшаяся.
Потерянный, смятенный тещин взгляд — вот что она еще напоминала в своих бесконечных скитаниях по больничным коридорам: несмотря на расстройство, никак не могла спокойно лежать в кровати — ее так и тянуло вон. Не знала покоя; до нее и там, на больничной койке, долетали эти неясные пассы, и поднимали ее, как пушинку, и влекли. Игрушка, пушинка жестоких и неведомых страстей.
В больнице девчонка как дома. Лежит не первый раз. Врач, который ведет их палату, моложавый, коренастый, энергичный мужчина, завидев ее на утреннем обходе — больная поступила накануне вечером, — воскликнул:
— О, наша Верушка прилетела…
Она действительно появляется здесь с регулярностью перелетной птицы и даже чаще — два раза в год. Подремонтируют — уйдет, отвесив всей палате, точнее, ее ходячей части (палата, как правило, тяжелая, на ходу здесь далеко не все), что во главе с доктором всегда выходит проводить ее, всеобщий «оревуарчик», а через семь-восемь месяцев — тут как тут. Опять приводят ее, развинченную, в приемный покой.
Доктор, провожая ее, стоит, широко расставив ноги и скрестив на груди крупные, умные руки. Да, руки и сильные и вышколенные, но в данном случае — все-таки беспомощные: доктор знает, что через семь, в лучшем случае восемь месяцев Верушка прилетит.
Верушка дочь алкоголиков, и болезнь у нее врожденная. И сама об этом говорит. Говорит уже спокойно, почти равнодушно, первая, горячая — до слез — злость, обида на судьбу ушла, истратилась. Иногда только — в том же шутовском «оревуарчике», — в некотором вызове, что порой наезжает на нее ни с того ни с сего и чаще всего в отношении к п о с е т и т е л я м палаты (она и Сергея в первое время в у п о р н е в и д е л а, пока не поняла, что он здесь не для мебели, что и его больная между жизнью и смертью) прорывается эта уже пережитая, уже «снятая» — в том смысле, в котором говорят о молоке: снятое молоко — обида. Это и не обида уже. Эхо обиды.
Не эхо — когда ее посещают родители. Приходят редко, иногда вдвоем, чаще одна мать. Тишком-нишком проходят в палату, садятся на табуретку у кровати, жалкие, замызганные, вроде трезвые, но распространяющие вокруг себя устойчивый, чудовищно чужеродный всему здесь сивушный дух. Мать пробует заговорить с дочерью, виновато, искательно, тем ненатуральным тоном, каким говорят с малыми, да и то преимущественно чужими детьми, вытаскивает из сумки банки и батоны. Но дочь, еще только завидев ее на пороге, сразу отворачивается к стенке и замолкает. Вот когда она вся — ненависть! Аж деревенеет от ненависти, как деревенеют от яда. Вот когда, поставь ее на ноги, — и ни в какую сторону ее не поведет. Будет стоять, как вонзившаяся стрела. Только оперенье дрожит. А повернись она сейчас — даже мать с ее искренней пугливой искательностью, с ее переменившимся голосом, с ее мучительным ожиданием, чтобы дочка все-таки повернулась, и та вряд ли выдержит ее взгляд. Отведет глаза. Боль, стыд, ненависть, укор — что еще в этом вперившемся в больничную стенку взгляде?
Дочь, отвернувшись, молчит, а мать все равно продолжает говорить, сбивчиво рассказывая о домашних делах и расспрашивая о дочкином самочувствии, и выставлять из сумок гостинцы. Ей так хочется, чтобы все у них выглядело как у людей. Дочка молчит, и тогда в разговор вступает ее соседка — старуха с комсомольской стрижкой.
Мать с удовольствием переключается на старушенцию, — это все же приличнее, чем говорить в пустоту, в стенку. Оживляется, почувствовав хоть чей-то интерес к себе. Они с бабкой обмениваются сведениями о погоде, о самочувствии, причем на самочувствие, как ни странно, больше жалуется посетительница, бросая робкие взгляды в сторону стены — может, ее-то, стенку, и хочет тронуть этими жалобами. Старуха же о самочувствии помалкивает.
Старухе некому жаловаться. Одна как перст. И не из Москвы вовсе — из Костромы. В столицу, в Боткинскую больницу ее направили на лечение как старую большевичку. В порядке поощрения, так сказать, хотя бабуля понимает это поощрение как ссылку. В 1915 году ее, юную большевичку, выслали из Москвы в Кострому, где она и укоренилась. Теперь вот старухой сослали в Москву. В Костроме бабуля так укоренилась, что и сейчас ее, похоже, интересует только положение в мире и Костроме. Единственная в палате читает газеты. По ее просьбе Сергей каждое утро приносит кипу свежих газет, и Елизавета Евстафьевна — так зовут старушенцию — зарывается в них по самую макушку. Тогда и врач к ней не подходи. Елизавета Евстафьевна утыкается в газету с такой же неистовостью, с какой ее соседка, девчонка, утыкается в стену. Они обе в такие минуты — под напряжением. Лизавета не утыкается в газету — она в т ы к а е т с я в нее, как вилка в розетку. Молчит, шевелит губами, но стоит ей обнаружить что-либо о Костроме, пусть даже самую мелочь, как тотчас восклицает:
— Ну-ка, ну-ка, посмотрим, как они там?
«…Без меня», — так и подмывало добавить за нее.
Лизавета ревностно следит, как Кострома примеряется к жизни без нее. Без Лизаветы. Следит за нею уже как бы с другого берега.
— Ну-ка, ну-ка…
И начинает читать вслух. «На экскаваторном заводе начато производство машин новой, более производительной серии».
Вся палата в курсе положения дел в славном городе на Волге — зачитывались даже сводки погоды, если в них упоминалась Кострома.
Лизавета сгребала гостинцы и засовывала их в тумбочку Веры: дочь отказывалась принимать материнские передачи, а та на самоуправство не решалась. Могла бы, конечно, и сама засунуть принесенное в тумбочку, да побаивается. Ей кажется, что будет лучше, надежнее, если это сделает старуха. И просит ее об этом взглядом. А старуха, судя по всему, давно уже ничего не боится. Засовывает в тумбочку то, что принесла эта жалкая, явно без особого достатка женщина, и при этом еще и непременно комментирует действия, отпускает что-либо веселое по поводу каждой единицы поступлений:
— О, помидорчики тираспольские, очищенные, в собственном соку. Превосходная штукенция! После наших дистиллированных каш пальчики оближешь!
— У нас в Чертанове в продмаге выбросили, целый час в очереди стояла, — счастливо шепчет посетительница.
— Пирожные «птичье молоко»… Эх, Верушка, где мои семнадцать лет, когда сам губернаторский сынок меня подобными пирожными угощал. С пальчика — на язычок. Простофиля-простофиля, а кавалер был что надо…
Тут старуха осекается, на мгновение замолкает. Чувствует, что хватила через край, вряд ли грозит Верушке угощение пирожными «с пальчика — на язычок». И много-много чего хорошего не грозит этой строптивой, не лишенной обаяния девчонке. Калеке.
— Колбаса таллиннская, — продолжает Лизавета после мгновенного замешательства и поворачивается к ее матери: — Тоже небось в очереди стояла?
— Ага, ага! — радостно подхватывает та.
Вряд ли что поняла мать из этого минутного замешательства. Да и девчонка, вполне возможно, не поняла. Молчание там, у стены, кажется уже не таким враждебным, колючим. Это уже — прислушивающееся, дышащее, оттаивающее молчание.
Если кто и понял Лизаветину осечку, так это Сергей: настолько все другие в палате поглощены болью и болезнью.
Г л о ж е т. Эти люди были обглоданы болезнью — не только потому, что худели на глазах. Болезнь замыкала, зацикливала их на самих себе, она съедала нечто весьма существенное из человеческого в человеке. В том числе способность слушая — слышать.
Старуха тоже больна. У нее серьезное нарушение мозгового кровообращения — доктор Борис Александрович был единственным, кто не реагировал на ее шутки, не поддерживал предлагаемый ею иронический тон общения. Она шутила (доктор подходил к ней с никелированным молоточком, а бабуля советовала ему взять что-либо потяжелее, кувалду, например), он же, осматривая ее, был весьма сдержан и назначал все новые и новые анализы и обследования, на что Лизавета заявила ему в конце концов:
— Учтите, доктор: тело свое я завещала Костромскому мединституту. Боюсь, что после ваших анализов им ничего не достанется.
Доктор хмурился…
Это она сказала Сергею в первое же мучительное утро, показывая на разметавшуюся тещу:
— А она у вас красивая.
И тихо, чтоб другие не расслышали, добавила:
— Что же вы ее одну-то на ночь оставили?
Скорее всего, она ее в ту ночь и сторожила. Маленькая — какое там «тело» — кости, воробьиные косточки! — израсходованная, немощная, а сторожила такую большую и раскидисто, печально, как срубленное дерево, могучую. Красивую! Сраженной, срубленной красой, жизнью. Так и рухнула — кроной в пыль.
О чем думала Лизавета, всю ночь удерживая в кровати больную, эту тяжко мятущуюся скифскую каменную бабу? Заступница Лизавета, сама пребывающая на грани инсульта.
К ней самой никто не ходил, ничего не приносил. Разве что санитарки купят молока или яблок — за ее же деньги. Да Серега раз в неделю доставлял пачку сигарет «Прима». В страшной тайне от доктора Лизавета экономно покуривала, запираясь в дамском туалете в конце больничного коридора. Благо доктор и сам был курящий и по запаху засечь ее никак не мог.
— Ну, мы пошли, Вера, — сообщает в конце концов мать.
— И не приходите. Меня еще не скоро выпишут, — так прощается та — от стенки — с родителями.
Лизавета же выходит их проводить.
Она не ведет с девчонкой воспитательных бесед — у нее и сил бы не хватило на них. Но линия поведения с ее родителями, догадывается Сергей, выбрана Лизаветой неспроста. Старуха вообще не говорит, а только восклицает — на большее духу не хватает.
Утром, после умывания:
— Тьфу на тебя, Верушка! Чтоб тебя дождь намочил — красавица, да и только.
Нередко нечесаная, угрюмая, целыми днями не вылезающая из постели — во время приступов ипохондрии доктор приближается к ней, как птицелов, — Верушка в эту минуту, посвежевшая, с каплями воды в светлых, вовсе не простецких, когда она того захочет, волосах и впрямь хороша.
После этих слов, та, глядишь, и порозовеет. И хоть чуточку подольше продлится это ее редкое, мимолетное утренне-беспечное настроение. Когда она действительно птичка. «Верушка».
Вечером, когда медсестра обносит всех лекарствами, — на каждой тумбочке их целая горка:
— Ну, бабоньки, выпьем и снова нальем!
Сергею казалось, что даже его теща робко пыталась улыбнуться на этот задорный бабулин возглас.
Вся палата была тяжелой, но умирала в ней пока одна. Та самая женщина сорока — сорока двух лет. Собственно, по-настоящему Сергей видел ее только раз. А так она лежала в другом конце палаты у окна, была укутана в одеяло, и Сергей лишь слышал ее голос. Голос у нее капризный — чем дальше, тем больше, — отрывистый. Она то жаловалась на духоту в палате, то, напротив, требовала закрыть окно. То просила положить ее так, чтобы видно, что там на улице делается.
Просьбы ее выполнялись беспрепятственно: и больные, и посетители палаты знали, что женщина обречена. Не знала лишь Серегина теща, потому что она вообще вряд ли что понимала из происходящего и с нею, и вокруг нее, ибо сама была между небом и землей.
А на улице уже делалась, творилась, разгоралась весна. Ее действительно затворили, как творят, заквашивают кислое тесто. Солнце, словно становясь на цыпочки, все смелее, все прямее заглядывало в окна. Первая зелень — огонек бикфордова шнура — побежала по черным кустам и деревьям, которые вчера еще казались и не деревами вовсе, а древесным углем, гигантскими головешками, поставленными на попа, обгоревшими, спекшимися, не имевшими ни капли живого сока в обугленном нутре и только каким-то чудом сохранившими форму, не рассыпавшимися под чьим-то прикосновением или порывами ветра. А тут еще миг — и последует взрыв: огонек добежит до заряда. До капсюля весны. И все озарится ее теплым, текучим сиянием, вызванным из самой глубины — неба, земли. Жизни…
Голос у женщины удивительно молодой, звонкий, хотя и отрывистый. Тому причиной могло быть, конечно, и ее состояние, но в любом случае это был голос не сорокалетней женщины. Примерный возраст ее Сергей определил по другому признаку. У постели безотлучно дежурили ее взрослые сыновья. Один приходил утром, другой менял его вечером. Молчаливые, сдержанные, они без единого звука сносили капризы матери, окружили ее такой тончайшей, ласковой (касается ран и не саднит) материей заботы, на которую вряд ли способны даже дочери. Их забота была м а т е р и е й еще и потому, что была материальной, никаких слов, никаких выразительных жестов — они просто сторожили каждое желание матери, кормили ее с ложечки, поили, ходили за нею, как за грудным младенцем. Еду носили в термосах, чай кипятили и заваривали прямо в палате, чтоб свежий, пахучий был. Портативный телевизор купили для нее. Стоило матери захотеть, как он водружался на подоконник, и проекция окна, фигурально говоря, удлинялась до бесконечности: видно было не только то, что творилось на улице, но и далеко-далеко за ее пределами. И не только в другом пространстве, но и в другом времени — когда по телевизору повторяли, скажем, «Семнадцать мгновений весны».
Правда, включать телевизор больная почти не просила, испытывала к нему практически полное равнодушие в отличие от ссыльной большевички, которая, едва загорался крохотный экран спитым пульсирующим светом, сама загоралась, пульсировала, обращалась в зрение — еще не притупившееся — и слух. Дальние страны, как и дальние времена, занимали, задевали больную куда меньше, чем то, что было, казалось, так близко — стоило распахнуть окно, высунуться в него или, еще лучше, спуститься по больничной лестнице вниз, и вот оно: охватит, подхватит, понесет, как ласточку в небе.
Которую само небо, кажется, и несет…
Высунуться, спуститься…
Женщине невозможно пошевелиться. Ее невозможно было пошевельнуть. Малейшие прикосновения причиняли боль, саднили: у нее развивался рак позвоночника. Сыновьям же удавалось то, что не удавалось ни медсестрам, ни врачам, — поворачивать ее так, что она только тихо-тихо стонала.
Дочерям бы точно не удалось: тут надо иметь недюжинную мужскую силу — чтоб мать поднимать как пушинку. И как пушинку легко. И как пушинку бережно.
Ростом они невелики, да и в плечах не косая сажень, но как молодые бычки, надутые, начиненные молодой упругой силой, которая разве что от земли их не поднимала, хотя они и шли, катились по ней, подпрыгивая на малейших кочках. Младший носил очки, без конца съезжавшие набок, наискосок — не могли удержаться в седле, не в состоянии были объездить эту упругую молодую силу, которую по досадной прихоти природы им довелось венчать. Старший очков не носил, под юношеской округлостью уже проступал остов, шар трансформировался в куб — самое прочное, самое жесткое из всех геометрических тел; во всем остальном же они похожи как две капли воды.
По легкой, упругой силе, по цвету кожи, по обаянию чистоплотности и здоровья если и походили на пару бычков, то на тех, которых в деревне называют «выпоенными». Выпоенные, вспоенные цельным материнским молоком…
Младшему лет двадцать, он, судя по всему, студент, старший (двадцати двух — двадцати трех лет), вероятно, уже работал.
Еще одно различие. Если младший при всей сдержанности, шедшей, возможно, от самой ситуации, в которой находилась семья, все же поддерживал разговор и с матерью, и с другими обитателями палаты, то старший был несокрушимым молчуном. Сергей, например, и голоса-то его не знал по той причине, что он его и не подавал. Зайдет, поздоровается кивком и сразу к своему рабочему месту. И пеленает мать, и кормит ее, и ходит за нею без единого слова. Так и получалось, что голос матери знала вся палата, а голос ее старшего сына никто по-настоящему не слыхал. Сама мать, бывало, скажет ему:
— Ты бы, Федор, хоть поговорил со мной. А то скучно с тобой, не то что с Мишей.
Федор молча, грустно улыбался и опускал голову.
Деятельная напористость младшего, который теребил врачей, приглашал профессоров, и истовое, молчаливое служение старшего взаимно дополнялись, сочетались и были теми двумя нитями пряжи, из которых ровно и мерно, без порывов, сплошным тончайшим полотном — маревом, если только марево материально, и ткалась материя заботы.
Мать принимала ее как должное. Несколько раз у нее появлялся муж, длинный, худой, лысый человек с беспокойными руками, который еще с порога начинал кланяться, жалостливо морщиться и вообще выказывать бурное сострадание всем, кто находился на тот момент в палате (включая здоровых), и жене, разумеется, в первую очередь. Он так старательно выражал неподдельную жалость, что выглядел тут самым жалким. Самым больным. Судя по всему, для парней это был не отец, а отчим. Они его не замечали — тоже, как и Сергей в детстве, считали отчима повинным в болезни матери? — он же только путался под ногами. Только мешал им. Мать сначала вставала на его защиту, хотя в открытую отчима никто не шпынял: его не замечали, в упор не видели — вот и все нападение. Защита же заключалась в том, что мать непременно заговаривала именно с ним, пусть даже по самому незначительному поводу, и, несмотря на присутствие кого-либо из сыновей, именно ему, мужу, давала какое-нибудь поручение, пускай хотя бы самое ничтожное-поправить у нее в ногах одеяло, принести воды и т. д. Мужчина торопливо поднимался, подхватывался, но его всякий раз молча осаживали — «дежурный сын», как называл их Сергей про себя, перехватывал уже приготовленную было кружку и уж тем более останавливал всякие поползновения отчима к одеялу, зная, какие муки доставляет матери любое неосторожное движение. К одеялу не подпускали даже врачей и медсестер — те давали команды, а исполняли их сыновья. Как повернуть, что обнажить…
Она слабо пыталась урезонивать сыновей, но мало-помалу смирялась с неотвратимым — с тем, что, по мере того как истончалась, исчезала, растворялась она сама и даже быстрее, в геометрической прогрессии к этому, исчезало и все, что связывало этих чужих людей: ее сыновей и ее второго мужа. А потом и противиться не стала: сил для сопротивления не было. Ни для этого сопротивления, ни для другого. Ни для чего. Все чаще впадая в забытье, она, как тающая, в белом, льдина, уже стронулась, уже заскользила, поплыла по реке — все ниже и ниже, несомая наряду с сыновней бережной заботой другим неумолимым течением: болезни. Чем ближе к устью — тем быстрее, беспамятнее. Муж ходить перестал, сыновья окончательно оттерли, вытеснили его, а она этого, похоже, и не заметила. Ей уже было все равно.
Голос у нее был молодой, девичий, но возраст ее выдавали сыновья.
Умерла ночью. Сергей дремал на стуле подле тещи. В противоположном конце палаты, у постели матери, дежурил старший из сыновей. В палате полутемно: горела только фиолетовая ночная лампа, помещавшаяся прямо на стене и всей палате придававшая если не подводный, то какой-то аквариумный вид. В этом подсиненном, странно напряженном, сконденсированном полумраке даже редкие стоны казались осязаемыми: проплывали, едва не задевая твое лицо.
Как сын понял, что мать — умирает? Ведь тоже, казалось, дремал. Захрипела? Что-то шепнула? Просто взглянула на него? Сергей увидел, как метнулся парень со стула, зачем-то лихорадочно сбросил ботинки — только теперь, с запозданием, до Сергея донесся тонкий свистящий хрип. Дальше, вернее, не дальше, а тут же, мгновенно, без переходов, без подготовки, последовало совсем уж неожиданное. То, от чего Сергей не просто остолбенел, а похолодел. Так это не вязалось ни с чрезвычайной — затаив дыхание — осторожностью, с какой сыновья обращались с матерью, ни с Серегиным понятием об отношении к смерти, о некотором робком пиетете перед нею вообще.
Сбросив ботинки, парень все с той же молчаливой одержимостью вскочил на кровать, уперся коленями прямо матери в грудь и стал делать ей искусственное дыхание. Он резко разводил и сгибал ей руки, наклонялся к самым ее губам — спекшимся, обугленным, как Сергей потом увидел, — и с силою дул в них, пытаясь влить в нее собственный молодой воздух. Пытаясь з а с т а в и т ь ее дышать. Полетела на пол уже бесполезная кислородная подушка: последние дни женщина дышала только с ее помощью, но теперь и она не спасала и на нее надежды не было — и парень отбросил ее прочь, надеясь только на самого себя.
Река сначала несла ее на поверхности, а потом, перед финишем, накрывала с головой. Мягкой, убаюкивающей, скрадывающей волной. Фокусник накрывает предмет черной бархатной тряпкой, потом поднимает ее, но предмета под нею уже нет. Исчез.
В первую минуту Сергей растерялся и не нашел ничего лучшего, как включить в палате полный свет, — и девчонка, и Лизавета, и его теща одновременно вздрогнули, проснулись и насторожились. Парень на мгновение обернулся. Сергей увидел его перекошенное мольбой и болью лицо. Что было делать? Чем помочь? Сергей выбежал из палаты, ринулся за дежурным врачом, хотя мог бы вызвать его, нажав специальную кнопку на той же стене под синей лампой — и над входом в палату запульсировал бы красный, воспаленный сигнал тревоги, дублируясь негромкой, но требовательной сиреной у дежурного врача и на посту медицинских сестер. Запамятовал.
Они с врачом уже спешили к палате, когда навстречу им вынесся сын. Бежал по коридору босой, растрепанный, на ходу срывал зачем-то рубаху, как будто сам задыхался, как будто это ему самому не хватало воздуха, и кричал, не обращая внимания на испуганно распахивающиеся двери палат:
— Спасите! Я вас прошу! Спасите! Спасите…
Доктор, пожилой, всего повидавший мужчина, держал уже безжизненную руку, смотрел на бесполезные электронные часы на собственном запястье с их лихорадочно складывающимися, преобразующимися из одних и тех же комбинаций секундами — бег секунд напоминал многократно ускоренное развитие эмбриона: серия превращений, и глядишь — готовенькая, пухленькая, полновесная минута.
Доктор посмотрел на бесполезные часы, а парень все так же исступленно повторял:
— Спасите! Я вас прошу — спасите!
И хватал доктора за плечи.
Доктор обернулся к нему и сказал, что сделать уже ничего не может. Доктор знал, что говорил: всей палате было известно, что женщина должна была умереть еще неделю назад.
Парень смолк, потом крепко, с побелевшими скулами, выматерился и схватил доктора за грудки:
— У тебя же лекарства, у тебя же уколы, гад. Убью!
Руки его, те самые, что так чутко и бережно несли по течению мать, страшно напряглись, на сократившихся мышцах зловеще, кольчато набрякли жилы.
Доктор, дернувшись головой, и впрямь, кажется, уже оторвался от земли.
Сергей схватил парня сзади, тот оттолкнул его, вырвался, выскочил из палаты, побежал по лестнице, по коридорам.
На каждом из трех этажей он забегал в комнаты дежурных врачей, поднимал их на ноги, умолял, матерился, требовал — подняться наверх, спасти, вернуть… Искал. Бился лбом — литыми кулаками в глухую, безответную стену. Так Сергей его и догнал: парень стоял перед стеной и лупил в нее тяжелыми кулаками.
Сергей положил ладонь ему на плечо:
— Возьми себя в руки…
Вокруг него на некотором отдалении с тревожным любопытством кучковались люди — больные и здоровые. Перешептывались…
Кулаки разжались, только что садившие по стене руки бессильно приникли к ней, поползли, царапая ногтями старую, грязную штукатурку, вниз. Парень уронил голову и заплакал — в стену, в бетон. Такая могучая, такая несокрушимая спина и — такая мальчишеская. Сотрясаемая захлебывающимся, некрасивым, неуклюжим мальчишеским плачем.
— Гы… гы… гы…
…Все-таки однажды Сергей эту женщину видел. Видел еще живой и видел не мельком. Младший сын вышел встречать очередного профессора, а она как раз попросила напиться. Кувшинчик с водой и тонкая фарфоровая кружка стояли перед нею на тумбочке. Но сил поднять кружку, а тем более кувшин, у нее не было. Сергей поднялся, подошел к ее кровати, налил в кружечку воды. Он уже подносил воду к ее губам (вот откуда знает, что губы у нее спекшиеся), когда его будто ножом полоснуло. Такие прекрасные, синие, насыщенно, интенсивно синие, х и м и ч е с к и синие глаза у женщины. (Помните из детства: какой карандаш? Химический. И еще послюнявишь его для пущей яркости. «Простой» и «химический».) Так и синева — простая и химическая. Когда небо — навылет. Синее с черным. Синее с космосом. Выйти в о т к р ы т ы й космос. Лихорадка, смерть ли, реявшая над нею, сделала их такими?
Сергей постарел и на этот взгляд. И на этих людей — где бы еще повстречал их?
27
А ведь он, можно сказать, уже видывал и своего ребенка мертвым. И это ведь теща спасла его. Вспомнилось, увиделось так явственно, будто было только вчера. И так же, как тогда, заныло сердце. Обреченно заныло, беззащитно. Заскулило. Завыло. Перед бедой, которую ему не взять, не изжить: так она велика. Перед роком. Господи, неужели повторяется та же история, что с матерью? Стоило ему представить ее мертвой, зарезанной, и в него навсегда, неизгладимо вошло ощущение ее смертности.
Он так и живет с того памятного дня с этим холодком под ложечкой, с этим ощущением, осадком, чутко притаившимся — отравой — на дне.
Как то часто бывает с детьми, Маша заболела совершенно неожиданно. Утром, днем бегала, «звенела звоночком», как говорила о ней бабушка, ходила на улицу. Обе в шубах, бабка в искусственной, сшитой на заказ — хоть на старости-то лет — и составлявшей предмет тайной бабкиной гордости: шубу носила так же, как Серегина мать когда-то тоже с немалыми трудами справленную «плюшку» — только «на люди»; и Маша — в натуральной, рыжей болгарской шубке. Они напоминали на улице медведицу с медвежонком. Медвежата, говорят, рождаются с рукавицу, а Маша тогда и была росточком с рукавичку. Девочка в меховой рукавичке. А ночью у Маши открылся жар. Бредила, вскидывалась, теща услыхала, подошла, потрогала лобик: полыхает. В доме поднялся переполох, во всех комнатах включили свет, забегали в поисках лекарств. Бегали жена и сыновья, Сергей держал Машу на руках. Девочка горела сухим, внутренним, выступавшим лишь на щеках — рдяным шелушащимся румянцем — огнем. Только волосы были влажными, мягко ниспадали с его ладони. Тельце дрожало, Сергея тоже била нервная дрожь. Наконец в комнатке появилась жена со стаканом воды и с ложечкой, в которой была растерта таблетка. Она уже протянула ложечку к губам дочери, когда Сергей увидел и ощутил совсем неладное. Дотоле расслабленное под ночной рубашонкой тельце Маши вдруг напряглось, выгнулось у него на коленях. Голова запрокинулась еще больше, так что на худенькой длинной шейке прорезались сухожилия. Глазенки закатились: из-под ресниц на Сергея глянули — пугающе, потусторонне — белки. В уголках скривившегося рта появилась, набухая, пена. Дрожь сменилась конвульсиями… В детстве Сергей по глупости подстрелил из мелкокалиберной винтовки птичку. «Чабанки» — называли этих сереньких, чуть крупнее воробья, птах, потому что по весне их излюбленным занятием было ездить на спине у овец, выковыривая из их запущенной за зиму шерсти нечто, пригодное для употребления в «чабанскую» пищу. Подстрелил сидящей на земле, купавшейся в пыли, и она вот так же жалко, судорожно трепыхала крыльями, выгребая ямку под собою, в которую постепенно и погружалась, как сейчас вскидывала, трепетала руками — судорога пробегала от плеча до кончиков пальцев — его дочка. Расплата за убийство — вот когда настигло. Из рук жены выпали и ложка, и стакан. Ее саму, побледневшую, с остановившимися глазами, впору было спасать. Сергей тоже был в шоке, руки одеревенели, это были не руки, а неуклюжие грабли, на которых билось в корчах маленькое, реденькое — как говорят о материале — хрупкое тельце.
Хорошо еще, что сыновей в комнатке не было.
И только теща оказалась на высоте.
Она как раз вошла к ним. И сразу поняла, в чем дело, удивительно быстро при ее комплекции и обычной медлительности и совершенно бесшумно опустилась подле Сергея и, подсунув свои теплые, большие ладони поверх его, деревянных и враз закоченевших, приняла трепыхавшуюся Машу к себе на руки.
Теща мягко, ласково — на что его руки в этой ситуации оказались неспособны — прижала Машу к своей большой и теплой груди, наклонившись к самому ее личику, стала потихонечку дуть на него, словно остужая этот сухой румянец, перемежая дутье с ласковым неясным шепотом. Еще через мгновение полуприкрытые, запавшие — вся кожа на ней о п а л а, утратила упругость и эластичность, тургор, проявление жизни утратила — веки у девочки приподнялись, обнаружив уже не закатившиеся белки, а живые, родные карие глазенки, исполненные, правда, такой неимоверной усталости и печали, как будто Маша и в самом деле возвращалась откуда-то издалека-издалека… Пешком, босая, в ночной рубашонке. Судороги прекратились, девочку обтерли полотенцем, дали ей лекарство от жара, уложили в постель, и она тут же крепко уснула. На измученных жаром губах проглянула улыбка. А Сергей потом всю ночь ходил в «малышовку», наклонялся к смутно белевшему в темноте личику Маши, тревожно, до стеснения в груди, вслушиваясь: дышит?
— Ты сам-то спи. Завтра же на работу, — отзывалась с кушетки, стоявшей здесь же, в «малышовке», теща.
Сама, оказывается, не спала.
Врачи потом сказали, что это следствие высокой температуры. Что их девочка, стало быть, температуры не выносит. Отсюда и такая, защитная, реакция организма. Что сами по себе эти судороги не страшны, но от температуры девочку надо оберегать: вовремя давать жаропонижающее.
Не страшны… Если бы они видели своими глазами. Если бы это было и х дитя!
Сергей знал другое.
Он знал теперь, что девочка его — смертна. И так же как было и с матерью, это знание и усиливало, делало насыщенней, напряженней его любовь к дочери, и вместе с тем добавляло в нее, в эту любовь, каплю яда. Приворотное зелье.
Он знал и другое: что девочку его спасла теща. Знала ли она, как нужно действовать в подобных ситуациях, или просто поступала по наитию? Просто не поддалась панике, не потеряла хладнокровия? Скорее всего, последнее. Какие там знания. Какая там теория — пожалуй, даже в санитарный эшелон она попала без каких-либо курсов. Сергей что-то не помнил, чтобы шла речь о тещиной учебе на санитарку. Нет, сплошная практика. Опыт. И сейчас, в самолете, подумал о том, что есть все-таки связь между пребыванием тещи — вот к кому так подходило это солдатское, срывающимся шепотом, слово «сестрица»: к этой большой, сильной, теплой, т е п л о к р о в н о й и молчаливой девахе! — и спасением его дочки. Тем, что именно она ее спасла. И даже тем — к а к ее спасла.
И носить больную в одеяле, а не на носилках он ведь тоже догадался не сам. Она же, теща, больная, сама и подсказала. Мучился, пыхтел, в очередной раз укладывая ее на носилки, а она взяла здоровой рукой угол одеяла и стала совать ему в ладонь. Тогда-то он и догадался. Осенило. В одеяле-то куда удобнее: пройти можно по любой лестнице. И ей легче, и вам, носильщикам.
Правда, на «скорой» не говорят: «носильщики». «Санитары», так ведь говорят на «скорой».
Санитар Сергей Гусев.
Так, понял он, она сама носила когда-то раненых. Только не на одеялах, вероятно, а на шинелях. На окровавленных, пропитавшихся кровью, заскорузлых шинелях…
28
Обтянутый дешевой искусственной кожей диван низок. Их глаза опять оказались на одном уровне и в необычной близости. Как и несколько часов назад, в самолете. И теперь они на пути, на перехвате, эти встревоженные, по тревоге поднятые глаза. Сергей бы и отвел свои, да некуда: ее глаза смотрели в упор. Куда бы ни ткнулся, они были везде. Форменный перехват. Только там тебя принуждают к посадке, а здесь как бы предостерегают от нее. Она вглядывалась в него так, словно боялась, что он смалодушничает, что в его глазах мелькнет не огорчение, а досада. Злость, которая сродни трусости. Что он, равнодушно скользнув по ней взглядом, опустит глаза, поднимется, остервенело чертыхнется и махнет рукой. На нее, на больную, на все, вместе взятое. Его понуждали, нет, его призывали, его просили, застенчиво и вместе с тем настойчиво, обволакивающе (куда ни ткнешься, всюду, тык-мык — и некуда сбежать, некуда) выдержать курс. Смешная девчонка, знала бы ты, в каких пертурбациях я побывал уже за этот год! Одной ночью больше, одной меньше…
Ну и глазищи! Не просто карие, бархатистые, а еще как будто бы и тучной парчовой пыльцой припудрены. Отягощены, как отягощены — шапки долу — и без того тучные летние цветы. Коснись их (губами?) — и рыльце в пушку. Как у шмеля, окунувшегося в чашечку, — одни лапки снаружи сучат. Крылья редкостной бабочки, после которых на пальцах остается этот нежный живой пепел — сгоревшей красоты. Пальцы мажутся, как у злодея. Губами… Шутник вы, Сергей Никитич. Сатир. Бархатцы. Tagetes popula или другая разновидность — анютины глазки. Анютины. Интересно, как хоть ее зовут?
— Это ваша мама?
«Теща», — хотел было ответить Сергей, но вовремя удержался. И впрямь прозвучало бы, как из анекдота: теща. Сказал слово, и вся неоднозначность человеческих отношений сведена к двум-трем плоским ситуациям. К тому же «теща» прозвучало бы особенно неуместно после слова, которое нашла девушка: мама. Не мать — мама. Самой от силы двадцать — двадцать два, вот и считает, что у всех, для всех — «мама». А он уже давно вышел из возраста, когда мать, даже если таковая имеется, зовут «мама».
— Это мать моей жены.
— А-а, — протянула она, и в этом протяжном «а» не было ни снисходительно-проницательной усмешки, ни разочарования, ни преувеличенного сочувствия. Соболезнования.
Чем меньше натурального горя, тем преувеличеннее соболезнование. Соболезнованием, управляемой формой сочувствия, нередко восполняют недобор того, что реакции в ы д е л е н и я, деловитому, почти промышленному производству пока, слава богу, не поддается. Слабо тут пока человеку. Или оно есть, или его нету: не выдавишь (как вино), не займешь, не купишь. Чтобы не уронить себя в чужих глазах, остается одно. Совершенствоваться в преувеличенных жестах, преувеличенных словах, в мимике и мимикрии. «Древесные крысы не такого рыжеватого цвета, как белки, но не менее грациозны. За ними можно подолгу наблюдать с близкого расстояния, настолько они доверчивы. Но от белок древесные крысы отличаются прежде всего тем, что уничтожают белок…» Цитирую классика.
Имитация же сострадания отличается от последнего прежде всего тем, что уничтожает сострадание. Даже жалкие его крохи.
«А-а» было простодушным, девчачьим. Сколько бы слов можно было тут нагородить! А она выбрала одно, как и «мама», и даже еще короче: «а-а». На целый звук короче.
— У меня нет матери, — сам не зная зачем, проговорил, помолчав, Сергей: наверное, потому, что девушка все не отводила взгляда.
Был такой способ перехвата: светом. Попал в перекрестье — не вырвешься. Да и вырываться как-то не очень хотелось.
— Давно?
— С тринадцати лет.
— А отец?
— Тоже нету.
Сейчас она спросит: с какого времени? — и он ответит: «С четвертого мая одна тысяча девятьсот сорок седьмого года». Сто против десяти, что анютины глазки округлятся в два черных подсолнуха. «Не ожидали, что я такой старый?» — «То есть?» — «А то, что я назвал вам дату своего рождения». — «Ваш отец умер в день вашего рождения?» — изумится она. «Не-ет, — помотаешь ты своей плешивеющей головой. — Он, увы, умереть не может». Она прикусит губу, хотя это таит угрозу ее белоснежной, с рюшами (наверняка «неуставными») блузке под форменным голубым жакетом: сок от надкуса брызнет прямо на блузу: гладиолусно-алое на белом. Наконец-то опустит глаза, подумает мгновение, снова поднимет их и скажет с шутливой обидой: «Вы не просто старый. Вы хуже. Вы — старый шутник».
Именно! Старый шутник вы, Сергей Никитич, о чем я и толкую неоднократно. И еще хуже, она и не подозревает, насколько, в какой степени хуже. Старый развратник. Чего уж там, сатир. Называй вещи своими, современными именами. Сатир… Сын своего отца — вот кто ты.
И ты расскажешь ей о жанре публицистики, который дается тебе труднее всех. О составлении автобиографии.
29
«Заполните листок автобиографии» — знали бы кадровики, между делом бросающие эту дежурную фразу, на что его обрекают. Чем искушают. В своей жизни он уже написал немало автобиографий. Надо сказать, чем старше становится, тем короче делаются автобиографии. Словно это уже и не биография прошлого, а биография будущего. Абрис будущего, его сжатый генетический код. А будущее потихоньку убывает и убывает. Ограничение, отжимание — прессом — будущего. Скажем, ему уже никогда не быть командиром многопушечного крейсера. А ведь мечталось! Поступление в среднюю школу (с непременным указанием ее номера), прием в ряды, именно в р я д ы юных пионеров, а потом еще и комсомола и другие столь же замечательные факты и даты, несомненно, достойные увековечивания в памяти если не всего человечества, то хотя бы одной его единицы, представленной самим автобиографом, уже не украшают эти повествования… А что осталось? В 1973 году пришел в Газету, где и работаю по н/в. Н/в — вот она, хромосома будущего! И какими понятными, нашенскими буквами, не какой-нибудь дохлой латынью, выражена! Чудо простоты. Н/в. Настоящее время. Никакое оно не настоящее — самое неприкрытое, беззастенчивое будущее. Не заметишь, как переходит в будущее. И в две тысячи таком-то году, ежели будем живы, на месте этой завязи из двух букв и одной, и то косой, палочки появится, разовьется, вызреет: «откуда и вышел на пенсию». Это когда он будет писать последнюю автобиографию — устраиваясь по блату ночным сторожем на плодоовощную базу.
Конспект будущего.
Мальчишкой, когда писал автобиографии, отца вообще не упоминал. Родился тогда-то, мать такая-то, колхозница, умерла тогда-то. А об отце ни слова. Продукт непорочного зачатия. Ему поначалу, по малости лет, и в голову не приходило, что надо писать и об отце. Тем паче об отце, которого в глаза не видел. Привык обходиться без него и в жизни, не то что в бумажках. Потом сказали, что так не годится, что автобиография должна содержать и сведения об отце. «А у меня нет сведений» — вспыхнул. «А ты так и пиши, — подсказали ему, — отца не знаю».
И взятки, мол, гладки. Не знаю, не видел, в ногах не стоял.
Первое время так и писал: отца не знаю. Что-то постыдное было в этой фразе. Старательно выводя ее — автобиографии в юности пишутся в основном по торжественным поводам, — всякий раз словно совершал по отношению к матери мелкое предательство. Из ее сына сразу превращался в постороннего, осуждающего мать обывателя. Бросал ее, как бросил когда-то и его отец. Перебегал на другую сторону. И судил ее вместе с другими, чужими, как маленький резонер, — как будто мало суда изведала, испила она при жизни. Его палец, пальчик — мальчик с пальчик тоже ведь произошел неизвестно как, сомнительным путем — был нацелен с д р у г о й стороны ей вслед. Сергей понял это довольно скоро. По ухмылкам тех, кто читал его автобиографии, — на этой строке задерживаясь долее всего и бросая в этом месте на него насмешливый взгляд.
Тогда и появилась в его бумагах фраза, теперь уже собственного сочинения, «отца не помню». Она казалась ему более щадящей мать: часть вины (хотя в чем вина — в том, что он появился на белый свет?) брал на себя. Не помню. Запамятовал. Мал был — не запомнил: то ли был, то ли не был. Так началась долгая эволюция этой злополучной строки. Будучи взрослым, он уже достиг в ней творческой вершины. «Отец оставил семью до моего рождения». С е м ь ю! Как будто там была семья.
Так он, Серега Гусев, создал ячейку общества. Задним числом помог матери обзавестись семьей, законным супругом, оставившим, правда, семью (неважно, что в составе пока одной только матери) до Серегиного рождения. И слово-то какое благозвучное — «оставил». Не удрал, не смылся — оставил. Сразу видно: творческий человек, выпускник факультета журналистики писал. И вина еще раз и теперь целиком и полностью переместилась — на некоего ветреника, прощелыгу по фамилии Имярек. А когда Сергей стал почти пожилым человеком, каковым его совершенно справедливо сочли в данный момент Анютины глазки, сделал вдруг еще один крутой поворот. Стал писать: «Отец — Колодяжный Василий Степанович, с которым мать жила в незарегистрированном браке, умер в 1962 году».
А что? Был такой? Был. И мать действительно последние десять лет, до самой своей смерти, жила с ним. Двух сыновей, двух младших Серегиных братьев, нажила с ним. Умер? Умер: мать в шестьдесят первом, он в шестьдесят втором. А что брак «незарегистрированный», так сколько народу тогда жило так, да и сейчас, похоже, это не такая редкость. Только тогда это было одним из следствий войны, а сейчас скорее изыск. Мода. Как говорят о некоторых новинках: «остромодное». А может, тоже следствие войны, страшной опасности, которая висит и висит, ворочаясь, наползая змеиным, грозовым своим подброшьем, над всеми нами. Люди в глубине души остерегаются прочных связей, остерегаются заводить детей. А брак без детей — тот же незарегистрированный, ничем не лучше, не законнее. Только дети и регистрируют браки.
Все умерли: и мать, и отчим, и, наверное, настоящий Сергеев отец, о котором Сергей и впрямь ничего определенного не знает. И кому это надо, кто станет докапываться, чей сын Сергей Никитич Гусев? Невелика шишка — не все ли равно, чей?
Сын человеческий. «Дите — дитя человеческое»…
Сначала, в детстве, в интернате, он назвал отцовскими ордена и медали отчима, теперь и самого отчима объявил своим кровным, законным отцом. Присвоил. Круг замкнулся. И он еще раз распорядился материной судьбой, материной жизнью.
Так он еще распоряжался судьбой и жизнью своих младших братьев. Так было, например, когда самого младшего брата, уже почти усыновленного дядькой, он вдруг взял и забрал к себе в интернат.
О Анюта, об этой истории стоит сказать подробнее…
30
Село, в котором жил их дядька, находилось в другом районе, за семьдесят пять километров от городка, где располагался интернат и куда был отправлен Сергей со средним братом. И вот однажды их младший объявился в интернате, предстал — в довольно истерзанном виде — перед изумленным Серегиным взором. Брат был первоклассник и явиться сюда самостоятельно никак не мог. Однако явился, в чем Сергей мог самолично убедиться. Глазенки угрюмо потуплены, новая, хорошая, добротная одежка — когда с матерью жили, такой у них не было, кольнуло почему-то Сергея — извожена в грязи. Сомнений не было: сбежал.
— У них деньги в подвале лежали под банкой с молоком…
— Ну и что?
— Ну и пропали…
— Ну?..
— Ну и тетка сказала, что я взял, больше некому, потому что, кроме меня и Жулика, сказала тетка, в доме никого не было.
— Какого еще жулика?
— Ну, собака, Жулик называется…
— И что дальше?
— А я не брал.
Глазенки наконец оставили в покое пол, носки кожаных — судя по всему, кожа под комьями засохшей осенней грязи была желтой — ботиночек и сухо, скупо, без слез взглянули на Сергея. Боялись, что и он, брат, не поверит. Сергей молчал.
— И сколько же денег там было?
— Рубль.
Волна горячей жалости и нежности к этому маленькому, белобрысому, настырному, совсем непохожему на него пострелу, поднялась как зарево в Серегиной душе и застыла в своей верхней точке, не спадая. Долго-долго стояла, не откатываясь, подступив к самому горлу, застрявши в нем — слова вымолвить не давала. Гребнем волны была жалость к брату, подом ее, основой, менее подвижной, но тяжелой, заключающей в себе еще большую кинетическую силу, н е с у щ е й гребень, как ленную корону, была печаль по матери, чьим любимцем всегда был ее младшенький, тоска по ней, а стало быть, и жалость ко всем троим: к этому, маленькому, к среднему брату, пожалуй, самому беззащитному — и такого панциря — колючей настырности нету. И к самому себе. Сироты… Сергей присел перед ним на корточки, точно так, как сидит сейчас перед ним эта девчонка.
— И как же ты добрался?
— На попутных, — по-прежнему букой смотрел на него братишка.
— Прямо до города и довезли?
— Не-а, — появился наконец в глазенках влажный доверчивый блеск. — Я от села к селу, так бы не повезли.
— А что говорил?
— Говорил, что мамку в село учительницей прислали и я к ней жить еду.
— Да ну! — у Сереги у самого уже глаза на мокром месте. — Сколько ж у тебя мамок тогда должно быть?
Малыш принялся деловито загибать пальцы:
— Бурлацкое — раз, Сотниковское — два, Большевистская «Искра» — три, поселок Чкалова — четыре. Четыре, — повторил он и сунулся мордахой в Серегино плечо. — В Сотниковском пришлось заночевать: ночь застала, могли в милицию отвезти.
— Где ж ты ночевал? — спросил Сергей шепотом, обхватывая его руками, отчего спинка у него подалась, как у едва принявшегося саженца.
— В каком-то огоро-о-де, — заревел тот уже во весь голос, так, что вокруг них на интернатском дворе сразу стала сторожко кучковаться любопытствующая детвора. В интернате было немало сирот — услышали, поняли бог знает каким чутьем.
Четыре мамки… Эх ты, Филипок, Филипок. Вообще-то младшего брата звали Антоном, но дома его иначе как Филипком не величали. По герою толстовской сказки, что был меньше всех, но до срока напросился в школу. Антон тоже был меньше всех и каждое утро увязывался за старшими братьями, требуя, чтобы и его взяли в школу.
Больше к дядьке Антона Сергей не отправил. Упросил директора, и братишку оставили в интернате. А дядька с теткой звонили, и Сергея вызывали для телефонного разговора в директорский кабинет. И тетка, плача, говорила, что этот чертов рубль, для Антона же и предназначенный — чтобы он после школы сходил себе за конфетами — сразу же нашелся, приклеился, проклятый, к дну банки с молоком. Что пусть Сергей ничего дурного не думает, он же знает, что она совсем не жадная, она же хотела как лучше, ибо честность в человеке важнее всего и ее надо воспитывать с малых лет. Что пусть Сергей либо сам привезет Антона, либо они с дядькой готовы сейчас же выехать за ним. Испереживались тут, обыскались, до последнего не хотели сообщать. И много еще чего говорила тетка, и Сергей и сам хорошо знал, что она совсем не жадная, что она хорошая, грамотная женщина, самая грамотная в их родне, агроном, просто она п р и н ц и п и а л ь н а я.
В родне так и говорили: «Галька у нас принципиальная». Своих детей у них с дядькой не было, и в приведенном суждении каким-то образом — интонацией? — находило отражение и это обстоятельство. Объектом приложения теткиных принципов был дядька, рядовой, малограмотный, пьющий комбайнер, из которого она в конце концов сумела вытесать, выстрогать (отходов, наверное, было много — в дядьке килограммов сто двадцать весу) если и не интеллигентно-командирскую — в ее руке — указку, то вполне подходящее дышло. И то верно: дядька работающий, тягловый, но в манерах уже покультурнее своих ровесников-механизаторов. Во всяком случае, при жене уже не матерится. На работе, где она пропадала с темна до темна, твердость теткиных принципов испытывали бригадиры и звеньевые, сама земля, что благодаря стараниям агронома помаленьку — как дядька в грамоте — прибавляла в урожайности, а дома — муж. Да вот теперь еще Филипок, которого тетка упрямо звала А н т о н о м. По одежке видно, что Филипку у нее жилось получше, побогаче, чем в родном доме и чем живется обычно в интернате. Но Сергей был несговорчив.
— Спасибо за все, но Филипок останется в интернате, — повторял он в трубку, краешком глаза замечая, как пристально изучающе наблюдает за ним из своего кресла присутствующий при разговоре директор.
Сергей только тогда, с телефонной трубкой в руке, понял: отдавать для у с ы н о в л е н и я младшего, материного любимца, нельзя. Пусть он так и останется ее сыном. Неразменным. Что-то подобное написал потом и в письме к родственникам, стараясь полнее и необиднее обосновать отказ. На это письмо ему почему-то ответил сам дядька, хотя раньше всегда писала тетка Галина. «Яйца курицу не учат» — помнит и поминает дядька до сих пор, каждый раз при встрече с Сергеем, под хмельком повторяя эту фразу из своего письма. Фразу, представляющую, по его мнению, верх житейской мудрости, как и верх его собственной трудной грамоты.
Сергей в ответ ему молчит.
Правильно ли он распорядился тогда — судьбой брата? Правильно ли распоряжается сейчас — судьбою матери? Уверен: правильно.
31
…Девчонка оказалась не то сообразительней, чем думал о ней Сергей, не то просто не терпящей столь долгого бездействия.
— Я сейчас! Я что-то придумала! — воскликнула она, стремительно, как с низкого старта, вскакивая, и побежала в глубину зала; последние ее слова уже прозвучали на ходу.
Так она все это время — думала!
Так они оказались в комнате матери и ребенка.
Стюардесса договорилась с начальством комнаты, и их разместили здесь. Опять нашлись и носилки, и помощники. В комнате матери и ребенка народу тоже набралось немало, но это была совсем не та теснота, что в зале ожидания. Тут у каждого имелось свое место, а на каждую пару — мать и дитя — приходилась еще и опрятно заправленная кровать. Комната не одна, их две, но Сергея с тещей расположили не в самих комнатах, а в «предбаннике». Все-таки комнаты на мужчин рассчитаны не были: «материнская половина» была сплошь женской. «Половина» здесь была и не половинкой вовсе, а сплошной целой, всеобъемлющей, поэтому — находясь в подавляющем большинстве — особо не стеснялась, не церемонилась: сидя на кроватях, раскрывала грудь перед заждавшейся, очумевшей от перелетной колготни мелкотой, невзирая на Серегу.
Или — насмешливо взирая на потупившего взор Серегу.
А он стеснялся не столько их, молодых симпатичных матерей, сколько своей еще более юной спутницы.
А той хоть бы хны. Домовито и ловко застилала диван, который им выделили. Может, и хорошо, что выделили диван, а не кровать: на нем могли разом поместиться и теща, и Сергей. Сменила пеленки у больной, уложила, заботливо укрыла. Сергей оказался не у дел: его полностью отстранили от забот. Вот она, эта проворная, и была в данную минуту матерью. И для больной и даже отчасти для Сереги, которому тоже ухитрялась уделить долю своих неназойливых хлопот.
А Серега и рад: привалился головой к спинке дивана, сел посвободнее, прикрыл глаза. Хлопоты девчонки мягко долетали до него, касались его краем, гребнем, и ему было покойнее оттого, что рядом плещет эта негромкая, прогретая и чистая волна.
За легкой штапельной занавеской, отделяющей приемный покой от комнат, невнятный говор, агуканье, занавеска, кажется, колеблется от этих затухающих звуков.
…Однажды он уже был в подобной ситуации.
Они с тещей летели из Минеральных Вод в Москву. Сергей приезжал на Ставрополье в командировку, а на обратном пути жена велела захватить с собой и тещу. Огороды уже сошли, забот по дому поубавилось, и теща уже была готова к отлету, сидела, можно сказать, на узлах. Она у них перелетная, теща. Весну и лето проводит в родном городке, в своем доме. Осенью же, навьюченная банками-склянками, летит, бедолага, в Москву. Москва, давно догадывался Сергей, ей не по нраву. Сидеть бы бабке дома, на своем насиженном месте, никуда не рыпаться. А вот надо же — каждый год летит. Летела. К поездам привыкла, с самолетами смирилась, хотя, опять же подозревает Сергей, перед каждым полетом прощается с белым светом. Знала: дочке трудно там, в Москве, с тремя. Потому и летела, и ехала, превозмогая природную тягу к оседлости. И на сей раз, воспользовавшись оказией, добиралась с Сергеем в Москву.
Оказия в лице Сереги нужна была преимущественно не теще, а ее узлам. Как ни косился Сергей на них еще в ее доме, в летней кухне, в которой они уже дня три были выставлены пересчитанным рядком, как ни просил хоть что-то не брать, оставить: мол, как волочить будем, да и не так уж это необходимо в Москве (в Москве, были бы деньги, все купить можно), — теща так и не послушалась его. Резоны ее просты. Во-первых, чего уж там в о л о ч и т ь: к дому, знает теща, подойдет машина из самого райкома (когда б еще она поездила в райкомовских машинах, хотя раньше они ее никогда не интересовали, да и сейчас интересуют с точки зрения грузоподъемности: какая сколько поклажи может взять; в этом плане теща в отличие от Сергея предпочитает «козла»). Что такое «волочить», она хорошо знает: немало всякого перетаскала, переволокла на плечах за свою жизнь. Так что это выражение лишено для нее своего убедительно-угрожающего смысла. Не привыкать! Нашел кого пугать. Какое ж это волочение — перенести багаж с места на место. Пусть не тушуется, она поможет, она еще способная, еще при силе. Во-вторых, купить-то, конечно, все можно. Но то — купить. А у них, знает теща, денег всегда в обрез. Кто еще сейчас в Москве держит по трое детей? Из всех друзей, что бывают у них в доме, из всех знакомых, которых теща благодаря им приобрела, узнала в Москве, т р о е — только у Сереги и ее дочки. А она им деньгами помочь не может, так, сунет дочке десятку-другую, не слушая ее возражений — мол, чулки мне когда-нибудь купишь, — и вся помощь. У нее у самой пенсия пятьдесят пять рублей. Теща даже вину какую-то перед дочкой чувствует. Муж у нее умер рано, и Сергей взял ее дочку без привычного в этих местах — да и только ли в этих! — основательного, с гарнитурами, приданого. Подушки-перины — это да, тут полный ажур, их в доме больше чем достаточно. Собранные тещей по перышку — сейчас она, знает Сергей, уже собирает перину для Маши, для невесты Маши, которая сама пока похожа на вольное, беспечное перышко, — они чертовски мягки, в них даже не тонешь, а растворяешься, как обмылок — без остатка. Деньгами теща помочь им не могла, тем истовее предлагала им то, в чем ограничения пока не знала, — собственный труд. Живой — когда ухаживала за их детьми (самым ж и в ы м, легким, неосязаемым был ее труд, связанный с Машей) — или овеществленный: полиэтиленовые мешки, банки-склянки с соленьями-вареньями, тушки кур и гусей с очищенными головками лука и чеснока во вспоротом и выпотрошенном брюшке — чтобы не протухли, чтоб доехали до Москвы; аккуратно сбитые соседом дедом Прокофьичем, столяром, ящички с овощами и фруктами. Все это шло в Москву хорошо налаженным ходом: почтой, с оказией, с тещей. Мост Буденновск — Москва. Ленд-лиз. Грузопоток.
Трудопоток.
И обязательно — лук и чеснок.
Роскошные, тяжелые «косы», «ни́зки» (от «нанизать»), как зовут их здесь, на юге. Так и висят они зимой на московской кухне, постепенно редея к весне, две косы. Одна — рыжая, золотистая, червонного золота — каждая луковица отборно крупна, продолговата и не висит вовсе, а торчит, упруго и завлекательно, так туго уплетена и так она налита. Выпростаешь ее, белую, полновесную, из-под кожуры, этой осенней цыганской мануфактуры, только коснешься ножом — молоко аж закипает под его жалом. И — совсем седая, на пудреные парики ломоносовских времен похожая коса. Чеснок. Теща знает: Сергей любит лук, чеснок, перец. Горькое.
«Как кучер», — презрительно отворачивается от него в иные вечера жена.
Это и был третий тещин резон: знала, что в Москве Сергей, этот стесняющийся столь деревенского, столь земляного, столь нутряного груза чистоплюй, шустро-шустро превратится в первого едока.
Пожалуй, думает сейчас Серега, она по-своему любит его — такого непохожего на нее, на других ее зятьев и детей.
Любила — когда была в состоянии любить и ненавидеть. Хотя кто может сказать определенно, утратила она эту способность или нет. В данную минуту, со смеженными глазами и путающимися мыслями, он неожиданно думает, что именно эту способность — любовь и ненависть, особенно любовь — она, пожалуй, не потеряла. Может, потому, что эта способность — любить! — сидела в ней глубже всех других. И глубже болезни. И может, даже обострилась вследствие болезни. Лишенная слова, стала еще сокровенней. Естественней, пульсируя в ней, как пульсирует сама кровь.
Гладя ее после приземления, он в какой-то миг почувствовал, что положение переменилось: это уже о н а гладила его руку.
— Ты не волнуйся…
Так вот, их тогда вместе с неуклюжим, сразу изобличающим всю их провинциальность «багажом» довезли до Минеральных Вод, до аэропорта, а там они застряли. Та же самая недолга: нелетная погода. В аэропорту такая же толчея, как сейчас здесь, в Ростове. Яблоку негде упасть. Казалось, вся эта несметная масса народа, скопившаяся в залах и переходах — на улице шел нудный безветренный дождь, — сейчас забродит, и она действительно сбраживалась, выделяя кислый, винный, тяжелый запах. Он стоял надо всем, как смог. Закупорка железобетонных сосудов — аэропорт в Минводах тоже из стекла и бетона. Машину они сразу отпустили. Райкомовскому шоферу — теща в своих предположениях была права — предстояло сто двадцать километров обратного пути… Но примоститься под крышей им было негде. Час поздний, рейс вот так же отложили до утра. Смотрел-смотрел Сергей, как мучается, пристроившись на узлах, его умаявшаяся с дороги, от духоты и переживаний теща, и вдруг неожиданно для себя решился на весьма непривычный шаг. Оставив на время тещу, поднялся на второй этаж, нашел зал для иностранных туристов и недолго раздумывая — иначе бы спасовал — толкнул входную, непрозрачного стекла дверь. Сразу за дверью столик со слабой настольной лампой с абажуром. Из-за столика быстро поднялась девушка в синем. Судя по всему, только что дремала «на посту», положив голову на руки.
— Здравствуйте, что вы хотели? — спросила по-английски.
Сервис! Умеем же, черт побери, — перед Европой.
А перед родной Евразией?
— Здравствуйте, — поздоровался Сергей и сразу протянул редакционное удостоверение. — Лечу со старой женщиной, а тут задержка. Тяжело ей на чемоданах (не мог же сказать — на узлах). Не приютили бы вы нас до утра? В шесть утра духу нашего не будет…
Удостоверение ли возымело действие, или просто молоденькой служительнице неудобно было после столь учтивого английского послать его по-русски, по-домашнему, по-нашенски, но она сказала вполголоса:
— Хорошо. Проходите, располагайтесь.
И показала рукой в глубь комнаты, в темноту и тишину.
Комната большая, целый зал, и когда они с тещей, стараясь не топать, прошли, протиснулись в нее мимо дежурной (и на Серегину тещу, и на их «багаж» та посмотрела с нескрываемым подозрением, уж больно громоздким, неуклюжим и нестандартным оказалось и то, и другое), и устроились на роскошном кожаном диване, и, попривыкнув к полутьме, огляделись, то обнаружили, что комната практически пуста. В разных концах ее на таких же диванах лежали, возлежали не более четырех человек. Как разительно отличалось это от того, что творилось в нескольких метрах отсюда! Оазис — тишины и комфорта — в сутолоке птичьего базара. В самом деле: что такое аэропорт в подобной ситуации? — перелетный птичий базар в нелетную погоду.
«Париж — город контрастов…»
Город Минеральные Воды, оказывается, тоже!
Заграница тихо и просторно спала.
Не исключено, что и их пропустили сюда без звука из опасения, что, не пусти, Сергей еще расшумится, раздухарится, привлечет внимание, помянет капиталистов каким-нибудь пролетарским словом, короче, нарушит покой и сон заграницы.
Сергей знал за тещей один простительный в другой обстановке грех: она похрапывала. И тут, когда они, почему-то стараясь занимать как можно меньше места, расположились на обширном пустом диване (теща легла, подобрав по-девчоночьи ноги и подложив под голову один из многочисленных узлов, Сергей же уселся у нее в ногах), сразу вспомнил об этом.
Чего уж там вспомнил!
«Рада месту», — говаривала его мать, умаявшись за день и добравшись наконец до табуретки или кровати.
Так и эта крепко пожилая, не столько по летам, сколько по изношенности работой, жизнью, крупная, тяжелая, притомленная дорогой, нервотрепкой ожидания женщина была рада месту. Только коснулась щекой узла, точнее, собственной ладони, которой привыкла «смягчать» любую подушку, хотя ладонь у нее исподней своей стороной сродни отполированному держаку у лопаты или вил: поверхность иссечена темными трещинками, имеет наплывы и впадинки, но даже эти трещинки, их края так «расшиты», отполированы работой, что все это, вместе взятое, составляет единый, цельный, тугоплавкий и, как ни странно, гладкий (даже трещинки — заподлицо), и, как ни еще более странно, теплый монолит, и сразу же задремала.
Вы спали когда-нибудь на русской печке? Нет ничего блаженнее. Вот-вот: трудно остывающий, прокаленный кирпичик из русской печи — и ему были родственны эти ладони.
«Груба» — так еще называли печку. «Груба», а поди ж ты: и тепло, и уютно, и даже — мягко. И тут точно такое же сочетание, взаимопревращение жесткости и мягкости, чернорабочести и — ласки.
Спросите Машу. Взгляните на ее мордашку, когда она на руке у бабки…
И вспоминать не пришлось — стоило теще вздремнуть, как это опасное свойство проявилось в полном объеме. Хорошо, полнозвучно проявилось. Сам уже было задремавший, Сергей вздрогнул. Напрягся, выжидающе глядя в ту сторону, где сидела дежурная. Скандал с последующим выдворением из города Минеральные Воды «А» в город Минеральные Воды «Б»? Разбудить тещу, указать на недопустимость подобных вольностей, сослаться на присутствие заграницы Сергей не решался. Стеснялся.
Словом, с тревогой всматривался в пятно света у двери, в котором покоилась, тоже на подложенных руках, довольно привлекательная, но совершенно непредсказуемая голова. Досадливо вслушивался в происходящее, з в у ч а щ е е рядом, как вдруг с одного из дальних диванов послышался ответный, прекрасный, могучий, трубный мужской храп.
Куда там теще. Заграница перекрывала ее начисто! Теща, зная грешок, и во сне, наверное, пыталась сдержать, стреножить, устеречь себя, точно так как и лечь-то не решалась вольно, вольготно, вытянув ноги. Там же, за кордоном, никакой узды не признавали. То наверняка был храп отъявленного, забубенного западного индивидуалиста. Никакой общественной морали, никаких сдерживающих начал. На полную катушку! Силен, братцы, храп капиталиста; девушка за столом сразу проснулась, но, к несколько злорадному Серегиному удовлетворению, сделать замечание интуристу не посмела. Сергей тещу трогать тоже не стал и, моментально успокоившись, сам тут же крепко, и не исключено, что с похрапыванием, заснул. В шесть утра их в зале уже действительно не было: сама же теща разбудила его ни свет ни заря.
Вспомнив эту давнюю, смешную теперь историю, Сергей на минуту открыл глаза, взглянул на тещу и улыбнулся: та небось и не догадывается о своих связях с заграницей!
Глянул бы кто со стороны — удивился бы. Сидит и улыбается. В том положении, в котором оказался Сергей с больным человеком на руках, плакать бы, а не улыбаться. А ничего. Встретился глазами со своей добровольной помощницей — она как раз, бережно приподняв седую, ею же причесанную голову больной, устраивала, умащивала ей получше, помягче изголовье, — и та поощрительно улыбнулась в ответ. Не удивилась. Живы будем — не помрем!
Маленькие аккуратные ладони, пока не побывавшие в горячем п е р е д е л е бесконечных работ, и крупная, утопленно-тяжелая, каких только мук не изведавшая, осиянная белым голова: девчонка в самом деле словно не давала ей утонуть, погрузиться в пучину болезни и беспамятства. Глаза у Сергея сами собой смеживались, и получилось так, будто и эту картину, и этот покойный, ободряющий взгляд он взял с собою — в сон, в забытье. С ними ему и засыпать было спокойнее. Как ныряльщик ныряет в прозрачные глубины, правя на мягкий, лунный свет раскрывшейся раковины…
Сколько он спал? Час? Два? Больше? Он и просыпался мягко, легко, как будто по-прежнему скользил на дальний свет. Проснулся и не сразу сообразил, где он и что с ним. Соображение приходило медленно, одновременно с этим медленным — так даже не ныряют и не выныривают, а парят — пробуждением. Он полулежал, ноги оставались на полу, голова же покоилась на чем-то мягком и теплом. Глаза он еще не открыл, как-то не хотелось открывать. К тому же вокруг, чувствовалось, было темно — темнота проступала, просачивалась и в сон. Так что не зрением — осязанием понял он, что прикорнул на чем-то мягком и теплом. Щекой, уже подернувшейся жесткой ночной щетиной, носом, которым он уткнулся в это ч т о - т о. Губами. Не что-то — в кого-то. Вот что понял он. И осязанием — тоже. Тоже — потому что в первую очередь сработало все-таки не оно. Видение, с которым он засыпал: тяжелая седая голова на девичьих руках. Оно, выходит, и впрямь не покидало его и во сне. Светилось. Проснулся и, помня о нем, понял: его голова на чужих руках. Пусть не седая, пусть только конторски, предательски плешивеющая, но тоже тяжелая, немолодая, уже немало чего видевшая.
А руки пахли розовой водой. Есть такая, продается в больших, чуть ли не граненого стекла, флаконах. Капля спирта, полкапли розового масла, остальное — вода. Маша, если только ей удается добраться до заветной материной полки (подставив большой стул, а потом водрузив на него еще и свой, маленький, «Машин» стульчик), после два дня с макушки до пят пахнет розами. Сергей любит целовать и нюхать ее макушку. Сергею нравится, когда Маша пахнет розами. Ему, правда, кажется, что она пахнет ими всегда. Всегда и вся. Только розами и пахнет его Маша.
Не требовалась ума палата, чтобы понять, даже не открывая глаз, на чьих руках покоится его голова.
Что ему оставалось делать? Немедленно вскочить, лихорадочно пройтись пальцами по всем пуговицам — застегнуты ли, поправить воротник, обдернуться, извиниться, щелкнув каблуками — пятки вместе, носки врозь — откланяться?
Куда — откланяться?
Да и н е х о т е л о с ь — откланиваться. Угрелся, распрямился как-то, хотя ноги и оставались где-то на полу.
Затылком он чувствовал, как тепло и спокойно дышит ее живот. Вполне вероятно, что она и сама — дремлет. Чутко дремлет, сторожа сразу и больную, и его. Комната матери и ребенка…
Сергей вновь закрыл глаза, но сон уже не шел. В общем-то, не требовалось много ума и для того, чтобы понять, вычислить, как его голова очутилась здесь. Этим он и занялся: вычислением.
Вероятнее всего, задремав, он стал без конца валиться на больную, как то и бывает обычно ночью в забитых до отказа залах ожидания. Девчонке, видимо, надоело (намеренно выбрал именно этот глагол) возвращать его в надлежащее, вертикальное положение, и она села между ним и тещей. Он этого не заметил и продолжал заваливаться набок. Только теперь на нее. Так и свалился ей на колени. Ну а дальше — не могла же она позволить, чтобы чужой, старый (опять намеренно выбираю слово) мужчина лежал у нее непосредственно на коленях. Вот и подсунула ладошки.
А может — подставила заранее? И ждала — с подставленными ладонями?
Еще не спекшиеся, не отвердевшие в горниле жизни, еще пахнущие — Машей.
В другое время он уже делал бы стойку. Вставал на задние лапы («ходить на цырлах», — говорили они в юности), выжидающе скрестив на груди передние, безвольные, поводив мордою, втягивая раздувающимися — пока напряжены только они — ноздрями пустой, тревожный весенний воздух. Весенний — в июне. Состояние вечной легавой… Был моложе, чутье было острее, болезненней. Обилие красивых женщин буквально подавляло его (вместо того чтобы воодушевлять, бодрить), как подавляет, нервирует молодого пса обилие резко выраженных, влекущих и вместе с тем ускользающих, не реализующихся плотью запахов. Юбочником, слава богу, не стал. Потому и не стал, что чутье смолоду было слишком болезненным, а не энергичным, реализующимся. Но юбки ни одной не пропускал — мысленно. И теперь еще, завидев красивую женщину, каковых он, даже не видя еще полностью, угадывает, реконструирует по одной лишь походке, повороту головы, по тому, как, ныряя, мелькнет вдали яркий зонтик, по духам, хотя они как-то как раз наиболее обманчивы в своей тотальности, ибо женщины чуть ли не поголовно поняли их как пусть дорогостоящий, но самый прямой резерв совершенства, пользуясь им, словно нехитрым фокусом, после которого, увы, у мужчин нередко остается чувство полной одураченности, по черт-те каким неуловимым приметам, он враз подберется, заслышит ток струящейся крови.
Вот когда — усталые силы бодрит!
И еще одно ощутит он, мимолетно, мгновенно, но так же глубоко и всеобъемлюще — чувство сожаления.
На одну смотришь, а всех жалко, — есть такая лукавая пословица.
Да, ничего, наверное, не передает бег времени так полно, как «мимолетное виденье». Мимолетное виденье женщины, которая никогда уже не будет твоей. М и м о. В данном пункте, Сергей Никитович, ваше будущее исчерпано. Ноль будущего. Так и идет твой откат от будущего. Тебя от него отрезают — по пунктам.
Это даже не бег. Это т е ч ь времени. Как кровь меж пальцев. Не зря ведь в эти мгновения ощущаешь и ток собственной крови.
Со временем и нахальство появилось, и напористость. Чем меньше оставалось б у д у щ е г о, тем энергичнее (пошлее?) становилось чутье. Загорался сам и, надо же, подчас умудрялся воспламенить еще кого-то. Другую — шелестящую шелком — сторону. Не исключено, правда, что другая сторона просто-напросто искусно притворялась воспламененной. Тротила, горючего материала оставалось все меньше, иногда ему казалось, что он всего себя прожил насквозь, начисто, «дочиста», как говорят у них в селе, что в нем ни пороховинки, ткни в грудь — а там труха. Труха, заключенная в жесткую и еще представительную грудную клетку.
Возгорание трухи? Хотя что там говорит физика? Способность горючего материала к загоранию, взрыву, детонации находится в довольно прихотливых отношениях с количеством этого материала. Тут не всегда чем больше — тем легче. Критическая масса — не обязательно огромная масса…
«Люблю», — говорил он, подстегивая самого себя, не раз, и другая сторона даже с некоторым ошеломлением выслушивала эти совсем необязательные и даже обременительные в подобной ситуации признания.
А любил ли он кого-нибудь, кроме своей жены? Жены, на которой женился, когда ему было девятнадцать лет. Из интерната, из бездомности прямо в женитьбу — бух! Ему девятнадцать, и ей девятнадцать. И любил ли он, наконец, и свою жену?
И способен ли он-то сам, з д о р о в ы й, любить — кого бы то ни было? (Кроме Маши.) Скобки образовались в уме мгновенно, и тут-то никакой игривости не было. Маша — это и есть в его жизни самое натуральное. «Верняк», если вспомнить армейский жаргон. И есть его сердце, только не заключенное в грудной клетке, а выпущенное почему-то на волю. Гуляет себе, и ты с такой нежностью и болью — до рези в заслезившихся глазах — следишь за каждым шажком.
А то, другое, и не любовь вовсе, а постылая повинность. Господи, сокрушался порою Сергей, скорее бы состариться! Чтоб никаких отвлекающих моментов. Когда я ем, я глух и нем. Шуруй и шуруй себе из пункта «А» в пункт «Б», где, прямо на автобусной остановке, тебя уже ждет костлявая с косой. «Не сбиваться с маршрута, не отвлекаться, не расхолаживаться!» Не рассредоточиваться. Состариться, чтоб сердце уже не попадало в резонанс с обольстительно мелькнувшей красотой, отзываясь вослед ей ноющей щемящей нотой (мужское восприятие красоты если и не похотливо, не хватательно, то — деятельно, это восхищение земледельца, не склонного к остолбенению с открытым ртом). Чтоб не вздрагивать, не подаваться враз напружинившимся нутром на нечаянный рожок женского смеха…
Стоп-стоп! Это и есть самый верный признак, эквивалент, мышиный хвостик, по которому легко представить, восстановить ц е л о е, это и есть самая обличительная улика женской красоты — смех. Изливаясь из тонкостенного, телесно просвечивающегося сосуда, он один к одному передает, выдает и форму сосуда, и букет заключенного в нем хмеля. Пьянящий смех…
Выйти из игры! Из роли. Избавиться наконец от этого унизительного, животного охотничьего инстинкта…
Это кто же тут охотник? Вы, что ли, Сергей Никитович, охотник?! Да разве легавая — охотник? Она всего лишь орудие, гонец охотника. Вот и вы, и ваш брат вообще — подневольный, вечный (в том смысле, что один, стараясь, выбывает из игры, а на место его заступает другой, молодой) гонец неведомого, жестокого охотника.
Гонят нас, гонят… Ату!
С чем же мы имеем дело, Сергей Никитович, в данном случае? Рискованная интрижка прямо у изголовья смертельно больной тещи? Святотатственная распущенность? Симптомы только странные: ни характерной дрожи под ложечкой, ни хватательного инстинкта. Уткнуться, зарыться в ладони, как тот же шмель зарывается с головой в цветочную — розы? — чашечку. И когда наконец выбирается, пятясь, оттуда, весь от усов до мохнатых лапок вывожен, вызолочен сладкой пыльцой. Хотя опять вы неправы, Сергей Никитович: шмель роется в лепестках, как в роскошных, тончайших надушенных нижних юбках. Тоже — легавая!
Между этими юными ладонями и ладонями его тещи целая жизнь. Пропасть жизни. Сколько в них будущего, в этих юных ладонях!
Уткнуться. Вдохнуть. Утешиться. А через несколько часов они опять станут навсегда чужими. Да ведь ему-то потому так необременительно и дышится в этих ладонях, что как раз никакого будущего в э т о м п у н к т е у него нет. Ноль будущего. И этот факт, черт подери, его впервые не удручает. Время потекло вспять?
Как знать, может, в других обстоятельствах он и не заметил бы ее. Обстоятельства делали его не только зорче. С него скорлупа слезла. Короста…
Он просыпался и засыпал вновь, пытаясь и сквозь сон, причудливо деформировавший их, додумать эти свои разрозненные, неясные мысли. Последний раз проснулся уже под утро. Пора и честь знать, подумал, как очнулся. Совесть надо иметь: руки у человека небось затекли. И потихоньку, осторожно поднялся, заглянул девушке в лицо. Глаза у нее были закрыты. Она спала. Спала уже давно или только-только заснула, сморенная предутренней дремой. Стерегла-стерегла и незаметно уснула.
Ладони ее не шелохнулись. Так и лежали раскрытые, на коленях, матово обозначаясь в резко поредевшей, уже взявшейся — как весенний снег водою — светом комнате. Если и не распустившаяся чашечка, то чаша, в естественной завершенности которой и в самом деле есть что-то растительное.
Спала, а он-то фантази-и-ровал — не то наяву, не то во сне. Возгорелся.
А что, если она не спала? А закрыла глаза только тогда, когда поняла, что он проснулся? Проснулся и поднимает голову с ее колен. В тот момент и прикрыла глаза, сделала вид, что спит. Чтоб не смущать его, чтоб не тревожить.
Мало ли еще по каким причинам люди закрывают глаза в такой предрассветный час.
32
Капитан Откаленко любит общественные нагрузки — чтобы иметь возможность их проклинать. Сетовать на непомерную занятость. Среди его нагрузок одна, которую, похоже, никто на него и не возлагал. Он возложил ее на себя сам и исполнял с видимым усердием. Чем больше удовольствия доставляла капитану та или иная нагрузка, тем с большим пылом предавал он ее анафеме.
В вашем политотделе капитан Откаленко был еще и кем-то вроде месткома в единственном числе. У военных профсоюза нет, не было его и в вашем политотделе. Профсоюза не было, но профсоюзная работа была налицо. Ее и осуществлял — в нагрузку — капитан Откаленко.
Когда военторг, скажем, выделял политотделу (как с барского плеча) ковер или шубу, Откаленко тут же принимался набрасывать «список». Список претендентов — капитан вообще тяготел ко всякого рода спискам и протоколам. К документу как таковому. Тут же садился за стол и, насвистывая, давал д о к у м е н т у соответствующее оформление, титул. Например: «Список желающих приобрести шубу женскую натуральную лисью за три тысячи рублей 56-го размера». И первое, что он говорил, переходя от титула непосредственно к фамилии, было, как правило, следующее:
— Ну, Муртагина и вписывать нечего: у него все равно денег нету.
Не сказал бы, что военторг баловал наших офицеров, но эту фразу ты слышал от капитана неоднократно.
С легкой руки капитана в политотделе довольно прочно бытовало мнение, что у вашего начальника с деньгами того — негусто.
В самом деле. Кроме девчушек-погодков у Муртагина было еще двое детей. Сын, учившийся в восьмом или девятом классе, и дочка, которая только что поступила в Москве в авиационный институт. Жена не работала, да и куда там работать с такой семейкой. Ничего удивительного, если с деньгами у Муртагина и впрямь было «того».
Ничего-то ничего, но, пожалуй, имела тут место и военная хитрость. Уловка.
— Евдокия Степановна, здесь у нас в магазине появилось масло в пачках. Может, взять? — услышал ты однажды, как заговорщицки, краснея и оглядываясь на муртагинскую дверь, шепчет в телефонную трубку наша секретарша Маша Киселева.
Евдокия Степановна — так звали жену Муртагина, в прошлом здешнюю, местную ткачиху.
Надо ли пояснять, что «масло в пачках» в такой текстильной глубинке, как Энск, и по сей день относится к разряду устойчивого дефицита. Это сейчас-то — что уж говорить о начале семидесятых…
Муртагин запретил жене ходить в военторговский магазин, расположенный с внешней стороны штабного здания и обслуживающий только работников штаба УИРа и их семьи.
Не было денег на масло? Или элементарная прижимистость?
Тогда, десять — двенадцать лет назад, ты бы, может, еще и поверил (и то лишь в безденежье, ибо прижимистые-то как раз и не отказываются ни от масла, ни тем паче от натуральных шуб). Сейчас же, когда у тебя у самого трое детей…
Дудки!
Видимо, раз сунулись к Муртагину со «списком», поставив его фамилию, разумеется, во главу этого замечательного документа, другой, пока ему не надоело и он не заявил радетелям его благосостояния, что для таких покупок у него нет денег.
Отсутствие Муртагина в подобных списках делало «конкурентоспособным» даже новичка политотдела лейтенанта Борисенко. Резко демократизировало список. Он становился не просто короче на одного человека, а короче на начальника. Наверняка Муртагин отказывался от «пульки» именно из этих соображений. Не хотел сковывать дух справедливости, столь замечательно владевший капитаном Откаленко.
Хотя правомерно предположить и нечто совсем другое. Самое простое, проще пареной репы: Муртагину претило участие в подобных затеях. Запретить их не мог, то был бы натуральный левацкий загиб в современных условиях, но сам участвовать в ажиотаже гнушался. Презрение — слишком сильное слово. Но какое-то внутреннее, сдержанное высокомерие к бахвальству, к так называемому вещизму, а в какой-то степени и к быту (собственному — о нашем, солдатском, радел всерьез) в нем чувствовалось.
Помните большевика Алешу Башкатова? Вот где аскетизм высшей марки: будучи беднее церковной мыши (уже хотя бы потому, что мышь живет в настоящей церкви, а Алеша ютился в бывшей, приспособленной под мехмастерские, под железо), не имея ни кола ни двора, собирать опорки и продовольствие для «голодной, разутой, раздетой Красной Армии, форсирующей Сиваш!». И не ч у в с т в о голода гложет человека, гложут м ы с л и об устройстве, точнее, переустройстве мира. Гложет дух — попирая плоть.
Параллель чересчур смелая, но это случай, когда параллельные прямые — пусть где-то в необозримом далеке — сходятся!
Сомнение в одном только термине: аскетизм или таки аристократизм? Человек восточной крови, Муртагин, сдается, не признавал барахольные хлопоты мужскими. Достойными внимания мужчины. Тем паче — военного. Увы, как часто, как густо сегодня мужчина — не д о б ы т ч и к, а доставала. Тряпок, икры, масла в пачках, югославских унитазов… И что самое грустное — доставала-энтузиаст…
Чингисхан — это прозвище, которым Муртагина звали за глаза (капитан Откаленко так и говорил: «Ну, Чингисхана и вписывать нечего, у него все равно денег нету»), улавливало не только неслышность, восточность походки, появления Муртагина. Но — и некоторые нюансы его характера, в том числе отношение к «спискам».
Чингисхан без копейки в кармане — вот это аристократизм!
…Есть род людей, предпочитающих общественные нагрузки прямым, служебным, потому, наверное, что спрос за общественные нагрузки все-таки общественный. Без оргвыводов. Относился ли к ним капитан Откаленко? Относился или нет, но когда Муртагин уже в конце твоей действительной службы предложил Откаленко новый, самостоятельный участок — замполитом в одной из частей УИРа, — тот отказался.
Попросил ночь на размышления, на совет с женой, а утром отказался.
В своей должности капитан достиг потолка. Должность у помощника начальника политотдела капитанская, а Откаленко пора было присваивать очередное, майорское, звание. Замполит части — должность майорская. Правда, большинство ваших частей располагались не в райцентре, не в деревнях, а в самой глубинке, в глуши, в лесах и болотах. На «точках». Точнее, они-то, эти части, и строили «точки». И работа там была непосредственная. В массах. Откаленко же любил работу инструктивную. С каким удовольствием и напором проводил он всевозможные инструктивные мероприятия! Увлекшись, инструктировал даже замполитов частей, бывалых майоров, лично или по телефону.
Не пройдя этой стадии — замполит части, трудно рассчитывать на серьезную карьеру на поприще армейской политработы. Это как арка: ни объехать, ни обойти. Правда, далеко не для всех — триумфальная. Ибо здесь не только ты пробуешь непосредственную, в массах, работу. Но и работа пробует тебя — непосредственно, на зуб.
Как ни честолюбив капитан Откаленко, а наутро от предложения отказался. По своей ли инициативе, по совету ли жены, работавшей в райцентре на хорошем месте, но отказался.
В тот же день замполитом части был назначен капитан Купрейчик. Тот самый застенчивый капитан, инструктор по культмассовой работе, который смешно побаивался тяжеловесных рукопожатий майора Ковача. А тут надо же — оказался на высоте. Не в пример записному спортсмену. И ночь на размышления, на совет с женой не брал.
А капитан Откаленко в тот же день был назначен инструктором по культмассовой работе. Неизвестно, спрашивал ли на сей раз Муртагин его согласия. Но в новое кресло капитан, кажется, пересел с облегчением. И здесь же энергично занялся подготовкой торжественных проводов капитана Купрейчика на ответственную самостоятельную работу. Должность инструктора политотдела по культмассовой работе тоже майорская, так что, на первый взгляд, Откаленко ничего не проиграл: здесь у него тоже был достаточный потолок для роста. Он и вел себя в полном соответствии с этим итогом: не проиграл. Был весел, даже несколько взвинчен, бурно деятелен. Но во взглядах, которые иногда бросал на коллег-офицеров, сквозило нетерпеливое, смятенное ожидание. Капитан ждал подтверждения итогов. Вроде наспех листал странички учебника, торопился заглянуть в ответ: сходится или не сходится?
Школьник капитан Откаленко? Раньше он меньше всего походил на школьника. На учителя, на учительствующего, инструктирующего — да, но не на школьника. Школьник — это, скорее, капитан Купрейчик. Как все переменчиво в жизни!
А они с ответом не торопились. Любезно поддерживали его бурление, поздравляли с назначением и — занимались своими делами.
Впрочем, наиболее прямой ответ выдал майор Ковач. Поздравляя капитана Откаленко, он впервые не стушевался, прицелился так, что в секторе его обстрела оказалась вся ладонь капитана, а не кончики холеных пальцев, и хватил-таки по ней, как по наковальне. Капитан Откаленко смолк, поднял правую ладонь и с удивлением посмотрел на нее: ладонь была алой. Аж светилась изнутри. Не наковальня, а то, что кладут на наковальню, — подкова.
— Да-а, — задумчиво произнес капитан.
— Годен к нестроевой! — по инерции с удовольствием выдохнул майор Ковач.
Майор Ковач побывал и замполитом роты, и замполитом части, и секретарем парткома УИР. А вот перед капитаном, старожилом политотдела, робел. До этого момента. Теперь же пиетет был утрачен.
33
Улетали рано утром. Правда, к самолету пассажиры, невыспавшиеся, зябнущие, двигались с недоверием: вдруг опять обманет, но когда взлетели, недоверие рассеялось — здесь лету ведь с полчаса. Раз уж он взлетел, значит, просто не может не довезти их до места. Настроение в самолете поднималось вместе с набором высоты. Больная тоже изменилась за этот полет. Не то навык, опыт появился, не то сама необычная ситуация потребовала крайнего напряжения, мобилизации всех оставшихся сил, всего оставшегося сознания, и оно, это сознание, смутно, болезненно, превозмогая боль и мрак, засветилось… Уже то, как вполне осмысленно вглядывалась она в его лицо, показывало, как она переменилась.
Она сама словно поддерживала, подбадривала его.
Живы будем — не помрем.
Она… Сколько раз на людях называл эту женщину матерью, практически никак не именуя ее про себя — о н а. Назвал бы он ее матерью сейчас? Пожалуй, не назвал бы, хоть весь ее Буденновск окажись сейчас перед ним. Вот ведь как получается: сейчас бы он ни при каких обстоятельствах не назвал ее матерью, и это, как ни странно, свидетельствовало об их большей близости, чем раньше. По крайней мере, его большей близости к ней. Сейчас даже такая — святая — ложь показалась бы ему оскорбительной. Что-то в их отношениях стронулось. Стронулось в Серегином отношении к теще, ибо что может стронуться в человеке, находящемся в ее состоянии? В состоянии, когда не только тело — сама душа, кажется, как речка льдом, схвачена, скована до дна стылой неподвижностью и немотой? Стынью…
Как знать, впрочем, так ли уж она неподвижна, нечувствительна к происходящей в ней перемене? Что-то в ее глазах, в ее руке, которой она сразу, сама, как только ее внесли на носилках в самолет и уложили на старом месте, нашла его, еще холодную, еще зябкую после марш-броска в санитарной машине (девушка-стюардесса ехала вместе с ними по раннему, продуваемому влажным рассветным ветром летному полю) ладонь, свидетельствовало: там, подо льдом, д ы ш и т. Течет.
34
Почему ты пишешь в своей тетради о Муртагине? Почему?
Много лет назад, находясь в командировке в Казахстане на уборочной — эта твоя первая, пробная, испытательная, ставшая заодно и испытанием на выносливость, большая командировка от большой столичной Газеты уже упоминалась здесь, — наблюдал на элеваторе одного из областных центров следующую картину. Элеватор жил круглосуточной напряженной жизнью. Урожай был рекордным. Не хватало вагонов. Под воротами элеватора день и ночь вереницей выстраивались машины с хлебом. Дело осложнялось тем, что уборка затянулась из-за дождей, перемежавшихся снегом. Зерно шло повышенной влажности. Элеваторные сушилки не справлялись с ним, задыхались. То здесь, то там зерно начинало «гореть» (о нем говорят не «горит», а «сгорается»). Большие, тяжелые массы зерна начинают преть, нездорово разогреваясь изнутри. Сунешь руку в такой ворох и по самый локоть ощутишь нехороший, нутряной, влажный жар. От таких ворохов полз пряный, липкий, тлетворный запах. Болезнь. Самовозгорание. Такое зерно нужно или прогонять через зерносушилки, или как можно чаще шуровать деревянными лопатами, рассыпать тонким слоем на сухой земле или на брезенте.
Как и среди людей — болезнь, происходящая от сырости и скученности.
Спиртовый, тяжелый запах сгорающегося зерна — зловещий, генами, кровью помнящийся запах беды.
Запах беды при таком, казалось бы, изобилии — элеватор вспучивало от непомерного количества хлеба, которое ему приходилось принимать и перерабатывать. На директора элеватора, молодого, недавно назначенного казаха, жалко смотреть: извелся весь, избегался, дневал и ночевал на работе.
В той запарке, в которой жил элеватор, ты сразу обратил внимание на одного странного человека. Он не выпадал из всеобщей суматохи — он тоже кружился в ней и даже, как ты потом, присмотревшись, понял, во многом сам был ее движителем. И все-таки. Лошадь и всадник состоят в совершенно различных отношениях с движением, в котором оба, казалось бы, находятся. Это и было движение всадника. Наездника. Впечатление усиливалось еще и тем, что этот человек, грузный, рыхлый, тучный, даже по двору элеватора разъезжал на легковой машине. На «козле» подъедет, высунется в дверку, красный, распаренный, отдаст решительные указания и — к следующему объекту. Подрулит к лаборатории, где девчата-лаборантки скубутся с колхозными шоферами, отказываясь принимать зерно слишком высокой влажности и засоренности, снижая его сортность, а значит, и оплату за такой хлеб. Высунувшись в дверку, человек цыкнет на лаборанток, махнет сельским шоферам: трогай, вали в общую кучу!
Поздней ночью на главном пульте элеватора стал свидетелем такой сцены. Директор, вооружившись отверткой, спустился по винтовой лестнице вниз, в подвальный отсек, где располагался главный весовой механизм, поколдовал там, поднялся назад, по громкой селекторной связи пригласил разъезжавшего на автомобиле человека навестить главный пульт. Здесь, дескать, имеется важное сообщение. Люди, дежурившие у пульта, мужчина и женщина, удивленно переглянулись: какое еще сообщение? Через несколько минут за стеной взвизгнули тормоза — стало быть, директора услышали. Высоко, дискантом запели крутые деревянные ступеньки, и в проеме двери появился, отдуваясь, наездник. Непривычно было видеть его вне автомобиля. Ты бы не удивился, если бы в двери появился вначале «козлик», а потом уже — из дверцы «козлика», не спешиваясь, — высунулся для решительного указания его хозяин.
— Слушаю вас, — обратился вошедший к директору, промокая влажным носовым платком взопревшую шею.
Удивительно, но кнута при нем видно не было — ни из-за голенища не торчал, ни руки им не поигрывали.
— Взгляните на показатель общего веса зерна, принятого элеватором, — учтиво пригласил его директор к пульту.
Тот подошел, уставился в точку, обозначенную директором. Ничего не понимая, выжидающе обернулся:
— Ну и что?
— Миллион пудов. Есть миллион пудов!
В голосе директора слышался усталый пафос.
Человек встрепенулся, всю его вальяжность, распаренность как рукой сняли. Пухлыми, взмокшими ладонями уперся в пульт, как будто перед ним была штанга рекордного веса, которую необходимо взять. Рвануть.
— Где?
Директор невозмутимо указал пальцами, г д е.
Дежурные весовщики опять недоуменно переглянулись.
— Что же вы сразу не сказали? Вчера ведь только говорили, что не раньше, чем через три дня.
— А вот и говорю. А вчера, стало быть, ошибался, недооценил, — директор замолчал, не стал уточнять, что именно он недооценил.
— Есть тут телефон?
Ему пододвинули телефон. Человек окинул всех торопливым взглядом, в первое мгновение, вероятно, хотел выставить вон, но потом передумал, ограничился лишь повелительной просьбой сохранять тишину.
Накрутил диск, пригладил на макушке редкие волосы.
— Сарсенбай Акмалевич? Лично я миллион раз извиняюсь, что звоню вам так поздно, прерываю ваш короткий сон…
Ответных слов, звуков, раздраженного бурчания трубка не доносила.
— …Но я все-таки решился сообщить вам радостную весть. Я лично счастлив, что вы услышите ее из моих уст, из уст своего помощника.
Трубка, вероятно, нетерпеливо гмыкала.
Товарищ отодвинул ее от лица и произнес в нее, как в микрофон:
— Есть миллион пудов! От всей души, от всего горячего сердца я поздравляю вас, Сарсенбай Акмалевич, с рекордом. Коллектив элеватора рапортует вам и передает наилучшие пожелания успехов в труде и замечательного здоровья…
«Коллектив элеватора», включая тебя, замер.
Трубка была плавно, с чрезвычайным почтением к ней посажена на место. Так, мизинчиком, нажимают клавишу заключительного нежного («пиано пианиссимо») аккорда.
Энергично подняв руку, которая только что так ласково, осторожно укладывала на место телефонную трубку, в прощальном общем жесте, человек опрометью ринулся в дверь.
— Сердечно поздравляю, товарищи, с трудовой победой, — послышалось откуда-то с порожек под аккомпанемент мощно — откуда только прыть взялась — громыхающих шагов.
Еще через минуту затарахтел, ринулся прочь жалобно прогнувшийся на рессорах «козлик».
И — за ворота, мимо машин с хлебом, выстроившихся в живую, светящуюся ночную очередь. И, поднимая пыль, — в город.
Только его на элеваторе и видели.
Директор облегченно вздохнул и все с той же отверткой направился в преисподнюю — возвращать весовой механизм в законное состояние.
Уехавший хоть и тоже был в мыле, и даже больше, чем кто-либо другой здесь, но это было мыло погонщика. Не движителя, а погонщика.
— Ну, теперь хоть можно будет спокойно работать, — сказал тебе директор. — Хотя, с другой стороны, плохо, что мы всех интересуем, пока идет хлебосдача. Как только она закончилась, о нас забывают, в том числе и ваш брат журналист. Как у нас с вагонами, с сушкой, подработкой зерна, с людьми, с техникой — это уже сразу становится нашим внутренним делом. До следующей уборочной, до следующего рапорта…
И второй сюжет — тоже из журналистской практики.
Вот уже восемь лет, правда, не каждый год, а уж через год — точно, а то и дважды в год, осенью, получаешь извещение на посылку из Белоруссии. Идешь на главпочтамт, заполняешь бланк. Получающих посылки на главпочтамте много, транспортер, по которому посылки выезжают откуда-то из складских недр почтамта в зал, где толпятся нетерпеливые получатели, практически не выключается. Стоишь и спокойно ждешь, когда среди аккуратных фанерных ящичков, бумажных и матерчатых свертков появится н е ч т о. Да, посылочное отправление, которое ты ждешь, можно назвать только так. И вот оно наконец появляется на транспортере, торжественно, как на колеснице, въезжает в зал. Можешь и не смотреть в ту сторону. Как только в толпе ждущих вместе с тобой возникает легкое замешательство, как только заслышишь хоть чей-то удивленный возглас, так можешь, не раздумывая, поворачиваться к транспортеру и даже протягивать к нему руку. Твоя поклажа!
Чаще всего это бывает корзина. Плетенная из ивняка корзина причудливой формы. То в виде бочки, с откидным «днищем», то в форме лодки (Ноев ковчег — и по форме, и по содержанию). Движется такая галера среди стандартных ящиков — каждый поневоле обращает внимание. Потом ты волочешь корзину домой, и в доме вслед за тобой по всем лестничным маршам поднимается — как дым из трубы в ясную погоду — невидимый, но теплый, слюнки вызывающий аромат поздних яблок.
В махине, пронизанной железом, бетоном, стеклом, вдруг начинает пахнуть дымом. Соломой и яблоками. Детством. Вот ведь фокус: на первом этаже расположен овощной магазин, но от него почему-то запахи совсем иные — овощебазой.
Дома хором распаковываете корзину. Так и есть: полным-полно яблок. Нельзя сказать, что яблоки какой-то невиданной величины и стати: есть покрупнее, есть помельче. Но все чистенькие, крепенькие, умытые. И так сильно, свежо, нежно — пахучие.
Первый признак немассового, непромышленного производства — запах.
Но и это еще не все. Яблоки в корзине разных сортов. Сгруппированы по сортам, переложены папиросной бумагой. Внутри каждой такой кучки, каждого семейства, что ли, вложена бумажка с названием сорта.
«Добрый крестьянин».
«А это — «белорусский Антон»…
Внизу, в овощном, — «старкинг», «гольден», «джонатан», а тут — «добрый крестьянин». Сорт уже по названию даже не отечественный, а доморощенный. Может, потому и аромат такой — не космополитический, а дома, детства? Малой родины. В большой корзине, на дне, еще и маленькая корзиночка. Аккуратная, неглубокая, судя по розоватым, тонким, гибким прутьям — девичья горсть. В горсти той несколько лесных орехов, два-три сушеных белых гриба, веточка рябины.
«Это вам кланяется наш лес».
Тут же, среди яблок, коротенькое письмо или чаще открытка. Текст на открытке отпечатан на машинке. Машинка старая, разве что не с ятями, буквы у нее прыгают. Машинописный текст вроде бы должен придать торжественности и официальности, но эти танцующие буквы независимо от письма, ими обозначаемого, выплясывают совсем другое — озорное, мальчишеское.
«Поздравляем Вас с праздником, желаем, чтобы Ваши творческие дела и впредь шли в гору»…
А они пляшут: «будь здоров и не чирикай».
В письме ли, в открытке обязательно стишок собственного сочинения. Тоже, так сказать, доморощенный.
Вспоминайте нашу Липень, И садов весенних кипень, И речушку у ворот, И меня — под Новый год.«P. S. Больше двух недель ходил по приглашениям наших липнян, прививал в садах черенки лучших сортов яблонь и груш, привил более 200, все прижилось, говорят, рука легкая. Приезжайте к нам!..»
Много лет назад несомненно под влиянием повести Василя Быкова «Обелиск» у тебя возникла мысль написать очерк о селе и обелиске. Они существуют вместе, неразделимо: село и обелиск в селе, уже неотъемлемая деталь и сельского пейзажа, и самой деревенской жизни. Задался целью проследить, как существование обелиска, а в конечном счете общего, давнего горя влияет на жизнь конкретного села, на его нравственную атмосферу, на людей разных поколений, особенно на тех, кто родился после войны, недавно, кто это страшное горе — не застал. Цель, как теперь понимаешь, несколько умозрительная, но тогда она тебя забрала всерьез. Созвонился с собственным корреспондентом газеты по Белоруссии. Это была женщина, которую ты хорошо знал еще по своим собкоровским временам. Найти подходящую деревню не составляло труда. Ее нетрудно найти в любом уголке страны, а уж в Белоруссии — тем паче.
Возможно, ты первоначально слишком жестко, если не схематично, сформулировал тему очерка, возможно, просто не вытянул ее в том виде, в каком она представлялась в замысле, а может, просто сама живая жизнь, вмешавшись, раздвинула столь строгие рамки, видоизменила замысел, но очерк получился несколько другим, чем задумывался.
Или человек, которого ты встретил, увлек тебя, подчинил себе и перо, и тему…
«…Мы стояли у братской могилы, над которой тихо распускались тополи, когда к нам подошла седая простоволосая женщина. Молча поклонилась учителю и притулилась к ограде, у самого уголка.
Здесь, у самого уголка, лежат у нее четверо.
Сеня — 12 лет,
Таня — 9 лет,
Маня — 7 лет,
Шура.
Шуре было восемь месяцев. Шура была у нее на руках. И еще двое чужих детей держались за ее юбку в тот вечерний час 13 января 1943 года, когда фашисты расстреливали и сжигали партизанскую деревню Брицаловичи. «Когда нас начали полосовать из пулеметов, то на меня упала Степиха. Большая была женщина, всю меня кровью залила. А когда я очнулась — кругом только мертвецы. И дети мои — мертвецы…» Когда они с мужем возвратились из партизанского отряда, она билась, и плакала, и просила похоронить ее здесь, у этого уголка. «Треба жить», — сказал ей на то муж Михаил Фомич, для которого «жить» даже сейчас, на 72-м году жизни, значит работать. «А как не работать. Дети только на ноги становятся». Особенность деревни: родители старые, а дети — «на ноги становятся». Новые, послевоенные дети.
Треба жить… Мы разговаривали с Анной Ивановной Потапейко, а к нам подходили новые люди, у каждого из которых кто-то лежит — в братской могиле 676 человек, в шесть раз больше, чем тех, кто живет на братском пепелище. Кланялись, даже целовались с учителем, прикасаясь своей сединой к его седине. Говорили с ним, просили на День Победы, как всегда, прийти сюда, на митинг, и сказать слово — какая же память без учительского слова? Он обещал, что обязательно придет, дружески обнимал их за плечи и говорил хорошие, спокойные слова, в сущности, ничем не выделяясь среди них — разве что крупным ростом да учительскими металлическими очками…
Почти тридцать лет назад в облоно его спросили, в каких условиях он хотел бы работать, и учитель попросил, чтобы была река и был лес.
И была река, и был лес. Домов только не было, потому что они были либо сожжены бензином, либо взорваны бомбами: Брицаловичи, Липень, Устюжье — села, входящие в местный колхоз имени Володарского, как и весь Осиповичский район, — один из центров партизанского движения в Белоруссии, потому и жгли их фашисты с нечеловеческой злобой. Домов не было — учитель, отец четверых детей, и сам-то отстроился не так давно. Чудной такой дом построил — с лестницей, с чердачной комнатой, с верандой и разными закоулками. Нет в нем твердокаменности, легкий такой дом, в котором хорошо произрастается книгам и детям. И тех, и других здесь целые заросли. Дети — это собственные дети, то есть внуки и ученики, и те, кто, строго говоря, таковыми не является, кто сам уже стал родителем и учителем, то есть бывшие ученики и взрослые дети учителя. А еще в этом доме часто гостят друзья юности и фронтовые друзья: друзья и близкие тех фронтовиков, что погибли здесь, на этой земле, чьи имена учитель установил со своими учениками и чьи останки перезахоронил со своими односельчанами. Когда в прошлом году в Липень приехали брат и сестра солдата Рощина, что погиб партизаном под окнами здешней школы, но тридцать с лишним лет был без вести пропавшим, они первым делом зашли в дом учителя. Так и зашли — с траурным венком в руках, который везли с другого конца страны. И учитель повел их на могилу солдата Рощина, и там, на могиле, они сказали учителю, что у них теперь спокойнее на сердце.
Домов не было, и учитель со своими учениками стал сажать сады. Он сажал сады, потому что на сад не надо таких больших денег, как на дом, — были бы только руки, и потому что учитель знал: к садам придут люди.
Сколько садов в Липени! И в Брицаловичах, и в Устюжье. И вокруг братского кладбища, и вокруг школы, и вокруг каждого дома, и просто так, между улицами, сады.
Он и сам похож на садовника. Раньше он сажал сады, потому что знал: к садам вернутся люди, а теперь сажает потому, что уже не может не сажать. Ходит по саду и сажает деревья. Последние деревца посадил вдоль дороги над рекой. Делает прививки в садах.
Появились дома, поднимались деревни. И учитель мотался после занятий с трудной подпиской на очередной заем, с антирелигиозными лекциями или со стихами Маяковского — смотря по тому, какая подходила дата. А то и просто выходил в поле, как, например, в прошлом году, когда он десять дней работал на сенокосе. Здоровье у него крестьянское, к тому же людей в колхозе не хватает, а если выйдет на сенокос учитель, то наверняка выйдут и другие, кому тоже быть в поле, может, и необязательно.
Он честно делит с ними хлеб, поэтому и с ним делятся и хлебом, и горем.
Когда-то партизанам пришлось выбивать из липеньской школы немецкий гарнизон, и она была здорово порушена. Отстроили. А несколько лет спустя установили на ней мемориальную доску с именами партизан, погибших в бою перед школой. В прошлом году вписали сюда и фамилию Рощина. Не пропал солдат Рощин.
Такая внутренняя последовательность есть во всех делах учителя. Деревья ведь тоже появлялись в строгой последовательности: сначала у братского кладбища… Собственно говоря, и садоводство для него продолжение учительства, ибо учитель знает еще одну истину: патриотизм — это очень овеществленная любовь. Любовь к дереву, которое ты посадил в детстве или которое выросло еще до твоего детства, любовь к матери, к речке.
Овеществленная любовь… Мы листали номера альманаха «Родник», организованного в школе А. В. Керножицким. В них нет привычных для таких альманахов сравнительных характеристик Татьяны Лариной и Наташи Ростовой или еще чего-то в таком духе. «У моей мамы нет ни орденов, ни медалей, но я считаю, что если награждать всех хороших людей, то просто не хватит никаких орденов и никаких медалей»… «Мой отец умер от старых ран за полгода до моего рождения, и я расскажу о том, что я узнал о нем за последнее время»… В конце альманаха — длинный перечень ребячьей редколлегии, а еще ниже, на отшибе, смешная приписка: «Печатание текстов — А. В. Керножицкий». «Печатание» происходит в одном из закоулков легкого дома на машинке «Украина» и затягивается до рассвета, потому что учителю хорошо думается над строчками, которые он перепечатывает.
Он учил суффиксам и префиксам, декламировал Маяковского и одновременно старших учил воле жить вопреки горю, а «собственно детей» учил памяти о горе.
Сам родом не из этих мест, он разделил их горе так же, как разделил с ними хлеб. И если память бывает персонифицированной, то наиболее осознанным воплощением ее является учитель.
Осознанно — значит с целью, а цель у него — сделать горе Брицаловичей их нравственной силой. Сейчас его следопыты ищут близких молодого солдата, расстрелянного немцами в 41-м неподалеку от школы. Солдат был нездешний, из-под Вологды, но сделать память «невыборочной» — тоже цель учителя.
И была река, и был лес. Мы шли с учителем через этот лес и вдоль этой реки, и он показывал их так же, как показывал свой сад. Место, где ему однажды встретилась лань, вековые дубы, редкое, занесенное в Красную книгу растение — горный чеснок. Мы шли в Брицаловичи, к обелиску. А на следующий день разговаривали об этой же дороге со здешними мальчишками и поражались, как их рассказы совпадали — даже в интонации! — с рассказом учителя. Только «редкое растение» мальчишки по-свойски именовали цибулей. Сегодня они знают и любят эту лесную дорогу, знают точное число, когда по весне вернулись в свое гнездо аисты, что все эти годы живут на засохшем — обгоревшем? — дереве у памятника погибшим. Им пока непосилен полный груз памяти, и пусть они знают хотя бы это — дату прилета аистов. А пройдет время, подрастет, окрепнет их душа, и постепенно — аист — дерево — мама — родная деревня, в которой живых пока меньше, чем сожженных, примет ту полную ношу, что делает человека человеком.
Впрочем, второй год учитель на пенсии. «Где ты встречал его с тех пор, как он перестал преподавать в школе?» — «В поле убирал с нами брюкву…», «Он проводил у нас урок мужества…» А четвероклассник Леня Курганович сказал, что ему нравится смотреть, как учитель мастерит возле дома лодку.
Есть еще одно обстоятельство, которое тоже определяет его отношение к памяти. Всю войну учитель пробыл на фронте, имеет медаль «За победу над Германией», но в боях не участвовал. У него с детства очень плохо со зрением, и он прослужил в запасных частях.
Когда он приехал сюда, здесь действительно была река и был лес. Прошли годы, и река доверчиво — на двадцать пять метров — приблизилась к его дому. А в лесу появились тридцать привитых им яблонь для общего пользования. И чтобы повысить жизнестойкость сорта, а заодно облагородить лесную яблоню. Жизнестойкость. И появились близкие люди, с которыми он стоит сейчас у обелиска, в сущности ничем не выделяясь среди них, разве что только одним. Тем, что в скорбном списке его фамилия не значится. Хотя и это, можно сказать, воля случая…»
Так ты писал о нем в семьдесят шестом году. С тех пор его ни разу не видел. Он конечно же постарел. Хотя руки его никак нельзя представить старческими, немощными. Широкие в запястье, узловатые, корявые — в них самих есть что-то от двух старых, разлапых, обомшелых, с буреломом в кроне, которая является одновременно и кладбищем отжившего, и зыбкой для нарождающихся ветвей, и тем не менее все еще могучих яблонь. Пра-яблонь. Что, если и подвои удаются ему по этой причине?
Где границы практического и духовного? Вполне возможно, что их нет. Крона, где все существует — сосуществует — во взвешенном состоянии. И само село — крона: мертвое вживлено в живое, в сущее. Как тут обойтись без столь искусного специалиста по подвою! Вот и ходит он от сада к саду, от двора ко двору. А весной по его следам, там, где колдовали эти корявые и вместе с тем всеведущие, вселасковые, как у старой повитухи, руки, вспыхивает — белым — жизнь, умножая ту самую кипень, которую он же потом столь старательно рифмует с названием своего села.
И еще одна разновидность подвоя: когда прилетают аисты? и где они селятся? и что их держит на обгорелом дереве?
П о д в о й. П о в и в а л ь н о е дело. Все рядом, соединение, как в столярном деле — переплет. Без границ…
…Да, тогда помаленьку у братской могилы собралась вся деревня. Постояли, помолчали, поговорили вполголоса о разном. О самом будничном: о припозднившейся весне, о том, что в прошлом году в это время уже вовсю сеяли рожь. Здесь уже не стеснялись таких неторжественных разговоров у могилы — так прочно, глубоко вошла она в самый быт села. А она и располагается, надо сказать, в самой его середине. В сердцевине. Совсем не похожа на деревенское кладбище, которое, как правило, выносят за околицу. Может, потому, что это больше чем кладбище. Не зря сюда приходят, з а х о д я т каждый вечер. Раньше село было больше, после войны резко уменьшилось, ссохлось, сжалось, стеснившись вокруг могил, — так в стужу теснятся вокруг костра. И сейчас село мало-помалу редеет. Новые, послевоенные дети, вырастая, потихоньку разлетаются по белу свету. На стройки, в города, в армию. Родители же гнезда не покидают. Теснятся к могиле, к тем, довоенным, к первенцам, что лежат горстью пепла в этой земле. И при этом так деятельно охвачены сегодняшними заботами своих сегодняшних, годящихся им во внуки детей. «Треба жить» — сколько посылок с первосортной деревенской снедью летят отсюда во все концы Союза. (Свои корзины и яблоки, кстати говоря, Керножицкий рассылает «списком» — всем своим друзьям.) Тяжкая доля: стоять на вечном полустанке — о т т е х к э т и м. Учитель тоже помогает им держаться. Связывает их если не с теми, кто в могиле, — эту связь извне привнести невозможно, она и так кровнее кровной, — то с их же зелеными, озорными, подчас им самим непонятными и еще чаще — не понимающими их побегами. Кровная связь тут тоже налицо, учитель же учит их связи ну если не духовной, то душевной. Взаимопониманию, взаимобережению этих двух так далеко и трагично — через утраченное звено, через войну, через братскую могилу — разнесенных поколений. Вот и ходит он — от поколения к поколению.
Не редеет село, а зеленым охранным колечком с в и в а е т с я вокруг того давнего, незатухающего, воистину вечного огня. Жгутом — вокруг раны.
Смеркалось. Вас приглашали в гости. Многие зазывали, но Керножицкий выбрал дом Анны Ивановны Потайпейко. «Сеня, Таня, Маня, Шура». Так и повела Анна Ивановна прямо с могилы, по темнеющей улице тропинкой, которую она одна чувствовала на ощупь к себе в дом, с мужем познакомила, на стол накрыла. Чего только не было на том столе! Весь погреб в горницу вынесли. Да еще соседи время от времени стучали в окошко: кто предлагал блюдо совершенно замечательной моченой клюквы, кто — жбан напитка, после которого «в голове как будто развидняется». Расположились на закрытой веранде. Сидели, разговаривали, выпивали, а спинами чувствовали знобящую пустынность дома. Холодок касался ваших спин. И остроен дом, и ухожен, правда, без молодого неуемного рвения, но — пустой. Да старики и сами говорят, что все больше в летней кухоньке обретаются. Теплее им там. Теснее. Есть у них еще двое детей, послевоенных, — учатся в городе. Разница в возрасте между старшим сыном Анны Ивановны — Сеней — и младшим сыном Анны Ивановны — Сеней — была бы двадцать девять лет…
Вы поднимались, но вас ласково усаживали вновь и вновь, и была уже полночь, когда вы поднялись наконец окончательно. Анна Ивановна же решила сделать вам на прощание подарок. Вручить по чайной паре. Пара как пара — чашка и блюдечко. Только из стекла. Стекло тоже никакое не художественное, толстое, даже мутноватое. Но, в общем-то, необычно — стеклянная чайная пара.
— Да не то новость, что стеклянная, — поправила Анна Ивановна. — А то, что небьющаяся. У нас тут в районе завод такой открыли. Так мы все и понакупили этих чашек. И не нарадуемся. Пускай и ваши дома порадуются. Из стекла, а не бьется.
Это тебе было понятно. В твоем селе тоже любили все исключительно небьющееся.
В доказательство своих слов Анна Ивановна размахнулась и бросила чашку на пол:
— Посмотрите.
А она возьми и разлетись. Вдребезги.
— Разбилась… — изумленно прошептала Анна Ивановна.
И упала на стул, и уронила голову на руки, и так тяжко, в голос, вздрагивая всем своим выработавшимся, в ы б о л е в ш и м существом, зарыдала. Весь вечер крепилась, привечала, хлебосольничала и под конец не выдержала.
— Разби-илась…
Как много тут разбилось!
Изумление было искупительным. Как и слезы — искупительные. Рыдания тяжкие, сотрясающие душу (помните: «уж осень о т р я х а е т…») и все-таки, и потому — облегчающие.
И Андрей Фомич, муж Анны Ивановны, хроменький колхозный сторож, засуетился, зашмыгал носом. И Эмма, корреспондент газеты по Белоруссии, дочка пограничника, погибшего в Бресте в первый день войны («От отца в памяти осталась только зеленая фуражка. Мне три годика было, так я, встречая его, бежала просто на зеленую фуражку. И сейчас, как увижу на улице зеленую фуражку, готова бежать к ней со всех ног…»), кинулась к Анне Ивановне, уткнулась ей в плечо. Под очерком, который ты тогда написал, стоят две подписи — ее и твоя. Ты писал, и среди всех картин у тебя перед глазами стояла и эта: к а к она кинулась. Написать об этом, помянуть об этом в очерке ты не додумался. Все-таки публицист из тебя был еще зеленый, слишком свято придерживающийся канонов, как же: упоминать о корреспондентке своей же газеты? — как будто люди сперва корреспонденты, колхозники, инженеры, а потом уже человеки, как будто принадлежность к журналистам уже сама по себе исключает общественную значимость судьбы. И ты просто поверх своей поставил ее фамилию. Можно было проявить участие лучше, глубже, сделать его фактом публицистики, а значит — общественного звучания, тебя же, слава богу, хватило хоть на это.
Скол. Волосяная трещинка была, вероятно, в чашке.
Анатолий Владимирович, вынув из кармана выглаженный белоснежный, неожиданно белоснежный платок, прикладывал к глазам и в перерывах смотрел на тебя влажно и настороженно: поймешь ли?
Готов был встать на защиту, оградить и х — от твоего снобизма или твоей глухоты.
Жаль все-таки, что «весеннюю кипень» здешних садов увидеть все же не довелось. Весна в тот год припозднилась, и тут учитель, увлекшись рифмой, погрешил супротив истины.
Скол.
Кстати, ты не задумывался над тем, почему последний год тебя не приглашают на почту?
Делатели дела… К кому бы он, Муртагин, сейчас тебя причислил: к тем, кто рапортует, сидя на чьей-то взмыленной шее, или к тем, кто делает?
И что он, Муртагин, сам делает сегодня в армии?
35
А разносы Муртагина помнишь?
Голос во время разносов тихий, спокойный, но не занудный. Не бесстрастный. В нем ощущалось, о с я з а л о с ь напряжение. Чувствовалось, что там, внутри у него, ну если не горит, не клокочет, то — болит. Расхаживал перед тобой (ты сперва стоял опустив руки по швам, но он жестом усадил тебя на стул; он ходил, а ты сидел, поворачивая голову ему вслед). Размышляя — опять как будто сам с собой, — горько удивлялся. Тоже деталь: не столько возмущался, сколько горько удивлялся. Горевал.
И тебя невольно вовлекал в это горевание. И в какой-то момент ты уже не водил головой — болванчик болванчиком — вслед за ним. Уже сидел, уставившись в одну точку перед собой, уткнувшись подбородком в сведенные кулаки. Самому себе и горько, и стыдно.
Первый раз дело происходило, когда ты только начинал службу в политотделе. Муртагин был не то в отпуске, не то в командировке, когда в политотдел приехал корреспондент окружной газеты. Сам по себе приезд человека из округа, да еще военного корреспондента, — событие. А тут журналист прибыл по критическому письму. Кто-то из новобранцев одной из наших частей жаловался на «нетоварищеское» отношение со стороны старослужащих, так называемых «старичков». «Старички» заставляли «молодого» заправлять за ними кровати, посылали вместо себя в наряд на хозяйственные работы. За непослушание — били. Увы, такое еще встречается. Заместитель начальника политотдела подполковник Добровский, остававшийся, как говорят в таких случаях, «на хозяйстве», всполошился. Он вообще человек несколько заполошный. Маленький, чистенький, рано побелевший благообразной и мирной сединой. Говоривший всегда почему-то обиженным голосом. Жесты его маленьких, тоже мальчиковых, вечно покрасневших, как будто вечно мерзнущих, рук были таковы, словно он постоянно от чего-то открещивался. Отпихивался. Мелкими, раздраженными жестами отталкивал нечто не очень существенное или — не очень стерильное. В армии есть такое выражение: неполное служебное соответствие. Кто знает, как насчет с л у ж е б н о г о, но неполное соответствие м е с т у службы, пожалуй, было налицо. Если и служить бы Добровскому в армии, то — не в такой. Не в строительных — с неистребимой темной каймой под ногтями — частях. Человек он был сугубо штабной (есть сугубо штатские, а есть сугубо штабные). Но и штаб ему бы — другой. Повыше. Почище, пофундаментальнее, не сборно-щитовой. Подальше от черных, черновых, непосредственных работ. Возможно, что и его неуверенная раздражительность происходила от этой неуютности местоположения: слишком близко. Можно обжечься, посадить пятно.
Корреспондент еще находился в кабинете Добровского, когда тот пригласил и тебя. Видимо, в разговоре, — то ли пытаясь установить неформальный контакт, то ли просто, подрастерявшись в первый момент и стараясь «выиграть время», собраться с мыслями, продумать последующие действия — не каждый день приезжают корреспонденты из округа, да еще по критическим письмам, — помянул, что в штабе тоже есть «свой журналист», и предложил познакомиться с тобой. Причем сам зашел в вашу комнату, обнял тебя за плечи и стал на ухо советоваться: как обычно ведут себя с журналистами в подобных ситуациях и что надо сделать, чтобы статья «не пошла в газету».
— Как ведут? — переспросил ты довольно громко — а в комнате как раз находился весь ее личный состав, не очень, признаться, жаловавший Добровского. — Так же, как вы сейчас со мной.
Голос Добровского преобразовался в рассерженное шипение.
— Я вас серьезно спрашиваю.
— А я вам серьезно отвечаю, — тоже прошипел ты ему на ухо.
Добровский убрал ладони с твоих плеч, и ты понял, что дальше шутить не стоит.
— Надо, чтобы корреспондент уехал в редакцию с нашим официальным ответом. Мол, так и так, факты, изложенные в письме, подтвердились (если они, конечно, подтвердятся), по письму приняты какие-то конкретные меры. Тогда необходимость в статье отпадет сама собой. Да если она и появится, то наверняка будет уже совсем иной…
У Добровского была еще одна особенность. Будучи возбужден, он довольно шумно пофыркивал носом. Было даже такое впечатление, будто пофыркивает попеременно то одной ноздрей, то другой. На сей раз его пофыркивание было не раздраженным, а совсем противоположной тональности. След взят? Переместивши ладонь с плеча на локоть, провел тебя в свой кабинет:
— Позвольте представить вам: инструктор политотдела по комсомольской работе сержант Гусев. В прошлом тоже журналист.
Каково же было твое изумление, когда в молодом лейтенанте, поднявшемся навстречу, ты узнал своего бывшего сокурсника по факультету журналистики — вы вместе поступали на дневное отделение, но ты после перевелся на заочное — Володьку Бескаравайного.
Лейтенант! Погоны — и те еще хрустят.
Володька же в свою очередь узнал тебя скорее по фамилии, нежели по физиономии. Лет пять не виделись. К тому же солдатская форма и стрижка так меняют человека, что узнать его непросто. Не то что лейтенантская — и форма, и стрижка. Вон какие кудри у бравого лейтенанта Владимира Бескаравайного!
Володька кинулся обниматься — тебе торопиться с объятиями было как-то не по чину. Он, чувствовалось, тоже был и удивлен, и обрадован.
Но больше всех, похоже, обрадовался Виктор Петрович Добровский.
— Вот так встреча! — потирал он маленькие зябнущие ладошки. — Как приятно, когда встречаются старые друзья!
Никакими старыми друзьями вы, признайся, не были. Просто вместе поступали когда-то в университет и после какое-то время жили в соседних комнатах. Потом ты перевелся на заочное, иногда встречал Володьку на лекциях, занятого, щегольского, «всего из себя» московского, а через несколько лет тебя призвали в армию. Так твоя учеба растянулась на несколько лет. А Володька, вероятно, все закончил вовремя — вон и университетский значок на кителе — и перешел в кадры армии, устроился в окружную газету.
Ты тут же, прямо в кабинете, был приставлен в помощь к «товарищу корреспонденту». Подполковник Добровский величал лейтенанта Бескаравайного не иначе как «товарищем корреспондентом» — для того, наверное, чтобы сгладить разницу в их воинских званиях. В другое время «товарищ корреспондент» вполне мог отказаться от такой помощи, но в данном случае Володьке не оставалось ничего делать, как принять ее. Принять поводыря, соглядатая — что там еще?
В часть вы с Бескаравайным поехали вместе. Встречались с солдатами, беседовали с командирами. Письмо подтвердилось в первый же день.
А на второй день корреспонденту был вручен официальный ответ за подписью подполковника Добровского.
«Факты имели место… Проведена разъяснительная работа… Объявлены взыскания… Впредь подобное не повторится…»
На третий день Добровский выделил политотдельский газик, и ты провожал «товарища корреспондента» до станции Петушки. В общем-то, Бескаравайный вполне мог прямо в Энске сесть на поезд и катить в первопрестольную. Так было бы даже удобнее, никаких пересадок, никаких хлопот. Но Добровский предложил ему до Петушков добраться автомобилем. С повышенным комфортом, а главное, не столько комфортом (какой там особый комфорт в облезлом и жестком «козле»), сколько с повышенным почетом. С начальственным шиком.
Как генерала, доставить, домчать вчерашнего студента Володьку Бескаравайного к поезду на промежуточной станции. На промежуточной — в этом, пожалуй, состоял особенный шарм. Кого в Москве удивишь «козлом»! А тут — вроде как за поездом, вдогонку. Вроде срочные, неотложные дела задержали, и вот — генерал догоняет поезд.
Нашлись и «срочные» дела. Они тоже были подсказаны Добровским.
— Посмотрите Суздаль, Владимир. Когда еще оказия выпадет? Торопиться не надо: от Петушков до Москвы уже идет электричка. В любое время поспеете.
Бескаравайный вопрошающе посмотрел на тебя.
Согласно кивая головой, ты меньше всего думал о реноме вашей войсковой части, вашего политотдела. О том, чтобы заарканить Володьку подобными, не по чину удовольствиями и тем самым еще больше повлиять на исход дела. На его будущую статью.
Подумал, скорее, о собственных удовольствиях, нежели о Володькиных. Целый день вольной беспривязной жизни. Суздаль, Владимир, которых ты еще не видел. Весна, робким маревом восходившая над этой непривычной, лесной стороной, — весну тоже, можно сказать, не видел в политотдельской текучке.
Да и не такой уж злодей, змей-искуситель был ты, чтобы вовлекать своего бывшего сокурсника в сомнительные сети.
Кивнул головой без каких-либо других, кроме совершенно шкурных, мыслей.
«Проездные документы» на вас с политотдельским водителем были оформлены в считанные минуты.
Все так и было. Прекрасный весенний денек. Суздаль, похожий на пасхальную декорацию, если бы не эта избыточная, осязаемая, крепостная толстостенность, фактурность. Дмитриевский собор во Владимире, откос и дали, открывающиеся за ним, такие ясные, такие русские, такие дальние. Смотришь, и душа почему-то щемит. В хрестоматиях любят рисовать «Плач Ярославны в Путивле». Рисунок тоже обычно хрестоматийный: стоит на крепостной стене девица-краса в белых одеждах с широкими — так еще в сказках рисуют Весну, выпускающую птах с гибкой и тонкой руки, — рукавами. И ломает руки, и стонет, и кличет, вглядываясь в бескрайние дали. А те внимают ей и — немотствуют. Тебе не кажется, что стоит российскому человеку взглянуть с любого возвышения на раскрывшиеся перед ним пологие, вроде бы исполненные покоя просторы, и душа его хоть на миг обращается в бесплотную, нежно мреющую на возвышении — словно из печальной свирели выдутую — Ярославну? И щемит, и стенает, и кличет. Знает: не из книг, хрестоматий, а бог весть откуда, ч е м знает, чувствует — из свирели, что ли, вынесла? — что не одна родная душа сгинула в этих далях.
Орды шли по низине нарастающими волнами. Пока не захлестнули, не затопили всклень и равнину, и город, и белотелый храм — самую высокую точку города. Его «свечку». Тоже выметнувшуюся, выдувшуюся в тщетной попытке спасения.
Не удалось. И колокольню облепили — черно, мохнато, кишмя, зловонно.
«По Дунаю ласточкой помчусь я…»
…И обед на зеленом лугу был. И распрощался ты с Володькой в Петушках возле электрички, обнялись напоследок и тронулись в разные стороны: он — в Москву, ты — в Энск. Возвращались с политотдельским шофером Петром Хлопоней уже поздно ночью, усталые, разомлевшие, отягощенные впечатлениями. Прямо отпуск, да и только.
Прекрасная вышла поездка! И прав оказался Добровский: ты, по крайней мере, больше так и не побывал ни на Нерли, ни в Суздале, ни во Владимире…
А через месяц после поездки сидел (сначала стоял, а потом сидел) в кабинете перед Муртагиным. Накануне вышел номер окружной газеты, в котором была помещена корреспонденция твоего давнего сокурсника. «Хотя письмо и не опубликовано» — такова была рубрика, под которой она печаталась. А заголовок звучал еще красноречивее: «Навели порядок». И рубрика и заголовок говорили сами за себя. Корреспонденцию можно было и не читать: ясно, что вас не столько ругают, сколько ставят в пример. Навели порядок. Поправились. Преодолели.
Стало быть, задача выполнена?
— Как же так? Всучили человеку отписку и после даже не удосужились побывать в этом подразделении. Как же там на самом деле? Изменилось что-либо или нет? Вы знаете, — остановился Муртагин перед тобой, — я еще могу понять моего заместителя. Визит офицера, старшего офицера, в этой щекотливой ситуации может ничего не дать: не разговорятся люди, замкнутся. Но вы-то солдат. С вами они будут откровеннее, смелее. Можете пожить в казарме несколько дней, ночевать, видеть жизнь роты изнутри. Можете просто по-дружески сойтись с солдатами, попытаться поговорить по душам. Могли бы — да поленились. Не хватило интереса к людям. Кабинетный снобизм — в вас-то откуда?
Он замолчал, мягко расхаживал по комнате.
Вместо того чтобы по-прежнему прилежно есть глазами начальство, ты сидел, понуро уставясь в носки собственных сапог.
Оправдываться? — мол, забыл, запамятовал, недосуг, текучка.
Взъерепениться? — что, разве ты должен был это сделать — проверить, побывать и так далее? Что ты — самый маленький человек в политотделе, если не считать Сеньки Чепигина да еще политотдельского шофера?
Когда человек вот так ходит перед тобой, так говорит, так смотрит в окно, как-то неловко ни оправдываться, ни ерепениться.
— Последнее дело открещиваться от тех, кто нуждается в твоей помощи…
Тон, которым это было произнесено, жест, которым произнесенное сопровождалось — Муртагин опять подошел к окну, поднявши руку, оперся ею о верхний край рамы и, совсем отвернувшись от тебя, смотрел на пустынный плац, — предполагал не только распекание. И раскаяние — тоже.
Муртагину-то в чем каяться? Бывшему авиационному инженеру Муртагину, перешедшему когда-то, еще в юности, в кадры Советской Армии.
Как пишут в анкетах: состав — п о л и т и ч е с к и й.
У него самого состав — насквозь политический.
— И вообще что за примитив? — обернулся Муртагин к тебе. — Ублажать корреспондента, возить его по городам и весям, мешаться у него под ногами. Человек приехал делать дело, пусть и делает его. У нас свое дело, которое мы, к сожалению, — не выдержал-таки, п р о ш е л с я Муртагин, — делаем скверно. У него свое. И не надо ему мешать. Пусть хоть он свое-то хотя бы дело сделает как положено. Мне сказали, что это вы предложили увеселительную поездку…
Ты возмущенно вскинул голову.
— Ладно-ладно, — примирительно улыбнулся Муртагин. — Не будем уточнять. Я и так вижу, что вы еще не настолько сообразительны, чтобы такие мысли в первую голову приходили вам. Простим некоторые человеческие слабости — там разговор будет особый. Хотя и вас в бытность журналистом, видимо, наш брат администратор разбаловал. Прогулки, развлечения, да и выпивки небось, — опять усмехнулся он. — И тут двинулись прямо по наезженной колее. Став администратором, решили показать навык. Эх вы, нашли, чему учиться. А парень-то, ваш однокашник, которого вы с подполковником Добровским так ловко, прямо как опытные минеры, обезвредили, думает, что сделал дело. Честно сделал свое дело, — добавил он, помолчав.
Ты тоже молчал.
— Этот ваш опыт, хватка, с которой вы обошлись с лейтенантом, позволяет думать, что вы были не очень честным журналистом…
— Спасибо.
— Не сердитесь. Идите занимайтесь делом. В двадцать ноль-ноль мы с вами едем в эту часть. Захватите личные вещи. Приготовьтесь к тому, что вам придется дней десять пожить в этом подразделении. На казарменном положении.
36
Ты пробыл на казарменном положении не неделю, а месяц. И вот что выяснилось за этот месяц. Впрочем, не знай в роте, куда тебя водворил Муртагин и где, судя по ответу в газете, отдельные недостатки были успешно изжиты, можно даже сказать, успешно искоренены, не знай эта самая дружно исправившаяся рота, что ты, сержант Гусев, политотдельский, тебе для этого открытия хватило бы даже не недели, а дня.
Но рота знала, кто ты, и первое время, хоть ты и ходил с нею исправно на стройку (слава богу, не успел разнежиться, не потерял «композиторские» навыки), и в столовую, и спал в казарме, как раз рядом — на втором этаже, специально со старшиной договорился — с тем давешним солдатиком, Хамидом, что писал когда-то в окружную газету, а теперь по нескольку раз в день белозубо благодарил тебя: «Как же у нас теперь, после корреспондента, все замечательно стало! Такой бакшиш!» — ты с нею действительно жил на разных этажах. С этой стодвадцатидушной, как стодвадцатипушечной, крепко работавшей днем, а ночью так же мерно, трудно, как будто это тоже работа, отходившей от дневных трудов, простуд и впечатлений ротой.
Она — на первом. Ты — на втором. Парил. И все попытки заглубиться, внедриться в течение ее мерной жизни не то что встречали сопротивление, рикошетили, нет, воспринимались весьма приветливо. Ночью поднимали отделение солдат, к которому был приписан и ты, чтобы вырыть траншею с кабелем правительственной связи: из-за промоин случилось повреждение и надо было срочно ликвидировать его. Ты среди сна услышал, как кто-то вполголоса спросил: «А э т о г о будить?» «Конечно, — ответили, — хорошо копает». И Хамид — то был он — робко тронул тебя за плечо. Но на каком-то неуловимом уровне, градусе — микшировались. Есть такое выражение: душить в объятиях. Так вот и тебя, ну если не душили, то — гасили в объятиях.
«Хорошо копает».
Увы, только в прямом смысле. Ибо, время от времени встречаясь с Муртагиным, на его немой вопрос ты только разводил руками:
— Да нет, Азат Шарипович. По-моему, там все в порядке. Передовая рота, передовая воинская часть. По производственным показателям прут так, что их не догнать.
— Ладно. Поживи еще дней пять и возвращайся: тут тоже не курорт, дел накопилось. Или выдохся? Привык к бумажному труду?
— Не выдохся, — обиженно отвечал ты и возвращался в часть: тебя и самого что-то в ней тревожило, а что — не понять.
Ты и здесь постарался быть верным себе: просыпаться за час до общего подъема и читать. И вот на что обратил внимание: каждое утро в казарму крадучись возвращались пять-шесть солдат. Разбирали в полутьме постели — один из них оказался соседом, и ты обратил внимание, что постель у него разобрана, но на ней всю ночь «спала» кукла (аккуратно свернутый и уложенный на подушку, под одеяло ватник), раздевались и падали как подкошенные.
Самовольщики? Тогда почему дежурный по роте так спокойно их пропускает?
Да и не похожи на самовольщиков. Днем приглядывался к «лунатикам»: это были разные люди, сегодня один, завтра другой, вот только парнишка, чем-то (ростом, застенчивостью?) напоминавший тебе твоего сослуживца Абдивали Рузимурадова, чаще всего оказывается в этой ночной компании. Но в них не было ухарства, присущего самовольщикам, они как на подбор были робки, служили — все! — первый год. И самое главное: после «самоволки» ходили такими сонными, вымученными — еще бы, если спать час в сутки! — что невольно закрадывалось сомнение: тут не с а м о. Скорее — из-под палки.
Наряд на хозяйственные работы? Но в числе нарядчиков их не было. Отбывали наряд вместо кого-то из старослужащих (вот тогда вспомнился Хамид с его письмом и белозубой улыбкой!), но отлучки бывали и тогда, когда никто из роты в наряд не посылался.
А поднимал их среди ночи, заметил ты, не кто иной, как дежурный по роте. Можно сказать, официально.
И те безропотно вставали, одевались и куда-то уходили — в ночь.
Дождался, когда дежурным по роте заступил Хамид. Поднялся следом за полуночниками и направился за ними. На выходе из казармы Хамид остановил тебя:
— А вы куда, товарищ сержант?
Тебя тут многие величали на «вы» — начальство.
— Туда же, куда и эти…
— На стройку? Хозяин послал вас на стройку?
— Какой хозяин?
Остальное было делом техники. Завел Хамида в дежурку, вы просидели там почти до утра, и наутро ты совсем другими глазами смотрел и на роту, и на казарму, да и на всю эту часть, где еще недавно случай, описанный Хамидом в письме в окружную газету, казался действительно случаем, досадной случайностью на фоне замечательных успехов.
А выяснилось следующее.
Почти все подразделения в роте — и отделения, и взводы — оказались сформированы по национальному признаку. Отделение казахов, отделение узбеков, украинцев из западных областей, дагестанцев… Никто их специально не формировал, так получилось как бы само собой. Просто офицеры заметили, что «однонациональные» отделения, бригады легче управляются, почти не доставляют хлопот, а уж работают, по здешнему выражению, «как волки». А все потому, что в каждой такой национальной бригаде, в каждом отделении быстро определяется свой лидер, свой «хозяин» или группа хозяев. Они и держат остальных в «ежовых рукавицах» — даже содержимое посылок делят — и работать заставляют до седьмого пота. И за себя, и за «хозяина». «Хозяин» сидит на стройке где-нибудь в тепле, а то и вообще уходит с объекта, курит, в картишки дуется. Отсиживается в сторонке, а все знает, ибо «отстающих» его ближайшая камарилья, его опричнина регулярно доставляет пред его очи: для ведения воспитательной работы.
«Воспитание» физическое.
А не выполнил норму, тебя определяют в ночные работы. На следующий не выполнил — опять направили в ночь. Упадешь с недосыпу, а сто десять процентов — выдай.
Ротные офицеры в таких помощниках, к сожалению, души не чаяли: это ж организующая сила, двигатели прогресса и производительности труда! Никто так часто не бывает в отпуске, как «хозяева».
«Хозяин» — это не обязательно старослужащий. Вся беда в том, что он «свой», земляк, соплеменник, нередко родич, одного с тобой рода, втолковывал тебе Хамид, интеллигентный парень, без пяти минут выпускник Ташкентского университета. Будь ты просто «старик», чужак, никто б этого долго не потерпел, все вылезло бы наружу, покончить с этим было бы куда легче. А тут другое дело. Жаловаться тут не просто опасно, но еще и стыдно.
Зато уж если кто обидит тебя со стороны, из «чужих», отделение стоит за тебя горой. «Чужой» своего не тронь! И кулачные бои идут подчас не между «стариками» и «салагами» как таковыми, а либо между отделениями, а то и взводами разной национальности, либо — внутри этих взводов или отделений — между теми, кто верховодит, байствует, и смутьянами. Протестантами. Диссидентами.
— Последние, дураки, еще встречаются, — грустно улыбнулся солдатик. — В основном из неоконченных высших.
— А чего же ты не рассказал об этом прошлый раз, когда мы были здесь с корреспондентом?
— Да разве ж вы тогда приезжали, как сейчас? Заскочили на бегу. Слушали вполуха и сразу — всех. Честно говоря, я жалел, что вообще сказал вам что-то да и что письмо писал. Письмо написал, подписался, думал, остальное так скажу. А когда увидел вас с лейтенантом, понял — не поймут. Не поверят. И ограничился в разговоре мелочами — чтоб только от письма, от подписи своей не отказываться. Ну вы и поверили. Мелочами — тоже ограничились…
А ты и вправду хорошо копаешь. Видно, что и сам прошел стройбат, — добавил парень после долгой паузы. Добавил и больше уже тебе не «выкал».
С той самой ночи вы с ним сдружились, не раз встречались после — и в части, куда ты приезжал, и после, причем иной раз только к нему, только в гости, как Серега Гусев, а не как инструктор политотдела, «мытарь», и в политотделе, где он навещал тебя. Это ты пристрастил Хамида к русской баньке. В этой части была своя баня, новая, деревянная, с полками, с вениками, с ефрейтором Фиялкой, приставленным к ней в качестве истопника; солдаты входили туда строем, а оттуда вываливались поодиночке, как стреляные гильзы: распаренные, очумелые и выдохшиеся — ефрейтор Фиялка дело свое знал туго, да и солдаты не жалели друг на друга ни веников, ни пара.
Ты злоупотреблял служебным положением, и вы с Хамидом и Фиялкой славно парились в баньке в неурочное время…
В выходные брал Хамида с собою в город. Сходить в кино, просто побродить по улицам, поглазеть на женское население Энска — для солдата и это развлечение. Правда, ты, когда перепадала увольнительная, каждый раз старался завернуть еще и в районную библиотеку. Деревянный старый дом. На второй этаж ведет крутая иссохшаяся лестница. Вдобавок ко всему еще и плохо освещена. Идешь, осторожно нащупывая сапогом каждую играющую под тобой ступеньку, а поднявшись, открываешь дверь и из полумрака, жмурясь, ступаешь прямо в царство света. Дом, в котором располагается библиотека, поставлен до революции купцом; купец, видно, был просвещенный и к тому же многодетный, имевший сразу нескольких дочек на выданье: на втором этаже устроил танцевальную залу. Зала имела не менее дюжины окон. Окна небольшие и такие частые, что напоминают ячейки в сотах. И так же, как соты медом, они всклень залиты ярким зимним солнцем. Да где там всклень — с верхом, с перебором. Преодолев силу поверхностного натяжения, солнечный свет, тоже точно так, как мед, медленно, тягуче изливался через край. На деревянный крашеный пол, на столы, на книги, на людей, сидящих в читальном зале. Да, танцевальная зала стала читальной; просвещение шагнуло еще дальше. Правда, что касается людей, то их в читальном зале всего мало, раз-два и обчелся. Райцентр — кому тут ходить в читалку. Тихо, тепло даже в лютую стужу, пахнет домом. Воздух в зале хорошо прогрет, в нем чувствуется присутствие дымка, чуточной капли угара, которая только усиливает ощущение уюта и которую ты сразу же вспомнил, как только впервые переступил порог залы. Так в детстве зимой пахло в хате от печки, которую топили сперва кураем и соломой, а после переложили под уголь. Ты, может, и ходил сюда — глотнуть того далекого воздуха. Листал свежие номера газет, журналов, обкладывался стопками книг… «Композиторы», даже занятые на землеройных работах, из всех занятий, как известно, больше всего предпочитают книгочейство.
Копанье в книгах и журналах в залитой солнцем зале старинного деревянного дома с печкой, тепло и уютно дышавшей через стенку тебе прямо в спину и распространяющей в воздухе горьковатый привкус дыма, дома… Читальный зал обслуживали две молоденькие библиотекарши, студентки-заочницы Института культуры в Ленинграде. Они бесшумно передвигались по комнате, переставляли книги на стеллажах, выдавали литературу, негромко переговаривались. И если печка привносила в здешнюю атмосферу горчащий привкус дыма, угара, то они, напротив, ионизировали ее, добавляли озона: слабые, осторожные разряды мерцали, как пылинки в потоке света, то здесь, то там.
Хамид вместе с тобой побывал несколько раз в районной библиотеке — через полгода ты плясал на его свадьбе в доме у одной из юных библиотекарш.
Правда, своим родителям о свадьбе Хамил не сообщал: боялся. «Лучше сразу приеду с женой — не выгонят же», — говорил.
А по глазам видно: не ровен час — могут и выгнать…
Где они сейчас, Хамид и его юная библиотекарша?
…Вот когда вы с Муртагиным проговорили в политотделе едва ли не всю ночь!
Ты сидел, Муртагин опять косо ходил по кабинету перед тобой. Разговаривал негромко — то сам с собою, то с тобой. Больно мял свои онемевшие, будто с мороза, нездоровые пальцы. Корил себя: когда же он упустил эту опасную тенденцию? У нас ведь сейчас могут появиться не только отделения, взводы из солдат практически одной национальности, но и целые роты. Когда же мы проспали?..
И роты — могут. Ты сразу вспомнил свою собственную строительную часть. Там не говорили «пятая рота». Там говорили: «Кавказ» И не говорили «вторая» — «Карпаты». И на твоих глазах, вспомнил ты, назревала стычка между ними. Из-за пустяка. Что-то когда-то не поделили на танцах — в этом-то девичьем царстве! «Наших бьют!» Тебе, тогдашнему секретарю комитета комсомола части, в ту ночь тоже не пришлось уснуть: вместе с комбатом Каретниковым разводили две петушиные стаи по исходным позициям. По казармам. Комбат не стал вызывать комендатуру и наутро вершил суд самолично: немало народу тогда прямо с утреннего развода направились на гауптвахту. На месяц для всей части отменили увольнительные. Тем, считалось, конфликт и был исчерпан.
А был ли?
О многом говорили с Муртагиным. Говорили. Молчали. Думали.
Только работая вместе, бок о бок, молодые люди р а з н ы х национальностей могут проникнуться друг к другу действительным человеческим теплом. Во всяком случае, в большей степени, чем сидя рядом на политзанятиях.
Братство не может быть организованным. Раз и навсегда данным. Тут единица измерения — единица. И как любое человеческое чувство, оно каждый раз зарождается (или не зарождается) в каждой конкретной душе. И каждый раз проходит (или не проходит) все фазы развития любого человеческого чувства, тем более такого тонкого, как любовь, — а что есть братство, как не разновидность любви?
Совпадение, но примерно такие же разговоры вы вели после и с Хамидом — в энской районной библиотеке. И тоже вполголоса, хотя чаще всего бывали тут одни — чтоб не спугнуть эту солнечную тишину.
Вот вы с ним, с Хамидом, действительно были на пути к братству. Потому что вместе читали или потому что вместе копали?
Где он сейчас?
А наутро после твоего сообщения у Муртагина был тяжелый разговор с командиром соединения. Муртагин настаивал на переформировании подразделения, тот не соглашался. Потом Муртагин сам две недели не заходил в политотдел — дневал и ночевал в частях. Потом собрали партийный актив, на котором он же, Муртагин, делал доклад: «О культуре межнациональных отношений в частях и подразделениях УИР». После его доклада — а на активе опять присутствовал московский генерал — ваше соединение покатилось со всех ранее завоеванных первых мест.
«У них оказывается такие дела, такие ЧП…» — загуляло по политуправлению военно-строительных войск.
У них.
В частях началось переформирование. Производительность труда упала. В УИР посыпались комиссии.
Так-то, Хамид. Вон что ты натворил.
Народ в штабе ходил мрачнее тучи. И только Муртагин как будто повеселел. Зажегся. Зазвенел. Так звенит, вгрызаясь во что-то натуральное, в д е л о, лучковая пила. По итогам той «командировки» Муртагин вначале — как раз под утро, сгоряча — хотел предоставить тебе краткосрочный отпуск на родину. Но какой там отпуск: политотдел закрутило в штопоре. Народ, включая тебя и даже включая капитана Откаленко, разметало в командировки. Народу — Муртагиным — велено было, находясь в командировках, жить не в гостиницах, а в казармах, с солдатами.
Много дней спустя, случайно встретив тебя в одной из частей — ты тоже оказался на казарменном положении, — Муртагин улыбнулся и шутливо развел руками:
— Значит, отпуск посреди полей и лесов.
— Болот, — поправил ты его так, чтобы никто не услыхал. И добавил в тон Муртагину: — Трудовые будни — праздники для нас.
Муртагин же, тоже, можно сказать, по итогам твоей «командировки», получил строгий выговор с занесением в учетную карточку члена КПСС. «За слабую работу по интернациональному воспитанию воинов-строителей».
Так Москва отреагировала на ваш памятный актив.
Странное дело, но вывезенный из столицы выговор Муртагина почему-то не давил. Он нахлобучил его легко, как свою армейскую фуражку. А вот командир, наш полковник Котов, состоявший, как то знал каждый солдат, на генеральской должности (каждый солдат знал это и гордился так, словно это он сам, солдат, пребывал на генеральской должности), получивший строгий выговор без занесения, рвал и метал. Можно было подумать, что з а н е с л и ему, а не Муртагину.
— За такую промашку, какую мы допустили, — сказал Муртагин тебе в вашем ночном разговоре, — из партии взашей надо гнать.
Может, потому и воспринял выговор без истерики? Фуражку надвинул: плотно, по самые уши, а потом пальцем чуть-чуть поднял, задрал козырек. Как столяр — чтоб в работе не мешал.
37
…Чудак Муртагин — анекдотов не знает. Да-да, возвращаясь когда-то в часть — пешочком по морозцу со Степаном Полятыкой — с кандидатскими карточками в карманах, вы все-таки сказали друг другу, что Муртагин — чудак. Анекдотов не знает. Его сосед по гостиничному номеру и на улице рассказал ему анекдот, а тот принял его за чистую монету. Подумал, что собеседник сам, прямо на глазах у него родил остроту. А тот и не думал рожать, он и здесь, на улице, выступил в своем амплуа. Понял, сколь не искушен Муртагин в анекдотах, и, обрадовавшись, сплавлял ему все многолетние залежи. И тут — сплавил.
Интересно, как бы реагировал на остроту Муртагин, зная, что и это — анекдот? Что его «купили»? Что он переоценивает возможности своего оппонента?
Чудак! — профессора какого-то помнит, а анекдотов не знает… Об этом вы говорили на ходу со Степаном Полятыкой. У вас на середине пути возникла потребность говорить. Даже у молчуна Степана. И вы почему-то зацепились именно за это: чудак Муртагин…
Много лет спустя ты узнал, какого профессора имел в виду Муртагин. Вел в газете сельскую тему, увлекался аграрной публицистикой: Глеб Успенский, Овечкин… Однажды взял в руки Энгельгардта. «Из деревни. Двенадцать писем 1872—1887 гг.» Капитальное, в матерчатом переплете, издание 1937 года. Читал их запоем, в этих письмах и натолкнулся на приведенные Муртагиным слова о том, кого считать хорошим пахарем. Удивился: Муртагин, оказывается, читал профессора, который не имел никакого отношения к военному делу.
Впрочем, как не имел? «А. Н. Энгельгардт (1832—1893) по своему образованию и по первоначальной профессии — артиллерийский офицер…» Артиллерийский офицер, ставший профессором химии в Петербургском земледельческом институте, а потом и ссыльным земледельцем.
В России всегда были и пока есть две сферы, которых не может быть чужд ни один порядочный человек: сфера земледелия и сфера военная…
А ведь и второй раз Муртагин ругал тебя за нечто сходное! Или ты был такой неспособный ученик, или он был такой настырный, «зацикленный» учитель. Сходство неполное, но одна деталь все-таки общая, повторяющаяся: Муртагин корил тебя за отрыв от масс.
Корил. Крыл! Распекал — натуральным образом! Так же пригласил в кабинет и, едва ты переступил порог, огорошил вопросом в лоб:
— Ты знаешь, на чем спит наш политотдельский водитель?
То было время, когда ты уже не был в политотделе новичком. Прошел без малого год, как ты здесь появился, и Муртагин все чаще обращался к тебе на «ты», чем на «вы».
Вопрос, что называется, на засыпку. Ты недоуменно пожал плечами.
— Не знаю. Ну, наверное, на постели…
— Наверное… В том-то и дело, что не на постели, а на голом матраце, даже без подушки.
Немая сцена. Вообще-то тебя так и подмывает сообщить товарищу Муртагину, что ты все-таки не старшина роты и даже не каптенармус. Нет, начать так: не нянька, не старшина, не каптенармус. В такой последовательности. Но ты, зная Муртагина, помалкивал. Он тоже молчит, в упор, без какой-либо наигранности смотрит на тебя, и ты не выдерживал этого взгляда.
— Ну и дурак, — сказал.
— Дурак-то дурак, — соглашается Муртагин, — но как же так, живешь в одной казарме с человеком и не знаешь, что тот спит, можно сказать, на голой сетке?
— То был матрас, а теперь уже голая сетка.
— Дело не в том. Дело в том, что тебе, выходит, наплевать, как живется и служится твоему товарищу. Ближнему. Что же говорить тогда о дальних? А на машине-то ездишь…
Что верно, то верно. На персональной муртагинской машине ездил весь политотдел. Потому ее и звали «политической», а не муртагинской.
…И даже, помнится, в дальние развлекательные прогулки. Как-то: в Суздаль, Владимир…
— Азат Шарипович! — взмолился ты. — Я-то ездил с Хлопоней. Хло-по-ней, понимаете? А у Хлопони таких проблем просто не могло быть. Попробовали б ему постель не выдать! Он, между прочим, вообще один на двухэтажной кровати спал. Знаете, как его звали в казарме? Хлопуша, а не Хлопоня — как пугачевского кореша. А теперь, когда Хлопуша уволился в запас, вы почему-то взяли шофера не из «старичков», а из «молодых», я бы сказал, из зеленых. Тюфячка взяли — вот он и спит без матраса.
— Ну, ты мне эту терминологию — «старички», «молодые» — забудь. А то что ж мы с тобой: боремся-боремся с этим злом, да сами же и заразились? А я-то думаю: почему оно такое живучее? А носитель, бациллоноситель-то, выходит, под носом. Придется снова вызывать твоего однокашника, пускай он теперь персонально тебя разделает как бог черепаху. Думаю, на сей раз ему принципиальности хватит. И потом, да будет тебе известно, что никого я не выбирал. Кого мне дали, того и взял. Это ты у нас привереда: в дальние поездки — только с опытным шофером. С этим новичком небось в Петушки бы не поехал.
А ведь можно биться об заклад: это он сам попросил, чтоб шофера ему дали из карантина. Вносил посильный вклад в воспитание новобранцев.
— Надо признаться, правда: я и сам случайно узнал, что парень неустроен. Спросил сегодня, как служба идет, а он мне и бухнул: все бы, говорит, ничего, да спать не на чем, никак постель не выдадут. Мог бы, конечно, и раньше спросить, все-таки больше твоего на машине езжу. Я вовремя не спросил, ты не поинтересовался, как вошел в колею твой сослуживец. Другие наши товарищи не обратили внимания, благо паренек тихий, сам целый месяц помалкивал. Выходит, мы все вместе, всем отделом получили «неуд». Профессионально несостоятельны. Что там у вас за порядки, кстати говоря, в комендантской роте? Чем так загружен старшина, что месяц не может выдать солдату постельное белье?
«Что там у вас за порядки?»
Знал бы Муртагин, что порядки комендантской роты тебя давно уже практически не касаются, хотя ты, как и положено, приписан к ней, живешь в одной с нею казарме, как и другие солдаты, несущие службу при штабе УИРа. Но приходишь сюда поздно, зачастую уже после вечерней поверки и отбоя, на зарядку не бегаешь, строем в столовую не ходишь. Дело не только в том, что у тебя другой, нежели у караульных, график дня, да нередко и его насыщенность, диктуемая подчас самим же Муртагиным. Твое положение на службе — тоже другое. У тебя у самого должность старшинская, и старшина роты л и ч н о приглашает тебя в каптерку для примерки новой пары сапог, самолично кладет на постель свежий комплект белья. Дело еще и в том, что служишь-то ты последние месяцы. У тебя в казарме уже свой угол, свой налаженный быт. Как у старого екатерининского солдата, который, устроившись у костра, отвечал фельдмаршалу, что до Луны, если подумать, два суворовских перехода. К тому же эту конкретную казарму ты всегда считал только местом своего ночлега. Местом работы было все остальное, в том числе и другие казармы, но здесь — ночлег. Костер. Бивак. Кому-кому, а комендантской роте воспитателей хватает и без тебя. Переступил порог — и «Вольно!». Можете расслабиться, сержант Гусев. Согнуть ногу в колене. Вы не при исполнении служебных обязанностей.
А этот лопух, лопушок зелененький, Рахметов несчастный, чего ж он к тебе-то раньше не подошел? (Старшина наверняка просто забыл про него, другим новобранцам выдал все, а этот, вероятно, был на тот момент в отъезде, а потом про него просто забыли за неприметностью существования, тем более что и он появляется каждый раз чуть ли не за полночь: то Муртагин в частях задерживается, то еще кто из политотдела ездит.) К тебе не подошел, а вот Муртагину пожаловался. Неужто тебя побаивается больше, чем Муртагина?
Эти подробности ты Муртагину, естественно не излагаешь, он, похоже, и забыл, что ты сидишь у него в кабинете барабанит пальцами по столу, обдумывая что-то свое.
Выходишь, разыскиваешь новоявленного аскета. Редкий случай: он оказался не в отъезде, безропотно получал как раз очередное или внеочередное задание у майора Ковача. Реквизируешь его у майора и ведешь, застенчивого, нескладного, наверняка вчерашнего пэтэушника, в казарму, а еще точнее — в каптерку старшины комендантской роты.
Да, Васек, да, ухарь старшина, гроза девической невинности обширного ткаческого региона, получишь ты сейчас на орехи.
«Последнее дело открещиваться от тех, кто нуждается в твоей помощи»…
Глаза, темные, темно-смородиновые, лишенные блеска, отсвета, тоже вспомнились.
38
Сергей вспомнил, что позавчера, накануне отлета, получил письмо от Семена Чепигина. Семен уволился в запас раньше Сергея, первое время писал ему в армию, потом, когда и Сергей закончил службу, они еще какое-то время переписывались, пока Сергей не стал менять города и адреса.
Семен адресов не менял. Как уехал в родной Рубцовск, как поселился там в отцовском доме, как закончил заочно институт искусств в Ташкенте, как женился, как родил сына — так никуда и не двинулся. Оставался художником районной киносети. И без того похожий сложением на добротный куль хорошей, размольной мучицы, все больше оседал, погружался в районный быт, и недолговечные афиши с головокружительными киношными страстями, с заморскими пальмами, стремительно линявшими под дождем и ветром, с чужими зазывными огнями трепетали над ним, как вымпелы над тонущим дредноутом. Они, афиши, сполна покрывали дефицит страстей и пространственных перемещений.
Не Сергей потерял Сергея. Семен потерял Сергея.
И в детстве, и в юности у Сергея было много друзей. К нему тянулись и в интернате, и в армии. Но вот о чем подумал Сергей сейчас, в самолете. Ему почти не удалось сохранить своих друзей. Он сам себе напомнил сейчас ветвь, которую с годами пропускали, п р о т а с к и в а л и, протискивали в жесткое, все более сужающееся кольцо. И все ее боковинки, все ее отростки постепенно срезало. Была ветвь, стала — прут. Берешь зеленую веточку вербы, зажимаешь ее в кулаке и с силой протаскиваешь через кулак. И вместо того чтобы ставить в воду, любоваться ею, в листьях и соцветиях, веточку теперь можно употреблять по совершенно противоположному назначению.
Вербохлест! Бей до слез! Не умирай! Красное яичко ожидай!
С таким приговором мать шутливо охаживала его хворостиной в вербное воскресенье. Какое там до слез — и мать смеялась, и он смеялся, радовался солнцу, зеленой траве, скакал как ягненок вокруг матери. Как же давно это было! Мир тогда замер в счастливом равновесии, в высшей, полуденной точке своего вращения, которая называется «мертвой точкой». Когда все казалось вечным, неподвижным — и весна, и мать, и сам он. Вечно живым. Живущим.
И как же резко и скоро все повернулось. Завертелось, набирая обороты.
Менялись должности, менялись адреса, и старые закадычные друзья на тех или иных стадиях уходили, отходили от него. Он отходил от них, с б р а с ы в а л их, как ветвь сбрасывает листву. Уходил, влекомый жесткой рукой карьеры. Нет, он не оказывался в одиночестве. Возникали новые друзья и новые дружбы. Но это чаще всего были летучие, в з а и м о п о л е з н ы е соединения, которые рождались, распадались, утрачивали связи, как только исчерпывалась связующая их польза, если не сказать грубее — выгода. Распадались безболезненно: «Была разлука без печали…»
Но Семен, может быть, единственный, кто находил его вновь и вновь. Сергей терялся, ускользал, вышагивал, как из старых куцых одежонок, а Семен все равно находил его. Отношение Сергея к друзьям детства, юности вовсе не было практическим, иждивенческим — чаще все-таки он помогал им, а не они ему Может быть, не так чаще, как масштабнее. Чем они могли помочь ему? Разве что, приезжая в гости, возятся вместе с ним в его квартирах, сначала в Ставрополье, потом в Волгограде, сейчас вот в Москве. Сверлят, долбят, шпаклюют. Особо ценный человек тут Степан Полятыка. Ас! Шабашник! Сергей хоть и служил в стройбате, а все строительные навыки уже забыл, подрастерял (тоже аналогия с друзьями); Степан, приезжая, сразу отстраняет его от домашних работ, берет их на себя, допуская к делу только старшего Серегиного сына: парень растет на удивление рукастым. Сергей же дает друзьям ночлег в Москве, и не только им, но и друзьям своих друзей, приезжающим в столицу в командировку или так, «скупиться», — устраивая тех в гостиницу: случалось, определяет на лечение жен своих друзей: незаметно, крадучись, подошло и время больниц, хвороб. Сергей любит своих друзей, но его любви, как бы это сказать, пороха не хватает, что ли. Или — только порох и есть. Сергей быстро загорается, быстро бросается на помощь, а самое главное — скор на обещания помощи. Помощь обещает всем. Обещая, свято верит в то, что сдержит слово. Горит стремлением помочь. Но, столкнувшись с первым же препятствием, прогорает. Остывает. И впредь уже о своем обещании не вспоминает. А если и вспоминает, то без угрызений совести. Он ведь пытался, рыпался. Но — не вышло, не выгорело, кишка оказалась тонка. Что ж теперь казниться?
Он и не казнится.
Видимо, кроме пороха должно быть что-то еще? Не такое громогласное, не такое феерическое, более рутинное. Не моментального эффекта, а длительного д е й с т в и я. Заряда недоставало его любви. Дроби, жакана, пули, которые придавали бы его любви ну если не убойную силу, то хотя бы физический вес. А так она была несколько бесплотной, если не сказать — холостой.
Семен же любил его бесшумно, но так верно, что Сергей порой чувствовал себя двойником: он явно не стоил такой преданности.
Возможно, где-то был или где-то о с т а л с я, отстал в пути следования второй (первый?) Сергей Гусев.
Семен всякий раз отыскивает его, шлет обстоятельные письма (Сергей отделывается редкими записками или телефонными звонками), причем всякий раз делает вид, что не замечает долгого Серегиного молчания, шлет посылки.
Сергея греет это постоянство. Хорошо, спокойно когда есть хотя бы один такой постоянный источник тепла, который не надо зарабатывать, заслуживать. Одно из действующих лиц знаменитого романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» зовут странным именем «Рашель, ты мне дана». Наверное, в жизни каждого человека, так же как и в жизни самой природы, должен быть такой неизменный «богоданный» источник тепла — иначе как бы затеплилась сама жизнь? Сначала солнце как данность, потом уже жизнь. Рано оставшийся сиротой, Сергей с тем большей жадностью улавливает это тепло.
Сам писем почти не пишет, но получает их с удовольствием: мало ли нас таких? Вот и на сей раз получил письмо, тут же, у почтового ящика, прочитал его и, сложивши в четвертушку, сунул во внутренний карман с тем, чтобы на досуге прочитать еще раз. Все письма читает несколько раз, под настроение.
Больная дремала. Сергею же в самолете, как ни странно, спать не хотелось. Нервы напряжены. Вспомнил о письме, вынул, стал читать. Почерк у Семена такой, что если читать письмо несколько раз, то каждый раз можно обнаружить в нем нечто новое. Новую информацию.
«Ты спрашиваешь у меня о Муртагине. Знаешь, я ведь видел его однажды и после армии. Было это лет пять назад. Я тогда был на защите диплома в Ташкенте. Бегу в подземном переходе и вдруг вижу: Муртагин навстречу. Полковник. Идет, глаза в землю, под мышками по свертку. Из универмага, догадался я. Этот переход — от универмага. Думаю, узнает или не узнает? На всякий случай окрикнул его. Узнал! Смотрит на меня — поверишь — слезы на глазах блестят. «Семен! Ты что ж это проститься ко мне не зашел?» Мне так стыдно стало. Ты ж помнишь, как я в запас увольнялся: все бегом, бегом, на поезд торопился. Да как-то и постеснялся зайти к нему в кабинет попрощаться. А он — не забыл! Заметил, что я замялся, что неудобно мне, говорит: «Видишь, Семен, внуки у меня. Двойня!»
Постарел он, конечно, но так ничего. Не переменился. Я его сразу узнал. Представляешь, слезы в глазах заблестели! Я сам, честно говоря, готов был слезу пустить…»
Конечно, Сергей читал об этом в письме и прошлый раз. Но сейчас у него было такое ощущение, будто прочел об этом впервые. Просто в прошлый раз не придал этому известию такого значения, как теперь. Читал тогда на ходу, занятый мыслями и хлопотами в связи с предстоящим отъездом. Не этого искал в письме, не на то была настроена душа, потому и пробежал глазами, не задерживаясь.
Сейчас читал и перечитывал эти незамысловатые строки, как будто старался открыть в них доселе ускользавший вещий смысл.
Узнал бы Муртагин его сейчас? Захотел бы узнать? Не отвернулся бы?
Семена узнал. Молодец Муртагин! Не просто узнать, признать солдата, одного из сотен, прошедших перед твоими глазами, а еще и обрадоваться ему до слез. Помнить, что этот солдат, поросенок, не зашел на прощанье к тебе. Другому бы от этого ни жарко ни холодно: что ему солдат, один, из тысяч, детей с ним не крестить. А этот обиделся. Хотя Сергей-то знает наверняка: Семен просто не отважился зайти к начальнику политотдела. И на поезд напрасно теперь, задним числом, сваливает. Сдрейфил — вот и все. Тащил-тащил его Сергей к Муртагину, а тот уперся как бычок — и ни с места. Семен если упрется — трактором его не сдвинешь. Семен как черт ладана боится театральных жестов: легко представить, с каким остервенением изображает сейчас жесты киношные. Что ни афиша, то, наверное, шарж.
М у р т а г и н — только этого ингредиента, похоже, и не хватало в напряженной работе, в химической реакции, что шла, нарастая, в его душе. Душа словно попала в створ между двумя берегами его жизни, такими, казалось, дальними, почти не зависящими друг от друга и так решительно сходящимися в эти полчаса последнего перегона. Соединение берегов заставляло ее точить, торить, больно и кропотливо, новое русло. Больно — от непривычности такой первотропной работы. Отвыкла от нулевого цикла, изливаясь продолжительное время по замкнутому кругу минимальных затрат.
Сергей сложил письмо четвертушкой и снова спрятал во внутренний карман. Сидел, невидящими глазами глядя перед собой на мирное, рунное, молитвенное шествие людских затылков. Восхождение, ритм, р а з м е р которому задавала вибрация чудовищно мощных турбин. Что есть самолет, несущийся — с ревом — в ослепительно пустом небе, как не обрывок страстной людской молитвы…
«Последнее дело открещиваться от тех, кто нуждается в твоей помощи…»
— Граждане пассажиры! Просьба пристегнуть привязные ремни! Наш самолет пошел на снижение и через несколько минут произведет посадку в аэропорту города Минеральные Воды.
39
А ведь ты и с Муртагиным прощался в больнице. В госпитале. Да, приказ о твоем увольнении был подписан, но на тот момент Муртагина на месте не было — накануне у него случился инфаркт, и ты, уже перед самым отъездом, зашел в госпиталь. С большим трудом добился, чтобы тебя — хотя бы на минуту — пропустили в палату Муртагина…
Только ли желание попрощаться с человеком, сделавшим доброе дело, с человеком, вообще сыгравшим немалую роль в твоей армейской жизни и оказавшимся сейчас в критическом положении, двигало тобою? Вряд ли. Была тут, зашевелилась вновь и неудовлетворенность предыдущим разговором. Собственной неубедительностью. Захотелось досказать, объясниться. Оправдаться. Пусть хотя бы с опозданием. Другой возможности уже не будет. А кто из нас не силен задним умом?..
Реванш… Какие доводы ты выстраивал на сей раз в уме, какие слова придумывал!
Но доводы не потребовались.
Палата была маленькой, как каюта. Белые крашеные стены, белая конторская занавеска задернута на узком окне, белая простыня, белая металлическая кровать. Белизна разной интенсивности. От безупречной рафинированности простыней до холодного, сизого, скорее сталистого, чем белого, колера стен, наводившего на мысль даже не о каюте, а о карцере. Как бы там ни было, а черная голова Муртагина настолько контрастировала с этим общим фоном, что уже одно это вызывало тревожное, ноющее ощущение диссонанса, беды. Муртагин лежал лицом к стенке, на правом боку, может, поэтому его чуть откинутая голова, его иссиня-черный, гладко зачесанный затылок сразу бросились в глаза. В этой позе — лицом к стенке — было что-то мальчишеское. Обиженно-мальчишеское. Или не столько обиженно, сколько — упрямо-мальчишеское. Неудивительно, если он лежал сцепивши зубы. И от боли, и от упрямого противостояния ей. Тебя уговаривают покориться обстоятельствам, отдаться их всемогущей воле, а ты вопреки всему и всем пытаешься гнуть свое. Перешибить плетью обух. Ты уже не только с обстоятельствами борешься. Тебе кажется, что ты уже борешься со в с е м и. По той позе, в которой лежал Муртагин, почудилось, что он здесь борется не только против болезни, но и против больницы. И, похоже, в проигрыше.
Муртагин повернулся на спину, увидел тебя.
— Здравствуй, здравствуй. Говоришь, завтра домой?
— Да, товарищ подполковник.
Едва переступив порог палаты, ты уже понял, что все твои «доводы» просто придется оставить при себе. До лучших времен.
— А я вот загораю.
Он улыбнулся своей виноватой, извиняющейся улыбкой. На сей раз она была виноватее обычной. Лицо у Муртагина было желтым, бескровным, над переносицей набухла, как перегороженная, двуглавая жила.
— Присядь, — показал глазами на стул, стоявший у изголовья кровати.
— Да я вообще-то на минутку…
— Садись, садись. Не волнуйся, теперь тебя никто уже не задержит. Ты у нас теперь вольная птица.
Он опять улыбался, теперь — одними только обращенными к тебе глазами. По его глазам трудно что-либо понять, но улыбку выдали лукавые морщинки, на мгновение собравшиеся вокруг глаз. Ты, наверное, покраснел, пробормотав что-то в том смысле, что, мол, вовсе не волнуешься. Чего волноваться, хотя ему, подполковнику Муртагину, большое спасибо за хлопоты: увольняют действительно первым.
Он высвободил руку из-под простыни, дотронулся до твоей ладони.
— Да ты не обижайся. Считай, что я неудачно пошутил. Мне ведь простительно. — Он опять заглянул в глаза, помолчал. — А вообще-то я все-таки хотел бы еще раз серьезно поговорить с тобой. Напоследок.
Рука у него была холодной, влажной, пальцы вздрагивали. Руками Муртагин владел хуже, чем лицом. Выдавали его. Выдавали болезнь так же, как лучики вокруг глаз выдавали улыбку. Влажные: чуть сжал твою ладонь и отпустил ее, убрав свою руку опять под простыню — видимо, почувствовал ее предательство.
Осторожно развернулся, оказавшись лицом к тебе.
— Бог с ней, с армией. Как говорится, насильно мил не будешь. Не захотел — твое дело. Но я бы все-таки советовал тебе и в гражданской жизни выбрать практическую работу. Я бы видел тебя на практической работе.
Эти слова он произнес вразрядку: в и д е л и п р а к т и ч е с к о й. Что, впрочем, можно было бы отнести и на счет того, что ему просто нелегко говорить. Голос еще глуше, чем раньше, слова — медленнее. Рельефнее, что ли.
— Понимаешь, — продолжал он после паузы, — описывателей дела найти легче, чем делателей.
И опять, как и полтора года назад в политотделе, при вручении кандидатских карточек, в его интонациях слышалось размышление. Не наставление, а — все-таки — размышление. Просто в отличие от тогдашних они были немногословнее. Многое из них оставалось за скобками. Продумывал ось, но не произносилось. На произнесение (мысль куда стремительнее слова!) не осталось времени. Не исключено: и не хватало сил — на лбу у Муртагина выступила испарина. Ты уже начинал чувствовать себя преступником и чуть ли не ерзал на стуле.
Дверь в палату открылась. Вошла старшая медсестра.
— Азат Шарипович, вам нельзя лежать на левом боку! — с порога кинулась она к кровати.
Хотела, видно, помочь ему повернуться (вот почему он лежал лицом к стенке! — только сейчас дошло до тебя), но Муртагин неторопливым движением руки усмирил ее рвение. «И слабым манием руки на русских двинул он полки…» А тут не двинул — остановил, что еще замечательнее. Остановил полки, полчища, превосходящие силы добросовестности, заключенные в этом обычном с виду вулкане: старшей медицинской сестре военно-строительного госпиталя.
— А как же мне разговаривать с человеком? И так как об стенку горохом, — опять улыбнулся он. — Никакого эффекта.
— А вам и разговаривать нельзя, — тотчас зачастила старшая, высокая, худощавая, примерно одних лет с Муртагиным и с той суровой аскетичностью в чертах, которая чаще всего и обличает женщин, командующих женщинами.
Ты и рта раскрыть не успел.
— А человек, — взгляда, который был брошен на меня, вполне хватило бы если не на всю Помпею, то как минимум на средней руки древнеримский райцентр, — должен понимать, куда он пришел. И не злоупотреблять…
Муртагин перебил ее.
— Ну уж дудки, Антонина Павловна. Я еще не настолько провинился перед Советской властью, чтоб лишать меня голоса. А потом, это не он — я злоупотребляю временем этого молодого человека. И даже — был грех — посягал на его личную свободу.
Оказывается, надо было случиться инфаркту, чтобы Муртагин стал чаще улыбаться. Виданное ли дело: за какие-то десять минут улыбался третий или четвертый раз! Переменил взгляды на жизнь?
Правда, осторожно, хотя и не допуская вмешательства Антонины Павловны, с остановками, повернулся на правый бок. Понял, что иначе с нею не сладить. Не отделаться. Он лежал в предписанной позе, но — сохранив строптивую независимость. От Антонины Павловны. От больницы. От болезни. Болезнь никуда не делась, она была тут как тут. Но и внутри нее он отвоевал для себя автономное пространство. Она не могла объять его тотально, так, чтобы волны ее, тяжелые, свинцовые, сомкнулись у него над головой. Нашел в ней изъян, в о з д у ш н у ю я м у, каверну, в которой и расположился, в которой и дышал. Не отсюда ли поза — мальчишки, отвернувшегося к стенке? Можно сказать, что она предписана, — можно — выбрана. Выбрана в ходе поисков воздушной ямы, воздушного пузыря.
Улыбался.
Ты поднялся.
— Я подумаю, Азат Шарипович.
— Думай, думай, — отозвался он, не поворачиваясь ко мне, и легонько стукнул ладонью по стене.
Есть такая мода: здороваясь или прощаясь (особенно здороваясь), мужчины не пожимают друг другу руки, а просто на мгновение схлестывают кончики ладоней. Майор Ковач более традиционен: хлопает по вашей ладони и по-медвежьи стискивает ее. А тут — мгновенное, хотя и хлесткое, чувствительное касание. На лету. Современно-небрежное молодечество Муртагин стукнул легонько, и стукнул вовсе не по твоей ладони — к тебе он больше так и не повернулся, даже не посмотрел больше, — но сомнений быть не могло: он воспроизводил именно этот азартный жест, входивший тогда в моду среди солдат. Кто бы подумал, что он его знает. Что может быть таким модником: так здоровается только молодежь, это и жест некоторого молодежного пижонства. Ты уходил из палаты если не с легким сердцем, то и без тягостного чувства безысходности. Какая безысходность! — ладонь все-таки ощутила это мимолетное живое касание. И даже в какой-то мере — задорное. Мальчишеское.
40
Это же надо: Муртагин с двумя свертками под мышками! В самом фантастическом сне такое не привиделось бы! Легче увидеть плачущего большевика.
Что делают с большевиками внуки!
(Или считал, что тут, в Ташкенте, его никто из с в о и х не увидит? Не увидит и не заподозрит в злоупотреблении служебным положением: как-никак, а ташкентский универмаг это тебе не военторговская лавочка — как у мамаши Кураж — в Энске. Тут муртагинские полковничьи погоны никому не указ. Бери выше! Кидай дальше! А «свой» — поди ж ты — тут как тут: бдительность!)
А за два дня до посещения госпиталя был у Муртагина на квартире. Как раз в тот день, когда ранним утром его отправили с инфарктом в госпиталь. Оставшемуся «на хозяйстве» заместителю начальника политотдела подполковнику Добровскому срочно понадобилась какая-то бумага, а она оказалась у Муртагина дома: в ночь перед инфарктом работал над нею. Вот тебя и послали. Была некоторая неловкость в том, чтобы являться по такому поводу в дом, который настигла серьезная беда. И ты с тяжелым сердцем поднимался по лестничным маршам — в пятиэтажках, которые строили вы, не было лифтов, — не сразу нажал кнопку звонка. За дверью послышалась возня, по которой понял, что тебе открывают сразу два человека. Так и было: дверь приоткрылась, и в проеме оказались обе муртагинские дочки, давешние знакомые. Глаза заплаканные, лица напряженные. Они тут все время наготове стояли. Ждали вестей. Тем нелепее было вступать в квартиру с вопросом о какой-то справке. Но что поделаешь?
— Здравствуйте, я из политотдела, — переступил ты через порог.
В глубине квартиры у телефона, точно в такой же позе, как девчонки, настороженно застыла женщина, жена Муртагина, невысокая, русоволосая, с серыми запавшими глазами. В глазах вспыхнул такой лихорадочный блеск, что ты поторопился добавить:
— Вас просили посмотреть на столе у Азата Шариповича одну бумагу.
— Здравствуйте, проходите, — пошла женщина навстречу.
— А мы его знаем, — проговорила младшая за твоей спиной. — Мы вместе ездили на кладбище…
И осеклась на слове «кладбище».
— Мы только что пришли из госпиталя, ну и вот — собираемся обедать, — вымученно улыбнулась женщина, чтобы только как-то перебить, заполнить, разрушить то общее мгновение тишины, затаенности, что возникло сразу после дочкиного замешательства. Не замешкайся она, никто бы и не обратил внимания на это неудачное слово. А так — заметили все.
Никаких признаков обеда. Скорее всего, они просто пришли и остановились, приткнулись каждая в своем углу, по-прежнему, как и в госпитале, всецело занятые одним, всеобщим — ожиданием вестей.
В комнате не было того идеального порядка, который сопутствует обычно другой, внутренней, устоявшейся упорядоченности и размеренности, находясь с нею примерно в тех же отношениях, что, скажем, белоснежный парус и просмоленная корма. Прибрано и вместе с тем что-то почти неуловимо потревожено, скособочено: корма дала крен. Видимо, после отъезда «скорой» они уже убирались в квартире, но делали это без тщания и даже энтузиазма, что характерно для семей, в которых много женщин. Головы заняты другим. И все-таки ты с растерянностью смотрел на свои кирзовые солдатские сапоги: как бы там ни было, а хозяйки стояли в домашних тапочках, у младших носы тапочек загнуты кверху, в комнатах вовсе не было натоптано, и ступать дальше прихожей в своей амуниции ты не решался. А что делать? Разуться и чесать по квартире в портянках?
— Не волнуйтесь, — заметила замешательство жена Муртагина, — мы к сапогам привыкли.
И проводила в глубь квартиры к письменному столу, стоявшему у окна в одной из комнат.
— Вот вам ключ от стола, посмотрите здесь. Но вообще-то секретных бумаг он дома не держит.
— Она не секретная, — невольно улыбнулся ты.
Тебя оставили в комнате одного. Не хотелось отмыкать чужой стол, рыться в ящиках, и для начала решил поискать в бумагах, лежавших аккуратной стопкой на столешнице. Повезло: нужная бумага попалась сразу. Она в руках, делать здесь больше нечего. Еще раз посмотрел на стол, неполированный, конторский, на вид за окном. Сосна за окном совершенно свободно, играючи, домахивала сюда, до пятого этажа, и рикошетом уходила куда-то выше. С весной зелень у сосны посвежела, на кончиках ветвей появились крошечные и не столько зеленые, сколько цыплячье-желтые, пушистые, новые побеги. Комочки. Зародыши новых побегов. Сосна негустая, да и ветви ее начинались высоко и шли не кругом, а каким-то плоским веером, парусом — так что свет у окна она почти не отбирала. И все равно на фоне другой, легкомысленной, легковоспламеняющейся майской зелени выглядела так, словно позеленела не сама по себе, а от времени. Патиной оделась — с проблесками, пробоинами живой, майской изумрудности. Древняя, выдержанная, сумеречная зелень.
Тут он обычно сидел, это обычно видел.
Дверь за спиной отворилась. Повернулся, собираясь восвояси. Но не тут-то было. Младшая муртагинская дочка цепко ухватила за руку.
— Пойдем на кухню, — сказала, задравши к тебе свою печальную мордаху, — там мама приготовила поесть.
Этого еще не хватало.
— Спасибо, я сыт, мне пора.
Подергал ладонь — не выдергивается: девчушка уже ухватилась за нее обеими руками. Тебя четко вели по избранному маршруту. В дверях ждала мать малышки.
— Я там кое-что приготовила на скорую руку. Перекусите. А мы вас смущать не будем. Мы — позже.
Ты готов был провалиться сквозь землю. Начал отнекиваться, но по виду женщины понял: в другое время это, может, и выглядело бы воспитанно, но только не сейчас. Сейчас кочевряжиться — только набивать себе цену, переключать на себя внимание. А ей не до обходительности: вся занята другими мыслями. Погружена в них. Ей все равно не переключиться — не лучше ли подчиниться, сделать вид, что ешь, и потом быстренько и незаметно умотать.
Альфия — так звали малявку — проводила на кухню, где на облицованном пластиком столе уже лежали пучок вымытой редиски, зеленый лук — с базара? — очищенная и нарезанная колбаса, несколько холодных яиц, хлеб и стоял стакан молока. Альфия подвинула табуретку и удалилась. То ли и ей было не до меня, то ли следовала примеру матери. Для виду присел за стол, через пару минут вскочил, двинулся к двери: теперь уже уйти в самый раз. Толкнул потихоньку — не поддается. Верх двери застеклен матовым стеклом. Заглянул украдкой сверху вниз. С противоположной стороны двери где-то внизу, на уровне твоего пупка, маячил в молочном тумане матового стекла чернявый затылок Альфии. Может, потому и маячил сквозь пелену, что — чернявый. Ласточкин. Легонько попробовал дверь еще раз — мягкая, кошачья и все-таки неподатливость. Все ясно. Эта Мотька в весе пера прислонилась к двери, припечатав ее спиной и всем остальным. Зародышем всего остального. Во настырная! В отца. И смех и грех.
Вернулся к столу. Что лукавить: зелени вам в армии еще не давали, и чтобы «перекусить» приготовленным, тебе бы хватило от силы десяти минут. Правда, в солдатской столовой это называлось не «перекусить», несколько иначе, экспрессивнее: смести. «Смести», «метнуть» и т. д. Теперь старался мести как можно медленнее — чтоб не удариться в другую крайность. Справился, стряхнул крошки, подошел к двери, заглянул: за нею никого не было. Ушла. Оказалась хитрее тебя: усыпила бдительность и снялась. Открыл бесшумно дверь, направился к выходу. Идти мимо большой общей комнаты. В открытом дверном проеме увидел, что мать с дочерьми сидят обнявшись на полу. На стареньком, вытертом ковре. Подобрав ноги, молча. Мать посередине, и две темноволосые головенки прильнули с двух сторон к ее плечам, к ее столь отличным от них, светлым, устало ниспадающим волосам. Жена Муртагина, которую, как ты конечно же знал, звали Евдокией Степановной и которая, говорили, тоже была когда-то ткачихой (видать, Муртагин всю свою военную жизнь крутится в этих российских местах), сидела на ковре так же естественно, ловко, как и ее дочки. Можно подумать, что и она — татарка. Научилась? Или у женщин это от природы легко получается: сидеть, опираясь на выгнутую руку и подобрав под себя ноги — на ковре ли, на траве. У них природа другая — текучая. Никаких углов и никаких усилий. Равносильно сложению крыльев. Картина была трогательной и грустной. Хотел прошмыгнуть мимо, но тебя, разумеется, заметили. И Евдокия Степановна, и девочки вышли в прихожую — проводить.
— Спасибо за угощение, и знаете, — сказал, подыскивая слова, краснея, — не убивайтесь так. Уверен: Азат Шарипович обязательно поправится.
Не сказал ничего особенного. Самые расхожие слова. Но как они оживились! Как они разговорились — так, за здорово живешь, сбежать из прихожки было невозможно. Им не хотелось отпускать тебя, терять, как не хочется терять сообщника. Даже на лестничную площадку вышли, провожая тебя…
Муртагину нездоровилось с вечера. Но он крепился, говорил, что обойдется, достаточно принять валокордин и отлежаться. А под утро стало совсем худо, и жена позвонила в госпиталь. Приехал доктор, приехали несколько солдат. Доктор подтвердил худшие опасения: скорее всего, инфаркт. Велел Муртагину одеваться, солдат послал вниз, к машине, за носилками. Муртагин не сразу понял, для чего и для кого носилки. А когда понял, сказал доктору, лейтенанту, что налагает на него сорокаминутный домашний арест. Лейтенант растерялся: вроде шутит, а по глазам незаметно. По глазам вообще ничего не заметно: ни зги в глазах у Муртагина. Только побледнел еще резче, глубже, до синевы, да на лбу выступила испарина.
Жена, наверное, лучше знала, когда Муртагин шутит, а когда нет. И как ни боялась за его сердце, а все-таки втихомолку выпроводила вниз, к лейтенанту, и солдат. Носильщиков.
Муртагин недооценил себя. Ошибся — на десять минут. Полчаса спускался с пятого этажа, сопровождаемый — на расстоянии в одну ступеньку — женой. Медленно, перенося, перемещая ногу так, как перемещают ее, преодолевая почти осязаемое зеваками сопротивление самой атмосферы, солдаты в траурной процессии. Ставя ее так, будто под ногами вот-вот окажется и не твердь уже, а разверзшаяся тинистая бездна. Со ступеньки на ступеньку, придерживаясь вспотевшей, неверной рукой за перила. Можно представить, как напряженно, страхующе смотрела она ему вслед!
На носилках Муртагину было бы хуже, чем сейчас, при самостоятельной ходьбе. Хуже от одного сознания, что он — на носилках, что с о л д а т ы несут его из квартиры, с пятого этажа по узким лестничным маршам к машине «скорой помощи». Он нервный, Муртагин, — жена это знала лучше всех. Лучше всех вас, которые нервным Муртагина не видели.
Ей надо было вызвать обычную гражданскую «скорую» — с доходными тетками вместо ваших владимирских тяжеловозов. У Муртагина перед солдатом пиетет. Солдата, по Муртагину, необходимо употреблять только в дело. Помните, у Толстого в «Казаках»: д е л о. В дело, а не на строительство офицерских гаражей и не на перевозку командирского скарба…
Поэтому жена, дочки и были сейчас в панике — потому что Муртагин, вопреки указанию доктора, спускался с инфарктом пешком. Пешком — при необходимости полной неподвижности. Тогда-то у жены хватило смелости, мудрости если и не санкционировать это муртагинское самоуправство по отношению к самому себе (и к лейтенанту тоже), но и не препятствовать ему. Теперь же, днем, ее мучило раскаяние. Страх, раскаяние, ожидание… Они все трое были пойманы ими как силками. И на ковре, кстати говоря, смотрели тремя жавшимися друг к дружке птицами — их прижимала, собирала вместе, в щепоть, и сама скрученная волосяная сетка. Ты вспомнил эту деталь?
Потому и старшая медсестра в госпитале была так неумолимо неприступна. И Муртагин потому был приготовлен лежать лицом к стенке. Расплата за самоуправство. Чтоб неповадно было…
А вот когда в ваше соединение приезжал уже упоминавшийся московский генерал, лично ты был брошен на затыкание щелей в генеральской гостинице. Ты был не один. С тобой был еще один доблестный воин — Витя Корнев, в недавнем прошлом преподаватель музыкальной школы в Липецке. Вот уж кто был композитор композитором! Чистый, без всяких там примесей. Пожалуй, под неизгладимым впечатлением от новобранца Корнева старшина Зарецкий и пустил в оборот это свое словечко. Придумал новый род Вооруженных Сил — «композиторы». Правда, на месте старшины Зарецкого Корнева назвать бы надо не композитором, а… кем там был у нас Пьер Безухов? По роду занятий? Преимущественно барином? Добрым, до простофильства, просвещенным барином? Так и Витя Корнев оставался барином даже с ломом в увенчанных багровыми мозолями руках (чем барственней, тем их, мозолей, больше и тем интенсивнее их цвет). Невысокого роста, круглый, полный хорошей, вельможной полнотой, поколебать которую не смог даже лом, в круглых, запотевающих с мороза очках, с округлыми, достоинства исполненными манерами. Уменьшенная копия Безухова. Миниатюра. Есть концертный рояль, а есть — кабинетный. Миньон — так, кажется, называется. Миньон-Безухов.
Думается, выбор на вас пал неспроста. Так случилось, что затыкание щелей должно было проходить в присутствии самого генерала, и здесь на первый план выступали не профессиональные качества — специалист по затыканию дыр! — а интеллигентность, обходительность и т. д. и т. п. В кои веки возник спрос на композиторов! И старшина Зарецкий, стратег, которому было доверено совершить этот выбор, четко реализовал его, выдернув из строя после некоторого стратегического хождения вдоль его фронта вас с Миньоном, а затем вооружив вас поролоном, клеем, гвоздями и некоторыми навыками заделки щелей в обществе высшего начальства.
Много замечательного услыхали вы тогда с Миньоном в старшинской каптерке о генералах: они же, стратеги, с генералами на короткой ноге.
Ничего зазорного в затыкании щелей как таковом нет. Вы, военные строители, сами эту гостиницу строили, отделывали, сами напортачили — самим и исправлять. День был ветреный, на улице мело, и в гостинице тоже посвистывало. В затыкании щелей ты оказался способнее Пьера. Вата у него лезла клочьями, стамеска не слушалась. Руки, видать, огрубели на землеройных работах. Поблескивая очками, он молча и растерянно оглядывался на тебя, виновато улыбался. Ну никакой жизненной практики! — ты вынужден был сказать, чтобы он бросил все к чертовой матери и просто таскал за тобою стремянку и подавал вату или стамеску.
Ассистировал.
Тот согласился с облегчением.
Композитор на субботнике.
Генерал ходил по комнатам — тонкие шевровые сапоги даже не поскрипывали, а прямо искательно попискивали, вместе с половицами, под хорошим еще, ядреным грузом, — иногда напевал что-то торжественно-бравурное, присаживался к вощеному журнальному столику, черкал что-то в заранее заготовленных (кем-то) листках, прихлебывал горячий, с коньяком, чай.
Во всем этом тоже не было ничего предосудительного. Унизительное — для вас с Миньоном — заключалось лишь в том, что начальник вас не замечал.
Во как надо устраиваться в жизни: тебе конопатят окна, а ты их не замечаешь! Чего уж там носилки, скорая помощь, гаражи…
Правда, иногда, несмотря на всю его бравурную шумливость, энергию, тебе казалось, что генерал-то наш того — тоже композитор. Как и вы с Миньоном. В отличие от Муртагина — человека практического действия. Д е л а.
«Не счесть алмазов в каменных пещерах…»
А вы говорите — не композитор.
41
Самолет стоял посреди бетонки, как верблюд посреди пустыни. Верблюд дальнего следования. Даже сквозь иллюминатор чувствовалось, как прохладна «пустыня» — на ней еще не просохли вчерашние лужи. Как и следовало ожидать, на сей раз пассажиры покидали «борт» так, словно он тонул. Обычная послеполетная давка, подзуженная еще и воспоминаниями о ночевке в Ростове, обычные увещевания по радио «не покидать кресел», «ждать приглашения к выходу» и обычные же нарушения увещеваний. Только Сергей и его больная ничего не нарушали. Глаза у женщины открыты, рука ее тихонько блуждает по Серегиной ладони, пальцы его ощупывает, бороздки, пясть, давно уже не знавшую мозолей. Запоминала. Она только глубоко-глубоко вздохнула после приземления — вот и все беспокойство. Словно почувствовала сквозь иллюминатор воздух родины, в который, как в глубокий колодец, недавняя гроза бросила пригоршню старинного серебряного лома. Воздух даже засветился от этой своей обновленной, целебной, ионизированной чистоты, излучавшейся с самого невидимого дна — где-то там поднималось летнее солнце. Оно сейчас, утром, и было слитком, комом переплавленного серебра — чтобы к обеду стать самородком червонного золота. Вздох был очистительно-полный, как после сна. После забытья. Отсюда до ее родных мест рукой подать. Сколько раз она говорила, что в Москве «не вздышится», — Сергей не придавал этому значения. Блажь, думал. Все дышат, и ничего. Дышите глубже. Многочисленные московские долгожительницы — вон и в их доме живет бабуля, разменявшая десятый десяток, — самое официальное, самое достоверное свидетельство того, что Москва и впрямь самая чистая столица в мире.
Старухи да еще комары в квартирах — тоже, говорят, химии не выносят. А тут живут, здравствуют, сосут…
Самолет опустел.
По проходу к ним медленно, потеряв былую решительность, шла девчонка, чье имя он так и не успел узнать. Отсутствие имени дарило столько вариантов его. «Ладони, пахнущие Машей» — чем не имя? Есть же, было «Рашель, ты мне дана».
Она все-таки положила руку ему на плечо. А другой рукой показала в окошко:
— Смотрите, это за вами, за вашей мамой…
По аэродрому, пытаясь наверстать запоздание, разбрызгивая лужи, летела «скорая». Сергей уже различал в глубине ее напряженные лица родственников. Женщина, которая плачет, — сестра жены.
«Мамой».
Сергей не стал ее поправлять.
Мягкие, потерявшие силу, сноровку, пальцы все еще бродили впотьмах по его ладони. Может, запоминали. А может, узнавали.
«Скорая» уже с форсом развернулась у самолета, разом распахнулись ее легкие, бликующие на солнце дверки, а у Сергея было ощущение полной растерянности.
Взять билеты и — не выходя из самолета — назад? Домой? — с этой вот старой, больной женщиной, которую он сейчас не передает с рук на руки, а п р е д а е т…
Так ясно, так больно понялось: предает.
Жизнью — вот чем она похожа на его мать.
42
Проведавши в госпитале Муртагина, решил навестить и свою родную часть, благо, что она рядом с госпиталем. Зашел в свою казарму, посидел с ребятами на солнышке в курилке. Стыдно было говорить им, что уже уволен в запас. Они-то еще только ждали увольнения, хотя и призывались вместе с тобой. Ты увольнялся — стараниями или обидчивостью Муртагина — практически первым во всем соединении. У них тоже все разговоры были о доме, но до увольнения им надо было выполнить добровольно взятый аккорд: закончить отделку девятиэтажки. Собственно, поэтому народу в казарме было не так много: старослужащие составили три большие комплексные бригады, и таким образом работы на доме велись круглосуточно. Сейчас одна бригада отсыпалась, одна готовилась заступать на смену. Она-то и докуривала в курилке, с нею-то ты и повидался.
Ты и раньше не был мастером хранить секреты, особенно свои, да еще хорошие, да и форма на тебе выглядела, наверное, непривычно штабной, пижонской — сослуживцы привыкли к твоему обычно далеко не парадному виду. Дело не в том, что ты, скажем, не хотел отличаться от тех, из кого сам произошел. Куда там! И в казарме, и в городе, и в увольнении можно встретить военного строителя, на которого любо-дорого взглянуть: кавалергард, да и только. Все тютелька в тютельку, все, что положено, блестит, скрипит, поет. Хоть тотчас его в роту почетного караула, дабы внушал опасливое почтение высоким зарубежным гостям. Ты бы и хотел выглядеть (в твоем селе говорили: «Ну-кось, как ты сегодня выглядаешь?») щегольком, да, если опять же воспользоваться десятским арготизмом, «тяму не хватает». То, что на людях сидит, на тебе почему-то торчит. Худым не назовешь, особенно сейчас. Но то ли из-за спины и рук, длинных, как у портового грузчика (спина, «спиняка», как, отчаявшись купить рубаху, простонародно выражается жена, — чтобы подставлять ее под рогожные мешки, руки — чтобы эти мешки хватать), то ли в силу несколько малахольного характера всегда кажешься дальним родственником степного ветряка. Но тут, вид но, что-то в твоем облике переменилось. Припарадилось. Причепурилось. Кто-то из старых сослуживцев бросил-таки, сощурившись:
— Чего это ты сегодня как новая копейка?
Так хотелось похвастаться, но все-таки смолчал. Ценой значительных усилий репутация политотдела была сохранена. Хотя бы на время, хотя бы до завтра, когда весть об увольнении наверняка дойдет сюда самостоятельно, без тебя, по беспроволочному солдатскому телеграфу.
Другое дело — что они завтра подумают о тебе? Из двух зол пришлось выбрать меньшее или хотя бы — дальнее.
Правда, настроение было совсем не игривое, не парадное. И свиданье-прощанье с Муртагиным, и этот последний приход в свою часть разбередил душу. Зашел к комбату Каретникову. Тот принял в своем кабинете, угостил чаем. Ефрейтор Гриша Гришук, дежурный по штабу и одновременно добровольный и оттого простодушно-ретивый ординарец, как личное оружие хранил в дежурке трехлитровый термос с чаем исключительно для комбата Каретникова. Чай приготовлялся по фронтовому комбатовскому рецепту, крепость имел огнестрельную и вполне соответствующий ей цвет. Узнав, что ты уволен в запас и собираешься к отъезду — перед комбатом темнить не стал, — Каретников взял оба стакана в тяжелых витых подстаканниках, прошел, попирая тонкие половицы, в угол своего кабинета, открыл окно, выплеснул часть чая во двор и, повернувшись к стоявшему здесь же глухому шкафу, открыл его, расположив стаканы на подоконнике, долил их коньяком. Ты потом так и не понял, чего же в стаканах оказалось больше: чаю или коньяку.
Сел напротив за маленький приставной столик. Плечистый, тяжелый, типично военный — не знаючи, трудно было разгадать в этом сгустке, в этом к о м л е всего военного тот изначальный сугубо штатский росток. Саженец. Вон сколько всего наросло. Поставил локти на стол, и столик сразу перекосило на его сторону. Над квелой фанеркой — такая масса даже не деревянного, а железного.
Помолчали, прихлебывая чай из стаканов.
— Настроение небось праздничное? — с некоторой ревностью спросил он.
— Да как вам сказать.
— И то хорошо.
Опять помолчав, спросил, что слышно о здоровье Муртагина. Ты рассказал.
— Ты его не забывай, — сказал комбат раздумчиво.
Ты обещал — сколько легких обещаний дал в тот день!
Пожал руку, положивши ладонь на плечо, проводил до порога:
— Даст бог — увидимся, не даст — не поминай лихом!
— Спасибо.
И ты пошел. Как ни привольно жилось в комендантской роте, а уходил бы оттуда, вряд ли тянуло бы оглянуться назад. Курс молодого бойца, первые, самые трудные дни и месяцы службы, первые друзья-однополчане, — все это осталось здесь. Увольнявшихся в запас здесь формировали в большие группы. На утреннем разводе их проводила вся часть. Два строя выстраивались на плацу. Один обширный, поротный, повзводный, в рабочей одежде. Другой — небольшая шеренга, блиставшая значками, бляхами, сапогами и чемоданами. Специально для них, увольнявшихся, и в назидание остающимся комбат говорил с трибуны краткую речь, специально для них духовой оркестр части мешкотно выдувал «Прощание славянки».
Р е ч и т а т и в. Музыка военных гарнизонов и речных пристаней. Бравурная мелодия разлуки, когда и смеются, и машут платочком, и кричат, и кличут — сквозь слезы.
Когда-то так и снилось, что с группой своих погодков идешь мимо замершего строя уже почти не в ногу, уже с чемоданчиком, уже «домой» под «Прощание», к вашему КПП, где, провожая старослужащих, уже вытянулись, отдавая честь, часовые.
Военная и вместе с тем такая женственная музыка. Война и женщина. Смерть и женщина. Согласное противоборство двух начал. Возможно, оно и придает мелодии очарование. Не зря на пристани старые солдаты нетрезво плачут под «Прощание». Да и у тебя, когда заслышишь, щемит и сторожится душа. Давно не военный, давно не в гимнастерке, а услышишь «Славянку», так и тянет обдернуться. Душа становится и мягче, и вместе с тем строже, зорче, что ли. Пристальнее. Абрис прощания — он почему-то извечно витает над этой пристанью — Россия.
Наверное, слишком много прощаний было на Руси. Во всяком случае, больше, чем встреч.
…А вышло — идешь сам по себе. Без строя и без музыки. И дежурные по КПП — вон как громко их назвали: часовые! — а они всего-навсего безоружные сторожа — Витька Быкадоров и Васька Батманов, призывавшиеся вместе с тобой, ничуть, конечно, не вытягиваются и никакой чести не отдают, а просто здороваются и приглашают выпить чаю. Витька, твой земляк, получил посылку от матери. Домашние кренделя шлет, как маленькому.
И ты еще раз за последние двадцать минут пьешь чай комбатовской крепости — на сей раз с кренделями.
«По Дунаю ласточкой помчусь…»
* * *
Они в пустом самолете. Их трое. Через минуту все они расстанутся друг с другом. Навсегда.
ЛИПЫ Повесть
Не знаю почему, но этот мальчонка никак не идет из головы.
Вот он сидит на лугу, на который я его и посадил, в траве, и в самый неподходящий момент, когда б ему надо улыбнуться, широко, трогательно, «по-детски», вдруг резко мотает головой. Так мотает головой лошадь — спасаясь от назойливых мух.
Муха в кадр не попала, а вот это характерное движение — вот оно. И в кадре, и в памяти. Глаза у мальчишки деловито опущены, декоративно усаженный в траву, он тем не менее не прекращает своего натурального занятия, д е л а — скоблит стекляшкой прутик: «Слуб под баню будем ставить». И получается вроде и не от мухи отмахивается, а от нас: от камеры, от оператора, от режиссера, от редактора, от меня. От нас — облепивших его.
А я как увидел его, самого маленького здесь, так и понял: парня надо сажать в траву. Место ему в траве. Хоть и работаю на телевидении без году неделю, а уже, как видите, начал «мыслить образами». Картинками. Мальчик, эдакий херувим-аборигенчик, в траве. Среди ромашки аптечной, среди мяты перечной, среди пестротканых мутовок клевера, среди метелок водосбора — они высоко воздеты надо всем остальным разнотравьем и разноцветьем и не то уныло сторожат его, не то освещают это ленивое волнообразное ботаническое шествие своим керосиновым светом. День, зной, и свет этот еле заметен — так, не пламя, а язычок марева колеблется на макушке длиннобудылого стебля. И под этим язычком — мальчик, дитя природы, не то фауны, не то флоры, чья макушка тоже выгорела, выцвела, как и все остальные цветы на этом июльском лугу.
Мысль? А бог его знает, какая тут мысль. Теле-видение…
Вообще-то это не я его увидал. Это он меня определил. Вычислил. Нынче модно говорить «вычислил», но применительно к его возрасту, к его гипотетическим познаниям в алгебре-арифметике я бы сказал проще — вынюхал.
Как щенок — он пока действительно в щенячьем, в кутячьем возрасте.
Я стоял в толпе — мы как раз снимали концерт художественной самодеятельности, — когда кто-то подошел ко мне сзади, вложил мне в руку крошечную прохладную ладошку и потянул вон из круга.
О размерах человека можно было догадаться по размерам ладошки, очутившейся в моей руке, и я пятился назад с превеликой осторожностью. Ладошка в моей рабоче-крестьянской лапе тоже появилась чудно. Знаете, как воробей за стреху впархивает? — торк-торк, лапками посучил, хвостиком подергал и уже в гнезде. Так и тут: подергалось, посучилось — и уже в ладони. И сжать-то ладонь боязно: что-то совсем хрупкое, всю середину, всю сердцевину которого занимает одно пульсирующее сердчишко.
* * *
Как и у всякого нормального человека, тем более мужчины, у меня прорва недостатков. Пороков. Я, например, неприлично многого боюсь. Начальства, молвы, наглой физической силы… Эту цепь можно продолжать и продолжать. Но как бы длинна она ни была, в ней, могу похвастать, есть два недостающих звена, благодаря которым она всегда будет разомкнутой цепью. Незавершенной. То есть нельзя все-таки сказать, что я круглый трус. Конченый. Поэтому, когда жена допускает по отношению ко мне подобные выражения, — надо идти в ЖЭК, ругаться по поводу ремонта, а я упираюсь, — я стою и улыбаюсь, чем еще больше подзуживаю праведный гнев.
— Плакать надо, а ты регочешь! — кричат мне в запальчивости.
А чего плакать. Я-то зна-аю. «Моя, однако, мал-мал панимает…»
Плачет в конце концов жена.
Цепь не завершена, потому что не боюсь детей и собак.
Детей не боюсь, потому что их у меня четверо. Двойняшек среди них нет, рождались они с интервалами в четыре-пять лет, женился на девятнадцатом году, так что процесс деторождения растянулся, считай, на двадцать лет. Пеленки-горшки, первые шаги, вечные страхи.
Пишу эти строки, а рубаха липнет к спине. Раньше бы сказал — к лопаткам, а теперь, увы, попробуй отыщи мои когда-то торчком торчавшие — сейчас они по-цыплячьи торчат у детей — лопатки. Рубаха липнет к спине, рубаху хоть выжимай от пота. Дело в том, что я только что пришел со двора, — мы снимаем на лето избу в деревне, — где учил кататься на велосипеде младшую дочку. Мне было лет двадцать пять, когда впервые побежал за велосипедом. Помню, летел не чуя под собою ног. Как же, первенец, Настя, после трехдневных моих усилий наконец обрела самостоятельность в седле и наяривает так, что только беленькие носочки ее мелькают передо мной как копытца. И я бегу следом, вытянув руку, спотыкаясь, и счастливо кричу что-то ей в спину. Я, наверно, радовался больше, чем тогда, когда сам мальчишкой получил наконец вожделенный велосипед, — что касается езды, то ездить научился раньше, на чужих, на соседских, тех самых, которые дольше канючишь, нежели ездишь на них. Потом вторая дочка, потом третья, потом, наконец, четвертая, и, надо полагать, последняя. Так и бегу — вытянув охранно правую руку. Только спотыкаюсь чаще да рубаху сейчас, когда мне без малого сорок, хоть выжимай. Говорят: вечно странствующий. Так вот я — вечно бегущий. Вечно касаюсь кончиками пальцев обгоняющей меня жизни.
Сейчас мог бы уже и не бежать. Есть кому бегать и без меня. И та же Настя, и следующая за нею Катерина вполне могли бы заменить меня. Но, во-первых, их надо упрашивать, уламывать, улещать, и еще неизвестно, согласится ли Настя, семнадцатилетняя городская девица в атласных шароварах — тех самых, в которых, если верить Н. В. Гоголю, щеголяла когда-то Запорожская Сечь и которые водоизмещением равнялись половине Черного моря (в настоящий момент они заполнены, замещены разве что на одну десятую: две длинных стрекозьих ноги лениво шевелятся в них, все остальное — воздух), — бегать за велосипедом по деревенской улице. А во-вторых, я им как-то не доверяю. Зазеваются, не успеют. Девчонки есть девчонки, какой с них спрос. Тем более что младшая, козявка, и сама требует, чтобы бегал — отец. Так ей увереннее. А может, престижнее. Чтоб за ее развевающимся платьицем бегал, спотыкаясь, теряя очки, такой большой и неуклюжий человек.
Доселе неизвестный науке вид махаона, и — бережно преследующий его Жак Паганель, крепко раздобревший с течением лет.
Каждая из них являлась на свет с непоколебимым убеждением, что она-то и есть доселе неизвестный вид. Еще только вылупляясь, выпархивая из кокона, уверена в этом — уверенность значилась как на рожице, так и в истошном вопле, которым новорожденная оповещала науку о своем явлении. Прибытии. Вперед, наука, с низкого старта!
Честно говоря, этот вид, именуемый Дарьей (в семье имя произносится без мягкого знака, с твердым вместо мягкого, чтоб звучало погрознее, целый день в доме только и слышится: «Даръя», «Даръя!» И боюсь, что маленькая шкода воспринимает его и не как имя вовсе, а как ругательство, что, впрочем, не мешает ей реагировать на него разве что дерзко высунутым языком), мне и самому кажется совершенно неисследованным. Ошеломляющее открытие — даже при моем предшествующем опыте.
Шкода чувствует это и весело глумится над отцовской слабостью.
А может, еще и потому ношусь за велосипедом, что за мной в свое время никто не бегал: рос без отца. Хотя и велосипед-то мне, пожалуй, купили так рано, в четвертом классе, именно потому, что рос без отца. (Когда пишу, что у других на улице уже были велосипеды, то это не совсем правда. Правда состоит в том, что у других были, строго говоря, не их велосипеды, а старших братьев или отцов. Потому они и выклянчивались так туго: сначала их надо было выклянчить моим сверстникам — у отцов или братьев, а потом уже я клянчил их у счастливых, но, увы, временных владельцев. У меня же велосипед сразу стал безраздельно моим. Мать на него отродясь не садилась, а старших братьев и сестер у меня не было.) И купили его мне не в силу какой-то особой жалости. А в силу необходимости. Необходимостью был продиктован и выбор марки. Я втайне мечтал о «Школьнике» — его тогда только-только начали выпускать: с двойной рамой, низенький, как ишачок. Мечтал о «Школьнике», чтобы сразу восседать в седле. Но необходимость распорядилась иначе.
— Тю, дура, — сказал дед Кустря, сосед, к которому мать обратилась за советом: покупка-то предстояла нешуточная, как же без совета. — На ем же ничего не привезешь.
Это и решило мою участь. «На ем же ничего не привезешь». Я был единственным мужчиной в доме, а при доме был еще и двор со всей положенной живностью. Корова Ночка с телком, свинья с поросятами, три овцы с ягнятами, полсотни кур, два десятка уток, собака. (Сейчас у меня с младшими детьми есть такая игра, называется «скотный двор». Поднять, растормошить их утром нелегко, вот и придумал. Задираю им ночнушки и показываю, как просыпается скотный двор. «Вот первой пробежала собачка Жучка. Вот, прокукарекав, прошествовал петух. Нашел зернышко, хотел склюнуть, но вовремя спохватился, вспомнил о хохлатках: «Бегом ко мне, я просяное зернышко нашел!» Опрометью бегут со всех сторон куры. Овец выпустили, травку во дворе щиплют. Свинья Хавронья, несмотря на железное кольцо в пятачке, пытается двор ковырять — корешки ищет. Корова Ночка, тяжело ступая, пересекает двор — в стадо направляется…» Как вы догадались, все это изображаю пальцами, гуляющими по спинам. Две смуглявые спинки — двух простодушно нежащихся на мелководье рыбешек — чутко подрагивают под моей пятерней. Пятерни хватает на то, чтобы накрыть спину от лопатки до лопатки. Одна спина совершенно постная, позвонки, ребрышки, косточки ощупываются ладонью, как галька под водой. Другая, Даръина, чуть-чуть заправлена младенческим сальцем. Ладонь скользит по ней без помех. «Скотный двор» популярен: малыши, еще не проснувшись окончательно, уже выгибают спинки и сами требуют, чтобы я приступал к делу. И не дай бог пропустить хотя бы одного обитателя скотного двора. «А корова Ночка?» — орут. Или: «А свинья Хавронья?» Время жмет, утром в доме запарка, особенно если ляжешь поздно и проспишь, а этим хоть бы хны. Их не поторопишь, не обдуришь. Вроде спят, а поди ж ты, контролируют. Кожей, что ли? «Спит, спит, а курей бачит» — так говаривала моя мать. Здесь тот самый случай — «курей бачит». «Скотный двор» настолько притягателен, что старшие тоже нет-нет и потянутся завистливо на своих кушетках: «И на-ам…» Та, что поменьше, попроще пока, Катерина, даже плечики приоткрывает, Настя же подставляет спину, туго спеленав ее предварительно простыней. Площадь скотного двора увеличивается, в очертаниях, даже скраденных простыней, появляется изящество — грубо называть его «скотным», но что-то животное, то, к чему применимо слово «стати», уже прорезается в этом отроческом изяществе продольных линий. «Скотный двор», переходящий в ипподром, — иначе их, разнежившихся, не поднимешь. Боюсь, что все понятие о натуральном скотном дворе у моей детворы этим утренним баловством и исчерпывается. У меня же оно было совсем другим. Реальным.)
Пальцы, которые сейчас так ловко изображают скотный двор, все лето бывали иссечены люцерной, ибо весь этот двор со всем его многочисленным приплодом надо было кормить-поить, добывать сено, солому, озадки. (Вот вам пример грубоватого народного словообразования. «Озадки» — это то, что остается от зерна после его просеивания. Веялка веет, калибрует: хорошее, увесистое зерно течет по желобу в одну сторону, а в другую летит всякая муть. То, что «течь» не может. Охвостья половы, мусор, сухие жучки, дробленые, и потому легкие, неполноценные зерна — «сечка». Пыль… То, что способно только лететь, лишенное полновесности. Полноценности. Прах. Прахом — половой, мусором, сухими жучками, сечкой, пылью — и кормились. Эту спасительную дребедень можно было назвать нейтрально: «остатки». Но народ не любит бюрократически-нейтральных слов. «Озадки»! — и насмешливо, даже пренебрежительно, а вместе с тем и по-свойски.) Вот это и приходилось добывать и доставлять домой. А на плечах много не натаскаешься. Да и сдавать они стали, плечи у матери. Так я, мужчина в доме, оказался при велосипеде. Детям купил его, чтоб «кататься». Мне же его покупали, чтоб «возил». Первое время ездил в «раме», всунувшись в велосипед, как червяк в яблоко, и едва достигая руками руля, потом стал ездить «через раму» — и все это с неизменным грузом, с мешком на багажнике. И только в шестом классе наконец дорос до седла. Утвердился в нем окончательно.
Возчик. Скотник скотного двора. Сейчас в промышленном животноводстве появилась такая профессия — «кормач». Раздающий скоту корма. Я был — кормилец.
Далече, однако, удалились мы с вами от темы.
А рассказываю все это к тому, что другие в мои годы давно забыли и о пеленках, и о беготне за велосипедом, и о бессонных ночах, и о тысяче других хлопот, связанных с малыми детьми. Как сей? «Снесут» одного, с помощью бабок, дедов, тетей, дядей — вон сколько наседок сразу! — поставят мал-мал на ноги и до самых внуков забудут о той туманной, тревожной, наполненной теплыми, обволакивающими, дурманящими гейзерами, испарениями (и испражнениями тоже), исполненной таинства зарождения ну если не самой жизни, то на сей раз личности, долине: м л а д е н ч е с т в о… А я же из этой долины, из этого лона и не выхожу. Последую принципу народного изъяснения — не вылезаю, захлестнутый ею, ее хлопотами, страхами, надеждами по самые ноздри. Навыков общения с нею, ориентации в ней не теряю. А если Настя еще годика через три организует внука, то так и получится, что всю свою молодость — зрелость просижу на этом тинистом дне. В долине жизни. Так и не порву с этим алогичным околоплодным миром, притороченный к нему то одной, то другой перевившейся пуповиной. Хотя вовсе не так уж чадолюбив, как может показаться. И уже тем паче — не экспериментатор. Не стремлюсь в гордом одиночестве (в паре) латать наши демографические дыры, ставить рекорды рождаемости, догонять Никитиных или Турсуновых.
Как только кто-то узнает, что у меня четыре девчонки, так сразу же понимающе ухмыляется: «До сына бьешь?» — и я уныло киваю головой.
А что мне еще остается делать? Должно же быть хоть какое-то объяснение. Так, по крайней мере, считается — что объяснение должно быть всему. Вон у меня есть знакомый журналист, с младых ногтей пишет о проблемах педагогики. Пишет и экспериментирует — одновременно. Сам маленький, тщедушный, смешной и жуть какой целеустремленный. Женился еще в университете на будущей журналистке, маленькой, хрупкой, смешной и столь же необычайно целеустремленной. Сейчас у них тоже четверо детей, хотя они намного моложе нас с женой. Когда-то мы с ним работали в одной газете. Тогда он заявил мне, что непременно меня «догонит». Заявление было сделано столь серьезным напористым тоном, что я даже переживать за него стал: а вдруг не догонит? Дети у моего коллеги уникальные: бегают зимой по снегу, выпиливают лобзиком, в квартире и шведская стенка, и даже бассейн. И это при весьма скромном достатке человека, который вытягивается в нитку, собственным горбом выволакивая, поднимая свое многочисленное семейство. Экспериментальные у него дети. Коллега — энтузиаст родительских клубов, семейных коммун, походов. Служит идее — и пером, и штыком. У меня же они и появляются, и растут как трава. Никакой целенаправленности. Что касается двух последних, так я их называю случайными детьми. Была нормальная советская семья с двумя детьми, и вдруг как снег на голову эти двое, одна за другой. (Между старшей парой разница четыре года, между этой год, а между парами — шесть лет.) Лично я их не загадывал, не ждал. В общем, хоть они и похожи на меня больше, чем старшие, я имею полное право заявить, что это — дети жены, а не мои.
Если обе — случайные, то Даръя, стало быть, случайна вдвойне. Материализованная случайность. Дудки! — ни одна живая душа не чувствует себя в доме более законной, чем эта. Да только ли в доме? — каюсь, мне сейчас даже жутко представить, что этой души могло не быть.
…Обитатели тины (я бы назвал их не чадами, а исчадьями, есть исчадья ада, а эти — исчадья жизни, то бишь рая) чуют во мне своего и идут ко мне безо всякой боязни. Рыбак рыбака… А мне их тем более бояться нечего: все повадки знакомы.
Собак же не боюсь потому, что их чересчур боятся мои дети. Девчонки — были б мальчишки, может, и не боялись бы. Хотя я мальчишкой боялся. И эта моя боязнь, возможно, и передалась им. И вот чтобы хоть какого отучить их от такой боязни, я стал демонстрировать перед ними чудеса храбрости. Овчарки, волкодавы, доберманы-пинчеры, сенбернары, пудели, дворняжки… С невозмутимостью тореро иду на любого представителя этой эпидемически умножившейся городской своры, будь то комнатная блоха с ошейником или томно лоснящийся битюг с хозяином на шнурочке (знаете, есть анекдот про муравья-контрабандиста, который пытался провести через границу слона и на вмешательство таможенников невозмутимо ответил: «А где вы обнаружили слона? Это не слон, а всего лишь мой дорожный бутерброд: видите, у него на ухе крошка хлеба?» Иные скрепленные поводком пары напоминают мне персонажей этого анекдота). И ничего — невозмутимость пока сходит с рук.
Надо сказать, что дерзость мою питает еще и раздражение: собаки сейчас вытесняют детей. На улицах, в парках и даже в семье. Неоаристократизм. А что? Развлечения собака доставляет ничуть не меньше, чем ребенок, а вот обязанностей по отношению к ней все-таки меньше, чем по отношению к ребенку. Обязанности не такие натуральные, что ли. Все так и все-таки — не так. «Дело крепко, когда под ним струится кровь…» Так и любовь. Но тут — не струится. И потом — собака не говорит не плачет Легко любить бессловесную тварь! Куда легче, чем словесную. Хотя любовь ли это? Мне кажется, что в столь распространившейся эйфорической привязанности к четвероногим реализуется не столько любовь, сколько тайное — неутоленное — властолюбие Иметь в безраздельном подчинении столь совершенный, услужливый, боготворящий тебя (преклонение перед тобой нередко сочетается с ненавистью ко всем остальным) организм. Если это и любовь, то согласитесь, весьма корыстная…
Собаку опять же не надо учить плаванию или езде на велосипеде — с чем я мучаюсь уже который год.
Собака — друг человека, а дети, как писал Достоевский, меньшие братья человечества.
* * *
Меня потянули за руку, и я повиновался, хотя это было равносильно самовольному оставлению поста. Людей на концерте жидковато, и режиссер «задействовал» и меня. Поставил меня так — спиной к камере, — чтобы усиливал ощущение толпы. Физиономия моя пока не требовалась, действующим лицом пока являлась спина. Что ж, спина моя, пожалуй, действительно у с и л и в а л а, ибо соседствующие с нею спины были сплошь стариковскими. Сгрудившиеся — тоже по распоряжению режиссера — старики и старухи, наблюдавшие за концертом самодеятельных артистов, приехавших вместе с нами, привезенных нами из райцентра. Народ не расходился, народ держался — не то силою искусства, не то силою воображения, ибо сразу же после концерта обещана была торговля дефицитным товаром. В дело должен был вступить наш главный калибр — районная автолавка, которая из самого райцентра влачилась вслед за нами по ухабистой проселочной дороге. Автобус с телевизионщиками — нас, пожалуй, больше, чем и артистов, и зрителей, вместе взятых, — автобус агитбригады и грузовик автолавки. В таком порядке мы и двигались, такая армада, пугая мирных поселянских кур, ворвалась, втиснулась в деревню Белую.
И вот я, игравший толпу, выбыл из игры…
* * *
Представьте деревеньку в четыре десятка домов, одна кривая и горбатая улица. Настолько горбатая, что если станешь на одном ее конце, то другого не увидишь. Впрочем, ее вообще, наверное, нет ни в конце, ни в середине — точки, с которой оба края улицы видны одновременно. Посреди улицы дорога, тоже кривая и горбатая. Весной и осенью мощные колесные тракторы вусмерть измочаливают ее, выворачивают наизнанку, прорезая в ней такую глубокую колею, что за исключением зимы пользоваться дорогой невозможно. Тракторы — они дорогой и пользуются. Машины же робко останавливаются в нескольких метрах от нее. Как перед противотанковым рвом. И наши автобусы остановились точно так, благо тут широкая поляна — она-то и стала ареной сегодняшнего действа. Впрочем, машины сюда почти не ходят. Трактор, а то и сцепка тракторов — надежное средство здешнего передвижения.
Дорога в низинке, а наверху два ряда домов: с одной стороны дороги и с другой. Дома стоят на значительном расстоянии друг от друга, как редкие старческие зубы. Время изрядно подпортило их: дерево почернело, какой-то влажный налет, старческая осклизлость появились на нем. Многие дома «повело», причем самым причудливым образом. Одному на самые глаза наехала крыша. Изба от старости вросла в землю, крыша и без того кажется как с чужого плеча, а тут еще насунулась, нахлобучилась, и дом стоит под нею, как под шапкой-невидимкой. У другого угол повело, и он прихрамывает на ходу, припадает на одно колено — ни дать ни взять инвалид Крымской кампании. Изгороди вокруг домов, как правило, нет. Хозяйства тоже практически никакого. Так, палисадники перед окнами, в которых цветут — так пышно, избыточно, как цветет все либо на пепелище, либо на кладбище — флоксы и георгины. Флоксы почему-то преимущественно белые. Белоснежные, до скрипа накрахмаленные — в них и впрямь есть что-то матерчатое. Правда, «материя» — самого тонкого, самого нежного свойства. Мне на память приходит креп-жоржет. Наверное, не только из-за его фактуры, но еще и в силу этого утонченного, нэпманского названия — «креп-жоржет». Георгины же не классические, поздние, с мелко-мелко, в рубчик, нашинкованными жесткими лепестками, собранными в одну огнедышащую воронку, в которой есть что-то демоническое: прямо остывающий кратер со всеми переходами в сопутствующих остыванию оттенках от розового до черного, — а те, что попроще. Однолетки, с простодушно раскрытыми, я бы сказал — разинутыми соцветиями: бордовые, желтые, белые, в крапинку. Две тропинки бегут, прерываясь, вдоль домов. То ли люди не могут протоптать их окончательно, то ли траве не хватает весны и лета, чтобы затянуть, заживить стежку полностью тонкой зеленой кожицей. Так и существует она, то пропадая в низинке, то возникая на взгорке, — продукт неустойчивого равновесия.
Сама Белая тоже, можно сказать, продукт неустойчивого равновесия. Имею в виду не возникновение Белой. Деревня старинная, зачиналась когда-то прочно, с размахом, располагалась на оживленном тогда пути из русского Поволжья в мордву и мерю, не зря иные избы до сих пор стоят (сейчас уже по отношению к ним надо говорить «сидят») на осыпающихся и тем не менее пока весьма дебелых кирпичных фундаментах. Нет. Продукт неустойчивого равновесия — сегодняшний день Белой. Ее старость. Впрочем, старость всегда неустойчива: малейшее дуновение, перемена давления меняют соотношение сил.
И ветхость изб, и отсутствие надворных построек — непривычно и даже тревожно видеть избу, вкруг которой не клубится, не плодится, не зеленеет жизнь, избу разделили, избу лишили ее питающей, в том числе и в прямом смысле слова, ее в о д о о х р а н н о й зоны — говорит о том, что Белая не просто старая деревня. Она стариковская. Живут здесь в подавляющем большинстве старики. И райцентр, и город, и просто разные города и веси, где обосновались их дети и внуки, далеко от Белой. Даже по праздникам, по выходным в Белую не наездишься, а самим старикам хозяйство вести уже не под силу. И рада бы Белая помочь провиантом своим новоявленным горожанам, да кишка тонка. Куры, да палисадники, да по нескольку грядок в ранее обширных, а теперь разгороженных и бурьяном зарастающих огородах, — вот и все хозяйство. Раньше огороды всячески оберегали от кур: держали последних в базках за оградами из металлической сетки, подрезали бедолагам крылья, чтоб не залетали куда не следует. Теперь же куры бродят повсюду беспрепятственно. Впрочем, как ни странно, теперь, с падением препонов, интерес к экономическому вредительству они потеряли. Выроют ямки в земле и целыми днями сидят в них, дремлют на солнышке. Не летают. Петух только лениво бродит меж своего окопавшегося гарема. Какой ему, петуху навар — с окопавшихся-то?
Куры в Белой тоже как будто постарели.
Белая — деревня не просто стариковская. Белая — деревня старушечья. Старик — он существо нежное хрупкое, до таких преклонных годов не дотягивает Сковыривается где-нибудь на подступах к семидесяти. Другое дело старуха. Хорошей старухе сносу не бывает. Вошла в старушечий возраст и бредет в нем, бредет, не в силах выйти из этого мерно влекущего течения. Вон в Москве, говорят, всех дедов, которым исполнилось девяносто, на особый учет берут, персональных врачей к ним прикрепляют, а старух, достигших тех же годов, не берут. Никого к ним не прикрепляют. Много их, старух долгожительниц, на всех персональных врачей не настачишься. А раз много, то и для науки особого интереса не представляют. Интерес для науки представляет то, чего мало. А жгучий интерес — то, чего и вовсе нету. Что уже исчезло. Исчезнувший вид. Что старуха? — организм грубый, простой, приспособляемый. Старики — вот исчезающий вид.
В Белой они бы тоже окончательно исчезли, сгинули бы, самоистребились, кабы не старухи. Жива старуха, и дед, глядишь, живой. Бегает. Случилось же что — и на старуху бывает проруха! — хлопнулась, как тут выражаются, старушонка, и деда, глядишь, и след простыл. Не бегает. Не живет. А если и живет — то не в Белой. И так-то не очень надежное, капризное, нежизнестойкое существо, без бабки оно, показывает практика, по месту жительства не задерживается. Пример тому дан еще в незабвенных «Старосветских помещиках». Или туда, или сюда — куда-то да девается престарелый вдовец. Или в дальнюю дорогу, или в ближнюю.
«Дальняя дорога» в Белой, пожалуй, самая короткая: погост здесь прямо за околицей, в березовом лесу, чистом и светлом, в котором, согласно поговорке, не молиться, а веселиться. «Ближняя» же зачастую далеконька: и в райцентр, и в город, и в разные прочие города и веси, в которых проживают выходцы из Белой. Старуха вполне способна к автономному существованию, и большая часть жителей Белой одинокие старухи. Кто совсем недавно схоронил мужа, кто давно, кто не дождался его еще с войны — в центре, если уместно в такой деревушке понятие «центр», в середине, в самой середке, в самом нутре у Белой стоит обелиск, на котором фамилий давно уже больше, чем есть их в наличии на сегодняшний день. Фамилий как таковых немного: Новожиловы — вот самая частая фамилия в Белой, и на обелиске она повторяется не меньше полутора десятков раз. А вот что касается среднесписочной численности, то тут уже «дебет с кредитом», как опять же выражаются в Белой, не сходится. Проигрывает сельсоветская книжка (в Белой и сельсовета-то нет, он в другой деревне, общий на несколько населенных пунктов, а тут одна только Советская власть) скрижалям из бетона. Да и то сказать: Новожиловы Новожиловым рознь. Вон «П. Ф. Новожилов 1905—1942» — тот был всем Новожиловым Новожилов. Красавец мужик, косая сажень в плечах, удалая кудрявая головушка. До сих пор помнят его в деревне. А что стоит за номером двадцать третьим в уже упоминавшейся сельсоветской книге, где значится та же самая фамилия и даже те же самые инициалы — П. Ф. Новожилова? А, можно сказать, ничего не стоит. Сорок два килограмма живого веса — понюшка табаку и та увесистей. В чем только душа держится. Маленькая, ссохшаяся, одни руки только, ладони, большие, узловатые, лаптеобразные, — они и тянут. Жена П. Ф. Новожилова — Новожилова Пелагея Федоровна. Вон как израсходовалась фамилия. Какие усушки-утруски, какие переделы прошла. А ничего — бегает фамилия. По дому сама управляется, летом, когда Белая набухает, как ручей в половодье, внуков-правнуков принимает.
…А кто и не был никогда замужем — эти обыкновенно и держатся дольше всех. Избежали амортизации, пагубного соприкосновения с этой столь нестойкой и тем не менее разрушительной мужской средой. В Белой сказали бы — «мущинской». Окислительный процесс старения в этой самой «мущинской» среде идет быстрее и увлекает, заражает при опасно близком общении даже такой несомненно крепкий орешек, каковым является бельская старуха. Открытый огонь — лучше держаться от него подальше. В Белой есть несколько бобылок, они-то и возглавляют шествие здешних старожилок. Сто четыре года исполнилось недавно одной из них — Подсвировой Степаниде Евремовне.
Бабки проживают в Белой и в одиночку, бобылей же в деревне нет. Неспособен старик, как таковой, как вид, жить и исчезать самостоятельно. Вести дом, обихаживать себя. Как мы уже отмечали, случайно оставшегося в одиночестве, зазевавшегося на белом свете деда или призывает к себе березовая роща, или забирает на дальнейшее жительство приезжая родня.
Такова деревня Белая.
Особые приметы? Липы — их и аллеей не назовешь: один неровный, тоже выщербленный ряд длиною в сотню метров. Когда-то, говорят, они занимали всю центральную часть деревенской улицы. Но время с ними обошлось, как со старыми избами. Строй поредел, строй поколеблен. Иных уже нет, даже пни не сохранились, те же, что остались, невзирая на появившийся в кроне сухостой, на изломы и болячки, приобрели в старости, как бы следуя здешним старухам, поразительную жизнестойкость. Липа, она и есть Липа — женский неистребимый корень. Не в пример какому-нибудь квелому ореху. «Порепавшаяся» кора на них ромбами своими напоминает старую потемневшую черепицу. «Черепица» хоть и почернела от времени, хоть и понадувалась местами, а все еще надежно защищает от ветра, от дождя и снега. Нет в Белой ничего выше этих лип. И крепче них тоже, наверно, нет ничего. Издалека видно их. Еще только подъезжаешь к Белой, еще не видно ни одного дома, а они уже вот, виднеются.
Верхушки у них повреждены от старости, и деревья приняли гнездовидную форму. Растут уже не столько ввысь, сколько вширь. Да, осенью и весной напоминают разоренные и покинутые гнезда. Сечет, треплет непогода голые ветви, где живое перемешалось с мертвым, всклокоченно, тревожно, вразнотык торчат они над деревней. А весной, глядишь, опять заселяются. Меленькая, но все умножающаяся листва забивает их до отказа, натрушиваясь, набиваясь даже туда, где, казалось, кроме черного, прогорклого, перегорелого древесного лома уже и быть ничего не может. Заполняет, обволакивает весь этот могучий, вулканический хаос, и в нем опять появляются очертания живого гнезда. И вся окрестная летающая живность, включая иных деревенских кур, поддавшихся весеннему сумасшествию, тотчас появляется, набивается в них и сосуществует там хоть и не всегда мирно, чаще с гамом и писком, с боевой метелицей пуха, но вполне домовито.
А в начале лета липы окутываются таким густым цветом, что сама зелень их приобретает янтарный оттенок. Словно ее заправили медом. Да так оно и есть — и вдобавок к уже обосновавшимся постояльцам каждую липу облепляет несметный сластолюбивый рой. Она сама становится роем, огромным, шевелящимся, гудящим. Кабы не кряжистый, глубоко в землю ушедший ствол — того и гляди, улетела бы. Снялась — так счастливо трепещет она каждым листом и каждым прозрачным крылышком. И густой, пряный, медовый чад ползет по деревне из конца в конец. Люди тоже льнут к липам: и так, посидеть, посудачить в холодке, и с простительной корыстью — деревенские старухи, взгромоздясь на табуретки, собирают в капроновые чулки липовый цвет, сушат его, и Белая круглый год потчуется чайком с липовым цветом. И с липовым же медом.
Вот, пожалуй, и все особые приметы. Был когда-то в Белой свой колхоз, но теперь свою хозяйственную самостоятельность она давно утратила. Бригады и той нету, не набирается в Белой. Бригаду она составляет только в пристежке еще с одной, куда более моложавой деревней. Из коренников Белая давно вышла. Выпряглась. И по-стариковски, беззубо, нежадно, «спрохвала», как сказали бы в Белой, пасется в виду дружно трудящегося тяглового молодняка.
* * *
Итак, мы с молодым человеком после съемок на лугу шествовали по деревне Белой, предводительствуемые старой, но весьма внушительной еще овчаркой. Деревню я вам описал, молодого человека тоже, собаку, можно сказать, представил. Имя вот только не сообщил. Имя сложное, заграничное — Пальма.
Из промежуточных сведений, пожалуй, все — пусть себе идут не торопясь.
Дом, к которому подвел меня мальчик, стоял на улице последним. Двухэтажный, на высоком фундаменте. И фундамент, и первый этаж — кирпичные, кирпичи небольшие, сплюснутые, но так стиснуты, схвачены друг с другом, что кажется, будто по этой причине они и крошатся. Вывалиться кирпич не может, а вот крошиться потихоньку крошится. Второй этаж — деревянный. Дерево тоже старое, уже что-то среднее между деревом и костью.
А так — резные наличники, замысловатый карниз. Надо же: материал мертвеет, а узоры — живые. Они-то, пожалуй, и есть самое живое в этом доме. Форма переживает содержание. Поводырь мой перед домом на минутку задержался, задрал кверху пальчик. Даже будучи задран, тот затерялся где-то на уровне моего пупка, так что мне сперва пришлось глянуть вниз, а потом уже запрокинуть голову, как того требовал этот махонький перст.
И под самым коньком увидел, разглядел резные, тоже узором, цифры: 1882. Ого!
Не то что на дом, но и вокруг посмотрел с большим пиететом, словно это тавро относилось и к тому, что вокруг. Магия указателей: нету бирки, и кажется, будто обступающий тебя мир родился вместе с тобой.
А вокруг было замечательно! Сразу за домом шел крутой спуск. Если побежать по нему очертя голову, да еще босиком, да еще вприпрыжку, то так и бултыхнешься в озеро, к которому он ведет. Вот оно, маленькое, чистое, даже камышом не забитое озерцо, дышит рядом. Как будто ведерко от колодца принесли и поставили возле, в тенечке: пригодится воды напиться. Поля за ним, лесопосадка вдоль дороги. Листва на деревьях еще молодая, еще не налилась июльским свинцом, еще легка, трепещет и играет и всей посадке придает стремительную текучесть. Так и кажется, что они пустились взапуски: дорога и ее зеленый конвой. Кто кого…
По крутой деревянной лестнице поднялись сразу на второй этаж. Собака, обнюхивая ступени, шла следом. Поводырь впереди, пес сразу за моими пятками — оттого, может, и пятки шли прямо сами собой, — и я посередине. Шаг влево, шаг вправо считается побегом. Меня форменным образом в е л и в этот дом на окраине села.
Открыли дверь, пересекли маленькую комнатушку, половину которой занимала русская печка, заставленная, заваленная всякой всячиной. Видно, летом, когда она не топилась, печка выполняла тут роль вьючного ослика, у которого даже в зубах какая-нибудь поклажа. Дом хоть и двухэтажный, а тесный, узкий, да и с мебелью у людей, видать, небогато, вот и стала печка смежницей. Пересекли комнатушку — все в том же порядке, мальчик с пальчик отодвигает портьеру, заменяющую дверь, и вводит меня в следующую. Еще подходя к портьере, почувствовал что-то неладное, но не поворачивать же назад, наутек.
Переступил порог — это уже светелка: со всех сторон смотрят на тебя белоснежные узорчатые салфетки, свежевыкрашенные полы застланы дорожками — и запнулся, нерешительно переступая с ноги на ногу.
На стоявшей вдоль стены железной кровати плакала женщина. Кровать убрана, целая горная цепь подушек отягощает ее пуховыми шапками. А поверх покрывала, поверх эти шапок ничком — женщина. Прямо в одежде, в платье и вязаной кофточке, туфли только сбросила, и эти сброшенные, покинутые туфли, грустно прикорнувшие у кровати, только усугубляли ситуацию. Лица не видно, оно в ладонях и подушках, только светлые-светлые деревенские волосы разметались на поверхности, как у утопленницы. Голоса женщины почти не слышно, она лишь всхлипывает, вздрагивает всем телом — так плачут, разобидевшись, девчонки.
Мальчик пошел к кровати, мы с собакой остались на месте.
— Мама! — тронул он мать за плечо.
Та обернулась.
— Ой! — воскликнула, заметив, что сын в комнате не один.
Пес, усевшись на задние лапы, сочувственно помахал хвостом. Я покашлял в кулак.
Женщина, спохватившись, села на кровати. Обдергивала платье, поправляла волосы и — смущенно улыбалась. Лицо, круглое, молодое, припухло от слез, а так ничего, уже улыбается. Только у женщин да у девчонок могут быть такие стремительные переходы. И волосы, и лицо, и улыбка — все одной, деревенской, простонародной тональности.
Женщина застегивала кофточку, а она не застегивалась. Не сходилась, потому что женщина была беременной.
Вот у кого еще такие стремительные переходы…
Она осторожно, обеими руками придерживая упругий живот, поднималась с кровати, напоминая большую, перегруженную пчелу, завязшую в чьей-то белокипенной чашечке: те вот так же, с трудом, взлетают, унося взяток…
* * *
В этой деревне она появилась пять лет назад. Замуж ее сюда взяли. Сама из райцентра. И родом оттуда, и работала там — учительницей начальных классов. Пять лет назад, осенью, прислали их, учителей и старшеклассников, сюда, на самое отдаленное отделение колхоза «Красный маяк», на уборку картофеля. День выдался ясный, теплый. Раньше Ольга никогда в этом сельце не бывала. А тут сразу все увидала: и эти дома, и эти пра-липы с разрушающимися вершинами — так и кажется, будто они что-то удерживают. Только что? — все вокруг столь невесомо, прозрачно, неосязаемо. Самое осязаемое — они и есть, липы. Тяжело, гудронно, неистребимо зеленые. В мареве желтого, тленного, сладко и печально распадающегося. Расползающегося. Сваи. Кариатиды. Эти маленькие — с пригоршню — поля, перелески. И это озерцо: «Не пей, Иванушка, из копытца…»
Работать Ольга умеет и любит. Райцентр, он только зовется райцентром, а так деревня деревней. У отца с матерью и огород, и хозяйство, и даже корова в хозяйстве долгое время была. В тот редкостно сухой для здешней осени день Ольга возилась в земле так, словно это и был ее родительский огород. Накануне по полю прошли картофелекопалкой, и «шефы» выбирали из борозды выпаханную картошку. В отличие от других молоденьких учительниц, как-то стеснявшихся старшеклассников, друг дружки, земли, Ольга не гнушалась и на коленки встать, и по самые локти запускала в борозду руки с засученными рукавами.
Учителя работали вместе с учениками, и, несмотря на все старания директрисы, самолично возглавившей десант, обстановка на поле была молодой, дурашливой. Тот самый случай, когда воспитатели и воспитуемые почти на равных, когда чувство пола, оттесненное, почти забытое в обыденной жизни, берет свое. Сам воздух над полем был ионизирован — смехом, озорством, юностью, — находясь в странном противоречии с окружающим «природы увяданьем». Картошку выбирали в ведра, потом из ведер ссыпали в мешки, стоявшие по всему полю. Земля — бедноватая супесь — легкая, прогретая, рассыпчатая, она и к рукам, кажется, не приставала и картошку отдавала так же охотно, как хорошая корова отдает, освобождаясь, молоко.
Хотя какая ж хорошая, если к рукам не пристает. Та самая и земля, что как раз пристает, из которой в распутицу ни ноги, ни руки не вытащить. Так и отец говорит, когда они с ним перекапывают под зиму огород, да она и сама это знает.
Земля небогатая, а вот картошка уродила на все сто: каждый клубень, прежде чем бросить в ведро, Ольга мгновение задерживает на весу. Как бы взвешивает. Как будто сама и вырастила. И целые клубни, и даже резаные осьмушки — все выгребала, выпрастывала, разве что рукавом — поплевав на них предварительно — не протирала. Другие дурачились, обгоняли ее, а она увлеклась. Врубилась. Она такая и есть: врубится во что-то, впашется — аж постромки трещат.
«Бульдозер» — называет ее, смеясь, отец, когда они перекапывают под зиму огород. Запросит пощады, станет, опершись на держак лопатки, кивком головы насунет шапку на самые брови, так что сзади оголится, запарит вспотевшая лысинка, — уже уменьшающийся в росте, уже подавшийся, как подается старый оселок, и оттого еще более родной, уже не по-дочернему, а скорее по-матерински жалеемый ею, и, переводя дыхание, скажет:
— Ну и бульдозер же ты, Олька…
Она же, не переставая копать, обернется к нему и виновато улыбнется.
Раньше, девчонкой, — счастливо, сейчас, барышней, — виновато.
Никакой она, конечно, не бульдозер. И коленки у нее, и за пазухой как будто два теплых хлеба прячет. И ростом — ну побольше отца с матерью, однако вполне нормальная. Выше среднего. Но она — сильная. И сила ее не вкрадчивая, кошачья, а откровенная, избыточная. Ольга так и пышет этой природной, а точнее, простонародной силой. Ростом она действительно не так велика, потому, наверное, и сила — пышет. Как жар сквозь железные стенки буржуйки. Тесно ей там. Там, внутри, она под давлением в несколько атмосфер, вот и рвется, проступает, пропотевает наружу. Румянцем, что цветет на ее щеках и даже не н а, а сквозь ее щеки в любое время года. Движением. Вообще-то она не ходит, не бегает и уж, конечно, не парит — для последнего все-таки чересчур осязаема. Она — носится. О комете ж не говорят: «парит». Носится — с пульсирующим ядром и со струящейся косой позади. Вообще-то если сила есть произведение массы и скорости, то в нашем случае она в первую голову определяется все-таки не массой.
Скоростью! — вот чем определяется ее сила. Ольга и ходит, и бегает, и даже работает — носясь. Несясь — в своем горячем, неистовом ритме.
Комета с вечно пунцовыми щеками. Которую нужно вечно и во всем догонять, и при этом есть еще опасность обжечься. Хотели бы иметь такую невесту? Вряд ли. Сейчас в моде томные, бледные, беззащитные (читай — безобидные). Сейчас молодые люди на воду дуют.
Потому барышня и оглядывается на отца виновато. Потому что барышне двадцать пять, а замуж ее пока не берут. Остерегаются.
А вот после картошки взяли.
* * *
По полю весь день сновал легкий колесный трактор с тележкой: собирал мешки с картошкой, свозил их в колхозный амбар и возвращался снова. И грузчик, и тракторист был в одном лице. Да в деревеньке-то, пожалуй, и двух-то лиц не нашлось бы, способных к такой работе, — сплошь старухи. А тут парень — роста чуть выше среднего, в джинсах и футболке, на которой волк преследовал зайца. Заяц на майке круглый, пухлый, будто его через соломинку надули, зато волк поджарый, костлявый, весь как боек в движении. Вот-вот соприкоснется с капсюлем — куцым хвостом зайчишки. И — выстрел. Косой получит дополнительное ускорение.
Таким же поджарым, таким же взведенным, нацеленным на к а п с ю л ь — будь то мешок с картошкой, будь то руль трактора — был и сам хозяин майки. Подходил к мешку, расставлял ноги, нагибался, крепко брался за два его противоположных уха, и — пружина разжималась. В один прием тяжеленный чувал оказывался в тележке. Мальчишки, школьники пробовали помогать ему, но только под ногами мешались. Длинные, вялые, бесплотные или слишком полные, рыхлые, многие из них ростом превосходили его, но были неповоротливы и нецепки. Суетились, стукались лбами, как слепые, хотя и усердные, кутята. Мешали ему. Вся эта масса аморфного, мальчикового, зеленого только затрудняла движение к капсюлю, и парень отправил помощников в кузов тележки — принимать мешки, а на земле управлялся сам. Подходил к мешку, расставлял ноги, нагибался, крепко брался за два его противоположных уха, и — пружина разжималась…
Правда, в лице его, даже когда он подходил к мешку, не было ничего злого, прицеливающегося. Озорная мальчишеская физиономия с каким-то брызжущим взглядом серых, удлиненных, но не миндалевидных, а таких, как дети рисуют: две едва смыкающиеся дуги — глаз. Может, эта разомкнутость и дает ощущение, будто они не смотрят, а брызжут.
Не волчьи, а скорее рысьи.
Все молоденькие учительницы подобрались, завидев этого парня, как подбираются, обретая еще большую грациозность, горные козы при виде дальней, еще пока только гипотетической опасности. Глаза, наверно, действовали.
Нельзя сказать, что Ольга, работая, не замечала ничего вокруг. Да, работа захватывала ее, увлекала, но не угнетала, не подминала, не позволяя, как говорят, глянуть в гору, что случается с менее сильными людьми, а напротив — обостряла все живое в ней. Не просто окошко оставалось — для других ощущений, переживаний, но его при этом как будто бы еще и тряпочкой протирали.
Вот я думаю — когда птица зорче, чувствительнее: когда, нахохлившись, сидит на ветке или когда летит? Мне кажется — когда летит. Вся наполнена жизнью…
Летела, н е с л а с ь, а все-все заметила. И как крепко, по-хозяйски расставлял ноги в маленьких, аккуратных кроссовках, и как за углы хватал — так что костяшки на кулаках становились побелевшими, — и взгляд заметила. И то, как на сухой, напружинившейся шее всякий раз, когда парень поднимал мешок, вспыхивал шрам. Он тянулся откуда-то от ключицы, из-под майки — может, парень потому и не снимал ее, хотя ребята-старшеклассники сплошь были без рубах и маек: ловили последнее солнышко. После она узнает, что шрам вывез из Афганистана, со срочной службы. А тогда не знала. Знать не знала, но каким-то чутьем почувствовала: шрам не из пьяной драки. Все в этом парне было так ладно, цельно, здоро́во, и грубая, вразвал, видно, трудно и неровно затягивавшаяся борозда шрама была не просто чужеродной на этом скупом и сильном теле. Само это кричащее противоречие как бы сохранило, закодировало всю степень страдания, боли, которые довелось перенести человеку. Да она, боль, и сейчас еще, наверное, пульсирует, мульчирует под этой бороздой. Ольга от кого-то слышала: если шрам краснеет, значит, еще болит.
Если провести по шраму пальцем, то, наверное, можно почувствовать, как пульсирует боль…
Как след топора на молодом, еще растущем стволе.
И вот при таком-то шраме, при таком-то ударе — взгляд, в котором ни боли, ни угрюмости. Ни злости. Легкое, мальчишеское, доверчивое озорство.
Рядом с ним она как-то сразу вся сама себя почувствовала, ощутила: и руки, и ноги, и грудь. Все, что было невесомо — знаете, как хлеб, который сам себя несет, — вдруг налилось, набухло, заявило о себе. Нежность и жалость — роса, оплодотворившая их.
Птица была в полете, была исполнена жизни, и капля, попавшая в нее, сразу принялась, вступила во взаимодействие с окружающей средой.
В общем, когда парень неожиданно подошел к ней, отвел в сторонку (а они уже собирались уезжать, столпились на обочине возле автобусов) и спросил, не пойдет ли она за него замуж, Ольга ответила, что пойдет. Можно сказать, и не удивилась вопросу. Дыхание перехватило, сердце загудело, а вот удивления не было. Да она, может, весь день только и знала, что ждала, когда же подойдет.
Подошел — тоже как прицелился.
Ответила тихо, сама себя не слыхала, а все, кто стоял поодаль, услышали. Догадались?
— Так зачем тогда тебе уезжать? Оставайся… — сказал вполголоса, заглядывая прямо в глаза, — на ресницах у нее сами собой показались брызги. Застряли, как будто ладонь щитком поставили и, ударив по горько-соленой, с солнцем смешанной воде, пустили прямо в лицо пучок искрящихся брызг.
Так, влет, и сбил. Снял.
Осталась. Домой попросила передать, что нашла в деревне дальних родственников и решила у них заночевать. Приедет, мол, завтра.
Отец с матерью, наверное, всю ночь голову ломали: что еще за родня отыскалась у них в Белой. Отродясь не было…
А утром заявилась. Но не одна, а с Мишей. Так и сказала: «Это — Миша. Мы с ним только что побывали в загсе. Подали заявление».
Выходит, и впрямь родня.
Не то влюбилась, не то — врубилась.
* * *
— Здравствуйте. Присаживайтесь, я вас чаем сейчас напою.
— Здравствуйте, вы меня извините, я нечаянно… — молол я первое, что приходило в голову. — Я пойду.
И уже ринулся было назад, но ладошка, доселе нежно покоившаяся в моей руке, вдруг цепко ухватилась за мой мизинец.
— Это вы меня извините. И потом — ведь не каждый же день вам доводится пить чай в доме, где бывал Антон Павлович Чехов.
— Вот как!
Я так и сел на табуретку, как-то саму по себе оказавшуюся подо мной. Я ведь не знал истории деревни Белой, и предположить, что в этой глуши, в этой крохотной, доживающей свое деревеньке бывал Чехов, — для этого надо было иметь слишком богатую фантазию. Мальчонка уселся рядом, пес растянулся у моих ног. Женщина прошла к двери, и мы все трое невольно подались к стоявшему перед нами столу, давая ей проход. Загремела там, в передней, которая одновременно служила и кухней, посудой, и через несколько минут оттуда стали появляться сахар, липовый мед, варенье, масло — все это вкладывалось прямо через порог в руки малыша, и он деловито расставлял угощение на столе.
Итак, пили чай за круглым, покрытым белой скатертью столом. В комнате умеренное количество книг — как у всех людей, покупающих их по случаю, а не по списку. На низких стенах фотографии, вперемежку с репродукциями из журнала «Огонек». А, вот и Чехов — в простенке между окнами, выходящими на улицу Правда, это еще не Чехов, не Антон Павлович, а Антоша Чехонте, или, как он еще иногда подписывался, «Анче». Широкое, безусое лицо — точнее, усы только-только пробиваются: так, словно ретушь неосторожно положили. Длинные, еще не то крестьянские, не то купеческие волосы, чесучовый пиджак, застегнутый на одну, верхнюю, пуговицу: две другие не застегнуты.
Тесноват пиджак, на одну пуговицу и то едва-едва сошелся. Живот выпукло раздвигает полы. Чехов — и вдруг живот. Нет, он не толст, он просто широк, мощен. И лицо широкое, никакого привычного чеховского, усталого аскетизма, и брови густые, черные, любопытно раскинуты, а не мученически сведены, как у человека, притерпевшегося к боли или прячущего ее, словом, тоже как у другого, привычного Чехова. И плечи не устало опущены, а сдержанно, словно стесняясь своей юношеской мощи, развернуты.
Чехов — он как ядро, где-то еще заключен в этой юной, сочной и впрямь не то крестьянской, не то купеческой оболочке. Говорят, в молодости он мог нырнуть с кормы парохода, а вынырнуть под его носом. Вот вам и Чехов. Под фотографией — а это тоже репродукция из журнала — значится: «А. П. Чехов. Москва. 1883 г.»
Не прочитай я эту подпись да не услышь перед этим упоминание об Антоне Павловиче от хозяйки, ей-богу, не узнал бы.
И вот мы пьем чай, высоко поднимая дымящиеся блюдца, солнце устроилось прямо напротив нас, в окне, слепя глаза, макая в наши блюдца золотистые, упорно всплывающие липовые соцветья. Мы пьем чай, и хозяйка, уже вполне успокоившаяся и даже повеселевшая, рассказывает о Белой и об Антоне Павловиче Чехове.
Херувима же с нами нету. Мать увлеклась рассказом, и он, воспользовавшись недоглядом, нагреб из вазы конфет, насовал их во все имеющиеся при нем емкости — преимущественно за щеку — и неслышно сполз со своего стула. Сполз, устроился рядом со своим четвероногим другом, и только дружное причмокивание выдавало их присутствие под столом.
Ноги у меня затекли, но шевельнуть ими я все же побаивался.
* * *
Так в Белой впервые за многие годы появился новый житель. Причем не на лето — летом здесь появлялись «новые», правда, то были относительно новые: либо старые, бывшие бельчане, наведывавшиеся сюда в отпуск, по грибы и ягоды, либо их дети и внуки, которых высылают сюда, иногда из самого Города, на откорм. Нет, в данном случае новичок объявился не на сезон, а на неопределенное время. Неопределенное — потому что рано или поздно, а должен был он, по всеобщему мнению, уехать. Ну и Мишку, мужа, само собой, увезти. А новичок все не уезжал. Больше того. Как устючок, все продвигался и продвигался вглубь, в самое нутро деревенской жизни.
Дорога вон сейчас к Белой тянется, насыпь сделали, щебенку втрамбовали, на будущий год асфальтом начнут заливать. А кто выхлопотал? Ольга. Обивала пороги сначала в правлении колхоза, что расположено в большой, всю округу подмявшей деревне, потом в райисполкоме, райкоме партии, до области дошла.
— А вы кто? Депутат? — спросили у нее однажды.
— Нет, — смешалась истица.
— Ну и езжайте назад.
Уехала. И вернулась — депутатом. А чего — приехала несолоно хлебавши из области домой и пошла по дворам: мол, если хотите, чтоб дорога таки была, выбирайте депутатом. Ее и выбрали — в сельсовет. «Своего» сельсовета в Белой, как уже упоминалось, нет. Он общий на несколько деревень, и вообще-то партком колхоза рекомендовал кандидатом в депутаты другого человека, жителя соседней деревни — и депутатом Белая была обделена! — а Белая вдруг уперлась, чего за нею сроду не водилось. Покладистая была старушенция, а тут — ни с места. Свой должон быть депутат — и все тут. Дважды проводили собрание. Поскольку клуба в Белой нет, а единственное общественное помещение — бывшая контора бригады — помещает не более четырех человек, и тех только стоя и при условии полного воздержания от курения, ибо процесс курения предполагает не только выдох, но и вдох, а бельский старик, он, может, и мрет частенько по причине жестокой махорочной затяжки, — так вот собрание вынуждены были проводить прямо на свежем воздухе. Под липами. А раньше ничего, обходились заброшенной конторкой, ибо все равно больше четырех человек те собрания никогда не собирали. Трое некурящих: бабка Пелагея, бабка Степанида, баба Феня и бывший бригадир, ветеран Великой Отечественной, инвалид Иван Степанович Тырин. Да еще — впритык к подоконнику — уполномоченный от правления или парткома колхоза. Представитель центра. Вот и все собрание — независимо от повестки.
Так было раньше, а тут столько желающих собралось, что собрание пришлось перенести на воздух. Под липы. Дважды собирались, дважды секретарь парткома привозил под липы «кандидата» из соседней деревни, и Белая дважды его отвергала. Собрались бы, может, и третий раз, да взял слово сам кандидат и сказал, что больше ноги его в Белой не будет. Насильно мил не будешь — пусть выбирают кого хотят. Они ж думают, что депутат сельсовета — это шишка на ровном месте, а на самом-то деле… И кандидат, а он, надо сказать, был из проверенных, многолетних, записных депутатов, вяло махнул рукой и зашагал прочь, не откликаясь на сердитые призывы секретаря парткома.
Так кандидатом, а потом и депутатом стала Ольга.
И на следующий же день после выборов, еще с временным удостоверением, махнула в область. И вот — ведут, пусть долго, пусть без конца спотыкаясь, и все-таки ведут. И начальную школу открыли в Белой. Школу, правда, тоже трудно пока назвать школой. Просто есть в селе старый-старый, еще с купеческих времен, фельдшерский пункт. И вот одну комнату фельдшерского пункта отвели под начальную школу. Под начальный класс — прорубили отдельный ход, завезли легкие современные парты, которые вместе со своими непоседливыми седоками перемещаются по крашеным полам, как сороконожки. Восемь парт завезли, хотя седоков только четверо. Поначалу вообще только трое было: первый класс, второй и третий.
Первый — это Алеша Фролов, который воспитывается в селе у своей бабки. Его так и зовут: Воспитанник. Бабка несколько раз пыталась сдать Алешу в детдом или в интернат, но Алеша из казенных заведений всякий раз сбегает и вновь оказывается в Белой. Он и от родной матери своей, бабкиной дочери, проживающей не то в Городе, не то рядом с ним, сбегает в Белую.
Второй была Маша Федорова, дочка фельдшера и его жены Анюты, по специальности водителя трамвая первого класса, которая «из принципа», чтоб подчеркнуть временность своего пребывания в «этой дыре», не устраивалась в Белой ни на какую работу, числилась уборщицей при фельдшерском пункте и школе, благо, что полы на своей половине мыл — под надзором жены — сам фельдшер. Да и то верно: работы по специальности фельдшерской жене не было — трамваи в Белой не бегают…
И недавно Федоровы таки уехали.
Третий — Вася Петров, сын матери-одиночки.
Четвертый — опять же Алеша Фролов, за эти годы он дошел до четвертого класса, но увезти в интернат его невозможно, бесполезно увозить, все равно сбежит, вот и учит его Ольга сама по всей программе четвертого класса. И языку, и природоведению, и математике. А в конце учебного года Алеше предстоит сдать экзамен за четвертый класс в нормальной школе. Ольга уже сейчас волнуется за экзамен: сдаст Алеша или нет. Вроде как сама собирается сдавать. А вот Алеша ничуть не волнуется. Он согласен и на второй год остаться в четвертом классе — лишь бы в Белой.
За что Ольга не переживает, так это за природоведение. У Алеши Фролова природоведение от зубов отскакивает.
Алеша Фролов, первый Ольгин первоклассник, уже в четвертом. А вот парта первоклассника второй год пустует. Не хватает первоклассников в Белой. На очереди только Ольгин сын, самый маленький житель Белой. Но даже если он пойдет в школу с шести, парте еще пустовать два года. И все же, когда покупали парты, Ольга потребовала, чтобы приобрели с запасом. «А то знаю вас: потом не допросишься», — заявила председателю колхоза.
Запас карман не тянет, считает Ольга. А вдруг случится кто в Белой?
— Сама-то рожать собираешься? — спросил тогда председатель, давно махнувший рукой на Белую — списать бы деревню, да и дело с концом.
— Я? Да я вам еще полколхоза нарожаю, — пригрозила тогда Ольга.
Впрочем, парта первоклассника не пустует. За нею второй год восседает Ольгин первенец. Детского сада в Белой тоже нету. Пока нету, уточнила бы Ольга.
Так что и фельдшерский пункт, и школа, и детский сад — все под одной крышей.
Ольга ходит от парты к парте, объясняет вполголоса уроки.
Вполголоса, чтоб, объясняя одному «классу», не мешать «самостоятельной работе» другого. Она по этой причине и голос свой меняет, разными голосами разговаривает с разными классами. Голос у Ольги хороший, полный, девчонкой еще в хоре пела, и ей никакого труда не составляет подобрать для каждого «класса» свою тональность. Так и детям интереснее, да и самой Ольге. У них и самодеятельность в школе имеется. Под праздники приглашают прямо в школу на концерты родителей. Строго говоря, родительница здесь одна — мама Васи Петрова, но народу набивается полный класс. В Белой проснулся вдруг интерес к искусству. Весной и летом «школа» поет, пляшет, стихи рассказывает под липами — места больше. Просторнее. И Ольга вместе со своей школой тоже пляшет, стишки читает, поет — опять же вполголоса, как бы сама с собой, чтоб не заглушать, не забивать тонюсенькие, нарождающиеся голоса своих питомцев.
Но что бы Ольга ни делала, кому бы и что ни объясняла, а всегда чувствует на себе внимательный взгляд сына. На уроках с ним Ольга не разговаривает. Он сидит в среднем ряду («ряд» — один человек, вернее, один человечек и еще две пустые парты). И куда бы ни двигалась, ни перемещалась, ни неслась Ольга по комнате — ко второму классу или к третьему, — а сын всегда оказывается на ее пути. В центре. И всякий раз она на мгновение задержится, присядет, смежив крылья, погладит, потреплет его по голове и — летит дальше. Говорят, птицы, когда летят через моря, обязательно отыщут заветный островок и — спустятся. Передохнуть.
Так и Ольга — спускается.
Но говорить она с ним не говорит. Тем ласковее ее интонации, когда говорит в классе с другими. Объясняет, спрашивает. Потому что ей кажется, будто она говорит и для него. И с ним говорит, разговаривая с чужими детьми.
С нею вообще чудные вещи происходят после замужества. Чтобы она ни делала, ей все время кажется, что она на виду у мужа и сына. На все, что ее окружает, смотрит своей любовью к ним. Мужа любит без памяти. Врубилась. Летом дни длинные, так, если муж работает в поле, Ольга за день обязательно к нему смотается. Да еще и не один раз. «Тормозок» соберет, сына подхватит и через луг прямо на шум трактора. Мужнин тракторишко, что день-деньской стрекочет, невидимый, где-то по периметру здешних полей, Ольга узнает, как запечного сверчка. По голосу. И будь она в школе, будь она в доме, во дворе ли, в огороде, — везде этот голос слышит. Различает тонкое его, невнятное токование. Что б ни делала, что б ни говорила, кого б ни слушала, держит в сознании эту незримо прядущуюся нить.
Поет сверчок — и спокойно, сладостно ей.
Поет и все вокруг — до того самого, сливающегося с горизонтом периметра — ее, Ольгин, дом. Где она и наложница, и раба, и хозяйка. Этот невнятный стрекот и очерчивает круг ее дома.
Когда явилась к нему в поле первый раз, муж удивился:
— Ты чего это?
— Соскучилась, — ответила она.
Взяла его ладонь, твердую, горячую, просунула к себе за пазуху. Благо лифчиков тогда не носила, да они и сейчас ей без особой надобности: сына выкормила, выпоила, а грудь так и не израсходовалась, не обмякла, не обвалялась в замужестве, напротив — подошла, подперла, как на дрожжах, еще выше. Он понял ее по-своему, лежали они в лощинке на обочине маленького, как ячейка в сотах, поля, одни-одни — и перед небом и перед землей. Вся осень та была на редкость теплой, травка в лощине была не просто зеленой, мягкой, пуховой, она еще и расти умудрялась, у нее был свой подгон, подрост, и Ольге казалось тогда, что она слышит, как растет трава. Ей казалось, что трава растет, прорастает, шевелясь, через нее. Вот ведь как: земля готовилась, отходила ко сну, а Ольга только-только вступала в свою женскую зачинающую пору. Всплеск первый и всплеск последний.
Ольга уверена: там, на поле, в лощинке, у нее и завязалось.
Врубилась… Ночью, случается, он уже и уснет, умаявшись и с работой, и с нею, а она все целует его потихоньку и целует. Ей даже лучше, что он — спит. Целует его шрам, что протянулся неровно, узловато, как борозда, прорезанная, прорванная в целине, от шеи через предплечье и ключицу до самого соска левой груди. Целует и каждый раз замирает от страха при мысли, что возьми осколок чуть глубже — и никогда бы не свидеться им, и сын бы у них не родился. Не нашелся бы, как говорят здесь, в деревне. Теперь-то она знает, что муж служил действительно в Афганистане, в разведбатальоне. Что такое разведбатальон, Ольга толком не знает, но само присутствие тут слова «разведка», да еще в таком энергичном, укороченном, наподобие штыка, виде, пугает ее еще больше. Из Афганистана он, знает Ольга, приехал почему-то с собакой. Вообще даже минерам, для которых специально натасканные собаки — первые помощники, не разрешается забирать с собой четвероногих сослуживцев. А он — забрал. Справил огромный «дембельский» чемодан, устроил в нем вентиляцию, втиснул в него Пальму, велел не дышать, не шевелиться, умереть и — довез. Мертвой. «Ожила» она уже в Союзе, на таможне. Но что делать? Не отправлять же ее назад, в Афганистан? А еще таможенников подкупило, что в чемодане у парня больше ничего не было. Ни джинсов, ни «Шарпа». Как не было ничего, кроме бритвы и поводка, и в сумке, переброшенной через плечо. Из аэропорта они вышли уже вместе. И первое, что сделала Пальма, — это, встав на задние лапы, взвизгивая и захлебываясь, облизала его от макушки до носков ботинок.
Ольга целует мужа молча, без суеты и исступления, тоже, в сущности, лижет, ибо и она, как и Пальма, движима в первую очередь благодарностью. Или так: лижет, как вылизывает своего новорожденного теленка корова. Да-да, ей иногда кажется, что она сама родила себе и сына, и мужа. Целует эту жестковатую, совсем еще не оплывшую — как оплывает, сгорая, свеча — юношескую еще арматуру, каждый узелок, каждую впадинку, ею же, к слову, накануне и вымытые.
Да, муж приезжает с работы, и она любит мыть его сама. Согревает к его приезду воды, ставит лохань, сохранившуюся еще бог весть с каких времен. Только муж переступает порог, пропыленный, обветренный — с пучочком ландышей или просто с цветущей липовой веткой в руке, — как она велит ему тут же, у порога, сбрасывать все до нитки и, как мальчишку, сажает в лохань. И парит, и трет, и скоблит, и заставляет встать в полный рост, и, подставив скамеечку, поливает его сверху из деревянного корчика. Муж обреченно мотает головой, отфыркивается. Но она и сама, вымокшая до нитки, распарившаяся от тепла и усердия, от послушной податливости этого юношеского тела, которое она мнет и месит, как молодое тесто, входит в привычный азарт, с каким делает любую работу. Да, моет мужа с тем же любовным остервенением, с каким полчаса спустя стирает его сброшенную одежду, с каким и впрямь месит по субботам упругое, с медовым отливом тесто. И мнет, и месит, и лепит…
Работа — вот формула полета. Движения.
Сын на время этой ежедневной экзекуции выставлялся из комнаты, а вот Пальма неизменно присутствует при ней. Располагается у порога, положив седеющую голову на вытянутые лапы, и ревниво посматривает на происходящее старыми слезящимися глазами. Бывшая армейская овчарка, родившаяся в вольере и приученная когда-то охранять хозяина от пули и ножа, здесь, в мирной поселянской жизни, к которой приспособилась в мгновение ока, она никаких других опасностей для него не видит, кроме этой, одной.
Лохани!
В первые дни после замужества Ольга поняла, что тут, в Белой, ей и суждено осесть. Муж не ставил ей условий, мол, живем только здесь, никаких переездов. Нет. Он лишь рассказал ей в один из первых вечеров, как после армии добирался вместе с Пальмой из райцентра домой. Успел только на последний автобус, шедший из райцентра домой. Успел только на последний автобус, шедший из Города в их райцентр. Да и лучше, что на последний. Автобус почти пуст, их с Пальмой впустили беспрепятственно, никому они не мешали, и им тоже никто не досаждал. Не то что в поезде. Приехали поздно. Заночевать им было у кого: в райцентре есть и родичи, и просто знакомые. Да и в автобусе несколько человек, пытавшихся вначале угадать в Михаиле кого-то из своих, райцентровских, предложили, узнав, что парень таки нездешний, остановиться на ночь у них. Михаил отказался. И не только потому, что не хотелось доставлять беспокойство. Не терпелось попасть в Белую. Лететь, ехать к ней и вдруг остановиться, споткнуться — когда она вот, рядом, рукой подать.
Странное было у него состояние: будто сам остановился, а душа все продолжала, вслепую, полет. За два года в отпуске Михаил ни разу не был. И, пожалуй, за эти же годы там, в Афганистане, среди чуждой ему, не знающей полутонов стихии, он и привязался-то по-настоящему к Белой: что имеем, не храним, потерявши — плачем. С ее озерком — как ведерком прохладной воды, спрятанным в тенечке. С ее дымчатыми полями и перелесками. С липами, от которых Белая в начале лета и не Белая вовсе, а желтая, золотистая: стелется над нею, играет на солнце золотая ароматная скань. Запах так силен, что и в самом деле кажется осязаемым, его неистребимый, всепроникающий налет покрывает здесь все вокруг точно так, как на мельницах все-все — и стены, и жернова, и лица — припорошено толстым слоем мучной пыли. Проведи пальцем по чему угодно, и палец будет пахнуть липовым цветом.
Побродил с собакой вокруг станции, потом не заметил, как ноги сами вынесли за пределы райцентра. На дорогу, которая вела, петляя, в Белую. Машин не было — лето только вступило в силу, до уборочной еще далеко. Пальма бодро трусила впереди: так, словно з н а л а, куда ей держать путь, хотя не то что в Белую — в Россию-то попала, безбилетная, в первый раз. Исчезли позади последние огоньки райцентра: то ли скрылись, то ли просто погасли. Зато виднее стали звезды над головой. Их как будто намывали, выцеживали — и по одной, и сразу пригоршнями — в черной неохватной полынье июньского неба.
Шел и шел себе не торопясь по проселку. Снял фуражку, и ночная, на сенокосе настоянная прохлада ласково овевала, освежала лицо, ерошила потные волосы. Закрой он глаза, окажись в полной, кромешной тьме — и все равно бы угадал каждый поворот. Потому что тремя шагами впереди него, рядышком с Пальмой, бежала, летела, радостно нащупывала путь его счастливая душа. Встретились. Соединились. Что касается Пальмы, то она, изо всех сил стараясь сохранить-таки степенное достоинство строевой овчарки, время от времени, увлеченная новыми для нее запахами, шорохами, все же срывается за обочину, рыскает, пригнув морду, в траве. А когда возвращается — бешеными, хотя и молчаливыми (выучка!) прыжками, то искательно заглядывает возбужденными, тускло посвечивающими глазами ему в лицо и виновато виляет хвостом. Мол, и на старуху бывает проруха. И то верно: притомилась, обезножела в неволе — в самолете, в поезде, автобусе.
На пути у них лежали две деревни. Почуяв Пальму, здешние собаки со всех сторон кидались было к ним, подняли шум, того и гляди, разбудили бы хозяев. Но стоило только Пальме поворотиться к ним широкой, выпуклой грудью, рявкнуть для острастки в натуральную, нутряную мощь своего голоса, как разномастная и разнокалиберная свора мигом улетучивалась, таяла во тьме, ограничиваясь беглым перебрехом на почтительном расстоянии.
Они и шли, и сидели, и даже лежали в обнимку в траве.
Светало, когда увидели Белую. Михаил еще с детства помнил то место на дороге, с которого перед глазами открывается Белая. Сколько раз за эти два года оказывался во сне на этом неприметном рубеже! Открыть глаза, и — вот моя деревня, вот мой дом родной… И сейчас подходил, сдерживая прыть, к нему, к этому рубежу, а сердце уже отмеряло каждый шаг. И Белая не обманула — в урочном месте выбежала навстречу. В учебниках географии есть такая картинка: как появляется на горизонте пароход. Сначала дым над трубой, потом сама труба, потом, постепенно, и весь пароход. Так и тут. Первое, что увидел Михаил, — липы. Те самые липы, что и раньше первыми встречали любого путника. Первыми встречали и последними, далеко-далеко за околицу, провожали. Вернее, так: вначале облачко воробьев, курившихся над ними — это и был дым, — а потом и сами липы, а потом уже и всю Белую. Они, липы, были для Белой и трубой, доказывающей наличие жизни, и парусом — всем. На фоне реденькой, родниковой чистоты и прохладности, сини густо, купно, тепло и домовито чернели — и впрямь как подъятые гнезда — искалеченные вершины. Да отсюда и не видно, что искалеченные. Просто непомерно широкие, воронкообразные. И Михаил бросился бежать, благо кто его мог видеть, кроме овчарки Пальмы, которая, не выдержав, залившись-таки звонким, неуставным, почти щенячьим лаем, неслась, оглядываясь, впереди него.
Он знал, что отца с матерью в Белой нет, что они, разобрав избу, еще в прошлом году переехали в другую, большую деревню к старшему сыну. А все равно летел на зов этих вершин, не помня себя. Может, потому что в детстве и сам вместе с другими мальчишками, обдираясь в кровь, проводил на них немало времени, сейчас это ощущение гнезда, память гнезда легко, как своего, подняли его, взрослого, тяжелого, неподъемного, узнавшего и кровь, и смерть, и многое такое, чего лучше бы и не знать, не ведать, на крыло? Да, это было и его гнездо, как и гнездовье всей Белой, хоть и располагалась Белая на земле, а не в воздухе. Хоть и не липы ей, а она липам дала когда-то жизнь. Дала-то она, да держали теперь ее, держали жизнь, живое, они. Липы. Так вот получается. Такой переплет.
Он вполголоса, стесняясь — вдруг не поймет? — рассказывал ей об этом. И вот тогда-то, прижимаясь к нему, — а как она еще могла показать, что понимает, — Ольга и осознала впервые, что здесь, в Белой, ей и предстоит свековать. Никуда он отсюда не тронется. И она, стало быть, никуда. Куда ж она от него. Прижималась, прирастала к нему, и не просто тепло, а ощущение гнездышка, рождающегося гнездовья проникало в самую душу. С тех пор и она, откуда б ни ехала, откуда б ни шла, а все ищет глазами липы. Как увидела их — значит, дома. Значит, Белая. Значит, гнездышко.
* * *
— Нет-нет, вы не смейтесь — Чехов действительно бывал у нас в Белой.
Она говорит «у нас» так, словно он был тут вчера. И еще: просит не смеяться, а сама уже смеется.
— Я установила: у него здесь жил приятель помещик Шиншин. Судя по всему, Антон Павлович познакомился с ним во время голода, когда приезжал в Поволжье спасать крестьян. Позже по приглашению помещика дважды гостил в Белой. Я нашла об этом упоминание вот в этой книжке…
Женщина повернулась на стуле, видимо, хотела взять что-то с полки — комната так мала, что до всего можно дотянуться, не покидая стула, — но сын опередил ее. Вскочил, нашел на полочке нужную книжицу и положил ее передо мной. Книжечка была тоненькая, ветхая, но весьма любовно переплетена и подклеена папиросной бумагой. «А. П. Чеховъ в Поволжье».
— Откройте двенадцатую страничку. Видите?
Я увидел.
«По слухамъ, А. П. Чеховъ посѣщалъ деревню Бѣлую Константиновского уѣзда».
Я сразу увидел эту строчку, потому что она, единственная, была жирно подчеркнута химическим карандашом.
— Нет-нет, вы не подумайте, я даже хотела вычеркнуть это слово — «по слухам», — горячо запротестовала женщина, хотя я еще ничего не сказал. Я еще ничего не сказал, но она полегонечку, но весьма настойчиво вынула книжечку из моих рук и, крепко накрывши ее розовой ладонью, положила перед собой. Подконтрольность информации — как бы еще не вычитал чего-нибудь сомнительного. Ставящего под сомнение истину, которой моя собеседница, как я уже понял, была привержена всей душой.
— Нет, никаких слухов. Все так и было. У меня есть воспоминания очевидцев, свидетельские показания, так сказать. Я их записала, не меняя ни слова. У меня целая общая тетрадь исписана. Девяносто страниц…
Ей так хотелось залучить меня в число своих единомышленников!
Тетрадь появилась на столе, пухлая, тоже изрядно потрепанная. Появилась, возникла таким же макаром, как перед тем возникла на столе уже упоминавшаяся библиографическая редкость. Малыш давно сидел под столом, играл там с собой, и казалось, что две эти разделенные столешницей сферы никак не сообщаются друг с другом: тут — оживленная беседа, там, напротив, щекотавшее пятки молчание. Оказывается, сферы таки сообщались! Стоило моей собеседнице упомянуть о «свидетельских показаниях», как мальчонка выпорхнул из-под стола, будто воробей из-под стрехи, и в следующее мгновение тетрадь с «показаниями» лежала передо мной.
Не думаю, что он умел читать: все-таки четыре года и не какой-нибудь городской вундеркинд с калькулятором, а дитя природы. Но вот слушать он умел — это точно! Вроде занят своими делами, вроде и нету его там, под столом, а ушки на макушке. Все слушал и, занимаясь своими делами, все просеивал — реакция его была сугубо избирательной.
Не зря сидит сразу в двух классах!
Видно, частенько в этом доме обращались и к чеховской книжке, и к «чеховской» тетрадке.
Видавшая виды, не в одних руках побывавшая тетрадь насквозь исписана аккуратным, округлым женским почерком. Из-за этого безукоризненного почерка казалось, что обложка на ней с чужого плеча. «Политурка», как еще говорили мы в детстве.
— Я записывала сама, но слово в слово. Ничего не меняла, можно сказать, только запятые расставила…
По ее движению я понял, что она уже и тетрадь не прочь бы отодвинуть от меня. Мало ли что я в ней высмотрю. Так уберегают от сглазу дитя — заслонив ему лицо ладошкой.
Заслоняла, а глаза улыбались.
* * *
Шла по улице. Бабки, коротавшие сумерки (а нигде в Советском Союзе так не экономят пенсию, электроэнергию, дрова и уголь, как в Белой) на лавочках перед домами за картишками, за семечками или за общим сумеречным молчанием, — а за длительные годы одинокой, без старика, без объекта, о который, как известно, преимущественно и оббивают язык до одеревенения, бельская старуха и молчать-таки выучилась, — подзывали ее. И она не чинясь отзывалась на их приглашения. И в карты подсаживалась — научилась! — и к молчанию присосеживалась. «Дочка» звали ее в Белой. «Эй, дочка, загляни на минутку!», «Дочка, помоги с пенсией разобраться…», «Дочка, послушай…»
Заглядывала, помогала. И главное — слушала. Отвыкла Белая от того, чтоб ее выслушивали. Знаете, как слушают в доме стариков: вполуха. Мели, Емеля, твоя неделя. Так и тут: шебаршила Белая на отшибе, разговаривала как сама с собой, а на нее ноль внимания. Зажилась. Засиделась. Пора бы и честь знать. Перспективных вон некогда выслушивать, а тут еще эта. Куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Молчи, Емеля!
И вдруг отыскался человек, который стал ее слушать. Пусть не начальник, но молодой человек. А для Белой молодой — это еще больше, чем начальник. Потому что между нею и начальством, как таковым — это еще куда ни шло, это еще можно пережить, а между нею и всем молодым, всем живым — вот где на самом деле проходила полоса отчуждения. И делалась все шире, все мертвее. Даже между Белой и ее детьми, внуками и правнуками. Может, от этого Белая и разговорилась потихоньку. Вспомните, как заговариваются матери: им кажется, что они говорят со своими детьми. Которые давно оторвались от них. Или, что еще хуже, — отвернулись.
Так она стала «дочкой». Для старух дочкой, а для стариков, пожалуй, невесткой. Потому что в отношении к ней немногочисленных бельских стариков проскальзывало даже некоторое петушение, характерное для отношения к снохам. Исчезающий вид, как известно, даже исчезает веселее, бодрее на виду у объявившейся в доме молодицы.
Ее зазывали, потчевали чаем, она в одночасье стала в Белой нарасхват.
Когда Ольга узнала, что Галина Васильевна Коптелова, одна из бельских старух, в войну, оказывается, работала в Ленинграде, в Институте растениеводства, что это и она, разнорабочая института, голодая, спасала вместе с учеными, профессурой от холода и голода вавиловский фонд, что в Ленинграде ее помнят до сих пор, шлют ей семена и клубни — потому и палисадник ее полыхает все лето диковинными цветами, — узнавши все это, Ольга написала о Галине Васильевне заметку в районную газету «Светлый путь».
Это был ее первый опыт, тем не менее заметку опубликовали — под рубрикой «Интересные люди нашего района». Потом Ольга написала об Андрее Ивановиче Сторожеве. Сейчас это ветхий старичок, которого даже на лавочку перед домом — подремать на солнышке выводит под руку жена, тоже глубокая старуха, но сохранившая куда больше пороху, чем хозяин. А когда-то в войну Андрей Иванович Сторожев, передовик, стахановец, передал свои сбережения на выпуск танка для фронта. Танку присвоили имя — «Колхозник Сторожев» значилось крупными белыми буквами на башне. И воевали на нем сразу трое колхозников Сторожевых. Сыновья Андрея Ивановича. И воевали, и погибли, сгорели, сгорели в одночасье, не сберегла-таки родительская броня. А танк, оказывается, восстановили, он довоевал — и за Сторожева, уже тогда пожилого человека, и за его сыновей; а после войны, когда уже был списан вчистую, танковый полк передал его белорусскому городку, в котором дислоцировался. И танк водрузили на постамент у въезда в городок. Об этом была напечатана крохотная заметка в «Правде». «Колхозник Сторожев» на пьедестале» — так называлась заметка. Выходит, надпись не стирали все эти годы, и танк, получается, навсегда принял эту фамилию, тоже вроде бы стал и братом, и сыном.
То был год тридцатилетия Победы, и Ольга выхлопотала в колхозе поездку для своих учеников — в составе трех человек — на летние каникулы в тот белорусский городок. Пригласили с собой и старуху Сторожеву. Сама Ольга ехала за свои деньги. Детям, благо билеты за полцены, поездку согласился оплатить председатель колхоза. И, еще только ведя переговоры с Ефросиньей Карповной Сторожевой, Ольга снова подъехала к председателю: мол, надо выдать бабуле «командировочные». Тот поначалу ни в какую — ни дед, ни бабка в колхозе давно не работают.
И тогда Ольга срезала его, задерганного, злого — колхоз никак не мог выйти из посевной, — одним-единственным вопросом: как он думает, сколько стоит танк?
Председатель сам, к слову, из трактористов, служивший когда-то в танковых частях, сначала выпучил глаза, а потом рассмеялся:
— Ты права. Без вас вода не освятится, и черта лысого купил бы дед танк, не будь на то старухиной санкции…
Сообщение о том, что расходы по ее поездке колхоз берет на себя, прибавило решимости старухе Сторожевой. Дед же вместе с десятком кур был препоручен соседям и получил строжайший наказ не умирать самостоятельно. Дождаться…
Потом написала о замечательных корзинах, которые плетет для всей округи Василий Гаврилович Ионов. И все эти заметки шли под одной и той же рубрикой. И получалось, что «интересные люди района» чуть ли не все проживают в Белой. Или так — что в Белой проживают только «интересные люди». Да, в общем-то, думаю, бельчане и сами с интересом узнавали, какие они, оказывается, замечательные. Это Ольга знакомилась с ними, а выходило, будто они, свековавшие бок о бок, по новой узнавали друг друга. Знакомились. А то и с самим собой — подзабытым за долгие годы.
Вот откуда возникла вдруг в характере Белой давно не замечавшаяся ранее строптивость — рост самосознания! Интересные люди…
И вот однажды явилась к ней в гости Степанида Ефремовна Подсвирова. Самолично. Всю Белую из конца в конец преодолела. Дело было после полудня, Ольга одна возилась по дому. Удивилась, увидев, что в калитку к ней входит Степанида Подсвирова. Но виду не подала. Встретила во дворе, повела в дом. На их крутой лестнице бабка пару раз останавливалась, переводила дыхание. Опираясь на Ольгу, крепко стучала палкой в дубовые ступени и хрипло приговаривала:
— Постоит ишо. Постоит…
Они уже больше часу сидели с бабкой в комнате, и оладьев с клубничным вареньем отведали, и чайком вдосталь попотчевались, а Ольга все никак не могла сообразить, зачем это долгожительница к ней пожаловала. Не сообразила и тогда, когда Степанида, разомлев от оладьев и чая, сдвинув с головы на шею легкую белую косынку (прежде чем сдвинуть, чопорно поинтересовалась, нет ли дома Ольгиного мужа — что и без того было очевидно, — и обнажила седую, с неожиданно густыми волосами голову только после заверений, что никаких мужчин, за исключением разве что малолетнего сына, поблизости нет), спросила:
— А знаешь ли ты, дева, что в твоем доме бывал Чохов?
«Дочкой» ее тут звали, «невесткой» тоже. Но вот девой? Надо иметь богатую фантазию, чтобы сейчас, здесь, называть ее д е в о й. А впрочем — «дева Ольга». Идет, «ли́чит», как еще говорят здесь, в Белой, когда хотят сказать, что тот или иной наряд кому-то к лицу, хотя какие там в Белой наряды: старушечья юбка да кофта — вот и весь наряд. Была же, есть дева Мария…
— Какой Чохов?
— Какой, какой. А ишо учительница. Антон Чохов, — не знаешь, что ли?
— Антон Павлович Чехов? — изумилась Ольга. — Бывал в этом доме?
Старуха была удовлетворена произведенным впечатлением. Не торопясь налила еще чайку из чашки в блюдечко, подняла блюдце в корявых и как бы обугленных на пучках пальцах. Старая-старая, а пальцы вовсе не дрожат, твердо делают свое дело. Отпила, поставила блюдечко перед собой.
— А кто же, он, Чохов, — все-таки старая никак не могла признать, что произносит фамилию неправильно, — и бывал. Наезжал к нашему барину и каждый раз заходил и в этот дом. Тут же купец Лындин жил, село-то было большое, торговое. Третьей гильдии и все-таки купец. Скобяные товары, деготь, сбруя, хомуты. Лавка была на первом этаже, а тут, на втором, жилые комнаты. Чохов зайдет в лавку, хозяин — а торговал он сам-один, — сразу обрадуется и давай его в комнаты, на второй этаж звать. А Чохов говорит: «Не торопись, Андрей Спиридоныч, дай подышать. Детством пахнет. А за воздух я тебе заплачу». У купца с купчихой детей не было, так они меня вроде как в детки взяли, куда отцу с матерью было четверых по такой голодухе прокормить — я и крутилась завсегда в лавке, под рукой. Так вот, Чохов скажет: «Я тебе за воздух заплачу» — и сунет мне в карман монетку. Серебряную! — медь никогда не давал. Сунет и еще по голове погладит: мол, надо же, какого замечательного приказчика ты себе завел, Андрей Спиридоныч. Потом поднимутся чай пить и меня с собой позовут. Держала меня купчиха чисто, я вроде как и не деревенская была.
Старуха опять сделала паузу, выжидательно и строго посмотрела на Ольгу: верит ли? Не перечит ли?
Ольга сидела не шелохнувшись.
— Мне лет пять было, — продолжала Степанида, вздохнув, — и что у меня хорошего было, так это волосы. В пояс, чистые, мягкие, в кулак возьмешь, а они дышат. Живые. Чохов посадит рядом, посмотрит, погладит, подержит их в ладони, вроде как на вес пробует — а ладонь у него большая и теплая, как у мужика — и скажет: «А ну-ка, Стеша, неси гребешок, я сам тебя причешу». Принесу ему роговой гребень, а он сам и распустит их до нитки, а потом и соберет. Да еще как — на городской манер. У барчат такой прически не бывало, как у меня. Я потом несколько дней волосы не трогала — берегла ее. Потом они помаленьку разговорятся с Андреем Спиридонычем, по чарке выпьют, а я потихоньку соскользну со стула — и домой. На другой конец Белой. Бегу и крепко-крепко держу в кулаке серебряную монетку. Собак, гусынь — всех кругом обегаю, чтоб не отняли.
Степанида замолчала. Ольга смотрела на нее почти с испугом. Как-то само собой подумалось, что, пожалуй, самое живое, да, в общем-то, и самое красивое у старухи — седина. Лицо сморщенное, ссохшееся, карикатурно старушечье, а вот волосы хороши. Как дым в морозный день, когда он стелется безжизненно над крышей, не разметан жиденькими серыми прядями. А когда идет волной, дыханием, исполненным тепла и света. Стоит дом на деревенской улице, даже двор, населенный людьми, скотиной, птицей, геранями на подоконниках, а над ним в ослепительной, как бы надраенной морозом синеве мягко клубится его теплое, чистое, живое, коллективное дыхание. Даже со стороны чувствуешь упругую подъемную силу, что держит его на весу. Именно сила, а не пустота. И даже со стороны ощущаешь — щекой — теплокровность жизни, которая в этом доме-дворе существует.
А тут и жилья-то, можно сказать, нет — руины. И жизнь почти угасла, а тепло идет. Как от остывающего очага. Спокойное, ласковое, убывающее. А что? — первый признак жилья даже не стены, а дым.
Ольге захотелось погладить бабулю, прикоснуться к ее волосам. Подержать их на весу. Сейчас-то они еще легче, чем в детстве. Невесомые. Ей почудилась какая-то тайная связь между их долговечной красотой и жизнеспособностью и тем, что их, эти волосы, когда они еще были не ковыльно-древней сединой, а юным, сочным подгоном, держал в своей большой и теплой ладони Чехов.
— И что, прямо в этой комнате?
— Ну да. Вот так, как мы с тобой, и сидели, — ответила старуха.
Потом она долго еще рассказывала о своих болячках, о житье-бытье, попеняла, что кладбище у них без изгороди — а каково лежать, коли знаешь, что над тобой коровы пасутся? Ты бы, дева, позаботилась о нас, сходила по начальству. Потому что если ты не возьмешься, то кто же еще возьмется?
Собственно говоря, главной целью Степанидиного визита было похлопотать об изгороди на кладбище. Сейчас она как раз и приступила к этой деловой части. Но, похоже, где-то допустила осечку, слишком долго подступалась к делу, потому что Ольга, к явному Стешиному разочарованию, никак на ее подступы не откликалась. Умолкла, сидела не двигаясь, отрешившись и от Стеши, и от ее дела, задумчивая, бездеятельная, сама на себя не похожая. Обычно такая моторная, с лету все воспринимающая, а тут — не докличешься, не пробьешься.
Старуха обиженно поджала губы, встала со стула:
— Спасибо за чай.
Ольга ее задерживать не стала. Проводила по лестнице, вывела за калитку.
— Это вам спасибо, бабуся. А насчет изгороди не беспокойтесь. Завтра как раз буду у председателя — обязательно скажу. Хотя куда вам торопиться, живите себе.
— Да нет, дева, — спокойно и грустно ответила Стеша. — Эту зиму уже не переживу.
Тщательно повязала голову белым платочком и, не попрощавшись, побрела по тропинке. Прошла несколько шагов, остановилась, обернулась:
— Так ты уж, дева, постарайся до зимы успеть.
И заковыляла дальше.
Лето было на самом изломе, когда в воздухе уже появляется, трепещет текучий ртутный блеск, как на изломе высокосортной стали. Он уже не добавляет жара, тепла, а только света, резкости, дальности видения. И все вокруг как бы подхлестывается этим неверным блеском: еще выше взметается струнный стон цикад, гуще, слаще текут над землею ароматы цветов и плодов, выгибается, тоже приобретая на солнце, на отдалении сивый, матерый, легированный блеск, ржаной и ячменный колос — чтобы еще через день-два, если упустят его, «потечь»… Все — на высшей ноте. Все — на грани. На изломе. Чтобы через день-два «потечь». Извергнуться. Резко переломиться к осени.
Прямо посередине лета занесена серебряная палочка осени. Клинок — взмах его неуловим, но след слепит глаза.
И вот в этом надтреснутом, перезревшем мире — отсюда и блеск, отсюда и стон, временами уже срывающийся на визг, — маленькая, согбенная старуха в темном, но с белым, тоже трепещущим, как летняя бабочка в траве, платком на седине, которую даже открывать здесь, наверное, было бы опрометчиво, как опрометчиво держать на виду сверхчистые вещества. Разрушительное взаимодействие. Сухой, темный, окостеневший стебель укромно, скрытно, подладясь под общий тон, несет под абажуром лета свой выстраданный цветок.
Пригоршню снега.
Ольга зажмурилась, постояла и пошла в дом. Медленно поднималась по ступеням, не отнимая ладонь от круглой, вощеной балясины перил. Балясина из простого дерева. Клен, наверное. Но за долгие-долгие годы общения, соприкосновения с человеком, его руками приобрела, как старинный деревянный инструмент, некую одушевленность. И в фактуре — легкое, хорошо высушенное, выспевшее дерево ластится сдержанно, по-кошачьи, и тем не менее ластится к ладони. И цветом — все краски давно слезли, муж, ремонтируя дом, собирался покрасить и перила, но Ольга отговорила. Он не совсем понял, почему не надо ни красить, ни хотя бы покрыть лаком старенькую балясину, но тем не менее послушно исполнил ее каприз. Она не так часто просила его о чем-либо — ей самой нравилось служить ему. Так вот, краска у перил давно стерлась, и цвет у них был уже не древесный, а телесный. Живой, теплый. Человеческий. Ведешь ладонью по балясине, и кажется, будто она скользит — нет, не скользит, движется, узнавая — по дружеской руке.
— Вот это дом! — думала Ольга, медленно преодолевая ступеньку за ступенькой.
* * *
Нельзя сказать, что Ольга раньше не читала Чехова. И читала, и знала. Ну, особенно там «Ионыча», «Человека в футляре», «Вишневый сад»… То, что проходили в школе, чего касались в педучилище. Ольга закончила Сызранское педагогическое училище, одно из самых именитых в стране, открытое еще в 1921 году по личному указанию Ленина, помнившего, вероятно, еще по своему юношескому краткосрочному пребыванию в нем темный быт этого захолустного волжского городка. И их директриса, полная, опрятная и какая-то очень домашняя женщина в золоченых очках, которую ее воспитанницы тем не менее за глаза звали не иначе как настоятельницей, говорила, обращаясь к ним: «В вашем лице маленький человек, может, впервые встретится с культурой в самом широком понимании этого слова. С учетом этого обстоятельства мы и готовим вас к педагогической деятельности». Деятельности… При всей своей домашности, здравости — особенно когда речь шла об отстаивании материальных интересов училища, как-то: строительства, снабжения, канализации и т. п., — Галина Константиновна все же питала чисто просвещенческую слабость к патетике в вещах несколько абстрактных.
В общем, в педучилище они еще раз прошли «Ионыча», «Человека в футляре», «Вишневый сад»…
Теперь же Ольга не столько перечитывала Чехова, сколько передумывала. И что бы ни делала, как бы ни крутилась по дому, а всегда помнила о бабкином рассказе. Так в ее «системе координат» появилась еще одна, третья, постоянная точка. Чехов. Есть такой способ размножения лозы: ее присыпают к земле и в месте соприкосновения с нею прикапывают. Со временем в этом месте у лозы проклюнется почка и даст корешки. Так и с Ольгой: она и не заметила, как оказалась распластанной по этой земле, и уже не сдвинуться, не сорваться — укоренилась.
* * *
Почка «Чехов».
Ольга вовсе не чувствовала, что живет в музее. Нет, тут все было ее. Ею обжито. Ее или ее мужа руками сделано или переделано. Дом долгое время пустовал. И вот когда Михаил, вернувшись из армии, заявил председателю — сперва родителям, а потом и председателю, — что останется жить в Белой, колхоз выделил ему этот дом. «Сды́хал», как сказали бы в Белой. А что? И бригадной конторой, и складом дом уже побывал. Последние же несколько лет никто уже не знал, подо что бы его приспособить. Во-первых, выбор резко сузился: бригады в Белой не стало, в складах тоже нужда отпала — чего в них хранить? Во-вторых, сам дом настолько обветшал, заплошал, что для серьезных общественных нужд уже и не годился. В нем, как и во всей Белой, общественная нужда отпала. А списать его не спишешь: все-таки не сеялка. Вот и вел он вместе с деревней сугубо индивидуальную, нестроевую, к закату клонящуюся жизнь. А тут солдат подвернулся — и дом с легким сердцем препоручили ему.
Живи. Радуйся!
Первые месяцы Михаил прожил в доме один. Днем работал в поле на тракторе, а вечерами все выходные дни нянчился с домом. Латал крышу, менял бревна в венцах. Вот когда пригодились разобранные и сбереженные стены его родной избы, которые сначала перевезли в соседнюю деревню к брату, а теперь вновь возвратили на родину! Новой избы из них уже не сладить, а вот для ремонта в самый раз. В выходные к нему на помощь приезжал старший брат. В будние дни неотлучным помощником — преимущественно советчиком — был его состарившийся отец, переехавший на это время к младшему сыну. Впрочем, недостатка в советчиках у Михаила не было. Все наличное бельское старичье спозаранку толклось у его дома. Как же — первая стройка в Белой! Первая за долгие годы. Причем дом-то у Михаила не свой, не частный, а колхозный. Общественный. Стало быть, и стройка — «обчественная»! И каждый бельский старикан чувствовал к ней прямое касательство. Как будто стройка воздвигалась у него в задах. На огороде.
Не ограничиваясь советами — между советчиками порой разгорались ожесточенные распри, — деды принимали и посильное физическое участие в ремонте дома. Хотя что в них физического? Чтобы ведро воды из колодца вынуть, и то им приходилось налегать на ворот втроем. Налягут, а ворот, того и гляди, в обратную завертится, и невесомые бельские старожилы взовьются над колодцем вверх тормашками. Что там физического? — одна метафизика.
В этот, только еще ремонтируемый дом он и привел ее в первый вечер. Ольга тогда толком и не рассмотрела дом. Она его почувствовала. Угадала. Пахло стружкой, махоркой — ее курил и отец Михаила, находившийся в тот день в отлучке, да и старички советчики, — древесным лаком. Еще гуляли сквозняки, потому что на первом этаже пока не были вставлены новые рамы. И дом, и мастерская. Даже, пожалуй, в большей степени мастерская, нежели дом. Ибо дом был пока только разворочен, его еще лишь предстояло «стачать», довести до ума, из каждого угла пока смотрела, взывала работа.
Прекрасный, терпкий, мужской запах дела, обустройства, основательного, надолго, не на живую нитку, витал вместе со сквозняками в этом доме. И Ольга не была бы «бульдозером», если бы не ринулась очертя голову на этот призывный грозовой фронт. Работы, дела, горячей круговерти. Она уловила то, к чему была особенно чутка и отлично приспособлена. Хотя так ли уж простодушна была в тот момент? Может, кто и шепнул, успел шепнуть ей, барышне-крестьянке, что угаданное ею и есть самый верный признак ну если не счастья, то надежности, что ли. Что есть надежнее работы? Да ничего. И ее призывное, привычное дыхание она и восприняла как дыхание своего женского счастья.
Да, то был еще не дом. Гнездо, которое еще только предстояло если не построить, то во всяком случае — выстлать. И она ринулась. И надвинувшийся грозовой фронт подхватил ее, и она взмыла в нем, затрепетала, запульсировала каждою жилкой, как чайка на бурном небосклоне…
— В чем ты греешь воду? — спросила у несколько опешившего от такого поворота жениха.
Через полчаса пятиведерная лохань уже курилась липовым паром. И Ольга, тыльной стороной ладони то и дело убирая со лба собственную намокшую, потяжелевшую прядь, уже терла, скоблила, терзала в ней, давая поблажку только шраму — она даже ойкнула и прикрыла губы ладонью, когда увидала, как же далеко и страшно он тянется, и теперь лишь изредка, бережно дотрагивалась до него ладонью без мочалки и мыла, — своего суженого. Который молча сидел, а потом стоял, обдаваемый ею теплой водой из ведра сверху, с макушки, если не подавленный, то явно смущенный таким натиском.
А собака Пальма металась в пару вокруг лохани и скулила так, словно столь энергичную головомойку устраивали не ее хозяина, а лично ей.
Да, мы совсем забыли об этой особе. А между тем Пальма поначалу встретила Ольгу весьма воинственно.
Нет, не лаяла, не бросалась на пришелицу. Для этого была уже чересчур стара и мудра. А просто легла в калитке и ни с места. Михаил нагнулся, почесал ее за ухом, на что оскорбленное дамское, вернее, стародевичье достоинство и ухом не повело, и что-то шепнул ей. Пароль? Отзыв? Пальма нехотя поднялась и — воплощение попранной верности — отошла в сторону.
…Потом выстирала все с него. Все с него и вообще все, что попалось под руку. Потом вымылась сама. Вымылась и, насухо, до скрипа вытершись полотенцем, белая, крепкая, цельная, шагнула к нему: «Вот она я».
Так начиналось ее замужество.
Дом пах сараем, да-да, сараем, потому что конечно же никакой мастерской у Ольгиного отца не было, просто в отведенном, точнее, отвоеванном им у материных банок-склянок и всякой рухляди углу сарайчика стоял его верстак. Под которым маленькая Ольга любила играть в дочки-матери: тут хорошо пахло стружкой, канифолью и еще чем-то, чего Ольга тогда еще угадать, вернее, н а з в а т ь не могла. И что она с лету почувствовала, опять больше почувствовала, чем определила, здесь. Надежность, домовитость ремесла. Работы. Работы, которая, как и хлеб, сама себя несет.
Прохладная осенняя ночь широко вливалась через невставленные рамы первого этажа и беспрепятственно подтопляла весь дом, доходя и до второго этажа, где они с Михаилом разместились на никелированной кровати. И, покачивая их на своей неспешной волне, поднималась еще выше, к чердаку, чтобы где-то там соединиться со встречным потоком, струившимся через не заделанные еще прогалины в стропилах.
А им хорошо было в этом старом и вместе с тем незавершенном, незастывшем и их рук, их работы, их тепла ожидавшем доме. И то, что случилось в ту ночь между ними, было одновременно как бы и первым — после долгой-долгой паузы — плеском крови в древних жилах дома. Первым ударом его очнувшегося сердца. Дом ожил. Хотя этого никто, кроме них двоих, и не заметил.
Нет, еще собака Пальма, которая несла свой пост во дворе.
И после бабкиного рассказа дом для Ольги оставался домом. Желанным, близким. Надежным. Но у нее появилось странное ощущение: будто событие, о котором поведала старуха, произошло при ней, на ее, Ольгиной, памяти. То ли человек, о котором было рассказано, гостил здесь совсем недавно, гостил уже в ее доме, а не в том давнем, далеком, который уже и не дом вовсе, а скорлупа дома. Воробьям ведь ничего не стоит свить гнездо в старом горшке, в узкогорлом глиняном кувшине. Вот и Ольга свила, вымостила гнездо в старой, закаменевшей скорлупе.
Или так: у нее появилось чувство, будто сама живет здесь с незапамятных времен, и это она простоволосой девчушкой встречала у калитки большого, сдержанного, опрятного человека, слушала его разговор с тогдашним хозяином дома. И это ее, Ольгиных волос, к слову, тоже густых, рунных, — шапка на них не держится, как бы ни пришпиливала ее Ольга, по этой причине зимою носит платки, а еще чаще выскакивает на улицу с непокрытой головой, сопровождаемая по этому поводу слабыми материнскими сокрушениями и уговорами, — касалась плоская твердая ладонь. Жест благословения.
И бежала потом через все село, зажав в кулаке серебряную монету…
Кстати сказать, когда они с Михаилом разбирали старье на чердаке, то нашли засунутую под матицу тщательно, многократно сложенную пятерку. Старая, в замысловатых вензелях, а бумага такая, что ею еще можно голову от дождя укрывать, благо что и размеры у пятерки весьма обширные. Даже на сгибах не попортилась, что свидетельствует, правда, не только о достоинствах старой бумаги, но и о былых достоинствах купеческой крыши тоже. 1882 год — значилось державной вязью на денежке. Тот же самый год, что обозначен и на фронтоне дома. Совпадение! А может, специально, завершая строительство дома, припрятали на чердаке пятерку. Чтобы денежка в доме водилась. А то и на черный день. За пятерку, говорят, можно было корову купить…
Она не просто помнила о посетителе своего дома. Она как-то исподволь соотносила с этой памятью и то, что делала, и то, что думала.
К дому прикоснулись, и он стал одухотворен, очеловечен — перед ним можно было гордиться, перед ним можно было стыдиться. Не только балясина перил, а весь он от этого касания — его тоже словно по макушке погладили — перевоплотился. Во всяком случае, в Ольгином сознании, в ее восприятии. Уже в самом слове «перевоплотиться» присутствует, как зародыш, понятие «плоть». Живая ткань.
Ткань дома перестроилась. Переткалась.
— Так, теперь мы проверим тетради…
— Вымоем полы, а там, глядишь, и наши мужички заявятся…
— Видишь, так и нет нам ответа из облисполкома. Так и не хотят дать в Белую сетевой газ…
* * *
Последнюю реплику она произносит, стоя у окна и глядя, как по улице в непролазной грязи пробирается на своей кобылке почтальон Игнат Тимофеевич.
Своей почты в Белой, разумеется, нет. И почтальон наезжает сюда «по скоплению корреспонденции». Неказистый, лысенький мужичонка из тех вечных деревенских служивых, что, оттесняемые все более грамотными поколениями, кружат и кружат по начальственной спирали, спускаясь все ниже и ниже. Все более обкатываясь, теряя в весе и в важности (на Украине есть хорошее слово «важкость»: тут сразу и вес и важность, вес физический и удельный).
Скопление корреспонденции случается не чаще одного раза в месяц, пятого числа, когда бельским старикам и старухам, а последних, повторяю, здесь подавляющее большинство, приходит пенсия. Вот Игнат Тимофеевич, послужной список которого открывается председательством в одном из многочисленных и столь же малосильных послевоенных колхозов округи — вон откудова довелось ему катиться, — и наезжает в Белую раз в месяц. По пятым числам.
Вообще-то, будь его воля, Игнат Тимофеевич выдавал бы пенсию Белой в два приема. Как зарплату. Учредил бы аванс. Уж больно хорошо привечают его в Белой старухи. И за стол сажают, и рюмку, специально к этому дню приберегаемую, подносят. По этой причине выдача пенсии растягивается на весь день. Так что Игнат Тимофеевич тут не только обедает, но и ужинает, а подчас и ночевать остается в Белой у какой-либо из своих сердобольных «корреспонденток». Ибо рискованно в таком виде отправляться куда-то Игнату Тимофеевичу с казенным имуществом. Заснуть может.
Хотя начинал он свой рабочий день даже в Белой мало сказать трезвым, а трезвым и сердитым начальником. Даже паспорт поначалу у старух требовал и сурово сличал их давным-давно знакомые ему лица с фотокарточками в паспорте. Проверка длилась так долго, что старухи начинали испуганно моргать — и неспроста, ибо каждому, кто глянул бы в паспорт, а потом в лицо его владелицы, сразу бы кинулась в глаза несомненная подделка державных документов. А у Степаниды Подсвировой вот уже лет десять паспорта вообще не было. Затерялся где-то, завалялся, вытерся, израсходовался, вышел весь дочиста, о чем знала только она да почтальон Игнат Тимофеевич. А для чего ей паспорт? Только для пенсии.
Замуж не идти, а похоронить и без паспорта похоронят, считает Степанида. И тратиться нечего, чтоб его выправить.
Впрочем, из казенного имущества к заключительному моменту у Игната Тимофеевича остаются только брезентовая сумка, черная суконная капелюха да бессловесная кобылка, которая тоже внакладе не бывает: пока Игнат Тимофеевич ревностно исполняет свои непосредственные служебные обязанности, ее и накормят, и напоят. Как-никак сами деньги на ней ездят. В глубине души старухи считают эти деньги дармовыми и даже состязаются втайне, кто больше проживет, а значит, и больше получит, выманит этих дармовых денег.
Когда они были в силе, когда еще работали в колхозе, в том числе и под водительством того же Игната Тимофеевича, он, Игнат, им не то что зарплату — таковой вообще не было, — а даже «натуру», натуроплату выдавал далеко не каждый год. Не то что пенсию: каждый месяц как часы. Жизнь пошла регулярная — чего ж не жить.
…И думаете, с кем она так разговаривает? Сама с собой? С сыном? Да нет же — с домом.
Сама не заметила, как образовалась у нее такая привычка. Образовалась, возможно, оттого, что Ольга довольно часто и подолгу бывает в доме одна-одинешенька. Михаил, однажды случайно услыхавший ее разговор, улыбнулся: на тебя, может, наши старухи плохо действуют? Они тут у нас все сами с собой разговаривают. Беседуют.
Ольга тогда смутилась, стала горячо отнекиваться — ей вовсе не хочется, чтобы он ее в старухи записывал, она и так на три года старше его. Но привычка уже прилепилась.
Она разговаривает с домом, и дом отвечает ей — судя по тому, что время от времени Ольга протестующе машет головой: «Не-ет, я так не думаю. Мне кажется иначе».
* * *
В доме появилась полочка с книгами Чехова. Они подписались — помогла одна из старых Ольгиных подруг, работающая в райцентре в книжном магазине, — на его новое собрание сочинений. На обложке написано: «Собрание сочинений и писем». Но писем пока нет — пока идут сочинения. А Ольга почему-то ждет их с нетерпением, как будто это письма ей. Лично.
Вечерами, да и вообще в любое время, когда муж дома, Ольга не занимается домашними делами, которые поглощали бы ее полностью. Были бы только ее делами, отгораживали бы его от нее. Застили бы. Такие дела старается делать, когда его поблизости нет. Впрочем, нельзя сказать, что она их заранее старательно сортирует и распределяет. Каким бы срочным или сугубо женским оно, дело, ни было, а захватить, занять ее целиком, сполна не может, если рядом, дома, муж. Вяжет, например, — крючком она вязала и раньше, в девичестве, а здесь у бабок научилась вязать и спицами: готовит и мужу, и сыну, и будущей крохотуле двойные, грубошерстные, незаменимые для здешних зим носки и варежки, — а все равно то и дело отрывается от рукоделия. Взглянет на мужа, а то и подойдет к нему, заглядывая в самые глаза, и спросит: «Как тебе кажется: не слишком ли я широко взяла?» Или: «Тебе нравится?» И хотя еще не было случая, чтобы Михаил сказал «Не нравится», она, ожидая ответа, каждый раз искренне тревожится: а вдруг не понравится? А он молодец. Не отмахивается от нее и не отделывается торопливо-равнодушным и, в общем-то, обидным, дежурным «нравится». Смотрит, щупает безропотно, меряет безотказно и каждый раз находит — будто из-за пазухи вынимает — для нее шутливое и вместе с тем доброе слово.
Например:
— Жаль, что я не женился на тебе до Афганистана. Это же не свитер, а пуленепробиваемый жилет.
«Крохотуле» вяжут носочки и варежки из шерсти собаки Пальмы. Собачья шерсть и теплая, и мягкая, и легкая как пух. Когда Ольга вычесывает ее, овчарка, которая обычно держится по отношению к хозяйке сдержанно — старая, как старо все в Белой, она и в своих привязанностях, в своей ревности строптива, как все другие бельские старухи, — само послушание. Мощно, до хруста вытягивается всем своим длинным и еще мускулистым туловищем, прогибается. Словом, чувствует, для кого старается, и буквально из кожи вон лезет, выслуживаясь перед будущим — да что будущим, уже сейчас в доме, кажется, ему подчинены все и вся — верховным божеством.
Михаил вечерами тоже без дела не сидит. Что-нибудь ладит в доме, мастерит, возится с сыном. Они борются, барахтаются, катаясь по полу, переворачивая весь дом кверху дном, устраивают кучу малу. Для последней было бы достаточно и их двоих, одинаково заводных и неистощимых. Но раньше они брали в компанию и Ольгу. А если учесть, что и силушкой и азартом она не обделена, то немудрено, что иной раз и муж, и сын в два счета оказывались у нее на лопатках. Она деловито распластывала их на полу — как будто половики на снегу выколачивала, — они корчились от хохота, звали на подмогу Пальму, но та в подобных глупостях не участвовала: все-таки слишком долго прожила она на Востоке, в сопредельном Афганистане, чтобы считать такое положение вещей нормальным. Положение, когда женщина берет верх, валтузит двоих мужчин, пускай даже одного и малолетнего, до тех пор, пока те в изнеможении не задерут, то есть не вытянут по деревянному полу руки: «Сдаемся!» Пара костлявых, жилистых, рабочих — вот уж действительно п а р а: гнедых — и двойняшка гибких, стеблевидных ручонок, у которых даже косточки молочной спелости. Но теперь ей такой возможности не дают: вот вам и реальная, сегодняшняя подчиненность всех и вся завтрашнему божеству.
«Раису» — как, наверно, по-мусульмански думает про себя овчарка Пальма.
Ольга во время их кутерьмы чувствует себя обойденной. Бывает и так: она занята делом, муж занят делом. И она не знает, с чем бы к нему, углубленному в свое мужское дело, подойти. Повод никак не придумает. Не придумывается. И тогда, не ломая понапрасну голову, просто подходит к мужу и обвивает его руками за шею. Тот поднимет голову, отрываясь от своего занятия. И сын тоже поднимет голову, потому что он всегда всецело, с головой — вот он-то точно с головой — занят тем, чем занят в данную минуту и отец. Он отцу помогает, сопя от напряжения, причем если фактически в деле не участвует, не допущен, а только наблюдает, то сопит еще пуще. И Пальма поднимет голову, потому что она в такие минуты, как, впрочем, и во все другие, распростерта на полу наподобие магнитной стрелки: мордой к малышу.
Муж поднимает голову снисходительно. Сын поднимает голову с негодованием — опять отрывают от дела! Пальма поднимает голову с насмешкой.
А Ольга приникает подбородком, губами к русой, еще пахнущей липовым цветом (моет она его только детским мылом с липовым цветом, не признавая никаких новомодных шампуней) голове и говорит прямо в нее, в макушку:
— Соскучилась.
Как тогда, на пашне.
И она действительно скучает по нему. Не хочет, чтобы он в своих мужских делах забыл о ее существовании. Ревнует. К пахоте, к сыну, к ремонту… Ей хочется напомнить ему о себе, и она готова идти для этого к нему хоть на край света: «Вот она я. Не забыл?» Не только его — ей не хочется, чтобы и ее застили от него какие угодно дела и заботы.
Может, поэтому она и книги не читает запоем. Читать запоем — не всегда значит сидеть или, чаще, лежать с книгой часами. Большею частью как бывает? Крутится-крутится хозяйка весь день как белка в колесе, а вечерами улучит, урвет минутку и уж в эту-то сладостную минуту отрешится, отключится наконец от всего сущего и вся окунется в призрачные струи чужой, непохожей на ее существование, не будничной, а насыщенной страстями жизни. Зови ее, стучись к ней в эту минуту — бесполезно. Только легкая рябь в месте исчезновения. Ольга же, когда читает, все равно каким-то боковым зрением видит картину, которая ее окружает. Какие бы заманчивые миражи перед нею ни открывались, а все равно ладошкой, кончиками пальцев держится этого дорогого ей берега.
И как-то так получается, что волшебные струи переливаются через нее, как на перекате, и, нежно просвечивая сквозь них, картина эта окрашивается в особо мягкие тона. Приобретает глубину и причудливую текучесть. И явь, и счастливый сон. Настолько счастливый, что даже страшно за него. Толика страха все время горчит у Ольги в крови, особенно когда она осторожно ощупывает пальцами рваный, спекшийся шрам на груди у мужа. А наткнувшись при чтении на место, которое ей особенно понравится, захватит ее, она сначала перечитает его про себя вновь и вновь. Подумает, оторвавшись глазами от книги, взглянув на свое увлеченное ремеслом семейство, и скажет:
— Послушай, Миша.
И прочитает понравившийся кусочек вслух.
«Затем все лето провел я в Софьино безвыездно, и было мне некогда даже подумать о городе, но воспоминание о стройной белокурой женщине оставалось во мне все дни; я не думал о ней, но точно легкая тень ее лежала на моей душе».
Муж поднимает голову и слушает ее уважительно. Сын поднимает голову и слушает с нетерпением: когда же наконец они с отцом опять приступят к прерванным на время этой громкой читки занятиям? Пальма, не отрывая морды от пола, поставит торчком одно ухо и этим ограничится — знает она все эти дамские штучки.
— «Но точно легкая тень ее лежала на моей душе…» — негромко повторяет Ольга.
Муж еще помолчит, прежде чем, нетерпеливо теребимый за рукав сыном, опять приступит к делу. У него вообще есть хорошая черта: когда ему нечего сказать, он и не говорит ничего. Есть мужья, которые в подобных случаях, как пустоты, не терпят молчания. Им обязательно надо что-нибудь вякнуть — даже если вякнуть нечего. Каждый — прямо кладезь мудрости. А этот молчит, не лезет с расхожими комментариями. То ли из уважения к Ольге — а он таки действительно уважает в ней эту причуду, — то ли из уважения к печатному слову. И молчание его Ольга не ощущает как пустоту, потому что, чувствует она, он тоже думает. Пусть хотя бы совсем о другом, вроде бы вовсе и не связанном ни с тем, что она ему — им — прочитала, ни с ее, Ольгиными, мыслями.
— Был у нас ефрейтор Вася Безбожный. Так мы полгода его девчонке письма писали. В подсумке адрес нашли и записку: пишите, мол, до конца срока моей службы. Придумайте что-нибудь. Ну и писали. Придумывали. Мол, с правой рукой плохо, сквозное ранение, пишу левой. Та верила, отвечала. Сам он из Приморья, а она жила в Москве, его родители о ней не знали.
— А на самом деле? — спросила Ольга после некоторого молчания.
— Что на самом деле?
— Что случилось с ним на самом деле?
Ольга говорит вполголоса, ей кажется, что чем тише она спросит, тем непонятнее будет ее вопрос для сына и тем меньше внимания тот обратит и на вопрос да и на ответ, о котором она, содрогаясь, догадывается и спрашивает скорее по инерции, в слабой надежде, что догадка ее все-таки не подтвердится.
Однако не тут-то было. Как раз в этом месте сын, учуяв паузу, как чуют след, весь обращается в слух и зрение. Мигом забывает о своей мешкотне и, поднимая голову, вперяется серыми немигающими глазенками то в отца, то в мать.
— На самом деле только подсумок от него и остался, — неохотно роняет Михаил. — Подорвал себя, когда понял, что живым не выбраться. А записку, наверно, давно написал и носил с собой.
Ольга потихонечку закрывает книгу и замирает, зажав и книгу, и ладони между коленей. Ладони еще полны памяти о переделанной за день работе и, доселе неутомимые, вдруг отчетливо загудят, как гудят (в Белой бы сказали «гудут») телеграфные столбы, если прислониться к ним ухом. Загудят, словно она подставила их, ладони, прямо под эти тяжкие слова.
Может, она и читает в поисках того, чем можно было бы поделиться? Гребет и гребет, ищет золотое зернышко. И вечернее неназойливое чтение, чувствует Ольга, тоже сближает их. Потому что, то ли уважая ее старания, то ли под настроением ее находок муж тоже с нею нередко делится — тем, чем в другой обстановке он, не расположенный к излияниям, и не поделился бы.
Она и днем, когда бывает одна, читая, видит его перед собой. Читает и как бы провеивает прочитанное. Присматривается, примеряется. Прислушивается: что бы ей хотелось повторить Михаилу? И иногда для верности зачитывает-таки вслух — дому. Предварительно. И дом ее вполне понимает и даже отвечает, если опять же судить по некоторым Ольгиным репликам. А вечером, раскрыв книгу, она и впрямь возьмет да и воротится к своей дневной зарубке. Это как по ягоды ходят. Один норовит от всех отбиться, а вот Ольга так и ходила бы, так и бегала бы, так и летала бы с ним рука в руку. Ей не хочется одной. Ей хочется вместе.
Кем был для нее раньше Чехов? Классик и классик. Когда-то живший на свете человек, оставивший замечательные книги. Да он уже и человеком не воспринимается. Понятие. Как есть понятие философское, математическое. Так и тут: понятие «Чехов». Когда б еще не бородка клинышком да не пенсне, то и вообще без особых, без человеческих примет. Дух. У великих ведь нет лиц и фамилий — они, лица и фамилии, давно стали обиходным кодом. Ячейка в сотах. Картонная закладка в бесконечных библиотечных стеллажах, на которой значится одна из букв алфавита. Для облегчения поиска…
И вдруг — он, Чехов, оказывается, бывал в деревне и даже в доме, где она живет. Пусть даже много-много лет назад. И знания об этом — капли знания — оказалось достаточно, чтобы дух стал материализовываться.
Глаза проглянули сквозь пенсне.
И удивительное дело: они проглянули и в том, что она читала!
Совсем другую, живую интонацию услышала. Есть чтение, даже зубрежка есть, а есть беседа. Читала и слышала Живого Человека. И точно так, как просвечивает сквозь марево ее вечерних чтений укромная, не для чужого глаза, жизнь ее собственного дома, так и рассказ Степаниды Подсвировой слышится ей сквозь грустный речитатив чеховских страниц.
Перечитывает и передумывает. Передумывает — и капля знания и здесь заставляет двигаться, перестраиваться, дышать то, что раньше не дышало. Вы размышляете над прочитанным, и вы размышляете над у с л ы ш а н н ы м от живого человека. Есть разница? Особенно если этот живой человек — ваш гость. Вот-вот, эта чудачка восприняла Чехова как своего гостя. Словно бог весть когда мимоходом заглянувший в ее дом, он так и остался в нем. Незримо присутствует. Гостит. Не мешая хозяевам, оставаясь в тени, занимаясь своими делами. И тем не менее жизнь в доме, строй мыслей, что ли, сообразуется как-то с присутствием сего высокого гостя.
Вечернее чтение, вечерние собеседования — они как раз и задавали этот строй мыслей в доме.
У Чехова есть рассказ о том, как хороший человек, адвокат, получает письмо от двух сестер, его давних знакомых, — в одну из них, помнится, когда-то даже был влюблен, — живущих за городом, с приглашением навестить их. Провести пару дней на свежем воздухе. Адвокат знает, что сестры приглашают его не зря: наверняка хотят посоветоваться по имущественным делам. А дела у них, знает он, плохи. И как бы хорошо он к ним ни относился, а ехать на поезде, а потом тащиться от станции на телеге до Кузьминок ему не хочется. Не хочется, потому что придется либо сообщать сестрам дурные новости, либо придумывать что-то, выкручиваться. И тем не менее верный старым сердечным привязанностям, движимый простой человеческой порядочностью, уже немолодой, уже не очень здоровый, рыхлый, предрасположенный к покойным одиноким досугам адвокат едет за город. Тащится…
Ольге кажется, что и сам Чехов — хороший человек, принужденный сообщать плохие новости. Хороший человек с грустными новостями. А его интонация, его поведение, даже внешность его трогательная — попытка хоть как-то смягчить эти новости. И даже вышутить их, лишить убойной силы, грустно посмеяться над ними вместе с адресатом — к слову, такую попытку предпринимает и адвокат.
Когда уже никаких других средств защиты нет.
Дом, приютивший Чехова. Да-да. Вот так она, чудачка понимает свой дом и соответствующим образом ведет его. Сразу же после посещения Степаниды Подсвировой велела мужу на время приостановить все ремонтные работы. И впредь не ремонтировать дом, а в о с с т а н а в л и в а т ь его. Вот когда бельские старики стали совершенными хозяевами положения! А уж без самой Степаниды Михаил и шагу теперь не мог ступить. Правда, у Степаниды нередко разгорались жестокие споры с остальными советчиками, которых она в пылу творческой полемики называла сопляками и даже молокососами. Да, конечно, каждый из них на десять — пятнадцать лет моложе ее, если к восьмидесятилетним вообще приложимо слово «молокососы». Но суть не в этом. Главная причина в том, что они — представители противоположного пола.
Ох уж этот бестолковый противоположный пол! Столь тесное общение с ним на закате жизни лишний раз убедило Степаниду в правильности избранного пути.
Достоверность воспоминаний Степаниды Подсвировой, которая помнила все в доме и сам дом так, словно только вчера выпорхнула из него, вступала в противоречие с дерзким полетом технической мысли остальных советчиков. Советчиков, что по своему обыкновению уже с утра стояли вокруг дома, задравши головы и сбив на затылки картузы и соломенные шляпы, солома в которых почернела, как прошлогодняя: предложи корове — есть не станет. Будто ревностно, как мальчишки за голубями, следили за кувыркающимся полетом своих мыслей.
Мальчишки. Молокососы, они и есть молокососы.
Было тут еще одно противоречие: между сметной стоимостью проекта, как выразились бы профессиональные строители, и «тети-мети», по сугубо бельскому выражению.
Да-да, и такое выражение имеет хождение в Белой, как бы подтверждая ее былую принадлежность к некогда бойкому торговому пути из срединной Руси в срединную Азию. Оброненная, выскользнувшая из атласных шаровар монетка с чьим-то тюркским профилем.
По этой причине реставрационные работы тоже затягивались. И ни одна из сторон — ни молокососы, ни Степанида Подсвирова — не хотела умирать, не дождавшись их завершения, которое каждая сторона мыслила как свое полное и единоличное торжество. Так в Белой, помимо пенсии, появился еще один стимул продолжительности жизни.
* * *
Денег бы, может, и хватило, не отколи Ольга еще одну штуку. Поехала в Город и в магазине «Культтовары» купила бюст Антона Павловича Чехова. Вообще-то она не раз уже наведывалась в этот магазин, но все впустую. Никак не могла наткнуться на Антона Павловича. Александр Сергеевич был, Лев Николаевич попадался, и даже Алексей Николаевич наличествовал. А вот Антона Павловича не завозили. И вдруг в один из приездов заходит в «Культтовары» и видит — Антон Павлович.
426 рублей 82 копейки.
— По безналичному? — переспросила у нее заведующая секцией.
— Нет, — смутилась Ольга.
Заведующая внимательно посмотрела на нее.
В общем, упаковали, укутали ей Антона Павловича и даже до такси помогли донести. Видно, не каждый день покупали в «Культтоварах» гипсовые бюсты великих писателей более чем в натуральную величину.
Но наличных у Ольги оставалось только на то, чтобы таксист вывез ее за окраину города. 435 рублей — вся наличность, с которой она неоднократно ездила в Город якобы в поисках импортной искусственной шубы. «Нашла?» — спрашивал ее после каждой поездки Михаил. «Не-а!» — легко отвечала она. Так вот, можно было, конечно, уговорить таксиста, чтобы он таки довез их с Антон Павловичем до Белой, и уж там расплатиться с ним. Но Ольге доподлинно было известно, что в доме ни копья — сама все выгребла, ибо уже имела представление, сколько может стоить давно искомая ею вещь, потому что ровно столько же стоил и бюст Льва Николаевича, который она неоднократно видела в «Культтоварах». А по соседям бегать уже поздно, да и народ в Белой не расстается с денежкой вот так, с бухты-барахты.
А главное: таксист заломил такую цену, что Ольга сразу же забарабанила ему кулаками в спину: останавливай! Высаживаемся. Видно, и его, таксиста, бюст вверг в заблуждение. Вот тебе и наметанный глаз. Высадились они с Антон Павловичем на обочине и дальше добирались методом голосования.
Покупка у Ольги была тяжелая, килограммов сорок чистого весу. В кабину поднять, на землю снять… Другая б, может, и сплоховала. Другая б, может, и оставила покупку в райцентре у отца с матерью с тем, чтобы муж назавтра сам забрал ее. Другая б, но не Ольга. «Что это у тебя — стиральная машина?» — спросил у нее на каком-то перегоне — а добираться до райцентра ей пришлось перебежками — шофер «КамАЗа», когда она взгромоздилась к нему в кабину вместе со своей поклажей, которую каждый раз устраивала только рядом с собою, только в кабине, а не в кузове.
— Ага! — махнула головой. — По блату достала.
В общем, и «КамАЗ», и «ГАЗ-53», и колесный трактор, а последний этап — от деревни Ивантеевка до Белой Ольга преодолевала на кобыле Игната Тимофеевича. Игнат Тимофеевич в этот день обслуживал другую деревню, видимо, не столь бесперспективную, как Белая, и потому менее хлебосольную, и вовсе не собирался на ночь глядя к бельчанам. Ехал в противоположном направлении, в Ивантеевку, домой. А Ольга со своим картонным коробом стояла на повороте. Темнело, особых надежд уехать уже не было, пешком с такой ношей не добраться, но и оставить ее на дороге невозможно. Хорошо, что Игнат Тимофеевич сжалился над нею, поворотил кобылку в Белую.
Надо сказать, поворот был совершен без особых колебаний: у Игната Тимофеевича обнаружился вполне благородный повод пройтись огнем и мечом по бельским алкогольным заначкам.
В Белую въезжали затемно, и Ольга думала о том, как же хорошо, что ей встретился Игнат Тимофеевич. Хорошо еще и потому, что благодаря этой встрече Антон Павлович после долгого перерыва появляется в Белой самым натуральным образом. Так же как въезжал в нее и много-много лет назад — на кобылке.
Опустим объяснение Ольги с мужем — оно не доставило ей хлопот, особенно если учесть, что тут же, рядом, находились еще и Игнат Тимофеевич, и его кобылка и надо было позаботиться о них. Да муж никогда и не требовал от нее отчета, тем более в сфере, в которой заведомо признавал ее приоритет.
В общем, сидели они за полночь, ужинали, пили чай. Ольга выставила мужикам заначку, сын, соскучившись по матери, спал у нее на руках — хитрый таки народец: только поднесешь его к кроватке, он тут же открывает глазенки, просыпается, словно споткнувшись во сне, а на руках, несмотря на свет настольной лампы, на разговор вокруг, дрыхнет без спотыкачки. Кобылка Игната Тимофеевича, уткнувшись мордой в задок телеги, куда ей подсыпали пшеницы за полным отсутствием и в доме, и в колхозных севооборотах овса, вздыхала за окном ну точно как корова. Бюст рафинадно белел посреди стола — существовала опасность, что никакая другая мебель в доме его не выдержит, — и Игнат Тимофеич под конец неоднократно порывался чокнуться со своим недавним пассажиром.
А на следующий день, получив разрешение в сельсовете (а кто б ей, единственному бельскому депутату, отказал?), Ольга объявила по деревне, что через воскресенье в Белой состоится открытие памятника Антону Павловичу Чехову.
Ольга давно уже думала, где установить памятник. Возле дома? Неудобно. Вроде как принадлежность их двора. Будто присвоили право и на памятник, и на память. А память не может быть присвоенной. Память должна быть общей, считала Ольга. И после долгих размышлений выбрала вот какое место: перед школой. Перед школой, а значит — и перед фельдшерским пунктом, что тоже очень кстати. Ведь по профессии Чехов врач и даже в Белой, на отдыхе, говорят, принимал в барской усадьбе приболевших крестьян.
Перед школой. Перед фельдшерским пунктом. А в общем-то, если уж быть совсем откровенной, то ведь и перед ее глазами тоже. Как и всякая женщина, в душе она, хоть и сама себе в этом не признается, не настолько бескорыстна, чтобы вот так, за здорово живешь, «с концами», как еще говорят в Белой, взять и отдать в общее пользование свое кровное. Не-ет. Помимо того что она все-таки женщина, а точнее сверх того, она ведь еще и б е л ь с к а я женщина. А бельская — ей, как правило, кроме как на самое себя, рассчитывать не на кого, и копеечку свою она держит под уздцы. К о н я н а с к а к у о с т а н о в и т… Бельская, может, потому всякий раз так и радуется появлению Игната Тимофеевича, что вовсе не считает ежемесячную выдачу пенсии железной закономерностью. Скорее, счастливая случайность. В душе она, пожалуй, даже удивляется простоватости государства, которое так, почем зря, пуляет денежку. И Ольге спокойнее, если ее приобретение у нее на глазах.
Ведет урок, ходит от парты к парте, а стоит чуть-чуть скосить глаза — и вот он, за окном, белеет на фоне черных, корявых липовых стволов. Стволов, которые, наверное, еще помнят его живого.
Корысть? Тщеславие? Да нет, ей и впрямь спокойнее. Увереннее. Когда в любую непогоду — и на дворе, и на душе — там, между сумрачными вековыми стволами, белеет. И спокойнее, и осмысленнее, что ли.
Вот ведь сколько всего сошлось под этой крышей: и школа с детворой, в том числе и с ее собственным сыном, и фельдшерский пункт — фельдшера нет, а старухи идут, и Ольге поневоле приходится если не лечить, то выслушивать их, и старухам кажется, что уже от этого им полегчало. И памятник. Иногда Ольга и сама себя ощущает такой вот крышей. Распростерлась над Белой и держится неизвестно на чем.
* * *
Пришлось Михаилу с дедами сооружать напротив школы постамент для памятника. Сначала хотели сложить из жженого кирпича, оштукатурить, зацементировать. Но председатель колхоза сказал, что кирпич — это «колхоз-малхоз». Что тут нужен бетон. И взялся раздобыть его. И раздобыл. И закипела напротив школы работа. Все бельские долгожители опять оказались при деле. Была сооружена опалубка, замешен раствор…
Словом, стоило Ольге чуть-чуть скосить глаза, и она видела изляпанную, крепко загоревшую — это даже не загар, а прямо-таки тавро, вынесенное еще из Афганистана, — спину, которую вечером ей надлежало скоблить и драить с тем, чтобы еще позже, уже во сне, уже почти бессознательно, теми же ладонями нежно ворожить над нею, как бы залечивая, задышивая, замаливая свою же недавнюю праческую ретивость.
Председатель, и сам вдохновленный Ольгиной идеей, кроме бетона раздобыл еще и работника, освободив его на три дня от полевых работ.
Михаил — они есть этот освобожденный работник. А кого еще мог освободить председатель, коли он, Михаил, тут единственный? В поле его подменили механизатором из другой деревни, а вот постамент, решил председатель, все же должен ставить свой, бельский человек.
Остальная рабочая сила на стройке была исключительно добровольной. Она же в основном и кипела. Кипела, дымила, иногда даже матюкалась беззлобно, словно кур, отгоняя старух от стройплощадки.
Не стой под стрелой!
Тем временем Ольга послала телеграммы в Город, в местное отделение Союза писателей, в райком, райисполком. Мол, так и так, в деревне Белой Константиновского района такого-то числа состоится открытие памятника неоднократно бывавшему в ней Антону Павловичу Чехову. Милости просим.
Строго говоря, Чехов был в деревне дважды. Это Ольга уточнила и по книжке, которую ей подарила Степанида Подсвирова (первый раз Степанида книжку не принесла, не доверила, а потом все-таки подарила, точнее, передала на дальнейшее хранение: все-таки не ровен час, сказала, годы мои не девичьи — поджала губы…). Но писать «дважды» как-то несолидно. Вот «неоднократно» — совсем другое дело. Солидно. Убедительно. Можно было, конечно, обойтись и без телеграмм, просто позвонить по телефону. Но Ольга послала телеграммы. Официальнее. Солиднее.
Были люди и из области, и из района. И зажигательные речи были, и «чеховские сценки», разыгрываемые прямо на улице, перед памятником, под липами. Сценки, которые Ольга подготовила со своими учениками и в которых каждому артисту, в том числе ей самой, пришлось играть сразу несколько ролей. Из-за малочисленности труппы. И пламенные обещания перед лицом Антона Павловича дружными совместными усилиями сделать Белую еще одной литературной святынью на славной карте Волжского края.
Обещания, которые Ольга, стоя в сторонке, хладнокровно заносила в тетрадочку и по следам которых двинулась буквально через день — пока клявшиеся не позабыли их.
Как там насчет дороги?
Как там насчет сетевого газа?
Теперь уже она действовала не только от имени бельских стариков и старух, но и от имени — имени-отчества — Антона Павловича. Живые люди не всегда самый веский аргумент. Да и такие ли уж они живые, бельские? А вот вкупе с Антоном Павловичем как-то потяжелела, поважнела, п о ж и в е л а Белая. Уже неудобно выставить ее в лице депутата Белошейкиной вон…
Из рассказов, аккуратно записанных Ольгой в амбарную книгу, выходило, что Чехов однажды был ни много ни мало, а прямо-таки спасен бельскими мужиками. Ушел в одиночку из барского дома поохотиться, но вскоре поднялась пурга, и он заблудился. Кружит-кружит вокруг деревни, а выйти на Белую не может. Барин, почуяв неладное, поднял мужиков и айда с ними в луга. Отыскали гостя под стогом. Принялись его тормошить, а он открывает глаза и улыбается: «А я и знал, что вы меня найдете. Выручите…»
А теперь, выходит, Антон Павлович выручал Белую. Нашел! Может, Ольга и злоупотребляла несколько его именем, но она думала так: будет Белая — будет и память.
И есть ведь еще один, самый близкий ей человек, ради которого она старается, хотя имени его в отличие от имени старух, от имени Антона Павловича ни в одном кабинете не произносит…
В одном ошиблась: гипсовые фигуры под открытым небом недолговечны. Пришлось для начала покрыть гипс белой масляной краской. Но вообще-то Ольга уже отыскала в Городе скульптора, который взялся вырубить памятник из гранита. Настоящий. Крепкий. Чудной такой скульптор. Приехал в Белую, походил, посмотрел, пожил два дня у Белошейкиных. А уезжая, сказал, что памятник вырубит бесплатно.
И что ж: памятник будет, а людей вокруг — ни души?
* * *
— А почему вы плакали, Оля?
— Я?!
Она так искренне изумилась, что я и сам на мгновение усомнился: а плакала ли?
Но я же видел своими глазами…
— Плакала потому, что меня сегодня не приняли в институт.
— То есть как?
— Да так. Пять лет назад закончила педучилище. Имею право без экзаменов поступить учиться на заочное отделение пединститута. Разумеется, при положительных характеристиках и после предварительного собеседования. Так вот, сегодня как раз и было собеседование.
— Ну и что? Не прошли собеседование?
— А куда ж мне пройти: вы же видите — ни в одну дверь не прохожу, — засмеялась она.
— Что же у вас спрашивали?
— А ничего не спрашивали. Председатель приемной комиссии как увидал меня, так и замахал руками: беременных не берем!
Она так уморительно изобразила, как председатель комиссии, видимо вполне положительный, аккуратный, привыкший к приличным, аккуратным формам старичок, панически замахал маленькими бесполыми ручками при виде этого уже хорошо вспучившегося, выходящего, выламывающегося из рамок, как из квашни, живота, въехавшего в дверь, предваряя самое абитуриентку. Так уморительно, что и мне не оставалось ничего другого, как рассмеяться.
— Положение у них такое: беременных не брать. Как пленных — чтобы не было потом канители с академическими отпусками и прочим. Я ему: да я, мол, не буду просить академический отпуск, я так, без отрыва рожу. А он еще больше замахал, как будто я прямо сейчас, в кабинете, и разрешусь. У них положение, а меня вся деревня провожала, все мои бабки к автобусу вышли. Мне теперь и встречаться с ними стыдно. Приехала и задами, огородами, домой. Что сказать? — не приняли, потому что беременная? Какой дурак поверит? Раз не приняли, значит, дура дурой, а мы-то, скажут, за умную ее держали. Не приняли — значит, не положено принимать из Белой. Они-то вбили себе в голову, что, раз будет в деревне свой учитель с высшим образованием, раз будут его учить, пусть хотя бы и заочно, значит, не закроют школу в Белой. А раз так — и деревне переводу не будет. А не приняли, значит, все-таки крышка Белой… Поневоле заплачешь.
Заканчивала рассказ уже на другой, грустной ноте, но в самом конце все-таки не выдержала, опять прыснула:
— Почему когда еще присылали документы, не указали в них, что вы беременны? — опять передразнила председателя. — А я: да там графы такой нету! И потом, это ж дело наживное: сегодня не беременная, а завтра, глядишь, беременная. Ну он совсем — чуть со стула не сковырнулся. Да она, говорит, еще и грубиянка! На том и расстались.
* * *
Съемки давно закончились. А снимали мы передачу о том, как в области организован сельский досуг, и признаться, «культурный десант» в Белую был организован с учетом передачи, и в данном случае Белую выбрали именно потому, что она была самой дальней, самой глубинной. Выбрали в качестве символа: вот-де как поставлено дело — даже такие медвежьи углы не обойдены заботой о досуге. «И потом, — как сказали нам в райцентре, — не только самая дальняя, но еще и самая интересная…»
Уж не заметками ли в райгазете руководствовались!
Съемка закончилась. Деревня потчевала артистов, работников районной торговли и Центрального телевидения домашним квасом. За мной уже прибегали посыльные: пора в обратный путь. Дом был показан мне до последних закоулков — туда, куда и впрямь не могла проникнуть, протиснуться хозяйка, меня сопровождал ее малыш. Малыш впереди, я посередине, замыкающей овчарка Пальма. И царская пятирублевка была продемонстрирована и на вид, и на ощупь. И «чеховская» тетрадь прочитана от корки до корки. И маленький человечек — от его матери я узнал, что он вполне сносно играет в подкидного, от дедов научился: с кем поведешься, от того и наберешься — тем же мака ром, за руку вел меня через деревню к автобусу.
Солнце уже перекатилось на другую сторону Белой, и свет его как бы материализовался. Он уже не был сияющей пустотой, обрушивающейся с поднебесья. Золотые прожилки потянулись в нем, невесомая, как с бабочкиного крыла, кристаллически взблескивающая пыльца поплыла в остывающем воздухе. А может, то просто липовый цвет, доселе беспрепятственно оседавший на землю, теперь, когда солнце сменило угол зрения, тоже подчинился его прищуру и отвесное, хотя и плавное падение сменил на полный покой.
Вместо того чтобы падать — поплыл…
То ли свет, переходящий в липовый цвет. То ли цвет, переходящий в солнечный свет.
* * *
Поднялся на подножку автобуса — заждавшийся народ в нем уже недовольно шумел, — Пальма, сидя на земле, сдержанно вильнула хвостом, а представитель местной флоры потихоньку выпростал свою ладонь из моей и сказал:
— До новых встреч в эфире!
Так и сказал. Повторил шутливую расхожую фразу или действительно узнал? Если узнал, то это был первый случай «узнавания» в моей жизни — на телевидении я, повторяю, без году неделю. Во дает!
Узнал — не узнал, но парень, надо сказать, не промах. Не думаю, что просто так, за здорово живешь, решил сводить меня к себе домой.
Наверняка понял, что его мать обидели. И ему надо было как-то утешить ее. Помочь ей. По своим детям знаю, как чувствителен этот народец к обидам своих родителей. Они конечно же не броня, они — мембрана, живая, чуткая, пронизанная, просвеченная капиллярами и нервными волокнами. Мембрана — заслоняющая? предваряющая? — наш, взрослый мир. И все, что летит в нас, на какое-то мгновение застревает, резонирует в ней. Так и тут. Малыш понял, что у матери беда, и какими-то неисповедимыми путями нашел, «вычислил» человека, который может ей помочь. Не понимая, в чем конкретно нужна помощь, уразумел одно, главное — что тут необходима помощь со стороны. Извне.
И пошел на поиски помощи. Так одним участником, одним зрителем на празднике стало больше. И тут, бродя, наблюдая — даже мультфильмы, которые показывали в рамках праздника в импровизированном брезентовом кинозале, при всей их притягательности, особенно для него, не избалованного ими, не могли увлечь, занять его полностью, без остатка, — выследил, вынюхал-таки нужного человека.
Запах должности? Мальчишка чувствовал, что помочь матери в какой-то ее взрослой беде может только начальник, а мне подчинялись тут (или делали вид, что подчинялись) даже осветители и даже механик, крутивший мультики. А кто же не смикитит, что это и есть самый большой начальник тот, кому подчиняются мультики.
А возможно, у мальчугана еще более тонкое обоняние и он накрыл меня по запаху детства?
Посылочный ящик из-под яблок с родины, который еще потом всю зиму пахнет яблоками. Родиной. Так и я — посылочный ящик. Вряд ли у кого-то еще тут четверо детей…
Как бы там ни было, а на следующий день в Городе, беседуя с секретарем обкома партии — мы записывали ее послесловие к передаче, — не преминул рассказать ей о случае с депутатом Белошейкиной. Как же так, говорю, женщине вменили в вину то, что она рожает детей? Да еще рожает единственная во всей деревне!
Секретарь обкома, средних лет, но энергично встряхивающая короткой некрашеной стрижкой, обещала непременно вмешаться. По той решительности, с которой она сразу же велела разыскать по телефону ректора пединститута, я понял, что у самой у нее детей нет.
* * *
Автобус, как паучок, скользил по двум светящимся ниткам, то ныряя так, что почти терял эту единственную опору, эту направляющую своего движения, то лихорадочно подтягиваясь к ней из кромешной тьмы, седлая ее невидимыми мохнатыми лапками. Все повидавшие на своем веку телевизионщики помаленьку дремали, а самодеятельные артисты никак не могли успокоиться, остановиться и заводили вполголоса то одну песню, то другую. Очередной чувствительный толчок, очередной скрипучий крен и бывал водоразделом между песнями: ставил неожиданную точку в одной и — как подбрасывают голубя с руки — запускал другую…
Смутно помню, что в моем родном селе на Ставрополье в начале пятидесятых был патронат для инвалидов войны. Странно, что для такого заведения было выбрано именно наше село. Глухое, безводное — в нем и здоровому-то жилось несладко. Может, потому и выбрали, что подальше с глаз. Война была еще так близко — лицом к лицу, — что ни мертвым, ни тем более живым пока не воссоздавалось сполна. Это было время, когда считалось, что погибло нас не двадцать миллионов, а десять. Бездна еще не осозналась, не просматривалась до дна — может, то была защитная реакция самой жизни. Станешь на краю, заглянешь, представишь, и уже само это представление, воображение — парализующе. А в такое время, когда трудиться надо до хруста в надорванных сухожилиях, опасно, самоубийственно заглядывать и далеко вверх, и глубоко вниз.
«В гору некогда глянуть» — это о том времени. В гору и — в горе.
Как бы там ни было, а какое-то, правда весьма непродолжительное, время в нашем степном селе располагался патронат для инвалидов войны. Так — полностью — его никто не величал. «Патронат», и все. Село длинное, километров десять — двенадцать, крепко прореженное еще тридцать третьим годом, и под патронат определили капитальные, кирпичные строения, находившиеся на самой его окраине. Что это за строения, выглядевшие весьма необычно в селе, где и дома, точнее хаты, и общественные помещения были почти сплошь из самана и глины, не знаю. Но, судя еще и по тому, что вокруг них сохранились куртины акации и даже кусты смородины, что неподалеку была артезианская скважина, думаю, что до революции здесь живал кто-то из степных овечьих магнатов. После того как инвалиды исчезли — так же неожиданно, как и появились в нашем селе, — в строениях разместили сперва птичник, потом овец. А после, уже крепко потраченные этими временными жильцами (акации и кусты оказались сведены первыми), и вовсе забросили — вот это знаю в точности, ибо происходило это на моих глазах.
Выезжаешь или входишь в село со стороны Новоромановки, по дороге, которой почти никто и не пользуется, ибо есть другая, выводящая на райцентр, к асфальту, и первое, что видишь в лощинке, — бывший патронат. Развороченные крыши, пустые проемы, «расшерепившиеся», по местному выражению, и все глубже оседающие в землю, в ликующую полынь стены. Последний инвалид, он и сам погружается в бездну. Пройдет еще немного времени, и он тоже исчезнет, как незаметно исчезли и его давние обитатели. Никто и не вспомнит. Да его, пожалуй, уже и нет: я сам не был в родном селе не меньше десятка лет.
Село и патронат жили как-то отчужденно друг от друга. Теперь понимаю, что эта отчужденность происходила еще и от того, что многие инвалиды, вероятно, были, мягко говоря, неходячие. Лежачие. И в селе, за пределами патроната, бывали единицы — практически одни и те же.
В селе было всего две улицы. Магазин стоял на той же улице, что и наш дом. И я помню, как мимо нашего дома раз-другой в неделю проезжала инвалидная коляска. Помните эти коляски на велосипедных шинах с ручным приводом? Огромные, до побеления в суставах стиснутые кулаки — взад-вперед, взад-вперед. С напряженной равномерностью шатунов. Лицо с закушенными губами. Только иногда кулак разжимается — чтобы смахнуть в сторону взмокший чуб.
Они ведь не были старыми, Не были лысыми. Немощными. Были молодыми и чубатыми. Их выгоревшие рубахи липли к бугристым спинам, и от их колясок по всей вдовьей улице распространялся скипидарно-терпкий запах мужского пота.
Где бы ни находился — у окна, во дворе, на завалинке, — видел эти сведенные кулаки и тяжело набычившуюся голову. Они как на таран шли на наш сельмаг.
Через некоторое время той же дорогой коляска возвращалась назад. С конвульсиями, с остановками, рывками, слепо. Словно раненая. Голова уронена на чудовищные кулаки, пьяная слеза и такая же пьяная песнь:
Взревели моторы, И он полетел Чужие бомбить иродромы…Иногда коляска возвращалась уже в темноте, и тогда слышна была только песня да перезвон бутылок, которые до отказа заполняли коляску и предназначались другим — не только безногим, но и безруким.
Странное дело, но наши сельские, обычно полоумные, собаки на коляски не набрасывались — по причине такого мата, от которого стыла кровь даже в собачьих жилах.
Песня, слезы и мат.
По селу они не шлялись, милостыню не просили, разве что в том же магазине, где тогда продавали и на вынос и распивочно, иной из них подъезжал к деревенским кучковавшимся мужичкам и — за неимением наличных — требовательно задирал стакан.
И те безропотно наливали.
И село в патронат не ломилось. Даже работать в нем охотников не было, хотя платили там рублями, а в колхозе, как тогда выражались, палочками. Уже по душераздирающим крикам, которые доносились иной раз из открытых окон патроната, можно было понять, представить, вообразить, какое зрелище ждало там здорового человека. Что за калеки помещались в нем. Что за бездна раскрывалась сразу за нашим селом. И сосуществовала, притулившись в беспамятстве к нему.
У патроната была своя полуторка. И она иногда проезжала мимо нашего дома — на кладбище.
А одна из наших соседок все же работала там. Ведьма тетя Вера Пащенко. Объяснять, почему «ведьма», — разговор отдельный. Хотя, честно сказать, никаких особых объяснений тому в селе не было. Просто считалось, что лучше не гонять корову мимо ее хаты — сглазит, не скандалить с нею — накличет беду. Да вот еще: Вера, вдова, воспитывавшая сына и дочку, каким-то образом сумела сманить чуть ли не из-под венца мужа у одной нашей молодицы. Ну и был, как водится на Руси, принародный бой стекол, причем коварный муж, выскочивший-таки из Вериной хатки — летом мы вылавливали сусликов в степи, и под экономной струйкой воды, которую мы, мальчишки, таскали за собою в ведре, суслик выскакивал из норки вот так же очумело, панически, напролом, как из полымя, — стоял рядом со своей молодой женой, держась, впрочем, вне пределов ее досягаемости, чего не скажешь о Вериных окнах, и всячески пытался ее урезонить.
Что только подстегивало молодицу.
— Ведьма! Ведьма! — кричала та, растрепанная, зареванная, и что есть мочи колотила палкой по махоньким оконцам махонькой Вериной землянки (последняя и в самом деле была так мала, что совершенно непонятно, где там мог помещаться этот молодой, хорошо кормленный битюг).
Ни Вера, ни ее дети из хатки не вышли.
В каком бы платке она ни была, а волосы у Веры всегда выбивались из-под него, как выбивается из общего аккуратного абриса распущенное, приготовленное к взлету крыло.
Готовность к полету.
Крыло темное, такой интенсивной черноты, что глаз уже сам ищет в ней седую нить, и, судя по всему, еще год-другой, и она явится: стреножит, обротает крыло лихая паутинная сеть.
Крыло темное, и глаза темные. Только другой, мягкой, размытой, пазушной темноты. Скорее, серые. Вроде как крылом взмахнули, и открылось теплое, зольное — и цвет, и пушистая мягкость, теплота только что вынутой, «выгорнутой», как говорят у нас, золы. Подкрылье. То, что обычно закрывают, защищают, берегут пуще глаза. А тут — на, смотри, сколько влезет. За погляд не берем. Вот один и засмотрелся на миг. А потом, слава богу, очнулся.
Я дружил с дочкой Веры Пащенко. Мне было лет шесть. Вериной дочке года на три больше. Девчушка как девчушка. Голенастая, тощая, как все мы тогда, и, как все мы тогда, с весны до осени в цыпках. Ни волос тебе, ни глаз. Никогда не скажешь, что ведьмина. Может, со временем и проявилось что, но я этого уже не видел: жизнь повернулась так круто, что уже в тринадцать лет от своего села оторвался и больше уже в него не возвращался. А нечистая сила в них, девчонках, как известно, если, конечно, имеется, прячется где-то — как раз в эти годы, в шестнадцать-семнадцать, и высовывается. Вылупляется. Девочка-девочка, а вдруг вылупилась — ведьма.
Но — чего не видел, того не видел. На тот момент, повторяю, это была языкатая, прокудная, умевшая постоять за себя — так, что я, тихоня, чувствовал себя в ее тени в полной безопасности, — и все же самая обыкновенная девчонка.
А дружба наша заключалась в том, что мы вместе гоняли наших коров в стадо и из стада. Она ждала меня по утрам в условленном месте, и когда я появлялся там, заспанный, только что вынутый матерью из постели и поставленный торчмя в этом колеблющемся, текучем и поначалу обжигающе-неуютном утреннем мире, девчонка, ухватив меня за плечи, крепко привлекала к себе, а потом, положив мне на макушку раскрытую ладонь, примеряла по себе — как по притолоке, — на сколько я за ночь вырос. И моя стриженая макушка, и ребро ее покоящейся на моей голове ладони всякий раз упирались в одно и то же место — в плавный изгиб, где шея переходит в подбородок. Я бы назвал его голосником: он дрожит у птиц, когда птицы поют. Он трепещет у женщин, когда женщины смеются или плачут.
И каждый раз шутливо сокрушалась:
— Ну и медленно же ты растешь!
Чудачка, она ведь тоже не стояла на месте.
От нее веяло теплом, коровьим молоком — свою корову девчонка доила сама, — и я, зажмурившись, с удовольствием прижимался к ней, готовый снова погрузиться в дрему. Но не тут-то было! Меня начинали тормошить, меня взбрызгивали росой и смехом, мне всовывали в руку ломоть хлеба с маслом. Два куска хлеба и между ними, в середочке, порядочный слой масла. Она разлепляла их и тот, на котором масла оказывалось больше, всовывала мне. Теперь-то я знаю, что это называется бутерброд, но тогда в селе такого слова не знали и говорили проще: кусок.
То, что кусок был с маслом, подразумевалось как бы само собой: как бы трудно мы тогда ни жили, а корова все-таки была, считай, в каждом дворе.
Кусок хлеба с маслом, когда гонишь корову в стадо по утренней, крупного помола и обжигающей чистоты росе, когда с некоторым интервалом после тебя, как зазевавшийся петушок на насесте, просыпается и твой нарождающийся аппетит, — это, доложу вам, замечательно.
Когда я, насупившись, говорил, что мне не велено гонять корову мимо их хаты, она смеялась, брала у меня хворостинку и заявляла:
— Так это же не ты гонишь, а я. А потом, смотри — обижусь, и это, говорят, еще хуже.
Можно подумать, что я тебя боюсь, думал я про себя, но высказать это вслух все же не отваживался. Чем черт не шутит.
Днем же мы с нею почти не виделись: девчушка днями пропадала в патронате, помогала матери. Калеки, говорят, ее любили, звали дочкой. И вот однажды она позвала меня с собой. У меня никакого желания идти в патронат не было — побаивался. Но она крепко ухватила меня за руку и потащила за собой.
— Понимаешь, там есть дядечка, у которого где-то сын и дочка. Дочка, как я, а сын, наверно, как ты. Вот ему и хочется посмотреть на мальчика и девочку. Он лежачий, понимаешь, — горячо говорила, увлекая меня, упиравшегося, за собой.
Патронат в то время был окружен новеньким штакетником, а в штакетнике имелась новенькая и весьма непривычная для меня калитка. Знаете, есть такие: вертящаяся деревянная крестовина. Штакетник, калитка, а за ними довольно ухоженный, но пугающе замерший, пустынный, напрягшийся в зыбком равновесии мир. Ноги у меня стали ватными. Мне удалось настолько оторваться от моей провожатой — если уж быть точным, то ровно на две наших вытянутых руки, ибо большего можно было добиться лишь полным лишением своей десницы, накрепко стиснутой ее цепкими пальцами, — и мы с нею оказались в разных ячейках крестовины, хотя вполне могли бы уместиться в одной. Из-за того что мы с девчонкой тянули друг друга в противоположных направлениях, калитку заклинило, и мне на мгновение показалось, что я уже никогда не выберусь отсюда. Возврата нет!
И я что было сил рванулся назад: черт с ней, с рукой! Живут же люди…
Пальцы ее пошли юзом по моей руке, оставляя на ней багровые борозды. Все же такой прыти она не ожидала. Обернула ко мне красное, вспотевшее, с налипшей челкой лицо и протянула свистящим шепотом:
— Я же ему обещала…
И заплакала.
— Оля! Ты, что ли? — донеслось откуда-то сверху из открытого окна. — Пришла?
В ноздри мне ударил сильнейший запах сирени. Оказывается, здесь, в тенечке под домом, невидимая с улицы, буйно цвела сирень — вот еще что я забыл, описывая растительность патроната.
Может, благодаря этому запаху я и пришел в себя и понял, увидел, что иду уже по территории патроната, что сверху, из окон, высовываются чьи-то головы и что Оля, поднеся мою руку к самым своим губам, раскаянно дует на нее.
…Автобус нырял, полз, пел, дремал, а я отчетливо-отчетливо видел перед глазами ту давнюю картину. Окно, сирень и Олю. Олю, дочку ведьмы — тети Веры Пащенко.
ЦЕНА Рассказ
Писателем меня, Сергея Никитовича Гусева, пожалуй, назвать нельзя. Пишу мало так, появляюсь эпизодически, как появляется на поверхности голова очевидного утопленника — чтоб крикнуть что-то маловразумительное и опять исчезнуть. Пунктирное существование. А сегодня для того чтобы прослыть писателем, да еще известным, надо давить читателя массой, брать на измор. Каждый год — роман, каждую пятидневку — повесть или стих. Вон какова плотность боя у современных писателей. А тут — то потухнет, то погаснет.
— Спа…
И захлебнулся. То ли поблагодарить хотел окружающий белый свет, то ли еще что.
И большая часть написанного — о детстве. А еще точнее — о той части детства, которое прожил подле матери. Рядом — на одном белом свете. Около четырнадцати лет. Так мало — может, потому что возвращаюсь и возвращаюсь к этому времени, к этому мигу — жизнь идет вперед, и удельный вес д е т с т в а (мать умерла, и дальше какое уж там детство) уменьшается, как лоскут шагреневой кожи. Стремится к нулю. А ты стараешься его удержать. И раз за разом перетряхиваешь, выворачиваешь наизнанку котомку, с которой пустился в дорогу, выщупываешь пальцами грубые швы — не затерялась, не застряла ли где еще кроха?
Глоток детства.
Дышать труднее, что ли? Или — бежать?
И вот, кажется, все выписано, выдышано — дотла, — зафиксировано, вспомянуто. И вдруг ни с того ни с сего возникает, оголяется, как оголяется в мутной пелене ослепительно-обжигающий глоток неба, что-то давно забытое и растраченное. И начинает не то что преследовать тебя, а как-то сосуществовать рядом, в непосредственной близости, молча дышать в висок, налагая какой-то свой отпечаток на все, что творится вокруг, что видишь и чем живешь в данную минуту.
Кристалл синьки бросили в воздух, и все начинаешь видеть окрашенным этой призрачной фосфоресцирующей дымкой. Проходят дни, забываются события, случайность, давшие непосредственный толчок воспоминанию, а дымка — выдох — все не тает.
Сейчас вот хочу написать о том, как много-много лет назад мы с отчимом ломали хату.
А знаете, какой случай заставил вспомнить об этом?
Случай, не имеющий ровно никакого отношения ни к сооружению, ни к разрушению хат.
Ехал в поезде. В купе оказался один. Читал, а когда наскучило, стал невольно прислушиваться к разговору, отчетливо доносившемуся из-за перегородки. В спальный вагон попал случайно — билет купил на вокзале с рук. Человек, продававший билет, интеллигентный, нестарый, был готов даже не продать, а подарить его.
— Сын родился, понимаешь! — говорил восторженно мне, обыкновенному командированному, прижатому к нему людской толчеей. — Какой же к черту семинар! Сын родился! — повторял он.
Я же, занятый одним — как бы не выпустить его из объятий, как бы не подпустить к нему других страждущих безбилетных, как бы не прозевать билет, — тогда и не обратил особого внимания на его слова.
Ни про сына, ни про семинар.
А вот разговор за стенкой купе заставил вспомнить о них.
В соседнем купе разговаривали о науке. Там наверняка ехали участники семинара.
Речь там зашла о положении в современной философской науке, и кто-то невидимый сказал, что больше всего он надеется на тех молодых ученых, кому сейчас до тридцати или немногим за тридцать.
То есть почти на студентов.
На старых, гнутых и битых, и на таких вот — зеленых.
— Те же, кому сейчас за сорок, бесплодны. Сформировались в эпоху застоя и не способны на живую мысль. Приспособленцы. Конформисты. Прилипалы. Ничего, кроме цитат, произвести не могут. Нет дерзости, смелости. Таких категорий, как «вечность», «смысл жизни», «смерть» и «бессмертие», не просто избегают, а еще и выработали к ним — прикрывая собственное творческое бессилие — этакое снисходительно-скептическое отношение. В общем, летают, как домашние хохлатки. Хотя многие при этом, — добавил человек, — уже умудрились обзавестись весьма тепленькими гнездами. И вся задача теперь — удержать эти гнезда, а подвернется момент — еще и прирастить их. Отличие от курицы лишь в одном: та, дура, гребет от себя, а эти — исключительно под собственное пузо. Словом, пробочное поколение.
— Как, как? — переспросили за стенкой.
— Пробочное. Так и будет существовать инертной массой — мешая другим и само ничего путного не производя.
— А вот те, кому двадцать, от силы тридцать, — люди думающие. Бесстрашные. Это — первое поколение ученых-обществоведов, растущее в естественных, я бы сказал, дарвинских условиях. Свободной конкуренции идей, мнений. Растущее в обстановке общественного спроса на смелость, на поиск. А где есть спрос, там будет и предложение. Нет, эти мальчики мне положительно нравятся. В них изначально есть некий бес, нет — бог здорового инакомыслия, без чего философа быть не может. Почка роста нашей социалистической науки — в них.
Человек за стенкой, наверное, показал куда-то рукой. Куда-то мимо меня.
«Пробочное поколение» — стояло в ушах.
Не могу сказать, что отнес обличение и на свой счет. Какой из меня философ! И все-таки. Сидел в купе, вернулся из командировки, занимался потом будничными делами и — лопатками чувствовал окончательность приговора.
Протеста не было. Он предполагает активность действий, что-то яркое, «шум и ярость», по выражению Фолкнера. А тут не то что шума, ярости, тут и возражений-то особых в душе не было. И крыть-то ей нечем: все, в общем-то, так и обстоит на самом деле. (Такая покладистость, она ведь тоже обусловлена все тем же конформизмом. Еще одно свидетельство полного отсутствия здорового инакомыслия.)
Казалось бы, что мне до этого случайного чужого разговора? В одно ухо влетело, в другое вылетело.
Никак не вылетало насчет «пробочного». Застряло.
Ну разве это протест, когда душа где-то там далеко-далеко, самой младенческой частью своей потихонечку — в разноголосице привычных хлопот, команд — тенькает и жалится…
А чего жалится — и сама не знает. Как будто ей отказали в родстве, в котором она и сама-то не уверена: так, седьмая вода на киселе.
И вот тогда-то, в последующих будничных хлопотах и не в ущерб им, а как бы над ними, как возникает в степи никому не мешающее, ничего не затрагивающее, свободно текущее марево, возникла в памяти картина, о которой я хочу рассказать. И которая казалась совершенно забытой, истраченной, зажитой — по аналогии с «заспанной».
Обжигающе-ясно, больно так возникла.
Искала душа аргументы, нащупывая их в той сфере, в которой она, душа, заведомо сильнее разума?
Протестовала — если такую грустную реакцию можно назвать протестом?
Или, напротив, соглашалась? Доводила чужую мысль, чужой приговор до логического корня, до исходного пункта: вот оно, дескать, начало траектории, которая казалась траекторией полета, а на самом деле явилась траекторией падения.
Искала защиты — у детства, как уже не раз бывало?
Картина, как мы с отчимом ломаем хату.
Впрочем, здесь надо сделать еще одно отступление, но теперь уже по совершенно частному поводу.
По поводу глагола «ломаем». Он первым подвернулся под руку, но, употребив его, казалось бы, такой очевидный, погрешил против правды. В те времена — а это было самое начало, самый кончик шестидесятых — в нашем селе уже не говорили «ломать хату».
Говорили: «валять хату».
Глагол — да не тот!
Глагол разрушения, и все же в нем уже появился какой-то вздох, проблеск, отчего он уже стал как бы и глаголом созидания. Уже нет угрюмой бесповоротности, окончательности. Есть лазейка для жизни. Он мягче, в нем толика шутливости, даже какой-то своеобычной удали.
«Валять дурака» — не слышится ли тут что-то сродственное?
Уже хаты валили, валяли для того, чтобы на их месте поставить новые. И подчас не новые хаты, землянки, глинобитные турлучные мазанки (может, отсюда и «валять», ибо ломать по сути было нечего, слишком сильный это глагол для столь утлых, недолговечных сооружений), а настоящие дома. Тоже из самана, но уже облицованные жженым кирпичом, с высокими потолками и двускатными крышами.
Валяй, деревня, — строить будем!
Ломать же — это про другое. Про те р а з в а л и н ы, например, остатки — а иногда это были просто холмы наподобие больших безымянных могил, — которые я еще застал и которые были разбросаны, если можно сказать о пустоте, что она разбросана, там и сям по селу.
Прямо напротив нашего дома, через затравевшую дорогу стояли, доживали свое два обломка некогда мощной глинобитной стены. И по бокам от нашего дома, там, где должна была бы идти, продолжаться улица, возвышались один за другим округло-правильные невысокие холмы. Их основания уже заросли травой, а макушки еще были лысыми. И только по ним, макушкам, видно, что холмы эти — из глины. Что это не степь еще, не земля как таковая, а крестьянские руины, которые легче, быстрее любых других руин становятся степью и землей.
У нас не было соседей ни справа, ни слева, ни спереди, ни сзади. На все четыре стороны — простор, до ближайшей хаты шагать и шагать. Только эти взгорки, многие из которых уже почти и не выделялись над степью — так, припухлость. Село длинное, но домов в нем едва ли не меньше, чем холмов. Дома и могилы домов — вперемешку.
На бледных маковках, как просторные кольца на невидимом пальце, любили нежиться змеи.
Вот эти хаты — л о м а л и. Их ломала рука более скорая и беспощадная, чем человеческая: голод тридцать третьего, военных и первых послевоенных лет.
Но в начале шестидесятых «валять» уже означало строиться.
Валяли землянку, с азартом, с ликованием, и строили — дом. И в валянии, и в строительстве участвовали и соседи, и родня. Мать, когда была здоровой, тоже часто приглашалась на такие «помочи». Все умела делать: и глину месить, и саман штуковать, и мазать. Вальковать — вот еще работка для двужильных. А она такой и была. Ничего лишнего — ни в росте, ни в весе, ни в разговоре. И только жилы — две. Как двойная тетива: мешок зерна, словно заправский мужик, поперек спины несет, а ногу ставит легко, без натуги да еще улыбается молча, радуясь доброй ноше. Сбросит его, распрямится — и никакой остаточной деформации. Как будто и не было его, непосильного, на этих узеньких и таких чутких даже не на ласку, а уже на ласковое слово плечах.
Когда была здоровой.
А на сорок четвертом году тетива беззвучно — так сильно была натянута — оборвалась.
Мать стала желтой тенью матери. Кожа да кости. Обтянутое лицо, враз поредевшие, посеревшие, потерявшие теплый блеск волосы. Были волосы тонкие, рыжеватые, с веселым подсолнечным отливом, в сырую погоду по-девчоночьи курчавившиеся на концах, а стали — жалкий пучочек серой, пыльной амбарной паутины. Руки, доселе не знавшие усталости, все чаще повисали как плети, удивленные собственной немочью. В течение нескольких месяцев ссохлась, как старый, продавленный кокон. Жизнь, влажно блеснув бесплотными крылышками, вылупилась и выпорхнула.
Жизнь выпорхнула, а душа еще задержалась. Лампадно светились глубоко провалившиеся глаза. Обычно маленькие, серенькие, ничем особенным не примечательные — два пестреньких воробьиных яичка, ласково и беззащитно улыбавшиеся навстречу каждому из своих меленьких гнезд, — они вдруг стали пугающе значительны. Наверное, сам провал, в котором они оказались, изменил угол падения солнечного луча. Так бывает с заброшенными степными колодцами. Заглянешь в них, а из их дымной глубины ударит такой сноп солнца, что ты поневоле вздрогнешь и зажмуришься. Так и тут. Солнце ли преломлялось, душа ли зацвела на излете, но такая горячая, медовая волна хлынула из этих ранее обыкновенных глаз, что мы, дети, ощущали, осязали ее кожей, купаясь в ней, как в слепом дожде.
Взрослые же, встречаясь с нею взглядами, отводили глаза. Видимо, о т т у д а уже заговорило, жарко и бессвязно, нечто такое, чего не боялись — по неразумению — мы, дети, но что смущало, тревожило людей более сведущих, чем мы. Впрочем, я уже понимал, что происходит. Двое же других материных сыновей, совсем малые — четырех и семи лет, — даже радовались происходящим переменам. В кои-то веки мать, вечная подъяремная невольница работы, всецело принадлежала им. Была свободна как птица.
Часами сидела с ними, расходуя на них последнее тепло.
А иногда не удерживалась и начинала что-то делать по дому, по двору, пытаясь отстранить от этих дел меня. Ходила уже с трудом — а ведь недавно еще летала над землей — и при этом держалась рукой за правый бок. Ухватит кожу в кулак — а кожа, как и платье, стала для нее просторной, будто с чужого плеча — зажмет что оставалось сил и ходит так, делает что-либо одной, левой, рукой.
Ей казалось, что так у нее меньше болит.
Сама того не понимая, отвлекала на кожу куда более нестерпимую боль.
Делала что-либо, зажав, стиснув в кулаке даже не болезнь, а душу — чтоб удержать, чтобы не выпустить.
Только на животе платье почему-то топорщилось. Только живот на исхудалом теле выделялся неровным и неловким комком. Она сама его стеснялась и всячески прикрывала рукой. Помню, однажды навестившая ее соседка — мать уже почти не поднималась с постели — наклонилась к ней и спросила что-то на ухо.
— Да нет, — слабо улыбнулась та в ответ. — Что ты, Нюся…
…Гладила, нежила детей, расходуя на них, как голодная волчица, физическое тепло, а другой рукой гладила, баюкала живот. И та, другая рука, наверное, забывалась, считая, что и под нею в утробе — ребенок. Может быть, даже девочка, которую мать так ждала, на которую надеялась, на которую решилась, когда была беременна в третий раз. И когда опять родился сын.
Баюкала или — молила. Болезнь стала божеством, воплощеньем своевольного, карающего — за что? — бога, и она ее молила. Не за себя — за них.
За нас.
Опухоль.
Нельзя сказать, что дом наш стоял на окраине. До околицы было еще далеко. Но, как я уже говорил, находился он, по существу, не на улице, а на обширном пустыре. И без того пунктирная, улица перед нашим домом делала такую затяжную паузу, что дом торчал как зуб в старческой десне. После «паузы» опять начинались дома, тоже довольно редкие, затем они сходили на нет, и открывалась совсем голая степь.
Когда-то село было большим, многолюдным, осененным садами. Потом голод, война, опять голод, непомерные налоги на каждое фруктовое дерево — я еще помню, как трепетала мать, завидев в окно как-то бочком, крадучись приближающегося к дому агента по сельхозналогам Манина, чистого, совсем не сельского вида человека в костюме, с пузатым портфелем под мышкой, в очках («Четырехглазый», — звали его в селе и за очки, и за всевидящую осведомленность обо всем, что творится-размножается в каждом деревенском дворе), хотя трепетать, по правде говоря, было не за что: дети, слава богу, налогом не облагались, — все это крепко проредило село. Раздело. Исчезли многие хаты, пали под топором сады. В селе, всегда лежавшем меж двух миров, там, где плодородные ставропольские степи, истощаясь, переходят в Прикаспийскую полупустыню, продолженную за морем совсем уже бесплодными, грозно бескрайними пространствами, резко выперло глиняное, глинобитное, азиатское начало.
Таким я застал свое село.
Обособленность, одиночество нашего дома доставляли много неудобств. Далеко ходить в школу, в магазин, даже по воду с коромыслами не меньше часа ходу. Клуб. Все было далеко, в центре. В селе уже было электричество, провели радио. И только мы жили и без электричества, и без радио. Слишком много столбов требовалось бы поставить — и все из-за одной хаты.
Лес в наших степных, засушливых краях и сейчас в цене.
Честно говоря, я лично от этих неудобств не страдал.
Да разве ж это неудобство: вышел во двор — и все вокруг твое! Не надо ни с кем делить ни «улицу», ни всю мальчишескую поднебесную, начинавшуюся сразу за твоим порогом.
Была овчарка, был закадычный друг, живший относительно неподалеку, а значит, было все.
Степь кормила нас: мы косили молодую сочную траву и возили ее в мешках на велосипедах домой — скотине. Зимой она же обогревала нас: поздней осенью мы собирали в канавах набивавшийся туда курай и тоже тащили домой — он жарко трещал в печи, пламя его гудело так мощно и сладостно, что казалось, будто оно не просто обогревает, а еще и приподымает дом и он, мягко покачиваясь в такт пламени, парит над холодной, унылой землей. На месте исчезнувших хат пригорки, а на месте былых огородов, окруженных некогда чуть ли не крепостными рвами, голые, пологие канавы. Все, что неслось по степи — а созревший, оторвавшийся от земли курай, перекати-поле, и впрямь несся, гонимый осенним ветром, вскачь, подпрыгивая и падая, как подранок, — все оказывалось, как в фильтре, в этих заброшенных канавах.
Надо ли говорить, что степь и развлекала нас. Чего стоили одни погони за зайцами! — цепочка выстраивалась так: заложивший уши зайчишка кувыркался над степью, как перевернутая запятая, за ним на вполне безопасном расстоянии для обоих несся, визжа от восторга, пес, потом, перекрывая воплями собачий лай, бежал я, а за мною спотыкался мой закадычный друг, бывший на два года моложе меня.
Мы все были бусинками на одной нитке — на упругой нитке азарта, восторга и еще — боязни, как бы погоня и впрямь не увенчалась кровопролитием.
До чего, слава богу, дело ни разу не дошло.
В весенние дни, когда степь ненадолго заливалась тонкой и нежной глазурью разнотравья с многочисленными млечными скоплениями ромашки, нам казалось, что земля и небо и в самом деле поменялись местами и мы барахтаемся в небесах где-то рядом с ополоумевшими жаворонками.
Овчарка, закадычный друг…
У меня была мать, а в таком случае какая разница, где жить?
И не столь уж плоха была керосиновая лампа. Почему-то больше помню даже не вечера, а утренние часы в доме. Наверное, потому что по вечерам ложились рано, а утром мать поднималась чуть свет, и я вставал вслед за нею. Взял моду учить уроки по утрам. Она растапливала «грубку» — так в селе называли печь, — управлялась по хозяйству. В настывшем за ночь доме волнами прибывало тепло, я сидел за начисто выскобленным дощатым столом под золотисто-спелым — с него как будто кожицу содрали, и он светился самим нутром, само́й нежной абрикосовой мякотью — фонарем семилинейной керосиновой лампы, стоявшей тут же, на щелявом столе. Холка сугроба рафинадно светилась в черном окне. Управившись по двору, со скотиной, мать окончательно перемещалась в хату. Вымыв руки, подсаживалась ко мне. Лепила вареники, пельмени. Просила:
— А ты почитай вслух. И я между делом послушаю.
Мать была неграмотной, и я знал, что она не хитрит, не проверяет меня — я и так учился неплохо, — что ей и впрямь интересно. И читал вполголоса, чтобы не потревожить братьев, сладко сопевших где-то за пределами дрожавшего в центре хаты светлого круга, сияющего спицами обода — там, в теплой, домовитой темноте.
Где-то там, в темноте, оставался и отчим — в те редкие дни, когда он вообще бывал дома. И я в те минуты как никогда остро и счастливо чувствовал, что, заключенные в золотое колечко света, мы с матерью составляем в этом мире одно неделимое целое. Она — моя. И я — ее.
Может, поэтому и вставал вслед за нею до света — пока окружающая жизнь докучно и властно не посягала на нее.
Так и вплывали мы с нею в утро, ведомые керосиновой лампой, как бакеном, покачивающимся на развидняющихся глубинах наступающего дня.
Будучи здоровой, мать тоже не сетовала на отдаленность нашего дома от жизни села. С отчимом у них нередко случались нелады, ибо, напиваясь — а напивался он таки часто, — он как бы вновь впадал в контузию, полученную на войне: скандалил, ревел благим матом, крушил все налево и направо. В общем, лучше жить подальше от чужих глаз.
Вообще-то она не состояла с ним в зарегистрированном браке. Так, приняла невесть откуда появившегося в селе — прямо с войны — в пятьдесят первом кочевого сапожника — вот и вся регистрация. Катился-катился, как и перекати-поле, пока не зацепился нечаянно за наш на семи ветрах господствовавший дом. Зацепился, но довольно часто исчезал, отбывая на лесоповал за неуплату налогов или алиментов — какие алименты с перекати-поля! — другим, законным женам, которых у него, оказывается, и до войны и после войны было немалое количество. Однажды в нашем доме даже появилась юная, совершенно нездешняя девушка. Таких «нетутошних» в нашем селе не было и быть не могло — это я знал абсолютно точно! И в гербарии сегодняшней памяти она осталась так, как остается у человека чей-то взгляд: ничего вещественного, а вместе с тем помнится, не стирается. Не одежда, не выражение лица, а ощущение д е в и ч е с т в а, той нечаянной весенней свежести, которая как бы озонирует все вокруг себя и от которой в груди у тебя поднимается холодок, — вот что осталось.
Пришло, появилось в нашем дворе — я-то заметил ее давно, но никак не смел предположить, что э т о движется в наш двор. Думал, чиркнет по небосводу и — растает. И потому следил за ее приближением, разинув рот и не в состоянии вымолвить слова: мол, смотри, мам, кто к нам идет. Подошло к возившейся по двору матери, поздоровалось — мать изумленно, даже с некоторым испугом смотрела, разогнувшись, на гостью, — сказала:
— Меня зовут Света. Я — младшая дочь Василия Степановича Колодяжного. Вы позволите мне повстречаться с ним?
Мать застыла как громом пораженная. Потрясенная не столько фактом существования «младшей дочери Василия Степановича», сколько тоном обращения к ней «Вы позволите…» — так ее еще никогда не просили.
У меня же мелькнуло: значит, есть еще и старшая дочка!
— Я его почти не помню. Он ушел на фронт, когда мне было три года. А с фронта он к нам уже почему-то не вернулся, — продолжила, по-своему истолковав материно замешательство.
В этих словах, сказанных просто и грустно, было что-то такое, что позволило моей матери, обычно робкой и нерешительной, обнять девчонку за плечи и повести в дом, приговаривая:
— Ну что ты, доченька, что ты…
И так они пошли, так доверчиво приклонились друг к дружке, что пойти за ними следом я не решился. Так и остался во дворе. Как пень.
Я ведь тоже своего родного отца не помню. Не видел — хотя он и уходил не на войну.
А отчима-то как раз и не было. Находился в очередной отсидке.
Несколько дней горожанка прожила у нас. Ей стелили на моей кровати, а меня спровадили на пол. Тем не менее я был счастлив.
Да и весь наш дом на эти несколько дней как-то посчастливел.
Мать, стараясь угодить гостье, пекла свои знаменитые оладьи. Их знаменитость, а точнее сказать, «знатность» заключалась в том, что испеченные оладьи укладывались высокой горкой в огромную чугунную сковороду, заливались доверху густой — палец не провернешь — атласистой, с медовым отливом (не зря корову Ночку у нас потом, когда матери не стало, не просто купили, а прямо выхватили из рук) сметаной и ставились на некоторое время в русскую печку.
Их еще не вынимали из печи, а весь дом уже и даже половина улицы (то бишь мой закадычный друг, который в такие моменты бывал тут как тут) знали, чувствовали, обоняли, какие замечательные у Насти оладьи!
А вынет их мать, протомившиеся, изошедшие янтарной юшкой, поставит на стол, откинет крышку — надо видеть в ту благословенную минуту и ее, стряпухино, довольство, и наше, едоков, отменное рвение.
— Да вы просто кудесница, тетя Настя! — воскликнула, захлопав в ладоши, горожанка. — Можно я вас расцелую?
Мать аж зарделась от такой похвалы. Вот когда, думаю, и зародилась в ней мысль о девочке, о дочке, о желаннице — она тогда как раз ждала третьего.
А девчонке хоть бы что. Стремительно поднялась, чмокнула мать в правую щеку — та и опомниться не успела, — уселась на место и принялась по-городскому, с вилкой и ножом, накладывать оладьи в тарелку перед моим младшим братом.
Перед ее младшим братом, как считала, наверное, она.
Да я и не против! Господи, я очень даже за: пусть он, сопливый, будет и ее, и мой.
Мне очень бы хотелось иметь такую красивую, такую легкую, такую юную и праздничную сестру. Желание, атавистически сохранившееся до сих пор. Когда сам уже взрослый, лысый человек с многочисленными дочерьми. Всю жизнь хотел иметь старшую сестру, но когда не стало матери, а следом за нею и отчима, сам превратился для братьев не только в старшего брата, но и в старшую сестру. И в брата, и в сестру — во все.
«Я и баба и мужик, я и лошадь, я и бык…»
Удивительно быстро освоилась она в нашем доме! Каждому из нас нашла ласковое слово. Даже овчарке.
— У-у, какой стра-ашный, — выпела изумленно и, присев на корточки, бесстрашно почесала за ухом безропотно подставленную свирепую морду. Не боясь запачкать свои нарядные платьица, а их в ее дерматиновом чемоданчике, которые в те времена называли «балетками» и которые были тогда последним писком моды, оказалось несколько, пыталась помогать матери: заметила, что та в «интересном положении». Но мать мягко отстраняла ее. Все-таки наша деревенская работа и впрямь не для ее лилейных рук, не для ее стройных, козьих, изящными туфельками подкованных ножек — не случайно-таки она приехала с балеткой! Играла со мной, неуклюже и счастливо робевшим в ее присутствии восьмилетним мальчишкой.
А больше всего возилась с моим братом, которому только-только исполнилось три года и который ковылял за нею повсюду, как веревочкой привязанный.
Видимо, ей давно хотелось повидать отца, и его отсутствие не на шутку огорчило ее. (Мать почему-то не сказала, что он в тюрьме, а сказала, что его надолго услали в командировку — какая командировка, если он и в артели-то никакой не состоял, так, кустарь-одиночка, объект неусыпного надзирания со стороны четырехглазого Манина?) Но и это не омрачило ее пребывания в нашем доме. Она как-то спрятала разочарование, справилась с ним. Даже сами по себе мы были ей интересны, чувствовали это и старались, как могли, скрасить ее неудачу.
В нашем большом доме впервые звучал девичий смех. Он рождался так, как зарождается в голубятне звучный переплеск голубиных крыльев — ни с того ни с сего. Там и сям. Так и она: улавливала какое-то ей только слышимое дуновение и — смеялась. Да так заразительно, что начинал смеяться и мой — наш! — младший брат, и я (потом не мог остановиться, аж слеза проскакивала). И даже мать начинала смеяться. Обычно только улыбалась, тихо, робко, да при этом еще почему-то прикрывая губы ладошкой. А тут хохотала в полный голос. Я сам с удивлением обнаружил, какой у нее красивый, полновесный, в несколько ярусов смех.
Вот ведь как получается: приехала и играючи извлекла у матери смех. Самый музыкальный, самый заветный, самый счастливый звук. А мы-то — обормоты, мужичье неотесанное…
Мне она предложила побегать наперегонки. Я отказался. Во-первых, знал, что обгоню ее, но эта победа не принесет мне ровно никакого удовольствия. В ее присутствии мое обычно болезненное тщеславие дремало, да и что-то еще тут примешивалось.
Во-вторых, мне казалось, что это слишком утилитарное для нее употребление — бегать со мной наперегонки. Для этого существует Митька Литвин, тот самый, закадычный…
«…И ножкой ножку бьет» — вот ее истинное назначение.
Неделю прожила она у нас. Когда уезжала, мать дала ей корзинку, в которую уложила сотню куриных яиц. Уложила и сверху обвязала корзину своей новой, ненадеванной хлопчатобумажной косынкой.
— Свои, домашние…
Не думаю, что девчонке улыбалось ехать с шиковой балеткой в одной руке и с этой деревенской корзиной в другой. Но она не отказалась от корзины — чтоб не обидеть мать. Мы провожали ее до грейдера, на автобус, проходивший вдоль нашего села раз в сутки. Мать и гостья по очереди несли младшего брата. Я следовал за ними с балеткой в правой руке и с корзинкой в левой. Надо отметить, что балетку нес с куда большей предосторожностью, чем корзину, хоть та и была с яйцами. Да и весила балетка, признаться, легче.
Впрочем, так и должно быть!
Ровно ничего не весила балетка, которую я бережно нес в правой руке!
За мною, норовя потрепать меня за штанину, трусила овчарка. Замыкающим являлся все тот же Митька Литвин, который опоздал к выходу процессии из дома, но теперь целеустремленно догонял нас, ибо никак не мог пропустить такое важное событие.
Подошел автобус, с усилием волоча за собой хвост нашей тяжелой, камчатной деревенской пыли. У нас его называли «пассажиркой» — смешно, не правда ли? Помните эти востроносые утюговатые автобусики с плоской жестяной крышей и частыми-частыми, но почему-то без стекол окнами?.. И дождь, и ветер, и пыль — все продувало его насквозь. Навылет. Шофер с удовольствием раскрыл дверь перед нашей гостьей — видать, обрыдли ему наши вечные старухи, непоседливые, как переезжие свахи. Чмокнула она каждого из нас — даже Тузику, да что Тузику — даже Митьке Литвину досталось.
Помогли мы ей взобраться, вернее, помогали корзине, а она впорхнула, едва коснувшись железной, с выдавленными пятаками подножки. Уселась она, и переполненный автобус двинулся с места ретивее прежнего, как будто в нем не прибыло весу, а наоборот, убавилось. Вновь погребенные пылью, мы сразу потеряли «пассажирку» из виду, но махали, махали. И девчонка нам, казалось, машет, машет.
Когда возвращались, брат достался мне. Я тащил этого прожорливого битючка и думал: ну, брата ладно, он все-таки и ее брат, а вот зачем она Митьку целовала? Тот, как бы чувствуя свою вину, понуро шел рядом.
Лучше б еще раз поцеловала меня.
Мать кончиком платка вытирала глаза — пыль, наверное, застряла.
Вспомнилось: когда гостья, прощаясь, целовала мать, они опять приклонились, как бы сказали у нас в селе «притулились», друг к дружке, как и в первый раз, когда мать уводила ее в хату.
Как две сироты.
Больше я младшую дочь отчима ни разу не видел.
В общем-то, хорошо, думал я тогда, что она приехала к нам (по окончании десятого класса) в отсутствие отчима. А то еще, не ровен час, увидела б его пьяным, бешеным, матюкающимся. И что б, какую память повезла бы тогда домой?
Мне кажется, и мать моя тоже так думала, возвращаясь от грейдера домой.
А вообще он, отчим, был разным. Не только бешеным. Помню джемпер, который он мне привез в очередной раз откуда-то с Севера. Джемпер был импортный, яркий, тонкой вязки, какие-нибудь зарубежные пай-мальчики ходили в таких в школу. Для нашей же деревенской жизни он был слишком сочен, я сам себе казался в нем цыпленком и носить джемпер отказался, чем обидел и отчима, и мать. Еще он привез из мест отдаленных две картины. Настоящий холст, настоящие масляные краски. Тайга — деревья тоже как настоящие, — и на переднем плане пенится холодный-холодный ручей. На второй тоже лес, только погребенный в снегу. Лишь крохотная белка, как искра жизни, проскакивает между окоченевших ветвей.
В самом уголке обеих картин красовалась витиеватая подпись.
«Скотленд-Ярд» — прочитал я по слогам.
Почему «Скотленд-Ярд»? Какой такой «Скотленд-Ярд»?
Отчим был человеком немногословным. Сказал только, что за этого «Скотленд-Ярда» он целую неделю отработал на лесоповале. За двоих. Такова, как я понял, стоимость искусства.
Картины были водружены в хате, и захаживавшие к нам односельчане с уважением смотрели на них — столько леса они никогда не видели.
Так вот, будучи здоровой, мать не сетовала на отдаленность нашего дома. Но когда заболела, у нее появилась навязчивая идея: переехать поближе к центру. Вроде она и болезнью и этой идеей захворала одновременно.
Ей, наверное, казалось, что, переедь мы к центру, к людям, и нам, ее детям, будет легче жить потом, после — без нее. А так умрет она, и люди нас забудут здесь, на отшибе. На отчима она не надеялась.
Почему-то с самого начала знала, что умрет.
Мне же это сперва и в голову не приходило — что она может умереть. Потому что до этой своей хворобы она и не болела-то ни разу.
Так или иначе, она торопилась с переездом. Успеть. Продала свинью с поросятами, овец, сдала бычка, наверное, у родичей заняла — даже не знаю толком, где она раздобыла деньги и сколько стоил этот дом, — и все-таки сумела. Успела. Купила дом почти в самом центре села, прямо напротив школы. Из окна этого дома были видны окна класса, в котором я учился.
Думаю, что дом стоил недорого.
Он был из тех, что на вид ничего, «выгляда́ет», как говаривали в таких случаях в нашем селе. А на ощупь, колупни его поглубже, и окажется, что к дому этому нужно покупать еще и руки. И крыша — а это был именно дом, а не землянка, с чердаком, с высокой крышей — просит перекроя, и надворные постройки, и даже тын вокруг огорода. Огород тоже большой, но неухоженный, запущенный, часть его вообще не использовалась, так, растет какой-то самосев.
Крепкому, хозяйственному мужику надо было покупать этот дом. И делать из него д о м. И дом и двор.
Собственно говоря, несколькими годами позже, когда я приехал в село уже молодым, не очень удачливым горожанином, погостить, я и увидел этот (возможный) дом и этот (возможный) двор. У дома укрепили фундамент, облицевали его кирпичом, на крыше содрали шифер — я еще латал его вскоре после новоселья — и заменили железом, сиявшим на солнце до ломоты в глазах. И подвал обновили, и летнюю кухню, и сараи во дворе, и «загату», ограду вокруг огорода, поправили. Провели воду, в огороде не лебеда буйствовала, а полезные растения.
Хорошему хозяину достался после нас этот дом.
Да, мать, судя по всему, купила его недорого, а хорошему хозяину он и вовсе достался за бесценок: дом, как и корову, продавали наспех.
Он стоит на бойком месте — только железо за эти годы вылиняло, а так ничего, дебелый еще домок, — и когда бываю в селе, раз в четыре-пять лет, так или иначе прохожу или проезжаю мимо него. И ничего, не тянет меня зайти, попроситься внутрь. Грустно — да, но сердце не переворачивается. А вот когда случится оказаться ненароком (а иной раз ноги сами ведут туда) т а м, на том пустыре, где мы когда-то жили и где сейчас вообще шаром покати: ни развалин, ни деревьев, одна полынь на все четыре стороны — ох как же заноет сердце, как же оно там заворочается.
Полынь да два бугорка: один от нашего, а другой от дома Митьки Литвина. От тех, прежних бугорков, и следа не осталось. Все сравнялось, улеглось, перегноем подернулось.
Тот, давно несуществующий дом и в памяти встает во всех подробностях — я б его и сейчас нарисовал, не отрывая пера от бумаги, как нынче учат писать первоклассников. И снится во снах — как будто душа навек заблудилась в том неказистом жилье. А этот, существующий, очень даже существующий, не тянет. Не греет.
Наверное, потому что там, на пустыре, мы жили. А здесь, в новом доме в центре села, умирали.
Да, тут, в новом доме, и я понял, и все мы поняли: мать умирает. Всего полгода продержалась она после переезда. То были и полгода агонии для всей нашей нескладной семьи. Матери не стало, и семьи практически не стало. Окончательно исчез отчим. Меня с братьями разметало по разным детским домам и интернатам. Вместе, под одной крышей мы больше так и не собрались…
Стало быть, переехали.
Окончательно переезжали в начале лета. Совхоз выделил бричку с парой лошадей. Ездовой нам не требовался: я к тому времени уже имел навык обращения с лошадьми. Наверняка мы делали несколько ездок. Вероятно, вначале перевезли живность, оставшуюся после распродажи. Да и скарба, пусть копеечного, скопилось немало. Был и не совсем копеечный. Например, старинный разборный шкаф из чинары, сработанный не только без гвоздя, но и без клея. Тонкие стены, шишечки, красивая строгая резьба… Я любил засунуть голову внутрь и вдыхать стойкий запах вечности: знал, что шкаф, старинная горка, достался матери от ее матери, а материной матери от ее матери. А дальше — цепочка утеряна.
Вечность пахла корицей и ванилью, использовавшимися матерью при выпечке пасхальных куличей. Стало быть, пасхой. И еще — сухим-сухим, нездешним деревом: так, наверное, пахли приносимые паломниками-пилигримами кипарисовые ладанки из Палестины.
Где теперь этот шкаф? И где тот скарб?
Сохранилось только одно — льняная скатерть. Купленная когда-то «на яички» — то есть в обмен на сданные в сельпо куриные яйца, — она была материной гордостью. Накрывалась на стол только по праздникам, при гостях. Сейчас, если не ошибаюсь, мои дочери используют ее, вылинявшую, порыжевшую, при глажке белья. Это у нее теперь единственная возможность попасть на стол. Ума не приложу, как, каким чудом она сохранилась?
Дочки и не знают, на чем гладят.
Мне же больше всего запомнилась последняя ездка.
…Мне запомнилось, что мать почему-то этот путь — от старого дома до нового — решила проделать пешком. Как ни уговаривал ее сесть в бричку — а место там нашлось бы — не согласилась.
— Я сама. Я своими ногами, — сказала. — Ты только не торопись, сынок.
Взялась одной рукой сбоку за борт брички и пошла. Потихоньку, босая. «Давно не ходила босиком, хочу пройтись — пусть ноги отдохнут», — тоже сказала с грустной улыбкой.
Одна рука на бричке, другая на животе, и босые ноги в теплой пыли.
Я тоже шел рядом с бричкой, придерживая рукой вожжи. Средний брат, который к тому времени уже пошел в школу, важно шагал с другого бока телеги.
Даже лошади подлаживались к медлительному шагу матери.
Лишь самый маленький, третий, которому еще не исполнилось и пяти лет, восседал на возу, как раз на чинаровой горке, болтал ногами и вообще радовался тому, что сидит вот так, выше всех, что едет, радовался переезду, переменам — всему. Мать ласково посматривала на него. Кроме младшего, никто не веселился.
Так мы и ехали.
Иногда мать просила остановиться. Она отдыхала, я поправлял поклажу, вразнотык торчавшую из брички. Кони сбивались на обочину и вяло пощипывали молодую траву. День завершался, нежарко, мягко, прощально. Мы выбрали дорогу, бежавшую не по улице, а по широкой балке, разделявшей две — их и всего-то было две — сельские улицы. Она и короче, и безлюднее. Так мы по ней и двигались, скрытые пологими склонами балки от любопытного глаза.
— Наверное, я умру, — тихо, только мне одному, но так, что я расслышал это и за скрипом колес, и за лошадиным фырканьем, и за радостным щебетом малыша, сказала мать.
Волна горячей, нежной жалости захлестнула меня, я на ходу обернулся к ней, мы какое-то мгновение смотрели в глаза друг другу, но ни она больше ничего не сказала, ни я ей ничего не ответил…
Переезжали мы почему-то без отчима, а вот старый дом после я ломал вместе с ним.
…Все-таки мы с ним не «валяли» наш старый дом, а ломали его. Не валяли, потому что не собирались на его месте ставить новый. Да мы и не в состоянии, не в силах были вдвоем развалить его так, как то требовалось бы для нового строительства. Можно было бы, конечно, попытаться продать его, но, господи, кто б его купил у нас? Кто б захотел поселиться на пустыре?
И вот мы его ломали — с той единственной целью, чтобы изъять, выдрать из его глинобитного нутра деревянные ребра и перевезти их на новое место жительства. Чтобы пустить их там в дело: на починку подворья, на другие нужды.
С паршивой овцы хоть шерсти клок.
Правда, он при всем при том паршивой овцой не был. Старым — да, достался матери еще в тридцатых, в голод, когда она осталась сиротой. Конечно, он был помоложе чинарного шкафа, но корни его тоже уходили далеко вглубь. Я в точности не знаю, в каком колене его строили, но на момент строительства, сооружения, так сказать, он, вероятно, был одним из лучших домов в этом селе.
Сложен из крупного, круто замешенного на полове самана, универсального степного материала. Основательный, я бы сказал — дородный дом. В нем были сени с сараем под одной крышей — в сарае стояла корова с теленком — и три просторные комнаты, одну из которых мы за ненадобностью использовали под чулан. Закром, укромные затишки для копен соломы и сена — все было при нем.
Лично мне, как и любому мальчишке, больше всего нравился в доме чердак, или — «потолок», как его называют в этих краях. Во всю длину дома, высокий — в центре его я проходил, едва пригнув голову. Сухо, тишина. Из двух слуховых окон с противоположных концов тянутся два светлых столба. Но, постепенно истончаясь, редея, не дойдя до середины, они пропадают совсем. Растворяются в темноте и тишине. С тех пор как научился взбираться на чердак, что стоило немалых трудов, ибо дом был высоким, я осваивал его мелкими шажками, как соседнюю небезопасную планету. Поначалу просто сидел на краешке, возле слухового окна, на солнышке, там, где все было светло и нестрашно, где лишь в углу залегали неясные тени. Потом стал по лучу света, по самому его стрежню доходить почти до середины потолка. Потом отважился на то, чтобы, крепко-крепко зажмурив глаза — так мне казалось безопаснее, — пробегать эту коварную, полную непроницаемой, прямо-таки вяжущей тьмы середину. Бежал, вытянув руки вперед, и кончиками растопыренных пальцев почти видел, почти осязал липко кишевшую к е м - т о пустоту. Бежал, пока не попадал в объятия второго, встречного потока света. Пока не почувствую его — кончиками растопыренных пальцев, лицом, крепко зажмуренными глазами. Попадал в этот встречный поток и, слыша удары собственного сердца, кувыркался в нем, как мотылек.
А однажды на полпути к нему запнулся обо что-то и упал. Растянулся — вытянутыми руками вперед. Похолодел, втягивая голову в плечи: амбец! Попался!
Но ничего, обошлось.
Я так и не дорос в собственном доме, не осмелел до того, чтобы обшарить все укромные углы потолка. Не успел.
На потолке было так замечательно прятаться — и от матери, и от братьев, нянькой которых я был и которые, признаться, порой крепко надоедали мне, и от закадычного друга Митьки Литвина, и от всех-всех. И люди, и звуки, и сама будничная, не очень веселая жизнь — все остается там, внизу. А ты, вознесенный, паришь. Паришь и физически и умственно. Витаешь мыслями бог знает где. Ну, например, году в сорок третьем, где ты, замечательный красноармеец Сергей Гусев, лежишь в прифронтовом госпитале, раненный в руку, нет, все-таки лучше в ногу, пониже колена, и замечательной красоты медицинская сестра склоняется над твоими орденами и медалями. Потом она учит тебя ходить. А потом, окрепнув немного, ты оставляешь ей на подушке записку: мол, встретимся в шесть часов вечера после войны — и в сумерках спускаешься на простыне со второго этажа военного госпиталя… Ну что вы, кто же убегает на фронт через дверь.
Медицинская сестра поразительно похожа на младшую дочку отчима.
Вот почему еще я не торопился обследовать все закоулки потолка — потому что самые тайные тайны все равно рождались и проживали не там…
Со временем дом, конечно, ветшал. Камышовая крыша, густо поросшая травой, уже проминалась под ногами. Но мать, как могла, ходила за ним. Каждый год мазала, подправляла, поддерживала. И дом как бы остановился в одной поре: ни туда, ни сюда. Как то бывает иной раз и с зажившимся человеком. Хотя «коноводом» уже давно не был: на селе уже появлялись дома, облицованные кирпичом, первые шиферные крыши забелели на улицах. У других уже появились деревянные, крытые масляной краской полы, мы же с матерью только-только застелили земляной, глинобитный пол толем. Дом отставал. Укатали сивку крутые горки — то было видно уже невооруженным глазом.
Хотя, в сущности, отставал не он — отставали мы, его обитатели.
И все же мы с отчимом с ломами, лопатой и топором выглядели перед ним, пустым, но еще могучим, как два злобных насекомых. Нам предстояло его сокрушить. Начали с оконных рам и дверей. Двери снимали с петель, притолоки выбивали топором. Собственно говоря, для отчима это занятие было не внове. Напиваясь пьяным, регулярно высаживал то притолоку, то оконный переплет — ударом кулака. Кулак у него был железный.
— Десятым сталинским ударом! — кричал он, если мы запирались, пытаясь не впустить его, пьяного, в дом. — Десятый сталинский удар! — в бешеном азарте — своей обреченной попыткой мы только раззадоривали его — восклицал он, и страшный треск прокатывался по всем трем комнатам дома.
Я еще помнил, как плакал мой родной дядька — для меня тогда вообще было открытием, что такие здоровенные, заскорузлые мужики могут плакать, размазывая слезу кулаком, — когда объявили, что Сталин помер. Принесший нам эту новость дядька сел за щелявый стол и уронил чубатую голову на руки. Так плачут в двух случаях: либо от нестерпимой мальчишеской обиды, либо по потерянной России.
Как ни напуган бывал я, прижимавшийся к материному подолу в последней комнате, а краешком сознания все же отмечал, сколь причудлива закономерность употребления имени вождя в нашем доме.
Кто бы мне сказал тогда, что и сам-то я появился на белый свет во многом благодаря вождю.
Есть жертвы культа личности, а я вот — живой плод.
Ибо, не будь тогдашнего беззакония, мой отец ни за что б не очутился, пусть даже на такое непродолжительное время (его оказалось достаточно, чтоб посеять меня), столь далеко от родных мест и ни за что бы не встретился с моей матерью. Их траектории не соприкоснулись бы — ни на миг, которого оказалось достаточно.
«Посеять» — этот глагол в нашем селе чаще употребляется в значении «потерять»…
Траектории соприкоснулись на миг, потому что отца вскоре отправили еще дальше — на восстановление угольных шахт.
Он, судя по всему, даже не знал, что посеял. И всходами — не интересовался…
Покончив с дверями и окнами, мы взобрались на крышу. Предстояло разметать ее, чтобы добраться до бревен. До тех самых толстых, сухих ядреных балок, что, сцепленные железными скобами, мощными треугольниками, стояли на чердаке, создавая жесткий каркас всей крыше. На этих поперечных балках я и любил сидеть и видеть сны наяву. Разметать было непросто. Камыш хоть и почернел, подопрел местами, но покоился на балках и стропилах одной тяжелой, крепко улежавшейся массой. Вдобавок еще и придавленной многократными слоями глины. Сколько раз ее мазали, эту старую крышу! Да еще добавляли в глину половы, сырых кизяков — словом, крыша буйно поросла травой и пшеницей, тем, что составляло пропитание местным коровам и телятам, чьи горячие лепешки без промедления подбирались в ведро: это был своего рода цемент, теин, придававший мазке должную крепость и влагостойкость. Впору косой косить или корову тащить для подмоги. Все это — и зеленый покров, и глина, и мертвый камыш, связанные проволокой камышовые маты, никак не хотело покидать насиженного места. И лом, и лопаты, и даже топор — все пошло в ход.
Отчим сбросил рубаху. Он скаргател зубами — то пыль, тучей висевшая над нами, скрипела на зубах — и шепотом, чтоб я не слыхал, матюкался. Вошел в раж: не только камыш, но и горбыли, стропила — все летело клочьями. Зная, что он совершенно трезв, я поначалу даже струхнул маленько: уж не контузило ли его вторично?
Он не валял этот дом. Он его крушил. Он раздирал его зубами, как раздирают ненавистную плоть. Он словно вымещал на нем что-то.
Стыдно признаться, но мало-помалу эта истерия разрушения овладела и мной. Конечно, я не шел ни в какое сравнение с отчимом. Какая там убойная сила у тринадцатилетнего сосунка. Так, слону дробина. Но запал был всамделишным. Всамделишно сумасшедшим. Особенно когда мы проникли через крышу к нутру, к чердаку. Когда стали потрошить его — вот когда я смело добрался до всех его укромных закоулков, до всех его паутинных, пазушных тайн! Вывернул их наизнанку — ничего таинственного…
— Десятым сталинским ударом! — вопил я, пытаясь обухом топора выбить балку из паза.
Еще куда ни шло — отчим. Человек контуженый, человек, ни к селу, ни к дому нашему не привязанный. Но что мог вымещать я? Родившийся под сенью этого дома и проживший под нею лучшую часть своей жизни? Почему поддался этой волне — ненависти и уничтожения и был даже злее отчима, как волчонок, осклабившийся щенок подле матерого волка? Что за сила ввергла меня в этот яростный раж предательства?
С кем квитался — и за что?
Два дня крушили дом. Когда вечерами доплетались домой, вымотанные, пропыленные, в ссадинах и кровоподтеках, будто из драки, и мать, и младшие братья с некоторым испугом смотрели на нас. Сторонились нас, как убийц.
— Ну как там? — робко, с затаенной болью спрашивала мать.
— Работаем, — неохотно буркал отчим.
Как будто то, что мы делали, можно было назвать р а б о т о й.
Мы, поливая друг другу, смывали пыль, ели вяло, без аппетита — теперь в доме было и радио, и электричество сияло над головой — и валились спать. Как убитые.
К концу второго дня выворотили матицу. Главную несущую балку, на которой по существу и зиждется все перекрытие. Массивная, зажелезившаяся — и цвет ее тоже был скорее железный, нежели древесный, — нигде ничем не траченная. Не трухлявая — живая. Ее старательно побеленное матерью подбрюшье выпирало и в комнате на потолке. В него был вбит крюк, на котором висела люлька. Люлька, в которой я качал, баюкал своих братьев. И в которой рос сам.
И вот мы ее, корнями вросшую в дом, поддели ломами, подперли, поднатужились, крякнули по-солдатски, по-суворовски, по-сталински, и матка, сокрушая все на своем пути, рухнула вниз. Клуб пыли взметнулся аж сюда, до чердака. В образовавшуюся длинную рваную брешь стала видна убогая пустота ободранных комнат.
Стало быть, они рухнули почти одновременно — мать и матица. Только одна вот так — со стоном, с бешеным сопротивлением, с клубом горячей пыли, а вторая беззвучно и безропотно.
На третий день все на тех же лошадях перевозили «лес» (теперь это называлось так: было домом, стало — «лесом») на новое подворье. Делали последнюю ездку, и я в последний раз оглянулся на свой дом. На то, что было моим домом. И что от него осталось. Обезглавленный, с выдранными рамами, в кучах мусора и хлама, он стоял на пустыре, как после бомбежки. Кругом ничего нет, и этот одиночный, одинокий дом — такая заманчивая цель. В нее и всадили весь наличный боезапас — тротила и злобы. Я смотрел на эти свежие руины, на свое собственноручно разоренное гнездо, и во мне впервые за эти дни что-то глухо стронулось. И защемило. И зародилось неясное чувство утраты. И ощущение, что я сделал что-то не так и что-то не то.
Не стану преувеличивать тогдашних своих ощущений, но зерно пало тогда. Посеялось. Правда, я и не думал тогда, что всходы будут такими. Что с этой вот минуты и начинается у дома вторая жизнь. Во мне, в моей памяти жизнь моего родного, утраченного — другого с в о е г о дома у меня больше так и не было, только чужие или казенные, — несуществующего. Я стал единственным вместилищем этого дома. И жильцом, и домом дома. Ибо братья мои на тот момент были столь малы, что и не запомнили его как следует. А матери вскоре не стало. А отчиму он был до фени. Да и его, отчима, через год после матери тоже не стало. И у моего родного отца, который, говорят, бывал в этом доме, даже если он до сих пор еще чудом жив, дом наверняка вытерся из памяти. Вылинял.
Значит, я остался один — кто его помнит до мельчайших подробностей. Значит, ему суждено существовать столько, сколько отпущено мне.
Может, это и есть цена за предательство? Искупление?
Ибо если б я его не ломал, то, возможно, и не помнил бы теперь его столь явственно и больно?
Эта картина и возникла у меня во время того странного разговора. Как я в раздуваемой ветром рубашонке стою на верхотуре своего дома и изо всех сил крушу его. Я полон разрушительного восторга. Он раздувает меня точно так, как мою рубаху — ветер. Я пьян и контужен — одновременно.
Знаю точно, что сначала был переезд, а потом уже ломка дома. Да это вытекает и из самой логики событий. И все же в моей памяти они почему-то выстроились в обратном порядке. Сначала ломка, сперва — я, раздуваемый вожделением немотивированной мести и разрушения, а потом уже переезд, пыльная, безлюдная дорога, тихие материны слова:
— Наверное, я умру…
Свежие, дымящиеся руины на вечереющем фоне как грозный знак, как предвестье другой, еще более страшной утраты.
Такая картина. Аргумент ли это в разговоре о поколениях? А если аргумент, то за или против? Я, конечно, не философ, основными у меня являются совсем другие, прозаические, материально-технические, а никакие не научные занятия. Но я, Сергей Никитович Гусев, ведь тоже из этого странного поколения. Зачатых в красном вине Победы, подчас даже неизвестно от кого — от п о б е д и т е л я (помните: отцовство не устанавливали, за аборты преследовали, потому что отцов было так драматически мало, а детей требовалось так много?), и познавших пусть не поголовно, но в значительной своей части горький пафос разорения отчих гнезд.
В возрасте, который называют нежным.
Крушения, мести — неизвестно кому и неизвестно за что. Подросткового, поллюционного бунта — с тем, чтобы потом досрочно, но по сути и не взлетев, приземлиться, угнездиться в своей лунке. Действительно: видели гнезда, которые «вьет», выгребает в земле несушка с подрезанными крыльями?
Так ли, не так ли — кто разберет?
…А на четвертый день отчим жестоко напился. Высаживать окна в новом доме не стал — как-то не с руки это делать при таком тесном соседстве с другими односельчанами — и опять куда-то надолго исчез. «Лес» же в дело так и не пошел. В ту последнюю зиму мать окончательно слегла. В доме не оказалось никакой топки, а зима выдалась на редкость жестокая. Мы пилили, рубили стропила и балки — тем и топили до самого тепла. В том числе распилили, спалили и матицу.
Хотя как же тогда не пошел? Дом грел — до последней капли. Как и положено дому.
ВАРЯ БОЛЬШАЯ, ВАРЯ МАЛЕНЬКАЯ Повесть
Варя увидела ее в церкви. Вообще-то она совсем не богомолка, Варя. Какая там богомолка! — праздников церковных не знает, так, услышит от старух на улице или в магазине, что, скажем, через две недели вербная, придет, дома между делом, за обедом, об этом скажет (на что невестка и сын не обратят ровно никакого внимания) — вот и все ее знания, вся информация. Молитв тоже не помнит. Разве что, если приспичит, «живые помочи» три раза быстро-быстро прошепчет. Да и те для нее — что правила в какой-то общепринятой игре. Гроза ли не на шутку разыграется, пожар ли где случится, ящур на соседских коров нападет — вот она и перекрестится и прошепчет, как детскую считалку, эти самые «помочи». Господи, помилуй, сохрани, избавь, обнеси… Это — пока игра. Когда же грянет всерьез, над головой, когда приходит беда — растворяй ворота, страшная, всамделишная, тогда все у нее вылетает. Какие помочи — только истошный бабий вой, кажется, и может помочь. Когда от старых фронтовых ран скончался ее муж, его оставили на ночь в гробу на двух табуретках под иконой с зажженной перед нею лампадой. Икона была в доме единственной. Куплена ею когда-то еще в молодые годы за бесценок на базаре у кустаря. Они тогда только поженились, только «отделились», хотя отделяться было не от кого: она жила с мачехой, он же вообще был гол как сокол, только отслужил действительную, вернулся, а возвращаться было и некуда — родители померли в голодуху тридцать третьего. Так что их «отделение» заключалось в том, что зашел Дмитрий Федорович в хату Вариной мачехи да и увел Варю через дорогу, где снимал у чужих людей времянку. Мачеха этому только обрадовалась: когда они сходились с Вариным отцом, у нее своих было трое да двое его, да еще одного нажили, совместного, о нем так и говорили — «совместный», как будто у него другого имени не было, или, может, чтоб меньше путаться в именах: их в доме накопилось, были даже повторяющиеся — Варя-первая и Варя-вторая (по возрасту Варя-невеста была первой, но по положению, по мачехиному расположению даже не второй, а куда более далекой, да та и не делила их на первую-вторую, та просто звала одну Варькой, а другую, свою, Варей, — этого было достаточно). Мачеха этому обрадовалась: обвешал ее Варькин отец детворой, а сам преставился. Тоже тридцать третьего года не выдержал. Вроде как сбыл, препоручил своих сиротинок ей, как просят на вокзале присмотреть за чемоданами, а сам и загулял. Отлучился да и не вернулся. Уклонился…
Варя забрала с собою и младшую сестренку Нюру, и стали они жить-поживать в той времянке втроем. Варе не терпелось обзавестись «своим» хозяйством — так была куплена икона. Не потому, что в ней была первая необходимость, а потому, что денег у Вари в тот момент хватило только на нее.
И вот лежал ее муж в средней комнатке их нового, только что наконец построенного, точнее, слепленного — там достали шифер, потом из половы и глины сами делали саман, у знакомого шофера купили ворованный лес — так, из чего бог послал, лепят гнездо ласточки, — дома, и она среди ночи, управившись с подготовкой к поминкам (тесто как раз подходить поставила), вошла к нему. В комнате было полутемно: лампада да керосиновая лампа с вкрученным фитилем, под которой незнакомая Варе старуха, «чтица», читала вполголоса, ровно и бесстрастно, псалтырь. Знать ее Варя не знала, но видела и раньше, на других похоронах: старушка, видать, подрабатывала на хлеб насущный. Варя вошла, остановилась у порога. Днем занятая хозяйственными делами, она как-то отошла, отстранилась от своего горя, или просто горе глубже ушло в нее, и теперь стояла на пороге молча, тихо, всматриваясь в неживое, пугающее, словно из замазки вылепленное лицо мужа. Лицо было большелобым, крупным и чуть-чуть подавшимся вперед. Будто человек силился поднять его, оторвать от подложенной ему под голову пуховой подушечки, взглянуть в последний раз на нее, застывшую у порога Варю. Встать он уже не мог: в такой глубокой немощи пребывал, но голову поднять еще пытался. Выбритый подбородок его упирался в грудь, в туго застегнутый ворот — хотя при жизни он никогда не застегивался, ходил — душа нараспашку, — неясная, провалившаяся улыбка тронула начавшие темнеть губы.
Это был и он, и не он.
Может, из-за этой непомерно большой головы, из-за того, что она была чуть-чуть набычена, из-за ее несоразмерности в общем-то небольшому, дробному и какого сразу подавшемуся, усохшему телу, может, из-за того, что тело это было прикрыто в ногах темной полушерстяной шалью (как будто ему могло быть холодно) и вообще скрадено темнотой, он напоминал ей большого, туго спеленутого ребенка.
Вот так же дети, когда еще не умеют ни стоять, ни сидеть, спеленутые по рукам и ногам, тужатся оторвать от подушки лобастенькую головенку, приподнять ее — единственное, что у них не стреножено, что способно к движению, — взглянуть на стоящую у кровати мать.
Это был он и не он, но у нее было такое чувство, что это ее ребенок. Дети у нее пока не умирали, но именно в ту минуту, когда она, казалось, спокойно стояла у порога, она осознала всю меру своего горя и своей боли. Ее ребенок — это и было мерой.
И рядом с этим горем, с этой болью, от которой Варя сама занемела, помертвела, — она и днем убивалась, рыдала, но такой безысходности днем все равно не было, может, потому что это был все-таки день, Варя была в гуще людей, рыдая, причитая, умудрялась не забывать и о своих хозяйственных, сопутствующих такой беде заботах, держала их в памяти, хлопотала, не решаясь полностью положиться на родню и сердобольных соседок, а теперь, в эту полуночную минуту, они оказались с глазу на глаз, они оказались выпростанными, обнаженными друг перед другом — Варя и ее горе. Рядом с этим горем, рядом со смертью, принявшей по какому-то злому умыслу такое знакомое и такое неузнаваемое обличье ее мужа, совершенно ненужными, ненастоящими, неуместными показались Варе и невнятные молитвы, и сама примостившаяся в ногах у смерти богомолка.
Они казались отрешенными, безучастными, когда ей было впору головой об стену…
И Варя даже с некоторым удивлением, недоумением смотрела на молящуюся, как с удивлением отмечала про себя, самым краешком сознания, струящийся шепоток ее непонятных, не проникавших к Варе слов. Видно, в ее взгляде было нечто насторожившее старушку: та опасливо глянула на Варю поверх очков, молитва на мгновение пресеклась, а потом заструилась не то что тише, а как-то робче. Вкрадчивей.
Слова как будто поняли свою незваность и стремились звучать, не обнаруживая себя. Почти беззвучно…
Да и откуда ей было знать молитвы? Они впитываются с молоком матери, а ее рано отлучили от груди. Мачехи молитвам не учат, а Вариной мачехе тем более было недосуг заботиться о спасении Вариной души — хватало забот о спасении тела.
Постов — и тех Варя никогда не блюла. Напротив. Всю жизнь ела жирное (с тех пор как в доме появилось жирное). Дети всегда выбирали что попостнее, посуше, повкуснее (дети у нее разборчивые, недоедания не знали, разве что в войну, и то лишь старшие, довоенные, а так Варя жизнь положила, чтоб они не знали недоедания). А Варя всегда сгребала забракованные ими куски себе в тарелку. Еще и сковороду после жарева мякишем вымакает, вычистит. Все за всеми доедает. Невестка появилась — и за нею добирает, не гребует, хотя та, замечает Варя, и поджимает порою губки и бросает на Сеньку, на младшего, на мужа то есть, укоризненный взгляд. Как будто он, Варин младший, повинен в материной некультурности и необходительности. Заметив такой взгляд, Варя тушуется, растерянно улыбается, хотя вины своей не понимает. Не пропадать же добру!
Правда, когда приезжает погостить к старшей дочке в город Ростов (средняя замужем за военным, живет в городе Мурманске, Варя там ни разу не была — дочка с зятем сами прилетают к ней каждое лето), там этот номер не проходит. Стоп-стоп! — стыдит ее старшая дочка. Ты что, инсульт хочешь заработать? Сосуды свои гробишь. Не последнее, слава богу, доедаем, нечего жадничать. И — швырк все остатки в мусорное ведро. Ты посмотри на себя, посмотри, ты же неподъемная будешь, если тебя парализует. Тебя ж с боку на бок повернуть будет невозможно. А таких как раз и парализует. Читай журнал «Здоровье» (хотя прекрасно знает, что читает Варя только по слогам, нацепив очки, которые смотрятся на ее носу, как седло на корове, отставив далеко книжку и повторяя вслух, как бы проверяя его действительность, законность, каждое слово). Нет, ты посмотри на себя, посмотри, кипятится старшая Варина дочка, и это кипячение в отличие от невесткиного деликатного молчания Варе почему-то нравится, и она, чтобы угодить дочке (тут говорят: «дочке́», делая ударение на последнем слоге), на самом деле оглядывает себя, правда, одни только руки. Выставляет их перед собой, поворачивает ладонями вверх — вроде первый раз видит. Порожние, без дела ладони плавают перед Варей, как две оглушенные рыбы — брюхом кверху. Руки у Вари чугунные. И не только по весу, по массе — вздумай Варя браслетик носить или там дамские часики, чьи стрелки не толще дамских же ресничек, никакого б золота, никакого браслета не хватило бы, чтоб опоясать, заковать широкое, круглое, как валек, который катают из глины и половы и потом, приседая от тяжести, закидывают снизу такими вальками потолки в хатах — «валькуют», двужильное (стоит Варе сжать ладонь в кулак, и эти две жилы напрягаются, выступают, как расчалки) запястье. Нет, они чугунные и от загара, и от черноты. С ранней весны, как только снег слезет, и до поздней осени Варя копается в огороде, в земле, и руки у нее словно по самые локти на всю жизнь в земле вымазанные. Как у палача кровью, так у Вари — землей. Черноземом, ею же самой созданным. «План» для строительства дома они купили на бывшем пустыре, на месте, где была мусорная свалка, и землю под огород ей в самом деле пришлось пересоздать. Сколько она коровяку туда перетаскала, сколько речного ила на коромысле переносила — одни только руки ее да плечи знают. Кроме домашнего еще два огорода в степи, в пойме, брала. До́ма — это так, для борща-салата, для стола, в степи — для запаса. Картошка на зиму, помидоры, капуста для засолки. Да еще бахчу на бугре, считалось для мужа ее Дмитрия Федоровича, передовика производства, ударника коммунистического труда, нарезали — а ведь и ее в сущности все та же Варя берет, Варины руки брали. Загар покрывает их круглый год, как кора на карагаче, как короста — не соскоблишь. Поди разберись, где тут загар, а где царапины, где жилки полопались — руки у Вари потрескавшиеся, как говорят в здешних местах, «порепанные». Так еще говорят здесь о хороших дынях — порепанные. Все эти годы до последнего Варя работала дояркой в пригородном совхозе. И летом, и зимой, а кто ж не знает, как обжигает руки зимнее, с морозцем, с ветерком, солнце. Да если еще руки не протряхли после дойки или подмывания вымени! И чернота, и кровь — все смешалось, спеклось, закоснело, потому и ладони, если их вывернешь, плавают, маркие по сравнению с тыльной стороной, как рыбы кверху брюхом. Такие руки. По паспорту Варя давно горожанка, а вот по рукам — самая что ни на есть сельская. Сельско-хозяйственная. Земляная.
Может, потому и дети ее не знали недоедания…
Наверное, оттого, что им так много солнца достается, руки у Вари всегда теплые. Всегда как будто из русской печки вынутые (с румяной корочкой). И никакие морозы им не страшны. Варя даже рукавиц никогда не носит — мешают они ей, да и ни к чему. Всех обвяжет, от внучат до невесток — рукавички двойные, перчатки пуховые, модные, а сама обходится. Сапожник без сапог. И ничего. Конюх на ферме не может лошадь на морозе распрячь — упряжь колом взялась, ни один узел не развяжешь, — зовет на помощь Варю. Варя подходит, берет узел в кулак, и он оттаивает. Как шелковый становится сыромятный ремешок. Развязывай-завязывай его — никакого пыхтения не требуется. Дети, внучата к ее рукам липнут. Особенно младшенькая — ее тоже Варей назвали. Бегает-бегает с товарками на улице, потом вдруг заскочит во двор и — к Варе. Под руку.
— Погладь меня по головке…
Варя разгибается, вытирает руку о фартук и, сама теплея от нежности, гладит подсунутую — так теленок тычется губами в ладонь — макушку.
Этими руками она после войны, после ранений и госпиталей и мужа своего, инвалида второй группы, выходила. Вынянчила…
Вынянчила, чтобы через тридцать лет вот так — матерью — застыть в его ногах.
В отличие от детей Варя действительно крупна, дородна. Кто знает, что тому причиной — то ли объедья, на которые грешит ее старшая дочь, то ли просто порода, которая на Варе и пресеклась: дети, внуки пошли не в нее, в мужа. Шустрые, дельные (в здешних краях говорят: «додельные»), но без Вариной густоты, теплокровности и стати. Нет, скоромное тут, пожалуй, ни при чем. Да Варя вовсе и не жадничает в еде. Она вообще не жадная. Она — п а м я т л и в а я, Варя. Порода да еще работа — вот на чем она взошла. Работа. Есть люди, которых работа точит, высасывает, как болезнь. Для Вари болезнью было бы отсутствие работы. Они хорошо приспособлены друг для друга — Варя и ее многоликая, неостановимая работа. У нее и сейчас еще крепкие, не старушечьи ноги, плечи, какими не каждый генерал нынче похвалиться может. А что? — станет Варя в проеме своей калитки, выглядывая, где там Варя-маленькая, не сидит ли на корточках посреди дороги; передником опоясанная, в одной руке нож, в другой полуочищенная картофелина — чем не генерал? Рослая, дебелая, к земле пока не клонится, не то что другие в ее годы. Только осела как-то, еще больше загустела, потяжелела, словно к старости ее утрамбовали. Отец еще девчонкой с собою в степь брал: жала и вязала снопы не хуже матерых баб. А потом и на лобогрейке работала, и кухаркой в бригаде (шутка ли, сорок рабочих, ломовых мужиков накормить, хлеб каждую ночь пекла, и хлебы у нее выходили ядреные, пышные, возьмешь буханку в руки, а она так и дышит, как живая, ее легко сплющить, но лишь отпустишь ладони, она распрямляется, будто хорошо взбитая подушка), зерно на току шуровала… Работа чувствовала в ней работницу, рабу, дочку́ и заботливо вспаивала природную, ей же и предназначенную силушку.
«Дарман» — так говорят здесь. Слово, осевшее тут еще с каких-то кочевых, скифских времен. «Дарман есть — ума не надо…»
Она и валькует, к слову сказать, лучше всех в округе. Вальки у нее, как и хлебы, пудовые, ни ведер, на веревке, ни других подъемных устройств Варя не признает — только с руки: кидает, кидает вальки наверх, успевай принимать да в дело пускать, забивать глиной, утеплять потолки. Варина сноровка известна всем, и кто б из соседей ни строился, Варю всегда в числе первых приглашают «на помощь».
«Нанянчилась», — говорит она после такой каторжной работы. Не умаялась, не вымоталась — нанянчилась.
Нет, такие, как Варя, живы работой, и работа в свою очередь жива такими, как Варя.
И сколько себя помнит, никогда не была тощей, заморенной. Даже в голодухи — другие ходили как тени («тенялись») или, наоборот, пухли, наливаясь отечной, нездоровой (ткни — и лопнет, как волдырь) тучностью, когда даже ноги переставлять уже невмоготу: до крови трутся одна о другую. А Варя — все в одной поре, хотя уже при мысли о еде (других не было) ее сводило голодной судорогой.
Работа берегла — для себя.
И, возможно, для Дмитрия Федоровича.
Дмитрий Федорович, когда после фронта оклемался, шебутной стал, компанейский. Прорва друзей у него сразу образовалась. Работал на товарной станции, а там ведь всегда какой-нибудь приезжий, неустроенный люд найдется. В основном шоферы, грузчики из окрестных сел: прибыли за грузом, а тут то с вагоном закавыка вышла, то погрузились лишь к вечеру, а путь дальний (станция у них тупиковая, обслуживает сразу несколько районов), дороги развезло, опасно на ночь глядя трогаться. Дмитрий Федорович взял моду всю эту шатию-братию на ночлег зазывать. Если стучит в дверь громче обычного, если держится петушком, если шумит с порога: «Мать, мечи все из печи!» — значит, точно с поночевщиками явился. Ночь-полночь — ни с чем не считался. Мечи! — и все тут. Откуда только это в нем взялось, проснулось: человека, можно сказать, первый раз в глаза видит и сразу тащит домой? Поначалу Варя пыталась протестовать, наставлять его, разумеется, на следующий день, когда гостей уже не было. Дмитрий Федорович сразу чужел, коротко, но непривычно зло огрызался. Варя смирилась. Впрочем, она, пожалуй, догадывалась, откуда взялась, произошла эта напасть. «Метнет» она на скорую руку яичницу с салом, тут же, глядишь, и поллитровка на столе объявится, дернут мужички по одной, пройдет их первое смущение, поосвоятся они, а Дмитрий Федорович уже клонит разговор к войне. Как, значит, они отступали. Как, значит, они наступали. Как винтовка у них поначалу одна на двоих была: бежишь, значит, за товарищем и ждешь, когда он упадет, чтоб тебе, значит, ее, родимую, подхватить. Война в нем сидела как хвороба, глубже хворобы, и в этих ночных беседах он выгонял ее, как выгоняют простуду. Выговаривался. Дома ему выговариваться было не с кем. Старшие были дочки, что им расскажешь, а младший, сын, был еще несмышленышем. Варе же было не до войны. У нее других забот хватало. Вот и повадился Дмитрий Федорович при Варином попустительстве таскать слушателей со стороны. И поди разберись, где тут жалость к людям, остающимся на ночь без надежного крова, а где жадность — к ним же. А если еще и среди приглашенных сыщется фронтовик, то пиши пропало: как стакнутся они потными лбами — и до первых петухов. Мы, значит, отступаем, мы, значит, наступаем. Главнокомандующие! Жуковы и Рокоссовские… Тары-бары. Лежит, бывало, Варя за дверью, слушает вполуха, пока не заснет, их неясное шумление, подумает, уже почти сморенная дремой: и чего это мужикам, побывавшим т а м, на войне, вообще не молчится? Чего им невтерпеж выговориться? Чего они без конца выговариваются? Может, потому, что каждый из них, что ни говори, кого-то да убил?
Война… Варя тяжело переворачивается на другой бок. Варю больше волнует не та, что была, а та, что, не дай бог, будет… Накаркают…
Дмитрий Федорович любил в такие минуты показать себя хозяином, добытчиком, хлебосолом — тоже, возможно, потому, что слишком долго всей его вотчиной оставалась кровать да завалинка перед хатой, на солнышке. И в этом его командирском «мечи!» даже кураж некоторый слышался, чего так, не на людях, за ним не наблюдалось. Варя не противилась, пусть его (здесь говорят: «нехай»), чем бы дитя ни тешилось. Да и знает, чувствует она: Дмитрий Федорович мог бы и сам яичницу состряпать, да не терпится ему и ее, Варю, заезжим людям, новым своим дружкам показать. Похвалиться. Мал, да удал: такую бабу на привязи держит. Дмитрий Федорович против Вари мальчишка: и ростом не взял, и костью уже. Да еще вечный хохолок на макушке торчит: вроде как кто рубанок по дереву против шерсти пустил — стружка завилась, задралась, да так, задранной, на всю жизнь и осталась. Сперва рыжая была, желтая, золотая, а с годами сиветь стала, темнеть, замотало ее, заветрило, засекло. А Варе другого и не надо. Еще когда взял он ее девушкой за руку и повел из мачехиного дома через дорогу к себе во времянку, и не одну повел, а и с младшей сестрой ее Нюрой — та доверчиво держалась за его рукав с другой стороны, важно загребая пыль босыми махонькими ножонками, — еще тогда ей показалось, что это не ладонь ее взял он в руку, а само ее сердце, такое же, наверное, большое, теплое, спелое, как и Варина ладонь, и ласково несет его в своей цепкой мальчишеской, твердой ладошке. Как подсолнух сорвал.
Она памятливая, Варя.
Вызванная мужем в смежную комнату, она выходила к гостям без особых церемоний — иной раз, если дело было ночью, прямо в белой, накрахмаленной бязи ночной сорочке, разве что голову платком покроет. Дмитрий Федорович мог быть доволен: гости, пока она была тут, в комнате, при них, робели, помалкивали, а когда она выходила, управившись с яичницей и постелив на полу одну общую постель, в которой нередко оставался за компанию и Дмитрий Федорович, мужики говорили ему, что баба у него того — п а в а.
Пава, валькующая лучше всех в округе, — может ли такое быть? Сочетаться? Наверное, может. Варину корову, во всяком случае, тоже звали Павой. У других Зорьки да Светки, у нее — Пава. А что? — идет она домой прямо посреди дороги, как хозяйка, не обращая внимания ни на встречных прохожих, ни на транспорт, и кто бы ни был в тот вечерний час на улице, во дворе, у ворот — всяк ее глазом провожает. Коров уже тогда в городке переставали держать (а сейчас их и вовсе нету: народ с утра бежит к магазину с бидончиками — очередь занимать), а тут такая рекордистка — хоть на выставку ее, — такая пава по дороге выступает. У каждого ретивое ворохнется — городок-то весь, можно сказать, из села набежал, сселся, образовался. А она и впрямь выступала: шаг неспешный, царственный, на ногах высокая, длинная спина с таким мягким, почти кошачьим прогибом (другую все лето водят к бугаю, на налыгаче его, бедного, к ней волокут, а эта ничего, без сводни обходилась и ни разу, помнит Варя, не оставалась яловой). И вообще при всей ее громоздкости была в ней какая-то ладность, слаженность, сработанность. Обточенность — работой. Она шла, и все ее большое, томно вытянувшееся тело играло и пело, каждый шаг отзывался в нем, как отзывается струна в чутком и глубоком голоснике. Ничто в нем не диссонировало, не выпирало. Разве что вымя — огромное, разбухшее, едва не достигавшее земли. Оно даже скрипело от этой своей переполненности, как скрипит под завязку, по горло залитый вином кожаный бурдюк. Оно не помещалось между ногами, терлось о них, и корова вынуждена была идти чуть-чуть враскорячку, как на сносях. И распухшие, вставшие торчком соски уже сочились светлым молозивом…
Но разве могла ее портить эта ноша! Наоборот, она оплодотворяла ее мощь и царственность, наполняла их смыслом, добавляла ей цены в глазах людей, наблюдавших эти ежевечерние Павины проходы (выходы!) из стада домой. Ибо для них, опять же, возможно, в силу их преимущественно деревенского происхождения, сомнительна красота пустоцветов. Красива цветущая ветвь, да краше — клонящаяся от плодов.
Еще не подойдя к дому, загодя, Пава вытягивала бархатистую шею и требовательно, полногласно мычала: как пароход на подходе к гавани. Этот сигнал адресовался конечно же Варе. «Готова? Я иду!» Не готова — все отставить: я иду. Но вместе с требовательностью в нем каждый раз слышалось и другое. Что-то родственное, поддерживающее, подбадривающее. Пава окликала Варю, как товарка товарку. Так гуси перекликаются на большой высоте. Они были из одной стаи. Они вместе делили самую главную заботушку — кормили Вариных детей.
Они делили эту заботу поровну, — может, потому Пава и держалась в доме как ровня. Чувство собственного достоинства проистекало из чувства собственной необходимости.
«Ваша мамка пришла, молочка принесла — полные кубышечки».
Пава… Скоро уж пятнадцать лет, как нет в живых Дмитрия Федоровича. А к Вариному дому время от времени еще заворачивает то один, то другой грузовик, и кто-нибудь из шоферов, уже давно пенсионного вида, то мешок картошки перед воротами сгрузит, то десятка полтора арбузов. Варя их уже не узнает. Она только знает, что это кто-то из тех давних ночных постояльцев. Поночевщиков. Так возвращается к ней Дмитрия Федоровича хлебосольство. Чудинка. И Варя оказывается втянутой (вернее, сама вступает) в этот круговорот: приглашает их в летнюю кухню — и такую теперь, с сыном, построили — выпить чаю или компоту. С дороги или, напротив, на дорожку. Здесь говорят: «узвару». Узвар у Вари замечательный: крутой, ароматный, кисло-сладкий. Кто отказывается: некогда, мол, тороплюсь, а кто и заходит. А один зашел, сел, одну кружку узвару выпил, другую. Варя говорит ему: «Может, пообедаешь?» Нет, отвечает, спасибо за приглашение, дай-ка еще кружечку. Варя наливает — дело как раз летом было, — а он тем временем и говорит, не глядючи на нее, что вот, значит, и он один остался, жена под пасху умерла, и не согласится ли, значит, Варя поменять городскую местность на сельское местожительство. Прямо сейчас можно бы и уехать. И барахла никакого грузить не надо. У него там, слава богу, все есть. Ни в чем нужды знать не будет…
Вспотел, хотя узвар-то из холодильника был.
— А?
Подвигает Варя ему запотевшую эмалированную кружку, смотрит в поднятые наконец глаза и молча, спокойно головой качает.
Слова-то какие аккуратные нашел: городская местность, сельская местность…
Павой сейчас ее уже не зовут. Была пава, да вся вышла. Вот только зять, старшей дочки муж, который в городе Ростове в техникуме преподает, высшее образование имеет, говорит, что Варя — Бетховен. Смеется, он у нее веселый, притом непьющий, и Варя любит его как сына. Он смеется, значит, насмешничает, а она, старая дурочка, тоже смеяться начинает. А чему смеяться — и сама не знает. Он ей даже карточку этого Бетховенова показывал. Она смотрела. И так смотрела, и очки надевала — ничего похожего. Дядька как дядька. Патлатый только.
— Вот-вот, — смеется зять, — у тебя, Варя, голова — как у Бетховена.
Голова, как Дом Советов, — это Варе понятно. Так и у них на улице любят друг на дружку говорить. Как у Бетховена — неясно, но уточнить у зятя Варя стесняется.
Крупная, тяжелая, крепко посаженная и чуть-чуть откинутая назад — такая у Вари голова. И — седая. У нее еще довольно густая коса, и Варя по привычке закручивает ее узлом. Узел еще полновесен — это и заставляет Варю держать голову так не по-старушечьи прямо, — но абсолютно бел. Глянешь на Варины руки, и даже непонятно становится, как с такой чернотой и чугунностью, с такими земляными, только что из земли выкопанными руками может соседствовать, сосуществовать эта ясная, горняя, заоблачная белизна. Седина редко бывает чистой, незапятнанной. У одних с серым тусклым отливом, как соль-лизунец, которую каменьями выставляют на скотных дворах. У других она со слабой, спитой желтизной, цвета прокуренных зубов. У Вари же никаких пятен. Все запорошило.
Седая как лунь, как Бетховенов (хотя на карточке он совсем не седой и ей действительно непонятно, что за сходство имеет в виду ее зять), и — Варя. Несерьезно как-то. Несолидно. Неуважительно. Неуважение к сединам. А ей хоть бы хны. Она — таковская. Сколько всяких-разных имен износила за свои шестьдесят четыре года! Больше, чем платьев: и Варей была, и Варюхой-горюхой, и ударницей-стахановкой товарищ Чмеревой побывала, и некоторое, правда весьма непродолжительное, время, — Варварой Кирилловной на ферме величали, и Чмерихой (среди соседей), и вот на тебе: на старости лет опять Варей обернулась. Она и не заметила, когда началось, с чего пошло это возвращение. То ли от соседок-однолеток, то ли опять же с фермы. Молодежь нынче лишних слов не любит говорить. Склонность к лаконизму. Девчонки-телятницы сперва звали ее тетей Варей, потом теть-Варей, позже, когда совсем обвыклись, вообще на французский манер: т’Варь, (другая б не то, что обиделася — оскорбилась бы за подобное произношение), а после и «т» куда-то утратилось. Сносилось.
Варь да Варь. Она не против. Чем какая-нибудь Глотиха, Мазнячка, Худая, как других бабок на улице зовут, да чем та же Чмериха, так лучше уж Варя. Окончательной, бесповоротной старухой она еще побывает, а вот Варей — когда еще? Никогда. И улица подхватила, и в дом новое имя проникло. Вернулось. Невестка и та — …«Варя»… Зять — тоже. И внучата: им тоже чем короче, тем лучше. Сноровистей. Ее как будто уравняли с Варей маленькой. Так опять в доме оказались две Вари: маленькая и большая. Маленькая и старенькая. Смешно слушать постороннему человеку, как они сядут в сумерки перед домом и беседуют:
— А, Варь?
— Да, Варь…
Сидят на одной лавочке: Варя маленькая, ножками болтающая — как птичка, готовая в любую минуту взлететь. Варя большая уже не взлетит. Она как голубка, пущенная с Ноева ковчега, облетавшая в поисках кусочка суши весь белый свет и вернувшаяся наконец сюда, на свой ковчег, — с зеленой веточкой в клюве.
Так они сидят.
Нет, никакая Варя не богомолка. Не только постов — и праздников не соблюдает. И стирает, и в земле ковыряется. Работает. Недосуг ей праздновать. Да и непривычно как-то. Не умеет она отдыхать так истово, всерьез, словно важное дело делает. Посмотришь на иных богомольных старушек, как они в престольные праздники после церкви перед каким-нибудь домом в кружок соберутся и целыми днями рассиживаются — малый Совнарком, да и только. Так они в святость погружены, такой значительности исполнены.
Кучкуются — темные, нахохлившиеся, длинноклювые — тоже как перед отлетом.
Правда, в глубине души Варя считает, что работать — не грешить. Не может быть работа грехом. Не должна бы, втайне думает она.
Святостью Варя не обременена. Нищенкам, например, даже в церкви не подает. Мужику подаст, бабе — нет. Не верит она им. Каждая такая побирушка, считает Варя, слишком сладко в молодости спала. Любила поспать. Уж одного-то ребеночка всегда можно завести. И с мужем, и без мужа. Да и так — это мужик может в два счета с круга сойти, а баба не должна. У нее, по Вариному мнению (которого она, правда, вслух никому не высказывает, ибо Варя вообще немногословна, ее и старший зять, догадывается она, за эту непривычную в тещах немногословность и жалует), так вот, по Вариному мнению, у бабы всегда калиточка имеется. Даже две: дите и работа. С первым еще можно опоздать, со вторым, считает Варя, никогда не поздно.
Возможно, она пока просто не может представить себя немощной, ни к какой работе негодной (в этих краях говорят: «негожей». «Пригожая». «Гожая». «Негожая» — вот и вся жизнь).
Да она и в церковь-то раньше не ходила. Знала о ее существовании, видела ее, церковь в их городке маленькая, деревянная, но не такая, как, скажем, на Севере — из цельных бревен, искусной работы, — а дощатая, легкая, незатейливая. Временная. В этих глиняных, кирпичных, земляных местах все, что из дерева, — временное. Построена до революции, но когда строили, видать, думали, что времянку гандобят. Церковь-времянку. Стук-стук, без выкрутасов и излишеств, функционально, так сказать, прямолинейно, как сбивают дома клеть для поросенка. «Сажок» — тут говорят. Посадил туда поросеночка, а через девять месяцев вытащил оттуда на веревке, за ногу двухсоткилограммовую Хавронью. И под нож ее к рождеству. Функционально. Думали, временно, думали, перестроят потом. Из жженого кирпича, с силикатным фундаментом после, соберясь с деньжатами, поставят — навсегда, навечно. Да другие перестройки подоспели. Отвлекли. Так и осталась церковь-сажок. Зажилась. Существует себе приживалкой, по-старушечьи, дремотно, не высовываясь, на окраине городка недалеко от речки, которая тоже чем-то на нее, церковь-времянку, похожа. Речка степная, течет в глубоко прорезанных глинистых берегах — скрытно, потаенно, не высовываясь, а летом, в засухи, подчас и вовсе пересыхает, едва-едва струится. Речка-времянка. Церковь огорожена слабым штакетником, задернута, как задергивают в деревенском доме от чужого глаза угол, где доживает чья-нибудь угасающая старость, зеленью. Один купол, как труба, выглядывает. Купол у церкви выкрашен свежей голубой краской. Как немцы еще в войну раздели, содрали стамесками позолоту, так и стоит она раздетая. В голубеньком исподнем.
Ее и называют почему-то «синей церквой». Церковь в городе одна, можно бы и без названия обойтись, да нет же, прилипло — синяя. «Пойду в синюю церкву», — говорят старухи. В отличие от молодых они еще употребляют лишние слова. К лаконизму пока не привыкли.
А туда и ходят одни старухи. Старость к старости тянется.
В престольные праздники идут по одной, редко, пунктиром (преимущественно в темных платочках), — кажется, вот-вот пресечется, пересохнет это капельное струение. Перемрут старушки, и все. Некому будет в церковь ходить. И сама она высохнет. Пресечется. Изживет себя: верующих-то не останется. Молодежь-то не верует. Ан нет — не пресекается. Умирают эти старухи, текут другие. Как раз поспевают, как раз, старясь, начинают захаживать в «синюю церкву», которую раньше, можно сказать, и не замечали: стоит себе на отшибе времянка и пусть стоит, пока не развалится. Старясь же, начинают замечать, поглядывать — на всякий случай — в т у сторону. А там, как раз рядом с церковью, неподалеку, и кладбище.
Живут безбожницами, а умирают — сочувствующими.
Так случилось и с Варей. Один раз в церкви она как-то уже была. Заходила. Теперь пошла второй раз — на всенощную, куличи (тут говорят «паски») понесла святить. Куличи она пекла всегда — высокие, рассыпчатые, с ванилью, притрушенные сверху сахарной пудрой. А вот «святить» понесла первый раз. Думала: ворочусь утречком, как раз сын, невестка, Варя встанут — и сядем завтракать. Вроде как разговеемся. Хотя какое там говенье: поста никто не держался, те же «паски» пробовали сразу, как вынула их Варя из русской печки. Раньше печка была прямо в доме, невозможно было даже представить дом без русской печки. Потом, когда в городке появился газ, русскую печку разобрали и на ее месте сложили плиту, грубку, приспособленную под газовую горелку. Печку же — теперь уже сугубо для праздничных нужд — вынесли во двор. Сложили в углу, и стоит она сиротливая, голая, выставленная, выгнанная из дома на мороз и жару. Но, несмотря на такую черную неблагодарность хозяев, по-прежнему верно служит им. Прислуживает. Хлеб Варя уже не печет — покупают в магазине, а вот куличи, пироги — только в печке. Когда затапливает ее, сын ругается: дыму полон двор. Варя сына не слушает: пироги из печки ни в какое сравнение не идут с теми, что невестка иной раз печет на скорую руку в духовке.
Многое вспоминается Варе, когда она растапливает русскую печку.
А в доме на ее месте теперь уже вообще никакой печи нет. Газовую тоже развалили, сделали водяное отопление. Чище, безопаснее, современнее. Невестка говорит: даже просторнее в доме стало. Варя помалкивает, но Варе так совсем не кажется. Не просторнее, а пустее как-то. Пустее, несмотря на прибавляющуюся мебель, на очевидный достаток. Словно душу из дома вынули. Выгнали — кажется Варе. Тем старательнее каждую весну скоблит, обмазывает глиной и белит она печку, которой, по правде говоря, такой уход уже ни к чему — кто там, возле курятника, ее видит? Другое дело — когда в хате стояла, на красном месте… А Варя все равно скоблит (тут говорят: «шпарует»), мажет, подбеливает. Словно вину свою перед нею заглаживает.
Хотя какая вина? Варя здесь уже ничего не решает. Она потому и не встревает никуда, отмалчивается, что хорошо понимает: прошел ее черед. Ей самой уже пора потихоньку собираться вон.
И сила еще есть, и работы еще хватает, а все равно пора, чувствует Варя.
Бывая под хмельком, сын ее любит повторять: «Против лома нет приема». Что такое «прием», Варя тоже не знает, но смысл поговорки ей понятен: потому что она хорошо знает, что такое лом.
Старость надвигается, старость прибывает и все в человеке постепенно, вкрадчиво затапливает: ноги, сердце, душу. Варя знает: последним, что будет возвышаться над ее старостью, будут ее верные руки.
…Побыла Варя на всенощной, посмотрела, послушала, свечку за упокой души Дмитрия Федоровича поставила. Среди прочих освятил батюшка и ее кулич. И уже когда собралась было уходить, заметила в старушечьей толпе — а их поднабилось-таки порядочно, потому что не только из города пришли, но и из пригородных, не имевших церквей сел подъехали, — лицо, которое так и притянуло ее к себе. Приковало. Мало сказать, что оно показалось ей знакомым. Знакомых тут, в церкви, у Вари было много: все-таки она в том городе жизнь, считай, прожила. Пока стояла, со сколькими в церкви перездоровалась: кто живет недалеко, по соседству, с кем на базаре познакомилась, да много ли еще где знакомятся, сталкиваются пожилые люди маленького, пожилого городка! Здоровались в основном молча: кивком, поклоном, если и разговаривали, то шепотом — церковь напоминала улей с его ровным, покойным, приглушенным гудом.
Да, она знала это напряженное, силящееся что-то рассмотреть или расслышать, понять, заглянуть за какую-то неведомую черту старушечье лицо, знала эту старуху в опрятной ватной фуфайчонке, хотя видела ее всего лишь однажды и даже словом с ней не перебросилась.
Видела она ее давно и с тех пор вряд ли когда вспоминала. Ну, в первые-то дни после встречи, наверное, вспоминала (хотя и в этом не уверена), а вот потом, в долгие, работами и заботами забитые годы, — вряд ли.
Нет, определенно не вспоминала. Но сейчас вспомнила мгновенно, сразу, словно всю жизнь лицо это перед глазами у нее стояло. Словно в памяти она его держала.
Или, наоборот, это оно, лицо той случайно встреченной старухи, держало Варю в своей незаметной власти.
Во всяком случае, она увидела это лицо, и ее как будто бы ожгло. Ей даже не пришлось припоминать его. Оно само бросилось в глаза — из десятков других таких же старых, морщинистых, изношенных лиц, — само о себе напомнило. Больно, жестко — сердце у Вари вдруг зашлось, набухая черной венозной кровью, как тяжелеет, становится вдруг обузой неловко заломленная рука.
И точно так, как когда-то у раскрытого гроба мужа Дмитрия Федоровича, Варе опять показались лишними, несущественными те же, что и тогда, в засохших устах чтицы, только теперь доносившиеся с амвона, невнятные, неясные ей, рикошетящие слова. И люди, набившиеся в церковь, — посторонними горю, вошедшему сюда вместе с этой не празднично, не как на пасху, одетой старухой. И державшемуся так же, как она — бочком, тишком. Уж очень тут пылало, блестело. Признаться, Варя и сама здесь еще не обвыклась. Приходит и каждый раз жмется поближе к стенкам, как будто тут не церковь, а клуб с танцами и она не старуха вовсе, а крупная, стесняющаяся своего роста, неловкая и нехваткая девка.
Горе даже не в церковь вошло, а в нее, в Варю. И остановилось — как невыплаканные слезы.
Что слова? — теперь, когда она не только все вокруг, но и себя увидела другими глазами — г о р е м увидела, — ей и за себя стало неловко. Как будто она и себя почувствовала втянутой в игру. В детскую считалку.
А увидела Варя ее случайно. Обернулась, собралась уже выходить и замерла.
То ли старухе хотелось пробиться к батюшке и дьячку, двигавшимся внутри тесного круга, в котором им со всех сторон протягивали куличи — для кропления «святой водой», то ли еще что влекло ее сюда, и она вся напряглась, жилы на тощей старушечьей шее, казалось, готовы были лопнуть.
Шеи как будто и не было: только две эти выпершие жилы, как стропы, на которых еще удерживается маленькая, ссохшаяся, уже готовая покатиться, полететь, гонимая осенней непогодой, роняя вызревшие споры, голова. Возможно, Варя и узнала ее не столько по лицу, по его чертам, в которых не было чего-то особенного, запоминающегося, сколько по этому неудержимому стремлению — протиснуться, пробиться.
По какой надобности она тогда оказалась в центре городка, Варя уже не помнит. Возможно, ходила на открытую немцами биржу, искала работу. Дмитрий Федорович был на фронте, а дома, в чужой времянке, — впрочем, когда в городок вошел немец, то даже свои, кровные дома стали казаться людям чужими, оскверненными: в них, не спросясь у хозяев, по-хозяйски располагались на постой солдаты; дом перестал быть домом, надежным прибежищем: к тебе в любой час могли войти, вломиться, обобрать, унести что приглянется, а то и увести тебя самого, — в чужой времянке под присмотром десятилетней Нюры сидели Варины дети. Две девочки — одна только-только встала на ножки, другая еще грудная, ползунок. Их надо было кормить. А кормить было нечем. Хорошо еще, Варина грудь выручала. Откуда только бралось в ней молоко: Варя жила впроголодь, каждую крошку стараясь растянуть и поделить на три доли — Нюре и девчушкам. Небогатые довоенные запасы подъели быстро, а что не подъели, то немцы повытаскали. На времянку они не прельстились, в ней всего-то была одна комнатка да сенцы, а в доме, у хозяев, стояли и целыми днями крутились тут же, во дворе. И времянка, и все, что в ней, было у них как на ладони. Они все Варино жилище, со всеми ее захоронками, припасами, сразу же, как свой карман, вывернули. И Варя тоже была как на ладони. И вряд ли разместившееся у хозяев отделение пропустило бы такую бабу, как Варя. Особенно если она весь день на глазах трется: то белье развешивает, то с грядками возится. Ладонь не преминула бы сомкнуться — в кулак. Да Варя тоже непроста: как только немцы вступили в город, она из белой, в горошек, косынки свернула повязку и, завязав концы на затылке, приладила ее на носу. Вид получился такой, что она сама, завидев себя случайно в зеркале, брезгливо отворачивалась. Немцы, рослые, светлые, аж светившиеся от тылового сурочьего жира, как светятся насквозь хорошо откормленные кабанчики, муку и сало из времянки выгребли, но Вари не касались. Напротив, ввалившись, они всякий раз сердито показывали Варе за порог, она сгребала детей и выходила, терпеливо ждала там, во дворе, наливаясь тяжелым, чугунным и вместе с тем молчаливым, не имевшим выхода — три жавшиеся к ней головенки чутко сторожили его — гневом. Ждала, когда же закончится этот очередной обыск. А они повторялись, считай, каждую неделю — жрать немчура была горазда. Из всех их занятий самым ненавистным для Вари была жратва. В хорошую погоду отделение усаживалось прямо во дворе, за длинный, им же сколоченный стол, расстегивалось, рассупонивалось и обедало так весело, полнокровно, по-хозяйски, с передаванием по кругу шнапса (русского спирта с разграбленного спиртзавода) — они обедали так, как будто были тут одни, как будто они были дома, как будто они были тут желанны. Как будто не было рядом Вариных детей, которых она на это время загоняла в комнату и которые, несмотря на плотно задернутую занавеску, тут же жадно, молча вперялись в окно — этого Варя запретить своим детям не могла.
Кто знает, догадывались постояльцы о ее уловке или нет. Возможно, и догадывались, да проверить было лень: голодухи они в то время не знали ни в чем. А может, и не догадывались: городок стал тылом, перевалочным пунктом, и квартиранты в доме время от времени менялись. Соседи — те, конечно, все поняли, но помалкивали. Правда, встречались на улице и такие, что не понимали, и тогда Варе доводилось слышать за спиной обидный, в жар бросающий шепот, а то и пущенный вослед плевок. А потом и сама свыклась с повязкой и как будто бы и впрямь почувствовала себя заразной. Оскверненной — как и земля, и дом, хотя лично ей он не принадлежал: она сама была в нем постоялицей.
Варя не могла запретить детям смотреть в окно, но когда немцы садились обедать, она тоже располагалась в глубине своей комнаты, расстегивала кофту и давала младшим грудь. Старшая, трехлетняя, уже вышла из грудной поры, но Варя брала на руки обеих, усаживала — Машу на одно колено, Нину на другое — и выпрастывала каждой по теплой, сдобной, тоже как хлеб из русской печки, сиське. И даже Нюру, сестренку, своим молоком подпаивала. Сцеживала тайком в стакан и после, как коровье, подсовывала ей. Говорила: на базаре купила. Или — люди дали.
А за что бы она купила? Если какие деньги у них и были, то теперь они не то что цены — смысла не имели. И чего бы ради ей д а в а л и?
Грудь ее выручала. Откуда только бралось оно, из каких глубин поднималось, какими кореньями выцеживалось, ее скудное, горькое, не то что раньше, когда беззубым дочкиным деснам достаточно было даже не сдавить, а лишь помять ее выспевший сосок, и тем не менее спасительное молоко! (Что больше всего напоминает набухшие женские соски, так это уроженка здешних мест тутина — ее розовые, продолговатые, шершаво-пупырчатые ягоды тоже ловят не руками, а прямо губами.) Откуда оно бралось, молоко? — может, это злость ее, ненависть перегонялась в него: у самой Вари целыми днями во рту маковой росинки не было.
У нее, случалось, маковой росинки во рту не было, но когда она видела эту жадно жрущую немчуру, она думала не о еде и даже не о детях, грешная, думала — о Дмитрии Федоровиче.
Где-то он сейчас, как он там, и холодный, наверное, и голодный.
Как будто еще одна ноша у нее в ту минуту на руках. Как будто не он был защитником семьи и державы, а она, Варя, была его заступницей.
Варя не помнит, где она была в тот день, куда ходила, но хорошо помнит, что торопилась домой — за детей боялась. Была поздняя осень. Она выдалась сухой, нездоровой. Земля не отопрела, не отошла, наоборот — после первых заморозков заклекла, зачерствела. Тоже как будто съежилась, затаилась, обмерла под чужим кованым сапогом. Ни черенков, ни саженцев не принимала, все исторгала, как вражье семя, предпочитая остаться бесплодной. Яловой. Казалось, и снег, если будет, падет на ту неживую твердь как саван. Поскольку городок был маленький, степной, как гнездышко в степи, кормился землей, такая погода всегда беспокоила людей, поселяла в них смуту и неуверенность. Теперь же они словно и не замечали ее. Может, потому что были поколеблены еще более страшным, чем погода, и поколеблены в самой сути, в основании — в своей воле к жизни. Осень, зима — не все ли равно? Сезон один — неволя. Такая погода грозила неурожаем на будущий год, люди же жили, боясь загадывать дальше завтрашнего дня.
Порывистый ветер гнал по улице клубы пыли, мел с почти металлическим ржавым шорохом последние листья — скрюченные, черные, словно перегоревшие. От пыли не было спасения: она лезла во все щели, скрипела на зубах, обметывала их пресной черной каймой. Плюнешь — а слюна тоже черная, с сукровицей. Варя, запахнувшись и наклонив наглухо повязанную голову, почти бежала, когда заметила перед собой странное, тревожное скопление народа: обычно улицы городка были в это время безлюдны. Подошла, невольно замедлив шаг и свернув на всякий случай с середины улицы, с мостовой, по которой двигалась ей навстречу эта непонятная процессия, на тротуар. И лишь поравнявшись с идущими, поняла, что к чему. Поняла и, содрогнувшись, остановилась.
Немецкий конвой вел арестованных. Арестованных было человек пять, не больше. На пятерых арестованных было четыре конвоира: один впереди, другой замыкал шествие, два шли по бокам. Шинели с задранными воротниками, автоматы на шее, крупные, красно-палые от холода ладони на автоматах. Арестованные шли гуськом, и вместе с ними, только на некотором отдалении, не по мостовой, а по тротуарам, с двух сторон двигались десятка два горожан — праздные люди, оказавшиеся в этот час на улице. Арестованных вели по направлению к городскому кинотеатру «Спартак». Длинный, одноэтажный, с вечно размалеванными афишами стенами, в мирное время он напоминал карточный домик. Игрушку, несмотря на свои все-таки выделявшиеся в городке размеры, на свою громоздкость и определенную нелепость постройки. А может, как раз вследствие последних. «Спартак» был местом встреч, свиданий, вкруг него всегда гужевалась молодежь. Словом, веселым, зазывным местом. Теперь же в городе не было более страшного угла. С тыльной стороны «Спартака» расстреливали — в городе не нашлось другой такой длинной глухой капитальной стены. Тут же, рядом со стеной, к которой ставили обреченных, был бульдозером вырытый ров. Громадная яма — в нее сбрасывали убитых, засыпали землей, — яма заполнялась от расстрела к расстрелу. Могила была слоеной: люди, земля, люди, земля. Если в центре города стреляли — четко, механически, как бьют часы на стенке, — горожане знали: опять у «Спартака»… Теперь «Спартак» обходили седьмой дорогой. Он действительно стоял в самом центре городка, но теперь оказался как бы за его чертой. Сейчас, когда с него слезли цветные афиши, облетела, как листва, всегда обнимавшая его музыка, горожане задним числом заметили пугающую угрюмость, потусторонность строения. Мрачность его ржавых (словно крови напитавшихся) кирпичных стен, давящую, гнетущую тяжеловесность фронтона («гнет» — так называют здесь увесистый голыш, применяемый для придавливания в бочке квашеной на зиму капусты или засоленных огурцов). Немцы оказались зорче: они сразу высмотрели приспособленность «Спартака» к смерти.
Вот уж поистине: где стол был яств, там гроб стоит…
Люди обходили кинотеатр седьмой дорогой, но официального запрета подходить к нему не было. Он не охранялся, не был обнесен ни проволокой, ни забором. Да и для расстрелов вовсе не выбиралось непременно темное, глухое, тайное время — выстрелы, слышные во всех концах городка, звучали, случалось, прямо среди бела дня. Ничего не опасался фашист. Ни нападения, ни свидетелей. Так уверен был и в своей силе, и в своей же вечности на этой земле.
Варя тоже знала о расстрелах, тоже слышала эти выстрелы — они и в ней, как в колодце, отзывались протяжным эхом. То поднимали, бессонную, среди ночи, то застигали в круговерти дневных хлопот, и большие Варины руки вздрагивали, теряли силу, падали как подстреленные. Слышала рассказы очевидцев, но сама ни разу не видела, как ведут людей к кинотеатру. И теперь остановилась. Замерла. Поняла. И просто не смогла пройти мимо.
Негустая толпа на тротуаре увлекла ее с собой: Варя повернула с нею назад, хотя минутой раньше так торопилась домой. Люди, провожавшие арестованных, не были зеваками, как не были они, по всей вероятности, и родственниками тем, кого провожали. Сдержанная, чуть ропщущая, перешептывающаяся тишина сопровождала с двух сторон группу, двигавшуюся в центре мостовой. Просто любопытные так не идут. Да просто любопытные в таких ситуациях, как правило, теряют любопытство, оборачиваются крайне занятыми. Вместе с тем среди тех, кто шел с боков, по тротуарам, никто не рыдал, не ломал в исступлении руки. Плачущие, смахивающие слезу были, рыдающих — нет. Да и среди арестованных Варя не увидела ни одного знакомого лица: вполне возможно, это были люди нездешние. Глубже на восток, в приманычских горьких плавнях, сидели, говорят, партизанские отряды. Ходили даже слухи, что командирствовал в одном из них директор школы из их городка по фамилии Король-Мельниченко. Варя знала его — здоровый, шумный, шебутной мужик. «Король» — звали его в городе. Время от времени немцы снаряжались туда, в плавни, без конца рыскали по округе в поисках красноармейцев, отбившихся от своих при отступлении, раненых или заброшенных сюда для подрывной работы.
Люди, провожавшие арестованных, попались им на пути точно так, как попалась Варя.
Что-то было в подконвойных, что не позволяло пройти, поглазев, мимо. В их глазах, обращенных к каждому встречному так, будто в нем, встречном, мог крыться избавитель.
До встречи с арестантами они были необязательными прохожими, попутчиками на этих улицах. Встретивши их, становились согражданами.
Не только конвоиры вели арестованных. Это и они, сограждане, их вели — неприятелю.
Возможно, их общей горестной ношей было не только сострадание, но и чувство вины перед встреченными. Идущими под автоматами.
И эту ношу тоже легче было нести не в одиночку.
И люди кучковались, сторожко, на отдалении, но все-таки поворачивали и, перешептываясь, шли следом.
Впрочем, нет. Был тут человек, который уже ничего не боялся. Забыл обо всех предосторожностях. Человек — один, — исступленно рвавшийся к арестованным. Точнее — к одному арестованному: к старику, еще дебелому, но худому, костлявому, одетому в рваный овчинный полушубок — прямо на голое тулово. В группе арестованных он шел последним. Сухая голова его была обнажена, седые, но как бы засиженные волосы безжизненно трепались на ветру. Под глазами два старых, с прозеленью кровоподтека. Да и сами глаза, белки еще не очистились от крови. Из-за синяков они казались провалившимися еще глубже, подземельными. Взгляд их горел, он светился сквозь кровь, как сквозь спелую мякоть, и сам окрашивался ею.
К нему она и рвалась. Такая же старая, но еще не израсходовавшаяся окончательно, еще сохранившая довольно жесткую, костистую основу, сердцевину, сердечко, — это оно, сердечко, и билось, казалось, в оголенном виде, и пробивалось сквозь заслон, как сквозь собственные ребра, и наскакивало на него: она то старалась обежать охранника сбоку, то, отчаявшись, шла влобовую и висла на нем, стремясь хоть кончиками пальцев дотянуться до заветной цели. До старика. До его полушубка. До его связанных за спиною рук.
По всей видимости, они были мужем и женой, хотя ни деда, ни бабки Варя раньше в городе тоже не встречала. Вообще в их городке не говорят «муж и жена». Говорят: «свои». Свои. То есть друг друга. Старинная пословица гласит: свой своему поневоле брат. То есть «свой» — это еще ближе, чем брат.
Не так уж мало людей было в ту минуту на улице. Но других своих, настолько с в о и х, как эти двое, тут больше не было. Этим все и объяснялось.
И вновь и вновь кидалась она вперед, пытаясь то прошмыгнуть, пролизнуть, как мышка-полевка, у самых сапог охранника, невидимой и неосязаемой, обмануть его бдительность — лестью, угодливостью, мольбой, то пробуя сокрушить его, коренастого, несокрушимого, всей невеликой тяжестью своего старого, увядшего тела. В здешних краях сушат на солнце абрикосы, сушат вместе с косточкой. Мякоть, плоть усыхает, испаряется, зато косточка остается в прежних пределах и даже выпячивается, облепленная тонким, чуточным слоем горчащей, пахучей сладости — оболочки.
И солдат снова и снова легко, как бы мимоходом отшвыривал ее прочь. Что ему, борову, эта бесплотная оболочка: она и отлетала-то, и падала невесомо, без шмяканья, как спелый осенний лист. Так еще душа, наверное, отлетает. Падала и, отерев от сукровицы морщинистые, спекшиеся губы, опять поднималась, догоняла конвой и вновь пыталась пробиться за его запретную черту.
Она была докучливой собачонкой, репьем, вязавшимся к конвою, но все видели: если она все-таки прорвется к мужу, если ухватится за него хотя бы кончиками пальцев, ногтями, то, как бы она ни была стара, как бы она ни была слаба, оторвать ее будет невозможно даже этим дюжим головорезам.
Как жалко и в то же время неустрашимо, неостановимо она бежит, догоняет конвой, и как лениво ее каждый раз отшвыривают!
Картина была гнетущей. Варя была подавлена, растеряна. Думала ли она о чем-либо? Скорее всего, ноги сами несли ее — следом за конвоем, вместе с другими людьми.
Одно в увиденном ею было особенно странным. Особенно страшным. Варя сразу почувствовала это, но понять, в чем же заключается эта странность и особенный ужас происходящего, поняла не сразу. Спустя минуту.
Все происходило в полном молчании. Молча кидалась старуха, молча отшвыривал ее немец, молча брели арестованные. Видно, арестованных вели издалека, и старуха за дорогу обезголосела, а конвоиру просто надоело огрызаться. Не только ненависть, но и мольба — молча. Немо. Их неравное противоборство стало молчаливым и оттого — еще более ожесточенным. Фашист отбрасывал ее лениво. Но чем ленивее, тем — жесточе. Злее.
Молчал и старик — скорее всего, он боялся навлечь беду и на старуху.
От этого молчания горе казалось еще обнаженнее, ободраннее. Одна страшная суть, никаких отвлекающих деталей. И может, потому, что уста у бабки были плотно сжаты, что ни единого слова не срывалось с них — только временами прерывистое, приглушенное, невнятное хрипение, — может, поэтому она сама была воплощением горя. Аллегорией горя — никаких лишних деталей. Да что аллегорией — горем. Она не кричала, но кричало ее лицо. Оно все было — крик.
Человек на бесконечной дороге. Человек на коленях. И — только лицо, только огромный, разверстый, разодранный в крике рот. Мучительный, хотя и неслышимый вопль.
А может, потому и мучительный, мучающий, что — неслышимый?
Бесконечна была ее дорога в несколько шагов. Подняться с колен, ринуться вперед, вновь оказаться на коленях и вновь подняться… Мучительным, истошным был ее вой — просто регистр его был так высок, что слышать его не мог никто. Только она сама да, возможно, ее связанный дед. Ее вой никто не слышал, но он пронимал, повергал в смятение каждого, за исключением разве что конвоиров. Незабываемо было ее лицо — в своей страсти, боли, в своей силе — а силы в нем было больше, чем во всем старушечьем теле.
В своей решимости — достичь, доглядеться, докричаться.
Пожалуй, и теперь, в церкви, Варя узнала не столько старуху и даже не столько это лицо, сколько состояние лица. Это всепоглощающее, неукротимое стремление вперед, за предел, подчинившее каждую его черту.
Никакой угрозы не представляли немцу ее руки. Никакой угрозы не представляло ее тело. И даже выпнувшееся из оболочки закаменевшее сердце. Только лицо. Только глаза.
Их и отбрасывали.
На углу, у поворота к кинотеатру, старик посмотрел наконец старухе прямо в глаза (до сих пор он старался не смотреть на нее то ли потому, чтоб не видеть ее страданий — чем он мог ей помочь! — то ли опять же опасаясь взглядом своим подлить масла в огонь и подтолкнуть противоборствующие стороны еще к более решительным действиям друг против друга) и сделал слабое движение пальцами связанных рук.
Это движение можно было понять как желание размять затекшие, отерпшие, с почерневшими ногтями пальцы.
Но его можно было понять и как жест прощания.
Прости и прощай.
И тогда она ринулась в последний раз. Она шла с выбившимися из-под платка, развевающимися космами седых волос, со слепо вытянутыми руками — ничто уже не могло ее остановить.
Когда она уже была в трех шагах от конвоира, немец, шедший впереди и, по всей видимости, старший здесь, обернулся к тому, замыкающему, и что-то недовольно, зло прокричал. Приказал. Ему надоела вся эта канитель.
Конвоир вскинул автомат.
В глухо ропщущей толпе Варя вовсе не стояла крайней, ближе всех к старухе, но ей показалось, что черное, короткое дуло уставилось прямо в нее. Не в старуху — в нее. В живот.
Живот сразу стал мягким, беззащитным, противный холодок, зародившийся где-то в его глубине, пополз по всему телу. Из Вари как-будто кости вынули — так она вся обмякла и осела.
И — стыдно вспомнить — у нее вдруг мелькнуло какое-то неосознанное недовольство старухой, отчуждение от нее, малодушное раскаяние в том, что она, Варя, оказалась в эту минуту здесь. Сейчас выстрелит, и они там, дома, останутся сиротами. Не дождутся Варю. Из-за этой неугомонной бабки…
На какое-то время забывшаяся, забывшая о детях и Нюре, голодно дожидающихся ее во времянке, теперь, под автоматом, Варя мгновенно вспомнила их, увидела — зябко жмущихся в углу нетопленой хатки, навеки покинутых и обреченных…
Автомат щупал ее, а искал — их.
Ей бы бежать, а она не могла пошевелиться. Шагу ступить.
Может, потому и не вспоминалась старуха так долго, может, потому так быстро и заложилось в памяти все случившееся тогда, что вспомнить ее — значило вспомнить и свое, пусть минутное, но стыдное малодушие.
Инстинкт самосохранения — он, толкнувший к малодушию тогда, в ту роковую минуту, сказался и после, долгие годы старательно толкал ее к забвению. Обволакивал случившееся сдобной, амортизирующей тиной, замуровывая его в Вариной памяти.
В последнее время появилось понятие «экологическая ниша». Есть, бывают и невостребованные ниши человеческой памяти.
И вдруг ключ вошел точно в паз. И все вскрылось. Взорвалось. Вспомнилось — в том числе то, чего вспоминать и не хотелось. Ищущая поживу вороненая слепая сталь, враз обмякшее тело, испуг — пусть не за себя, за детей, и все-таки утробный, липкий, шкурный, — мгновенная — пусть невольная! — отчужденность по отношению к человеку, чураться которого, винить которого было нельзя. Стыдно было винить — запоздалый, но горячий, детский, девичий стыд занялся в Вариной душе и распространялся в ней как заря, достигая непривычно, не по-старушечьи зарозовевших щек и мочек маленьких, уже несовершенных, уже не таких чутких, как в молодости, ушей. Может, из-за румянца она и ощущала этот стыд как свет, ей казалось, что он выделяет ее и для других, и все вокруг сейчас оглядываются на нее, все знают: этой женщине — стыдно. Зазорно. И она тяжело, неуклюже, как будто и не в церкви вовсе, а у себя во дворе, в работе, поворотилась, кинулась назад, туда, где минутой раньше стояла узнанная ею старуха: найти, расспросить, рассказать. Повиниться…
Когда бабка приблизилась к конвоиру вплотную, он зло ощерился, сдернул автомат и прикладом с размаху, как колют дрова, ударил старуху по голове. Та рухнула. Хотя «рухнула» — о чем-то тяжелом, мощном. А она — хрустнула и поникла. Лист достиг земли.
В глазах у Вари потемнело, словно прикладом ударили ее.
Арестованных повели дальше, над старухой сгрудились люди, подняли ее, понесли.
Варя не помнила, как очутилась дома. Дети действительно сидели в углу на кровати в нетопленой времянке, сбившись, как ягнята, в кучу, она бросилась к ним, накрыла их своим большим горячим телом, разрыдалась. Не могла остановиться, не могла унять сотрясавшую ее крупную дрожь, и они, испуганные, почему-то липли не к ней, а друг к дружке, к Нюре. Они побаивались ее, непривычную, жадно обнимавшую их, целовавшую и как будто искавшую у них защиты. Оправдания.
Они не привыкли к ней — такой. Беззащитной.
Ей же казалось, что они ее сторонятся.
А потом все забылось. Как отрезало. Дела, заботы — жизнь — властно потребовали к себе.
Варя, проталкиваясь, заглядывала в лица старухам — те в изумлении отступали от нее, — обошла вокруг церкви, постояла возле калитки, через которую входили и выходили люди: бабки не было. Как сквозь землю провалилась.
Варя пошла домой. Было уже светло. Где-то за домами, за городом, в степи, всходило солнце. Его еще не было видно, но присутствие солнца на земле уже ощущалось. По изумительной весенней ясности, свежести: ночь была снята, как нагар, как лыко с ветки, и все вокруг засветилось чуткой, одушевленной, отчасти даже болезненной чистотой. Деревья, еще порожние, еще сквозные, не набравшиеся листвы — как воздетые к небу, к восходящему солнцу пустые пригоршни, — дома, сам ало мерцающий, разреженный, почти отсутствующий воздух… Пасха в этом году ранняя, по утрам еще холодит. Варя знала, что в доме еще все спят — в обычные-то дни горазды дрыхнуть, а уж в воскресенье! — что торопиться ей некуда, и шла во власти новых дум и воспоминаний. Как она могла забыть такое!
Как вымытая из небытия этим прозрачным утренним светом, возникла перед нею еще одна подробность того страшного дня.
Первой среди арестованных шла молодая женщина.
Те, кто шел следом, так или иначе, пусть даже неосознанно, искали поддержки, сочувствия у других. У прохожих, у той же Вари. Это не было трусостью. Человек вправе ждать воздаяния — даже в такие минуты. В такие минуты — особенно. Не подаяния — воздаяния. Ожидавшее их испытание требовало поистине нечеловеческих сил, и жалость, восхищение, любопытство — все, что жадно замечалось ими в чужих глазах, шло в дело, лихорадочно поглощалось измученной, словно обезвоженной душой, все — питало их. Держало. Помогало держаться.
Это не было почвой. Это было микроэлементами почвы, из которой произрастали корни, державшие их в тот судный час. Самое трудное в жизни — умереть, не теряя человеческого облика. Тем более — когда тебя убивают. Любое святотатство, в том числе насилие, — это нарушение каких-то извечных правил. И уже сам факт этого нарушения каких-то извечных правил. И уже сам факт этого нарушения как бы толкает человека к ответному беззаконию — в рамках того, что, единственное, возможно для него сейчас: к беззаконию по отношению к самому себе. К человеческому в человеке. К преступлению (пе-ре-сту-пить) против себя же. Все рушится! Все спишется! К черту правила. К черту игру. А что есть человеческое в человеке, как не возвышенная, трижды необходимая, обусловливающая само наше существование и все-таки — игра. Игра, ставшая натурой (пусть второй, но, слава богу, первенствующей). Вошедшей в плоть и кровь. Вернее, в душу. Еще вернее — она-то, игра, и стала душой.
Тебя ведут. И ты знаешь, куда и зачем тебя ведут. Тем самым тебя провоцируют: пе-ре-сту-пи! Почти рассчитывают на то, что переступишь.
Удержаться. Идти. Пусть затравленно, пусть не смеяться в лицо убийцам и не петь гимны, но — идти, а не ползти. На своих двоих, а не на четвереньках. Какая нечеловеческая работа! — и разве может тут быть лишней хотя бы крупица силы, дарованной извне?
Потому и смотрели они так жадно по сторонам. Даже не надежда на чудо, на выручку, на помощь действием (хотя кто знает, кто может ответить з а н и х наверняка), а пусть — жалость, пусть — восхищение, пусть — любопытство. Да пусть хотя бы наличие чьих-то (даже равнодушных!) глаз, свидетелей! Свидетельств.
На миру и смерть красна…
А эта женщина шла, ни на кого не глядя. С головой накрылась темной клетчатой шалью, сама себя в ней похоронила и шла, как под балахоном. Скорее даже на ощупь шла, потому что и малой щелки, прорехи для глаз не было.
Так зашторивают окна, когда хотят, чтобы и капля света не просачивалась, не ронялась из них. Чтобы свет — весь! — оставался внутри.
Женщина несла под балахоном ребенка. Даже через шаль, по ее складкам, видно было, как он обнимает мать за шею. Как видна была и молодость матери: по походке, по статности… У нее одной из пятерых арестованных не были связаны руки. Милосердие палачей: чтобы она своими руками донесла свое дитя до гибельной черты. До стены кинотеатра «Спартак». До ямы, которую весь город обходил седьмой дорогой.
Другие искали поддержки у других, она же сама заточила себя. Дополнительно. Наглухо. Последнюю щелку — задернуть. И все, что было в ней живого, отдавала. Выдыхала. Точнее — вдыхала в существо (мальчик? девочка?), которое несла на руках. Которому дала жизнь и у которого теперь сама, с в о и м и р у к а м и ее, жизнь, отнимала. Да, отнимали другие, но дело ими было повернуто так коварно, что и она, мать, была причастна к отниманию жизни. Стала соучастницей. Отнимали — ее руками…
Что она шептала во тьме ему, несмышленышу, возможно, безмятежному и ничего не подозревающему? Возможно, забавлявшемуся и темнотой, и материнским шепотом, и материнской лаской…
А может, ребенок был болен, был в забытьи, и темнота была для него целительной? Целительной…
Какую молитву шептала, в чем винилась, что — дышала?..
Кем она была? Что сделала?
Варя на мгновение остановилась — так ясно предстала перед нею та давняя картина. Так бывает с заспанным сном: утром его не помнишь, утром не до него, а в дневной круговерти, глядишь, он и возник в памяти. Проявился. И ты на мгновение останавливаешься, вроде как споткнешься, и душа твоя на минуту выпростается из-под беготни, и ты заново переживешь, перечувствуешь тот мимолетный сон и поймешь его вещий смысл.
И Варя остановилась — как споткнулась.
Когда же она заспала? — спрашивала она сама себя, и душа ее была не на месте. Душа стронулась, напряглась, заныла. Варя ощутила ее — не потому, что раньше ее не было. Нет. Просто раньше Варино тело жило в согласии с нею, теперь же наметился ноющий диссонанс. Душа как-то выпнулась, выперлась, в этом было свое неудобство: Варя почувствовала ее, распростертую, чутко и больно ловившую доселе забытые дуновения, как парус. Как парус, и увлекавший куда-то ее большое, тяжелое тело, и одновременно делавший его уязвимым.
Ее, Варю, — уязвимой…
Хорошо, что путь домой был неблизким. Варя притерпелась за дорогу к новому ощущению, к этому свирельно ноющему зазору (а он в ней, видать, угнездился надолго, она и сама не подозревает, как надолго — навсегда! — поселилась в ней эта тревожная уязвимость), успокоилась. Отдышалась — этим занимающимся днем, воздухом, дорогой.
Дорога стала длиннее: Варя не заметила, как взяла левей и пошла через центр. Той самой улицей. Как будто надеялась найти там чьи-то следы. Здесь тоже было тихо и пусто. Даже пустыннее, чем на окраине: все-таки города, даже такие маленькие, просыпаются с окраин. Только Варины шаги разносились в утренней тишине. Они словно шли впереди Вари, отдельно от нее: так у незрячих стучит впереди посох…
Варя пришла домой, минуту посидела на кухне, расслабленная, притомившаяся после всенощной, и помаленьку принялась за дело. Разделась, прошла из летней кухни в дом, в среднюю комнату, стала накрывать на стол. Вынула из шкафа и с треском разлепила накрахмаленную и выглаженную льняную скатерть, застелила ею стол, широко поводя своей большой теплой ладонью, как бы распрямляя каждый лепесток на вышитых по скатерти подсолнухах. Поставила посередине на самую большую тарелку принесенную из церкви «посвяченную» пасху с облитой яичным белком и сахаром верхушкой, окружила ее крашеными яйцами. Потом еще несколько раз ходила в летнюю кухню — за пирогами: с сушеными фруктами (здесь говорят: «с сушкой»), с тушеной капустой. За тарелками, до краев залитыми остывшим за ночь киселем: густо-красным, как свернувшаяся кровь, — вишневым и еще темнее, фиолетовым, цвета позднего виноградного листа, с алым сколом в глубине — из терна и черной смородины. Принесла с ночи томившегося в русской печке на улице гуся в тяжелом чугунном сотейнике, который даже через кухонное полотенце припекал своим настоявшимся, выспевшим жаром. Привычно делала привычную работу, привычно радовалась, что вот встанут молодые, встанет ее семья, а на столе все готово, и не хуже, чем у людей. Что сын, побрившись и наплескавшись во дворе под рукомойником — он и зимой там умывается, только Варя втихомолку добавляет в рукомойник кипятку из чайника, — снова зайдет в комнату, восхищенно замрет перед столом (во двор выйдет сонный, лохматый, ничего не заметит вокруг), оглушительно хлопнет в ладоши:
— Ну, Варя, молодчина!
Она и бутылку могла бы на стол поставить, есть, имеется, стоит в холодильнике, но бутылка, считает Варя, не бабье дело. Бутылку сын и сам не проворонит: было в кого удаться. Хотя вообще-то царство небесное незабвенному Дмитрию Федоровичу, не годится его в такой день худым словом вспоминать.
Варя делала работу, Варя думала свое, но так же, как в большой реке есть сразу несколько течений — верхнее, поверхностное, с мусором, с перьями, листьями, срединное, куда еще заглядывает, переломившись, солнечный свет, и, наконец, глубинное, донное, незрячее, то, которое подчас, говорят, может течь даже в противоположную, нежели два первых, сторону и которое тем не менее в конечном счете и определяет, куда же течет река, — так и Варины мысли текли одна под другой. А на самом дне и не текли вовсе. Стояли на месте. Кружились, образуя широкие, темные, гибельные, неслышные смерчи. Омут. Кружились вокруг старика, старухи, женщины с ребенком на руках, вокруг самой Вари тех дальних лет. От этих мыслей невозможно было освободиться, да Варя и не пыталась стряхнуть их. Наоборот, она держалась за них, она боялась заспать их.
Это они теперь определяли Варино течение.
И только одна мысль с поверхности (вы видели, как изысканно скользят по глади стоячих вод верткие водяные блошки: на одной ножке, оттопырив другую, как оттопыривают барышни мизинчик, и заложивши ручки за спину, вывернув две микроскопические фиги или посылая публике томные воздушные лобзания — фигуристы!) достигала глубины, спода, и там задерживалась, включалась как ровня в течение, точнее, в кружение: Варе хотелось взглянуть на Варю маленькую.
Обычно Варя маленькая спит с Варей большой, но сегодня из-за бабкиной отлучки она осталась в комнате одна. Их комната — во второй половине дома. Собственно говоря, половины, на которые делят дом сенцы, никакие не половины. Они разные. В первой половине — две комнаты: передняя, где сейчас спят сын со снохой и где в основном сосредоточены и ковры, и новая полированная мебель (по причине этого сосредоточения Варя, тяжелая, неманевренная, лишний раз туда не заглядывает: от Вари всегда какой-нибудь, чаще всего земляной, огородный, напоминающий каракули, след остается), и уже упоминавшаяся так называемая средняя комната, где Варя сейчас и накрывала стол. Во второй же половине комната только одна. Да и та меньше всех. В доме ее называют почему-то тещиной комнатой. Варя и Варя не обижаются: тещина так тещина. Им там хорошо вдвоем, укромно и уютно, в этой тещиной комнате, примыкающей непосредственно к сеням. Варе маленькой тут хорошо еще и потому, что она тоже имеет способность кругом оставлять следы, заячьи стежки — грязи, снега, дождя, чернил, конфет, пластилина, жвачки «Апельсиновая», и по этой причине в передней (не путать с прихожей, как раз напротив: «передняя» здесь, в этих местах, — самая главная, самая шиковая!) Варя маленькая тоже элемент нежелательный. И даже опасный. В отличие от Вари большой чересчур, излишне маневренный. Если она и появляется там, то, как правило, под бдительным присмотром матери. Потенциальный правонарушитель. По этой же причине и телевизор вынесен из передней комнаты в среднюю, хотя единственный мужчина в доме и пробовал протестовать: единственный мужчина любит смотреть телевизор прямо с кровати, где он благополучно засыпает — совершенно синхронно с прощальными словами телевизионной дикторши. По сигналу из Москвы. Радио в доме — это будильник. Петух: вставай, поднимайся, в поход собирайся. Телевизор же — «спокойной ночи…». Варя к телевизору пристрастилась. Она даже стесняется этой своей привязанности и всячески маскирует ее. Сама телевизор никогда не включает и в отличие от Вари маленькой никого не просит, не канючит его включить. Зато уж если его включили, Варя это непременно почувствует. Звук ли услышит, окно ли в средней комнате засветится странным, словно шаровую молнию там заточили, светом, — Варя, где б ни была, что б ни делала, все бросит. Она и дела свои вечерние подгадывает таким образом, чтобы это окно всегда было в пределах ее видимости. Досягаемости. Она лучше еще раньше встанет и позже ляжет, но даже самые неотложные дела за счет телевизора делать не станет. Правда, совсем уж без дела она и перед телевизором не сидит. Варя в это время вяжет. И хоть телевизор они смотрят при выключенном свете, Варе вполне достаточно и того, что сочится с экрана: она давно уже вяжет не по счету, а по привычке, по наитию. Пальцы давно знают все сами, и контролировать их — только мешать. Варя им и не мешает. И они ей тоже не мешают: вооруженная очками Варя целиком поглощена экраном. Жадно следит за всем, что там происходит, молча, но искренне переживает чужие страсти, с упоением путешествует по странам и континентам, а политических деятелей и обозревателей узнает в лицо. По искренности и силе переживания, сопереживания она может сравниться разве что с Варей маленькой. Обе, кстати говоря, вежливо отвечают, когда люди из телевизора здороваются или прощаются с ними. Вари прекрасно понимают, что это необязательно: они ж, как выражается Варя маленькая, не какие-нибудь тронутые, но промолчать в таких случаях им кажется неудобным. Невоспитанным. Этой неожиданно открывшейся страстью Варина жизнь словно берет запоздалый реванш: за оседлость, за тяжесть, за монотонность, за неграмотность: в газете Варя прочитывает только заголовки. Впрочем, этого бывает достаточно.
Варя любит телевизор, но засыпать под него не засыпает. Наоборот, долго потом вздыхает, додумывает, досматривает. Ей всегда мнится, что не только они смотрят телевизор, но и телевизор смотрит их. Так и ее мысли: блукая, как тучки, где-то по дальним пределам, подходят к порогу ее дома и наоборот — от ее порога, от ее семьи бредут, впитывая попутные и встречные ветры и испарения, в дальние пределы. Мир для Вари раздвигается. Раздвигается и пространственно, и во времени, и как-то еще — так, что перед нею возникает как живой и Дмитрий Федорович, и она еще какое-то время ведет с ним вдовьи разговоры. Рассказывает, расспрашивает, и Дмитрий Федорович, раньше вечный упрямый спорщик, теперь во всем соглашается. Покоряется.
Потому и соглашается, что и рассказывает, и расспрашивает, и отвечает Варя сама. И за себя, и за него. На два голоса. И впрямь на два: мысли у Вари свои, а вот голос ответный она подбирает тщательно, памятливо — его, Дмитрия Федоровича. Голос помнит отчетливо, чутко, по-своему нежно. Он возникает по первому зову, и по этому голосу, ревностно сберегаемому в разноголосице Вариной души, она помнит его лучше, точнее, ж и в е е, чем по увеличенной карточке на стене.
То ли мир раздвигается, то ли Варина душа в те минуты растекается, подобно лунному свету, в пространстве, времени и где-то еще, заглядывая туда, куда ходу нет никому. Туда-то есть, да оттуда — нету…
«На телевизор» Варя и Варя ходят в среднюю комнату, а спать возвращаются к себе. Варя маленькая укладывается в маленькую деревянную кровать, Варя большая — в большую, железную. Ритуал отхода ко сну таков: Варя раздевает внучку, обряжает ее в пижамку, укрывает одеяльцем, тщательно подоткнув его со всех сторон, потом Варя маленькая, выпростав тоненькие теплые, словно она их там, под одеяльцем, нарочно согревала, насиживала, ручонки, обнимает ими за шею наклонившуюся над кроваткой Варю:
— Дай я тебя подушу…
Почему «подушу»? Слово-то совсем не годится для таких случаев. Можно сказать, грубое слово, но в Вариной семье оно всегда звучало как объяснение в любви. Звучало, пока дети были маленькими. А подрастали — и слово пропадало, отмирало, отцветало. Каким образом — генами? — восприняла его Варя маленькая? Восприняла через такую пропасть — к моменту ее появления на свет и тетки ее, и отец (а отец даже раньше, хотя был в семье самым младшим: Варя до сих пор не может принимать всерьез его отцовство — он так и остается для нее мальчиком, пацаненком, «последушком», как называли его они с Дмитрием Федоровичем) давным-давно уже не пользовались этим паролем, сигналом любви и привязанности. Казалось, оно сгинуло навсегда, покинуло этот дом, рассыпалось во прах. А народилась Варя маленькая, вернулось в дом детство — и слово тоже вернулось. Воскресло. Стеклянная палочка Вариного смеха (и рева тоже) коснулась образовавшейся пустоты, и из нее, прямо из воздуха, явилось слово. И завертелось на этой палочке, и зазвенело.
Волшебница Варя.
Что она еще умеет оживлять?
Когда одновременно с этим полусонным, уже как бы с другого берега «подушу» Варю обхватывают за шею тонюсенькие, с задравшимися пижамными рукавами ручонки, душа у нее переворачивается. Ее захлестывает теплой волной жалости и любви. Причем жалости не только к этой девчушке, к внучке, но и к сестре своей Нюре, которая живет сейчас на дальнем хуторе в другом районе и чья жизнь, считает Варя, как-то не заладилась (муж умер еще раньше, чем у Вари, а зять по пьяной лавочке обижает ее, и Нюра в своем же дому по одной половице ходит — вечная падчерица), и к самой себе. В этих слабеньких, еще стебельковых руках есть что-то настолько родственное, родное, неизъяснимое, что они и Варю большую повергают в детство, заставляют вспомнить горькое свое сиротство и даже влекут дальше, глубже, ч е р е з п р о п а с т ь — в этих руках Варе на миг чудятся руки ее собственной матери, которые если она еще и помнит, смутно, наплывами, то лишь по запаху.
Материнские руки пахли так же, как пахнут руки Вари маленькой. Она и помнит-то материнские руки по запаху Вариных рук.
Дмитрия Федоровича помнит по голосу, мать помнит по запаху.
Руки Вари маленькой до сих пор пахнут молозивом: может, потому, что Варя большая так усердно и сладко потчует ее («годует» — говорят в здешних южных краях, и это слово означает нечто большее, чем процесс кормления. Процесс любви — тоже. Кормить с любовью. Кормить любовью).
Руки внучки и руки матери. А ведь девчушка и в самом деле говорит не «подуши меня» и не «поцелуй меня».
Дай я тебя подушу, дай я тебя поцелую.
Кто ее научил, кто ей нашептал? — через такую-то пропасть…
Волшебница Варя. Что еще она умеет воскрешать?
Засыпают они каждая в своей кровати, но среди ночи Варя маленькая каждый раз выскальзывает из своей постели и перебирается к Варе. То ли одиночество ее среди ночи гложет, то ли норка выстывает. А может, наоборот: чует бабкино одиночество? А Варя большая порой и не слышит, как та присоседится возле нее. Не слышит, но знает, что непременно явится, и, ожидаючи ее, опасаясь ненароком придавить, спит всегда на боку. Ребром, а не плашмя. Как большая, устало бороздящая воды рыбина.
А утром Варя встает рано, раньше всех в доме, и прежде чем одеваться, любит минуту постоять над кроватью. Над Варей. Как только Варя большая осторожно, стараясь не скрипнуть, не потревожить внучку, поднимается с кровати, Варя маленькая тотчас, во сне, перекатывается в образовавшуюся после Вари выемку, впадину на перине. Впадина легко, без участия сетки выгибается, оставляя лишь легкий след, намек на ложбину, и вот она, Варя, как конопатенькое воробьиное яичко в мелком, едва скраденном степном гнездышке.
Вообще-то, знает Варя, в таких гнездах, в траве, на земле чаще живут не воробьи — то преимущественно застрешные жители, — а жаворонки. Вольные, не привязанные к человеку птахи. С з е м л и — и в такую певучую высь…
Варя спит тревожно, во сне все время пытается выбраться, как из-под руин, из-под одеяла, брыкается — Варе большой крепко достается от нее, и она, чтобы унять, успокоить, уговорить эти блуждающие подкожные токи, накрывает ладонью костлявые Варины ножонки и потихоньку гладит их. Но под утро сон у внучки становится крепче, он заполняет ее полностью, всклень, и, залитая им, как нектаром, до краев — сон, кажется, проступает, сочится даже сквозь поры зардевшихся щек, — она лежит перед Варей умиротворенная, безмятежная (это удивительное сочетание полной беззащитности и в то же время глубочайшей, инстинктивной уверенности в своей нерушимой защите, в этой вере есть пусть неосознанный, пусть тоже дремлющий, но все-таки есть и расчет на Варю. На всех и в том числе на Варю. Варе даже кажется, что на нее, на Варю большую, — в первую очередь). Эта картина каждый раз умиляет бабку, и она, пока стоит над кроватью, нет-нет да и сморгнет светлую, легкую слезу. И отходит, стараясь как можно мягче ступать босыми ногами, чтоб не побеспокоить, не расплескать, не пролить ни одной драгоценной капли: пусть себе нежится, пусть себе копит этот утренний мед — он ей еще пригодится. Кто знает, что ждет ее в жизни, Варю маленькую-премаленькую…
Варя накрывает стол, и ей хочется на минутку отлучиться, взглянуть на Варю, и это желание находится в полном, хотя и не совсем понятном согласии с глубинным течением Вариных мыслей (возможно, оно из этого течения и родилось), но когда она решает, что вот теперь-то наконец все, сейчас еще поставит на стол принесенное из погреба — а туда она спускалась по замаслившимся от весенней талой влаги ступенькам трудно, осторожно, тяжело и назад поднималась уже с передыхом — блюдо с яблоками — симеренко с налипшей на них соломой, — пойдет в свою тещину комнату, в этот самый момент (дверь Варя открыла ногой, ибо блюдо большое, «важкое», как сказала бы Варя, одной рукой его не удержать) она обнаруживает, что опоздала. Замешкалась. Варя маленькая уже тут, в средней комнате. Возле стола: сидит, прямо с голыми пятками, на стуле. В пижамке, зябко обхватив руками коленки. Было яичко, стало — птенчик.
И спит: голова покоится в коленях. Благо шея длинная, хватает.
Варя осторожно, бесшумно ставит блюдо на стол.
Варя маленькая открывает глаза, приподымает голову — подбородок по-прежнему торчит в коленках — и неожиданно строго спрашивает: где она, Варя большая, была?
Варя большая виновато замирает.
Стало быть, Варя искала ее. Явилась, сонная, лунатиком, в постель, а тут пусто. Холодно. И поняла-то, наверное, не сразу, что — пусто. И побрела, непонятно чем ведомая, дальше. Пока не нашла ее, не угадала — здесь.
Что она могла подумать, пока искала, пока натыкалась на эту холодную пустоту?
Дай я тебя подушу…
За завтраком Варя попробовала рассказать снохе и сыну про свою нечаянную встречу, но у нее не вышло. Сноха сказала, что этого не может быть, потому что сколько же лет тогда должно быть той старухе? Девяносто? Сто?
— Да нет, — простодушно ответила Варя. — Не девяносто…
— А что, разве людям не бывает девяносто? — с тревогой спросила Варя маленькая, молча, но чутко сидевшая все это время на своем месте — у окна, свет из которого совершенно свободно проникал через нее и так же, как сон, проступал на щеках.
Разговор сам собой перекинулся на другое, и Варя больше не пыталась рассказывать кому-либо об этом: и впрямь подумают, что спятила. Что ж, она сама не понимает, что ли, что т о й старухи просто не может быть. «Не может быть, потому что не может быть». Ей тогда уже было лет шестьдесят. Пусть даже пятьдесят. Да если еще сорок прибавить? — действительно девяносто.
Да нет, ей и сейчас шестьдесят. Ну, может быть, шестьдесят четыре, как и самой Варе. Может быть, они ровесницы. И скорее всего, ровесницы.
Но не могла же она не состариться! Не бывает же таких, что не старятся. Все старится — это уж Варя знает наверняка. Вон даже руки, которым, казалось, сносу век не будет…
Все она понимает и все равно, где б ни была, все высматривает эту старуху. На улице, на базаре, в кино ли — рука об руку с Варей маленькой. На старости лет даже меньше дома стала сидеть, чаще бывать на людях. Вот только в кинотеатр «Спартак» они с Варей маленькой не ходят. В городке два кинотеатра — «Спартак» и «Комсомолец». «Спартак» ближе, но даже когда там показывают мультфильмы о Зайце и Волке, они туда не идут. Ждут, когда мультики пойдут в «Комсомольце». Варя пока не объясняет Варе маленькой, почему они не ходят в «Спартак», боится, что не сумеет объяснить. А та и не спрашивает объяснений, и порой Варе кажется, что внучка сама все понимает. Помнит, хотя как она может помнить то, что случилось до нее…
Варя надеется отыскать старуху. Расспросить? — как жива осталась, как жила. Рассказать? Повиниться? Мол, малые дети дома ждали.
Весна тем временем разгорается. И если раньше вишни перед Вариным домом стояли все в узелках и кудельках — так человек, которому кроят костюм, утыкан булавочными головками: даже изо рта торчат гарнирным никелированным пучочком, лишая его, безвинного, всяческого сопротивления перед лицом сурового сервиса, — то теперь уже по этим почечным выкройкам, по этой основе заструилось, женственно обтянуло корявые, трудно перезимовавшие кроны живое, шелковое, морозно-ослепительное шитье. Цветов так много, ими так плотно, купно унизаны, усажены все ветви и веточки, что каждое дерево выглядит, как один громадный и вместе с тем воздушный, легкий, л е г к и й н а п о д ъ е м, а теперь на минутку, к самой земле спустившийся рой. Он кишит, гудит, шевелится, нежно поблескивая перламутровыми крылышками, дрожит от усердия, от любовного трудолюбивого напряжения. Еще чуть-чуть, и рой, разъятый, обескровленный, разомкнется, разлетится, запорошит по земле, завьюжит по теплому воздуху, оставив дереву пока даже глазу невидимую завязь. Благословенный, единственный миг весны и природы — сретенья души и тела.
Вечером при свете цветущих вишен Варя большая и Варя маленькая по-прежнему часто сумерничают на лавочке. Спасаясь от весенней прохлады, девчушка забирается под полу вязаной Вариной кофты, обхватывает Варю руками, та укрывает ее с головой, и тогда они представляют одно слитное целое, состоящее из двух половинок. Как фасолина. Или как фасолина и ее нежный, едва родившийся, возникший в паху росток. Глазок. В такие минуты Варя большая особенно, болезненно полна нежности и тревоги. Раздумий, не оставляющих ее в последнее время. На мгновение она самой себе кажется и той старухой, и женщиной, несшей под шалью малое дитя.
Что шептать? Как сберечь?
У Вари ясная память.
У Вари еще неплохой слух: в этом слитном целом она слышит сразу два сердца.
Их действительно два: Варино — глухо (каждый удар уже отдается в висках), медленно, со все — хотя и неприметно — удлиняющимися привалами.
И Варино: тук-тук-тук.
СОН Рассказ
Среди ночи жена растолкала меня, потому что я во сне кричал.
Если уж быть абсолютно точным, она недовольно заметила, что я выл как щенок.
Она опять уснула, а я, растолканный, лежал в холодном поту. Сон еще не покинул меня. Не вышел, как яд, из организма. Еще пропитывал каждую пору. Есть слово «теплиться». Если бы было такое же по конструкции, но с противоположным смыслом — «холодиться»? — я бы сказал, что сон еще холодился во мне. И медленно-медленно все-таки уходил. Испарялся.
Я уже вышел из его тенет, но обычного в таких случаях радостного облегчения, успокоения — господи, да это всего лишь дурной сон! — не было. Душа застуженно ныла и как будто бы еще продолжала скулить — безголосо, что, в общем-то, всегда еще хуже. Сна не было, а боль осталась и стала еще тревожней, явственней. Явью стала. Сон вышел, а она осталась, как невыдернутое жало.
Мне приснилось, что одну из своих дочек я люблю меньше других.
Как такое может присниться — ума не приложу. В каких таких образах, коллизиях? А вот приснилось. Мысль, может, когда и шевелившаяся где-то там, в глубине, стронулась с места и подошла во сне к поверхности. Большие, угрюмые, черные от ила донные рыбы, привлекаемые, как собаки, полнолунием, всплывают со своих колдовских, подкорковых глубин только по ночам.
Мысль стронулась с места и пошла в направлении сердца.
И я заскулил. Кем я был в тот момент? Кем была моя сонная или, наоборот, недремлющая душа? Той самой девочкой, длинненькой и неуклюжей, как необсохший ягненок с еще разъезжающимися копытцами, вечной неумехой и вечной же приставалой — все лизалась бы да висла у тебя на шее, забывая, что она давно уже не младшая, что в доме есть уже еще д в о е меньше ее и что ее, восьмилетнюю акселератку (длиннющая, а копытца-то все равно разъезжаются), не так-то просто уже «взять на ручки», как она того без конца просит. Душа стала девочкой, которой вдруг открылось, что ее любят меньше других.
Это ее-то, которой любви и ласки требовалось больше, чем другим? Больше и потому, что она просто больше их могла поглотить (каждой своей жадно растущей клеткой, клетка как будто и растет только при этом условии, в этом питательном растворе). Гладишь ее по голове, а она так и вьется под ладонью, так и ластится к ней макушкой, каждым волоском, как будто это и не ладонь вовсе, а слепой летний дождик брызнул над нею. «Дождик-дождик, припусти, мы поедем на кусты, богу молиться, Христу поклониться», — распевал я в детстве сам, прыгая во дворе под всегда долгожданным и всегда нечаянным в наших засушливых краях дождем.
Я, правда, не понимал, почему надо было ехать «на кусты» и какие-такие там именно кусты имеются в виду, — если виноградники за лесополосой, то туда и ехать не надо и очень даже опрометчиво было бы ехать: туда надо вползать на пузе, дабы объездчик Бабцов, прозванный в селе за свой вечный риторический вопрос и за свое хохлацкое происхождение странным длительным прозвищем: «Бумага е?» (никакой «бумаги», естественно, не было ни у взрослых, попадавшихся на потраве совхозной люцерны или того же виноградника, ни, тем более, у нас, пацанов), не попортил тебе шкуру арапником, а то и зарядом соли.
…Ей надо больше любви и ласки еще и потому, что она сама больше их может дать. Возвратить.
И вообще неизвестно: когда она кидается на шею, едва не сбивая с ног тебя у порога, — требует она или о т д а е т? Где тут граница?
И вот этой-то девочке в ночной сумеречный час мнится: ее любят меньше других. Ее, может, вообще не любят.
И она, беззащитная перед лицом такого горя, заскулила, воспользовавшись, правда, довольно неподходящим, поместительным горлом большого, уже забывающего свое детство человека.
И — загадочное превращение! — горло обернулось жалобной свирелью, жалейкой: как бы мы ни росли, как бы ни умножались в весе и объеме, душа у нас остается младенческой.
Если еще, дай бог, не ссыхается, не сворачивается, как траченный червем лист.
Она струилась в ночь легко и тихо, щенячьим поскуливанием.
Или она все-таки оставалась сама собой — душою грешника, преступника в минуту прозрения и раскаяния.
Когда девочка была совсем маленькой, у нее слишком быстро зарастал родничок. Согласно тогдашней теории, в этом был зловещий знак: раньше срока окостенеет, замуруется, череп, прекратится его рост, а стало быть, и рост того, что там, внутри. Нам это было объявлено со всеми предосторожностями, оговорками: в кабинет намело, как сугробов, белого; едва ступив в него из июльской духоты поликлиничного коридора, мы с женой сразу почувствовали леденящее единодушие этой белизны.
Доктора были отстраненно участливы.
Потом были частые, вспыхивавшие подчас в самых неподходящих местах и без видимого повода слезы жены, бесконечное пугливое ощупывание действительно небольшой, вертлявой, с удовольствием ласкавшейся в родительских ладонях головенки, постоянное тайное, болезненное сличение ее с такими же вертлявыми головенками ровесников — во дворе, на улице, при всякой, даже мимолетной встрече.
И напряженное, тревожное вслушивание, вниканье в бессвязный младенческий лепет.
В нем то угадывалось, выхватывалось — возможно, сочинялось — осмысленное слово, полслова, спичка, порхающая искра в ночи, тотчас отзывавшаяся в нас многократно усиленной вспышкой надежды и ликования, то, наоборот, чудилось лишенное всякого смысла, даже интонации (и это пугало больше всего) журчанье: ручей, казалось, вытекал из самого забвения.
Отчаявшись найти, выцедить в нем хоть песчинку узнаваемого, мы сами, измученные, опустошенные бесплодностью своих усилий, в иные минуты готовы были к движению вспять.
Следом.
Жена поднимала глаза, а в них ничего не было: ни боли, ни мысли, ни цвета. Пусто. Литература оставила нам множество примеров удивительных материнских превращений: в голубку, в волчицу… Думаю, что в этих превращениях материнская душа не остановилась бы и перед безумием, если бы оно оказалось или показалось бы ей спасительным для ее дитяти. Способна обернуться оборотнем, лишь бы — следом.
Догнать, понять, помочь.
Так продолжалось до появления Коршуновой.
Коршунова позвонила, молча прошла в квартиру, сняла старенькое, заношенное пальтецо, кацавейку, сунула ее мне.
Ее большие руки были красными, холодными — на улице стояла слякоть, — кацавейка была ей явно мала, куца. Создавалось впечатление, что она вообще с чужого плеча, а если и с коршуновского — то еще с девического, девочкового. Предположение резонное, потому что они и выглядели почти ровесницами, хозяйка и ее кацавейка.
В Коршуновой в самом деле было что-то девочковое: угловатость, широкоступность. Никакой старушечьей плавности, никакого речитатива. Седые жесткие космы, сухой, аскетичный, инквизиторский профиль. И — резвость, резкость девочки на баскетбольной площадке.
— Поторопитесь, молодой человек. Я ваш новый детский доктор, и у меня на участке не только вы, — сухо оповестила она, заметив мое замешательство: я все стоял посреди комнаты с ее хламидой в руках.
Несколько минут спустя она уже осматривала девочку. Распростерла ее на пеленке и издалека, с дальнозоркой высоты, воззрилась на нее своим действительно коршуньим, ястребиным ликом. Потом тоже долго щупала, ворочала ее под жалобное квохтанье матери, находившейся поодаль, — каждую ее попытку приблизиться вплотную Коршунова молча пресекала гневным манием такой же инквизиторской, как и профиль, старческой руки.
Жертва вначале куксилась, после развеселилась, — видимо, ее диагноз, а она изучала пришелицу с не меньшим пристрастием, чем та ее, был утешительным: бабо-ягизм, — и в конце концов, исхитрившись, ухватила Коршунову за сухой, породистый, уже клювообразный нос.
Глаза у жены округлились.
Коршунова недовольно фыркнула; девчушку это нотное фырканье не напугало, напротив: она сложила губки бантиком и фыркнула в ответ.
Коршунова забаву не поддержала. Развернулась на месте и, как генерал, не удосуживающий солдат объяснением своего командирского маневра, направилась в ванную. Опять открыла воду (в первый раз, прежде чем приступить к осмотру, Коршунова, прямиком проследовав в ванную, тоже сразу врубила краны на полную мощь, и когда вышла оттуда, руки у нее были еще краснее, чем прежде: она их и мыла, и, видать, еще больше грела, парила, чтоб не застудить малютку). И на сей раз там с ходу загудело, заклокотало, задрожало, готовое извергнуться и сюда, за дверь, у которой мы с женой чинно ждали Коршунову.
Но что это?
— Дураки!
— Идиоты!
— Молокососы!
Надо было крепко стараться, чтобы эти слова доносились сквозь шум воды даже сюда, за дверь.
Мы с женой остолбенели. «Дураки! Идиоты! Молокососы!» — извергалось в ванной надтреснутой, фальцетной струей, как будто и этот вентиль старуха сразу крутанула на всю катушку, до отказа. Мы застыли по обе стороны двери — готовились же «как люди» сопроводить старушенцию до «залы», предложить чайку и т. д. и т. п. — не в силах сойти с места, вымолвить что-то или хотя бы посмотреть друг другу в глаза.
— Дураки!
— Идиоты!
— Молокососы!
В выражениях Коршунова не стеснялась, и любое из выражений было к нам вполне применимо. Особенно последнее — нам с женой едва минуло тогда по двадцати.
В общем, стояли мы при дверях (или при ругательствах) не шелохнувшись — как в почетном карауле.
Тут надо сказать, что некоторое представление о Коршуновой я уже должен был бы иметь, если б знал на тот момент, что фамилия Коршуновой — Коршунова.
У меня на работе иногда объявлялся человек с такой фамилией. Коршунов. Большая кудлатая нечесаная голова. Справедливости ради надо сказать, что ее и причесать-то, наверное, не было возможности: рыжие жесткие волосы скручивались с такой неукротимостью, что кольца их даже на вид были не только нерасчесываемы, но и неразгибаемы. Такое же крупное и такое же непригнанное, вразнотык, сложение. В нем было что-то петровское: в росте, в несвинченности, а главное — в стремительности, в напоре, с которым он передвигался и на улице, и в нашей маленькой молодежной редакции, напоминая при этом многопушечный фрегат. Многопушечный, страшенного водоизмещения, но — захваченный пиратами. Паруса — в клочьях, ботинки — в дырках, никаких «извините-подвиньтесь»: напролом, напролет, каждым шагом своим, каждым махом угрожая встречным-поперечным нечаянной физической расправой.
Встречные-поперечные предусмотрительно шарахались в стороны.
Хотя надо признать, что как раз в ходу, в полете, он смотрелся превосходно. Движение, сопротивление волн скрадывали нескладность, придавали ему целеустремленность. Нацеленность. В нем, несущемся с бешеным разбойничьим креном, с бесчисленно возникающими руками, локтями, ногами (как крылья у ветряка), появлялось даже некоторое щегольство. Шарм — вьется по ветру веселый роджер.
Что в нем было еще петровского, так это прожектерство. Оно, собственно, и двигало им, и несло его, и дуло в изодранные паруса. Являлось тем самым пиратским сбродом, что по какой-то прихоти удачи оседлал столь неподходящую, столь обширную посудину. Само прожектерство тоже было петровским. Масштабным. Державным. Заметив на улице зампреда крайисполкома (зампред имел обыкновение ходить на обед домой пешочком), Коршунов круто менял курс, неожиданно вырастал над зампредом всей громадой своих гибельно-черных просмоленных бортов, брал его, обеспокоенного, двумя пальцами за галстук:
— А что, Александр Николаевич, не пустить ли нам троллейбус от Ставрополя до Невинномысска? Есть же подобная линия между Симферополем и Ялтой. Чем мы хуже?
Не оглянуться на флагманский коршуновский бас, не скучковаться вокруг него было просто невозможно — соблазнившийся озоном зампред оказывался втянут в уличное происшествие.
— Товарищи, да знаете ли вы, что до революции ставропольские купцы вели в складчину железную дорогу на Туапсе?! — кричал Коршунов, вторгаясь в редакцию, и прохожие оглушенно липли к нашим окнам. — Выход к морю! Наикратчайший путь ставропольскому хлебу на европейский и малоазиатский рынки. Я изучил: почти повсеместно сохранилась насыпь этой дороги. Надо срочно восстановить! Надо заинтересовать общественность! Выход к морю!
Вот-вот: в Европу прорубить окно, дверь — сам Коршунов считал свои прожекты сугубо практическими.
Говорили, что он женился на молоденькой, хотя самому было за сорок (немолоденькая просто не пошла бы, не попалась на удочку), та в три года произвела ему троих девчат, с первыми двумя сидела его мать, пенсионерка, а когда появилась третья, мать отрезала: хватит, к черту, она специалист с высшим образованием, а не нянька; она, слава богу, зарабатывала побольше, чем эта юная Коршунова, оказавшаяся столь способной к деторождению, а любишь кататься — люби и саночки возить, садись, воспитывай, нянчись, агукай, а я двинулась на работу. Иначе эти чмы просто пустят нас по миру.
Вполне допускаю, что блатного словечка «чмо» Коршунова-старшая могла и не знать (хотя после возгласов в ванной не могу утверждать это определенно), но поскольку у меня их сейчас у самого четверо и поскольку я сам называю их почему-то «чмы» (меняя окончание, чтоб не получалось совсем уж по-жигански), то почему бы не предположить, что Коршунова величала своих чмов точно так, причисляя к ним и юную Коршунову…
Легко представляю, как смущенно, заискивающе по отношению к обеим, вернее — ко всем трем противостоящим ему сторонам держался во время этого разговора Коршунов.
Служил Коршунов в статуправлении, безукоризненно манипулировал миллионами, цифры роились в его косматой голове вместе с фантазиями и даже причудливо смешивались, перевивались, как стая на осеннем небосклоне: он все время что-то рассчитывал — на помятых бумажках и так, устно, — увлекая случайного слушателя в бездну своей жутковатой цифири, но цифры и суммы, которыми он столь смело оперировал, были химически чистыми. Бесплотными. Воображаемыми. Живая, натуральная копейка, как правило, не ладит с фантазерами.
…Знать бы, что фамилия Коршуновой — Коршунова! Можно было бы сориентироваться, сообразить, чего от нее ожидать. Мы же стояли с женой по обе стороны запертой двери, ничего не соображая.
— Дураки!
— Идиоты!
— Молокососы!
Дверь с треском распахнулась. Коршунова увидела наши вытянутые виноватые физиономии. Запнулась на полуслове, остановилась — влажные большие ладони скрещены на груди: так ненастными ночами нянчат, баюкают опухшие руки старые доярки, — оглядела нас с досадливым мимолетным удивлением, как будто мы здесь были лишними. Как будто не она, а мы здесь посторонние. Не пришей кобыле хвост.
Коршунова поняла, что мы все слышали.
— Да, дураки, да, идиоты, да, молокососы, — направляясь к вешалке, повторила она ровно и в то же время с некоторым вызовом. — Не соображают, что голова растет не только за счет родничка, но и за счет межкостных соединений. Врачи называется. Чему их только учат! Сами ни черта не рожают…
Вра-ачи? Но мы-то, господи, не врачи. Нас, слава богу, ничему такому не учили. И мы рожаем. Еще как рожаем, черт возьми!
Она еще бубнила что-то себе под нос, а я уже запоздало кинулся к ней, к вешалке, едва не сбивая ее с ног.
— Ч-чай, значит. Пирог. Знаете, румяные щечки называется. Теща, видите ли…
А жена, наоборот, встала — и ни с места. Глаза только обметало благодарными слезами.
— Витамины круглый год? — не дала ей разнюниться Коршунова.
— Конечно, конечно, — подхватываю я с готовностью. — Стараемся… Да вы проходите, пожалста, к столу. К столу, пжаста…
— Фрукты-овощи, пироги-ягоды круглый год? — почему-то совсем уж грозно вопрошает Коршунова.
— Да как вам сказать… — какой-то идиотский, пошло довольный смешок выскальзывает у меня. — Грех жаловаться. Теща у нас в Буденновске, сад-огород…
— Сама виновата! — заявляет Коршунова, пытаясь отнять у меня свою кацавейку. Суровое обвинение ее адресовано жене, хотя та все это время стояла молча, недвижимо, а на расспросы отвечал я. Поддерживал разговор. — Сама виновата!
Странно все-таки плачет моя жена: у других слезы разбавляются словами, всхлипываниями, причитаньями, у нее же идут молчком, чистоганом, унизанные ими ресницы всегда напоминают мне опыт, много лет назад подсказанный старожилами на соленом озере Баскунчак: взял метелку полыни, сунул ее в воду, после вынул, а она сразу потяжелела, чудно́ похорошела, загорелась, расшитая горьким (и от полыни, и от соли!) морозным жемчугом, как неведомой породы ветка из волшебных кущей на зимнем стекле.
Коршунова в третий раз повторила свой приговор, и ветка стала таять — горьким и соленым: слезы плавились, срывались с ресниц на щеки, текли, оставляя извилистый мокрый след. Чего греха таить — блеск им придавали глаза, теперь же, на щеках, они моментально теряли в цене, в каратах (хотя, уж если о ж е м ч у г а х, то измеряются они даже не в каратах, а в еще более тонких, неуловимых единицах — г р а н а х: «ни грана правды»), становились бледными, бесцветными, прозаическими. Бабьими.
— Кальция у вас, молодых, избыток, вот и зарастает все раньше срока. — Коршунова отвоевала все-таки у меня свою кацавейку и, нахохлившись, всовывалась в нее.
— А с развитием как будет? — робко и счастливо вымолвила наконец жена.
Коршунова выпрямилась, с трудом совладав с узкими вытертыми рукавами.
— А это уж не ко мне вопрос, дорогая. К нему, — недовольно зыркнула на меня, топтавшегося рядом, не зная, как подступиться к ней вновь: пироги… чай…
Подняла правую руку и сведенными костяшками крупных худых и как бы металлических от худобы пальцев неожиданно крепко постучала мне по лбу.
Звук получился неутешительный.
Жена засмеялась; мне, в общем-то, тоже ничего другого не оставалось.
Чмо в продолжение всего разговора покоилось на нашей кровати поперек большой пуховой подушки и, извернувшись каким-то непостижимым макаром, сосало с довольным агуканьем собственную землянично-розовую промытую пятку, демонстрируя тем самым не столько ума палату, сколько ловкость и хитрость необычайную.
…Было бы неверным сказать, что все это вспомнилось мне в одночасье, пока я лежал, выпутываясь из липких тягучих строп преступного сна. Нет. Чтобы вспомнить, надо сперва забыть. А такое не забывается, живет в нас, тлеет. В бодро, деловито бодрствующих ли, в спящих — в живых — струится, как кровь, вместе с кровью, тихо и до поры невидимо. Можно ли о нем сказать — вспомнилось? Отворилось… Так однажды в детстве я, сбитый перед этим на мосту легковой машиной (перебегал дорогу у нее под носом) и вроде бы уже залеченный, проснулся ночью в луже липкой и теплой, страшной именно своей липкостью и живым теплом, крови. Спали мы с матерью на птичнике, она как раз получила цыплят с инкубатора, в помещении было душно, волгло, дурманно (весь вечер топили, чтоб не застудить цыплят), мы спали на полу на каком-то свалявшемся несвежем тюфяке, он даже впитать ее не мог: кровь так и стояла черным паводком в его засаленных колдобинах.
— Рана отворилась! — в ужасе всплеснула руками мать.
Правильнее было бы сказать «открылась», но она выбрала «отворилась»: так неслышно, исподтишка это произошло.
Отворилась… Чего лукавить: это я сейчас, записывая, все так складно расставил и пересказал. Вспомнил. А тогда, после странного сна, все было проще. Я потихоньку встал и пошел посмотреть на детвору. В последнее время приобрел эту стариковскую привычку: ходить ночью по дому. Свет не зажигаешь, поэтому поначалу, пока не обвыкнутся глаза, просто слушаешь дом. Сразу угадываешь посапыванье младших и характерную, уже почти девичью немоту старшей. Спит, как будто и нет ее, как будто там, на втором этаже двухъярусной кровати (по образцу солдатских), пусто. И позже, когда глаза уже справятся с ночью, второй этаж каждый раз являет им нечто продолговатое, веретенообразное, и так старательно, даже истово, до бородышки обернувшееся, подоткнувшееся простыней, что кажется, будто, спасаясь от темени, в комнату через окно вплыло пугливое, обточенное ветром перистое облако да так и застыло в ней — на уровне моих глаз. Недавно пытался поставить ей горчичники: простыла, а жены в те дни не было дома.
— Сама! — было заявлено мне с неожиданной горячностью, с фамильным раздуванием ноздрей. — Сама! — И приготовленные мною причиндалы полетели на пол.
В первую минуту я опешил и только потом, с буксира, стал соображать в нужном направлении.
Позднее зажигание.
И хоть для меня было совершенной новостью, что человек сам себе может поставить горчичники, делать было нечего, — пришлось смириться.
Зато самые младшие спят в полной безмятежности. С эмбриональной естественностью: стоя на коленях и уткнувшись мордашками в подушки: две голых, выскользнувших из ночнушек абрикосины весело спеют в темноте, проглядывая в ней, как в кромешной листве. Именно так они спали в материнском чреве и теперь еще не отвыкли от него, еще тоскуют по нему и возвращаются по ночам.
Маленькие коленопреклоненные богомолки. Молятся ведь тоже в эмбриональном положении — как возвращаются…
Э т а не спит. Она вообще трудно засыпает и плохо спит. Может, и моя досрочная привычка родилась от этой ее беды. Я-то ведь знаю, что она, вполне возможно, не спит. Слушает. Возможно, думает. Возможно, притворяется спящей, чтоб не беспокоить нас с матерью. Чтоб не спугнуть сон остального дома. У нее даже есть на этот случай какие-то свои тихие развлечения. Во всяком случае, она до сих пор не ложится в кровать (первый этаж) без двух-трех любимых игрушек. Вполне допускаю, что в минуты бессонницы она что-либо рассказывает им. Развлекает их мысленно. (Третьего дня в письме из санатория просила жену прислать ей «сосательных» конфет: «Только учтите, мисс мама, что самый быстрый на свете гонец — папа».) Это ведь действительно любимые ее игрушки. А значит, считает она по малости лет, и непременно л ю б я щ и е. То есть они тоже не спят, когда она не спит. Не могут спать. И она их развлекает. Вернее, о т в л е к а е т. Баюкает.
Я-то ведь знаю, что она, вполне возможно, не спит; меня мучает совесть. И гонит меня в глухой час по дому. Я-то ведь тоже люблю ее… И теперь, задним числом, все так спокойно расставляя и описывая, даже мог бы написать (не пряча это в концовку или в контекст), что и дурацкий сон мой тоже есть уродливое порождение любви. Увы, в наш век и в любви зачатые дети случаются не только красивыми, но все чаще, все тревожнее — увечными…
И все-таки прямее всего, логичнее (по ее малолетней логике, согласно которой любимые игрушки — они же и любящие) моя любовь проистекает из ее любви — по крайней мере в ее представлении. Уже хотя бы поэтому усомниться в ней она не могла — утешаю я самого себя.
Так ли уж невтерпеж захотелось ей «сосательных» конфет (хотя она, надо признать, сластена: рушит конфеты что ветряная мельница) или то был предлог увидеть меня? «Самый быстрый гонец на свете»… Значит, верит, что помчусь сломя голову.
Я, конечно, догадываюсь, что она, вполне возможно, не спит, но подходить к ней не тороплюсь: вдруг ошибаюсь и теперь нечаянно потревожу ее, разбужу? И она, как всегда, принимает игру. И когда я уже на пороге, когда я уже бегу (на носках, неслышно, затаенно) из двух этих смежных комнат — в сон, в спокойствие, в самообман, вон! — она окликает меня:
— Посиди со мной.
Сажусь. Она находит мою ладонь, подсовывает ее себе под щеку.
— Расскажи из своего детства…
Далось же им мое детство! Много лет назад, когда был начинающим отцом, отцом-энтузиастом, всячески искавшим хлопот на свою шею (д-р Спок, «От двух до пяти», «Наш ребенок», «Растите детей здоровыми» и т. д. и т. п.), мне показались чересчур однообразными, а главное — слишком массовыми, тиражированными, тотальными (всем — одно и то же) сказки про курочек-пеструшечек, мух-цокотух, и я стал вспоминать всевозможные случаи из своего детства и рассказывать дочкам. В семье даже термин такой народился — «из детства». У термина были две противоположные тональности — в зависимости от того, был ли он употребляем женой или же детьми.
— Из детства, — ехидничала жена, заслышав из кухни мои бредни.
— Из детства! — восторженно требовали дети и захлопывали у меня в руках приготовленную было им на ночь книжку.
— Иж децва! — повергая меня в панику, вопит сейчас даже самая мелкая мелюзга, черт-те какими генами усвоив этот настырный клич.
Нагадали козе смерть! Честно говоря, уже проклинаю себя прежнего, непуганого, нерастраченного неофита: дернула же, братец, тебя нелегкая высунуться с этим своим детством! Отбояриваюсь как могу: папа р-работает, папа только что с работы, совесть надо иметь, в доме масса художественной литературы, пожалуйста: «Детство Никиты», «Детские годы Багрова-внука», «Детство. Отрочество. Юность», «В детские годы» — коллективный сборник русских классиков, замечательная вещь, между прочим, рекомендую, пан Тыбурций, решетки-оградки, прыжок с мачты в открытое море, прямо в пасть акуле, представляете — к-аку-ле-в-пасть, да почитай же им, ради бога, Настя, хватит у зеркала крутиться, все равно ведь спать, не на улицу, не в школу, уроки бы так старательно учила… Каюсь: едучи с дежурства, первым делом смотрю на свои окна, — ежели не горят, слава богу, обойдемся без детства. Хотя и грустно как-то, одиноко становится, когда не горят. Понимаю, что в такое собачье время детям давно положено спать, а все равно грустно.
Громадный, высоченный дом и окна — как черные выпуклые клавиши…
А детство было не таким богатым на события, особенно веселые. Детства не хватает. Да разве настачишься его на них на всех! Рассказывать же рассказанное-перерассказанное опасно: замордуют буквализмом. Не дай бог отступить где-то от первого варианта. От ранней, неофитской редакции. Замучают уздой. Кровавая пена клочьями повалит: так взыскательный седок наставляет лошадь на торный путь. А мне нож вострый — повторяться. Покороче хочется, побыстрее. Краткость — сестра таланта. (Сестра есть, брата нету.) Но они почему-то больше любят первые, ранние, несовершенные, многословные варианты. (Впрочем, я сам в детстве — опять в детстве! — когда удавалось вымолить сказку и когда у меня, наконец сдавшись, спрашивали: «Какую?» — вопил: «Длинную!» Все равно было какую, лишь бы длинную. Лишь бы мать подольше принадлежала тебе, а не своим нескончаемым делам.)
Да что там детства: времени на детство не хватает — вот, пожалуй, главное.
А им оно, мое незавидное детство, предпочтительнее всех других, в том числе описанных несравненно талантливее и даже пространнее, только потому, что оно — мое. А значит, понимают они, и их. И они не хотят поступаться в нем ни одной узнанной, выявленной, вымоленной подробностью. Это уже их, а не моя память. Их, а не только моя судьба. Собственность.
…Что же тебе рассказать? Выручай, человечек с птичника. Мне некогда перетряхивать не раз уже переворошенное и перетрушенное — и перетрушенное — так выворачиваешь карманы в поисках проклятой двушки, — и я начинаю говорить о первом попавшемся, о том, что почему-то сразу возникло перед глазами. А что возникло? Ничего особенного — как я, маленький мальчик, вместе с соседской девчонкой Лариской Булейкиной и ее братом бегаю по апрельской степи, что начиналась прямо за нашими огородами, и рву цветы. Цветов много, на всех хватит, но каждый из нас, завидев тюльпан, почему-то кричит оглашенно: «Мой!» — и летит к нему со всех ног. Почему? Да просто нам хочется бегать по этой только что народившейся (вон и ягнята носятся вместе с нами) пасхально-яркой траве, кричать (вон и жаворонки заливаются, купаясь в бездонном, враз провалившемся после зимы небе), обонять ее. «Тюльпаны» — это я сейчас, тоже задним числом, написал. Мы говорили тогда — «красные цветы» и «желтые цветы». «Желтые», сейчас понимаю, были вовсе и не тюльпанами. Мы их еще называли «подснежниками». Они действительно появлялись раньше «красных» и в большем количестве. Но это — «подснежники» — тоже было скорее данью грамоте: мы уже пошли в школу, по букварям, составленным, очевидно, где-то в лесной стороне, знали, что бывают такие обязательные цветы, и вот завели их и в своей степи, где никакими подснежниками на самом деле и не пахло. Впрочем, «подснежники», в отличие от «красных», пахли, как бы расквитываясь за свое простецкое изобилие и не такой нарядный цвет. Как изумительно пахли эти точеные, острогранные, не разлапые, как у тюльпанов, а как бы собравшиеся вместе, в кружок, на изящную корону похожие соцветия! Небом, травой, молодым, восходящим, мреющим над землею воздухом, девичьим волосом — как и положено пахнуть короне на русой головке весны…
— Шепотом, — шепчет она мне, и я не знаю, чего тут больше — опаски спугнуть сон других или лукавства: чтоб не услышали это другие. Чтоб все присвоить себе.
— А еще мы выковыривали луковицы тюльпанов и тут же лопали. Называли — «бузлюки». Бузлюки были сладкие, сочные. Далеко не каждая луковица дает цветоножку, бутон. Их дает только «рогатка» — луковица с двумя несущими стреловидными листами. А если листок один — бутон выброшен не будет. Такая «холостая» луковица съедалась. Слопывалась. Луковицу, давшую цветок, не слопаешь… Невкусная. Выжатая, выдохшаяся, одна шелуха.
Спит она или только прикидывается? На всякий случай продолжаю нести околесицу, затем полегонечку вынимаю ладонь из-под ее щеки и ухожу. Через минуту на этой же ладони, еще хранящей ее родственное тепло, засыпаю и сплю как убитый.
НАСТЯ Повесть
Восстановить жизнь по памяти. Археологи находят обгорелую черепицу и по ней догадываются о целом мире. О его появлении, о его смерти. О его жизни.
Я прожил с матерью четырнадцать лет. Что такое четырнадцать лет? Осколок, обломок, с выдавленной, как на ладони, изобарой судьбы, тянущейся от тебя, как волосяной корешок, в неведомые глубины.
Корешок тянет кровь, гонит ее по кругу, не давая разомкнуться цепи, — ты и неведомые глубины.
Я уже без нее прожил больше, чем с нею.
На какое-то мгновение жизнь свела нас и разлучила.
А корень жив, и живо, благодаря ему, кровообращение: даже в самой суетной сутолоке чувствуешь вдруг его щемящее омовение. Будто чистая, зоревая волна ударит в сердце и обдаст его целительным дождем.
Она стала травой, землей, растворилось в небе ее дыхание, она окружает меня со всех сторон, как в те незапамятные времена, когда я бесформенным живым комком, шлепком — с отпечатками прозорливых пальцев — окровавленной глины пребывал в ее теплом чреве.
Как и тогда, живо наше единое кровообращение. Только некогда малый его круг, сопротивляясь чудовищному разъятию, растянулся, истончившись и потеряв границы и очертания, растворился, как растворяется, теряя краски, возвращая их окружающему миру, иссеченная артерия дальней степной радуги.
И сама память, то, что осталось в памяти — слабо отдавленная, потихоньку зализываемая временем, подсыхающая крона видений и воспоминаний, — тоже может быть отправной точкой восстановления.
По форме листа, по пенью навеки заблудившейся в пустеющей кроне памяти малиновки можно догадаться о многом: порода дерева, место произрастания, характер жизни и даже каждого ее дня.
Представить то, чего я не знаю, не помню, потому что не могу ни знать, ни помнить, ибо многое из того, что составляет ее жизнь, проходило без меня, не на моей памяти, задолго до моего рождения.
Практически вся ее жизнь прошла не на моей памяти. Что такое четырнадцать лет?
…И ведь не только память — сама жизнь, чья-то конкретная судьба может быть путеводным клубком (нет ничего целеустремленнее и красноречивее, чем ветвящаяся, петляющая нить корня) к жизни целого мира, то есть народа (сплетение волосяных корней — как сокровенная грибница с единым кровообращением), пусть не всей, а хотя бы малой части ее.
Сузим эту часть до пределов человеческого сердца и назовем ее условно жизнью матери.
Лист в кроне. Нить в сокровенной грибнице.
ДОРОГА НА БАХЧУ
Это не первое воспоминание о матери и не последнее. Оно относится к тому времени, когда жизнь ее уже шла к закату, но заката еще не предвещало ничто, как тихое, осыпающееся цветение вечернего неба не предвещает коварно, по-южному, скорого и скоротечного взрыва багровых и бедственных красок. И все же, когда думаю о ее предполагаемом детстве (которого толком не знаю), я вспоминаю…
Было утро. Не такое раннее, когда и подъем в тягость, и дорога долго в тягость: смежаются глаза, с недосыпу знобит, ничему окружающему ты не рад, идешь или едешь, как в мутной воде, уныло цепляясь за сухие латки недавних сновидений.
Было в меру рано. Рань не угнетала — бодрила. День разворачивался, и согласно с ним разворачивалась, распрямлялась человеческая душа. Мы шли на бахчу.
Дохода бахча не давала. Арбузы удавались не всегда: кроме засушливого климата — а наше село было на солнцепеке Ставропольского края — играло роль и то, что землю под общественные бахчи нарезали на одном и том же месте — «на бугре», где и пшеница-то удавалась через год. Тем не менее бахча была отрадой. Садов в селе не заводили, и арбуз был самым изысканным и одновременно самым доступным летним лакомством.
Его опускали в цибарке в цементированный колодец — так называемый «бассейн», — который был в каждом дворе, и вынимали оттуда в последний момент, прямо к столу, чтобы здесь, при полном семейном сборе, сунуть ему ножом под самую душу, отчего арбуз чисто, бескровно лопался, как лопается алой круговой раной вызревший, вынянченный корнями бутон.
После веселой казни начинался веселый пир.
Я был худым, легким, и взрослые мужики частенько опускали меня на веревке в бассейны чистить их от наседавшего песка. Я стоял в резиновых сапогах в гулких и стылых цементированных недрах, сгребал совком мокрый песок в цибарку, которую после поднимали наверх и там выгружали, и старые бассейны пахли для меня не тиной и сыростью, а расколотым арбузом.
Там, в сумрачных глубинах, как в глухих царственных подвалах, встречались два редких, достойных друг друга дара: вода и арбуз.
Наверху, на выгоревших буграх, встречаться им почти не доводилось.
Был июнь, арбузов еще не было — тем тоньше было настроение, с которым мы шли на бахчу. Радость ожидания, надежды — самая надежная радость. В надеждах можно обмануться: июль или август подчас жестоко оголяли бахчи, выворачивали их наизнанку, до заклекшей глины — ни арбузов, ни плетей, но само состояние доброй надежды — состояние длящегося человеческого счастья.
Засух еще не было, не было пыльных «астраханских дождей». Все только зачиналось, завязывалось, распрямлялось, и память о прошлых неудачах лишь обостряла надежду. Перейти балку, что разрезала наше село на две равные семядоли, каждая из которых по весне давала буйную поросль огородов, а потом скоро оголялась, ссыхалась и мертвой личиной лежала в пыли до новой весны, улицу и дальше — в гору, в степь, навстречу солнцу.
Оно сначала выклюнулось, взломав мягкую родничковую твердь едва заколосившихся хлебов, затем выпросталось полностью, тряхнуло мокрыми еще крылами и поплыло…
Ничего удивительного в том, что я скакал как жеребенок.
Удивительно, что на этом пути — балка, улица, степь — мать была моей ровесницей.
Такой легкой, даже беззаботной я ее никогда не видел — ни раньше, ни позже.
Даже белый в горошинку платок на ней был повязан не так, как всегда: не избушечкой с подвязанными под подбородком концами, что делало ее лицо и старше, и жальче как-то, а туго опоясывал лоб, захватывая сзади волосы и приподнимая их так, что на затылке сразу обнаруживалась нежно затравевшая, почти девическая бороздка.
Бескозырка, повязка восставших сипаев, «красная косынка» — вон какой черед удальства, веселой работы влечет за собой эта осевшая в памяти деталь.
Она, конечно, шла на работу, не на праздник, но и на работу можно идти по-разному…
Я спал у окна и по утрам, когда еще только серело, часто просыпался от властного стука в оконный переплет.
— Настя-а! — кричал единственное слово бригадир Стефанов, перегнувшись с мягкой, на рессорах, бедарки и барабаня в раму тяжелым кнутовищем. — Настя! — И отъезжал, уверенный, что Настя, убравшись наспех по дому, задав скотине, пойдет на бригадный двор.
— Кла-авдя! — слышалось вскоре.
— Да-ашка!
Военные вдовы, матери-одиночки, бабы-неудачницы… Он мог бы и не вызывать их на работу, они бы пришли и сами, потому что за мужиком баба как за каменной стеной, а этим надо было самим кормить и себя, и малых детей своих, и кормиться им было не с чего, только с работы.
Настя! Клавдя! Дашка! И как приказ, и как вопрос: живые? Выходи! И больные — небольные, простуженные — непростуженные — живые! — выходили.
Пятидесятые годы.
Недавно видел Стефана. Сидит на завалинке в солдатской шапке в жару, греет в ладонях вишневую палку. Глаза у Стефана слезятся, лицо вошло в берега просветленного старческого благообразия.
Улица пуста, село на косовице.
Она шла на работу, но не под командой Стефана или еще более докучливого конвоира — нужды. Шла сама по себе. Работа была необязательной, и, в глубине души понимая ее необязательность, даже чудноватость этой работы (ей ли было не знать, что такое работа, которая есть существование, которая есть жизнь, которая есть хлеб насущный), без малого сорокалетняя женщина, сама над собой улыбаясь, на минуту — на балку, на улицу, на дорогу через степь — стала вровень с этой работой.
«Ма́литься» — есть такое народное выражение. То есть, сознательно или поддавшись минутному настроению, вести себя несообразно возрасту, ребячиться.
Мой дядька семь лет служил в армии, на Курилах. Ушел, приписав себе год, в семнадцать; вернулся в двадцать четыре. Ушел еще в войну и потом на островах, что до сих пор сидят в нем, как камни в почках, ждал, когда же там, на материке, подрастет до служивого возраста первое неистребленное поколение. Самого момента его возвращения не помню, зато помню, как он, демобилизовавшись из рядов победоносных Вооруженных Сил, в полной парадной форме бегал со мной, пятилетним, наперегонки через дорогу и был счастлив не меньше моего, — может, потому, что, забываясь, обгонял меня.
«Ма́лишься», — говорят матери своим взрослеющим ласкающимся детям.
Она ласкалась к встающему солнцу, к земле, что сама льнула и ластилась к нашим ногам (прекрасна нейтральная кромка живого поля и утрамбованной дороги, она упруго дышит, «двошит» под босой ногой, и идти по ней одно удовольствие), ко мне, малому своему сыну, выбрыкивавшему впереди. Ко всему, что ее окружало, к этому утреннему миру, чьей дочерью она, в отрочестве еще потерявшая отца с матерью, и была.
Ее ребячество заключалось в том, что она беспричинно улыбалась и шла, как будто плыла по течению. Кромка живого поля несла ее, прибивала на минуту к придорожному подсолнуху, к ветке тутовника в лесополосе через дорогу и влекла дальше не торопясь, не требуя от нее никаких усилий и сама на нее не тратясь.
«…Он бежит себе в волнах на поднятых парусах…»
Арбузов еще не было и в помине, и этот факт тоже согласовывался с «бегом себе», что сродни самому теченью.
Да если б и были…
Читать она не умела. Сама рассказывала: в детстве начинала ходить в первый класс, но дошла только до «Интернационала» — отец забрал в поле, на пахоту. Хорошо пела, но пела редко.
Бахча была необязательной, ну, скажем, как песня. И так же любовно между тем возделывалась, «выводилась». И так же переживалась, как песня, до тихой, почти поэтической грусти, никогда не могущей перейти в натуральное — «есть хлеб насущный» — го́ре, до слез, что выступают от хорошей песни, но скорее врачуют, а не растравляют душу.
Один занимательный элемент ухода за бахчой. Когда арбузы еще только навязывались, самые большие, наиболее «перспективные» из них во время прополки обязательно прикапывали в землю. Сделаешь лунку и уложишь в нее, как в люльку, карапуза так, чтоб он проглядывал наружу одним пятачком, пупком, не больше. Было ли это непременным правилом арбузной агротехники, не знаю. Но правилом игры — точно! (Поскольку бахча была игрой, то что за игра без правил!) Его лукавый смысл заключался в следующем. Нанимавшийся на лето сторож имел право в качестве дополнительной платы брать осенью по десятку арбузов с каждой бахчи. Разумеется, выбирал самые лучшие — загодя, когда арбузы еще росли, а чтобы хозяева не опередили его, ставил на облюбованной жертве (самой ядреной!) собственноручную метку.
Например, «Б. К. П.» — Брихунцов Константин Петрович.
Арбуз тужился, рос, и вместе с ним до траспарантных размеров росла вырезанная перочинным ножичком, отшлифованная солнцем метка: собственность Брихунцова Константина Петровича.
Надуть Брихунца, этого ненадуваемого (возможно, по причине дырявости) деда, спрятать от него возможный ясак — пусть метит мелочь! — такова была цель приема.
И мать незлобиво исполняла его вместе со мной.
И Брихунец ежегодно нас надувал…
Бахча была проявлением ее духовной жизни. Духовная жизнь миллионов людей, к которым принадлежала Настя, материальна: с человеческим существованием, его физиологической пуповиной она зачастую связана проще, грубее, н е о б х о д и м е е, чем блестящие изыски развитого ума или игра утонченной души. Из этого не следует, что она полнее, предпочтительнее. Она будничнее — вот и все.
…Если год был хорошим и арбузы особенно удавались, их ели с хлебом и даже (находились такие) с соленым огурцом, как если б это было сало или там вкрутую сваренные яйца. Они вовлекались в работу, которая есть хлеб насущный…
Пусть описание этой безмятежной дороги будет описанием ее детства.
Ладонь в ладонь шла со мною деревенская девчушка, старшая сестра, а она и была старшей сестрой, «старшухой» в своей многочисленной семье.
Потом умерла ее мать.
Потом умер отец.
Потом умерла мачеха.
Жизнь убирала этих людей, как будто подрубала опоры, удерживавшие тяжесть, которую ей хотелось непременно свалить, и убирала до тех пор, пока под всем этим грузом — двое родных братьев и один, младший, нажитый отцом с мачехой — не осталась одна-единственная живая былка — Настя.
И тогда, в очередной раз замахнувшись топором тридцать третьего года, жизнь передумала. Села передохнуть, остыть, дав Насте отсрочку: поднять этих детей и родить собственных.
Сжалилась над Настей, над ее ношей.
Так ли уж над Настей?
Следствием этих смертей было то, что в результате них умерла, сгорела безмятежная сельская девчушка Настенька, даже памяти о себе не оставив: в отличие от других матерей моя мать действительно почти не вспоминала и не рассказывала нам о своем раннем детстве. Девочка Настя отмерла, как отмирает веселый, легкомысленный цветок, давая дорогу жесткому, зеленому, к работе рожденному плоду.
Рассыпалась в прах, чтобы возродиться много лет спустя в образе такой же веселой и легкомысленной девочки Насти, моей старшей дочери, которую в доме зовут старшухой.
Пусть же подольше продлится ее безмятежное счастье, чтобы хотя бы в ней, Насте-второй, сохранилась память о детстве. Для нее самой и — не меньше — для ее детей.
ЗАНАВЕСКИ
Когда умер отец, мачеха выделила Настю и ее братьев. Проще говоря, выселила. Выжила. Был голод, пустых хат в селе было больше, чем жилых, живых, и угол найти не составляло труда. Тем более что, как все выжитые, они были неприхотливы, и единственным условием, которым руководствовались в выборе жилья, было следующее: чтобы оно как можно дальше отстояло от мачехиного двора.
И они ушли из родового дома на другой конец села, на самый его край, в чью-то недавно брошенную хату, стоявшую наедине с сухой голодной степью, прилепившуюся к ней как разоренное гнездо.
Утром хату заливала заря и, отстаиваясь, задерживалась в ней, как талая вода. По ночам в голые чужие окна ломились страхи, и, вздымаемый в жуткую высоту, судорожно, как из петли, заглядывал в хату мелово-белый месяц.
Легко представить, что́ она чувствовала в такие ночи. Мне, например, и представлять не надо — сам пережил в детстве нечто подобное. Однажды летом мать с отчимом ушли в гости в соседнее село, а мы, трое ее сыновей, остались дома. Они собирались к вечеру вернуться, мы целый день ждали их, пребывая в радостном предчувствии подарков: село, куда они пошли, было богатое, садовое, тамошние мужички по всей округе развозили на ишаках сливы и виноград (мой двоюродный дед, к которому они направлялись, тоже развозил, и я однажды вкусил постыдного счастья проехаться на повозке со сливами через родное село в сопровождении мальчишеской своры, кричавшей мне: «Брось хоть одну, жадоба!» Бросать приходилось исподтишка, чтоб дед не видел, да и не всем, так что стыд был и перед дедом, и перед пацанами — как будто в бочке с дегтем тебя по селу провезли).
И солнце село, и куры враз, как заговоренные, стихли в тесном своем курятнике, только выдоенная нами корова, это неумолчное сердце дома, стоявшая в его глубине, в половине, отведенной под сарай, шумно пережевывала стравленную за день зелень и дышала так глубоко и мощно, что ее дыханье теплой волной шевелило стены, как ребра, в том числе стенку, под которой, уставясь в пустую меркнущую даль, сидели мы, тщетно дожидаясь своих. В дом идти было страшно, но я понял: если мы не зайдем сейчас, пока темень еще не ест глаза, то позже, когда дом полностью ослепнет и оглохнет, когда даже Ночкино дыханье, единственное, что пока защищало нас и роднило с чужающим (ночь хозяйничала в нем) домом, уйдет в темноту, как в прорву, то тогда, через полчаса, мы вообще не соберемся с духом и можем вот так, на корточках, просидеть под стеной до утра.
Меня подталкивало и то, что самый младший брат уже спал на моих коленях с бесстрашием двухлетнего человека, для которого я, старший, был не менее могуществен, чем наступающая ночь, и это равновесие сил, одинаково непонятных, покойно баюкало его.
Взяв его на руки, я поднялся и, подбадривая по-телячьи жавшегося ко мне среднего брата, а заодно и себя: «Чего бояться? Лампу запалим, молока попьем и — на боковую…» — направился в хату.
Тут надо сделать пояснение, касающееся не столько моего возраста — что-то в пределах десяти лет, — сколько следующего, более существенного обстоятельства.
Накануне днем отчим был сильно пьян. Собственно говоря, «несильно» он и не умел. В селе о нем, сапожнике, говорили так: «Руки золотые, да горло бездонное». Вторая часть дефиниции была несправедлива: «горлу» довольно было маковой росинки (которую в обстановке жесточайшей денежной засухи он исхитрялся схватывать, склевывать где-то, почти на лету, с поистине птичьей изворотливостью), чтобы отчим пошел вразнос.
Мускульно крепкий — будучи моложе него, мои двоюродные дядьки побаивались лупить его в одиночку — человек с истлевшими за войну нервами.
Бронебойщик — танки надо было подпускать как можно ближе.
Маковая росинка производила в нем пожар, и его мощные, в другое время умные и животворящие руки (какие только чудеса не выпархивали из них: чувяки на легкой ременной подошве, которым сносу не было, глиняные свистки, березовые шпильки, ладные и острые, как девичьи зубы), вся его мускульная сила, не удерживаемая больше вспыхнувшей перевязью нервов, с гибельным безумием обрушивалась на первое, что попадалось ему.
Так в пожар рушатся тяжелые стропила. Крушат, убивают и сами при этом теряют свою сопряженность, в которой заключалась их целесообразность, смысл их заключался, превращаясь в бессмысленный бурелом обгорелых бревен.
На следующий день после буйства он, как правило, страдал нравственно и физически: либо угрюмо лежал, отвернувшись к стене и глухо постанывая, либо, в лучшем случае, уничижительно бодрясь, подлащивался к матери. Суетился по двору, хотя, как истинно мастеровой человек, ничего в крестьянстве не умел, был со всеми приторно ласков и вообще, как говаривала мать, вид имел побитого бобика, что не мешало ему преображаться при первой же оказии.
Мы боялись входить в дом главным образом потому, что в доме не было ни одной двери. Обычно, когда отчим оказывался пьян, мать подхватывала нас и просилась ночевать к кому-либо из соседей или подруг. Возможно, на сей раз она не успела подхватиться с нами и убежать. Хотя о приближении пьяного отчима мы всегда знали заранее; он медленно шел по селу, от его центра, спокойно и строго внушал каждому встречному — человеку ли, дому ли: «Тихо-тихо, я — Колодяжный», и встречный — дом ли, человек ли — благоразумно сторонился; сами зловеще спокойные слова его «тихо-тихо, я — Колодяжный» достигали нашего дома, были доносимы к нему прохожими, мальчишками, мной или средним братом, оказывавшимися по каким-то причинам на пути Колодяжного, уличным воздухом загодя, как молния, до появления окончательно созревшей, накалившейся в пути грозы. А может, мать намеренно решилась на сей раз не убегать, показать характер. Она закрыла на крючки все двери в хате и, как наседка, забилась с нами в горнице, в углу, ни словом не откликаясь на ломившийся с улицы мат.
За каких-то полчаса двери были снесены. Страшно и последовательно: сначала с улицы в сенцы, потом из сеней в среднюю комнату и, наконец, из средней комнаты в горницу. Не сорваны с петель или крючков, а именно снесены, вырваны с корнем и разметены в щепья.
С падением каждой новой двери гибельный вал подступал к нам ближе и ближе — мать крепче и крепче обхватывала нас, уже не пытаясь унять собственную дрожь, пока не навис — вот он — над самыми нашими головами.
Тут бы ему и накрыть нас, всех четверых.
Но в последний момент с ним что-то стряслось. Выражение гнева на потном лице сменилось гримасой презрения и тут же — судорогой боли. Сопротивления не было, и вставшая на дыбы волна, не встретив последнего, главного препятствия, к сокрушению которого она готовилась все предыдущее время, на мгновение застыла в недоумении, а потом безвольно шлепнулась оземь, едва потревожив слежавшуюся гальку.
Из нее как будто душу вынули, силу, и волна стала полой.
Пока Колодяжный дико озирался по сторонам, мать с маленьким на руках и еще с двумя, державшимися с разных сторон за ее юбку, прошла мимо него через все вываленные двери, как будто они для того и выдирались, чтобы ей сподручнее было с таким кагалом выйти из дома, и медленно пошла по улице.
Почему они решили на следующий день, еще не приведя в порядок дом, идти в гости, это для меня необъяснимо.
Хотелось ли ему, заглаживая вину, сделать для Насти что-то хорошее, и он, мудрый как змей, выбрал самое верное: у Насти не так много было праздников. Родню она любила застенчиво, пугливо, как и положено ее любить бедным родственникам, и возможность с мужем, с подарком (отправляясь в путь, они посадили в мешок лучшего, как воском налитого поросенка), п о - л ю д с к и сходить в гости подкупила ее.
Она ли его пожалела: как бы он смотрел нам в глаза на следующий день? Или накануне, в неожиданности, которую я обозначил словами «вынули душу», она увидела обратное — явление, пусть мимолетное, души?
И была благодарна за это.
И надежда затеплилась в ней.
Словом, сказалась вся неизвестная нам, детям, тайнопись причин, и мы очутились перед фактом: мать с отчимом в гостях, на дворе ночь и в доме ни одной двери.
Молоко пить не стали. Не зажигая лампы, пробрались в горницу и юркнули в постель. У стенки — средний брат, посередке — младший и с краю я.
Единственное, на что у меня хватило мужества: потихоньку встать и у каждого зияющего провала (в сенях в пустой притолоке, как в раме, шевелилось разгоревшееся от звезд небо: еще шаг — и очутишься в слабой поземке Млечного Пути) поставить по табуретке. Забравшийся в дом грабитель, убийца, тать проклятый непременно натолкнулся бы хоть на одну из них, и табуретка загремела бы, и мы не были б застигнуты врасплох.
Под подушку я сунул кухонный ножик.
Младший брат и не просыпался, он только выныривал, как пробка, на поверхность одеяла, которым я хотел укрыть его, и я, борясь с беспредельностью ночи, пытался разговаривать со средним, но и он, несколько раз невпопад ответив мне, тоже заснул.
Я остался один и, вслушиваясь в могильную тишину дома, подчеркиваемую неживым, металлическим верещаньем сверчков, тревожно боролся со сном. Нырял в него и тут же, как мой разгоряченный, не остывший от дневной беготни братишка, всплывал, выталкиваемый собственным страхом: страх, как воздух, делает человека поплавком.
На какой-то неуловимой черте нырнул и захлебнулся. В сущности, я окунулся в глубь заговорившей дом тишины, и она сомкнулась надо мной, а потом стала оживать в летучих сновиденьях.
Тугая теплая струя утреннего солнца вымыла нас из этой слежавшейся тишины, как из тины.
Мы лежали на отмели тишины чистые, раздетые и, главное, безмятежные. Страх ушел бесследно, как ночь, как безмолвие: вместе с солнцем и на дворе, и в доме восходила упругая многоголосица дня.
…Каждую ночь она засыпала последней, и больше, чем тишина, ее пугали мутно светившиеся в темноте голые окна: сама судьба незряче заглядывала в них.
Наверное, в одну из таких ночей и пришла ей мысль сделать на окна занавески. Поскольку другого материала не было, Настя раздобыла старые газеты и вырезала занавески из них. С рюшами, диковинными цветами, с райскими кущами по краям. И фантазия, и надежда, и робкий, как призыв о помощи, вызов слепой судьбе, и жестокий голод, который мечтой да усердной, до забытья, работой и можно было притушить, — все причудливо ожило и поплыло по желтым газетным листам. У нас и после живали в доме недолговечные, как бабочки-дневки, бумажные салфетки. Сложит мать газету или тетрадный лист, потом еще раз, еще, ловко надрежет их в нескольких, только ей ведомых местах ножницами — чик, чик, — с треском распахнет лист, и вот они, райские ворота, распахнулись перед тобой. Кустики, звездочки, сладкоголосые птицы.
Шаг — и ты в слабой поземке Млечного Пути…
Повесила Настя занавески — вроде как загородилась ими. От голода, от судьбы, так же, как я потом загораживался табуретками от воров. Разница в мере фантазии да еще в том, что воры были предполагаемыми, а голод, как и судьба, был реален — реальнее некуда. Он поселился в доме как еще один, главный, коварно-капризный жилец. Ему было не по нутру делить угол с детворой, и он, как и мачеха, стал выживать ее. Начал со старшей, колхозной телятницы Насти, она уже ходила, держась за стены, — «тенялась», как она рассказывала (тень!), и на ферму брела каждое утро еще и потому, что с фермы можно было принести горсть дерти или каплю молока. Не в бидоне, не в кружке — во рту. Как в клюве.
Она и поила их этим молоком — из клюва в клюв, чтоб не пролить.
Кто-то из редких прохожих заметил занавески и при случае сказал мачехе: мол, Настя-то обживается, занавески повесила.
Мачеха — фамилия у нее была Царевская, и я представляю красивую, властного корня женщину — сердито вскинулась:
— Какие еще занавески?
— Узорчатые, выбитые…
Прохожих тогда действительно было мало: люди экономили силы. И все же выведшийся в темной мачехиной душе червь был злее голода: откуда занавески? Уж не стащила девка что-то из ее годами запасавшейся мануфактуры?
И в один из дней мачеха оказалась в Настином доме. Вошла, с трудом неся некогда цветущее, а теперь опавшее, как выдохшийся парус, тело, ломко опустилась на единственную в хате табуретку.
— Здравствуйте. Проведать пришла.
Сбившиеся в гурт дети настороженно следили за нею.
— Гостинец возьмите, — вынула из кармана пару прошлогодних картофелин в мундире.
Мальчишки набросились на картошку, Настя осталась в углу. Прислонилась к стене и стояла, сложив на груди худые, с цыплячьими пупырышками на локтях руки.
Мачеха отдыхала на табуретке. Она уже поняла, что занавески на Настиных окнах не из тюля и не из саржи — из газеты. Поджаренные солнцем, брызнули врассыпную, как блохи, черненькие буквы. По буквам она, неграмотная, и поняла — никакая не мануфактура. Так, рвань какая-то. Слова путного не стоит. И странное дело, вместо успокоения, которое должна была принести ей очевидная никчемность Настиных занавесок, она, наоборот, поджигала ее еще больше.
А сил для гнева не было — мачеха никак не могла отдышаться с долгой и, выходит, пустой дороги.
Да и девчонка уставилась в одну точку — и ни слова, зацепиться и то не за что. Рыженькие, редкие с голодухи волосы пучочком, локти, коленки, босые разношенные ноги. Пятнадцать лет, а глянуть не на что. Блоха — как и ее поджаренные буквы. Мачеха брезгливо фыркнула:
— Ну, вижу, живы-здоровы. И мне спокойнее. Пора и домой собираться, а то Димку одного оставила…
Она поднялась и, придерживаясь за притолоку, осторожно, по-старушечьи ставя ногу, пошла из хаты.
Все так же стояла Настя. Картофельные крохи собирали с пола мальчишки.
Не спасло мачеху то, что она выжила троих сирот. Умерла.
Возвратилась Настя с братьями в отцовский дом, приняла из остывших мачехиных рук самого младшего брата. Мачеха умерла в постели, и проснувшийся мальчик молча, серьезно возился у нее в подоле.
И стало у Насти одной ношей больше. Но голод прошел; робко, а потом, прибывая и прибывая, заструились в селе живительные соки, само Настино тело, выхудавшее и вышелушившееся, как пустой кукурузный початок, очнулось для дальнейшего роста. И ноша была воспринята как ветвь.
Дерево растет, и в урочный час его несущий ствол раздваивается, растраивается, принимая или выталкивая, выстреливая из своих глубин новые побеги и ветви. Ноша ли они для ствола, для корней?
Другое дело, что для Насти урочный час пробил до срока, слабо согласуясь с ее материнским развитием. Не пришла ей пора ни рожать, ни нянчить, ни тем более кормить.
Но есть такое понятие — выгонка. Растению создаются особые, наилучшие условия: влага, тепло, свет, удобрения, яровизация семян, позволяющие ему до срока зацвести и даже начать плодоношение. Заставляющие до срока зацвести — отсюда и жесткость наклонения: выгнать.
В данном случае условия поставил голод. Все наоборот, все со знаком минус: влага, тепло, удобрения… Выгнать!
Выгонное материнство.
И все же — материнство. Не ноша — ветвь. Если, конечно, хватает души, чтобы ношу воспринять и потом вытолкнуть, выстрелить — ветвью. Когда хотят похвалить землю, говорят: воткни палку — дерево вырастет. Так и душа.
Начавшаяся после война закружила Настино семейство как вихрь и отломила у него самую малую, самую слабую ветвь: мальчика Диму. Унесла, завеяла…
Смутно помню, как вечерами мать зазывала в дом соседских девчонок, уже ходивших, в отличие от меня, в школу, и при жарком свете семилинейной керосиновой лампы диктовала им письма в города, которые я даже представить не мог: так отдаленно от нашей деревенской жизни звучали их неведомые названия. Город Ростов, город Ставрополь, город Баку… Девчонки старались, их лица разгорались — от близкой лампы, оттого, что и в них, девчонках, выводимые названия откликались отроческой истомой. Верила ли сама мать, всю жизнь не отлучавшаяся от степи, в реальность этих городов? Вряд ли. Тем настойчивее были ее письма. Она как будто молилась этим чуждым, почти выдуманным ликам: Ростов, Ставрополь, Баку, Москва, вымаливая утраченную и все еще болевшую на срыве ветвь.
Дай. Пошли. Найди. Ношу?
Молитв мать не знала, и эти вечерние бдения, глуховато-страстные, в самом деле на моленья похожие диктовки надолго растревоживали ее: она замыкалась в себе; девчонки уходили, а мать все сидела за столом, перебирая свежую стопку конвертов.
И в один из дней феерия названий, истовость мольб материализовались в образе возникшего на нашем пороге длинношеего и длинноликого (Гусев!) паренька в огромной, черного сукна фуражке, сидевшей прямо на оттопыренных, поникших под ее чугунной тяжестью ушах и украшенной сияющими алюминиевыми буквами «РУ». Он появился в доме под вечер, и мать, как подстреленная, с виноватым стоном кинулась к нему на порог…
СУЖДЕНИЕ О ГОЛОДЕ
Я слышал много рассказов о голоде. Горящий рубец его будет носить еще не одно поколение. У нас он уже почти не болит. У нас он как родимое пятно: кто мы и откуда.
Мы дети своих родителей.
Старая женщина — моя мать теперь была бы такой же — рассказывала, как они в голод работали в степи. Как больное зверье выискивает целебные коренья, так и они выискивали и ели змеиный чеснок. Я знаю это терпкое, вонючее растение. Мальчишками мы тоже пробовали его — из любопытства. Их работа заключалась в том, что девчата травили мышей и сусликов. Как известно, в голод мелкие паразиты непотребно плодовиты (на то есть свои неоднозначные причины), что в сочетании с необычной смертностью высших живых существ, включая человека, создает угрозу эпидемии. Девушки-колхозницы раскладывали у норок отравленные кукурузные зерна. Разбредались с утра по степи и поодиночке допоздна делали свою угрюмую работу. А однажды не выдержали и вечером тайком собрали рассыпанную за день кукурузу, в трех водах пропарили ее и, прячась от начальства, съели. И отравились — их еле-еле откачали.
— На пасху решили пойти в село. Люди там празднуют, а мы как проклятые: днюем и ночуем в степи, распухшие, занехаенные. Хоть в клуб, думаем, сходим. Молодые были, и кровь брала свое: пасха, апрель. И сбежали с работы: ушли вроде в степь, а собрались в лесополосе, возле дороги в село. Идем, идем, доплелись до села. По селу идем. Бричка навстречу едет, в бричке старух везут. Прямо так, на голое дно положили их. Старухи в своих черных юбках, в передниках: как сохлых мух насыпали. И лошадь доходная: голова в коленках мотыляется. И дед, что вел ее за уздечку, такой же, душа на нитке держится. Подъедут к хате: есть? Есть, говорят, и несут ему бабку. Забрал и поехал дальше. На кладбище везет, — догадались. Какие уже ничего, а какие еще и стонали в телеге — безродные, наверно. Старухи и вправду как мухи мерли: ели же последними. Постояли мы, посмотрели да и по домам пошли…
Тут всё — предмет для пристального, до расширения зрачков всматривания: старухи, понуро бредущий дед, которому завтра, возможно, предстоит повторить этот же путь, но уже там, в бричке, лошадь, согбенная тяжестью человеческого горя.
И все же самая выпуклая, самая реальная деталь — последняя. «Постояли мы, посмотрели да и по домам пошли…»
Слышите ли вы здесь сострадание? Вряд ли. Самое большее — сожаление.
Голод уничтожает в человеке человеческое.
Мы говорим: болевой порог. В одних обстоятельствах он бывает низким — и тогда человек кричит от булавочного укола, в других высоким. Голод повышает порог нравственной боли: занятый собой, с животным страхом вслушивающийся в прерывистый ток собственной крови человек глохнет к окружающему. Резко теряет в способности сострадать и в массе других нравственных способностей.
Отсюда — равнодушие спасенных змеиным чесноком девчат к неспасшимся старухам.
Отсюда — полуживые, недоумершие бабки, которых попутно — чтоб дважды не ездить — грузят в похоронную подводу.
Отсюда — похороны без гробов, в обиходной одежде — в России, где погребение усопших всегда было одним из самых возвышенных обрядов.
Голод, как червь, точит духовную жизнь народа.
«Каратаев смотрел на Пьера своими добрыми круглыми глазами, подернутыми теперь слезою, и, видимо, подзывал его к себе, хотел сказать что-то. Но Пьеру слишком страшно было за себя. Он сделал так, как будто не видал его взгляда, и поспешно отошел.
Когда пленные опять тронулись, Пьер оглянулся назад. Каратаев сидел на краю дороги, у березы; и два француза что-то говорили над ним. Пьер не оглядывался больше. Он шел, прихрамывая, в гору.
Сзади, с того места, где сидел Каратаев, послышался выстрел. Пьер слышал явственно этот выстрел, но в то же мгновение, как он услыхал его, Пьер вспомнил, что он не кончил еще начатое перед проездом маршала вычисление о том, сколько переходов оставалось до Смоленска. И он стал считать. Два французских солдата, из которых один держал в руке снятое, дымящееся ружье, пробежали мимо Пьера».
Это — Пьер Безухов. Совершеннейший из людей — в условиях голода и плена.
Что же спрашивать с заурядной женщины, материной мачехи?
И рассматривать все случившееся между ними в тридцать третьем году надо, видимо, с учетом этого отступления: чтобы не судить чрезмерно одну и сполна воздать другой.
ХЛЕБ
Всю жизнь она делала одну и ту же работу: кормила детей, ухаживала за скотиной, сеяла и убирала хлеб.
При всем однообразии эта работа, одна и та же, как и человек, на протяжении своей жизни делающий ее, так же, как человек, имеет способность взрослеть, стариться, умирать.
Быть горячкою и быть инерцией. Быть цветущей и быть немощной.
Быть цветущей. То есть молодой, рассветной…
Ни яслей, ни детских садов в селе, конечно, пока не было, и многие матери из тех, кому не на кого было оставить ребенка дома, брали детей с собой на колхозную работу. И мал-мал подросших, вставших на свои ноги, и грудных. Мажут, например, бабы колхозные амбары. Подоткнув юбки, месят глину, мазать начинают сверху, приставляя к огромному, окривевшему от старости амбару деревянные лестницы и подавая друг дружке ведра с водой и глиной, перемешанной с половой и коровьим навозом (конский был редкий и благородный, шел на мазку земляных полов в хатах, придавая им сухой блеск и крепость), а детвора возится поблизости на глазах. Время от времени то одна, то другая баба отлучится от товарок; расстегнув кофту, сунет своему галчонку набрякшую грудь и тут же, в затишке под амбаром, покормит его. Чтобы быть за них спокойнее, для грудных детей, рассказывают, рыли небольшие ямки. Уложив в нее карапуза, подстелив ему чистый мешок; выползти из ямы он не может, вот и лежит на пузе, на спине, забавляясь, в зависимости от принимаемого положения, то бледным летним небом, то разворачивающейся перед ним картиной сельского строительства.
Я тоже рос из ямки (как оберегаемый от деда Брихунца арбуз), и потому, наверное, мне кажется, что вечную Настину работу я знаю вечно. И тот же амбар, и птичник, где она была передовой птичницей, о чем свидетельствовали заведенные под стекло дипломы и грамоты, — в других домах так заводили карточки, но за невозможностью сняться самой мать заводила в рамки фотокарточки своей работы. И поле. И попробуй сам угадай, где тут рассказанное — матерью или еще кем, а где увиденное своими глазами, из лунки, откуда, стараясь не потерять из вида мать — единственное, что ему было знакомо в этом неожиданном мире, — изо всех сил драл голову Настин первенец. Все срослось, смешалось. И все же одно видение выделяется. Оно ярче. Оно наверняка увиденное.
На колхозном току женщины грузили в машины хлеб. Он лежал по всему току невысокими светло-золотистыми ворохами, как молодой, только что выкачанный из ульев мед. Сходство усиливалось еще тем, что вороха были истолчены босыми женскими ногами, и хлеб на вид (да и на ощупь: нога уходила в него по колено) был вязок, крут. Стынущий, берущийся сахаром мед. Небогатый взяток с окрестных сухих степей. У подъезжавшей к вороху полуторки открывали задний борт, приставляли к нему широкий деревянный настил с набитыми на нем планками — трап, и по этому трапу женщины поднимали в кузов зерно. Это теперь механизация, транспортеры: успевай подгребай лопатой хлеб к их прожорливым нориям. А тогда его грузили вручную, носилками. Носилки были сделаны в виде деревянного ящика с двумя парами ручек. В ящик входило сто килограммов зерна. Центнер. Его так и называли — «центнер». Не «носилки», не «ящик», а сразу, минуя оболочку, к сути, к мере: «Возьми центнер», «Сломался центнер…» Женщины постарше деревянными лопатами или специальными железными совками насыпали центнеры зерном, а кто помоложе поднимали их в кузов и там выворачивали. Одна спереди, другая сзади, становились они в оглобли центнера — впрягались — и ступали на трап. Скрипело рассохшееся дерево. Настя была среди тех, кто помоложе, кто носил. Глубоко надвинутая на лоб косынка, из-под которой краешком, полумесяцем и так же странно, как полумесяц, белеет намазанное простоквашей (чтоб не сгорело, не загрубело) лицо, светленькая кофта с засученными рукавами, и словно приставленные к рукавам — руки, такие обгоревшие, цвета кровельного железа, что кажутся чужими: кофте, косынке, улыбающемуся мне арлекинскому полумесяцу.
Кость у Насти узкая, и, удерживая центнер, рука вообще вытягивается в струну. Руки по швам, линия шеи и плеч круто срывается книзу — не только руки, все ее тело свинцовая тяжесть центнера вытягивала в струну, как растягивает оживший ивовый прут тяжкое теченье полой воды. Тело распластывалось по теченью — водопадом! — центнера. Через какое-то время женщины менялись местами в оглоблях — той, что ступала на трап первой, было все же полегче. И все равно эта тяжкая работа была в радость. В радость были небогатые, как пригоршни, горки послевоенного хлеба. В радость была молодость, ощущение силы — тело еще вытягивалось в струну, а не переламывалось с сухим треском в пояснице и, вытянувшись, мускулисто, как струна, трепетало в противоборстве с тяжестью. И как бы там ни было, но с трапа, с самой высокой точки его, когда восхождение, вознесенье с центнером было уже позади, мать обязательно улыбалась мне.
Оборачивалась и улыбалась.
Молодость — это работа с улыбкой.
Есть такая очень известная картина у художницы Татьяны Яблонской — «Хлеб». Тоже послевоенный ток. Зерно в мешках, колхозницы, задорное веселье. Наш хлеб был пожиже и количеством, и настроением, но эта слабая, усталая улыбка, витавшая над ним, одухотворяла его.
И его, и работу.
Настина молодость дображивала на медовых хлебах.
Пока женщины грузили в машины зерно, шоферы и их стажеры (шоферов было мало, к ним на выучку приставляли расторопных парней, а то и зрелых мужиков, и ненашенское слово «стажер» с форсом гуляло по селу) терпеливо и обособленно — техническая интеллигенция! — стояли в сторонке. Курили, лениво подначивали баб.
Был среди них и мой двоюродный дядька Иван Гусев. Чуб матюком, чернявый, ухватистый и по какому-то случаю выпивший. После мне привелось некоторое время жить в его доме, и я любил рассматривать с его дочками альбом их семейных фотокарточек. Изредка там попадались карточки самого дядьки Ваньки. И непременно — с машиной. Вот он на подножке полуторки. Вот у задранного «зисовского» капота. Вот еще какая-то техническая новинка. Собственно, дядьки, можно сказать, и не видно — один только локоть с начальственным шиком выставлен из кабины, зато новинка — как на ладони. Он фотографировался с ними, как с невестами или как если б они были его собственные. Частные — когда рука поглаживает капот, как собственное пузо. Увы, дальше мотоцикла с коляской дядька не двинулся. Годам к сорока пяти стал плох головой, опухоль нашли, по рукам, по лицу полезла нехорошая никотинная желтизна, тронутый морозом чуб враз, как в предзимье, облетел, обнажив бледную нездоровую лысину.
Но тогда дядька был еще молод, отчаян. Отозвал Настю в сторону и предложил вот эту машину, что сейчас догружают, отвезти не на элеватор, а к ней домой. Ему удалось что-то схимичить с рейсами, и эта машина, выходит, неучтенная. С тока поедет вроде бы в город, а стемнеет, вернется — и прямо к Насте во двор, там и свалит. Никто и не узнает.
— Сестра ты мне или не сестра? Бьешься одна, бьешься как рыба об лед. Должен я тебе помогать или не должен? — горячился дядька Иван.
Настя отказалась.
Разумеется, боялась за себя.
Разумеется, боялась за Ивана — это ему пьяному море по колено.
Была, конечно, еще одна разумевшаяся, подразумевавшаяся причина отказа, но я не торопился бы сформулировать ее с библейской категоричностью: не укради. Тот же хлеб Настя и другие женщины потихоньку потаскивали с тока в сумках, в рукавах. И грехом это не считали. В доблесть, правда, тоже не возводили — это были те житейские отправления, о которых вообще помалкивают.
Но тут — машина.
Впрягаешься в центнер, круто, срывая не однажды сорванные и выспевшие вновь мозоли, поднимаешь его, привычно ищешь ногою трап и тяжело, с гуденьем в теле ступаешь по нему, бездумно считая давно высчитанные планки. Раз, два, три… Кузов. Перевернули, стараясь хоть маленько, но бросить носилки вперед, чтоб ровнее и емче загрузить машину. Сбегаешь вниз — это как выдох, чтобы через пять минут, прикусив губы, снова ступить на трап. Раз, два, три…
— Руки оторвало, — жаловалась вечером.
И это притом, что была двужильной — сухая, цельная, с излюбленной поговоркой на устах: глаза боятся — руки делают.
Делать-то делают, но после отрываются.
И вот этого-то хлеба, выношенного, вынянченного проклятым центнером, — машину. Сразу, за здорово живешь. Приехали, свалили — прямо во двор, под порог.
Тут чувствовалось пугающее нравственное противоречие: между тяжким, с центнером на крылах, вознесеньем и — «приехали, свалили». Слишком тяжело давалась эта машина, чтобы так легко присваивать ее. (Не потому ли сейчас воруют больше, что дается легче?)
Полуграмотные, они видели в своей работе высший, государственный смысл — иначе просто нечем было оправдать ее надрывность.
Улавливала ли искушаемая Настина душа еще один диссонанс, который возник бы, зашершавил, согласись она с Иваном? Диссонанс с улыбкой, которую она с высоты рассохшегося трапа обращала к сыну и отказать себе в которой не могла?
С той не только ее — общей, обезличенной улыбкой, что всегда устало витает над общим, вынянченным хлебом и не меньше, чем государственный смысл, одухотворяет дружную людскую работу?
Осмелюсь предположить — уловила.
Кстати говоря, в то, а может, в другое лето Настя получила машину хлеба. Ну, «машину» надо воспринимать с поправкой на время. В ней было не больше полутора тонн. Тем не менее это было хорошо. Урожай удался, и его хватило на натуроплату. Хлеб привезли под вечер (может, тот же дядька Ванька и привез), свалили на выметенный по этому случаю двор, но занести в хату, в закром, что находился в самой ее сердцевине, в укромном месте, как гнездо, свитое в стороне от чужого глаза, не успели: стемнело. Перенесли работу на утро. Если таскать зерно в потемках, будет много отходов: там просыпал, там затоптал, да и с земли не подберешь дочиста.
Оставлять хлеб на ночь без присмотра побоялись: мало ли что, подгонят подводу, выгребут — и не услышишь. Решили всей семьей заночевать на ворохе. «Если красть, пусть крадут с нами», — сказала мать. И была права: наше благополучие заключалось теперь в этом вспучившемся посреди двора бугорке, к которому тянулось все живое в доме — и мы, и куры, и пришедшие с выгона овцы, и даже корова Ночка.
Нам всем было возле него теплее. Спокойнее. Сытнее.
Разостлали на зерне фуфайки, принесли стеганое ватное одеяло и легли: мать, брат — тогда еще один — и я. Отчима не было: он, праздный ремесленник, не приписанный к колхозу, жил у нас набегами. Больше бесплодно кочевал по чужим краям, лишь к зиме возвращаясь (с парой совершенно ненужных нам безделиц вроде патефона или репродуктора, который все равно некуда было включать: до нашей хаты, стоявшей на отшибе от других, радио так и не дотянули) в покорный ему Настин дом. Братишка был маленький, он еще не ходил и, угревшись под материной грудью, затих, как будто исчез, растворился в жирной, как сажа, темноте, в тишине, в тепле, шедшем от матери, от хлеба, от пропитавшейся солнцем земли.
Мать еще была во власти дня, радовалась, что так удачно вышло с хлебом: и получили, и привезли, и, дай бог чтоб не брызнуло, завтра занесем. Главное — получили. Выхлопотали. Она говорила со мной, несмышленым, сама с собой, строила планы на будущее: вот приведет корова Ночка телку (сколько помню, мы всю жизнь ждали от нее телку, а она приводила бычков да бычков), выходим ее, а Ночку продадим и купим дом где-нибудь в центре села. И заживем с людьми, а не тут, «в степи»…
Возбужденная удачей, она говорила в темень, в ночь, с ночью говорила, но голос ее был спокоен, довольство и уверенность звучали в нем. Потому что под нами лежали полторы тонны молодого хлеба, новины — грузило, дававшее остойчивость и нашему старому, расшивающемуся дому, и нам в нем.
Дождя быть не могло. Ночной ветерок дунул на давно, наверное днем еще, тлевшие звезды, и они, очистившись от нагара, вспыхнули близким огнем. Мать говорила о Ночке, а я не мог оторваться от этих блукающих, выворачивающихся из черных глубин огней. Будто свечку к глазам поднесли. Мать, звезды, хлеб — сошлось вечное и насущное.
Наутро, таская ведрами хлеб в закром, заметил: от вороха идет тонкая как волос, но вполне протоптанная тропинка. Через двор и, благо огорож не было, прямо в степь. Движение по ней было двухрядное: по одной стороне тяжело ползли груженые муравьи, по другой юрко спешили за ношей их порожние сородичи. Я изумленно присел над нею: ржавый от старости муравей, обламывая челюсти и лапки, останавливаясь, спотыкаясь, контуженно кружась, волок, как бревно, пшеничное зерно.
Они таскали всю ночь. Дорогу за ночь пробили: в траве, в бурьянах — до пыли.
Я подозвал мать.
— Бог с ними, — улыбнулась она.
ТАБУН
Переводчик попался мне не по чину. Цепь недоразумений — начало положила ангина, из-за которой я прилетел в Западный Берлин на несколько дней позже условленного срока, — всполошенность хозяев, что тем очевиднее для гостей, чем тщательнее от них скрывается, что в скромной комнатке принимавшей меня молодежной организации появился этот совершенно не соответствовавший ни комнате, ни мне человек.
Начнем с того, что он был старше всех нас, собравшихся здесь под пестрой сенью дешевых плакатов, в которых на скорую руку решались все мировые проблемы — от социальных до сексуальных, — старше молодежной организации как таковой.
Но это была не старость. Это было затянувшееся межсезонье, когда непонятно, что на что меняется: молодость на зрелость или зрелость на старость. Невысок, клещеног, как бывают клещеноги юноши и старики. У него было скопческое (и в смысле — птичье, кобчика, и одновременно — скопца) лицо. Безбровое — круглые с желтизной глаза прятались в таких же круглых дуплах надбровий, безволосое — то ли потому, что так чисто выбрито, то ли волосы были бесцветными, вымоченными и на костлявом лице никак не выделялись. Он был в кожаной куртке, выношенной, мягкой, хорошо сидевшей на нем — именно сидевшей, а не стоявшей колом: сразу видно, что в нынешней моде этот человек не новобранец. Линялые вельветовые штаны, майка — одежда на все времена.
Что в нем угадывалось — сила. Она вспучивала костистую грудь, чувствовалась в толщине и твердости — как дебелый пенек — шеи. Позже, когда мы познакомимся поближе, я узнаю: больше всего он гордится тем, что играет в волейбол в юношеской сборной района.
И еще угадывалось, что он — профессионал. Он мог быть вором, агрономом, слесарем, но — профессионалом. Человеком, знающим свое дело и — отсюда — цену себе.
Об этом говорило уже то, как он вошел. В распахнутую дверь — распахнутым шагом. Короткий кивок хозяевам (несколько минут назад они просительно, совещаясь друг с другом, звонили ему), беглый, как на сапог, который принимают в починку, взгляд на меня:
— Этот?
— Этот, — сказали ему.
И встали, как будто не он, а они были при нем переводчиками.
Выход мастера!
— Вальдо, — назвался он, протянув мне сухую, в бесцветных волосках руку. — Проще говоря, Володя, — продолжил он по-русски и улыбнулся. Мне, отдельно, вычленяя меня из всех присутствовавших. Как своему. Как сообщнику.
Как мастер — работе. Принимаемому в починку сапогу.
Или чуть-чуть, как отгибают язычок замка, раздвинул невидимую щелку и впустил меня к себе, к профессионалам. Признав — гипотетически — такового и во мне? Так: признав возможность встретить во мне профессионала.
Мало ли куда мы впускаем гостей только потому, что они — гости.
В Западном Берлине в начале мая.
В описании зарубежных впечатлений есть налет эгоизма: полюбуйтесь, дескать, каков я, — там побывал и сям, и то видывал, и другое пробовал в отличие от вас, оседлых. Но так получилось, что в данном случае увиделось другое — Настина юность. Может быть, ее последний миг.
Как будто язычок у замка отогнули.
Но прежде надо подробнее сказать о Вальдо.
Он переводил мне, не проявляя ко мне никакого интереса. Я заметил: Вальдо говорит короче экскурсоводов. Старушка из муниципального музея, божий одуванчик, вправленный в черную рукавичку бархатного платья, минут пятнадцать нашептывала что-то над ксилографией Кете Кольвиц «Вдова», словно заговаривала ее, поминутно взглядывая то на меня, то на Вальдо. А когда закончила и наступил его черед, он перевел:
— В войну дети сиротеют в утробах.
И поволок меня дальше.
Не успевший перевести дыхание божий одуванчик вынужден был влачиться следом.
Разговор со мной он понимал как исполнение служебных обязанностей. В перерывах между исполнением — когда мы, например, оказывались на улице, в метро — просто молчал. Стоял или шагал рядом, как случайный попутчик, и сосредоточенно молчал либо что-то лениво насвистывал. Профессионал, он берег словарный запас, как, скажем, певец бережет голос. Если что и спрашивал, то вопросы касались одного предмета — наших знаменитых военачальников: жив тот или другой или умер.
Наши военачальники входили в круг его профессиональных интересов. Вальдо переводил мемуары и тем зарабатывал на жизнь. Зарабатывал, надо полагать, неплохо: у него была квартира в городе и дом за городом, в деревне; он содержал третью жену и имел машину, на которой каждое утро подъезжал за мной в гостиницу, аккуратно парковал ее, и далее мы двигались городским или служебным транспортом, а то и на своих двоих.
Лишь однажды вяло поинтересовался, откуда я родом. Я ответил.
— Я в тех местах воевал — на Черных степях, — машинально сказал он.
Наверное, в наших отношениях что-то переменилось — с момента, когда он обронил эту фразу. Во всяком случае, переменилось мое отношение к нему. Я уже не воспринимал его как странного, но в общем-то симпатичного чудака: иностранец, мол, что с него возьмешь, у них тут все деловиты, как аптекари. Как-то враз ушла простительность, «свойскость» наша русская ушла. Смотрел на него и видел жесткие, кайлом вырубленные скулы.
С такими скулами не убивают: едят.
Не замечавшиеся ранее, они проявились, как скелет на рентгеновском негативе.
Не смотрел на него, а видел.
Вероятно, он почувствовал перемену. И однажды, перед отъездом, когда мы сидели с ним в закопченном ресторанчике на четыре стула «У тирольских стрелков» (а Вальдо, надо сказать, пил водку проще всех известных мне иностранцев, в том числе переводчиков: вывернул стакан и туда же цыплячью ногу — никакого жеманства, он, подтаявший, с выступившими на скулах — так наверное, камни плачут — капельками пота), сказал, бросая на стол выдернутую из-за ворота салфетку:
— Ты не думай, парень, я ведь не стрелял. Всю войну был баллистиком. Знаешь, баллистик гаубичной артиллерии. Гаубичная артиллерия стоит за несколько километров от передовой. Тебе дают координаты целей, и ты делаешь расчеты. Так что я воевал даже не с автоматом, а с логарифмической линейкой. И с миллиметровкой, — усмехнулся он удачно найденной концовке.
Улыбка у него была неважная. Он как бы и меня приглашал улыбнуться и одновременно побаивался — не меня, а того, что я не соблюду приличия. Протокол: стану спорить, петушиться. Словом, окажусь не столь профессионален. Ведь в конечном счете профессионализм — это чувство меры. Во всем. Или чувство отстраненности — от всего.
Он зря побаивался. Не то чтобы я был очень вышколен, просто что я мог ему сказать? Как мог сказать — то, что ожило во мне, вряд ли было бы понято им, хоть он и говорил по-русски не хуже меня.
Оно и мне было не совсем понятно, не выговаривалось, не проявлялось словом.
Сколько раз приходилось наблюдать: где-то на самой закраине неба, как навильник пуха, оброненный на дальней, вылизанной колесами дороге, притулились несколько облаков. Прижухли, не выказывая жизни. Умерли, забытые возчиком, небом. И вдруг дуновение ветра, или неуловимая смена его направления, или чей-то неосторожный вздох нечаянно коснутся их, и облака придут в движение. Медленно выворачиваясь, подставляя солнцу то один бок, то другой, выгребают они на самый стрежень неба и плывут по нему как из небыли.
Ожило случайно слышанное, даже не от матери — от дядьки Сергея, того, что бегал со мной наперегонки через дорогу. И поплыло по сводчатому небу памяти, обретая в ней плоть, кровь, жизнь.
И все же оставаясь пока бессловесным. Как я мог перевести его «курлы» на русский ли, немецкий ли сидевшему подле меня чужеземцу? Этот перевод был непосилен ни мне, ни ему, лучшему, редкому, дорогому переводчику Западного Берлина…
Они спасались от войны в степях, что начинаются на восточной окраине Ставрополья и, через Калмыкию, тянутся вплоть до Каспия. Черные земли — называют их. Название происходит оттого, что раньше эти степи, говорят, не знали снега. Даже зимой здесь можно было прокормить овец на подножном корме. Каждую осень со всей округи стягивались сюда многотысячные отары овец. Я еще застал времена этого наземного овечьего перелета. «На Черные», — говорили в селе и не добавляли при этом ни слова «земли», ни слова «степи». Так глубоко, обыденно вошли они в жизнь окружающих их народов. Всю зиму овцы паслись на Черных, а по весне, отощавшие, замурзанные, но перезимовавшие, а по тогдашним бескормицам можно сказать — пережившие, переждавшие зиму, возвращались — с приплодом! — на старое тырло для мытья и стрижки.
Когда задула война, люди — женщины, дети, старики, — повинуясь перелетному зову, потянулись на Черные. Переждать. Перезимовать. Здесь легче было прокормиться скотине, а стало быть, и человеку, сюда, думали, немец не заглянет, что ему тут, в бурьянах, делать, сюда, надеялись, немца не допустят — куда уж дальше…
Поначалу так и было. Жили на Черных и довольно сытно, и относительно спокойно: Война только поменяла их местами: мужчины, в том числе и Настин средний брат Алексей, остались на месте, то есть на войне (Алексей там остался навек), женщины, старики и дети пошли в отхожий промысел и хозяйствовали теперь здесь, где хозяйство спокон веку вела крепкая мужская рука.
Есть на Черных землях удивительное озеро — Маныч-Гудило. Оно состоит как бы из двух половинок — из сердца и предсердия, соединенных узкой подземной горловиной. Гирлом. Гирло лежит на небольшой глубине, и прямо над ним проходит пересекающая озеро степная дорога. Едешь по ней, остановишься, спустишься вниз, к полынно горькой волне, и слышишь, как горячо, кровью, клокочет вода в тесной горловине, переливаясь из одной части озера в другую. Гудило! Ветер с юга — и волна бьет из сердца в предсердие, ветер с севера — и вода движется в том же направлении…
В какой-то момент войны все Черные земли стали такой же тесной горловиной. Гирлом, по которому, разрывая его, сама война поперла — кровью — из одной части света в другую.
Ветер дул с запада на восток.
Можно точно высчитать эти дни.
Лето сорок второго. Выйти через степи, и через степи — еще, к Сталинграду, и через степи же дотянуться к Баку.
Артналет.
И степь разверзлась как могила. Как огромная горячая могила — для женщин, детей, стариков, для сохраняемых ими отар, для сусликов и змей, для самой степи. Сначала они поползли — люди, суслики, змеи: так густо накрыла их смерть. Казалось, между снарядами, между вздымаемыми ими смерчами, уносившими в небо столетние, пустившие корни чабанские землянки, горбатые арбы и не успевший зацепиться за землю человеческий вопль, можно только проползти. Потом, ополоумев, побежали. Через разрывы, через ад кромешный то ли по земле, то ли уже по небу…
Пока ползли, держались вместе. Когда побежали, растерялись. Настя, маленький мальчик Дима, нашедшийся лишь много лет спустя, уже при мне (кстати, он и по сей день не помнит, как очутился в детском доме), и дядька Сергей, то есть тогда совсем еще не дядька, а босоногий, в цыпках, четырнадцатилетний пацан.
Чего не видел мой переводчик Вальдо, оставаясь за несколько километров от передовой?
Не видел Настю, простоволосую, оборванную и обезумевшую, уже не бежавшую, а понуро бредущую по степи и, пытаясь перекричать грохот наступления, тщетно выкликавшую братьев.
Чего не видел баллистик гаубичной артиллерии Вальдо?
Дядька Сергей хорошо бегал не только после семилетней тренировки на самых восточных рубежах нашей Родины, но и гораздо раньше, в мальчишескую пору. Напуганные грохотом и кровью, десятка полтора подростков, его ровесников, как-то сами собой выделились из общей, слабой человеческой массы и, скучковавшись, отбившись от нее, как иногда отбивается от стада резвый, но еще дурковатый молодняк, понеслись, подпаливаемые страхом, по степи.
Не будем к ним слишком строги, тем более задним числом: то бежали, обогнав матерей, сестер и младших братьев, завтрашние заступники Отчизны. Пройдет год-другой, и, пользуясь несовершенством учета гражданского населения в военное время, а может, и напускной, не от хорошей жизни, доверчивостью военных комиссаров, многие из этих ребят, так же как дядька Сергей, выдав рост за возраст, уйдут на фронт — Западный или японский. Когда казалось, что черпать уже неоткуда.
Они, задыхаясь, бежали по степи, падали в ее балках, по которым с треском горел вызревший курай, и, отдышавшись, бежали дальше. Понимали, что вслед за снарядами сюда, в степь, придет живой немец.
Бежали люди, ревела и блеяла истерзанная огнем и металлом скотина, ползли вывернутые из земли степные гады.
У них были крепкие ноги подпасков и заклятых врагов окрестных бахчей, и пока их и без того не перегруженные головы выветривал панический страх, ноги делали свое дело. И если вся человеческая масса, накрытая немецким артналетом, в качестве своего концентрированного желания жить, выжить выдвинула этот табунок сеголетков, то в них самих, в свою очередь, в пористых массах их мальчишеских тел, продолженьем концентрата, его жалом были ноги.
Босые, кровенившие, подбитые прогорклым от тротила ветром.
Неизвестно, куда бы они прибежали, если б не встретили на своем пути другой табун. Случайно слышанное мною замечание дядьки Сергея как раз к этому табуну и относилось. Кто-то сказал: не дай бог оказаться на пути вспугнутого табуна. А дядька заметил, что это, мол, когда как. Когда они пацанами драпали по степи от фрицев, то как раз благодаря табуну и не попали в плен. Наткнулись на табун и побежали следом.
Сначала они испугались еще больше. Широко, захватывая их в кольцо, из которого уже не выбежать, не вырваться, неслась на них бешеная конница. Сбросив и, вероятно, стоптав извечного своего седока — человека, она как будто сбросила вековые путы прирученья, и зверь, стоголовый, роняющий пену и ржание зверь, оскалился во вчера еще мирно пасшемся калмыцком табуне. Взнузданные страхом оборотни летели над степью, по-змеиному выложив шеи и полоща ее жесткими хвостами.
— Ложись! — крикнул старший из пацанов, и они успели вжаться в неподдававшуюся землю, и кони пронеслись над ними, обдавая их едким мылом взмокших промежностей.
Поднявшись, они сообразили, что лошади бегут от немцев.
Конь тоньше человека чует зверя.
И мальчишки побежали следом.
Что не мог рассмотреть Вальдо, посвистывая над миллиметровкой? Полезший из орбит конский глаз, в котором отсветы пожаров мешались с горячей капиллярной кровью…
Что мне было сказать ему? Спросил, есть ли у него дети.
— Детей нет, — проницательно усмехнулся Вальдо. А потом как-то потух. И проницательность его, похоже, потухла, ибо он стал рассказывать про волейбол и про то, что собирает в деревне сад камней. Вычистил купленную у священника усадьбу от кустов и деревьев и стал собирать камни, валуны замысловатой конфигурации. Сначала сам привозил их с поля или с округи, а теперь, считай, и не возит. Местные крестьяне возят. Узнали, что за полновесный камень у поселившегося по соседству горожанина можно получить пять-шесть марок, и прямо с поля трактором прут. Особенно в пахоту — почва тут каменистая. «Как у вас говорят — за флакон?»
— За пузырек, — поправил я его.
Все-таки два стакана для него было много. Водка даже врагов сводит к общему знаменателю. Из него, как когда-то из моего отчима, будто весь его костлявый остов вынули. Один мой приятель разделывает так селедку: сделает надрез, вынет через него позвоночник, ребра, в общем — полный скелет, и — готово к употреблению.
Вальдо был готов к употреблению…
Они встречались, если продолженьем дороги Вальдо, ее жалом считать траектории рассчитанных им гаубичных снарядов. Но после смертельного перекрестья Настя еще смогла родить троих сыновей, худо-бедно взрастить их, и, естественно, в срок, точнее — до срока, и эта перехватывающая горло досрочность вечна в естественном человеческом конце — сойти в землю.
Вальдо собирает камни и переводит победителей. Даже с такого большого расстояния — двадцать километров, — выжигая чью-то жизнь, не остерегся, обжег, как лист, собственную душу.
Да здравствуют ошибки профессионалов! В предлогах и в падежах, в префиксах и в переводе чужестранных арготизмов.
И в числах!
Я ведь тоже полз, когда ползла Настя, и бежал, не родившийся, не зачатый, когда, ополоумев, побежала она. И звал братьев, то есть своих тогда еще не выросших дядьев.
Тирольские стрелки в фарфоровых блюдах на стенах, пьяный Вальдо и я — его живая ошибка в логарифмировании больших чисел. Его промах.
Или — ее нечаянно забредшая сюда, в Западный Берлин, в начале мая, в потемках бесконечных странствий, взыскующая душа.
АРАБСКАЯ ВЯЗЬ
Почему-то раньше он мне никогда не попадался. Сколько раз ходил на кладбище и в детстве, и в зрелые годы, а его не видел. В детстве на кладбище, «на могилки», ходил на пасху и неделей позже — на так называемые «провода». Ходил беззаботно, с расчетом на гостинец, на яичный бой с мальчишками, специально для него раздобывал яйцо цесарки — оно крепче куриного и, будучи искусно, с солью, сварено, приобретало свойства чугунного ядра. Поваляться на молодой, как телячья шерстка, траве… Ходил как на праздник — до тех пор, пока не похоронил здесь мать. С того дня, когда еще только подхожу к гремучим, весело сваренным в совхозных мастерских воротам, которые нелепо возвышаются посреди голой степи и ничего не загораживают — кладбище в самом деле не огорожено, но по старой примете входить сюда и выходить отсюда надо через ворота, — сердце мое начинает всплывать со своих спокойных глубин выше и выше, в теплой вязкой крови, пока не застревает в горле. И к поднимающейся вместе с ним горечи, как тошнота, примешивается боязнь. Нарастающий страх: не потерять бы могилу. Не забыть единственное на свете место, что, приняв чью-то дорогую жизнь, обозначило первый, промежуточный финиш и для тебя. Ориентир. С кем не бывало: проснешься в глухой полночный час — и первая, чтоб очнуться, сориентироваться, мысль: кто ты? как твое имя? когда ты родился?
Кто ты, как твое имя, когда ты родился — и умрешь…
Только теперь мне понятно, почему Настя всякий раз с виноватой печалью бродила меж старых, источенных травой могил: не помнила.
Человек, не помнящий могил, как заблудший, потерявший себя в свистящем космосе бытия.
Кто ты, когда родился — и умрешь…
Мы возвращались с братьями с материной могилы, и так получилось, что шли по самому периметру кладбища, по его окраине. Едкая, как самосад, пыль, отравленная ею чахлая всклокоченная трава. Мы были уже недалеко от ворот, когда наткнулись на торчавший из травы камень. Он был заострен кверху и взят в железный ржавый обод. По всей видимости, это был даже не камень, а залитая бетоном форма — отсюда и копьевидность, и ржавый обод. По камню замысловатой червоточиной шла надпись на непонятном языке. Это было самое неожиданное — чужой язык в родной, кровной стороне, где, кажется, даже жаворонки поют на понятном, русском наречье. Призванная наделить камень словом, надпись только усугубляла его немоту. Вполне возможно, что человек писал ее пальцем, когда бетон был только залит и еще не схватился. Стоял на коленях и, отрешившись от всего, вел пальцем по податливому бетону, как по восковой пластинке, шифрующей, преобразующей человеческий голос, даже плач человеческий в ровную неглубокую музыкальную канавку.
Так когда-то и я в стороне от царившей во дворе суматохи, крика молча вырезал ножичком под сараем материну — и свою — фамилию на деревянном кресте. Потом залил канавку тушью, потом, через годы, тушь смылась, испарилась, а канавка так и осталась черной — от времени. Время, переползая, оставило свою червоточину.
Земля под камнем просела, он глубоко врос в нее, и надпись не заканчивалась, а уходила вместе с камнем вглубь, в жухлую траву, в глину. И глохла. Немая молния крика, молния безвестного человеческого горя, косо ударившая в тощую чужую землю.
Мы остановились у камня, и младший брат, который знает теперь наше родное село лучше нас, старших братьев, потому что живет и учительствует в нем, сказал, что под камнем лежат узбеки. Их присылали из Средней Азии разводить здесь хлопок — такая безуспешная затея была в пору хлопковой блокады, когда хлопок, как обреченный снег, появился и в наших степях, и даже кое-где на Украине, — но тут война, холода пошли: мерли узбеки семьями. Здесь и похоронены, в стороне от православных могил, но за одними воротами, огороженные одним вольным степным ветром.
Мы немного постояли у камня: три родных брата, в одном из которых — во мне — течет пригоршня узбекской крови.
Брошенная в долгую, из крепостного безвестья, русскую борозду — как горсть чужого праха — в эту горькую от полыни степь.
Детство, юность и, наконец, материнство.
В год, когда должен был родиться Настин первенец, его отец был направлен на восстановление шахт Донбасса; так мы с ним и не встретились. Разминулись.
Правда, народная жизнь не может обойтись без легенды. И чем труднее она, тем выше спрос на легенду, на чудо, пусть хотя бы не сбывшееся, но обещанное, но коснувшееся крылом ее буден. Нашлась такая сказка и на Настину долю, а через нее коснулась и меня.
Вспоминаю, как доверчиво восприняли ее окружающие. Даже не восприняли — подхватили. Достаточно мне было обмолвиться одним словом, как сельская улица окружила его множеством правдивейших подробностей, личных свидетельств, снабдила его крылом и из слова, из случая, сделала сказку. Потребность в сказке проживала на нашей улице. В конце концов я и сам поверил в нее.
Я был дома один. Мать еще была на птичнике, с нею увязались младшие братья, а я целый день был предоставлен сам себе. Играл, слонялся без дела по двору, поил птицу и поросят; день был летний, жаркий, и по мере движения солнца вся наша мелкая домашняя живность тесней и тесней прижималась к стенкам, вылавливая каждый сантиметр тени. Даже после полудня жара почти не спала; небо посветлело, на него теперь можно было взглянуть, но разогретая земля по-прежнему жгла босые пятки. Я поднимал из бассейна ведро воды, когда меня кто-то окликнул. Я вздрогнул от неожиданности: к нам вообще редко кто заходил, а тем более в такой час. Обернулся — во двор входил незнакомый мне мужчина. Что я понял сразу — он был нездешним. И в возникшей потом легенде это была, может, единственная правда.
Стоптанные кирзовые сапоги, жиденький рюкзачок за плечами, из-под которого расползалось по рубахе пятно пота. Шел он, наверное, издалека: и сапоги, и рюкзак, и рубаха пропылились насквозь. Волосы — и те казались пыльными. Есть такая седина — как ржавчина. Берет волосы медленно, осадой, и прежде чем побелеть, они мертвеют, жухнут. Продолговатое лицо его тоже было серым, а вокруг глаз засели синие пороховинки. Впрочем, вполне возможно, что это мне уже подсказывает не память, а услужливо диктует сказка: когда-то в детстве я видел на базаре гармониста с вытекшими глазами и с такими вот синими оспинками по всему лицу.
Послушайте песню шахтера, Душа у шахтера болит, —пел нищий, сидя на расстеленной кем-то фуфайке, и люди бросали ему в картуз поблескивавшую на лету мелочь.
Человек был немного хром и в руке держал бадик — тонкий металлический посох.
— Можно воды напиться? — повторил он вопрос, и я пошел в хату за кружкой.
Человек остался у бассейна, на цементированной шейке которого стояло ведро с водой.
Я вернулся, зачерпнул кружкой воды и подал незнакомцу.
Он воткнул бадик в землю и принял кружку обеими руками. И пил так — из обеих рук, при этом пристально рассматривая меня. Он как будто для того и воды попросил, чтобы была возможность спокойно разглядеть меня. Пил жадно, вода проливалась ему на рубашку, но он этого не замечал. Потом вынул из кармана платок, пропитавшуюся пылью тряпицу, вылил в нее остатки воды и, передав кружку мне, стал влажным платком протирать лицо.
«Сотрутся ли синие точки?» — заинтересовало меня.
Протерев лицо, он выжал платок, встряхнул его и сунул в карман:
— Ну вот, сразу веселее стало.
Точки остались на месте. Они выделялись теперь еще ярче — тоже как будто повеселели.
— Спасибо тебе, сынок. А ты что же, один дома? — спросил он после некоторой паузы.
— Один, — осторожно сказал я.
— А где же мать?
— На птичнике…
Его любопытство положительно настораживало меня. Как-никак у нас дом, хозяйство.
А он все так же пристально, не мигая, смотрел на меня.
— И как же зовут ее?
— Настя.
— Эх, Настасья ты, Настасья, растворяй-ка ворота… Знаешь, песня такая есть? — спросил он, заметив, наверное, мою настороженность.
Песни такой я не знал и был приятно удивлен, что поют, оказывается, не только про Катюшу.
Пыль припекала мне пятки, я переступал с ноги на ногу, но человек все не шел со двора; присесть было не на что, и мы так и стояли друг против друга: я с кружкой в руках и он, обхвативший ладонями бадик и тяжело, всем телом навалившийся на него. Зажавшие металлическую трость ладони были тяжелыми, разбухшими, и казалось, что они прямо сейчас, при мне, смяли и согнули в причудливый крендель ее витой набалдашник. Может, он лишь потому и разговаривал со мной, что ему надо было передохнуть?
— Как же твоя фамилия? — продолжал он тягостный для меня расспрос.
— Гусев.
— Гусев? — Он вроде не верил мне, и тень этого неверия мелькнула в темных, как на палом листе настоянных глазах. — Чудно́: фамилия русская, а сам как будто нерусский…
Я пожал плечами: об этом я как-то не задумывался.
— А кто есть у матери кроме тебя?
— Еще двое. Два младших брата, — сказал я, не зная, как отделаться от незнакомца.
— А кто еще? — упорно допытывался он.
— Ну, муж… — Что я мог еще сказать про отчима. — Да она скоро придет, у нее и спросите.
Я обернулся и посмотрел в степь, в ту сторону, где километрах в трех от нашей хаты стоял совхозный птичник. Он был виден с нашего двора, и между ним и двором, как пуповина, петляла узенька тропка, протоптанная матерью за много лет. На тропинке, в ее верховье, действительно виднелась едва различимая фигурка. Мать! Я обрадовался ей вдвойне: меня пугала настырность незнакомца. Может, он цыган? Я слышал: цыган в угольное ушко лошадь проведет. А впусти в дом цыганку, так за нею потом все уйдет. И сам пойдешь — не заметишь.
— Да вот она, — показал я рукою в степь. — Уже идет. Подождите, если хотите.
С матерью мне черт был не страшен, не то что этот хромоногий.
Он так же пристально, как на меня, посмотрел по указанному мной направлению и вдруг заторопился:
— Некогда мне ждать. Дай-ка еще водицы, да мне пора. Заболтался я тут с тобой.
Я снова зачерпнул воды, подал ему. Он выпил одним махом, выплеснул остатки на вздрогнувшего от удовольствия поросенка Ваську, который умудрился подобием баранки расположиться вокруг цементированной шейки бассейна, впитывая своей чуткой, еще молочной кожицей и каждый лоскут отбрасываемой бассейном тени, и каждую каплю теряемой с него воды, крепко утерся рукавом и сказал, возвращая мне кружку:
— Ну, сынок, спасибо. Будь здоров.
Он повернулся и медленно, привычно пошел по перистому от пыли поселку.
Шел, загребая пыль сбитыми сапогами. Поправил рюкзак. Оглянулся.
Я стоял между ними.
Судьба вроде и силилась свести концы с концами, связать, замкнуть их на мне, да сил не хватило.
Назавтра, после моего неосторожного сообщения, улица будет говорить, что незнакомец потом чуть ли не у каждого двора останавливался и все расспрашивал про Настю да про меня. Так и говорили: мол, отработав положенный срок на шахтах, человек вернулся в Узбекистан «отца с матерью досматривать», а досмотрев, затосковал что-то, совестно ему перед Настей стало, вот и приехал и дом нашел.
И еще говорили — полведра урюка мне подарил, хотя я до сих пор толком не знаю, что такое урюк.
«Отца с матерью досматривать…», «затосковал», «совестно стало…» — какие все русские, оправдательные, с пониманием к виновному мотивы! Вот только урюк — в качестве заморских яств…
Так людская молва досказала сказкой робкую историю поздней Настиной любви.
…А ведь я смутно, но помню и хлопок. «Хлопо́к», — говорили в селе. Убирали его поздно, по снегу. Был он чахлым, и собирать его приходилось на коленях. Вместе с другими женщинами ползала Настя в междурядьях, красными от холода и сырости руками срывала так и не раскрывшиеся до конца коробочки, бросала их в фартук и волокла перед собой. Что вспоминала она, собирая этот урожай, это жалкое, болезненное видение чужой земли? Что думала? Жалела? Проклинала?
Проклинала — вряд ли. В тот же день, когда мы побывали на кладбище, мы зашли и к одной из материных подруг — к тетке Дарье. Когда-то я знал ее приятной черноволосой женщиной. Сколько помню, она все время работала вместе с матерью: и в степи, и на птичнике. И была этаким бабьим коноводом. Нужно было с начальством поругаться — птичник отряжал Дарью в совхозную контору. Впрочем, начальству она не давала спуску и на птичьем дворе. Обычно оно заезжало на птичник с твердым намерением ограничиться беглым осмотром: как настроение, мол, как падёж? Одна нога тут, а другая на подножке линейки или бобика — смотря по чину. Не тут-то было! Тетка Дашка двумя пальцами, но весьма цепко ухватывала его за локоть и влекла вглубь, в духоту старенького, крытого соломой «корпуса». Подводила то к обвалившейся стене: «Это ж заделывать надо, сколько ж можно языки оббивать!» — то к закрому спросом: «Протравленное прислали. Не верите? Попробуйте! Хорошее, видать, загнали, а нам выдали из того, что после сева осталось…»
Пробовать начальство остерегалось. Стесняемое с одного боку чередой хозяйственных забот, а с другого — круглой, плотной, горячей (от нее в любое время года чуток парило, может, потому, что она не умела работать вполсилы) теткой Дашкой, оно, пытаясь сохранить и начальственное, и мужское достоинство, по-журавлиному вышагивало по птичнику.
Надо было в город на инкубатор ехать — и тут без Дашки не обойтись.
— У меня лишний петух не проскочит, — смеялась она. — Я на них злая, на петухов окаянных…
Каждую весну привозила цыплят, и всякий раз петушков среди них было ровно столько, сколько требовалось для поддержания должной яйценоскости куриного поголовья. Ни одного дармоеда. Как она их угадывала? Это ж только потом, через месяц-другой, когда из доселе одинаковых желтеньких комочков начнут вылупляться то аккуратные, как пульки, курочки, то вертлявые, страдающие диспепсией, еще безголосые и комолые петушки, можно обнаружить разделение полов. Тетка Дарья же умудрялась провести его на младенческой стадии, и это было предметом зависти других птичников совхоза, ибо по весне они каждый раз подгорали: подавляющее большинство полученного на инкубаторе поголовья оказывалось петушиным и по этой причине яйца нести было неспособно.
С петухами у тетки Дашки были свои счеты. Несколько раз выходила замуж, и все неудачно. Мужик ей шел не тот: дробненький, ленивый и какой-то беспривязный. То проносило через село бродячую артель, и кто-то, непременно самый лишний в артели, застревал, пригретый теткой Дарьей, с тем чтобы через год-другой быть решительно изгнанным из ее хатки. То какой-нибудь безродный пастух, нанимавшийся на лето смотреть общественное стадо, прибивался к ней — в урочный час и ему тетка Дашка говорила неожиданные, но в общем-то спокойные слова: «Вот тебе бог, а вот порог».
При этом она энергично показывала рукой сперва на краюху неба, всегда видневшуюся в проеме ее двери, поскольку хатка тетки Дашки по самый подол была вкопана в землю, потом на тяжелый бутовый камень, приваленный к хатке у входа и как бы тянувший ее на дно: это и был порог.
— Проводила? — с напускным безразличием интересовался птичник на следующий день.
— Наладила, — отвечала Дашка в тон, но потом не выдерживала и брала с места в карьер: — Что ж, он думал век на моем горбу ехать? Лежи на печи да вареники мечи? Так это я и сама умею — вот только кто б лепил их. Нет уж, пусть поищет дуру. Только кто на него кинется — разве что вши: они любят сопливых.
Бабы качали головами, потому что дурой была все-таки Дашка: после каждого постояльца оставался у нее приплод. Люлька, подвешенная в ее хате к пузатой выбеленной матице, не пустовала. Пятерых в подол собрала Дашка со всего белого света: русский, молдаванин, украинец — под их напором хатка, казалось, вот-вот лопнет, как переспевшая тыква…
…Покинув кладбище, мы вошли в село и уже шли по улице, когда младший брат показал на незнакомый дом, отступивший с дороги под тень проржавевших от жары вишен:
— Между прочим, тут живет тетка Дашка. Помните ее?
Мы, конечно, помнили, и брат предложил зайти к ней.
Прошли в калитку, на которой висел отучившийся свое ученический портфель — надо полагать, для писем и газет. Во дворе, тоже осененном вялой, обескровленной зеленью, играли дети: две девочки побольше и мальчик. Ходить он еще не умел, и девчонки по очереди таскали его, подхватывая под мышки; мальчуган болтал голыми, в арбузных потеках ногами и пыхтел так, как будто это ему приходилось переволакивать сестер. В первую минуту могло показаться, что мы вошли на старый, двадцатилетней давности, двор тетки Дашки, хотя и стоял он не здесь, да и нет его давным-давно.
Тетка Дашка вышла на крыльцо. Маленькая, как бы свалявшаяся: так вещий клубочек катится, катится по дороге, все уменьшаясь и уменьшаясь, пока не останется от него огрызок карандаша или щепка, на которую клубок наматывали. Вот эти узенькие, с проступившими ключицами плечи, облетевшие ветви когда-то вечнозеленых рук… Я говорил, что в молодости тетка Дашка была черноволоса, теперь у нее была такая же яркая, без полутонов, седина. И всю ее как будто выбелило: и волосы, и кожу. Только Глаза никакая известь не брала. Они казались еще темнее, чем раньше, может, потому, что ушли вглубь, провалились, и слабое лампадное мерцание уже с трудом долетало с их урезавшихся глубин.
— Здравствуйте, теть Даш, — поздоровались мы.
— Здравствуйте, — ответила она, приглядываясь к нам.
— Не узнаете?
— Да покамест нет. — Она приставила ко лбу ладонь, как делают, когда всматриваются в даль, отчего глаза ее ушли еще глубже и оттуда, издалека, узнали, различили нас.
— Так вы ж Настюшкины! — всплеснула она руками, и с той минуты все в доме, и мы в том числе, закружилось каруселью.
Оказалось, она только позавчера женила своего младшего — Петра. Вот тут, прямо на свежем воздухе, и свадьба была: вон деревянные столы как были сколочены, так и остались.
И к столам еще — есть.
— Юля! — кликнула кого-то тетка Дашка, но, не дождавшись, сама юркнула в погреб и через минуту уже подавала мне оттуда прямо в руки холодные, с испариной, горшки и тарелки: — Холодец.
И я принимал до краев залитое тусклым, стылым половодьем блюдо с холодцом.
— Сметана.
И в моих руках появлялся похожий на позднюю осеннюю грушу кувшин, начиненный крутой — ложку не провернешь — и нежной мякотью…
Бутылку спирта тетка Даша подняла с собою в фартуке и, протерев, сама поставила на стол.
Оказалось, другой ее сын, Иван, мой ровесник, живет напротив, через дорогу.
Оказалось, из Баку приехала на свадьбу ее старшая дочь Мария.
И в полчаса один из свадебных столов был полон. Сидел Иван, усатый совхозный тракторист, — усы его еще черны как ночь, а голова уже стала развидняться: с висков, с челки надо лбом, вороново крыло которой уже окутано предутренним туманом. Сидел Иван громоздко, на пол-лавки, но не потому, что был толст, как раз наоборот — жизнь, работа подсушили его, как хлебную корочку, а потому что со всех четырех сторон к нему липли, лезли на колени, ласковой паутиной обвивали его пятеро Ивановых детей. «Миру мир Иван Темир» — когда-то, пацанами, давая Ваньке такое бессмысленное прозвище (Темиров — фамилия Ивана), мы и не думали, что оно обретет такой вещий смысл. Иванова жена сидела — с годами она, не в пример Ивану, подходила, как на хороших дрожжах (а судя по детям, дрожжи и впрямь были что надо, с хмельцой), белотелая, рыжая, ревниво оглядывавшая свой «колхоз». Дальше Мария сидела со своими двумя, что были чернее и ее самой, сухой, как обгорелая спичка, и бабкиных загробных глаз чернее, потому что в городе Баку Мария вышла замуж за азербайджанца и работает там вместе с ним на химическом комбинате. Потом молодые сидели. Головы их были склонены одна к другой, они что-то шептали друг дружке, то вдруг громко смеялись не в лад застольной беседе и лишь иногда виновато оглядывались на нас, собравшихся, как бы извиняясь за то, что мы их сегодня не интересуем, как и ничто другое на белом свете, кроме них самих. Не наш черед. И все понимали это, никто не лез в их юную исповедальню, и она укромно покоилась посреди застолья, как птичье гнездо на пашне: трактористы знают о нем и берут плугом чуть-чуть правее. И это даже греет и роднит их — причастность к зарождению жизни. Мы тоже чувствовали ее. И она нас тоже грела. И волновала — особенно женщин. Невестка Юля чуяла это, и пожар на ее тугих татарских щеках разгорался еще нежнее. Татарка! Видно, собиранье кровей на веку написано Дарьиному роду.
Сама же тетка Дашка, заварив деревенскую гулянку, пригасла, расположилась на некотором отлете и, взяв на руки самого младшего внука, рассеянно слушала наш молодой, горячий, переменчивый разговор. Потом сказала, как бы сама с собой разговаривая:
— А мы на свадьбе вспоминали Настю. Пела она хорошо… Заходили к ней?
— Заходили, — ответил я и сказал о камне, который видели на кладбище.
— Знаю я тот камень, — оживилась тетка Дашка, но рассказала не про него.
Совсем про другое рассказала.
Сразу после войны они с Настей вместе работали на Черных землях. Дашка была еще девкой, к нам в село она попала в самом начале войны, детдомовкой, откуда-то из-под Одессы, вместе с другими беженцами, — отсюда и ее приоритет над местными бабами, никуда не отлучавшимися со своих насиженных мест. Настя же в девках только числилась: ей уже было тридцать, и, все девические годы занятая братьями, она и сама не заметила, как проглядела свой бабий час. Так и осталась — девка да девка. Работали они в одной чабанской бригаде, были сразу и арбичками, и сакманщицами. Кашеварили, ягнят выхаживали, корову держали. Бригада была большой, кроме Насти и Дашки в ней еще человек шесть мужиков состояло, время было голодное, и человек, чтоб прокормиться, прибивался к чему-нибудь живому — к корове, к овце. Птица прибивалась к человеку, человек прибивался к скотине…
Командовал бригадой молодой рослый узбек. Его сородичи занимались хлопком, а он один выпер как-то вбок — и от хлопка, и от родни. Был хитер, своенравен, бригаду держал в узде — тому, думаю, тоже немало способствовал гулявший вокруг недород. Бригада, кстати, жила тоже впроголодь — не воруя, жировать было невозможно. Не дай бог, если в отлучку старшего чабана — а ему приходилось ездить на центральную усадьбу то за фуражом, то в бухгалтерию — бригада сговаривалась втихомолку подвалить прихворнувшую ярочку или барана. Вернувшись через пять-шесть дней в бригаду, старшой без пересчета угадывал: съели. Овец он знал на память, хоть и было их в отаре тысячи две, сам лечил их, выпаивал легочных ягнят, искал пастбища и определял, как, в какой последовательности стравливать их. Это знание сидело у него в крови, сама Азия положила его, как кусок хлеба, в котомку своего блудного сына. В чабанстве, к столу говоря, вообще много от крови, от дара, от природы. Вспоминаю: в селе не говорили «старший чабан» или «заместитель старшего чабана». Говорили: «чабан правой руки», «чабан левой руки», и «третья рука» — то есть последний из заместителей. Чтобы обожествить что-то, его надо очеловечить, даже так — в названиях, в номенклатуре. В данном случае обожествление — подчеркивание дара, того, что от природы: правая рука, левая рука… И сунутый в котомку кусок действительно выручал: бригада считалась передовой в колхозе.
…Пронюхав неладное, бригадир, не нарушая заведенный порядок работы, дожидался вечера, чтобы тогда, по завершении дневных трудов, перед ужином, выстроить бригаду у стола во фрунт, всмотреться каждому в глаза и угадать-таки — тоже Азия — закоперщика. Высмыкнуть его из общего ряда, оставить в хате, выгнав остальных за порог, на двор, и отходить арапником с тяжелым раздвоенным жалом. Виновный ужом вился по полу, но из бригады после все же не уходил.
В одно из таких построений Настя сама шагнула к нему. Бригадир не стал допытываться: она или не она, молча снял со стены арапник.
Бригаде уже надоело слоняться вокруг землянки, уже прогорали короткие летние звезды, а дверь в хату все не подавалась.
— Может, те дни и были ее первым и последним времечком. Как на крылах летала. Все бегом, все со смехом. Корову доит с песней, баранту пасет с песней. Всех готова была подменить, пожалеть. А я ненароком подслушала, как он мужикам хвалился: мол, мне жениться рано, а ей в жены поздно, и, дура, не вытерпела, шепнула ей: ты вот аж стелешься, а ведь он не женится, не возьмет. «Знаю, — сказала она. — Да мне от него и не надо ничего. Мне бы сыночка — и за глаза хватит…»
Голос у тетки Дашки дрогнул, и она подняла фартук к глазам, как будто и их, как самое дорогое, как спирт, хотела поднять из дальних, тиной затягиваемых подвалов: возьмите. Выглядела она, конечно, куда старше своих лет.
И была выпита рюмка за Настю — можно сказать, на чужой свадьбе…
Так что нет, вряд ли она проклинала его.
СУНДУК
Не помню, чтобы сундук когда-то двигали. Он, казалось, стоял здесь еще до основанья дома. Сначала поставили сундук, потом поставили фундамент. Он был старше всех в доме: и меня, и коровы Ночки, и матери, и самого дома; и его угрюмое старшинство признавалось как нами, живыми людьми, так и остальной, за вычетом сундука, — правда, весьма немногочисленной — движимостью. Одна Ночка, может, не подозревала о его существовании, но и той, когда пробил ее час, суждено было белым, из пасхального платка сделанным узелком со скрипучими от десятирублевых бумажек боками улечься на самое дно этого последнего хлева.
Стоял сундук в средней, или, как говорят на юге, «второй», комнате. Кроме него, здесь ничего не было: ни кроватей, ни стульев. Да сундук и не намерен был с кем-то делиться жилплощадью. Один занимал весь простенок, огромный, цельного дерева, украшенный по углам незамысловатой резьбой, напоминавшей от старости чугунное литье. Просто удивительно, как он обходился без того дополнительного персонала, что удерживает на согнутых плечах подобные излишества на вычурных фронтонах замшелых архитектурных памятников…
В сундуке, отглаженное и переложенное мятой, хранилось скудное бабье богатство: бязевые наволочки, простыни, пододеяльники и кое-какое барахлишко, среди которого торжественно выделялась тщательно, как хоругвь к выносу, сберегаемая «плюшка» — так и не сношенный матерью черный плюшевый жакет.
Сундук был так велик, а барахла в нем было так жиденько, что, для того чтобы достать что-либо, надо было перегибаться в три погибели, по грудь окунаясь в его темную пахучую бездну.
Не оставалось в доме ни копья или матери не хватало какой-то малости для неотложной покупки, и она униженно, как будто взаймы просила, склонялась над сундуком.
Надо было решить, в чем первого сентября идти в школу мне или брату, и вновь невесело перекладывались с места на место плюшка, пододеяльник, простыни…
Она, конечно, понимала, что ни лишней копейке, ни тем более лишнему шардыку там взяться не с чего — не шашель, без разводу не заведутся, — но все равно, зажатая в угол, робко брала у нужды этот последний тайм-аут: порыться в сундуке…
Крышка у сундука была тяжела, как могильная плита; мать не могла удержать ее одной рукой, и всякий раз на помощь ей призывался я. Принимал плиту на свои неокрепшие руки и старался поднять ее как можно выше, в меру сил исполняя обязанности недоданных сундуку фронтонных богатырей. Несмотря на дрожанье в коленках, обязанность эту исполнял с удовольствием. Дело в том, что мне самому нравилось заглядывать в сундук, и уж конечно не на материны пододеяльники.
Мне нравилось другое. И стенки, и крышка сундука были густо облеплены изнутри картинками, которые я нигде, кроме как в нашем сундуке, и никогда не видел. Гербарий! Обертки от мыла со странным названием «ТЭЖЭ» — они были сентиментально-розового, ягодичного цвета и с веночками полевых цветов по краям. Пышнотелые, не поддающиеся ни усушке, ни утруске барышни нэповских времен, украшавшие когда-то склянки с кремом и с духами. Просторные, как материны пододеяльники, николаевские ассигнации и желтенькие недолговечные бабочки керенок. Облигации военного займа — каких только денежных знаков и ценных бумаг тут не было, кроме тех, которые были в ходу, отоваривались в настоящий момент. Венчал все это старый плакат, вправленный, как в раму, в тыльную сторону крышки. На плакате рабочий, усатый, в смазных сапогах и в кепке, показывал дорогу крестьянину. Одну руку положил ему на плечо, а другую тянул вдаль, в направлении восходящего солнца. Над солнцем в форме его лучей была выложена сияющая надпись: «Светлое будущее». К солнцу вела обычная проселочная дорога, точно такая бежала и мимо нашей хаты. Крестьянина выдавали не только зипун и лапти, но и заброшенная за плечо котомка: будущее будущим, а все ж таки и там надежнее со своим хлебом-салом. Не берусь установить, как попали эти взаимоисключающие трофеи в тенета нашего сундука — он был дарен в приданое еще матери моей бабки, и то, думаю, с рук, — но в одном уверен: вряд ли мои родичи пользовались когда-либо мылом «ТЭЖЭ», духами (любыми), равно как и николаевскими ассигнациями таких ужасающих достоинств. Коварная доля бедняков: доходя до их сундуков, вещи вынашиваются, делаются бесплотными. Отдав кому-то силу, цвет, запах, весь до капли наличный сок, они действительно приходят к ним, как в гербарий. Тенью вещей.
Тень далеких от меня и диковинных времен с наивно разглаженными, распрямленными крылами сквозила в случайной пестроте родового гербария (моим предкам казалось, что богатство можно заманить в сундук, как рыбу или зверя — на блесну, на приманку. На дурака) — она-то и привораживала меня.
Пока мать рылась в его осыпающихся подземельях, я с упоением рассматривал воздушные замки, воздвигнутые на стенках и на крышке сундука.
Раньше в деревнях были в ходу самодельные шкатулки из открыток. Брали открытки понарядней, потрогательнее, — например, с целующимися голубками или с букетами роз в два обхвата, — резали их, сгибали, сшивали цветными нитками (на то были свои мастера, точнее — мастерицы) — и пожалте: шкатулка. Для пуговиц или для облигаций — в зависимости от достатка. И дешево, и сердито. Наш сундук был такой же, только неимоверно увеличенной и утяжеленной шкатулкою — открытками, как овчиной, внутрь.
И порой, под настроение, он выручал-таки мать: то какую-то неучтенную денежку подсовывал, то не сношенную в прошлом десятилетии шмотку. Даже я однажды, когда подрос настолько, что мог уже сам открывать крышку и даже держать ее одной рукой, и когда меня занимали уже не только картинки на стенках, не только овчина, но и то, что под нею — применительно к овчине это называется мездрой, — я прямо за пазухой у зазевавшегося крестьянина обнаружил двадцать пять рублей.
Запас карман не трет!
Четвертной, сложенный до размеров безопасного лезвия. Я растерялся. Долг и соблазн подняли в моей душе такую свалку, что я, по правде сказать, не рад был своей находке. Искал ведь я не деньги. Трою искал.
Победил соблазн, и в тот же день в отсутствие матери, под укоризненным взглядом продавщицы тетки Натальи, мною были приобретены в сельмаге акварельные краски в сводившей с ума деревянной коробке. Честно говоря, о ее внутренностях я имел довольно смутное представление. Но длинненькое бледное тулово коробки, будто выкроенное из осеннего листа, давно прельщало меня: так и хотелось тронуть его пальцем, ощутить в ладони его прохладную невесомость. На старые деньги коробка стоила как раз двадцать пять рублей.
Соблазн был не сильнее. Он был изворотливее. Это он подсказал, что деньги, изредка обнаруживаемые в расселинах сундука, — не что иное, как заначка, которую откладывает со своих случайных заработков отчим в расчете на «Голубой Дунай» — ларек, где продавали в розлив вино и водку.
При всей цельности, ядрености — он стоял в хате, как зажелезившийся комель, на таких дрова колют, — сундук все-таки имел червоточину. Причем располагалась она на самом заметном месте и, как то бывает и с яблоками, а червь, как известно, бьет самое крупное из них, одним своим дурным зраком лишала его здоровья. Вида — в житейском смысле этого слова. Да и неподступности. Она зияла у него во лбу, там, где когда-то висел замок. Вначале сундук замыкался. Но однажды был взломан, безжалостным ломом был вывернут пробой, и на его месте осталась рваная дыра. Задыхаясь от бессилья, дерево, казалось, пыталось сперва залудить ее светлой, как слеза, смолой, которую оно по капле выдавливало со своих возмущенных, но уже бесплодных глубин, а потом сдалось, и дыра стала жиреть.
Лично я замок на сундуке никогда не видел: Настя была ограблена в год рождения первенца.
Ребенок был маленьким и скользким, как обмылочек. Настя даже удивлялась: она такая крепкая, здоровая, а родила — как украла. Смотреть не на что. И этот устючок исхитрился причинить ей такую боль: казалось, будто сердце у нее оторвалось и востроносым челном, распуская ее надвое, двинулось к устью. Еще больше, чем его пугающая маломерность, Настю тревожило другое: мальчик не был плаксивым, но в бесконечной череде гримас, подобием затухающих волн набегавших на его личико, самой частой была гримаса скорби. Выражение беспредельной печали появлялось на его младенческой рожице, и тогда как бы уже от могильной черты на Настю смотрел крохотный, всезнающий старичок. Ведун. «Умрет», — холодела Настя. Давно собиралась окрестить сына, и подходящий случай представился. Выговорила два выходных себе и Нюсе Рудаковой, крестной, и майским субботним утром они с Нюськой и с малым на руках пошли в Петропавловку, ближайшее село, где сохранилась церковь.
Идти надо было километров двадцать, и кулечек с откинутым верхом они несли по очереди. Май на исходе, травы уже метали колос, а яровые окрест дороги замерли, как будто варом обданные. Как будто к себе прислушивались, примерялись: хватит мочи — переждать и заколоситься в срок, не хватит — вяло, как белую тряпку сдачи, выкинуть колос сейчас, и тогда если и зародится в том дряблом колосе зерно, то будет щуплым, прогорклым, как старческое семя. Годом раньше была засуха; в том, как круто солило солнце сейчас, по весне, тоже был зловещий знак.
Потому вышли спозаранку, до света. По холодку шлось хорошо. Где-то на полпути перекусили. Сели при дороге, мальца положили под зеленя, которых и хватило как раз на то, чтобы дать ему тень, и позавтракали. Настя взяла с собой булку хлеба и молока. Еще буханку и тощую живую курицу со связанными крыльями несла в оклунке отдельно: батюшке за труды. Передохнув, двинулись дальше. Нюська была моложе Анастасии, своих у нее еще не было, и она то и дело просила у Насти ее дорогую, разомлевшую под сиськой поклажу, и Настя, счастливо улыбаясь, давала.
Крестную она не выбирала. Крестную сын выбрал сам. Схватило ее ночью. Настя еще посидела на кровати, прислушиваясь: то или не то. По тому, как круто, рыбкой, стронулся он вниз, догадалась: то. Неминучее. Стала собираться. Развела примус, воды согрела, вымылась, достала из сундука заветный узелок, перекрестилась на правый угол и пошла. Роддом в селе был свой; правда, находился на другом его конце, но Настя ходоком была спорым и особой тревоги не чувствовала. И обмишулилась. Только перешла балку, на другой порядок поднялась, как боль внизу живота усилилась, схватки пошли резче, глубже, что-то горячее — кровь ли, воды ли — хлынуло по ногам. Каждый шаг отдавался судорогой во всем теле. Настя шла осторожно, с бережным выбором ставя в темноте непослушную ногу, обеими руками обхватив непомерно разбухший, все обручи рвавший живот, словно тем самым хотела удержать в нем свою до срока завозившуюся рыбку, и враз пересохшими, растрескавшимися губами шептала туда, внутрь, через ладони, воспаленную болью и нежностью молитву: «Потерпи… Подожди… Будь умницей…»
Терпеть приходилось ей. И когда стало совсем невмочь, свернула в первый попавшийся двор и, не помня себя, постучала в дверь:
— Пустите, люди добрые…
То оказался двор Нюси Рудаковой, и та, вытолкав ничего не понявшего спросонок мужа, под командой своей разбитой параличом матери приняла у Насти ее первые роды.
Показалось солнце. Оно негусто било через окно прямо на топчан, на котором лежала Настя, подплывшая, обескровленная и тем не менее до краев, как кровью, полная такой ликующей радостью, как будто это не горячий писклявый комок, возившийся у нее между ног и еще скованный с нею живой счастливой ниткой, а она сама, Настя, только что народилась на белый свет.
Как сквозь сон слышала она ласковый голос старухи:
— Спасибо тебе, Настя. Может, ты нам счастья принесешь. Может, и я подымусь. Вы ж, молодые, не знаете, что принять роженицу в доме — к счастью…
И все же перед Петропавловкой жара настигла их. Несмотря на утренний час, солнце, как голодный коршун, легко взяло высоту и, выпростав когти, притворно вяло уронив не дававшие тени крылья, кружило над степью, высматривая движущуюся добычу: не идет ли, не ползет ли, не бежит ли кто, ослушавшись его грозного «Стой!», безголосо вымолвленного с пустынной, всевидящей вышины. Злак останавливался в росте, коченеющим комком падал на дно своей норки суслик; суча лапками, пришивалась к земле выгоревшая ящерка — все, что было способно к движению, меркло, глохло, мертвело под его немигающим змеиным взглядом. Лишь эти двое да некто третий, дерзко сокрываемый ими от карающего ока тоненькой батистовой тряпицей, которую женщины экономно смачивали водой из алюминиевого бидончика, двигались в покорно остановившейся степи. Гудела от зноя и от голода голова, босые ноги не чуяли разогревавшейся пыли. Малыш тоже притомился, тельце его взялось красным взварцем, он нетерпеливо выпинался на руках и все чаще принимался плакать. Зной съедал его и без того жиденький голосок, и тогда еще явственней проступало на его сморщенном личике Настино наважденье, в котором она боялась открыться даже Нюсе Рудаковой.
Наконец показалась Петропавловка. Сперва она лишь угадывалась в дальнем текучем мареве загустевшим комком, осадком, затем из него выткнулась церква, хотя и стояла не на окраине, а потом мало-помалу высунулось и все село. Обезлюдевшее, тоже как будто замершее, послушно отдаваясь жаре. Вход в церковь был отворен, и женщины, робея — в их селе церковь еще в двадцатом распустили на кирпичи, из которых построили школу, и в храм обе они вступили впервые, — вошли внутрь. Перекрестились. Вообще-то богобоязненными они не были. Понятие бога стояло где-то за кругом их жизни, на отдалении от него, как понарошке, как в забаву. Есть такая детская игра — «третий лишний». Тебя гонят с ремнем по кругу, и ты, если не хочешь получить «горячего», должен вовремя пристроиться к какой-либо паре в кругу — тогда вместо тебя по кругу погонят другого, того, кто стоял в выбранной тобою паре последним. Слабая надежда на то, что есть все-таки кто-то, за кого можно будет ступить в крайний час, когда бежать по извечному кругу уже не будет никаких сил, и он, этот кто-то, поспешаемый причитающимся тебе ремнем, продолжит бег за тебя — вся их вера исчерпывалась этой слабой наивной надеждой.
В церкви было пусто и прохладно. Женщины потоптались в нерешительности, потом сели в изнеможении у стеночки прямо на чисто выметенный и взбрызнутый водицей каменный пол. Тишина служила над ними свою полуденную службу. Умаявшийся малец покойно уснул в смененной фланелевой пеленке. Бабы вытянули ноги, поудобнее привалились к стене. Нюся задремала, положив голову на Настино плечо. Настя сквозь сладкую дрему вглядывалась в спящее и даже как будто повеселевшее личико сына, а потом и сама не заметила, как тоже забылась коротким усталым сном.
— Умер, что ли? Отчитывать принесли?
Настя как ужаленная вскочила от этого чужого голоса. Горбатенькая, обеими концами касавшаяся земли старуха — сама смерть — стояла перед ними. Настя аж назад подалась, прижимая к раскрывшейся кофте заревевшего с испугу сына.
— Ты что, бабушка, типун тебе на язык, — неловко улыбаясь, еще не придя в себя, выговорила Настя.
— А-а-а, живой! Значит, крестить, — как ни в чем не бывало продолжала старуха. — А батюшки сёдни нету. Сёдни он на выходном. Служба будет завтрева, завтрева и приходите.
По-прежнему не то палкой, не то рукой, еще более незрячей, чем высохшая тутовая палка, нашаривая пол, старуха пошла из придела.
— Так мы ж издалека, бабушка, — растерялась Настя. — Не можем мы завтра, завтра нам домой надо…
— Выходной есть выходной, сердешная, — наставляла старуха, удаляясь в сторону бедненького, засиженного мухами киота и умудряясь в столь неудобном положении, как на коромысле, нести, не расплескивая, прорву достоинства. — У тебя ж тоже есть выходной…
— Да есть, — по инерции согласилась Настя, хотя по части выходных божья служба, видать, была исправней колхозной, на которой по весне в гору глянуть некогда. — Но мы ж не знали, бабушка…
— Не знали, не знали… — недовольно пробурчала старуха. — Вы много чего не знаете. Вот ты хто ему доводишься? — обернулась она к Насте.
— Кому? — не поняла та.
— Ему, — суковатая бабкина палка уперлась в пеленку.
— Мать, — растерянно сказала Настя.
— А раз мать, — палка задралась указующим перстом, — значит, вообще не имела права заходить сюда.
Настя была сражена. Старуха восприняла это с удовлетворением и дальнейшие разъяснения сочла излишними.
…Нюсю Рудакову сон сморил крепче, чем Настю. И проснулась она не от детского плача, не от бабкиного потустороннего шипа и Настиных растерянных просьб, а оттого, что голова ее, больше и больше клонясь набок, коснулась холодного пола. А проснувшись, в ту же минуту поняла, что к чему, самочинно развязала Настин оклунок, вынула буханку хлеба. Разломила ее пополам — хлеб был свежим, мягким, его приходилось не ломать, а разрывать, как что-то живое, — позвала старуху:
— Бабуля, мы тут хлебца вам принесли…
Старуха повернулась даже не на зов — вряд ли он достиг ее, — а на запах. И, влекомая запахом, послушно приковыляла назад:
— Мне?
— А кому же? Господу богу, что ли? — засмеялась Нюся, поправляя под косынкой — богохульница! — короткие волосы ударницы.
Старуха, уронив палку, дрожащими, ищущими руками надыбала хлеб, прижала его к груди. Она силилась заглянуть Нюсе в глаза и не могла: земля властно возвращала ее к себе.
Настиного сына окрестили в тот же день. Специально для него свечи жгли, свяченой воды в купель капнули. Крестины проходили в маленькой церковной боковушке, в которую Настю в самом деле не пустили.
— Не положено, — мягко сказал батюшка, худой, носатый, похожий в своей штопаной рясе на перезимовавшего ворона.
Нюся с ребеночком пошла с ним, Настя осталась у порога. Помогла служке принести из сторожки полведра теплой воды — теперь старуха по-свойски распоряжалась Настей. Дверь в комнатку была закрыта, но Настя ловила оттуда каждый звук. Слабые шорохи, невнятная батюшкина молитва. Сладковатый запах паленых свечей. Вот только сына совсем не слыхать. Не искушенная в церковных обрядах, Настя все же знала, что во время крещения грудных детей окунают в купель, и глупая бабья тревога одолевала ее: а справится ли батюшка с ним, не упустит ли, не ушибет? Не захлебнется ли малыш — дети, говорят, в ложке тонут… Для нее самой купать сына было сладкой мукой. Пеленала его тонкой пеленкой, укладывала на дно корыта с горстью теплой воды, одной рукой придерживала его мотыляющуюся, как бутон на тонюсенькой ножке, головку, а другой поливала из корчика, десять раз предварительно сунув туда палец: не горячо ли? Шейку, грудку, живот… Малыш блаженно барахтался, но в это самое время она тяжелыми, рано состарившимися пальцами, которыми держала его обнаженную головку, слышала, как беззащитно дышит его темечко, и от этой беззащитности у нее щемило сердце. Она собственных рук боялась: громоздких и, как ей казалось, уже онемевших для такой работы. Как будто родничок живой держала: тут, в ее ладони, он завязывался и, вздохнув, бежал дальше. И Настя вновь и вновь с опаской вспоминала торчавшие из вытертой до проплешин рясы слабые руки святого отца: неживые. Неживые уже хотя бы потому, что чужие.
…Вопреки Настиным страхам, тот и не думал окунать младенца в воду. Спросил, каким именем решили наречь новорожденного: по святцам или свое придумали?
— Свое, — ответила Нюся. — Сережа…
Ни слова не говоря, батюшка взял ножницы, лежавшие на столе рядом с темной медной купелью, поднес их к головке младенца, двумя движениями, крест-накрест, состриг у него несколько волосков, закатал в восковой шарик и бросил в купель. Потом обмакнул в воду вялую, как бы выболевшую щепоть и чуть-чуть примочил ею розовую маковку. Мальчик, внимательно наблюдавший за происходящим из гнездышка, свитого на теплых Нюсиных руках, завертел головой. Холод почувствовал — то ли воды, то ли металлических ножниц, то ли человеческой немощи. Той же щепотью батюшка широко, как на вырост, перекрестил его, потом перекрестился сам, кладя перед иконой поясной поклон:
— Благослови, господи, раба твоего новокрещеного Сергия… А что ж вы без крестного отца-то? — будничным тоном, словно давая понять, что официальная процедура закончена, спросил он, выходя из крестильни, у Насти, и та вспыхнула: вопрос застал ее врасплох.
— С отцом бы мы, батюшка, и к завтрашней службе не поспели бы, — снова выручила ее Нюся. — Какие с них ходоки, с отцов? Разве что бутылку перед носом нести, как морковку, тогда б, может, и добёг. А так — там кольнуло, туда прострелило, и нет его, отца. Был и весь вышел.
— Бывает, — хмуро сказал священник, и по тому, как панически замахала руками за его спиной давешняя старуха, Нюся поняла, что сболтнула лишнее: батюшка, видать, и сам на морковку падок.
И вопрос, и последовавший за ним мимолетно внимательный старческий взгляд лишили Настину душу той восковой размягченности, в которой она пребывала, душа как будто схватилась, скрепилась и больно обозначилась в груди.
Она прямо на церковный пол высадила из оклунка полузадохшуюся курицу, развернула наволочку с хлебом и, еще больше теряясь оттого, что давать приходилось не целую булку, а рваную половину, ошметок, вложила хлеб в бескровные руки попа:
— Спасибо вам.
— Скажем спасибо господу, что всех нас принимает в свое лоно. И попросим, чтобы он был милостив к тебе и твоему чаду.
Все-таки хлеб свой он ел не даром.
Настя порывисто взяла сына с Нюсиных рук, прижалась щекой к его прохладной щечке и, прижигая ее закипавшей слезой, вышла из церкви.
На полу, слышала она, заелозила, закудахтала оживавшая, как муха, курица.
Она шла, не разбирая дороги, и глухо, в себя, ревела.
— Ты чё, Настя? Ты чё, с ума сошла? — забегала наперед Нюся. — Сама ж радовалась. А как на старости лет одна душой останешься — думаешь, лучше? Приткнуться некуда…
От ее участливых слов, от безмятежного посапыванья сына слеза пошла вольней, мягче, слаще. Кончилось тем, что они с Нюсей поплакали на церковном выгоне обе, утерлись двумя концами одной пеленки да и пошли искать Нюсину родню, у которой собирались заночевать.
Имя сыну Настя дала братово, отчество отцово — все не безродный обсевок. Так и обошлись без отца. И без родного, и без крестного.
Назавтра снова поднялись ни свет ни заря, потихоньку вышли из спящего дома, притворив за собой калитку, тронулись в обратный путь. Небо с самого утра было заложено по горизонту белесой мглой и только ближе к середине вытаивало проточно-чистой голубизной. Уже часам к десяти то здесь, то там на дальних его заставах коротко погромыхивало. Словно кто-то еще больший, чем небо, взял его в руки и сдавил, как спелый арбуз. Женщины чутко прислушивались к этой блуждающей хвори огромного и так же, как земля, измученного засухой неба. И хотелось, ждалось дождя, и страшно было попасть под него в голой степи.
Гроза подкрадывалась ближе и ближе, пока не ударила над головой. Небо сразу осело, из лопнувшей его глубины вывернулась сочная сладкая мякоть, и через минуту оно обрушило на землю свой тяжелый благодатный самосев. Вызревшие капли падали крупно, четко, каждая в отдельности, и были обжигающе холодны. Женщины остановились. Нюся накрылась наволочкой, Настя с сыном укрылась пустым мешком. Дождь шел минут пять, но им казалось — гораздо дольше. Прямо над ними стенало и скрежетало; бледные, как на спирту, молнии по рукоять входили в рассохшуюся землю. Бабы жались друг к дружке, невольно вспоминая невнятную молитву, которую читал вчера петропавловский священник. Воды было не так уж много — как и семечек в хорошем арбузе, но му́ки, в которых она низвергалась, пугали не на шутку.
Дождь пролил залпом, и степь так же залпом, ни грамма не растеряв, приняла его влагу. Только что литые капли навылет пробивали и мешковину, и наволочку, а выспростались женщины из своих промокших укрытий — и хоть бы сколочек под ними: ни лужицы. Воробей не напьется. Земля только пропотела: жадно лоснились ее темные, побуревшие бока. Зато встрепенувшиеся хлеба на глазах занимались такой крутой зеленью, что яркостью своей соперничали с быстро расчищавшимся небом. Каждое поле стояло как чаша, полная зеленого огня. Взбрызнутый чистым спиртом летней грозы, он полыхал упруго, весело: кинь сейчас шапку в зеленя — и она не провалится, останется наверху, покачиваясь на этой прохладной волне.
Бабы пошли бодрее, каждая вспомнила уйму оставленных дома дел, они дружно обсуждали эти неотложные дела и загадывали новые. Как будто не только угасавшую землю, но и их промелькнувший над степью ливень вернул в круговорот извечных трудов. Настя забыла вчерашние слезы, легко ступала по скользкой, словно освежеванной дождем дороге, подставляя сына на просушку солнцу, поспешно занимавшему свой сторожевой пост. Где-то близ солнца, отважно воспользовавшись его недавней отлучкой, заливался незримый жаворонок.
Когда вошли в село, Нюся заторопилась к центру, где стоял ее дом, а Настя, попрощавшись с нею, повернула к себе.
Она вошла в хату усталая, но все еще во власти того порыва к деятельности, работе, что охватил их с Нюсей по дороге домой. Прямо из сеней направилась к сундуку, чтобы перепеленать на нем сына, и на полпути остановилась как вкопанная. Сундук был взломан. Выдернутый с корнем гиревой замок повис на нем как пустой ошейник. Под замком на месте нижнего пробоя виднелось свежее отверстие с измочаленными краями. Могильным холодом потянуло на Настю из этой небольшой, с палец толщиной, дырки. Обобрали! Ноги у нее подкосились, задрожали, словно только сейчас обрушилась на них вся копившаяся усталость двухдневного пешего пути.
Настя положила сына прямо на глиняный пол, подошла к сундуку, привычным движением подняла его крышку. Пугливо мелькнувшая в ней надежда была развеяна самым безжалостным образом. Выдернута с корнем: сундук был очищен до нитки. Ни лоскута, ни медного гроша — ничего не обронила чья-то загребущая рука. Осталось лишь то, что было бесполезно, что было тенью и вещей, и явлений: обертки от мыла «ТЭЖЭ», барышни-крестьянки нэповских времен, бесплодные пространства вышедших из употребления денежных знаков да многолетний, невыкрадаемый запах мяты… Настя медленно стянула с головы высохшую косынку, сжала ее в кулаке и комом сунула в сведенный от сухости рот. Кусала платок, пальцы свои кусала, но ни слез, ни голоса не было — вчера выкипели. Вышла во двор и тут лишь заметила, что окно в сенях еле держится: кто-то выставил раму, а сделав черное дело, приткнул ее, не обмазывая, на старое место.
Она сидела в комнате перед окном, кормила сына скудной грудью, укачивала его; он засыпал у нее на руках и на руках же просыпался. Настя сидела все в той же позе, бездумно глядя на пустой проселок. Вечерело, когда мимо ее хаты на запряженной верблюдом скрипучей телеге проехал старый, сгорбившийся, безучастный ко всему на свете, и к себе в первую очередь, калмык: проходившая возле Настиного дома дорога вела на Маныч, на Черные земли. Солнце садилось; Настя видела, как долго мостилось и топталось оно в своем гнезде, которое было приторочено к самому краю земли, к ясному, как бы протертому после дождя горизонту, а когда наконец уселось, умостилось, слившись со степью, приняв ее окраску и само подарив ей нежное остывающее перо, легшее через всю степь до самой Настиной хаты — так привередливо мостится на ночь большая ухоженная птица, — верблюд, который к тому времени едва миновал Настин двор, тупо остановился и, обращая к исчезнувшему светилу тоскливый ритуальный стон, тяжело, неловко, так, что затрещали постромки, повалился наземь. Старик, которого, казалось, только этот чрезвычайный акт неповиновения и привел в себя, поспешно соскочил с брички, забегал на кривеньких паучьих ножках вокруг строптивой животины, выкрикивая непонятные ругательства и нахлестывая ее кнутом, на что верблюд отвечал лишь чутким подрагиванием прочной, со всклокоченной от недоедания шерстью шкуры. Дед, вероятно, торопился, располагая ехать всю ночь, но верблюд распорядился по-своему. Верблюд идет, пока солнце идет. Солнце село — верблюд на боковую. И тогда никто над ним не властен, кроме солнца. Встанет оно — и верблюд поднимется. Сам, без понуканья.
Побегал-побегал старик вокруг своего улегшегося и, казалось, тоже выстывающего Яшки (а всех верблюдов почему-то звали Яшками: «Верблюд Яшка, красная рубашка…»), плюнул да и полез себе на телегу. Собственно говоря, телеги как таковой и не было. Были два длинных дрючка, скрепленных между собою и уложенных на два тележных хода с огромными, рассохшимися колесами. Хозяйственного проку от такого транспорта никакого: много ли на него нагрузишь? Разве что не верхом трясешься — вот и вся польза. Да и то неизвестно, где удобнее: между теплыми верблюжьими горбами или на этих жестких кольях. Но старый калмык исхитрился расстелить на них рваную фуфайку и, не снимая вконец разбитых красных яловых сапог, так же, как и не расслабляя ни одного ремня на своем верблюде, улечься на бревнах спать. Его ссохшееся, как бы севшее от многолетней носки и стирки тело при этом без остатка ушло в ложбинку между ними, одно лицо было видно из Настиного окна. Оно было обращено к звездам, холодно и строго окропившим высокое майское небо.
Все это случайное происшествие, разыгравшееся за ее окном, Настя наблюдала без любопытства, без участия — надо же ей было куда-то смотреть. Куда глаза глядят… Но ночью, когда она, не смыкая глаз и с прежней отрешенностью уставясь ими в смутно белевший над нею потолок, думала, как же ей быть теперь, недавняя картина вдруг четко обозначилась в памяти: старик калмык, верблюд, Черные земли…
Она опять встала до света, наспех замазала окно, распорядилась по двору, благо нажить еще ничего не успела, и, подхватив в одну руку сына, а в другую узел с оставшимся барахлом, пошла к бричке. Старик тоже был на ногах. Дожидаясь, пока поднимется верблюд, ходил вокруг телеги, толкая слабой ногой разболтанные ступицы: довезут ли до места? Лицо его было в крупных старческих морщинах, и глаза на нем казались двумя случайными морщинами, из-под которых тускло попыхивали уже припущенные мертвой золой раскосые уголья. Сивая мокрая щетина, облезлая шапка на голове…
— Можно с вами, дедушка?
Старик не ответил. Еще раз обошел телегу, взобрался по колесу на свое место — спереди, под самым хвостом у верблюда. Настя, свесив ноги, примостилась на противоположном конце, сзади. Кроваво вспучилось, выпнулось над горизонтом солнце, с приветственным воплем ему поднялся во всю свою худущую, пугающую громаду верблюд.
Они тронулись в путь. На восток, к солнцу. Пережить. Перезимовать.
— А-а-а, — вел, прикрыв глаза и раскачиваясь в такт могучей верблюжьей иноходи, свою нескончаемую бессловесную песню калмык.
«Что же с нами будет?» — думала Настя, склоняясь над сладко дремлющим сыном.
ПРИТЧА О ГАДЮКЕ
Мне не раз доводилось бывать на Черных землях. И всякий раз, как только вступал в их аскетические пределы с густой сладкой пылью на частых, но каких-то бессвязных, как разноязыкая речь, дорогах — а в степи у каждого своя дорога, — пылью, в которой по ступицу утопали враз ослабевшие колеса; с горькими сагами — застойными озерцами, лениво выгнувшимися посреди пустых глиняных берегов; с сумрачными, недостроенными колокольнями верблюжьих колючек, угрюмо воздевших кверху свои глазированные луковки; с типчаком и полынью, что по весне стремительно затопляют их по самую макушку, а затем сходят на нет во вкрадчивых объятиях сыпучих песков, — всякий раз, как попадал в эти отдаленные края, меня охватывало беспокойное любопытство.
Самые обычные предметы, которые я не единожды видел в другой обстановке, здесь обретали особую значительность. И я подолгу стоял на истолченном овечьими копытцами берегу реки Маныч, чье рассеченное, на волокна распущенное тело неслышно прялось в густой гребенке упруго чутких камышей, — казалось, стоит подождать еще чуть-чуть, и прямо на глазах пропадет, окончательно иссякнет ее затухающее течение. Или смотрел, как с голодным ропотом растекается по утренней степи отара: овцы бегут, обгоняя друг дружку, каждая норовит первой отыскать лакомую латку, плотно, под ноль, скусывая нарождающееся весеннее разнотравье. Губы у них двигались часто-часто, словно овцы не рвали, не истребляли что-то, а, как раз наоборот, торопливо сметывали на живую нитку волглый холст апрельской степи. Стежок, стежок — обнажаются еще не зажившие после грубого зимнего корма десны: мало кто знает, что в обиходе возраст овцы считают не годами, а зубами. Овца-двухзубка, трехзубка… Идешь за отарой — и сам заражаешься этой жадностью, напором, будто и перед тобой кто выдернул слегу в загоне, и у тебя тоже зачесались пятки, сердце молодое застучало. А ночью, улегшись вместе с чабанами в их беленом домике с тонкой шиферной крышей, я долго всматривался в окно. Сначала оно едва виднелось в утробной темноте жилища, а затем проявлялось резче и резче. Ночь неслышно поворачивала его, наводя почти стереоскопическую резкость, так что к ее зениту окно напрягалось, как незрячий глаз: белый, мертвый зрачок луны плавал, не помещаясь, в нем, и взгляд сам невольно прилипал к нему. Я прислушивался к дальним степным звукам, проникавшим в дом вместе с нестерпимо белым лунным светом, и на какой-то из них — испуганное блеянье ягненка, невнятный перестук копыт кочующей сайгачьей пары — сердце отзывалось своей щемящей нотой, как будто попадало с ним в резонанс, как будто голос чей угадывало в нем.
Всякий раз, как попадал на Черные земли, моя душа напрягалась, как незрячее око, силясь узнать, разглядеть все, что она когда-то не успела запомнить, как не успела запомнить, осознать и самое себя, но что бескорыстно баюкало ее, когда она пребывала в младенческом беспамятстве. И узнавала. Так и во взрослой птице, наверное, живо, памятно тайное пазушное тепло, заботливое касанье, которое оставило на его трижды сменившихся перьях первое, еще родительское гнездо. По мере засыпанья на жесткой чабанской кровати я уменьшался в размерах — так ведь кажется любому взрослому, которому еще не перестало сниться детство. Меньше, меньше, пока не обретал способность, свернувшись калачиком, глубоко, покойно, без остатка уйти в исходное, застрешное лоно. В крохотную скорлупу, которую каждый из нас до конца дней невидимо таскает за спиной. И тогда уже знакомым становилось все: и звуки, и проникавший даже сюда, за стреху, лунный свет, и степь за стеной. И сердце теперь открывалось всему, на все откликалось, чутко баюкаясь в шелковых стропах целого мира.
Мать тогда слетала ко мне, в свое давно покинутое и выстывающее гнездо…
По рассказам, я прожил на Черных год, находясь в основном на попечении арбички бабки Линчихи — мать на сей раз была пастушкой, — степи и самого себя. И теперь, когда бываю в этих краях, собственное младенчество слепо и ласково тычется ко мне. Ягненком, ветерком, весенним травяным разливом. И мое представление о матери тоже переворачивается как пласт созревшей зяби, выпрастывая наружу потайные ходы кореньев, сокровенность «спода», основанья жизни, распространяя в горячем еще августовском воздухе свежий, нутряной запах близящейся осени. Вызволяешь из комковатой земли один из таких корешков, самый крохотный, а он крепится к другому, другой — к третьему… Выщупываешь их пальцами и вдруг на каком-то неприметном сращенье натыкаешься на паутинку собственного бытия. В жизни матери нет случайностей, в ней все подчинено главному — материнству.
Вот один корешок. Я нащупал его чужими пальцами: о гадюке мне рассказала тетка Лидия, материна двоюродная сестра. Прячется она здесь, в бескровных почвах Черных земель. А такие вот лунные ночи, когда, как в песне поется, хоть иголки собирай, они, кажется, не только землю обнажают до последней морщины, до самого дна, но и то, что в ней: запахи, вздохи, коренья…
Корешок-то — мышиный хвостик.
Дело было осенью. Дожди еще только зрели в разных углах замутившегося неба, а в степи дичал, догуливал свое ветер. День-другой — хлюпнет с неба, и ветер загустеет, состарится, а пока он поджар и легок и прохватывает степь из конца в конец. Наждачная злость уже появилась в нем — лица у чабанов красны, и овцы бегут под ветер, уже не рассыпаясь по степи, а, напротив, сбиваясь в теплые кучи.
Бабка Линчиха уехала в село, и Настю оставили на хозяйстве. Она затеялась с хлебом. Опару поставила с вечера, а теперь собралась растопить большую русскую печку, сложенную в землянке, и носила в хату солому. Лучше нет для хлеба топки, чем свежая, не попорченная чернотой соломка. Принесла вязанку, свалила в хате возле печки, заглянула на ходу в старое прохудившееся корыто, которое стояло тут же неподалеку и в котором была устроена постель для ее сына, — в последнее время Настя видела его нечасто и теперь рада была подвернувшемуся случаю: целый день с сыном. Мальчик спал, неясная улыбка шевелилась у него на губах. Настя тотчас угадала ее, с готовностью отозвалась и с просиявшим лицом ступила за порог — одной вязанки для печки было мало.
В угрюмом сопровождении старой хромой овчарки прошла к скирде, что стояла впритык к хате, огороженная невысоким тыном из курая, чтобы овцы зря не точили. Скирду свершили недавно, она еще не просела, не заклекла, солома дергалась легко, пахла полем, летом. Настя набила вязанку, собралась уже поднимать ее, как вдруг увидела, что к их землянке со стороны дальней степной дороги осторожно, опасаясь собак, подходит женщина. Заметив Настю, она обрадованно замахала рукой:
— Настя-а! Проведи…
Настя по голосу узнала Лидку, двоюродную сестру, бросила вязанку и заторопилась ей навстречу.
Лидка была моложе Насти, но верх над ней держала с самого детства. Была она бойка, бесшабашна, и с мужиком с таким же спаровалась, вместе они уже полстраны обшарили, меняя шило на мыло, и здесь, на Черных, она, конечно, объявилась неспроста.
— Здорово! — по-мужски сунула она Насте крупную костлявую ладонь. — Ишь ты, матерь-одиночка…
Обмахнув руку об замызганную полу ватной фуфайки, Настя тоже протянула ее и улыбнулась: Лидка хоть и командовала ею, а все равно Настя чувствовала себя с нею как ровня и потому выделяла Лидку из всей родни. Команды ее были не капризны и не куражливы. И грубость ее была такой же: в ней жала не было. Год назад Лидка с мужиком завербовались на какую-то народную стройку, канал где-то рыли, а теперь, видать, вернулись — руки вон, как из обжига вынутые: в фундамент клади — не раскрошатся. Выдержат. Эх, Лидка, Лидка, все твои завидки! Гонят тебя по свету да еще и под микитки дают. Каждый раз грозишься, мол, в шелках прикатишь, а выходит — все в мозолях. И сносу тебе нет, чертяке…
Ничего этого Настя, разумеется, не сказала, да и сказать не могла: куда там просунуться ей в Лидкину быстротечную речь! Палку сунь — и ту выбросит. Срикошетит.
— А я только к матери на порог, как она мне читать, как она мне читать! Ты, говорит, заместо того чтоб по чужбинам мыкаться, лучше б детей рожала. Какие чужбины, говорю, мамонька, устарел твой кругозор. Все кругом колхозное, все кругом мое. А ее аж подняло от этих моих справедливых слов. Вроде кто спичку ей под юбку сунул: тваё, тваё, говорит, помело.
Лидка так язвительно изобразила это «тва-аё» — как будто и не к ней оно относилось, — таким едким коленом его вывернула, что Настя рассмеялась: мать Лидкина вышла как живая. А Лидке того и надо — масло в огонь капнули.
— Сама ты, говорю, черт старая на помеле. Кто ж в такую пору их рожает! Тут бы кости прокормить, не то что пузо. А она, представляешь, — Настя, говорит, и то родила. Я так и села.
И это, точнее, обидное Лидкино «и то» не царапнуло, другой бы сказал так — век не забыла бы: что ж она и не баба, что ли… А Лидка ляпнула, и ничего. Глаза у Лидки надо видеть. Глаза у нее не в пример языку — пустого не мелют. И солнца нет, а они играют, как два ручья на перекате. Глаза у нее нараспашку. Стань на бережку и все-все увидишь: и что там плывет, и что затевается — до самого дна. И наклоняться не надо. Они и языку укорот дают; и что бы там ни молола Лидка, а в глазах у нее Настя уже почувствовала искру, что неуловимо напомнило ей блуждающий блик сыновней улыбки, а почувствовав, так же, как тогда, в землянке, счастливо потянулась к нему.
— Ну и бритва ж ты, Лидк! Как только тебя мужик терпит…
— Энта штука мужику необходимая. Он от нее красивше становится. — И тут же, уловив это ответное Настино движение — к теплу, добавила: — Ты мне, девка, зубы не заговаривай. К сыну давай веди. Я ж ему гостинец привезла…
И вновь благодарно, как над корытом, отозвалась Настина душа…
Как ни хотелось Насте побыстрее попасть с гостьей в дом, в отведенный ей угол, где на двух табуретках, чтоб не дай бог не упал, стоял ее Ноев ковчег, в котором теперь заключалось все-все, что в ней было живого, спасенного, она все-таки завернула еще к скирде, подняла вязанку с соломой и потащила ее перед собой на животе, как катит майский жук превосходящий его самого навозный мяч. Лидка шла рядом и говорила, что тоже хочет податься сюда, на Черные, и надеется, что Настя поможет ей тут пристроиться.
Ветер с силой дул им в спины, и они невольно по-овечьи кучковались под ним: Настя, Лидка и старая хромая овчарка, которой даже гавкнуть на чужачку не представлялось целесообразным.
Дверь в хату открывала Лидка. Звякнула щеколда, Настя уже готовилась протиснуться со своей ношей в комнату, когда поняла, почувствовала — вязанка была так велика, что застила ей все впереди, — сестра ее дальше порога не пошла. Больше того: Лидка прислонилась к дверному косяку, а потом, как-то странно, по-птичьи, всхлипнув и выронив старую кирзовую сумку, которую держала в руках, вяло поползла по нему вниз. Почуяв неладное, Настя бросила солому к ногам. И еще раньше, чем увидела помертвевшее Лидкино лицо, раньше, чем с заколотившимся сердцем ступила на порог, а может, еще до того, как отринула от глаз эту проклятую солому, они каким-то чудом уже выделили в безмерном множестве второстепенного главное. Гадюка жирно пролегла по всему спеленутому тельцу спящего сына, от изножья к подбородку, и, приподняв голову, зловеще нацелилась в рот. Все в Насте оборвалось. Опустело. Теперь она даже сердца не слышала — отнялось. Какое-то мгновение они находились в равновесии. Змея, которой достаточно было мига, чтобы либо выбросить расплющенное жало, либо, дрогнув, ленивой кишкой влиться в полураскрытые во сне губы малыша, — очутившись на живом человеческом теле, змея всегда слепо движется к его теплому дыханию и, влекомая негой, подчас проникает в самый его исток, в теплое человеческое нутро. Настя видела, как однажды в степи люди силком ставили на коленки ополоумевшего мужика и держали его так перед доенкой с парным молоком до тех пор, пока из его разинутого рта не показалась осторожная, но сластолюбивая змеиная голова, — выманили.
Замершая змея и женщина, мать, тоже готовая ринуться вперед, в хату, закричать не своим голосом и тем скорее всего лишь подтолкнуть гадюку к решительным действиям.
Вилы-тройчатки стояли возле скирды. Настя неслышно отступила назад, потом опрометью кинулась к соломе. Выдернула вилы и в ту же минуту снова была на пороге. Не глядя под ноги, переступила через заголившиеся колени Лидки, которая все еще сидела в дверном проеме, приходя в себя, и, крадучись, по-кошачьи спрятав всю свою чернорабочую угловатость, пошла вдоль стены к корыту, чтобы зайти к гадюке от окна, от света, — ей снова откуда-то из детства вспомнилось, бежать от гадюки надо на солнце, на солнце она не видит, слепнет… Зашла от окна, подняв вилы, потихонечку, стараясь унять дрожь во вспотевших руках, просунула их зубьями под змею. Та учуяла брюхом леденящие жала железа, но было уже поздно. Настя рывком подняла вилы и, намертво зажав их настылый, отполированный ладонями держак, как будто сама гадюка билась у нее в руках, метнулась к двери. Лидка уже встала и, не в силах вымолвить слово, наблюдала за происходящим от стены.
…Потом вернулась к корыту, выхватила пацана. Прижимала его к себе, целовала заспанное личико и голосила таким дурным голосом, что Лидка, уже радовавшаяся было, что все так благополучно обошлось, вновь не на шутку испугалась: не чокнулась ли баба? Гладила Настю по плечам, успокаивала, но та тряслась сильнее и сильнее, крик становился все истошнее, и слова шли все непонятней, неразборчивей, слова-оборотни, все больше превращавшиеся в ночной волчий вой, от которого кровь в жилах стынет. Ни вода, ни уговоры не помогали. Лидка с ног сбилась, и только когда разревелся вконец растормошенный Настей сын, она, Настя, стала мало-помалу затихать.
Ночью они с Лидкой спали на одной кровати. Лидка, умаявшаяся за день и от дальней дороги, и от переполоха со змеей, с удовольствием вытягивала свое борзое горячее тело, рассказывала шепотом про чужие края, про свою недавнюю работу.
Зевнула, прикрыв рот невидимой, но даже в темноте ощутимо полновесной ладонью, и заснула. Как от берега оттолкнулась.
А перед Настей все маячила зловеще изготовившаяся приплюснутая гадючья голова с выкаченными глазками, все пробегал по рукам ток ее предсмертных судорог, которые Настя тоже запомнит навек. Она с нетерпением ждала теперь возвращения бабки Линчихи, ибо в сегодняшнем происшествии был какой-то неясный знак, а какой — может, бабка Линчиха, которая знает все на этом свете и даже, похоже, кое-что на другом, поможет разгадать его?..
Больше всего Настю пугало то, что змею к сыну она принесла своими руками. Воздвиженье давно прошло, после этой осенней черты вся ползучая тварь сдвинулась в землю, внутрь, в тепло, на зимовку — вслед за дыханьем. А эту гадюку земля не взяла, она искала спасения от холодов в скирде, а Настя конечно же принесла ее в вязанке в хату. К своему истоку — ближе некуда. По поверью, опять же припоминаемому Настей из детства, земля не принимает змею, осмелившуюся укусить человека.
Она лежала без сна и мучительно вслушивалась в многоголосое дыхание битком забитой хаты, цепко выделяя в нем самый тонкий, неслышимый лад. И даже самые страшные виденья, как и череда ее самых сумрачных размышлений, своим вторым, непременным берегом имели эту тончайшую нить. Если она вдруг прерывалась, Настя панически вскидывалась в кровати, нащупывала рукой тугой, как весенняя почка, кокон в старом выскобленном корыте, вплотную придвинутом на табуретках к кровати, и вела по нему ладонью, ласково отзываясь на каждую складку, пока не добиралась до обнаженного подбородка, до рта и на ее ладони не оседала мельчайшая пыльца теплого младенческого дыхания.
ПЕСНЯ
По всей видимости, это был пятьдесят третий год. Старожилы Николо-Александровки до сих пор вспоминают зиму того года. Мне она тоже запомнилась. Правда, неясно, размыто. Негатив нашего детства вообще странен. Только соберешься подвергнуть его химической обработке: «выдержать», «закрепить», чтобы пристальнее всмотреться в те или иные неясные очертания, как с ними происходит обратное. Не выдерживаются. Не закрепляются — рассыпаются в прах. Одни белые пролежни остаются там, где только что прорисовывалась завязь далеких видений.
…Белое пятно разрастается до невероятных размеров. Горы белого, нагроможденья белого. Память тонет в них, как тогда, в пятьдесят третьем, тонули в белом и наша хата, и степь, и все живое. Так много было снега. Утро начиналось с того, что мы с матерью, как суслики после зимовки, пробивали лаз из нашего закупоренного снегом жилья наружу. Били его из сеней. Приоткрывали, насколько могли, дверь. Мать с шуфелем протискивалась в щель, прямо в снег, как в пух, и гребла его сначала в сени — от этого сухого, искрящегося снега по всему угревшемуся дому пробегала холодная дрожь, — потом, когда ее шуфель подобием флага выныривал на волю рядом с обтаявшей черной трубой, разметывала снег по сторонам, углубляла и утаптывала траншею. В погожую погоду яркое, настоявшееся солнце вкатывалось по этой траншее в дом и обшаривало его до самых темных углов. Работая, мать распаривалась, сбрасывала фуфайку, простенькое лицо ее молодело. В ее ежеутреннем движении к солнцу была своя истовость, страсть. Шуфелем она орудовала неутомимо, и, сдается мне, не столько для того, чтобы вызволить на свет себя и своих детей, сколько ради коровы. Чтобы пробиться к Ночке, чьи жалобные, приглушенные призывы она расслышала бы даже из-под самой земли, не то что из-под снега. Раскопав вход в дом, она принималась пробиваться к сараю, на ходу переговариваясь с Ночкой и подбадривая ее.
Зима выдалась тяжелая не только у нас, но и на Черных. Кормов на зиму там тогда почти не заготавливали, надеясь на привычное для тех мест малоснежье, на круглый год живую степь, а подвезти их теперь было нелегко. Часть соломы летела по воздуху. Оказалось, не только сухопутная, но и небесная дорога на Черные лежит мимо нашей хаты. Прямо через нее. В дни, когда затихал шурган и небо, как огромный вогнутый рефлектор, опрокидывалось на землю всей своей зеркальной чистотой, изумленно выщупывая каждый сантиметр белоснежной пустыни, я не раз опрометью выскакивал из дома, вызванный, выдернутый из его обжитого тепла призывным громом аэроплана. Запрокидывал голову и тотчас находил его: самолет пластался над самым домом. Преодолевая сугробы, бежал я за ним, как по весне бегал за журавлиной стаей: глаза устремлены в небо, бежишь, не разбирая дороги, пока не выдохнешься, не отстанешь окончательно — журавлей и след простыл, только голос их еще мнится в вышине, — лишь тогда поворачиваешь и бредешь потихоньку к дому. С глазами, еще полными неба.
Я бегал так за каждым самолетом и однажды был вознагражден. То ли приняв нашу отбившуюся от других хату за похороненную снегом кошару, то ли вследствие какой технической промашки, а может, просто из сострадания — летный состав, он ведь тоже с земли, отчасти из деревни, а тот, кто из деревни, наверняка знает, что такое бескормица, — короче говоря, один из самолетов сбросил недалеко от нас два тюка соломы. Только пролетел хату и сбросил. Я бежал следом и видел, как тюки отвесно падали с неба. Прямо по целине, увязая по грудь в снегу, тащил я железным крюком, ключкой, сперва один тюк, потом другой. Радости в доме было!.. И я как добытчик с молчаливым мужским достоинством грел смерзшиеся ладони, припечатав их задницей к теплой грубке.
А может, они и меня приметили? И оценили мою кутячью преданность…
Так же, как снег, как два тюка ячменки, я запомнил из той великой зимы еще одно.
В нашем доме бригадир Нестреляев. Вообще-то он не наш бригадир. Его бригада на другом краю села. И дом Нестреляя там же. А он почему-то заехал к нам. Мать занималась шитьем. Удивилась, увидав под окнами лошадей. А он зацепил вожжи за сук карагача, росшего перед хатой, и прямо к нам. Мать встретила его в сенях. Нестреляй был в тулупе, уши у курпейчатой шапки опущены, завязаны на поворозки у подбородка, заиндевел весь. Поздоровались — они с матерью знали друг друга давно, росли когда-то вместе. Мать завела его в хату, сказала, чтоб раздевался.
— Чуть не закацуб. Дай, думаю, заеду погреюсь, а то и домой не доберусь, — как-то неуверенно сообщал Нестреляй, сбрасывая на сундук свою тяжелую амуницию.
Пар валил от него. Казалось, снимая громоздкую верхнюю одежу, он должен был становиться меньше, а было наоборот. Раздеваясь, он как бы вырастал в нашей хате — вон руки из рукавиц появились, как два выкорчеванных корневища, плечо в притолоку уперлось, — пока не заполнил ее всю: голосом, туловом, теплым мужским по́том, махоркой…
— Ну и правильно сделал, что заехал, — поддержала его мать. — Садись, борща налью.
— Мы люди негордые, от борща не откажемся, — повеселел Нестреляй. — Притом к борщу у нас есть кой-какой гарнир…
Он подмигнул мне и полез в карманы ватных, наподобие одеяла простроченных штанов. Из одного вынул кулек с «подушечками», из другого — бутылку водки. Кулек сунул мне — его ладони на мгновение тепло и осторожно завладели моими, — а водку воздвиг на стол, тут же сорвав с нее жестяную «бескозырку».
Мать поставила сперва один стакан, но Нестреляй потребовал дополнительный — для нее, и она вынула из шкафа еще один, недомерочек, в котором обычно держала подсолнечное масло с перышком для сковород.
Борщ был расхвален и съеден, бутылка выпита. Она вошла в Нестреляя, как в прорубь, никаких особенных изменений на поверхности не произведя. А он все сидел у нас, сложив на коленях бесхозные руки, смотрел сначала, как мать убирает посуду, потом — как она шьет, примостившись у окна и смешно целясь при вдергивании нитки в иглу. Нестреляй как-то погрустнел, огруз. Они с матерью обменивались редкими малозначащими словами: погода, семья — с одним из нестреляевских сыновей я после вместе учился. День за окном стремительно мерк. Лошади уже беспокоились: мотали мордами, грызлись друг с дружкой, зябко перебирали ногами. Они застаивались, мерзли, иней опушал их остывшие бока. Надо было трогаться.
— Ну, я пошел, Насть? — не то сказал, не то спросил Нестреляев.
— Езжай, Михаил, — сказала она, скусывая нитку, и встала, чтобы подать ему одежду: шапку, тулуп, рукавицы. Нестреляй покорно принял все, как в хомут влез — застегиваться-завязываться не стал, пошел из хаты. В окно мы видели, как он развязал задубевшие вожжи, бухнулся в свои пароконные сани, на вымерзшую солому и тяжелую, инеем убранную полость.
Кони, не дожидаясь понуканья, тронули.
Мать встала, нашла тряпку, стала вытирать с застланного толем пола лужицы, натекшие с нестреляевского тулупа и с его оттаявших самовальных валенок с надрезанными сзади холявами, — без таких надрезов его могучая нога в пухлой ватной штанине в валенке не размещалась.
Они работали в амбарах, веяли семенное зерно, когда Нюся Рудакова, кума, шепнула, что приведет ей жениха. Пылища в амбаре стояла такая, что не продохнуть, к длинным разговорам не располагала, и до бровей укутанная шалью Настя только улыбнулась: давай, мол, веди. Будем «пасматреть».
Никакого значения Нюсиным словам она не придала: за много лет привыкла уже к таким неуклюжим шуткам. Село без них не может. Вон даже Клавке-пастушке, что уже заговариваться стала, каждый встречный-поперечный норовит что-нибудь насчет жениха сморозить. Вроде как зуд какой у людей. Хочешь не хочешь, поддерживай тон. Почесывай их за ухом. Ругаться будешь — только раззадоришь. И Нюся, выходит, туда же — вот на кого не думала.
А она, оказывается, не шутила. В воскресенье, вываживая со двора лишнюю воду — весна была скорая, таяло, как горело, того и гляди погреб зальет, сараи подточит, — Настя увидела, как с улицы, прыгая через лужи и по колено проваливаясь в подопревшем снизу снегу, к ее хате направляются двое: Нюся и какой-то незнакомый мужчина. Нюся была в плюшке, в кирзовых сапогах, цветастый, цвета расколотого арбуза, полушалок сбился у нее на затылок, почти по-летнему заголив рыжие колечки.
Мужчина также выглядел по-выходному: стылым стеклянным лоском вспыхивали на солнце голенища узких хромовых сапог, да и кожаная тужурка тоже, видать, не меньше как полбанки сапожного крема «люкс» съела, но держался он у Нюськи в тылу, прыгал без ее удальства, каким-то боковым воробьиным поскоком. По этому смущенному поскоку Настя все и поняла. И в первую минуту аж задохнулась от нехорошего бабьего гнева, от пустой и даже постыдной неприязни к Нюське. Как будто та виновата, что на семь лет моложе Насти и что розы на ее полушалке сидят как наколотые, так накалывают их невестам вкруг головы, и что плюшка распята на ней, как на пяльцах, и лицо горит шальным бабьим первоцветом, а походка даже в сапогах легка и рискова, а она, Настя, — анчутка анчуткой. В фуфайке с подвернутыми, зализанными телком рукавами, в опорках, в той же амбарной шали, вытертой так, что не то что роз — шерсти в ней не осталось, одна основа. Нюська как будто подгадала, как будто нарочно застала ее в такой несуразный час.
В хате скрыться было поздно: ее уже видали, и Настя, растерявшись, стояла посреди двора в поднявшемся шубой грязном снегу, сама как слежавшаяся крыга прошлогоднего снега. В руках она сжимала штыковую лопату, словно собиралась обороняться ею и от Нюси, и от своего незваного кавалера, как только что оборонялась ею от весны. Да она, может, и набралась бы духу, наладила бы их со двора, если б не Нюсин простодушный смех, который, казалось, летел впереди нее, на некотором отдалении, да не эта бросавшаяся в глаза смущенность человека за Нюсиной спиной — она странно стесняла, останавливала Настю.
— А вот и мы! — загодя, как предчувствуя грозу, кричала Нюся. — Принимай гостей — не жалей костей… А ты, смотрю, весну почуяла?
«Если кто и почуял, так это ты, — подумала Настя. — Аж ноздри вон раздуваются».
Напоследок Нюся сиганула так отчаянно, что и Настю, и мужика обдала шлепками мокрого снега.
— Ничего-ничего, — успокоила она своего обиравшегося спутника. — Это ж как с гуся вода…
— Бог в помощь, — вежливо поздоровался тот с Настей.
— Мы уж как-нибудь сами, — сдержанно ответила она, присматриваясь к нему.
Этого человека Настя действительно не знала. Приезжий, что ли? Ростом высокий, притом не по-деревенски аккуратный: ни брюха, ни курдюка. Голову наставляет вперед и чуток вбок, вроде как брухаться норовит. Лицо бритое, носатое — пьет, пожалуй, — глаза мелкие, но синие-синие, гладью вышитые. Щеголек — вон как кинулся снег с кожанки счищать. И сапоги надраены так, что никакая вода к ним не пристает. И впрямь как с гуся…
— Ну что, в хату, наверно, пойдем? — подсказала Нюся. — А то в ногах, говорят, правды нету…
— Пойдемте в хату, — нехотя согласилась Настя, притыкая лопату к курнику.
Пошмурыгали обувку об мокрый курай у порога, вошли. Настя проводила гостей в горницу, велела раздеваться и располагаться, а сама вернулась в среднюю комнату. Переодеться. А то и впрямь страхолюдина. В этой комнате над сундуком висело у нее небольшое блеклое зеркало в деревянной рамке. Настя остановилась перед ним, размотала шаль, махнула гребешком по волосам… Хотела плюшку достать, да вовремя спохватилась: сама ж Нюсе сказала, чтоб раздевалась. Хороша б она была, войди сейчас в горницу в плюшке. Мысль эта развеселила ее, она даже улыбнулась и тут лишь заметила, что под глазами у нее и на переносье натоптаны чьи-то робкие желтенькие следы. Как будто кто курам проса посыпал: цып, цып, цып… Веснушки! Она уж и не помнила, когда видела их у себя последний раз. Казалось, они давным-давно остались за той далекой чертой, из-за которой уже ничего не докличешься. Настя сменила юбку, обула черненькие «комсомолки» и спокойно вошла в комнату.
Гость сидел за столом, Нюся по-свойски гремела чугунками на грубе: и борщ нашла уже, и пельмени.
— Просила костей, а сама что-то сразу к мясу, — улыбнулась Настя.
— А ты б подольше там чепурилась, мы б, гляди еще кой-чего нашли…
На столе уже стояла бутылка и подрумяненные пирожки в обливной чашке — гости захватили с собой.
— Садимся-садимся, пока пирожки не простыли совсем, — командовала Нюся.
Настя очутилась в гостях у самой себя.
— Значит, за знакомство, — не давала ей опомниться подруга. — Это, кума, Василий Степанович, — показала она на соседа поднятым стаканом, — или Вася — как тебе больше нравится…
«Вася» густо, с натугой, покраснел.
— Оказывается, они с моим Петькой воевали вместе. Одну оружию на двоих носили. Пэтээр — так я говорю, Василь Степаныч?
— Так, так, — торопливо кивнул тот.
— Василь Степаныч стрелял, а Петька мой плечо подставлял. У него ж плечо, ты знаешь, не только одну оружию, а цельную батарею разместить можно. Правильно я говорю, Василь Степаныч? Я говорю верно?
— Угу.
— То-то я и замечаю, что Петька мой на правое ухо ни черта не слышит. По-хорошему б пенсию бабе должны платить: весь язык об него оббила. Контузия, можно сказать…
Она готова была уточнить у Василь Степаныча очередной военный термин, но Настя, видя его беспокойство, перебила:
— Значит, пьем?
Выпили. Василий Степанович совершил этот акт с подозрительной ловкостью: ах — и нету. Один парок изо рта пошел, словно водка и не выпивалась им, а тут же во рту испарялась, улетучивалась.
Чуток напуганная его сноровкой, Настя деликатно поинтересовалась:
— А как же в наши края попали?
— Да вот, фронтового друга решил проведать… — начал он нерешительно, но Нюся перебила его:
— Да ты не стесняйся, Василь Степаныч, а прямо так и скажи: в поисках личного счастья. И ведь попомни мое слово, Настя, может, может найти это самое личное счастье.
Уже маленько захмелевшая Нюся строго, как на провинившуюся, посмотрела на Настю. Налили.
— И учти, Настюшка, профессия у него в руках денежная. Сапожник — босиком ходить не будешь.
— А мы и так, слава богу, не босые и не голые, — отрезала Настя, невольно напирая на слово «мы». Мы — иголка с ниткой. И тут же со стыдом вспомнила опорки.
— Вы не серчайте, Настасия Никитична. Мы ж просто так зашли, познакомиться, — развернулся к ней Василь Степаныч.
В его уважительном развороте, в том, как он назвал ее, — а Настю, может, вообще первый раз в жизни величали по имени-отчеству не на собрании, из президиума, откуда все равно ничего не слыхать, и не при взимании налогов, когда четырехглазый агент Манин приторно смотрел через увеличительные стекла то на нее, то в свою ведомость, будто сличал между собой Настю, которую он с девок знал как облупленную, и значившуюся под ее именем государственную налогоплательщицу, а величали по-домашнему, она боялась себе признаться в том, ласково, — во всем этом было что-то такое, что бросило Настю в жар. Настя тоже таяла — как горела.
Теперь, когда он сидел прямо перед нею, без кожана, без своей семисезонной кепки, Настя разглядела, что мужик-то он немолодой, скорее даже старый: лысина яичком показалась, ребра, как у коня, выперли. Но и эта староватость не отталкивала. Она прибавляла доверия: чего лукавить, Настя и сама была бы рада счастливой возможности приклонить к кому-то надежному свою тоже далеко не девичью головушку…
Когда бутылка была допита, Василь Степаныч как-то воровато заегозил, заволновался, но Нюся неожиданно жестко остудила его:
— Хватит.
Как фитиль задула.
Настя смешалась: в доме у нее спиртного не водилось.
Некоторое время сидели в неловком молчании. Потом Нюся положила голову на правую ладонь, занавесила глаза и потихоньку-полегоньку, как малое дитя с горки, повела:
Посияла огирочкы Блызько над водою. Сама буду полываты Дрибною слезою.Нюся была из хохлушек, село вообще резко делилось на «москалей» и «хохлов»: дальние предки и тех, и других осваивали когда-то эти новые свободные земли. Из тех далеких времен многое утрачено: и обычаи, и язык; одно хранится, идет из рода в род — песни. По ним чаще всего и определяют, кто москаль, а кто — хохол.
Василь Степаныч переждал маленько, закинул ногу за ногу, отчего зайчики на беленом потолке резво стукнулись лбами, сложил на животе крупные, но тоже не по-деревенски аккуратные руки и, со стороны глядя, занятый совсем посторонним делом — рассматриваньем блещущих хромачей, вступил:
Ростить, ростить, огирочкы Четыре лысточка. Не бачила я мылого Четыре годочка.Настя даже вздрогнула: так неожиданно высок и звонок был голос этого немолодого человека. Его высоты хватало и на то, чтобы и Нюсин голос, простодушный, как и ее смех, не просто летел впереди нее, на некотором отдалении, а взмывал выше, звончее, мужское подголосье поднимало, гранило и оттеняло его. Насте вспомнилась картина, которую она видела когда-то в городе на базаре. Женщина, продававшая дорогую пуховую шаль, дабы подчеркнуть редкостную работу, сняла с пальца золотое обручальное колечко и, как в игольное ушко, продернула в него платок. Так и Нюсин голос, мягкий, волнистый, пуховый, был продернут — оправлен? — в живое кольцо. Оно придавало ему форму, оттеняло и — свойство благородного металла — облагораживало его. Нюся сама изумленно почувствовала это, и слышней задышала в песне ее растревоженная душа.
На пьятый побачила, Як черед узнала. Не посмила сказать: «Здравствуй», Бо маты стояла…Откуда было знать им, и Анне, и Насте, что Василь Степаныч Колодяжный еще двенадцатилетним мальчиком-подмастерьем «спивав» на праздничном престольном кругу сапожных киевских магнатов, высекая в них нетрезвую падучую слезу, — а уж кто-кто, а сапожники, люди древнего надомного ремесла, силу и в песне, и в голосе знают! Их на мякине не проведешь.
Песня закончилась, и теперь уже Василь Степаныч, сам, почти не переведя дыхания, завел другую:
Дывлюсь я на нэбо Тай думку гадаю…Нюся почему-то не поддержала его: то ли слов не знала, то ли убоялась вышины, на которую он ее приглашал.
Чому ж я не сокил, Чому не литаю, Чому ж ты мэни, боже, Крылец не дав…Он сидел все в той же позе, только руки легли на животе еще вольней, свободнее, да лицо как-то побледнело, выделив все, что раньше было сглажено, приглушено: костистые скулы, жесткий раздвоенный подбородок, тяжелый затор морщин у переносья. И по мере того как опадало его лицо, напрягалась, обретала молодую мощь широкая, еще не севшая, как старое голенище, шея. Она словно огонь выдувала, и он поднимался высоко, выше Настиной хаты, он уже стоял ровным прозрачным столбом, а в него все подкладывали и подкладывали. Голос просил крыльев, чтобы «землю спокынуть», а сам и без них покидал ее легко и печально. Настя была захвачена песней, огонь и ее вовлек в сладкую свою работу. И хоть сама она была из москалей, чья-то чужая песенная судьбина — так ли уж и чужая! — была щемяще понятна ей.
Далэко за хмари Подали витсилю Шукать соби доли На горэ привиту…Так вот ты какой жених, Василь Степаныч! Так надо было сразу и признаваться, — задумчиво сказала Нюся, когда он кончил петь.
Василь Степаныч слабо улыбнулся, длинно, жутковато длинно скрипнул крепкими зубами:
— Тихо, тихо, я — Колодяжный…
Так она впервые услыхала и этот леденящий душу скрежет, и сопровождавшую его угрозу…
Тут же в горнице, на полу, укрытом чистой мелкой соломой, жил у Насти трехдневный телочек. Копытца у него еще не отошли, и когда он пытался вставать на ноги, они смешно разъезжались, и тогда его моляще уставленные глаза искали подмоги у людей: ну поддержите же… Его пора было поить молоком, а утреннее вышло, надо было идти доить Ночку. Настя еще сидела, а у самой душа уже была не на месте.
— Подождите, я сейчас, — сказала она гостям, захватила доенку и, как была в чистом, только переобулась, вышла во двор.
Сидела под коровой, обдаваемая ее теплом, сладким молозивным духом — такие минуты в ее жизни были самыми безмятежными. Выдоить корову — это для сельской бабы и не работа вовсе. Но на сей раз покоя в душе не было. Все перетолклось: приблудный жених, его песня, пугающий зубовный скрежет. Надо же — так скаргатеть! Вспомнился шрам, замеченный у него на шее: он начинался у ее комля и уходил куда-то под рубаху. Стрелял с Петькиного плеча… Голос его все еще держал ее, все ворожил над нею.
Когда она вернулась с доенкой в хату, Василий Степаныч сидел за столом один. В руках у него были Настины «комсомолки»: у одной из них отставал каблучок, вспомнила Настя. Теперь ей и эта мелочь показалась совестной. Она удивленно замерла в дверях:
— А где же Нюся?
— Да сказала — ей тоже корову доить надо. Забыла небось, а тут заторопилась…
Он продолжал старательно рассматривать туфли, как полчаса назад, запев, сосредоточенно разглядывал головки собственных сапог.
Настя знала, что корова у Нюси еще не отелилась.
Раньше почему-то сапожников было гораздо больше, чем сейчас. И обувная промышленность, наверно, отставала, и просто беднее мы были: снашивали все вчистую, не гнушались ремонтом. Это сейчас: где-то протерлось, что-то продырявилось — и в мусоропровод ее, обувку. Да и к человеку в будке попробуй хотя бы с пустяковым ремонтом подойди — косячок там набить, подошву в двух местах дратвой прихватить. Куда там! «Моя не ремонтирует, моя — чистит», — брезгливо скособочится человек, как будто чистить почетнее, нежели сапожничать.
Чистильщики! А тогда, в пятидесятых, число сапожников только в нашем селе доходило до шести. Колебания в численности происходили из-за отчима, из-за его бесконечных скитаний. Тем не менее — шестеро! И все кустари. Индивидуумы. И каждый индивидуум норовил работать без патента, или, как тогда говорили, без «диплома», уклоняясь тем самым от уплаты подоходного налога. Что только не придумывали, пытаясь обвести вездесущего Манина! Инструмент прятали, не регистрировались в сельсовете. Даже под колхозников маскировались, делая два-три выходо-дня в году. Только какой из сапожника колхозник — как, из цыгана мирошник. И вот, чтобы облегчить контроль за ними и за их заработками, а также дабы споспешествовать прогрессу сапожного дела в целом, индивидуумов решили объединить. Выделили пустовавший амбар, прорезали там окна и собрали их под одной крышей. Каждый из них проследовал туда с собственным инструментом и материалом под мышкой. Перед входом в амбар была торжественно воздета вывеска «Артель «Свободный труд».
Амбар стоял посреди села, и с ним стало твориться неладное. С утра до вечера источал он песни. Причем с движеньем дня песни шли по нарастающей, ибо амбар соседствовал с кабаретом. Частенько они не прекращались и ночью: по причине большой нетрезвости до́ма сапожников не принимали, они возвращались на свой «запасной аэродром», и их артельский хор, усиленный ночным сторожем дедом Кустрей, гремел над селением. Днем кто бы ни шел мимо, обязательно подойдет к амбару: поют. Чертовски хорошо поют! Один подошел, другой, третий, глядишь — внутрь потянулся, тоже по мере сил включился в «сапожную» работу. Кто-то под окном захотел «Распрягайте, хлопци, коней» послушать и уже заявку в форточку сует в виде старой, доброй, с зеленой нашивочкой за отличия, «Московской». В общем, сплошной перепляс получался. И то сказать: какие могут быть песни в разгар рабочего дня! Да еще, скажем, в разгар уборочной?! Или посевной! «И что это за работа, на которой умудряются еще и петь?!» — могло спросить у сельских руководителей и вышестоящее районное начальство, да и рядовое колхозное крестьянство, которому, конечно, в его работе бывало не до песен. Форменный кавардак вносил амбар «Свободный труд» в трудовую деревенскую жизнь и был закрыт. Распущен. Выключен из розетки.
И наша хата, когда отчим бывал трезв, вновь превратилась в щеглиную клетку. С березовыми шпильками в зубах — пел. Узкогорлым сапожным молотком стучал — пел. Сапоги тачал — тоже пел. Мать глянет на него, согнувшегося на стульчике перед низеньким сапожным верстаком, и улыбнется:
— Васьк, зачем нам радиво! Нам радиво теперь не нужно…
Сказки мне, чужому сыну, рассказывал. Ремеслу потихоньку учил. «Хром — барину, юфта — татарину, а нашему Ванечке — валеночки…»
Когда не пил.
Зато когда запивал, та же Нюся Рудакова сотни раз говорила Насте:
— Да брось ты его к чертовой матери. Выгони! Чего ты за него держишься? Чего мучаешься?..
Не гнала. Двоих сыновей с ним нажила. А вот петь с ним — никогда не пела. Стеснялась? Если приставал, отшучивалась:
— Я москалька, слов твоих не знаю.
Хотя петь умела.
Отчима дома не было. Он где-то странствовал — то ли по своей воле, то ли по воле предыдущих жен, регулярно посылавших его в отсидку за неуплату алиментов, когда у матери в какой-то праздник собрались ее незамужние подруги. Их было три или четыре, не больше. Сводный их «подол» вместе со мной располагался на печке, — стало быть, это было под Новый год или под Ноябрьские… Женщины сидели внизу за небогатым столом и пели. И лучше всех, ярче всех, увлекая других за собой, пела мать. Такой значительной, такой чужающе сильной я ее никогда не видел.
Каким ты был, таким ты и остался, Казак лихой, орел степной. Зачем, зачем ты снова повстречался, Зачем нарушил мой покой?Они довели песню до конца, и в наступившей потом тишине одна из них, Степанида Филева, маленькая, вострозубая, видно забывшись насчет «второго этажа» — а он только на вид был целиком и полностью поглощен праздничным пирогом с сушкою, а на самом деле ушки держал топориком, — сказала бабам, что к ней сватается Витька Барабаш. Этого Барабаша я знал, да его все село знало: вечно штаны руками держит…
— Сватается? — переспросила Настя, еще не отойдя от песни. — Да я бы с ним на одном гектаре с… не села!
— Во дает! — одобрительно ткнул меня в бок Славка, или, по-уличному, «Филя», Степанидин сын, мой ровесник.
А за столом опять воцарилась, теперь уже неловкая, тишина. В ту же минуту Настя и сама смутилась: подобная резкость вообще была не в ее характере. Просто она еще не вышла оттуда, из песни, — так далеко зашла.
А когда умерла, Колодяжный умер в тот же год.
Выходит, не она за него держалась — он за нее держался.
ЗАВЕЩАНИЕ
Ее смерть, похороны помню отчетливо — отчетливей быть не может. Но все как-то поврозь, лоскутами. Поздним вечером в нашу давно уже не знавшую яркого света хату ввалился дядька Сергей. Грязный, заросший — как был на буровой где-то в Моздокской степи, да его разыскала моя телеграмма. Ехал на попутных, шел, бежал, потому что в телеграмме я писал: «Люди говорят, что мамка умирает…» Он ввалился в хату, огромный, страшный, провонявший соляркой, а она его не узнала. Зажав в руках замасленную шапку, дядька Сергей стоял возле ее кровати у изголовья; она смотрела на него провалившимися глазами — болезнь уже заволокла их своей смертельной белью, но они еще находили в себе силы превозмочь этот мутный туман, еще пробивались через его безвестье измененным, лихорадочным, заблудившимся светом — и говорила:
— Вон какой большой ты стал, Толик… Вырос, хороший стал… Справный…
Пятилетний Толик, наш младший братишка, сидел в это время на печке, испуганный, забившийся в уголок. Когда его подводили к ней, она только плакала: последние, уже взаймы у смерти взятые слезы проступали в ее глазах так же мучительно, как и их заблудившийся свет.
Утром я остался с нею один. Младших детей забрали соседи, дядька куда-то ушел. Вполне возможно, что он пошел за фельдшерицей и разминулся с ней, хотя в нашем селе разминуться с кем-то трудно. Фельдшерица пришла сама. Молоденькая-молоденькая калмычка, чье чужеземное лицо напоминало случайную чашечку полевого мака: и своей странной сферичностью, и юным рдеющим цветом, но больше всего — беззащитной нежностью. Дохни на него неосторожно — и оно осыплется, оставив голый пестик тонкой, длинной, подростковой шеи. Уже почти месяц она приходила к нам из амбулатории каждый день. Сделала укол, села у окошка.
— У нее сильное сердце, — сказала мне.
Мое измученное сознание на мгновение ухватилось за эти слова, но ни сами они, ни тон, которым они были произнесены, уже ничего не удерживали.
Я тоже сел за стол, стоявший посреди хаты, и некоторое время мы с нею сидели молча. В глазах у калмычки я заметил слезы. Глаза у нее были так черны, что и слезы казались черными и закипали в уголках ее зауженных глаз как смола. В комнате было тихо-тихо. Казалось, мы с девчонкой слышим, как, уходя за небосклон, материно сердце роняет свои последние глухие капли. Слышим, как оно сопротивляется этой неумолимо влекущей силе, — дыхание смерти реет и в самой комнате, касается и наших едва раскрывшихся жизней, и они испуганно замирают, съеживаются под ним. Потом фельдшерица встала, вновь прошлепала в резиновых сапогах к кровати, взяла вялую материну руку. Рука была полой: все рак выел.
Сильное сердце остановилось.
— Ты должен закрыть ей глаза, — сказала она мне шепотом.
Я, еще не понимая, что делаю, подошел, закрыл как сумел. Странное, чудовищное прикосновение к твердым человеческим зрачкам — пальцы помнят его до сих пор.
Фельдшерица, уже не сдерживая облегчающего плача, вышла на порог — первая вестница Настиной смерти. Наверное, это была ее первая покойница. Первый человек, которого она не вылечила, хотя… кто бы вылечил?
Что, если эта девчонка была родом с Черных земель? На сей раз они Настю не выручили. Не вызволили.
Потом память моя делает скачок, и я вижу, как мы с дядькой Сергеем при гробовом молчании выбираем в сельмаге материю. Продавщица протягивает что потемней, дядька отодвигает и снова настырно берет посветлее. Потом несем материал домой, и дядька молча, как маленького, ведет меня за руку. Наперекор остальной родне он хотел, чтобы я участвовал во всех заботах, и был, пожалуй, прав. Вот шлю телеграммы на почте: дядькиной жене, двоюродной бабке с дедом. Телеграмм мало, и телеграфистка Ксеня Подсвирова возвращает мне все мои деньги. Я, не чинясь, опускаю их в карман. Прихожу с почты и вижу мать в той самой материи, которую покупали в сельмаге.
Нас усаживают на лавку перед нею, так мы потом получимся и на фотокарточке — обезглавленным косячком: я — побольше, средний брат — поменьше и Толик — его еле видно. У меня на правой руке, давно перегнавшей рукав потрепанной вельветки, нелепо выделяются часы «Кама» со светящимся циферблатом: дядька подарил в последний приезд. Тогда он приезжал в гости: торжественный, с теткой под ручку и с девочкой в соломенной шляпе — так двигался он по улице родного села. Отпуск в деревне. А мать не удержалась, не устояла возле ворот, побежала им навстречу.
Каждый из нас троих уставился в свою точку, и свой участок материи — если бы не материно лицо, можно было бы вообще усомниться в том, есть ли там, под материей, что, — я тоже запомню навсегда. Складки, расцветку, узор…
Вот везут ее, и я сверху, с машины, вижу, что последним в процессии бредет Колодяжный. Бредет даже не в процессии, а отдельно, сам по себе: дядьки грозились прибить его, если он придет на похороны. Считали его повинным в Настиной смерти. Сгоряча, конечно, — недостаток образования. А там — кто его знает. Кругом степь, ни домов, ни прохожих, но Колодяжный тем не менее на минуту останавливается, по-бычьи наставляет голую комолую голову и пьяно внушает белому свету, кто есть кто.
Ловлю себя на мысли, что мне его впервые не страшно…
…Но это — скачок. А если по порядку, то я выхожу следом за фельдшерицей, спускаюсь с порога, выворачиваю на улицу. Иду, удавленно скуля, в тусклой декабрьской грязи под моросящим небом. К Гусевым: «Мамка умерла…» Еще к Гусевым: «Мамка умерла…» К Нюре Рудаковой: «Мамка умерла…» К тетке Дашке, к Филевой Степаниде… Много народу надо мне обойти, позвать на похороны, на поминки. И я не останавливаюсь ни в одном доме, ни в одном дворе, вырываюсь, с дядькиной настырностью лезу на улицу, в грязь, в ветер, в дождь, в котором уже остро, больно проскальзывает крепкая, свалявшаяся снежная крупа.
— Приходите, мамка умерла, — стучу в сырые, слезящиеся с обратной стороны окна, вместе с печальным известием вручая им, как Настино завещание, собственную судьбу.



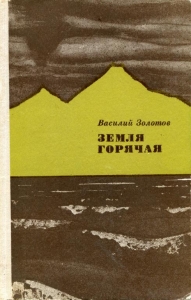

Комментарии к книге «День и час», Георгий Владимирович Пряхин
Всего 0 комментариев