Пахарь
Часть первая
I
Было ожидание, и была тяжелая вибрация кресел. Мурашки по коже. И вдруг стрелок отпустил тугую тетиву, и самолет, только что опиравшийся на землю, естественно и легко оперся на воздух, на прозрачную синь и беспредельность неба. Скорость, казавшаяся у земли чудовищной, все нарастала, а высота скрадывала и преуменьшала ее, превращая почти в неподвижность. «Свершилось! — сказала я себе. И повторила, почти крикнула: — Свершилось! Свершилось!»
Не самолет — это я парила над белыми домами Ташкента, и над полями, и над блеклыми холмами, и над горами, которые казались мне глубокими морщинами старушки-земли. Мне было так хорошо от того, что вышло по-моему. Я упивалась этим прекрасным чувством, так редко посещавшим меня в последние годы. Я победила. И я, оказывается, умею преодолевать препятствия, и обходить их, если атака в лоб почему-либо нежелательна, и таранить их с разбега, рискуя своим лбом, черт возьми, если иначе не получается. Я умею быть и бульдозером, прущим напролом, и лукавой лисичкой-сестричкой, и, немного, серым волком. И только Бабой-Ягой не была и не буду, не хочу.
Петруша сполз со своего кресла, перелез через ноги отца и, получив легкий шлепок, который придал ему заметное ускорение, примостился у меня на коленях и заслонил иллюминатор своей любознательной головкой. Светлые шелковистые волосы, две макушки, как у отца. Я представила, как сплюснулся его нос от соприкосновения со стеклом. Завороженный полетом, он потерял способность выражать свои чувства. Я обняла его. Сердце его трепетало, как у воробышка. Новизна впечатлений. Он постигал, что это такое — быть внутри самолета и смотреть вниз, и сопоставлять увиденное сверху с тем, что ты видишь, например, из окна автомобиля или когда папа гуляет с тобой, ведя за руку. Сопоставлять — это и было сейчас самым интересным.
— Машина! — вдруг завопил он. — Дома! Коровы! Лошадки!
И замолчал, впитывая и впитывая в себя безграничный, беспредельный простор.
— Блин горелый, все окно заслонил! — засмеялся Дима.
«Сейчас он обнимет меня», — подумала я. Его рука тяжело и приятно легла мне на плечо, и я оторвалась от иллюминатора, придвинулась к нему и коснулась щекой его гладко выбритой щеки. Рука мужа самодовольно напряглась, налилась силой. И я поняла: то, что свершилось для меня, свершилось и для него, и его Голодная степь, его лотки, и насосные, и дрены, и перегораживающие сооружения на каналах, и бригадир Муслимов, запоровший сложную опалубку всасывающей камеры насосной, и бригадир Каримов эту опалубку исправлявший в субботу и в воскресенье, и бригадир Азарян, не вышедший на работу по причине затянувшейся пьянки, и недопоставленные пилолес, арматурная сталь, плиты-оболочки и бог весть еще что — все это сейчас не с ним и не давит на него, а там, в Чиройлиере, и давит на тех, кто его замещает. А с ним я, и Петик, и небо. Наконец вы пришли, раскованность, и свобода, и отдых. Как хорошо, не обмануться бы. Живешь, стремишься, предвкушаешь, и вдруг выпадает такая минута, как эта — вознаграждающая за все, даже за завтрашние новые тревоги, ночные бдения и стрессы.
Рука мужа, обнимавшая меня, вдруг обмякла. Он дремал, убаюканный полетом. Это меня удивило. Ему вполне хватало пяти часов сна. Он крепкий человек, но и на нем сказалась предпусковая нервотрепка и чехарда. Простои, авралы, нестыковки, повышенный тон планерок, спартанский неустроенный быт подчиненных, срывы графиков и срывы человеческие, тяжело ложащиеся на психику руководителя сознанием вины за невыполнение обещанного, минутную душевную черствость или грубый нажим, когда уже нельзя нажимать, — все это знала и я. Но я просто фиксировала это, просто рисовала себе действительность и не несла ответственности за все то, за что полной мерой: отвечал мой Дмитрий Павлович Голубев, управляющий трестом «Чиройлиерстрой», неофициальный мэр города Чиройлиер, в котором все делалось с его ведома и руками его людей.
Нестыковок, как всегда, было предостаточно, и он не смог отстоять свой отпуск. Он и не просил, заикнулся только. Он до сих пор тушуется, когда надо произнести твердое слово в защиту своих личных интересов, интересов своей семьи, и я недоумеваю, как в нем уживается полное самозабвение, полное самоотречение, когда он старается для дела, с полным пренебрежением к личному благополучию, к дальнейшему продвижению по службе. Уж о чем он никогда не пекся, применительно к себе, в личной, так сказать, сфере, так это о повышении материального благополучия. Да, с отпуском он промямлил, и тогда я сама предстала перед начальником главка Иркином Киргизбаевым. Состоялся сумбурный разговор, и на заявление мужа легла положительная резолюция. Для меня, как я поняла, было сделано величайшее одолжение. Странно, но мысли мои все еще там, в провяленном солнцем Чиройлиере, а не на берегу лучшего из наших морей.
— Мама, окно закрыто, а ветер дует. Убери ветер, — попросил Петик.
Он озяб, и я накинула на него свою кофту. Он все равно встал, нащупал пальцем отверстие, из которого вырывался свежий воздух и, довольный, что источник ветра обнаружен, засмеялся и вновь приник к иллюминатору. Маленький исследователь. Что бы я без него делала? Без него и без Кирилла, которого тоже надо было взять с собой?
Впереди, за красноватыми грядами песков, в ярком, слепящем свете стала прорисовываться большая река. Амударья, догадалась я. Еще в большем отдалении, смутно-смутно прорисовывались берег и синяя гладь Аральского моря. Медленно надвигался оазис, хлопковые и рисовые поля Хорезма, Каракалпакии. Вскоре Петик спросил:
— Мама, почему большая река кривая, а другие реки прямые?
— Прямые реки — это каналы, — сказала я.
— Каналы строит мой папа. А кто построил большую реку?
— Никто. Она сама получилась.
— Она сама себя построила? — Это его озадачило, и он замолчал.
Оазис медленно проплыл под нами. Пески внизу теперь были серые. Дмитрий спал. Вдруг потянулись могучие хребты Кавказа — мрачные пики, ледники, похожие на белых осьминогов, ущелья и реки, извивающиеся среди склонов, и бархатно-зеленые склоны, — здешние леса по всем статьям затмевали изреженные тянь-шаньские, — и облака, причалившие к скалам. Петик обмяк и мирно посапывал, приткнувшись к иллюминатору. Слишком много впечатлений.
В Симферополе мы взяли такси.
— Полчаса катаемся по городу, затем — Форос, — распорядился Дмитрий. И назвал два симферопольских адреса.
До войны его мать жила в Симферополе, и он здесь родился. Эвакуировались они своевременно. Их дом остался цел, был цел и сейчас; сохранился и родильный дом, в котором Дмитрий Павлович Голубев криком оповестил мир о своем появлении на свет. У родильного дома мы остановились. Дмитрий вышел из машины и прошелся вдоль фасада. Серое непритязательное здание. Я нарочно не вышла с ним вместе, не стала мешать ему сосредоточиться на чем-то своем, о чем, наверное, а рассказать нельзя. Он был задумчив и скоро вернулся.
— Ну и как? Почувствовал, что твои корни здесь?
— Еще нет, — сказал он с удивлением. — Отчего-то я не взволнован. Я совсем спокоен. Я черств, как чурбан.
— Папа, почему мама сказала, что ты родился в этом доме, а про меня сказала, что меня принес аист? Тебя кто родил? — спросил Петя.
— Меня родила моя мама, а твоя бабушка — баба Лида.
— А меня родил аист.
Я не стала его разубеждать. Мы пересекли реку Салгир, почти сухую, каменистое русло которой тысячи раз переходила Лидия Ивановна, сейчас — баба Лида, а в те годы — школьница, девчонка. Я не могла представить строгую, энергичную бабу Лиду девчонкой и школьницей. Лично мне те симферопольские улицы, по которым мы проезжали, напоминали Ташкент до землетрясения: глинобит еще не был заменен железобетоном, и одноэтажные дома в самом центре полуторамиллионного города были милы и провинциальны в своей непритязательности.
Мы так же легко разыскали дом Лидии Ивановны. Я опять не вышла из машины. Дмитрий постоял у шеренги низких окон, почесал затылок. Здесь и сейчас жила не одна семья. Лидия Ивановна чувствует, что ее корни здесь, и считает, что корни Димы тоже здесь. А он этого не чувствует и ничего не может с собой поделать. Не чувствует — и все. Я не тороплю его, но и не помогаю, не борюсь с его замешательством. Не тот это момент, когда человек нуждается в подсказке. Он заглянул во двор, пустой и голый. За домом круто вверх поднимался холм, и по его склону карабкалась на вершину каменная лестница. Мальчику здесь было бы где развернуться. Впрочем, баба Лида — несостоявшийся мальчик. Если я ее обижаю, она реагирует по-мальчишески резко: произносит обидные слова и на короткое время увеличивает дистанцию. Потом мы миримся.
Дмитрий сел, мы понеслись к синему морю.
— Ничего не чувствую, — сокрушенно сказал он. — Не помню этого города. Даже не возникло желания постучаться, осмотреть квартиру.
— Комнату, — поправила я. — У семьи Лидии Ивановны здесь была комната. И помнишь, она часто рассказывала про пуговичную фабрику, на которой в ночную смену прострочила себе палец?
Он кивнул. Его корни, конечно же, были в Ташкенте, где он пережил голодные и холодные военные годы, кончил школу и институт, где ему было хорошо, нет, прекрасно среди задиристых сорванцов, которые всем на удивление стали уважаемыми людьми. Но в еще большей степени его корни были в Голодной степи, в скромном городке Чиройлиере (название переводится с узбекского как «прекрасная земля»), в тресте, которым он управлял уже седьмой год. О, это были цепкие корни, все глубже проникавшие в голодностепскую целину, и я очень хотела, но не могла, не умела ослабить их бульдожью хватку.
— Перевелся бы ты работать в Крым? — вдруг спросила я.
— Ни за что, — сказал он, вычеканивая, в укор мне, посмевшей заикнуться об этом, каждое слово. И раскатисто засмеялся.
— Как мелок твой патриотизм! — Я не удержалась и уколола. Обыкновенно я сдерживалась.
— «Мы в знатные очень не лезем, но все же нам счастье дано», — продекламировал он.
И вот мы увидели море. Дорога вилась высоко, в горном лесу. Пахло хвоей, и море было огромное, и за морем угадывались и Турция, и Африка с ее экзотическими странами. Алупка, Медведь-гора, Гурзуф, Ялта — все это неслось и неслось на нас, впечатления были одно диковиннее другого. Кончался один санаторий, начинался следующий. Стремились сюда многие, но попадали далеко не все из тех, кто мечтал всласть поплавать, и пропитаться солнцем, и завязать короткий, бесшабашный курортный роман. Сбыться этим надеждам тоскующей и вечно жаждущей души мешала чаще всего работа. Ничто так не привязывает человека, как работа. Можно оставить больную жену, — ничего за месяц с ней не случится. Можно оставить жену, ожидающую ребенка, — муж ведь не акушер, а только отец будущего малыша. Но работа вольного с собой обращения не прощает. И вырванное мною отеческое «добро» на Димин отпуск было, конечно же, Диминой заслугой — Киргизбаев не стал травмировать меня отказом только из уважения к нему. «Мысль интересная, — подумала я. — С каких же это пор Киргизбаев зауважал моего мужа?»
Я вертела головой направо и налево, но запоминала мало что. Все это было так непохоже на Ташкент и на Чиройлиер. Причем я не могла поручиться, что здесь лучше. Я видела только непохожесть, иной уклад жизни…
Ялта показалась мне белой птичкой-невеличкой. Другие прибрежные поселки с известными названиями были и вовсе миниатюрны. Даже встречный ветер был здесь ни на что не похожий; ни прохладный, ни горячий, ни резкий, ни гулкий. Словно и его назначение было услаждать отдыхающих. «Хорошо!» — воскликнул Дмитрий. И потом много раз повторил это слово.
В Форосе, самом южном крымском поселке, к нашим услугам была пустая трехкомнатная квартира. Ее хозяева гостили сейчас в Ташкенте. Хозяин был однополчанином моего отца и давно звал нас к себе, а наши давно звали его. Мы представились соседям и вступили во временное владение просторной и благоустроенной жилой площадью. Петик затопал по паркету, оглядел комнаты, а потом сказал:
— Мама, пусти меня во двор, я не убегу! Там непонятные деревья, я хочу посмотреть.
Непонятными, ненашими деревьями были кипарисы и магнолии. Как только за сыном закрылась дверь, Дмитрий легко, играючи поднял меня. Посмотрел в глаза открытым, требовательным, жарким взглядом.
— Не сейчас, — проговорила я.
— Сейчас! — сказал он.
Он нес меня, как ребенка. У него были очень сильные руки. Я помнила, как он припечатал этими руками к ковру мастера спорта по классической борьбе Джуру Саидова. Он тогда кончал ирригационный институт, и я пошла смотреть, как он борется, и он потом сказал, что превзошел себя, что я вдохновила его превзойти себя. Потом он уже не боролся. У него была только работа в самом лучшем, самом нужном городе на земле — распрекрасном Чиройлиере.
II
— Ну, и что ты чувствуешь? — спросила я.
Дмитрий посмотрел на меня так, словно собирался утаить что-то важное, предназначенное нам двоим.
— Я чувствую, что мы не в Чиройлиере.
— Это очень много. А еще что?
— Не надо никуда торопиться. Невероятно, но факт: у меня ни сегодня, ни завтра не спросят, почему работа, которую следовало выполнить вчера, еще не начата. Легко-то как! Безмятежность потрясающая. Сейчас мы оглядимся, что тут и как, и промаршируем на пляж. Что нам поет поэт-песенник о пользе водных процедур? Они нам просто необходимы. Черт возьми, мы окунемся в синее-синее и теплое-теплое море! Оказывается, есть моря, на берегах которых человек только и делает, что отдыхает. Да здравствует отпуск!
Безмятежность, повторила я вслед за ним. Вот от чего я успела отвыкнуть. Полная отрешенность от всего вчерашнего и совершенно новая жизнь, которая будет продолжаться двадцать шесть дней, если только Дима не укоротит ее по своему непредсказуемому наитию. В нее не вторгнутся телефонные звонки, ежедневные громкоголосые, никого не щадящие планерки, авралы, уводы в полон чужих мужей и чужих жен, драки на почве злоупотребления алкоголем и прочая стрессовая информация. Итак, ура безмятежности! Я перевела часы на три часа назад — на московское время.
Мы вышли и смешались с беззаботным курортным людом. Солнце светило, как у нас в апреле. Дыхание моря насыщало воздух свежестью. Форос весь был залит солнцем, так здесь было ярко и светло, прозрачно. В море вдавался зеленый мыс, и поселок уютно примостился у его основания. А на мысу, среди субтропиков, возвышались корпуса санатория. Суша поднималась из зыбкой пучины довольно круто, и снизу казалось, что хребет кончается неправильной зубчатой стеной. У начала зубцов лес обрывался, и обнажались осыпи и участки вертикальных серых скал, испещренных трещинами. Высоко-высоко, вблизи водораздела, на утесе стояла церковь. Чувствовалось, что строил ее человек состоятельный и умевший повелевать, но уставший от мирской суеты. Сейчас церковь выглядела величаво. Белое пятно-диссонанс на фоне сплошного черного леса. Небо же было дымчатое, голубое, а море — дымчатое и синее, готовое подарить человеку свое расположение.
Петик шел между нами, держась за руки отца и мою. Соприкосновение с новой действительностью поубавило его экспрессивность. Да, здесь все было не как в Чиройлиере. Но я знала, что к этому мальчик привыкнет гораздо быстрее, чем мы.
В соседнем доме размещались магазины. Я решительно распахнула стеклянную дверь.
— Постарайся не прилипнуть, — напутствовал меня Дмитрий.
В промтоварном магазине мы купили Петику детский надувной жилет яркого желтого цвета и пластмассовые детские городки. И обувь, и одежда продавались такие же, как в Чиройлиере, но вместо узбекских городов на фабричных марках стояли украинские. При нужде, конечно, можно и одеться, и обуться, но мечту о вещах элегантных, сработанных рукой мастера по велению моды, приходилось оставить. Женщина, мечтающая, чтобы на нее оглядывались, и здесь должна уметь шить сама.
Дорога к пляжу вела нас через санаторный парк, старинный, прекрасно ухоженный, радующий обилием редких растений. Теплый воздух был настоян на хвое ливанских кедров и кипарисов. Я услыхала соловья и остановилась, так это было неожиданно и славно.
— Мда, — сказал Дмитрий. — Петя, ты чего не шумишь, не выступаешь?
— Ты сам выступаешь, — сказал мальчик. — Ты лучше скажи, кто построил море?
— Никто, — объяснил отец. — Море было всегда.
— Как — всегда? — спросил мальчик.
— Так, — ответил Дима. — Когда я был маленький, как ты, оно уже было. И когда твой дедушка был маленький, оно уже было.
На санаторном пляже у линии прибоя впитывали в себя солнце жители всех климатических поясов нашей обширной страны. Я пригляделась: и мужчины, и женщины явно страдали от переедания и малоподвижного образа жизни. Мы прошли на небольшой пляж в стороне от санаторного. Кабину для переодевания здесь заменяло полотенце, наматываемое на бедра. Но разница была невелика: чуть-чуть меньше комфорта, чуть-чуть больше свободы. Бетон парапета и крупная галька пляжа во вторую половину дня отдавали тепло. Мы вошли в воду вместе, держась за руки. У Дмитрия было рельефное, сильное тело. Даже молодые мужчины рядом с ним выглядели рыхлыми. Но и ему было бы полезно остановиться на семидесяти пяти килограммах — в таком весе он выступал когда-то. Он же прибавил к ним еще десять. А виновата была я: вкусно готовила.
Вот ко мне не прилипло ни одного лишнего килограмма, и теперь я заслуженно гордилась своим телом. Экзамен пляжем я выдержала, а мало кто из женщин мог похвастать этим же. Как только человек снял с себя физическую нагрузку, его тело поплыло безудержно… Но мало кто настораживался и задавал своим мышцам работу. Сколько было здесь несостоявшихся аполлонов и афродит! Я торжествовала: жесткий режим и гимнастика позволили мне сохранить девичью стройность, легкость и плавность движений, уберегли от сотен простуд, которые безжалостно валили меня с ног в раннем детстве. Преодолеть же мне пришлось лишь одно препятствие, правда, серьезное: лень-матушку.
— Петик, у тебя красивая мама? — спросила я.
Сын барахтался у береговой кромки и выражал свой восторг громкими криками. Мой вопрос он оставил без внимания. Но Дима не пропустил его мимо ушей. Оглядел меня с головы до пят и заключил:
— Мы премного вами довольны сегодня и всегда.
Петик страшно брызгался, и мы вернулись на берег, предоставив ему полную свободу. Он разбегался, выставлял ручонки вперед и бултыхался в тихую воду у самого берега. Потом, лежа животом на гальке, подняв голову высоко над водой, яростно работал руками и ногами.
— Я корабль! — кричал он. — Я кит! Я рыба!
Мы подождали, пока силы ребенка иссякнут, и завернули его в большое махровое полотенце. Он немедленно скинул его с себя, видно, оно задевало его самолюбие. И нашел новое занятие: стал бросать в море камешки. Этим он мог заниматься долго. Враги наступали, и он отбивал их натиск. Тут ребячья фантазия уводила его далеко. Но оставлять его без присмотра было рискованно, и сначала выкупался Дмитрий, а затем вошла в воду и я. Плавала я хорошо, лучше Димы, и заплыла далеко. Море было абсолютно спокойное. Я бы предпочла волны, и не легкие, а средние, белопенные, которые поднимают и опускают, как быстрые качели. Я плыла брассом, опуская лицо в воду, но глаза не закрывала. Было интересно разглядывать дно, покрытые илом и водорослями, обломки скал, иногда крупные и причудливые. Отдельные обломки высовывались из воды, образуя крошечные острова. Большие волны разбивались бы о них с ревом и брызгами. Я плыла и плыла вперед, и вскоре дно перестало просматриваться, а вода из прозрачной сделалась синей. Редкие медузы студенистыми пятнами проплывали подо мной. Я коснулась одной. Мягкое бескостное белое тельце. Ну, и многообразна природа! Чего только она ни сотворила!
Руки словно раздвигают воду, и она расступается передо мной. Вдох — выдох, вдох — выдох. Легко, хорошо, замечательно. Надо и Петика научить плавать. Назад? Еще не устала. Дима машет рукой. Мол, не увлекайся. Но я перехитрила его, поплыла вдоль берега. Удивительная вода. И все здесь удивительное: деревья, и берег, и горы, и воздух, и солнце. И Дима удивительный, когда никуда не торопится. И Петик. Что бы я делала без них? И разве было такое время, когда их у меня не было? Отлично, Оля! Иногда получается и по-твоему, иногда и ты добиваешься своего!
Я плыла энергично, но усталости не чувствовала и к берегу не спешила. А если… вдруг оказаться посреди моря? Тогда море сначала выжмет и измочалит тебя вконец, и когда ты отупеешь и станет все равно, оно проглотит тебя, и вовсе не обязательно, чтобы поднялась буря. Оно убьет, оставаясь ласковым и безмятежным. «Оставь фантазии Петику, — сказала я себе. — Сейчас он открыл для себя радость перевоплощений. Его уже сто раз убивали на войне, и он всем рассказывает: «Когда я был на войне и меня убили…» Теперь — к берегу. Петик опять плюхается пузом в воду и хохочет, хохочет! Почему мы не ценим вот это безмятежное время — детство? Почему мы начинаем дорожить им, когда оно уже позади? Но зачем спрашивать об этом, если так было всегда, если так жизнь устроена?
— Стели, мать, скатерть-самобранку, — сказал Дмитрий. — Аппетит, как у первопроходцев.
Хлеб, колбаса и сыр, и луковица, очищенная и порезанная на три части, и крупные ташкентские помидоры, и ташкентские персики, пепси-кола, и крымское солнце на десерт — таким был обед. Вкуснее мы давно не ели.
— Что теперь будем делать, мать? — спросил Дмитрий.
— Почитай! — предложила я.
— Нет, сегодня я буду просто смотреть на море и на корабли.
— Так мог бы ответить и Петик.
— Я всю жизнь мечтал всласть постоять на берегу и поглазеть на корабли. И чтобы меня в это время никто не тормошил. Я несостоявшийся моряк, понимаешь?
Я стала читать, но мне было трудно вникать в суть. Что-то отвлекало, раздваивало внимание, и я уносилась мыслью за тридевять земель, и мысль эта никак не была связана с прочитанным. Так приятно было растечься мыслью по древу, строить воздушные замки, разрушать их и на освободившееся место ставить новые, столь же призрачные. Потом мы еще плавали. Потом, уже при гаснущем солнце, привлеченные музыкой, зашли на танцплощадку и с жадностью окунулись в ее ритмичную толчею. Вальс! Я так давно не танцевала вальс. Я забыла, когда вообще танцевала. Последний раз, наверное, я танцевала на своей свадьбе. Мы совершили три полных круга. У Дмитрия были молодые, задорные, сияющие глаза. И он не сводил их с меня. Поистине, к нам возвращалась молодость, я оставила в море минимум пятнадцать лет.
— Фу ты, боже мой! — произнес он свою любимую присказку. — Понимаешь, ты неотразима.
— Сегодня и всегда! — сказала я. Страшно нравилось быть неотразимой.
У меня кружилась голова. Кипарисы тоже начинали кружиться, подыгрывая нам. Вальс, вальс! Вот ведь как бывает хорошо человеку. А когда ему так хорошо, он не спрашивает, заслужил ли он это, он просто живет. Потребность в анализе и вообще всякое глубокомыслие приходят позже, когда скатываешься с пленительного и зыбкого гребня. Тогда и начинаешь накручивать себя, и вновь включаешься в гонку, и вновь жизнь — одно мелькание, одна быстрота, и вновь ты и тут, и там, и везде, и нигде, и вновь гребень волны — это цель почти недостижимая, всегда близкая и всегда ускользающая, и ты карабкаешься, карабкаешься, карабкаешься изо всех сил…
III
У Дмитрия Павловича Голубева была редкая особенность: он мало спал. Возвращался с объектов или с громкоголосых совещаний он обычно поздно, замотанный, щедро припудренный въедливой лессовой пылью, но душ или ванная быстро возвращали ему бодрость, и он успевал еще повозиться с детьми, прежде чем они отправлялись спать. Когда жена засыпала, он перебирался в свой кабинет, на жесткую железную кровать. Включал проигрыватель, слушал музыку и бодрствовал еще час-полтора, а засыпал в половине второго. Просыпался в шесть, свежий, тугой, как хорошая пружина, готовый впитывать в себя служебную информацию и превращать ее в конкретные задания двухтысячному коллективу, готовый организовывать, и наставлять, и требовать выполнения обещанного, и громко радоваться нестандартной инициативе подчиненных, — они подчас предлагали такое, до чего он бы никогда не додумался.
Четырех-пяти часов сна хватало ему вполне, и снов он успевал перевидеть предостаточно. Удивительные снились ему сны — с продолжениями. Ему даже казалось, что он научился управлять своими снами. Это, конечно, было не так, но придержать, зафиксировать яркий эпизод, запомнить его в деталях ему удавалось.
Эти полтора-два часа после полуночи играли в его жизни особую роль. Он мог оглядеться, подумать и поанализировать, строя планы на завтрашний день, и все это в спасительной тишине, наедине с собой, когда не бьют по голове телефонные звонки и нескончаемые посетители не выкладывают свои нескончаемые нужды. В эти тихие счастливые часы он не просто жил активно и энергично — он мыслил, отрешался от текучки и окружал себя проблемами, которых всегда было много. Он пристально вглядывался в завтрашний день, стремясь увидеть и взвесить задачи, которые сейчас только вызревают в высоких сферах, а он уже намечал их решение. Всегда возникали варианты, и он не мог, не имел права не вникнуть в каждый из них, хотя обдумывал и проблемы государственные. Ставил себя на место людей, в чьей компетенции было их решение, вносил предложения, всегда лишенные половинчатости, а порой и просто дерзкие. Должностные лица, которые обязаны были их вносить, но почему-то не делали этого, многое бы отдали за приглашение в соавторы или хотя бы за посвящение в общий ход его мыслей. Ему нравилось, когда его выводы носили индивидуальный оттенок. Но это уже был отдых, растекание мыслью по бесконечному древу жизни, плавание к неведомым пределам. Там, где кончалась его компетенция — а ее границы были обозначены очень четко, — там кончалось и его право решать, приказывать, равно как и его ответственность. Но говорить об этом он не любил, стеснялся. Тут у него мог быть только одни собеседник — он сам.
В Форосе после двенадцати тишина стояла почти такая же полная, как и в Чиройлиере. Но и здесь в нее вкрапливались далекие, на пределе восприятия, звуки. Долетал ритмичный рокот прибоя. Вдох — выдох, вдох — выдох. Но это дышало море. Оля дышала беззвучно. Он захотел обнять ее, но побоялся побеспокоить. Силуэт ее лица был четким, прекрасным. Пора бы и привыкнуть, подумал Дмитрий Павлович. Но на всей Земле не было женщины лучше. Правда или нет, что привычка убивает любовь? Красота Оли поражала его всегда. Он не привыкал к жене. Ему казалось, что он все еще идет к ней, завоевывает, добивается.
Он шел к ней долго, много дольше, чем шли к своим женам другие. У кого-то все слаживалось мгновенно; в космический век не удивляются ни скоростям, ни темпам. У него это заняло девять лет. Девять да двенадцать, — его старший сын, одиннадцатилетний Кирилл, уже мог быть выпускником средней школы. Но, странное дело, годы, в течение которых он доказывал, что достоин Олиной любви, были такими же светлыми, счастливыми, как и годы супружеской жизни. Если не еще более светлыми и счастливыми. Он многое тогда выстрадал. Страдание и делало те дни яркими, незабываемыми. Ожидание было удивительным. Не живи он тогда им, и незачем было бы сейчас оглядываться назад, и вспоминать, и будоражить себя былым буйством чувств. С каждым таким днем он становился лучше. Он стремительно взбегал по крутой лестнице самосовершенствования, и вот — чудо свершилось. Потом, когда он добился взаимности и страдание ушло из его жизни, он почувствовал, что обеднел. Страдание, острое, как лезвие, горячее, как бешено пульсирующая кровь, и делало жизнь полной. Заботы же, хотя их и стало больше, никогда не рождали тех чувств, которые несло с собой страдание.
«Шел и пришел, — сказал он себе. — И добился. И всегда буду добиваться задуманного, для того и живу». Вывод этот, однако, не удовлетворил его. Жизнь включала в себя и другие моменты, и они были неисчислимы. Он знал энтузиастов, людей сильных и упрямых, ни в чем ему не уступавших, которые шли, но не приходили, не добивались, не побеждали. Когда-то он взирал на них сверху вниз с откровенным чувством превосходства. Теперь он готов был склонить перед ними голову. Только большие люди могли оставаться сильными, упорными и жизнерадостными, не добившись поставленной цели.
Когда он увидел Олю в институтском коридоре, он понял, что она — его девушка, что последует продолжение. Он и сейчас не мог ответить, почему она так сразу и навсегда запала ему в душу. Стройная? Но ведь не она одна такая. Красивая? Видел он и красивых, хотя красота красоте рознь. Она, он запомнил, очень светло, ясно улыбалась. Обаяние этой улыбки, наверное, и было самым сильным впечатлением того дня. Ее улыбка излучала тепло и доброту. Она была как костер, который промозглой ночью разводит турист или охотник. Его мечтой стало, чтобы этот костер горел для него.
Он прошел тогда мимо, обернулся, посмотрел вслед жадно, неотрывно. Гулко частило сердце. Она закрыла за собой дверь аудитории. Он запомнил номер. Расписание занятий подсказало ему курс и номер группы. Первокурсница — свобода и окрыленность — все впереди — это его устраивало. Между ними была разница в один год и один курс. Вскоре он узнал ее имя. Но подойти не решился. Она могла не так его понять, вынести неверное суждение. Он умел рисковать, но такого риска было не надо. Это совсем не вязалось с его врожденной общительностью. Он сказал себе, что подойдет к ней на первом же институтском вечере. Слава богу, танцевал он отлично. Но студентов послали на сбор хлопка в совхоз «Баяут», малолюдное, едва сводящее концы с концами хозяйство на трудной голодностепской земле. Голубев, как комсомольский вожак курса, был назначен бригадиром. Курсы раскидали по отделениям, устроились неплохо, не тесно, но Оля оказалась в шести километрах от него.
Хлопок… Он вспомнил свою бригаду. Девяносто пробивных ребят и озорных девчат, которые собирали и по сто, и по двадцать килограммов. За этот разрыв показателей его корили нещадно. Почему одни могут, а другие — нет? Почему одни стараются, а другие прячутся за их крепкие спины? Почему одним ведомо чувство ответственности, а другим все равно? Ему самому было бы интересно получить ответы на эти внешне очень простые вопросы. И он не знал еще, что ответ на эти вопросы ему будет интересно получать всю жизнь.
Прирожденные хлопкоробы, парни и девчата из сельскохозяйственной глубинки Узбекистана, конечно, оказывались на высоте и неплохо зарабатывали на уборке урожая. Тут все было ясно. Половина ребят и девчат, никогда хлопка не выращивавших, втягивалась, втягивалась и вскоре работала на равных с выходцами из хлопководческих хозяйств. Старание вырабатывало навык, и дневная норма, а потом и более высокие рубежи покорялись упорным. Другая половина городских ребят и девчат втягиваться не желала. Философия этой половины не отличалась оригинальностью. «Мы никому ничего не должны, пусть эту вату убирают машины», — заявляли они. И набирали в фартуки ровно столько, чтобы было удобно на них сидеть. Чрезвычайно трудно было воодушевить их на большее. Они не не могли — они не желали. Их объединяла круговая порука. Главное — не быть замыкающим. И они поровну делили между собой свои жалкие килограммы. Как надрывался Голубев, как шумел, убеждая их пересмотреть свою точку зрения, не противопоставлять себя большинству. Они молча стояли на своем, не принимали его доводов. И все-таки какой-то сдвиг произошел. Те же ребята оставались позади и на пятом курсе, но уже не с двадцатью, а с сорока килограммами.
Да, попортили они ему кровь. На душеспасительные беседы с ними уходила масса времени, и далеко не каждый день Дмитрий мог позволить себе навестить Ольгу. Он рвался к ней, а эти ханыги не пускали. Теперь, с расстояния в двадцать лет, все это выглядело совсем не трагически. Теперь ему была ясна полная бесполезность уговоров. Но принуждение он использовал редко; ему и тогда легче было расписаться в собственном бессилии, чем строго наказать. Раз не дошло слово, не проймет и ремень. Ищи и найди такие средство, которое заденет за живое, перевернет душу. Он твердо знал, что это не может быть ни ругань, ни палка.
Сейчас он вспомнил и другое, тоже из хлопковой жизни…
Ребята, которым было так не по себе в грядках, прекрасно развлекались. Толяша Долгов проигрался как-то в очко в пух и прах. Последней ставкой его (сидел он уже в одних трусах, кожа пошла пупырышками) была прическа. И опять у Толяши вышел перебор. Выстригли ему в густой шевелюре тупыми ножницами широченный пробор от лба до затылка. Парни орудовали ножницами с размахом, их подстрекали взрывы хохота. Толяша все это стоически выдержал. Надевать фуражку он не имел права и утром на линейке стыдливо стоял на карачках в последнем ряду. Чтобы не попасться на глаза грозному декану.
Охотник Эдик Арутюнян набивал из своей «пушки» двенадцатого калибра столько воробьев и скворцов, что они и в ощипанном виде не умещались в ведре. Птичьи стаи в октябре сбивались в зловещие черные тучи, очень контрастные на синем небе. Тут было мудрено промахнуться. Толяша Долгов был мастер находить морковку, картошку и редьку, зарытые на зиму в землю и пересыпанные песком. Воробьи Эдика и картошка Толяши превращались в отменный кавардак. Сейчас все эти удальцы и соловьи-разбойники нормально работали, а по служебной лестнице продвигались даже быстрее, чем те, кто в институте отличался кротким нравом и отменным прилежанием. Толяша Долгов стал правой рукой Голубева — руководил лучшей передвижной механизированной колонной его треста.
Дмитрий Павлович вспомнил октябрьские рано наступавшие ночи. Отказавшись от ужина и прихватив на кухне горбушку хлеба, он шагал в отделение к Ольге. Он вспомнил пыльную дорогу между рядами заматеревших ив, и коровий запах пыли, и рокот ветра, порывами ударявший в высокие кроны, и обостренность своих чувств, которые вдруг стали главным в его жизни. Он еще не знал, что скажет ей и что ответит она, и захочет ли знакомства, дружбы. Самые первые и, как ему казалось, самые важные слова он отдавал воле случая. Те слова, которые он пытался приготовить заранее, были детски наивны, а лучшие, выражавшие все то, что он чувствовал, не приходили. Он вспомнил тоскливую безысходность своей решимости, — назад он бы не повернул ни за что.
Он успел вовремя. Первокурсники еще танцевали на немощеной площади перед бараками. Баянист умело выводил мелодию. Одинокий фонарь, качавшийся на столбе, облегчил его поиски. Оля была в центре плотной человеческой массы, вращавшейся по часовой стрелке. Перед следующим танцем он оказался расторопнее высокого парня в зеленой телогрейке. Оля удивленно вскинула глаза, спросила:
— Вы не наш?
— Ваш, девушка, — сказал Дмитрий, испытывая подъем необыкновенный. — Именно ваш. Вы разве еще не поняли этого? — Она покраснела, и он добавил: — Я на курс старше. Не припоминаете?
Он забыл, что он не на хлопковом поле, и говорил громко, словно давал указания своим башибузукам, отлынивающим от работы.
— Тише, я слышу прекрасно, — сказала Оля. Посмотрела на него пристальнее и, наверное, увидела больше, чем хотела увидеть. Потупилась, сбилась с такта. — Вы бригадир второкурсников, я вспомнила. Но, пожалуйста, не надо.
— Очень даже надо, — возразил он. — Будь моя воля, я приходил бы к вам каждый день.
— А если я этого не хочу?
— Что ж, я не наглец. Буду смотреть на вас издали.
— Несчастный! — произнесла она, затягивая слоги. — Советую в будущем так и поступать. Или… Нет, вот что. Следующий раз прихватите, пожалуйста, канарчик с хлопком, я ведь отстающая-хроник.
— Вы этот хлопок не сажали, так понимать? — напрямик спросил он. Не подумал, что явился сюда не для проведения политбеседы. Опешил. Но укоряющие слова сорвались, ужалили. Она опять страшно покраснела. Тусклый свет не мог скрыть ее ярко порозовевших щек.
— Я стараюсь, но не умею, — объяснила она.
— Старание все извиняет! — воскликнул он, страшно смущенный.
Он не отошел от нее и после танца, а когда баянист сыграл прощальный фокстрот, проводил до барака.
— Поздно, — сказала она. — И свежо, я боюсь простуды. До свидания.
Да, прозаически простым был вечер их знакомства. И он и она произнесли обыкновенные слова. Может быть, он придумал необыкновенное? Но когда он возвращался, ему было лучше, чем когда он шел к ней. Это была не выигранная на ковре схватка и не удачно защищенный курсовой проект, — то, что он испытывал тогда, пришло к нему впервые. Он, однако, не обманывался насчет главного: путь к ней предстоял долгий, и многое ему надо было на этом пути преодолеть, а многое преодолеть в себе. Он еще приходил к ней вечерами, когда позволяли обстоятельства, но продвинулся вперед в ту осень совсем немного, можно сказать, почти не продвинулся. Ветер, как ему казалось, дул в его паруса, и был он ровным и теплым, и под форштевнем бурлила вода, но невидимое встречное течение неизменно относило ею к исходной точке. Сила ветра гасилась этим течением. Он был одним из многих, не более. Она присматривалась, сопоставляла, выбирала обстоятельно, не спеша. Он уже видел разницу между ними, она казалась ему значительной. Оля выросла в семье высокоинтеллектуальной, ее отец был одним из ведущих гидротехников Средней Азии, проектировал знаменитый Большой Ферганский канал, Каттакурганское водохранилище, рассчитывал параметры высотных плотин Чарвакской и Нурекской гидроэлектростанций. Мать преподавала русский язык и литературу и тоже слыла человеком с идеями. У Ольги сложился ум острый, аналитический. Анализ, тщательное взвешивание факторов и критическое их осмысливание было сильными сторонами ее натуры. И кругозор ее был пошире, — горячие споры умных людей в родительском доме оставили свой след. Больше она и читала, да и подбор книг не был случайным. Она готовила себя к высокому предназначению — научному поиску. Но если ее интерес к технике, к строительной площадке можно было приписать влиянию отца, то вкус к литературе, музыке, живописи привила ей мать. А как раз от этих высоких сфер он был далек, и в целом, он чувствовал, ему не хватало общей культуры.
В житейских вопросах, правда, он разбирался лучше, но разве это был довод для нее, с радостью парящей в облаках? Он понял очень скоро, что она человек более тонкий. Особенно изумлял его полет ее фантазии. Берегов она не знала. Слушая ее фантазии, он сникал. Сам он не умел отрываться от матушки-земли так естественно и непринужденно. Да, она была фантазерка, мечтательница, книжница. Это в ней совмещалось занимательнейшим образом. Что-то, наверное, всегда заслоняло ее от реальной жизни, вернее, казалось важнее, занимательнее. Он понял и другое: фундамент, на который опирался он, был более надежен. Он вырос в другой среде, отец его всю жизнь управлял башенным краном, мать была погружена в бухгалтерскую цифирь и над нею и над домашними заботами подняться не пыталась. Голуби, Комсомольское озеро, простые, как он, ребята, которыми он верховодил на правах сильного, борцовский ковер, а в промежутках между всем этим — так, между прочим — школа, которую он кончил без блеска: занятий никогда не пропускал, но и не усердствовал над скучными домашними заданиями. Скучны, скучны были синусы и косинусы. Яркий солнечный день был куда привлекательнее. Реальная жизнь не задавала загадок с синусами и косинусами в квадрате.
Таким было его детство. Восемь лет из школьных десяти его семья строила свой дом. Комнату за комнатой, из сырцового кирпича, но основательно, для себя. Было хроническое безденежье, месяцами сидели без мясного, на хлебе и фруктах из своего сада, но сложности в конце концов были преодолены, и просторный дом принес семье много радостей. Пять лет назад, правда, с домом пришлось расстаться. Проектировщики провели через него трассу метрополитена, и глубокая траншея поглотила и незатейливое глинобитное строение, и прекрасные плодовые деревья. А хорошо, счастливо жилось в их доме. В июне — урюковый дождь, в августе — яблоневый, в октябре — ореховый. И еще персики, сливы, виноград…
Неравенство он увидел сразу; оно ему не понравилось. Зачем ей человек, стоящий хотя бы ступенькой ниже? Если она — гармонично развитая личность, то и ему следует стать такой личностью. Он понял: чтобы завоевать ее, он должен приобщиться к ее интересам. Это требовало времени, энергии и упорства. Все это у него было в избытке. Значит, выкраивалось и время. Если дня не хватало, он отбирал часы у сна. Он стал гораздо больше читать, ходить в музеи, в концертный зал консерватории. И вскоре понял, что ее культурные интересы вполне могут стать и его интересами. Правда, воспринимал искусство он спокойно. Она восторгалась, рукоплескала, сопереживала глубоко, сама, как актриса, входила в полюбившийся образ. Он созерцал, ни на минуту не переставая быть самим собой. Сам процесс приобщения к ее духовным ценностям ему нравился, как нравится смотреть окрест себя каждый раз с новой точки, все более высокой.
Но уже тогда его обижало, что к его ценностям — борцовскому ковру, живому общению с друзьями, когда звучит гитара, когда вспыхивают горячие споры и сталкиваются противоречивые мнения, она равнодушна. Она же откровенно объясняла это тем, что человеку цельному не дано быть всеядным, что мир увлечений всегда ограничен какими-то конкретными рамками, как и мир профессии. Чему-то отдается предпочтение перед всем остальным, разбрасываться просто нелепо. «Как и кому-то отдается предпочтение перед остальными», — подумал он тогда. Ему еще не было отдано предпочтения.
Он шел к ней долго, и все это были замечательные годы. И след, оставленный ими, не сглаживался. Он дерзал, и жизнь его была восхождением. Это было прекрасное время, открытия следовали одно за другим. Он приходил к Оле часто, все четыре года совместной учебы.
Тогда, после знакомства, о чем они только не переговорили на берегу Баяутского канала. Но все это, как он теперь видел издалека, было его вхождением в ее мир, встречная же полоса оставалась свободной от движения.
Она рассказала ему о многом. И о Ван Гоге, гений которого стал понятен и дорог только людям следующих поколений. И о Сергее Чекмареве, и о Павле Когане, стихи которых он не читал никогда, и об Усмане Юсупове, зачинателе знаменитых народных строек, которые заставили страну и весь мир по-новому взглянуть на народ, еще недавно опутанный по рукам и ногам цепями феодализма и ислама, но с радостью ступивший на неохватные просторы социалистических преобразований. Да, подвиг строителей Большого Ферганского канала так и остался непревзойденным. Шло время, иные свершения вписывались в летопись, но не затмевали, не умаляли, не отодвигали его на второй план. Когда же он пытался привлечь ее внимание к нуждам сегодняшнего дня, когда заявлял, что голодностепская земля, на которой они собирают хлопок, орошена недавно, что в погоне за дешевизной освоения здесь многое делалось не так, как следовало бы, не под присмотром мудрого хозяйского глаза, и им, наверное, после вступления в самостоятельную жизнь придется все приводить в порядок, (чтобы нормой стали не пятнадцати, а тридцатицентнеровые урожаи хлопка-сырца, чтобы оазис стал похож на благодатную Ферганскую долину), Оля отмалчивалась или отвечала односложно, незаинтересованно. Далекое влекло ее сильнее. Близкое, от частого соприкосновения с ним, казалось обыденным. И то сказать, привычное не встряхивает, для взлета чувств нужна новизна впечатлений. Он обижался — она не понимала его обид. В нем просыпался хозяин, которого достижения науки и техники интересовали с утилитарной, прикладной точки зрения. Кроме того, он высоко ставил организованность и порядок, умение делать дело. Она же предпочитала чистые заоблачные выси. Их озон действовал на нее благотворно. Он даже сказал как-то, что она, наверное, собирается орошать Марс, а не Голодную степь.
Вскоре он понял: она запрограммирована на очень узкий диапазон частот и, как тонкий и точный прибор, может работать только в этом диапазоне. Относительно строительства каналов ударными темпами он не имел ничего против, он был целиком «за», но считал, что сначала надо умело распорядиться имеющейся в наличии водой Сырдарьи и Амударьи и навести порядок на уже освоенных землях, например, в баяутских совхозах, где люди жили во времянках и не заботились о завтрашнем дне. То, что уже есть у нас, что уже наше, надо научиться использовать с более высокой отдачей. А потом, став богаче, накопив сил и опыта, браться за решение иных проблем.
«Как моя первая насосная?» — вдруг подумал он. И явственно увидел глубокий котлован, арматурные каркасы, плотные, солнечной белизны бетонные блоки, длинные коробки кранов, плывущую по небесной сини бадью с бетонной смесью. Услышал гул вибраторов, шипение электрической дуги, емкие русские слова, отпускаемые по поводу чьей-то нерасторопности или без повода, по щедрости душевной, для общего поднятия духа. Он облазил котлован вчера, а за сутки что могло случиться? Но он привык ежедневно влиять на ход работ, и сейчас ему показалось, что в его отсутствие и сполохи электросварки не так полыхают в густой ткани армокаркасов, и погружные насосы ведут водоотлив с перебоями. Он приказал себе не сомневаться, не чудить. Грош цена ему как руководителю, если без него там все разладится.
Он представил Толяшу Долгова, напористого, умеющего и потребовать, и обеспечить, и, если надо, подставить плечо под тяжелую часть ноши. И представил станцию через десять месяцев, когда два первых агрегата закрутятся и подадут сырдарьинскую воду на просторы Джизакской степи. Тысяч десять гектаров, конечно же, вспашут и засеют хлопчатником. И держись тогда, попробуй, не подай воду в срок! Хоть ведрами тогда натаскай ее, а полей хлопчатник. Усилили ли мосты, чтобы они выдержали трехсоттонный запорожский трансформатор? Усилят, сказал он себе. Распоряжения отданы, материалы заготовлены, и время еще есть. Его люди во всем как он. Он потратил столько труда, можно сказать, жизнь прожил, чтобы его люди, работали, как он, чтобы на них можно было положиться.
Память опять вернула его в институтские стены. На пятом курсе его и Олю уже считали женихом и невестой. Действительно, если бы он настоял тогда, они бы сыграли свадьбу. Но она, когда он заговорил об этом, проявила нерешительность, попросила повременить. А он считал, что не вправе оказывать на нее даже малейшего давления. Пусть думает, решает. Он попросил направить его в Голодностепстрой, попал в распрекрасный свой трест, и впрягся, потянул. И замелькали дни, месяцы, годы. Темп жизни он выбрал бешеный. Где тут оглядываться, где тут заниматься собой?
Оля его не поняла. Она решила, что он поступился ее интересами, и расстояние между ними, почти исчезнувшее на пятом курсе, вновь стало ощутимым. Ей казалось, что их пути расходятся, и переубедить ее в этом ему стоило чрезвычайных усилий. Оля мечтала о работе в одном из ташкентских проектных институтов с хорошей исследовательской базой. Пример отца говорил ей, что это интересно. Что же, теперь ей, как декабристке, следовать за ним в степной неуют и заниматься делом, совершенно противным ее наклонностям?
— Мне не нужно, чтобы муж приезжал на побывку по воскресеньям, — объявила она. — Мне не нужен муж-гость.
Он чувствовал, что обидел ее. Его доводы почти не действовали. Но мог ли он, комсомольский вожак, агитировавший сокурсников идти туда, где всего тяжелее, сам остаться в городе? Позволить себе это было никак нельзя, да ему и претило проектное дело. Итак, между ними вдруг пролегла трещина, дно которой не просматривалось сверху. Он заделывал ее пять лет, а потом еще двенадцать лет — после того как добился своего.
Не видя Ольгу долго, он начинал сходить с ума. Днем — нет, день был предельно заполнен работой. Ночью — да. Тут она преследовала его неотступно, и ее присутствие рядом было настолько близко к реальному, что ему казалось: она — за стеной и тоже не спит, тоже мучается, тоже ловит каждый его вздох.
Долгое время она встречала его так, как будто он предал ее. Она была исключительно вежлива и холодна, как высокогорный ледник, лишь на несколько дней в году попадающий в полосу положительных температур. Он осыпал ее градом голодностепских новостей — она воспринимала их более чем спокойно. Он баловал ее подарками, прорабская зарплата плюс целинный коэффициент позволяли шиковать. Она принимала их так же спокойно, как и его новости. Тогда он спросил себя, прав ли он. Да, прав. Он спросил, права ли она. И она была права. В одном и том же измерении, в одно и тоже время существовали две правды. Этого, конечно же, не могло быть, но тем не менее… Он сделал то, что давно следовало сделать — поставил себя на ее место. Многое тут ему открылось. Он увидел, что может быть и черствым, что близкие ему люди, которые думают и поступают не так, как думает и поступает он, задают ему неразрешимые задачи. Право на индивидуальность, однако, есть у каждого, и его он не оспаривал. Было оно и у Оли. И, спросив себя, прав ли он, спросив себя с ее позиций, он вынужден был признать, что принял решение своевольно и опрометчиво, и минимум, что ему хотя бы следовало сделать — это посоветоваться с ней. Конечно, он сам хозяин своей судьбы, но речь шла и о ее судьбе, которой хозяйка она. Об их общей судьбе, в которой его голос имел лишь половину веса. Если любовь да совет — составляющие семейного счастья, а формулу эту вывели еще прадеды, то советом он пренебрег и плоды пожинал горчайшие.
Через год она устроилась работать в гидравлической лаборатории Среднеазиатского отделения института «Гидропроект» и очень скоро показала себя вдумчивым, толковым экспериментатором. Одно из ее предложений, проверенное на модели, позволило сократить размеры водобойного колодца крупного Дангаринского туннеля на реке Вахш. Ее вариант существенно, на десятки тысяч кубометров, уменьшал и объемы туннельной выломки, и бетонной кладки. Она сообщила об этом Диме, лицо ее сияло. Не он один обжигал горшки в своей прокаленной Голодной степи. Не он один мог именовать себя новатором и первопроходцем — и у нее были на это не меньшие права. Ориентировочно, она сэкономила миллиона полтора. Даже если ей ничего больше не дано совершить, она уже честно отработала и свою будущую зарплату, и будущую пенсию. Одного этого достаточно, чтобы считать: жизнь прожита не напрасно.
Он порывисто обнял ее, расцеловал. Впервые за последние месяцы она не отстранилась. Он, как ему казалось, ничего бы не достиг на этом поприще, он был из другого теста, и милее практики для него не было нечего. Но он уважал людей талантливых, прозорливых, приносящих обществу что-то большое на кончике пера. Он боготворил ученых, изобретателей, творческую интеллигенцию вообще. Эти люди могли работать по большому счету. К их славному племени принадлежала и Оля. Ольга Тихоновна. Его Ольга. К этому времени и на его счету было три рационализаторских предложения, которые облегчали монтаж и упрощали эксплуатацию лотковой оросительной сети. Он разработал прокладку из мягкого пороизолового жгута, делавшую стыки лотков водонепроницаемыми. Затем пошел дальше — предложил один конец лотка делать раструбным, а из конструкции опоры исключить седло. Это уже был шаг вперед, проектировщики стали смотреть на него с почтением и говорить ему «вы», — а до этого безбожно тыкали, как представителю нижестоящего сословия. И поворотные колодцы он усовершенствовал (они постыдно текли в стыках) — теперь их собирали не из отдельных блоков, а формовали целиком, как одну объемную конструкцию. Все это принесло хороший экономический эффект. Но перед Олиными полутора миллионами выглядело мелко, и он прямо сказал ей об этом. И еще сказал, что видит: конечно же, ее место — в лаборатории, это ее призвание.
— Много же воды утекло, пока ты понял это! — воскликнула она. — Какой же ты долгодум! Что изменилось бы, если бы ты устроился прорабом здесь, в Ташкенте?
Первая восторженность уже прошла, и он сказал правду:
— Ничего. Ташкент тоже надо строить быстрее, он пока наполовину глинобитный.
Она пыталась перетянуть его в Ташкент, но он не умел оставить однажды начатое дело, оно захватило и повлекло, все более втягивая в свою орбиту. Он прикипел душой к людям и к месту. Кошачьей привязанностью к месту назвала она сгоряча эту черту его характера. Но все обстояло, конечно же, сложнее. Якорь был слишком тяжел, чтобы выбрать его, а канат — слишком прочен, чтобы перерубить.
Годы, когда он работал в Чиройлиере, а она — в своей лаборатории, были непростыми, совсем непростыми. Пять лет она не могла быть одна, при ее обаянии это исключалось. Ее поведение менялось, едва уловимо, чуть-чуть, и по этим нюансам он догадывался, что у него появился соперник. Ждать, пока Оля увидит несостоятельность очередного претендента на ее руку, и было самым тяжелым на его пути к ней. Наконец, девять лет дружбы, как она называла их встречи, убедили ее, что он, Дмитрий Павлович Голубев, и есть тот человек, с которым ей надлежит связать свою судьбу. Другие, при всей своей непохожести на него, в конце концов оставались за кормой. Их подводили ясно выраженные эгоистические устремления: и в своих ухаживаниях они были сфокусированы на себе. Она же оставалась для него высшим идеалом.
Медовый месяц они провели на борту волжского теплохода «В. Г. Белинский», совершавшего туристический рейс Москва — Астрахань — Москва. Каждое ночное причаливание корабля, каждое ночное вздрагивание корпуса от удара о бетонную стенку напоминало ей Ташкентское землетрясение 26 апреля 1966 года. Но в остальном это был бесподобный месяц. Он настоял, чтобы они жили в Чиройлиере. Защитив кандидатскую, она уволилась из лаборатории, переехала к мужу и возглавила технический отдел одного из строительных управлений. Тогда же она поставила условие: через два года семья должна вернуться в Ташкент. Ибо она не собирается зарывать в землю свой талант исследователя. Два года показались ему огромным сроком, в течение которого все образуется само, к взаимному удовлетворению. И он дал слово…
IV
«Бывает ли здесь жарко?» — подумала я. В Чиройлиере солнце всепроникающее. Если оно не достает само, если не жалит лучами-стрелами, то раскаляет воздух, и даже в помещениях люди становятся вареными курицами. Здесь, в разгар лета, солнце тоже старалось вовсю, а море укрощало его, и чиройлиерского пекла не было и в помине. Спокойное солнце, мягкое, вольготное тепло. И ветер с моря, и гулкие кроны деревьев, преграждающие ему путь, и настоянная на хвое, прохладная тень.
Мы наплавались и загорали на горячих камнях. Если солнце припекало один бок, подставляли ему другой: и со спокойным солнцем шутки плохи. Это северяне теряют бдительность: ах, солнце! А потом пузырятся и линяют, несчастные. Странно было никуда не торопиться. Если я остро чувствовала всю необычность крутого поворота от работы-гонки к блаженной неспешности и неге отдыха, то каково было Дмитрию! Пока ему нравилось. Но скоро он забеспокоится, заворчит, заспешит в свой Чиройлиер. Скоро и ему захочется пекла, и пыли, и хаоса, и кручения, и давящих разносов начальства, из которых он созидает порядок.
Сын наш семенил к морю, плюхался в теплое мелководье, молотил ладошками по воде, и набегавшая волна выталкивала его на гальку. Блаженство разливалось по его милой лукавой мордашке.
— Папа, как я ныряю? — вопрошал он. — Правда, я глубоко нырнул? Папа, как я плаваю?
— Молодец, блин горелый! — громогласно выдавал ему отец. — Давай давай, резвись, пока никто не взял тебя за шиворот.
Этого пацан и добивался. Чтобы взрослые не вмешивались в то, что он делал и что ему нравилось делать. Он вел себя как молодой специалист, начавший работать самостоятельно.
Дмитрий посмотрел на меня и подмигнул. Я кивнула, он еще раз подмигнул, и я опять кивнула.
— Ночью, когда ты спала, я думал о тебе, — сказал он. — Вспоминал, какими мы были раньше. Помнишь тот хлопок, когда я первый раз пришел к тебе? «Вы не наш?» — спросила ты. «Ваш, девушка!» — вбил я заявку. — Имеешь ли что-либо возразить? Или сразу признаешь мою неопровержимую правоту?
— У тебя прямо дар предвидения. Ты не замечаешь, что с каждым годом пребывания в кресле управляющего трестом ты становишься все более скромным?
Его слова, однако, взволновали меня…
Я хотела сказать, что наконец-то потеснила своей скромной особой его чиройлиерские заботы: кубометры уложенной бетонной смеси, число смонтированных за день лотков и другую столь же занятную цифирь суточной отчетности его треста. Но промолчала. Я подумала: «Есть ли еще на этом плотно заселенном пляже мужчина, который шел бы к своей избраннице девять лет? Пусть пять лет. Пусть три года. Такое в нашей скоротечной жизни почему-то перестало встречаться. Анахронизм, преданья старины глубокой. И вызывают они не благоговейное изумление, а недоумение, даже протест, как всякое отклонение от нормы».
— Пожалуй, я была слишком строга к тебе, — сказала я. Мне хотелось, чтобы он немного рассердился, попыхтел.
— Ты вела себя, как высочайшая горная вершина. Была сиятельно бела, холодна, надменна, неприступна. Я пал ниц и сделал вид, что замерзаю. Тогда ты снизошла…
— Значит, ты пустился на хитрость! Изменил сам себе! Прямоту — в сторону, а маленький обман пустил вперед, как своего полномочного представителя! Возьму и переиграю.
— Мама, роди меня обратно! — засмеялся он. — Вообще ты научила меня быть аналитиком, спасибо тебе. Не спешить, взвесить еще и еще раз, наметить стержень, боковые ветви — на все это ты мастерица.
— Что ж, благодари и низко кланяйся за науку. Я, я пеклась о твоем росте, играла, как теперь говорят, роль мудрого наставника. И готова выслушать, пусть с опозданием, все то, что благодарный ученик в таких случаях высказывает своему учителю.
— О-о-о! — зарокотал он. — Признателен, еще как признателен! Глубоко признателен, никогда не уставал повторять это и повторю в тысячу первый раз: ты заставила меня стать выше и лучше самого себя, дорога к тебе для меня была ой-е-ей как пользительна.
— Ты теперь насмехаешься, а если бы она была еще длиннее, ты достиг бы большего. Правды ради возьми и подчеркни это.
— Тут я предпочитаю остаться при своем особом мнении, а каком — ты знаешь. Сейчас же я хочу вот на что обратить твое внимание. За все эти годы у меня не было ни одного романа. Я не собираюсь оттенять этим цельность своей натуры, ты это сделаешь за меня. Были силы, пытавшиеся отклонить меня от избранного пути. Но я остался непреклонным.
— Я могла выйти только за однолюба. Донжуаны хороши, когда их наблюдаешь со стороны: разбитные ребята, море по колено. — «А встретишь такого и поддашься — опустошит, кинет и не оглянется, — подумала я. — Ведь его девиз — от победы к победе. А вопрос, что делать с побежденной, остается открытым».
— У тебя, насколько я помню, были увлечения. Я, конечно, не подавал вида, у меня и права не было громко реагировать, дерзить. И потом я никогда не спрашивал у тебя, кто были мои соперники. И ты этого не касалась. Верно, это твоя и только твоя жизнь. Но я, мать, любознателен и ничего не могу поделать с этой чертой характера. Так что я все еще жду неспешного твоего повествования о претендентах на твою руку. Если, конечно, моя просьба тебя не коробит.
— Не расскажу! — сразу сказала я.
— А я запрос направлю официальный. Обязана будешь отреагировать, как на письмо трудящегося.
— Ого! — воскликнула я. И замолчала. И сама погрузилась в волны памяти, в созерцание давно прошедших времен, в созерцание людей, которые если и живы сейчас, то уже совсем не такие, какими я их запомнила.
В институте со мной дружил только Дмитрий. Он был заметной фигурой, и никто не отважился составить ему конкуренцию. Его не боялись. Уважали — да. И уважение, вернее — мужская солидарность, распространялись и на его избранницу. А в гидравлической лаборатории на меня обрушился Боря Кулаков. Высокий, рыжий, веснушчатый, нескладный, несуразный невообразимо, он брал редкой среди людей откровенностью. Что на уме, то и на языке. Дитя, младенец великовозрастный. Мне тогда казалось, что у меня с Дмитрием все разладилось. Я была очень сердита на него, и Кулаков — неунывающий, веселый, строящий свои отношения с товарищами легко и просто, оказался хорошим лекарством от уныния. Его звали Бобби Стоптанный Башмак. Туфельки «сорок седьмой растоптанный, тихоокеанские лайнеры». Он был наивным двадцатилетним дошкольником, и мама с папой ему все разрешали. Любовник, наверное, из него получился бы, но представить его мужем, главой семьи я не могла. Бесстержневой, легко поддающийся влияниям, он не мог быть опорой. Он нисколько не удивился, когда я сказала, что у нас с ним ничего не получится.
Валентин Русяев, заведовавший грунтовой лабораторией, был красив. Страшно красив. И умен, и обаятелен. Причем умен без привычного в наши дни «себе на уме». Себя, конечно, не забывал, но и не выпячивал никогда. Я дрогнула. Мне нравилось быть с ним, смотреть на него, слушать его, думать о нем. Вот когда, Дима, тебе пришлось тяжко. Но красота его стала и камнем преткновения. Слишком много бабочек вилось вокруг. Идешь с ним и вздрагиваешь от неожиданного: «Валя, привет!» Оглядываешься — многообещающая девичья улыбка: «Возьми меня!» И он оглядывается. Ему даже было как-то странно, как-то не по себе, что вот он осчастливил меня своим вниманием, а я не мчусь сломя голову на его холостяцкую квартиру, не висну у него на шее. Пока он меня обхаживал, пока я раздумывала, он, походя, соблазнил лучшую мою подругу. Вот тут-то я и остановилась. Нет, сказала я себе, этот мотылек не создан для семейной жизни. Если он сам не бросит меня через год-другой, я все равно изведу себя мыслью, что я у него не одна.
Москвич Виктор Кандрин, кандидат наук, тоже был пригож и симпатичен. Широкий круг интересов, свое мнение. Умел и подать себя, и постоять за себя. Он нравился мне все больше. Но здание, возведенное им уже до большой высоты, рухнуло в один миг, когда он заявил: «Ну, с детьми мы повременим, одного я тебе еще позволю завести, если очень того возжелаешь, но лучше — ни одного». Если бы будущее рисовалось ему крайне пессимистично, в виде всепланетной пустоши после ядерного смерча, я бы его поняла. Но этого не было. Он ждал от будущего того же, что и все, ему виделись те же вершины изобилия. Но он исключал из своего будущего детей как обузу и как ущемление своей личной свободы. Он собирался жить для себя. Мне же это было не нужно. Выйти замуж с зароком не иметь детей — это замедленное самоубийство, то есть позор и гнусность. «Дура ты, — сказала я себе, — чего ты ищешь, мечешься, своевольничаешь, когда у тебя есть человек, на которого во всем можно положиться, которому ты дорога и нужна?» И я сама повалила все воздушные замки.
— Ты мне долго не нравился, — сказала я Диме. — Даже предубеждение было. Увалень, не эрудит. Прямолинеен, как шнур, по которому каменщики ведут кирпичную кладку. Все на лице, читай и радуйся. Твои увлечения меня не трогали. Но почему-то ты всегда оказывался лучше, то есть честнее и надежнее тех, кто мне нравился. Чепуха, говорила я себе, что это за глупости, за расстроенное воображение, так не бывает! Но так было: то, что я пыталась отыскать в таинственном далеке, давно уже находилось рядом.
— М-да. Раскаяния — ни в одном глазу. Одни умолчания.
— Ты удивлен: как я могла? Я тогда была страшно зла на тебя. Ты ведь бросил меня. — Я сдержалась и не употребила более сильное и, как мне казалось, более правдиво отражавшее тот момент слово «предал».
— Никак нет, — отреагировал он. — Я откликнулся на зов партии. Осваивал целинные земли, имею за это правительственные награды. В данном случае твои доводы несостоятельны.
Он никогда не надевал парадный пиджак с орденами. Готова поклясться: он заслужил их. Честнее, чем он, к работе нельзя относиться. Чего же он стеснялся? Не того ли, что многие из его работников, такие же добросовестные и упорные, были обойдены наградами и должностями?
— Были моменты, когда мне становилось очень плохо от того, что кто-то входил в твою жизнь, занимал в ней мое место. Я понимал, что бессилен, что моя любовь, вся моя человеческая сущность не в состоянии помешать тебе поступать по-своему. Но отступить, отказаться от тебя я не мог. Меня влекло к тебе с еще большей силой, и я продолжал верить в тебя. И эта вера меня поддерживала.
— За веру в меня большое спасибо, — поблагодарила я. И умолчала о том, что долгое время для такой уверенности не было оснований…
V
Полчаса в море, потом завтрак на берегу. И громкий вопрос-приглашение Дмитрия:
— Кто желает пойти в путешествие?
— Я! — крикнул Петик.
— И я.
— Построились! — скомандовал глава семьи. — Подравнялись! Грудь вперед, животики вобрали, вобрали! Рубашку заправили в штаны! Вытерли под носом! Шагом марш!
Наш путь лежал через заповедный лес к белокаменной церкви, примостившейся на скалистом уступе, к Байдарским воротам, поставленным на перевале на старой ялтинско-севастопольской дороге, к зеленому плоскогорью, начинавшемуся по ту сторону водораздела. Тропа повела нас, и через полчаса мы пересекли севастопольскую магистраль. Склон густо порос мелколесьем. Эти леса, конечно же, имели водоохранное значение и защищали склон от эрозии. Подъем был довольно крутой, и мы часто переходили на тропу, которая штурмовала склон не в лоб, а вилась серпантинами. Мелколесье давало тень, но не прохладу.
— Божья коровка! Божья коровка! — заголосил Петик. И полились вопросы, порожденные нескончаемой ребячьей любознательностью.
— А муравьи хорошие?
— Хорошие, они очищают лес от мусора.
— А гусеницы хорошие? Бабочки хорошие?
Я попыталась объяснить ему, что одни животные и насекомые полезны человеку, другие причиняют ему вред. Сами же по себе представители животного мира не могут быть ни хорошими, ни плохими. Он слушал внимательно и силился понять. Не понял и счел нужным переменить тему.
— Папа, дядя-штангист поднимет этот камень? — Он показал на обломок скалы объемом более кубометра.
— Что ты! Этот валун его раздавит.
— А ты поднимешь?
Отцу, значит, он отдавал предпочтение перед всесильным дядей-штангистом. Правильно, мальчик!
— Я тоже не смогу. Посмотри, какой камень гладкий, не за что ухватиться.
— Когда я был солдатом, в меня попала пуля. Но я не заплакал, и командир сказал: «Какой Петя герой у нас!» — заявил он вдруг.
— Командир сказал другое: «Какой Петя у нас выдумщик!»
— Нет, герой!
— Нет, выдумщик!
Мы засмеялись, и мальчик перевел разговор в новое русло:
— Папа, кто сильнее, я или кит?
— Кит большой, как дом. Он сильнее.
— Кто может победить кита? Акула? Осьминог?
— Нет.
— А подводная лодка может потопить кита?
— Подводные лодки не воюют с китами.
— Мама, чтобы стать милиционером, я должен сильно тебя любить?
— Конечно.
— Папа, понеси меня.
— Это что за новости? — запротестовала я. — Как же ты станешь сильным, тем более милиционером?
— Мне по горе трудно идти, у меня ноги скользкие.
Церковь приблизилась и теперь нависала над нами. Не во всех оконных проемах были рамы.
— Привал! — скомандовал Дмитрий. — Команде разуться, пить пепси-колу и веселиться!
Я села на мягкую пахучую траву. Прекрасно было в этом лесу. Безлюдно, тихо и не сумрачно, светло. Если бы еще разрешалось запалить костер! Нет, просто я слишком многого хочу. Взору открылись морские дали. Море стало большим-большим и синим до черноты. Пять или шесть судов плыли к неведомым причалам.
— Ты видела лесопосадки на правой дамбе Южного Голодностепского канала? — спросил Дмитрий. — Они помощнее этих лесов. Какие там тополя, какие ясени! И птиц в них поболе.
Его чиройлиерский патриотизм был неискореним. Он бесконечно восхищался всем тем, к чему имел хоть малейшее личное отношение. Впрочем, а как же иначе? Места, где мы родились и выросли, дороги нам вовсе не тем, что они лучше, красивее других, этого-то как раз чаще всего и нет. Они дороги нам глубокими корнями памяти. Сама матушка-земля всегда начинается с места, где человек родился, рос, набирался ума-разума. Она и разрастается в необъятный земной шар тем быстрее, чем более прочные корни пускает человек в родном городе или селе.
Дмитрий заигрался с сыном. А я смотрела на него и силилась угадать, часто ли его мысли улетают в Чиройлиер. Кажется, он не раздваивался и ему нравился этот крутой склон и сын, донимавший его милыми несуразностями. «Он-то при деле, — подумала я. — Почему я до сих пор не при деле?»
Отдышавшись, мы возобновили восхождение и вскоре стояли на площади перед церковью. Миниатюрным здание казалось только издали. Вблизи оно впечатляло совершенными пропорциями и монументальностью, хотя и оставалось небольшим по размерам сооружением. Совершенство человеческого тела — это ведь прежде всего идеальные пропорции. Так было и с этой церковью. Неухоженность здания, однако, воспринималась как диссонанс. Росписи потускнели, поистлели, местами отслоились вместе со штукатуркой. Я заглянула в черный оконный проем. Из пустого помещения дохнуло затхлостью. Я отпрянула. Увидела привинченную к стене табличку, объявлявшую, что объект охраняется государством. Чем так охранять, лучше вообще не охранять, а табличку снять. В Самарканде и Бухаре памятники зодчества действительно оберегаются. Я сказала об этом Дмитрию. Он рассеянно кивнул. Он-то прекрасно знал судьбу бесхозного имущества. Металл становится металлоломом, дерево — гнилой трухой.
— Пошли отсюда, — наконец сказал он. — Кому-то за это надо по шее надавать…
— Это не наш стиль работы! — сказала я, подстраиваясь под его настроение.
Он смерил меня взглядом, расшифровать который не составляло труда: «Много ты понимаешь! Все наши беды — от миндальничания, от того, что мы, и я в том числе, слишком много уговариваем и слишком поздно разрешаем себе власть употребить. Воспитываем и разъясняем, когда давно пора с работы гнать да полгода не принимать никуда, чтобы проняло». Сам он с некоторых пор не останавливался перед крутыми решениями, и не сожалел потом ни об одном из них. Есть терапия, говорил он, а есть хирургия. У них разное назначение, но медицина одинаково нуждается и в том, и в другом методе исцеления.
От церкви мы направились вверх. Петик мужественно вышагивал рядом с отцом. На перевале, у Байдарских ворот, стояла харчевня, стилизованная под старинную корчму. За ней были поставлены островерхие шалаши с колодами-столами. По замыслу общепитовцев, они должны были привлекать путников. Но официанты ленились совершать дальние рейсы, и эти нехитрые сооружения пустовали. В самой же харчевне мы с трудом разыскали свободные места.
— Пьем только пепси-колу! — объявила я.
Дима пожал плечами. Все пили вино, а мы наливали в бокалы пузырящуюся пепси-колу и ели прекрасную баранину.
— Терем-теремок, кто в тереме живет? — спросила я у Пети.
— Мама, это и есть теремок?
— Самый настоящий. Видишь, какие толстые бревна уложены в стены? Медведь их никогда не разломает.
— А волк?
— Тем более.
— А баба-яга?
Я ответила уклончиво. Высокая концентрация сил зла, коварство и хитрость делали бабу-ягу способной на непредсказуемые поступки.
Наверху было раздолье. Мы прошагали по плоскогорью километра два, наткнулись на березовую рощу и легли прямо на траву. В кронах шумел ветер, листья трепетали, свет и солнце были щедро разлиты по роще, белые стволы умиляли. Жизнь была хороша, так хороша, что не верилось в это.
Мы поднялись, наверное, метров на 800—900, но высота ощущалась как простор, как более сильный поток света, как обнаженность пространства на многие километры вокруг. Мы слушали природу. Березовая роща вмещала в себя целый мир. Мы растворялись в нем, потом вновь выкристаллизовывались в самих себя, но были уже не прежние, а обновленные, более чувствительные к своей и чужой боли, более нетерпимые к грубости, неискренности, эгоизму. Лес, трава, ветер, лето. Казалось бы, что может быть естественнее близости человека к ним? А мы отделили и отдалили себя от них, и теперь, очутившись в их объятиях, изумляемся их первозданной стати, и красоте, и целебной силе. Я вспомнила «Березовую рощу» Куинджи, полотно удивительное по передаче летнего света, летнего радостного потока жизни. Эта картина в Третьяковке потрясла меня. Березовая роща, которая шумела вокруг нас, ничем не отличалась от куинджевской.
Тишина была долгой-долгой, такой долгой, что, казалось, не кончится никогда. Петик спал на пиджаке Димы. Солнце медленно клонилось к закату. Когда Петик проснулся, тишина кончилась. Он заерзал, поднялся, забегал, как заведенный. Он бегал между белых плотных стволов берез и заливался смехом, как колокольчик. Избыток веселых ребячьих сил бил через край. Он падал с разбега на траву, кувыркался, мгновенно извозил костюмчик. Теперь он был в своей стихии. Неугомонный чертенок, придумывающий себе все новые игры. Я любила его безумно. Страшно хотелось схватить его, прижать к груди, заласкать. Но этого я не могла себе позволить. Я воспитывала не маменькиного сыночка, а человека сильного, самостоятельного, которому в будущем для восхождения по лестнице жизни придется черпать вдохновение и силы из багажа, сложившегося и в эти непоседливые и милые годы. Наконец отец изловил сорванца и водрузил себе на плечо. Объявил:
— Будем спускаться!
Спуск занял около часа. Лес стоял черной непроницаемой стеной. Взошла луна. Мы прекрасно ориентировались, но простора вокруг уже не было, ночь скрадывала пространство.
— Папа, луна — это дыня? — спросил Петя. — Давай съедим ее. Пожалуйста, достань!
— Нет, ты достань. Ты сидишь на моем плече, и теперь выше меня.
— Нет, достань ты, я не умею.
— Нет ты. Хочешь, я подсажу тебя на самое высокое дерево?
Мальчик задумался, сможет ли он достать луну с высокого дерева. Луна все-таки была выше даже самой высокой горы. Она плавала высоко-высоко в небе.
— Какой ты хитрый! Ты сам достань луну.
— Почему ты решил, что я умею доставать луну? — спросил Дмитрий.
— Потому что ты вон какой сильный.
Они еще попрепирались, кому же доставать луну, а потом сошлись на мнении, что лучше все же ее не трогать. Дома я сразу же принялась за стряпню. Яичница с колбасой была куда реальнее журавля в небе — большой желтой луны, так похожей на спелую дыню.
VI
В Чиройлиере Голубева связали бы с Форосом за несколько минут. В Форосе ему дали Чиройлиер через сутки. Сабит Тураевич Курбанов, секретарь партийного комитета его треста, был на посту и взял трубку сразу. И зарокотали сильные мужские голоса.
— Сабит Тураевич, Голубев вас приветствует! Как здоровье, успехи? Пороху в пороховнице достаточно?
— О, родной голос! Дима, дорогой, здравствуй! У нас здесь все в порядке. Годы, правда, пригибают к земле, но я их лишаю слова: молчите, окаянные! Как супруга, сын? Как море?
— Лучше не бывает.
— Это у тебя первая вылазка на цивильные берега?
— Первая, Сабит Тураевич.
— Я тоже считал когда-то, что нет мне износу, а износ идет, часики тикают. Сколько осталось? Вот вопрос вопросов. Но ближе к делу. Мне бы твои годы, я бы навел шорох на тамошнем пляже.
— Сабит Тураевич, какая-то четверть века разницы — о чем разговор! Ваше юношеское восприятие жизни позволяет и возраст ваш считать комсомольским.
— А думаешь, я по-другому думаю? Я думаю точно так же!
— За что и люблю я вас, Сабит Тураевич!
— Как, восточный этикет мы соблюли? — Курбанов раскатисто рассмеялся. — Теперь выкладывай, в связи с чем осчастливил меня звонком.
— Новости ваши мне интересны, Сабит Тураевич. О лотковиках не спрашиваю, у них конвейер. Как бетон укладываете на насосной?
— Последняя пятидневка дала четыреста семь кубиков.
— А за предыдущую уложено четыреста двадцать три! Садитесь, братцы, а надо восходить.
— Лес нас держит, плотники на голодном пайке.
— Долгову, пожалуйста, капните керосинчику на его длинные волосы. И напомните: я с ним о плитах-оболочках разговор вел и о металлической опалубке не в просветительских целях, а чтобы он конкретные выводы для себя сделал. Пусть крутится!
— Подбодрю мужичка.
— Трансформатор когда ждете?
— Запорожье отгрузило две недели назад. Хаваст готов принять.
— Вы тоже готовы?
— Все три моста усилили двутаврами. По нашей радиограмме Нурек вышлет спецтрейлер. Как договаривались.
— Скорее бы. Пока эта деточка в пути, мне неспокойно.
— А нам, думаешь, спокойно? Нам тоже неспокойно. Чмокнется где-нибудь, и на пуске первых насосов будущей весной крест можно ставить.
— Теперь расскажите о Кариме. Кто-нибудь к нему ездил?
— Конечно. Я сам ездил, дело-то человеческое. Он в прекрасной палате. А вот диагноз… То, что он был богатырь, сослужило плохую службу. Он поздно почувствовал недомогание. Девяносто процентов легких — это уже опухоль. Не какая-нибудь горошина, а лепешка, таз. Знаешь, как он дышит? Его грудь — это вибростол.
— Тяжело слышать это. Сколько совхозов мы с ним построили! Где я возьму такого главного инженера? В хорошем саду таких деревьев одно-два, больше не бывает. Он сам… догадывается?
— Уверен, что у него гнойный плеврит.
— Он ведь двухпудовку и левой, и правой рукой по десять раз выжимал. Надо же… Вы звоните ему каждый день. С ним кто, жена?
— И родители. Карим же ташкентский парень.
— Вы держите его в курсе всех трестовских дел. Чаще спрашивайте совета. Надо ли, не надо, а спрашивайте. Пусть знает, что мы со дня на день ждем его возвращения в строй. Ну, крепко вас обнимаю, Сабит Тураевич!
— И я тебя обнимаю, Дима. Мой тебе наказ: удели первостепенное внимание прелестям Южного берега. Знаешь что? Нырни-ка в Бахчисарай, не пожалеешь.
Дмитрий Павлович немного постоял, собираясь с мыслями. То, что ташкентские медики подтвердили диагноз, поставленный Кариму Иргашеву, способному тридцатитрехлетнему, никогда не жалевшему себя в работе инженеру, очень его расстроило. Здесь контроль над ситуацией ускользал из его рук. Вмешаться и помочь он не мог, и никто из людей, наверное, уже не мог помочь. Ощущать бессилие и было тяжелее всего.
Дмитрий Павлович вспомнил, как мучительно умирал от рака крови его школьный товарищ. Тогда известный профессор, продливший больному жизнь на три года, в ответ на вопрос: «Неужели ничем нельзя помочь?» сказал: «Наука зафиксировала четыре случая выздоровления больных, оказавшихся в таком состоянии. Но объяснить ни один из них не сумела». Случаются, мол, чудеса, но не мы их творцы. Что может быть горше безысходности? Да, жизнь строго избирательна и тогда, когда щедро несет свои радости, и тогда, когда обрушивает свои беды: и правый, и виноватый — падай, коль отмечен жребием! Безадресного счастья или несчастья не бывает.
Потом он представил Сабита Тураевича, только что положившего трубку на рычаг, и улыбнулся. Он как бы воочию увидел массивную фигуру Курбанова, средоточие силы, сгусток энергии. И словно ощутил на себе его умный, проницательный взгляд. Человеку семьдесят два, но ни о каком заслуженном отдыхе слышать не хочет. Слишком много впереди этого заслуженного отдыха, бесконечно много. Сабит Тураевич, как и сам Дмитрий Павлович, был боец. И когда они вместе, сообща брались за дело, получался таран большой мощи. И многим спокойно жилось за их широкими, крепкими спинами. А многим, напротив, становилось зябко и неуютно в их обществе.
Внизу его ждали Ольга и Петик.
— Ну, как, полегчало? — спросила Оля.
— Все-то ты про меня знаешь.
— И даже больше…
VII
Мы присоединились к санаторной экскурсии. Автобус мчался в Бахчисарай. Земли легендарной Таврии открывали нам свои просторы. Леса стояли темные, плотные, как монолит. Пригороды Севастополя, краешек Северной бухты, Сапун-гора, невысокие холмы вокруг этого города давали воображению богатейшую пищу. Я представила вражескую силу, пришедшую с запада, и нашу силу, и пламя, и гром столкновений. Их нашествие тут увяло, сила, толкавшая фашистов вперед, надломилась. А мы, не сумевшие удержать Крым в сорок первом, потом освоили суровую науку побеждать и через три года вышибли отсюда врага. Не лезь к нам с войной, не навязывай свой образ жизни!
Я вспомнила картину Дейнеки «Оборона Севастополя» — штыковую атаку черноморцев на стену зеленых мундиров. Их холодную, святую ярость. Их ненависть и непреклонность. Это была ярость, ненависть и непреклонность народа, гибельная для врага. Я жадно всматривалась в кварталы Севастополя, открывшиеся с обводного шоссе. Но видела обыкновенные дома и улицы, обычных людей. И я поняла: здесь надо не столько смотреть, сколько думать, вспоминать. Здесь надо осмысливать историю.
За Севастополем начался подъем. Пологие холмы, изгибаясь, сопровождали автостраду. Они были изрыты воронками, которые время превратило в безобидные ямки. Виноградные лозы, табак, эфироносы, яблоневые, грушевые, черешневые сады взбегали на холмы, и им не было конца. Все это были молодые, ухоженные плантации. Потом я увидела новый город. Двенадцати- и девятиэтажные дома стояли у дороги вольготно, непринужденно, как юноши, замершие на бегу. За ними стояли пятиэтажные дома.
— Бахчисарай, — объявил экскурсовод.
Город стремился вырваться и вырвался-таки из ущелья на равнину. Здесь горы не сдавливали ему бока, не хватали за руки. Это был современный симпатичный город, европейский, рациональный, равно одаривавший комфортом всех своих жителей. «Про новый Ташкент тоже можно сказать, что это европейский город, грузовики вывезли на свалку колоритную Азию вместе с остатками сырцовых стен», — подумала я. Но было ли это верно? Влияние традиций сохранялось, и проследить преемственность не составляло труда.
— Здесь когда-то мой батя хаживал, — сказал Дмитрий. — Конец двадцатых годов, даль несусветная. Он был тогда моложе меня.
— Красив, свободен, неотразим! — подтвердила я.
Павел Кузьмич рассказывал, как он начинал здесь свою трудовую биографию. В одном из ущелий за Бахчисараем до сих пор стоят его плотинки, две удачные, за которыми и сейчас плещется вода, а третья сухая: вода ушла по карстовым пещерам. Он управлял тогда американским катком. Технарь, техническая интеллигенция. Татары из окрестных аулов съезжались посмотреть на «палван-машину». Зарплата у Павла Кузьмича была 80 рублей, и стол и квартира обходились в пятнадцать. Пятнадцать же рублей стоили две бутылки марочного вина из массандровских подвалов, которые Павел Кузьмич преподнес своему отцу на день рождения.
— Батя обожал французскую борьбу и боролся на татарских свадьбах. — Дмитрию было приятно рассказывать об отце. — Коронным его приемом был «тур де бра» — бросок через бедро. Он проводил его так филигранно, что, бывало, поверженные борцы плакали. Один все допытывался: покажи этот прием, научи. Отец показывал, а татарин не верил, что все так просто, что мастер может любезно раскрыть свои секреты.
— И призы получал отец?
— Получал. Но самый почетный и дорогой приз вручали сильнейшему борцу — тяжеловесу, даже если до него не доходила очередь и он не боролся. То, что сильнейшему не находилось соперника, только подчеркивало его громкие титулы.
— Это отец научил тебя бороться?
— Кое-что он показал, но куда сильнее повлияли его рассказы. Как он выходил в круг с рослым и сильным противником, усыплял его бдительность тактическим отступлением, подводил к бугорку, резко бросал через бедро и припечатывал к земле на обе лопатки. Это были вдохновенные рассказы. Отец увлекался, к нему словно возвращалась молодость.
Я вспомнила Павла Кузьмича, невысокого коренастого, словно вросшего в землю седовласого человека, всегда приветливого и доброжелательного. Он напоминал Диму и вместе с тем разительно на него не походил. Я вспомнила его, и во мне шевельнулось чувство вины. Я ничем никогда не обидела Павла Кузьмича, — помилуй бог! Но, наверное, я могла быть и теплее, и добрее к своему милому свекру. Могли мы и чаще бывать у родителей Димы. Но мы чаще навещали моих родителей, — Дима не перечил.
Новый Бахчисарай кончился. Мы пересекли свободное пространство, дорога разветвилась, и та, на которую мы повернули, стала втягиваться в долину, быстро сузившуюся до ущелья. Тут нас и обступили домики старого Бахчисарая, столицы некогда грозного ханства. Глинобитные хижины лепились друг к другу, и только знаменитый ханский дворец стоял свободно, взметнув к теплому небу кирпичную вязь минаретов. Оглядев дворец и не найдя ничего выдающегося, я поняла: знаменит он более всего тем, что наш поэт развернул в его покоях действие одной из своих поэм. И паломничество туристов было паломничеством к Пушкину.
Мы дождались своей очереди и медленно обошли анфилады комнат. Чужая, не во всем понятная жизнь открылась нам, и чужая роскошь, и неумение этой роскошью пользоваться. Из объяснений экскурсовода я запомнила только, что ни одна из пленниц никогда не убегала из дворца. Девушки смирялись со своей участью. И если их судьба была услаждать хана, они его услаждали. Все трагедии, разыгравшиеся здесь, были трагедиями безысходности. Я представила себя пленницей и содрогнулась.
Воспетый поэтом настенный фонтан высачивал, капля за каплей, слезы скорби. Эти слезы были ответом на вопрос о том, что значили для пленниц ханская любовь и расположение. «Как дико все это», — подумала я. Как дико жили люди еще совсем недавно. Миниатюрный, плачущий горючими слезами фонтан, опять-таки просуществовал до наших дней благодаря могучей пушкинской музе.
У меня осталось такое ощущение, словно я побывала в другом мире, люди которого только внешне походили на наших. А то, как эти люди вели себя, что знали, что умели, как чувствовали, было разительно далеко от нынешних возможностей человека, от нынешних норм морали. Однако те времена от восьмидесятых годов двадцатого века отделяло не столь уж большое расстояние. И то, как быстро это расстояние было преодолено человеком, с какой жадностью и энергией он расширял свое влияние на мать-природу, возвышая себя, утверждая себя над прочим живым, да и не только живым миром, вызывало изумление и восхищение.
От ханского дворца наш путь лежал в горы, в причудливый каньон, по дну которого струился мутный поток. Отвесные, изрытые ветром стены каньона являла собой внушительное зрелище. Деревья боролись за каждый метр пространства, и только вертикальные борта ущелья не оставляли им никакого шанса выжить. Мы углублялись в ущелье по широкой тропе. Жадно озирались. Старались запомнить многообразие красок, вобрать в себя красоту места. Вдруг нам открылся монастырь, вернее, развалины некогда внушительного культового сооружения. Землетрясение в прошлом веке нанесло ему удар, от которого он уже не оправился. Фасад рухнул, развалины разобрали на кирпичи. А стена, опиравшаяся на борт ущелья и поднимавшаяся с ним вместе, сохранилась. И росписи все еще были не подвластны времени. На нас смотрели надменные лики святых. Живописцу удалось передать непомерное честолюбие, одетое в тогу лицемернейшего смирения. Человеческая натура все это вмещала в себя и, я знала, могла вместить еще многое другое…
По витой каменной лестнице мы поднялись в кельи, высеченные в хладном камне. Узкие стрельчатые окна, высота, прочные запоры, наверное, позволяли переждать короткий набег. Но этот христианский монастырь иноверцы тревожили мало, у них была возможность не оставить здесь камня на камне. Скорее всего, монастырь выполнял какие-то посреднические, торговые функции, и это защищало надежнее массивных стен. Кельи были мрачные. В них никогда не заглядывало солнце. Здесь люди бесконечно смиряли себя, мечтая о кратком миге единения с богом. Но открывалось ли им божественное? Не беру на себя смелость сказать: «Нет». Скажу: «Едва ли». Жизнь проходила в ожидании, в приближении к зыбкой цели, в постижении непостижимого. Жизнь проходила без пользы, и следующему поколению было не на что опереться. Застой длился веками.
Я вдруг поняла, о чем думает Дмитрий, стоящий у окна-бойницы. Он представлял себе нападающих, которые карабкались по крутому склону, и себя, натягивающего тугую тетиву лука, и свист посланной вниз стрелы, и ее погружение в чье-то не ожидающее боли тело. И представлял себя, бросающего вниз камни, льющего кипяток. Он ставил себя на место осажденных и защищался. «Какой ты еще мальчик! — подумала я. — То, что ты переживаешь сейчас, ты не расскажешь ни мне, ни сыну».
За монастырем ущелье повернуло налево, лес сомкнулся, потом разомкнулся, мшистые орешины и тополя уступили место веселому подлеску. Стало видно, что ущелье скоро кончится. На крутизне тропа запетляла серпантинами, ткнулась в крепостную, выложенную из тесаного камня стену, нырнула в дверной проем и пропала в каменистом дворике. Склон ущелья здесь был покрыт правильными рядами черных оконных проемов. Пещерный город смотрел на нас давно погасшими печальными глазами. Дальше, на самом верху, на неприступной скале, когда-то стояли жилища и храмы и жило 10—12 тысяч человек. Они могли обороняться от вражеских орд год-другой. Вода здесь была, и продолжительность осады определялась запасами продовольствия.
Мы поднялись наверх, на водораздел. Ровное пространство сплошь покрывали развалины и кусты кизила. Через двести метров начиналось новое ущелье, параллельное тому, по которому мы пришли. Напасть на город можно было, лишь продвигаясь с предосторожностями по хребту. Но тут на пути врага вставала мощная стена с тремя башнями. Она была преодолена лишь однажды. Но этого оказалось достаточно, чтобы превратить город в руины.
С самой высокой точки хребта открывалась вся горная страна. С нашим Тянь-Шанем она не шла в сравнение. Но даже кусочек, краешек моря увидеть отсюда было нельзя.
VIII
Мы досыта наплавались, и на берегу Дима сказал:
— Великое кручение ждет меня в Чиройлиере! Карусель подана!
Он все время возвращался мыслью к пуску двух насосов в мае — июне будущего года. Он уже соразмерял свою жизнь с ритмом работы, который бы обеспечивал выполнение пускового графика. Иного и быть не могло. То, чем ему предстояло руководить после отпуска, было не столько большой работой, сколько сражением. Склонить чашу весов в его пользу могли, однако, не смелость, быстрота и натиск, важные сами по себе, а четкая, умная, отвечающая духу времени постановка дела.
Он это понимал, но понимал не так, как понимала я. Он знал, что обязан обеспечить успех при любом стечении обстоятельств, подразумевая под этим существующее положение вещей, далекое от желаемого: ограниченность своих прав на хозяйственную инициативу и большую, а подчас и решающую зависимость от поставщиков. Я же сознательно делала упор на методы, стиль. На организационную сторону и инициативу. Если добиться порядка, а затем неукоснительно его соблюдать, то достижение цели облегчится чрезвычайно. От одного неглупого человека я слыхала, что сам порядок невидим, как невидим воздух, которым мы дышим. Зато каждому заметно его отсутствие.
На всех наших стройках отсутствие порядка было, мягко говоря, весьма заметно. С некоторых пор оно воспринималось как норма, а не как отклонение от нее. Расползание вширь, ничем не сдерживаемый рост незавершенных работ, аритмия в материальном обеспечении делали необычайно трудным ввод в срок даже важнейших объектов. Объекты же рангом поменьше возводились вообще в непредсказуемые сроки. Сейчас строители осваивали средства, отчитывались за объемы выполненных работ. Это был путь наименьшего сопротивления, и они ступили на него с большой охотой. Следовало же найти и применить другие критерии, способные стимулировать ввод объектов в эксплуатацию в заданные сроки и даже с опережением их, придать строительному процессу новое ускорение. Научиться снабжать стройки по потребности. Поставить дело так, чтобы строители отчитывались за конечный результат, а не за количество уложенного кирпича и забитых гвоздей. Тут Дима со мной соглашался, тут единение взглядов было полное. Не раз он говорил (и в голосе его звучало горячее убеждение!), что никто лучше самих строителей не знает, что выполнить работы на один миллион рублей или ввести в эксплуатацию объект стоимостью в миллион рублей далеко не одно и то же: первое вообще не представляет сложности, второе может и до инфаркта довести.
В какой-то мере разрастание вширь в «Голодностепстрое» было преодолено, за строительным валом мы не гнались столь откровенно, как другие. Но мы гнались за вводом орошаемых земель. По идее мы должны были вводить новые целинные совхозы комплексно — с готовыми поселками, с действующей ирригационной и мелиоративной сетью. Со всем, что нужно для нормального производственного процесса и культурного досуга. Когда главком руководил Акоп Абрамович Саркисов, человек редких душевных качеств, это нам удавалось, и новые совхозы себя окупали. Но после его смерти что-то разладилось, требовательность упала, в моде стали половинчатые решения. Теперь мы в первую очередь строили ирригационную сеть и вводили земли. Остальное могло и подождать. Так образовался разрыв между вводом в эксплуатацию орошаемых массивов и закреплением в целинных совхозах переселенцев. Разрыв этот становился все более болезненным. Жилых домов, детских садов и всего того, что должно сопутствовать человеку, все больше не хватало, и люди, приехавшие с семьями издалека, высказывали справедливые претензии, а часто и уезжали, недовольные. Изменить что-либо в сложившейся практике было очень трудно. И на землях, которые Дима напоит водой из своих первых насосов, еще не будет добротных поселков. В лучшем случае поднимутся полевые станы для выездных бригад. Тем не менее срок подачи воды определен, монтаж лотковых оросителей и закрытых дрен развернулся, и пусковые объекты товарищу Голубеву надо будет сдать в срок.
— У меня есть два предложения относительно твоей насосной, — сказала я.
— Интересно. Я, понимаешь, рад, что и здесь, у синего моря, моя насосная не дает тебе покоя. Не правильнее ли, в таком случае, говорить о нашей насосной? Выкладывай, что задумала.
— Первое касается только тебя как руководителя. Помнишь, как долго ты не мог избавиться от привычки лично встречать каждый автокран, возвращающийся вечером в гараж. Ты уходил только после того, когда приезжала последняя машина.
— Это была потребность. Если я не знал, все ли мои люди благополучно закончили трудовой день, мне не спалось.
— Но это обязанность заведующего гаражом, и незачем дублировать человека, несущего всю полноту ответственности за свое хозяйство. Когда ты постиг, что нельзя, более того, вредно за все браться самому, что всех амбразур одной грудью никогда не закроешь, что подчиненные, если им полностью доверять, способны на большее, чем если им диктовать каждый их шаг, ты как руководитель вырос, и дела у тебя пошли веселее.
— Помню эти перипетии. Психологически разделить ответственность с подчиненными было совсем не легко. Как я сдерживал себя, чтобы самому не кидаться в каждый проран! Господи, я был на грани раздвоения личности!
— И заметь, только после того, как ты каждому определил круг его обязанностей и перестал самовольно в этот круг захаживать, в твоем строительно-монтажном управлении воцарился порядок, — напомнила я, не принимая его шутливого тона. — Когда ты за все брался сам, тебе не хватало пятнадцатичасового рабочего дня. Когда ты с каждого начальника участка, с каждого прораба и мастера, как и следует, стал спрашивать его часть дела, когда ты каждому дал почувствовать себя хозяином на своем рабочем месте, ты стал укладываться в положенные восемь часов. Текучка отдалилась от тебя, и ты смог охватить взором всю стройку, задуматься над перспективами. Тогда, и обрати на это особое внимание, ты, наконец, вспомнил, что у тебя есть семья.
— Вот чем были продиктованы твои трогательные заботы!
— Поручи и обеспечь всем необходимым, проконтролируй и помоги! Но не взваливай все на свои плечи. Когда ты стал доверять подчиненным, у тебя высвободилось время, и ты увидел свои проблемы. Ты пришел к хорошей идее организовать конвейер на монтаже лотков. Рассчитал, сколько на каждой операции должно быть занято людей, механизмов. Обратился за содействием к заводу-изготовителю и транспортникам, заручился их обязательством выдерживать график поставок. Остальное же было в твоих руках. Ты собрал людей, объяснил им преимущества конвейера, поставил перед каждым звеном конкретную задачу. И как у тебя все пошло, как загорелось! Вместо четырех бригад оказалось достаточно трех. Ты высвободил целую бригаду! Вспомни, именно в те дни в тебе проснулся рационализатор, и твои предложения были осуществлены предельно быстро. Вспомни, как ты радовался, когда покорил эту высоту!
— Это было хорошее чувство.
— Вспомни, как подтянулись твои люди, когда конвейер заработал без сбоев. Исчезли болтовня, разгильдяйство. Восторжествовал порядок. И если бы тебе пришлось сдать эти позиции, тебе бы не простили. Не ты один — все исполнители гордились одержанной победой, относя ее на свой личный счет. Не каждый за себя, не каждый сам по себе, а четкость и согласованность усилий, взаимодействие и коллективизм!
— Что-то много ты говоришь! — засмеялся Дима. — Я начинаю догадываться!
— Вспомни, как любил твой лотковый конвейер покойный Саркисов. Кого только Акоп Абрамович не привозил к тебе — американцев, французов, итальянцев, сирийцев, кубинцев! Как он поддерживал все то, что укрепляло порядок! Вот это был человек.
— Акоп был человек, — согласился Дмитрий. — Что ж, повторим пройденное. Конвейер на насосной действительно может принести большие перемены.
— Молодец, — похвалила я. — Какой ты молодец! На лету схватываешь. После того как ты отладил конвейер на монтаже лотков, тебе дали трест. Твою инициативу одобрили, а тебя повысили по службе. По труду и честь, как говорят в таких случаях.
— Новых повышений не жажду.
— Знаю. Ты и тогда не мечтал о движении вверх, ты мечтал о быстром продвижении вперед. Я, например, считаю, что если ты образцово поставишь дело на насосной, тебя могут пригласить в главк заместителем начальника.
— А главк — это Ташкент. Прицел у тебя постоянный!
— Ты опять пренебрегаешь моими нуждами. Ты очень обижаешь меня этим. Я не могу работать в Чиройлиере. Но речь сейчас не об этом, а об организации конвейера на твоей насосной. Я это давно обдумываю.
— Олечка, в этом направлении мы уже работаем. Я разве тебе не говорил?
Я заморгала. Никак не ожидала, что ломлюсь в открытую дверь. Сказала:
— Растешь, Дима. Подсказка жены тебе становится не нужна.
— Напротив, дорогая. Чем больше умеешь, тем сильнее опасаешься что-нибудь упустить, где-нибудь недоглядеть. Я прекрасно помню, что твой опыт, твой широкий взгляд на вещи в прошлом предостерегли меня от многих ошибок. Одного конвейера, Олечка, на сей раз нам будет маловато, он все наши проблемы не решит. Мы будем шире разворачивать дело. Есть ведь заводы — поставщики оборудования и материалов, есть проектировщики, транспортные организации. Чтобы в этих условиях наш конвейер функционировал четко, надо взять на вооружение рабочую эстафету. Пусть обязательства нашего коллектива станут обязательствами смежников, всех, кто причастен к стройке. Если высокая ответственность за конечный результат свяжет всех исполнителей, представляешь, какое ускорение получит стройка?
— То, что вы придумали, лучше, емче.
— Мы просто сделали правильные выводы из сложившихся обстоятельств.
— Кстати, продумай, могут ли твои бетонщики вместе с плотниками, арматурщиками, крановщиками взять бригадный подряд на бетонные работы. Такой подряд прекрасно впишется в вашу рабочую эстафету.
— Олечка, и это осуществимо. — Он не сказал, что и это ее предложение несколько запоздало, не разочаровал ее во второй раз. Было бы нехорошо, если бы у нее сложилось мнение, что он не нуждается в ее помощи. — А вот твоя давняя мечта о моем переводе в главк, к сожалению, эфемерна. Руководить делом издали, из прохладного кабинета и мягкого кресла, я, видишь ли, не обучен. На это и без меня охотников много.
— А мои способности пусть хиреют и чахнут, да? К твоему сведению, они нужны людям не меньше, чем твои.
— Согласен, согласен! Но, Олечка, успех рабочей эстафеты только укрепит мое положение в Чиройлиере.
— Пусть, — сказала я. — Ты уже слишком крупен для Чиройлиера. Ты давно перерос его.
— Переросток, второгодник! — раскатисто рассмеялся он.
Мне вдруг стало грустно-грустно. Он разучился понимать меня. Раньше понимал, а теперь разучился. Да, я думаю и о себе. Не вижу в этом ничего предосудительного, это моя обязанность, и никто за меня ее не выполнит. Дмитрий задумался. Сложно ему было отвечать на отдельные мои вопросы. Моя правота была прессом, которого он боялся. «Пресс — это хорошо, — подумала я. — Гарантирует безотходное производство». И побежала к морю.
IX
Ночью Дмитрию Павловичу ничто не мешало думать. Затихали машины, успокаивался телефон, засыпали люди, устанавливалась тишина, и мыслям открывался простор необъятный. И мысли были не дневные, приземленные, обращавшиеся вокруг сиюминутных вопросов, а совсем другие, часто не знавшие ограничительных рамок. Можно было спокойно обдумывать свои чиройлиерские проблемы, а можно было затронуть и судьбу всего рода человеческого.
Окно и дверь в лоджию были открыты, и доносилось далекое ритмичное дыхание моря. Жена давно спала. Он, приподнявшись на локте, долго смотрел на ее лицо. Она, его Ольга, когда нужно, умеет копать глубоко. Он подумал об этом с гордостью, радуясь ее подсказке. Да, ее способности были иными, не похожими на его. Она глубже проникала во взаимосвязь явлений, лучше и быстрее обобщала. Ее способности можно было назвать исследовательскими, его — организаторскими. Он всегда уважал в людях способности и умение, отличные от его собственных. Самолюбие его не уязвлялось этим нисколько. Грош цена была бы ему как руководителю, если бы он, опираясь на подчиненных, не пользовался широко их идеями, инициативой, не поощрял в них творческое начало.
Идея, к которой пришли сначала он, а потом и она, заслуживала того, чтобы над нею поработать. Если всех, от кого зависит судьба первой Джизакской насосной, связать едиными пусковыми обязательствами, темпы строительства можно повысить. Конечно, трест столкнется с непредвиденным. Но взаимодействие приблизит успех. А ради успеха кто посчитается с дополнительными затратами нервной энергии?
Обсуждая эту идею, они выделили главное — необходимость помогать друг другу, а не предъявлять бесконечные претензии за упущения и недоделки. Взаимодействие — вот в чем соль. Он опять видел то, что, собственно, давно должен был увидеть. В Чиройлиере способности его жены никогда не раскроются. Канцелярская сухая работа не для нее. Усилием воли он погасил эту мысль, как крамольную, грозящую взорвать отлаженную систему их отношений. Именно об этом Оля без устали напоминала ему при каждом удобном случае и даже тогда, когда повторять одно и то же становилось неудобно. «Не время, — сказал он себе, — мы семья, нам надлежит быть вместе». Если бы она умела руководить людьми, ей бы цены не было в Чиройлиере. «Ей и так цены нет», — возразил он. Как важно знать истинные возможности человека. Знать и использовать в полном объеме. От каждого по способностям. Велик, велик этот принцип. Если действительно добиться раскрытия способностей каждого, наступит коммунизм. Конечно, наступит. Надо только умерить непомерные потребности отдельных граждан.
Когда Оля приехала к нему в Чиройлиер, он предложил ей прорабскую должность. Он считал, что нет работы лучше этой, интересной и самостоятельной, богатой нестандартными ситуациями. Оля согласилась сразу. Ну и что, что кандидат наук? Стала строить сборные силикальцитовые домики. Была требовательна, как в своей лаборатории. Любое отклонение от строительных норм и правил вызывало неумолимое: «Переделать!» От таких строгостей строители давно отвыкли. Отношения натянулись. То, что ей казалось нормой, без чего, в ее представлении, и работать было нельзя, рабочие воспринимали как придирки. Наряды она закрывала без приписок, по фактически выполненным объемам. Ее опять не поняли. «Раз требуешь качества, надбавь, красавица, ведь мы теряем в количестве!» Бригадиры пригрозили уйти, выработка упала. Ушла она. Ушла с обидой на своих предшественников, испортивших людей нетребовательностью и приписками. Ее домики, однако, оказались лучшими в поселке, и их отвоевали для себя бригады, которые их построили. Потом в них водили экскурсантов и высоких гостей. Да, если бы она не ушла, люди, грозившиеся уйти от нее, тоже, скорее всего, подчинились бы ее требованиям, естественным требованиям человека, который стремится честно исполнять порученное ему дело. А как тогда поступил он, Дмитрий Павлович Голубев? Помог ли навести мосты, наладить контакты? Нет, предпочел остаться в стороне. Она работала в другом управлении, возводящем гражданские объекты, и он посчитал неэтичным вмешаться. Если бы тогда она не рубанула сгоряча, из нее получился бы отличный начальник участка. Могла бы и управление возглавить. Требовать она умела, но ключа к своим людям не нашла.
Вот с его лотковиками она бы не конфликтовала. Они работают четко, чисто и культурно. Каждая лотковая трасса — это певучая струна. Ту свою производственную неудачу Оля остро не переживала, отнеслась к ней философски. Единственное, что могло заставить ее гореть по-настоящему, были модели, ее гидравлическая лаборатория. Она перешла в контору управления, возглавила производственно-технический отдел. Закопалась в бумаги и люто затосковала. На монтаже домов утро сменялось вечером непостижимо быстро, как и на моделях. Конторский же рабочий день тянулся бесконечно. И однообразнее, обыденнее его не было ничего. Чертежи, вопросы материального обеспечения работ как бы обтекали ее, как вода обтекает мостовую опору. Все нужное она делала машинально, ума глубокого для этого и не надо было, как излишне было творить, выдумывать, пробовать. И она повела решительное наступление на мужа за скорейшее возвращение в Ташкент. Не Чиройлиер ее не устраивал, а нудная, казенная работа, заживо губящая в ней инженера. Она только теряла квалификацию, ничего не приобретая. Все ее умение на этом посту могло заключаться в аккуратности, ну, и еще в знании арифметики.
Он опять порадовался тому, что они мыслили одинаково. Не только он, прожженный практик, но и она, ученая, мечтатель, человек с иным углом зрения, увидела главное, что обрекает на медленный ход хозяйственный механизм наших строек — разобщенность исполнителей, работу каждого из них по своим индивидуальным планам. Не расписываться же в собственной беспомощности, подумал он. С этой проблемой он соприкасался ежедневно. Дисциплина плана являлась важной составляющей порядка, за который он боролся. Рабочая эстафета, бригадный подряд, как он понимал их, были прямым следствием порядка, грамотной постановки дела. Приказом, росчерком пера их не внедришь, семя должно упасть в возделанную почву.
Кто его союзники? Курбанов. Анатолий Долгов. Весь трест. Главк — когда дело дойдет до дележа праздничного пирога. А когда придется засучивать рукава? Тут на оперативную помощь лучше не рассчитывать. Кто противники? В том же главке их предостаточно. Привыкли громоздить строительный вал до высоты Монблана. Обвини их в косности — смертельно обидятся. Но вполне довольны сложившейся практикой распыления сил и средств по сотням объектов. Чем больше все запутано, тем меньше спроса и ответственности, это они усвоили твердо. Безымянны ли они, что он затрудняется их назвать? Не безымянны. Впрочем, откровенными, рьяными противниками порядка эти люди не выступали никогда, они не были ни недоучками, ни дураками. Они более тонко вели свою линию: новшества приветствовали, объявляли себя друзьями новаторов, а потом, когда нужно было помочь, засучить рукава, не помогали и рукавов не засучивали — напротив, где можно, новшества и новаторов умело порочили. Но и это становилось опасно. И тогда они выжидали. Новшества приходили и отвоевывали себе место под солнцем сами, без их участия, а они потом спокойно пользовались полученными результатами, записав их в свой актив. Они не желали хлопот, борьбы, неизбежных дополнительных усилий. Плыть по течению было привычно и неутомительно. И материальное вознаграждение оставалось таким же, как при активной жизненной позиции.
Ввести конвейер на монтаже лотковых оросителей было не так уж сложно. Главк имел свой завод, специализированный на этом виде изделий, свою автобазу, своих монтажников. Никого со стороны не пришлось подключать, просить, убеждать. Все уместилось в железные параграфы приказа. По опыту Дмитрий Павлович знал, что связи становятся особенно зыбкими там, где речь идет об одолжении. Легко опираться на помощь человека, содействие которого твоим замыслам — его служебный долг. Лотковый конвейер, собственно, и состоял из конкретной суммы служебных обязанностей конкретных исполнителей. Единая задача спаяла сотни людей. А чем, в сущности, нынешняя задача отличается от той, первой, успешно решенной им и его людьми? Только масштабами и разветвленностью связей. Рабочая эстафета сулила ритм, взаимодействие. Она сулила порядок. А именно порядка и жаждал сейчас каждый, кто утром поднимался на строительные леса.
Порядок, в представлении Голубева, был неотделим от качества работы. Порядок — это дисциплина, это честное исполнение долга, это работа на совесть. Он подумал, что и в его тресте много бригад работает абы как. Подписать акт — и с плеч долой. Доброе имя, слава для многих и многих — звук пустой, понятие, не имеющее никакой реальной ценности. Как это получилось, спросил он себя. Гонка, постоянная напряженность планов, неразбериха со снабжением и сроками — только ли это принизило в строителе мастера? Или углубляющиеся разделение труда тоже приложило свою руку? Или постоянная необходимость выбора между тем, чтобы вовремя пересечь линию финиша, и качеством? Часто ли он сам, своею властью заставлял недобросовестных исполнителей переделывать брак? Нет, не часто. Гораздо чаще он устраивал разгон, вразумлял, стыдил, воспитывал, но не отдавал команду ломать и переделывать. Если был выход, чтобы не ломать, он не ломал. И другие начальники поступали так же. С некоторых пор сделать быстрее было более важно, чем сделать хорошо. Сроки отодвигали качество на второй план, и с этим мирились. Так мать мирится с отклонениями в развитии ребенка, когда рядом нет врача, на которого она могла бы целиком положиться.
Он подумал, что его насосная станция, функциональное назначение которой очевидно, должна включать в себя и элементы красоты, законченного архитектурного образа. Глазам людей должен предстать не унылый бетонный параллелепипед, а живой, ласкающий взор объем, живое деяние строителей, мечтающих оставить о себе добрую память. И он не вправе снижать требования к качеству.
Он вспомнил свои первые дни на стройке. Как он добивался высокого качества на примитивном, открытом всем ветрам полигоне железобетонных изделий. Уговоры, нравоучения давали ничтожно мало. После распалубки на изделиях оставались язвы каверн и раковин. Тогда он сам взял в руки вибратор и отдал его лишь через неделю. Теперь трубы не содержали изъянов. Бетон был плотный, как скальный монолит, а плотность автоматически несла с собой все другие положительные свойства: прочность, морозостойкость, водонепроницаемость. Он доказал: раковина в бетоне — это материализованная недобросовестность исполнителя. Ну, а нужный вывод сделать было уже несложно. Человек, позволивший себе недобросовестность, должен ответить за нее перед людьми, себе этого не позволяющими.
Личный пример, конечно, вещь удивительная. Его поняли, когда он показал, чего добивается. Все другое его не устраивало. Когда же его поняли — когда он все глубже погружал в бетонную смесь металлический язык вибратора и после распалубки открывалась гладкая, ровная поверхность? Или когда заменил бригадира, упрямо твердившего, что «и так сойдет», рабочим, который стыдился каждой раковины на трубе, поднятой из пропарочной камеры, как язвы на собственном теле? Подействовало и первое, и второе. Он не хотел признаться, что второе повлияло сильнее. Кадры, кадровая политика. Назначать руководителями тех, на кого можно опереться, кто умеет внести в работу огонек, свежую струю. Теперь должность не позволяла ему ежедневно браться за вибратор или лопату. Воздействия же только административного, он чувствовал, оказывалось недостаточно.
Конвейер — порядок. Пойдет рабочая эстафета, пойдет и бригадный подряд, это азбука. Подряд — детище порядка. Инициатором пусть выступит управление Долгова, оно целиком задействовано на насосной. Эта часть цепочки состояла из звеньев, которые на виду. А огромные свердловские заводы тяжелого электро- и гидромашиностроения? Оборудование должно быть на площадке, самое позднее, в феврале. Не упущены ли сроки? Производственно-распорядительное управление главка тревоги еще не било. Заказы давно размещены, но согласуются ли сроки их исполнения с пусковым графиком?
Он опять подумал, что к ним пришло удачное решение. Как хорошо, что Оля его единомышленница. Первый начальник главка Акоп Абрамович Саркисов умел ценить такие решения. Но тогда, когда Саркисов был жив, он, Голубев, только постигал нелегкую прорабскую работу, и кругозор его широтой не отличался. Второго такого патриота Голодной степи, как Саркисов, Дмитрий Павлович не знал. Его Оля не была большим патриотом Голодной степи. Но сейчас они оба исходили из простых, всем попятных вещей, и в первую очередь из огромной потребности в порядке. Из того, что каждый хочет, может и обязан как можно лучше выполнить порученное ему дело.
X
В Мисхоре автобус остановился у двух высотных гостиничных корпусов — я поленилась сосчитать этажи. Остальные здания скрывали сосны и кипарисы. Толпа подхватила нас и понесла. Люди заполнили все аллеи большого парка и неспешно текли в одном с нами направлении или навстречу. Никто никуда не торопился. Меня удивило это торжественное многолюдие. Лет двадцать назад так же людно и празднично было вечерами в ташкентских парках. Потом в личную жизнь граждан властно вторглось телевидение, и парки потеряли свою привлекательность. Общение с телевизором стало каждодневным, общение с друзьями — эпизодическим.
— Папа! Здесь стреляют! — крикнул Петик. И встал как вкопанный.
— Помещение, где стреляют, называется тир, — сказал Дмитрий. — Пора знать, блин горелый!
Хлопали пневматические ружья, пульки хлестко ударяли в крашеную жесть. Дмитрий не отказал себе в удовольствии сделать несколько выстрелов по фашистским военным кораблям. И каждый из них разломился надвое от мощного взрыва и пошел ко дну, пуская пузыри. Петик затаил дыхание. Потом вцепился в ружье.
— Дай-дай-дай!
Отец зарядил ему ружье, и он тут же выстрелил.
— А целиться кто будет? Ну, блин горелый! — сказал Дмитрий. Переломил ружье пополам, вогнал в ствол пульку, вернул ствол на место и тщательно прицелился. — Нажмешь на курок, когда я скажу, — объявил он сыну.
Мальчик послушно нажал на курок, и они потопили торпедой вражескую подводную лодку.
— Это я им залепил! — крикнул Петик.
Со всех сторон их сдавливали, стискивали люди, ждавшие, когда освободятся ружья. Курортникам в Мисхоре не хватало комнат и коек, парковых аллей, скамеек, столиков в кафе, автоматов с газированной водой. И еще много чего не хватало в этом престижном месте всесоюзного паломничества. Толчея была почти ярмарочная. И нам надлежало не потерять друг друга в многоликом, радостном человеческом потоке.
Петик с сожалением отдал ружье. И мы отправились на поиск знаменитого фонтана. Сумерки густели на глазах. Краски меркли, под деревьями уже давно пряталась ночь, и только небо над парком и горами еще было синее, беззвездное. Фонтан, словно экзотический аттракцион большой ярмарки, окружала густая толпа. Дима посадил Петика на свои широкие плечи. И в это время фонтан проснулся. Он всхлипнул, как одушевленное существо, и выбросил небольшую пенистую струю. Затем выстрелил более мощной струей, высокой, прямой, поднявшейся над кипарисами. Петик ахнул, — упавшая вода с шумом разбилась о стоячую плотную зеленую воду бассейна. Включилась подсветка: где-то в основании струи, под водой, вспыхнул ровный малиновый свет, и вода заискрилась, запереливалась, воссияла дивным цветком… Подсветка менялась ежесекундно: желтый, оранжевый, красный, лиловый цвета одушевляли воду.
Диме фонтан казался костром, зажженным на осенней лесной поляне. Высокая, тающая в ночи главная струя была похожа на столб дыма. Как все-таки беспределен человек в своем извечном стремлении к самовыражению, к совершенству. Возьмет и придумает, и удивит, и сам замрет, счастливый, а потом уйдет и не оглянется, весь уже в завтрашнем дне. Петик тихо мурлыкал от восторга. Все вокруг него было сказкой… Дивные цветы чередовались, никогда не повторялись. Только ради этого чуда стоило приехать сюда.
— Одобряешь? — спросила я мужа.
— И приветствую! — сказал он.
— Тогда пошли. Это все равно не запомнишь. Это как лес, как река, как горы, на которые сколько ни смотри, не запомнишь, они разные каждую минуту и в каждом следующем месте.
— Куда? — взревел Петик. — Никуда! Никогда!
Мы постояли еще, потом отошли и пристроились в хвост очереди, жаждущей мороженого. На нас не обращали внимания, и нам тоже было достаточно друг друга. Индивидуумы, личности терялись в человеческом море. Очередь, колыхаясь, втягивалась в кафе и растекалась по его просторному залу. Дима заказал мороженое разных сортов и пепси-колу. Я внимательно посмотрела ему в глаза, улыбнулась и начала разговор, для меня очень важный — о возвращении семьи в Ташкент. Он замешкался, смутился, забыл про мороженое. Петик этим воспользовался:
— Папа, можно, я поем из твоего блюдца?
— Обещанное надо выполнять, я ведь все-таки исследователь с опытом, и хочу, чтобы мои способности приносили пользу.
Я начала сухо и официально, но быстро вошла в роль высокой договаривающейся стороны, настаивающей на выполнении достигнутых ранее договоренностей. Я сказала, что это, в сущности, вопрос для нас решенный, и надо, чтобы руководство свыклось с мыслью решить его так, как решили его мы. А чтобы оно меньше капризничало, его надо подготовить. Частые напоминания — это уже внушение, почти гипноз. Собственно, я повторила все, что уже говорила прежде, выбирая моменты, когда он, уставший, обозленный срывами и несправедливыми упреками, становился более восприимчив к моим доводам.
— Ты скажи мне, кто против? — вдруг заявил он. — Я, например, за. Только как прикажешь мне поступить?
— Настоять на своем.
— Ну, а чем я займусь в Ташкенте?
— Возьми управление, трест, что дадут, и крутись.
— Но я гидротехник.
— После стольких лет практики ты в состоянии четко поставить дело на какой угодной стройке. Ты организатор строительного производства, а потом уже гидротехник.
— Спасибо. Но чего конкретно тебе не хватает в Чиройлиере?
Щеки у меня запылали, ладони задрожали. Начиналась сказка про белого бычка. Но я сдержалась. Я взяла с него честное слово, что мы станем жить в Ташкенте через два года после свадьбы. Но только он его не сдержал. И дело было не в том, что он не мог идти против воли начальства. Мог, и умел, и шел, и шишки себе набивал, но лишь тогда, когда речь шла не о нем лично. Интересы его семьи никого не касались, кроме него самого. Такой была его психология, таким его вырастили семья, школа и общество, и тут я ничего не могла поделать, не могла его переубедить. Он соглашался со всеми моими доводами, но мнение его, верное, линия поведения оставалась прежней.
— Не паясничай, — сказала я. — Денег мне более чем хватает, столько мне и не надо. И речь я веду не о дальнейшем увеличении нашего благосостояния. Я и так купаюсь в достатке. Я хочу больше давать — за ту же или за меньшую зарплату.
— Ты прекрасно знаешь, что меня не отпустят.
— Но меня-то никто не держит в распрекрасном Чиройлиере. — В первый раз я прибегла к прямой угрозе. У меня была альтернатива, и Дима должен знать, что я ею воспользуюсь.
— Ты так ставишь вопрос? — удивился он.
— Так, милый. Другие доводы давно исчерпаны.
— А как же семья, дети?
— Дети уедут со мной. Ташкентские и чиройлиерские школы дают одинаковые аттестаты, но разные знания.
— Одному мне будет плохо.
— Сомневаюсь. Тебе не надо будет торопиться домой и отрываться от дел, всегда неотложных. Когда ты являешься домой рано, на твоем лице откровенное сожаление, что ты с нами, а не за своим рабочим столом, не на своих объектах, не на своих планерках.
— Да? — снова удивился он.
Он был растерян, и мне стало жалко его, но я не разрешила себе поддаться этому чувству. Войдешь в его положение, размягчишься — и все насмарку. «Твердость и только твердость, — внушала я себе. — Интересы страны включают в себя и мои интересы».
— Представь себе. Ты этого не замечаешь, это уже в твоей плоти и крови. Ты не принимаешь участия в воспитании детей. Ты — самоустранившийся папа и видишь их только тогда, когда они спят. Ну, полчаса перед сном. Ты купаешься, ужинаешь, а они вьются вокруг тебя, хватают за брюки: «Папа! Папочка!» Они лезут к тебе на руки, на колени, а ты мысленно еще на своих объектах, ты весь еще в своих проблемах, которым нет конца и края, ты не знаешь, о чем с ними говорить, ведь не пересказывать им сводку ежедневной отчетности треста. Ты не знаешь, что они умеют, чему научились. Бухаешь каждому: «Ну, что, блин горелый?» И все. Когда же им побыть с тобой, как не в этот вечерний час? Но ты тянешься к газетам, включаешь телевизор — тебя интересует, что нового в мире. И я гоню их спать, я строга в соблюдении режима. У тебя есть работа — это я знаю. У тебя любимая работа, и ты продолжаешь жить ею, даже когда ужинаешь, даже когда сыновья сидят на твоих коленях. Даже когда ты обнимаешь меня, ты не со мной, большая часть тебя где-то пропадает. Вот так, мой дорогой.
Он был ошарашен. А что он мог возразить? Начни он сопоставлять, он тотчас увидит, что все сказанное мной — правда. Тут и сопоставлять не надо. Он должен знать, что без его внимания и заботы семье плохо.
— А я считал, что у нас все хорошо, — наконец произнес он.
— Конечно, у нас все хорошо. Ты нас любишь, а мы любим тебя. Поэтому я и говорю тебе все это.
— Растолкуй мне, что такое эта твоя неудовлетворенность. Насколько я знаю, свою работу, которую ты считаешь скучной и однообразной, ты выполняешь честно, тобой довольны.
— Неужели, по-твоему, я могу… пренебрегать своими обязанностями? Я бы и уборщицей работала так, что ко мне не было бы претензий.
— Не сомневаюсь. Дом ты тоже содержишь образцово. Людям нравится бывать у нас.
— Я стараюсь, чтобы тебе нравился твой дом.
— Что же тогда тебя мучает?
— Попробую объяснить. Когда мы еще не были женаты, когда я ждала тебя, а ты не приезжал, или лотки сдавал, или земли, я томилась, мне было очень не по себе. Тут были и ожидание, и нетерпение, и постоянная мысль о тебе, и предвкушение встречи. И когда становилось ясно, что ты не придешь, я все равно ждала, не могла настроиться на что-то другое. Чувство, которое я испытываю от неудовлетворения тем, что занята не своим делом, во многом повторяет то мое состояние, неуютное и тревожное, хотя полной идентичности тут нет и быть не может. Понимаешь, раз я могу хорошо делать то, что не может делать подавляющее большинство людей, я и должна, обязана этим заниматься. Такова логика углубляющегося в наше время разделения труда. Я специалист узкой фокусировки, в этом моя сила. Гидравлическая лаборатория — мое призвание. На моделях я легко предвижу результат. Я знаю, как поведет себя поток. Я… как бы сама становлюсь потоком, рекой, обтекающей сооружение. В лаборатории мне было грустно без тебя. В твоей степи я страшно тоскую без лаборатории.
— Странно как-то ты себя ведешь. Ставишь знак равенства между мною и лабораторией, которая всего лишь — твое рабочее место.
— Главное ты схватил, — кивнула я. — Без лаборатории я страдаю, как без близкого, очень нужного мне человека.
— Ты прямо рвешься в свою лабораторию.
— Рвусь, и нисколько не стыжусь этого. Для меня она, то же самое, что для тебя твоя степь, твой трест, твой Чиройлиер. Мне ты почему-то отказываешь в такой же стойкой привязанности и, пользуясь, в общем-то, недозволенными приемами, вот уже десять лет держишь меня вдали от лаборатории. Знаешь, кто ты? Ты узурпатор.
— Начнем дискуссию о правах человека?
— Мы ведем ее уже целый год. Если бы ты пошел на прием к Саркисову, эта проблема сейчас не стояла бы перед нами. Но ты не посмел. Его преемники легко убедили тебя в том, что в Чиройлиере заменить тебя некем. Не навестить ли мне самой начальника главка?
— Лучше, если к нему обращусь я.
— Он заполнит очередной наградной лист, и этим все кончится.
— Ну, ну, зачем так зло? Награды, конечно, получать приятно, но ни ордена, ни должности для меня не самоцель. Я просто честно работаю, осваиваю новые земли для нынешнего и следующих поколений советских людей. И, черт возьми, Голодная степь мне уже кое-чем обязана!
— Осваивай их и дальше. Пожалуйста! Чего-чего, а пустынь, песочка их раскаленного на твой век хватит, Я уже не претендую на то, чтобы увезти тебя из степи. Я только хочу уехать сама. Имею я на это право, как ты думаешь?
— При живом муже? — воскликнул он.
— Вот именно, при живом, но бездушном.
— Я бы очень этого не хотел. Олечка, неужели во всем Чиройлиере ты не нашла себе дела по сердцу?
— Нет, — сказала я. — Не заставляй меня терпеть это до конца дней моих.
— Подожди пуска, а там я развяжусь.
— Ты? Вот рассмешил. Ты опять ничего не предпримешь, потому что речь идет о тебе и твоей семье. Для семьи какого-нибудь бульдозериста или крановщика ты бы расшибся в лепешку. Позволь напомнить, что ты строишь только первую насосную станцию из четырех, и пускается только ее первая очередь. Да тебе на пенсию не дадут уйти, потребуют все кончить! Я жду — и тихо деградирую.
Он невесело улыбнулся.
— Ты меня убедила, — сказал он.
Вот и прекрасно! Значит, мои доводы он не счел блажью. Но я видела, что убедила его только в том, что касалось меня. В том же, что касалось его, он держался прежних позиций. На иное я и не надеялась. Над ним всегда довлели его проблемы и его работа. Я бы не удивилась, если бы он заявил, что они заменяют ему детей, меня, родителей…
XI
Оля затеяла стирку, и Дмитрий Павлович взял с собой в Севастополь сына. Ему даже понравилось, что жена осталась в Форосе. У нее могли быть иные планы, как провести день в прославленном городе, и это бы стеснило его. Кроме того, он чувствовал вину перед женой, так как знал, что не сумеет содействовать переезду семьи в Ташкент. Кто же отказывается от человека, на которого во всем можно положиться?
Кусочек бухты они увидели из окна автобуса. Берег спускался к воде довольно круто и был плотно застроен белыми одноэтажными домами. В самом конце бухты у причалов стояли ржавые суда. Когда-то они были быстрыми и сильными боевыми кораблями. Время превратило их в металлолом, и их броню разрезали автогеном и отправляли в мартены.
На автостанции они пересели в троллейбус. Бухта тянулась справа. Теперь она была похожа на фиорд.
— Папа, смотри, корабли! — закричал Петик.
У пирса стояли, чуть покачиваясь на волнах, три лайнера. Они были такого же цвета, как и вода. Это были большие корабли, плавающие далеко, настоящие властелины океанских пространств. Улица повернула, корабли пропали.
Дмитрий Павлович и Петик вышли из троллейбуса. Теперь они были в центре города. Дмитрий Павлович огляделся. У него уже складывалось мнение, что Севастополю надлежит быть более величественным. Что архитектура, подчеркивая героику города, должна быть более выразительной и монументальной. Теперь это мнение укрепилось. Он подумал, что его мысли были бы верны, если бы центр Севастополя застраивался сейчас, а не складывался в течение многих десятилетий. Всего несколько лет назад у людей были другие представления об архитектурной выразительности. А в более отдаленные времена? И подавно другие. На ход его умозаключений оказывал воздействие виденный ранее Волгоградский мемориал. Он даже хотел большего — чтобы мемориалом был весь Севастополь. Но исполнение этого желания принесло бы жителям большие неудобства: оно бы ориентировало их только на славное прошлое, и для настоящего и будущего осталось бы совсем мало места.
Они вошли в музей Черноморского флота. Петик ходил между экспонатами зачарованный. Корабли были совсем-совсем настоящие, только уменьшенные в размерах. Как красивы и легки были быстрокрылые парусные суда! Подхваченные ветром, они летели над водой, а потом высаживали десант или изрыгали каленые ядра и разрушительные бомбы. И турки в страхе и смятении спасались бегством — если еще было куда бежать. Мачта на линейном корабле — это три огромные состыкованные вместе сосны. С пушечных палуб смотрели жерла орудий. Сколько таких 120-пушечных кораблей затопил Нахимов в горловине бухты?
— Папа, давай унесем домой самый маленький кораблик, — попросил Петик.
Дмитрий Павлович объяснил, что из музеев ничего не берут, музеи — для всех. Они подошли к первым неуклюжим паровым судам, к громоздким броненосцам а дредноутам начала века. Выигрывая в мощи, эти корабли проигрывали в изяществе. Легендарный «Потемкин» походил на лошадь-тяжеловоза. Снимки сохранили силуэты крейсеров, которые в первую мировую гонялись за немецкими рейдерами «Гебен» и «Бреслау», пока не заперли их в Босфоре.
«Никогда я не был на Босфоре, ты меня не спрашивай о нем. Я в твоих глазах увидел море, полыхающее голубым огнем»… Дмитрию Павловичу показалось, что он услышал проникновенные эти слова. Пела женщина, и пела с чувством, которому нельзя было не покориться. Он вздрогнул, огляделся. Было тихо-тихо, ему, конечно, показалось. «Интересно! — подумал он. — Как же все это интересно!»
Они подошли к судам следующего поколения. Дредноуты отжили свое, теперь погоду на флоте делали быстрые, как курьерские поезда, эскадренные миноносцы, крейсеры а подводные лодки. «Вставай, страна огромная!» Враг был остановлен и посрамлен здесь, у этих стен, и слава Севастополя воссияла. В послевоенные времена флот пополнился судами нового поколения. Это были основательные боевые корабли, и пространства необозримых океанов легли под их форштевни. Владыки и владычицы морей потеснились — с бормотанием угроз и проклятий. Флот этот стоил немалых денег. Но без него многие государства, избравшие социалистический путь развития, ждала бы судьба республиканской Испании. Наступили бы сапогом, притопнули и прихлопнули, а мы бы и не помогли из своего далека — руки коротки.
Современный крейсер сосредоточивал в себе такую силу, что кружилась голова. То же самое можно было сказать и о подводных лодках, быстрых, как торпеда. Дмитрий Павлович подумал, как непросто было добиться примерного равенства с гигантской военной мощью США. Ведь в год окончания второй мировой войны Америка выплавляла в десять раз больше стали. Да, паритет военных возможностей дался нам нелегко и недешево. Величайшие усилия и материальные жертвы вошли в его стоимость. Теперь помериться силами с нами могли только люди с ненормальной психикой. В современном мире с его жесткой конкуренцией нашей стране был необходим большой в сильный океанский флот. Дмитрий Павлович это знал, и затраты, на которые в связи с этим пошла страна, он считал необходимыми. Они гарантировали, что второй сорок первый год не повторится. Они гарантировали это твердо и надежно.
Еще одной достопримечательностью Севастополя был океанариум. В бассейнах с большими иллюминаторами и в аквариумах жили обитатели морских глубин северных, умеренных и тропических широт. Диковинные рыбы смотрели на людей выпуклыми немигающими глазами. Их жабры ритмично процеживали воду. Какие удивительные и забавные чудища населяли океаны! Петику очень понравился неимоверно большой, покрытый мощным оранжевым панцирем краб с загребущими серповидными клещами. Вопросы посыпались лавиной — про краба, рака, дельфина, осьминога, черепаху, угря, белугу, актинию, тунца, макрель. Он хотел плавать с рыбами, играть с рыбами, есть их пищу. Он хотел стать рыбой, нет, крабом с клещами, дробящими панцири. Он объявил отцу, что пойдет отсюда прямо в море и будет жить с рыбами. Дмитрий Павлович засмеялся и сказал, что люди не могут жить с рыбами, ведь они не умеют дышать водой.
Великое многообразие жизни раздвигало границы привычного. Люди работали в океане, чтобы знать о нем все и иметь доступ к его богатствам. В чем-то это было сродни покорению целины, сродни работе, которую Дмитрий Павлович знал и любил. У каждого человека, подумал он, должна быть своя целина, своя пустошь, которою надо вспахать и засеять, и вырастить на ней урожай. А если этого нет, если есть только езда по наезженной колее и дни копируют друг друга, как изделия одного конвейера, невольно возникают вопросы о смысле жизни. Они остаются без ответа. На проторенной колее пророки не вещают.
Петик не хотел уходить из океанариума. Дмитрий Павлович не стал торопить сына. Они еще раз осмотрели рыб, и черепах, и прочих представителей богатейшей морской фауны. Возбуждение сына улегалось по мере того, как удовлетворялось его любопытство. И после второго круга он, спокойный, умиротворенный, вышел на бульвар и спросил:
— Папа, а теперь куда?
— Теперь — никуда. Мы будем стоять здесь и ждать. Скоро проплывет большой корабль с большими пушками. Мы посмотрим на него и поедем домой.
— Он куда поплывет?
— Туда, — ответил Дмитрий Павлович и показал рукой вдаль. — Знаешь, корабли плавают везде, где есть море. И везде, где они плавают, они несут наш советский флаг. И люди на этот флаг смотрят. Наш флаг сильно действует на людей. Когда ты вырастешь, тебе это станет абсолютно ясно.
— У нас в детском саду тоже есть флаг, — сказал Петик. — Первого мая везде были флаги, и салют был. Флаг что делает?
Дмитрий Павлович подумал, что флаг несет мысль, идею, символ.
— Флаг помогает людям быть вместе, — сказал он.
— Как воспитательница?
— Во-во! Ты очень правильно все понял.
Они встали на высоком берегу. Недалеко, чуть-чуть левее, был вход в бухту. А дальше вода синела, и начиналось море. Море казалось безбрежным. Безбрежным оно и было для кораблей, которые выходили из этой гавани. Вернее, для них существовал только один берег — родной, тот, который они покидали и к которому потом возвращались, утомленные службой и штормами. Дмитрий Павлович держал сына за руку. Лицо его было торжественным и счастливым. Когда он ехал в Севастополь, у него была только одна волновавшая его мысль. Он хотел видеть корабли вблизи. Они могли заходить в бухту, или держать курс в открытое море, или стоять на якоре, это не имело значения. Он любил корабли, как люди любят выдающиеся творения рук человеческих. Такая любовь вмещает в себя богатейшую гамму чувств: изумление, гордость (знай, мол, наших!), восторг, личную причастность к сотворению этой грозно заточенной, одухотворенной стали.
Когда он ходил в школу и думал над тем, как сложится его судьба, он видел себя и моряком. Но в конечном итоге верх взяли строительные леса. Раздвоенность же стремлений была большая, он колебался. Морская служба манила голубой далью, безбрежностью и многообразием мира. Стройка тоже манила, но совсем не так. Притягательная сила моря взяла бы верх, но хотелось что-то сделать своими руками и на земле, оставить след, и он выбрал стройку и поступил в ирригационный институт. Но мысль, что он ошибся, долго преследовала его. Можно сказать, до самого Чиройлиера. И потом еще долго была тоска по морю. Лишь много позже он осознал, что это была тоска по утраченным возможностям. И отдыхать он поехал на море, а не на Иссык-Куль, песчаные пляжи которого не шли ни в какое сравнение с перенаселенными ялтинскими.
Серый высокобортный корабль бесшумно возник из зеленых глубин бухты. Он увеличивался в размерах, пока не поравнялся с ними. Белый бурун у форштевня, нежный бурун у кормы. Ветер, дувший в их сторону, донес теплый воздух из трубы. Надстройки, орудийные башни и сами орудия казались гранеными. Ни единого человека не было видно. Вахта шла внутри гулкого стального чрева. Гудели турбины, но ровно, не надсадно. Та скорость, с которой сейчас плыл корабль, была маленькой в сравнении с той, которую он мог развить, прозвучи сигнал тревоги.
— Какой длинный! — крикнул Петик. Его пальцы крепко сжимали ладонь отца. — Нет, папа, — сказал он вдруг, — я не буду милиционером, я пойду в моряки.
Дмитрий Павлович погладил сына по голове.
Выйдя в открытое море, военное судно быстро растаяло в синем мареве дня. Оно держало курс на проливы и далее в просторы мирового океана. Флот плавал, совершенствовал свое мастерство. Силы социализма увеличивали влияние на дела и судьбы планеты. Свою роль здесь играла и растущая сила нашего военно-морского флота. Дмитрий Павлович подумал, что мы многого добились в поддержке мирового национально-освободительного движения с тех пор, как наш флот стал большим и вышел на океанские просторы.
Новый корабль покидал Севастополь, и десятки матросских глаз провожали раскинувшийся на холмах белый город. Это был большой корабль. Он шел элегантно, споро, неотвратимо. Севастополь жил для флота, для страны, для мирового социалистического содружества. Большой корабль, идущий в открытое море нести свою ратную службу, являл собой величественное зрелище. Дмитрий Павлович и Петя зачарованно смотрели на него. Когда силуэт корабля, непрерывно уменьшаясь, растворился в дрожащем воздухе, Дмитрий Павлович сказал!
— Вот так, блин горелый! Пусть они попробуют! Пусть посмеют! Не посмеют, не попробуют.
— Кто — они? — спросил Петик.
— Господа разные. Они нас не любят, мы им не нравимся. И не любите, мы в друзья-приятели не набиваемся. Запомни, мальчик: ты живешь в замечательной стране, лучше которой нету. Есть более богатые, более теплые, может быть, и более красивые, согласен и на такое допущение, а лучше — нету.
XII
Я стояла с Петей в ялтинском шумном и людном скверике у бурлящих аэрофлотских касс и спрашивала себя, нравится ли мне Ялта. Никогда прежде не видела я городов с таким специфическим назначением — принимать и обслуживать отдыхающих и стремиться, чтобы им было хорошо. Хотя толчея была великая, каждый гость Ялты находил и кров, и место за столом, и место на пляже, и людям непритязательным этого было вполне достаточно. Ну, а я, каковы мои запросы?
Тихий, изящный Форос был мне по душе, колготную Ялту я не воспринимала и жить бы в ней не желала. Наверное, надо вырасти здесь, чтобы полюбить этот город. Петю тоже смущало многолюдие, и он крепко держал меня за руку. «Что делать, если он потеряется? — подумала я. — В таком муравейнике, как этот, быстро его не найдешь».
Стеклянные двери выбросили Дмитрия, и он покатился к нам. Он улыбался так светло, лучезарно, что я спросила себя, почему над его головой нет нимба. Он весь был торжество и ликование. «Чему он улыбается?» — подумала я. Он протянул мне билеты, и я увидела, что в Ташкенте мы будем на три дня раньше, чем договаривались. Мой муж отнял у меня и у сына три дня отдыха на благословенном форосском берегу и был счастлив, что поступил так. Он отнял у нас эти дни ради того, чтобы раньше окунуться в живописные и нервотрепные чиройлиерские будни.
В первые годы замужества я бы взорвалась, запротестовала, устроила сцену, отплатила бы ему за самоуправство недельным тяжелым молчанием — и ничего не добилась бы, мы бы все равно улетели в тот день, на который взяты билеты. Но брак научил меня обходить острые углы. Теперь я промолчала, более того, не подала вида. Раз это нужно ему, я должна, обязана с этим смириться. Его просто нужно принимать таким, какой он есть. Двадцать два дня у моря — это ведь целая вечность, пролетевшая, правда, как один миг. Вот так же и жизнь пролетит. Еще вчера я взирала на мир ясными глазами юности, а завтра оглянусь — где же она, жизнь, куда подевалась? Да было ли что-нибудь вообще до того, как голову покрыла благородная седина? Все в прошлом. Зато дети взирают на мир Колумбами: все впереди.
— Ты не умеешь отдыхать, — сказала я Диме. — Ты не любишь отдыхать.
— Мы этого не проходили, — отшутился он. — Но, по-моему, я был сверхтерпелив. Если бы я прилетел сюда один, меня бы давно уже как ветром сдуло.
— Лучший для тебя отпуск — это работа, — сказала я.
Улыбка его стала чуть-чуть виноватой, но я-то знала: ликования в ней больше, чем вины.
Мы пошли к морскому вокзалу. Улицы казались муравейниками, и магазины казались муравейниками, и скверы, и базар, и набережная. В эти солнечные летние дни Ялта была большим муравейником.
На одну из центральных улиц выходили витрины букинистического магазина. Я вдруг остановилась, как вкопанная. Меня поразила цветная репродукция на глянцевой суперобложке. По весеннему полю, по блестящим пластам земли за лошадью и плугом шел человек. А над вспаханной им землей вились черные птицы и вставало огромное солнце. Фигура пахаря была изображена буквально несколькими выпуклыми мазками, голова и руки его лишь угадывались. Но чувствовалось, что за плугом шел сильный человек, кормилец, который любит землю и все растущее и живущее на ней.
— Погляди, ведь это ты! — сказала я.
Муж вперил в картину изучающий взгляд. Через минуту счел нужным выразить свое мнение:
— А что, весьма похоже. В таком случае Ван Гог запечатлел меня задолго до того светлого дня, когда я родился. У великих это иногда получается. Дар предвидения остается загадкой. Со своей стороны, я нисколько не удивлен тем, что симпатичен ему.
Мы вошли в магазин и попросили эту книгу. Ее выпустило миланское издательство. Еще две картины Ван Гога оказали на меня такое же сильное воздействие — «Сеятель» и «Жнец». Собственно, сюжеты их были аналогичны «Пахарю». Сеятель сеял, а жнец убирал выращенное, и огромное солнце освещало пашню, принимающую семена, или оранжевое спелое пшеничное поле и черных вьющихся над пшеницей птиц. Каждый раз в поле выходил сильный человек, труженик, облагораживающий землю. Художник обладал дьявольским умением убеждать. Это было как передача мыслей на расстояние.
— Пахарь! — сказала я Дмитрию. — Что скажешь, пахарь?
Не отвечая, он пошел платить за книгу.
Да, Дмитрий умел и, что самое главное, любил работать. Работа и была его жизнью, у него и времени не оставалось ни на что другое. Даже на семью. Жизнь же шла своим чередом, и многое проходило мимо, исчезало насовсем, бесследно. Но это его не смущало и не тяготило. Всего не объемлешь, начнешь разбрасываться — не успеешь нигде. Он был как сильный локомотив, и к нему прицепляли все новые вагоны. Я сказала ему об этой ассоциации, и сказала, что ему дорого лишь то, что помогает пахать глубоко.
— Вот именно! — воскликнул он. — Не размениваюсь, не размениваюсь. И потому доволен судьбой. Доволен женой, детьми. Доволен работой, товарищами.
— А жизнь проходит! — напомнила я.
— Не в безделье же! — сделал он существенное дополнение и выразительно посмотрел на меня. Он уже видел себя в родном Чиройлиере. — Многого у меня нет, а многое, как ты справедливо и не без подтрунивания заметила, проходит мимо. И пусть, я согласен. Потому что того, что у меня есть, вполне достаточно, чтобы ходить с высоко поднятой головой.
— Все пахари ходят с высоко поднятой головой, — согласилась я.
Я не начала очередной дискуссии. Такие дискуссии рождали во мне только боль, ощущение тоски и одиночества. Я взяла его под руку, и он, довольный, шепнул мне:
— Так лучше, лукавая ты женщина!
XIII
Я отправила мужчин купаться, а сама занялась хозяйственными делами. Через день мы улетали. И квартиру надлежало оставить в образцовом порядке. Я не жаловала грязнуль и нерях, у меня и Петик уже сам одевался, завязывал шнурки на ботинках, сам чистил щеткой брюки, подметал пол, а свои игрушки складывал на полку или в большой мешок. Было пролито немало горьких ребячьих слез, прежде чем я добилась этого.
Я пропустила белье через стиральную машину, пропылесосила ковры, до блеска выскоблила плиту и мойку и принялась за полы. Дома полы мыл Кирилл. Я внушила ему, что содержать дом в чистоте так же важно, как и учить уроки. Но большая часть домашней нудной и бесконечной работы все равно лежала на мне, и сколько раз я сетовала на судьбу, что ни одна из бабушек не живет с нами. Магазин — кухня — мойка. Покупка продуктов, стирка, уборка. Что может быть однообразнее? Но дай себе поблажку, и семья потеряет важнейшую точку опоры. Да для девушки знать основы домоводства в сто раз важнее, чем свободно оперировать тригонометрическими функциями или изъясняться по-английски. Но это так, к слову. Просто я вспомнила, что школа, наряду с нужным и необходимым, дала мне массу ненужного, и это ненужное навсегда останется невостребованным багажом на длинных полках памяти. Институт тоже дал массу лишних знаний, но они за ненадобностью быстро выветрились.
Оттаяла морозильная камера холодильника, я вымыла ее и загрузила продуктами. Большая бутылка «пшеничной» так и осталась нераспечатанной. Я порадовалась за мужа. И моя антиалкогольная позиция кое-что давала. Трезвенником Дима не стал, но отношение к пьющим изменил. Снисхождение уступило место осуждению, созерцание — протесту. Руководитель большого коллектива, он лучше других видел вред, причиняемый обществу алкогольным изобилием.
Мне было жалко, что наш отдых у моря прерывается. Мы бы еще и поплавали всласть, и к Байдарским воротам поднялись. Но не раздражаться! Я умело погасила злость, самую худшую из советчиц в семейных делах. Злость точит и разрушает. «Почему он такой?» — спросила я себя. Отвечать было не надо. Он всегда был такой, я знала его только таким. Что стрясется без него в Чиройлиере? Ничего. И было бы скверно, если бы стряслось. Он знал это, как и я, нет, в тысячу раз лучше. Но удержать его было невозможно. Удержала ли бы я его, если бы мы поженились месяц назад? Сомневаюсь. Он родился на свет, чтобы работать: пахать, и сеять, и жать, и работа, суета сует, была жизнью, а отдых жизнью не был, так, времяпрепровождением.
Да, я уже могла объяснить его состояние гораздо лучше и подробнее, чем он сам. Его беспокойство, вызванное долгой оторванностью от дел. Его тоску по своей стройке и своим людям. И посади его здесь на золотую цепь, сложи у его ног все блага мира, он все равно цель перегрызет и уедет. В этот раз он ужал свой отдых всего на три дня. А сколько раз он уезжал, не отгуляв и половины положенного? Вдруг все становилось не так, и он срывался и штурмом брал самолет, и только дома, когда он с головой окунался в работу, ему снова становилось хорошо. Неиспользованных и уже пропавших отпусков у него одиннадцать из восемнадцати. Там, в Чиройлиере, пожар, там горит его дело. А когда у меня появится такое же дело, поглощающее все мое время, и помыслы, и волю? Появится. Решимость моя крепла, приходило время брать в руки штурвал судьбы и поворачивать его в нужную сторону.
То, обо что я в очередной раз больно споткнулась, мне, в сущности, нравилось в муже. Цельность характера, не знающая пределов увлеченность и были главным богатством его натуры. Другие мужчины, влюблявшиеся в меня, не были в такой мере цельными людьми. Будучи бригадиром на сборе хлопка, как он воевал за каждый килограмм! Уговаривал, стыдил, разносил, наказывал, благодарил — и все с энтузиазмом, по велению совести! Он и меня пробирал за то, что отставала. Слова находил, которые пробирали.
В Голодной степи развернулся и пошел, пошел! Что ни поручат — выполнял, да еще, помимо недюжинной энергии, привносил свою выдумку и инициативу. Часто подбирал нестандартные ключи. Другие искали отговорки, правдиво объясняли, что им помешало — они не стыдились объяснять, и стыдно им не становилось. А он впрягался и тянул. Да он не брался за дело, он вцеплялся, вгрызался в него. Слово «надо» обретало над ним удивительную силу. И это в нем ценили, а я — больше всех. И было обидно до слез, что именно то, что я ценила в нем так высоко, теперь отдаляло его от меня. В любых ситуациях работа имела у него приоритет над всем остальным. Если речь не шла о жизни и смерти человека, работа имела приоритет и над человеком, конечно, взятым отдельно. Все, кому Дмитрий Павлович подчинялся, спрашивали с него работу и только работу. Один Саркисов, пожалуй, спрашивал шире, но таких людей всегда почему-то единицы. Саркисов мог осведомиться, почему в детский сад не завезено молоко. Почему в домах рабочих холодные батареи или дырявые крыши. Почему в столовой не подают винегрет, фрукты, соки. Саркисов считал, что неудобно, стыдно спрашивать у руководителя, как вверенное ему строительное подразделение выполняет государственный план. Руководитель, который не обеспечивает выполнения плана (если на это нет особых причин), теряет моральное право на свою высокую должность. Он спрашивал по всем вопросам, выдвигаемым жизнью. И план при нем выполняли. Но и тогда уже наметилось отставание с обустройством земель: сначала подавалась вода, потом уже доделывалось все остальное. Саркисов не позволял, чтобы работа заслоняла собой человека. Это был незаурядный руководитель, счастливо сочетавший призвание партийного работника и строителя. И мне было понятно стремление Дмитрия походить на него.
В Чиройлиере Дима опять с головой окунется в работу, и работа заслонит семью. Рядом с ним я чаще, чем можно представить, оставалась одна. Я имела счастье видеть мужа за поздним ужином и за ранним завтраком. Суббота ничего не меняла в его распорядке дня. В воскресенье он уделял семье пять-шесть часов. «Папа дома!» — ликовали мальчики. Для них это было праздником. Ух, и куролесили они тогда! А я во всех домашних делах уже давно полагалась на себя. В своих обещаниях, связанных с ведением домашнего хозяйства, Дима не был обязателен. Готовый в лепешку расшибиться для работы и для своих людей, он не умел просить для себя. Не умел, и все. Когда я в этом убедилась, я стала делать это за него. Он не возражал — и за это спасибо!
Я опять пришла к мысли, которая давно уже не давала мне покоя. Если в Чиройлиере, предоставленная себе, я очень часто остаюсь одна, не лучше ли быть одной в Ташкенте, где любимое дело как-то сгладит, скрасит одиночество?
Я должна быть решительной, даже непреклонной. В конце концов, его доводы несостоятельны рядом с моими. Они, конечно, весомы, я не возлагаю на себя неблагодарную задачу умалить Димину работу, она во многих отношениях выше моей. Но главное-то, главное! Я должна дать людям то, что могу дать. Пусть оно и поменьше того, что дает Дима, но оно во много раз больше того, что я даю в Чиройлиере. И двух мнений тут быть не может, раздвоенность недопустима. И так потеряно столько лет! Я бы уже и докторскую защитила. Но суть не в званиях и степенях, а в реализации творческого потенциала личности. Никакого отступления с занятых позиций! Намерение выкристаллизовалось и будет осуществлено.
Итак, скоро мне снова упаковывать чемоданы. Я уже радовалась этому. Почему, спросила я себя, когда он ухаживал за мной, он был заботлив и внимателен? Он не принуждал себя быть заботливым, это получалось само, шло от души. И во что эти качества выродились теперь? Не стало их, они потускнели и угасли, их погасила работа. Его забота и внимание переключились на другое. Я протестовала, но он не понял, сказал: «Придираешься, маманя!» Я подумала, что трагедия тысяч и тысяч семей наступает тогда, когда муж и отец перестает дарить жене и детям самое главное, в чем они постоянно нуждаются — свое внимание и время. Семья — это растение, которое пропадает, если за ним не ухаживать. «Но у меня хорошая семья! — сказала я себе. — У меня отличный муж, замечательные дети!» Я не имела права даже подумать о том, о чем подумала. Его невнимание — эта не отчуждение. Просто его внимание переключено на другое, на то, что сегодня для него важнее. А я, значит, уже не главное в его жизни? «Приходит привычка и вытесняет любовь», — вспомнила я чьи-то мудрые слова, и вспомнила интонацию горечи, их сопровождавшую. Неправда. Любовь не кончилась. А вот тоска и неудовлетворенность уйдут из моей жизни, как только я вернусь в гидравлическую лабораторию.
XIV
Обратный перелет был утомительный, с болтанкой, воздушными ямами и черными грозовыми тучами над хребтами Кавказа. Тучи часто пронзали белые всплески молний. Но в семь вечера Голубевы уже пили чай в своей ташкентской квартире. Дмитрий Павлович связался с Чиройлиером и вызвал на утро машину. Отговаривать, просить повременить было бесполезно. Он настроился, он тосковал и уже не мог без своего Чиройлиера. Но было у Дмитрия Павловича в Ташкенте одно дело из разряда неотложных. Он хотел проведать Карима Иргашева, лежавшего в клинике медицинского института.
«Что я скажу Кариму?» — думал он. И наваливалась щемящая пустота. Любое слово, которое он мог сказать другу, таило в себе неправду. Карим Иргашев был обречен, а он, Дмитрий Павлович Голубев, оставался в этом слепящем море света, среди людей. И ничто не омрачало его жизненного пути в обозримом будущем.
Во дворе медицинского института ему указали на двухэтажный корпус дореволюционной кладки. Массивные стены, высокие потолки, огромные окна. Предки строили мало, но основательно. Сестра попросила Дмитрия Павловича подождать окончания процедур. Он поинтересовался, где палата Иргашева. «Третье и четвертое окна справа», — сказала сестра. У одного из окон стояла скамейка. Дмитрий Павлович встал на нее и заглянул поверх занавески. Палата освещалась тускло, но Карима он увидел сразу. Он лежал в углу, рядом с дверью, и у изголовья стоял стальной баллон с кислородом. Карим лежал распластанный, отрешенный от забот и проблем, а подле него сидела молодая женщина и подносила почти к самым его губам, совершенно бесцветным, шланг от баллона. И поворотом вентиля регулировала кислородную струю. Грудь Карима быстро-быстро поднималась и опускалась. Частое поверхностное дыхание почти не насыщало легкие кислородом. Его жену зовут Шоира, вспомнил он. Да, Шоира, что в переводе означает «поэтесса». Узбекские имена очень образны. Скоро она станет вдовой и будет мужественно растить детей, преодолевать невзгоды. А пока она должна улыбаться мужу. Знать о его быстром приближении к последней черте и улыбаться. Он увидел, как женщина улыбается человеку, которого скоро не станет. Самому близкому человеку. Это была жизнерадостная улыбка. Ни грана принуждения, боли, скорби, сомнения, только тихий спокойный всесогревающий свет.
Он перевел взгляд на Карима. Карим осунулся и посинел от кислородной недостаточности. Вот, значит, как дышат, когда легкие съедает рак или туберкулез. А как он будет вести себя в свои последние часы, наедине со смертью? Он может не заметить ее приближения. Рраз — и вырубился мотор. Лучше всего уйти в неведении и без мучений. Но, в общем, так или по-другому, какая разница. Хорошо, что это непредсказуемо.
Он вспомнил, как хорош был Карим, когда задача ставилась конкретно и требовала энергичных действий. Он не был мастером придумывать, находить выход из запутанных положений. Нестандартные ситуации ставили его в тупик. Но такие ситуации — большая редкость. И вдруг… Впрочем, каждый в свое время спотыкается о такое «и вдруг». И — все в прошлом, и — немая скорбь на заострившихся лицах близких. И — планируемые прямо на похоронах кадровые перестановки. Кто-то все потерял, а кто-то дождался своего часа.
Сестра сделала уколы, и Карим скользнул невидящим взглядом по черным окнам, легким движением руки поманил Шоиру, и она отвела от его губ резиновый шланг. Теперь можно было войти. Дмитрий Павлович ощутил, что не хочет входить, не знает, о чем говорить. А Шоира улыбалась Кариму. Все знала и улыбалась изо дня в день. И только дома захлебывалась слезами и спрашивала, за какие грехи ей выпало такое несчастье. «Сейчас, — сказал он себе. — Минута, и я войду». Голубев не раз навещал больных, но не обреченных. Можно ли оставаться спокойным перед ликом смерти? Тысячи умнейших людей задались целью победить рак. Но пока они бессильны. Рак — это предостережение против образа жизни, который навязала человеку современная техническая цивилизация с ее давящими информационно-стрессовыми потоками, с ее бешеными гонками и вредоносными отходами.
Не время мямлить, выжидать. Дмитрий Павлович спрыгнул со скамейки. Облачился в халат. Вошел в палату, громко поздоровался. Обнял Шоиру, потом нагнулся к Кариму. Обнял его и поцеловал в лиловую аморфную щеку. Выпрямился, задержал взгляд на Шоире. В глазах молодой женщины блеснули слезы. Но она не позволила им пролиться. В первый раз он видел, как усилие воли осушает слезы.
— Карим, я прямо с самолета! — объявил он. — Здравствуй, милый! Извини, но тебе уже вставать пора. Мобилизуйся, как принято у нас в Чиройлиере накануне больших событий, и надави как следует на свой зловредный плеврит. Я привез кое-что для аппетита из массандровских подвалов. Но дождемся разрешения врачей, не возражаешь?
Карим снисходительно улыбнулся, с огромным усилием приподнял голову и кивнул. Голова не опустилась — упала на подушку. И Шоира тотчас потянулась к вентилю баллона. Но Карим остановил ее чуть заметным протестующим движением руки. Улыбнулся еще раз, теперь виновато. Это была чистая улыбка человека, недовольного тем, что причиняет беспокойство. «Знает ли он все?» — подумал Дмитрий Павлович. Знал ли бы он все сам на месте Карима? Знал бы, но оставил себе шанс на медицинскую ошибку. И второй шанс оставил бы себе — на счастливую случайность, когда не опухоль изничтожает человека, а человек расправляется с ней вопреки прогнозам врачей и статистики, которая знает все.
— Расскажи, как отдыхал, — попросил Карим. Он говорил экономно, берег слова, вернее, экономил силы. Он был рад другу.
Дмитрий Павлович описал Форос, и море, и Никитский ботанический сад, и фонтан в Мисхоре, похожий на гладиолус невероятных расцветок, и Бахчисарай, и Севастополь, и корабли с высоким буруном у форштевня. Потом Голубев стал говорить про рабочую эстафету. Что нужно предпринять, чтобы смежники по-товарищески взаимодействовали с генеральным подрядчиком, а претензии попридержали: кому нужны чужие претензии, если своих некуда девать? Ему, Кариму Эргашеву, в сентябре предстоит съездить в Свердловск и подключить к эстафете машиностроителей.
Карим кивнул. Он со всем соглашался. И с тем, что они построят еще не один канал. И с тем, что они славно погуляют на свадьбах своих детей, а потом еще объяснят внукам, как надо жить и не хныкать. Потом Кариму стало совсем невмоготу. Он устремил глаза в потолок и застыл, недвижимый. И только грудь его вздымалась и опускалась быстро-быстро. Шоира вытерла платком капельки пота с его бледного лба. Поднесла к губам шланг, повернула вентиль. Раздалось слабое шипение, живительная струя коснулась губ, и Карим поблагодарил движением век.
«Я не сказал ему ничего, — подумал Дмитрий Павлович. — Ему, наверное, важно знать, что мы позаботимся о семье. И что он будет с нами, пока мы живы. И что-нибудь еще, мне неизвестное. Я же нес чепуху, словно увижу его и завтра, и послезавтра, и когда захочу или когда он захочет. Чушь, серость, срам».
Пора было уходить.
Вдруг Карим поманил его пальцем.
— До свидания! — выдохнул он, избегая рокового «прощай». Но не удержался и сказал: — Знаешь, мой плеврит в пух и прах разбомбили из кобальтовой пушки. Медицина все умеет, и я очень на это надеюсь. Но в Свердловск ты командируй кого-нибудь порезвее. А в рабочую эстафету верю. Действуй! Такие вещи у тебя неплохо получались. Всех наших крепко обнимаю. Ни на кого не зол, всех люблю.
Эти слова дорого дались Кариму. Шоира сильнее повернула вентиль. Дмитрий Павлович тихо вышел. Снова встал на скамейку. И стоял долго. «Где я проглядел, не помог?» — спрашивал он себя. Карим хвастался, что курит с третьего класса. Рак легких — расплата за двадцатилетний стаж курильщика? Говорил ли он ему: «Брось курить?» Никогда. Неэтично мужчине и другу говорить такое. Некоторым он говорил: «Брось пить». И то лишь по той причине, что пьяница — не работник. «Знать, где упадешь — соломки подстелил бы», — подумал он. Грудь Карима колыхалась, как вибростол. У человека в расцвете сил в груди вместо легких была опухоль.
Никогда еще ощущение беспомощности не владело им с такой силой, как сейчас.
XV
Мое настроение коротко определялось одним словом — приподнятость. И ехала к лабораторию, которая продолжала оставаться моей. Я чувствовала себя так, словно ехала на свидание с любимым человеком. Торопилась, тихо радовалась встрече, предвкушала ее, заранее боялась расставания. Боялась одиночества, которое могло прийти потом. Если мы вопреки судьбе не будем вместе. Боялась новых людей в лаборатории, не знающих меня, принесших с собой свои порядки. Было столько лет разлуки, а сейчас все меняется так быстро.
Здесь я начинала, научилась расспрашивать модели, записывать ответы и переводить их на язык технических рекомендаций. Лучше мне нигде не работалось. Я вошла в проходную, как входят в родной дом после долгого отсутствия. За воротами была площадка для машин и бурового оборудования. Все это хозяйство обслуживало изыскателей, которые вооружали проектировщиков полной характеристикой местных условий.
Дальше располагались лаборатории. Они изучали грунты, фильтрацию, строительные материалы. А самая большая, наша, изучала взаимодействие гидротехнических сооружении с водным потоком. Она располагалась в двухэтажном бежевом здании, в похожей на спортивный зал пристройке, в самодельном крытом шифером ангаре и непосредственно на открытом воздухе. Я вспомнила, что, когда строили вот это бежевое здание, рабочие срубили грушу, огромную, как столетний дуб. Она одна давала больше тонны плодов. Когда ее рубили, старик-хозяин обнимал шершавый ствол и плакал. Он мог обхватить руками только треть могучего ствола. И жена его плакала, и сноха, и внуки. Когда дерево рухнуло, поднялся ветер, взметнулась пыль, по земле пробежала дрожь, как от обвала. Наверное, здание можно было расположить так, чтобы сохранить грушу. Но этого не сделали, ненужная жестокость свершилась. И во мне осталось чувство утраты, непоправимости содеянного. Оказывается, оно не рассосалось до сих пор.
Рядом с лабораторией была столярная мастерская дяди Миши. Дверь отворилась, высокий человек в брезентовом фартуке вынес огромный ворох желтой стружки и аккуратно, ничего не обронив, опустил его в фанерный ящик. Такой аккуратностью — это прочно врезалось мне в память — отличался сам дядя Миша, Михаил Терентьевич Чуркин, немолодой, но крепкий, добродушный, добросовестный до щепетильности. Другие рядом с ним тоже работали хорошо, разгильдяев он не жаловал. Но даже на их фоне его добросовестность была очень выпукла, настолько он, прирожденный умелец, возвышался над просто хорошими работниками. Он стал возвращаться в мастерскую, и тут я окликнула его.
— Ольга Тихоновна! — сказал он ласково и улыбнулся. У него была широкая, добрая, западающая в душу улыбка. — С чем пожаловали?
— С визитом дружбы, — сказала я. — Неофициальным. Рада видеть вас здравствующим и полным сил.
— Чего уж, — отмахнулся он. — Что-нибудь прибавить к тому, что есть, уже не могу. Не растерять имеющееся — вот о чем пекусь-беспокоюсь.
Он сдал, и заметно. Поседел, усох. Ему за шестьдесят. И годы плена — один за сколько? За десять? С октября сорок первого, когда немцы разорвали фронт под Вязьмой, и до нашей победы, он был за колючей проволокой. О пережитом молчал, значит, не умел подобрать слова, хотя бы приблизительно передававшие то, что было. У него, правда, был выбор. Но обвинить его в том, что он тогда выбрал не смерть, я не имела права. Оставаясь в мастерской сверхурочно, приходя в субботу, он, как я чувствовала, все еще отрабатывал эту свою вину. Никто не заставлял, а он отрабатывал.
— Милости прошу, — сказал он, распахивая дверь в мастерскую.
Я вошла. Двое мужчин со смаком строгали доски. Михаил Терентьевич представил меня. Мужчины прекратили работу, я стала центром внимания. Пахло далекой тайгой, и еще пахло химией — органическим стеклом и бьющим в нос клеем. Вся стена была занята столярным инструментом и какими-то придуманными Чуркиным приспособлениями, облегчавшими работу. На его массивном верстаке лежали плексигласовые трубы. Плоский низ, овальный свод. Модель строительного туннеля. Какой же станции? Рогунской? Скорее всего, да.
— Оргстекло мы теперь греем не в масле, а в воздушной печи, — сказал Чуркин.
Подвел меня к компактному сооружению, отворил дверцы. Включил рубильник. Зашуршали, матово заалели спирали, пахнуло сухим жаром.
— Финская банька! — сказала я.
— Шутница вы, Оля! — улыбнулся Чуркин. — Ребята, не зная вас, могут подумать, что серьезности в вас маловато.
— Ну, Миша! — сказал один из мужчин. — Мы наслышаны, наслышаны. Ольга Тихоновна такой же великий исследователь, какой ты столяр.
Я покраснела. Михаил Терентьевич сказал:
— Температуру держим с точностью до градуса. Если бы оргстекло, как прежде, в масло клали, желтый туннель получился бы, тусклый. А теперь как хрустальный.
— Неистощимый вы выдумщик. Или, по-нынешнему, неутомимый рационализатор, — сказала я.
— Возвращаетесь?
— Очень хочу. Да не знаю, как. Мужа сюда не пускают.
— Так это… ежели как взглянуть. Одним и к лучшему это, одним ничего другого и не надо.
— Мне будет плохо.
— В строгости прежней живете?
— Как умею, дядя Миша.
Мужчины смотрели на меня внимательно-внимательно. Но мнение свое высказать не торопились. Я еще раз оглядела мастерскую. Здесь был порядок. Здесь работали люди, уважающие порядок.
— У нас все как прежде, — заключил Чуркин.
— Велика у стула ножка, отпилим ее немножко? — вспомнила я его любимую присказку. И ударение в слове «отпилим» сделала на последнем слоге.
Мужчины подобрели, закивали: «Отпилим, отпилим!» Ударение они тоже делали на последнем слоге.
— Все вы помните, — сказал Чуркин. — Ждем вас. С вами легко работалось, вы понятливая.
Я попрощалась и вышла. И услышала, как за моей спиной рубанки вгрызлись в смолистое дерево. Бежевое здание для меня было новым. При мне его заложили, но переезда я так и не дождалась. Мы размещались в деревянном финском доме с десятком маленьких комнат и закутков. Все были на виду у всех, и достоинства и недостатки каждого — тоже. Прощая друг другу слабости, мы, в общем, жили дружно. Бежевое здание принесло с собой простор, все разместились с удобствами. В «тереме-теремке», как мы называли финский домик, только наш начальник Яков Алексеевич Никишин имел отдельный закуток и прокурил его так, что запах табака напрочь изгнал запах дерева. Я решила найти сначала своего непосредственного руководителя Евгения Ильича Березовского, а затем нанести визит Никишину.
Евгений Ильич обрадовался мне, засуетился, засмущался. Он сидел один в большом кабинете и что-то писал. Он был страшно работящий, въедливый, строгий к себе человек. И прерываться во время работы не любил. Гости попадали у него в разряд незваных и, надо сказать, чувствовали это. Но тут он прервался без неудовольствия. Видеть это было приятно.
— Какими судьбами? Любопытство или дальний прицел? — Его первым побуждением было обнять меня, но он вовремя вспомнил, что я женщина.
— И то, и другое. Через полгода хочу снова встать под ваше начало.
— Чем же сегодняшний день плох? Пишите заявление и принимайте в работу Даштиджумскую ГЭС. Генеральная модель, строительные туннели, катастрофический сброс — все будет ваше, все доведете до кондиции.
— Даштиджумская ГЭС — это где? — поинтересовалась я.
— Пяндж, дорогая Олечка. Старая наметка, неужто не помните? Четыре миллиона киловатт, плотина высотой в 350 метров. Станция затмит Нурек и Рогун.
— Занимательно! — сказала я.
— Да уважающий себя гидротехник все отдаст, чтобы заполучить такой объект!
— Я — уважающий себя гидротехник. Но обстоятельства не способствуют спешке. Надеюсь, до нового года первый агрегат Даштиджумской ГЭС еще не будет пущен? Это событие ожидается только на рубеже второго и третьего тысячелетий? Вот видите. В принципе, мы договорились. Место есть, и пусть оно ждет меня. Да, как Яков Алексеевич?
Евгений Ильич опустил глаза.
— Ну, Оля, — с горечью произнес он, — вы как с необитаемого острова. Никишин умер. Редкая болезнь крови. Уже полгода мы без него.
Хотелось плакать. Умный, заботливый, деликатный ученый, мой наставник умер, а я и не знала, не удосужилась узнать. Черствеешь, Оля. Люди писали друг другу, когда почта шла месяцами. Теперь есть телефон, а ты в неведении.
— Одичала я, извините.
Он странно посмотрел на меня. И я поняла: то, что я назвала одичанием, он посчитал черствостью.
— Дети, муж, нелюбимая работа. Но главное не это. Очень долго мне почему-то было стыдно показываться вам на глаза, напоминать о себе. Только недавно я переборола это чувство. А старика Никишина… я любила, как вы, как все.
— Интересоваться нашими делами можно было и издалека, не напоминая о себе.
— Я и этого стеснялась, — призналась я.
— Теперь вы придете в новый коллектив. Я и дядя Миша — вот, пожалуй, все, с кем вы работали прежде. Остальных жизнь переставила кого куда. Многих вознесла, а некоторых отстранила от земных дел, не испросив ни их, ни нашего согласия. Но есть и не грустные новости. Мы построили большой резервуар чистой воды и теперь зимой не качаем тину и грязь из Бурджара.
— Какие вы молодцы! — воскликнула я.
Та вода, которую мы брали из Бурджара, наполовину состояла из канализационных стоков. Это была наша давняя мечта — резервуар чистой воды. И вот она осуществилась. Как и многое из задуманного. Обретая цель, жизнь обретает смысл.
— Покажите мне ваше хозяйство! — попросила я.
— Наше, — мягко поправил он.
Все модели были уже другие, не чарвакские, нурекские или токтогульские, а рогунские, курпсайские, туямуюнские. Но принцип их работы оставался прежним. Еще великий Исаак Ньютон вывел закон подобия, согласно которому на модели, уменьшенной против реального сооружения во много раз, происходили, при обтекании водой, те же процессы и явления, что и на настоящем сооружении. Пересчет оказался несложным. Поэтому модели представляли богатейшие возможности для доводки, шлифовки будущих сооружений. Экспериментируй, ищи совершенства! За это — за четкие ответы на задаваемые вопросы — я и любила модели. Надо было только уметь задавать вопросы. Я осматривала туннели, их выходные порталы, гасители энергии, сопрягающие участки, и чувствовала себя в родной стихии. Я приняла правильное решение, и ростки сомнений не пробивались на дневную поверхность.
Все русловые модели были амударьинские. Участок реки в створе Туямуюнского гидроузла, на котором репетировали перекрытие. На нем речной песок заменяли опилки, вымоченные в известковом растворе, очень подвижные. Русло реки у головы Каршинского магистрального капала — там собирались возводить перегораживающее сооружение.
Все было, как при мне. Но культура исполнения моделей заметно повысилась, как и культура исследований. Наряду с традиционными пьезометрами широко применялись электронные датчики. Так и надо, думала я. Жизнь не стоит на месте, испытанное старое ветшает я дряхлеет. И хорошо, что старое ветшает, перестает удовлетворять. Я наивно думала, что возвращалась к старому. Я возвращалась к хорошо известному мне делу, которое непрерывно совершенствовалось все время, пока я находилась вдали от него.
— Сдвиг к лучшему — во всем! — похвалила я.
Березовский покраснел.
— Приятно слышать, — сказал он.
Был ли он когда-нибудь влюблен в меня? Не знаю. Всегда был ровен и внимателен, да и взыскателен тоже. Сейчас он стоял и смущенно улыбался. Брился он, наверное, электрической бритвой, и его щеки были подчернены так, как модницы чернят веки тушью. Когда-то я слышала, что он не очень счастлив в семейной жизни, но подробности до меня не доходили. И потом, это было так давно. Костюм сидел на нем не как на манекене. Впрочем, он не придавал большого значения одежде. Как и многому другому, не связанному с моделями и модельными исследованиями. Человек дела, он никогда не думал о красе ногтей.
— Туямуюн задает нам задачи. — Он все-таки решил проинформировать меня о текущих делах лаборатории. — Дно — мельчайший песок, скала — черт-те где. Проран чем уже, тем глубже. Модель предсказывает пятидесятиметровую глубину размыва.
— Феноменально! — сказал я. — Натура этого не подтвердит никогда. На глубине этот самый песок вязче, плотнее. Он будет размываться совсем не так быстро.
— А как он будет размываться? Яма пятидесятиметровой глубины — это прорва. Представляете, сколько потребуется бутового камня?
Песок мы не умели моделировать точно. Опилки неплохо воспроизводили руслоформирующие процессы, но передавали их качественную, а не количественную сторону.
— Едва ли яма размыва будет глубже пятнадцати метров, — сказала я.
— На ваше бы мнение да резолюцию: «Быть посему!» — улыбнулся он. — В принципе, ничего страшного. Надо только завезти побольше камня. Но обычно наши прогнозы сбываются с высокой точностью. Хочется поддержать честь марки и в такой деликатной ситуации, как эта.
Я поняла его. Там, куда он сейчас пристально вглядывался, наши точные знания о природе прерывались, и начиналось неведомое. Он далеко ушел вперед за время, пока меня здесь не было.
— Все эти годы я откровенно завидовала вам, — сказала я.
— Ну, это лишнее.
— Это светлая зависть, она вселила в меня решимость, — сказала я, вспомнив его свойство очень многое понимать буквально.
Он проводил меня до ворот. Ему был очень нужен инженер, понимающий язык модели.
Часть вторая
I
Дима, конечно, не прислал за нами машину. Он обещал, но без твердости в голосе, и я тогда же подумала: «Подведет!» Выбор был между автобусом и электричкой. Я предпочла электричку. Не пыльно и можно почитать, если Петик не будет теребить бесконечными «почему». Но сына вполне устраивало окно и мелькающий пейзаж. Я провалилась в шведский детектив, который был слеплен очень остроумно. Вдруг Петик крикнул: «Мама, вон наш дом!» Насыпь подняла поезд над лесополосой, все тополя которой были заметно наклонены на запад, и в мелькании чиройлиерских кварталов мальчик разглядел-таки наш коттедж.
Вздрогнули стальные фермы, проплыла зеленая гладь Южного Голодностепского канала, взвихрился, вздыбился горячий воздух, отлетая от встречного поезда, и вскоре электричка подошла к перрону узловой станции Хаваст. Автобус за пять минут вернул нас назад. Набережная, зеленое поле стадиона, буйные кроны чинар и акаций. Ну, здравствуй, Чиройлиер! Здравствуй, «Чиройлиерстрой!» Но я произносила приветствие с надеждой на скорую и долгую разлуку.
Дома было чуть-чуть прибрано. Дима успел вымыть полы, но пыль вытирать не стал. Засучивай, Оля, рукава! Но сначала мы отправились на канал купаться. Пляж находился в полукилометре, а прямо за ним на пологой дамбе был парк. В парке деревья уже не клонились к западу, согнутые могучими бекабадскими ветрами.
Дома, мимо которых мы шли, большей частью были одноэтажные, щитовые. Но они тонули в садах и казались поставленными давно и прочно. С них и начинался Чиройлиер. Начинался в чистом поле, тяжело. В огромные, выше человеческого роста шары перекати-поля сбивались сорванные ветром кусты лебеды и полыни. Люди подносили к желтым шарам спичку, тянули к огню озябшие руки и думали о другом тепле, за которым пришли — о тепле домашнего очага. Все, конечно, образовалось в свое время, и первым домам, как и первым деревьям, было почти двадцать пять лет.
Я здоровалась с каждым встречным. Многих не знала, но все равно здоровалась. Не хотела прослыть гордячкой.
В Южном Голодностепском канале вода потеплее, чем в Черном море. Хорошая, мягкая сырдарьинская вода, сошедшая сюда с далеких ледников Тянь-Шаня, прогревшаяся за время долгого пути. Вначале я дала досыта наплаваться Петику. Как смешно он плюхается с разбегу, как уверенно работает ручонками! Много брызг, колоссальная непроизводительная трата энергии. Но он уже сам держится на воде.
Обессилев, он ложится на горячий песок. Это он при мне смелый, а без меня не посмеет сунуться в воду. Я плыву на середину. Вдох — выдох, вдох — выдох. Нет, не плох, совсем не плох Чиройлиер, если многие из энтузиастов, вбивавших в здешнюю землю первые колышки, сейчас — почетные и почтенные его граждане. И даже те, кто всего повидал на белом свете, бросают здесь якорь, обзаводятся семьями, и звенящая необъятная даль, по которой они бесшабашно колесили, сужается для них до размеров недельной командировки в строящийся целинный совхоз, куда час или два езды по отличной дороге.
Освежившись, ложусь рядом с Петиком. Мы можем позволить себе еще один раз войти в воду, а потом — за работу! Приготовим обед и наведем чистоту к приходу отца семейства! Я сажусь, окидываю взглядом городские кварталы. Многоэтажные дома шагнули за канал. Туда и мостик перекинули пешеходный, пока мы разъезжали по курортам. Все просто, все на виду. И город прост, и его жители, которых я делю на оседлых и кочевников, то есть неисправимых летунов. Оседлые — люди основательные, корни пускают глубокие и потому стремятся показать себя с лучшей стороны, заявить о себе во весь голос. Своей репутацией дорожат. Они — та ростовая сила, с помощью которой Чиройлиер расправляет плечи.
У кочевников иная психология. Ветер странствий, постоянно наполняющий их паруса, все время грозит сорвать с якоря, и срывает-таки, и гонит, как перекати-поле, с юга на север, с запада на восток, туда-сюда, сюда-туда. Где лучше? Где нас нет. Феномен этой неизбывной тяги к перемене мест, к погоне за феерической жар-птицей, в общем, понятен. Он доставляет массу неприятностей кадровикам и руководящим товарищам вообще. В его основе, по-моему, не только легкое отношение к жизни и вера в то, что в любую минуту все можно начать сначала, — этого предостаточно, — но и почтительное удивление, разбуженное нашими земными пространствами еще в далеком младенчестве и пронесенное до седин. Вдруг срываются и мчатся за тридевять земель не одни безусые юнцы, никогда не державшие на руках своего ребенка, но и степенные, повидавшие жизнь мужчины. Где лучше? Этого они не знают, и не узнают никогда. Где-то все-таки должно быть лучше, чем в тех бесчисленных городах и весях, которые оставлены за спиной. Последнее принимается как аксиома, ибо не нуждается в доказательстве. Кочевники — народ более своевольный, эмоциональный, самолюбивый, более ранимый, тяжело воспринимающий критику. На работе они могут стараться, но могут и прохлаждаться, если к ним не проявлять должного уважения. И заработок для них, не обремененных семьями, не столь важен. Под шумок, пуская пыль в глаза, они выдают себя за энтузиастов. Но, поблаженствовав под аккомпанемент аплодисментов, доказать делом свой энтузиазм не стремятся. Не так они воспитаны. Боязнь перетрудиться быстро гасит благие порывы. Зачем им добрая трудовая слава, если завтра их уже здесь не будет?
Закономерно, что сейчас в Чиройлиере оседлых больше, чем кочевников. Первые имеют надежный кров в виде отдельных квартир, правда, не со всеми удобствами, и от них самих зависит, уютны ли их жилища. Вторые, сколько помнят себя, довольствуются койкой в общежитии. Они если и создают семью, то кратковременную, на полгода, на год, а там что-нибудь в этой семье разлаживается, и следует рывок на новое место, где все другое, но неизменно только одно — койка в общежитии. Каждый кочевник дает себе зарок: еще немного, еще разок, и с меня достаточно странствий. Но привычка сильнее зарока, с натурой не поспоришь. По моему глубокому убеждению, ничто так не толкает человека к перемене мест, как койка в общежитии, как невозможность остаться наедине с собой ни на работе, ни дома.
Оседлый серьезный люд — костяк Чиройлиера. Кочевник — его фон, местный, так сказать, неизбежный колорит. Кочевник многолик, как те десятки печатей, которые скрепляют торопливые записи в его трудовой книжке. Он может быть милым, обаятельным, наглым, бешеным, добрым, грубым, эрудированным или ограниченным — любым, ибо человеческая природа так же необъятна, как и матушка-земля.
Мы возвращались домой мимо стадиона. Когда играет «Чиройлиерец», на стадион идут, как на праздник. Пятнадцать тысяч мужчин, женщин и подростков из немалого населения городка втискивают себя в прокрустово ложе трибун, болеют неистово, и команда, конечно, старается. Это я вижу, хотя мало смыслю в футболе. Сотни мальчишек гоняют здесь мяч, ходят в другие секции. Стадион — детище Акопа Абрамовича Саркисова. Своей популярностью он спорит с другой достопримечательностью города — баней. Вообще, зодчие не одарили Чиройлиер вниманием. Кирпичные стены — под расшивку, дома — строго в ряд. Солдатский плотный серый строй, однообразие униформы. Здания лишены ухода. Да, жилищно-коммунальная служба у нас не на высоте. А где она поставлена образцово? Но ведь в этих унылых домах уютные квартиры. У квартир есть хозяева, у домов — нет. Или я опять слишком взыскательна? Как посмотреть. Пусть я настрадалась, борясь за порядок, но, невзирая на отдельные неудачи, глубоко убеждена, что порядок выгоден всем, кроме разве тех, кто живет не на зарплату.
Что ж, для людей, приезжающих сюда из степи, из самой глубинки, Чиройлиер — земля обетованная. И как они рвутся сюда, как боготворят здешнюю баню! Немного же им нужно. Зеленый остров Чиройлиера — праздник, футбол в воскресенье — праздник, баня — еще какой праздник! Вот так, Олечка. Для многих встреча с Чиройлиером — праздник, а для тебя — постылая обязанность.
— Мама, почему ты молчишь? — спросил Петик.
— Ты хочешь, чтобы мы уехали отсюда? — сказала я.
Он подумал и серьезно, строго ответил:
— Нет, мама, мне здесь хорошо. Только ты скажи Генке-крокодилу, чтобы он не ударял меня в ухо.
— Да когда же вы успели подраться?
— Я вышел, а он подбежал…
— Кто полез первый? — спросила я, возвышая голос.
Он замолчал и больше не жаловался.
II
На разбивку я старалась выехать до первых лучей солнца. Чтобы тяжелый каток жары прокатился после меня. Своих реечниц Полину Егоровну Пастухову и Мадину Хакимову я тоже приучила не мешкать. С семи до девяти в степи прекрасно. Но позже часа это преддверие ада. И мы, как могли, сдвигали рабочий день в сторону благодатной утренней прохлады.
Полина Егоровна держала внушительную связку колышков и топор. Она выглядела на свои сорок лет и жила спокойно и достойно. Я считала ее женщиной без претензий. На попечении Мадины были штатив, двадцатиметровая мерная лента и вешки. Девятнадцать лет красили ее. Она недавно вышла замуж за молодого инженера-гидротехника, завтрашнего начальника участка. Но были у нее и свои планы на будущее, свои виды, очень реальные, в которых журавль в небе даже не фигурировал, но которые включили в себя не одно семейное счастье.
Я вынесла теодолит и сумку с обедом. Мы сели в грузовичок и покатили. Дома и деревья Чиройлиера стали быстро уменьшаться. Последней растаяла в утренней свежести водонапорная башня. Сначала растаяли ее ажурные опоры, и какое-то время казалось, что большой бак, выкрашенный суриком, парит в воздухе, а потом и его не стало. Степь окружила нас, и не было ей ни конца, ни края. Впрочем, отчетливо проступали горы на юге — Туркестанский хребет, и горы на востоке — хребет Кураминский. Но на север и запад равнина простиралась далеко-далеко, до самых морей. Тонкий шлейф пыли заметал наши следы. Ехали-ехали и приехали.
— Бабоньки, искать трассу! — скомандовала я.
Мы встали спиной друг к другу и пошли по трем направлениям. Полынь, увядая, источала пряный аромат. Плотные кусты янтака стояли кучно, особняком. Пырей высох совершенно. Но попадались и белые пятна соли. Растительность обходила эти ядовитые выпоты стороной. Мне встретился пустой панцирь черепахи с неровным отверстием, прогрызенным острыми шакальими зубами. Метнулся в сторону варанчик и застыл, подрагивая белым брюшком и постреливая языком. Проползла оранжевая фаланга, раскачиваясь на длинных мохнатых ножках. Фу, страшилище мерзопакостное! Безлюдье, простор были привычны и не смущали. Мне они помогали работать. Подгоняло нас не время, а солнце. Незримый истопник подбрасывал в гигантскую топку все новые дрова. Трест «Чиройлиерстрой» приступал к освоению самого неудобного, самого трудного участка Голодной степи. Здесь потребуются большие промывки. Каждый гектар покроют три-четыре раза полуметровым слоем воды, она и вытянет вредные соли. Моя сегодняшняя задача — вбить 367 колышков. На месте каждого встанет опора лоткового оросителя.
— Репер, репер! — извещает Полина Егоровна.
Спешим к ней. Ориентируюсь по этой находке и быстро отыскиваю трассу. Над точкой поворота устанавливаю теодолит. Отвес — над колышком, пузырек уровня — на середину. Можно провешивать трассу. Полина Егоровна идет ко мне, втыкает вешки. Я даю поправки, она ударяет по вешкам обухом топора. Ни на что женщина не претендует, жизнью довольна, карьера, вопросы профессионального роста не интересуют ее совершенно. А дело свое делает на совесть. У Мадины вешки не стоят так прямо.
Готово! Теперь по второму лучу идет ко мне Мадина. Объектив дает тридцатикратное увеличение, и я вижу молодую женщину близко-близко. Только идет она головой вниз. Выражение лица — нейтральное. Эмоции бережет для тех минут, когда будет на людях. Работа — обязанность, работа — обязанность! Поэтому вешка так долго не становится в створ. Ничего, у меня встает. И не хмурься. Мадина, а внимательно следи за моими указаниями. Почему ты не пошла после десятилетки в институт? В техникум? Вышла замуж, и это помешало? Способностей хватило бы, ты смышленая. Вот желания, чувствую, не было. Комсомолка, подала заявление в партию. Стремишься вести общественную работу и выдвинуться на этом поприще? А знание жизни? А отзывчивость, душевность, внимание к людям? Это, Мадина, не пустое, это — и доверие, и авторитет. Детей, ты говорила, у тебя будет трое. Не шестеро, а трое, иначе не поживешь для себя. Может быть, ты и права, я с двумя управляюсь далеко не так, как рекомендует педагогика. Муж тоже хочет выдвинуться? Наверное. Итак, ты знаешь, к чему стремишься. И вначале меня покоробила твоя откровенность. Но вполне возможно, что ты права. Того, чего мы стеснялись, сейчас не стесняются совершенно. Сейчас и целуются прилюдно, прямо на улице. В махалле этого бы не потерпели, но за ее пределами — можно.
Я меняю стоянку, потом еще раз. Полина Егоровна повязывает белую косынку. Мадина надевает широкополую нарядную шляпу из рисовой соломы. Я достаю из теодолитного ящика льняную панаму. Половина десятого. А каково тем, кто весь день кладет кирпичи, варит арматуру, сидит за рычагами бульдозера в самом близком соседстве с огнедышащим стосильным мотором?
Теперь — собственно разбивка. Звенящей струной натягивается стальная лента. Шпильки трудно входят в землю, не знавшую плуга. Беру колышки и топор. Шесть метров и один сантиметр — он дается на стык между шестиметровыми лотками. Наотмашь бью по белой головке колышка. Еще. Еще! Двенадцать ноль два. Восемнадцать ноль три. Передняя шпилька становится задней, задняя выдергивается, лента уносится вперед. Четыре ноль четыре. Десять ноль пять. Шестнадцать ноль шесть. Колышки стоят ровно, красиво. Так же должны стоять лотки. Не вилять. Следом за нами пройдет экскаватор, на стреле которого висит трехтонная конусообразная чугунная груша. Она и обрушится на колышки с десятиметровой высоты. Вздрогнет земля, и образуется глубокая вмятина. Операция повторится много раз. Лесс — грунт с подвохами, и его надо как следует уплотнить, чтобы опоры лотков не просели, когда землю напитает поливная вода. Потом — монтаж. Все, что я здесь делаю, по силам и опытному технику. Но это интереснее, чем выдавать прорабам чертежи или заносить в ведомости объемы выполненных работ.
— Выше нос, бабоньки! — говорю я. — Уже и конец виден.
— Ну, Ольга Тихоновна! Сидела бы я на вашем месте в прохладной комнате, холила себя перед зеркалами.
— Можно, — согласилась я. — А ты, Мадина, что на это скажешь?
— Не знаю. Я только начинаю жить.
— Скучно холить себя перед зеркалами. Я почему-то не замечаю, что те, кто половину зарплаты тратит на парфюмерию, выглядят лучше.
— Мне дома никогда не скучно, — сказала Полина Егоровна.
— Тогда почему же вы работаете? — Ее муж, бригадир, зарабатывал очень даже прилично.
— Дочери большие, хотят красиво одеваться. Это стоит денег.
— Пусть учатся шить. Все свои лучшие платья я сшила сама.
— Правда? — воскликнула Мадина. — А я считала, что у вас в Ташкенте свой портной.
— Я и есть этот портной. Раз десять перепорю готовое, но фасон выдержу.
— Мои не учатся шить. Хлопотно, непрестижно.
— Непрестижно! — рассмеялась я. — А что престижно?
— Престижно, когда мама с папой и оденут, и обуют, и деньги в карман положат. Старшая школу кончает, так ей знаете как трудно угодить? Все не так, и что ты, мама, в нынешней моде понимаешь? Да взгляни на себя, как ты одеваешься! Как двадцать лет назад. А я действительно одно и то же надеваю, привыкла.
И потек житейский женский разговор о доме и семье, магазинах, базарах, поликлиниках. Новостью для меня стало то, что Полина Егоровна купила бычка и откармливает его. Теперь ко многим ее домашним заботам прибавилась еще одна: добывать бычку корм. Она обкашивала арыки, обочины дорог, брала у знакомых пищевые отходы. «Если старшая замуж захочет, у меня, пожалуйста, мясо на свадьбу, — объяснила она. — Остальное продам, вот и приданое». У нее и куры были. Я бы этим просто не могла заниматься. А почему, собственно, не могла? Только потому, что никогда не занималась? И откуда это пренебрежительное: «Не могла бы»?
— Ты, Полина Егоровна, по-житейски мудра, — заключила я. — Тебе бы к земле ближе держаться, крестьянствовать. Нет такого желания?
— Мы с мужем обговаривали это, — спокойно сказала реечница, никак не отозвавшись на похвалу. — Можно и осесть в новом совхозе. Но это зависит от того, какой директор попадется. К хорошему хозяину пошли бы.
— Я не смогла бы жить в совхозе, — вдруг сказала Мадина. — Размаха нет, не по мне это.
— Размах каждый себе сам создает, — сказала Полина Егоровна. — Он от человека зависит, от его внутреннего устройства. Кто свое дело любит и работает с радостью, тот столько всего напридумывать может, что успевай поворачиваться! Я так считаю: если человек честно работает, он и живет честно, ничего неправедного себе не позволит. А есть размах или нет, дело десятое. Мы вот внушили себе, что коров пасти, свиней разводить — это не размах, не престижное занятие. Спохватились, да пока наверстаем упущенное, сколько без мяса просидим!
— Молодец, Полина Егоровна! — опять похвалила я ее. — В вашей семье, точно, не муж, а ты бригадир.
— Я, — согласилась она. — Но бригадирские он получает. Семья на женщине держится, но муж должен быть в центре внимания. Какая в семье женщина, такая и семья.
— Я еще только узнаю про все это, — сказала Мадина.
— Милая, без детей про это не узнаешь. Как, Тихоновна?
— Согласна.
Я вогнала в неподатливую землю последний колышек и отерла со лба пот. Было знойно, очень знойно. И не укроешься. Со всех сторон — солнце и зной. Мы побрели к последней теодолитной стоянке. Расстелили платок, выложили на него нехитрые яства — хлеб, сыр, помидоры, виноград. Приятного аппетита, бабоньки!
Ели чинно, не спеша. Пили чай из термоса. Я подумала, что Полина Егоровна могла бы заняться общественной работой, у нее получилось бы. Знание жизни — великая школа.
Я думала, что мы знаем друг про друга все, но это было далеко не так. Ни Полина Егоровна, ни Мадина не знали, что я — хороший исследователь-гидравлик, я им ничего не рассказывала про лабораторию. И точно так же они рассказали мне о себе далеко не все, особенно Мадина, медленно преодолевавшая природную застенчивость. Конечно, она будет расти. Но это будет не гладкий, не безболезненный, не быстрый процесс. И он будет прямо связан с постижением жизни, с расширением кругозора.
Вот и наш грузовичок. Улыбка водителя. Горячий, как из духовки, ветер в лицо. Мелькание полыни, лебеды, пятен соли. На дамбе Южного Голодностепского канала наше транспортное средство тормозит, и мы с криками, с хохотом мчимся к воде. Летим, как школьницы, позабывшие про правила хорошего тона. Чуть ли не на бегу освобождаемся от одежды. Плаваем, плещемся. Вот благодать! И Полина Егоровна, и Мадина держатся берега. Мадина, по-моему, никогда не посещала школьных уроков физкультуры. Я сказала ей об этом своем предположении.
— Да, я филонила. А что, видно?
— Видно. — Мой ответ очень ее расстроил. — Не все потеряно! — бодро сказала я. — Есть удивительное средство. Верное, и ничего не стоит. Называется оно утренняя гимнастика.
Я вышла на берег и показала с десяток упражнений. Женщины смотрели на меня округлившимися глазами, и водитель раскрыл рот.
— И все? — сказала Мадина.
— Всего-навсего. Но минимум полчаса, и через все «не хочу». Через год у тебя будет фигура танцовщицы.
Мы оделись, и водитель сказал:
— Ну, как, полегчало? Солнце-шарик крепко жарит. Бросайте, красавицы, жребий, кто со мной останется, а кто пешком домой потопает. А чего вы хотите? За «так» я больше не катаю. — Он всегда говорил это.
— Мы все трое хотим, мы все трое остаемся! — по-девичьи звонко закричала я.
— Трое? Ишь чего! Я к вам без хитростей, а вы опять не уважили ветерана.
— А вот поймаем! А вот раскачаем! А вот бросим! — Мы двинулись на него с трех сторон, разыгрывая нападение. Он ретировался в кабину и нажал на стартер.
III
Со службы я ушла ровно в пять. В отличие от мужа, здесь я не перерабатывала. Взяла из садика Петю. Внимательно его оглядела. Не простыл ли, напившись холодной воды? Мальчик был в полном порядке.
— Знаешь, кто к нам приехал? — спросила я.
— Бабуля, бабуля! — Он захлопал в ладоши и, пользуясь тем, что я нагнулась, помогая ему застегнуть сандали, заговорщически зашептал мне на ухо: — Мамочка, а что она мне привезла?
— К нам не бабуля приехала, — прервала я его эгоцентрические мечтания. — Кого мы все эти дни ждали?
— Кирилла, — сказал он без прежнего воодушевления. — Я через два года тоже поеду в пионерский лагерь!
— Поедешь, маленький.
— Я не маленький. Это Кирилл маленький. Я даже плавать умею.
Кирилл сейчас был в два раза старше Петика. Пять лет — нормальная разница. Старший выпорхнет из гнезда, когда мы приблизимся к пятидесятилетнему рубежу, а младший еще какое-то время побудет с нами. Не будь Дима таком занятым товарищем, я бы родила еще одного-двоих. А так — все сама и сама. Это меня и остановило.
Дома Петик бросился к Кириллу. Они тискали друг друга, мяли, визжали. Кирилл поддавался, и Петик упивался временными победами. Старший вытянулся, прибавил килограмма два, стал более самостоятелен: режим, дисциплина, общество сверстников.
— Еще поедешь? — спросила я.
— Да, мама. Если можно.
Это входило в мои планы. Не то будет слоняться по улицам да пропадать у канала. Пусть привыкает к требованиям, отличным от домашних. Я погнала Кирилла в ванную, за ним увязался Петик. Какую возню они там устроили! Спорили, смеялись, плескались, ныряли, налили воды на пол. Петик заливался смехом, Кирилл, напротив, вел себя сдержанно, стоически отражал атаки младшего. Петик, забияка эдакий, лез и лез к нему. Старший, защищаясь, не старался сделать ему больно. Так они могли возиться часами, забывая обо всем на свете. Но общих игр у них не было, у каждого — своя. В играх старший не уступал, и гармония разрушалась. Угнетенный поражениями, Петик краснел, расшвыривая игру, истошно кричал Кириллу: «Ты… ты знаешь кто? Ты крокодил! У тебя зубы лошадиные!» И убегал в другую комнату. Он не умел еще переживать неудачи, и его приступы злости меня беспокоили. Книги они тоже смотрели порознь. Трения тут возникали между ними острые, и я не сглаживала их, не стремилась к тиши да глади. Пусть на своем личном опыте учатся строить отношения с людьми, постигают великий смысл таких понятий, как честность, справедливость, искренность, верность слову. Вообще Кирилл мягче, добрее, сдержаннее. А Петя — это командир, и властность, воля проявились у него рано. Будут ли эти качества подкреплены острым, пытливым умом?
Они плещутся, смеются, пререкаются. Петик встал в ванне, спрятал руки за спину и заявил:
— Ты меня не ударишь по рукам, у меня нет рук!
Тогда Кирилл достал пластмассовые руки, отломанные от куклы:
— Я пришью тебе вот эти кривые руки. У тебя будут короткие кривые неумелые руки.
— А я… я тебе сделаю такой укол, что тебе до утра будет больно!
Я силюсь вспомнить, были ли у меня такие же веселые, беззаботные годы. Наверное, были. Конечно, были. Они были у каждого, кто вырастал в нормальной семье, и уровень материального благополучия тут ни при чем.
Сняла белье — его надо гладить. Поставила суп. Так и есть, Кирилл потерял половину пуговиц, некоторые вырвал с корнем. Протер брюки от тренировочного костюма. Чини, хозяйка. Моя классная руководительница — мы учились еще раздельно — никогда не делала замечаний за поношенную форму или заштопанные чулки, но безжалостно выставляла за дверь нерях, посмевших явиться в помятом фартуке или с несвежим воротничком.
— Мама, я его утопил!
Пора их извлекать из воды. Кирилл уже стесняется меня, и я только приоткрываю дверь и протягиваю мальчикам два полотенца. Достаю чистые трусы и майки и командую:
— Вылезать! Воду спустить! Вытираться сухо-сухо! Кто не вытрется сухо, у того простынет ухо! Пол подтереть!
Глажу Диме сорочки. Семь штук, на неделю. Руководствуюсь принципом: в одежде поменьше синтетики, и потому мучаюсь. Хлопотно стирать и гладить сорочки из хлопка.
— Мама, а что мы будем кушать? — спрашивает Петя.
Прошу его и Кирилла накрыть на стол. Салат из помидоров, огурцов и лука они готовят сами. Терпеливо строгают лук, воротят носы. Суп, гречневая каша, на третье чудесная бухарская дыня. Половина девятого. Я ем, не обращая внимания, вкусна ли пища. Если бы с нами за столом сидел Дима, у еды был бы отменный вкус.
Смеркается. Петик подкатывается ко мне, как колобок:
— Мама, ты включишь нам телевизор?
Хитрости ему еще не удаются, он простодушно улыбается. Его послал Кирилл. Как я буду с ними с двумя вдали от отца? Два-три его наезда в месяц, два-три праздника — это не в счет. А что в счет?
Дети вымыли посуду и сели у телевизора. Я включила стиральную машину. Кто ее видит, эту нескончаемую домашнюю работу? Кто ее взвешивает, оценивает, кто за нее благодарит? В десять Кирилл, более приученный к режиму, пошел стелить кровати. Петик остался. Хочет, чтобы я перед сном приласкала его. Только что они смотрели сказку, а все персонажи сказок для него — явь. Он не представляет себе, что бабы-яги на самом деле нет, ведь ее по телевизору показывают! Я выключила свет. В темноте на погасшем экране блеснула яркая точка. Снова блеснула. Наверное, выпуклое стекло отражало свет уличного фонаря. Я сказала Петику:
— Пошли, посмотрим, как гном подглядывает одним глазом.
Он напрягся, но позволил повести себя. Мы встали у экрана, потом я вернулась и плотно закрыла дверь. Стало совсем темно. Петик подбежал ко мне, не промахнулся. Прижался к моей ноге.
— Вон глаз гнома! — сказала я. — Какой яркий глаз!
— Гном добрый? — немедленно поинтересовался он.
— Добрый, — сказала я. — Но он не любит, когда маленькие мальчики много шалят и не слушают маму.
Он еще крепче обнял меня.
— Давай подойдем ближе, — предложила я.
— Давай лучше вдвоем! — сказал он. Яркое пятнышко на погасшем экране телевизора надолго запомнилось ему как глаз гнома.
Ну, денечек! А другие разве не такие? Да была ли я в Форосе, на берегу лучшего из морей? Все хорошее быстротечно, и только нудная домашняя работа никогда не кончается.
Остановилась машина и тут же уехала. Дима! По привычке я смотрю на часы. Двадцать минут одиннадцатого. Сегодня он отнял у семьи всего пять часов. А за десять лет?
— Молодец! — приветствую я его.
— Что? — Он знает, что виноват и должен нейтрализовать мое недовольство.
— Молодец, что вспомнил, что у тебя есть семья.
— Никуда, как видишь, не делся.
Он обнял меня. Так он гасил критику в свой адрес. Устал, как и я. Кормлю его. Он тянется к газетам, я отодвигаю их. Вдруг стукнула дверь, вбежал Петик, щуря глаза. Сонный-сонный. Потерся лбом о колени отца. Засмеялся и убежал. Теперь он уснет сразу.
— Кирилл приехал, — сказала я.
— Ну! Спит? Ай, блин горелый! — Он приоткрыл дверь в детскую. С минуту постоял, разглядывая сыновей. Вернулся в столовую. Было ли ему хоть немного стыдно? Едва ли. Я налила ему чаю. Он придвинул к себе газеты. — У Картера опять семь пятниц на неделе, — сказал он. — Несерьезный человек американский президент. Его упрямо толкают на возобновление военного противостояния с нашей страной. И он поддается, еще как поддается! Предвыборные обещания отмел, ощетинился угрозами. Как нам иметь с ним дело дальше, скажи, пожалуйста?
«Никак», — хотела сказать я, но промолчала. В первые месяцы совместной жизни я могла заявить: «Пусть это тебя не беспокоит». Потом поняла: все, что касается нашей страны, ее положения в мире, ее влияния на климат международных отношений, касается и его лично. Аполитичность он считал очень дурным качеством. Он приравнивал ее к отсутствию нравственных ценностей.
— А ты чего от Картера ждал? — спросила я. — Недруга лучше иметь откровенного. На их заверения и улыбки нам лучше не полагаться.
— Да, я не сообщил тебе главного. — Он невольно взял торжественный тон. — Начали готовить рабочую эстафету. Благослови, мать!
— Желаю успеха.
— Кисло ты как-то это произнесла. Без воодушевления.
— Знаешь что, муж? Приди завтра, пожалуйста, хотя бы в девять. Чтобы старший сын увидел тебя перед отъездом в пионерлагерь на вторую смену. Кирилл так привык, что тебя не бывает дома, что даже не спросил, где ты. Известно, где — на работе. Ты, видишь ли, что-то там возводишь большое, тебе не до таких мелочей, как жена и дети. Это тревожно. Дети отвыкают от тебя.
— А если без преувеличений?
— Да я слишком мягко живописую. На самом деле все куда более контрастно. Твое невнимание к семье переходит все границы. Я-то прекрасно знаю, что не нужда, а вредная привычка заставила тебя засидеться допоздна.
— Нужда и выработала привычку, — сказал он.
Обычного: «Виноват, исправлюсь!» — не последовало. Он поманил меня, усадил рядом с собой. Я ждала его улыбки, но он не улыбнулся. Он устал сильнее меня. И больше нуждался в моем участии, чем я — в его.
— Странный ты сегодня, — заметила я.
— Знаешь, чего мне сейчас очень захотелось? Выйти на борцовский ковер. Сначала согнать вместе с семью потами жирок, вернуть былую силу и ловкость, а потом выйти против крепкого противника. Чтобы поединок шел тяжело, с переменным успехом, с красивыми бросками.
— Зрелищно, — сказала я. — Надеюсь, ты не захотел, чтобы схватка кончилась твоим поражением? И традиционное «пусть победит сильнейший» тебя тоже не устроило бы?
— Ну, как ты дальновидна! Прямо прозорлива. В итоге, конечно, я припечатываю его к ковру. Усыпляю бдительность и ловлю на свой коронный прием. Я вспомнил, какой лютый это был труд — тренировки. Трико хоть выжимай, а я свеж, как огурчик. Я много потерял, когда спорт ушел из моей жизни.
— Создай секцию борьбы в «Чиройлиерце». Или несолидно?
Он опустил голову. Всему свое время. Оно щедро дарит, но и безжалостно отбирает, по частям или все сразу. Да, на ковер он мог выходить теперь только в своем воображении. «Ладно, — сказал он, — чего уж тут… К прошлому возврата не бывает».
Он включил проигрыватель и поставил «Времена года» Ференца Листа. Звучащее раздумчиво фортепиано успокаивало его и, наверное, помогало что-то обдумывать. Вдруг полились мощные, мятежные аккорды. Акустическая система высшего класса точно воспроизводила звук. Дима слушал, закрыв глаза. Великий композитор обнажал душу. Он получил право делать это и после своей смерти. Мы прослушали два диска, и Дима Сказал:
— Ну, тебе спать, а я еще немного пободрствую. Не возражаешь? Кое-что складывается сложнее, чем хотелось бы. Твоего совета спрошу, когда внесу ясность в свои рассуждения и планы.
— А ты? — спросила я.
Он не понял и самодовольно сказал:
— Сна ни в одном глазу.
Я легла и подумала, придет ли он сейчас ко мне. Я ждала, а он не шел. Позвать я постеснялась. Несмотря на столько лет замужества, я все еще стеснялась этого. Мне стало обидно. Потом я заснула.
IV
Контору в тресте «Чиройлиерстрой» называли командным пунктом, а Дмитрия Павловича — командиром, или командиром Димой. На свой командный пункт из трудового отпуска он вернулся с хорошим запасом сил а с кое-какими идеями, которые и намеревался претворить в жизнь без проволочек. Для многих, он знал, это будет неожиданностью, и если приятной, тем лучше.
Два дня он посвятил рекогносцировке, все облазил, во все вник, натягивая выпущенные было из рук бразды правления. А когда нити руководства трестовскими подразделениями вновь естественно сошлись в его руках, когда он почувствовал их певучую упругость, вбирая в себя информацию рапортов и по привычке уплотняя суточные графики, когда стройка ответила на его возвращение к штурвалу небольшим, но весьма конкретным ускорением ритма, некоторыми, тоже весьма конкретными сдвигами по части подтянутости и порядка, он созвал трестовский актив, проверенных временем, пустыней и делом все еще молодых начальников передвижных механизированных колонн, участков, отделов и служб. И сказал им:
— Пока вы тут давали план и воевали с разного рода препятствиями, чтобы не выглядеть без меня хуже, чем со мной, я на берегу лучшего из морей думал о вас. Думал о том, что может существенно облегчить нам жизнь. И, знаете, пришел к выводу, что нам необходимо усилить взаимодействие на всех участках. Надо еще подтянуться, поднять ответственность за порученное дело. На монтаже лотков у нас есть конвейер? Есть. Оправдал ли он наши надежды? Вполне. И если мы от него откажемся, что будет? Чепуха, возвращение в день вчерашний. Значит, не отказываться нам нужно от конвейера, а внедрять его на других участках. Сегодня нет дела важнее. И если кто-нибудь из вечно сомневающихся, из вечно осторожничающих скажет мне на это, что, мол, условия еще не созрели, я отвечу: а вы создайте эти условия, подтвердите свое высокое звание инженера, организатора строительного производства. Необходимыми полномочиями вы наделены, что делать, знаете. Так действуйте, дерзайте! Сейчас, сегодня где нам более всего необходим конвейер? На первой насосной. Как нам обеспечить его внедрение? Думайте. Соображения свои доложите по мере того, как они будут у вас выкристаллизовываться, но не позже чем через два дня. Советую в предложениях, которые вы дадите, широко использовать принципы рабочей эстафеты, взаимодействия. В смежниках прошу видеть товарищей по общему делу; все наши планы должны быть согласованы с ними — не навязаны, а подсказаны общим интересом. Вопросы прошу задавать не мне, а самим себе и друг другу. Инженер, который останется в стороне от этой работы, не потеряет ничего, кроме моего уважения. Думайте, как нам отладить конвейер, как сделать стыки прочными и надежными. У меня все.
Он задал задачу и был уверен, что подчиненные теперь разложат ее на составные части, а когда соберут вновь, станет ясным и решение. Он просил подняться над границами привычного, пофантазировать даже, повитать в облаках, не упуская при этом из виду и матушку-землю. Многие были смущены, но уже плыли нужным фарватером, очерчивали круг проблем, которые включала в себя задача. Все вышли один за другим. Два прораба поинтересовались, велик ли директорский поощрительный фонд и каково будет вознаграждение, если… Но это было не прощупывание, а желание попасть в тон.
— Боже мой! — с пафосом воскликнул Голубев. — За мной не заржавеет!
Анатолий Долгов позволил себе остаться. «На два слова», — сказал он. В отсутствие Голубева он вел себя молодцом, он любил и ценил самостоятельность и доверие и потому выкладывался, стараясь превзойти себя. Но, превзойдя себя, до голубевских рубежей, все же не дотянул, пусть самую малость, и Дмитрий Павлович сразу указал ему после приезда на это маленькое отставание, на какие-то двести не уложенных кубометров бетонной смеси. Потом сдавил в объятиях.
— А нужен ли нам звон? — полюбопытствовал Толяша.
— Колокольный — нет. Нам конвейер нужен. Рабочая эстафета нужна. Значит, нужны споры, столкновения мнений. Только так мы придем к полной ясности.
— Философствуешь все. Фантазируешь. Обозначится успех — народ сунется разный. Успевай водить — показывать. Работать станет некогда.
— Начальство, корреспондентов и делегации по обмену опытом советую любить — уважать — жаловать, — назидательно так сказал Дмитрий Павлович. — Нам нужна поддержка, а славу мы как-нибудь переживем.
— Блин горелый! — сказал тогда ему Толяша, его предприимчивый однокашник, которого он не раз вытаскивал из скверных ситуаций.
— Сам блин горелый! — весело возразил Дмитрий Павлович и обрушил на плечо Толяши тяжелую свою ладонь. Толяша заскрипел и дал крен. — Ты мне обеспечь все, что нужно. Чтобы каждый твой рабочий знал, для чего применена эта эстафета. Чтобы он с ее помощью больше зарабатывал, чтобы профессию свою считал лучшей на свете. Мы такое у тебя закрутим!
— Я — ничего, — сказал Толяша Долгов, улыбаясь. — Я — за, как и ты.
— Не поддакивай, а думай. Мне важно не формальное согласие, а такое «за», которое дело быстрее вперед двинет. Личную заинтересованность твою хочу увидеть.
— Уразумел.
— Фронт работ сейчас какой, посуди! Трубопровод собрать надо? Это четыре с половиной тысячи тонн металла. Трансформаторная подстанция с машиной, которую ты нарек мамонтом. Сама насосная, два первых пусковых агрегата. Одного бетона семьдесят тысяч кубиков уложить надо.
— Трубопровод и подстанция — не моя забота. За субподрядчиков у меня голова пока не болит. Вот за бетон я в ответе.
— А все остальное — моя, но не твоя забота, да? Легко жить собираешься. Все мои заботы — и твои тоже. Ничего ты в рабочей эстафете не понял. Разберись, очень тебя прошу.
— Слушаюсь, командир!
— Знаешь, что? Мы это на партийное собрание вынесем. Посмотри, кому из хватких твоих ребят лучше выступить, кликнуть клич. Не мямлить надо, а позвать, повести за собой.
— Почему-то теперь так называемая инициатива снизу очень часто рождается наверху, например, в твоем командном пункте, — поддел его Толяша. — Не обратил внимания?
— Ты зато обратил. Не вижу ничего зазорного. Лишь бы последователи были и дело делалось быстрее и лучше. Или у тебя другое мнение?
— Твое мнение — это и мое мнение, командир!
— Ой, не прибедняйся!
— А выступит, если ты не возражаешь, Ринат Галиуллин. У него и выработка, и дисциплина. И чутьем не обманут, новое издали распознает. Охотно идет на взаимодействие. А еще недавно был индивидуалист. Не верится даже, что так быстро перековался. Организуем и аплодисменты.
— Зачем в деловой обстановке аплодисменты?
— Ну, мне пусть люди аплодируют, если ты человеческой благодарностью сыт по горло. С Галиуллиным сам переговоришь?
— Обязательно. Хочу, чтобы каждое его слово в десятку попало.
— Скажи, командир, тебя там, у моря, тоска заедала?
— Какая тоска?
— Серая, или зеленая, или черная — не знаю, какой у нее цвет. Или ностальгическая, если цвета ее ты не запомнил. Ты не знал, куда себя деть, и придумал эту рабочую эстафету.
— Придумал! Высоко ты меня ставишь. Говори: перенял. Я хочу готовую идею пересадить, как дерево, в нашу плодородную почву.
— Вообще разумно.
— Нескончаемые претензии друг к другу надоели. Пора научиться сообща искать выход из трудных ситуаций. Если искать постоянно мальчиков для битья, непременно настанет день, когда этим мальчиком будешь ты.
— Ладно тебе. Бьют-то давно уже не больно, одна острастка. Давай менять пластинку. Люблю быть инициатором, — мечтательно так сказал Толяша Долгов. — Может, и к награде представишь, не одни блины горелые мне должны доставаться. Намек-то хоть понял?
— Думай, дорогой, думай. Иди.
Оставшись один, Дмитрий Павлович попросил соединить его со Свердловском. Затем связался с директорами заводов «Уралэлектротяжмаш» и «Уралгидромаш». Сказал, что, следуя принципам взаимодействия, которые лежат в рабочей эстафете, трест готов оказать посильную помощь машиностроителям, если те изыщут возможность ускорить изготовление электродвигателей и насосов. Услышал в ответ:
— Благодарю. Сварщики нам нужны хорошие. Но гонять людей туда-сюда, наверное, нет резона. Вы вот чем помогите. К октябрьским праздникам, к новому году фруктов, овощей свежих подбросьте. Но особая просьба — весной об этом побеспокоиться. К нам весна на три месяца позже приходит, так вы пришлите ее в рефрижераторе. Весенний авитаминоз, он, знаете, сказывается на производительности труда.
— Думаю, изыщем и рефрижератор, и чем его загрузить. Одалживаться для этого не придется, у нас отличное подсобное хозяйство. Поделимся и луком, и арбузами. Будущим летом готовы принять детей ваших работников, человек двести, в школьный трудовой лагерь. Он у нас в саду-совхозе. Пусть поживут у нас лето, пропитаются солнцем.
— Вот это человеческий разговор, — ответили в Свердловске. — Ничто так не облегчает руководителю жизнь, как взаимный учет интересов. Надеюсь, в делячестве нас не обвинят — о людях заботимся. Давайте будем выполнять то, о чем договорились.
Директору второго завода Дмитрий Павлович уже сам предложил то, о чем его попросил директор первого. Он не только просил, но и давал, и потому легко договорился. Голубев записал нужные координаты и принятые на себя обязательства. В принципе дело было сделано, поставки уникального оборудования обговорены и согласованы.
Теперь предстояло заручиться содействием начальника Голодностепстроя Иркина Киргизбаева. «Зачем мне его содействие? — горячась, думал Дмитрий Павлович. — Не мешал бы, не ставил палки в колеса». Отношения с Киргизбаевым у него испортились после того, как в конце минувшей пятилетки Киргизбаев показал освоенными пятнадцать тысяч гектаров земель, которые все еще были в работе, и тем самым существенно улучшил показатели территориального строительного управления. Но, улучшив показатели с помощью росчерка пера, Иркин Киргизбаевич залез на год вперед, а Голубев потом, расшибая лоб, доводил до кондиции земли, которые давно уже числились освоенными. Тогда, на рубеже двух пятилеток, он мог кое-кому открыть глаза, однако не ринулся в бой. Соотношение сил складывалось так, что его устранили бы с пути, и он, ничего никому не доказав, уступил бы свою должность такому же показушнику, как Киргизбаев.
Потом эти введенные на бумаге, но первозданные в своей нетронутости целинные гектары выставляли Голубева в неверном свете, а Киргизбаев остался в стороне и отвечал только за недогляд, за чрезмерную доверчивость. И между ними легла межа. Неприязнь к Киргизбаеву, сознательно подставившему под удар его и многих других своих подчиненных ради создания кратковременной видимости благополучия, была у Голубева глубокая, и он не скрывал ее. Актером он не был, выдавать желаемое за действительное не умел. Дмитрий Павлович мог бы простить Киргизбаеву неуверенность, неумение руководствоваться не сиюминутными, а завтрашними интересами, для этого все же требовался талант, но не прощал трезвой, далеко идущей карьеристской расчетливости, ставки на сильную руку наверху, которые, как ему казалось, были присущи Киргизбаеву. Промолчав тогда, Голубев потом обрел мужество называть вещи своими именами, а на партийно-хозяйственных активах Киргизбаеву пришлось-таки испить критики. Отношения натягивались, дело страдало. Голубев на людях никогда не отзывался о своем начальнике плохо. Поддержка областного комитета партии позволяла ему работать спокойно и уверенно.
Содействие прямого начальника, однако, было необходимо, и, скрепя сердце, Дмитрий Павлович поехал к Иркину Киргизбаевичу. Они встретились и беседовали как друзья, и сторонний наблюдатель не увидел бы ничего, кроме дружелюбия и приязни двух единомышленников. Аудиенция, по понятным причинам, не затянулась. Киргизбаев быстро вник в суть предложения, оценил его мобилизующие возможности, оценил резонанс, который подобное начинание неизбежно вызовет, и с восторгом, громким, но, как показалось Голубеву, показным, поддержал инициативу. Тепло зажженного огня должно было согреть и его, Киргизбаева. Такие вещи прекрасно ложатся в послужной список, когда готовятся реляции победные и реляции наградные. Он поблагодарил. Его слова прозвучали вполне сердечно. Что-то дрогнуло в душе Голубева, не привыкшего к лицедейству. В прокаленной солнцем степи в цене была откровенность: если на человека, на его слово нельзя было положиться, он не приживался. Груз прошлого, однако, мешал увидеть в Иркине Киргизбаевиче союзника и друга. И, выйдя от начальника, Дмитрий Павлович первым делом вздохнул с облегчением. Ничего плохого не сделал ему Киргизбаев в этот раз, а настоящего удовлетворения не было.
— К Киргизбаеву мог бы и я съездить, — сказал Сабит Тураевич Курбанов. — Опять понервничал?
— Спасибо, аксакал, — поблагодарил Голубев. — На сей раз все прошло по-доброму. Иркин Киргизбаевич человек маневренный, айсберги обходит, тонкий лед крошит. Мне же важно самому видеть разницу между его словом и его делом. Не поможет, разведет руками, а я ему: «Вы обещали».
— Почему Акоп Абрамович так рано умер? — с глухой горечью сказал Курбанов. — Не мы бы понесли к нему рабочую эстафету — он бы к нам с ней пришел.
«Почему Саркисову не нашлось достойной замены? — подумал Дмитрий Павлович. — Почему?»
Сабит Тураевич работал с Саркисовым и дружил с ним, а теперь пропагандировал его методы руководства, где мог, — его въедливость, его требовательность, которая, однако, всегда включала в себя уважение к подчиненным и душевную заботу о них.
— Собрание я почти подготовил, — проинформировал секретарь. — Монтажники и транспортники смотрят на дело с позиций практики, как и мы. От подряда, говорят, всем будет польза, все подтянутся. В Кашкадарью съездил, на завод металлоконструкций. Заверили, что задержек с поставкой секций напорного трубопровода не допустят.
— Вам бы главком командовать, Сабит Тураевич!
— Покомандовал я! А теперь возраст велит скупо расходовать силы. Я давно уже беру опытом, не импульсом, не порывом. И, поверь, это тоже становится нелегко, — с грустью признался Курбанов.
И понял тогда Голубев, что Сабит Тураевич, строивший еще под руководством неутомимого Усмана Юсупова Большой Ферганский канал, Каттакурганское водохранилище и Узбекский металлургический завод, а потом в многое другое, всегда честно подставлявший плечо под свою часть ноши, уже не в состоянии сворачивать те горы, которые играючи повергал наземь в счастливые годы зрелости. И он брал себе ношу поменьше, ибо не представлял, что может остаться вообще без ноши, уйти, как сделали сверстники, на заслуженный отдых, замкнуться в квартирном мирке и созерцать, а не созидать. Понял Голубев, что Курбанов по своей воле никогда не покинет боевых порядков. Но заострять на этом внимание не стал, а только уяснил это для себя. Ему показалось, что он ненароком подчеркнул немощь Сабита Тураевича. Он обнял Курбанова. Сказал:
— Отладим конвейер — потесним незавершенку. А там посягнем и на такой замшелый показатель, каким является строительный вал. Готовый объект, ключи от которого мы под гром литавр вручаем заказчику — вот на что будем равняться.
— До войны и в войну, когда на мне лежало бремя, которое сейчас лежит на тебе, мы, я помню, рапортовали о пуске готовых объектов, а не о сумме освоенных средств, — сказал Курбанов.
Потом они взвесили: свои силы и имеющиеся способы их увеличить: силы смежников и варианты такой стыковки с ними, которая позволила бы всем им дружно тянуть в одной упряжке; объемы помощи, которую практически можно получить от каждой руководящей инстанции — обкома партии, главка; резервы, которые может вскрыть интенсификация строительного процесса, называемая рабочей эстафетой. Им виделся порядок, и виделся успех.
V
Дмитрий Павлович задал задачу своим непосредственным помощникам и мог, вздохнув свободно, заняться текущими делами, которых всегда предостаточно. Пусть тоже подумают над тем, над чем уже как следует поломал голову он, углубляясь в дебри сложнейших взаимоотношений с субподрядчиками и снабженцами, стараясь эти дебри расчистить от всего лишнего, от упавших и гниющих дерев. Но превратить эти труднопроходимые чащи в ухоженный и удобный парк с аллеями, открывающими доступ к каждому дереву, было мечтой почти несбыточной, намерением почти неосуществимым, особенно если идти на приступ в одиночку. Эти дебри были неприступны для одиночек, какими бы прекрасными намерениями те ни руководствовались, какими бы сильными характерами ни обладали. Только действуя сообща, всем миром, расчистке и раскорчевке можно было придать нужный размах. Одна стройка — один хозяин. Без дирижера нет оркестра. Почему же тогда каждый субподрядчик и поставщик ведет себя как бог на душу положит, почему у начальника большой стройки так мало прав, реальной власти?
Он заставил себя не думать об этом. Придет ночь и прояснит мысли, отсеет реальное от фантазий. Самые неотложные дела, накопившиеся за его почти месячное отсутствие, уже были решены, но ближе придвинулись другие, не такие неотложные. Он вообще не любил откладывать. Потом дела навалятся и поглотят с головой. Он пригласил начальника отдела кадров, строгого майора в отставке. Кадровик степенно доложил обстановку. Назвал число вышедших на работу, отпускников, больных, отпросившихся с разрешения администрации по семейным обстоятельствам, прогульщиков. Последних было трое, все — пьющие.
— В оборот, и построже, построже! — наказал Дмитрий Павлович.
Одного из них, столяра, и столяра хорошего, потомственного, он знал. Он уважал в нем мастера. Но мастера в этом человеке уже потеснил на задний план алкоголик. Брали в оборот — не помогало, отправляли в больницу — не помогало. Этот столяр когда-то называл себя борцом с засухой. «И засуху переживем!» — заявлял он, когда между ним и водкой ставили шлагбаум. Теперь это жалкий, опустившийся человек. Голубев говорил с ним не один раз и каждый раз он уносил с собой клятвенное обещание не брать больше в рот ни капли. Дмитрий Павлович продиктовал ходатайство о принудительном лечении.
— Не слишком ли это жестоко? — спросил кадровик.
— Может быть, вы ответите, что в данном случае более гуманно — власть употребить или еще подождать? Ждали, уговаривали, надеялись — и ошибались, и своей ошибкой только усугубляли положение. Это не рак, от этого лечат, тут мы, слава богу, не бессильны.
— Понятно, — сказал кадровик.
— Как вам понравились новенькие — молодые специалисты? — спросил Дмитрий Павлович.
Дней десять назад в трест прибыло четверо выпускников ирригационного института, в том числе одна девушка.
— Дело покажет, — неопределенно сказал кадровик. — По мне — симпатичные ребята.
— И девушка симпатичная?
— Какой она инженер, вы скоро увидите, а невеста — сам бы в жены взял, если бы тридцаточку — с плеч и все сначала.
— Какой вы… все сначала! — Мужчины улыбнулись, и Дмитрий Павлович повел расспрос дальше. — Так, утверждаете, все зеленые-презеленые?
— А какими им быть с институтской скамьи? Один из них, Кадыров, попросился на рабочее место. Четыре младших сестры, отца нет. Наши монтажники, как вы знаете, зарабатывают вдвое больше строительного мастера.
— Об этом осведомлен. Просьбу удовлетворили?
— Не в моей власти.
— Парень крепкий?
— Здоровьем не обижен.
— Готовьте приказ: в связи с производственной необходимостью инженера-гидротехника товарища Кадырова — имя и отчество полностью — временно назначить бригадиром участка сооружений передвижной механизированной колонны № 6. Пусть ведет облицовку каналов железобетонными плитами. Там нужно поменять бригадира. Нынешнего второй раз ловлю на нарушении технологии.
— Погодите, вам укажут на неправильное использование специалиста.
— Уповаю на слово «временно». А там сошлюсь на то, что запамятовал. ЭВМ-то меня еще не контролирует! Где мы поселили инженеров?
— В общежитии.
— Надеюсь, догадались каждому выделить комнату, мебель поставили приличную — гардероб, письменный стол, книжный шкаф? Ненормированный рабочий день позволяет им рассчитывать на известное внимание со стороны администрации. А если не было у них такого расчета, пусть это будет для них приятной неожиданностью.
Кадровик покраснел и стал ниже ростом.
— Никак нет, — пробормотал он. — Пока они втроем в одной комнате. А девушку подселили к другим девчатам.
— Майор, майор! — с укоризной сказал Дмитрий Павлович. — Офицеров не селят в казармы. Инженерам расти надо, работать над собой. Я здесь первые полтора года в вагончике жил, помню, что это такое. В купе нас было четверо. Я проклял эти полтора года. Невозможность побыть одному, подумать, поразмышлять угнетала в моей душе ростки добра, инициативы, культивировала грубость и злость. Общежитием мы только отпугнем этих ребят, которые сами выбрали Чиройлиер полем приложения своих сил.
Голубев позвонил коменданту общежития. Договорились, что к вечеру будут освобождены две угловые комнаты, самые тихие.
— А для третьего пария и для девушки что-нибудь придумаем, — сказал он. — Узнайте, кто из пенсионеров, живущих в коттеджах, желает сдать комнату. Лично я предпочел бы поселиться у какой-нибудь доброй старухи. Чтобы она присматривала за мной. Ну, а я помогал бы ей в том, что ей уже не по силам.
— Будет сделано, — заверил кадровик.
— Условие одно: новоселье у всей четверки должно состояться сегодня. А завтра пусть явятся ко мне. Погляжу на них, порасспрошу. Не люблю приземленности в молодых людях. Не хочу, чтобы новенькие заразились ею.
Кадровик ушел, и Дмитрий Павлович подумал, что должен исправить еще одну ошибку, допущенную в отношении молодых специалистов. За исключением Кадырова, их всех направили в котлован, на насосную. В самую круговерть. Там у них не будет времени оглядеться, и их беспомощность сразу бросится в глаза. Может появиться неверие в свои силы, а эта болезнь опасна тем, что ею заболевают надолго. На насосной им пока не место. Каждому из них надо поручить небольшой объект, обязательно новый, чтобы и первые колышки забили сами, и предпусковой марафет навели честь по чести. Самостоятельный объект прекрасно обкатывает. У одного из них, который станет бригадиром, своя стройплощадочка уже есть. Пусть берут перегораживающие сооружения, их на всех хватит. Они невелики, но интересны, и требуют неукоснительного соблюдения технологии. Может быть, девушка предпочтет канцелярию? Будет обидно.
Он вспомнил свои первые дни здесь, беспокойство, сомнения и надежды. Это были неплохие дни, но, боже мой, каким зеленым он был тогда! Это и запомнилось ему больше всего. Он не знал, как правильно расставить людей, как выписать требование на материалы, как закрыть наряд на выполненную работу — и ничего при этом не упустить, и ничего не приписать, как… Он засмеялся. Тогда, конечно, было не до смеха. Но и над ним тогда не подтрунивали. Ну и что — инженер! Еще ни к кому опыт не приходил вместе с дипломом. Ему показывали, что и как, но не назойливо, тактично. Он даже удивился, какими тактичными могут быть рабочие. Теперь ему хотелось вернуть старый долг, быть таким же заботливым по отношению к новому пополнению. Надо, чтобы новички показали себя, загорелись, вросли корнями в здешнюю животворную почву. Чтобы, черт возьми, они гордились Чиройлиером и «Чиройлиерстроем»!
Еще вчера ему доложили, что в бригаду Абидова, монтировавшую лотки, перестали возить горячие обеды. Он обещал разобраться. Директор столовой сказала, что раздатчица Зиночка отказывается ехать в эту бригаду категорически. Хоть увольняйте, говорит. Сообщив это, директор дипломатично замолчала. Значит, раздатчицу Зиночку, распрекрасную стеснительную розовощекую девчушку, лотковики жестоко обидели. Окающая ярославочка. Всему удивляется. Мужчины, подходя к ее раздаточному окошку, подтягиваются, добреют. Но вот кто-то позволил себе недозволенное.
— Еду к вам, — сказал Дмитрий Павлович. — Готовьте пока термосы. Я вместе с вашей ярославочкой попотчую лотковиков добрым обедом.
Можно было бы нажать: обеспечьте, а обиды свои и сантименты попридержите. Но директор столовой и сама нажала бы в случае нужды, требовать она умела. Ее повара и мойщицы не тащили с работы домой полные кошелки. Ни один самый придирчивый контролер не обнаружил бы недовложений в котел по той простой причине, что их не было. Дмитрий Павлович не раз пытался расспросить, как она этого добилась. Директор улыбалась и отмалчивалась. А Сабит Тураевич, оказывается, выпытал у нее и это. «У нее мать в войну заведовала столовой. Так ни разу за все годы даже сухой корочки домой не принесла. Только из магазина, только то, что положено по карточкам, только как все», — проинформировал он управляющего трестом. Впечатления детства стали чертой характера. Вот когда складывается характер — в самые нежные годы!
Директор пригласила в свой кабинет раздатчицу Зиночку. При виде Голубева девушка покраснела до корней волос.
— Так кто обидчик? — спросил управляющий.
— Новенький у них есть. Он меня лапать начал, — сказала Зиночка. Она была готова провалиться сквозь землю.
— А бригадир?
— Бригадир не видел. Никто не видел.
— Поехали, — пригласил Голубев.
До лотковиков добирались минут сорок. Разбитные хлопцы мигом выгрузили термосы и посуду.
— Эх, столовая! — сказал Абидов. — Что стряслось-то?
— Это ты у своих гвардейцев спроси, почему они руки распускают. — Дмитрий Павлович отыскал взглядом покрытого лиловыми наколками толстощекого парня. Тот опустил глаза, потом поднял их на Голубева и выразительно сплюнул. «После срока, — отметил Дмитрий Павлович. — И с этими надо возиться!»
— Подумаешь, цаца! — сказал толстощекий.
Дмитрий Павлович не возразил. Цаца так цаца. Люди сели на сухую траву под тень автомобильного крана. Замелькали ложки. Через полчаса Зиночка собрала посуду. Дмитрий Павлович проводил ее до машины и, прощаясь, пообещал:
— Больше вас здесь не обидят. Верите?
Девушка благодарно улыбнулась. Голубев вернулся к притихшей бригаде.
— Девочка безответная, ранимая, — сказал он про раздатчицу Зиночку. — Кому-то хорошей женой будет. А вы… Или лучше из лап вот этого типчика получить?
Он ткнул пальцем в обидчика и долго не опускал указующий перст. Монтажник, сидевший слева от парня, отодвинулся от него, и отодвинулся рабочий, сидевший справа.
— Под своего играешь? — взъерепенился мужчина, облик которого носил глубокий отпечаток жизни в местах не столь отдаленных.
— Вообще мы тут не делимся на своих и чужих. Мы тут свои. Но ты пока чужой. Поразмысли на досуге.
— Ну, бейте, бейте! — крикнул парень.
Казалось, что он близок к истерике. Но он просто демонстрировал свои актерские способности. Дмитрий Павлович имел опыт общения и с такими.
— Куда тебе, — сказал Голубев. — Я ведь сильнее. Хоть один на один, хоть как.
— Мы сами с ним побеседуем, — сказал бригадир. — Мы не знали.
— Незнание не освобождает взрослых людей от ответственности, — сказал Дмитрий Павлович. — Надеюсь, найдете способ загладить вину.
От лотковиков он направил машину в областной центр. Попросил водителя уступить место за баранкой. Совсем другое ощущение оставляет дорога, когда ведешь машину сам. Скорость. Теплый ветер в лицо. Чувство окрыленности: кажется, что все тебе подвластно, все в твоих руках. По дороге он осмотрел два межхозяйственных распределителя, которые проходили в открытом русле. Они были одеты в бетонную водонепроницаемую рубашку и готовы к сдаче. Каналы бетонировали бригады Ганиева и Закирова. И Голубев должен был решить, какому из коллективов присудить первенство. Победившая бригада поедет в Краснодарский край осваивать новый бетоноукладочный комплекс. Трест получит такой комплекс в октябре, и грех обрекать на простой дорогие агрегаты. Качество работ было выше у Закирова. Откосы — идеальные плоскости, сопряжения — идеальные прямые. У Закирова и бетонную смесь уплотняли лучше. Объемы же уложенного бетона были примерно одинаковые, и формально Ганиев тоже претендовал на победу. Закиров брал какой-то особой, редко встречающейся гуманной строгостью. Только тихое, дружеское слово, только личный пример. Тихоня, интеллигент! Но у этого тихони люди почему-то не позволяли себе недобросовестности. «Подготовить бы его в институт», — подумал Дмитрий Павлович о Закирове. А бригаду Ганиева он перебросит на сооружения. Новый бетоноукладчик вдвое производительнее нынешней полуручной технологии. Дорого, конечно, посылать на Кубань такую ораву. Но неумение обходится вдесятеро дороже, опыт стоит того, чтобы платить за него полновесной монетой.
Он вспомнил, как ставились на опоры первые лотки. Вот уж где потыкали пальцем в небо! Сколько лотков сложили в гармошку, но создали технологию. А шишки и синяки, набитые в первые дни, быстро зажили. Теперь бригада монтажников за месяц ставит столько же лотков, сколько было поставлено за первые полгода. Итак, поедут Закиров и его люди.
В Гулистане, в областных инстанциях, Дмитрий Павлович обговорил детали своего не нового предложения. Он давно загорелся идеей освоить — вне плана, конечно, — стогектарный массив в излучине Южного Голодностепского канала и нарезать на нем полторы тысячи дачных участков. Тогда дачи будут почти у всех работников треста. И непременно у тех, кто живет в многоэтажных домах. Чем маяться бездельем в выходные дни, пусть люди разобьют сады, виноградники, огороды. Не пьянкой же занимать досуг. Пусть люди, освоившие здесь не одну сотню тысяч гектаров, получат возможность сами, своими руками вырастить что-нибудь на этой облагороженной ими земле.
Прежде от этой идеи отмахивались. Но в последних решениях партии и правительства по продовольственным вопросам уделялось внимание и индивидуальному сектору. И это было на руку Дмитрию Павловичу. Теперь его идея опиралась на солидный фундамент. Он же, выдвигая свою идею, во главу угла ставил не продовольственный вопрос, а гораздо больше волновавший его как руководителя вопрос закрепления кадров. Он мечтал иметь стабильные кадры, многого добился на этом пути, приблизился, можно сказать, вплотную к идеалу. Но идеал был как локоть: вот он, да не укусишь. В идеале должны были остаться только три причины выбытия из рядов прославленного треста «Чиройлиерстрой»: служба в армии, уход на пенсию или смерть. Он знал, что взваливает на свои плечи большую ношу, которая, вместе с его основной ношей, возможно, будет непомерно тяжела. Но он также знал, что никто другой с этим связываться не будет.
На дачном участке, по его подсчетам, потребуется особенно густая дренажная сеть. Орошение же лучше всего будет, пожалуй, организовать с помощью напорных трубопроводов. Надо предложить людям на выбор и кирпичные, с верандой и кухней, однокомнатные домики, и легкие навесы с айванами для тех, кто стеснен в средствах. Дренаж, ирригация и дороги — за счет треста, все прочие блага — за наличный расчет, на кооперативных началах.
В обкоме партии удивились обстоятельности расчетов. Он подумал: «Знай наших!» Именно в этой обстоятельности и заключалась его, Голубева, сила. Он считал: чтобы увлечь хорошей идеей, надо показать, что даст ее реализация. С ним согласились, но потребовали, чтобы отвлечение сил и материалов на освоение дачных участков не сказалось на темпах строительства. «Справедливо», — ответил Голубев. И с грустью подумал, что его дачи не будет среди этих полутора тысяч дач. Оля уедет, и у него не останется времени даже на то, чтобы содержать в порядке приквартирный участок. Он помог подготовить проект постановления. И уехал в Чиройлиер довольный. Теперь и это дело замкнулось на нем, а на себя он мог положиться.
Солнце опускалось, дневная жара теряла накал. Контора давно опустела. Дмитрий Павлович позвонил диспетчеру, и тот доложил обстановку. Происшествий не было. «Нормально», — подумал Голубев и достал отобранные им личные дела инженеров, занимавших должности производителей работ. Одного из них он собирался назначить на вакантную должность начальника участка. Он прекрасно знал всех троих. Сложность тут заключалась в том, что самым перспективным был самый молодой. Грамотен, дотошен, отношения с людьми строит на принципиальной основе. Но горяч. Впрочем, последнее не всегда плохо. Инфантилизм куда злокачественнее. Правда, могут быть конфликты на почве чрезмерной горячности. Что ж, он укажет ему на эту отрицательную черту. Но назначит его, тем более что и у Сабита Тураевича такое же мнение. У двоих других прорабов производственный стаж посолиднее, и они сочтут себя обойденными. Да, щекотливая это задача — повысить в должности лучшего и не обидеть других претендентов на следующую ступеньку вверх.
В отдельной папке лежали документы. Он должен был разобраться в них, прежде чем скрепить своей подписью. Бумаг за день накопилось много. «Научимся ли мы когда-нибудь работать проще, без этого канцелярско-бумажного изобилия?» — подумал он. И сам себе сказал, что, наверное, не научимся. А очень следовало бы научиться.
VI
Дни пролетали стремительно, неудержимо. Проснешься — начало седьмого, страшно хочется спать, тело тяжелое, чужое, и голова чужая, вялая. Сейчас бы от всего отмахнуться, понежиться, прижаться к мужу. Но это — для молодоженов, для тех счастливчиков, которые могут позволить себе повитать в облаках, поблаженствовать, не обращая внимания на часы, режим и тысячу неотложных дел. Вставать-вставать-вставать! Размяться! Упражнения дыхательные, выгоняющие из легких, из дальних непроветриваемых альвеол, застоявшийся там воздух. Мы дышим, используя лишь небольшую часть легких. Мы так редко доводим себя до настоящей физической усталости. Отучая себя от нагрузок, мы открываем дорогу полноте и дряблости. Упражнения для суставов, мышц ног, таза, плечевого пояса… Отдельный комплекс для мышц живота. Осанка, стройность, грация — эти столь драгоценные для женщины качества зависят от того, какая у нее талия. Мое тело легкое, упругое, прочное, гибкое, золотистое. Оно могло бы подойти и для девятнадцатилетней девушки. А мне скоро сорок.
Мадина Хакимова все выспрашивает: «Ольга Тихоновна, что вы делаете, что вы всегда такая молодая?» Я не делаю ничего необычного. Только то, что рекомендуют медицина, гигиена и физическая культура. Человек создан для активной жизни, для движения, бега, борьбы, для постоянного преодоления препятствий, постоянного самоутверждения. А не для поглощения в неограниченных количествах спиртных напитков, изысканных яств, табачного дыма. Излишества преждевременно сжигают его. Люди, физически немощные, проходят мимо многих красот жизни. И они не увидят их уже никогда.
Раз-два, раз-два! Вот и не хочется больше спать, вот и изгнаны вялость, лень, апатия. Бегите прочь, противные, я не желаю с вами знаться! Вот и день уже по-настоящему светел, пригож. «И жизнь хороша, и жить хорошо», — как сказал поэт и как повторили за ним миллионы. Кровь взбодрена, я прекрасно чувствую каждую мышцу. Теперь под душ. Холодно? И замечательно. Растираюсь полотенцем. Уже тепло, уже жарко. Ставлю чайник. Разогреваю борщ. Дима пропалывает помидорные грядки. Принес полную кастрюлю зелени — огурцов, помидоров, укропа, зеленого лука. Мою, чищу, режу. Заправляю оливковым маслом — отменный салат. Грех жаловаться на наше лето, оно такое щедрое. Поднимаю Петика. Брыкается, отбивается, бурчит — не желает. Наконец побеждает сон. Поднимаю Кирилла.
— Дети, кончайте ночевать! — поддерживает меня громовым голосом Дима. Он всем доволен, он улыбается, он счастлив. Он — сама доброта, сама надежность.
Несколько минут мы вместе, — семья за столом. Голова Петика едва возвышается, ему неудобно, и я сажаю его на колени. Едим, просим добавки, улыбаемся. Всем хорошо, а хозяйке — лучше всех, ведь я все это приготовила.
— Кирилл, веди Петика в сад, пора!
Дима надевает чистую сорочку, обнимает меня и скрывается в дверном проеме. Машина ждет, дневное кручение-верчение-качение начинается. Наказываю Кириллу, что ему без меня есть (суп, знаю, не разогреет, наляжет на помидоры и виноград), что сделать по дому и в огороде, что купить в гастрономе. Кирилл весьма пунктуален в выполнении поручений. Это у него мое. В производственных делах Дима, пожалуй, аккуратнее и обязательнее меня, а домашнюю работу выбирает на свое усмотрение.
Целую сына, прикрываю дверь и скорым шагом — тук-тук-тук! — стучат каблучки — на работу. В маленьком городе все близко, но мы по-настоящему понимаем и ценим это лишь в толчее больших городов, когда не можем выйти на нужной остановке, или не можем сесть, втиснуться в автобус, или не может дождаться транспорта в нужную нам сторону.
Ну, работа и есть работа. И в поле, и в конторе время летит, успевай только поворачиваться. Казалось бы, уж в конторе спешить некуда, а желающих поделиться новостями, посудачить, посплетничать, покопаться в чужих судьбах предостаточно. Но и в конторе я предпочитаю работать, а не развешивать уши. Хотя тут есть над чем задуматься. Почему у управленческого персонала прорва свободного времени? И коль управленцы шутя справляются со своими обязанностями, не велики ли штаты? О, замечательный, позволяющий сдвигать горы щекинский метод, почему с тобой обошлись, как с незваным гостем? У рабочих-сдельщиков, дорожащих каждой минутой, сложилось не очень лестное представление об управленческом труде. «Ну, эти-то не переработают!» Не знаю, как у других, но у меня рабочий день всегда плотный. Я и стремлюсь, чтобы он был таким. Если бы не стремилась, и у меня было бы сколько угодно времени для рентгеноскопии ближних и их поступков.
Бумаги, бумаготворчество. Каждая материальная ценность и выполненная работа должна иметь документальное подтверждение. Все правильно, другого пока не придумано. Я заполняю графы бесконечной цифирью. А время летит. Десять, одиннадцать, двенадцать. Перерыв на обед. Обедать стараюсь дома, чтобы заодно покормить и Кирилла, который к этому времени возвращается из школы. Когда дома никого нет, он ест на ходу, а суп оставляет нетронутым, выбирает, что повкуснее. Если я спешу, иду в столовую. Там готовят на редкость вкусно, а в зале уютно и прохладно. Случайность ли, что в Димином тресте лучшая в Голодной степи столовая? Убеждена, что нет. Можно, конечно, сказать, что с директором ему повезло. Но найти и поставить на должность лучшего из имеющихся кандидатов — его сильная сторона, он почти не ошибается в людях. После обеда — бегом-бегом назад. Пишу, считаю, черчу, согласовываю. Но и поглядываю на часы. Дома ждет вторая смена: плита, стиральная машина, утюг. Кстати, даже самая лучшая наша стиральная машина не освобождает хозяйку от массы операций. Белье надо замочить, воду в бак налить, порошок размешать, белье загрузить, прокрутить, в отжимной бак переложить, затем прополоскать в ванне, еще и еще прополоскать, снова отжать, повесить сушиться, снять, выгладить. Да, как ни парадоксально, стиральная машина — всего лишь модернизированное корыто и экономит куда меньше времени, чем принято считать.
Вечером я обязательно несколько домашних дел поручаю Петику и Кириллу. Играя, шаля, резвясь, они начисто забывают о моих поручениях. Не возвышая голоса, я напоминаю. О, тут я не бываю снисходительна. Стараюсь обострить в них чувство вины. Почему не выполнено такое важное мамино задание? Почему проявлено разгильдяйство? Когда это, наконец, прекратится? Я требую с них, как со взрослых. И вот уже Кирилл безропотно склоняется над раковиной с посудой, а Петя тащит тряпку и ведро (я подобрала ему ведро по росту).
— Чтобы было чисто, как на палубе! — напутствую я. — У будущего моряка под ногами всегда должна быть чистая палуба.
Петик старается, но хорошо выжать тряпку ему трудно, и я помогаю. Когда порядок в доме наведен и ужин готов, я разрешаю детям полить овощи. Они любят возиться с водой и наперебой подставляют лейку, большую и маленькую, под прозрачную струю. Пусть почувствуют усталость. Пусть проголодаются. Когда цель достигнута, я командую:
— Под душ шагом марш! Вымыться, причесаться, ужинать!
Девять, а Димы нет, и мне одиноко. Половина десятого, а его нет. Я закипаю. Он давно злоупотребляет моим терпением. Не знаю, какие к этому времени могут остаться нерешенные вопросы и неотложные дела. Тысячи людей укладываются в урочные часы и, поди же, успевают. Так и не отучила его во все вникать самому. И вот оно, наказание за обстоятельность. Интересы дела, конечно, превыше всего, а семья — что семья? Позавчера были нелады на бетонном заводе, слесари устраняли неисправность, а он стоял у них над душой и вдохновлял. Ну, может быть, не стоял, а тоже орудовал гаечным ключом. Но когда гайки закручивает управляющий, это тоже стояние над душой. Вчера пришли вагоны с долгожданным лесом, и он организовывал разгрузку. Что он скажет в свое оправдание сегодня?
Включаю информационную программу «Время», после которой дети отправятся спать. Тихо урчит машина, и появляется Дмитрий Павлович. Устал и запылился. Вот сейчас я обрушу на него всю накопившуюся и распирающую меня злость. Но ему не до моих эмоций. У него уже были сегодня большие эмоции. И я не произношу ни одного из припасенных злых, больно жалящих слов.
— Папа пришел! Папа пришел! — скандируют сыновья. Налетают, вцепляются.
Поднимается веселая суета, но я навожу порядок. Папе нужно вымыться. Папа еще не ужинал. Но вот изголодавшийся глава семьи расправляется с ужином, и сыновья, терпеливо ждавшие этой минуты, как по команде налетают на него, старший справа, младший слева, и тискают, и тузят его, стараются повалить этакую человеческую глыбу. Дым коромыслом. Жалею, что я не третий сын Голубева и не могу так же неистово накинуться на него и мять, валить, колошматить. О, я бы на сей раз постаралась, не дала спуску. Через десять минут я командую:
— Дети, спать! — и все блаженно переводят дыхание.
Я не спрашиваю о том, о чем хочу спросить: «Ну, что тебя сегодня задержало?» Я опять усмиряю себя, я — само терпение, само всепрощение, сама вселенская доброта.
— Что нового? — спрашиваю я и улыбаюсь. — Как поживает твоя рабочая эстафета?
Он отвечает и загорается. Приводит замечательные примеры. И пружина злости медленно слабеет. Я успокаиваюсь. Он здесь при любимом деле, а я — при нем, и этим все объясняется. Я уже рада, что не позволила злости вырваться наружу. Не надо мешать мужчине, когда он делает свое дело, поет свою песню. Но как быть тогда с моим делом, с моим правом на свою песню? Дима увлекся и не замечает моей раздвоенности. Завариваю крепкий чай. Сидим, чаевничаем. Я слушаю. Выйдя на орбиту, он совершает первый виток, начинает второй.
— Все очень интересно, но давай не будем повторяться, — прошу я. — Ты часто выступаешь перед людьми, а люди не уважают повторяющихся ораторов.
— Да? — удивляется он. — Но, к твоему сведению, я не оратор, а начальник. Начальника же подчиненные выслушивают не по своей воле, а в силу служебной необходимости. И если я что-то повторю два или три раза, я только усилю впечатление.
— Молодец! — похвалила я. — Тебе уже не так просто наступить на ногу. Будь добр, закажи Ташкент. Я целую вечность не разговаривала со своими стариками.
Дима берется за телефон, вызывает Ташкент.
— Мамочка, здравствуй! Как ты, как папа? Какое у тебя давление? Не беспокоит? И папа в норме? Я очень рада. Что у вас нового? Не знаете, куда девать персики? Варите компоты, крышки я вам привезу. Кирилл и Петик обожают ваши компоты. И Дима — тоже. У нас все по-старому. Остро не хватает времени. Одно верчение, никакой личной жизни. («Но-но!» — рокочет Дима). Крепко-крепко тебя обнимаю, целую. В это воскресение не приедем. Кирилл идет в школу. В следующее — обязательно!
Матери и отцу уже много лет, и я ко всему готова. Уютное родительское гнездо — уютнее его ничего нет на свете — скоро опустеет. Сейчас мы видимся раз в месяц, чаще не удается. Я чувствую, как им тяжело без меня и внуков.
— Порядок? — интересуется Дима.
— Пока да.
Он раскрывает толстенный том, а я ложусь. Наваливается пустота. Потом меня подхватывают и колышут волны снов. Картины другой, полуестественной, сказочной жизни, в которой я и близкие мне люди — главные персонажи, а часто и вершители судеб, — обволакивают, и это проникновение в иные миры и измерения очень похоже на необыкновенные приключения. Научиться бы управлять снами. Чтобы сон, захватывающий и страшный, не кончался долго-долго. Чтобы события в нем развивались по моему хотению. Но, исполнись это мое желание, научись люди управлять снами, и человечество погибнет. Земная жизнь перестанет привлекать людей, они будут стараться продлить свои сновидения до бесконечности. Развитие прекратится, все покатится вспять с высокой горы… Пусть сны остаются тем, чем они были всегда — счастливой возможностью пофантазировать, повитать в облаках, пережить опасность остро конфликтных ситуаций, спасение в которых приходит прозаически просто — путем пробуждения.
Дни бегут, как будто ими выстреливают из пулемета. Когда это было? Вчера? Год назад? Десять лет? Где вы, подруги веселых школьных и институтских лет? Нивелируются старые привязанности, ржавеет дружба, казавшаяся некогда незыблемой и вечной, и с теми, с кем так хорошо было когда-то, вдруг становится не о чем говорить. Встретишься — преувеличенный восторг, три-четыре общие фразы, три-четыре общие фамилии, и вдруг эта страшная, давящая пустота: не о чем говорить, мы чужие, время сделало нас другими людьми, прошлое, одинаково близкое обоим, мы видим и помним по-разному. Время, в сущности, разъединило нас. И, обменявшись телефонами и адресами, мы прекрасно знаем: не позвоним, не навестим друг друга. Потому что не о чем говорить, мы чужие.
Приходят новые друзья, нежданно прорезаются общие интересы, которых вчера еще не было. Поиск продолжается. И, увидев еще один годовой слой на мужающем древе жизни, говоришь себе: это еще не старость. А ствол-то уже ой-е-ей! Не обхватишь. Внушаешь себе: «Не старость! Не старость!» Но дни мчатся и мчатся в невозвратное. Не в молодые, а в зрелые годы приходишь к мысли, что человеку отпущено очень мало, что он, совершенствуясь, оттачивая свое профессиональное мастерство и опыт до глубокой старости, уходит в небытие во всеоружии знаний и умения. Что такое старость? И не мудро ли было бы отодвинуть ее на десять, двадцать, сто лет? Верю: придет великий некто и сделает это, и жернов старости упадет с наших плеч. С наших? Прежде чем откатиться прочь, он раздавит и меня, и Диму, и детей. А начнет с родителей, они уже ссутулились, сгорбились под ношей лет.
Что ускоряет бег времени? Что старит нас безудержно, раздражая по пустякам? Обыденность бытия. Утро. «Кирилл, вставай! Петя, вставай! Кирилл, почисть брюки и ботинки, как не стыдно ходить грязнулей? Пора завтракать! Пора одеваться и — в школу! Кирилл, ты не забыл тетради, дневник?» Вечер. «Где вы так вывозились? Вы что, по-пластунски преодолевали лужи? Если бы вы любили маму, вы бы не позволили себе явиться домой такими грязными». Вечер, вторая половина. «Дима, привези лук, картошку, капусту. Дима, ты опять забыл привезти овощи. Дима, у тебя есть семья, дети? Ты уже вторую неделю обещаешь привезти на зиму продукты, но забываешь».
Сентябрь. Октябрь. Праздники — короткий приход в себя в кругу родных и близких. И опять великая круговерть. Стан скворцов и воробьев, заслоняющие небо. Само небо, напитавшееся густой, бездонной синью. Хлопок. Осень в нашей республике пахнет хлопковой коробочкой, осенью хлопку подчинено все. Хлопок — коробочка первая, рокот карнаев и радость красного обоза. Хлопок — коробочка последняя, всеобщая усталость и праздник урожая. И, наконец, в канун нового года — сдача земель, самое нервное в нашей работе, время великого напряжения. Но вот незримая черта, разделяющая годы, пройдена, и — все сначала, сначала, сначала…
VII
Без шума, без помпы, без торжественных речей, в обстановке сугубо деловой рабочая эстафета вошла в практику треста «Чиройлиерстрой». Собрание приняло решение развернуть соревнование по принципам рабочей эстафеты за ввод первых агрегатов станции к маю будущего года и призвало многочисленных смежников и поставщиков поддержать инициативу генерального подрядчика. Было вскрыто много резервов. Высказанные предложения, при энергичной реализации, сами по себе были в состоянии ускорить работы. Теперь они становились важнейшим элементом эстафеты, вызывали цепную реакцию новаторства и инициативы.
Курбанов был доволен. Успех был несомненный, полный, впечатляющий. Дмитрий Павлович расцвел, вдохновленный силой поддержки масс. «Да где я был раньше? — говорил он себе. — Разве не видно, что объединение усилий, концентрация сил и средств на решающем направлении не просто складывает, а умножает наши силы?»
Говорят, что цель воодушевляет. Это утверждение основано на жизненном опыте. Жизненный опыт Дмитрия Павловича гласил, что человеку, в котором пробудился энтузиаст, по плечу большие дела. Он, как и Саркисов, любил иметь дело с энтузиастами. Он сам был одним из них. Жизненный опыт Курбанова, включавший в себя и очереди на бирже труда в давнопрошедшие времена нэпа, и первые пятилетки, и народные стройки с их чарующим пафосом созидания, гласил: соревнование рождает героев и умножает силы коллектива. Энтузиастами, как считал Сабит Тураевич, рождаются единицы, а становятся, под благотворным влиянием обстоятельств, тысячи. Опыту расторопного администратора и рачительного хозяина предстояло соединиться с опытом ветерана партии, прошедшего великую школу всех десяти советских пятилеток. Опыт к опыту, говорят в народе, богатство. Но, чтобы быть народным бесценным достоянием, опыт должен работать. К этому и стремились Голубев и Курбанов. Они сошлись в мнении, что в котловане очень четко должно быть поставлено социалистическое соревнование. Ничего формального, казенного. Личная заинтересованность каждого рабочего, каждой бригады в достижении высоких результатов. Чтобы перед каждым рабочим стояла конкретная задача, чтобы ее выполнение было всем, решительно всем обеспечено.
Итоги соревнования в натуральных показателях теперь подводились ежедневно, а победители определялись ежемесячно. Прорабы и мастера улучшили учет выполняемых работ, и каждый бригадир всегда знал, сколько его люди смонтировали армокаркасов, установили опалубочных щитов, уложили бетонной смеси. Если бригада добивалась наилучших показателей, победа в соревновании присуждалась не только ее членам, но и обслуживающим ее крановщикам, водителям. Для лучшей сопоставляемости результатов бетонщики соревновались с бетонщиками, арматурщики с арматурщиками, крановщики с крановщиками, смена со сменой.
Сторонний наблюдатель, навещавший стройку наездами, мог бы и не увидеть перемен. Дмитрий Павлович и Сабит Тураевич эти перемены видели и радовались им. На бетонном заводе исчезли огромные лужи под бетономешалками. Самосвал-бетоновоз теперь загружали за минуту, водитель успевал сделать три-четыре затяжки и докуривал сигарету уже на ходу. И, как часто бывает в таких случаях, лучше стало работать оборудование. Казалось, и техника включилась в соревнование. Водитель, увеличив скорость, на минуту раньше спускался в котлован. Причалив к бадье, он загружал ее тремя кубометрами бетонной смеси и тотчас уезжал за новой порцией. Бадья, описав полукруг, зависала над блоком, бетонщик, повиснув на рычаге, открывал затвор, бетонная смесь стекала в блок, включались вибраторы, выгоняя на поверхность серой массы пузырьки воздуха.
По-иному теперь выглядела и сама строительная площадка. Доски, опалубочные щиты, арматура, плиты-оболочки не валялись как попало, а в строгом порядке лежали на отведенном им месте, и бульдозеры и экскаваторы не терзали их, не вдавливали в грязь. Там и тут экономилась минута-другая, сберегались для дела доска, стальной стержень, литр горючего. А огромное красное полотнище, натянутое над въездом в котлован, как бы суммировало все это: «Рабочая эстафета — это порядок, инициатива, верность слову!» Чище, уютнее стало в котловане. Но инженерам теперь было труднее, а Дмитрию Павловичу — много труднее. Однако о возвращении к тому, что было до рабочей эстафеты, не могло быть и речи, это означало сдать завоеванные с бою позиции. Вся забота Сабита Тураевича и Дмитрия Павловича была теперь о том, чтобы укрепить позиции рабочей эстафеты.
С удивительной легкостью было реализовано несколько рационализаторских предложений. Бригадир плотников Николай Данилович Пастухов, муж реечницы Полины Егоровны, предложил обшивать опалубочные щиты оцинкованной жестью. Жесть тут же привезли на объект, раскроили, пустили в дело. И оборачиваемость деревянной опалубки увеличилась втрое. Бетонщики Рината Галиуллина придумали аппарат для нанесения насечки. Насечка нужна, чтобы свежеуложенная бетонная смесь хорошо сцепилась с бетоном, уложенным ранее. Прежде эту операцию выполняли вручную. Бетонщики же соединили шесть вибраторов в большой пакет, которым манипулировал подъемный кран. Производительность труда поднялась, и значительно.
Но особенно тронул Дмитрия Павловича вот какой случай. Скважины водоотлива, расположенные по периметру котлована, обслуживали два моториста. Забот у них, на взгляд прораба, вполне хватало. Но они рассудили иначе. И один из них сказал Дмитрию Павловичу:
— Товарищ начальник, оборудуй нам пульт управления насосами. Тогда один из нас будет следить за приборами, а второй сможет помочь сварщикам или монтажникам. Сколько он на этом приработает, мы пополам поделим.
— Согласен, дорогой.
— Только чтобы у бухгалтерии не было к нам претензий: много, мол, гребете!
— Не гребете, а зарабатываете, — поправил моториста Голубев.
— Вот и втолкуйте им, что зарабатываем.
Пульт управления мотористы собрали сами, за неделю, и один из них стал помогать сварщикам. Дмитрий Павлович проследил, во что выльется эта инициатива. За месяц моторист, работая сварщиком, выполнил полторы нормы. «Отлично! — сказал себе Дмитрий Павлович. — Оказывается, рабочая эстафета и щекинский метод прекрасно взаимодействуют. Мать честная, как мы недооцениваем своих людей! Привыкли командовать, указывать. А надо, оказывается, и спрашивать и советоваться!»
Анатолий Долгов (для Дмитрия Павловича и своих рабочих Толяша) на волне общего подъема тоже внес предложение.
— Кое-где, — заявил он, — мы кладем лишний металл. — Привел в котлован проектировщиков из группы рабочего проектирования и показал, где в их армокаркасах металл употреблен так, что образуется избыточный запас прочности. Инженеры схватились за справочники и калькуляторы. — Знаю я ваших перестраховщиков. — зудел им под руку Толяша. — Там, где нужен стержень диаметром двадцать миллиметров, вы смело употребляете диаметр сорок. Отчаянные вы смельчаки. — Проектировщики загоношились, но Толяша уже все просчитал, и осталось только заприходовать выявленные излишки. Речь шла о тридцати тоннах стали. — Братцы, на этот год я себе на зарплату сэкономил! Оказывается, ничего сложного. Считать надо уметь.
Эстафета работала. Прежде заминки воспринимались как отличный повод для перекура, теперь — как досадная помеха, требовавшая немедленного устранения. Засучивались рукава, и слабое звено цепи чинилось и укреплялось, пока не становилось таким же прочным, как и другие звенья.
Пришло время выполнять обещание, данное директором свердловских заводов. Заставить механизм внеплановых поставок овощей, капризный и сложный, сделать первые обороты было нелегко. Областные организации соглашались, нужные бумаги обрастали подписями, на лук и арбузы оставались на пристанционных складах. Голубев ездил, организовывал, тратил массу времени а сил, часто в ущерб своим основным задачам, но заскорузлый механизм отправки овощей и бахчевых упорно пробуксовывал. «Ладно, хорошо, сделаем», — говорили ему. Но ничего не делалось. Тогда он попросил первого секретаря обкома партии принять его. И, сославшись на имеющуюся договоренность, проинформировал о встретившихся трудностях. Только после этого нашлись рефрижераторы, и каждому свердловскому предприятию — поставщику оборудования было отгружено по сто тонн арбузов и лука и по пятьдесят тонн винограда. Десять вагонов укатили, раскачиваясь в синюю даль. Дмитрий Павлович повеселел. Скрупулезное выполнение обязательств — закон рабочей эстафеты. Не знал, не гадал он, что рефрижераторы вернутся, груженные отборным картофелем. Среднеазиатская земля плохо его рожала. Связи, таким образом, отлаживались, опираясь на прочный фундамент взаимной выгоды. Теперь потребительская кооперация проявила заинтересованность, и очень быстро рефрижераторы снова взяли курс на Свердловск. Инерция была преодолена, механизм заработал.
Оставалась, однако, еще одна большая трудность, устранить которую можно было только после нового года, и то это представлялось пока маловероятным. Первая насосная станция каскада, объект очень крупный, обеспечивалась материалами не по фактической потребности, не по приложенной к проекту спецификации, а по так называемому «миллионнику», то есть по средним для страны показателям, вычисленным из потребностей в материалах неких абстрактных, не привязанных к данной строительной площадке, работ стоимостью в один миллион рублей. Разница между абстрактным «миллионником» и конкретной строительной площадкой часто была очень велика. Насосной станции нужно было много больше, чем полагалось по «миллионнику», цемента, стали, песка и щебня, и намного меньше кирпича, пилолеса, кровельных и отделочных материалов. Когда объекты небольшие и разные и когда их много, пропорции примерно выдерживаются, и особых неудобств от снабжения по «миллионнику» подрядчик не испытывает. Объект же крупный, а тем более уникальный сразу вносит диссонанс в эту давно сложившуюся снабженческую практику. Чего-то начинает остро не хватать, а что-то, невостребованное, оседает на складах. Нехватки же, естественно, вызывают простои и не позволяют развить темпы, предусмотренные пусковым графиком.
Дмитрий Павлович давно ненавидел «миллионник», считая его порождением казенщины и бюрократии. Если по закону техническую документацию на все работы следующего года полагается иметь к первому сентября текущего года и если она действительно подготовлена к этому сроку, то не так уж сложно сделать выборку потребных материалов и вовремя заказать их. Если же документация безнадежно запаздывает, в действие вступает «миллионник», и снабжение организуется по его осредненным показателям. Со всей вытекающей отсюда неточностью, неразберихой, с дополнительными транспортными издержками. На насосную документация поступала нормально, претензий к проектировщикам не было. И тем не менее, объект по какой-то злой и тяжелой инерции снабжался по «миллионнику». Кому-то так было удобнее. И сбыть с рук это выдающееся достижение формализма Дмитрий Павлович не мог, как ни старался. Для очередного залпа по этой прочной каменной стене им были заготовлены письма! Но эффекта они могли и не дать, это были не первые письма, нацеленные на ниспровержение «миллионника». Рук он, однако, не опускал и настойчиво предлагал совершенствовать планирование и снабжение строек, справедливо полагая, что без четкого плана организации работ и хорошего снабжения на стройке никогда не будет порядка.
Его письма содержали все нужные аргументы. Ни один из них не был опровергнут или даже поколеблен, но все оставалось по-старому. «До каких пор?» — спрашивал он себя, и снова брался доказывать, что «миллионник» — явное зло и тормоз на пути современной строительной площадки к прогрессу и порядку. С ним соглашались, но решение вопроса откладывали. Он не понимал, что упирается в равнодушие не одного, а многих чиновников. И дерзко предпринимал все новые попытки, невзирая на неудачи предыдущих. Ибо зачем ориентироваться на показатели, безнадежно отставшие от требований жизни? Он называл их не осредненными, а оглупленными. И был уверен, что добьется своего. И был очень недоволен тем, что лучшее так долго и тяжело пробивает себе дорогу.
VIII
Больших строительных площадок я повидала немало. В институте после четвертого курса проходила практику на Бухтарминской ГЭС и навсегда запомнила массивную, девяностометровой высоты, бетонную плотину, перегородившую Иртыш. Незавершенная плотина выглядела неопрятно, замусоренно, и мало походила на великое творение рук человеческих. На Иртыше состоялось мое рабочее крещение. Первое и самое сильное вынесенное мною впечатление было впечатление того, что лишь немногие рабочие и инженеры чувствуют себя хозяевами стройки. Большинство же выполняло свои обязанности с прохладцей, а кое-кто откровенно ловчил, прикрываясь другими.
Потом, на моделях, я искала решение отдельных узлов для гидроэлектростанций, проектируемых нашим отделением. И, выезжая на эти очень крупные стройки, радовалась: «Вот ведь что теперь нам по силам». Видела и энтузиазм, и вдохновение. Но, радуясь растущим возможностям страны, я горько страдала от постоянных картин бесхозяйственности, расточительства, неуважения к народному добру, варварского отношения к доверенным материальным ценностям. Сколько разного добра было брошено, зарыто в землю, раздавлено и смято! Сколько преждевременно выходило из строя и списывалось техники, которая в умелых и добрых руках еще служила бы нам долгие годы!
Первая из четырех насосных станций Джизакского машинного канала тоже впечатляла. Глубокий котлован, массивное бетонное тело основания. Шли и шли самосвалы, поворачивали свои прозрачные стрелы тяжелые краны. Рассыпали гирлянды искр сварочные аппараты. Мелькали в солнечных лучах полированные лезвия топоров. С грохотом опорожнялись кузова и бадьи. Гудели вибраторы. Сотни рабочих уверенно и споро делали свое дело. Их усилия, многократно стыкуясь, и становились бетонной и металлической плотью большого сооружения.
Всегда интересно видеть, как из разрозненных усилий многих людей получается нечто цельное, законченное, совершенное. Но вдвойне интереснее видеть конечный результат самим участникам событий. Я помнила, как экскаватор сделал здесь первый надрез на ровной земле с желтой щетиной стерни. И помнила, как был вынут последний кубометр грунта из котлована. И как был принят первый бетон. И как монтировались многотонные закладные детали, предназначенные для плавного подвода потока к лопастям насосов. Но теперь меня волновали не масштабы работ и даже не красивая согласованность усилий, что само по себе явление на стройке не частое. Меня волновало, что я не спотыкалась о брошенный и загубленный материал. С помощью теодолита мы восстанавливали оси первых гидроагрегатов. И вокруг нас был порядок. Не простаивали ни люди, ни техника. Материалы, которые предстояло пустить в дело через какое-то время, были аккуратно складированы и никому не мешали. Ценили рабочее время и люди. На нас не оглядывались. Мои реечницы не выслушивали бравурные реплики, от которых вянут уши: «Красавица, хочешь, осчастливлю говорящей куклой?» Я отмечала подтянутость, веселый напор, энергию рабочих, умело организованную, используемую с большим знанием дела. Порядок, между прочим, сказывался и на облике людей. Ни на ком я не видела грязных, рваных спецовок. Приписать все это рабочей эстафете было бы неверно, в один день, да и в месяц такие вещи не сотворяются. Рабочая эстафета опиралась на прочный фундамент.
Я вдруг почувствовала, что котлован весьма целеустремленно влияет на меня. Все, что я здесь делаю, я делаю четко, с подъемом, даже с какой-то новой для меня окрыленностью. Напряженный, взвинченный темп котлована становится моим темпом, я его принимаю с готовностью. Вот оно, мобилизующее действие порядка! Мелочное и наносное остается где-то далеко позади, а на первый план выступает большая трудовая задача. Я хочу проверить это свое впечатление на Мадине и Полине Егоровне.
— Мадина, — говорю я. — Что-то в котловане изменилось. Что, по-твоему?
Мадина удивленно на меня посмотрела. Она не видела разницы между днем вчерашним и сегодняшним.
— Станция стала больше, — вдруг сказала она. — И людей больше, и кранов.
— Значит, прибавилось техники, и людей?
— Конечно!
Вот как, оказывается, зрительно воспринимается ускорение ритма.
— Мне нравится, как сейчас работают, — говорит свое слово Полина Егоровна. — Никто не ходит вразвалочку. Потому, наверное, и людей кажется больше, что все теперь быстрее поворачиваются.
— А муж ваш что говорит? — Мне было интересно и его мнение.
— Делаем, говорит, теперь больше, а устаем меньше. Почему, мол? А нервничать перестали. Чего-то нет — простой, нервотрепка, крик. А сейчас в материалах нет недостатка, старайся только.
— Мадина, такие перемены надо замечать. Было ровное место, взгляду не на чем задержаться. А теперь какой жаркий костер зажжен!
— Много я еще не знаю, — с сожалением замечает Мадина. У нее грустные, строгие глаза.
— Ты почаще задумывайся над тем, что тебе пока не ясно, — говорит Полина Егоровна. — Вникай, сопоставляй, размышляй, спрашивай наше мнение. Если не будешь знать, что для людей важно, если не будешь учитывать их запросы и нужды, кто станет тебя слушать?
Я сняла теодолит со штатива, протерла объектив мягкой бумазеей.
— Ольга Тихоновна! — раздалось рядом.
Я обернулась. Ринат Галиуллин, бригадир бетонщиков, улыбался приветливо и как-то виновато. Когда-то с его бригадой, монтировавшей дома из силикальцитовых блоков, у меня не наладились отношения. Теплых чувств к этому холодному, сильному и, как мне казалось, расчетливому человеку я, естественно, не питала. Не я, инженер, настояла тогда на своем, хотя была абсолютно права и исходила из четких и ясных государственных нужд, а он, рабочий, мой подчиненный, настоял на своих требованиях, которые опирались на старый, как мир, принцип: «Своя рубашка ближе к телу». Зла, впрочем, я не затаила. Но осталось недовольство собой за не до конца проявленную принципиальность. Встречаясь, мы здоровались. А вот тем для приятных воспоминаний у нас не было.
— Здравствуйте, Галиуллин, — сказала я официально. — Чем могу служить?
— Выслушайте меня, Ольга Тихоновна. Думаю, нам обоим польза какая-то будет, — сказал бригадир.
Налитый силой, загорелый, почти коричневый, он держался теперь странно мягко, даже застенчиво. Никогда он так не держался, он был из тех настырных людей, которые, получив задачу, идут напролом, кроша и корежа, но предварительно дотошно обговаривают, что они будут за это иметь. Таким он запомнился мне, да и его люди были такими же. Симпатий ко мне не питали.
— Пожалуйста, говорите.
— Может быть, пройдем в наш бригадный вагончик? — пригласил он. И, видя мое колебание, поднял ящик с теодолитом.
Полина Егоровна и Мадина переглянулись и не последовали за нами. «Хочет через меня о чем-то попросить Диму, — подумала я. — Но зачем ему посредник?» Он отпер дверь, мы сели.
— Разговор у меня к вам не краткий. С чего начать? Начну с жалобы. Жалобщик — это я. А претензии мои к таким же, как я, ребяткам, которых кормит профессия строителя. Месяц назад я справил новоселье. Давно ждал ордера. В семье-то шесть человек, терлись друг о друга в двух комнатах, как в салоне автобуса. Дождался: четыре комнаты, все удобства. Вселяться надо. Заглянул в свои хоромы и обмер. Такой отвратной, похабной работы я еще не встречал. Сам оставлял огрехи, но только потому, что меня торопили, начальство торопилось отрапортовать об очередной трудовой победе и взять старт на следующем объекте. Стены недоштукатурены и недобелены. Столярка не обстругана и недокрашена. Окна и двери или совсем не закрываются, или такие зазоры остаются, что не только ветер — воробей влетит. Пол деревянный, но щели сантиметровые. По краске непросохшей кто-то сапогами, сапогами! Гнусно, нещадно! Из сантехники льется, да не там, где положено. Провода перепутаны и замкнуты накоротко. Взял я отпуск и двадцать дней устранял недоделки. Жена подсобничала, дети. На материалы затратил полтысячи. Сейчас, к примеру, все прилично, людей не стыдно пригласить. Но ведь я получал не полуфабрикат, а готовую квартиру, оцененную приемной комиссией горисполкома как хорошую. И уговора, чтобы я отделывал ее за свой счет, по своему вкусу, не было. Кто-то, выходит, хорошо проехался на мне.
— Выходит, — согласилась я. И вдруг что-то поняла, но сдержала смех. Не смешно все это было, а горько и нехорошо. — Ринат, а если бы вместо вас эту квартиру получил учитель или врач, сколько ему пришлось бы затратить на ремонт?
— Тысячи полторы. Я вот что желаю знать. Почему они позволяют себе такое?
— По-моему, вы не совсем правильно ставите вопрос. Его надо поставить так: почему мы позволяем себе такое?
Галиуллин посмотрел на меня по-новому, нужные мне ассоциации у него теперь возникли. Защищаясь, он воскликнул:
— Они — это не я, ни в какие отношения я с ними не вступал! Напротив, я — за строгость, за дисциплину! Ишь, распустились! Да я бы за такую работу — под суд! Или руки-ноги поотрывал бы.
— У нас город маленький, нетрудно выяснить, чьи огрехи вы исправляли.
— И выяснил я! И поговорил, круто поговорил. Ни в один глаз не вошло. Жаль, рукам воли не дал. Это получше вразумляет, чем голая мораль. Поржали эти мужички, и хоть бы что. Я потом по их стройкам походил. Ну, «Жилстрой», ну конторочка! Все навалом, и работа навалом, грубая, безалаберная, нелюбимая. Материалы губятся, время не ценится. Отсюда и настрой на легкие хлеба. Пенкосниматели одни там окопались. Круговая порука, сплоченный фронт друзей-приятелей-собутыльников. И вины никакой они за собой не видят, вот какую легкую жизнь себе устроили! После этого я совсем другими глазами посмотрел и на нашу насосную, на все то, чего достиг наш «Чиройлиерстрой». Я понял цену народной мудрости, утверждающей, что порядок невидим, когда он есть, а вот его отсутствие очень заметно и всем мешает. Да у нас по сравнению с ними — верх организованности, двадцать первый век! Я понял: порядок — это высота, и за него необходимо бороться, идти на строгости, на обострение отношений. Все это, Ольга Тихоновна, я заявляю вам, кого вместе со своей бригадой так сильно обидел несколько лет назад. Во-первых, для того заявляю, чтобы сказать, что вы были правы, и извиниться, прощения попросить. Я был тогда не зорок, даже совсем незряч. Я хочу признать свою ошибку и попросить вас изменить ваше мнение обо мне и ваше ко мне отношение. Вы видели, что может получиться, если дать волю хапугам, принизить требовательность, не спрашивать строго за нарушение дисциплины, за несоблюдение строительных норм и правил. Сейчас, когда ничто не мешает работе, я зарабатываю на сто рублей больше, чем зарабатывал прежде с помощью приписок и других ухищрений. И чувствую себя куда лучше. Просить, унижаться, ловчить, обещать отблагодарить — тьфу! В сто раз приятнее заработать честно, своими руками, своей головой, которая — прекрасное дополнение к рабочим рукам.
— А не наоборот? — лукаво спросила я.
— У вас, инженеров, руки — приложение к голове, а у нас голова — приложение к рукам, — сказал он, настаивая на своей, давно, видно, сложившейся у него мысли.
— Значит, я требовала не чрезмерно? И не для себя одной старалась? Рада, что вы поняли это.
— Понял и никогда больше не поведу себя так глупо.
— И люди ваши поняли это?
— Вместе со мной. Они — как я, а я — как они.
— А что необходимо сделать, чтобы везде был порядок? Как здесь, в котловане?
— Надо требовать. Я не сгоряча говорю, я много думал над этим. Не требовать, потакать разным несерьезным и эгоистическим элементам, плыть по течению — значит, никуда не приплыть. Надо требовать. Надо убирать нерадивых с руководящих должностей, увольнять тех, кто не может, не умеет, не хочет.
— Безработных у нас нет и не будет.
— А как назвать человека, аккуратно приходящего на работу, получающего зарплату, часто не маленькую, но создающего только видимость работы? И надо ли нам терпеть таких на рабочих местах? Не пора ли проучить их, отучить от портвейна, от искушения прибирать к рукам вещи, которые плохо лежат? Отучить обманывать, изворачиваться, прятаться за спины передовиков труда! И делать это не прежними мягкими методами, не разговорами-уговорами-увещеваниями, а строго власть употребить? Безработицы у нас нет и быть не может — прекрасно! Так уберем этого горе-труженика со строительных лесов, где он все портит, все недоделывает, и направим на общественные работы, дадим минимум зарплаты — восемьдесят рублей. И пока не изменишь отношение к труду — сиди на этом минимуме, не раздражай своим браком честных людей, не совращай их своим эгоизмом, своей безответственностью.
— Согласна с вами. Скажите, Ринат: не получи вы квартиру с брачком, решились бы вы на этот прямой разговор?
— Да. Свою вину давно увидел и признал. Ждал случая, чтобы объясниться. Неловко уважать себя, когда кто-то думает о тебе плохо.
— А тогда вы считали, что одержали победу.
— Ликовал даже, но недолго.
— Я очень рада, что вы недовольны никудышной работой своих товарищей.
— Ханыг, хотели вы сказать.
— Все знают, что обществу нужна только честная работа, но не многие за это сражаются.
— В моей бригаде все работают честно. Шустриков я давно повытряхивал. Сказал прямо: ищите такие берега, где не дует и деньги вам за так платить будут, за симпатичные ваши рыла. Уверен: начнем энергично избавляться от ханыг, станем насильно лечить алкоголиков — безработицы не будет, а ответственность поднимем до такой высоты, что лозунг «Советское — значит отличное!» осуществим, на посрамление всем злопыхателям.
— Лечить надо многих, и от самых разных пороков.
— Во-во! Ваш муж, знаете, требует от нас того же, что и вы требовали восемь лет назад. Но делает это мягче, иными средствами. Стратегия у вас одна, но в тактике он расчетливее. Еще раз приношу глубокие извинения. Вы с Дмитрием Павловичем тогда не советовались?
— Нет. Считала, что сама все умею.
— Напрасно.
— А может, и хорошо, что конфликт не замяли, не затушевали. Спасибо вам, Галиуллин, за откровенность, Вам совсем не обязательно было признаваться в этой старой ошибке.
— Не согласен, Ольга Тихоновна! Стыд покоя не давал. Теперь мне будет хорошо. А бракоделов жилстроевских я всех в газете поименно перечислил. Устроил им черную «доску почета».
Светлое чувство осталось у меня от этого разговора. Старая обида изгладилась совершенно.
IX
Осень в нашем краю пахнет хлопковой коробочкой. От первого красного обоза с хлопком нового урожая, который под торжественный глас карнаев важно шествует на заготовительный пункт в начале сентября, провожаемый и встречаемый тысячами людей, и до последней, совсем не торжественной тракторной тележки, вместившей в себя все то, что еще можно взять у почерневшего и опустевшего ноябрьского или декабрьского поля, кипит, бурлит, клокочет страда, и все беспрекословно подчиняются ее властному зову, ее ритму, ее строгим требованиям. Плантации становятся фронтом. Идет хлопок! И сотни тысяч людей начинают день с детального изучения сводки хлопкозаготовок. В расчет берется все: особенности года, среднее число коробочек на кусте, погода сегодняшняя и завтрашняя, наличие сил и средств, которые можно задействовать на уборке, раскрытие коробочек и меры, позволяющие ускорить раскрытие или, напротив, еще оттянуть его, чтобы, поймав последнее тепло осени, накопить на гектаре центнер-другой, без которых не будет обязательства. И тысячи людей прикидывают, сопоставляют, строят планы. Тысячи людей становятся стратегами белой страды. В эти дни хлопком искренне интересуются все. Им живет край, взявший в общесоюзном разделении труда на себя обязанности хлопковой житницы страны.
В эти дни заметно пустеют колхозные и совхозные поселки и районные центры, предприятия и учреждения в городах, и тысячи людей становятся сборщиками «белого золота». Престиж хлопка в крае таков, что в добровольцах нет недостатка. Надевает фартук старшеклассник сельской школы и берет себе в помощники младших братьев и сестер. Надевает фартук и учитель, у которого уже с трудом сгибается спина. Неважно, что проворный ученик соберет больше. Важно, что на хирман лягут и его, учителя, килограммы текстильного сырья, так нужного стране.
На четыре-пять часов уходят в поле домохозяйки, В детских садах в это время вдвое больше ребятишек, чем обычно. Ибо Узбекистан отвечает за то, чтобы у страны не было недостатка в хлопке. В дореволюционные годы царская Россия уплатила Северо-Американским Соединенным Штатам не один миллиард рублей золотом за импортированное хлопковое волокно. Советский Союз добился хлопковой независимости на рубеже первой и второй пятилеток, и после Великой Отечественной войны хлопок стал одной из важнейших статей советского экспорта.
В институте у меня было двойственное отношение к выездам на сбор хлопка. Эти поездки я ждала с нетерпением, но работу сборщика не любила. Наверное, потому что не умела пробиться даже в ряды середнячков. Отличница учебы, не белоручка. Но хлопок не шел в мой фартук, и все. И потом, изо дня в день, одно и то же, одно и то же. В гидравлической лаборатории к хлопку я имела самое прямое отношение, хотя ни разу не выезжала на его сбор. Огромные водохранилища Чарвакского, Токтогульского и Нурекского гидроузлов должны были вместить в себя столько воды, что ее хватит для расширения хлопкового клина на миллионы гектаров.
Здесь, в Чиройлиере, мы жили и работали для хлопка. Все построенные нами совхозы специализировались на возделывании хлопчатника, и только одно хозяйство выращивало для целинников овощи и фрукты. Лотковые оросители, закрытый трубчатый дренаж и дренаж вертикальный, совхозные поселки — все это создавалось для увеличения сборов хлопка. Занимаясь каждый своим делом, мы всегда знали, что с хлопком, каковы виды на урожай. Дожди, корка, низкие температуры после появления всходов, корневая гниль, наконец, вилт, тяжелейшая вирусная болезнь хлопчатника — мы знали, какой вред может нанести каждая из этих бед и что надо предпринять, чтобы, как говорится, погода была погодой, а работа шла своим чередом и приносила нам то, что заложено в наших планах.
Нынешний год был тяжелым для хлопкоробов. За дождливой, затяжной весной пришло прохладное лето. Хлопчатник опаздывал в развитии на три недели. Даже в сентябре еще шло интенсивное накопление урожая. Жаркий сентябрь несколько поправил дело. И теперь было важно, чтобы осень не принесла сюрпризов в виде обложных дождей и раннего снега, тормозящих страду и снижающих качество волокна. Но пока ярко светило солнце и белое поле звало всех, кто был в состоянии надеть фартук. И команда прозвучала: «В воскресенье — на хлопок!»
Республика сосредоточивала свои силы на хлопковом поле. Многокилометровые колонны автобусов привезли в целинные хозяйства десятки тысяч студентов. Приостановилась учеба в сельских школах. Не имели права остаться в стороне и строители Чиройлиера. Можно сказать: «Ну, а где же хваленые хлопкоуборочные машины?» Их вклад в уборочную был заметным, на целине из их бункеров выгружалась половина, а то и две трети заготавливаемого сырца. Но и треть, оставшаяся на долю человеческих рук, тоже немало, если учесть, что коробочка хлопка весит всего три грамма. Кроме того, машины требовали особенно тщательной подготовки плантаций. Много еще было причин, мешающих убирать урожай только машинами. Мы стремились к тому, чтобы к хлопковой коробочке не прикасалась рука человека. Чтобы не было ни ручного сбора, ни ручного подбора за машинами. Но время это еще не пришло, машины нуждались в совершенствовании, качество хлопка ручного сбора оставалось много выше.
На поле, которое нам выделили в совхозе «Фархад», первый сбор уже провели. Но за последние жаркие дни раскрылось много коробочек среднего яруса. Это был хороший хлопок, и, чтобы его вырастить, людям пришлось отменно потрудиться. Вот и наша голодностепская земля, отягченная солями, веками не знавшая плуга и удобрений, оказалась способной на щедрую отдачу. Приложение труда, науки и капитала неуклонно повышали ее урожайную силу. Здесь мы научились самые трудные земли освобождать от избытка солей, возвращать им плодородие, а потом повышать и повышать его. Но сделаешь что-то не так, и соль мгновенно и яростно наказывает за оплошности, халатность, равнодушие. Это коварный и сильный противник.
Разобрали фартуки. Повар в белом колпаке уже хлопотал у огромного котла. Я взяла с собой Петю и Кирилла. Дима отдал необходимые распоряжения, касающиеся распорядка дня, и в заключение объявил:
— Сегодня я — обыкновенный сборщик, и по вопросам продолжительности перекуров вы, дорогие друзья, обращайтесь к своей совести. Лично я на таком поле обязуюсь собрать семьдесят килограммов. Думаю, этого будет достаточно, чтобы войти в первую сотню лучших сборщиков нашего производственного треста. — Он встал справа от меня, прицелился к грядкам, за собой закрепил две, выделил по одной сыновьям и объявил: — Посмотрим, на что способна семья Голубевых! Посмотрим, есть ли в ней белоручки! — Нагнулся, и его большие руки стали проворно обшаривать кусты. Его ладонь вмещала более десяти коробочек, плотно спрессованных. Он отправлял в фартук целый ком ваты, освобождая ладонь, и быстро заполнял ее снова.
Я залюбовалась. Дима очень легко схватывал суть любого физического труда, умел и плотничать, и штукатурить, и красить, и машину водил в свое удовольствие, не хуже шофера.
Сыновья устремились за ним вдогонку, но где там, где там! Я тоже была далеко не так проворна. Первые два фартука я заполнила легко, а потом заболела спина, и я села на корточки. Не помогло. Первоначальное ощущение легкости уже не возвращалось.
— Давай-давай! — время от времени восклицал Дима, оборачиваясь к нам, безнадежно отставшим. — Завтра все это богатство может попасть под дождь. Поднажмем, гвардейцы!
Вскоре он сдал три своих фартука и два моих.
— Двадцать — одиннадцать! — объявил он результат в килограммах.
У Кирилла и Пети вместе было семь килограммов. Мы втроем давали меньше, чем он один. Разрыв пока был невелик, но дальше, я знала, он быстро увеличится. Энтузиазм Петика вскоре растаял, и он прочно обосновался на куче хлопка, вываленной из отцовского фартука.
— Это будет моя кроватка! — заявил он.
— Работай, блин! — стал совестить его Дима.
Но мальчик остался невозмутим:
— Какой ты хитрый! Ты такой большой, папа, а я уже устал, я маленький.
В двенадцать Дима сделал вторую ходку на хирман, и у него стало сорок килограммов, вдвое больше, чем у меня.
— Помнить «Баяуты»? — спросил меня Дима.
Я все прекрасно помнила. И то, как он приходил ко мне за пять-шесть километров, и меня предупреждали: «Твой явился». А я держалась строго, отчужденно. Парень моей мечты был не похож на него. Я помнила, как болела спина днем и вечерами, и как нас кормили «шлангами», то есть макаронами. И как девчата влюблялись и фантазировали. И как они влюблялись снова, если первое чувство кончалось обидой и болью, ведь человек не может не любить.
— В «Баяутах» никогда не было такого хорошего хлопка, — сказала я.
— Встретиться бы сейчас со всеми нашими.
— Ты бы не всех узнал. Знаешь, что самое интересное в наших институтских поездках на хлопок? В начале учебного года всегда хотелось поехать, а когда прижимали холода и усталость, хотелось домой. И многие шли на недозволенное, чтобы уехать пораньше.
— Не говори мне о симулянтах и дезертирах! — Он засмеялся и внимательно посмотрел в сторону очага, над которым вился синеватый дымок. Ветер доносил аромат отменного плова. — Нажали! — скомандовал он.
И нажал. Семьдесят у него было к обеду. У меня с детьми — только 57. У Кирилла с Петей — 23. Каждый дал столько, сколько смог. Дима показал один из лучших результатов. Только двенадцать человек обошли его, но почти все они записывали на себя и хлопок, собранный их детьми. Я посоветовала Диме сделать это же.
— Какая разница! — воскликнул он. — Я стараюсь больше собрать, а не занять первое место.
На обед люди расположились небольшими кружками, друзья с друзьями, свои со своими. Мы сели в кружок, образованный бригадой Рината Галиуллина.
Я спросила у Димы, где Сабит Тураевич. Курбанов в любой компании быстро становился центром притяжения.
— С Каримом совсем плохо, — сказал Дима. — Сабит Тураевич поехал туда…
Я понуро опустила голову.
На фартуках, освобожденных от хлопка и постланных на земле, появился ляган с дымящимся пловом. Гору плова венчали жирные куски баранины, распаренные головки чеснока и лиловые лоснящиеся ягоды барбариса.
— Ай, плов! — воскликнул Ринат и, посмотрев на меня смеющимися глазами, в восхищении причмокнул губами.
Все засмеялись. Каждый выкладывал из прихваченных с собой сумок и сеток на общий дастархан огурчики, помидорчики, лучок, чесночок, соленья и маринады и всю снедь, которая оказалась под рукой в момент сборов.
Стол получился славный… Больше всех такому застолью радовались, конечно, дети, но и мужчинам было аппетита не занимать.
Галиуллин вдруг предложил:
— Идемте к нам начальником участка, не пожалеете! — Я ответила, что скоро уеду. И он сразу спросил: — А Дмитрий Павлович?
— Он — нет, — сказала я, и это его успокоило.
Я подумала, какая ему разница, кто стоит во главе треста. От управляющего до бригадира большая дистанция, и не управляющий в конце концов закрывает наряды. Но, наверное, разница была. Я спросила у Рината, разве не все равно ему, бригадиру, кто будет управляющим.
— Дмитрий Павлович — человек, и к нему идешь, как к человеку. Другие этого не умеют, — объяснил он.
Теперь я заметила, что к Диме все время подходили люди. Что-то ему говорили, улыбались. Многие просто старались попасться на глаза. Его любили. В этом я не сомневалась и раньше. В нем ценили не только начальника, умеющего четко поставить дело, но и отзывчивого товарища.
Я же для всех этих людей была женой Голубева, не более. У меня здесь было много знакомых, а друзей — ни одного. Я не приобрела здесь друзей. Увидеть это было грустно.
После обеда мы собрали еще по фартуку, по два, кто сколько мог. На счету нашей семьи стало сто шестьдесят килограммов.
X
Курбанов позвонил и сообщил, что Карим умер. Утро было погожее, светлое, свежее. Октябрь все еще одаривал теплом, лето медленно затухало. Но люди умирали и в такие чудесные дни. Дмитрий Павлович молчал, потупясь. Тяжесть, опустившаяся на его плечи, была тяжестью бессилия. Потом он сказал:
— Выезжаю. Сообщите адрес.
Положив трубку, долго сидел. Затем распорядился, чтобы бухгалтерия выплатила семье Иргашевых деньги, а отдел рабочего снабжения отправил в Ташкент продукты. Похоронные обряды требовали внимания и расходов. Позвонил в газету, чтобы дали некролог. Попросил увеличить портрет Карима и повесить в вестибюле в траурной рамке. Все это сделали бы и без его личных указаний, но надежнее было приказать, распорядиться. Потом он предупредил Олю о случившемся а выехал в Ташкент.
Желтый цвет, думал он, цвет увядания, осени, смерти. Вокруг была разлита осенняя желтизна — яркая, откровенная, грустная, торжественная, разная. Он любил ходить по осенним паркам, лесным полосам, хрустеть сухими скрюченными листьями, смотреть, как падают, кувыркаясь, раскачиваясь, делая немыслимые кульбиты, листья, только что сорванные с веток порывом холодного ветра. Знал ли Карим свой страшный диагноз, и как это знание воздействовало на него? Глупость. Действовала болезнь. Она угнетала, капля за каплей отбирая жизнь, отнимая надежду.
Красные виноградники. Прозрачные кроны тополей. Удивительная аллея кленов, выстланная желтыми листьями. Но он не остановился. Человек, который еще вчера был его правой рукой, теперь будет жить только в его памяти. И голос его оживет только в памяти, и улыбка. А мечты, фантазии? Те из них, которыми он никогда не делился? Красные кроны абрикосов. Желтые-прежелтые акации. Клумбы роскошных хризантем у айванов. «Он — я, он — я», — сопоставлял Дмитрий Павлович. Но Карим уже был по ту сторону черты. Смерть вырвала. Взяла и вырвала. Ей что? Она не рассуждает. Дмитрий Павлович не считал Карима неудачником. Кариму всю жизнь сопутствовал успех. И только сам отрезок до роковой черты оказался обидно коротким.
Ташкент зашумел, загудел переполненными улицами, замельтешил машинами, людьми, домами. Жизнь продолжалась, и смерть Карима никак не отразилась на ритме двухмиллионного города. «Отряд не заметил потери бойца и яблочко-песню допел до конца…» Они обогнули центр слева, покружили по лабиринту старого города и встали на узкой улочке у солидного одноэтажного дома. Их встретили печальные узбеки в синих халатах и тюбетейках. За старшим братом Карима стоял младший брат, такой же печальный. За ними еще шеренга людей в халатах. Дмитрий Павлович обнял братьев, выразил им соболезнование на хорошем узбекском языке, поздоровался со всеми стоявшими у ворот людьми и вошел во двор, где под виноградными лозами были расставлены столы и скамейки, и на столах стояли пиалы, вазы с миндалем, кишмишем, фруктами, виноградом, и лежали стопки горячих лепешек. В этом дворе жила большая и дружная семья Иргашевых, и теперь здесь надолго поселилось горе. И все, кто приходил сейчас сюда, несли скорбь на своих плечах и в себе.
Голубева ждали. Тотчас навстречу ему из глубин дома выплыл Сабит Тураевич, вышли, пошатываясь от боли, престарелые родители Карима, вышла согбенная Шоира, которая крепилась и крепилась во время нескончаемых бдений у изголовья больного, а теперь дала волю слезам. И всем им Дмитрий Павлович нашел добрые слова, которые не утишили, не уменьшили боли, но были необходимы, потому что помогали сохранять представление о Кариме как о живом человеке. Пришли еще люди. Дмитрий Павлович разломил посыпанную тмином лепешку. Ему поднесли пиалу чая, и он поблагодарил кивком. Выбрав момент, сказал Курбанову, что продукты отправлены и скоро прибудут, а некролог будет опубликован завтра. Об этом быстро узнали все. Очень часто порог дома, в который приходила беда, переступали и двести, и пятьсот человек. И каждый выражал соболезнование. Такова была традиция, и люди считали нужным следовать ей.
Перед каждым поставили касу с шурпой. Бульон, совершенно прозрачный, был настоян на тонких травах и специях. Крупный и мягкий горох «нахат» таял во рту, и нежная баранина таяла во рту. Повар своими прекрасными блюдами утверждал в этот скорбный час, что жизнь замечательна, и все ее радости — для тех, кто остался жить. И это же утверждали солнце, и ясное небо, и стоящие на столе дары щедрой узбекистанской осени. И это же утверждал сам старинный и мудрый обряд, согласно которому память об умершем становилась песней жизни.
Сабит Тураевич, наклонившись к Дмитрию Павловичу, сказал, что Шоира Иргашева хочет остаться в Чиройлиере и просит сохранить за ней коттедж.
— Она скромный человек, — сказал Сабит Тураевич, — и она несколько раз повторила: «Если можно».
— Какой разговор! — выразил свое мнение Голубев. — Рад приветствовать в ее лице еще одного патриота Чиройлиера.
— Все, наверное, проще, — сказал Курбанов. — В этом перенаселенном доме ей с детьми могут предоставить только отдельную комнату. И многое, после Чиройлиера, здесь будет стеснять ее.
— Можно назначить Шоиру директором нового детского сада. Как вы считаете?
— Если она согласится. Она строгий, принципиальный педагог.
— Она правильно поступает. Ей легче будет жить там, где строил ее муж, где все его знали и ценили.
А люди все шли и шли. И каждый обращался со словами участия и сострадания, и каждый был готов помочь. И эта не высказанная вслух готовность помочь утешала, возвращала к земным привычным делам и заботам.
— Свозите меня на могилу, — попросил Дмитрий Павлович.
Поехали на Чигатайское кладбище. Прошли в скорбной, вязкой тишине мимо черных памятников к свежему холмику, выросшему над недавним захоронением.
— Вот и все, — сказал Сабит Тураевич. — Кариму до потолка было еще далеко.
Дмитрий Павлович кивнул. Ему было горько, неуютно. Опять мучило бессилие. Человек столько всего напридумывал, облегчая, а подчас и усложняя себе жизнь. Но люди продолжали умирать в расцвете сил, и ничего нельзя было противопоставить болезням и несчастным случаям, которые их уносили. Кругом оставались тайны, белые пятна, очаги сопротивления природы, не желавшей подчиняться. Дмитрий Павлович поднял глаза на Тураева. Могучий старик, проводивший в последний путь многих и многих, сказал:
— Неудобно даже. Я еще скриплю, а его уже нет.
Они вернулись в дом Иргашевых, в гнездо, потерявшее лучшего своего птенца. Здесь Карим сделал первый шаг, отпустив палец матери. И здесь у него было все, что бывает у детей в хороших дружных семьях. Здесь он отпраздновал свадьбу, отсюда с молодой женой, двумя чемоданами и сердечным напутствием родителей уехал в Чиройлиер. Но родной дом оставался родным, и не было на свете ничего лучше и дороже его. И теперь осиротела не только семья, но и дом.
Грусть и боль становились нестерпимы.
— Я поеду, — сказал Дмитрий Павлович Курбанову. Но поехал не к своим родителям, а на старое Боткинское кладбище, где были похоронены его бабушка, и тетя, и друзья, которым не повезло так же, как и Кариму.
Машина развернулась у ворот. Он зашагал по центральной аллее, упиравшейся в церковь. На самом деле она обтекала церковь, но в начале аллеи, у ворот, этого не было видно. Стояли, как статуи, согбенные старушки. Живыми у них были одни глаза на пергаментно-покойных лицах. Они заранее переселились на кладбище, здесь им было лучше. Дмитрий Павлович не понимал этого совершенно. Для него они были людьми из другого мира, и их законсервированная печаль была ему неприятна.
Город мертвых безмолвствовал. Те, кого здесь хоронили сейчас, при жизни имели вес и положение, и об этом говорили поставленные им памятники. Памятники были гранитные, лабрадоритовые, мраморные, диабазовые, чугунные, бронзовые; добротные, дорогие, банальные, строгие, вычурные — всякие. Встречались и настоящие произведения искусства.
Вдруг Дмитрия Павловича поразило только что сделанное открытие. Памятники, поставленные давно умершим людям, соревновались между собой. Они кичились своим материалом, полированными плоскостями, золотыми буквами надписей, своей ценой, наконец. Он остановился. Осознать это было страшно. Что-то купеческое, мещанское вошло на кладбище и прочно поселилось на делянках вместе с почившими.
Дмитрий Павлович не без труда нашел могилы бабушки и тети, смахнув листья с металлической скамейки, сел. Лист, кружась, лег ему на голову. Он взял его двумя пальцами, смял, сдул с ладони желтую труху. Вспомнил картины своего детства, когда и бабка, и тетя были живы и воспитывали его, как могли. В то время он не знал, куда деться от их нравоучений. Теперь они были милы и приятны ему. Многие из простых назиданий малограмотной бабки пустили в нем прочные корни — в них заключалась правда жизни. Он вспомнил свое потребительское, эгоистическое отношение к этим растившим его милым женщинам. В словах, с которыми он обращался к ним, преобладали: дай, приготовь, пришей, постирай, погладь, свари. Из всей массы домашних дел он охотно выполнял лишь некоторые. Носил воду из колонки, которая была метрах в ста от дома, топил зимой прожорливую «контрамарку». Ездил на велосипеде на базар. Причем прежде чем попасть на базар, он мог объехать полгорода. Уже сколько лет рядом с ним нет ни бабушки, ни тети. И столько же лет, сколько их нет в живых, ему их не хватает.
Он спросил себя, почему человек устроен так странно? Должное своим близким в полной мере он отдает только после их смерти, тогда, когда им уже совершенно не нужны эти запоздалые знаки внимания. «Так же ляжем в землю и я, и Оля, и Кирилл, и Петя, — вдруг сказал он себе, и несправедливость этой реальности вновь потрясла его, как и несправедливость смерти Иргашева. — У нас примут дела новые люди, еще не появившиеся на свет. Они будут расти сорванцами и неумейками. Будут постигать суть вещей через синяки, шишки и разбитые носы. Но придет час, и они громко заявят о себе. А нас уже не будет, но многое в них будет от нас. «Все живое особой метой отмечается с давних пор…»
Дмитрий Павлович нашел старое ведро и полил заматерелый куст сирени. Постоял еще у могил, прислонившись к акации. Вспомнил друзей, трагически рано ушедших из жизни. «Ого, — удивился он, — многих же я проводил в последний путь. А сколько раз смерть подкрадывалась ко мне, но я увертывался, делал невообразимый кульбит, выворачивал руль и разминался с нею, а потом вытирал холодный пот и радовался своей ловкости и везучести».
Он вдруг захотел найти могилу столетнего. Пошел, хрустя листьями, петляя. Быстро прочитывал надписи на надгробиях и вычитал из года смерти год рождения. Люди умирали во всех возрастах, начиная с младенческого. До восьмидесяти доживал мало кто, до девяносто — и вовсе. Все правильно, людям отпущено меньше. Столетний старец в жизни встретился ему лишь однажды и произвел впечатление человека, чрезмерно задержавшегося на этом свете. Старец уже не помнил ничего, за исключением нескольких эпизодов из своего детства. Не помнил, как звали его детей, которые все поумирали…
Он ушел с кладбища в сумерки. Ему было много легче, чем утром, и легче, чем днем.
XI
Плохим был бы Дмитрий Павлович руководителем, если бы смерть Карима Иргашева застала его врасплох. Да, он ничем не мог помочь Кариму, и это его угнетало и продолжало угнетать. Но после того как врачи поставили свой диагноз, который, по существу, являлся приговором, он был обязан найти на место, которое скоро станет вакантным, компетентного, энергичного инженера. Для него было далеко не безразлично, кто займет освободившуюся должность. Было очень важно, чтобы этот человек оказался единомышленником, чтобы с ним можно было продуктивно работать.
Когда похороны остались позади и чиройлиерские будни с прежней неумолимостью захватили и закрутили Дмитрия Павловича, он наперекор текучке вновь и вновь возвращался к вопросу о том, кого рекомендовать на место Карима. В тихие часы ночных раздумий это был самый насущный вопрос. Днем он присматривался к людям — возможным кандидатам. Спрашивал совета у Курбанова, просил и его присматриваться, думать. Ночью взвешивал, сопоставлял.
Кого-то своей властью мог направить ему товарищ Киргизбаев. Кого? Он перебрал пять-шесть инженеров главка, о которых ему было известно, что они кандидаты на выдвижение. Они могли бы потянуть. Да, они бы потянули, но не так, как ему было нужно. Ни за одного из них он бы не пошел просить. Наоборот, он бы попросил не назначать их, а если бы с этой просьбой не посчитались, принял бы все возможные меры, чтобы назначение не состоялось. Эти люди не обладали всеми теми качествами, которые он считал обязательными для главного инженера треста. Они бы, конечно, работали, двигали дело вперед, но не вдохновенно, а расчетливо и спокойно, не только не забывая о себе, а ставя свои личные интересы высоко, очень высоко. Он знал, во что это обыкновенно выливается. В постоянную оглядку на вышестоящие инстанции, в слепое следование указаниям сверху. В беспринципность. Разумеется, он мог и ошибаться, но велика была и вероятность его предположений.
Каким же он видел своего главного инженера? Человеком, влюбленным в технику. Он хотел, чтобы его главный инженер был в курсе всех технических новинок отрасли, сам заказывал и внедрял их. И чтобы он был в курсе всех новинок в организации труда. Чтобы этот человек взял на свои плечи все, связанное с техническим прогрессом, и не только не тяготился, а гордился этой немалой ношей. Он бы, конечно, помогал ему, направлял его усилия. Но не ущемлял самостоятельности.
Дмитрий Павлович вспомнил, сколько сил и времени он потратил на освоение комплекса по бетонированию каналов. Как правило, новая техника сложна, капризна, недостаточно отработана. Но, устранив огрехи и научив людей управлять ею, можно спокойно вкушать от плодов дерзкой инженерной мысли. Да, они повозились, поломали головы. Но освоили комплекс и вдвое подняли производительность труда на бетонировании каналов. Он не отступил, а временами ему очень хотелось бросить комплекс к чертовой бабушке, поставить на нем крест. Он продвигался вперед почти на ощупь, и сколько было тщетных усилий, которые только озлобляли людей! И надо, чтобы его новый главный инженер не отступал, терпеливо доводил начатое до победного конца, Технической косточкой должен быть его главный инженер. Технарем с головы до пят. Тут и Толя Долгов не подойдет, и не надо его трогать. Нет никакого смысла. Друг, и опереться можно, не подводил и не подведет, но техника для него лишь средство, лишь послушное человеку железо. Не его это призвание. На свое место Дмитрий Павлович рекомендовал бы Долгова не колеблясь. Поставить задачу и организовать ее исполнение Толяша умел. И воодушевить людей умел, и подпереть своим начальственным плечом сложный участок. И вину свою научился признавать честно. Собственно, с того часа, когда Толяша перестал перекладывать свою вину на плечи тех, кого можно было подставить под удар, ничем не рискуя, рискуя только подмочить свою репутацию, Голубев и начал опираться на него, а до этого было рано. Но, при всем при том, место умершего главного инженера не для него. Тут, он чувствовал, была своя тонкость, требовавшая особой деликатности. Голубеву придется объяснить Толяше, почему он не предложил ему этой должности. И объяснить так, чтобы у друга не осталось чувства ущемленности и горечи. Пожалуй, он скажет Долгову, что судьба первой насосной решается в котловане, и в обкоме партии его настоятельно просили не ослаблять коллектив, возводящий насосную. Ради того, чтобы пощадить самолюбие товарища, он готов был быть и дипломатом.
Имелся на примете у Дмитрия Павловича один расторопный тридцатилетний инженер, Салих Аюпов, отвечающий за эффективное использование всей землеройной техники и подъемных кранов треста. Главный механик. Держался он скромно, речей на собраниях не произносил, перед глазами не мельтешил, в кабинет управляющего наведывался редко. Морщился, если избирали в президиум. Да и выглядел как-то непрестижно. Ростом не взял, крутыми плечами и силенкой природа его не наделила. Руки в масле, спецовка как на слесаре. Галстук ему явно мешал. Но техника у него работала, и механизаторы, все люди бывалые, которым очки не вотрешь, ценили его и уважали, хотя и обращались запросто, а то и запанибрата. Никто лучше Аюпова не ставил диагноз при поломках. И в людях он разбирался, не в одном железе. Чрезвычайные происшествия и аварии во вверенном ему подразделении были большой редкостью. И было еще одно обстоятельство, склонявшее чашу весов в его пользу. Салих Аюпов владел машиной «антилопа-гну», которую построил из подручных материалов, то есть практически из металлолома, и эта неказистая самоделка служила ему верой и правдой, обгоняла серийные «москвичи» и «запорожцы» — с мотоциклетным двигателем-то! А на бездорожье обставляла ульяновский вездеход и «ниву». На своей «антилопе-гну» он дважды ездил в Москву, где журнал «Техника — молодежи» проводил конкурсы самоделок, срывал аплодисменты и брал призы за простоту и надежность конструкции. Пустыню и вообще весь путь он преодолевал без поломок, за три-четыре дня. Энтузиазма, конечно, у него было предостаточно. Но не одного энтузиазма, а и твердых, глубоких знаний, инженерной интуиции. Его «антилопа-гну» восхищала многих. Быстра, прочна, надежна и, в то же время забавна, как все игрушки взрослых. Он и относился к ней, как к игрушке. Боже упаси потратить на нее хотя бы минуту рабочего времени!
Вот этого человека и хотел Голубев сделать вторым должностным лицом треста и первым среди ответственных за технический прогресс. Он сознавал, что его предложение прозвучит неожиданно и кое-кого озадачит, а кое-кому покажется странным. Он посоветовался с Курбановым. Сабит Тураевич попросил три дня для знакомства с кандидатом. Потом, после того, как Дмитрий Павлович напомнил ему, что пора высказать мнение, похмыкал, поморщил лоб и неожиданно заключил.
— Знаешь, я согласен, знаешь, я этого Аюпова поддержу. В нем много мальчишеского, но, если говорить честно, то, что еще ценно в нас самих, тоже мальчишеское, ершистое, неугомонное, горячее.
— Спасибо, аксакал, что мы не разошлись во мнениях, — сказал Голубев. — Мы почему-то никогда не расходимся во мнениях.
— Это тебе спасибо, Дима. За то, что разглядел в человеке, который никогда не выпячивал себя, никогда не пекся о карьере, потенциального главного инженера. Он ведь не приходил, не улыбался, не шептал, согнувшись в поклоне: «Местечко вот освободилось… не отдадите ли? Я бы согласился!» Признайся: ведь приходили, нашептывали?
— Приходили, — сказал Дмитрий Павлович. — Шептали. Звонили. Советовали. И еще придут, позвонят, напомнят, заверят, что отблагодарят. Но нам нужен мастер и труженик. Имеем мы право взять то, что нам нужно, или нет?
Сабит Тураевич обнял Дмитрия Павловича, а Дмитрий Павлович обнял Сабита Тураевича. Поднатужился и оторвал кряжистого старика от земли.
— Ого-го! — зарокотал Курбанов. — Во мне, Дима, сто восемь!
XII
Осень медленно угасала, дни укорачивались, оставаясь погожими. Приближался финиш года. Чем меньше оставалось до бравурной, искрометной новогодней ночи, тем большую силу обретало слово «план». Для территориального управления «Голодностепстрой», а значит, и для треста «Чиройлиерстрой» план означал прежде всего ввод земель. Пятнадцать тысяч гектаров преображенной целины должны были перейти в разряд орошаемой пашни, дать в следующем году хлопок. Приказы всемерно ускорить работы, связанные с вводом земель, посыпались в обложили со всех сторон, не дозволяя заниматься ничем другим, а только вводом.
Между прочим, для рассылки этих строгих приказов основания были. За десять месяцев удалось сдать только шесть тысяч гектаров. Трест Голубева в создавшемся положении виновен не был, монтаж лотковых трасс велся с опережением графика, водовыпуски и перепады на межхозяйственных каналах тоже возводились своим чередом. Но отставали планировочные работы и прокладка дренажной сети. А дрены для здешней земли значили то же самое, что и почки для живого организма. Заменить дренаж чем-либо другим было никак нельзя. При отсутствии дренажа здешняя пашня очень скоро покрывалась белыми солевыми выпотами и переставала рожать. Назревал аврал. Дмитрия Павловича сначала просто обязали оказать помощь, и он взял на себя монтаж сорока дренажных колодцев. Затем его обязали оказать максимальную помощь, и он перебросил на дренажные сети еще двести человек и технику.
В новых условиях людям, как правило, остро не хватало опыта, сноровки. Они теряли в производительности и заработке, и это портило им настроение. Отставание в прокладке дренажа наметилось давно, почему же упущенное наверстывалось так поздно? Это Голубеву было непонятно. Меньше всего ему хотелось отвечать за чужие просчеты, халатность, равнодушие. Можно было заблаговременно, не ломая чужих графиков и планов, перебросить на отстающий участок дополнительные силы. Теперь же он мог снять людей только с насосной, с котлована и подсобных служб, работающих на котлован. Лотковиков трогать было нельзя, они, при их узкой специализации, приносили тресту и главку наибольшую выработку в рублях, обеспечивали вал и премии. И не было никакого резона останавливать их конвейер, набравший высокую скорость. Оголяя же котлован, он неизбежно замедлял ход другого, на сегодня главного конвейера, искажал пропорции рабочей эстафеты, которым только что удалось придать нужную соразмерность.
«Как прикажете быть? — размышлял Дмитрий Павлович. — Прореха давно у всех на виду, но только теперь руководство в лице товарища Киргизбаева решается ее залатать — немедленно, форсированно, не считаясь с затратами, иначе летят план и премии и у еще более высокого руководства возникают сомнения в том, что мое непосредственное начальство владеет ситуацией. Джизакскую насосную нельзя отрывать от тех земель, которые мы вводим сейчас. Без нее мы не польем и половины из этих пятнадцати тысяч гектаров. Но пуск первых агрегатов — задача следующего года. Пока же надо по всей форме отчитаться за год нынешний. И первое, сиюминутное, уже закрыло перспективу, заслонило собой более важное даже с позиций сегодняшнего дня, И это не нововведение, это традиция. Я говорю рабочим: любите свое дело, и у вас будут и мастерство, и заработок, и человеческое уважение. Но как все это важно для руководителя! Любить свое дело — значит, успевать там, где равнодушный не успеет, предусматривать и организовывать то, что равнодушный не предусмотрит и не организует. Любить свое дело — значит, любить людей, которые это дело делают вместе с тобой, заботиться о них, обеспечивать их всем необходимым. И как же здесь проявляет себя товарищ Киргизбаев? Он проявляет себя как начетчик, как хороший проводник, в полном объеме доводящий до нас указания, поступающие сверху. Как весьма посредственный проводник, если речь заходит об информации снизу вверх. Такая информация фильтруется, умело выхолащивается; успехи выпячиваются и превозносятся, недостатки умалчиваются, словно их и нет у нас больше, словно мы изжили их давно. Выходит, он в целом… полупроводник? — Дмитрий Павлович усмехнулся. — Проводник, полупроводник! Не в этом суть, от реальностей жизни не скроешься, показуха не рассчитана на долговременное употребление. Руководитель должен умело взращивать инициативу подчиненных. Я дал ему в руки такой козырь — рабочую эстафету. Но в равнодушных руках и козыри не играют. Положение дел на строительстве дренажа нельзя поправить наскоком, аврал он и есть аврал. Мыльный пузырь. Или взятие взаймы у ростовщика под огромные проценты».
Вопрос «Как прикажете быть?» оставался без ответа. Беспокойство нарастало. То, как его заставляли сейчас поступать, шло вразрез с действительными нуждами и потребностями возглавляемого им коллектива, и, более того, дискредитировало его как управляющего, распоряжения которого не усиливали, а ослабляли действие рабочей эстафеты. Едва примененное и хорошо зарекомендовавшее себя новшество теперь подвергалось атаке со стороны тех, кто в свое время ничего не сделал для его внедрения, но имел неплохие виды на плоды, которые оно могло принести. Пахать и сеять на вводимых землях, в конце концов, будут не завтра, не в декабрьские дни подписания приемных актов, а в апреле. Дренаж же понадобится еще позже, когда начнутся поливы. Но готов он должен был раньше. Трактору с сеялкой нечего делать на поле, прорезанном глубокими траншеями. Значит, март приемлем для всех. Согласись Киргизбаев на март, и спала бы острота напряжения, и не пришлось бы свистать всех наверх. Правда, с приемкой земель вышла бы заминка. План и премия — к черту. «Так возникают приписки, — подумал он. — Сдаем неготовое, недоделанное. Хотим выглядеть солидно, бьем себя кулаком в грудь, а покрыв акт подписями, никогда уже не возвращаемся к недоделанному. Опасный путь: кому охота подставлять голову? Иркин Киргизбаевич не приказывает вводить неготовое: упаси бог! Он подталкивает к этому иносказательно, намеками. Но люди уже однажды обожглись и прекрасно помнят, как это сказалось на них и как — на тех, кто способствовал и подталкивал, а потом тихо сместился в сторону, а потом, когда вдруг становилось шумно и жарковато и провозглашался месячник наведения порядка, строго вопрошал: «Как вы могли? Как докатились до такой жизни? Мы вам верили! Вы не себя, вы меня подвели!» Демагогов в руководящих креслах он повидал немало.
Дмитрий Павлович помнил все это. И ответ на вопрос «Как прикажете поступить?» созревал. Ростки его медленно приподнимали давящую, не пускающую тяжесть асфальта. Это делала их неизбывная, не знающая преград ростовая сила.
Дмитрий Павлович поехал на насосную и был обескуражен явным замедлением темпов работ. Поубавилось людей, техники. Но самым неприятным следствием оголения котлована было упавшее настроение людей. Воодушевление, зажженное с таким трудом, сменилось спокойным созерцанием. Отсюда был всего шаг до апатии, возвращения к тому всегда возмущавшему его положению, когда в поведении человека начинает преобладать пассивность, верх берет стремление поставить свою хату в краю и не высовывать из нее носа. На его вопросы люди отвечали односложно, без привычной откровенности, Прямо его не винили, но он чувствовал их неодобрение, их укор. Объяснять, что он не виноват, что приказ начальника — закон для подчиненного — не имело смысла, это они понимали. Не понимали другого: почему должна тормозиться рабочая эстафета, взятая ими на вооружение с ведома и с заверениями в полной поддержке тех руководителей, которые сейчас препятствовали ее осуществлению. Не понимал этого и Дмитрий Павлович. Только-только удалось навести порядок. И вот досадная необходимость защищать порядок от волюнтаризма и самотека, вершина которого — аврал.
Из диспетчерской Голубев позвонил Киргизбаеву и попросил принять его. По дороге пытался выстроить канву разговора. Ни повышенные тона, ни настойчивое доказательство своей правоты, он знал, не принесут пользы. Он мог надеяться на что-то реальное лишь в том случае, если явится в роли просителя, которая всегда была ему крайне мучительна. «Поступлюсь самолюбием, черт с ним, — подумал он. — Зимой можно привлечь механизаторов из совхозов. Вот люди, вот техника, вот выход».
Иркин Киргизбаевич заспешил навстречу. Поздоровались на середине кабинета, сели в кресла друг против друга — чем не друзья-приятели? Первые слова о здоровье и самочувствии были традиционными. Оба улыбались и щедро расточали комплименты. И Дмитрий Павлович вдруг подумал: «А почему я должен злиться, не верить ему, подозревать в корыстных побуждениях? Только потому, что однажды поймал его на недозволенном?»
— Тяжело мне, Иркин Киргизбаевич, — начал он, приступая к изложению дела, с которым пришел. — Я к вам прямо из котлована. Не те там сейчас люди. Огонек мы с вами погасили. Вроде бы и материалы поступают ритмично, простоев нет и не предвидится, и в столовой готовят вкусно, а прежнего энтузиазма нет. Люди увидели: впереди неразбериха.
— И я эту неразбериху создал, я благословил ее на мирное сосуществование с вашим добрым начинанием, я ей покровительствую… — дополнил недосказанное Иркин Киргизбаевич.
— Я бы назвал ваш ответ самокритичным, если бы он был в утвердительном, а не в ироничном плане, — сказал Дмитрий Павлович. Гасить искру ему не хотелось. — Разрешите обратить ваше внимание на то, что вы не логичны. Своими руками свое детище никто не душит в перспектив на светлое будущее не лишает.
— Так, так, — поохал, покрякал Киргизбаев. — Когда в одном сосуде вода выше, в другом ниже, и сосуды сообщаются, что происходит? Выравнивание уровня. Вы ушли вперед, другие отстали, силенок наддать, увеличить скорость у них нет, а сосуды-то сообщаются посредством общего плана, общего для всех задания. Речь идет не о том, чтобы вам остановиться или замедлить шаг, а о маневре силами и средствами в интересах плана. В Ташкенте и в обкоме мне говорят: вот тебе план, ты за его исполнение ответишь персонально, иди и дай план, введи земли. Сложно, неувязки возникли? Не ерепенься, не прожектерствуй. Найди, как обеспечить план, ты не маленький. Так мне говорят. Напутствуют, одним словом. Охать и возражать не станешь, никому мои охи не нужны. И твои — тоже. Ну, и как прикажешь, быть?
— Этот вопрос и я себе задаю. Как бы нам прочно поставить на ноги «Дренажстрой»?
— Это будем решать в следующем году. В их тресте нужно многое менять, улучшать. Искать сведущих людей, как ты. Они и выправят дело. А сейчас надлежит спасать план нынешнего года.
— Давайте призовем механизаторов из совхозов. Мы помогли в уборочную хлопкоробам? Помогли. Пусть и они теперь поделятся людьми.
Иркин Киргизбаевич внимательно оглядел Дмитрия Павловича и с его предложением согласился:
— Верная идея, — сказал он. — Не ты первый, правда, решил поскрести по сусекам. Поскребли, подмели, и нашли кое-что. Твоя идея уже работает. У тебя помощи больше не прошу. Ты и так помог, не встал в позу. Скажи, приятно подставлять плечо под тяжелую часть ноши?
— Прежде было приятно. В этот раз — нет. Моя ноша и есть сейчас самая тяжелая.
— Тебя на прием не возьмешь, ты борец, борец! — засмеялся Иркин Киргизбаевич. Он все еще ожидал резкостей, отпора, и это накладывало отпечаток на его поведение. «Откуда он знает, что я увлекался борьбой?» — подумал Дмитрий Павлович. — Людей твоих вернем первыми, — продолжал Иркин Киргизбаевич. — И вернем быстрее, чем ты ожидаешь. Но смотровые колодцы и гидротехнические сооружения целиком за тобой, тут твоих хватких ребят хлопкоробами не заменишь. По качеству работ эта замена так ударит, что не обрадуешься. Годами будешь во все инстанции объяснения рассылать. Потерпи еще месяц. Себя не вини, вини меня.
— Я так и поступаю, но мне от этого не легче, — оказал Дмитрий Павлович.
— Объясни людям, что к чему. Чтобы не унывали. И чтобы порядок, который создали у себя, блюли и совершенствовали на радость тебе, мне и самим себе.
— Интересно у нас разговор повернулся. Думал, вы упор сделаете на предпусковое кручение. Мол, поднажмешь и наверстаешь. А вы даже вину на себя берете, совесть мою успокаиваете. Но только не во изменение первоначального приказа.
— Язва ты, — простецки так бросил Иркин Киргизбаевич. — Это, может быть, и не вина, тут как посмотреть. Мы выкручиваемся, как умеем. Дадим план — никто не погладит против шерсти. Вот четыре года назад, когда о выполнении девятой пятилетки отчитывались и обстоятельства тоже сложились не сладкие, мы приписали к введенным землям целый массив, на котором только разворачивались мелиоративные работы. На меня надавили, я подчинился. Прокол тот помню. Бывалые люди говорят, что ошибки хороши только одним: позволяют извлекать уроки. Урок получил. С тех пор на приписки и сам не иду, и никого из подчиненных не толкаю. Пережил в связи с этим много. Знаю, из-за этого отношения у нас не сложились. Корю себя. Когда был пацаном, говорил, признавая вину: «Хочешь, ударь!» Но ушло то золотое время, когда все решалось просто, движением кулака от подбородка к подбородку, добро и ненависть открыто лежали на самой поверхности — бери, что тебе по нраву.
— Обстоятельства тогда складывались как сейчас? — спросил Голубев.
— Хуже, в том смысле, что я, новоиспеченный начальник, не знал всех тонкостей подведения итогов. Позволял на себя давить, когда здравый смысл требовал твердости. Но это прошлое, а нам в будущее смотреть надо. Твоя рабочая эстафета мне по душе.
«Наша рабочая эстафета», — хотел поправить начальника Голубев, но не поправил.
— Она тем хороша, что думать заставляет, — вдруг разоткровенничался Киргизбаев. — По-новому осмысливать показатели, которые оценивают нашу работу. Вот, например, рубль, те самые капиталовложения, которые мы должны осваивать. Можно тысячу домов начать и ни одного не кончить. Вал дадим большой, выглядеть будем солидно, в передовики пробьемся с таким валом. А толку никакого, вред один. Потому что нет законченных объектов, нет ввода, нет конечного результата. А начни я пятьсот домов и вовремя их введи, в них люди поселятся, решат свой жилищный вопрос. Вот она, польза, на ладони, в доказательствах не нуждается. Почему же мы до сих пор за вал держимся, а не отчитываемся за готовые, вместе с ключами сданные заказчику объекты? А потому, что за вал нам отчитываться и привычнее, и проще. Вал не ввод, освоению средств практически нет предела. Отсюда и ухудшение качества, и падение трудовой дисциплины, и нравственные проколы. Рабочая эстафета не вал, а ввод ставит на первое место. Пуск, готовую продукцию. Тем она и примечательна! Возьми наше управление. Созданы все условия для комплексного освоения земель, для того, чтобы строительный конвейер давал нам отличную готовую продукцию — целинные совхозы. Это и итальянцы нам говорили, глаза пялили, и американцы — те говорили это, потупясь. Но и мы в некоторых пор средства осваиваем, а нужного ввода не даем, растекаемся по древу. То, се, средства освоены, а ввода нет. Позор? Это эмоциональная оценка происходящего. А строгая, деловая оценка говорит о том, что это — следствие устаревших показателей, которые мы закладываем в планы и расчеты. И следствие давления сверху: давай земли, прочее потом! Сейчас с помощью аврала мы стараемся выправить положение, затушевать существующие недостатки. В этом — преуспели. Но даю слово: все отдам ради того, чтобы рабочая эстафета успешно финишировала!
«Кто его так пообтесал?» — подумал Голубев. А вслух сказал:
— Убедили. Иметь в начальнике единомышленника всегда приятно.
Его прежнее представление об этом человеке поколебалось.
Для ускорения строительства дренажной сети на новых землях было мобилизовано еще около двух тысяч человек, но ни один из них не был снят с первой насосной. Теперь Дмитрий Павлович знал, что делать. Пессимизму не поддаваться. Закрепиться на завоеванных позициях и во что бы то ни стало удержать их. А там ситуация изменится, подойдут свежие силы, и…
XIII
Ночью устанавливалась тишина почти полная, и если бы не редкий лай собак, казавшийся близким и громким, и не рокот далеких грузовиков, идущих узбекским трактом, можно было бы, наверное, услыхать, как падают листья во дворе, светит луна, мерцают звезды и вспарывают атмосферу метеориты. Ночь гасила суету, усмиряла тщеславие. Обыденные дела забывались, мысль забиралась высоко, и открывались пространства для обзора, как со смотровой, поднятой над городом, над Голодной степью, а то и над всей Землей площадки.
Дети давно спали, а мы не спали. Моя голова лежала на Димином плече. Я прижалась к нему, большому и сильному, и мне было хорошо. Мне снова было так хорошо, как давно уже не было. И я боялась, что это ощущение скоро кончится, ведь все хорошее приходит редко и проходит быстро, и след, который оно оставляет в душе, потом долго рассматриваешь со всех мыслимых и немыслимых расстояний, и удивляешься его прочности и тому, что никакие другие следы на него не наслаиваются и не портят его, не видоизменяют. Я уеду и буду одна, думала я. Зачем? Так было надо. Я устала работать вполсилы, я теряла к себе уважение. Дима же считал это блажью, бабским очередным труднообъяснимым выкрутасом, с которым ничего нельзя поделать, коль он есть, и который надо терпеть, пока он сам собой не зачахнет под натиском столь же труднообъяснимых новых выкрутасов.
Конечно, если ты пахал вчера, пашешь сегодня и будешь пахать завтра, стараясь так, как позволяет твоя добросовестность и порядочность, то жизнь кажется простой, и чьи-то выкрутасы только портят ее и возмущают, потому что нельзя ответить, зачем они. Впрочем, на эту тему мы с ним не полемизировали, слишком разными были исходные позиции и защищаемые нами ценности.
Рука мужа время от времени напрягалась, и тогда я плотнее приникала к нему. Блики света бродили по стене. Ночью, если только не идет обложный дождь, никогда не бывает полной темноты. А лунная ночь — это вообще волшебство. Какие мягкие, призрачные краски, и все-все видно, лишь отдаленные предметы теряются в желтом свечении. Тот же день, но приглушенный, сумеречный, недопроявленный, не нервный. И на душе совсем не так, как при солнечном свете, — грустно, и светло, и свободно одновременно.
Я думала о своем, а Дима молчал, то есть тоже, думал о своем. Дни и ночи, когда он думал только обо мне, ушли в далекое прошлое. Так давно все это было — да было ли вообще? И мне захотелось, чтобы мы думали не каждый о своем. Но вместе мы умели обдумывать только его дела, не мои.
— Муж! А, муж! — позвала я. Он молчал. Глубоко вздохнул. Потерся головой о мою голову. — Командир, а командир! — позвала я настойчивее. — О чем ты думаешь? Какие строишь планы? На какие высоты ты должен подняться завтра?
— Я со товарищи, — сказал он. — Я не какой-нибудь жалкий кустарь-одиночка. — Рука его напряглась, и сам он напружинился, потянулся.
— Не молчи, — сказала я. — Мне интересно знать твое мнение.
— На предмет?
— Например, на такой предмет: почему, вопреки известной пословице, когда углубляешься все дальше в лес, дров становится не больше, а меньше? Природные ресурсы скудеют, ведь они относятся к разряду невозобновляемых. Как и твое внимание. Меня сейчас интересует все то, что не возобновляется.
— Ну, аналогия! Ну, запевочка! — затянул он, пытаясь скрыть смущение. — Если хочешь знать мое не до конца просвещенное мнение, время, сама человеческая жизнь — самые невозобновляемые вещи.
— А дети?
— Дети разве похожи на нас? Это совершенно новые люди.
— Разве мы не возобновляем себя в детях?
— Дети — не мы. Присмотрись, и ты легко убедишься в этом.
— Положим. Но о чем ты думаешь, размышляешь?
— Не о скудеющих природных ресурсах и не о том, что быстро иссякает. У меня свой участок работы, а на нем свои проблемы. Меня давно беспокоит вот что…
— Как довести до победного финиша рабочую эстафету? — уколола я.
— Промазала, это частность. Она от нас не уйдет, свои аплодисменты мы получим. Сама же проблема велика, как гора. Как нам научиться работать грамотно и культурно? Чтобы дело шло, словно по маслу, без малейшей задоринки? Что для этого нужно? Проблема должна быть решена так, чтобы человеку, который приходит на завод, на стройку, в исследовательскую лабораторию, становится за прилавок магазина, не прививать все необходимые его профессии качества заново. Чтобы он приходил на свое рабочее место, уже впитав в себя все это, уже крепко-накрепко усвоив, что от него требуется и как эти требования удовлетворять. Чтобы нужные профессиональные навыки, а также честность и умение правильно реагировать на недостатки были прочно привиты ему в школе и семье. Чтобы производство было для него не чем-то чуждым и враждебным, а кровным его делом.
— Я чувствовала, что ты думаешь не обо мне. Я рядам, я твоя, зачем же думать обо мне? Но продолжай, мне интересно. Кстати, работа грамотная и культурная не такая уж редкость, я видела ее и у себя в лаборатории, и у тебя на монтаже лотков, а в последнее время и в котловане насосной станции. Наблюдать такую работу всегда интересно. А выполнять ее почетно и радостно.
— Ты бы знала, как мне приятно спускаться в котлован! Тут мы преуспели, тут мы своего не отдадим! Но я имею в виду даже не свой трест и не Чиройлиер, в привязанности к которому ты меня часто упрекаешь, а всю страну. Если бы страна укладывалась в рамки тех примеров, которые запомнились тебе прежде всего своей неординарностью, у нас бы не было столько прорех. Их наличие мы объясняем то плохими погодными условиями, то холодной войной, то другими причинами, от нас якобы не зависящими. А надо объяснять прежде всего разгильдяйством и безответственностью, так будет вернее. Целые коллективы во главе со своими славными руководителями подточены этим недугом под корень. Безотказно действующий и набирающий обороты хозяйственный механизм, полное использование возможностей социалистического способа производства — это, мать, система очень динамичная, гибкая и тонкая, очень страдающая от косности, шаблона, от установок и инструкций, срок действия которых мы насильственным образом пытаемся продлить до бесконечности. Мы видим, что старое свое отслужило, вчерашние стимулы превращаются в цепи. Что же мы предлагаем взамен, чтобы вернуть экономике прежние темпы роста? Чтобы повернуть экономику лицом к человеку?
— Ты неплохо сказал: «Повернуть экономику лицом к человеку». Не на вал ориентироваться, не на тонны и штуки, а на фактические потребности людей. Не наращивать выплавку стали ради увеличения добычи угля, а добычу угля — ради увеличения выплавки стали. Не производство для производства, а производство для человека.
— Мы отошли от темы. Каждый должен в интересах общества работать грамотно и культурно, с полной отдачей сил. Как этого добиться?
— Темы взаимосвязаны.
— Пусть так, — сказал Дима. — Ты знаешь, что такое ложка дегтя в бочке меда? «Это брак одного — алкоголика, страдающего похмельем, просто беспечного или неумелого работника, которому все до лампочки, кроме амбразуры кассы. Он делает бездыханным куском металла большую и дорогую машину, которую создавали тысячи людей. Достаточно напортачить в одном месте, чтобы это выплыло в самых неожиданных ситуациях. Часто бракованная деталь стоит копейки, а пока ее меняешь, теряешь тысячи.
— Что ж, средство есть. Испытанное, проверенное, не совсем еще забытое. Требовать надо.
— Требуют с тех, кто умеет, может, но не делает.
— Умеет и может, но в постоянной спешке сознательно чего-то не исполняет. Сознательно сужает круг своих обязанностей. Я знаю, как ты поступаешь с такими. Но скажи сам… — Я вспомнила лотки, которые рассыпались после стокилометрового пути, и новые чиройлиерские кварталы, на которые не хотелось смотреть. Мы оттеснили качество куда-то на задворки, а первое место отдали гонке, темпам, валу.
— Знаешь, перевоспитанием я все-таки занимаюсь мало.
— Ты стремишься переложить эту нелегкую и совсем не почетную обязанность на других. В трудовой книжке уволившегося по собственному желанию не ставишь уведомление далекому кадровику, который примет от тебя драгоценную эстафету: «Внимание! Халтурщик!» Пусть рвача раскусывают опять и опять и гонят, как перекати-поле. А ты поставь такого землю копать. И сделай это на законном основании, наказав за брак, за прогулы, за появление на работе в нетрезвом состоянии. Не увольняй, не выпроваживай нерадивца на все четыре стороны, чтобы он и дальше, безнаказанный, глумился над обществом, рассыпая по стране образцы откровенной халтуры, получая за нее по высоким тарифам. А переводи на самую тяжелую и непрестижную работу. И плати минимум. Рубль прекрасно воспитывает, если его правильно потреблять.
— Я не умею унижать.
— Наказание не есть унижение. Брак и плохая работа в сто раз унизительнее. Каков привет, таким должен быть и ответ. Нет, с недобросовестностью нам к работе грамотной и культурной не прийти. А для этого нужно одно: строже, жестче требовать. Воздействовать, бороться, а не закрывать глаза.
— Согласен, негоже либеральничать с представителями разного человеческого негабарита, громко именующими себя рабочим классом. Я и так много этого сырого материала довожу до кондиции, — заявил Дима. — В моих хороших бригадах разве мало людей с исковерканными судьбами и с не совсем советским отношением к социалистической собственности подтянулись, пересмотрели свое отношение к жизни, встали, как говорится, на путь праведный? Был какой-нибудь слюнтяй, и перекати-поле, и гуляка, и несун, а стал мастер, и сажают его теперь не куда-нибудь, а в президиум. Бригада, в которой ценят порядок, такого или перевоспитает, или выкинет из своих рядов — все это без ненужного цацканья, без показного человеколюбия. Вспомни, сколько раз с тобой было: ты требуешь — и добиваешься, молчишь — и тебе садятся на шею. Обещают, но забывают выполнить обещанное. Или просто нагло врут.
— Ты говоришь о требовательности одних людей к другим. О требовательности начальника к подчиненным, подчиненных к начальнику. Но есть еще изначальная требовательность, идущая из глубин человеческого естества — требовательность к себе, которую мы именуем добросовестностью. Если все время строго спрашивать будет кто-то, а твоя совесть будет помалкивать и дурное не пробудит ее к отпору, ничего путного мы не добьемся. Критика и самокритика — вот великая составляющая гармонично развитой личности.
— Честный человек всегда самокритичен. Он и сам плохо не поступит, и не пройдет мимо чужих недостатков.
— О! Как раз за это он частенько бывает бит.
— Ну и что? Это только укрепляет его принципы.
— Мы вернулись к первому кругу разговора. Рабочая эстафета учит взыскательности?
— Еще как!
— Те мероприятия, которые вы у себя в тресте проводите по укреплению трудовой дисциплины и усилению контроля исполнения, воспитывают взыскательность?
— Так точно, командир!
— Не я командир, а ты командир, и свои прозвища на меня не вешай. Еще ты блин горелый! Кто, кроме тебя, додумался бы провести производственное совещание в супружеской постели!
— Ты первая! Ты сказала: «Не молчи, поделись мнением». Я поделился своим, ты поделилась своим. Оконтурили мы с тобой проблему, а она почти необъятная. Дальше что? Решать ее надо. В меру сил я решаю. Ты, я знаю, тоже шла этой дорогой, но потом свернула на более спокойную. А жизнь что показывает? Жизнь не устает напоминать: того, что я, ты, третий, десятый делают в этом направлении, мало, пока одиннадцатый и двенадцатый спокойно взирают, как мы кипим. Это проблема для всех, и решать ее надо всем миром. На издержки пойти, на временное отступление в количестве с непременным выигрышем в качестве. Ситуации тут могут быть разные, но конечная цель все время должна быть ясной и четкой, должна как бы возвышаться на пьедестале. Чтобы все ее видели и все к ней стремились. Я тебе такой пример приведу. К бетону мы предъявляем много требований: и водонепроницаемость должна быть заданная, и морозостойкость, и прочность. Но все эти требования выполняются автоматически, если мы добиваемся одного — высокой плотности. Так и тут. Научимся работать грамотно, культурно и честно — столько зайцев ухлопаем этим прицельным выстрелом! Тогда твори, выдумывай, пробуй в сплоченной среде товарищей-единомышленников, в обстановке искренней заинтересованности в успехе!
— Какой заинтересованности? — спросила я. — Материальной?
— И моральной. — Он не принял иронии.
— А тебе не кажется, что требовательность исполнителя к самому себе, направленная на самосовершенствование, и требовательность руководителя, ставящего исполнителя в жесткие рамки конкретных сроков и условий, часто обижающая бестактностью, — это вещи совершенно разного порядка?
— Не кажется, — безапелляционно заключил он. — Спрашивай с себя строже, чем в состоянии спросить начальник, и он всецело доверится тебе и перестанет контролировать. Ведь все то, что становится излишним, умирает естественной смертью.
Он выговорился. Я задумалась, он — тоже. Но мы думали уже не каждый о своем. Удивительно мягка была ночная тишина, как мех норки. Блики призрачного, отраженного лунного света прихотливо перемещались по стенам и потолку. Было темно, но в комнате все было видно. И хорошо думалось, хорошо размышлялось в этой полночной удивительной тишине.
XIV
Дождило. Ветер нес капли почти параллельно земле, с силой ударял ими в окна. Стемнело рано. Тепло и уют создавали ощущение защищенности от непогоды, во власти которой была предзимняя степь, и от неприятностей и непростых проблем, которыми все же богата жизнь.
Я гладила. Ужин был готов. Дима, проработавший в честь субботы лишь полдня, сам вызвался кухарничать. Его коронным блюдом была баранина, тушенная в казане с картофелем, репой, морковью, капустой, помидорами. Она называлась «казан-кебоб». Ничего вкуснее я не ела. В субботу или в выходной, когда мне хотелось вкусно поесть, я подруливала к мужу и начинала скандировать: «Хочу казан-кебоб! Хочу казан-кебоб!» Он, улыбаясь, повязывал фартук, и я предоставляла кухню в его полное распоряжение.
Кирилл поглощал очередной том Конан-Дойля. Петик строил с Димой корабль. Город из кубиков они уже разрушили, отбив его у фашистов, или у белых, или у пиратов. Из духовки вырывался аромат отменной баранины, доведенной до высоких кондиций.
— Готовить на стол! — скомандовала я.
И тут раздался звонок. Я приоткрыла дверь. Сабит Тураевич распахнул ее широко, в узкий проем его крупное тело не протискивалось. С его плаща и меховой шапки густо капало. Он сначала втянул в себя воздух, причмокнул. Выражение лица стало мягкое, умиротворенное. Сказал:
— Кажется, я пришел в самый раз! Что бы вы делали сегодня без меня? Вы бы скучали.
— Как вы правы! — воскликнула я, принимая у гостя плащ и шапку. — Полчаса назад я попросила Диму сходить за вами, а он засмеялся и сказал, что экспромты не нужны, он пригласил вас еще утром. Чувствуете, как пахнет?
— Олечка, этот запах и выгнал меня из норы.
Сабит Тураевич прошел в гостиную. Стул заскрипел под ним. Я показала ему на массивное кресло. Для таких людей, подумала я, нужна мебель поосновательнее. Петик стал рассказывать, как он и папа разрушили фашистский город, а всех фашистов поубивали. Я, применив маленькую хитрость, спровадила его в комнату Кирилла, а потом занесла им ящик с кубиками. И строго наказала играть тихо, уважать покой гостя. Заварила чай. Поставила блюдо с курагой, изюм, вазу с отличными зимними грушами, и цветом и вкусом напоминающими мед. Карликовым грушам в нашем саду шел пятый год, они обильно плодоносили. Спросила Курбанова о самочувствии. Гость вздохнул и сказал, что сердце нуждается в ремонте, и еще кое-что в его организме нуждается в ремонте, да и вообще трудно противиться естественному процессу увядания. Но если смотреть на вещи оптимистически, жить можно и в преклонных годах, под занавес жизнь так же прекрасна и удивительна, как и в молодые годы с их беспредельной ширью желаний и отличными возможностями для их удовлетворения. Оптимизм — лекарство, оптимисты живут дольше. И умирают в одночасье, вдруг, не изнуряя близких медленным угасанием.
— О чем вы говорите! — упрекнула я. — Люди вашего склада, вашей душевной энергии встречают в кругу друзей столетние юбилеи.
— Но не в кругу сверстников! — сказал он.
Бегом — на кухню. Салат из помидоров. Салат из редьки. Селедочка с лучком. Соленые огурцы, капустка. Баклажаны, фаршированные чесноком. Наконец, расписанное дулевскими мастерами фарфоровое блюдо в дымящейся бараниной, обложенной распаренными овощами. Мужчины все это единодушно одобрили и налегли на еду. Мне нравился их аппетит. Они привыкли сворачивать горы и хорошо есть. Они привыкли получать удовольствие и от работы, и от еды, а также научились вкушать и от остальных благ жизни. Начало разговору на темы, далекие от застолья, было положено бодрое, энергичное, и он разгорался, как костер, который развели затем, чтобы согреться, а более насладиться огнем, излучаемым им таинственным, сильным и красивым светом.
Я заварила чай и могла больше не отлучаться на кухню.
— Дима, я отыскал идеальное место для аллеи передовиков труда, — сказал Сабит Тураевич. — Это площадка перед спуском в котлован. Там вагончики стоят в два ряда. Бытовки, прорабские, буфет — там вечно люди.
— Доска почета или аллея передовиков? — спросил Дмитрий Павлович.
— Нужно и то, и другое. Наши постоянные победители в социалистическом соревновании перейдут с Доски почета на аллею передовиков. Так сказать, будут повышены в ранге и лучше поданы. Пригласим фотографа, средства у нас есть.
— Художника, — поправил мой муж. — И притом хорошего. Аллея передовиков нужна, но не на пыльном перекрестке, не под солнцем и дождем, где портрет придет в негодность через полгода, а в вестибюле Дворца культуры.
— «Знает, чего хочет», — подумала я. И поправила его:
— В вестибюлях не бывает аллей.
— Пусть я ошибся в названии, но суть, считаю, вы схватили. Для Дворца культуры я бы заказал несколько полотен. Панорама первой насосной. И чтобы непременно было передано напряжение, порыв строителей. Панорама Чиройлиера. Групповой портрет лучшей бригады. Если нам посчастливится найти мастера, эти полотна будут жить десятилетия.
— Позволь, сначала надо заиметь свой Дворец культуры.
— Введем к концу будущего года. Самое время пригласить художника. Пусть поживет здесь, оглядится, с людьми нашими сойдется.
— Сейчас рисуют как-то… непонятно, — сказал Сабит Тураевич. — Световые пятна вместо четких линий. Мазня, а в ней свой тайный смысл: доискивайся! А если я не в состоянии?
— Точное копирование действительности — это для фотографов и репортеров. И то многие из них пользуются приемами импрессионистов, усиливают одно, затушевывают другое. Внушают свою точку зрения, если, конечно, она у них есть. Считается, что художник должен удивить, заставить быстро идущего человека остановиться и заново осмыслить то, что, в общем, давно ему известно. Вот и нам надо найти художника, умеющего удивлять. Но не зазнавшегося и не манящего себя пупом земли. Лучше — молодого.
— Задача! — сказал Сабит Тураевич. — Здесь я, брат, не силен. А ты когда успел подковаться?
— Когда за ней ухаживал. — Дима обнял меня, и мы вдвоем светло так, лучезарно улыбнулись Сабиту Тураевичу. В унисон улыбнулись. Он зааплодировал.
— Я знаю Юрия Талдыкина, художника с особым видением жизни, — сказала я. — На его полотна можно смотреть часами.
— Ну, видение жизни, при всей его оригинальности, должно оставаться советским, — сказал Курбанов.
— Это подразумевается. Давайте человеку ищущему не будем ставить слишком много предварительных условий, не будем его чрезмерно регламентировать. Иначе нам удастся залучить только ремесленника с его неизменным: «Чего изволите-с?»
— Остра у тебя Ольга Тихоновна, — сказал Дмитрию Сабит Тураевич.
— Сабит Тураевич, вы никогда не делились своим мнением вот об этих картинах? — Я подвела гостя к репродукциям Ван Гога. Я вырезала их из купленной в Ялте итальянской книги, вставила в рамки и повесила в гостиной.
Сабит Тураевич стоял перед репродукциями долго, переминался с ноги на ногу. Потом изрек:
— По-моему, про мужа твоего это писано. Спроси ты меня тридцать лет назад, я бы сказал: про меня. Очень сильно. Целый мир как на ладони. И человек, и земля, и отношение человека к земле. Глубокое, философское восприятие жизни.
Я засмеялась; то, как он объяснил эти картины Ван Гога, обрадовало меня.
— Человек у Ван Гога не просто работает, — сказала я. — Он состязается, старается превзойти себя и всех, хотя соперников рядом не видно. Перед ним цель, и он стремится быстрее достигнуть ее и опередить других. У меня к вам, руководителям большого трудового коллектива, вопрос есть. Дети всегда спешат выяснить, кто из них сильнее, и сильные открыто верховодят в своих детских компаниях. У взрослых это стремление притупляют обстоятельства, оно не столь откровенное, непосредственное. Но состязательность, выявление сильнейшего присущи человеческой натуре, в любом возрасте. В беге побеждает быстрейший, в борьбе — сильнейший. Это аксиома. Как вы используете элемент состязательности, изначальное стремление человека достичь высоты в любимом деле при организации социалистического соревнования?
— Ай да Ольга Тихоновна! — воскликнул Сабит Тураевич. — Дима, твоя жена — философ.
— Знаю, — согласился Дмитрий Павлович. — Как мы идем от состязательности к социалистическому соревнованию? Сознательно идем, не ощупью. Атмосферу состязательности поддерживаем. На площадке сейчас порядок, материалы поступают по первому требованию. Работай только, показывай, на что способен. Итоги подводим ежедневно, каждое утро вывешиваем результаты за минувший день. Люди видят, как они сработали. Вот тебе сопоставимость, наглядность, гласность. Ну, а когда конечный результат зависит только от тебя, от твоей квалификации, добросовестности, инициативы, тогда грех не развернуться, не выложиться. Мы сделали самое важное — навели порядок и обеспечиваем его. Хочешь работать по методу Анатолия Злобина, взять подряд — бери. Хочешь предложить что-то свое, ускоряющее дело — пожалуйста. Победил в соревновании или занял призовое место — честь тебе и слава. И благодарность начальства получишь, и премию или ценный подарок. Прожектор славы разыщет тебя и будет сопровождать, не отпуская. Вот тебе честь по труду в ее, так сказать, непричесанном, натуральном виде. От принятия бригадных обязательств на год мы отказались. Трудно предусмотреть объем работ на целый год и не просчитаться. А неконкретность нехороша: в параграфы обязательства вкрадываются общие слова, которые нельзя ни взвесить, ни измерить. Обязательства принимаем на ближайший месяц. Имея на руках наряд-задание, рабочие видят, что они могут сделать быстрее. Ну, и вносят предложения. Обязательства получаются реальные, насыщенные. Рабочий день в котловане сейчас очень плотный. Я знаю троих, которые бросили курить. Отвыкли — не стало перекуров.
— Абсолютно верно, — согласилась я. — Раньше спустишься в котлован — на тебя глазеют. Что, мол, за цаца пожаловала? Что за пташка диковинная? Сейчас головы никто не повернет.
— До промакадемии я работал каменщиком, — вспомнил Сабит Тураевич. — Кирпичи делал сырцовые, дома из них выкладывал. Замесишь глину, дашь ей вылежать, и пошел формовать. До тысячи штук в день выгонял. Но тогда самым трудным было найти работу. Биржа труда еще существовала, очередь на ней длиннющая. Однажды моя бригада подрядилась строить дом преподавателю университета. Он сказал: «Хороший дом поставишь — порекомендую тебя на рабфак». Догадался, что хочу учиться. Тогда не было соревнования, но была конкуренция. Частник, хозяин приглашал лучших работников. Лучшие выделялись и тогда, но не через соревнование, а через конкуренцию. Наше соревнование называет лучших и подтягивает отстающих. Оно зажигает всех, потому что высокие задачи, которые оно ставит, это задачи для всех. Когда я кончил академию, в соревнование пришел Алексей Григорьевич Стаханов. И всколыхнул страну.
— Я читала биографию Стаханова. Мне понравилось, что он ставил перед собой все более высокие задачи. Первая его цель была очень скромная — есть досыта. Вспомним, какое это было время, и поймем его. Цель следующая — хорошо зарабатывать. Нормальная цель. Но, ставя перед собой только ее, никогда не вырвешься в лидеры масс. Цель третья, поставленная после достижения двух предыдущих: добиться, чтобы без тебя не могли обойтись твоя бригада, участок, шахта. Задача четвертая: завоевать человеческое уважение. И, наконец, задача последняя: стать лучше и выше самого себя. То есть, непрерывное восхождение. Ведь не скажешь себе: «Я всего достиг». А дальше куда? С любой вершины один путь — вниз.
— Не думал, что эти вопросы тебя интересуют, — сказал Дмитрий.
— Сколько замечательных героев дали нам народные стройки — Большой Ферганский канал, Каттакурганское водохранилище. — Воспоминания такого рода были коньком Сабита Тураевича. — Сама атмосфера этих строек была такой, что люди перевыполняли норму, становились стахановцами. Старики и подростки плакали, если их не брали на Большой Ферганский. Приходили тайком и вливались в ряды строителей. Ночью подойдешь к трассе и слышишь: тюк! тюк! Это кто-то киркой долбит неподатливый грунт. Или на личный рекорд идет, или упущенное наверстывает. Всеузбекский староста Юлдаш Ахунбабаев ездил по трассе на машине и возил с собой большой кетмень. На отстающем участке останавливал машину, брал в руки кетмень и начинал копать. Колхозники подбегали к нему, молили: «Юлдаш-ака, не надо, не позорьте нас! Мы сами!» И вырывались-таки вперед, сдерживали слово. Какой красивый это был порыв! И то же самое — на Каттакурганском водохранилище. Нам было очень важно, чтобы водители, возившие грунт в тело плотины, делали как можно больше ходок. Мы ввели повышенные нормы, аккордную оплату труда. Выполнит водитель норму, сделает положенные сорок ходок, — диспетчер от имени администрации благодарит его и кладет в кузов арбуз или дыню. Подъезжает водитель домой, сынишка лезет в кузов и кричит на всю улицу: «Папа арбуз привез! Папа выполнил норму! Мой папа — стахановец! Ура, ура, ура моему папе!» Ну, а если арбуза в кузове нет? Сын говорил отцу: «Папа, у тебя что, шина лопнула? Ты почему не выполнил норму?» И водителю становилось стыдно. Для премирования лучших шоферов мы купили тридцать баранов. Пасли их рядом с дорогой. Условие выдвинули такое: сделаешь тысячу ходок в месяц — получай барана. Даже корова одна паслась с этой отарой. Для премирования лучшего из лучших. Им оказался один водитель, работавший действительно самозабвенно. Жена приносила ему еду прямо на дорогу. Пока он обедал, она садилась за руль и делала три-четыре ходки. Помню, как был установлен суточный рекорд стройки. Водитель Курочкин сделал сто одну ходку и поставил машину в гараж, уверенный в победе. Водитель Рахматуллин из Бухары тоже сделал сто одну ходку, но привел машину в гараж позже. Он снова поехал в карьер. Рабочих там уже не было. И он сам загрузил машину и сам разгрузил ее на плотине. Эта сто вторая ходка и принесла ему победу.
— Вот это накал страстей! — прокомментировала я.
— Ничего удивительного, — сказал Дмитрий Павлович. — Когда люди воодушевлены, все лучшее выступает в них на первый план. Я наблюдал это на монтаже лотков. У нас тоже были свои Курочкины и свои Рахматуллины. Один улучшит одно, другой — другое, а как технологию монтажа отточили! До блеска. Я и благодарил их от души, и грамоты вручал, и премии, и путевки. Нам уже сейчас пора подумать о том, как чествовать победителей соревнования за досрочный пуск первых агрегатов.
— Обмакнем их в сырдарьинскую воду, как только насосы поднимут ее на просторы Джизакской степи! — предложила я.
— Это само собой. Надо и о серьезных стимулах побеспокоиться. Заказать несколько туристических путевок по матушке-Волге. Дефицита достать побольше и распределить только среди победителей соревнования. И художника давайте найдем побыстрее, пусть работает над портретами передовиков. Оля, ты назвала фамилию, да я не запомнил.
— Талдыкин. Если он сам не стронется с места, то из друзей кого-нибудь подошлет.
— Нам не кто-нибудь нужен, а мастер. Поезжай, организуй. Я, например, в таком деликатном деле могу промашку дать.
— А сколько ты имеешь в виду заплатить?
— Скупиться не буду.
— Ты хотя бы представляешь, сколько стоит портрет?
— Не заказывал. Рублей сто?
— А пятьсот не хочешь?
Он наморщил лоб, сказал:
— Пусть. Это на годы. Обрати внимание, как много в наших городах средств наглядной агитации — плакатов, лозунгов, и как мало памятников выдающимся людям, героям. Так вот, я бы поменьше увлекался плакатами, лозунгами и панно, погоды они давно уже не делают, а больше средств направлял на монументальную пропаганду.
Я представила портреты наших передовиков труда, выполненные хорошим художником и вывешенные в отделанном мрамором и ореховым шпоном фойе трестовского Дворца культуры. Представила, каким большим событием это станет для тех, чьи портреты будут написаны, и для тех, кто работает с ними вместе. До этого мог додуматься только мой муж, не чающий души в своих людях. Но надо быть справедливой: как правило, они отвечали ему взаимностью.
XV
Как только секретарша доложила обо мне, Иркин Киргизбаевич вышел в приемную, сердечно со мной поздоровался и пригласил в кабинет. Он улыбался широко, радостно. И это странно не вязалось с тем, что говорил о нем Дима. Правда, с некоторых пор Дима перестал отзываться о Киргизбаеве пренебрежительно и нелестно, даже обмолвился как-то, что был не прав, твердолобо сторонясь и остерегаясь своего начальника. Что есть сила массированного давления обстоятельств, которой покоряешься помимо своей воли. Но деталей он не сообщил, спешил или не счел нужным, а я так и не поняла, что это были за обстоятельства, которые вкупе с массированным давлением сверху оказывают столь сильное совращающее влияние на вполне сформировавшуюся личность.
Договариваясь о встрече, цели своего визита я не изложила, просто попросила принять меня, и Киргизбаев согласился сразу. Теперь он, наверное, спрашивал себя, с чем я пожаловала, с задачей или загадкой. Иркин Киргизбаевич заботливо усадил меня в покойное кресло, заботливо расспросил о здоровье, работе, быте, о самочувствии родителей. «Ему очень нужны нормальные отношения с Димой», — поняла я. Странное дело: чем любезнее он был, чем настойчивее выказывал свое расположение, тем труднее было мне начать излагать то, ради чего я пришла — просить о переводе Дмитрия Павловича в Ташкент. Я отдавала себе отчет, что эта затея почти безнадежна и шансов на успех ничтожно мало. С какой стати Иркину Киргизбаевичу лишаться человека, на которого он полагается и опирается? Прогноз был совершенно неутешительный. Но и отступать не имело смысла, не использовав всех средств, которые бы способствовали достижению цели.
Я задержала взгляд на схеме комплексного освоения Голодной и Джизакской степей. Она занимала полстены и, вероятно, была нанесена художником на хорошую топографическую основу. Многое уже было сделано, а остальные земли ждали своего часа, ждали воды, пахаря, сеятеля и жнеца. Эти целинные земли и были той плотной, вязкой средой, которая цепко держала моего мужа. Да, тут — точка приложения его сил, он выбрал ее сам, и она принесла ему человеческое уважение. И я чувствовала, что бессильна изменить что-либо. Наконец наступила минута, когда Иркин Киргизбаевич исчерпал традиционные вопросы о житье-бытье и задержал на мне свой вопрошающий взгляд. Его черные чуть-чуть выпуклые глаза светились интересом, добротой и благожелательностью.
— Итак, с чем же пожаловала к вам супруга Голубева? — сказала я. — Попытаюсь изложить кратко и внятно. Я не нашла здесь себе дела по сердцу и хочу вернуться в Ташкент. У меня узкая специализация — гидравлические исследования на моделях. На эту тему я защитила диссертацию и, наверное, еще бы продвинулись вперед, если бы не замужество и переезд в Чиройлиер. Здесь я пробовала себя на разных участках освоения целины, но нигде не получала удовлетворения. Я очень люблю модельные исследования. В них я, поверьте, кое на что способна. Ну, а добиваться большего — задача каждого честного человека. — Он улыбнулся, и я поняла, что изъясняюсь высокопарно, но перестроиться уже не могла. — На большее, как вы уже поняли, я способна только в своей лаборатории. У нас с Димой был уговор: отсюда в Ташкент мы уедем вместе по истечении двух лет. Давний уговор, заключенный еще до замужества. Он нарушил все сроки. Как мне кажется, не по своей воле. Помогите ему уехать со мной.
— Не по своей, говорите, воле? — переспросил Иркин Киргизбаевич. И улыбнулся, сомневаясь, сильно сомневаясь в верности сделанного мной вывода. — Да он зачахнет в вашем большом городе!
— Но против моего отъезда вы не возражаете?
— Возражаю. — Он сказал не то, что я ожидала услышать. — И вам, и ему станет хуже. Поэтому я хочу уяснить, насколько серьезно ваше намерение уехать, насколько оно обоснованно, насколько… выстрадано вами?
— Как только я ушла из лаборатории, моим самым сильным желанием стало вернуться к любимой работе. Я принуждала себя ждать, отодвигала и отодвигала окончательное решение. Но чего ждать, зачем ждать? У меня такое же право работать по призванию, как и у мужа.
— От каждого по способности, каждому по его труду, — воскликнул Иркин Киргизбаевич, погасил улыбку и посмотрел на меня внимательно и с некоторой досадой. Подумал, наверное, что придется разжевывать простые истины, но приведет ли это к взаимопониманию? — У нас нет гидравлической лаборатории, но есть хорошая лаборатория строительных материалов. Не то?
— Совсем не то, — сказала я.
— И вы готовы… жить на два дома? Приезжать часто он едва ли сможет. Да любите ли вы Диму? — вдруг спросил он.
— Люблю, — сказала я, уже предвидя, что он непременно задаст этот вопрос. — Иначе меня давно бы здесь не было. Прекрасно осведомлена, что он очень нужный здесь человек, но не очень заботливый муж. Я люблю его и такого. Но я не могу без любимого дела.
— Знаете, Ольга Тихоновна, в дружной семье один из супругов обычно уступает, соразмеряя свои интересы и стремления с интересами и стремлениями второго. Если каждый тянет только в свою сторону, ничего путного не бывает.
— Согласна с вами. И я не только соразмеряла свои интересы с Димиными, я подчиняла их его интересам. Но дольше так поступать не намерена. Сложность ситуации в том, что успех Димы на виду. Он управляющий, номенклатурный работник. Его авторитет и репутация высоки. А жена его что-то там поделывает, но может и ничего не делать, вести себе домашнее хозяйство, воспитывать детей. Создавать комфорт и уют. А я вам вот что доложу. Результаты, которые я получила на моделях Дангаринского туннеля и туннелей Нурекской ГЭС, принесли государству миллионы рублей экономии. Женщина, сидящая перед вами, сберегла двенадцать миллионов. Это, между прочим, полугодовая программа Диминого треста. Решения лежали не на поверхности, аналогов не было, такие объекты мы еще не исследовали. Это я вам говорю для иллюстрации моих доводов. То, что не дает мне покоя, не прихоть взбалмошной бабы.
— Понимаю, понимаю! Я и не предполагал, что ваши научные изыскания были столь успешны. Это несколько меняет дело.
— Вы исходите из того, что вклад Дмитрия Павловича неизмеримо больше моего, и сейчас так оно и есть. Но тогда, когда я вела свои исследования, мой вклад примерно равнялся вкладу Димы. Попробуйте исходить из этой посылки, и вы увидите, что, настаивая на своем, мороча вам голову, я не так уж не права.
— Вы более чем правы!! — воскликнул Иркин Киргизбаевич. — Вы патриотичны. Но…
— Нельзя ли без «но»? Я знаю, что даже при громадном желании помочь мне вам будет очень сложно сделать это. И привходящие обстоятельства есть, и нюансы, которые мешают вам действовать только из дружеских побуждений, возвысившись над интересами порученного вам дела. И тем не менее нельзя позволить, чтобы жертвы всегда приносила только одна сторона, то есть я. Если признать наши творческие потенциалы равными, а так оно и есть, ведь каждый ищет и находит себе ровню, то пришло время Диме в чем-то уступить мне, нуждам семьи.
— Почему вы не узбечка? — вдруг сказал Иркин Киргизбаевич. — У вас никогда не возникло бы тех вопросов, с которыми вы явились ко мне.
— Мой муж был бы всегда прав, вы это имеете в виду? — Я не приняла его ироничного тона. — На моем месте и женщина-узбечка решительно выступила бы в защиту своих прав. Но давайте исходить из конкретной ситуации. Я уеду сразу после нового года, это решено. За два месяца можно подыскать Диме в Ташкенте приличную работу.
— И оголить головную насосную? — Иркин Киргизбаевич схватился за голову. — Это все равно что самому выхватить из-под себя стул и с размаху плюхнуться на пол. Так, знаете, можно кое-что себе и отшибить. Нет, я категорически отказываюсь делать это!
— Местничество и ведомственный эгоизм, — заключила я. — Коммунисту надлежит быть выше этого. Ну, зачем вам постоянно критикующий вас подчиненный?
— Затем, что я через это ума-разума набираюсь. Знаете, как я вырос под прожектором Диминой критики! Верно, наши отношения долго не складывались — по моей вине. Теперь они становятся нормальными. О большем не мечтаю. Но вы правильно меня поняли: он — моя опора. Содействовать его увольнению не могу.
— Если вы поняли меня, не страшно, что он поймет вас неправильно.
— Очень страшно. Я бы не желал, чтобы он вторично изменил свое мнение обо мне.
— А если… не содействовать, но и не препятствовать? — подсказала я соломоново решение.
— Ответьте на прозаически простой вопрос, который неизбежно встанет передо мной: кого рекомендовать на место Голубева?
— Не знаю, не думала.
— И я не знаю, хотя думал, ибо подбор руководящих кадров не терпит дилетантства. Достойной замены Голубеву не вижу. Он знает это не хуже меня. Это, возможно, одна из причин, почему он не торопится выполнить обещание, данное вам перед женитьбой. Он не устал? — Я уловила участие. — Идти с полной выкладкой тяжело, да кто же ее нам уменьшит?
— Никогда не слыхала жалоб на усталость. Вы правы, он на своем коне.
— Так уж никогда не пожалуется? — удивился Иркин Киргизбаевич.
— Случается, обронит: нет того, другого, тут мы сели в лужу, а тут нас ввели в заблуждение, много пообещали. Но ко всему этому он относится без злости, ведь это стихия, которая постоянно его окружает.
— Вот видите! — подхватил Киргизбаев. — Он здесь в своей стихии. А что он без нее? Без своего дела, своих людей? Своего Чиройлиера? Корабль на сухом берегу. Теперь вы лучше поймете меня. Я не могу не препятствовать уходу Дмитрия Павловича, — сказал Иркин Киргизбаевич, объясняя то, что я прекрасно знала сама. — Я должностное лицо и обязан действовать в интересах порученного мне дела. Эти интересы и требуют удержания Дмитрия Павловича на его рабочем месте. К тому же назначать или освобождать управляющего трестом — не моя компетенция, в таких случаях решение принимается коллегиально.
— Но кто-то поднимает этот вопрос, вносит предложение?
— При неудовлетворительной постановке дела, при недостатках и упущениях, которые нельзя терпеть дальше. Лучших не отпускают по своей воле.
— Значит, вашей воли на это не будет?
— Ни в коем случае, многоуважаемая Ольга Тихоновна.
А чего я, собственно, ждала, на что надеялась? Что значат мои химеры в сравнении с полномочиями и ответственностью Иркина Киргизбаевича, направляющего работу двадцатитысячного коллектива? Все правильно, я могла рассчитывать только на себя. Идти в другие, более высокие инстанции также было бесполезно. Меня, конечно, внимательно выслушают и вновь доброжелательно разъяснят то, что разъяснил сейчас Киргизбаев. Так тебе и надо, Оля! Фантазеркой ты была, фантазеркой и осталась.
— Я огорчил вас? — спросил Иркин Киргизбаевич. Ему было неловко, и он не стремился скрыть этого. По-видимому, невозможность и неспособность помочь мне его угнетала.
— Да, — кивнула я. — Вот чем на практике оборачивается равноправие полов. Женщина несет больший груз, только и всего.
— С моей стороны было бы неискренностью утешать вас.
— Не та ситуация, — согласилась я.
Чувство одиночества разрасталось. Хотелось плакать. Яркость дня померкла. Я знала, что плохо мне будет долго. Но плохо будет и Диме. Это, однако, было наше, личное, это никого не трогало. К кому бы я ни обратилась за содействием, я бы везде встретила твердое и ясное мнение, идентичное тому, которое только что изложил Киргизбаев. Я встала и поблагодарила Иркина Киргизбаевича. Я нашла силы тепло попрощаться с ним. В моих невзгодах он виноват не был.
XVI
Похолодало, и я зажгла газ в высокой черной печке. Прежде я топила ее дровами и углем, и мне доставляло удовольствие разжигать дрова и, когда их охватит пламя, когда огонь загудит, замечется в печи, вздымая искры, присыпать дрова пятью-шестью совками угля. Замена твердого топлива газом в корне изменила этот так нравившийся мне ритуал. Печка нагрелась, я прислонилась к ней спиной, впитывая щедрое тепло. Оно настраивало на покой и созерцательность.
Я затопила из-за Пети. Он мне не нравился. Когда я пришла за ним в садик, он не помчался мне навстречу, как обычно, лучась радостью и на бегу выстреливая в меня свои детские новости, а робко подошел, словно стыдясь чего-то, взял за руку и держался крепко, как будто я могла передумать и не взять его домой. Поужинал он без аппетита, скользнул равнодушным взглядом по игрушкам и съежился в кресле, как старичок.
— Что с тобой, мальчик? — спросила я.
Он не ответил. Его щеки были опалены румянцем, глаза блестели. Дышал он часто и, как мне показалось, поверхностно.
— Что у тебя болит?
Он отрицательно покачал головой, удрученный тем, что не мог разобраться в своем состоянии.
— Ты хочешь спать?
— Да, да, спать! — обрадовался он.
— Ты разве не спал в садике?
— Спал, — сказал он тихо. Это был нехороший признак.
Я обняла его, взяла за руки. Приложила ладонь к его лбу. Лоб был слегка влажный, но не горячий. Не доверяя ладони, я прикоснулась к детскому лобику губами. Жара не ощутила.
— Ты спал, как все? — еще раз спросила я.
— Я заснул и сразу проснулся и лежал.
Этим я объяснила его вялость и ранний отход ко сну. Но, укладывая мальчика в постель и переодевая его, я натерла ему грудь и спину горячим медом. Ночью подошла к нему. Он спал, но раскрылся, и я укрыла его и подоткнула под него одеяло. От печки струилось спокойное, ровное, приятное тепло. Кажется, бить тревогу было рано. Но я беспокоилась. Петик всегда легко простужался, болячки липли к нему и, прилипнув, долго не отцеплялись.
Утром в поведении мальчика не было ничего необычного. Он был ласков, смеялся. Поел гречневой каши с молоком. И все же вести его в садик не хотелось. Но ждала работа. Надо было ехать в степь, принимать лотковую трассу, оформлять документы, а это всегда хлопоты. И бюллетеня по уходу за ребенком мне бы сейчас не дали. Я сама повела Петика в сад и попросила воспитательницу Веру Ивановну быть к нему повнимательнее. Вера Ивановна рассеянно кивнула. Молодая еще женщина, своих детей нет. Не выпало ей и счастливой судьбы. Случай забросил ее в Чиройлиер. Работа не по призванию — о чем тут просить? Отдав ребенка, я побежала. Во мне уже поселилась тревога. В садик я вырвалась пораньше. Петик сидел в углу. Дышал часто, тяжело. Другие дети его обтекали, не замечая. Не замечала его и Вера Ивановна. Я обняла сына, прижалась щекой к его щеке. Головка его пылала, он и на расстоянии обдавал жаром.
— Дайте, пожалуйста, термометр, — сказала я воспитательнице.
Она нехотя распахнула дверцу шкафа. Термометр искала долго. Окно было приоткрыто, по залу гулял веселый сквозняк. Для Петика этого было вполне достаточно.
— Нарочно? — Я показала на открытое окно. — Наверное, в группе слишком много детей, надо, чтобы завтра их пришло меньше?
Это отскочило от нее, как горох от стенки.
— Чего вы хотите? — сказала она. — У вас ослабленный ребенок. Закалять его надо, а еще лучше — дома с ним сидеть.
— Это жестоко — морить детей сквозняком!
— Детям нужен свежий воздух. Врач рекомендует.
Термометр показал тридцать девять…
Я была близка к тому, чтобы сорваться. Она, видно, поняла мое состояние и бочком-бочком улизнула. Домой я несла Петика на руках. Раздела, умыла, уложила в постель. Дала стакан горячего молока с медом. Вызывать врача было поздно. Я приложила ухо к его спине. Явственно были слышны хрипы, скрипы, шорохи. Словно в густом лесу завывал порывами ветер и ветви терлись друг о друга. У него в груди работала плохо смазанная машина. Когда кончатся эти напасти? Месяц у моря, а никакой пользы.
Я открыла аптечный шкафчик. Первые назначения предстояло сделать самой. Я знала, что не ошибусь. Слишком часто мальчику приходилось выкарабкиваться из ям, именуемых простудами, ангинами, воспалениями легких. Я научилась делать уколы не хуже медсестры. Простерилизовав шприц, я позвала на помощь Кирилла. Он держал брата отвернувшись. Я протерла спиртом напряженную ягодицу и быстро сделала укол. Ничего страшного — надо только приглушить эмоции. Петик, оравший что было сил, мгновенно угомонился.
— Не больно же, — сказала я. — Солдаты не кричат, когда им делают уколы.
— Я… я маленький! — обиделся он. — Я… я тебя не люблю! Еще даже тетя врач не пришла, а ты меня колешь! Я и без твоих уколов поправлюсь!
Теперь — банки… Я заставляю сына лечь на живот, и одну за другой быстро ставлю их на вздрагивающую спинку. Тотчас взбухают высокие лиловые пузыри. Я укрываю мальчика одеялом.
— Больно! — голосит он и внимательно посматривает на меня. Хочет, чтобы пожалела, приласкала.
— Нисколько. Завтра поставлю горчичник, тогда будет больно. А сейчас терпи…
Димы все нет. Петик лежит тихо, но дышит неровно, и я сижу рядом и поправляю одеяло. Мне очень жалко его. Мне жалко, что у меня больше не будет детей. Если бы Дима не работал начальником, если бы у меня была нормальная семья! Но все это из области благих, неосуществимых желаний.
Он пришел, постоял над спящим сыном, обнял меня. Я отстранила его руку.
— Ужинай, — сказала я. — Все готово, а ты голоден.
Утром врач констатировала: начинается воспаление легких. Похвалила меня за своевременное вмешательство:
— Вы отлично знаете своего ребенка. Если бы вы пришли ко мне с Петей вчера утром и я бы ничего у мальчика не нашла, я бы все равно дала бюллетень. Потому что все ваши предположения относительно вашего ребенка потом подтверждаются.
— Но ведь так не положено.
— Я рискнула бы. Так было бы достаточно трех-пяти дней, а теперь понадобится две недели. Как видите, я бы поступила в интересах государства.
— Спасибо, — поблагодарила я.
— В следующий раз, пожалуйста, не стесняйтесь.
— Следующего раза не будет. В январе я с детьми переезжаю в Ташкент.
— А муж ваш?
— Если захочет, может последовать за нами. Но он останется.
— Извините, я считала, что у вас прочная семья. Как же так?
— Вы правильно считали, я и сейчас так считаю.
— Еще раз извините.
Я пунктуально выполняла все ее указания. После банок — горчичники. Опять банки. Антибиотики… Соки. Бульоны. Побольше жидкости, высокая температура требует обильного питья. Я ничего не забывала. И мальчик медленно оживал. Вскоре небольшая температурка поднималась только к вечеру. На третий день ему надоела постель, и я разрешила играть на ковре. Он построил из кубиков целый город. Ни один дом не повторял другой, его фантазии были неистощимы, а вот умение явно отставало от полета мысли. Он смешно злился, когда его башни рушились, достигнув критической высоты. Он не умел перевязывать кубики, как кирпичи в каменной кладке. Тогда я приходила к нему на помощь, и мы быстро восстанавливали разрушенное. Мне не нравилось, что он выходил из себя, когда что-нибудь не получалось. Нетерпение и нетерпимость — не лучшие черты характера. Но я не знала, как ослабить эти не нравившиеся мне качества. Я много читала ему — сказки, стихи, зарисовки о природе и животных. Он запоминал легко и надолго. Но занятия по изучению азбуки — я начинала их несколько раз — приходилось прекращать. Он терял терпение оттого, что букв слишком много и что они упорно не желают складываться в слова. Он спешил, торопился и не успевал.
Через неделю мальчик почти оправился. Играл, резвился, смеялся, но быстро уставал. И я продолжала терапию. Мало изгнать недуг, надо предупредить рецидивы и осложнения.
Наконец у меня появилось время, и я навела в доме порядок. Перестирала уйму белья, вымыла полы, окна, натерла мебель пахучей пастой из скипидара и воска. Заклеила щели, достала зимнюю одежду, упаковала летнюю. Уехать и хотелось очень, и не хотелось совсем. Я оставляла здесь мужа, и большинство людей, знавших о моем решении, считало, что я не права. Они полагали, что движущей силой моего решения является эгоизм и себялюбие. Я никого не разубеждала. Ночами мне снилась вода, обтекающая модели. Дело, которое я знала и любила, ждало меня. И я знала, что уеду, даже если потом мне станет плохо.
Когда Петик совсем оправился, ему сделали рентгеновский снимок грудной клетки. Врач при нем долго разглядывала этот снимок, держа его перед окном в вытянутых руках. Петик тоже внимательно изучал снимок, потом спросил у меня: «Мама, это чьи тапочки рассматривает тетя доктор?» Легкие, действительно, были похожи на тапочки.
Я повела сына в детский сад ровно через две недели. По дороге он шалил, был весел, задирался, и я сказала, что спущу его в котлован строящегося дома. И дядя экскаваторщик закопает его. Он немедленно возразил: «Мама, дядя экскаваторщик, наоборот, выкопал меня. Я сидел в яме, и он опустил ковш, а я в ковш вошел, и он поднял меня наверх и отдал тебе. «Возьмите этого мальчика, — сказал тебе дядя экскаваторщик, — пусть у вас будет двое сыновей». Вот, выдумщик! Взял и отдал роль аиста дяде экскаваторщику.
Принимая ребенка, воспитательница не смотрела на меня. Всем своим видом она давала понять, что обижена, очень обижена. Будь моя воля, я бы близко не подпустила ее к детям.
XVII
Дули ветры, промозглые, пронзительные. Шел снег. Солнце не грело. Хотелось тепла, того самого, от которого некуда было спрятаться летом. В субботу, после полудня, когда ветер выжимал из глаз скупую слезу, Анатолий Долгов повел Дмитрия Павловича и Сабита Тураевича в баньку. Заранее не предупредил, сымпровизировал — и попал в десятку.
— Банька готова, банька ждет — пошли, побежали! — звал он и ненавязчиво подталкивал к выходу, к машине.
— Ну, блин! — сказал на это Дмитрий Павлович. — Угадал! А я и позабыл, что есть на свете эти укромные уголки отдохновения. И все, что нужно, будет?
— Зачем — будет? — обиделся расторопный Толяша. — Уже есть. В кои годы изъявляете желание принять процедуру, и чтобы я не позаботился о сопровождении? Недооцениваешь, командир!
— Чудеса! А пиво какое?
— Какое надо.
Банька находилась в новом профилактории комбината железобетонных изделий. Сауна занимала отдельное помещение с просторным предбанником, душевыми, мини-бассейном и комнатой отдыха. Не поскупились отцы города… Был заимствован лучший положительный опыт, его дополнили доморощенной фантазией.
Прикатили, разделись. В комнате отдыха перед камином лежала охапка березовых дров. Сабит Тураевич сам сложил их шалашиком на каминной решетке и зажег бересту. Заплясал, заметался, согревая душу, живой огонь.
— Ай, Толяша! — сказал Дмитрий Павлович. — Ай, молодец! Когда, Сабит Тураевич, мы были здесь в последний раз? В этом году еще не были, а год вот-вот сделает нам ручкой!
— Не понимаю тебя, командир, — сказал Толяша. — Чем хвастаешься! Мы не наградная комиссия, усердия твоего в расчет не берем. Я, например, в отличие от тебя дважды в месяц вкушаю все саунные удовольствия. И между прочим, не провалил ни одного твоего задания. Чья правда, Сабит Тураевич? Откуда еще выскочишь таким свеженьким?
— Я разве тебе ставлю на вид, — загремел Дмитрий Павлович. — Я себя корю. Такие возможности — и ноль внимания.
— Как ты еще жениться нашел время!
Мужчины надели плотные войлочные шапочки, взяли по толстой доске, чтобы не садиться на горячее, быстро вошли в сауну и плотно прикрыли за собой дверь.
— Сто пять градусов! — удовлетворенно отметил Дмитрий Павлович. — Дух, дух-то эвкалиптовый! Блаженствуй, братцы!
Сабит Тураевич перевернул песочные часы, рассчитанные на две минуты. Незримые электронагреватели раскалили булыжник, горкой сложенный на стальном каркасе. Слабо струился свет. Поднялись на полки. Тепло навалилось и обволокло со всех сторон. Абсолютно сухой воздух высасывал из тела влагу, как насос. Сухое стоградусное тепло выжимало человеческое тело, как хозяйка выжимает белье. Спина, грудь, ноги, руки, лоб покрылись бисеринками пота. Бисеринки собирались в капли, которые падали на деревянный настил и тут же испарялись. Хорошо. Ай, хорошо!
Худой, стройный, экспансивный Толяша Долгов и грузный Сабит Тураевич, сидевшие от Дмитрия Павловича слева и справа, каждый по-своему выражали охватившее их блаженство. Жар проникал в грудь вместе с воздухом, дышать становилось тяжело. Песочные часы отсчитали свои две минуты, и Сабит Тураевич перевернул их. «А на Венере, в самом низу сверхплотной атмосферы, четыреста градусов. Не сто, а четыреста», — вдруг отчего-то вспомнил Дмитрий Павлович. Все обстояло отлично, рядом находились люди, которых он любил. Но что-то его отвлекало и беспокоило. Что-то оставалось несделанным, он даже не знал, что. Беспокойство жило глубоко внутри него, в потаенных, укрытых от людей уголках его натуры. Оно жило там всегда. Всегда или не всегда? Нет, когда он учился в школе, когда шалопайничал — было в его жизни и такое замечательное, неповторимое время — его ничто не беспокоило, не тяготило. И этим — полным отсутствием беспокойства — то далекое время запомнилось ему. Тогда ему было лучше всего. Беспокойство пришло вместе с ответственностью за людей, за судьбу плана. Пришло, поселилось и уже не покидало его. И пока он ублажал себя иссушающим саунным жаром, где-то что-то не ладилось, не стыковалось, не срабатывало как надо. Беспокойство просто присутствовало, не давило и почти не мешало. Очень неназойливо оно присутствовало, просило не обращать внимания. Но он чувствовал, что Анатолию было лучше, и Сабиту Тураевичу тоже было лучше, чем ему.
Курбанов вышел первый, Толяша поспешил за ним. Дмитрий Павлович посидел еще. Воздух сразу сгустился, стал плотнее, осязаемее. Сердце стучало быстро, но пульс наполнялся хорошо. Это было похоже на восхождение на вершину. Еще немного, и откроется сказочный простор на все четыре стороны света. Но как труден каждый шаг. Как трудно дышать! Вниз! Вниз! Жар вытолкнул его в предбанник, и он, бросив на диван войлочный колпак, прыгнул в бассейн. Вода обожгла и возвратила блаженство. Как будто и не было одуряющей жары, от которой волосы встают дыбом. Он нырнул и поплыл под водой с открытыми глазами. Вот они, радости жизни — для нас они, для нас! Беспокойство отступило, но не ушло совсем.
Толяша протянул ему широкое полотенце. Он завернулся в махровую мягкую ткань и стал похож на римлянина, строгого и отважного, готовящегося сказать свое слово. На столе, накрытом белоснежной льняной скатертью, стояло откупоренное пиво «будвар». Толяша на полу, на клеенке, разделывал огромного копченого жереха. Отлетала чешуя, нож шел туго, а запах распространялся непревзойденный.
— Где достал? — спросил Дмитрий Павлович.
— Пиво или рыбку?
— Ты знаешь кто? Блин ты горелый!
На отдельную тарелку Толяша сложил янтарную икру.
— Жерех арнасайский, — пояснил он. — Сам взял на перемет. Судачки были, щучки, змееголовы и этот поросенок. Коптил тоже сам, на вишневых чурочках. Все — сам. Фирма, как ты догадываешься, работает с гарантией.
Дмитрий Павлович залпом осушил стакан. Сабит Тураевич налил себе полпиалы зеленого чая. Дмитрий Павлович наполнил стакан снова. И стал смаковать пиво. Пена плотная, горькая. Пожалуй, положи поверх пены пятак — монета удержится. Кажется, так определяют, достойно ли пиво Знака качества. Пиво было с приятной горчинкой. Прозрачное, желтое, как икра жереха. Издалека пивко, у нас такое не варят. Могли бы, конечно, да что-то мешает. А как искоренить то, что мешает? Отменное пиво. А жерех, жерех!
Толяша достал горячие лепешки и соленые косточки урюка.
— Уважил? — спросил он.
— Змей ты искуситель!
— То-то, командир.
Они сделали второй заход. Опять сухой жар глубоко проник в тело и стал выжимать воду, а заодно и всевозможные болячки — насморки, радикулиты, ревматизмы.
— Сабит Тураевич, у меня к вам вопрос, — сказал Толяша. — Как совместить рабочую эстафету с сауной? Как найти время? Подскажите нашему уважаемому командиру. Пусть в будущем не смешит честных людей, рассказывая, что не более раза в год пользуется этим райским благом цивилизации.
— Дима, товарищ Долгов абсолютно прав, — сказал Сабит Тураевич.
— Вы что, пришли сюда критиковать меня? — спросил Дмитрий Павлович. — Я все признаю и обязуюсь исправить недостатки, на которые вы мне сейчас указали. Новых вопросов ко мне нет?
Беспокойство, постоянно жившее в нем, вело и вело свою нескончаемую работу. Оно вело ее исподволь, негромко и настойчиво. Где-то он что-то упустил, не успел, недопонял, отдал не то распоряжение. Сейчас он не мог сказать, что именно он сделал не так. Но завтра узнает и огорчится. И засучит рукава. Было ощущение потери, уже случившейся или надвигающейся. Оно явилось ниоткуда, пришло и не собиралось уходить. И даже стоградусный сухой саунный жар не размягчал и не изгонял все его сомнения, предчувствия и беспокойства. Он был здесь, в обшитой толстыми кедровыми досками жаркой комнате, и пот стекал с него ручьями. И единовременно он был далеко отсюда, на многочисленных своих объектах, и на самом главном объекте — первой насосной. Он видел своих людей в деле, знал их заботы, нужды и желания. И от того, что он был сейчас не со своими людьми, а нежился в роскошной сауне, ему и было не по себе. Словно он украдкой, исподтишка хватал то, что ему не принадлежало. Беспокойство мешало расслабиться совершенно, как он расслаблялся двадцать лет назад в парных, сгоняя лишний вес перед серьезными соревнованиями. Тогда он был сложен, как Аполлон. Теперь в нем было много лишних килограммов, которые он не сгонял ни ежедневной зарядкой, ни бегом, ни плаванием, и которые уже определенно мешали ему. Тело медленно, но неудержимо теряло упругость, и силу, и неутомимость.
— На снег! — скомандовал Сабит Тураевич.
Во дворе было много снега, и он продолжал падать крупными хлопьями. Они выбежали и стали осыпать друг друга снегом. Но разгоряченным телам этого было мало. Тогда они стали кататься по снегу. Снег сразу таял, едва касался распаренных тел. Они совершенно не чувствовали холода. Они растирали себя снегом и гоготали. Так, так! Еще рразик, еще рраз! И — в бассейн. Вот она, сказочная, несравненная прелесть бытия!
Каждая клетка тела была разбужена и взбодрена. Дмитрий Павлович и Толяша выпили еще по бутылке «будвара», а Сабит Тураевич налил себе зеленого чая. Толяша недавно вычитал у геронтологов, что один француз, кюре, прожил сто тридцать лет и ежедневно выкушивал бутылек коньяка. Геронтологи, правда, сделали вывод, что если бы он не разрешал себе этой маленькой слабости, то прожил бы еще больше. Все посмеялись над этим опрометчивым выводом — куда же больше, да и зачем больше? Но и после этой байки Сабит Тураевич не позволил налить себе пивка.
— Всему свое время, — пояснил он, — а потому разбавим чаем выпитое ранее, — и наклонил над пиалой цветастый фарфоровый чайничек.
— Командир, знаешь, почему я сегодня это дело организовал? — сказал Толяша. — В благодарность за твою рабочую эстафету. Никто тебя еще не благодарил за нее, так что запомни: я — первый. Вчера меня какой-то бородач для газеты фотографировал. За восемнадцать трудовых лет я ни разу не удостаивался такой чести, а тут — пожалуйста. Теперь я знаешь кто? Один из инициаторов славного патриотического начинания. Я всегда смеялся над такими вещами. Они как-то обтекали меня, не задевая. А сейчас не смеюсь. Пусть мы много шуму поднимаем и много лишних слов произносим, но ведь это не пустое сотрясение воздуха! Дело-то делается быстрее и лучше! А коль так, будет пусть и шум, и лишние слова пусть льются, если мы без них еще не научились обходиться.
— В интересах дела постою и под прожектором славы! — поддел друга Дмитрий Павлович. — Один-один, дорогой.
— Это когда же ты мне гол вкатил? — поинтересовался Толяша.
— Сейчас.
— А я тебе?
— В первом тайме, когда я о блага цивилизации споткнулся.
— Но матч еще не окончен? Или снова боевая ничья и «победила дружба»?
— Разве в матче между начальником и подчиненный возможна боевая ничья? — невинно так осведомился Дмитрий Павлович. — Путаник ты, Анатолий.
— А я дерзаю! — сказал Толяша. — Учусь уму-разуму и обращаю приобретенные знания против своего учителя. Но только на совершенно законном поприще социалистического соревнования.
Беспокойство наконец утихло. Оно спряталось, замаскировалось и не давало о себе знать. Ни его подчиненные, ни он сам, ни вышестоящие инстанции уже не совершали ошибок и просчетов и досконально выполняли обещанное. Жизнь раздвинула свои горизонты. Работа, этакая огромная глыбища, уменьшилась в размерах, отодвинулась, перестала заслонять собой все и все собой подавлять.
Они в третий раз вошли в сауну и плотно притворили дверь. Толяша выплеснул на раскаленные камни стакан пива. Хлебный дух растекся по сауне, пар опалил. Опять заискрились, запереливались бисеринки пота. Толяша вдруг ударил себя в грудь, запел, дурачась:
Течет шампанское рекою, И взор туманится слегка. И все как будто под рукою, И все как будто на века…Остановился, погас…
— Гитары нет, — сказал опечаленно. — И девочки не ждут в предбаннике. Почему, кто знает? Влюбиться бы в двадцатилетнюю! И все сначала, сначала, сначала! Думаете, стыдно мне, человеку женатому, думать о таком? Нисколечко! Если все будет по-настоящему, я пойду, побегу сломя голову! Чего молчите? Не осоловел Толяша. Болит здесь, — он ткнул себя в грудь, — я и мычу. Иногда полезно свернуть с проторенной дороги и свой путь поискать.
— Ты его еще не нашел? — спросил Дмитрий Павлович.
— Нашел вроде бы. А может быть, и нет. Это как посмотреть, как посчитать. С какой меркой, с какими требованиями к себе подойти. Я пока все больше за тобой иду, твоим умом обхожусь, им же и прикрываюсь. А наверное, и сам уже кое-что могу?
— Ты не дели нас сейчас на каждого в отдельности. Мы! Вот в чем была, есть и будет наша сила.
— Командир! «Мы» — это всего лишь сообщество индивидуалистов. Перед своей совестью каждый всегда отвечает сам.
— Я — все, — сказал Сабит Тураевич, деликатно не комментируя последнее высказывание Толяши.
Они вышли и блаженно замерли, вдыхая свежий прекрасный воздух. Жить на свете было замечательно. Закутались в простыни. Сидели, думали о своем. Дмитрий Павлович спросил себя, смог ли бы он сейчас влюбиться. Вопрос показался ему смешным. Он не представлял себе другой женщины на месте Оли. Он не представлял себе близости с другой женщиной. Всех женщин ему давно и навсегда заменила эта женщина, его жена. У других могло быть иначе. Он понимал это и не возражал. У него же было так, и он не желал себе ничего другого.
— Кто же твоя двадцатилетняя? — наконец спросил он Толяшу. Он прекрасно знал, что его друг не так уж счастлив в семейной жизни.
— Пока никто, — сказал Анатолий Долгов. — Пока — воображение, мечта, каблучки в ночи. Сказка, белый снег…
И каблучки в ночи, и тысячи других моментов, непредвиденных, непредсказуемых, могли вдруг переиначить судьбу Анатолия Долгова, которого мучила и крутила неудовлетворенность. Дмитрий Павлович обнял Толяшу. Ему очень хотелось, чтобы у его друга все было хорошо.
XVIII
Елку мы украсили так, что всей своей торжественной, громкой красотой это дитя русского леса говорило: здесь живет счастливая, дружная семья. И право же, так оно и было. Меня и Диму разлучала не неудача в личной жизни. Я не билась в истерике, уличив его в измене, и ему было не в чем меня упрекнуть. Дети тоже нас радовали. Кирилл и Петя наклеили из цветной бумаги массу поделок. И было много стеклянных игрушек и завернутых в фольгу и подвешенных к веткам на ниточках орехов и конфет. При зажженных свечах елка выглядела удивительно. Мерцали стеклянные сферы, фольга, сами иглы. За елкой, в полумраке, до поры до времени таились герои сказок, и дети душой чувствовали их присутствие. Мне и отцу сыновья приготовили рисунки. Показывать их друзьям я бы, наверное, постеснялась, у них могли быть более способные дети. Но мне они доставляли истинную радость наивно-изумленным восприятием жизни.
В духовке доспевал индюк, фаршированный гречневой кашей, яблоками, айвой. Стол я сервировала тоже вместе с мальчиками, и главным его украшением были Димины доморощенные хризантемы, которые он сохранил под пленкой в декабрьскую стынь. Мальчики покрикивали друг на друга. Петику непременно хотелось быть первым, и он как мог ограждал свою самостоятельность, а старший навязывал свое главенство. Дух благополучия, достатка и согласия витал в нашей чисто прибранной, ожидающей прихода хозяина квартире. Но он с какой-то трудно обозначимой поры не был еще и духом счастья. Сейчас мне было нехорошо, и я знала, что и дальше мне будет нехорошо. Я уволилась. Паспорт, трудовая книжка и деньги лежали в сумке, чемоданы были наполовину упакованы. Предо мной были открыты все четыре стороны света. А к Чиройлиеру, любимому детищу Дмитрия Павловича, даже, как мне казалось временами, более любимому, чем Петик или Кирилл, я никогда не питала глубокой привязанности, Он не стал ни родным, ни любимым моим городом. Я не пустила здесь корни, и мне стало не хватать здесь воздуха, солнца, простора. Излечить от этого мог только отъезд.
После праздника я с детьми уезжала в Ташкент. Но я уезжала без Димы. Я не добилась того, за что боролась все долгие и нудные годы пребывания в Чиройлиере. Муж тысячу раз давал слово уехать вместе со мной, но ничего не сделал, чтобы сдержать его. Его корни были здесь, и в другом месте ему пришлось бы начинать сначала. Завтра Дима еще будет с нами, завтра праздник. А потом каждый его приезд я буду помнить долго-долго. Не вдова, не разведенная, замужняя, но самостоятельная женщина. Сама оплачивающая свои счета.
Я обошла квартиру. Простор, уют. Две комнаты и застекленная веранда, которые ждали меня в Ташкенте, были ничто в сравнении с этим особняком. Но я готова тесниться. Взгляд мой задержался на репродукциях Ван Гога. Я задумалась. «Пахарь», «Сеятель», «Жнец». Простые, ясные, чистые образы. На этих людях держится мир. Какая чарующая философская глубина, какие могучие обобщения! Этим и замечателен гений — полнотой отображения человеческого в человеке. Я сняла картины и положила в чемодан. Эти репродукции с полотен великого голландца говорили мне о Диме все. С потрясающей откровенностью. «Не жди меня, — говорили они, — я занят своим делом, я при деле. Видишь, как я нужен этой земле!» В Ташкенте я повешу их на самом видном месте. И буду говорить гостям, не вдаваясь в подробности, что это любимые картины Димы. Что он сам сошел на землю с одной из них.
Диму удручает мой отъезд. Но он крепится. Он ровен, а временами и весел. Вблизи все это грустно, сложно и утомительно. Я никак не обрету душевного равновесия. Может быть, я теперь вообще не обрету его. Как к этому относится Дима? Он не говорит, но вывод из того, что я наблюдаю, напрашивается один: баба бесится. А если не бесится? Совсем не бесится, дражайший Дмитрий Павлович. Баба верит в великий принцип нашей жизни: «От каждого по способностям». От каждого — значит, и от меня тоже. Раз я могу дать больше, то и должна давать. Все просто. Тогда отчего же горько на душе?
Дима подъехал к началу программы «Время». Надел белую рубашку. Богатырь! А богатырю уже сорок. Но можно расти и дальше. Кто сказал, что достигнутое — потолок, предел стремлений и возможностей? Есть простор, есть перспектива. Идет интенсивное накопление опыта, творческий потенциал личности становится все богаче, все весомее. Дмитрий Павлович Голубев — перспективный товарищ. А я, его жена?
Началась трансляция «Голубого огонька». Дима сел рядом, обнял меня. Его тяжелая рука приятно согревала. Хотелось, чтобы так было всегда. Я положила голову ему на плечо. Так мы сидели долго. Концерт я почти не слушала, а слушала то, что было внутри меня. «Расчетливая, бессердечная», — наверное скажут про меня. Все не так. Как сложно правильно понять и оценить человека. Как порой поверхностны и смехотворны наши оценки. Дима ничего не говорил мне, а я ничего не говорила ему. Все было обдумано-передумано и сказано-пересказано. Как я теперь понимала, Дима не обманывал меня, обещая уехать вместе со мной в Ташкент. Он искренне верил в такую возможность. И так же искренне не хотел ее осуществлять. Ладно. Чего ж теперь об этом!
В половине двенадцатого раздался требовательный стук в дверь.
— Кто бы это мог быть? — воскликнула я.
Петик помчался к двери.
— Это Дед Мороз! — выпалил он. — Я сам, сам открою! — Он с утра ждал этой минуты и теперь сгорал от нетерпения.
Дверь открылась. На пороге стоял Дед Мороз в просторных валенках, белой шубе, белой меховой шапке с крапинками конфетти и с огромной, до пояса, седовласой бородой, которая искрилась, словно на ней осел иней.
— Ура! — закричал Петик. — Дед Мороз, настоящий!
— Здравствуй, мальчик! — сказал Дед Мороз густым, сильным голосом Сабита Тураевича. Рука его совершила плавное движение и опустилась на голову Петика. — Тебя как зовут?
— Петя.
— Ты маме всегда помогаешь?
Сын замялся. Он боялся сказать правду Деду Морозу и боялся сказать неправду; правда, он чувствовал, Деду Морозу может не понравиться.
— Помогаю! — выговорил он тихо.
— И кем ты желаешь стать, когда вырастешь?
— Солдатом.
— На тебе оружие и солдатское обмундирование. — Он протянул Пете маленький рюкзак, в котором была пластмассовая каска со звездой, сапоги, пластмассовый автомат, пистолет, маленькие бронетранспортер и танк. — Доложишь, как будет идти обучение солдатской науке.
Петя схватил рюкзак двумя руками и ретировался в свою комнату, чтобы в одиночестве насладиться подарком.
— Есть ли в этом доме еще дети? — спросил Дед Мороз.
— Я! — выступил вперед Кирилл. — Только вы не настоящий Дед Мороз, а переоделись. Разрешите, я дерну за бороду!
— Дерзкий! Я откушу тебе руку! — громко прошептал Дед Мороз, присев на корточки и грозно смотря снизу вверх на лукавое лицо подростка.
— А я вас узнал! Узнал! Узнал! — Кирилл обнял Деда Мороза. — Не бойтесь, я не проговорюсь брату.
Получив свои подарки, Кирилл даже не полюбопытствовал, что в свертках. Дареное никуда от него не уйдет. Ему гораздо интереснее было находиться в обществе взрослых, слушать, запоминать. Ему уже нравился мир взрослых, он подходил к его порогу.
— Есть ли в этом доме еще дети? — в третий раз спросил Дед Мороз.
— Вы же знаете, что нет, — сказал Кирилл.
— Я! — Я опередила Диму. — Я последняя, больше у нас нет маленьких. Я умею танцевать, петь и играть в дочки-матери. Я хочу, чтобы Дед Мороз никуда не уходил и встретил Новый год с нами.
Мед Мороз потряс мешком с подарками. Громко хлопнув, пробка от бутылки шампанского ударилась в потолок, отскочила и затанцевала на полу.
— Вот сейчас мы выпьем за Деда Мороза, — сказал Дима, разливая шампанское.
— С удовольствием выпью чаю, — сказал Дед Мороз, не расстававшийся со своим мешком.
— В нашем доме из гостей только Сабит Тураевич пьет чай, — сказал Петик с явным осуждением.
Для него было подвигом оторваться от своих новых игрушек, и он этот подвиг совершил. Иногда он поражал меня своей наблюдательностью.
— Вы ведь не будете подражать Сабиту Тураевичу, — сказал Дима Деду Морозу и протянул ему полный бокал.
— За отъезжающую! — сказал Дед Мороз и отпил половину бокала. — За остающегося, — продолжил он и допил шампанское. — Поздравлять в связи с этим никого не буду, сами разберетесь, к добру ли ваше решение. Хотя старая народная мудрость гласит, что все происходящее с нами — к лучшему. Но почему тогда нас так часто мучает разочарование? Кто знает?
Наверное, этого не знал никто, и любопытство Деда Мороза осталось неудовлетворенным. Он обнял меня и Диму и ушел в белую предновогоднюю ночь. Я подумала, что мне будет очень не хватать этого доброго и умного человека. Многое все же я оставляла здесь, и оставляла навсегда.
— За стол! — скомандовал Дима.
Дети все еще ждали чего-то. Маленького чуда? Героев, которые пришли бы к ним прямо из сказок?
Часы пробили двенадцать. Прокатилась веселая пальба из ружей и ракетниц. Мы сдвинули бокалы. Что-то готовил нам грядущий день? Но большую часть того, что придет к нам завтра, мы готовили себе сами.
Петик вдруг заклевал носом и заснул на стуле. Дима перенес его на кровать. Кирилл тоже недолго боролся со сном. Мы с Димой сели друг против друга. Новогодний роскошный ужин очень походил на прощание. Мы оба чувствовали себя виноватыми. В какой степени? Пожалуй, в равной. Он сердился на меня за то, что я настояла на своем, нарушила древнейшее житейское правило, согласно которому от добра добра не ищут. Я сердилась на него за то, что он не сдержал слова, но, обещая вот-вот выполнить уговор, заставлял меня в течение многих лет жить неинтересной, бледной и блеклой жизнью.
Я зажгла свечи. Затрещали тонкие фитили, запахло парафином. Комната погрузилась в полумрак. Замерцали хрусталь, фольга, игрушки. Я хотела сказать Диме: «Вот не думала, что ты окажешься никудышным семьянином». Но не сказала этого. Какое значение имели мои слова, мои упреки, даже слезы для человека, одетого в броню крепчайшей уверенности в правильности своей жизни, своих поступков и планов? Не он не понимал чего-то — я недопонимала. Только так я могла расценить его поступки; другой же оценки не существовало.
Свечи делали гостиную сказочно красивой. Но, странное дело, вся эта искусно созданная праздничность не входила в душу, не рождала приподнятости, окрыленности. Не возносила, как теплая и упругая черноморская волна, на свой высокий гребень.
— Потанцуем? — предложила я.
Дима поставил пластинку. Это танго я танцевала в школе. Сколько же мне еще осталось? И в кого превратились те неуклюжие, стеснительные, быстро краснеющие мальчики, с которыми я танцевала это танго? Невообразимо далекая жизнь. Чужие века и эпохи. Прошлое не повторяется, да и не нужно ему повторяться. Рука Димы крепка и надежна, и я начинаю забывать о том, что танцую это танго уже много лет. В первый раз! И все у нас — впервые, как в медовый месяц.
— Выше нос, малышка! — прошептал Дима.
Танго взволновало меня. Нет, это Дима меня взволновал. Мы сели. Он вдруг запел, старательно выводя слова: «Дан приказ: ему — на запад, ей — в другую сторону»… Обнял меня.
«Главное — не выяснять отношений, — приказала я себе. — Тогда мы погрязнем в мелочном и наносном, и нам обоим станет плохо».
— Я так старалась, а ты ничего не ел, — пожаловалась я.
— А это мы наверстаем! — Он отрезал от индюка румяный ароматный кусок и положил на мою тарелку, а потом такой же большой аппетитный кусок положил себе. — Ай, пташка! — Он причмокнул, принимаясь за индюка. Я разлила остатки шампанского. Индюк действительно был бесподобен. Я продержала его в духовке ровно столько, сколько надо.
— В новом году у нас будет другая жизнь, — сказала я. — Так вот: за то, чтобы она была не хуже старой!
— Будем стараться, — отозвался Дима, тускнея.
— Я понимаю, двух выходных у тебя никогда не появится, хотя у других больших начальников они есть. Но от одного выходного в неделю ты вроде бы еще не отказался. Прошу тебя, приезжай каждую неделю. Один день и две ночи — это не так уж мало.
— Конечно, что за вопрос! — сказал он. Он так и думал, уверенность звенела в его словах. Но это вовсе не означало, что так и будет. Это означало только, что все будет зависеть от того, как сложатся обстоятельства. — Ты одного не предусмотрела. Тебе следовало выучиться здесь водить машину и получить права. Взяли бы «жигуленка», и прилетала бы ко мне на крыльях любви каждую пятницу. У тебя ведь два выходных, как у всех уважающих себя людей. И птенцов бы сажала на заднее сиденье.
— Это идея! Где ты был раньше? Договорились: ты даришь мне машину, а я нахожу место для гаража.
— Фу, какая проза! — сказал Дима. — Какая скука! Новый год мы встречаем или обсуждаем пункты делового соглашения? Пошли кататься на санках!
— На санках! — обрадовалась я. Задула свечи, накинула шубку.
Мы вышли. Полная луна заливала город дивным светом. Все было видно, и было видно далеко. Светились окна. Снег переливался. Был легкий, приятно касающийся щек мороз. Санки помчались. В моем муже прятался по меньшей мере локомотив. Я подзадоривала Диму. Кричала ему в спину что-то из цыганских песен, озорное и веселое, про коней-зверей, которые подхватывают и уносят вдаль, в туманы и снега и неизвестность. Он бежал ровно и быстро и не уставал, а мне хотелось, чтобы он устал. Он повернул на набережную, помчал сани по дамбе канала, над черной водой. Фантастическое зрелище являл собой ночной зимний город. Свет и провалы, как входы в пещеры. Белое и черное, без полутонов. Зыбкость, невесомость пространства. Дима мчится, он полон сил. Вот и окраина. Впереди чистое белое поле, и ничего, ничего до самого горизонта. Только белое и черное, снег и ночь.
— Эдак я домчу тебя до Ташкента! — крикнул он и развернул сани.
— Теперь садись ты! — сказала я.
Потянула. Побежала. Сани шли тяжело. Почему же у него сани как перышко? Я перешла на шаг, и он сказал:
— Недолго пташка трепыхалась. Давай, поменяемся местами!
Сани снова помчались. От Димы повалил пар.
— Паровоз, паровоз! — закричала я. — Наш паровоз, вперед лети!
— Где ты увидела паровоз? — Он не понял.
— Впереди наших саней.
— Сейчас вывалю и натру.
Но не вывалил и не натер, а аккуратно доставил к крыльцу. Мы вошли в дом. Дима был весел и румян. Он вытер мокрый лоб полотенцем. Сказал:
— А я еще тяну, еще можно прицеплять вагоны.
Я заварила чаю, и мы сели слушать концерт. Я ни в чем не обвиняла его, а он не обвинял меня. Наверное, это было правильно. Сможет ли он приезжать каждую неделю? Едва ли. Жены зимовщиков и моряков ждут месяцами, а то и годами, но их семьи не распадаются. Ой ли?
— Не вешать носа, малышка! — Дима крепко обнял меня.
Мне стало тепло и хорошо, но на очень короткое время. Хотелось уже сейчас иметь подтверждение того, что я поступила правильно, и я злилась, что его не было.
Часть третья
I
Замок открылся легко, как будто квартира не пустовала полгода. Я включила свет. Дотронулась до батареи и отдернула руку. Порядок! Ташкент нас принял, переезд состоялся. Только теперь я осознала, что Чиройлиер ушел из моей жизни навсегда. И слава богу! Я не страдала, как мой муж, местным патриотизмом. Дети раздевались, а я стояла в узком коридоре и все не верила, что это не Чиройлиер. С улицы Усмана Юсупова накатывался трамвайный трезвон. Нет, все в порядке, я в Ташкенте. Большой город спешил и шумел, и даже январская промозглость не убавила деловитую толчею на его широченных улицах.
За работу! Меня смущало состояние легкого шока, в котором я пребывала. Прежде чем распаковать чемоданы, следовало элементарно прибраться. Первым делом я организовала чай. Струя воды гулко ударила о железное дно. И заживем, заживем! Две комнаты, кухня и застекленная лоджия с железной кроватью Кирилла, конечно, не хоромы, места в обрез. Но заживем, непременно заживем!
Мальчики, не дожидаясь команды, приладили к пылесосу вытяжной шланг. Мое воспитание. Кто им внушал постоянно и внушил-таки, что жизнь человека должна протекать в чистоте и уюте? Засучивай, матушка, рукава, возглавляй семейную бригаду. А разогнули спины мы только к вечеру. Мыли, вытирали, скоблили, драили, наводили радужный блеск на полированные плоскости шкафов и сервантов. «Уютная квартирка, — внушала я себе, — уютная и покойная». Правда, в ней пока не было изюминки, одной-двух изысканных вещей, притягивающих к себе взгляд. И в квартирном интерьере должны быть центры притяжения, например, камин, картина, ковер, но не средней руки, не рядового, ремесленного происхождения, а непременно высшего качества. Мечта о камине, однако, не могла прорасти сквозь панцирь запретов. Пронзить дымоходом два этажа было совершенно нереально. Картина и ковер имели то преимущество, что были доступны. Найти и не постоять за ценой — вот все, что от меня требовалось. Но это, к счастью, не входило в число первоочередных забот. Для покупки картины нужны душевная щедрость, полная отрешенность от мелочей быта — словом, соответствующее настроение. Пока же проза жизни поглощала все мое внимание.
Покончив с уборкой, мы занялись приготовлением ужина. «Дети, чистить картошку! Дети, накрывать на стол, Дети, мыть посуду!» Все это лежало на мне в Чиройлиере и будет лежать здесь, в Ташкенте, Любимая работа нисколько не уменьшит обязанностей по поддержанию огня в домашнем очаге. Ибо очаг — жизненная необходимость, а камин — роскошь, блажь, искорка, взвившаяся над обыденностью бытия и тут же угасшая, тут же исчезнувшая в дневной суете.
Зазвонил телефон. Я вздрогнула. «Он», — подумала я. Для всех других эта квартира еще пустовала.
— Ну, как, порядок?
Я уловила привычный оттенок легкой иронии. Ироничное беспокойство.
— Все нормально, Дима. Спасибо, что позвонил. Я даже не ждала, что позвонишь. — На самом деле ждала, очень ждала.
— Ну, ну!
— Мальчики меняют постельное белье. Они прекрасно поработали, мои помощники!
— Как и их папаша! — пробасила трубка.
— Они ведь в тебя!
— Но, когда им надо, они бывают и в тебя.
Намек, который еще предстоит разгадать. На досуге. Мы еще поговорили, то да се, дела сегодняшние и завтрашние, не несущие загадок, но безжалостно поглощающие нашу энергию и время. Все, значит, в порядке и у меня, и у него.
— Ты не сердишься? — спросила я.
— Понимаешь, нисколько.
— Тогда и я нисколько. — Я подумала, что, наверное, толкала его на предательство. Мой отъезд из Чиройлиера был логичен, его же отъезд был бы нелеп. Почему эта простая мысль посетила меня так поздно?
Мы поцеловали друг друга на расстоянии, и я дала трубку Кириллу. Кажется, все становилось на место, никто не совершал необдуманных, неумных поступков. Беспокойство мое улеглось, родные стены и то, что Дима не сердился на меня, вернули уверенность. Замелькали дела. Утром следующего дня я навестила родителей и оставила у них мальчиков. Сама помчалась в районо. Петика надо было устроить в садик. В районо я оказалась одним из многих тысяч просителей места в детское дошкольное учреждение. «Мамаша, записывайтесь в очередь и приходите летом — возможно, ваша очередь приблизится», — заявили мне. Я собралась возразить, но очередь искусно выдавила меня из своих рядов: «Гражданочка, что же вам не ясно? Вам объяснили: приходите летом». Я поняла, что избрала путь, который не ведет к достижению цели. Снова поехала к родителям и забрала детей.
В школу Кирилла оформили быстро, я заранее побеспокоилась о том, чтобы у меня на руках были все документы. Хоть тут не надо было просить. Но что делать с Петиком? Мать и отец были слишком немощны, чтобы смотреть за шустрым сорванцом. Но дело даже не в этом. Чтобы не рос белоручкой и умел постоять за себя, Петику нужна компания сверстников. У кого спросить совета? «Возникнут сложности — иди в главк», — наказал Сабит Тураевич. Он, кажется, предвидел мои мытарства. Я обратилась в главк и без проволочек получила направление. В квартале от дома был замечательный ведомственный садик, надо только перейти улицу Навои. Никакой записи в очередь, все решилось в три минуты. «Да здравствует ведомственность!» — чуть не крикнула я. И все же я не могла не вспомнить, что в Чиройлиере, возраст которого не идет ни в какое сравнение с возрастом Ташкента, нет проблемы устройства детей в ясли и садики, и нет матерей, не работающих только потому, что им не с кем оставить своих малышей.
До вечера было далеко, и я заперла Петика и поехала с Кириллом на базар. Мы привезли четыре сумки с картофелем и луком, редькой, яблоками. Дима всегда забывал о таких обыденных вещах, как обеспечение семьи продуктами. Или прикрывался мнимой забывчивостью, как щитом, чтобы не использовать в личных целях свое высокое служебное положение. Демократичный до мозга костей, он признавал за собой одну привилегию — задавать тон в работе. Личный пример, обязательность и надежность и создали ему авторитет, какого не имели многие руководители более высокого ранга.
Теперь я могла позвонить Березовскому. Я набрала номер. Зачастило сердце. «Как девочка, — сказала я себе. — Спокойнее, Оля!»
— Слушаю вас! — возвестила трубка густым, прокуренным голосом с хрипотцой. Это был очень знакомый голос.
— Приветствую вас, Евгений Ильич!
Трубка загудела, заурчала, разволновалась, задышала шумно, прерывисто. И наконец исторгла жизнерадостный возглас:
— Да здравствует Ольга Тихоновна! Рад необычайно. После долгих странствий — и в родной дом, а? Что может быть лучше и естественнее, а?
— Так вы и про блудного сына вспомните, — сказала я. — Но это будет неправильно. Не моя взбалмошная воля, а обстоятельства разлучили меня с лабораторией.
— Ура обстоятельствам за то, что они меняются! Приказ о вашем зачислении на работу я оформлю сегодняшним числом.
— Давайте доживем до понедельника.
— Не забывайте, что в лаборатории вы были самой светлой личностью.
— В таком случае, я страшно потускнела. Меня можно дисквалифицировать.
— Чур не прибедняться! Я держу для вас знатную тему, даже две. Танцуйте и благодарите.
— Не томите, пожалуйста.
— И не просите. Вот пожалуете собственной персоной и выберете. Я пока распоряжусь приготовить вам кабинет, стол. Могу поместить вас на южной стороне, могу — на северной, я сейчас богат свободными помещениями по причине незаполненности штатов. Хотите иметь кондиционер? И за этим не постою.
— Эдак я могу и о персональной машине заикнуться.
— Этим благом не располагаю, а то бы, честное слово, поделился. Ну, решайте. Юг? Север?
— Юг и кондиционер, — сказала я, вспомнив, что с юга заходят на посадку самолеты. Я любила смотреть, как лайнеры снижаются или, наоборот, с грохотом вонзаются в белесое небо.
— Где еще в Ташкенте вас бы так встретили?
— Нигде, Евгений Ильич, нигде, миленький.
— А Дмитрий Павлович в главк идет или в министерство? Или оставляет за собой ниву практики?
— Оставляет, — сказала я. — Его нива никуда не переместилась.
— Это плохо, — сразу заключила трубка, — это непорядок.
— Посмотрим.
Евгений Ильич поубавил свой восторг.
— Не отпустили? — спросил он после паузы.
— Ни в какую. Незаменимый, единственный и все в таком роде. Как нам, простым смертным, попасть в единственные и незаменимые?
— Да, — посочувствовала трубка.
— У меня еще вопрос. Живет ли Валентина Скачкова на прежнем месте?
Это моя бывшая лаборантка. Презанятная девочка. Ох, и хлебнула я с ней всякого! Но с ней мне было интересно. Как теперь говорят о таких людях, с ними не соскучишься. Это была взбалмошная девица из яркой, чувственной плоти и крови, предприимчивая по части приключений. Примечательная личность. И меня тянуло к ней: непохожесть всегда привлекает.
— Не только живет на прежнем месте, но и опять работает у нас. Круг замкнулся, милейшая Ольга Тихоновна!
— Спасибо за заботу. Ну, всего вам наилучшего!
Я хотела навестить Скачкову. Когда-то я привела ее, молодую, невинно пялившую на добрых молодцев свои прекрасные глаза, в лабораторию. Она нигде подолгу не держалась, жила сегодняшним днем, долговременных планов не строила никогда, не удавались они у нее, не прорастали. А тут сама попросилась. «Устройте, Олечка Тихоновна, посодействуйте по-соседски!» Ну, я и помогла. На свою, как скоро поняла, голову. Ладно. Частенько нас вознаграждают за нашу же доброту именно так. Интересно, достигла ли она чего-нибудь? Тогда у нее было двое детей. Но что-то разладилось в ее семейном дуэте, она ли взбрыкнула, он ли не простил очередного ее загула — разбежались они, ничего не задолжав друг другу, и дети остались с ней. Кажется, она снова вышла замуж. Что же у нее теперь? У нас всегда было не так уж много точек соприкосновения. Валентину я называла своей. Я называла ее так за странную, трудно объяснимую влюбленность в меня и за столь же трудно объяснимую снисходительность ко всем ее головокружительным выходкам. Никто их не желал терпеть, а я терпела. И, потакая мне, терпели их другие.
Ночью, проснувшись в самую тишину, в самый полуночный покой, я по привычке протянула руку в том направлении, где должен был спать Дима. Рука пронзила пустоту. Я удивилась. Занервничала: отчего его нет, где он? Сколько может длиться его трудовая вахта? И тут проснулась окончательно. Все стало ясно-ясно, и стало больно. Попробовала заснуть. Не смогла. Думала, ворочалась. Все меня стесняло, раздражало. Подушка казалась жесткой, простыня — несвежей, одеяло — слишком плотным, воздух — затхлым. Я заснула не скоро и утром встала с несвежей головой. Но день завертел, помчал с невообразимой быстротой и погасил-таки болезненное впечатление, оставшееся от этого нежданно-странного ночного пробуждения.
II
У Кирилла впереди была неделя каникул, а мы с Петиком к восьми утра были готовы начать новую жизнь. Он волновался: как-то встретят его дети? Воспитательница? В восемь я заперла дверь. Морозный воздух. Утоптанный снег. Граждане спешат-суетятся. Шапки меховые, береты, шляпы и шляпки, платки пуховые и шерстяные. Полушубки, шубы, крикливые дубленки, пальто, плащи. Сапожки, ботинки, туфли.
— Мама, почему здесь так много людей и машин? — Это мы ожидаем зеленого сигнала светофора. Строго-настрого накажу Кириллу, чтобы он был осторожен.
— Ты видишь, какие здесь высокие дома, сколько в них окон? — говорю я. — Сколько окон, столько и комнат, а сколько комнат, столько и людей.
В садике он пускает слезу. Воспитательница терпеливо ждет. Это действует лучше, чем уговоры. Петик вздохнул, посмотрел на меня жалостливыми влажными глазенками и засеменил к детям.
К станции метро «Площадь Ленина» я шла через молодой сквер, за которым высились величественные административные здания. На соснах тоже был снег, и на можжевельнике, и на живой изгороди. У могилы Неизвестного солдата горел вечный огонь. Замечательный сквер, идешь, и отдыхаешь, и радуешься, и дышишь воздухом, а не выхлопными газами. Ныряю в метро. Красавица станция облицована газганским мрамором нежных телесных оттенков. Бронзовые люстры. Строительство метрополитена, начавшись однажды, уже не останавливается, у метро не бывает конца. Подземный дворец заставлял подтянуться. Подмечаю: в метро не ссорятся. В трамваях и автобусах — сколько угодно.
Мчусь в гулкой железобетонной трубе. Что ни станция, то произведение искусства. Дорого? Ничего, выдюжим. Людям очень нужны дворцы. Человек обязан возноситься над обыденным, над серостью повседневности, и создавать шедевры, и поклоняться им, и лелеять в душе новые шедевры, которые выше и лучше предыдущих.
На шестой остановке я выхожу. Какая станция! Какая восторженная, экзотическая майолика в нишах под белыми арочными сводами! И где он сейчас, одноэтажный Ташкент, город моего детства? Его сырцовые стены и плоские глиняные крыши вывезли на свалку. Спасибо землетрясению.
Ого! Двадцать минут — и я на бывшей окраине. Плюс шесть минут — дорога до станции. Еще четыре остановки автобусом, это минут десять-пятнадцать. Итого — сорок минут. Прежде я радовалась, если дорога в один конец укладывалась в час. Автобус, однако, вернул меня в прежние времена. Стиснули, сдавили, сплюснули. Рраз! Выпихнули. И я на свежем морозном воздухе. Автобус катит дальше, дверь закрывается с третьей попытки, защемив полу чьего-то плаща и кусочек кашне. Набавлю десять минут и буду преодолевать этот отрезок пути пешком.
Старые ворота распахнуты настежь. Бежевый двухэтажный корпус лаборатории, за которым — модели. Все как и было, словно я не увольнялась, не уезжала. Но людей, которые встретились мне в коридоре, я не знала. Евгений Ильич, раздавшийся вширь, поседевший, сменивший первую молодость на вторую, засмущался, как полгода назад.
— Не курите? — воскликнула я. — Вот сюрприз. Поздравляю. А были заядлый курильщик. Я сразу почувствовала: чего-то не хватает. Запаха табака — вот чего не хватает в вашем кабинете.
— Не курю, — подтвердил он без комментариев. — А вы сдержали слово. Спасибо. Ждал, дни считал.
— Не выдумывайте, пожалуйста!
— Завидую умению женщин в каждом сказанном им добром слове видеть комплимент.
Он проводил меня в мой кабинет. Стол, кондиционер, гардероб для верхней одежды.
— Лучше, чем мой, — сказал он. — Хотите, поменяемся? Из моего тоже видно, как садятся самолеты.
— Все мои слабости помните наперечет!
— Даже Валентину Скачкову готов вернуть.
— Премного благодарна. Стала ли она серьезнее?
— Зачем, когда ей все моря по колено?
Хлебнула я с Валентиной всякого, но не выставила, терпела заскоки. Все казалось: вот-вот образумится девочка. Но всякий раз мешала какая-нибудь случайность. Закидонистая это была девочка, но не вредная нисколько. Какую уйму лаборантской работы я переделала за нее! На инженера она так и не выучилась. А на техника? Валька, конечно, не подарок, и Березовский прекрасно знает это. Но — четверо детей! Как она справляется с такой оравой?
Скачкова предстала предо мной собственной персоной, словно догадалась, что о ней речь. У нее было потрясающее чутье на то, где ей надлежит быть в каждый данный момент. Обнялись. Восклицания, сантименты. Она смотрела на меня преданными, веселыми, влюбленными глазами. «За вас в огонь и воду!» — заверяли ее большие голубые, такие милые, такие невинные глаза. Но я помнила и другое: забывчива, неаккуратна, на уме вечно что-то вечернее, связанное со свиданиями, с парнями, с квартирами, в которых можно устроить маленький балдеж. Наверное, всего этого могло уже и не быть, но я помнила. Однако почему-то и тогда симпатизировала ей, выгораживала, спасала от Евгения Ильича, грозившегося раз и навсегда разделаться с этим бардаком и умевшего-таки приводить свои угрозы в исполнение. Я молчала, я становилась защитной неколебимой стеной, и она прекрасно пользовалась моим к ней расположением. Изводила меня, нагревала до точки кипения, потом, опомнившись, делалась паинькой, замаливала грехи примерным поведением и некоторым рвением в работе, добивалась покоя, тишины и возобновления доверия и вдруг с головой, беспамятно бросалась в очередное приключение, и гремел очередной загул, и Евгений Ильич метал новые громы и молнии, а я молча вставала на защиту. И Валька, напроказив, натешившись, нацеловавшись и налюбившись досыта, снова представала перед нами — само олицетворение невинности, женственности, чистоты. В ней странно, необъяснимо сочеталось все это, я так не умела жить, да и не хотела, не мечтала никогда — зачем?
Я опять обняла ее, а она обняла меня, но постаралась, чтобы я не коснулась ее прически.
— Ой, как я рада! Я счастлива. Ты, Олечка Тихоновна, как всегда, тростиночка, а я давно уже тетя-лошадь, — верещала она.
Валентина была лет на пять моложе, но выглядела, пожалуй, старше меня. Мы поохали, поахали, вспомнили одно, второе, третье, наспех вспомнили, не до подробностей было, и Валька, исчерпав восторги, исчезла так же неожиданно, как и появилась. У нее был талант растворяться, трансформироваться в порыв, ускользать бесследно. Была — и нет уже, и не доищешься.
— Других лаборантов учить еще надо, — вдруг начал оправдываться Евгений Ильич. Спохватился, видно, что отдает мне не лучшего работника. И, конечно, присутствует намек: твоя, мол, протеже, сама привела, сама и пользуйся.
— Что вы! — сказала я. — Вы ведь утверждаете, что Валя изменилась к лучшему, а я с ней и с прежней ладила, не жаловалась.
— Верно, она теперь не исчезает неожиданно, но аккуратнее не стала.
Я это помнила. Несобранность ее была поразительная. Не знаю, какие ветры гуляли в ее очаровательной головке, но они напрочь выдували из нее все, что имело отношение к работе: задания, поручения, установки. Я писала ей задания на день, на полдня, жестко контролировала исполнение, а потом многое доделывала сама. Что же тогда заставляло меня вновь брать Скачкову к себе? Ответить на этот простой вопрос было нелегко. Потрясающе безалаберная, она была и потрясающе искренней. И искренность ее, наивная, беспредельно-детская, верх непосредственности, заставляла многое прощать и на многое закрывать глаза. Впрочем, прощала только я. Жизнь же ничего ей не прощала. И я удивлялась, как это не злило, не ожесточало ее?
— Какие вы еще приготовили мне сюрпризы? — спросила я. — Первый, я понимаю, экспромт. Теперь давайте обещанное!
— Закурить хочется, — сказал Евгений Ильич. — Вот что значит сила привычки: затянулся, посмаковал табачок, обволок себя дымом — и ясно, о чем говорить, что говорить.
— А здоровье? — напомнила я.
— Что ж здоровье? Потом все валят на табак, на спиртное, на душевную и бытовую неупорядоченность. Они, мол, способствовали. А на самом деле? Никто этого не знает. Видимо, есть у всех этих соблазнов и притягательная сила, не один вред от них.
— Не смешите! Уж я на пьяниц насмотрелась. А вы: притягательная сила! Пьяница все губит: человека в себе, семью, работу. Ну, курильщик себе одному вредит. А он что, не ценность для общества?
— Вы всегда были моим оппонентом, — сказал Евгений Ильич. — После вашего ухода мне перестали возражать. Мои предложения никто не оспаривал, не разбирал по косточкам. Непререкаемый авторитет! И тотчас же я заметил застойные явления. Без споров, без столкновения мнений, без тех искр, которые вызывают крайние точки зрения, нет поиска, роста, нет самого движения вперед. Недаром критику называют элементом созидания. Присоединяетесь?
— Оппонент вернулся, и вы рады ему.
— В таком тонком деле, как наше, очень важно, чтобы соударялись мнения, кипели споры, проверялись идеи, исключающие одна другую. Истина редко лежит посередине, она тяготеет к полюсам.
— Истина лежит там, где ей положено быть, и крайности тут ни при чем. Итак, чем я буду заниматься?
— Можете взять русловые модели. Амударья неисчерпаема, и грунты, из которых сложено ее русло, по-прежнему полны загадок.
— Хотите, чтобы я сделала их неразмываемыми? Укротила дейгиш?
— Валентина Скачкова обволокла вас своей несерьезностью.
— Я слыхала, перекрытие в Туямуюне прошло нормально, а были неверующие.
— Нормально! Мы закрыли проран просто отлично! Все предсказания модели сбылись в точности, хотя этот русловой грунт мы до сих пор моделируем условно. То, что мы избежали в Туямуюне больших размывов, целиком наша заслуга. Снизить расходы реки к моменту перекрытия не удалось. А пионерное перекрытие двумя банкетами давало чудовищную яму размыва. Банкеты оползали в эту яму, могли сползти и самосвалы, бульдозеры. Мы предложили один из банкетов разобрать до уреза воды и не надвигать его, а отсыпать только второй. В этом случае поток перельется через первый банкет как через водосливную плотину, его сила быстро ослабеет и яма размыва не превысит пятнадцати метров. Из всех вариантов этот давал на модели самую лучшую картину. Его и осуществили.
— Рада за вас.
— Думаете, нам позволили спокойно распоряжаться? Меня задергали. Казалось, камень летит в бездонную прорву. Несколько часов не было никакого продвижения вперед. Тут и на человека со стальными нервами оторопь найдет.
— Но вы не позволили восторжествовать самотеку и отсебятине!
— Я заранее обрисовал процесс руководителям стройки. Но ненасытность реки была потрясающая.
— Вы хотите сказать, что, если бы не хватило камня, проран закрыли бы вами?
— Если правильно понимать ответственность, в отдельных случаях следует идти и на это.
Евгений Ильич засмеялся. Его обстоятельность и предусмотрительность надежно защищали от любых случайностей. А как же иначе? Сооружения должны выдержать девятибалльный толчок и пропустить паводок, который может случиться раз в десять тысяч лет. И есть много других требований, которым они должны удовлетворять. Запас, прочности: плотинам надлежит стоять незыблемо.
— И задачу задает нам Кызылаякский гидроузел. Эта плотина обеспечит водозабор в Каракумский и Каршинский каналы. Оба канала велики, они ополовинят матушку Амударью. Прежде мы стремились, чтобы в каналы поступало поменьше наносов. А тут нас попросили посодействовать в обратном. Есть над чем поразмышлять!
— Я никогда не была сильна в русловых процессах. Я не знаю Амударью. Я не чувствую ее. Высоконапорные сооружения — другое дело. Я и прежде специализировалась на туннелях!
— Тогда курируйте Курпсайский, Рогунский и Байпазинский гидроузлы. В Курпсае мы получим 800 тысяч киловатт энергетических мощностей, и очень скоро, через пять лет после начала работ. Строительный туннель не стали облицовывать бетоном и сберегли время. За это пришлось побороться. «Загубите туннель, один мощный вывал закупорит трубу!» Так нам говорили. Но эти пессимистические прогнозы, как вы понимаете, не сбылись. Зато водосбросы будут работать в тяжелейших условиях. Паводковый поток низвергается в нижний бьеф со стометровой высоты. А надо уберечь берега от больших размеров. Причем надежные рекомендации мы должны были передать проектировщикам еще вчера, строители наступают нам на пятки. Тогтогульский метод интенсивной укладки бетонной смеси дает удивительные результаты.
— А что Рогун? — спросила я.
— Вопросы те же самые, но отвечать на них можно без спешки. Там пока подготовительный период: дороги, поселок.
Евгений Ильич принес фотографии. Из плексигласовой трубы река Нарын низвергалась вниз и размывала, размывала, размывала. Сложность проблемы усугублялась тем, что скальный грунт пока не поддавался моделированию. Мы заменяли скалу несвязным грунтом и получали искаженные результаты, например, гигантскую яму размыва, похожую на лунный кратер или жерло вулкана. Сверхвысокие скорости были мне ближе, чем блуждающая, насыщенная наносами Амударья, спокойно текущая к своему быстро мелеющему морю.
— Чур, это мое! — воскликнула я. Евгений Ильич не возражал.
Модели на открытых площадках были засыпаны снегом. Одну из них мне предстояло оживить в самое ближайшее время. Я уже видела горный каньон, и петляющее между скальных откосов белое русло Нарына, и кипение большой стройки, и плотину, перегородившую поток, и реку, устремившуюся в туннель, в обход плотины и падающую в облаке водяной пыли из железобетонной трубы вниз, на скалы, в свое прежнее русло. Русло не выдерживало, берега ползли, коммуникации исчезали в чудовищной яме размыва. «Сделай что-нибудь!» — умоляли меня. И я делала. Как?
III
Мы расчищали модель от снега. Валентина сгребала снег фанерной лопатой, я шла следом и веником выметала остатки. Модель находилась на открытом воздухе, и до марта, до первого устойчивого внешнего тепла исследований вести на ней не планировалось. Но, как часто случается в жизни, вдруг выяснилось, что ждать до марта нет никакой возможности, что результаты нужны проектировщикам срочно, сейчас, сию минуту. Я предложила возвести над моделью тепляк, нехитрое сооружение из дощатых стен и шиферной крыши, и под его защитой возобновить опыты.
Евгений Ильич дал добро, и Михаил Терентьевич уже делал заготовки. Мне, однако, не терпелось как можно скорее посмотреть модель в деле. Фотографии давали статичную картину. Яма размыва на снимках была совершенно неприемлема по размерам и конфигурации. Огромная, как воронка от супербомбы, она не только угрожала целостности обоих берегов, но и не оставляла никакого сомнения в том, что берега на значительном протяжении будут разрушены, размочалены могучим водопадом.
Сметая снег и возвращая модели изначальный вид, я исподволь наблюдала за Валентиной. Она работала легко, играючи, словно разминалась перед чем-то действительно серьезным. Но эта легкость не включала в себя ни старательности, ни увлеченности. Она словно делала утреннюю зарядку. Лопатой махала размашисто, снег отбрасывала далеко, улыбалась, нет, сияла и была удивительно хороша. Что такое тридцать пять для женщины здоровой, прекрасно сложенной, живущей полнокровной жизнью? Это и было для меня загадкой. Четверо детей, каждый рубль на счету, каждая минута должна отдаваться семье, детям — откуда же эта неиссякаемая, искрящаяся жизнерадостность? Я родила двоих и увидела, что меня одной не хватит, чтобы поднять третьего. При полной материальной обеспеченности. Жизнь била Валентину, бросала на пороги, на скалы, холодные волны перекатывались через нее, одиночество мучило, а она не устала, не озлобилась, а осталась прежней любительницей легкомысленных авантюр, и ее оптимизм неисчерпаем всем на удивление. Я видела ее второго мужа. Обыкновеннейший из смертных, ярко выражена обыденность, ординарность мышления, поступков, образа жизни. Конечно, попивает. Конечно, не о чем поговорить. Но Валя довольна. Правда, из-за своей врожденной несобранности и безалаберности мало чего успевает, хозяйка она не первостатейная. Домашняя нудная работа ее злейший враг. Белье неделями лежит не стиранное, по углам пыль и паутина. Но ведь счастлива! И при всем при этом, позови ее какой-нибудь любитель острых ощущений, — полетит и исчезнет, как взбалмошная девочка, у которой все впереди. Не понимаю, как она потом выкручивается, объясняет мужу свои полуночные приходы и алкогольный дух, и запах табака, которым пропитаны ее волосы и одежда?
Мы убрали снег, плексигласовые туннели заблестели. Валя куда-то сбегала, принесла обрезки досок и желтую стружку, дрова сложила шалашиком, чиркнула спичкой, стружка занялась, потянуло дымком, шалашик вспыхнул, обдал теплом. Она потерла ладонь, довольная. Круглощекое лицо ее светилось лукавством. А Евгений Ильич говорил, что у нее дети не ухожены. Разве можно поверить? «Можно, — сказала я себе. — Человеческая натура неисчерпаема, ее шкала включает в себя все».
— Где будем обедать? — поинтересовалась Валентина. — Хочешь, я картошку отварю? У меня есть.
— Хочу. У меня колбаса есть, а масла я куплю.
— Колбаса! — воскликнула она. — Какая прелесть!
Я проводила взглядом самолет, идущий на посадку, а когда повернулась к костру, Вали уже не было. Убежала, исчезла, растворилась в воздухе. Костерок догорал, малиновые угли переливались, земля вокруг оттаяла, но на маленьком расстоянии. Я поднялась на модель. Гулливер в стране лилипутов. Люди, согласно масштабу модели, имели двухсантиметровый рост. Открытые еще великим Ньютоном законы подобия позволяли моделировать гидравлические процессы и выбирать оптимальную конфигурацию сооружений, взаимодействующих о водой. То, чем мы занимались, было модельным проектированием. Там, где формулы не могли подсказать нужных решений, их давали модели.
Отсасывающие камеры здания ГЭС были сильно заглублены. Затем дно поднималось и снова круто обрывалось вниз. Это и была яма размыва, пугающая своей глубиной и шириной. Мы, однако, были в состоянии так направить поток, придать ему такую форму, при которой его размывающая сила станет минимальной. Ниже здания ГЭС оканчивался туннель катастрофического сброса. Он был рассчитан на пропуск до 1700 кубических метров воды в секунду. Этот водосброс предохранял плотину от перелива через ее гребень при чрезмерном наполнении водохранилища и был предназначен для экстремальных условий — необычно сильного паводка, например. В нормальных условиях им не пользовались, кто же станет впустую сбрасывать воду? Но был предусмотрен и другой вариант опорожнения водохранилища, на случай, если горизонт воды в верхнем бьефе опустится ниже порога турбинных водоводов. Такая ситуация могла возникнуть в особо маловодные годы. Через турбины воду уже не пропустишь, уровень не позволяет, а в так называемом «мертвом» объеме водохранилища ее еще много. И поля выгорают. В такой ситуации направить всю воду в нижний бьеф гидроузла в состоянии глубинный водосброс. Его туннель выходил к реке ниже туннеля катастрофического сброса. Естественно, в работе мог находиться только один из них.
Когда-то у меня сложилось первое впечатление от лаборатории: взрослые играют в игрушки. Вся эта миниатюризация — река, которую можно перешагнуть в любом месте, как безобидный ручеек, песчинка, имитирующая обломок скалы в рост человека, — все это настраивало на несерьезность. Но результаты, результаты! Не было никакой разницы, получены ли они на настоящей реке или на модели. Я побывала на одном перекрытии, на втором, на третьем. Все совпадало, предсказания лаборатории имели непреложную силу закона. Вот тебе, милая, и взрослые, играющие в игрушки.
Я освоилась, увлеклась, загорелась и о другой работе с тех пор не мечтала. В моем представлении вода под действием силы тяжести обретала черты одушевленного существа. Наделяла же ее живыми чертами я для того, чтобы яснее представлять ее движение. Тут — стрежень, тут — затишье, тут — обратный ток, тут — биение, пульсация давления. Постепенно я научилась угадывать движение и пульсации потока. Но так было прежде. Невольный многолетний перерыв, конечно, не прибавил опыта. Более того, я сомневалась, смогу ли с высокой отдачей использовать старые здания.
По конструкции концевой части катастрофического сброса, воспроизведенной на модели, я поняла, что исследования этого сооружения завершены, и завершены с честью для лаборатории. Найденное решение было умным и оригинальным. Выходной портал был видоизменен необычайно. Так, что потерял свою привычную компактную форму. На большом участке концевая часть туннеля шла почти параллельно руслу. Евгений Ильич убрал левую, обращенную к реке стену туннеля на протяжении примерно пятидесяти метров и от левого борта к правому наискось, под острым углом к оси сооружения поставил трамплин изменяющейся высоты и криволинейный в плане. Предположить, как работает этот трамплин, было совсем несложно. Поток вырывался из туннеля не плотной всесокрушающей струей, а распластывался веером, причем струи отбрасывались строго на середину русла. Я признала решение отличным. Евгений Ильич умел находить удивительные решения. Концевой участок глубинного водовыпуска, однако, не мог быть идентичным концевому участку катастрофического водосброса. Меньший напор воды, меньший расход. Но зато туннель подходит к руслу перпендикулярно, а не по касательной, и возможностей для распластывания, расщепления потока гораздо меньше. Избавиться от компактной струи — это понятно. Но как?
Грохнули оземь доски. Михаил Терентьевич Чуркин и его помощники принесли из мастерской стойки. Я и не заметила, как они подошли.
— Увлеклись? — спросил дядя Миша. Я резко повернулась. Поздоровалась. Он сильно усох, а был витязь. Наверное, он успел прочесть удивление и жалость, мелькнувшие в моих глазах. — Только молодые не замечают бега времени, — сказал он, — а нас, стариков, время к земле клонит. Мы сейчас над вами шатер деревянный соорудим, не возражаете? Укроем от зимы и от злого глаза.
— Велика у стула ножка, отпилим ее немножко? — Я сделала ударение в слове «отпилим» на последнем слоге и засмеялась.
Столяры наносили гору заготовок. Затюкали топоры, зазвенели пилы, заухали молотки. Поднялись стойки, их прочно обхватила обвязка, на свое место легли стропила, за какой-нибудь час была настлана шиферная кровля.
— Вам бы подряды брать, а не повременно получать, — сказала я Михаилу Терентьевичу.
— Я, Ольга Тихоновна, давно уже не меряю работу заработком. Потребности у меня не ахти какие, дети взрослые, сами себя обеспечивают, нам со старухой много ли надо? Сыты, одеты-обуты, здоровы — и хорошо, и спасибо! Я ведь уволился, когда время идти на пенсию подошло. Но в четырех стенах затосковал и опять до дела подался, в столярную мастерскую быткомбината пришел. Там увидели, что я кое-что умею, на спецзаказы поставили. Краснодеревщиком величать стали. Выделили, уважение оказали. Приятно было, не скрою. Но мебель нынешняя без сложностей. Плиточка древесностружечная, шпон на нее кладется. Плоскости, прямые линии — однообразие сплошное. Я опять заскучал — и сюда, на теплое старое место, на оклад. Где я еще такие финтифлюшки клеить буду? — Он указал на плексигласовые туннели, вобравшие в себя его высочайшее мастерство. — Тут надо мозгами раскидывать, тут тебе не конвейер!
— Поточное производство принизило в вас мастера, затерло талант?
— Можно и так сказать, хотя слова употребили вы больно высокие, больно почетные для меня.
— В заработке вы потеряли?
— Немного.
— А в чем выиграли? Погодите, не отвечайте, сама должна догадаться. Вы для того так поступили, чтобы чувство удовлетворения было от работы? Правильно?
— Вы, Ольга Тихоновна, были в моем положении. Уходили из лаборатории и снова пришли. Зарплатой большой не разжились, скорее потеряли в деньгах. Значит, другое влекло вас. Так и меня. А как оно называется и из чего состоит то, что обоим нам нужно от работы, не берусь определять. Конечно, работа должна приносить радость. Лишите дело души — останется холодное исполнение.
Он легко отделил бездушное и механическое от живого огонька, от полета мысли. И поставил знак равенства между нашими побуждениями, вернувшими нас туда, где наша работа приносила более высокую отдачу. Все верно. Почему же тогда, Олечка, дома тебе бывает очень тоскливо после твоего насыщенного рабочего дня? «Чур, не кусаться! — сказала я себе. — Все образуется. Дима приедет в это воскресенье».
Михаил Терентьевич обшивал досками свое сооружение. Улыбка не сходила с его обветренного лица. Пусть годы брали свое, но его светильник горел ярко и многих согревал. Михаил Терентьевич был очень не похож на Валентину Скачкову. Почему же я любила их обоих?
IV
Дмитрий Павлович приехал домой к началу программы «Время». Включил телевизор. Облачился в пижаму. Запел:
Ты меня не любишь, не жалеешь…Получалось, что так оно и есть. Его смутила эта ассоциация.
— Отставить разговорчики! — приказал он себе. — А то по шапке, по шапке!
Он был еще разгорячен работой, его большое тело насыщала хорошая усталость. Часа два в его, голубевском, темпе он укладывал бетонную смесь. На насосной, вместе с бригадой бетонщиков. Уже вышли на высокие отметки. Много арматуры, жужжащие вибраторы, спины, плечи, суета. Не везде можно было подать бадью — брались за лопаты, бросали бетон, все споро, как будто на финише встречали хлебом-солью. Он загорелся, сбегал в вагончик, скинул пальто, ботинки, обул резиновые сапоги, надел брезентовый пиджак — и в блок, за вибратор. Силенка-то осталась старая. Он и покидал в охоточку вязкую, пахнущую цементом, бетонную смесь. Радовался, как мальчик, видя, что бывалые рабочие за ним не поспевают. Так-так-так! Даешь досрочно первый агрегат! Даешь воду Сырдарьи Джизакской степи! Он часто становился на рабочее место, не давая зачахнуть навыкам землекопа, плотника, бетонщика, сварщика. Он такой же, как и его рабочие, свой среди своих, никого не чуждается, не зазнался, требует от всех одинаково, любимчиками не обзавелся, открыт, доступен — приходи каждый со своей нуждой, а он уж, не обессудьте, придет со своей. Теперь он чувствовал каждый мускул. Особенно было приятно, что он ни в чем не уступил асам большого бетона.
Он поставил чайник, а на соседнюю конфорку — кастрюлю с водой. Вода закипит, и он бросит в кипяток смесь из югославского пакетика с большим красным петухом и через пять минут получится вполне приличный куриный бульон с вермишелью.
Диктор проинформировал телезрителей, что трудящиеся Афганистана полны решимости оградить завоевания апрельской революции от происков афганской, американской, пакистанской и всякой иной реакции. Он бросился к телевизору. На экране проплывали узкие улочки Кабула. На лицах афганцев застыли суровость и достоинство. В этой сопредельной стране, где так долго держалось средневековье, еще господствовали традиции прошлого, сломать которые было не просто. Дмитрий Павлович отправил в Афганистан двенадцать своих рабочих и теперь подумал, каково им там… Время все, конечно, прояснит, но ему было бы спокойнее, если бы он сам поехал в Афганистан, а его рабочие остались дома.
Еще он подумал, с добродушно-иронической усмешкой, что, изложи он Оле ход своих мыслей, он непременно услышал бы: «Правильно! Уехать в Афганистан ты можешь, а в Ташкент — нет!» Она бы обязательно сказала это. И была бы права. Он бы с величайшей радостью поехал в Афганистан и сделал все от него зависящее, чтобы прошлое в этой стране, не диктовало, каким быть будущему, не властвовало над ним.
Суп закипел, он дал ему остыть и сел ужинать. В тарелку с квашеной капустой, оранжевой от моркови, нарезал луку, полил салатным маслом. Отменная закуска. «Сто граммов? — спросил он себя. — Нет, брат, терпи, ты дал зарок пить только в компании, и понемногу, а по возможности не пить совсем». Он ел с аппетитом, а потом пил чай — с удовольствием, пока не пришло чувство покоя. В его годы уже пора не налегать по-юношески на съестное. Поужинав, он оглядел свое холостяцкое хозяйство. Скопилось много грязных сорочек, и он играючи пропустил их через стиральную машину. Прополоскал и повесил сушиться. Выгладил брюки. Вот и все дела, не надо только накапливать. Обошел комнаты. Их пустота ему не понравилась. Он помнил, с каким восторгом мальчики кричали: «Папа идет! Папа идет!» И наперегонки бросались к двери. И младший обижался на старшего и пускал слезу, если тот его обгонял. И вот папа пришел, но никто не летит навстречу, не обнимает, не изъявляет восторга.
Половина двенадцатого. Детское, по существу, время. Он включил проигрыватель и поставил фортепианный концерт Листа. Музыка полилась мощная, торжественная, возвышающая разум и волю человека над разгулами стихий, а более всего возвышающая творческое начало в человеке, его незаурядность, его кипучую индивидуальность. Исполнительское мастерство пианиста действовало на него так сильно, словно он сидел в первом ряду концертного зала и видел его напряженное лицо и мелькающие над клавиатурой белые манжеты. Вот тут одиночество и поймало его — на прием «тур де бра», или бросок через бедро. Он не был готов отразить атаку и коснулся ковра всей спиной. Шмякнулся, как мешок с опилками. Был припечатан, туширован. Только на ночь, на несколько часов, оборвались его связи со стройкой. Часы эти — время отдыха, когда отмякает душа, когда коришь себя за администрирование, за откровенное давление, оказанное там, где гораздо больше пользы принесло бы доброе, дружеское слово. Но ему в эти часы отдыха одиноко и муторно. Плохо ему.
Шел всего десятый день его одиночества, его жизни без Оли, Кирилла и Петика. Но ему казалось, что одиночество длится вечность и продлится еще столько же. Работа надежно отгораживала его от этого гнетущего чувства, но как только замирал водоворот дел и волны рабочего дня откатывалась назад, одиночество становилось сильным и властным, и вместе с ним приходили и начинали терзать угрызения совести. Он не мог снять с себя вину за то, что Оля уехала одна. И в прошлое воскресение он вполне мог поехать в Ташкент, даже в субботу, даже вечером в пятницу — на два дня. В пятницу, правда, было совещание, но то, ради чего его просили присутствовать, мог выслушать и его заместитель. Он потом ругал себя за бесплодно потраченное время, но вернуть его уже было нельзя.
Субботу у него отняла насосная станция. Прибыли рабочее колесо и вал первого гидроагрегата. Их разгрузили бы и без него, груз-то долгожданный, но искушение взглянуть на уникальную машину было велико, и он остался. Встретил трайлер, а потом опять: одно, другое, третье, и так до вечера. А там Толяша Долгов уговорил поохотиться на лис, и пропало воскресенье. Почему он согласился, он и сам не мог объяснить. Сказал «да», а потом уже подумал и ужаснулся: да что же это он вытворяет, да можно ли охоту, хотя и предвкушаемую давно, менять на поездку к семье, где все ждут его с нетерпением? Он клял себя за спешное «да», но данное другу слово назад не взял.
Охота получилась, они застрелили лису и зайца, а дважды промахнулись. Лиса была большая, рыжая, славная: огненный хвост длиннее тела. И заяц тоже попался славный. Арнасайские разливы с дремучими камышовыми чащами еще были богаты рыбой и зверем. Они намаялись так, что ног не чувствовали. И сейчас еще ноги приятно ныли. Вдохнули в себя месячную норму кислорода. По снегу, по целине отмахать тридцать километров! Приятно знать, что твое тело — это тело мужчины, закаленное и выносливое, а не изнеженное кабинетом, кондиционером, персональной машиной и персональными Олиными обедами.
Были, были угрызения совести. Но была и радость от слияния с природой, от кратковременного погружения в особый, удивительный мир, который всегда находится рядом и в который современный человек окунается так редко. Снег, солнце, промозглый ветер. Азарт выслеживания добычи, азарт первобытный, разбуженный неожиданно и вдруг заявивший о себе в полную силу. Погоня. Бег. Бег на пределе, легкие без воздуха. Приклад, плотно прижатый к плечу. Движение зверя и мушки по одной прямой. Удар в плечо, раскат выстрела, веер картечи, разбрызгивающей снег. Прерванный бег зверя и его распластанное тело. Кровь на белом. Нет, он хотел сказать «да», как хотел, чтобы потом его мучила совесть, возмездие за недозволенное. Сейчас совесть мучила сильнее, чем все эти дни. Оля не сказала ему ни слова укора. Не мог приехать — и не мог, такое было и, наверное, будет еще не раз. Обстоятельства опять оказались сильнее. Она не просила объяснений, и это не успокоило его, а, напротив, усилило неудовольствие собой.
Он схватил телефонную трубку, собираясь заказать Ташкент. Часы показывали начало первого, звонок мог разбудить детей. Растаяли аккорды фортепиано. Он уже не слушал Листа. Фортепиано не избавляло от одиночества, и производственные успехи — тоже. Ему слышался близкий смех. Петика. Ему виделся Кирилл, стеснительно ожидающий похвалы… Тогда он сказал себе, что он живет правильно, и вообще он правильный, правильный, правильный человек. Ответом ему было молчание. Он палил себе крепкого чаю. Раскрыл январский номер «Нового мира». Роман Даниила Гранина обещал интересные ситуации. Но у него у самого сейчас складывалась прелюбопытная ситуация: одиночество властно заявило о себе и не отпускало железной своей хватки. От него защищала только работа, а свободное от работы время было благодатной почвой для его ростков, стремительно заполнявших все обозримое пространство. Он подумал, что Олю, наверное, обрадовало бы это его состояние. «Ну, теперь и ты закрутишься, — подумала бы она, — не мне ведь решать вопрос о твоем отъезде». Моральное право уехать он заработал давно. Два обязательных после института года плюс восемь раз по два года — в условиях Голодной степи это было очень много. Ведь его люди шли впереди воды, по неживой земле. Это после них земля становилась садом, они же всегда были в самом пекле, в пустоши. Но он не мог воспользоваться своим моральным правом уехать до пуска насосной и, может быть, не воспользуется им и дальше. И, значит, муки одиночества не станут катализатором, ускоряющим принятие решения об отъезде. Он вытерпит и их, как он терпел их раньше, пока Оля не стала его женой.
Он шел к своей благоверной годы и годы. Он вспомнил эти годы, начиная с момента, когда она вдруг стала олицетворять собой всех женщин Земли и кончая свадебным путешествием, таким долгожданным и таким неожиданным. Он был терпелив, и упорен, и постоянен, и внимателен, и заботлив, и мил, и трогателен, и наивен, и ревнив. Она вполне могла выйти замуж за другого, но обстоятельства всегда складывались так, что мешали этому, и повинен в этом чаще всего был он, Дмитрий Павлович Голубев. Он умел ждать. «Сколько бы это еще могло продолжаться?» — спросила она как-то, «Столько, сколько надо», — ответил он.
Как медленно она его узнавала. Вначале он был для нее никто, один из многих. И на этой стадии она пыталась заморозить их отношения. Он, однако, завидным своим постоянством, завидной преданностью и восторженным поклонением доказал, что он не один из многих. Ее аналитический, похожий на точные лабораторные весы ум, сравнивал, и сравнения говорили в его пользу. Все ее увлечения кончались одинаково — разочарованием и новым его возвышением в ее глазах. Ничего особенного он для этого не предпринимал, только был рядом и преданно смотрел в грустные ее глаза. И то, что он не ловчил, не сулил златых гор, а оставался самим собой, то есть Димкой — крепким орешком и надежнейшим из парней, заставило ее в конце концов понять: вот оно, настоящее, прочное, цельное, вот она, опора на всю жизнь, вот он, друг, товарищ и муж, и не надо искать за тридевять земель героев, придуманных на пороге юности, и мечтать о несбыточном. Он не заметил, что автопортрет, созданный им, нарисован с большой симпатией. Все было так, он не погрешил против истины, не затушевал противоречия, не польстил себе, напуская сладкого самообмана. Тогда у него была великая цель, до краев заполнявшая жизнь. Но и тогда у него была работа. И своего он добился не в ущерб работе. Но тогда он выкраивал время на свидания. И вопроса, поехать ли к Оле или пойти на охоту, тогда просто не возникло бы. Он ехал в Ташкент и представал перед ней, и был счастлив видеть ее, слышать ее голос, брать за руку, идти с ней куда-нибудь — в большом городе всегда есть куда пойти.
Что же изменилось в нем за последние годы? Верно ли, что теперь, когда Оля была его женой и матерью его детей, когда все в их отношениях стало ясно и прочно и было определено, можно сказать, навсегда, она занимала в его жизни меньше места, чем прежде, когда он шел к ней и добивался своего? Разобраться в этом было не просто. Он увидел, что она не сошла с пьедестала, но перестала заслонять собой все другие радости и прелести жизни. Но она уехала, и все необъятные богатства жизни стали тускнеть, а в фокусе опять оказалась она, его любовь, и возвращались забытые было терзания юности. Теперь сознание выхватывало из жизни только это.
Он заснул не скоро и спал тревожно. Беспокойство и одиночество не оставили его и во сне. Ему не приснились ни Оля, ни сыновья. Он проснулся, как всегда, в шесть, без будильника. Будильник тикал и звенел в нем самом. Пробуждение принесло облегчение. Гантели, разминка, нагрузка для рук, для ног… Тут он не жалел себя. И пол проседал под ним, скрипя и повизгивая. Потом — холодный душ и растирание плотным полотенцем. Не теряй формы, борец, не заплывай жирком! Послушное, крепкое, здоровое тело — это движение и нагрузки, движение и нагрузки!
Потом он нарезал на сковородку колбасу и лук, залил их яйцами и поставил на огонь. В половине восьмого под окном загудел автомобиль. Он был готов. Звезды еще сияли вовсю, день обещал быть погожим.
V
Я ждала приезда Димы, как праздника. Он звонил и обещал быть. Значит, и его проняло. Его предыдущие частые звонки не сопровождались твердыми обещаниями. «Как люди остаются одни, совсем одни? — подумала я. — Умирает кто-то из супругов, а второй — чаще всего женщина, ведь женщины живут намного дольше — в одиночку коротает век. Дети разлетелись, тоска глухая. Или распадается семья, и человек снова один, сам по себе и сам за себя, ни о ком не заботится, и от этого тоска беспросветная! Не хочу одиночества даже в старости. Пусть я умру первая!»
Я ждала приезда мужа, и жизнь снова стала прекрасной и удивительной. Оказывается, нетерпение — великий стимул. Я помнила, как в детстве ждала каникул, обещанного отцом подарка. Но что детство, когда у нас давно уже свои дети! Мое настроение передалось сыновьям. Они устроили выдающийся трам-тарарам под лозунгом: «Папа, папа едет! А что он нам везет?» Маленькие меркантилисты.
Но мой аналитический ум не мог не влить в искрящуюся радость ожидания зловредную ложку дегтя. Почему он счел возможным выбраться к нам только на четвертое воскресенье? Ну, его неприезд в первое воскресенье понятен: не успел соскучиться. Хотя мог бы и лично поинтересоваться, как мы тут устроились, чего нам не хватает. Второе воскресенье он потратил на разгрузку насоса и двигателя. В первый раз, мол, вижу такие. Ну и что? Увидел бы и в понедельник, никто не унесет, не спрячет это железо, оно тяжелое. Вздорное оправдание, детское. Да повзрослел ли он? И повзрослеет ли когда-нибудь? Третье воскресенье у меня отняли иностранцы. Дима сопровождал их, и об этом даже было сообщение в газете. Гости заявили, что в их странах нет ничего подобного. Охотно верю! А вот Дима опять не догадался отказаться от обязанностей гида, не подумал о семье. Не выработалось у него такой привычки.
Удивляюсь: вырос в вечных нехватках, недоедал, ходил в старом, в перелицованном, а остался бессребреником, к деньгам и престижным вещам равнодушен, если, конечно, исключить самое необходимое. Потребности сверхспартанские, высокий оклад управляющего не расширил их, не взвинтил. А не относится ли он ко мне как к вещи? Не перенесено ли на меня его ставшее привычкой равнодушие к вещам?
Он приехал не в субботу днем, а в ночь на субботу. Дети спали, я вышла к нему в рубашке. Он обнял меня и чуть не переломил пополам.
— Ты не на ковре, а меня не надо насильно класть на лопатки, — предупредила я.
Он очень соскучился. Как и я. И он остро чувствовал свою вину. Я видела в этом доброе предзнаменование. Пусть осознает, каково семье без него. Ставить вопрос, каково ему без семьи, я даже не пыталась. В интересах любимого дела он решительно закроет глаза на то, что ему без семьи плохо. Переживет, как говорят в таких случаях.
Утром дети дорвались до отца. Они повалили его на диван, ползали по нему, тузили, а он вдруг одной рукой легонько так смахивал их на пол, на мягкий ковер, и, пока они вновь вскарабкивались на него, торжественно провозглашал:
— Я самый сильный! Я семерых одной рукой побежу даю!
Дети отвечали протестующими криками и новым дружным наскоком. Веселая возня длилась, наверное, час. Потом они взяли санки и пошли кататься. Играли в снежки, а я готовила борщ и жаркое. Они явились мокрые, вывалянные в снегу с головы до пят. В детских глазах светился восторг.
— Мама, я залепил папке снежком в ухо! — доложил Петик.
Кто из них был сейчас самым маленьким?
Они набросились на еду и дружно опустошили свои тарелки. Попросили добавки, получили ее и расправились с нею так же споро, как и с основной порцией. Идиллия! Почему же счастье так быстротечно, спросила я себя. И почему мы не дорожим им, когда оно есть. Почему мы так толстокожи, когда оно с нами, и начинаем ценить его лишь тогда, когда оно уходит, ускользает, отдаляется? Диме плохо без меня, а мне плохо без него. Что ж, так и будет продолжаться?
Вечер мы провели у телевизора. Вся семья уместилась на диване. Правая рука Димы лежала на моем плече, левой он обнимал Петика и Кирилла. Я чувствовала, что он с нами и душой, и телом — с нами, а не со своей никогда не кончающейся работой. Но так было вечером и ночью, а утром он сказал, не глядя на меня:
— Оля, я отчаливаю сегодня в пять.
— Почему сегодня? — удивилась я.
— Надо, маленькая, надо.
— Почему — надо? Объясни. Я понятливая, и если тебе действительно надо, я пойму и соглашусь.
Он пробормотал что-то про утреннюю планерку в котловане насосной. Что вообще надо быть наготове, подстраховать.
— Чепуха! — отрезала я. — Случись беда, тебя отыщут за минуту. Выедешь завтра в шесть и в восемь уже будешь восседать в своем командирском кресле. И помолчи, пожалуйста, раз не заготовил серьезных аргументов. Есть у меня муж или нет у меня мужа?
Он разрешил себя уговорить, и мне было ново и немного странно добиться уступчивости там, где прежде я сталкивалась с железной непреклонностью. Я, однако, не позволила себе никакого ликования, никакого проявления чувств. Взяла и потушила торжество, готовое выплеснуться наружу. Вернее, оставила его для внутреннего потребления. Никто из нас не любит нажима. В зрелом возрасте мы отметаем нажим, он не согласуется с нашей высокой сознательностью, с уважением к себе, наконец.
Я предложила поехать на выставку Рерихов.
— Хватит домоседничать, — согласился он. — Будем приобщаться к высотам мировой культуры.
Выставка в музее изобразительных искусств привлекла массу людей. Мы постояли в очереди, а когда вошли в залы, где экспонировались индийские полотна Рерихов, попали в плотное окружение любителей живописи и просто любопытных, составляющих среди посетителей абсолютное большинство.
Вначале были выставлены полотна Николая Константиновича. Я много читала об этом выдающемся художнике, ученом, общественном деятеле. У нас была книга репродукций его картин и книга о Востоке — Индии, Кашмире, Тибете, Монголии, по территории которых прошли его экспедиции. Я помнила все картины раннего, русского Рериха, виденные мною в музеях страны. В этом смысле я была зрителем подготовленным. Но от предыдущих встреч с этим живописцем в памяти осталось гораздо меньше, чем было нужно для встречи нынешней, для того, чтобы понять и запомнить увиденное, Соприкосновение с иной, неевропейской культурой, невообразимо богатой, насыщенной неведомыми мне красками, мифами, традициями и идеями, повергло меня наземь. Я оказалась профаном, невежей. Беспомощность моя была полной. Я совершенно не знала Востока немусульманского, индуизма, буддизма, их догматов, символов, легенд. И очень многое из того, что Николай Константинович вложил в свои картины, не дошло до меня. В таком же беспомощном положении был и Дима. Помочь могли хотя бы краткие аннотации, но они отсутствовали.
Я смотрела на бесконечные горные цепи Гималаев, на мрачные синие ущелья и белые пики вершин, на красное, или багровое, или фиолетовое небо, таящее угрозу, на людей, для которых эти суровые горы были родной землей и которые поклонялись совсем другим духовным ценностям, нежели мы. Рерих изображал не общечеловеческое, а отдельные, неведомые нам, европейцам, его составляющие. Колорит места и колорит времени, равно как и яркая, самобытная фантазия, запечатленные на полотнах мощной кистью, и делали их необыкновенными. Я напрягала воображение, но символы Рериха не оживали. Доступность и простота не были их качеством. Легендарный Ганг струил свои зеленые воды, в них отражались горы, самые высокие на планете, а за всем этим стоял Восток, неисчерпаемый, необъятный, непостижимый, погруженный в самосозерцание. Но я вспомнила другой Восток, другую Индию, кадры кинохроники — людей изможденных, неграмотных, и, значит, имеющих мало общего с пророческими рериховскими полотнами. Рерих запечатлел то, о чем мечтал.
Восток те продолжал изнывать под тяжестью произвола и вопиющей, непередаваемой бедности.
— Каковы впечатления? — спросила я Диму.
— Туп, как необученный рядовой, — признался он.
— Многие ли из этих картин ты пожелал бы приобрести, ну, скажем, для того, чтобы повесить в гостиной?
— Вот этот пейзаж с храмом. И вот этот — с всадником, стреляющим из лука. Пожалуй, все.
Почему даже в самых именитых хранилищах так немного картин, которые созвучны именно твоей душе? А хороших книг разве больше?
Сын Николая Константиновича Святослав был нам более понятен. Он отошел от символики отца и работал в реалистической манере. Его занимали проблемы войны и мира, согласия и сотрудничества между народами, и сам он больше принадлежал современности с ее суровым противоборством систем, нежели символике отца, ясной только посвященным. Он тоже был ярок и самобытен, но вершин повыше гималайских пиков, которые покорил отец, не достиг. Я это поняла.
Мы вернулись домой пешком. Долго обменивались мнениями, спорили.
— Если бы ты уехал, ты бы сейчас был один-одинешенек! — сказала я. И прижалась к нему. Он обнял меня, и мы пошли обнявшись, как молодые. На нас стали оглядываться, и я бросила ему: — Не хулигань! — Но не отстранилась. Потом сказала: — Ты привык быть один-одинешенек?
— Нет. И не хочу привыкать!
— Я тоже. Мне так не хватает тебя.
На улицах было совсем мало людей. Дима продолжал обнимать меня, и я сказала:
— Жду тебя в следующую пятницу.
Его рука ослабела, и у меня горько екнуло сердце: не приедет.
— Постараюсь, — согласился он.
— Только не говори, что это от тебя не зависит. Не ищи оправданий. Когда ты объясняешь по телефону, почему сорвалась поездка, ты словно забиваешь гвозди в живое тело. Ты заранее готовишь все свои объяснения. Ты их репетируешь!
— Нет, ты не права!
— Я не права! Но тебя не было три выходных кряду.
— Постараюсь, — еще раз пообещал он.
— Очень постарайся!
— Ты поступила на курсы водителей? Подходит моя очередь на машину.
— Уж мне-то ничто не помешает сесть в пятницу в «Жигули» и прикатить к тебе. Ты это имеешь в виду?
— И это. Машина облегчит нам жизнь.
— Спасибо! — сказала я со злостью.
Ночью он немного стеснялся меня, а я немного стеснялась его. Как будто я снова узнавала его, снова открывала для себя. Опять предстояла разлука, и это не настраивало на высокое. Но я знала, что не должна подливать масла в огонь. Хватит укоров, и сцен, и холода. Хватит выяснять отношения. Это не сцементировало еще ни одну семью.
VI
— Сколько на водосливе?
— Четырнадцать и восемь!
— Должно быть четырнадцать и восемь. А на самом деле? Ну-ка, одна нога здесь, другая — там!
Я не давала Скачковой поблажек. Установить расход следовало с максимальной точностью, и я этой точности добивалась. Проверяла и перепроверяла, сама подкручивала тяжелую задвижку Лудло. Валентине в конца концов становилось стыдно, и она снисходила до одолжения: «Ладно, я сама!» Ну, обрадовала! Осчастливила прямо. Одолжений мне не надо, мне надо, чтобы я могла на тебя положиться.
— Ой, Олечка Тихоновна, ты такая правильная, такая правильная, что я и не знаю, как за тобой тянуться!
— Ты не за мной тянись, а работу свою исполняй. Наш расчетный расход тысяча тридцать кубометров в секунду, и по туннелю должно идти ровно столько. Чего тут неясного?
— Ой, все ясно-понятно! — соглашалась она и опять направлялась к оголовку.
Только после этого расход стабилизировался. Но я шла и проверяла. Всегда полезно удостовериться в чистоте поставленного опыта.
Поток вырывался из туннеля могучей компактной струей. И падал не на середину русла, а ближе к левому берегу. Яма размыва примыкала прямо к левобережной скале, на которую ложилась тяжелейшая нагрузка. В натуре все это должно выглядеть величественно. Низвергается стена воды. Рев, кипение, белая пена, белые валы, уносящие пену далеко вниз. Мельчайшая водяная пыль, окутывающая, как туман, все окрест. Евгений Ильич рассказал, что когда в Нуреке воспользовались катастрофическим сбросом, водяная пыль образовала такое большое и плотное холодное облако, что в поселке гидростроителей, в шести километрах ниже по течению, температура упала на 25 градусов и люди надели телогрейки. А до этого стояла сорокаградусная жара. Я сказала, что теперь, по крайней мере, в Нуреке знают, как бороться с жарой. Но Нурек Нуреком, а мой поток падал слишком далеко от того места, куда ему надлежало падать. И падал под более острым углом, чем было нужно. Струя из гигантского брандспойта. Ею можно потушить пожар, даже если пламенем охвачен целый город. Разобщить струю, лишить ее цельности — такой виделась мне первая часть задачи.
Я раздвинула левую и правую стенки концевого участка. Пусть поток низвергается веером, полукругом. Михаил Терентьевич смастерил для меня целый набор трамплинов. Я ставила их на концевой участок. Растекание получалось хорошее, но не веерообразное. Расщепленные струи все равно отлетали далеко и наваливались на левый берег. Я поставила трамплин переменного профиля, с наибольшей высотой в центре, и получила почти идеальный веер. Но центральные струи, самые компактные, не стали ближе. Глубина ямы размыва, однако, заметно уменьшилась. Я пригласила Евгения Ильича и ознакомила с достигнутыми результатами.
— Левый берег по-прежнему в опасности, — сказала я. — Что, если носку трамплина придать большую кривизну?
— Это уменьшит отлет струи?
— Падать она будет почти отвесно, и дальность отлета уменьшится.
— Проверьте. — Он внимательно посмотрел на меня. И попросил закончить опыты пораньше и в конце дня прийти на его модель. — У меня есть что противопоставить дейгишу, — сказал он. Он был доволен и улыбался. Он был счастлив. И никто, кроме меня, пока не знал, что ему удалось сделать то, что никому до сих пор не удавалось.
Ко мне подлетела Валентина.
— Ой, Олечка Тихоновна! Евгений Ильич совсем не в себе. Какой-то взъерошенный, счастливый. Он на тебя глаз положил. Поверь, я такие вещи издалека секу. Ты ему понравилась, поздравляю.
— Ну тебя к лешему с твоей вечной сексуальной озабоченностью! Я замужняя женщина.
— Ну и что? — искренне возмутилась она. — Какие у тебя древние и дремучие представления! Ты, наверное, и супружескую верность высоко ставишь?
— Да, высоко.
— Уморила! Сейчас упаду и не встану! Представляю, как однообразно ты живешь. Так ты в самой деле сейчас одна? — вдруг заключила она и удивилась странности, нелепости, неуместности такого положения. Ей стало жалко меня, так жалко, что она растерялась. Надо было что-то предпринимать, а она не знала, что, ведь я была не как она.
— Можно подумать, что ты никогда не оставалась одна.
— Я? Я не выдерживала и недели! Мое вынужденное одиночество всегда кончалось так быстро, что мне было некогда тосковать, мучиться.
— Как же это тебе удавалось?
— Я шла и выбирала себе мужчину.
— Ну, Валька-озорница!
— А что тут удивительного? Шла и выбирала. Наша очередь теперь выбирать. Сейчас все они робкого десятка. Да что ты, собственно, взволновалась? Это куда проще, чем ты себе представляешь.
Я этого не поняла. Я не могла представить себе этого. Впрочем, в этом плане я не понимала ее всегда, не умела разгадывать ее загадки.
— Опыт продолжается, проверь, пожалуйста, расход! — попросила я.
Она хмыкнула, снисходительно махнула рукой и помчалась взглянуть на пьезометр. Крикнула из-за оголовка:
— Все правильно!
— Опусти затвор, будем менять трамплин.
Поток иссяк, обозначились контуры ямы размыва. Я набросала эскиз трамплина, который, как я предполагала, должен перераспределить массу потока, ослабить силу центральных струй. Валентина прибежала и уставилась на меня большими немигающими, преданными, очень выразительными глазами.
— Я совершенно не умею жить одна, — сказала она, продолжая волновавшую ее тему. — Я бы уже загуляла.
— Это потому, что у тебя нет сдерживающих центров.
— Все совсем не так, Олечка Тихоновна! Ты всю жизнь меня критикуешь. А я… я, если желаешь знать, счастливый человек! Не веришь? А ты поверь — это лучше, чем постоянно во мне сомневаться. Пусть я страдала из-за своего легкомысленного поведения, но я была счастлива и сейчас счастлива.
Я покраснела. Возразить было нечего, да и с какой стати возражать счастливому человеку? Передо мной стояла не девочка, а красивая, полная сил, уверенная в себе женщина. Она считала прожитые годы хорошими годами. Ни в чем не раскаивалась. Более того, она искренне жалела меня. Ведь я жила не так, как она. В ее глазах я не приобретала, а теряла. Она любила многих и еще будет любить многих. Осуждая ее за это, я побоялась бы назвать ее поведение распущенностью. Просто она была совсем не такая, как я. Ее поступками всегда руководило искреннее чувство. Оно и делало ее обаятельной.
— Пожалуйста, отнеси Чуркину эскиз, — попросила я.
Она ушла, высоко держа голову. А я невольно подумала об Евгении Ильиче. Как он живет, кто его жена. Детей у него, кажется, двое. Подробностей я не знала, никогда не интересовалась ими, а он не считал нужным информировать сослуживцев о своей семейной жизни. Какое мне, собственно, дело? Праздное женское любопытство. Я поменяла трамплин. Вернулась Валентина и сказала:
— Знаешь, как назвал Михаил Терентьевич твой рисунок? «Рыбий хвост». Теперь все будут звать твой трамплин «рыбий хвост».
По туннелю вновь мчалась вода. Но за час до конца рабочего дня я велела Скачковой закрыть задвижку и пошла к Евгению Ильичу. Он стоял на берегу русла, сложенного из опилок, и пристально смотрел на прозрачный поток.
— Амударья не прозрачная, — сказала я, — вы не держитесь натуры.
— Добрый вечер, Оля. На сей раз выводы подсказала мне не модель — сама река. Жизнь, как ты знаешь, многообразнее модели.
— Не сомневаюсь. О, вы выдвинули шпоры навстречу течению! Какие водовороты в карманах! Очень эффектное соударение струй.
— Помните судьбу Турткуля? — сказал он, размышляя вслух. — Столетиями все было ничего, и вдруг Амударья метнулась к нему. Откусывала от берега ломти по двести-четыреста метров длиной. За год русло смещалось к городу на километр.
Он говорил, а я представляла себе все это. Когда-то, в один из больших паводков, я стояла на берегу этой реки и видела, как она течет к своему морю. Это была сильная, великая река, не знавшая препятствий. Вода текла, и не было ей конца и края, и струи поднимались откуда-то из глубин, предельно насыщенные наносами. Казалось, на дне пробились бесчисленные грязевые источники. На всей равнине, вплоть до Арала, русло Амударьи сложено из легкоразмываемых наносов этой реки. Они откладывались тысячелетиями и наконец подняли Амударью над окружающей местностью. Вот почему каждый ее рывок в сторону в густонаселенном оазисе дорого обходится человеку.
Я представила, как река все ближе и ближе подкрадывалась к Турткулю. Дейгиш свирепствовал, с грохотом рушились берега, гибли посевы, ждали своей судьбы люди, у которых сердце сжималось от сознания неизбежности беды. Помочь пытались виднейшие гидротехники страны. Все было тщетно, расстояние до Турткуля неумолимо сокращалось. Приехал американский инженер Дэвис. Посмотрел, подумал и предложил отгородить Турткуль от реки двумя шпунтовыми стенками. От этого прожекта отказались. Шпунтовые стенки стоили сто миллионов, дороже, чем сам Турткуль. Надежнее было выстроить город на новом месте. Так и поступили. Последний дом старого Турктуля рухнул в коричневый поток в 1949 году. Новый город поднялся в восьми километрах от берега. Но Амударья двинулась и к нему за несколько лет преодолела пять километров. Что это, рок над Турткулем? Или очередную беду уже можно предотвратить?
Собственно, размыв берегов, смена русла в низовьях Амударьи — процесс естественный. Если сравнивать эту реку с живым организмом, можно сказать, что дейгиш органически входит в ее биологию. Очень сильны колебания расходов, до двух тысяч кубометров за сутки. При уменьшении расходов дейгиш особенно интенсивен. Этот факт заинтересовал гидрологов, и они нашли ему объяснение. Вода пропитывает пористые берега, и когда уровень ее снижается, грунтовые воды устремляются к руслу, как к своеобразной дрене. Высачиваясь в русле, они подтачивают устойчивость берегов и содействуют дейгишу.
Евгений Ильич говорил, а я представляла цепь его умозаключений. Нельзя ли сделать реку более статичной? И коль повлиять на изменение расходов трудно, нельзя ли уменьшить колебания горизонтов воды? Если, скажем, сделать гидравлические карманы — залить водой большие участки, вмещающие 20—30 миллионов кубометров, можно избежать быстрого подъема или опускания горизонтов воды. Потом, гидравлические карманы — это дополнительная шероховатость, которая в данном случае, полезна. Вода, заходя в них и вращаясь в медленном круговороте, ударяется о транзитный поток и уменьшает его размывающую силу. Это и надо использовать. Когда вода борется с водой, не нужны ни бетон, ни стальной шпунт. В гидравлических карманах вода отстаивается, отдает наносы. Это клейкая глина. Ее частицы обладают повышенным сцеплением. Этот материал размывается труднее и дольше, чем грунт, из которого сложен берег.
Все то, что гасило размывающую силу потока, Евгений Ильич и положил в основу мероприятий по защите Турткуля. Он запроектировал длинные, по три-четыре километра, шпоры и нацелил их не косо по течению потока, как это делалось всегда, а навстречу реке. Шпора агрессивно шла наперехват. Река легко размывала шпоры, но вязла в липких илистых отложениях карманов. На противоположном берегу, километрах в трех ниже, прорыли траншею. Река устремилась в нее и стала формировать себе новое русло. Шпоры нарастили еще, и река попятилась влево. Сейчас русло Амударьи вновь в пяти километрах от Турткуля.
— Поздравляю вас, Евгений Ильич! — воскликнула я. — Вы — истинный первопроходец!
— Я только извлек уроки из неудач предшественников. Зачем гладить по шерсти? Это не противодействие, это поощрение, поблажка. Я нацелил шпоры навстречу течению, стал гладить против шерсти.
Это было интересно. Не сталь, не бетон усмирили великую реку, а ее же русловой грунт, ее родная плоть, которую она не в состоянии была отторгнуть.
— От души рада вашему успеху, — сказала я.
Он смутился и промолчал. Проводил меня до станции метро. Держался свободно, словно старался внушить, что это с его стороны простая вежливость. А у меня не выходили из головы слова Валентины, «Ой, Олечка Тихоновна! Евгений Ильич на тебя глаз положил!» Нужно ли ему это? Едва ли. А мне? Относительно себя я могла ответить совершенно недвусмысленно: не нужно, не нужно, не нужно.
VII
После зимы, после промозглых, пригибающих к земле бекабадских ветров, после тяжелого пальто и меховой шапки любил Дмитрий Павлович дурманящее, клейкое тепло весны, яркое солнце, бездонное синее небо и легкие, не стесняющие одежды. И апрельские быстротечные дожди любил, и буйство зелени, заполняющей степь. Тепло и солнце быстро вытесняли снег, а потом исчезали и ночные заморозки, и начиналось торжественное шествие весны. В рост шли травы, на пригорках буйно алели маки, ослепляя монолитным красным цветом. Из нор выползали черепахи и, вытянув длинные шершавые шеи и вытаращив глаза, грызли сочные стебли. Степь торопилась жить до иссушающего летнего зноя. В зеленом раздолье трав резвились табуны карабаиров. Широким серым катком прокатывались по пригоркам овечьи отары.
В апреле природе вполне хватало естественной, накопленной за зиму влаги. В мае начиналась сушь. В июне устанавливалась сушь великая, и уповать можно было только на воду, приведенную человеком. Дожди возобновлялись глубокой осенью. Первый полив целинным полям понадобится в начале июня. Дмитрий Павлович твердо знал, что успеет пустить насосы, успеет без аврала, без затяжных планерок с их высоким тоном и больно ранящими взаимными упреками, которые обычно сопровождают пуск. И от ясного сознания того, что он успевает, краски весны приобретали особую яркость и красоту. Они несли с собой радость обновления и особую, весеннюю свежесть бытия. И ничто не в состоянии было отвлечь от них внезапно пробудившийся интерес души, заставить их поблекнуть. Ибо весна не застала врасплох, ее ждали, и она растеклась по земле великим праздником обновления.
В весеннем пьянящем обилии тепла и света и жизнеутверждающих начал был скрыт могучий катализатор, воздействие которого вскоре ощутил на себе каждый строитель первой Джизакской насосной. Это сказалось прежде всего в обострении чувства ответственности. Стройка вышла на финишную прямую, и коллективу ничто уже не мешало наращивать скорость. Заводы поставщики в сроки рассчитались со стройкой. Ежедневно на площадку прибывали трайлеры с громоздкими контейнерами. Помня о том, что уговор дороже денег, Дмитрий Павлович опять содействовал отправке в Свердловск первых даров весны — редиса, зеленого лука. Овощное изобилие в Чиройлиер в это время еще не приходило, но на севере, изголодавшемся по витаминам, свежая зелень была нужнее. Свердловчане прислали шеф-монтажников. Это были асы монтажа, специалисты узкого, как луч прожектора, профиля. Каждый из них приезжал, образно говоря, закрутить свою гайку. И он закручивал ее так, как не сумел бы никто другой. Для пуска первых двух агрегатов стройка уже имела в своем распоряжении все, даже полный комплект кабельной продукции, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики и связи. «Так, значит, можем? — спрашивал себя Голубев и сам себе отвечал: — Умеем, все умеем! Но как долго раскачиваемся, как тяжело сжимаемся в тугую пружину!»
В котловане торжествовал порядок, и оставалось пожинать его плоды. Дмитрий Павлович видел десятки строек и знал совершенно точно, что в Ташкенте ни на одной стройке нет такого порядка, как у него. Вот тебе и периферия! Инициатива — не привилегия столиц и больших промышленных центров. Не периферия, не отдаленность были ее врагами, а низкая компетентность, узость кругозора, банальность мышления и обыкновенный эгоизм.
Теперь успех стройки зависел только от тех людей, которые трудились на площадке, и ни от кого больше. Но это и была самая затаенная, самая дорогая, долго и упорно вынашиваемая мечта Дмитрия Павловича! Чтобы его не держали, не вязали ему руки-ноги недисциплинированные поставщики и нерасторопные субподрядчики, чтобы он и только он диктовал стройке темп. И это было достигнуто, пусть не в первый год и не на первом большом объекте. Захотели — и пришли, и получили! Но, конечно, сильно захотели, очень захотели, влюбились, можно сказать, в свою идею с первого взгляда и ни о чем больше не мечтали.
В том, что при известном старании можно работать культурно и грамотно, и можно работать так везде, в заводском цехе и в поле, на стройке, в исследовательской лаборатории, в школе, поликлинике и магазине, можно везде добиться результата, намного превышающего вчерашний, Голубев теперь не сомневался. Если обеспечить порядок, если защитить его от атак производственной анархии, от атак карьеристов, очковтирателей и бюрократов, то все, буквально все, чего ты ждешь от стройки, оказывается в границах предвидимого, в границах точного инженерного расчета. К этому и надо стремиться, считал он. Не стремиться к этому и не желать этого могли только те, кого беспорядок освобождал от ответственности, от необходимости искать новые пути и решения, чего они не умели при любой погоде, или вознаграждал материально, кто грел руки и строил свое благополучие на всякого рода аритмии и дефиците.
У Дмитрия Павловича в подчиненных такие люди не задерживались, несмотря на то, что они зачастую ставили рекорды по части доставания тех материалов, которые прямыми путями на стройку почему-то не попадали. В рекордсменах такого рода он не нуждался, ибо, выигрывая с ними в малом, неизменно проигрывал в большом.
Удалось решить даже уникальный по своей несдвигаемости с места, по своей окаменелости вопрос о снабжении стройки не по «миллионнику», не по осредненным нормам на абстрактный миллион рублей строительно-монтажных работ, а по ее фактическим потребностям, со скрупулезной точностью исчисленной проектировщиками. Причем заслуга в этом была не только его, Голубева, хотя он действовал весьма настойчиво, но и Иркина Киргизбаевича, который буквально протаранил главк и Госплан своими докладными записками. На эту помощь Голубев не рассчитывал. Что это, думал он, следование конъюнктуре или пришедшее, пусть и с большим опозданием, соответствие должности?
Материально-техническое обеспечение стройки по действительной потребности позволило внести в планирование работ четкость и определенность, которые прямо вели к рекордным высотам. Если «миллионник», кичившийся своей древностью и отставший от жизни ровно на столько лет, сколько было ему от роду, изъят из повседневной практики, значит, совершенствование хозяйственного механизма шло уже не на словах, пользовалось поддержкой все большего числа людей. Значит, капитальное строительство, трудноуправляемая отрасль народного хозяйства, отрасль, безмерно растекшаяся вширь, по тысячам начатых и сооружаемых черепашьими темпами объектов, отрасль, отличающаяся медлительностью и неэффективностью, находится сейчас на пути к более высокой организованности. Не осваивать средства без конца и края, не гнать вал, а сдавать объекты в срок — вот та высота, к которой шла отрасль. Ну, а что организованность и порядок — первые помощники инициативы и лютые враги бездельников, летунов, болтунов, пенкоснимателей и иже с ними — это положение Дмитрий Павлович усвоил давно и со всей энергией, на какую был способен, претворял в жизнь.
Что более всего говорило о правильности избранного им пути, так это рост числа единомышленников. Он остро чувствовал плечо и локоть товарищей, идущих рядом, радовался их поддержке и, не щадя себя, поддерживал и поощрял их. Выросло-таки дерево, им посаженное! И какие удивительные, какие долгожданные плоды созревали на нем!
VIII
Я четвертый месяц не жила в Чиройлиере, но каждый вечер мысленно переносилась туда, в трестовскую контору, или в наш коттедж, мысленно продолжала жить там, потому что там жил Дима. Принимая решение о переезде в Ташкент, я не думала, что одиночество переносится так трудно. Я не думала, что у одиночества могут быть все признаки болезни. Что оно, как болезнь, подкрадывается исподволь, незаметно, что его хватка, крепкая и поначалу, становится мертвой хваткой, что она причиняет физическую боль, мучает, и удручает, и гнетет, и точит, и выжимает, и бросает в пустынное и холодное море неудовлетворенности. А какие оно рождает воспоминания! Целый мир возвращается из былого, из прожитого, ясный и светлый и почти реальный. Но какой-то малой толики все-таки не хватает до истиной подлинности, и вдруг все рушится, былое не повторяется, несбывшееся им и остается. И память не в состоянии помочь, а только растравляет одиночество, разжигает и без того нестерпимо опаляющий костер.
Я представляла себе его возвращение домой после двенадцатичасовой круговерти, звонков, принятых и отданных распоряжений, поездок на объекты, рапортов подчиненных и их корректировок — после насыщенного служебными заботами дня. Я представляла себе его одиночество среди четырех стен, среди дорогих, удобных и нужных вещей, вдруг переставших быть удобными и нужными, потому что их просто перестаешь замечать. Я представила, как он готовит, ест, стирает, смотрит телевизор — заученный автоматизм движений, строгая отрешенность лица, тишина пустого дома, давящая и резкая, почти оглушающая. Я представляла себе все это, и тут он звонил. Я думала о нем, а он думал обо мне, и, наверное, ему было не лучше, чем мне.
Он звонил каждый вечер после десяти. Я бросалась к телефону. Но Петик каким-то неведомым чутьем угадывал, что сейчас раздастся звонок, и первый снимал трубку. Говорил отцу он всегда одно и то же: «Здравствуй, папа. Это я, твой сын Петя. У нас дома все хорошо. Сейчас с тобой будет говорить мама». И протягивал трубку мне, довольный. У Димы был бодрый командирский безапелляционный голос, выработанный за долгие годы руководящей работы. Но его оптимизм, не показной, не искусственный, конечно — зачем ему не быть самим собой со мной, его женой — его оптимизм не мог замаскировать тоски и неуюта, которые пришли в его жизнь и распоряжались там, как хотели.
Мы не говорили друг другу особенных слов. Он рассказывал, как у него прошел день, что он успел сделать, а что перенес на завтра. Он называл фамилии знакомых мне людей, производителей работ и бригадиров, и если они добивались успехов, превозносил эти успехи, а если допускали ошибки, сообщал о сделанном им внушении. Доложив свежие новости, он давал им оценку. Какие великолепные слова он находил, восхищаясь рабочей эстафетой! В умелых руках она превращается в отлаженный, надежный конвейер. Тут я его слегка осаживала какой-нибудь репликой, не обидной, но убавляющей восторженность.
— Постой, постой! — перебивала я. — Коль у тебя все так замечательно, что лучше и быть не может, почему ты не приехал в прошлый выходной? Если по твоему конвейеру можно часы проверять, то почему ты привязан к нему, как мать к грудному младенцу? Ты бесконечно контролируешь подчиненных. Ты уже надоел им не знаю как. Пора бы научиться и доверять им!
Он спотыкался, как о препятствие, а затем вновь набирал скорость.
— Да, понимаешь, я ввел скользящий график, это рекомендуется в предпусковой период. Теперь в котловане нет ни суббот, ни выходных. Одни трудовые будни!
— Но у твоих людей есть выходные?
— А как же! Профсоюз пока еще на их стороне.
— Почему же у тебя нет хотя бы одного выходного? С каких это пор ты уже не человек, а механизм стальной, которому не положено ни часу простоя? Что это за дискриминация по отношению к себе?
Он оправдывался, говорил, что обязан во все вникать, владеть ситуацией, что его тошнит от руководителей, не знающих конкретной обстановки на вверенных им предприятиях и что он более всего боится чего-нибудь не знать, позволить событиям уйти в неконтролируемое русло.
— Ну, это тебе никогда не грозит! А себя, меня и детей ты наказал. Своим чрезмерным рвением к работе, которое иногда следует и укрощать — для пользы дела. Для того, чтобы твой Анатолий Долгов, отличный, между прочим, начальник передвижной мехколонны, мог действовать не из-за твоей широкой спины, а по своему разумению.
— Да пожалуйста! Да сколько угодно!
— Ты не мне адресуй эти свои любезные «пожалуйста» и «сколько угодно», а Толяше и другим своим подчиненным. Им бывает сложно проявить самостоятельность и инициативу именно потому, что, к месту или не месту, а их спешишь проявить ты. Ты подменяешь их. Смотри, очень скоро это начнет вредить делу.
— Да командир я или не командир?
— Ты баба в юбке.
— Это ты баба в юбке! — засмеялся он.
— В брюках, если иметь в виду данный момент. В твое отсутствие я лицо среднего рода, я уже смирилась с этим.
Мы получали удовольствие и от пререканий, от легких уколов и тычков. Он выкладывал мне все-все, а потом я говорила ему о лаборатории и о доме.
— Как сухо ты рассказываешь, — упрекал он, — голые факты, никаких эмоций. Да преломляется ли все это в твоей душе?
— Я хочу, чтобы ты жил не моими эмоциями, а своими.
Вникнуть в дела лаборатории, ему было сложнее, чем мне — в его дела. Но, как мне казалось, он и нашу домашнюю жизнь, учебу Кирилла и быстрое взросление Петика представлял себе смутно, ведь все это совершалось не при его участии. Воображение не давало ему нужных аналогов, память пробуксовывала. Не я не спешила прийти ему на помощь, а, напротив, наслаждалась его замешательством: что заработал, то и получай!
Мы говорили долго, минут тридцать, а потом он крепко обнимал и целовал меня, словно это можно было осуществить по телефону, и трубку брали сыновья, с соблюдением очередности: сначала старший, потом младший, и отвечали на вопросы отца «да» или «нет». Они были педантичны, словно стеснялись телефона. Трубка быстро возвращалась на место, и одиночество опять неслышно вступало в комнату, обволакивая, выхолаживая душу. Я укладывала детей. Потом еще что-то делала, читала и ложилась. Одиночество рождало апатию. Всю домашнюю работу я уже выполняла по инерции. И читала без радости. Своя, а не выдуманная, кем-то жизнь была у меня на уме, свои, а не чьи-то проблемы не давали покоя.
Погасив свет, я не засыпала сразу. Я погружалась не в темноту, а в пустоту одиночества. Чем же оно было так иссушающе горько? Тем, что я лежала одна в кровати, предназначенной для двоих? «Нет!» — готова была крикнуть я. Мне не хватало Димы не в кровати, а рядом с собой. Я звала на помощь картины нашего общего прошлого. Без этого я уже не могла заснуть. Институт, его стертые коридоры, библиотека, кинотеатр «XXX лет комсомола», сквер, кафе-мороженое, улица Карла Маркса, репродукторы на универмаге, танцы на этой людной, закрытой для транспорта улице, долгие провожания. Хлопок, ясные осенние ночи, канал, ивы, камыш, его рука на моем плече, мое торопливое, строгое несогласие — протестующее движение плеча словно ударяло его электрическим током. Так это начиналось, и я видела, что Дима — человек не из моей мечты. Но он постоянно оказывался лучше и порядочнее каждого из тех, о ком я сначала думала, что этот человек — моя судьба. Он терпеливо ждал своего часа и дождался, и мне особенно нравилось вспоминать это. Я обдавала его холодом — он не замерзал. Я изводила его молчанием — это не тяготило его нисколько. Я давала понять, что больше приходить не следует — он отказывался понимать это и приходил, и все начиналось сначала. Я не спешила, и он не спешил, словно впереди у нас были тысячелетия. Почему же тогда мне не было так плохо, как сейчас?
Я вспоминала и вспоминала. И как мы начинала жить и он был внимателен и ласков, и мои желания были для него законом, а его желания были законом для меня. И как я ждала Кирилла, а потом Петика, и его ладонь осторожно трогала мой вздувшийся живот, и плод двигался, и я говорила ему: «Ты чувствуешь?» Он чувствовал, но совсем не так, как я. Он был не брезгливым папашей, его не пугали детский плач и грязные пеленки. Засучив рукава, он становился к корыту, к гладильной доске. И если бы не его ненормированный рабочий день, если бы не безусловный приоритет работы в его жизни, я бы рожала еще и еще. Но работа отрывала его от меня и, наконец, отобрала совсем. Дети, выросшие из пеленок, уже были целиком на мне, как и дом, как и все домашнее, нескончаемое, обыденное — где уж тут было рожать следующих. Во всем, что касалось воспитания детей, их наставления на путь истинный, я все больше чувствовала себя матерью-одиночкой. То, что должны нести двое, не всегда по силам одному.
Да, одиночество было сильным, коварным противником, умело наносящим удары исподтишка и в самое уязвимое место. Оно пригибало к земле, и в том, что я продолжала стоять в полный рост, сказывалась великая сила инерции, и только. Долг, желание принести больше пользы вступили в противоречие с благополучием семьи. В Чиройлиере я томилась при нелюбимом деле, зато не знала одиночества. И внутренний голос, всегда громко говоривший мне, что надо использовать весь творческий потенциал натуры, теперь молчал, словно ему уже нечего было добавить к сказанному ранее. Теперь этот творческий потенциал личности одиночество давило, и перелицовывало, и всячески принижало, взимая щедрую дань за дерзость непозволительную, за самостоятельность несанкционированную. Самым нелепым и неожиданным было то, что я не умела сопротивляться одиночеству. Наступала бессонница, ночные часы наполнялись кошмарами, раскалывалась голова. А Дима все не приезжал. Угнетенность и обездоленность были нестерпимы. Я приказывала себе крепиться и с трудом сдерживала слезы.
Как-то в субботу ко мне забежала Валентина. Мы пили чай и болтали. Она, как всегда, была в своем амплуа и упирала на то, что это преступление — умирать от скуки, когда вокруг такие замечательные возможности.
— Мне нравится жить для мужа, для семьи, — возразила я. — Нравится быть верной женой, содержать в порядке дом, воспитывать детей.
— Вот дура! — удивилась Валентина, нисколько, впрочем, не злясь. Ее искренне поразило то, как я отстала от времени. Меня же искренне поразила ее искренность. — Муж, семья, дом! — разглагольствовала она. — Да ты растворишься в них, сгинешь как личность и не услышишь в ответ ни слова благодарности. Не знаю большей глупости, чем жить только для семьи. Не знаю даже ни одного примера такого. Вот только ты такая идеалистка. Ты одна такая среди всех уважаемых мною людей. А я — как все, я не одержима манией сказать свое слово. Боже мой, да это же так обычно, что и говорить тут не о чем! Откуда ты такая правильная свалилась на мою голову? Не знать в сорок лет, что такое любовник! Совета спрашивать там, где другая давно бы уже развернулась, подняла паруса. Семья! Верность! Да одни нервы все это, одно разочарование! Забудь поскорее! Соблюдай приличия, чаще осуждай это вслух, и ни один блюститель нравственности никогда не покажет на тебя пальцем. Как ты и что ты на самом деле, это никого не касается. Найди себе человека, встречайся с ним, живи и радуйся жизни. Разонравится — уйди!
— Мне этого не нужно.
— Не заливай, пожалуйста! Всем нужно, а тебе — нет? Но пусть не нужно, готова поверить, ведь ты не такая, как я. Найди себе человека и встречайся с ним хотя бы для того, чтобы над тобой не смеялись. Смотри на меня! Разве я боюсь своего мужа? Разве я не свободный человек, разве все блага равноправия — не для меня?
— И как ты ими пользуешься?
— Не во всеуслышание. Немного смелости, немного конспирации. Надо жить для себя.
— Не поняла.
— А ты начни, и у тебя пропадет охота задавать вопросы.
— Что ты, Валька! — воскликнула я. Мне стало страшно стыдно.
Она не заронила в меня ничего, даже сомнения. Расстояние, всегда разделявшее нас, теперь увеличилось, но я не подала вида. Я продолжала тупеть от одиночества. Появилась раздражительность. Несколько раз я резко отвечала людям, почти грубила. Тут же спохватывалась и извинялась, но незримый рубец оставался. «Не злись, сама виновата, — говорила я себе. — Никогда больше не говори людям гадости, они подумают, что ты на них способна. Улыбайся, и все образуется». Я улыбалась. Но лучше не становилось. Жизнь превращалась в мучение. Краски меркли. Все вокруг оделось в сумеречные тона. Движущей силой моих поступков стала инерция. Я разучилась смеяться и как-то вдруг обнаружила, что не могу вспомнить, что же такое радость. И тогда я сказала себе: «Это настоящее, это жизнь».
IX
— В субботу ты мой гость, и никаких возражений. — Это Анатолий Долгов сказал Дмитрию Павловичу в четверг и повторил в пятницу утром и в пятницу вечером.
— Помилуй! — сопротивлялся Голубев. — Пойдет третья суббота, как я без семьи.
— Это ты меня помилуй, командир! Сорок лет грядет. И хочется, и можется, и дата обязывает серьезно отнестись к мероприятию. Не порть обедню. Вечерком покатишь по холодку. Хочешь, посоветую, как лучше всего поступить? Пошли машину за семьей, и все дела. Дни вон какие!
— Ты у меня голова! — сказал Дмитрий Павлович. — Но машина казенная.
— Если ты такой щепетильный, заплати в бухгалтерию за этот автопробег, не вызванный производственной необходимостью. Да если уж на то пошло, то через неделю — май, а там и день Победы, и ты все наверстаешь…
Он уговаривал и уговаривал, и Дмитрий Павлович все более склонялся к тому, чтобы уважить друга. И Сабита Тураевича подключил настырный Толяша. Мол, отрыв от масс может иметь самые нежелательные последствия. Сабит Тураевич хотя и подключился, но настойчивости не проявил.
— Утром решу, — сказал, наконец, Дмитрий Павлович. И это было равносильно согласию. Иначе он бы уехал в пятницу вечером.
Толяша восторженно обнял друга.
— Вот это по-нашему, по-мужицки! — запричитал он. — И в пятьдесят, и в шестьдесят, и в сто лет буду помнить, какую жертву принес ты в день моего сорокалетия!
Утром они втроем обошли котлован. Всходило солнце, и гасли прожекторы. Ночная смена передавала эстафету дневной. В очертаниях станции уже угадывались пропорции и объемы готового сооружения. Все шло как надо, как и было задумано. В облицовку подводящего канала и аванкамеры укладывались последние кубометры бетонной смеси. На напорном водоводе оставалось смонтировать восемь секций. Монтажники готовились сочленить вал насоса с валом электродвигателя.
Дмитрий Павлович остановился возле бетонщиков. По привычке потянулся к вибратору.
— Переодеться надо, а сейчас некогда, — остановил его Толяша. — Давай не будем сегодня впадать в детство.
— А завтра разрешишь? — спросил Дмитрий Павлович.
— Сам организую. Бетона будет хоть залейся. Могу и мемориальную доску заказать.
— Если для всех, то согласен, — сказал Дмитрий Павлович и виновато улыбнулся рабочим.
Частенько он становился на рабочее место и час-другой в высоком темпе делал то, что делали стоявшие рядом с ним землекопы, бетонщики, каменщики. Ему это нравилось. Его авторитет начальника от этого не страдал. Он сам прекрасно сознавал, что для оценки труда руководителя существуют другие критерии. Но в отношения с людьми это привносило тепло и доверие, а он, со времен Саркисова, высоко ценил человечность в производственных отношениях.
Из котлована выехали после одиннадцати. Шоссе втянулось в зеленую долину. Рядом с дорогой бурлил, разбиваясь о валуны, коричневый поток. Сверкали на солнце маки. Въехали в уютный таджикский городок Уратюбе. Замелькали тополя, абрикосы. Оделась в зеленое виноградная лоза. За Уратюбе долина сузилась, подъем стал круче, водитель переключил передачу. На склонах гор тонули в мягком разнотравье отары. От шоссе ответвилась грунтовая дорога. Повернули на нее. Запахло пылью. Дорога поднялась над ущельем и пошла по гребню отрога. Мотор ревел натужно. Встречный ветер был свеж, за машиной стлался сизый шлейф. Встретилась первая арча, вторая. Потянулся редкий арчовник. Некоторые деревья были закручены в штопор. Дмитрий Павлович подумал, что это сделали ветры. Они ехали по тем склонам, которые всегда видели, находясь у их подножий. Теперь они смотрели сверху вниз, и впечатление было, конечно, иное. В одной из лощин, прикрытых скалами, лежал снег, плотный, почерневший от пыли.
— В снежки поиграем? — спросил Толяша. — Я сегодня чувствую себя мальчишкой.
Они повернули к высоким коричневым скалам, у подножья которых была ровная площадка и росла трава, еще низкая, и подснежники, и шиповник, и стояли шесть укрывающих друг друга от ветра арчей. Из-под скалы сочился родник, и крошечный ручеек убегал вниз. Трава возле ручья была выше и сочнее. На шиповнике распустились бледно-розовые ароматные цветы, очень нежные.
— О’кэй! — сказал Толяша. — Спорим, что лучшего места не сыскать! Я потратил не один день, пока набрел на него.
Ни одна консервная банка, ни одна смятая пачка из-под сигарет не портила первозданной красоты этого уединенного уголка.
— Тут и эхо есть! — сказал Толяша и, сложив руки рупором, закричал: — Э-ге-гей!
И горы ответили: «Ге-гей! ге-гей! ге-гей!»
— Разрешаю и вам вызывать эхо, — сказал Долгов. — Забавляйтесь!
Из машины были извлечены казан, тренога, продукты и напитки, кошма и скатерть, которой совсем немного не хватило для того, чтобы стать скатертью-самобранкой. Водитель отогнал машину. Мужчины пошли по дрова. Пали наземь сухие сучья, с треском отрываемые от стволов. Занялся огонь, потянуло ароматным дымком.
— Чудесно! — приговаривал Толяша. — Здесь можно сэкономить на водке. Пейте воздух, и у вас не будет болеть с похмелья голова.
Сабит Тураевич шинковал лук. Дмитрий Павлович почистил картошку и морковь. Толяша соорудил второй костер, побольше. Он хотел заготовить древесный уголь для шашлычницы. Мясо молодого барашка, вымоченное в маринаде из уксуса и лукового сока, уже было нанизано на шампуры. Из-под ножа Дмитрия Павловича вилась бесконечная топкая картофельная кожура. Он слушал Сабита Тураевича, радовался яркому, зеленому апрельскому дню, слушал Анатолия, очень хотевшего, чтобы его праздник стал праздником и для его друзей. Но его мысли и чувства были не здесь, не у костра из арчовых сучьев, а в Ташкенте, где его ждала семья. Он знал, как томится сейчас Оля, вслушиваясь в шаги на лестничной клетке — это все были шаги мимо ее двери — и сам томился от невозможности тотчас ехать к ней. Ему было стыдно, что он позволил другу уговорить себя, и чем дальше, тем чувство стыда становилось сильнее. И коричневые причудливые скалы, испещренные трещинами, и темно-зеленые арчи, верхушки которых слегка раскачивались, и извилистое, пропадающее в траве и снова блестящее на солнце русло ручья, и облитые цветами кусты шиповника были не в состоянии приглушить его томление и тоску. Он, однако, скрывал эти чувства, чтобы не огорчить друга. Но разговора, который велся в игривой и веселой форме, почти не поддерживал. Впервые он не получал удовольствия от общения с дорогими ему людьми.
Наконец, все для шурпы оказалось в котле. Вода кипела, и Сабит Тураевич притушил огонь.
— Хорошо! — сказал он. — Даже не верится, что может быть так хорошо. Нас закручивает работа, и мы в горячке буден отвыкаем от простых вещей, которые постоянно нас окружают — от ясного неба, леса, горных круч, рек, озер, от всего того, что всегда принадлежало человеку и чему всегда принадлежал человек.
— Что вы предлагаете? — спросил Долгов. — Только конкретно!
— Я предлагаю не уходить от того, к чему потом неизбежно надо возвращаться.
— А я предлагаю принять по одной и закусить грибочками и огурчиками. За единение! Пусть нас зовет работа, и пусть нам светит солнце и сияет небо, и пусть для нас растут деревья и цветут цветы, и листья осыпаются. Будем же успевать везде! Чтобы мы могли с полным правом знатоков сказать: жизнь прекрасна и удивительна!
Мужчины сдвинули стаканы, и Дмитрий Павлович почувствовал, как водочное тепло теснит тоску и томление. Друзья, как и семья, требовали времени и внимания. И тот, кому жалко на дружбу времени и себя, остается без друзей. Множество знакомых и ни одного друга, только и всего. Он привел эти доводы, оправдываясь. Становилось легче. Уже стало легче, много легче. «Не нашел ли я универсальное лекарство от тоски?» — с грустью подумал он.
Поспела шурпа. Толяша разлил ее в фарфоровые касы. У него было счастливое, умиротворенное выражение лица.
— Приступим? Сабит Тураевич, вы, как автор, должны что-нибудь сказать, — попросил он.
— А как быть, если соавторы постарались больше автора?
— В наше время это не такая уж редкость. Убрать соавторов! Призвать к порядку.
— За восхождение, друзья. За непрерывность восхождения.
— За то, чтобы все у нас получалось, как получается сейчас в котловане, и еще лучше! — добавил Дмитрий Павлович.
— За вас, — сказал виновник торжества. — Ближе вас у меня нет никого.
— Не обижай супругу, — сказал Сабит Тураевич.
— Я никого не обижаю, особенно свою благоверную. Хотя ее-то и следовало обидеть. Но я — нет, здесь я пас. Сам выбирал.
И Дмитрий Павлович, и Сабит Тураевич поняли, о чем умолчал жизнелюб и красавец Толяша. Он взял в жены недалекую, вздорную женщину, наделенную редкой красотой. Какое-то время он считал, что она — совершенство. А когда перестал так считать, эта женщина уже была его женой, и что-то менять он был не вправе. Он попробовал перевоспитать ее, попробовал внушить ей свои представления о жизни, но только попусту потратил время. С тех пор он жил среди огромного и все увеличивающегося количества вещей, совершенно ему не нужных. Его жена страдала манией приобретательства. Сколько-нибудь ограничить ее он не сумел, она находила тысячу удивительно ловких способов обойти его запреты. Долги, которые она делала, если он не выкладывал зарплату целиком, бросали его в жар и холод. Он, правда, научил ее говорить обо всех долгах; под угрозой развода она согласилась. Он очень боялся, что, злоупотребляя его служебным положением, она опустится до откровенного вымогательства. Свой крест он нес без жалоб и срывов, а на вопрос, почему он не порвет с ней, отвечал всегда одно и то же: «Да она же пропадет без меня…» Она и детей иметь не хотела, наверное, чтобы не понизился жизненный уровень их семьи. Но сын у них все же родился, чему Толяша был несказанно рад. Мальчика он любил, мальчик не был похож на мать.
— Дима, — вдруг сказал Толяша, — ты долго шел к своей Ольге, но в семейной жизни счастлив. Это заставляет с особым уважением относиться к твоему выбору. А вы, Сабит Тураевич, были счастливы с женой? Извините за беззастенчивое вторжение в ваше прошлое. По тому, как дети и внуки почитают вас, несложно сделать вывод, что у вас была хорошая семья.
— Была и есть! — деликатно поправил Курбанов. — Только жены нет. Мой преклонный возраст — возраст утрат. Многое вдруг остается в прошлом, за чертой — и друзья, и близкие, и самые близкие. А ты продолжаешь жить не в вакууме, а среди людей, которые заменяют друзей и близких.
— Разве их можно заменить?
— Я, наверное, употребил не то слово. Люди заменимы только на своих производственных местах, а в жизни кто же их заменит? Я сказал это в том смысле, что кто-то продолжает оставаться рядом с тобой и поддерживает тебя, как может, и сам нуждается в твоем тепле. Я женился на русской, вернее, на полячке. Мою жену звали Алиса Феликсовна. Было это пятьдесят четыре года назад. Родные на брак мой смотрели косо, и кое-кого из друзей мой выбор отпугнул. А жили мы счастливо. Но на мои стройки она со мной не ездила, работала в Ташкенте директором школы. Так что были и испытания разлукой. Почему не ездила — разговор долгий. Не любила неустроенности, кочевого быта, да и привязанность к коллективу учителей, которым руководила, давала себя знать. В этом отношении, Дима, она была похожа на твою Ольгу Тихоновну. Свою работу ставила не ниже моей, не ниже. И, знаешь, была права. В первую военную зиму привела домой восемь сирот. Среди них девочка из Ленинграда — Лидочка. Пригласила Алиса как-то вечером к себе учительницу новенькую, тоже ленинградку. Девочка увидела эту женщину и повисла на ней: «Мамочка! Мамуля!» Бомбежка эшелона их разлучила. Кто такую радость людям хоть однажды подарил, уже прожил жизнь не напрасно. Те восьмеро давно внуками обзавелись, а пишут и приезжают и к себе зовут.
— В то время, когда Алиса Феликсовна восьмерых привела в дом, ни у кого лишнего куска хлеба не было, — сказал Дмитрий Павлович.
— Как ты к людям, так и они к тебе, — высказал Сабит Тураевич очень простую и древнюю истину. — Когда же для себя живешь, непременно окажешься один. Тут места для двух мнений жизнь нам не оставляет.
— Что-то я не пойму, воспитываете вы меня или просто доводите до сведения отдельные факты, — сказал Толяша. — За наставления спасибо. Ну, а дальше что? Вот вам моя конкретная жизнь, и я говорю: не счастлив. А дальше что? Начать сначала?
— Полгода назад, когда мы в сауне жарились и в снегу кувыркались, ты заявил: «Влюбиться бы в молоденькую — и все сначала!» Это был крик души. Мы с Сабитом Тураевичем так твое откровение и восприняли. Сокровенной мечтой ты с нами поделился, а дальше-то что?
— Ты хочешь, чтобы я объяснил свое поведение?
— Не столько поведение, сколько принцип, согласно которому все можно начать сначала. Миллионы семей распались, потому что или оба, или один из супругов слепо верили, что им ничего не стоит начать сначала. Те семьи, которые они создавали потом, чаще всего оказывались не лучше, не прочнее, не счастливее, но принцип, что можно безболезненно начать сначала, уже молчал, и новые семьи не распадались.
— Я верю, что можно начать сначала, — сказал Анатолий. — Но не собираюсь обременять свою совесть виной отказа от близких мне людей. У меня есть сдерживающие начала, и в каждом человеке они есть, и только в самых закоренелых эгоистах они усыплены.
— А я думал, что для тебя это выход, — сказал Дмитрий Павлович.
— Дашь команду или предоставишь решать мне? — спросил Толяша.
— Блин горелый! — воскликнул Дмитрий Павлович и обнял Толяшу. — Ни команды, ни непрошеных советов от меня ты не услышишь.
Долгов заправил жаровню малиновыми, мерцающими даже при ярком свете угольями. Зашипела, запузырилась баранина, нанизанная на шампуры. Заструился тонкий аппетитный аромат шашлыка.
Когда дастархан был убран и машина стремглав понеслась под уклон, навстречу закатному солнцу, навстречу Чиройлиеру и Ташкенту, Дмитрий Павлович спросил себя еще раз, имел ли он право принять приглашение своего друга, или такого права у него не было. Толяша был доволен. Но даже это не давало однозначного ответа на вопрос, который задал себе Дмитрий Павлович. В жизни все же случались ситуации, не очень удобные для однозначной оценки.
X
Конструкцию трамплина я меняла теперь ежедневно. Но если его конфигурация варьировалась в широких пределах, то результаты мало отличались друг от друга. Распластыванием и расщеплением потока я была довольна, а местом падения главных струй — нет. Поток наваливался на левый берег и подмывал его, и этот сильный, разрушительный навал предотвратить я пока не умела. Надо было еще выше подбросить поток и сделать более крутой траекторию падения. Можно было бы уже и остановиться на том, чего я достигла в начальной стадии опытов. Но ни я, ни Евгений Ильич не считали полученные результаты успехом. Когда нет хорошего результата, обязательно присутствует мысль, что следует взять на вооружение то, что уже есть. Эта мысль и расхолаживает. Она в чем-то сродни желанию не выделяться, держаться благополучной и покойной середины. И ее надо нейтрализовать. Надо искать дальше наперекор этой мысли и выжать из модели все. Из модели и из своих знаний, воображения, интуиции.
Примерно до трех часов мы пускали воду, затем останавливали насос и готовились к следующему опыту: фотографировали яму размыва, заносили в таблицу ее параметры, восстанавливали русло. Последнее было самым трудоемким. Надо было вновь разделить песок на фракции, а затем смешать их в заданной пропорции. Мы с Валентиной брались за совковые лопаты и под ее байки сеяли песок. Подготовив материал для русла, мы устанавливали шаблоны и придавали дну реки нужные высотные отметки. Несколько раз я спрашивала Евгения Ильича, нельзя ли сместить выходной портал влево или вправо, вдвинуть метров на десять в глубь горы. Многое зависело и от местоположения трамплина. Но менять что-либо в проекте было поздно, выходной портал построили еще год назад, с него и начали проходку туннеля. И если бы мы приняли решение о его перемещении, его первой стадией стало бы разрушение того, что сделано раньше. Оставалось продолжать поиски.
В конце апреля я повела сыновей в парк Тельмана, где разместил свои павильоны чешский аттракцион. В комнате страха меня обнял скелет, а на стартовой площадке космодрома капсула вознесла к космическому кораблю, венчающему двадцатиметровую ракету. Непритязательная детская душа очень высоко ценила такие ощущения, мальчики были в восторге. Потом мы катались в тележке, которая делала мертвую петлю. Тележка стояла на рельсах из двутавра и не могла упасть даже в перевернутом положении, даже если бы остановилась в высшей точке мертвой петли. Прочные ремни обеспечивали полную безопасность. Катание оставило ощущение скорости и полета. Но привлекло мое внимание другое. Тележка послушно бегала по направляющим из двутавра. А нельзя ли то же самое проделать с потоком, с рекой, с Нарыном, подумала я. Направляющие — это туннель, тележка — это поток. Надо бросить поток на свод туннеля, а своду на выходном портале придать такую кривизну, которая бы направила поток в нужную точку русла. Мертвая петля в туннеле? А почему бы и нет? Оттолкнуться от трамплина, упереться в свод, оттолкнуться от свода и принять при этом заданную траекторию. Пол и потолок как бы меняются местами. Трамплин на полу — трамплин на потолке. Такого я еще не встречала!
«Соображаешь, Оля!» — погладила я себе по головке, воодушевленная необычной идеей. Я стояла завороженная и смотрела, как тележка описывает мертвую петлю. Законы механики действовали безупречно. Дети своекорыстно использовали мое замешательство и сели в тележку во второй раз, потом и в третий. Я уже представляла себе, каким должен быть нижний трамплин и каким — верхний. Нижний — волна, верхний — половила волны, разрезанной посередине. Скорость потока такова, что и при небольшом расходе отрыв струи от нижнего трамплина и ее плотное прижатие к верхнему обеспечены.
Хотелось сразу же поделиться найденным решением. Но с кем? Дима был далеко и мог не понять. Евгений Ильич был близко и все понял бы с полуслова. Но мне хотелось обрадовать именно Диму. Хотелось крикнуть: «Ура!» Объятия одиночества вдруг разжались, тоска отхлынула, как приливная волна, утратившая силу в час отлива. Я вновь жила, дышала полной грудью, радовалась удаче и тому, что не разучилась радоваться.
— Мама, что с тобой? — спросил Петик. — Ты вся светишься!
— Папа скоро приедет, — сказала я первое, что пришло на ум. Это было ему понятно.
В понедельник я подробно изложила свое предложение Евгению Ильичу. Он пришел в восторг, разволновался, сказал, что это изобретение и сам бы он до этого не додумался никогда.
— Трамплин на потолке — уму непостижимо. Преклоняюсь, Ольга Тихоновна, преклоняюсь!
— То, как вы усмирили Амударью, тоже уму непостижимо, — ответила я любезностью на любезность. — Но есть и разница. Ваша идея уже дала богатый практический результат, а моя даже не проверена на модели. Предлагаю поэтому подождать с выводами и воздержаться от поздравлений.
— А я уже готов был просить вас остановиться, — сказал Евгений Ильич. — Сроки подпирают. И вдруг вместо удовлетворительного решения вы предлагаете прямо-таки отличное.
— Все мы рано или поздно спотыкаемся о свое единственное «и вдруг», — сказала я. — Приходит долгожданное «и вдруг», и все сказочно преображает.
— Почему — единственное? — спросил он. — Вам на «и вдруг» везет, везет. Вы как-то умеете привораживать эти «и вдруг». Другие проходят мимо, место ведь ровное, исхоженное вдоль и поперек, а вы спотыкаетесь — и находите, и выдаете результат, которому позавидуешь! Настрочите отчет, отошлите заявку. Тогда я выпьем с вами за ваши «и вдруг» и за «и вдруг» вообще, ибо жить без них скучно. Идите же к дяде Мише и приступайте, приступайте!
Изготовив и установив трамплины, Михаил Терентьевич потер ладонью затылок и сказал:
— Такого, кажется, еще не было. А, Ольга Тихоновна? Я выдумщик, а вы — самая большая выдумщица на свете! Чтобы с пола — на потолок? Невиданно, неслыханно. И чем диковиннее штуковина, чем хитрее, тем она, как показывает жизнь, лучше вписывается в отведенное ей место. С чем я вас и поздравляю.
— Жизнь любит простоту, — сказала я.
— Не скажите, не скажите! Возьмите все эти туннели, все подходы — выходы. Все плавно, бетон словно берет поток в объятия. Если бы все было просто и вода не загадывала нам загадок, мы бы моделей здесь не городили, а брали с полок готовые решения и повторяли их. Так или не так? А возьмите другое, возьмите человеческие отношения. Где вы видите простоту? Просты или очень большие эгоисты, или недалекие, примитивные люди. И тем, и другим не дано понимать и любить ближних. В отношениях с людьми, особенно с теми, кто нам дорог и люб, сколько всего вы должны учитывать, принимать в расчет!
— Все так, — согласилась я. — С близкими часто труднее всего строить отношения. И не обидь, и душой не покриви, и сама собой останься — столько всего завязано в одном узле!
— Вам, я знаю, все это удается, — сказал Михаил Терентьевич.
Я подумала, что он ошибается, но промолчала. Пусть заблуждается, пусть думает обо мне лучше, чем я того заслуживаю.
И только Валентину Скачкову не обрадовала моя удача. Ей не нравится, что опыты затягиваются, и придется работать под открытым небом, а не в помещении. Ей не нравилось, что к горам просеянного песка прибавятся новые горы, что опять придется крутить задвижку, устанавливая нужный расход.
— Олечка Тихоновна, да зачем тебе это? — в сердцах воскликнула она. — Чего-то добилась, улучшила, и ладно, зарплату тебе за это не прибавят. А ты хочешь улучшить свою конструкцию так, чтобы после тебя уже ничего нельзя было улучшить. Это ведь все равно, что выше головы прыгнуть.
— Знаешь, иногда это удается, — сказала я с вызовом.
— А окружающим каково? Неспособным? Окружающим это ужасно неудобно. Морока, и хлопоты, и мучения.
— Зачем же вообще тогда работать, если все хлопотно и ничего не надо? — обиделась я. — Не надо тогда работать.
Валентина засмеялась и не отвела от меня свои огромные лучистые глаза. Она не смутилась. Она считала себя правой, и мнение ее, конечно же, было единственно верное. Сейчас она была само обаяние. Этим она и брала. А меня удивляло, как может оставаться незамеченной пропасть между формой и содержанием. Форма настолько пленяла меня, что я даже спрашивала себя, а не обманываюсь ли я насчет содержания, не принимаю ли за содержание маску, выполняющую функцию опущенного занавеса?
— Открывать воду? — спросила она, считая дискуссию законченной.
Я кивнула. В оголовке забурлило, заклокотало, с водослива низверглась в успокоитель тонкая, как пленка, прозрачная струя. Поток набрал силу, уровень в верхнем бьефе водохранилища достиг расчетного, и я открыла затвор водосброса. Вода с огромной скоростью помчалась по плексигласовому туннелю, который работал полным сечением. Оттолкнулась от первого трамплина. Прыгнула к своду, и его сложная кривизна направила поток точно туда, куда ему надлежало упасть по моим расчетам, — чуть-чуть ближе к правому берегу, чем к левому. Движение струй продолжалось в воде, и центр ямы размыва придется как раз на середину русла.
— Видишь? — сказала я лаборантке. — А ты говоришь: «Зачем?» Затем, чтобы меньше денег ушло на защитные мероприятия, если они вообще потребуются. Чтобы сталь, цемент и человеческий труд не расходовались впустую.
— Ты умница! — сказала Валентина. И подарила мне взгляд, в котором были и преданность, и любовь. Теперь она видела, что опыты завершатся скоро, и к ней вернулось обычное настроение беспечности и предвкушения перемен.
— Я не похвалы жду, а понимания.
— Я вижу, что сейчас лучше, чем было.
— Слетай-ка, пожалуйста, за фотографом.
Мы сфотографировали поток, а потом остановили воду. Яма размыва получилась и мельче и уже, чем в предыдущих опытах. Оба берега, как мне казалось, были вне опасности. Евгений Ильич горячо одобрил результаты.
— Неделю — на доводку, и за отчет, — сказал он. — Лучшего варианта сам господь бог не предложит. Кто бы, кроме вас, пришел к такому чистому решению? Никто. И что бы я сейчас делал, если бы вы продолжали прозябать в своем Чиройлиере?
Он умел радоваться чужой удаче, и он радовался ей, как своей, а я не умела так искренне радоваться чужому успеху, я завидовала. Почему? Наверное, потому, что своих полноценных удач у меня было не так уж много. Стадия самоутверждения слишком затянулась.
Дело было сделано, и одиночество и тоска вновь вошли в мою душу и в мой дом.
XI
Май одаривал теплом, частыми дождями и свежей, роскошной зеленью. Все двинулось в рост. Дима приезжал в конце апреля и на Первое мая, а на день Победы не приехал. Вместо него в дверь постучался Анатолий Долгов. Он держал в руках легкую картонную коробку.
— Презент от мужа, — объявил он. — И поклон, конечно.
Я приняла коробку. Она почти ничего не весила.
— Какие неотложные дела на сей раз задержали Диму? — полюбопытствовала я, не подавая вида, что закипаю. — График вы опережаете. Что же помешало Дмитрию Павловичу навестить семью?
— Прокрутка! — отрапортовал Долгов.
Я не спросила его о цели приезда. Я недолюбливала его, и он знал это. Такая историческая операция на первой Джизакской насосной, как прокрутка головного агрегата, не нуждалась в присутствии Долгова, ответственного производителя работ, но остро нуждалась в указаниях и догляде товарища Голубева.
— Чем же муж откупается? — спросила я.
— А вы поглядите.
Я открыла крышку и увидела прекрасную шапку-ушанку. Рыжий пушистый мех оттеняли цвета розовый и красный. Огненная лисица. Мех вобрал в себя все оттенки костра. Не мех — пламя, запечатленное в прекрасном изделии. Такие шапки были модны нынешней зимой и еще долго будут модны. Я представила себя в ней, когда на модели снег, и задувает ветер, и зябко…
— Где достали?
— Секрет, маманя. Но вам откроюсь. Дима сам завалил эту лису. Она нас загоняла, а мы — ее. Январский мех самый стойкий, знайте.
Свет померк. Я пошатнулась, но взяла себя в руки. Он охотился, и это было в то воскресенье января, когда я так ждала его. Он сказал потом, что прибыл трайлер с насосом и он организовывал разгрузку.
Долгов вскоре простился и ушел, а я стояла, потрясенная, уязвленная, опозоренная его неискренностью, и мех лисы, мягкий, теплый и живой, обволакивал мои пальцы. Как же так? Как он мог, почему не сказал, неужели я не порадовалась бы его охотничьей удаче, не простила бы? Захотелось разорвать, растоптать, уничтожить ненавистную шапку. Но я не позволила порыву вылиться в поступок. Шапка была подарком, то есть заглаживанием, замаливанием вины, то есть запоздалым признанием ее, пусть косвенным, пусть замаскированным, но признанием. Противоречивые чувства скрутили меня. Простить? Не простить? Он не сказал — не захотел сделать мне больно. Он унизился до лжи, но ведь вынужденно! Он оберегал мой душевный покой. Как будто в его отсутствие мне может быть спокойно и хорошо.
Я расплакалась и плакала долго, навзрыд. А потом умылась и густо напудрила лицо. У меня было сумеречное настроение. Не сорваться бы на детях! Ночь прошла мучительно. Удовлетворение, которое приносила любимая работа, оказывается, не могло стать лекарством и от одиночества. Это были совершенно разные, не соприкасающиеся сферы моего бытия. Прежде Дима относился ко мне не так, это было яснее ясного. Ему нравилось быть рядом со мной, и он берег меня и старался сделать приятное. Но это понемногу, постепенно куда-то отодвинулось, захлестнутое ли текучкой, перечеркнутое ли привычкой. Он разучился дарить цветы, целовать меня при отъезде на работу и при возвращении домой, проявлять другие мелкие, но такие дорогие для меня знаки внимания. Было — и кончилось, и прошло, как проходит молодость, как, может быть, проходит любовь и сама жизнь наша. Еще вчера я бы сказала себе, что я несправедлива и наговариваю на мужа, что надо уметь входить и в его положение. Лисья шапочка-ушаночка все во мне перевернула. Нежность погасла, и доброта погасла, а их место заняло желание отомстить, сделать Диме больно, так больно, как он сделал мне, как ему еще никто не делал. Это было сильное желание, и я знала, что скоро оно не отойдет.
В понедельник я сразу же пустила воду на модель. Вода успокаивала.
— У тебя неприятности? — спросила Валентина. Иногда она была прямо ясновидящая.
— Муж не приехал, — сказала я. — Бывает.
Глаза ее округлились, брови недоуменно поднялись. Это означало: нашла о чем печалиться!
— Ты права, — сказала я и выразительно на нее посмотрела.
— Но я ведь ничего тебе не сказала!
— Ты подумала. У тебя что на уме, то и на лице.
— Или на языке, — согласилась она. — Жизнь столько раз била меня за это, а я так и не научилась скрывать свои мысли.
Работа отвлекала от горьких дум. Время летело, я заполняла лабораторный журнал и обдумывала отчет. А когда я подняла глаза, увидела перед собой Бориса Кулакова. Меня удивило, что он по-прежнему рыжий, высокий и несуразный, и уже потом удивила сама встреча. Время, старя нас, сохранило его молодым и задорным.
— Давно не виделись! — сказал он, улыбаясь доброй жизнерадостной мальчишеской улыбкой. — Давай поцелуемся! Ты уже много лет счастливая мама, а я до сих пор люблю тебя одну и потому не женился. — Он обнял меня и поцеловал, ткнувшись в щеку холодным острым носом. — Не вели казнить, вели слово молвить… — продолжал он.
Все это было из прежней оперы, его велеречивость запечатлелась в моей памяти так же основательно, как и его рыжие волосы, веснушки, острый нос и сорок шестого размера, очень напоминающие мини-лыжи ботиночки — он называл их «тихоокеанские лайнеры».
— Ну, почему ты до сих пор несуразный? — спросила я.
— Постоянство — сильная сторона моей натуры. Пятнадцать лет, которые я прожил вдали от тебя, просто вычеркнуты из жизни — ничего светлого. Ты видишь, я словно законсервировался, такой же молодой, и красивый, и влюбленный в тебя, парень хоть куда. Вот с этого дня, с момента нашей встречи, пускаю часы. Заживем? — Он заговорщически уставился на меня.
— Заживем, — согласилась я.
Где же он теперь работает? Почему ушел отсюда? Почему я не поинтересовалась этим раньше? Почему ни разу не вспомнила о нем?
— Ты где трудишься?
— В САНИИРИ.
В этом институте была гидравлическая лаборатория, и средств на исследования они расходовали в три раза больше нас, а полезной отдачи давали раза в два меньше. В науке такое не редкость. Среднеазиатский научно-исследовательский институт ирригации — тихая гавань. Неспешность во всем, кое для кого — синекура. И это все, к чему он стремился?
— Осуждаешь? — спросил он.
— Не знаю. Тебе виднее.
— Меня вначале там очень прорабатывали за то, что я все делал быстро. Меня прямо возненавидели за это. Пришлось сбавить прыть до среднеинститутской. Сразу стал хорош — за догадливость.
Он обрушился на меня со своими ухаживаниями пятнадцать лет назад. Искренний, правдивый, но легковесный, необъяснимо легковесный. У меня даже было такое ощущение, что в него чего-то недовложили и все, что ему нужно в жизни, уместилось у него на кончике языка. Мне тогда казалось, что у меня с Димой все разладилось. Но, конечно, Борис был не тем человеком, который мог остановить Диму. С Борей было свободно, раскованно, но одно обстоятельство прочно удерживало меня на дальней дистанции: у него было пусто за душой. Я не знала, каким образом первое совмещалось со вторым, но оно совмещалось. Мужем он стать не мог, любовники же мне не требовались.
— И сколько же раз ты был женат?
— Миллион. Все эти годы я любил тебя одну.
— Серьезно?
— Ах, да, ты теперь очень серьезный человек. Тогда зачеркни у миллиона три нуля.
— Многовато остается.
— Моя душевная щедрость всегда котировалась высоко.
— На ком же ты в конце концов остановился?
— Ни на ком. Разве в наше время это большая редкость? Не вели казнить, вели слово молвить. Ты заслонила собой всех!
— А если проще? Как ты меня разыскал?
— Валентина дала координаты. Иди, говорит, и развлеки ее, она разучилась развлекаться. Она пропадает. Ты что же это?
— Я в порядке, — сказала я.
Ругать Вальку было бесполезно. Она искренне считала, что делает мне добро.
Борис смерил меня оценивающим взглядом и кивнул, подтверждая мои слова.
— Ты в порядке, и я в порядке, — объявил он. — Спасибо зарядке! Друзья раньше звали меня Бобби Стоптанный Башмак. Это приятнее, чем когда зовут по имени и отчеству. Когда тебя так зовут, чувствуешь, что тебе совсем мало лет.
— Тебя никогда не будут звать по отчеству, ты никогда не повзрослеешь.
— И пусть. С малого какой спрос? Мне нравится быть большим мальчиком. Психологи установили, что характер людей вообще мало меняется после пяти лет. Все правильно. Я такой же, каким был в пять лет, только профессии меня обучили. Говорят, ты провела сногсшибательные опыты. — Он и тогда перепархивал с одной темы на другую, как бабочка с цветка на цветок.
Я рассказала о найденном решении. Он смотрел на меня и не слушал.
— Тебе не интересно, — сказала я.
— Извини! Мне интересна только ты.
Вошла Скачкова и очень обрадовалась Борису. Родственность их душ меня прямо-таки потрясла.
— Моя бывшая, — отрекомендовал он мне Валентину. И тут же сказал ей, кивая на меня: — Моя будущая. У нас с ней все впереди, а с тобой, Валька, у нас все позади, поэтому исчезни с горизонта и не мешай. Сумеешь не мешать?
— Может быть, пусть Олечка Тихоновна нам не мешает? — внесла она встречное предложение, невинно и вполне дружески улыбаясь.
— Отклоняю категорически. Она все-таки кандидат, а ты кто? Ты уже двадцать лет лаборантка, голь перекатная. Ты даже не мать-героиня. И потом, ты замужем, за тобой муж следит, а она на сегодняшний день сама себе хозяйка. Улавливаешь?
— Ой, рассмешил! Да я при муже в тысячу раз больше согрешу, чем она без мужа! Простофиля ты. Ты Бобби Стоптанный Башмак.
— А ты кто? Великая грешница. А я вот хочу встать на истинный путь. А ты разве можешь встать на истинный путь? Ты не можешь. Поэтому прошу не путаться под ногами. Иди, погуляй.
— Разбежалась! — сказала Валя, ничуть не обидевшись. На Бобби Стоптанного Башмака никто никогда не обижался.
— Поставь тогда чаю, — сказал Борис. — Я гость или не гость?
— Переходи к вам, — пригласила Скачкова. — Заживем!
— Нет. У вас работать надо. Иначе Евгеша такие волны поднимет!
— Испугался! У нас Олечка Тихоновна работает, — сказала Валентина. — А мы так, мы — около. За нею Евгеша тебя и не увидит.
— Я, по-твоему, никто? Такой большой, видный мужчина, такой рыжий, все меня любят, проходу не дают, а он — не увидит! Нехорошо мыслишь. Неуважительно по отношению ко мне. Я если бы столько работал, сколько Евгеша пашет, давно бы доктором стал.
Они сели друг против друга а болтали долго, самовлюбленно, вспоминая были и небыли, товарищей, которые когда-то были с нами, а потом жизнь перевела их на другие орбиты. «Одиноко ли ему одному?» — подумала я. Весь его облик, начиная от обаятельной улыбки (очень немногие знали, что за ней — пустота) и кончая хорошо отглаженными брюками, говорил о том, что ему не одиноко, что холостяцкое бытие с отчетом только перед самим собой — по нему и для него. Заботиться о ком-то — зачем такая обуза? Вполне можно ограничиться заботой о себе, единственном и неповторимом и не оцененном только потому, что другие люди слишком эгоистичны.
Я писала отчет и слушала их беззаботный щебет, очень похожий на воркотню голубка и голубки. Разговор не мешал работе, сосредоточенность на работе странным образом сочеталась с внимательным слушанием веселого, праздного, но тем и интересного разговора. И мне уже не было одиноко, но не было и легко, свободно. А вот Борис, или Бобби Стоптанный Башмак, чувствовал себя великолепно. Острил, совершенно расположив я себе Валентину, и я решила, что уйдут они отсюда вместе. Но Валька наговорилась и насмеялась досыта и уехала домой, увозя с собой предложение Кулакова выйти за него замуж, если ее жизнь с законным супругом почему-либо разладится.
— Хорошо мне у вас, — сказал Кулаков. — У нас и словом не с кем перекинуться. Одни ученые. Я как бы в детство свое вернулся.
— В юность, хотел ты сказать.
— Какая разница! Так давно все это было, как будто в детстве.
— В чем ты видишь разницу между днем сегодняшним и детством? — поинтересовалась я.
— Маленькому все можно, а большому — нет, — сказал он, явно сожалея о таком резком сужении возможностей.
— А самостоятельность? Работа, личная жизнь? Разве это не приобретение?
— Ты когда-нибудь видела человека счастливее ребенка? Вот тебе ответ. Нельзя быть счастливее и непосредственнее ребенка, никому не дано этого.
— Значит, лучше всего человеку, когда он дитя неразумное?
— Конечно. Он искренен, все воспринимает всерьез, до конца выясняет отношения. Он бывает задирист, груб, проказлив, смел, труслив. Но он всегда искренен и не бывает подл.
— Значит, подлость — это то, что приходит к человеку вместе с взрослостью?
— Не обязательно. Но часто дело обстоит именно так. Не подумай только, что я порицаю все человечество. Я имею в виду отдельные особи, в основном тех товарищей, у которых развивается гипертрофированное представление о своей личности. Или у тебя иное мнение?
— О других поговорим в следующий раз. Объясни мне, почему ты не растешь профессионально?
— Уже воспитываешь! Так почему я не кандидат?
— Я имею в виду не формальную сторону, а творческую.
— Меня удовлетворяет достигнутое. Веришь?
— Странно. Настолько странно, что позволь не поверить.
— И правильно, не верь. Но меня действительно вполне удовлетворяет служебное положение, зарплата, отсутствие проблем. Меня удовлетворяет даже то, что я холостяк.
— Не юродствуй. Ни одно живое существо еще не сказало тебе: «Папа!»
Он померк, но лишь на минуту.
— Не дерись, — сказал он. — Я сейчас ищу, кого бы удочерить. Что скажешь по этому поводу? Валентина отпадает, ее я уже удочерял. Кстати, твой рабочий день кончился, — он потянул рукав пиджака, обнажая часы.
— Тебя самого надо усыновить.
— Усынови, это будет распрекрасно, — согласился он сразу. — К тебе вечером можно?
— Ко мне нельзя.
— А ко мне можно. Поехали! Посидим, пообщаемся.
У меня перед глазами всплыла ненавистная лисья шапка.
— Ладно, — сказала я. — Позвоню домой, пусть мальчики ужинают без меня.
Он не ждал согласия и опешил. Заморгал. Протер глаза. Они у него стали ясные-ясные.
— Предлагаю руку и сердце! — провозгласил он и протянул мягкую влажную ладонь.
XII
Мы сели в семерку и поехали по Шота Руставели. У меня было такое чувство, словно я занялась недозволенным и на меня уже оглядываются, но еще не делают замечаний — надеются, что одумаюсь сама. Это было старое, но давно уже не посещавшее меня чувство неуважения к себе. Я настолько отвыкла от него, что перестала о нем вспоминать. Но оно явилось и теперь выжидало момента, чтобы заявить о себе в полный голос. «Хватит назиданий, не маленькая, — отмахнулась я. — Миллионы людей живут так и счастливы, а те немногие, кто так не живет, постоянно жалеют об этом. Ого! — подумала я, оглядывая себя как бы со стороны. — Это что еще за веяние? Да так порядочность недолго принять за неполноценность. Ничего себе поворотец на сто восемьдесят градусов!»
Трамвай ехал страшно медленно, и беременная женщина, шедшая в ту же сторону, полторы остановки маячила перед глазами. Только потом мы ее обогнали.
— Трамвай что тебе напоминает? — спросил Кулаков.
— Ничего, — огрызнулась я.
— А мне — вымученную улыбку человека, которому плохо. Теперь у нас есть метро, и мы хотим, чтобы другие виды общественного транспорта работали так же четко.
Иногда он бывал умен, даже очень, а иногда — недалек. К своему счастью, он не мнил о себе высоко, когда видел, что умен, и не огорчался, замечая, что недалек. То, что получилось при сложении, вполне его устраивало. Оля, да тебе какое дело? Но дело было, раз я думала об этом, сопоставляла, оглядывалась назад.
— Не верю, что ты едешь со мной, — вдруг сказал он. — Если ты останешься, я смогу ответить на вопрос, как люди начинают новую жизнь.
— Когда место одной женщины занимала другая, ты разве не говорил себе, что начинаешь новую жизнь?
— Никогда! — с жаром возразил он. — Ты не какая-нибудь другая, ты — это ты. Если бы я знал, что достоин тебя, я бы и к работе стал относиться по-другому, разбудил бы в себе честолюбие и, наверное, стал бы как все. Стал бы человеком из единого строя.
— Бойцом! — поправила я.
— Бойцом! — повторил он, теряясь. Ему было необычно видеть себя бойцом, воображать себя бойцом, решительно отстаивающим дорогие ему взгляды.
Мы вышли. Еще острее, чем в трамвае, я почувствовала, что предаюсь недозволенному. Но не ужаснулась и не остановилась, как перед светофором с красным светом. Я вспомнила только, при каких обстоятельствах испытывала это чувство укоряющего, глубочайшего стыда. Когда могла помочь и не помогала, а мне потом помогали, не укоряя тем, что я в свое время не поступила так же, и я получала урок истинной доброты и порядочности. Когда бывала черства, высокомерна и себялюбива, а мне отвечали не тем же самым, не буквальным следованием пословице «долг платежом красен», а вниманием и дружелюбием. Когда бывала невнимательна к родителям или невысоко ставила их мнение и советы, а они продолжали все для меня делать. Когда ловчила, а мне давали понять, что я буду гораздо счастливее, если перестану прибегать к разного рода недозволенным приемам. Я вычистила потом из своего характера этот хлам, и жить стало лучше и легче; фальшь не создает ничего прочного. Воцарился душевный мир и длился долго-долго. Теперь же он грозил разрушиться…
— Ты чего? — спросил Кулаков. — Воспарила куда-то, отсутствуешь. Угрызения совести?
— Какой ты проницательный! — сказала я.
— Женщинам со мной плохо. Они о чем-нибудь подумают, а я знаю, о чем. Я все это тонко улавливаю. Получается, как будто подглядываю. И промолчать не в силах, каждая мысль просится на язык. Недержание речи. Скажу, а потом спохватываюсь: зачем? Путного из этого ничего не выходило, одни недоразумения.
— Перестань, а то поколочу! — предупредила я.
Мы шли длинной и узкой улицей, застроенной одноэтажными домиками. Другим своим концом она упиралась в Тезиков базар и железную дорогу. Мы повернули на одну из поперечных улиц, и я прочла ее название: «Улица Буденного». Здесь тоже стояли утопающие в зелени одноэтажные добротные дома.
— Сюда! — пригласил он.
Мы вошли в уютный двор, общий для нескольких квартир. Какие-то старушки поздоровались с Борисом, а меня оглядели с головы до ног и проводили многозначительными взглядами. Неприятная минута: не люблю, когда меня препарируют глазами. Но если жить легко, раскованно, нынешним днем и нынешним часом, стоит ли обращать внимание на подобные мелочи? Начни они западать в душу — и кончится покой, и придет смятение, и станет вопрошать, вопрошать, вопрошать.
Квартира Бориса состояла из прихожей (она же — кухня) и большой квадратной комнаты с двумя окнами и печкой-контрамаркой, которую когда-то топили дровами и углем. Диван-кровать с зеленой шерстяной обивкой, старинные часы с боем, буфет, изготовленный еще довоенными умельцами, которые не знали древесно-стружечных плит и не забивали, в погоне за рублем, шурупы молотком. Буфет выглядел добротно и мог постоять за себя перед полированными созданиями современных мебельных фабрик. Это было громоздкое, но милое сооружение со множеством дверец и полочек, с витиеватой резьбой. Стол же и стулья были нынешние, непрочные и непрочно стоящие на полу. Японский магнитофон был единственной вещью, приобретая которую, хозяин основательно раскошелился.
— Хоромы, тишина и интим! — похвастал Борис.
— Знатная берлога.
Он включил музыку. Я не любила джаза, не понимала его. И он сразу увидел, что не угодил, и переменил кассету. Полились мелодии танго, под которые мы танцевали на далеких и прекрасных школьных вечерах.
— Как у тебя чисто! Кто убирает?
Он расцвел. Похвала была в его адрес.
— Видишь, какому жениху ты отказала. При моей доброте мне, если хочешь знать, цены нет. — Он поставил на стол бутылку портвейна № 26. — «В двадцать шестого не стрелять!» — Он повторил название кинофильма, давно шедшего на экранах. — А что? Дешево и сердито. Единица алкоголя обходится в полтора раза дешевле, чем если брать водку.
— Ты еще и экономист!
После институтских поездок на хлопок я не пила портвейна. Я даже не могла вспомнить его вкуса. На столе появились редиска, хлеб, брынза, баночка югославского паштета. Небогато жил инженер Кулаков.
— Танцую от зарплаты, — сказал он, легко проникая в строй моих мыслей. — Ну, поехали. За тебя. Недотрога ты или уже нет? Да или нет?
— А кем быть лучше?
— Тебе — недотрогой, — сказал он. Его искренность была потрясающей.
Он стал пить портвейн небольшими глотками, смакуя вино во рту. Я выпила. Это был спирт, разбавленный чем-то сладким и вязким. Мне показалось, что этот продукт не имел никакого отношения к виноградному вину. «Зачем я здесь?» Вопрос прозвучал внутри меня, повелительно требуя ответа. «А почему Дима позволяет себе не приезжать, когда может и обязан приезжать? — задала я встречный вопрос. — Почему он выбирает охоту?» Но мой встречный вопрос не давал ответа на первый, главный. Мне стало неуютно-неуютно. Я не была готова к тому, что любила позволять себе Валентина Скачкова, мне нужно было совсем не это. Вино начало действовать, а действовало оно быстрее и резче хороших марочных вин. Борис намазал на хлеб масло и паштет и увенчал бутерброд толстым куском брынзы.
— Отменная закусь, — похвалил он это нехитрое холостяцкое творение. — Я все по дому умею, только готовлю неважнецки.
— Как ты относишься к годам, которые за плечами? — спросила я.
— Я их не замечаю. Но ты ведь не о несбывшемся? Тебе интересно знать, почему я ничего не достиг. И почему это меня не мучает. Давай-ка сразу по второй, тебе ведь неуютно. Ну-ка, сними напряжение!
Бутылка опустела, но тут же появилась вторая. Я слышала только Бориса и магнитофон. Улица и соседи не вторгались в это гнездо. Никакие шумы и звуки не проникали сквозь сырцовые стены метровой толщины. И так же не проникали сюда жара и холод. Вот почему не все уезжают из таких квартир с радостью.
— Я ничего не достиг, но я и не стремился к чему-то большому. Лишь бы не было войны, как говорят в таких случаях, а со всем остальным как-нибудь справимся. Я плыву по течению, меня это устраивает. Нехлопотно, ненакладно. Люди принимают меня таким, какой я есть, или вообще никак не воспринимают, что, в общем, меня тоже мало трогает. Я не тщеславен. Главное, чтобы ты за меня не переживала. Ты не переживаешь? О’кэй!
На меня внимательно смотрели синие глаза-бусинки. Улыбка, за которой нет ничего. Веселье и непринужденность, за которыми тоже нет ничего. Почему у него ничего нет за душой? Потому, что он ни к чему никогда не стремился? Как можно?
— Бываешь ли ты счастлив? — спросила я.
— Нет, — честно сказал он и погасил улыбку.
— А несчастлив?
— Тоже нет.
— Не понимаю.
— Никто не понимал меня и не понимает.
— От тебя должны уходить без сцен. Тебя не называли манекеном?
— Как в воду смотришь! — подтвердил он. — Меня не принимают всерьез, потому что я сам не принимаю себя всерьез.
Опять всплыло: «Зачем я здесь?» Глупейшее, нелепейшее положение. Кружится голова. Он выпил еще, а я только прикоснулась губами к толстому стеклу стакана. Вдруг расхотелось расспрашивать. Говорить было совершенно не о чем, и это было самое страшное. «Бобби Стоптанный Башмак». Нелепейшее из прозвищ, слышанных мной когда-либо. А сам Борис — нелепейший из людей, которые мне встречались. Годы учебы, воспитания и труда родили пустоту, которую ничем уже не заполнишь.
А магнитофон обволакивал мелодиями прекрасных танго. Как эти танго нравились в юности, как много значили, как хорошо мечталось и танцевалось, когда они звучали!
— Потанцуем? — пригласил он.
Я встала и пошатнулась. Нет, ничего. Он был выше больше чем на голову. Склонил рыжую смешную голову мне на плечо. Мелодия понесла нас на теплых зеленоватых волнах. Он держался почтительно, но ждал момента, когда можно будет осмелеть. «Никогда — и теперь? — подумала я. — Ни с кем — и с Борисом?» Рука, на которую я опиралась, вела меня мягко, ненапряженно. Он мог бы обнять меня, все проясняя. За этим ли я шла? Подумать только: миллионы людей называют это любовью и легко этим довольствуются. Да, но не значит ли это, что без таких приключений им было бы еще хуже? В сто раз хуже?
— Ты мало выпила, — сказал Борис. — Ты думаешь, копаешься в себе. Ты недовольна.
— Я совсем пьяна.
Он отодвинул меня на расстояние вытянутых рук и сказал:
— Нет, нет. Щечки раскраснелись, а так — ни в одном глазу. Ты сейчас высший класс. — И быстрым и точным движением расстегнул верхнюю пуговицу на моей кофточке. Остановил мою руку, инстинктивно рванувшуюся к пуговице. Сжал ладонь. — Танцуй! — сказал он. — Будем танцевать до утра, и пусть нам будет совсем мало лет. Вдвое меньше, чем сейчас. По щучьему велению, ладно?
Мы танцевали. Время словно остановилось. На меня надвигалось нечто страшное. Что я делаю? Это и есть жизнь без сдерживающих начал, без руля и ветрил?
Борис расстегнул на моей кофточке вторую пуговицу. Третья расстегнулась сама, кофточка осталась в его руках, и он, не переставая танцевать, повесил ее на спинку стула.
— Так лучше, — сказал он. — Еще по стакашку, и баиньки.
Я рухнула на пол и зарыдала. Плотина прорвалась, водяной смерч несся по цветущей долине. Я рыдала в полный голос. Все было мерзко, и мерзка была я сама. Нет, нет, никогда! Дима, дорогой! Как я посмела, как могла настроить себя! Это все лиса, чертова лиса! Лиса-провокатор! Меня трясло, выворачивало… Борис побледнел и не знал, что предпринять. Я ревела, словно оплакивала близкого человека. Никогда еще я не испытывала такого отвращения к себе.
Борис взял меня на руки, посадил на диван и стал надевать кофточку. Делал это он робко и неумело…
— Ну, ну, перестань, — приговаривал он. — Успокойся, ничего ведь не было! Ну, зачем ты? Ну, не шла бы, не маленькая. Почему ты не от мира сего?
Я зарыдала сильнее. Он терпеливо ждал, пока туча прольется до конца и откроется синее безмятежное небо. Да, не маленькая, да, знала, что к чему, а пошла и могла не остановиться. Мерзко, мерзко!
— Дура ты! — вдруг заключил Борис. — Даже согрешить не смогла. Прекрати реветь и умойся. Твоей же Вальке рассказать — обхохочется. Я тебя разве принуждаю? Была и осталась недотрогой, ну и бог с тобой… Сядь!
Я села, и он застегнул на кофточке все три пуговицы.
— Получшало? — спросил он, смотря мне в глаза с невинной улыбкой. Я склонила голову. — Весь пол закапала слезами. Значит, в любовницы ты не годишься и выбрось это из головы.
— Не гожусь, — подтвердила я. Прошла в коридор, умылась холодной водой.
Он стоял наготове с полотенцем.
— Прости, — сказала я.
— Прощаю. Праздник любви не удался.
— И, пожалуйста, не провожай меня.
Магнитофон все еще докручивал пленку с танго. Борис стоял в дверном проеме и глядел мне вслед. Я обернулась, — он улыбался. Вероятно, он родился с этой улыбкой. Я махнула ему рукой. Во дворе уже никого не было. Я шла по скверно освещенной безлюдной улице, и пламя жгучего стыда сжигало меня, очищая от скверны.
XIII
Озноб бил меня, к горлу подступали слезы, стучали зубы, словно я замерзла в лютую стужу. Погода же стояла распрекрасная, майская: начиналось лето, ни жары, ни прохлады, самая благодать, только очень быстротечная.
Я пропустила три трамвая, ожидая, когда озноб отступит. Не хотелось жить. Озноб то прекращался, то накатывался холодными волнами, потрясая меня, выстужая душу. «Ничего ведь не было! — твердила я. — Ничегошеньки-ничего!» Но кому были нужны мои жалкие оправдания? Главное-то было, было — поползновение. Пасть так низко? Я ненавидела себя. Казалось странным, что прохожие не отворачиваются от меня.
Кирилл и Петик еще не спали. С веселыми рожицами выскочили мне навстречу. Рты до ушей.
— Спать, спать и спать! — умерила я их прыть.
Улыбки погасли как по команде. Петик первый проявил любопытство:
— Мама, ты плакала? Ты заболела?
А Кирилл ни о чем не спросил, но смотрел на меня широко раскрытыми, испуганными глазами.
— Я здорова, — сказала я, — и ничего не случилось, только я очень устала. Скорее ложитесь, тогда и я смогу лечь.
Я обняла сыновей и пожелала им спокойной ночи. Они не знали, что со мной, но видели, что я не такая, как всегда. Я заперлась в ванной. Отмыться от липкой, въедливой грязи! Холодные струи с силой ударяли по телу. Сознание прояснилось, озноб прекратился окончательно. Я удивилась стремлению воспаленного мозга переложить вину на кого-нибудь, отыскать виноватого в нашем большом и сложном мире и воздать ему по заслугам. В старину после такого уходили в монахини, отрекались от всего мирского, вымаливали у бога прощение. Какое наказание могла наложить на себя я? «Дай спокойно работать Диме, не дергай его, не смущай неисполнимыми прожектами, — сказала я себе. — Стойко неси свою ношу. Смиряй себя. Устремляй свой взор не вглубь себя, а от себя. Мир велик, мир необъятен, и ты непременно найдешь в нем то, что возвысит тебя и сделает счастливой».
Стало холодно. Я долго растирала тело полотенцем. Зазвонил телефон. Кое-как накинув халат, я стремглав бросилась к аппарату и подняла трубку.
— Оля, это я! — возвестила трубка бодрым Диминым голосом. — Как живешь-здравствуешь?
— Спасибо, — поблагодарила я. — Дети здоровы, я тоже. Как всегда, скучаем. Как всегда, ждем.
«Не лги! — взвинтился внутренний голос. — Сегодня вечером ты не скучала и не ждала…» Я замолчала. Опять навертывались слезы.
— Алло! Алло! Не слышу!
— Я обрисовала тебе настроение семьи. Мы ждем тебя!
— К сожалению, у меня нет крыльев.
— Выкладывай, пожалуйста, свои новости.
— Скучаю, как и вы.
— Это давно уже не новость. — Он всегда говорил, что скучает, сильно скучает, и я даже усматривала в этом какое-то ханжество, мелочное желание уколоть. Сейчас же я все воспринимала буквально. Скучает — значит, скучает, и никаких иносказаний, домыслов и иронии. — Целую тебя за то, что ты скучаешь! — поблагодарила я. — «Заглаживаешь вину? И не совестно?»
— И я тебя целую. Прокрутка, знаешь, идет отлично. Когда вал повернулся, мы здесь все перецеловались.
— Надеюсь, коллектив в момент проворота вала был чисто мужской. — «Дрянь, — сказала я себе. — Ты еще иронизируешь! Какая же ты дрянь!»
— В основном! — басила трубка. — Вибраций опасных нет, и все в норме. Люди стараются — загляденье. И наши, и шеф-монтажники. Порядок полный! Хоть диссертацию пиши. Пуск — в пятницу, тридцатого мая.
Я подумала, что в эту субботу его ждать нечего. И обрадовалась. И знала, что кощунствую, радуясь отсрочке. Приду в себя, избавлюсь от этого тлетворного замешательства.
— Не приедешь послезавтра? — спросила я.
— Приеду, всенепременно! Но только на день. Могу себе это позволить. У нас здесь такая четкость, что, есть ли я, нет ли меня, суточное задание выполняется. И никаких тебе неразрешимых проблем. Вот к чему мы пришли! Удивительно легко и приятно быть начальником, когда все получается, как и должно быть!
«Не заметил, — подумала я с величайшим облегчением. — Мне плохо, а он ничего не заметил. Все его мысли — вокруг насосной, вся его жизнь — для насосной, для Чиройлиера, для Голодной степи. Да, он такой, и я люблю его такого».
— Люблю! — сказала я.
— Что? — со смехом спросила трубка. — По какому поводу нежности?
— Без повода. От того, что я люблю тебя. — Я смахнула слезу.
— Слушай, все нормально?
— Да, да!
— А где твердость в голосе? Где восторг?
— Впереди! — заверила я. И глубоко вздохнула, услышав длиннющие гудки.
Какое счастье, что мы не стояли лицом к лицу. И он не увидел, как мне плохо. Он всецело был занят своими людьми и своей насосной. Борис угадывал каждый нюанс моего настроения. Но я любила Дмитрия Павловича Голубева, а не Бориса Кулакова. Мой Дима умел быть нежным-нежным, как дуновение утреннего теплого ветерка, но бывал и неуклюж, и толстокож, очень толстокож. Занятый собой, он становился похож на старый восточный дом, стены которого, выходящие на улицу, во внешний мир, не имеют ни одного окна.
Я прошла на кухню, села и заревела. Мой поступок оторвал меня от близких людей, связи ослабли, и я впервые осознала их непреходящую ценность. На толстых полах халата слезы не оставляли следа. Дверь беззвучно приоткрылась, в проем просунулась лохматая голова Кирилла.
— Мамочка, что случилось?
— Я сильно расстроилась.
— Кто-нибудь умер? — спросил он.
— Да, — сказала я.
Погасила свет и легла. Тело болело. И голова болела, но не так, как тело, и не как при физическом недомогании. Эта боль только обостряла чувство вины. Пришлось подняться и выпить валерианки. Сиреневый туман застилал глаза. Кружилась голова. Кружились прямоугольники окон, кружился вливающийся в них свет и шум ночного города. «Ничего не случилось, — убеждала я себя, — ровно ничего, ничего!» Да, но к чему тогда это назойливое стремление оправдаться? Случилось то, чему нет и не может быть оправдания. Я сама напросилась, создала двусмысленную ситуацию. Люди целомудренные обходят их далеко стороной. Ну, а если бы все не кончилось снятием кофточки? И если бы об этом узнал Дима? Все бы рухнуло, и дальше незачем было бы жить. Ну, а с предосторожностями, которые не позволили бы ничему просочиться наружу, жить было бы можно? Какая, собственно, разница, выплыло, не выплыло? То, что так поступают многие, — не утешение. Я всегда отвергала обман и нечистоплотность в семейной жизни, но вот позволила себе… Что же делать? Нести свою ношу, казниться и вымолить у себя прощение. У себя — больше не у кого.
Я лежала с открытыми глазами. Трамваи покинули улицы, пришли самые тихие ночные часы. Никогда. Никогда больше. Никогда ни намека, ни полуслова, ни полвзгляда, которые уводили бы в сторону от Димы. Пусть Скачкова, пусть тысячи других получают удовольствие от того, что повергло меня в ужас. Это их право, но это же — моя погибель. И пусть так будет всегда. Жизненные устои должны быть чистыми и прочными, и для того, чтобы они оставались такими, нельзя просыпаться в чужих постелях. Никогда, никогда, никогда. У меня есть муж, и какой! А я придумала себе одиночество, я раздула, разожгла его, воспалила себя: ах, одинока! Как правы были наши отцы, оставившие нам формулу прочной семьи: любовь да совет. Разве семья, муж и дети, недостаточно просторное поле для приложения сил женщины? Заботься о них, самых близких тебе людях, заботься самозабвенно, и ни на что другое не хватит ни времени, ни сил, ни воображения. И если еще есть и хорошая работа, о какой неполноте жизни, о какой неудовлетворенности может идти разговор? Да, только так. Семья, работа — этого вполне достаточно для счастья. Хорошая семья и хорошая работа. Это такие неоглядные пространства, на которых есть где развернуться любому призванию, есть где сверкнуть любому таланту. Если же во главу угла ставить себя, только себя, всегда себя, если заботиться о своих удовольствиях и больше ни о чем, ничего путного не получится и в конце концов все пойдет прахом. Мои отец и мать трогательно заботятся друг о друге. И пусть бывали годы, когда им не хватало хлеба, одежды и обуви — их в те годы не хватало всем — забота и любовь брали свое, и старики прожили счастливую жизнь. Ни разу я не стала свидетельницей крика, раздражения, размолвок. По их примеру я строила и свою семейную жизнь и ни разу не пожалела, что не иду своим, особенным путем, ни на чей путь не похожим. И вот я могла потерять все, не получив взамен ровно ничего. Одно послабление, один шаг не в ту сторону, один коварный миг — и я на краю пропасти. Все мои добродетели не стоили бы ни гроша, их бы просто не приняли во внимание. Напротив, считалось бы, что эта тихоня всегда была себе на уме. Ни дети, ни Дима этого не заслужили, не заслужили, не заслужили.
Чего это я так озлилась? Ну, охотился, не приехал. Скромнее надо быть. Не об уничижении речь — о собственном достоинстве, в котором скромность всему голова. Его проступок и мой проступок — разве они соизмеримы? Разве навеяны одним и тем же? И потом, если мстить любимому человеку за каждый промах и оплошность, если и он станет отвечать этим же — к какому итогу мы придем? К пустоши, на которой ничего не растет, на которой все безжалостно вытравлено и вытоптано взаимными претензиями и себялюбием. И если что-то не так, если это нельзя оставить без ответа, без выяснения отношений, возьми и выясни их, выясни тактично, небольно для любимого человека. Не отвечай на проступок проступком, это всегда дает трещину. Будь чиста сама, сама, сама!
Прогрохотал первый трамвай. Удары о стыки рельсов возникли далеко и, усиливаясь, приблизились к дому, обогнули его и удалились. Ночь протекла — одна из многих в великой и непостижимой реке времени. Болела голова. Мне было плохо, очень плохо. Более всего на свете я бы не хотела, чтобы у меня когда-нибудь была еще такая ночь. Дала ли я полный отчет в содеянном? Я не знала. Но я знала, что вина еще не искуплена, хотя урок и извлечен. Извлечение урока могло быть лишь частью искупления вины.
XIV
Чувство вины не проходило, и я с трепетом ждала приезда Димы. Мне казалось: Дима непременно увидит мое состояние и поймет, чем оно вызвано. После свадьбы наши отношения строились на верности. На иной платформе, насколько я представляла себе это, здоровой семьи не создашь. Вековая мудрость народа говорила об этом же. У меня никогда не было повода сомневаться в верности Димы, и я, в свою очередь, не давала ему такого повода. Сама мысль о том, что он может изменить мне, была настолько нелепой, настолько кощунственной, что я не рассматривала ее сколько-нибудь серьезно, а отвергала в зародыше. Он был мне верен. Я же согрешила, пусть в воображении, но отступилась от данного ему слова. А от поступка, который воображение рисует как вполне возможный, до реального деяния всего один шаг. Близость этого шага все еще приводила меня в содрогание. Я никогда не готовила себя к тому, чтобы изменить мужу, не вынашивала такой мысли. Еще в юности я внушила себе, что неверность — не для меня, что и муж, и я будем верны друг другу и на верности построим свое счастье. Надо мной смеялись — это я переживала легко. Мне завидовали — этих людей я понимала лучше. И вот я чуть сама не развеяла, не пустила прахом все, чем жила, чему поклонялась. Как я дошла до такой жизни?
Как и почему — на эти вопросы я искала ответа. Застлала глаза обида? Нет, когда мы ехали с Борисом к нему домой, моими поступками руководили не обида на Диму и не желание отомстить. Обида молчала, когда я решила поехать. Она не пришла, она была во мне, она рождала злые мысли и ощущения. Но стремление досадить ему, возникшее было ранее, угасло. Тогда что же влекло меня? Любопытство, как все это будет с новым мужчиной? Если об этом думать, появляется и любопытство. Но я не думала об этом. Не думала, но поехала и вошла в его дом, и пила вино, и танцевала с ним. О чем же я тогда думала? Что этого нельзя делать. Значит, если одна часть натуры говорит «нельзя» и восстает, то другая часть души снимает запреты и молчаливо подготавливает грехопадение? Да, расстановка сил была такая. Что-то развинтилось во мне, реакция сдерживающих центров замедлилась. И этому способствовали одиночество и Скачкова, проповедующая свободную любовь. Вдруг остановилась, посмотрела на себя со стороны и увидела, что падаю. Замерла. И остановила меня не унизительность падения, а возможность потерять все — возможность, за которой стоило подлинное одиночество.
Значит, я не отвергала случайную связь, а только страшилась ее последствий? Неправда! Не наказание удержало меня. Мне стало противно. И наступило стремительное возвращение на круги своя. Ценности, в которые я верила, всегда были и будут на высоте.
Кирилл был в школе, Диму я ждала вечером. Чтобы не метаться в четырех стенах, я пошла с Петиком гулять. Мне казалось, что на людях будет легче. Мы шли вдоль берега Бозсу, вниз по течению. Ветви плакучих ив почти касались желтой воды. Мальчики уже купались, повизгивая от холода и восторга. Петик провожал их жадными, завистливыми глазами. На излучине, на самом мысу прилепилось пристанище моржей — любителей зимнего купания. Обогнув стадион, мы перешли на левый берег. Сын молчал, словно угадывал мое настроение. Он срывал одуванчики и дул на них, смешно выпучивая щеки. Парашютики семян зависали в воздухе. Река, деревья, трава, простор, свобода, столь неожиданные в большом городе, лишили его языка. Какую обильную пищу давали они впечатлительному детскому уму!
Бронзовый Гагарин на пьедестале из бордового гранита держал спутник в воздетых к звездам руках. Человек и небо. Что там, за гранью известного, и что еще дальше, за гранью воображения? И чем привлекает нас небо, чем манит? Беспредельностью, по сравнению с которой любой земной простор микроскопически мал? Я опять пожалела, что Гагарина уже нет с нами. В памяти народной это одна из незаживаемых ран.
Мы перешли улицу и оказались у лестницы, ведущей в детский парк. Там, где лестница переходила в аллею, Мальчиш-Кибальчиш трубил в горн, а бронзовый скакун храпел под ним, смиряя свою резвость.
— Купи мне трубу и шапку со звездой! — сказал Петик. Он всегда быстро делал практические заявки.
— Ты хочешь быть как Мальчиш-Кибальчиш?
— Хочу! Я никогда не сидел на коне.
Мы поднялись на вал, к остаткам крепостной стены. Узкие бойницы смотрели на жилые кварталы. Я подняла Петика, помогая ему заглянуть в бойницу.
— Отсюда стреляли во врагов! — сказала я.
— Из лука? — спросил он.
— Из ружей.
— Пираты стреляли?
— Пираты на морях, а здесь где ты видел море? Когда враг приближался, жители города уходили в крепость, запирали ворота и отбивались.
Я с трудом оттащила его от бойниц. Он осмысливал увиденное. Здесь были сражения! Здесь стреляли, кололи, рубили, идя на приступ и отражая натиск. Здесь падали убитые и стонали раненые!
— Мама, если я буду стрелять из бойницы, а Кирилл будет внизу с саблей, кто победит?
Он страстно хотел, чтобы я ответила: «Победишь ты». Но я не доставила ему этого удовольствия. Он и так часто показывал себя недобрым человеком: бросал в птиц камни, топтал муравьев.
— Кирилл не может быть твоим врагом, — сказала я. — Если ты будешь стрелять из бойницы, то Кирилл будет с тобой рядом, вы ведь братья.
— А понарошке?
— Тогда победит Кирилл, он сильнее.
— Я пулемет поставлю! Я не дам ему победить меня!
Потом он попросил покатать его на карусели и сидел на зыбком стульчике, вцепившись руками в цепи, а центробежная сила отжимала его к ограждению. Лицо его было напряженным, он мчался, рассекая воздух, враги трепетали и, посрамленные, бежали, бросая оружие.
У обзорного колеса я столкнулась с Борисом и Валентиной. Они увидели меня первые и стояли, поджидая, а я подходила к ним и не видела их. Я еще удивилась, почему эта парочка заступила мне дорогу, места было много. С высоты своего роста Борис неторопливо цедил слова:
— Оля, здравствуй! Познакомься с моей девушкой. Как она тебе?
Я опешила. Тихо ответила на приветствие. Улыбнулась Вальке. Встреча была неожиданной совершенно.
Спокойствие возвращалось ко мне, а с ним и умение владеть собой. Винить в чем-то Бориса было бессмысленно, Валентину — тем более.
— Мы катаемся на всем подряд, — сказал Кулаков. Он не выпускал из своей руки руку Валентины. — Кстати, восстановим взаимопонимание. Я рассказал Валентине, как плохо ты себя вела, и она ответила: «Не понимаю». Объясни, пусть поймет…
И тут не удержался, раззвонил. Бубенчик, ребенок. Трепло несчастное.
— Валя все понимает, — сказала я. — Она понимает даже то, что ты — не лучший вариант.
— Понимает — и идет! — Он самодовольно улыбнулся. И это ханжество я принимала за душевность! — Потом мы поедем ко мне, она согласна. Мы будем гонять маг и пить портвейн. Скажи ей, Валька, что неприлично быть недотрогой. Несовременно совсем.
— Зато ты — сама современность. Ну, уморил!
— Я — что? Я — ничего. Я, знаешь, кто? Бобби Стоптанный Башмак.
— Тебя не спрашивают, а ты уже все выложил, — о неприязнью сказала Валентина. Резко повернулась ко мне: — Осуждаешь?
Кажется, она задавала этот вопрос и раньше, и мне всегда было трудно ответить на него. Люди строят жизнь по своему усмотрению, и, коль они непохожи друг на друга, их поступки и сами их жизни тоже непохожи — это так естественно. Но она спрашивала о том, как я отношусь к ее поведению.
— Не приемлю, — ответила я.
— Значит, осуждаешь. — Она сделала шаг назад и встала еще ближе к Кулакову. Теперь она касалась его плечом.
— Брось! — сказал ей Борис. — Если она кого и осуждает, так себя. У нее который день бледное лицо и красные глаза. Я уважаю ее за то, что она такая. А ты Валька, неправильно себя ведешь. Мы сюда зачем пришли? Кататься. А ты отношения выясняешь. Лезьте, бабоньки, в кабину, вознесемся к облакам. А ты, малец, давай с мамой.
Мы поместились в одной кабине. Борис пристегнул себя цепью к сидению, а потом взял на руки Петика. Колесо медленно поднимало нас вверх. Горизонт расширился, за близкими зданиями открывались следующие, за ними — совсем далекие. Петик зажмурился, ему было страшно. Но колесо подняло нас еще выше, и страх оставил мальчика. Валя теперь смотрела на Бориса, а Борис смотрел вниз, на город. У него было точно такое же ясное и радостное выражение лица, как и у Петика. Такая же детская непосредственность и увлеченность.
— Как любознательны наши мужчины! — сказала я.
Борис был взрослым ребенком, и я на него не сердилась. Тут все было определено. К Валентине же у меня было сложное отношение. Она, как я видела, не нуждалась в посредниках, которые облегчили бы ей путь к новым жизненным ценностям. Она смотрела на Бориса, и лицо ее добрело. Новые ценности ей просто не были нужны.
Кабина достигла вершины. Качнулась, и началось возвращение на землю. До неба было ближе, но насколько? Вот оно, синее-синее, близкое-близкое! Но протянутая вверх рука замирает, ни до чего не дотянувшись.
— Спустимся и поедем ко мне, — слышу я веселый голос Кулакова. — Тебя, Оля, это не касается, тебя мы не возьмем. Ты у нас однолюбочка!
— Не возьмем! — соглашается Валентина. — Потому что она нас осуждает.
— Балда ты! — сказал Борис. — Она себя осуждает.
— Себя и нас. Я виновата, и ты виноват.
— Поясни, в чем.
— Она знает, в чем. А вот мы не узнаем никогда.
Я получала предметный урок ханжества. Спасибо! На что же еще я могла рассчитывать? Кабина подплыла к земле, мы выпрыгнули и мило пожали друг другу — руки. Потом я с Петиком снова забралась в кабину гигантского колеса. Помахала Борису и Валентине. И была несказанно рада, что избавилась от их общества. Я смотрела на них сверху вниз. Они уходили, рука в руке, чужие мне и чужие друг другу, но случайно оказавшиеся вместе. Я этого не понимала, я отказывалась понимать это. Как можно жить, если все самое важное в жизни случайно, зыбко, не выстрадано тобой, не построено тобой на века?
Они уходили все дальше. Он выделялся ростом, рыжими волосами и несуразной фигурой. Она не выделялась ничем. Было солнечно, было синее небо, и они уходили, а я чувствовала неизъяснимое облегчение. Мне нечего было им сказать и нечего пожелать. Я крепко прижимала к себе Петика. Буду жить и ждать Диму. Он ничего не узнает и ничего не заподозрит, потому что ничего не было. И он никогда не узнает ничего такого, потому что ничего такого не будет никогда. Нерасторжимы мы и неразлучны, так было, есть и будет.
XV
— Ой, Олечка Тихоновна, идут! — Валентина Скачкова опередила гостей. Глаза ее светились радостью и возбуждением, люди преображали ее. Она обняла меня и, как мне показалось, хотела расцеловать, но у меня было строгое, официальное лицо, и, споткнувшись о холодную мою официальность, она сказала с вызовом: — Извини, не сориентировалась. Буду держать дистанцию.
— Проверь расход! — попросила я.
Она помчалась к оголовку.
— Расход заданный! — донесся ее жизнерадостный голос.
Гостей вел Евгений Ильич. Он шел впереди и, обернувшись, смотрел на гостей и что-то говорил им. Они улыбались, и он улыбался. Я узнала главного инженера проекта Курпсайской ГЭС. Остальные были для меня люди новые, и то, что я не знала их, смутило меня. Гости поднялись на модель, разместились гуськом на невысокой стеночке, в которую упирался левый берег Нарына. Евгений Ильич познакомил нас. Один из них сказал:
— Так вот за какую игрушечку мы отвалили сорок шесть тысяч!
— А сколько эта игрушечка вам сэкономит? — спросил Евгений Ильич.
— Минимум два миллиона, — ответил главный инженер проекта. — Вы дали нам полное право отказаться от берегоукрепительных работ.
— Вот это меня и поражает, — сказал инженер, первый вступивший в разговор. — Посмотришь — ничего особенного, какие-то стеночки, арык, трубы и трубочки, полнейшая несерьезность. И вот эта забавная штуковина нас учит, дает оценку нашим решениям, отвергает большую часть из них. Мы вынуждены делать хорошую мину и утверждать, поддерживая свой престиж, что окончательное слово за моделью. Потом появляется очаровательная колдунья и вообще ниспровергает нас, доказывая, что мы мало чего стоим, что наши знания весьма приблизительны и без таких подпорок, как апломб и самомнение, не стоили бы ничего. И как после этих яростных наскоков поступаем мы? Низко кланяемся и благодарим — за то благодарим, что нам, наконец, открывают глаза. А каким, позвольте спросить, образом нам открывают глаза? Самым колдовским. Меняют местами пол и потолок. Все привычное летит к черту, мы потрясены и просто не знаем, как вести себя дальше. Мы пришли сюда учиться ходить по потолку.
— Бесподобно! — сказала я. — Какие тонкие, какие изысканные комплименты! Итак, я еще и колдунья. Я сейчас каркну от удовольствия.
— А сыра в клюве вы в это время держать не будете? — спросил главный инженер. — Я силен на подхвате! Будь мои возможности пошире, я бы выхлопотал вам путевочку в какой-нибудь сногсшибательный круиз.
— Беру десятидневную командировку в Ленинград! — воскликнула я, спешно материализуя высказанное мне поощрение. Как и Петик, я не упускала момента. — Целую жизнь не была во ВНИИГиМе.
— Не давайте им так легко отделаться! — почти крикнул Евгений Ильич. — В Ленинград я вас отправлю своей властью, а от этих распорядителей кредитов требуйте чего-нибудь более существенного. И помните: что бы они ни дали, они все равно в неоплатном долгу.
— Как дорого обходится невежество, — сказал один из гостей. — Причем невежу сначала посрамят, выставят на всеобщее обозрение, а затем затребуют бешеные деньги за искоренение порока.
— И как прикажешь поступить?
— Нам оставлена гениальная заповедь: учиться, учиться и учиться. Никогда не поздно, и всегда приобретешь что-то такое, чем не обладал раньше, — сказал гость, до этого молчавший.
— Выходит, вы у нас учитесь, мы для вас наука, а мы у вас не учимся, нам и почерпнуть у вас нечего, только и остается, что свысока поглядывать, — сказала я. — Давайте, братцы, без уничижительства.
— Я всегда утверждал, что у нас замечательный коллектив, — сказал главный инженер проекта. — Хороша ли, плоха, но по итогам года каждая сестра получает свои серьги. А чтобы лучшую из сестер выделить и обласкать — упаси бог! Казенное отношение к людям, уравниловка — это страшной высоты стена, стоящая на пути инициативы и творчества. Может быть, мы, Ольга Тихоновна, неумелы и не нашли нужной формы, но пришли от души, искренне поздравить вас с большим и заслуженным успехом.
— Спасибо. Я поняла это сразу, до того, как вы все разложили по полочкам. Поверьте, я очень ценю и доброе слово, и доброе ко мне отношение. Рада, что вам понравилось наши решение.
— Наша ирония — враг наш, — заключил один из гостей.
— Нет! — запротестовала я. — Это щит от людей самонадеянных и неглубоких, но очень активных, очень упорных, когда дело касается распределения жизненных благ или дальнейшего восхождения по служебной лестнице.
— Что значит щит без меча! — сказал один из гостей.
— Немного, — согласилась я. — Но если есть потребность в мече, появится и меч.
— Ближе к делу! — вмешался Евгений Ильич. — Прошу обратить внимание, как элегантно сопрягается поток, выходящий из туннеля, с руслом. Как грамотно осуществлено его расщепление, организована траектория падения. Перед вами неуязвимое решение. Такие решения даются не часто.
— Правда ли, что успех пришел неожиданно?
— Когда сходишь с проторенного пути, кругом, знаете ли, одни неожиданности, — сказал Евгений Ильич.
— А я, сколько ни сворачивал с проторенного пути, не встречал неожиданностей, которые могли бы стать изобретением, — сказал самый молодой гость. — Все неожиданности, которые мне встречались, очень быстро превращались в неприятности. Меня утешают: все впереди. Но у человека, чтобы он не был как воздушный шарик, что-то должно быть и позади. Такое, к чему приятно возвращаться памятью. Я, откровенно говоря, очень устаю от общения с уже успевшими поседеть людьми, чья психология основана на принципе «все впереди». Я не видел, чтобы от таких людей было много проку.
— Как вы додумались придать потолку функции трамплина? — спросил меня главный инженер.
— Я водила сыновей на аттракционы чешского «луна-парка». Они катались в тележке, тележка делала мертвую петлю, и я подумала, что точно так же может вести себя и огромная масса воды, движущаяся с большой скоростью. Перенесла идею аттракциона в гидротехнику.
— А многие женщины говорят, что дети обременяют. Неправда: дети мобилизуют.
— Главное в жизни — вовремя поменять местами пол и потолок, — заметил Евгений Ильич.
— Расфилософствовались мы сегодня, — сказал главный инженер проекта. — Раскрепостились. Мы красноречивы, а модель красноречивее всех нас. Она говорит: дерзайте и вы, товарищи инженеры. Творите, выдумывайте, пробуйте, помните только, что это нужно людям. Из народного кармана это будет оплачено, в народный карман вернется. Вот какой вывод сделал я из прекрасного урока, который всем нам дала Ольга Тихоновна. Каждый из нас вследствие узости кругозора и ординарности мышления проходит мимо решений, которые смелее, лучше, эффективнее тех, на которых мы останавливаемся. Мы миримся с этим как с неизбежностью. Но появляется человек, который доказывает: нет, это не неизбежность, надо глубже копать, лучше считать и больше фантазировать по утрам и вечерам. И мы идем за таким человеком и поднимаем его на щит.
— В лаборатории есть такой человек, — сказала я. — Это Евгений Ильич.
— Теперь их два, — сказал главный инженер проекта. — Когда два подвижника являются единомышленниками, мы имеем не простое удвоение результата, а его лавинообразное нарастание. Ибо подвижники питают идеями не столько окружающих — окружающие к их идеям чаще всего равнодушны — сколько друг друга. Ольга Тихоновна, банкет за нами.
— Евгений Ильич, запишем или поверим на слово? Люди серьезные чаще всего чрезвычайно несерьезны в выполнении таких обещаний.
— Гидравлики — славные ребята, даже если они в юбках ходят, — сказал один из гостей. И обратился ко мне: — Давайте остановим воду и посмотрим яму размыва.
Я отдала распоряжение, поток иссяк. Яма размыва имела форму почти идеальной воронки. Воздействие потока на русло было минимальное. Это подтверждали и фотоснимки: при других концевых сооружениях воронки выглядели внушительнее.
— Яма размыва — наш самый строгий экзаменатор, — сказал Евгений Ильич.
Гости тепло попрощались и удалились. Березовский пошел проводить их. Как мне показалось, вечером их ждал мини-банкет, чисто мужской праздник, не требующий почти никакой подготовки. Все нужное для него умещалось в чьем-либо портфеле. Виновнице торжества на этой репетиции перед банкетом обещанным, конечно же, делать было нечего.
Я осталась одна — перед новым порогом, к которому еще предстояло подойти. С модели стекали последние капли воды. Эти туннели завтра пойдут на слом, и русло тоже. Останется один оголовок. К нему мы привяжем следующую модель, реку Вахш, или Зарафшан, или Чаткал, в зависимости от очередности. Мне предстояло заняться объектами Рогунской ГЭС, гидроузла с невиданными напорами в триста метров. Это было похоже на переход в следующий класс, но разница со школой состояла в том, что здесь классов могло быть много больше десяти. Было грустно расставаться с моделью, так блистательно подтвердившей наши идеи. «Почему в каждом следующем классе мы тоскуем о предыдущем?» — спросила себя я. Вопреки словам великого поэта, сказавшего, что все на свете повторимо, ничто из прошлого не повторялось, все приходило новое, все впервые. И дети жили по-другому, сыто и ухоженно, привилегированно жили, с родителями не подобострастничали, а держались накоротке, а часто и с оттенком покровительственности, и от этого рождалось непонимание, обидное для родителей. Было грустно, и мысль была устремлена вперед. Закрывалась одна страница жизни и открывалась другая. Мое одиночество притупилось и отступило, сегодняшнее радостное событие отодвинуло его с переднего плана. Оно как бы зарубцевалось — не кровоточило, присутствовало, но не давило, не заслоняло собой другие чувства. Что ж, одна так одна. Не я одна живу одна. Появится машина, будем видеться еженедельно. Это уже не одиночество. Многие жены не видят своих мужей годами, но смиряются, но живут. Детей — в машину и в Чиройлиер, к папе. Да они с нетерпением будут ждать того момента в субботу, когда Кирилл вернется из школы и мы начнем наш автобросок. А я буду ждать этого момента с еще большим нетерпением.
Я успокоилась, но так смиряются с неизбежным. Мысль, вернее, мечта о полном воссоединении семьи не покидала меня ни на минуту. Я не могла закрывать глаза и на то, что Дима работал сейчас на износ. Ежедневная двенадцатичасовая гонка, ежедневное преодоление сложнейшей полосы препятствий — число препятствий в ней никогда не оговаривается заранее, — его железный организм пока выдерживал все это. Но сколько времени отпущено природой этому «пока»? Я видела крепчайших мужчин, которых инфаркт сбивал с ног в расцвете сил, в Димином зрелом возрасте. Инфаркт — первое предупреждение оттуда. После такого звоночка уже не возвращаются к прежнему образу жизни, к прежней безудержности в работе.
«Невесела ты что-то, Олечка Тихоновна, — сказала я себе. — Не оптимистична. А тебя только что погладили по головке. Почему не откликнулась, не воспарила?» Но это было не так. Я старалась предвидеть будущее. И исходила при этом из реальностей, которые меня окружали. И уж сегодня-то могла сказать, что я счастлива, счастлива, счастлива.
XVI
В пятницу тридцатого мая я пришла домой пораньше. Распахнула створки гардероба и не торопясь выбрала, что надеть. Дима пускал сегодня свой первый агрегат, и я хотела, чтобы его праздник стал радостью и для семьи, для меня. Гардероб был полон, и я сказала себе: «Богато живешь, Тихоновна!» Две трети платьев и костюмов я сшила сама, и это был адский труд, но он сторицей вознаграждался восхищением и откровенной завистью знакомых, которые полагались на портных, на ателье мод и магазины готового платья и вследствие этого всегда отставали от моды. Я полагалась на себя, на свою швейную машинку и журналы мод. Элегантнее меня в Чиройлиере не выглядела ни одна женщина. Но это приписывали не мне, а Диме, который даже себе ни разу не купил рубашки. Журналы мод часто предлагали замечательные вещи. Я выуживала их, кроила, шила, порола, снова шила и снова порола, пока, наконец, не добивалась нужного эффекта. Угодить себе труднее всего. Мои платья и костюмы сидели безукоризненно. Зато каждая новая знакомая первым делом спрашивала меня: «Кто ваша портниха?» И ответ «Я сама» принимала за нежелание ее рассекретить. Я это понимала так: уж в моем-то положении они ни за что не шила бы сами.
Я надела белое шелковое платье, отделанное вологодскими кружевами. Оно делало меня тридцатилетней. А ведь когда-то мне казалось, что тридцать лет — это невообразимо далекое будущее, это другая планета, до которой лететь и лететь. Сорок же лет располагались где-то на границе известной Вселенной, то есть в страшенной тьме времени и пространства. Но прилетела быстрехонько, и теперь все это пройденные рубежи. Жизнь умудряла, заставляла отказываться от девичьего простодушного представления о бесконечности отведенного тебе пути и срока, и дали пятидесяти- и шестидесятилетнего возраста, моего возраста, не чьего-нибудь, уже не казались неблизкими. Они были рядом, и следующие за ними дали тоже были недалеко. Прожито было больше, чем оставалось. Тем с большим достоинством следовало жить дальше.
Повязав фартук, я стала накрывать на стол. Я представила, каково Диме сегодня. Понаедет руководство, гостей будет видимо-невидимо, и среди них много высоких. А он не привык делить людей по ранжиру, он позаботится о каждом, каждого одарит улыбкой и теплым словом, и самым высоким гостям это может не понравиться. Я представила его в толпе гостей и подумала, что в такой день ему особенно захочется побыть среди своих — виновников торжества. И он будет мучиться, что не может оставить гостей и перейти к своей никогда не подводившей его гвардии, которая вложила душу в первую насосную. Он будет беспокоиться, хорошо ли пройдет пуск. А когда стальной матово блестящий вал в два обхвата передаст усилие электродвигателя лопастям насоса и заданный напор будет получен, Дима будет беспокоиться, все ли готово к встрече воды на полях, хотя это уже не его забота, и будет беспокоиться, удастся ли плов для рабочих и маленький плов, «кичкина-плов», для высоких гостей.
Я представила краски и звуки этого желанного торжества, яркость лозунгов и праздничных одежд, представила лица людей, сотворивших себе праздник, их ликование. Представила жерла карнаев, обращенные на все четыре стороны света, надутые багровые щеки карнаистов и разносящийся далеко окрест могучий рокот, возвещающий начало торжества. Представила подачу воды в машинный канал, первую мутную струю, несущую пену и мусор, ее движение под уклон и то, как перед ней, пятясь и отступая, с криками бегут по дну русла узбеки и русские, строители и хлопкоробы, и чабаны, и садоводы, и учителя, все те, кому эта сырдарьинская вода, поднятая на просторы Джизакской степи, принесет достаток и счастье. Да, так оно и будет. Так или примерно так. Еще понаедут корреспонденты, расскажут и покажут все это, и страна будет знать, что еще в одном ее уголке забурлила полнокровная жизнь. Мне очень хотелось ободрить Диму. Чтобы он был самим собой и не переживал, а радовался вместе со всеми. Только радовался.
Пришли дети, игравшие во дворе. У них был такой вид, что их вместе с одеждой следовало запустить в стиральную машину. Увидев нарядную маму и празднично накрытый стол, они оторопели.
— Мама, у нас будут гости? — спросил Кирилл. Его голос дрожал, он ждал от меня нахлобучки за то, что он, как маленький, заигрался и не выполнил мое поручение прибрать в квартире.
— Сегодня у папы большой праздник! — сказала я. — Он пускает свой первый насос. А ты провинился и сейчас же наверстывай упущенное. — «Вот она, проверка исполнения, — подумала я. — Не проследишь, поверишь обещанию, дашь волю самотеку, и мальчик разболтается, и вырастет из него недисциплинированный работник, которому все трын-трава и море по колено». — Петик моет коридор! — возвестила я. Когда работает старший, младший должен помогать. Иначе порвутся нити преемственности. Сыновья разобрали ведра и тряпки. — Вылизывайте углы! — напомнила я. — Кто будет плохо помогать маме, не поедет завтра к папе!
Энтузиазм, особенно детский, нуждается в постоянном поощрении. Впрочем, взрослые в этом отношении недалеко ушли от детей, и кого не согревало доброе слово и вовремя сказанное: «Спасибо!» Энтузиазм изначальный, который не нуждается в дополнительных импульсах, большая редкость.
Потом мы сели за стол и стали смотреть программу «Время». Дима очень ее любил и к ее началу почти всегда приезжал домой. Он называл эту телепередачу окном в мир. Сначала показали завершение сева хлебов на сибирской и казахстанской целине, затем — первые комбайны, вышедшие на пожелтевшие нивы Туркмении и Сурхандарьи. «Чиройлиер!» — громко крикнула я и встала. И дети повскакали. Их лица сияли. Видеомагнитофон запечатлел скромные кварталы голодностепской столицы, спокойную гладь магистрального канала имени Акопа Абрамовича Саркисова, заполненный водой подводящий канал, бетонную плоть насосной станции с пустыми еще глазницами окон, подъемные краны, обступившие ее, электроподстанцию с нацеленными в небо громоотводами, стальной суриковый напорный водовод. На площади, где плескалось и ликовало человеческое море, объектив телекамеры приостановил свое движение. Ровный голос диктора оповестил страну, что в Узбекистане развернулись работы по орошению почти двухсот тысяч гектаров Джизакской степи водами Сырдарьи и что сегодня вступает в строй первая насосная станция мощного каскада. Карнаи обрушили на нас свой неистовый рев. Ветер делал лозунги похожими на красные паруса.
— Мама, как красиво! — сказал Кирилл.
Петик раскрыл рот.
— Папа! Папочка! — закричал он.
На трибуне перед букетом микрофонов стоял Дмитрий. Костюм, галстук, белая сорочка, волосы причесаны, взгляд открытый, уверенный. Вот он говорит: «Это самый счастливый день в моей жизни. Мы не только в срок возвели первую очередь станции и получили от государственной приемной комиссии высокую оценку. На этой стройке мы создали порядок. Мы его сохраним, и он сослужит нам добрую службу на всех следующих объектах. Мы его всенепременно сохраним. Но об этом лучше расскажет душа нашего коллектива, секретарь парткома треста «Чиройлиерстрой» Сабит Тураевич Курбанов. Пожалуйста, Сабит-ака!»
Показали крупным планом Сабита Тураевича, но он тоже говорил коротко. Потом показали, как повернулся и начал вращаться толстенный стальной вал, и диктор возвестил, что напорный водовод заполнялся около тридцати минут. Вода хлынула в машинный канал, и многих тут же столкнули в поток. Как я поняла, все это предшествовало митингу. И вот уже замелькали другие события из жизни страны и планеты. Пуск первого Диминого насоса стал историей. Петик теребил меня за подол платья.
— Мама, расскажи, как наш папа залез в телевизор. Я тоже хочу в телевизор, я буду из телевизора с вами разговаривать!
— Вырасти и заслужи! — сказала я.
«Теперь-то он передаст кому-нибудь эту стройку? — подумала я. — Едва ли. Нет, конечно. Его сейчас обласкают за банкетным столом, и он останется в своем Чиройлиере. Впрочем, я опять несправедлива. Какие бы там ни были произнесены похвалы, это не имеет никакого значения. Он останется, даже если бы его выругали за насосную. Да, он останется, и между нами по-прежнему будут лежать эти сто пятьдесят километров. У него свое чувство долга, а у меня свое. Но разве оно у нас не одно и то же? Вот именно! Это можно было понять и раньше».
Потом я подумала, как естественно Дима передал микрофон Сабиту Тураевичу. В этом поступке был весь Дима. Не любит парадности, президиумов. Кто бы еще в свете прожектора спокойно и с таким достоинством передал микрофон старшему товарищу и сделал неспешный шаг в сторону? И не назвала второго такого человека. Я не знала его. А как повела бы себя на его месте я? Передала бы микрофон кому-нибудь или, пьянея от радости, афишировала бы себя? Перевела бы свет прожекторов со своей персоны на других, имеющих, кстати, самое прямое отношение к успеху? Или сама бы купалась в лучах славы все отведенное передаче время? Возможно, я бы повела себя так. Но я знала, что Дима скромнее, и скромность его более глубокая, более естественная. Тут ему не надо сначала подумать и взвесить, а потом поступить. Я же сначала думаю, взвешиваю и часто останавливаюсь на том, что нескромно, но лучше для меня. Я могу и так поставить вопрос: «Что значит нескромно, раз мне это положено?»
Дима позвонил гораздо позже, чем я предполагала — в час. Взволнованный и уставший, он пересказал мне то, что я уже знала из телевизионной передачи, и то, чего я не знала — такого было гораздо больше.
— Ты мне ответь одним словом: все было хорошо?
— Да распрекрасно! Шефы-монтажники сказали, что лучшего пуска не помнят. Мы думали, сказали они, у вас тут глубинка, верблюды, ишаки, отсталость, плов руками едят. А у вас больше порядка, чем в иных промышленных центрах!
— Для тебя это чистейший бальзам.
— А для тебя?
— Раз для тебя, то и для меня. Я очень соскучилась. Завтра выезжаю утренней электричкой. Высылай к поезду машину.
— Всегда готов! — засмеялся он. — Обстановка на нынешний полуночный час такова: все довольны. Все ложатся спать. Вопросов ни у кого нет.
— Я рада за вас…
— Жалко, что ты видела лишь кусочек нашего праздника. Мы премировали тысячу человек! И поблагодарили всех участников стройки — по-человечески, от сердца. Наши тебе кланяются — Иркин Киргизбаевич, Сабит Тураевич, Толяша, твои Полина Егоровна и Мадина. Да, Ринат Галиуллин тебе тоже кланяется.
— Иркин Киргизбаевич теперь тоже наш?
— Вроде бы. — Трубка задрожала от густого, довольного хохота. — Боюсь поверить, но, возможно, он ничего парень. Знаешь, что он сказал? Никогда не догадаешься, этого до него никто не говорил. «Мне нравится, — сказал он, — в твоем «Чиройлиерстрое» высокий уровень товарищества». Мысль-то какая, а?
— Мысль верная. На какие высоты ты теперь нацелился?
— На следующие, Олечка. Всего-навсего.
— Понятно. Ни с кем из твоих высоких гостей о переводе в Ташкент ты не говорил. Язык не повернулся.
— Не представилось случая…
Ему было весело. Ему было очень весело, и он не скрывал этого. Он считал, что мне должно быть так же весело, как и ему.
— Боюсь, что такого случая вообще никогда не представится. Ты верен себе.
— Сначала я верен тебе, а потом уже себе. Поздравь и ты меня!
— Поздравляю, обнимаю и целую! Если бы ты видел, какое по этому поводу я надела платье!
— Я бы закачался! Ты это хотела сказать?
— Почти. Ты чувствуешь, что я уже не сержусь на тебя?
— У тебя отходчивое сердце. Знаешь, когда не бывает одиночества? Когда не страдаешь от него? Когда делаешь свое дело на все сто и еще прихватываешь напоследок из дня завтрашнего.
— Да, да! Но потом все равно наступает вечер. Эти ничем не заполненные часы между ужином и сном томительны и грустны. Дети уже спят, и ты совершенно одна, беспросветно одна.
— Я придумал! — сказал он еще более весело. — У нас с тобой нет дочери.
— Спасибо! — поблагодарила я. И тоже засмеялась.
XVII
Легкий чемоданчик собран, дети завтракают. Все готово, и голова свежая, и настроение под стать летнему яркому дню. Через двадцать минут мы выйдем из дома.
Я оглядываю себя в зеркало. Порядок!
Вхожу в гостиную и встаю перед вангоговскими репродукциями. «Пахарь», «Сеятель» и «Жнец» производят на меня все более сильное впечатление. Открываются новые дали замысла, как при непрерывном восхождении. Небольшие эти вещи вмещают в себя многое. Они отлично передают суть человека ищущего, идущего своей дорогой.
Я стою и смотрю и впитываю в себя вечные образы, и размышляю. Ничего необыкновенного, ничего не от мира сего. Типичная повседневность. Земля, горячее солнце, человек. Вот он пашет, налегая всем телом на плуг. И больше ничего, только огромное солнце над ним. Вот он сеет, щедро насыщая зерном взрыхленную почву. И больше ничего, только огромное солнце над ним. Вот он жнет, подрезая колосья обыкновенным серпом, вознаграждая себя за все труды свои. И больше ничего, только огромное желтое солнце над ним, еще более желтое, чем спелые доля. И птицы вьются, черные, нетерпеливые, горластые, прилетевшие полакомиться налитым зерном. Небо вокруг солнца оранжевое, затем зеленое, и только совсем в стороне — белесое, выцветшее, летнее.
На всех картинах человек только обозначен. У него нет лица, вернее, у него потное и сосредоточенное на своем деле лицо труженика без индивидуальных черт. Но как страстно выражено главное: у этого человека нет, не было и не будет более важного дела, чем то, которым он сейчас занимается.
Я знаю: на всех трех картинах запечатлен Дима. И найти свое место в жизни — это найти свою пустошь, и возделать ее, и засеять, и собрать урожай. Поприще же может быть любое.
— Сойди ко мне! — говорю я мужу. — Отдохни. Твоя рубашка пропиталась потом, ты устал…
Он даже не оборачивается. Он занят, он спешит. Он всегда занят и всегда спешит. Ему нельзя отвлекаться.
Отступив на шаг и как бы соединяя три полотна в одно, я все-таки вношу поправку. Пахарь, сеятель и жнец Ван Гога — великий одиночка, и его вызов Вселенной — вызов одиночки. О Диме я этого сказать не могу. И я убеждаю себя, что его славные ребята просто остались за кадром. Потом я с сожалением думаю, что я все же не такая, как Дима. Чем же вызвано сожаление? В это лучше не углубляться.
Пора. Я зову детей и прощально оглядываю картины. Птицы вьются и кричат в оранжевом небе, в мире неспокойно, но человек споро делает свое дело. Потому что так надо.



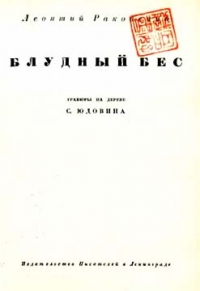
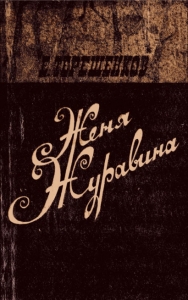
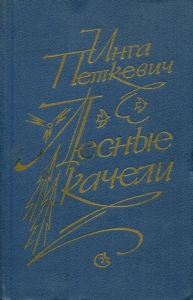
Комментарии к книге «Пахарь», Сергей Петрович Татур
Всего 0 комментариев