Владимир Солоухин Камешки на ладони
* * *
Яшин рассказал мне, как он ходил к Фадееву просить, чтобы дали Сталинскую премию Пришвину. Это ведь один из лучших русских писателей, заметим кстати.
— Неужели он хочет? — рассмеялся Фадеев.
— Хочет. Все мы — человеки…
Тогда, уже серьезно, Фадеев сказал Яшину:
— Ты ничего не понимаешь в литературной политике.
Итак, значит — литературная политика. При помощи Сталинских премий литература направлялась в желательное государству русло. Не были бы премированы «колхозные» поэмы Грибачева, возможно, не написал бы Бабаевский «Кавалера Золотой Звезды», без «Кавалера Золотой Звезды», возможно, не написал бы своего романа Е. Мальцев (или наоборот), а также и Яшин свою «Алену Фомину»…
Если бы государство заботилось о «лучшей» литературе, почему бы не дать премию Пришвину, Паустовскому, Мартынову, Зощенко, Ахматовой, Пастернаку, в конце концов. Но поощрять лучшее, с точки зрения государства, бессмысленно. Ведь лучше, чем могут, другие писатели все равно не напишут. А вот поощрять пусть и среднее, серое, но желательное — в этом большой смысл. Таким образом литература направляется в желаемое государству русло.
* * *
Девочка в начальной школе плохо усваивает арифметику. Двойки и двойки. Учительница вызвала родителей. Родители были в отъезде, в школу вместо них пришла бабушка. Учительница ей выговаривает: девочка, мол, плохо учится по арифметике, надо повлиять, подтянуть.
— А как она вообще, поведением? — спрашивает бабушка.
— В том-то и дело, что она поведением примерная девочка, вот только арифметика…
— Ну так вот, — заключила бабушка, как отрезала. — Я ее воспитала. Это была моя забота. Арифметике же должны научить вы, школа. При чем здесь родители? На то вы и школа, чтобы научить ее арифметике.
Вообще-то этот эпизод мне рассказали в Югославии. Но теперь, записывая его, я подумал: не имеет ведь значения, где это произошло. Однако кажется мне почему-то, что у нас такой эпизод представить себе труднее, чем где-нибудь «там». Не знаю уж почему, но не нашлось бы такой бабушки. Ну не нашлось бы, и все тут, не знаю уж почему. Мозги, что ли, по-другому устроены?
* * *
Покупатель спрашивает у продавщицы:
— Какой лосьон лучше взять? Я плохо в них разбираюсь.
Продавщица буднично так, просто так отвечает;
— Если пить, то лучше вот этот.
* * *
Перед поездкой в Германию (а я не говорю по-немецки) решил вооружиться русско-немецким разговорником. Должны же, думаю, быть такие разговорники. Откроешь нужную страничку, найдешь нужную тебе фразу, а рядом — она же, эта фраза, но уже по-немецки. Очень удобно. «Как пройти к ближайшему ресторану?». «К стоянке такси?». «К ближайшей кирхе?». «Я предпочитаю баварское пиво». «Спасибо. Вы очень любезны»… Достать разговорник оказалось делом нелегким. Один мой знакомый достал его мне в библиотеке МИДа и вручил в последний момент. И вот с вожделением раскрываю его на улицах Кёльна. «В какой профсоюзной организации вы состоите?». «Как вы боретесь за свои права?». «Участвуете ли вы в забастовках?». «Какие налоги вы платите?»…
* * *
Ленинградский писатель и литературовед Владимир Николаевич Орлов мне рассказал, как он записывался впервые к литфондовскому врачу. Она стала подробно заполнять историю болезни на будущего пациента, а точнее сказать, личную карточку. Фамилия, имя, возраст, чем болели… и вдруг спрашивает:
— А как у вас отношения с алкоголем?
— Да вы знаете, я люблю перед обедом выпить рюмку-другую. Не много, конечно, но рюмку-другую. Для аппетита, знаете. Опять же — закуска располагает… Квашеная капустка, селедочка…
— И как часто?
— Да вот я и говорю, перед обедом рюмку-другую…
Однажды во время другого уже посещения врача (и, может быть, даже много лет спустя) получилось так, что врач вышла на несколько минут, а история болезни лежит на столе. Владимира Николаевича разобрало любопытство, что же написала врач в истории болезни в ответ на его откровения о рюмке перед обедом? Он воровато заглянул в тетрадь и увидел в нужной графе: «Бытовой алкоголизм».
* * *
— Вы писали в своей жизни и стихи и прозу. Какая разница?
— Разница очень большая. Прозу я писал сам, а стихи — как мне всегда казалось — под чью-то диктовку.
* * *
Конечно, это не больше чем придирка. Но как же было не придраться? Известен из мемуарной литературы эпизод, как Анна Ахматова с подругой (Надеждой Яковлевной Мандельштам) ходила по Третьяковской галерее.
— А теперь, — сказала Анна Андреевна, — пойдем смотреть, как меня повезут на казнь. — И она подвела подругу к «Боярыне Морозовой». Там же, в воспоминаниях Н. Я., приведены стихи Анны Ахматовой, навеянные, видимо, этим эпизодом:
А после на дрогах в сумерки В навозном снегу тонуть… Какой сумасшедший Суриков Мой последний напишет путь?Все тут хорошо и уместно. Можно сказать, яркий литературный эпизод. Только вот почему — дроги? Родившись и проживя всю жизнь в России, в те годы, когда лошадь со всеми сопутствующими обстоятельствами была еще в быту: тарантасы, извозчики, рысаки, коляски, санки, сани, розвальни, телеги, кибитки, дроги и дрожки (а тем более что снег под полозьями написан Суриковым так ярко), как можно было вставить в стихи летние дроги? Сама же ведь А. А. пишет, что «в навозном снегу тонуть».
Конечно, придирка. Но ведь это все равно, как если бы кто-нибудь из современных поэтесс перепутал лимузин с самосвалом.
Ну вот, написал я этот «камешек»-придирку, что называется, уел знаменитую поэтессу, а на душе неспокойно. Да не может этого быть, чтобы Анна Андреевна не знала, что такое дроги. Не искажена ли цитата? Если не автором мемуаров (что вполне вероятно), то в издательстве, в типографии. Ведь книга печаталась за рубежом, а что им там наши дроги? Перелистал двухтомное издание Ахматовой, нашел нужное стихотворение. Ну конечно же!.. Выписал замечательное стихотворение целиком:
Я знаю, с места не сдвинуться От тяжести Виевых век. О, если бы вдруг откинуться В какой-то семнадцатый век. С душистою веткой березовой Под Троицу в церкви стоять, С боярынею Морозовой Сладимый медок попивать, А после на дровнях в сумерки В навозном снегу тонуть… Какой сумасшедший Суриков Мой последний напишет путь?* * *
Иногда у поэтов, ну, прямо скажем, не ставших большими, крупными поэтами, даже иногда не в Москве-Ленинграде, а в каком-нибудь городке зарождаются поэтические жемчужины, своего рода шедеврики, яркие и чистые цветы поэзии. Ну пусть не букет, но часто один цветок смотрится лучше, чем целый сноп. Такие две жемчужины нашлись у двух поэтов в Вязниках — городе нашей Владимирской области, вблизи, между прочим, знаменитой Мстеры.
Первое стихотворение принадлежит тихому, незаметному, безвременно ушедшему вязниковскому поэту Юрию Мошкову.
ЛУКОШКО
Нам было вместе двадцать семь, Судьба — судачили соседи, А мы не думали совсем Разгадывать намеки эти. А мы ходили в лес густой, Одетый в рыжий мех подпалин, И набродившись, под ольхой, Раскинув руки, засыпали. И возле нас, касаясь плеч, Лукошко с днищем деревянным В траве лежало, словно меч Между Изольдой и Тристаном.Кто скажет, что это не очаровательное стихотворение, достойное даже и антологии, если не хрестоматии?
Второе стихотворение написал и ныне здравствующий вязниковский поэт Борис Симонов.
МОНА ЛИЗА
Я любил. Было счастье мне в жизни обещано. Я сгорал от любви, от шального огня. Мона Лиза, святая, чистейшая женщина, Улыбаясь глядела с холста на меня. Я обманут был. Горечь в душе, в жизни — трещина. Я метался в тоске, все на свете кляня. Мона Лиза, коварная, хитрая женщина, Улыбаясь глядела с холста на меня.В первой строчке этой заметочки я сказал про поэтов, что они, прямо скажем, не стали большими, крупными. Но по чему: по количеству написанного, по критическому шуму вокруг имени, а не по высшей отметке поэтического всплеска должна мериться высота поэзии? Повторим где-то уже сказанное, что во многих отношениях есть разница между граммом золота и тонной золота. Но золотая крупица обладает всеми теми же свойствами благородного металла, что и глыба.
* * *
Сейчас такие танцы, как рок, твист, не говоря уж о румбе, называют «современными бальными» танцами. Но если те сборища молодежи (а хотя бы и дискотеки) называть балами, то что же называть «шабашем»?
* * *
В Болгарии то и дело можно увидеть магазинную вывеску «Хранителни стоки». Буквально это означает консервы, продукты, которые могут долго храниться.
Я и раньше замечал, что в родственных русскому языках иногда слова (многие слова) звучат более первозданно, чем на русском. «Крестословица» вместо «кроссворд»; если болгарин скажет «идите направо», это значит надо идти прямо (наше дело правое, то есть правильное, прямое), а «направо» по-болгарски будет «дясно», от десницы, и т. д. и т. д. Да я уж об этом где-то писал.
И вот теперь оказывается, вместо нашего, заимствованного «консервировать», «консервы» у болгар «хранить», «хранителни стоки». Но ведь это означает, что слово «консерватор» не более чем хранитель, охранитель, сохранитель и вовсе не должно нести того отрицательного оттенка, который мы ему придаем.
* * *
В 1945 году я, служа сержантом в Кремлевском полку, начал ходить на литературное объединение при «Комсомольской правде». Мы собирались по средам в «Зеленом зале», по вечерам. Руководил этим объединением Владимир Александрович Луговской. Мы все были очень молоды, мне, в частности, был 21 год. Луговской был среди нас седовласым старцем, маэстро. Крупный, с крупным выразительным лицом, с могучим басом, действительно седовласый, с какой-то тяжелой тростью, а вернее — клюкой, это был для нас не просто маэстро, но патриарх. И вот он начал волочиться за одной молоденькой (17—18 лет) участницей нашего кружка, пишущей, естественно, стихи. И, кажется, ухаживал он не безуспешно. Мы все дивились. Как это возможно, чтобы такой старец и такая девочка. Ну он-то ладно, у него свой «старческий» интерес, но она-то, она как могла с таким стариком!..
Недавно я, вспоминая те годы, решил сопоставить даты, и что же оказалось: Луговскому тогда было 44 года!
* * *
Я курил с шестнадцатилетнего до двадцатидевятилетнего возраста. Курил много, жадно и с удовольствием. Курил дешевые папиросы, курил махорку, самосад, трубку, курил «Беломор» и «Казбек». Но бросил курить очень легко. Решил и бросил. Это вопрос не силы воли. Такой силы воли у меня вовсе нет. Есть дурные привычки (например, рюмка перед обедом), от которых мне избавиться не удается. Почему же я так легко бросил курить? Потому, очевидно, что не курил никто из моих родителей и предков: ни отец, ни дед, ни прадед. Табачная зараза не перешла ко мне через наследственность, через гены. Я был курильщиком в первом поколении.
* * *
Читал какой-то переводной детектив, в котором двое террористов убивают человека из пистолетов с глушителями. «Раздались звуки, похожие на те, когда открывают шампанское». Профессиональное чувство реалистичности сразу подсказало мне, что тут что-то не так. Не мог писатель, даже если он просто бездарный сочинитель полицейских романов, написать такую ерунду. Не похожи выстрелы из пистолета с глушителем на звуки открываемого шампанского. Решил докопаться и проверить. Оказалось в оригинале, что звуки от выстрелов были похожи на щелчки, возникающие при открывании банок с пивом. Да, это очень точно. Получаются при открывании банок с пивом такие глухие щелчки. Почему же переводчик исказил это место, причем ухудшив его? Потому что перевод предназначался для нашего широкого читателя, а кто же у нас держал в руках банку с пивом, а тем более открывал ее? Ну а как стреляет пробка от шампанского, слышали все.
* * *
Про Россию всегда говорили в наши советские десятилетия, что она была страной отсталой. Согласимся, хотя это спорно. Но что бесспорно и очевидно всему миру, что сейчас наше государство по всем основным направлениям развития техники, экономики, науки, торговли, сферы обслуживания, земледелия отстает от высокоразвитых стран самое малое на 50—70 лет.
Дороги. Сравним наши дороги с дорогами Германии, Англии, Франции, Италии, США, Японии, любой развитой страны, и прикинем, через сколько десятилетий у нас будет такая же и такого же качества сеть автомобильных дорог? Сами автомобили, автомобилестроение. Тут и без комментариев видно, что мы живем, с точки зрения автомобилестроения, в «каменном веке». Модель легковой машины (скажем, «Волги») у нас меняется один раз в 10—15 лет, в то время как «там» автопромышленность ежегодно «выстреливает» десятки новых моделей. Да и какая это модель, наша «Волга», разве она отвечает уровню современного автомобилестроения? Как ее сравнивать со всеми этими «мерседесами», «вольво», «тойотами», «датцунами», «ситроенами», «пежо», «рено», «оппелями», «БМВ», «фордами», «мустангами», «ягуарами», «шевроле» и десятками, сотнями других моделей? Прикинем, сколько лет понадобится нашей автомобильной промышленности догнать высокоразвитые страны.
Железные дороги и поезда. Изношенные и устаревшие железнодорожные пути, тихоходные, вечно опаздывающие поезда, постоянные очереди за билетами, толчея при посадках, обслуживание, дискомфорт, огромное скопление долго сидящих (и сидя спящих) пассажиров на вокзалах, дикие очереди на привокзальных стоянках такси — все это трудно вообразить немцу или французу, как нашим людям трудно вообразить состояние железных дорог, вокзалов и обслуживание пассажиров в тех странах.
Взять ли медицинское оборудование, медикаменты, обувь, одежду, шариковые ручки и сельскохозяйственные машины, сантехнику и электротехнику во всем ее разнообразии, бритвенные лезвия и трубопрокатное дело, металлообрабатывающие станки и пишущие машинки… Земледелие и торговля… одним словом, что ни возьмем, везде увидим, что отстаем на 50—70 лет (в лучшем случае).
Но при всем том никогда не отставала и не отстает наша поэзия.
В самом деле, в предреволюционные годы расцветал Блок, начинался Маяковский, состоялся Гумилев, гремел Северянин, мудрил Хлебников (а вокруг еще Брюсов, Бальмонт, Гиппиус), кого же мы противопоставим им в мировой поэзии тех лет? Никого. Чуть позже: Ахматова, Цветаева, Сергей Есенин, Клюев, Мандельштам, Пастернак, Тихонов (ранний), Заболоцкий, Твардовский. Кого мы поставим в мировой поэзии рядом с ними? Никого.
Да и даже нашим вот современным поэтам (хотя бы этой руганой-переруганой, хваленой-перехваленой четверке — Вознесенский, Ахмадулина, Евтушенко, Окуджава,— а по другим направлениям ведь еще Василий Федоров, Николай Рубцов, Ярослав Смеляков, Семен Кирсанов, Илья Сельвинский, Дмитрий Кедрин, Роберт Рождественский…) в мировой поэзии им (присоедините сами еще многие имена) противопоставить кого?
Оглянемся ищущими взглядами по белому свету: далеко ушли от нас во всех отношениях высокоразвитые страны, а поэзии нет совсем. Пустыня.
Слабое для нас утешение, но все же…
* * *
Бытует версия (особенно она расцвела в середине тридцатых годов, к столетию со дня смерти Пушкина), что Дантес, выходя на дуэль, надел на себя под одежду тонкий стальной панцирь, изготовленный будто бы для него в Великом Устюге. Эту версию горячо поддерживал уже в наши студенческие времена Константин Георгиевич Паустовский. Он опирался на косвенные доказательства. Первоначально дуэль была отложена. Эта оттяжка понадобилась, чтобы заказать панцирь. По документам, кто-то из голландского посольства (а старший Геккерен, как помним, был голландским посланником) ездил в те дни в Архангельск. Зачем ездил? Заказывать панцирь. Наконец, пуля ответного выстрела Пушкина попала Дантесу в область сердца, пробила руку и прошла рикошетом, считается, что от пуговицы мундира. Удар, однако, был так силен, что Дантес упал. Легче предположить, что рикошет не от пуговицы, а от панциря. Но как бы там ни было, все эти разговоры могут касаться только нравственной чистоплотности Дантеса, а не судьбы Пушкина. Будь на Дантесе хоть десять панцирей, ничего для Пушкина, а следовательно, и для нас с вами не изменилось бы.
Обстоятельства дуэли известны до последнего жеста. Расстояние между барьерами было десять шагов. Противники встали в четырех шагах каждый от своего барьера. Значит, к началу поединка они находились в восемнадцати шагах друг от друга. Потом они начали сходиться. Если бы кто-нибудь из них не захотел подходить к барьеру, он мог бы не подходить, а стрелять со своего места. Стрелять, не доходя до барьера, правила позволяли. Нельзя было переходить за барьер.
Пушкин был одним из лучших стрелков в России и опытным бойцом. Он избрал правильную тактику. Он быстро подошел к барьеру, преодолев четыре шага, и прицелился в Дантеса, идущего к барьеру медленно. Нет никаких сомнений, что, как только Дантес ступил бы на черту барьера, его ждал бы меткий и, конечно, смертельный выстрел Пушкина. Но Дантес выстрелил, сделав только два шага. Неизвестно, на какую долю секунды он опередил выстрелом Пушкина. Возможно, на сотую долю секунды, важно, что опередил. Рана оказалась смертельной. Даже если бы потом своим выстрелом Пушкин убил Дантеса, для него самого это уже не имело бы никакого значения. Рана от этого не стала бы менее тяжелой. Все дело в том, что Дантес на долю секунды опередил Пушкина.
* * *
Как не вспомнить гениальное изречение Гюго из его романа о французской революции: «Свобода одного гражданина кончается там, где начинается свобода другого гражданина».
* * *
Вот уже почти восемьдесят лет нас отучают любить свою историю, свою культуру, свой народ. Сначала это называлось шовинизмом, потом (поскольку русский народ становится малочисленным и поскольку другие малые народы тоже нужно ведь отучать любить свою историю, свою культуру, свой народ) стало это называться просто национализмом, без подразделения на шовинизм и национализм, и противопоставляется эта любовь к своей истории, к своей культуре, к своему народу, к своей земле — интернационализму. Как только человек заявит во всеуслышание: «я — русский», «я — украинец», «я — армянин» и тем, мол, горжусь, так сразу — ярлык. Националист. Еще заявить, что русский (грузин, белорус) куда ни шло, но уж этим гордиться… Чистый национализм. А мы ведь все кто? Не русские, не грузины, не украинцы, мы — интернационалисты. Мы должны любить эфиопов, камбоджийцев, кубинцев, кого угодно, только не свой народ, не самих себя. А может, и правда любить самих себя неприлично? И вообще, что это за чувство — любовь к своей родине, патриотизм? Врожденное оно или благоприобретенное, воспитанное? Ведь если благоприобретенное, то можно от него отучить, можно людей перевоспитать, и будут они все интернационалисты.
Но разве чувство любви к другим людям (народам) и любви к родному должны исключать, разве они в действительности исключают друг друга?
Берем два примера. Идет мужчина по улице, и вдруг — пожар. Кричат, бегут, мечутся. Между прочим, кричат, что в горящем доме остался ребенок. Мужчина (если он мужчина), а иная и женщина («коня на скаку остановит, в горящую избу войдет»), бросается в огонь и ребенка спасает. Разве думает спаситель в это время, какой национальности этот ребенок? Неужели он скажет так: «А, турчонок горит, ну пусть горит. Полезу я в огонь из-за какого-то турчонка…» Предположить такое рассуждение применительно к человеку невозможно. Вот сказавший так был бы действительно националистом и шовинистом. Он был бы и хуже того, если бы подбросил в огонь еще пару турчат. Нет, человек в душе своей интернационален. Но в такой же степени ему свойствен и национальный эгоизм. Переходим ко второму примеру. Идет мужчина по улице, вдруг кричат: «Задавили, ребеночка задавили!». Мужчина бежит к месту происшествия, смотрит. Действительно — задавили. Сбежавшиеся зрители поохали, поахали, кое-кто и всплакнет, но потом все пойдут по своим делам. И мужчина наш тоже. Дома расскажет про страшный случай на улице. Но если он подбежал к месту происшествия и увидел, что задавили не кого-нибудь, а его сынишку (или внучонка), будет разница? То-то вот и оно… И неужели не должно быть никакой разницы? Разве это было бы не противоестественно?
* * *
Теория самозарождения жизни в виде молекулы белка и живой клетки, а потом развития из этой клетки всех тигров и пальм, китов и жужелиц, пингвинов и ромашек, сирени и васильков, соболя и медведя, форели и журавля, и т. д. и т. д., и т. п. и т. п., то есть теория эволюции, при всей ее простоте объяснения феномена жизни и при всей ее заманчивости, все же начисто исключает наличие в жизни разумного начала. Все — само собой. Случайное соединение химических элементов, атомов, постоянное усовершенствование путем естественного отбора…
Но вот я читаю в нашей советской газете. Статья под названием «Путешествие по ушной раковине», рубрика: «Служба здоровья». Написано: «Три десятилетия назад на конгрессе в Марселе французский ученый П. Ножье выступил с сенсационным заявлением: в ушной раковине спроецирован эмбрион человека. Пользуясь старинными китайскими источниками, он разработал топографические карты уха, на которых выявил ряд рефлекторных зон…»
По-русски говоря, это означает, что каждому внутреннему органу в человеке соответствует определенная точка в ушной раковине. Но это ведь равноценно тому, что к сложному аппарату, скажем к радиоприемнику, приложена схема. Так это что — природа тоже сделала сослепу и на ощупь? А главное, зачем, исходя из какой эволюционной целесообразности?
* * *
Его клеймят на партийном собрании, ставя вопрос об исключении: «идейный перерожденец». А он скромно отвечает: «В том-то и беда, что я не сумел переродиться, а остался по-прежнему просто русским человеком».
* * *
В день сорокалетия Победы я сначала побывал у Саши Косицына. 9 мая у него, Героя Советского Союза за форсирование Дуная (он был тогда двадцатилетним пулеметчиком), день открытых дверей и целый день широкое застолье. А тут — не рядовой день Победы, а сорокалетие. Одним словом, хорошо мы отметили этот день. И вдруг Саша спохватился: «Мне же надо в Дом литераторов, там же собрались писатели — ветераны войны. Поедем со мной».
— Но я же не ветеран. Я служил всего лишь в Кремлевском полку.
— Все равно. Поедем, поедем.
Там шумное, человек на сто застолье подходило уже к концу, но тосты все еще произносились. За Матвея Крючкина — тост, за Володю Карпеку — тост. У меня, хмельного, возникло чувство протеста. Я с полным бокалом в руке подошел к микрофону.
— Что же вы, фронтовики, все за Крючкина да за Крючкина. А Главнокомандующий у вас был? Представьте французов, которые отмечали бы взятие Москвы и не упоминали бы своего Наполеона. Я предлагаю выпить за Главнокомандующего, за Генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина.
Половина присутствующих выразила восторг, половина оказалась в растерянности.
Вскоре на переделкинской дорожке встретился мне Елизар Мальцев.
— Говорят, ты тост за Сталина произнес. Да тебе после этого руки нельзя подавать.
— Вот как. Когда мы были еще студентами, вы, Елизар Юльевич, писали сталинско-лакировочные романы и даже за один из них получили Сталинскую премию. Я не помню, во-первых, что вы от премии отказались, а во-вторых, чтобы с вами перестали здороваться.
* * *
Иногда на каком-нибудь литературном вечере или просто во время разговора, когда обостряется полемика, кто-нибудь из оппонентов начинает: «Кого вы обвиняете? На кого вы хотите все свалить? Разве не сами вы из церкви выбрасывали иконы, превращали церкви в склады, а то и вовсе разбирали их на кирпич, сбрасывали колокола, увозили семьи раскулаченных на железнодорожные станции? На кого же вы хотите свалить вину?»
Приходится отвечать: «Знаете ли вы, дорогие оппоненты, что в каком-нибудь Освенциме около печей стояли евреи? Заключенные. Утром распределение работ: кому дорогу мостить, кому у печей стоять. И покорно стояли. Но не можем же мы на основании этого сказать, что евреи сами себя уничтожали в концлагерях?!»
* * *
В 85-м году у меня были серьезные неприятности. Я к этому времени закончил (в основном) книгу «Ненаписанные рассказы». Около 150 миниатюр, эпизодов, случаев из жизни, написанных с той долей правдивости, которая никак не ложилась в приятное и официальное представление о нашей действительности. И вот десять рассказов из этой рукописи, нигде не опубликованных, каким-то образом (я знаю теперь — каким, но это предмет для отдельного разговора) «утекли». Они попали в «органы», оттуда — в МГК (Гришин), из МГК — в партком Московской писательской организации и с самыми жесткими указаниями. Мне грозило исключение из рядов КПСС, а затем из Союза писателей. И только начавшееся веяние гласности и перестройки «спасло» меня. Хотя для биографии, может быть, было бы даже интереснее: не каждый день и не каждого писателя исключают из партии и из СП СССР за правду. Но это опять-таки тема для особого разговора. Вспомнил же я другое. Вспомнил я, как мой хороший (если не лучший) друг, тоже, между прочим, член СП СССР, Герой Советского Союза, доктор наук, профессор, узнав о моей истории, сокрушенно и укоризненно воскликнул: «Чего тебе не хватало?»
Вот она, наша психология.
* * *
Во время войны, с первых же ее дней, всех мужиков и парней нашего села взяли в армию, на фронт. На сорок домов нашего села не вернулось с фронта восемнадцать человек. Уцелевших можно пересчитать по пальцам одной руки. И был один необычный случай. Прошел слух, что молодой мужик, то есть недавно женившийся, которого все звали в селе Панька, дезертировал. Сумел каким-то образом убежать. Не с фронта, конечно, а здесь еще, где-то в наших местах, скорее всего во время перевозки новобранцев или со сборного пункта. За кустик, за кустик — да и был таков.
Ну, все равно, какая его, дезертира, могла ждать судьба? Впереди четыре года войны. Поймают и расстреляют. Все ждали слухов и вестей о Паньке, именно о том, что поймали и расстреляли, но слухов не было, никаких слухов не было. Пропал Панька, и все тут. Пропал.
Год назад в одной из химчисток, где я сдавал кое-какую одежонку и где пришлось при заполнении квитанции назвать свою фамилию, приемщица обратилась ко мне:
— Извините, я вижу вашу фамилию. Вы должны были хорошо знать одного своего земляка, из вашего села… — и она назвала имя-отчество Паньки.
— Конечно, знаю. Но ведь он давно уж погиб, вернее — пропал. Более сорока лет назад.
— Нет. Он умер в этом году. Всю жизнь он прожил у меня в Малаховке. И надо сказать, жили мы хорошо…
Что называется, сюжет для небольшого рассказа.
* * *
Есть такая русская эмигрантская писательница Нина Николаевна Берберова. Она написала несколько романов, которые, кажется, оцениваются не очень высоко, и очень известные воспоминания «Курсив мой». Эти воспоминания я читал, и действительно, читая их, понимаешь, что имеешь дело с человеком острого, охлажденного ума. Но охлаждение ума тоже хорошо в меру, чтобы не превратилось в цинизм. Так, в самом начале этих автобиографических записок (2 тома) я столкнулся с чудовищными строками, после которых, что бы ни писала и ни говорила Н. Берберова, что бы ни говорили мне о ней самой, какой бы интересной и умной она ни была, я уже не мог освободиться от впечатления от тех чудовищных строк. Вот они, эти строки:
«В церковь я не ходила. Сначала меня водили, потом, когда я подросла и водить было уже невозможно, я старалась увильнуть от „утоли мои печали“ и всего того, с чем я не чувствовала ничего общего. Помню, когда мне еще приходилось бывать там, как в каждое воскресенье в левом приделе стояли рядом маленькие гроба с младенцами — шесть, восемь, иногда и больше. Младенцы были все одинаковые, похожие не то на кукол, не то на пасхальных поросят, которым кладут в рот салатный листок».
Комментировать эти строки мне кажется излишне.
* * *
У смоленской поэтессы Нины Яночкиной есть стихотворение о соловьях. Они-де поют затем, что соревнуются. Кто лучше споет, к тому и прилетит соловьиха. Оставим в стороне заблуждение Н. Я. с точки зрения орнитологии. То ли соловьи (певчие птицы вообще) поют, обозначая свой «застолбленный» участок леса, то ли оповещает самец, где он находится, и тем приманивает самку, то ли поет просто для собственного удовольствия, потому что не может не петь, то ли и правда (но менее всего вероятно) происходит у самцов соревнование, своего рода турнир на победителя.
Как бы то ни было, поэтесса сделала вывод:
О, если б люди на земле, Когда придет беда большая, Все споры, зревшие во зле, Не кровью — песнями решали.Оно, конечно, хорошо бы, и так-то оно так, но… где гарантия объективности? Был же случай, когда «королем поэтов» избрали Игоря Северянина. В отличие от многих я считаю Северянина очень интересным, своеобразным поэтом, но ведь были и жили в то время Гумилев и Ахматова, Есенин и Маяковский, Блок, наконец. Победил же на состязании поэтов Игорь Северянин. Правда, от этого никто не умер, но и справедливость не восторжествовала.
А ведь еще не было тогда такого понятия, как массовая культура, не было средств массовой информации, обрабатывающих (оболванивающих) сознание масс, искусственно создающих общественное мнение. Вдруг при определенной настроенности аудитории (массы) победила бы не Обухова, не Елена Образцова, не Синявская, не Гоар Гаспарян, а Алла Пугачева? Вдруг при том массовом психозе, который возник, например, вокруг Высоцкого, пальму первенства присудили бы как певцу ему, а не Шаляпину, Карузо или хотя бы Вертинскому, а как поэт он выиграл бы состязание у Есенина, Блока, а то и у Пушкина с Лермонтовым (хотя Высоцкий в строгом смысле слова и не певец, и не поэт). Конечно, никто не умер бы, но справедливого решения спора, о котором печется Яночкина, при этом не получилось бы.
* * *
«Создал песню, подобную стону…» Уж будто как песня, так и стон, где песня, там и стон. Не сам ли Некрасов писал: «Будут песни к нему хороводные из села на заре долетать, будут нивы ему хлебородные безгреховные сны навевать». Наверное, хороводные песни не были похожи на стон.
* * *
И знаю нескольких хороших русских интеллигентов, которые не принимают частушку, считают ее чем-то низменным, примитивным и грубым. А между тем в частушке очень много тонкой лирики, тонких наблюдений, чувств, выразительности, точности.
Обещался ко мне милый Во десятом часу быть. Девять часиков пробило — Начинает сердце ныть.Разве это не точно?
Ой, какой сегодня месяц, Какое сияние, Я сегодня как-нибудь, А завтра на свидание.Тут и сожаление, что зря пропадает такой вечер, и предвкушение завтрашней встречи с любимым при таком же лунном сиянии. Вот попытался пересказать частушку, а получилось длиннее и хуже.
Было, было крыльцо мило, Был уютный уголок, А теперь я пройду мимо, Только дует ветерок.Тут надо знать, что влюбленная пара, чтобы уединиться и «гулять», сидеть, разговаривать, целоваться, облюбовывает себе обыкновенно чье-нибудь чужое крыльцо, на котором и проводит многие (летние) вечера до утренней зорьки, до холодной обильной росы на траве.
Залеточка дорогой, Залеточка модный, Погуляли мы с тобой По росе холодной.Залетка — это частушечное название ухажера. Происхождение этого слова понятно. Ведь парни гулять ходили в другие деревни, иногда верст за пять, а то и за семь.
Мы чужие крыши кроем, А свои не крытые, Мы чужих девчонок любим, А свои забытые.И вот такой-то парень, пришедший за 5—7 верст {залетевший издалека), и стал в частушках называться «залеткой».
У меня залетка был, За семь верст гулять ходил, Сама не знаю почему Измену сделала ему. Я люблю, когда пылает, Я люблю, когда горит, Я люблю, когда залетка Об измене говорит.В споре с человеком, отрицающим частушку, приводишь и этот аргумент: «Блок знал частушку и, видимо, любил ее. В „Двенадцати“ слышатся частушечные мотивы».
— Но частушка не знает Блока и никогда его не узнает. Это как полярные точки.
— Может быть. Но полярные точки одного явления, одного народа, одной культуры. И Блок и частушка явления наши. Национальные.
* * *
В каждом языке есть множество слов, заимствованных из других языков. Много их и в нашем родном языке. Тюркские, немецкие, английские, французские слова в большинстве случаев уже и не воспринимаются нами как чужие: башлык, башка, таган, вестибюль, футбол, гол, рейд, циркуль, сувенир, круиз, билет, метро… сотни и тысячи слов.
Иногда получаются курьезы (опять-таки французское словечко), наиболее известные из них: шваль, шаромыжник, шалеть («ты что, ошалел, что ли?»). Первые два остались у нас от нашествия Наполеона. Шваль — лошадь. Отступающие французы питались дохлыми лошадьми. Слово «шваль» произносилось ими, надо полагать, часто, а у русских крестьян, слышавших это, связалось в сознании с дохлятиной. Отсюда и — шваль. Когда те же голодные и оборванные отступающие солдаты просили поесть у тех же русских крестьян, они обращались к ним «шер ами» — «дорогой друг». Отсюда легко допустимо: «Ну, Марья, гляди, опять эти шаромыжники (шер амижники) идут…» Слово «шалеть» пришло, вероятно, через барские усадьбы, жители которых (господа) все говорили по-французски. Мужички опять же послушали: «Шалёр» — «жара»… «Шалёр» да «шалёр», а потом у кого-то и выскочило: «ты что, ошалел?» Но это все еще не курьезы. Мало ли — повторим — заимствованных слов в языке. Но вот северные губернии: Вологодская, Архангельская, Олонецкая. Замкнутый регион. Везде в частушках «милка», «миленок», «забава», «забавушка», «залетка».
Милка, чаешь, милка, чаешь, Чай, уж чаю напилась, Чай, обулась, чай, оделась, Чай, гулять уж собралась. Мы с залеточкой (с миленочком) прощались У большого озера. Была тихая заря, И слегка морозило.Но вот в северных губерниях вместо всех этих залеток и милок — дроля.
Меня дроля провожал Ельничком-березничком…Даже в стихах у Прокофьева (он олонецкий): «ты, клянусь разлукой, дроля»…
«Дроль» по-французски «забава». Можно не сомневаться, что именно это словечко заимствовано у Франции северными частушками. Но каким путем и почему только северными частушками? Загадка.
* * *
В одном из «камешков» я выписал целиком стихотворение Бориса Симонова из Вязников. Живя по путевке в переделкинском Доме творчества, он заходил ко мне. Его привлекли книги на полках. Иногда, уезжая по делам, я оставлял его на целый день, он сидел у меня и читал. Ну, какие там особенные книги… Библиофилией, наподобие Наровчатова или Цыбина, я никогда не занимался, книжного антиквариата у меня нет, или, скажем, почти нет. Но бывая за границей, я иногда привозил оттуда книги на русском языке, недоступные (кем-то превращенные в недоступные) для всех людей, живущих в Советском Союзе. Борис видел у меня, например, четырехтомник Гумилева, трехтомник Ахматовой, трехтомник Мандельштама, четыре тома Цветаевой, неиздающиеся у нас произведения Бунина, Бориса Зайцева, Набокова, Замятина, Георгия Иванова, Владимира Соловьева, Бердяева, Сергея Булгакова, Франка, Лосского, двухтомник Клюева, двухтомник Ходасевича, книги Ремизова, Розанова, Трубецкого («Умозрение в красках»), Солженицына, в конце концов…
Получаю от Бориса Симонова письмо.
«…Постараюсь в мае опять попасть в Переделкино — ваша библиотека не выходит у меня из головы. Жаль, что такие чудо-книги не довелось прочитать в молодости…»
Теперь, на этом примере, воскликнем с оттенком негодования и даже проклятия: «Кто, по какому праву лишил целые поколения русских людей возможности читать русские книги и тем самым по живому мясу перерезал связи между поколениями, выстригал ножницами целые периоды родной истории, литературы, философской мысли? Кто старательно, иезуитски-продуманно и преступно нарушил преемственность в исследовании, а значит, и в развитии родной культуры? Кто был заинтересован в том, чтобы целые поколения людей вырастали и формировались как можно тупее, глупее, невежественнее, однообразнее, примитивнее, забитее, а — как следствие этого — послушнее и покорнее? Кто посадил нас на духовный паек и держал на этом пайке в течение десятилетий? Да и не рано ли еще глагол „держать“ ставить в прошедшем времени?»
* * *
Недавно в какой-то книге я прочитал остроумное рассуждение. Человека зовут Вольфрам Петрович. Вспомним также все эти: Труд Иванович, Борьба Ивановна, Тракторина, Электрификация, Идея Сергеевна, Баррикада, а также аббревиатуры: Вил, Велиор (великий организатор революции), Ким, Кармий (Красная Армия), Гертруда, Боркомин (борец коммунистического интернационала) и т. д. и т. п.
Спрашивается: может ли такое имя говорить что-нибудь о его обладателе, хоть как-нибудь его характеризовать? Казалось бы — нет. А дальше и само рассуждение. Такие имена могли давать своим детям только родители-идиоты. Ну а это для характеристики человека не так уж и мало.
* * *
Мой коллега живет на даче в Переделкине. За многие годы он наладил зимой кормушки для белок и для синичек. На специальную подставку каждое утро насыпает семечек, и белки по пять-шесть штук сбегаются, кормятся, резвятся к вящему удовольствию их благодетеля. И вот откуда ни возьмись ястреб — огромная красивая птица — схватил и унес белку. Можно представить себе возмущение писателя. Он зарядил и приготовил ружье. Когда же потом он поделился с приятелем, что хочет застрелить хищную птицу, приятель его не одобрил:
— Жалко, конечно, белочку, такое милое существо. Но белок в здешнем лесу десятки и сотни. Ты же застрелишь, возможно, последнего ястреба, обитающего в этих местах.
* * *
Нас не учили любить ближнего или ближних (кроме разве вождя), нас учили ненавидеть врагов. Нас воспитывали не на любви, а на ненависти.
* * *
Когда, написанный в 1964 году, мой роман «Мать-мачеха» публиковался в журнале, из него был убран главный сюжетный ход, вернее — главный узел этого сюжетного хода. По объему это несколько страничек, пять-шесть, не больше.
То, что я назвал сюжетным ходом, в кинематографе называется — сценарный ход. Считается при этом, что если нет сценарного хода, то нет и фильма. Приведем один только пример. Влюбленные мужчина и женщина потерялись в современном человеческом муравейнике. На протяжении фильма они ищут друг друга, но все время им что-нибудь мешает соединиться. Наконец, после долгих лет разлуки, они встречаются. Их ждет счастье любви и совместной жизни. Они садятся на пароход, чтобы отправиться в свое свадебное путешествие. Последние кадры фильма: пароход отплывает, на борту надпись: «Титаник».
Теперь представим, что эти последние кадры вырезаются. Не половина фильма, не десятки метров пленки, но только последние кадры. А результат?
Можно при этом уговаривать автора фильма: ведь все осталось. Как они любят друг друга, как они ищут друг друга. Но зачем такой мрачный финал?
* * *
Считается, что написать и опубликовать книгу важно вовремя, в нужный момент. Наверное, так и есть. Тургенев даже в одном из «стихотворений в прозе» говорит, как важно не просто сказать слово, но сказать его в нужный момент.
Я помню, какая буча заварилась и кипела вокруг романа В. Дудинцева «Не хлебом единым». Тогда это было событие огромной важности, как бы знамение времени. Собирались собрания, гремели с трибуны ораторы, шумела иностранная пресса, вещали разные «голоса».
Грустно думать, но появись этот роман от буковки до буковки сейчас, не вызвал бы он такого резонанса. Точно так же, как очень спокойно воспринят сейчас роман Бека «Новое назначение», который в пятидесятые годы был бы воспринят по-другому.
Но вот — «Мастер и Маргарита». Роман написан в тридцатые годы, пролежал 26 лет после смерти писателя, и весь мир считает его романом века. Тут, возможно, парадокс. Не исключается, что в тридцатые годы этот роман встретили бы не с сегодняшним восторгом, а с недоумением. По крайней мере у нас в Москве, у нас в стране.
* * *
У Михаила Васильевича Нестерова есть картина, которую нужно считать жемчужиной русской живописи. По существу, это «Портрет дочери» художника, но картина более известна как «Девушка в амазонке». Это один из немногих поэтически завершенных портретов, художественно обобщенных образов русской девушки начала XX века. В одной из монографий о Нестерове читаем об этой работе: «В красоте лица, в нервной выразительности рук, в стройности и хрупкости ее силуэта — во всем облике „Девушки в амазонке“ проступает душевный уклад, жизненный строй, свойственный девушкам из русской образованной среды начала нового века. Эта „Девушка в амазонке“ могла не быть дочерью Нестерова, но она любила его картины, она читала Блока, она слушала Скрябина, она смотрела Айседору Дункан, точно так же, как „Смолянки“ Левицкого читали тайком Вольтера, слушали „Тайный брак“, играли на арфе и танцевали бальные пасторали».
Положительный, можно сказать, идеальный образ русской девушки…
И вот вчера, из телефонного разговора с дочерью «амазонки», с внучкой, значит, Нестерова, Ириной Викторовной, узнаю, что эта «амазонка» в возрасте пятидесяти двух лет в 1938 году была арестована, сослана в лагерь и возвратилась оттуда калекой на костылях.
Да разве одного этого факта, без десятков миллионов других жертв, без голода, который неоднократно выморивал тоже многие и многие миллионы невинных людей, — разве одного этого факта с дочерью великого русского художника Нестерова, с идеалом русской девушки в образе амазонки, не достаточно, чтобы понять, с какой властью, с каким государством мы имели дело на протяжении десятилетий? Прославлять или проклинать мы должны эти десятилетия?!
* * *
Много я видел разных памятников, но этот произвел на меня наисильнейшее впечатление. Все мы знаем, что такое «сараевский выстрел». Студент Гаврило Принцип, член организации «Молодая Босния», боровшейся за освобождение Боснии и Герцеговины, стрелял в наследника австрийского престола Франца Фердинанда и убил его. Этот выстрел послужил поводом для начала первой мировой войны со всеми последствиями.
И вот, когда я оказался в Сараеве, я захотел посмотреть, во-первых, место, где был убит наследник, а во-вторых, памятник стрелявшему. Ведь Гаврило Принцип считается национальным героем Югославии, не может быть, чтобы в Сараеве ему не стояло памятника.
И вот памятник: на тротуаре ограничен медной полоской участок асфальта поменьше квадратного метра, а в этом квадрате — следы от башмаков Принципа. Как он стоял во время выстрела, так и остались навечно его следы, вдавленные в асфальт. Вот и весь памятник.
Узкий мостик через речку, узкая набережная улица, узкий перекресток, перпендикулярная речке улочка (как бы продолжение моста), прерываемая набережной улицей. Вся картина того времени сразу встает перед глазами. Проезд наследника в летнем открытом экипаже, шпалеры празднично одетых людей… Когда мысленно встаешь на следы на асфальте, сразу становится ясной поза стрелявшего, куда он смотрел, в какую сторону направлял свой пистолет.
Впрочем, наиболее бесцеремонные туристы, особенно американцы, не мысленно, а на самом деле стремятся постоять на следах.
* * *
Поэт Михаил Беляев написал прозу. Это воспоминания о детстве, которым придана форма художественного произведения, повести, что ли. А детство у него прошло на оккупированной немцами территории, в Орловской, если не ошибаюсь, области. Ну, повесть как повесть, живут мальчишки, женщины под немцами, действует староста, полицаи, партизаны, все, чему полагается и как полагается быть. Я читал эту прозу в рукописи, рецензировал ее, не знаю, не следил, издана ли она сейчас. И вот был там один эпизод, который я много лет советовал Михаилу развернуть в самостоятельную повесть. Это была бы не очень длинная повесть, по моему ощущению, страниц на 100—150, но если бы он ее написал, она сразу выдвинула бы его в первые ряды самых лучших современных писателей. Я думаю, ее перевели бы на все возможные языки и автор наполучал бы за нее разных премий.
Нет, конечно, имело бы значение — как написать, но сам материал этого эпизода, сам сюжетный ход эпизода настолько необыкновенны, интересны, общечеловечны, гуманны, остры, прекрасны, особенно на фоне той жуткой войны, что повесть определенно принесла бы М. Беляеву известность и славное имя. Однако уговорить М. Беляева я так и не смог.
Что же за эпизод? Напишу так, как я его запомнил после одного, теперь уж давнишнего прочтения. В деревеньке произошла стычка немцев с партизанами. После перестрелки партизаны отошли в лес, а немцы тоже куда-то, наверное, в другой населенный пункт. Во дворе дома, в котором обитала женщина с двумя мальчишками, остался лежать тяжело раненный немецкий солдат. Без сознания, стонет. И вот задача для женщины с мальчишками: что с ним делать? Добить? Но какие же они добивальщики? Оставить так, пусть сам «доходит»? Он стонет. Каково это слушать? В конце концов они затащили его в избу, дали попить. Он оклемался, пришел в себя. Теперь уж и вовсе невозможно его добить. Шаг за шагом, день за днем начали они немца выхаживать. Каждое существо, которому помогаешь, невольно и неизбежно привязывает к себе. И женщина и мальчишки тоже стали привязываться к раненому. Так среди чудовищной мясорубки и бойни расцвел цветок милосердия.
И когда при новом налете партизан немца все же убили, его жалели уже почти как родного. Нарочно не придумаешь такого сюжета.
* * *
Не устаешь удивляться точности, глубине и остроумию пословиц. Говорят иногда: «Что ты носишься (суетишься по какому-либо поводу, хвалишься чем-либо), как нищий с писаной торбой». Действительно, вот у нищего появилась новая, красивая, с вышивкой (писаная) торба. Разве не повод для радости, показать всем, похвастаться: вот какая красивая новая торба! Да, но это лишь торба нищего. Ходить «по миру», собирать милостыню и класть куски в эту торбу.
* * *
С древнейших времен существовал в народе обычай: бухнет похоронный колокол — надо перекреститься. Тем более, если попадется навстречу похоронная процессия или мимо дома пронесут покойника, обязательно надо перекреститься. Мужчины как-то сдержаннее были на этот счет, разве что старики, парни те и вовсе… но чтобы женщина, чтобы старушка не перекрестилась при виде покойника, трудно себе представить.
И вот хоронили Федю Абрамова. С аэродрома процессия медленно проследовала через районный поселок в его родную деревню. На другой день через всю его деревню процессия проследовала до места похорон над Пинегой на высоком берегу. И в том и в другом случае процессия двигалась мимо множества земляков Федора Абрамова, кроме того, из всех окон выглядывали люди. И вот — загадка. Я зорко наблюдал за людьми — ни одного крестного знамения. А ведь это богомольные староверческие места. Объяснить не умею.
* * *
Летели на самолете из Ургенча в Москву. Уже и ремнями пристегнулись, как вдруг одна женщина обнаружила, что села не в тот самолет. Ей нужно в Ташкент. С беспрерывными возгласами «кошмар, кошмар», хватая свои сумки, незадачливая пассажирка успела-таки выскочить из самолета. Все успокоилось. Только одна старая узбечка стала обращаться к своим соседям, а потом и к другим пассажирам: «Что такое кошмар? Что такое кошмар?» Никто ей долго не мог ответить. Наконец я с точностью энциклопедического словаря пояснил: «Кошмар — это страшный сон». Узбечка облегченно вздохнула и даже стала всем объяснять: «Оказывается, кошмар — это страшный сон».
* * *
Возьмем два письма, написанные двумя замечательными деятелями русской культуры в разное время, при разных обстоятельствах, двум разным и — как видно из писем — замечательным русским женщинам.
«Мое самое искреннее сочувствие будет сопровождать Вас в Вашем тяжелом странствовании. Желаю от всей души, чтобы взятый на себя подвиг не оказался непосильным. С великой нежностью целую Ваши милые, милые руки, которым предстоит делать много добрых дел».
Написано Иваном Сергеевичем Тургеневым из Парижа в Россию в 1877 году.
«Милая Соня!
Позвольте мне по старой дружбе с Вашей семьей называть Вас так, несмотря на то, что Вы превратились теперь во взрослую барышню. Спасибо Вам за Ваше милое, ласковое письмо, которое я не заслужил.
Вспоминая прошлое, я браню себя за то, что мало отдавал внимания окружавшей нас тогда молодежи. В наш грубый и жестокий век, когда все, даже молодые сердца закрыты или наполнены ненавистью и злобой, такие письма, как Ваше, — редкость, и я благодарю Вас за него вдвойне. Радуюсь, что теперь, находясь временно за границей, могу ответить на него, т. к. из России мне не удалось бы этого сделать.
Часто вспоминаю Вашу милую семью, с которой я был связан дружбой и хорошими минутами… Мане, брату и всем, кто меня помнит, шлю сердечный привет. Вас же благодарю и приветствую.
Сердечно преданный К. Алексеев (Станиславский). 28.7.1929 г. Баденвейнер».
Об авторах этих писем говорить не приходится. Имена Тургенева и Станиславского не требуют пояснений. Поговорим об их адресатках.
Тургенев пишет одной из самых блистательных петербургских красавиц, баронессе Юлии Петровне Вревской, своей доброй знакомой. Женское очарование, самоотверженность и доброта сочетались в ней с пламенным патриотизмом. В. Левченко пишет о ней: «В 1877 году началась русско-турецкая война. В освободительном походе на Балканах, как известно, участвовали не только мужчины-воины. Обстановка в российском обществе, накал благородных чувств были таковы, что многие женщины добровольно направились на фронт. Милосердные сестры — так их тогда называли. Среди них была и та, кого благословлял Тургенев, — Юлия Петровна Вревская — одна из блистательных петербургских красавиц».
С войны Юлия Петровна не вернулась, она умерла от тифа. В Болгарии, в городе Бяла ей поставлен памятник.
Теперь об адресатке Станиславского. Это Соня — Софья Михайловна Зёрнова.
Зёрновы, дети доктора Зёрнова, две сестры и два брата, являли собой образец той русской интеллигенции, образованной, талантливой, жертвенной, многосторонне развитой, которая сформировалась к моменту революции и которая, продолжая культурные традиции XIX века, явила бы миру чудеса просвещенности, искусства, гуманизма, красоты и духовного богатства. В доме Зерновых бывали, восхищались молодостью — Станиславский, Качалов, Книппер, Хмара, Рахманинов… В одном из писем Станиславского можно прочитать: «Дети Зёрнова подросли, странная и милая молодежь».
Вся семья, естественно, оказалась в эмиграции. В двухтомной «Семейной хронике Зёрновых» подробно описано, как синеглазая русская девушка уходила с белой гвардией в Грузию, а затем через Батуми в Константинополь, а потом в Югославию, а потом и в Париж. Соня Зёрнова была той юной русской красавицей, которая от имени эмиграции на балу преподнесла королю Югославии платиновый браслет (по другой версии подкову) в бриллиантах и сапфирах в благодарность за то, что король русскую эмиграцию приютил. Всю жизнь Софья Михайловна вела активную деятельность по воспитанию молодежи, помогала бедным эмигрантам. В последние годы своей жизни (Софья Михайловна скончалась в 1972 году) она руководила приютом эмигрантских сирот в Монжероне. То есть, опять же, то же самое — милосердие.
А теперь поставим вопрос ребром. Живи Соня Зёрнова в 1877 году, с ее добротой, с ее жертвенностью, с ее душой, разве не могла бы она оказаться в числе милосердных сестер (тем более дочка доктора), разве не могла бы оказаться на месте Юлии Петровны Вревской, памятник которой стоит в Болгарии? А баронесса Вревская, живи она не в 1877 году, а в 1917 году, где бы оказалась она и что бы с ней стало? В лучшем случае она оказалась бы на месте Сони Зёрновой, то есть в эмиграции. А в худшем… Нетрудно вообразить.
* * *
Есть портрет А. Толстого, написанный Кончаловским. Алексей Николаевич изображен во время обеда. Огромная семга, источающая розовый жир, гора икры… Теперь уж не помню всей снеди, расставленной на столе. Да, А. Толстой избежал полуголодного, чтобы не сказать нищенского бунинского, купринского, шмелевского (Ивана Шмелева), зайцевского (Бориса Зайцева), вообще эмигрантского существования. Он ел от огромной семги. Но ведь ему пришлось написать роман «Хлеб», а это — кто понимает — хуже голода, хуже пытки и казни.
* * *
Троцкий, развязавший на всей территории бывшей Российской империи чудовищный террор, какого не знало человечество за всю свою историю, Троцкий, на совести которого десятки миллионов человеческих жизней, причем самых добрых, самых красивых, лучших людей, совершенно невинных людей, этот Троцкий в последние годы перед смертью, оказывается, разводил кроликов и, говорят, трогательно любил этих животных.
* * *
На чем и как нас воспитывали? Ну, Павлик Морозов, предавший отца, это уже — общее место. Щипачев даже написал поэму, прославляющую предательство как высшую доблесть. Факт единичный, вероятно, во всей мировой литературе. Но вот кто помнит, с чего начинается «Как закалялась сталь»? Священник, учитель в школе закона Божьего, спрашивает учеников, кто перед Пасхой приходил к нему на дом сдавать уроки. Дело в том, что один из учеников, а именно, как потом выяснилось, Павел Корчагин, образец человеческого и коммунистического поведения для многих последующих поколений, насыпал в пасхальное (для кулича) тесто махорки. И это тоже преподносилось нам как доблесть. То есть мелкая пакость преподносилась как доблесть. Пакости, предавай, доноси, ненавидь, воруй (вскоре Павка украдет наган) — все хорошо, если ты воруешь у «классового врага», если ты пакостишь «классовому врагу». Тогда ты не пакостник, не гаденыш, не воришка, а — герой.
* * *
Как известно, первым (из широко известных) политическим русским эмигрантом был князь Курбский. В своей переписке с Иваном Грозным, объясняя мотивы своего эмигрирования, князь обвиняет царя в том, что он «затворил русскую землю, сиречь свободное естество человеческое, аки в адовой твердыне». Так можем ли мы обвинять русскую эмиграцию первых лет революции, когда произошло такое «затворение свободного естества человеческого», какое Курбскому и не снилось?
* * *
Эпизод из фильма «Котовский». Его войска внезапно взяли Одессу, а там в оперном театре идет концерт. Публика — интеллигенция, еще не уехавшая в эмиграцию и еще не истребленная в глухих подвалах. Там мог находиться «в креслах», скажем, и Бунин, живший в те дни в Одессе, и мог он там оказаться с дамой. И вот победитель Котовский, внезапно захвативший Одессу, выходит на сцену, постукивая нагайкой о голенище, мрачным взглядом обводит зал (в фильме это актер Мордвинов) и вдруг командует публике: «Встать!»
Не в том даже дело, что таким оказался Котовский, а в том, что много лет уж спустя создатели фильма видели в поведении Котовского пример революционной доблести и считали, что он принес на своих саблях вполне нормальную в их понимании революционную атмосферу. То есть атмосферу принуждения и насилия. «Встать!»
* * *
Рассказывают, что в эмиграции особенно бедствовали учителя, учившие в школах детей эмигрантов. Материальное положение их было очень тяжелым. И все же в одном им, русским учителям, было легче, нежели их коллегам на родине. Не надо было писать ежевечерне и ежегодно нелепых, унизительных и постыдных конспектов по проведению уроков, не надо было вдалбливать в детские головенки колхозные трактора, ударные бригады, стахановцев и прочую ложь. Они могли учить детей добру, а не бездарным и бездуховным стишкам о пятилетках, они могли учить детей так, как велит им совесть, а не так, как велит роно, гороно, облоно…
* * *
Можно писать при свечах, при керосиновой лампе, при настольной электрической лампе, просто при электрическом свете, при коптилке, просто при дневном свете (лучше, чтобы он падал слева), а вот Олег Михайлов сказал про Ивана Шмелева, что он писал при свете Евангелия.
* * *
У Бориса Корнилова есть строфа, которую я люблю про себя повторять:
Айда, голубарь, пошевеливай, трогай, Коняга, мой конь вороной! Все люди как люди, поедут дорогой, А мы пронесем стороной.Ну, не такой уж тут глубокий философский или житейский смысл, чтобы кто-нибудь мог его не понять. И все же в полной мере не смысл, а очарование этой строфы может понять только тот, кто помнит зимние дороги того времени, масленичные катания на наших дорогах и что это означало тогда — «пронестись стороной». А означало это тогда не просто обогнать несколько подвод, но настоящую удаль.
Дорога с осени укатывалась, и укатывалась до твердости (на морозе) почти что камня. Она не только укатывалась, но и накатывалась, то есть поднималась все выше и выше. По сторонам ее все подсыпало и подсыпало снегу. Так что сразу и не узнаешь, как высоко уже «накатались» зимние твердые дороги. Узнать это можно было, только сделав шаг в сторону. Сразу вязнешь в рыхлом снегу выше колен. Теперь надо представить себе, как глубоко увязла бы лошадь, свернув с дороги. Почти по брюхо. И саночки, в которые она запряжена, тоже сразу вязли в снегу.
И вот — масленичные катания. Десятка два упряжек, саночки, повозки, сани, полные радостных детишек, там в саночках молодые муж и жена, там — несколько парней. Трусцой ли, рысью ли, но — по дороге. По накатанной дороге. В сторону ведь не свернешь: пышный снег лошади по брюхо. Но находится лихач в легких саночках (и рысак ему под стать), и вот он лихо сворачивает с дороги и по целику, взрыхляя снег, обгоняет едущих по дороге. Тут нужны были рывок, азарт, удаль. Себя показать, лошадь свою показать. А может, еще и девка нравящаяся в чьих-то санях, перед ней показаться, покрасоваться…
В наших местах выездных рысаков не держали: только те были лошади, на которых пашут, возят снопы, крестьянские рабочие лошади. Лишь в деревне Пискутино некто Мазин держал рысаков. Так они и назывались — мазинские рысаки. И вот все мы трусим на масленицу, катаемся по дороге: лошадь за лошадью, сани за санями, вдруг — вихрь, снежная буря в стороне от дороги. Что такое? Мазин на своем рысаке пронесся! Так что самому мне (ни моему отцу на Голубчике) не приходилось проноситься стороной, обгоняя остальных. Оставалось только смотреть, как обгоняет нас Мазин. Тем не менее с какой-то тайной сладостью иногда повторяю про себя эти строчки:
Все люди как люди, поедут дорогой, А мы пронесем стороной.Осталось, видимо, что-то в характере от тех времен, хотя нет уже больше ни маслениц, ни катаний, ни Мазина, ни мазинских рысаков, ни деревни Пискутино, ни просто хотя бы лошадей.
* * *
Во время войны 1941—1945 годов миллионы советских солдат оказывались в плену. Ведь была даже РОА, русская освободительная армия, так называемые власовцы. Но даже если и не власовцы, все равно все пленные, что возвращались на родину, во-первых, проходили специальную проверку, а во-вторых, оказывались в лагерях. После немецких лагерей — советские лагеря. Практически все пленные несли на себе клеймо изменника родины. Известно, что по сговору со Сталиным англо-американское командование выдало после войны советской стороне больше миллиона пленных, их погрузили в австрийском местечке в эшелоны и прямым ходом — в Сибирь. Многие стрелялись прямо на подножках вагонов. Но в связи с этим вот что приходит на ум.
Была война, скажем, с турками, когда Суворов брал Измаил. Не было ни одного изменника родины. Была война со шведами (Нарва, Полтава), не было ни одного изменника родины. Была война с Наполеоном. Не было ни одного изменника родины. Была русско-турецкая война, когда освобождали Болгарию. Не было ни одного изменника родины. Была война с Японией в 1904 году. Не было ни одного изменника родины. Была, наконец, война с немцами в 1914 году. Не было ни одного изменника родины. Откуда же и почему же взялись вдруг миллионы изменников?
* * *
Было время, когда распространение любого текста, даже песни, строго контролировалось государством. Песню, конечно, можно было запомнить (а потом запомнит другой), но само «привнесение» песни было контролируемо и, так сказать, ограничено в своих возможностях. Патефонные пластинки, выпускаемые государством, — вот это и был песенный паек. А то, что исполнялось по радио или в концертах, тоже было строго контролируемо. Из-под полы продавали Вертинского, записанного на рентгеновских снимках, на этих тонких пленках, которые можно было свернуть в трубочку. Посмотришь на просвет: легкие с затемнениями, кости с переломами, а на бороздках, если поставить на патефон: «Где вы теперь? Кто вам целует пальцы? Куда ушел ваш китайчонок Ли?..»
Пишущие машинки в учреждениях на выходной день сносились в одну комнату и на дверь вешали пломбу.
Но вот появился магнитофон, сначала ленточный, а потом появилась и кассета. Карманный предмет на 90 минут звучания. Песенно-звуковая-текстовая информация ушла из-под контроля государства. Ушла окончательно и бесповоротно, ушла, как половодье, которое невозможно загнать обратно в узкие ручейковые берега. Теперь с распространением видеосистем и видеокассет уходит из-под контроля кино, вообще изобразительная информация. На очереди «ксерокс», то есть печатное слово. Бедное государство!
* * *
Не скажу, чтобы много, но все же приходилось летать по международным авиалиниям. Преимущественно, конечно, Аэрофлотом. Все основные пассажиры летят так называемым «экономическим» классом, то есть — обыкновенно. Но есть, оказывается, еще и первый класс. Особый отсек в фюзеляже самолета. Кресла расположены свободно, с пространством, чтобы не нужно было тесниться. Если для обыкновенных пассажиров распитие спиртных напитков запрещено (хотя можно вынуть фляжку из заднего кармана…), то там, в первом классе (а обычно там три — пять человек), стюардессы предлагают на подносах: чего изволите? Коньяк, водка, виски, шампанское, просто вино, пиво? Выпьешь рюмку, думаешь, что выпил положенную норму, а стюардесса уж тут как тут с бутылкой в руке. Доливает опять дополна.
Первым классом в самолете Аэрофлота я летел дважды, оба раза случайно. Один раз меня взял с собой Михалков, когда мы вместе летели из Софии в Москву, второй раз я в Стокгольме за день до отлета устроил вечер-встречу с нашими посольскими и торгпредовскими работниками. На вечере присутствовал представитель Аэрофлота. Ему понравилось. Кажется, даже у кого-то из дипломатов ужин после вечера был, угостили московского литератора, и представитель Аэрофлота на ужине тоже был. После всего этого он поставил на моем билете какую-то печатку (либо прикрепил какую-то красненькую бумажку), и я оказался пассажиром первого класса.
Несколько раз я летал и самолетами иностранных авиакомпаний (скажем, «Люфтганза» или «Эрфранс»), но теперь не могу сказать, существует ли у них первый класс. Если и существует, то это лишь вопрос денег. Плати в два раза больше и получай первый класс. У нас же это вопрос чиновничье-сановной лестницы, вопрос престижа. Не каждому первый класс продадут. Вернее сказать, никому не продадут, кроме тех, кому — положено.
И вот, случайно оказавшись, лечу я в салоне первого класса и думаю: какие преимущества! Просторно, особые улыбки стюардесс, особая еда, особая, одним словом, атмосфера, не говоря уж о напитках. И тут же мелькает мысль: но ведь в случае чего… Ну, там, крыло отвалилось, ведь не останется у первого класса никаких преимуществ. В море, там хоть, может, в шлюпку посадят в первую очередь, а здесь — ничего. Шмяк! — и все равны. Утешает.
А потом подумаешь: и на нашем глобально-космическом корабле, где тоже одни живут так, а другие этак (это касается и отдельных людей, и целых государств, и целых наций), перед лицом вплотную надвигающейся экологической катастрофы окажемся все равны, и у президента с последним «работягой», у миллиардера с последним нищим, у нации, которая считает себя выше всех, с нациями, которые эта избранная нация считает низшими и презирает, в конце концов шансы окажутся равными. Окажутся эти шансы равными нулю. Утешает.
* * *
Телефильм по литературному произведению, ну, скажем, по «Анне Карениной» или по «Мертвым душам». Сейчас такие телефильмы, в сущности, подменяют чтение. Посмотрит юноша или девушка (а хоть бы и взрослый, пожилой человек, который почему-либо «Анну Каренину» не читал), и читать сам роман как бы уже нет надобности. Зачем читать, когда все уже ясно.
Не будем говорить о преимуществе книги в том, что она стоит на полке, ее можно взять в любой момент, раскрыть, сесть с ней в кресло. Можно отвести глаза от текста, задуматься, осмыслить прочитанное, потом читать дальше.
Не будем говорить о преимуществе книги в том, что, читая ее, погружаешься в стихию языка. Русского языка вообще и языка данного писателя в частности. А это ведь — наслаждение. Одно дело (если использовать это грубое сравнение) принудительное питание через кишку, введенную в пищевод, с воронкой на конце (телевидение), а другое дело — неторопливая, со вкусом, еда.
И все же главное преимущество книги перед телефильмом по этой книге — в другом.
Дело в том, что при чтении книги у читающего невольно включается воображение. Действие романа (рассказа, повести) перед его мысленным взором разворачивается в картинах, он видит обстановку, видит лица персонажей, он видит их живыми, как бы в кино. Преимущество перед кино в том, что читатель при этом сам «режиссирует» свой «фильм», кинорежиссер со стороны не навязывает ему своих концепций, а актеры со стороны не навязывают ему внешнего облика персонажей и действия этих персонажей. То есть чтение книги есть процесс более активный и творческий, более активно-творческий, нежели сидение перед «ящиком», когда человек более потребитель, чем творец.
* * *
Известен факт, что, когда вешали декабристов, у одного из них оборвалась петля (кажется, у Рылеева). На этот счет либералы и демократы потом язвили: «Что за проклятая страна?! Повесить и то как следует не умеют».
Но не следует ли из этого, что в «проклятой стране» мало и редко вешали?
* * *
Одно из лучших стихотворений Державина «Властителям и судиям». Это переложение на русские стихи восемьдесят первого псалма Давида (всего псалмов в «Псалтири» сто пятьдесят).
Значит, восемьдесят первый псалом послужил Державину, можно было сказать, источником вдохновения, толчком, искрой замысла, но мы скажем более профессионально и узко: подстрочником. Имение с подобных смысловых переводов (а сам псалом — это перевод сначала с древнееврейского на старославянский, а потом уж на современный русский язык) мы и переводим обычно, не зная языков, якутские, грузинские, армянские, аварские и т. д. и т. п. стихи.
Значит, интересно сопоставить оригинал (правда, уже переведенный на русский язык) и то, что из него получилось в поэтическом изложении Державина. Это стихотворение известно всем, но не каждый заглядывал в «Псалтирь», поэтому, уж если мы решили сопоставить два произведения искусства, выпишем восемьдесят первый псалом в его истинном виде. То есть выпишем сначала подстрочник.
1. Бог стал в сонме богов; среди богов произнес суд.
2. Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым?
3. Давайте суд бедному и сироте; угнетенному и нищему оказывайте справедливость.
4. Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из рук нечестивых.
5. Не знают, не разумеют, во тьме ходят; все основания земли колеблются.
6. Я сказал: вы — боги, и сыны Всевышнего — все вы.
7. Но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей.
8. Восстань, Боже, суди землю; ибо ты наследуешь все народы.
Псалом по-гречески — песнопение. Это древнеиудейская лирика, восходящая более чем к десятому веку до нашей эры. Мы не знаем, как звучит, как читается или поется псалом в оригинале, то есть на древнееврейском языке. Но после трехступенчатого перевода: с древнееврейского на греческий (византийский), с греческого на старославянский, со старославянского на современный русский — псалмы выглядят именно как подстрочники (смысловые переводы), а не как готовые стихи. Об этом же говорит и указание во всех энциклопедиях, что псалмы на протяжении человеческой истории постоянно «излагались» на разных языках, перекладывались на разные языки. Зачем излагать и перекладывать, скажем, «Илиаду» или сонеты Петрарки? Их надобно просто переводить. Если забыть о том, что всякий перевод стихотворения на другой язык неизбежно есть изложение и переложение.
Посмотрим же, что получилось у Державина при переложении восемьдесят первого псалма Давида на современный Державину литературный русский, а точнее сказать — на державинский язык:
ВЛАСТИТЕЛЯМ И СУДИЯМ
Восстал всевышний бог, да судит Земных богов во сонме их; Доколе, рек, доколь вам будет Щадить неправедных и злых? Ваш долг есть: сохранять законы, На лица сильных не взирать, Без помощи, без обороны Сирот и вдов не оставлять. Ваш долг: спасать от бед невинных, Несчастливым подать покров; От сильных защищать бессильных, Исторгнуть бедных из оков.Дальше стихотворение приобретает громоподобную силу. Подивимся также, как оно, восходящее к X—XI векам до н. э., современно звучит:
Не внемлют! видят — и не знают! Покрыты мздою очеса: Злодействы землю потрясают, Неправда зыблет небеса. Цари! Я мнил, вы боги властны, Никто над вами не судья, Но вы, как я подобно, страстны, И так же смертны, как и я. И вы подобно так падете, Как с древ увядший лист падет! И вы подобно так умрете, Как ваш последний раб умрет! Воскресни, боже! боже правых! И их молению внемли: Приди, суди, карай лукавых, И будь един царем земли!Да, современно это звучало во времена царя Давида, современно это звучало во времена Державина, современно это звучит и сейчас.
Я думаю, нашелся бы новый Державин, чтобы переложить на современный язык первый псалом.
1. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей…
Ну, и так далее…
* * *
Когда-то давно я написал рассказ «Под одной крышей». Дело в том, что в начале 30-х годов в наш деревенский двухэтажный, довольно-таки просторный дом подселили приезжую многочисленную семью кузнеца. Как бы это коротко и внятно все объяснить. Дом наш строили два брата Михаил Дмитриевич и Алексей Дмитриевич, мой родной дед, отец Алексея Алексеевича. Михаил Дмитриевич был побогаче моего деда, он даже подарил селу большой колокол весом в 270 пудов, о чем свидетельствовала надпись на колоколе славянской вязью: «Дар крестьянина Михаила Дмитриевича Солоухина». Однако жили они с тетей Настей вдвоем, детей у них не было, поэтому их «половина» дома была меньше нашей. Ведь у Алексея Алексеевича — братья и сестры, да своих десять человек детей. Ваш покорный слуга десятый, младший, последний.
После нашей многодетной, шумной, всегда немножко не то чтобы неприбранной, но все же всегда немножко раздерганной «половины» к тете Насте попадешь, бывало, как в другое, тихое благообразное царство с крашеным чистым полом, изразцовой печкой, золочеными образами в переднем углу. Впрочем, попасть к тете Насте можно было, только обойдя дом вокруг. У нее был свой вход в дом, со своей стороны, а две половины дома разделялись капитальной стеной. Я оттого говорю «к тете Насте», что эту старуху я помню, а Михаила Дмитриевича уже нет. Видимо, он умер раньше, нежели включился механизм моей памяти.
У нас «по улице» было на втором этаже три окна, а у них два окна. Кроме того, весь нижний этаж нашей половины был жилой, а у них он был занят кирпичной кладовой с железными коваными дверями, и только позади уж этой кладовой ютилась кухонька, всё почти пространство которой занимала русская печь. Вход на верхний этаж у них был не как у нас, не из нижнего помещения, но прямо с улицы, минуя кухоньку, вела наверх широкая лестница с балюстрадой.
Тетя Настя свою половину успела еще при жизни продать некой женщине Екатерине, а та в свою очередь перепродала ее сельсовету. Многие годы до всяких укрупнений в верхнем помещении тети Настиной половины располагался сельсовет. Нижняя же кухонька была сельсоветом продана многосемейному кузнецу, приехавшему в наше село из другого села верст за двадцать. Тогда, при лошадином передвижении, это считалось — издалека. Сам кузнец дядя Никита, Никита Васильевич Кузов, жена его — тетя Даша. Это именно с ним произошел у меня в более поздние времена разговор.
— Что же, Лексеич, две девочки у тебя. Надо бы парня.
— Риск большой. А вдруг и третья девочка.
Никита Васильевич задумался, а потом и говорит:
— А ведь у меня семь девок-то было, а потом уж и парни пошли.
Ко времени переезда в наше село две старшие дочери кузнеца Онька и Фронька, то есть, значит, Онисья и Ефросинья, были уже выданы в какие-то другие деревни, еще одна дочь Шура работала в совхозе «Борец». Остальные дети — Машка, Фиска, Васька (называю их так, как звали отец с матерью), Лидка, Колька и Капка — все были при кузнеце и при матери. Как они там ютились в клетушке с огромной русской печью — непостижимо. Они были не просто нашими соседями, но соседями, жившими в нашем же доме, под одной с нами крышей, и мое детство и самая ранняя юность прошли вместе с этой кузовской ребятней. Некоторые из них были постарше меня, некоторые помладше, с Васькой мы были, можно сказать, ровесниками — год разницы.
О дяде Никите и вообще об этой семье из разных моих рассказов и повестей можно насобирать много мелких подробностей. Все эти подробности доброжелательны и освещены мягким светом, вот именно, детства и юности.
Но время шло, умерли старики, разъехались кто куда все дети. Прижилась в Алепине только одна Машка, Мария Никитична, вышедшая было замуж в соседнюю деревеньку, но овдовевшая в первые же дни войны. От этого короткого, буквально недельного брака осталась у нее дочка, с которой она и перебралась из чужой, не успевшей еще стать своей и близкой, деревни назад в материнско-отцовскую, бывшую тети Настину кухоньку.
Тем временем я решил отремонтировать свой родительский дом, откупив у сельсовета, который теперь находился уже в Черкутине, вторую половину дома, за исключением, разумеется, той клетушки с русской печью, где продолжала жить (и жила до смерти) наша соседка.
Из всех детей Никиты Васильевича и тети Даши именно эта дочь оказалась с самым тяжелым и отвратительным характером. Хотя мы и были отделены от нее стеной, но все же, живя в таком близком соседстве, живя вот именно под одной крышей, невозможно было никак не сталкиваться, не общаться, не соприкасаться, и жизнь, накапливая постепенно факты и случаи, сама подсказала мне рассказ «Под одной крышей». Если бы дело касалось только быта, я бы не взялся за этот рассказ, но тут содержался обобщающий момент такой силы (причем двойной обобщающий момент), что я решил пренебречь этической стороной вопроса (писать о соседке) и рассказ написал. И конечно же, как ни изменял я название нашего села и все имена, соседка в героине рассказа Нюшке себя моментально узнала. И факты я тоже многие дофантазировал. Это только кажется, что, если рассказ написан от первого лица, во всем есть фактическая правда и ничто в нем не усилено или, напротив, не затушевано. Сюжетная пружина рассказа была такова: соседка Нюшка приспособилась выливать помои перед нашими окнами, образовалась помойная яма, рассадница мух. Моя жена посыпала гнилостное место дустом. У соседки сдох петух, наклевавшийся, видимо, на помойной яме. Соседка убила в отместку нашего котенка. Жена стала требовать от меня, чтобы я застрелил соседкину собачонку. Дальше выпишем два абзаца.
«Жена рыдала и требовала, чтобы я немедленно застрелил Рубикона. Я и сам почувствовал невыносимую злость. Значит, дело будет выглядеть так: я в ответ на ее злодеяние убиваю Рубикона, она затаптывает в грязь наши простыни, вывешенные сушиться в саду; я беглым огнем истребляю всех ее кур и уток, возможно, поросенка, а она ошпаривает кипятком наших детей… Моя фантазия остановилась на этой месте, но кто знает границы Нюшкиной фантазии и изобретательности! Конечно, она не сможет совершить главного шага — подпалить дом, потому что сама живет под той же крышей…
Вероятно, так и начиналась история на земле. Обида отплачивается обидой. Всегда хотя бы с маленьким перехлестом. Крупица зла породила горошину зла. Горошина породила орех, орех породил яблоко, яблоко породило арбуз… И вот в конце концов накопился океан зла, в котором может потонуть все человечество. Дело подошло вплотную к поджиганию, а еще точнее — к сожжению дома. Хорошо еще, что, как и в нашем микроскопическом случае с соседкой Нюшкой, все живут под одной крышей, и поджечь соседа означает поджечь себя…»
Положение безвыходное. Уехать, допустим, нельзя и некуда (для человечества, для народов, населяющих земной шар, это особенно очевидно), поджечь соседа — значит поджечь себя, а мстить за каждое очередное зло, содеянное соседом, означает лишь умножать зло. Где же выход? И как жить дальше? Именно с таким вопросом подступила ко мне в рассказе жена. Она призывала меня к мужеству как главу семьи, и тут меня осенило, что сейчас самое время совершить поступок именно мужественный, хотя бы ради эксперимента. Я понял, что сейчас на нашем микроскопическом случае представляется нам возможность проверить правильность основного утверждения, а более учено выражаясь, главного постулата учения Христа. Если бы не это, я бы, наверное, не написал рассказа «Под одной крышей».
Далее события развивались следующим образом.
Жена мне сказала:
— Если ты не можешь отомстить (за котенка) и если мы не можем уехать, научи, как жить дальше, что мне делать, как себя вести, говори!
— Видишь ли, ты меня призываешь к мужеству. Но дело в том, что застрелить собачонку… Можно сказать, что мужества в строгом смысле слова для этого не потребуется. Но у тебя есть возможность совершить поступок истинно мужественный, иди и соверши.
— Задушить ее своими руками?
— Нет, возьми колбасу, которую я привез из Москвы (по другому варианту рассказа — пачку дрожжей, что для соседки в рассуждении ее «индивидуальной трудовой деятельности» было дороже колбасы), и отнеси ей. Скажи, что это подарок от нас двоих.
Жена посмотрела на меня испуганно, как на сошедшего с ума (точно так же, наверное, смотрели на Христа, когда он говорил «подставь левую щеку»). Еще бы, ведь это была та доля секунды, когда разогнавшиеся мысли ее, психика ее, злость ее, жажда возмездия — все это должно было остановиться, как при железном тормозе, а затем начать движение в обратную сторону.
— Ты… серьезно?
— Очень… Я подумал, что в создавшемся положении это единственно правильный выход. Ведь если идти и дальше по пути, на который мы встали, получится следующее: я застрелю Рубикона, она затопчет в грязь наши простыни, я перестреляю ее уток, она перешибет ногу нашей дочери… В конце концов останется одно — подпалить дом. Кто раньше успеет. Но в нашем случае это бессмысленно, потому что мы живем в одном доме, под одной крышей. Уехать мы не можем, ее прогнать нельзя. Так что я в самом деле не вижу никакого выхода, но выход есть, и я его предлагаю. Возьми колбасу (дрожжи) и отнеси ее как подарок от нас двоих.
Я вспомнил Христа, ибо собирался совершить христианский, истинно христианский поступок, то есть ответить добром на зло, противопоставить добро злу, столкнуть эти две категории и посмотреть, что из этого выйдет. «Неужели Он еще две тысячи лет назад, — думал я, — понял всю гибельность пути, по которому движется человечество, и, не увидев никакого другого выхода, предложил нечто совсем невообразимое, но, увы, единственное: ты убила нашего котенка, а мы тебе — колбасы…»
Способ жизни единственно правильный, учение воистину великое, только вот остается вопрос: доросло ли человечество до этого учения, достойно ли его человечество? Это учение верно в идеале, отвлеченно и теоретически, но в практике жизни?.. В практике жизни есть люди-волки и люди-овцы. И не заставишь волков питаться репой, капустой и огурцами.
Жена взяла колбасу (дрожжи) и ушла. Я не знал, что происходит за стеной. Может быть, Нюшка швырнула подарок жене в лицо. Может быть, она еще и плюнула ей вдогонку. Я приготовился просить у жены прощения за столь необходимый, интересный, но и столь же тяжелый эксперимент, как вдруг жена вошла в комнату.
Вся она была возбуждена, будто только что получила известие, самое радостное в жизни. Оказывается, сначала Нюшка, увидев ее на пороге, потянулась было за ухватом, но жена развернула и положила на стол наш подарок. Сказала, что сегодня воскресенье, а у нас еще есть, и вот мы решили…
Нюшка будто бы заплакала и бросилась обнимать, и обе они плакали на плече друг у дружки.
Не успели мы опомниться от такого поворота событий, как Нюшка появилась на нашем пороге. В руках она держала решето отборного репчатого лука…
Ну вот. Таков был — вкратце — рассказ «Под одной крышей».
Конечно, узнав в рассказе себя, Нюшка (Машка, Мария Никитична) имела основания обидеться, особенно за первую половину рассказа, где я живописал ее «ангельский» характер, всю склочность и мелочность ее натуры, ее озлобленность. (Кстати сказать, в подтверждение моей несубъективности, в деревне ее не любил никто.) Но ведь если бы она взяла в понимании рассказа чуть выше, она бы могла понять, что я изобразил живость, неомертвелость ее души, ее душевный порыв, а если говорить точно — благородство ее души. Я изобразил ее тоже ведь пусть стихийной, но христианкой. И вот то, ради чего я взялся за этот «камешек», получившийся, правда, длинноватым. В Лос-Анджелесе в университете проходил «круглый стол» советских и американских писателей. Выступая с речью, я пересказал американцам свой рассказ «Под одной крышей». Он очень хорошо проецировался на советско-американские отношения. Уехать друг от друга нельзя. Поджечь друг друга нельзя. Вынуждены жить под одной крышей. Как жить? Кто-то первый должен принести другому колбасу (дрожжи).
Эта, так сказать, концепция легла на душу нашим американским коллегам. Они в своих речах то и дело вспоминали рассказ. На прощальном банкете одна пожилая американка произнесла даже тост: «За Нюшку. За Нюшку с решетом репчатого лука на пороге».
Я подумал в тот момент: знала бы обижающаяся, злящаяся на меня «Нюшка», где и в какой обстановке за нее произносится тост!
* * *
С детства, со школьных лет запала в память строка из какого-то революционного стихотворения: «Как дело измены, как совесть тирана, осенняя ночка темна…» Я не помню, что там идет дальше, но, что бы ни шло, все равно могу сказать, что строка эта написана бездарным поэтом. Судите сами: тяжелые, мрачные понятия — измена, тиран, совесть, и вдруг — уменьшительно-умилительно-ласкательное — «ночка». Режущий ухо диссонанс. Нет никакого чувства слова. Ну ладно, если было бы хоть «осенняя полночь темна». Тоже не бог весть что, но все же — не ночка.
* * *
Если бы мне пришлось уехать за границу и жить там, я оказался бы в столь же бедственном положении, как если бы колхозный поросенок, выпущенный в лес. Конечно, на колхозном свинарнике — не рай и не благоденствие. Грубые свинарки, грязь, вонь, отвратительное питание, матерная брань, пинки (а за ухом уж не почешут, не до этого), но не нужно вести ежедневную активную борьбу за существование. Конечно, живут в лесу звери, в том числе и дикие свиньи (кабаны, вепри), жить там, значит, можно. Однако поросенок из колхозного свинарника, выпущенный в лес, очень скоро или погибнет, или прибежит назад.
* * *
Часто в разговорах спрашивают: «Что значит — деньги подешевели? Что значит — рубль подешевел? Что значит — рубль превратился в шелуху и ничего не стоит? Почему при неофициальном обмене за один доллар дают десять, а то и больше рублей? И вообще, что значат все эти инфляции и девальвации?»
Приходится объяснять это простым (упрощенным), однако по сути своей верным примером. Вот собрались мы, пятеро мужчин, играть в карты, в «очко». Азартная денежная игра. Однако играем мы в каком-нибудь общественном месте, где ходят люди, неудобно было бы на столе, на виду держать деньги. Мы пошли на маленькую хитрость, нарезали бумажек, написали на них разные цифры, обозначающие их достоинство: 1 руб., 3 руб., 5 руб., 20 коп., 10 коп. и т. д. На этих же бумажках мы расписались, чтобы определить потом, где чья бумажка. У меня в кармане было, скажем, десять рублей. На эти десять рублей и я «выпустил» разных мелких бумажек. Если я все эти бумажки проиграю, то потом, после игры, мне предъявят их, и я за них расплачусь уже настоящими деньгами. В кармане у меня — десять рублей, и бумажек я нарезал на 10 руб. Все сойдется. Но вот я бумажки свои проиграл, а играть хочется. Надеюсь отыграться. Я нарезаю бумажек еще на 10 рублей (никто ведь не знает, сколько у меня денег на самом деле). Теперь, если я проиграю и эти бумажки, в чужих руках окажется их уже на 20 рублей, а в кармане-то у меня только 10! Мне предъявят после игры эти бумажки к оплате, а я скажу: «Делайте что хотите, но я могу оплатить их только по 50 копеек за рубль». Если же я нарежу бумажек и проиграю их на 50 рублей, то каждый мой нарисованный рубль будет стоить только 20 копеек, потому что в кармане у меня по-прежнему одна десятка.
Так и государство, выдает оно зарплату населению, а зарплата эта обратно государству не возвращается: нечего купить, нет товаров. Деньги оседают у населения. Между тем наступает опять день зарплаты. Что делает государство? Печатает деньги. Печатает оно их из года в год, накапливаются в стране миллиарды «лишних» денег. И рубль уже не рубль, а 12 копеек.
* * *
Математически доказано, что жизнь во вселенной не могла зародиться от случайной комбинации химических элементов, атомов. «Если бы, — гласит один из подсчетов, — в любой ячейке пространства объемом в электрон каждую микросекунду испытывалось бы по одному варианту, то за 100 млрд. лет (а вселенная существует лишь 15—22 млрд. лет) было бы испытано 10150 вариантов. Это число ничтожно по сравнению с необходимым 41 000 000 или 10600 000 — столько комбинаций из 4 „букв“ генетического кода нужно было бы перебрать, чтобы составить ту, которая определяет жизнь. По расчетам американского астронома Дж. Холдена, такой шанс составлял бы 1 из 1,3*1030.
Так, если методом случайных комбинаций пытаться составить хотя бы самую простую, самую примитивную белковую молекулу, за все время существования вселенной была бы „проиграна“ ничтожно малая часть таких вариантов. То есть математически доказано, что жизнь не возникла и не могла возникнуть в результате случайности».
По другим аналогичным расчетам, времени существования Земли также недостаточно для образования и для эволюции системы из примерно двух тысяч ферментов, которыми пользуются земные организмы.
Все это, оказывается, уже известно современной науке, публикуется как в научных, так и в научно-популярных работах. В частности, математические выкладки я выписал из брошюры А. А. Горбовского «В круге вечного возвращения». Так почему же в школе мы продолжаем морочить головы нашим детям рассуждениями о случайном зарождении жизни на Земле и так называемой эволюции?
* * *
В книге речь шла о пространстве, времени, материи, их взаимосвязи, их сущности. И вдруг замечательная фраза: «Сто лет назад ответить на этот вопрос было легче, чем теперь».
* * *
У древних было понятие — «децимация». От слова «десять». Дециметр, декада и т. д. Децимацией назывался способ привести в повиновение взбунтовавшееся войско или непокорный народ путем казни каждого десятого.
Один читатель высказал в письме предположение: не то ли самое происходило на протяжении первых лет после октября 1917 года с нашим народом? Этот самый кровавый террор, это уничтожение как раз 10 процентов крестьянства во время коллективизации. Но нет, дело было еще кровавее и страшнее. Да и число убитых (около 60 000 000) далеко не 10 процентов российского населения. Когда уничтожают каждого десятого, это делается, можно сказать, без выбора. Воины, можно сказать, все одинаковы. В России уничтожались лучшие слои общества. Затем, во-первых, чтобы разрушить само общество и людей превратить в сброд, во-вторых, надо было уничтожить как можно больше генетического, биологического материала, чтобы народ не воспрянул в будущем.
Но, конечно, и децимация тоже имелась в виду.
* * *
На яркой обложке журнала прочитал написанное крупными буквами: «А вместо сердца — пламенный мотор». Уж насколько с детства привычные слова, но тут вдруг мне открылся другой их смысл. (Какой бы мотор ни был пламенный, но ведь — вместо сердца! Вспомнились вдруг слова Паратова из «Бесприданницы»: «Иностранец… арифметика у тебя вместо души». А у нас вот, видите, вместо сердца — мотор. Жуть!
* * *
Помнится, будучи еще желторотым студентом, увидел я афишу (в ЦПКиО?): лекция «О любви и дружбе». Сознание тянулось к знаниям, а тема показалась многообещающей. Ну как же? Глубокие психологические явления — любовь и дружба. Пошел я на эту лекцию. О чем же долдонил лектор на протяжении полутора часов? Дружба Маркса и Энгельса, Герцена и Огарева, Ленина и Сталина. Любовь Ленина и Крупской… Так я понял, что самые глубокие, интересные, духовные вещи легко превращаются в плоские, пошлые, скучные.
* * *
В Сухуми посетили (наша писательская делегация) музей Дмитрия Гулиа. Основоположник и классик абхазской литературы. Сталин считал, что у каждого народа должен быть свой классик. И вот пропаганда создавала Джамбула, Сулеймана Стальского, Гамзата Цадаса, Самеда Вургуна, Мирзо Турсун-заде и т. д. Я не хочу тем самым обидеть народы, которых олицетворяли эти классики, народы с древней и богатой культурой, но «классики» очень часто были, вот именно, раздуты пропагандой, и теперь их перечитывать невозможно. Ну, кто будет теперь читать Джамбула?
И вот мы в музее Дмитрия Гулиа. Нам показали одну из его книг. Оригинальная книга. Одно стихотворение Гулиа о партии на всех языках народов Советского Союза. Я, конечно, сразу нашел перевод этого стихотворения на русский (перевод Марка Соболя). Читаю. Последняя строка стихотворения: «Без партии нет жизни на земле!» Так-таки вот и нет никакой жизни на земле без нашей партии. Спрашиваю у Ивана Тарбы: «Может, по-абхазски эта строка звучит иначе? Может, это переводчик упростил и огрубил строку?» Тарба помялся и отвечает, что нет, что и по-абхазски у строки тот же смысл.
А ведь, казалось, эта строка в свое время — в порядке вещей. Даже вот издали стихотворение отдельной книгой.
* * *
Когда Лермонтову было 16 лет, он некоторое время (летом) жил в Середникове, подмосковном имении бабушкиного брата. По соседству были другие имения, а там — молодежь, девицы одного возраста с юным поэтом. Но они уже чувствовали себя невестами, а в Лермонтове видели мальчишку.
Встречались по нескольку раз в день: прогулки, кавалькады, пикники. Лермонтов влюбился в Катю Сушкову.
Однажды надумали совершить паломничество к Троице-Сергию. Шли пешком и пришли в Сергиев посад на четвертый день.
На паперти (или в воротах монастыря?) стоял слепой нищий. Вообще-то камень вместо хлеба — это библейский мотив, наслоилось и снисходительно-насмешливое отношение Кати Сушковой к пылкому и самолюбивому юноше. Так или иначе при виде слепого нищего в душе у Лермонтова родился замысел стихотворения, которое тотчас же и было записано.
Куска лишь хлеба он просил, И взор являл живую муку, И кто-то камень положил В его протянутую руку…Да, стихотворение возникло при виде слепого нищего под влиянием любви: камень вместо хлеба. Но я все же не верю, чтобы кто-нибудь в русском монастыре у Троице-Сергия мог в то время на самом деле положить нищему в руку камень вместо хлеба. Быть этого не могло, не в духе, не в атмосфере это тогдашней российской жизни.
…В Середникове теперь (в 20 километрах от Москвы) лечебница для алкоголиков и мерзость запустения.
* * *
Ученые-исследователи установили замечательную особенность насекомых, птиц, животных, живущих большими сообществами. Ну там муравьи, термиты, пчелы, птичьи стаи, стада сайгаков, полчища саранчи, полчища крыс, леммингов (полярных мышей) и т. д. и т. п. Оказывается, при небольшом количестве отдельные экземпляры того или иного вида ведут себя как индивидуальные особи, полагаясь на самих себя, и если речь идет о таких существах, как муравьи или пчелы, то отдельные муравьи или пчелы, без семьи, без сообщества, просто гибнут, осознавая, может быть, всю никчемность и бесперспективность своего существования.
Птицы не гибнут даже и при индивидуальном существовании, но когда они собираются в большую стаю, когда возникает так называемая критическая масса (вернее, когда масса становится выше критической точки), вдруг стая превращается в сверхорганизм и обретает сверхразум, или «большой разум», как его называют по-научному.
Плывет многочисленная стая маленьких рыбок. Вдруг они мгновенно, все сразу, одновременно меняют направление. Не следуя за вожаком, если бы таковой был, но все одновременно и мгновенно, подчиняясь общему импульсу. Точно так же меняет направление стая перелетных птиц (жаворонков, перепелок) или скопище саранчи. Не следуя примеру, не последовательно одна за другой, но одновременно и мгновенно, то есть ведут себя как единое целое.
Если же уменьшать количество особей в стае, то в определенный момент, ниже критической массы стаи (стада, термитника), «большой разум» исчезает и остатки стаи (стада, термитника) превращаются в беспомощных, обреченных на вымирание особей.
Бесспорно, этот «большой разум» возникает выше критической массы и у людей, когда люди вместо многочисленного скопища начинают ощущать себя единым целым, народом с едиными идеалами, едиными духовными, культурными, историческими ценностями, едиными историческими целями и устремлениями. То есть, вот именно, становятся НАРОДОМ. Но это значит, что, доведя людей до точки ниже критической массы, можно погасить этот «большой разум». Тогда вместо единого организма люди распадаются на беспомощных, растерянных индивидуумов, бездельников, жуликов, алкоголиков, лишенных элементарной духовности. Не на это ли и был направлен чудовищный террор всех послеоктябрьских лет и десятилетий, унесший, как говорят, не считая войны, близко к 70 миллионам россиян.
Недаром во всех теориях геноцида фигурирует словечко «биомасса».
* * *
Грузины мне рассказали. Великий князь Михаил, брат последнего российского государя, уезжал из Тифлиса по Военно-Грузинской дороге. Он остановился в духане перекусить, выпить вина. Духанщик принял его очень радушно, накормил очень вкусно.
— Я брат царя, проси у меня, в чем нуждаешься? Я все для тебя сделаю.
— Мне ничего не нужно, — ответил сообразительный духанщик. — Сделайте для меня одно: когда приедете в Петербург, пришлите мне телеграмму: «Доехал благополучно. Великий князь Михаил».
Говорят, эта телеграмма висела у духанщика за стеклом к удивлению всех посетителей.
* * *
«Жили-были дед да баба, была у них курочка ряба. Снесла она им яичко, не простое, а золотое…»
Еще бы не золотое! Во-первых, для деда и бабы яичко само по себе было уже ценностью, кроме того, яичко-то небось было без гормонов, пестицидов и этой, как ее, «сальмонеллы». Натуральное, не на комбикормах, не на тухлой рыбе, но на самой курицей найденных зернышках в травках, душистое, чистое было яичко.
Конечно, куры, равно как и куриные яйца, нужны. Прокормить современное человечество не просто. Однако птицефабрики производят жуткое впечатление. Мы уж не берем низкий уровень и антисанитарию советских фабрик. Например, от птицефабрики, мимо которой приходится мне проезжать во Владимирской области, воняет за полкилометра, воняет до отвращения, до рвотных спазм, а каково же дышать там, на самой фабрике? Но мы берем даже не это. Пусть фабрика (где-нибудь в Венгрии, в Голландии) сверкает чистотой, прекрасно вентилируется. Возможно, и кондишены поддерживают постоянную температуру. И все-таки жутко. Инкубаторы из яиц выводят цыплят. Эти цыплята растут, откармливаются, убиваются внутри фабрики. Конвейер жизни. Но какой жизни? Они не ступают на землю, не видят травы, неба. Весь жизненный цикл проходит при искусственном электрическом свете, при искусственном корме, подогреве, в пределах даже и не цеха, а клетки.
Где горластые петухи, оравшие по всем деревням, где их призывный гогот, когда петух найдет особенное какое-нибудь зерно и сзывает весь свой «гарем»? Где это брылянье куриными лапами в стороны в поисках корма, излюбленные куриные купанья в горячей пыли? Где приметы: если куры прячутся от дождя под деревья и разные укрытия, значит, дождь прекратится скоро, если куры и в дождь пасутся по зеленым лужайкам села, значит — ненастье? Петушиные драки за какие-то там их петушиные амбиции, а то вдруг бросился, догнал, «потоптал», и как ни в чем не бывало отряхнется курица после петуха. А уж кудахчет курица, снеся яйцо, как будто действительно — по французскому остроумию — снесла планету. Вспомним и песенку: «Петя, петя, петушок, золотой гребешок, масляна головушка, шелкова бородушка…»
А еще, бывало, заберешься в малинник, раздвинешь кусты, и вдруг — клад. В ямке два десятка сверкающих белизной (среди черной-то земли) яиц. Это курица-«диссидентка» несла тайком яйца в кустах, чтобы тайком же вывести цыплят. А потом и приведёт их штук пятнадцать к хозяйке. Ведь есть в доме яйца, но найдешь такой клад и обомрешь от радости.
И вот куриные фабрики. Вещь необходимая, но все же жуткая. Не модель ли это, к тому же, будущих трудовых армий, по сравнению с которыми трудовые армии тридцатых годов (лагеря) покажутся идиллией.
Далеко ушло человечество от бытовой картинки, запечатленной в сказочке: «Жили-были дед да баба, была у них курочка ряба. Снесла она им яичко, не простое, а золотое…».
* * *
Вычитал в газете, но как такой «камешек» не положить в копилку? Школьник спас девочку из воды. На уроке стали разбирать этот его героический поступок. Учительница спрашивала учеников: каким должен быть мальчик для совершения такого поступка? Школьники отвечали: храбрым, сильным, добрым, хорошим товарищем, рыцарем, интернационалистом, любить родину, гуманным, настоящим пионером, верным ленинцем…
Когда дошла очередь до виновника разговора, то есть до самого мальчика, спасшего утопающую, он скромно ответил: надо уметь плавать.
* * *
Разговор (в ЦДЛ):
— Ты думаешь, почему мы выиграли гражданскую войну?
— То есть как? Насколько я знаю, мы ее проиграли.
* * *
Вспоминаю строки журналиста Мих. Кольцова, написанные им в 1927 году, то есть к десятилетию Октября (цитирую по памяти, но более или менее точно): «Десять лет мы догоняем и обгоняем грязную вонючую старуху с седыми космами, дореволюционную Россию…»
Нет, у России было лицо не грязной старухи с седыми космами. У нее было лицо Достоевского, Чехова, Толстого, Бунина, Шаляпина, Блока, Гумилева, Есенина, Анны Ахматовой. У нее было лицо нестеровской «Девушки в амазонке».
* * *
Разговаривали о екатеринбургском злодеянии. Я говорю:
— Русская армия вошла в Екатеринбург через два дня после убийства царской семьи.
Один из собеседников зло встрепенулся:
— Какая русская? Почему русская?
— А какая же? Китайская, что ли? Или немецкая? Русская.
* * *
Расхожей стала строка Грибоедова: «И дым отечества нам сладок и приятен». Как только не употребляют эту строку: и вставляют в свои стихи, и делают эпиграфом к поэтическим произведениям, не говоря уж про разговорную речь.
Но, как мне кажется, при употреблении в этой фразе исчезает оттенок, который был вложен Грибоедовым. Он ведь не хотел сказать, что дым как таковой и сладок и приятен. А дымок, действительно, может быть душистым и даже приятным. Дымок от спаленной жнивы, дымок, когда жгут прошлогодние картофельные плети, и т. д. Грибоедов взял дым — как горечь, как в некотором роде олицетворение горечи. Смысл этой фразы в расшифрованном виде звучит для меня так: «Горек дым, но если это дым отечества, то даже он сладок и приятен. Уж на что горек дым, но и он сладок и приятен, если это дым отечества».
При беглом прочтении фразы, если не сделать сильного ударения на слове «дым», этот смысл ускользает.
* * *
Это что же такое происходит с нашей страной, с нашей отечественной культурой?! Читаю в газете статью Евграфа Кончина под названием «Незабываемый бал Пушкина».
«В Старице (Тверской губернии. — В. С.) Пушкин провел три новогодних дня, беззаботных, бесшабашных, проказливых и суматошных три дня. Пожалуй, никогда ему не было столь легко и безоглядно весело, как в этот новогодний праздник. Он без устали танцевал, шутил, заразительно смеялся, был для всех мил, приятен и добр, проказничал… вписывая в девичьи альбомы шаловливые изящные экспромты. Три дня дом купца Филиппова был в центре взволнованного внимания всего уезда».
Как известно, в России произошел катаклизм, и отечественная культура, собственно русская культура была разорена, уничтожена, оказалась в забвении и забросе на целые долгие десятилетия. Берем из статьи три разных периода, показывающих, что небрежение было постоянным.
«В 1919 году старицкий художник Александр Александрович Клодт, человек большой культуры и широкой образованности, организует в городе музей, куда свозит из окрестных имений и усадеб, спасая от неминуемой гибели и расхищения, историко-художественные ценности, архивы и книги. В том числе из Малинников, Павловского, Бернова. (Все это „пушкинские“ места. — В. С.) Вывезены были портреты пушкинского приятеля А. Н. Вульфа, других представителей этого семейства, также посуда, мебель. Книги, рукописи, три книги журнала „Современник“, принадлежавшие, по преданию, Пушкину, номера альманаха „Северные цветы“ с напечатанными в них стихами великого поэта, письма Вульфов…»
Значит, с 1919 годом все ясно, пойдем дальше.
«В начале тридцатых годов местный учитель, страстный краевед Дмитрий Александрович Цветков просматривал в музее книги, разные бумаги. Из груды давно никого не привлекавших внимания книг он неожиданно извлек старинный, типичный „уездной барышни альбом“, в переплете темно-голубого цвета с бронзовой застежкой. И отложил бы его в сторону, если бы… Если бы из него не торчала записка. Развернул ее Дмитрий Александрович — почерк Клодта. А сообщал он о том, что альбом принадлежал Марии Васильевне Борисовой и что в нем есть важные пушкинские автографы… Цветков стал лихорадочно перелистывать альбом и действительно на странице пятой увидел четверостишие, под которым стояла подпись: „15 ноября 1828 года. Павловское. А. Пушкин“. Рядом набросок женской головки… Здесь же он нашел листок плотной розоватой бумаги со стихотворением, подписанным: „28 ноября 1828 года. Малинники. А. Пушкин“».
С началом тридцатых годов тоже ясно. Бумаги и книги свалены в кучу, не привлекают ничьего внимания. И только случайно, копаясь в залежах никому не нужных книг и бумаг, Цветков обнаружил жемчужину. Перенесемся еще на десяток лет.
«Вскоре Цветкова взяли в армию, затем — война, тяжелая контузия. Когда он вернулся в Старицу, то музея не застал, он перестал существовать».
Ну а как сейчас, в наши дни? Речь пойдет о доме, в котором Пушкин провел памятные новогодние дни.
«…Сейчас в этом доме по улице Ленина, 18 (!), разместилась библиотека. Но, простите, в каком ужасном состоянии я его увидел! Грязные, обшарпанные стены облупились и потрескались, штукатурка обвалилась. Мне удалось побывать и внутри дома, осмотреть его помещения, прежде всего зал, где в новогодние дни 1829 года устраивались балы и где бывал Пушкин. Ныне в нем книгохранилище. Оно имеет такой же неприглядный вид. Здание необходимо срочно и капитально ремонтировать. Не только как памятник архитектуры, как памятник Отечества нашего, освященный пребыванием здесь великого российского поэта, но просто (хотя бы) как библиотеку, „храм“ культуры и просвещения города».
Вот так относится государство, возникшее на месте России, к культурному наследию, относится одинаково, как видим, на протяжении многих десятилетий.
* * *
Гримаса централизации. До чего же мы дожили!
Я в гостях у первого секретаря обкома одной из среднероссийских областей, то есть у главного руководителя области, вроде бывалошнего губернатора. В разговоре коснулись льна. Ведь это была одна из самых льняных губерний. Вот я и спросил, продолжают ли они выращивать лен.
— Как же! Мы сеем много льна, — и секретарь назвал мне количество гектаров, занятых под эту уникальную, красивую, многосторонне полезную — от холстов и вообще льняных тканей до великолепного масла и жмыха — культуру.
Принимали нас, москвичей, радушно, и я осмелился попросить у хозяина области:
— Если вы так много сеете льна, то нельзя ли — одну бутылку льняного масла? Дело в том, что это — мое детство. Я вырос на льняном масле. А теперь вот хоть бы вспомнить вкус… Забыл, какое оно на вкус…
Мрачное облако набежало на лицо хозяина области.
— Масла не обещаю. У нас нет в области своей маслобойки. Все семя (льняное зерно называют в народе семенем) мы отправляем на маслокомбинат в другую область, и оно к нам уже не возвращается…
Ведь это надо же! Можно ли вообразить, что так же вот писатель в гостях у губернатора — и он своему гостю не смог бы достать бутылку льняного масла! На всю область, выращивающую лен, — ни одной бутылки льняного масла! Вот это — централизация! И в какую же прорву, в какую «черную дыру» все девается?!
* * *
Все мы знали деда Мазая и то, как он спасал зайцев, застигнутых половодьем. Но вот женщина в своих воспоминаниях рассказывает, как охотился ее муж. Была осень, пора, предшествующая ледоставу. По реке шла шуга — ледяное крошево, готовое вот-вот превратиться в броню. На маленьком островке спасались застигнутые ледоставом зайцы. Охотник, о котором вспоминает женщина, сумел добраться в лодке до островка и прикладом ружья набил столько зайцев, что лодка осела под тяжестью тушек. Женщина рассказывает об охотничьем подвиге своего мужа с завидным благодушием. Способность испытывать охотничье удовлетворение от убийства попавших в естественную западню зверьков ее нисколько не удивила.
Женщина эта Н. К. Крупская, а дело происходило в Шушенском; читайте ее «Воспоминания», изданные в Москве в Госиздате в 1932—1934 годах.
* * *
В анкете одного литературоведческого журнала встретился вопрос: «Судьба кого из русских поэтов представляется вам наиболее трагической?»
Можно ответить — Рылеева. Как-никак казнен через повешение.
Напрашиваются сразу Пушкин и Лермонтов, ибо они убиты молодыми: 37 и 27 лет.
Но я бы назвал Есенина.
Рылеев повешен. Но он был революционер-экстремист. А революционер должен знать, на что он идет.
Умирающий Пушкин знал, что вокруг него остается Россия с ее неистребленным народом. На смертном одре он общался при помощи записок с российским самодержцем.
Лермонтов умер мгновенно, не осознав, что умирает.
Есенину же на долю досталось увидеть, как Россия гибнет. С рубежа 25-го года он мог уже предвидеть и гибель деревни, и гибель народа, сыном которого он был. Поистине трагическая судьба!
* * *
Все время ходили смутные слухи, что Фанни Каплан, стрелявшую в Ленина, не расстреляли, что ей (неизвестно уж зачем и по чьему распоряжению) сохранили жизнь. Эти слухи окрепли во времена Хрущева, когда говорить стали чуть-чуть побольше и повольнее. Уточнялось даже, что Каплан сидит в Бутырской тюрьме или даже что она под чужим именем благоденствует в Швейцарии. Эти слухи были настолько упорными, что бывший комендант Кремля (и еще более бывший матрос) Мальков в своих воспоминаниях вынужден был полемически и твердо заявить, что он лично расстрелял эсерку Каплан.
А в «Огоньке» (1989, № 30) в статье Ю. Давыдова проскользнуло дополнительное сведение. Цитируем: «…труп Фанни Каплан, облитый бензином, жарко пылал в железной бочке, стоявшей в сумрачном углу Александровского сада. Кремацию организовал матрос, комендант Кремля П. Д. Мальков. Пособлял ему случившийся рядом пролетарский стихотворец Демьян Бедный…»
Я не знаю, откуда эти подробности у Ю. Давыдова, рисующие странную, я бы даже сказал, фантастическую картину уничтожения Каплан.
Александровский сад находится не внутри Кремля, а примыкает к нему со стороны Манежа. Жечь в этом саду что-либо — это все равно что жечь на московской улице. И как при такой акции (без оцепленья, без часовых?) мог «случиться рядом» (мимо шел, что ли, да завернул на огонек?) Демьян Бедный? Если же в этих сведениях Александровский сад перепутан с Тайницким, который находится внутри Кремля и где действительно мог бы найтись «сумрачный угол», то опять-таки что за фантазия тащить Каплан в Кремль, когда в пяти минутах езды работает день и ночь чудовищная, огромная всероссийская машина по переработке человеческого материала?
Как ни покажется странным, этот столь сложный путь уничтожения Каплан и утвердил меня в мысли, что, пожалуй, ее действительно не расстреляли.
В самом деле, на Лубянке еженощно убивались тогда сотни и тысячи людей. Для этого есть специальные исполнители. Поток мертвецов обилен и бесконечен. Чего же легче было хлопнуть и Фанни Каплан? Разве кто-нибудь усомнился бы, что она расстреляна? Ведь никто не сомневается, что расстреляны Гумилев, Николаев, убивший Кирова, Зиновьев, Каменев, Якир, Бухарин, Тухачевский, и т. д. и т. д.
Зачем же понадобилось втягивать в это дело коменданта Кремля (генеральская должность), зачем понадобилась эта нелепая бочка? Зачем понадобился «пролетарский стихотворец» Демьян Бедный? Уж не для того ли, чтобы обзавестись несомненными свидетелями: да, Каплан расстреляли. Замысел этот, насчет свидетелей, как видим, в конце концов сработал. Мальков написал воспоминания, а Ю. Давыдов обогатил их дополнительными подробностями.
Конечно, Мальков по приказу свыше застрелил какую-то женщину и труп ее сжег в железной бочке. И был уверен, что это Каплан. Но это была не обязательно Каплан. Комендант Кремля определенно не знал Каплан в лицо. Присутствие Демьяна Бедного мне кажется если не фантастичным, то сомнительным. Но вообще-то его присутствие, если оно было, не могло быть случайным и только подтверждает версию о желательности свидетелей. Демьян Бедный тоже наверняка не знал Каплан в лицо. До стрельбы по Ленину ее никто не знал ни в лицо, ни по имени. Это была одна из многих, безвестная эсерка. А после выстрелов ее сразу арестовали. Ведь ее портреты, надеюсь, не расклеивались по Москве и не публиковались в газетах. Ну а подобрать подходящий «типаж» на Лубянке в то время, я полагаю, не составляло труда.
* * *
В Москве, на выставке японской техники (вся эта электроника, магнитофоны, фотоаппараты, телевизоры, компьютеры, автомобили, станки, медицинское оборудование и т. д. и т. п.), один москвич обратился к японскому представителю с вопросом:
— Ну, и на сколько же лет или десятилетий, по-вашему, мы отстали от Японии по всем этим видам техники?
Японец на мгновение задумался, как бы осмысливая вопрос, и убежденно ответил:
— Навсегда.
* * *
В последние годы распространился в гангстерских кинофильмах сюжет о заложниках. Когда хотят, чтобы судья, следователь, прокурор, комиссар полиции, какой-либо политический деятель замолчал, или перестал действовать, или начал действовать в противоположном направлении, отказался от своих убеждений, похищают его ребенка или жену. Но все-таки чаще всего ребенка. Это — заложник. Не откажешься от своих убеждений (от своей деятельности) — ребенок будет убит, замучен. И все, смотря такие фильмы (читая романы), исполнены негодования к гангстерам, справедливо считают их убийцами, кровожадными чудовищами, одним словом, преступниками.
Но ведь система заложников возникла и широко действовала по приказам Троцкого (во всяком случае при нем) на территории нашей страны. Хватали семью русского офицера, а то и генерала. Если не пойдешь воевать на стороне красных — уничтожим семью. Если уйдешь в Добровольческую (белую) армию — уничтожим семью. Заложничеством терроризировали целые города. Хватали несколько десятков (сотен) заложников. Если вздумает город сопротивляться новому режиму — уничтожим заложников. И действительно уничтожали их сотнями, тысячами.
Я это вспомнил к тому, что по странности ни в один кинофильм о тех временах (ни в роман, ни хотя бы в рассказ) не просочилось ничего о заложничестве. И тех, кто осуществлял это заложничество, почитают героями, а не преступниками.
* * *
Никак не можем примириться с мыслью, что России (Российской империи, если хотите) уже нет и никогда не будет.
Была Эллада. Но разве можно сказать, что современные греки — это эллины? Был Рим. Но разве можно сказать, что современные итальянцы — это римляне? Просто современные греки и итальянцы давно привыкли к тому, что они не эллины и не римляне, а мы никак не можем привыкнуть (за недавностью происходящих событий), что мы — не русские.
* * *
Существует нелепая идея всеобщего, универсального языка эсперанто. Этот искусственный язык создал в прошлом веке польский врач-окулист Людвик (по другим источникам, Лазар) Заменгоф. В нем сто тысяч слов. В каждой стране есть приверженцы, энтузиасты этого языка, клубы эсперанто, распространители эсперанто. Они уверены, что со временем эсперанто станет всеобщим языком человечества и заменит все живые языки.
Нелепой же я эту идею назвал вот почему. Чтобы язык эсперанто стал всеобщим, нужно, чтобы ВСЕ люди им овладели. 100 000 слов. Но зачем в таком случае ВСЕМ изучать искусственный, мертвый язык? Не проще ли договориться изучить ВСЕМ какой-нибудь один живой язык? Скажем, тот же английский? Все равно ведь надо изучать и запоминать сто тысяч слов.
* * *
Некрасовская строфа:
Стой, ямщик, жара несносная, Дальше ехать не могу. Вишь, пора-то — сенокосная, Вся деревня на лугу.Где же это происходило? На нашей российской земле или на другой планете? И можно ли теперь вообразить такую картину: сенокос (как праздник), и вся деревня, дружно, весело (хоть и нелегкая работа) в разноцветных одеждах (рубахи, сарафаны, платки) на зеленом, еще не истерзанном, еще не заросшем кустарником, еще не «започкованном» лугу? И что же сделали с нашей землей, с нашим народом, с нашими сенокосами?
* * *
Читаем в «Правде» 29 декабря 1989 года:
«Осквернен памятник
Берлин. 28. (ТАСС). Известный всему миру памятник советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке подвергли осквернению. В ночь на четверг преступники намалевали краской антисоветские лозунги на цоколе памятника… уголовная полиция ведет поиск участников безобразной выходки».
Читаем в той же «Правде» 3 января 1990 года:
«Снова акт вандализма
Берлин. 2. (ТАСС). Как сообщило агентство АДН, в новогоднюю ночь бесчинствующие молодчики повредили многие могилы советского пантеона в городе Гера… преступники сбили советские звезды на 34 надгробных плитах, а пять других перевернули…»
Итак, найдены точные слова: «осквернение», «преступники», «безобразная выходка», «бесчинствующие молодчики», «акт вандализма»…
А у нас не просто намалевали на цоколе лозунги, — взорвали памятник Отечественной войне, Бородинскому сражению, разорили могилу Багратиона. Неужели только из-за того, что сбиты не звезды, а золотые кресты и купола и что осквернена память не советских, а российских воинов (русских, грузин, калмыков…), мы не осмеливаемся назвать содеянное в 1931 году своим именем: осквернение, поругание, акт вандализма…
Кстати, точно сосчитаны сбитые вандалами звезды на могилах («вандалами» оказались школьники девятого класса) — 34 звезды. Но кто сосчитает количество крестов на сотнях тысяч разрушенных храмов, а также крестов и надгробий на сотнях кладбищ, начисто стертых с лица земли?
* * *
Помню, в детстве, в школе заставляли нас учить стишок Павло Тычины на украинском языке (привожу в русской транскрипции):
На майдане коло церкви Революция иде. — Хай чабан, — уси шукнули, — За атамана буде.И не пришло в голову ни самому Тычине, ни нашим учителям, ни нам, мальчишкам, тем более, что, может быть, чабан вовсе и не умеет быть атаманом. То есть даже наверняка не умеет. Атаманом быть — не коров пасти. Что в общем-то и доказали последующие десятилетия, заведшие наше государство в экономический, социальный, демографический, правовой, национальный тупик и прочие тупики.
* * *
В Москве в 1921 году насчитывалось 200 000 пустых квартир. Спрашивается, во-первых, куда подевались их жители? А ведь тогда «коммуналок» не было. В каждой квартире жила одна благополучная интеллигентная (ну, там — врачи, адвокаты, директора и преподаватели гимназий, работники банков, страховых агентств, художники, писатели, артисты, государственные чиновники разного ранга)… Спрашивается, во-вторых, кто поселился в этих двухстах тысячах квартир, превратив их, как правило, в «коммуналки»? Заняли эти квартиры главным образом не москвичи, «жители фабричных окраин», но люди, нахлынувшие с периферии, с южной периферии. Можно ли вообразить, как после этого переродилась Москва, атмосфера Москвы, само, что называется, «общество»? Строго говоря, общество как таковое, исконно русское, исконно московское общество, перестало существовать.
Нельзя удержаться и не вспомнить описание московской квартиры, некогда служившей одной семье, а теперь превращенной в «коммуналку». Описание это взято из удивительнейшего романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита».
«…Открыла Ивану дверь какая-то девочка лет пяти и, ни о чем не справляясь у пришедшего, немедленно куда-то ушла.
В громадной, до крайности запущенной передней, слабо освещенной малюсенькой угольной лампочкой под высоким, черным от грязи потолком, на стене висел велосипед без шин, стоял громадный ларь, обитый железом, а на полке над вешалкой лежала зимняя шапка, и длинные ее уши свешивались вниз. За одной из дверей гулкий мужской голос в радиоаппарате сердито кричал что-то стихами… В коридоре было темно. Потыкавшись в стены, Иван увидел слабенькую полоску света внизу под дверью, нашарил ручку и несильно рванул ее… на Ивана пахнуло влажным теплом, и при свете углей, тлеющих в колонке, он разглядел большие корыта, висящие на стене, и ванну, всю в черных страшных пятнах от сбитой эмали… (на кухне) никого не оказалось, и на плите в полумраке стояло безмолвно около десятка потухших примусов. Один лунный луч, просочившись сквозь пыльное, годами не вытираемое окно, скупо освещал тот угол, где в пыли и паутине висела забытая икона, из-за киота которой высовывались концы двух венчальных свечей…»
Такой вот быт — вместо просторных, чистых квартир, с угольным светом ламп или люстр, или канделябров, или торшеров, или настольных ламп с зелеными абажурами. И с коврами, и с дорогими иконами. И с хрусталем. И с гардинами на окнах. И с серебром в буфете. И с фортепьяно. И с золотыми корешками книг. И с отдельными «детскими» комнатами… Напомним, что в 1921 году числилось в Москве двести тысяч пустых квартир.
* * *
Яркая сцена в кинофильме «Чапаев», как полк капелевцев идет в «психическую» атаку и как Анка-пулеметчица из-под куста этот полк в упор расстреливает. Улюлюкаем, ликуем, аплодируем. И не приходит в голову, что Чапаев командовал дивизией, а шел против нее один офицерский русский полк. Приблизительно такое соотношение было и вообще на всех фронтах гражданской войны.
* * *
В каждом демократе сидит, притаившись, диктатор, насильник и беззаконник.
Разговариваю с одним сверхдемократически настроенным демократом. Излагаю ему свою точку зрения на ВЛКСМ.
— Вы только подумайте. В Москве есть ЦК ВЛКСМ. Говорят, там работает не менее тысячи человек. Или даже две тысячи. Кроме того, в Москве есть обком комсомола. Кроме того, в Москве есть горком комсомола. Кроме того, в Москве в каждом районе есть райком комсомола. Кроме того, в каждой области страны есть свой обком комсомола. Кроме того, в каждом городе страны есть свой горком комсомола. Кроме того, в каждом районе страны есть свой райком комсомола. Кроме того, в каждой республике — союзной или автономной — есть свой ЦК комсомола…
Это сколько же бездельников! А то, что они бездельники, — непреложный факт, ибо сам комсомол сейчас никому не нужен: ни молодежи (она, молодежь, живет сама по себе), ни государству, ибо никакого влияния ВЛКСМ на молодежь не оказывает…
— Ну так и распустите эту организацию, — говорит демократ.
— Да, а куда государство денет эти десятки, а то и сотни тысяч комсомольских работников? Они ведь ничего не умеют делать. У них нет никакой профессии. Они умеют только болтать языком. Да и того, если всерьез, не умеют…
И тут «демократ» неожиданно выпаливает:
— Послать их в деревню. Пусть работают там. Деревня ведь обезлюдела.
— То есть как послать? А если он (она) не хочет ехать в деревню? У них городская квартира, семья, дети учатся в школе. Не хотят они ехать в деревню…
— Послать, заставить…
— А как же быть с демократией? Ведь послать и заставить — это уже насилие. Это уже называется — диктатура.
* * *
В первые годы после революции так замусорили мозги «светлым будущим», что всем казалось: вот оно, «светлое будущее», — рукой подать. Во всяком случае Маяковский в своей пьесе «Клоп» размораживает своего Присыпкина через пятьдесят лет, то есть в 1975 году. Ну какое «светлое будущее» оказалось в 1975 году, мы хорошо знаем. По Маяковскому же выходит, что даже большинство слов двадцать пятого года умерли к этому времени, и когда Зоя Березкина, дожившая до 1975 года, произносит некоторые слова, то профессор то и дело обращается к «Словарю умерших слов». Какие же слова умерли в представлении Маяковского? На букву «с» Маяковский перечисляет: «самоубийство», «самообложение», «самодержавие», «самореклама», «самоуплотнение»… На букву «б»: «бюрократизм», «богоискательство», «бублики», «богема», «Булгаков»… Ни одного попадания. Главный же курьез состоит в том, что Булгаков теперь едва ли не самый читаемый писатель, чего никак нельзя сказать про самого Маяковского.
* * *
В колхозах и совхозах состоят на должности свекловоды, луговоды, полеводы, зоотехники, садоводы, картофелеводы… А ведь все это соединял в себе один крестьянин. Ну, конечно, был агроном — один на целый уезд, с ним можно было посоветоваться насчет трехполки, травополки, насчет чистых паров или введения какой-либо новой культуры… В основном же и в остальном крестьянин все земледельческие задачи на своей земле решал сам.
* * *
В ФРГ есть музей хлеба, кажется, в городе Ульме. Какого хлеба, каких сортов хлеба там только нет! Можно вообразить. Там нет только горького хлеба из чужих рук, когда, несмотря на голод, кусок, как говорится, не лезет в горло.
* * *
В одном из «камешков» я уже писал о том, что в 1985 году меня хотели отовсюду исключать за «Ненаписанные рассказы», тогда существовавшие только в рукописи.
Все же меня не исключили, ограничились строгим выговором. «В Московскую парторганизацию поступили материалы В. Солоухина под названием „Ненаписанные рассказы“. Мысли, высказанные в этих рассказах, не совместимы с пребыванием в рядах…» И так далее. Мысли были о том, что надо прекратить позорную войну в Афганистане, надо освободить народ от стояния в очередях, от сидения на бессмысленных собраниях, где пережевывается пропагандистская жвачка, очистить улицы от лозунгов, позорящих партию (правящая партия не может или, во всяком случае, не должна хвалить сама себя). Мысли были о том, что мы немцев во время войны просто завалили трупами. Они не успевали нас стрелять (известно, что Жуков просил перед каждым наступлением, чтобы соотношение наших бойцов и немцев было десять к одному), ну, было там и еще кое-что.
В 1989 году этот выговор не просто сняли с меня, но отменили, как необоснованный и ошибочный. Хорошо.
На прощанье секретарь райкома сказал:
— Сейчас это просто смешно, за что вам тогда дали выговор.
— Да, но то, что я пишу сейчас, смешным покажется лишь через несколько лет.
* * *
Случайно у одного современного поэта споткнулся о строки:
Как важно вовремя уйти, Уйти, пока ревут трибуны, И уступить дорогу юным, Хотя полжизни впереди.Это надо считать проговоркой поэта. В самом деле, почему — важно, зачем — важно, кому — важно? Конечно, если все дело сводятся к личным амбициям, к самолюбию… А вдруг трибуны перестанут реветь, а вдруг перестанут вообще аплодировать, вдруг кому-нибудь аплодисментов достанется больше, чем мне? Тогда — конечно. Но как можно уйти и самоустраниться (а впереди еще — полжизни), когда надо спасать отечество, когда людям надо открывать глаза на правду, когда надо реанимировать души людей и размораживать их мозги? Юные? Да разве юные знают то, что знаю я? Разве они скажут то, что должен сказать я? А рев трибун? Смешно говорить. В говорящих правду, настоящую правду, чаще плюют и бросают в них камни, нежели восторженно ревут на трибунах.
* * *
Компасов может быть миллион, но север на земном шаре один. Пути по компасу у миллиона людей могут быть разными: один пойдет по зеленому лугу, другой по песчаной пустыне, третий по болоту, четвертый по тайге. Но ориентир у них один — север.
То же самое — поэты, писатели, художники. Каждый должен идти своим путем и быть не похожим на других. Но ориентир должен быть общим. По крайней мере для писателей, поэтов, художников одного народа.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg




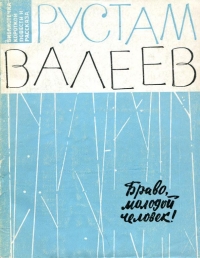
Комментарии к книге «Камешки на ладони», Владимир Алексеевич Солоухин
Всего 0 комментариев