Владимир Солоухин Камешки на ладони
Предисловие
Иногда мне приходилось сидеть на морском берегу, усыпанном мелкими разноцветными камешками. Они, правда, сначала не кажутся разноцветными — этакая однообразная сероватая масса. Их называют галькой.
Сидя на берегу, невольно начинаешь перебирать камешки вокруг себя. Возьмешь горсть, просеешь сквозь пальцы, возьмешь горсть, просеешь сквозь пальцы… Или возьмешь камешек и бросишь его в воду. Пойдут круги. Снова возьмешь камешек и бросишь в воду. Занятие не то чтобы очень интеллектуальное, но нисколько не хуже домино или подкидного дурака.
Неожиданно один из камешков останавливает ваше внимание. Он округлый, полупрозрачный, но полупрозрачная сердцевина его слегка красновата, как будто в нем растворена капля крови.
Или, напротив, он черный, как лаковый, а по черному лаку — желтый узор, похожий, скажем, на пальму.
Или по цвету он обыкновенный, серенький, но по форме — чистая женская туфелька.
Или он зеленый, а на нем летящая белая чайка. Да что говорить — бесчисленны и разнообразны камешки на морском берегу!
Понравившиеся вам, так сказать, экземпляры вы невольно складываете отдельно в купальную шапочку, или в башмак, или на разостланную газету. Хотелось бы их увезти в Москву, показать друзьям, самому полюбоваться зимой, вспомнить о синем море.
Но красивых камней набирается все больше, и тут вы начинаете то, что можно назвать вторым туром.
Вы уже не обращаете внимания на рассыпанные прибрежные камешки, вы отбираете из тех, что были отобраны вами раньше. Вы кладете на ладонь с десяток камешков и пальцем долго перекатываете их с места на место, пока не остановите свой выбор на трех, а остальные семь выбросите обратно на берег…
Теперь ближе к делу. Много лет назад я завел себе тетрадь в темно-коричневом переплете, из тех, что у нас называются общими. При чтении книги, в разговоре с друзьями, на писательском собрании, во время одиноких прогулок, в жарком споре мелькала иногда мысль… Впрочем, не то чтобы мысль — некая формулировка, некое представление, касающееся чаще всего литературы. Ну и смежных искусств.
Это представление, эту формулу, эту мысль (может быть, в конце концов проще всего сказать — мысль) я старался либо запомнить, либо записать на клочке бумаги, на авиационном билете, на листочке, выдранном из чужого перекидного календаря.
Когда такие бумажки накапливались по карманам, я доставал их, разглаживал на ладони, потому что происходил отбор. Некоторые я переписывал в тетрадку.
У меня была очень утилитарная цель. Я собирался писать, а впоследствии и писал, роман, в котором (предполагалось) герои будут много разговаривать об искусстве и больше всего о литературе. Ну и о разных других вещах. Я думал, что заготавливаю кирпичики для романа.
При написании романа существуют свои законы. Мои кирпичики все оставались и оставались в стороне, а герои говорили то, что им было нужно говорить по ходу дела.
Время от времени я брал из тетради иной камешек и вставлял его в очередную статью. В иную статью я вставлял два-три камешка, и статья, мне казалось, становилась живее.
Потом начался третий тур. Подолгу я листал свою тетрадь и снова перебирал и перебирал, пока какая-нибудь пятая или десятая запись не попадала в избранные. Я брал ее и заключал в более четкую и строгую форму. Практически это выражалось в том, что я выписывал ее из тетради с соответствующей литературной обработкой на отдельный лист бумаги.
Для очень внимательного читателя некоторые записи возможно, покажутся где-то читанными. Вероятно, в моих же статьях. Или в «Письмах из Русского музея», или в том же романе «Мать-мачеха», или в книге «Слово живое и мертвое», или в книге «Славянская тетрадь»…
По какому же принципу я предлагаю их, эти некоторые записи, читательскому вниманию вторично? Принцип у меня такой. Если камешек был взят в статью из тетради, я его сохраняю и здесь. Если же он был найден в процессе писания статьи или книги, то я его в тетрадь задним числом не вписывал и его на предлагаемых теперь читательскому вниманию страницах не окажется.
Друзья говорят: не торопись. Ведь придется еще и впредь писать статьи, камешки пригодятся. А я отвечаю — пусть! Во-первых, насобираю еще. Во-вторых, может быть, так даже интереснее. Одно дело, когда камешек теряется среди других бесчисленных камней, то есть среди многословия статьи, другое дело, когда он отдельно лежит на ладони.
Надо бы и еще поперебирать, пропустить через четвертый тур. Да и те, что пока остались в стороне, в тетради, тоже не совсем еще выброшены и подлежат постепенной переборке.
Но и то правда, пусть поперебирает читатель. Если из всей этой высыпанной перед ним на стол груды камешков он отберет для себя хотя бы пяток, и то ладно. Я ведь и собирал их только для того, чтобы показать людям, в надежде, что некоторые из них окажутся забавными.
После журнальной публикации мне говорили, что иные мои суждения не бесспорны. Но я и не обязывался изрекать бесспорные истины.
Камешки на ладони
В юности, в начале творческого пути, у поэта иногда вдруг получаются такие перлы искусства, которые изумляют всех.
Потом он приобретает опыт, становится мастером, постигает законы композиции, архитектоники, гармонии и дисгармонии, обогащается целым арсеналом средств и профессиональных секретов.
И вот, вооружившись всем этим, он всю жизнь пытается сознательно достичь той же высоты, которая в юности далась ему как бы случайно.
* * *
Можно исследовать химический состав, технологию производства, рецепты, тайны мастерства и все точно узнать: почему фарфоровая чашка звенит красиво и ярко, а просто глиняная издает глухой звук.
Но мы никогда не узнаем, почему одни фразы, стихотворные строки, строфы бывают звонкими, а другие глухими.
Дело вовсе не в глухих согласных, шипящих, закрытых и открытых звуках. Каждое слово без исключения может звенеть, будучи поставленным на свое место. Слова одни и те же, но в одном случае из них получается фарфор, бронза, медь, а в другом случае — сырая клеклая глина.
Один поет, а другой хрипит. Один чеканит, другой мямлит. Одна строка как бы светится изнутри, другая тускла и даже грязна. Одна похожа на драгоценный камень, другая — на комок замазки.
* * *
Если около пчелиного улья поставить смородиновый, скажем, сироп, то он повлияет на качество меда, на его витаминность, потому что пчелы будут сироп пить и незаметно подмешивать в натуральный, цветочный, собственно пчелиный мед. Таким образом, можно получить мед с молочным, морковным, лимонным, хвойным оттенками.
Точно так же книга, которую читаешь, когда пишешь что-нибудь свое, незаметно влияет на то, что пишешь. Едва уловимый узор витиеватости и расцвеченности появится на ткани произведения, если читаешь в эти дни книгу, написанную расцвеченно и витиевато. Налет сухости возникает, если читаешь сухую научную информацию. Печать лаконизма или расслабленности ляжет при чтении соответствующих книг.
Зная это, можно и нужно сознательно выбирать для себя чтение в зависимости от того, что пишешь и какой «витамин» более для данного случая подходящ.
* * *
Почему герои «Мертвых душ» вот уже стольким поколениям читателей кажутся удивительно яркими, выпуклыми, живыми? Ни во времена Гоголя, ни позже, я думаю, нельзя было встретить в чистом виде ни Собакевича, ни Ноздрева, ни Плюшкина. Дело в том, что в каждом из гоголевских героев читатель узнает… себя! Характер человеческий очень сложен. Он состоит из множества склонностей. Гоголь взял одного нормального человека (им мог быть и сам Гоголь), расщепил его на склонности, а потом из каждой склонности, гиперболизировав ее, создал самостоятельного героя. В зародышевом состоянии живут в каждом из нас и склонность к бесплодному мечтательству, и склонность к хвастовству, и склонность к скопидомству, хотя в сложной совокупности характера никто из нас не Манилов, не Ноздрев, не Плюшкин. Но они нам очень понятны и, если хотите, даже близки.
* * *
Ко всему, что я описал в своих книгах, у меня притупляется интерес в жизни. Шагреневая кожа.
* * *
Читая некоторые книги, я как на оселке правлю свой язык. На иных книгах я правлю свою гражданскую совесть.
* * *
Есть убежденность, что большими знаниями можно погубить в себе поэзию. Рациональное зерно здесь заключается в том, что с приобретением знаний утрачивается непосредственность восприятия мира, способность удивляться, развивается рефлексия…
Но, по-моему, дровами можно завалить и потушить только слабенький огонек. Большой, разгоревшийся костер дровами не завалишь. Он разгорится еще ярче.
* * *
Нужно попасть камнем в цель на далеком расстоянии. У человека, умеющего далеко кидать камни, при этом будет одна лишь трудность — попасть. Докинуть до цели для него не проблема. Это для него само собой разумеется.
Если же человек едва-едва добрасывает камень до нужного места, то где уж ему попасть.
Литературная техника, собственно литературное ремесло, и есть вот это умение «докинуть».
Нужно, чтобы все эти рифмы, внутренние рифмы, разноударные рифмы, мужские и женские рифмы, ассонансы, аллитерации и прочее, нужно, чтобы это не было проблемой, а было как умение легко докинуть камень до цели. Тогда вся энергия сосредоточится именно на том, чтобы попасть в цель.
* * *
Наши критики, разбирая то или иное произведение, чаще всего говорят, так сказать, о курсе корабля и совсем не говорят о его плавучести, о его навигационных качествах, а тем более об отделке салонов, палуб, кают.
* * *
Если для всех людей сахар сладок, а соль солона, если для всех ландыши пахнут ландышами, а навоз навозом, если для всех больно есть больно, а сладострастно есть сладострастно, то не предположить ли, что и все иные чувства людей если не вполне одинаковы, то сходны.
Чувство нежности, жалости, жадности, любви, горя, тоски, грусти, скуки, раскаяния, страха, гордости, возмездия — все эти чувства для всех людей «на вкус» одинаковы.
Если бы было по-другому, искусство не могло бы существовать.
* * *
У него ладный, хорошо работающий поэтический аппарат. Но ему нечего в этот аппарат запускать.
* * *
Спортсмен-марафонец бежит, преодолевая свою классическую дистанцию — сорок два километра. Вдруг его остановил человек и говорит:
— Здесь, в стороне, всего триста метров, есть табачный киоск, сбегай, купи мне сигарет.
— Но я преодолеваю дистанцию…
— Вот именно, все равно ты уж бежишь. Что тебе стоит сделать лишних полкилометра. Это займет у тебя пять минут. Ну что тебе стоит…
Ситуация фантастическая. Но я думаю о ней всякий раз, когда звонят из редакции и просят написать статью.
— Но я пишу сейчас повесть (или роман).
— Это займет у вас два дня. Нужно восемь страничек на машинке.
— Но я пишу повесть.
— Вот именно, все равно пишете. В повести небось будет четыреста страниц, так что вам стоит написать лишние восемь…
*
Что изменится, если в стихотворении поправить два-три места, две-три строки или даже два-три слова? Может быть, ничего не изменится. Может быть, стихотворение станет лучше. Но может случиться и другое.
У стихотворения (у рассказа, у романа) есть свои нервные узлы. Чтобы убить произведение, незачем кромсать его на куски, достаточно ужалить в два-три нервных узла. Операция может быть незаметной, а стихотворение между тем парализуется и обвисает, как тряпка.
* * *
Хорошему, тонкому скрипичному мастеру один приятель во время выпивки советовал:
— Слушай, сделай ты фортепьяну. Она большая, сколько денег сразу заработаешь.
— Не хочу делать фортепьяны! — восклицал мастер.
Мой друг Миша Скороходов, живущий теперь в Архангельске, имея в виду, очевидно, мои прозаические книги (сравнительно со стихами), и тоже во время выпивки мне сказал:
— Слушай, перестань делать фортепьяны.
* * *
Сколько людей на свете, столько и понятий о счастье, потому что счастье состоит в удовлетворении запросов, а запросы бывают разные. Русская пословица говорит: «У каждого по горю, да не поровну. У одного похлебка жидка, у другого жемчуг мелок». То же можно сказать о счастье.
Тем не менее у любого счастья существует фон или, вернее, основа, и есть подробности крупных планов.
Наиболее прочной и, вероятно, единственно прочной основой является глубокая удовлетворенность главным делом своей жизни, которое тоже у каждого человека свое.
Личные повседневные огорчения и радости (подробности крупного плана) могут, конечно, на время заслонять основное. Но при отсутствии основного они не могут составить счастья.
* * *
Однажды я ночевал в коренном дагестанском ауле. Днем, пока мы суетились и разговаривали, обедали и пели песни, ничего не было слышно, кроме обыкновенных для аула звуков: крик осла, скрип и звяканье, смех детей, пенье петуха, шум автомобиля и вообще дневной шум, когда не отличаешь один звук от другого и не обращаешь на шум внимания хотя бы потому, что и сам принимаешь участие в его создании.
Потом я лег спать, и мне начал чудиться шум реки. Чем тише становилось на улице, тем громче шумела река. Постепенно она заполнила всю тишину, и ничего в мире, кроме нее, не осталось. Властно, полнозвучно, устойчиво шумела река, которой днем не было слышно нигде поблизости.
Утром, когда мир снова наполнился криками петуха, скрипом колеса, громыханием грузовика и нашим собственным разговором о всякой ерунде, я спросил у жителей аула и узнал все же, что река мне не приснилась, она действительно существует в дальнем ущелье за горой, только днем ее не слышно.
Каково же художнику сквозь повседневную суету жизни прислушиваться к постоянно существующему в нем самом и в мире, но не постоянно слышимому голосу откровения?
«И я мог бы многое услышать в этом мире, но, к сожалению, сам я все время шумел».
* * *
Красота окружающего мира постепенно аккумулировалась в душе древнего человека. Потом неизбежно началась отдача. Изображение цветка или оленя появилось на рукоятке боевого топора. Вместе с тем изображение топора или оленя появилось на скале, высеченное при помощи камня или нарисованное пометом летучей мыши.
Но что же все-таки было вначале: потребность души поделиться с другой душой (рисунок на скале) или потребность украсить свой боевой топор и тем самым выделить свою индивидуальность?
* * *
Мысль или образ, еще не отлитые в форму, не заключенные в формулу, в чеканную фразу, в отточенную строфу, способны развиваться, детонировать, порождать цепочку, влекущую другие мысли и образы. Они, как летящая бабочка, которую трудно разглядеть в подробностях, но следя за которой увидишь замысловатые зигзаги ее полета и цветок, на котором она посидела, и другую бабочку, которую она спугнула, и темную ель, на фоне которой творился ее золотистый зигзаг.
Напротив, мысль или образ, облеченные в форму, это та же самая бабочка, но уже пришпиленная булавкой. Ее теперь легче разглядывать и изучать, но ждать от нее больше нечего, она вся тут и никаких золотистых зигзагов, никаких неожиданностей подарить нам не может.
* * *
Чтобы любить и защищать родную культуру, достаточно, может быть, родиться в своей стране, среди своего народа и, так сказать, впитать национальные чувства с молоком матери.
Чтобы любить и защищать культуру другого народа, нужно обладать самому высокой и широкой культурой.
Чтобы защищать и сохранять свою культуру, достаточно быть русским, грузином, немцем, итальянцем, испанцем…
Чтобы сохранять культуру другого народа, надобно быть не меньше, чем человеком.
* * *
Вот область человеческой деятельности, в которой человечество с тех пор, как оно себя помнит, не сделало ровно никакого прогресса. Я имею в виду одомашнивание животных. В самом деле, все современные домашние животные уже были как бы с самого начала: корова, лошадь, кошка, собака, овца, коза, осел, верблюд… На своей памяти человек не прибавил к этому списку ни одного животного. Если иметь в виду одомашнивание целого вида, а не приручение отдельного экземпляра, например: белки, лося, ежа или даже волка.
* * *
Писатель мне говорит: «Пишу сейчас книгу. Форма — дневник. Впрочем, никто не будет обращать внимания на то, как книга написана, все будут поглощены смыслом».
Так-то так. Но все же, чтобы люди не замечали, как книга написана, нужно единственное условие: она должна быть написана хорошо.
* * *
Умопомрачительное искусство циркачей. Кажется неправдоподобной эта точность движений, эта способность в такой степени управлять своим телом. Это на грани с чудом.
Но когда я смотрю цирковую программу, я после третьего номера как-то сразу перестаю всему удивляться. Мне кажется, что они все могут. И так могут. И эдак могут. Еще и не так могут. Невероятно, сногсшибательно, конечно, но если они умеют так делать, что же, пусть.
Между тем вопрос не лишен интереса. В нем гнездится одна из важнейших проблем искусства.
Художник, как бы гениален он ни был, приглашает читателя (или зрителя, если это художник-живописец) в сопереживатели. Читатель переживает судьбу Анны Карениной, Печорина, Робинзона Крузо, Гулливера, Тома Сойера, Дон-Кихота, Квазимодо, Андрея Болконского, Тараса Бульбы… Он переживает или сопереживает все, что происходит с героями, как если бы это происходило с ним самим. Отсюда и острота переживания, отсюда и сила воздействия искусства. Если читатель и не подставляет себя полностью на место литературных героев, то он как бы находится рядом с ними, в той же обстановке. Он не просто свидетель, но и непременно соучастник происходящего.
В цирке этого приглашения в соучастники не происходит. Я могу вообразить себя Робинзоном Крузо, Дубровским или д'Артаньяном. Но я не могу вообразить себя на месте циркача, зацепившегося мизинцем ноги за крючок под куполом цирка, висящего вниз головой, в зубах держащего оглоблю, с тем чтобы на оглобле висело вниз головами еще два человека и чтобы все это быстро вращалось. Я не могу представить себя стоящим на вертком деревянном мяче и жонглирующим сразу двадцатью тарелками.
Они это умеют, пусть делают, а я буду глядеть на них со стороны. Сногсшибательно, конечно. Но если они умеют…
* * *
Самое определяющее слово для писателя и художника вообще и самый большой комплимент ему — исследователь.
Бальзак исследовал, скажем, душу и психологию Гобсека, Толстой — душу и психологию женщины, изменившей мужу, Пришвин — вопрос о месте природы в душе и жизни человека, Пушкин — вопрос отношения личности и государственности («Медный всадник»), Достоевский — взаимодействие добра и зла в душе человека… Да мало ли! Современные наши писатели тоже пытаются исследовать: один — психологию человека на войне, другой — проблемы колхозного строительства, третий — быт городской семьи, четвертый — отношения между двумя поколениями…
Итак, писатель — исследователь, и как таковой должен быть элементарно добросовестным. Это самое первое, что от него требуется.
Исследователь-ботаник, обнаружив новый цветок о шести лепестках, не напишет в своем исследовании, что лепестков было пять. Сама мысль о таком поведении ботаника абсурдна. Географ, обнаружив неизвестную речку, текущую с севера на юг, не будет вводить людей в заблуждение, что речка течет на восток. Исследователь, сидящий на льдине около полюса, не будет завышать или занижать температуру и влажность воздуха, чтобы кому-нибудь сделать приятное.
Только иные писатели позволяют себе подчас говорить на белое черное, очернять или, напротив, обелять действительность. В таком случае — исследователи ли, то есть писатели ли они?
* * *
Есть игра, или как теперь модно говорить, психологический практикум. Заставляют быстро назвать фрукт и домашнюю птицу.
Если человек выпалит сразу «яблоко» и «курицу», то считается, что он мыслит банально и трафаретно, что он неоригинальная, несамобытная личность. Считается, что оригинальный и самобытный человек, обладающий умом из ряда вон выходящим, должен назвать другое: апельсин, грушу, утку, индюка.
Но дело здесь не в оригинальности ума, а в открытом простодушном характере или, напротив, в хитрости и лукавстве. Лукавый человек успеет заподозрить ловушку, и хотя на языке у него будут вертеться то же яблоко и та же курица, он преодолеет первоначальное, импульсивное желание и нарочно скажет что-нибудь позамысловатее вроде хурмы и павлина.
* * *
Памятник «Тысячелетие России» в Новгороде. На барельефе, как известно, сто девять человек, удостоившихся, сподобившихся олицетворять Отечество и его славу. Конечно, тут не все люди, кто мог бы олицетворять, всех невозможно было бы уместить. Значит, был строгий выбор, а в выборе была тенденция.
Есть Пушкин, но нет Белинского, есть Гоголь, но нет Степана Разина. Есть Сусанин, но нет Пугачева, есть Минин, но нет Булавина, есть Лермонтов, но нет Радищева…
Можно было бы теперь упрекнуть тех, кто выбрал, за такую тенденцию, за такую ограниченность. Но, с другой стороны, разве одни не попавшие, не сподобившиеся могли бы составить Россию без тех, кто сподобился и попал?
* * *
Мастер говорит: «Ты сидишь и чеканишь два года серебряный рубль, и получается изумительное изделие ручной чеканки. А в это время со штамповочного станка выбрасывают на рынок те же по рисунку алюминиевые рубли и пускают их по той же цене».
Происходит девальвация мастерства и искусства.
* * *
Для художника весь материал, — а он в объеме не имеет пределов, ибо в конечном счете он сама жизнь, — это как обыкновенное солнце. Его много, оно везде. Оно обладает своими качествами: теплое, светлое. Однако, чтобы резко проявить его основное качество, чтобы воочию показать, что солнце — это огонь, мы должны собрать его рассеянные лучи в пучок при помощи двояковыпуклой линзы. Образуется маленькая ослепительно-яркая точка, от которой тотчас начинает куриться дымок.
* * *
Сущностью любого произведения искусства должно быть нечто объективное в субъективном освещении. Например, художник пишет дерево. Но это значит, он пишет: «Я и дерево». Или: «Я и женщина», «Я и русский пейзаж», «Я и кавказский пейзаж», «Я и демон», «Я и московская улица»…
Значит, нужно изобразить основные характерные признаки московской улицы так, чтобы в них сквозило отношение художника к изображаемому: то ли он любит московскую улицу, и она кажется ему прекрасной и величественной, то ли он не любит ее, и она представляется унылой, серой, холодной, неживой.
Ну, а как быть художнику, если ему нужно изобразить: «Я и вся земля», «Я и человечество», «Я и вселенная»?
Может быть, именно в этой точке начинается Рерих.
* * *
В одном романе Жюля Верна люди решили при помощи выстрела из огромной пушки сместить ось земного шара. Тогда растопились бы полярные льды, половину Европы, в том числе и Париж, залило бы водой и так далее.
Время выстрела было объявлено. Европейцы в панике ждали часа катастрофы.
Только один математик сидел спокойно в парижском кафе и пил кофе. Он проверил расчеты безумцев, нашел ошибку в расчетах и знал, что ничего не произойдет.
Как часто во время литературных дискуссий и шумных кампаний приходится довольствоваться грустной ролью математика, спокойно пьющего кофе.
* * *
Что значит — знаю ли я этого человека? Это значит — знаю ли я, как он поступит в том или другом случае, в той или иной сложившейся обстановке.
* * *
Я жил сорок дней в Малеевке. Писал рассказы, роман, катался на лыжах, читал, слушал самого себя.
Однажды пошли стихи. Четыре стихотворения за три дня. Потом стихи прекратились так же неожиданно, как возникли. Значит, из сорока дней три оказались стихотворными. Но чтобы эти три дня подкараулить, нужно было все сорок дней прислушиваться к самому себе.
Если бы эти три дня пришлись на Москву (с утра — телефонные звонки, в одиннадцать — встреча в редакции, в три — совещание, в шесть — просмотр нового фильма), то написанных мною четырех стихотворений не появилось бы. Я так и не узнал бы, что у меня, оказывается, было три стихотворных дня.
* * *
Ужасной машиной зубной врач сверлит зуб. Он может сверлить его очень долго и высверлить почти весь, и все не больно. Но вдруг острая боль пронзает все тело, каждую клетку. Кажется, больно и в мозгу, и в сердце, и даже в пятках. Значит, сверло дотронулось до обнаженного нерва.
Я не знаю, от чего это зависит, но огромное большинство произведений современного, да и не только современного искусства, как бы добротны, обстоятельны и художественны они ни были, не дотрагиваются до нерва. Их читают, отзываются одобрительно, даже рекомендуют читать друзьям…
И вдруг с одним из произведений происходит нечто. Вырывают из рук, говорят взахлеб, звонят по телефону, в библиотеках очереди, книгопродавцы достают из-под прилавка… Книга зацепила за нерв, и сразу все и везде: в Москве, в Ленинграде, на Камчатке — почувствовали, что больно.
Ни зубной врач, ни художник не знают, что сейчас-то, сию-то секунду они дотрагиваются до нерва. Это происходит неожиданно для них самих, и они узнают об этом уже по реакции пациента или читателя: по вздрагиванию, по вскрику или даже по воплю.
* * *
Его книги (Герцен, Эренбург, Вересаев…) насквозь рациональны, но читать их все-таки интересно, потому что он умен. Страшно, когда рационален глупец.
* * *
На каждом вечере меня спрашивают, как я отношусь к Евтушенко.
Я отвечаю очень просто: все, что написал я, я не променяю на все, что написал он.
* * *
Лучше всего исполнять какую-либо должность можно тогда, когда не боишься ее потерять.
* * *
Сомневаясь в чувствительности растений, указывают прежде всего на отсутствие того, что у людей и животных называется нервами.
В самом деле, нет не только нервов, но и мозга, то есть места, органа, командного пункта, пульта управления, куда сбегались бы по нервам все раздражения.
Если, рассматривая человека (или кролика) и удивляясь сложности, точности и целесообразности его действий и действий каждого органа в отдельности, мы все же можем сказать, что всем заведует мозг, то глядя на растения и удивляясь сложности, точности и целесообразности его действий, мы вынуждены удивляться еще больше, не находя главного, командного органа, подобного мозгу.
Однако представим себе существо (марсианина, что ли?), считающее, что музыка обязательно связана со струнами, а всякий музыкальный звук — со звучанием струны. Когда такому существу попал бы в руки предмет, не имеющий струн, он не узнал бы в нем музыкального инструмента и стал бы утверждать, что никакой музыки тут быть не может.
А предмет этот был бы духовым инструментом: флейтой, фаготом, гобоем, трубой.
* * *
Популярная песенка «С чего начинается Родина». Перечисляются разные факты и вещи, с которых Родина якобы могла бы начаться: футбольный мяч, пенье птички, школьный двор и что-то еще другое.
Но существует большая разница между родными местами и той Родиной, которую мы пишем всегда с заглавной буквы.
Поэт Алексей Смольников рассказывает о себе и о том городке, где он родился: «…Я никогда не чувствовал волнения, подъезжая к этому городку, меня увезли оттуда двухлетним… Моими стали другие берега — обские и иртышские».
Получается — где родился, там и Родина. Да нет же, не Родина, а родные места. Ибо как же быть тогда, например, с армянами-репатриантами, которые плакали, возвратившись на землю своих предков, которую сами они никогда не видели.
Можно не чувствовать волнения, подъезжая к городку, из которого увезли двухлетним, но будешь волноваться, подплывая с чужбины к никогда не виденным берегам Балтийского либо Охотского моря.
Ни с какого футбольного мяча и скворца Родина начинаться не может. Любовь к родным местам действительно возникает по мере накопления личных жизненных впечатлений.
Любовь же к Родине и само чувство Родины возникает и сотворяется по мере проникновения в ту культуру, в ту сокровищницу понятий и чувств, преданий и сказок, песен и языка, поэм и архитектуры, легенд и старины, городов и подвигов, которые Родина сотворила за все предшествовавшие века своего существования, своей истории.
* * *
Большая ошибка людей состоит в том, что от человека, одержимого страстью, они ждут тех же поступков, что и от неодержимого, и чаще всего меряют его поступки по себе, то есть по своему хладнокровному и здравому поведению.
* * *
Яркий образ в стихотворении создает как бы непростреливаемую мертвую зону. После него сознание читающего не воспринимает несколько последующих строк или воспринимает вскользь, поверхностно. Следовательно, эти строки могут быть ослабленными, малозначащими, проходными, связующими, вроде соединительной ткани.
* * *
Один директор музея говорил своей сотруднице-экскурсоводу:
— Понимаете, в вашей беседе с экскурсантами есть все, как в печке, которую начали топить: есть дрова, растопка, поддувало, труба, огонь. Но нет тяги.
Этот очень точный образ применим ко многим книгам. Все как будто в них есть: и герои, и язык, и сюжет, и ум автора, и знание им жизни. Нет только тяги. И вот дрова не пылают, а шипят, чадят, едва прогорают. И читать такие книги нет никакой возможности. Нет тяги.
* * *
Моя новая повесть была написана на три четверти, когда мне понадобилось съездить в Москву. Я показал матери на стопу исписанной бумаги, то есть на рукопись, и попросил, чтобы в случае пожара она спасала прежде всего эту бумагу, а не остальное барахлишко. У матери сначала не могло уложиться, как это стопа бумаги может быть дороже всего добра: одеялишек, подушек, перины, рубашек, пальто и даже самого дома.
Потом она поняла, завернула бумагу в шаль и бережно, как если бы живое или стеклянное, понесла к себе под подушку.
* * *
Общественную атмосферу в мире я ощущаю так же явственно, как и физическую. То становится тягостно и душно, то легче, то как бы перед грозой.
* * *
Когда неприятель атакует окопы, то солдаты, сидящие в обороне, палят через бруствер, почти не целясь. Общая масса летящих пуль наносит урон противнику, но каждый солдат в отдельности палит приблизительно, наугад.
Снайпер сидит тут же, в своем гнезде, и стреляет по выбору. Пока те палят по десять раз, он успевает выстрелить только однажды, но зато наверняка. Притом твердо зная, в кого именно он попал.
Писать тоже можно либо как стреляют солдаты, вразброд, либо как стреляет снайпер, на выбор, без суеты.
*
В редакции мне предложили сократить одну мою повесть. Ненамного. Из-за условий места в журнале. Там абзац, там абзац, там три строчки, там еще три строчки. Все уже было отчеркнуто и подчеркнуто редакторским карандашом.
Тогда я понял, что дело вовсе не в том, сколько сократить.
От бутылки вина можно отлить половину, но все же оставшаяся часть сохранит весь вкус вина, цвет, оттенки, аромат. А можно хитроумным способом лишить вино терпкости, аромата, цвета, крепости. Причем вина почти не убудет.
* * *
В его стихах нет ощущения противника.
* * *
Обогащение писательского языка должно идти по способу, которым металлурги обогащают руды. Они берут трехпроцентную руду и начинают ее обогащать. Что же, может быть, они добавляют в нее металл? Нет. Они отнимают, убирают пустую породу. И вот руда содержит уже не три, а сорок процентов полезного металла. Руда обогатилась.
Обогащение языка писателя методом флотации!
* * *
Когда слова, что пишутся на бумаге, не обеспечены определенным количеством искреннего, неподдельного чувства, наступает инфляция слов.
* * *
Твардовский рассказывает про мастера-столяра, оборудующего комнату:
— Я ему говорю: вон в том углу нужно прибить планку. «Хорошо, — отвечает мастер, — прибью. А чем я ей отвечу в другом углу?»
* * *
У альпинистов есть золотое правило: нельзя терять высоту.
Крив, сложен, извилист путь к намеченной вершине. Иногда приходится идти как бы от вершины в противоположную сторону, петлять, двигаться, не видя самой вершины за другими скалами.
Все можно. Нельзя только одно — терять высоту! Каждый шаг должен приподнимать тебя над предыдущим и тогда, если даже ты идешь как бы и не к вершине, все равно ты становишься выше, то есть ближе к цели.
Итак, нельзя терять высоту!
* * *
Этот человек — дрожжи. Он мне необходим. Он всем необходим. Дрожжи нужны для брожения, чтобы в тесте (в среде) возникали и происходили определенные процессы.
Но есть дрожжи в чистом виде не так-то легко. Попробуйте поставить гостям тарелку чистых дрожжей!
* * *
Говорят об упадке гуманитарных интересов среди сегодняшней молодежи и о преобладании интересов к технике. Пресловутые «физики» и «лирики». Но это глубокое заблуждение. Убедиться в этом можно очень просто. В залах, где выставлены искусственные спутники Земли, нормальное количество посетителей и ни разу еще не было конной милиции. Залы, где проводятся вечера поэзии (с участием хороших поэтов), переполнены и около подъездов толпа.
* * *
Пришвин всегда достоверен. Если у него написано, к примеру, что на опушке леса пахло клевером, значит, там действительно пахло клевером и ничем иным.
Паустовский более романтик. Он не заботится о достоверности. Если он напишет, что от далекого ледника смутно тянуло горными фиалками, то это еще не значит, что запах фиалок действительно был слышен на расстоянии нескольких километров. Но все же мы сразу слышим и горный холодок и аромат, сразу видим соседство сурового льда и нежных ярких цветочков.
Или вот фраза (речь идет о том, что пароход остановился у Сухуми, в двух километрах от берега): «С берега наплывали терпкие запахи, сливаясь с чуть ощутимым шелковистым веянием роз. Запахи то сплетались в тугой клубок, сжимая воздух до густоты сиропа, то расплетались на отдельные волокна, и тогда я улавливал дыхание азалий, лавров, эвкалиптов, олеандров, глициний и еще множества удивительных по своему строению и краскам цветов».
Все это, конечно, выдумка романтика. Лавр, например, не пахнет даже вблизи. Нужно растереть листок в пальцах, чтобы услышать запах лавра. Но на это как-то не обращаешь внимания. Город нарисован очень точно, потому что первое впечатление от такого города, как Сухуми, — пряные запахи разнообразных цветов и деревьев. Разве не безразлично, к какому приему прибегнул художник, чтобы написать выразительную картину?
* * *
Человек проходит только один жизненный цикл: детство, юность, первая любовь, жена, дети, внуки, старость…
Интересно, что у птиц иначе. Каждую весну все начинается сначала: выбор подруги, любовь, пенье в честь подруги, кладка яиц, птенцы, взрослые птенцы… Казалось бы, все — цикл закончен. Но приходит новая весна, и все идет снова, как бы опять с молодости.
И, таким образом, много законченных циклов за одну жизнь. Как бы несколько жизней, прожитых с начала до конца.
* * *
Когда пишешь длинную поэму, написать две-три строфы ничего не стоит. Если же две-три строфы — самостоятельное стихотворение, то это целое событие. Вероятно, это потому, что в стихотворении на каждый, если можно так сказать, квадратный сантиметр площади, на каждую строку приходится неизмеримо большая нагрузка, чем в поэме.
* * *
Писать продолжение книги уже вышедшей, нашедшей своего читателя, книги, так сказать, состоявшейся, — дело очень рискованное и с точки зрения искусства (а не размера заработка) чаще всего бесполезное. При выходе продолжения получается не новая книга как явление, но прежней книги становится в два раза больше.
Но ведь если винодел вывел новый сорт вина, разве важно, сколько у него этого вина получилось: одна бочка или тысяча тонн? Важно, что создан новый сорт.
* * *
Гений — завершающий штрих, шпиль на здании культуры народа или целой цивилизации. Естественно, что шпиль не может повисать в воздухе, он опирается на здание, а здание покоится на прочном, в плане культуры, многовековом фундаменте, основании.
* * *
Родная природа для нас не только то, что невольно видит и невольно воспринимает взгляд. Дело в том, что мы постепенно прошли хорошую школу понимания и восприятия родной природы. Воспринимая и любя ее, мы приводим в движение эмоциональные резервы, накопленные нами при чтении русских писателей и поэтов, при слушании русской музыки и при созерцании картин живописцев.
Другими словами, чувство родной природы в нас организованно и культурно.
* * *
Когда начинается разговор о благах, принесенных человечеству цивилизацией, то в первую очередь приходят на ум совершенно необыкновенные способы передвижения, удобства транспорта.
Начать с малого. Город одним уж тем отличается от деревни в лучшую сторону, что в нем можно пользоваться удобными троллейбусами, автобусами, а в некоторых городах и метро.
Но нетрудно заметить, что это удобство пришло к людям лишь с необходимостью ими пользоваться. В самом деле: троллейбус нужен лишь потому, что далеко до места работы, до кинотеатра, до магазина, до рынка. Зачем в деревне троллейбус?
Говорят: до Хабаровска теперь вы можете долететь за восемь часов, а ваш дед не мог. Но деду не нужно бы лететь в Хабаровск. У него пасека была на задворках, поле в двух километрах, а в гости он ездил, запрягая тарантас, если на успеньев день, и санки, если на масленицу…
Вглядываясь пристальнее в другие разнообразные блага современной жизни, замечаешь, что все они служат лишь для погашения не всегда приятных необходимостей и, таким образом, не имеют права называться благами. В конце концов благо и пенициллин, но для того, чтоб он воспринимался как благо, нужна, увы, болезнь. Для здорового же человека это совершенно излишний предмет.
Кстати, о метро. Конечно, оно прекрасно. Но ведь только от горькой нужды мы, люди, должны лезть под землю, чтобы там передвигаться. Человеку было бы более свойственно неторопливо ходить или ездить там, где растет трава, где плавают облака и светит солнце.
* * *
В Солотче я пошел гулять в лес. Догнал пожилую женщину. Скрипя валенками по снегу и переговариваясь, мы шли километров около трех и дошли до какого-то села. Это село было целью женщины, а я от крайнего дома повернул обратно. И вот я понял, что мое поведение для женщины — чистая нелепость.
Дошел человек до села и повернул. Забыл, что ли, чего?
У нее все проще: есть дело в другом селе, иди туда по этому делу. Нет дела — сиди дома, делай что-нибудь другое.
* * *
Весь материал, накопленный писателем внутри себя, можно разделить по способу его приобретения на три части.
Первая часть — это опыт, который я бы назвал опытом первоначального накопления. Это тот драгоценный опыт, который накапливается в годы, когда человек еще не стал писателем и даже не собирается им стать. Детство. Юность. Человек не собирает материал, но просто живет на земле, не думая ни о каком материале.
Такой первоначально накопленный опыт ложится потом в основу первых книг, от чего они нередко получаются столь яркими и обаятельными, что потом писатель при всем своем мастерстве не может сделать ничего лучше и интереснее их. Но, конечно, этот «золотой фонд» участвует в разной степени и в остальных книгах писателя.
Вторая часть — опыт, повседневно накапливаемый писателем-профессионалом, когда его глаз уже выбирает из океана действительности не все подряд, но то, что нужно для профессии и работы.
И наконец, третья часть — опыт, приобретаемый в результате узкого целенаправленного изучения жизни: поездка Пушкина в Оренбург, экскурсия Толстого в губернскую тюрьму (для «Воскресения»).
* * *
— Как это так, тебе не пишется, если ты умеешь писать? Сел и пиши.
— А вот так и не пишется. Если лампочка рассчитана напряжение 220, то, чтобы она ярко горела, должно быть 220. Иначе получается не свет, а красный волосок. Так и у меня. Сядешь за стол, а в организме не хватает напряжения, в нем меньше двухсот двадцати. Вот и не пишется.
* * *
Народ — не механическое соединение миллионов человек. Такое скопление людей было бы не способно ни к какому историческому действию.
Народ — это то, что он создал за свою многовековую историю и что, в свою очередь, создало, сцементировало его сложной системой исторических и нравственных идеалов.
* * *
Когда нам не хочется умирать, это значит, что нам не хочется лишаться того, что мы уже знаем, пережили, видели: солнца, моря, дождя, травы, снега, музыки, любви… А вовсе не потому не хочется умирать, что осталось-де много неизведанного. О неизведанных радостях и наслаждениях мы не думаем и не жалеем.
* * *
Однажды мне звонят по телефону:
— Вы съездили бы в городок З.
— Зачем?
— Там есть литературное объединение. Поэты. Энтузиасты. Талантливейшие люди. Но вот уже тридцать лет они варятся в собственном соку…
Я, разумеется, не поехал, потому что талантливые люди вариться в собственном соку тридцать лет не могут и не будут.
* * *
Правомочно ли ставить искусство в прямую зависимость от научных открытий и технического прогресса? Можно ехать на лошади из одного города в другой и написать стихотворение «Зимняя дорога» или обдумать замысел «Евгения Онегина», — как можно лететь в современном самолете и стучать костяшками домино.
* * *
Возникает в душе предчувствие стихотворения.
* * *
Один поэт в разговоре как-то сказал: были бы последние две строки, а уж стихотворение-то к ним подогнать можно. Это и есть рецепт писания холодных, умозрительных стихотворений.
Лучшие стихи получаются тогда, когда есть настроение, а даль стихотворения неясна. Она манит неожиданными открытиями, а если и различается, то совершенно смутно (сквозь магический кристалл).
Мне кажется, рецепт этого поэта похож также на то, когда ученик сначала заглядывает в ответ, а потом подгоняет к ответу решение задачи.
Может случиться при этом, что ход решения окажется неверным, если даже ответы сходятся.
* * *
Когда читатель берет книгу и начинает ее читать, у него в запасе сто копеек читательского внимания. Дальше все зависит от того, как построена книга. Эти сто копеек читатель может израсходовать на первых двадцати страницах или, во всяком случае, задолго до конца книги. Книга останется недочитанной.
Капиталом читательского внимания писатель должен распорядиться так, чтобы его хватило до конца, да еще и остался хотя бы грошик, выражающийся в восклицании: «Как жалко, что книга кончилась».
* * *
Он имеет право писать плохо, потому что он пишет очень много. Ты пишешь мало — и тебе плохо писать нельзя.
* * *
Под влиянием все убыстряющегося, все более нервного, все более бесшабашного (а вернее бы сказать, шабашного) ритма жизни на нашей планете появилась тенденция, которую иногда называют лаконизмом: вместо того чтобы написать роман, писатель скороговоркой, рублеными, бескровными, бесцветными фразами пересказывает его содержание.
* * *
Какую роскошь мог позволить себе Ч. Дарвин! Заканчивая предисловие к одной из своих основных работ, он написал: «О стиле я не заботился»!
* * *
В автомобиле вдруг закипела вода. Если бы я прозевал, мотор вышел бы из строя, потому что расплавились бы подшипники. Я остановил автомобиль, поднял капот и вскоре нашел, что ослаб хомутик, обжимающий резиновую трубку. Большая часть воды из-за этого утекла, а ее остатки закипели. Плоскогубцами я затянул хомутик, налил новой воды и поехал дальше. Неисправность оказалась пустяковой, хотя она и могла привести к гибели мотора.
Вероятно, иногда внутри нас возникают еще более незначительные неисправности, но мы погибаем от них, потому что нельзя было «открыть капот и подтянуть плоскогубцами».
* * *
Дело не в абсолютной колоссальности научного открытия, а в его относительной непривычности и резкости для современников. Когда Галилей объявил, что не Солнце вращается вокруг Земли, а напротив, Земля — вокруг Солнца, эта новость по воздействию на психику людей была резче и значительней, чем для нас расщепление атомного ядра.
Переход от рыцарской турнирной пики к пороху и пуле был психологически резче, чем переход от многотонной фугаски к атомной бомбе.
* * *
Одно время с полной серьезностью обсуждался вопрос о праве писателя на ошибку. Обсуждался он во всех газетах, и было решено так: «Писатель не имеет права ошибаться».
Нелепость этого очевидна. Ошибка (любая) не есть что-либо преднамеренное, но всегда непроизвольное, неожиданное и, главное, нежелательное для самого ошибающегося. Можно ли запретить людям падать в гололедицу, спотыкаться о неровности земного шара, проигрывать в шахматы? Ибо проигрыш в шахматы есть не что иное, как целая серия более или менее заметных ошибок.
* * *
К вопросу о современности. Представим, что во времена татарского нашествия какой-нибудь русский изобрел станковый пулемет. В то время один пулемет мог бы остановить целую орду, изменить историю. Но изобретатель закопал его в землю. Откопали пулемет во время гражданской войны. Ну и что? Конечно, одним пулеметом больше, но и только.
Я думаю об этом каждый раз, когда мне говорят, что такой-то писатель пишет «в стол».
* * *
Во Вьетнаме я был в гостях у одного художника. Он рассказывал мне о технике лаковой живописи, в частности, о процессе шлифования картин. Сначала картину шлифуют крупными камнями, потом мелким зернистым камнем, потом угольной пылью, потом угольной золой, доходя, наконец, до самого нежного материала — до золы соломы.
Очевидно, до «золы соломы» нужно бы доходить и в шлифовании литературных произведений. Однако кто же до этого доходит? Дело чаще всего ограничивается камнями.
* * *
В основе любви, самой возвышенной и духовной, все равно лежит физиология. Она — корень любви, так сказать, базис, а все остальное лишь красивая, хотя и необходимая для человека, если он хочет остаться человеком, надстройка.
Одна молодая собеседница, любящая своего жениха чистейшей любовью, горячо опровергала меня, говоря, что физиологии вовсе могло бы не быть, что физиология второстепенна, что она между прочим и даже противна ей, молодой любящей невесте. Я привел аргумент:
— У вас скоро свадьба. Скажите, вы обрадовались бы или разочаровались, если бы вдруг выяснилось, что ваш жених доводится вам родным братом и, значит, пожениться вы никак не можете? Ведь духовного общения у вас этом случае никто бы не отнимал.
* * *
Понятие о мещанстве у меня очень ясное. Если человек живет благополучно и говорит, что жизнь прекрасна, в то время как вокруг него и его благополучного дома творятся безобразия, требующие если не прямого вмешательства, то хотя бы боли душевной, — такой человек мещанин, и пусть у него в квартире висят современные картины и стоит современная модная мебель.
Человек, радости и горести которого шире его собственного благополучия, не мещанин, если даже в доме у него растут пресловутые фикусы.
* * *
Когда бы созвали самых великих художников и сказали бы им, что существует во вселенной голый черный камень и нужно украсить его разнообразно и одухотворенно, с тем чтобы красота облагораживала, поднимала, делала лучше и чище, разве могли бы они, эти художники, придумать что-нибудь прекраснее обыкновенного земного цветка?
Только вот вопрос: сумели бы эти художники или нет додуматься до цветка, если бы они никогда его не видели, не знали бы, что это такое, то есть если бы у них не было образца?
Важен принцип и образец. Уж потом-то они насочиняли бы и василек, и ромашку, и незабудку, и ландыш, и одуванчик, и подсолнух, и клевер, и кошачью лапку, и шиповник, и сирень, и жасмин.
Откровенно говоря, я сомневаюсь в том, что они смогли бы додуматься до цветка.
* * *
Некий художник совершил подделку под Моне. Подделка получилась столь искусна, что, даже когда подделывальщик признался, специалисты-искусствоведы и эксперты все равно не верили и продолжали утверждать, что Моне подлинный.
Информация об этом случае в одной из западных газет содержала оттенок, что вот, мол, что вы носитесь со своими гениями. Захотели и сделали не хуже, не отличишь. Подделывальщик собирается теперь подделать Рембрандта. Подумаешь — Рафаэль, Рублев, Ботичелли… Современный художник без имени пишет почти так же.
Возможно. Но это все хорошо делать тогда, когда есть Моне и есть Рембрандт. То есть когда есть под кого подделываться.
* * *
Может быть, самый емкий литературный жанр — древняя притча. В одной притче, состоящей из нескольких фраз, бывает сказано так много, что хватает потом на долгие века для разных народов и разных социальных устройств. Возьмем хотя бы притчу о блудном сыне. Когда блудный сын, промотав свои деньги, возвратился в родительский дом, отец на радостях зарезал теленка. Другой сын, неблудный, обиделся: как же так, он не проматывал отцовских денег, каждый день добровольно трудится, и ему — ничего. А этому лоботрясу и моту — теленка. За что же?!
В нескольких строчках, как в хорошем романе, три разных характера: отца, блудного сына и неблудного сына. Характеры даны во взаимодействии. Эта притча как зернышко, в котором таится большое дерево. По этой притче можно писать роман, ставить фильм. Сколько живописных полотен уже написано!
Но главное состоит в том, что в притче присутствует колоссальный обобщающий момент, благодаря которому частный, казалось бы, случай применим к тысячам случаев во все времена и у всех народов.
Вспоминаю, какой резкой критике подвергся один поэт, считавшийся тогда еще молодым. Нельзя было представить более высокого источника критики и более гневных интонаций в голосе критикующего.
Вскоре поэт написал поэму, говорящую о том, что он исправился. Поэма немедленно и полностью была опубликована в центральной газете, заняв там целую страницу.
Поэты старшего поколения обиделись: «Как же так? Мы никогда не ошибались, не плутали, честно трудились. Но мы и мечтать не можем о целой странице в этой газете!»
Притча о блудном сыне в ее чистом виде.
* * *
Переводчик примерно то же, что реставратор древних икон. Плохой реставратор может испортить редчайшую первоклассную икону, так что ее нельзя будет выставить напоказ.
Напротив, первоклассный реставратор «соберет» и «вытянет» среднюю и даже плохую икону до экспозиционной кондиции.
* * *
Детство как почва, в которую падают семена. Они крохотные, их не видно, но они есть. Потом они начинают прорастать. Биография человеческой души, человеческого сердца — это прорастание семян, развитие их в крепкие, большие, во всяком случае, растения. Некоторые становятся чистыми и яркими цветами, некоторые — хлебными колосьями, некоторые — злым чертополохом.
Последующая жизнь сложна и многообразна. Она стоит из миллиона поступков, определяющихся многими чертами характера и, в свою очередь, формирующими эти характер.
Но если бы какой-нибудь фантастический ум мог прослеживать и находить связь явлений, то он нашел бы, что всякая черта характера взрослого человека, всякое качество его души и, может быть, даже всякий его поступок имели в детстве свой зародыш, свое семечко.
* * *
В двадцатом веке обрушивается на человека огромное количество информации. Всего знать нельзя. Наше время — время узких специальностей.
Однако есть понятия, вопросы, сферы духовной жизни, которые обязательны для каждого человека.
Ты можешь изучать морские водоросли, нуклеиновые кислоты, редкие металлы. Ты можешь быть химиком, электриком, партийным работником, футболистом, писателем, генералом, но если ты русский человек, ты обязан знать, что такое «Слово о полку Игореве», Покрова на Нерли, Куликовская битва, рублевская «Троица», Кирилло-Белозерский монастырь, Крутицкий терем, устюжская чернь, вологодское кружево, Кижи.
* * *
Первый концерт Чайковского. Допустим, что это дворянская музыка, ибо Чайковский был дворянин. Но ведь Первый концерт любят все — и рабочие, и советская интеллигенция.
Рахманинов пользуется одинаковой популярностью на Западе и у нас. Весьма демократические неаполитанские песни нравятся и миллионерам. Под джазовые песенки — действительно порождение буржуазной культуры — танцуют девчонки в нашем деревенском клубе.
Пожалуй, надо признать, что музыка — самое общечеловеческое искусство из всех искусств.
* * *
Природа разнообразна. Однако в основе ее разнообразия лежит некий стандарт — растительная или животная клетка. Именно из мельчайших клеточек скомбинированы лягушка и слон, одуванчик и яблоко, воробей и пшеничное зерно, карась и береза.
В человеческой цивилизации тоже есть своеобразный стандарт, дающий основу бесконечному разнообразию форм.
Что может быть проще, обыкновеннее, стандартнее кирпича? Но вот мы видим то собор Василия Блаженного, то собор Парижской богоматери, то дворец, то амбар, то церковную ограду, то лабаз, то фабричную трубу, то часовенку на развилке дорог.
Сооружения то пластаются по земле, то струятся ввысь, то нависают мрачными глыбами, то словно висят в воздухе легкие, веселые, как цветы.
И все это собрано из маленьких одинаковых кирпичей.
* * *
Стихотворные переводы можно считать идеальными только тогда, когда они стали фактом той поэзии, на язык которой переведены.
Стихотворение Лермонтова «Сосна» — это именно стихотворение Лермонтова, хотя мы и знаем, что оно «Из Гейне»; «Вечерний звон» — русская песня, хотя она вообще-то ирландская. Но таких переводов очень мало.
* * *
По-моему, всякий живой организм может считаться законченным, целым, полной, так сказать, биологической единицей только в том случае, если он способен воспроизвести сам себя без посторонней помощи.
Очевидно, что природа, создав такую биологическую единицу, как человек (впрочем, и любое другое земное животное), зачем-то раздробила эту единицу на две половинки. И вот миллиарды половинок живут на земле обособленно друг от друга.
В самом деле, ни мужчина, ни женщина в отдельности не могут воспроизвести себе подобного и были бы обречены на немедленное вымирание. Следовательно, ни тот, ни другая не могут считаться полноценной биологической категорией.
С этой точки зрения только соединившиеся мужчина и женщина представляют из себя уже не две дроби, но полную единицу, способную продолжить себя во времени и в пространстве. Отсюда, вероятно, к неистребимая тяга к воссоединению двух разрозненных половин одного целого, тяга, называемая любовью.
* * *
В сборнике «День поэзии» за 1968 год одно мое стихотворение попало по небрежности составителей к Дмитрию Сухареву и значится там под его именем. Досада моя была не столь велика: ошибка рано ли, поздно ли исправится. Я поймал себя на том, что мне было бы гораздо досаднее, если бы ко мне попало чужое стихотворение и люди читали бы его, принимая за мое.
* * *
Однажды в далекой и жаркой юго-восточной стране я съел что-то недоброкачественное и утром, проснувшись, почувствовал, что меня перепиливают по животу. Такой боли и такой слабости я не испытывал никогда. До столицы государства, где медицина и вообще цивилизация, было три дня пути. Чтобы я не так страдал во время этого путешествия, подоспевший местный врач сделал мне три укола: в обе руки и в живот. Через минуту мои дикие, невероятные боли сняло как рукой, и меня повезли в столицу. Я ехал и думал: врач сделал мне сильную болеутоляющую инъекцию. На мою боль, на саму болезнь он накинул болеутоляющее покрывало, и я, конечно, благодарен ему. Но ведь под этим покрывалом продолжает развиваться процесс! Чтобы его остановить, нужно не болеутоляющие, а иные средства. Нужны мощные антибиотики или даже, кто знает, хирургическое вмешательство.
Не бывает ли точно так же болеутоляющего искусства?
* * *
Смотрю на цветок жасмина. Его чистота, нежность и тонкость неправдоподобны, глаз не устает любоваться им. Кроме того, он источает неповторимый во всей многообразной природе, только ему, жасмину, присущий аромат. Его конструкция проста и строга, он построен по законам симметрии, его четыре лепестка, расположенные крестообразно, как бы вписываются в условный круг.
Все это — и белые лепестки, и желтая сердцевина, и даже сам аромат, — все это создано при использовании ста четырех элементов таблицы Менделеева путем хитроумных (или гениальных?) комбинаций. Ни один элемент в чистом виде жасмином не пахнет. Ни один элемент не может произвести такое же эстетическое воздействие, какое производит живой цветок.
Ну, конечно. Ведь и буквы, будучи рассыпанными, не значат ничего. Возьмем хотя бы такой бездушный и бесчувственный, бесцветный набор букв:
в, з, ы, ж, ш, х, о, м, у, д, н, и, о, ы, р, а, д, с, в, к, о, у, ь, н, о, м, р, о, к, н, ж, ы, и, й, ж, у, ь, и, е, я, ж, у, ь, и, е, я, ж, с, ч, б, ш, ь, о, ч, н, х, а, т, и, у, с, п, ы, ж, я, н, е, м, ж, л, е, н, в, о, у, г, б, и, в, з, д, я, з, с, а, д, з, е, в, з, ю, о, е, о, г, и, п, р, ш, о.
Увидим ли мы, читая эти буквы, какую-нибудь картину, тем более прекрасную? Услышим ли прелесть черной ночи, ее тишину? Возникнет ли перед нами мерцание звезд, почувствуем ли мы в гортани прохладу ночного свежего воздуха, а на сердце неизъяснимую тревогу и сладость?
Но вот буквы меняются местами, группируются, соответствующим образом комбинируются, и мы читаем, шепчем про себя, повторяем вслух:
Выхожу один я на дорогу, Сквозь туман кремнистый путь блестит, Ночь тиха, пустыня внемлет богу, И звезда с звездою говорит.Но каким образом перегруппировываются элементы Менделеевой таблицы, чтобы из их бездушной, бесчувственной россыпи получился живой, благоухающий цветок жасмина?
Теперь поставим себе вопрос: сколько миллионов лет нужно встряхивать на подносе и перемешивать рассыпанные буквы, чтобы они сами сложились в конце концов в гениальное лермонтовское четверостишие?
Или в поэму «Демон»? Или в целого Гёте?
Не знаю, как там с цветком, но для того чтобы из рассыпанных букв получилось гениальное стихотворение, нужен — как ни печально в этом признаваться — поэт.
* * *
Когда невежда сталкивается с явлением, которое он не может понять или которое недоступно пяти его органам чувств (всего лишь пяти довольно примитивным органам чувств), он говорит: «Этого не может быть». Эта фраза есть высшая степень человеческого невежества.
* * *
Существует мнение, что человеческий организм инстинктивно противится творческим процессам, вспыхивающим в нем, а тем более длительному творческому процессу. Кто-то из великих французов заставлял запирать себя в кабинете, кого-то слуга привязывал к креслу веревками и уходил на полдня. Шиллер ставил ноги в таз с холодной водой. Бальзак непрерывно подбадривал себя крепким кофе.
* * *
Прочитал статью, в которой моральный облик нескольких молодых людей поставлен в зависимость от материальной обеспеченности (богатые папа с мамой, папина «Победа», лишние карманные деньги…)
Но мне кажется, что материальная обеспеченность не связана с уровнем морали никоим образом.
Моральный облик человека зависит от воспитания. Тургенев был очень богат. Толстой был граф, Диккенс не бедствовал. С другой стороны, Бетховен и Рембрандт умерли в бедности. Купца Третьякова или богача Савву Мамонтова я не упрекнул бы в аморальном поведении, так же как нищих писателей Александра Грина или Велимира Хлебникова. Бывают бедные жулики и обеспеченные люди образцового поведения, так же как богатые подлецы и бедняки, исполненные благородства.
Итак, моральный облик человека зависит от его воспитания. Качество воспитания зависит от культуры, умения и моральных принципов воспитателей. К воспитателям относятся как отдельные люди (родители, учителя, друзья), так и общество в целом с его орудиями воспитания: искусство всех видов, печать, радио.
Моральный уровень общества или времени (века) зависит от господствующих в данное время моральных принципов. Например, одним из моральных (а если быть точным — аморальных) принципов XX века во многих странах стал подмеченный, предсказанный и разоблаченный еще Достоевским принцип: «Все дозволено». Его воздействию подвергаются люди самого различного материального положения.
* * *
Перевод стихотворения, как бы близок он ни был, отличается от оригинала, как гипсовая маска отличается от живого лица.
* * *
Беда не в том, что звук и цвет проникли в кино. В конце концов они могли бы стать помощниками. Беда в том, что звук и цвет часто подменяют язык кино, они как бы снимают с создателей фильма долю ответственности, они обещают вывезти фильм на себе, если там и не будет кинематографа как такового.
* * *
Зачем всякое явление в природе мы сравниваем с предметами человеческого обихода: роса — как бриллианты, ландыш — серебристый, закат — золотой? Я бы сравнивал наоборот: бриллианты — как роса, серебро — похожее на лунный блеск, золото — словно закатное море или небо.
* * *
Представим роботов, запрограммированных даже и на саморазмножение, но у которых нет связей (то есть проводочков) на человеческие понятия любви, ненависти, дружбы, грусти, тоски, мечтания. Или, еще проще, обыкновенной физической боли.
Читая наши книги и встречая в них слова: тоска, любовь, боль, они недоумевали бы, что это такое, и в конце концов назвали бы все это очень удобным словечком — «сверхъестественное».
* * *
Вероятно, большинство людей — в душе поэты. Если бы это было не так, то собственно поэты, поэты, пишущие стихи, поэты-профессионалы не могли бы приглашать других людей себе в заочные собеседники. То есть, попросту говоря, стихи, написанные поэтом, некому было бы воспринимать и понимать. У поэтов не было бы читателей.
* * *
Попытка поставить искусство в зависимость от расщепления атомного ядра. Но расщепляется атом, а не душа человека. Когда начнется расщепление человеческой души, искусство погибнет.
* * *
Принято считать, что телеграф, телефон, поезда, автомобили и лайнеры призваны экономить человеку его драгоценное время, высвободить досуг, который можно употребить для развития духовных способностей.
Но произошел удивительный парадокс. Можем ли мы, положа руку на сердце, сказать, что времени у каждого из нас, пользующегося услугами техники, больше, чем его было у людей дотелефонной, дотелеграфной, доавиационной поры?
* * *
Конечно, идейная сторона художественного произведения прежде всего. Но если мне говорят, что ружье нацелено очень точно, а ружье в конце концов не стреляет или стреляет холостым выстрелом, что мне в том, пусть и очень точно нацеленном, ружье?
* * *
Есть поэты-планеры. Поэт заводится от другого стихотворения, от чужой книги, от чужой мысли. Потом он будет летать и даже выделывать в полете разные фигуры. Но у него нет своего мотора, своей тяги.
* * *
Мы рассыпаем на листе опилки: железные, медные, алюминиевые. Все перемешано. Потом к листу снизу мы подносим магнит. Железные опилки мгновенно располагаются в стройный спектр, а все лишнее остается ни при чем.
К многим поэмам, повестям, романам хочется поднести магнит четкого замысла, большой идеи, строгой позиции. Тогда все лишнее осталось бы ни при чем. И резко обозначилось бы все, в чем есть железная необходимость.
* * *
Я согласен, что у нас много очень крупных романистов и прозаиков вообще. Но дело в том, что писатель, которого можно будет потом называть крупным, большим, не говоря уж о более превосходных степенях, должен оставить после себя хотя бы одного живого человека с именем, отчеством, цветом волос и глаз, с определенными чертами характера, чтобы этот живой человек жил потом с другими поколениями на правах если не близкого, то хорошо им знакомого.
Продолжают жить на земле с людьми Робинзон Крузо и Дон-Кихот, Спартак и Фауст, Гамлет и госпожа Бовари, и даже какой-нибудь д'Артаньян.
Как живые сопутствуют нам, русским людям, Евгений Онегин и Татьяна, Печорин и Обломов, Чичиков и Ноздрев, Базаров и Соня Мармеладова, Хаджи-Мурат и Анна Каренина, и десятки, десятки живых людей.
Мы знаем про Чапаева, Павку Корчагина, Василия Теркина, Григория Мелехова… Но если продолжать этот последний список, то очень скоро запнешься и начнешь смотреть в потолок, мучительно вспоминая.
* * *
Имея «Капитанскую дочку», нельзя было бы дать Государственную премию «Бедной Лизе». Но без «Бедной Лизы» могло бы не появиться «Капитанской дочки».
* * *
Что такое литературный талант и откуда он берется (особенно поэтический)? Я думаю, что он так же, как голос у певца. Один родится с голосом, другой — безголос. Разница в том, что если (мы знаем) голос зависит от особенностей голосовых связок, гортани и слуховых центров, то где гнездится поэтический талант, так сказать, «поэтический голос», мы пока не знаем.
* * *
Лирический герой — фиговый листок на месте вполне приличном. Он прикрывает автора.
* * *
Есть такое понятие — скорость чтения. Считается, что средний интеллигентный человек читает со скоростью 250—300 слов в минуту, а человек, не связанный по профессии с книгами, — вдвое медленнее.
Дотошные люди выяснили, что обыкновенный человек видит одновременно четыре сантиметра строки, а быстрочитающий человек охватывает глазами сразу несколько строк текста.
В некоторых западных университетах ведется преподавание метода быстрого чтения. Один преподаватель такого метода утверждал, что он тратит на 5000 слов развлекательного текста одну минуту и что каждый может научиться читать художественную литературу со скоростью 2000 слов в минуту.
Не знаю, не знаю. Я человек, по своей профессии связанный с книгами, но я читаю очень медленно. Для меня важно не только то, что узнаю из прочитанного, не только информационная сторона текста, но главным образом то, что я перечувствую, пока читаю.
Что значит 5000 слов развлекательного текста в минуту (25 страниц)? В чем же тут развлечение? А если на этих двадцати пяти страницах есть пять-шесть остроумных, веселых мест, над которыми хочется рассмеяться? Ведь при таком чтении один смех налезет на другой!
Что значит 2000 слов художественной литературы в минуту (десять страниц)? Получишь ли при этом удовольствие от музыки фразы, от ее краски, упругости, изящества?
Можно, конечно, пищу глотать целиком. Организм ее в конце концов, наверное, усвоит. Но даже кусочек черного хлебца, съеденный с ощущением вкуса, дороже заморского кушанья, проглоченного целиком наподобие пилюли.
Об этом можно было бы не думать: читай себе и читай, было бы что читать. Но там, где говорят, что художественную литературу нужно читать со скоростью две тысячи слов в минуту, там, значит, и требуется от художественной литературы только одно: все та же бесцветная, безвкусная, захлестнувшая человечество информация. Важнее, что сказано, а не как. «Что» можно проглотить целиком, а «как» — нельзя.
* * *
Яркого французского киноактера Жана Габена некоторые критики упрекали в том, будто он во всех ролях играет самого себя.
Но здесь происходит, видимо, то, что можно назвать, может быть, типизацией самого себя, а еще точнее — самотипизацией.
На экране не просто Жан Габен, каков он есть на самом деле, в жизни, но несколько обобщенный (самообобщенный), несколько типизированный, художественно откорректированный Жан Габен.
Разве из всей лирики Лермонтова не вырастает некоего образа человека или, скажем, образа души, внутреннего мира человека? Но разве мы осмелимся сказать, что это и есть сам Лермонтов?
И Пришвин во всей своей лирике — не тот Пришвин, который обращался в быту, в повседневности. Пришвин тоже типизировал сам себя.
Самотипизация — один из главнейших творческих актов.
* * *
Если бы я не писал свои прозаические книги, то стихов у меня теперь было бы больше. Проза отняла часть времени и энергии. Какие это были бы стихи? Я не знаю и никогда не узнаю. Как не знает женщина, которая избегала беременности, какие у нее народились бы дети.
* * *
Пушкин высказывался о Державине несколько раз и всегда высоко его ценил. Только однажды он высказался о своем великом предшественнике более резко, но, как всегда, гениально. Он сказал, что Державин — это дурной перевод с какого-то прекрасного оригинала.
Нельзя ли, перефразируя, сказать, что Державин — это прекрасный подстрочник, требующий перевода на современный (Пушкину) литературный язык. Но тогда бы и получился Пушкин!
* * *
К вопросу о «рассказать» и «сказать». Если бы Суриков написал несколько десятков портретов, типов старой Москвы, а также десятки церквушек и теремов, он рассказал бы нам больше, чем у него рассказано в его знаменитой «Боярыне Морозовой». Но Суриков сделал иначе — он добился фокуса. В центре — боярыня с ее фанатичным протестом. Теперь каждый персонаж показан в отношении к протесту боярыни. Все связаны с ней крепкой внутренней связью. Тот сочувствует, та страдает, этот смеется.
Нам, конечно, интереснее увидеть московские типы в таком идеальном освещении, нежели просто галерею портретов, как бы велика она ни была.
* * *
Не может быть отрицательной традиции. Понятие «традиция» несет в себе лишь положительную окраску. В течение веков от искусства отшелушивается все мелочное и ложное и вырабатывается традиция, которую нельзя смешивать с влиянием того или иного художника, той или иной школы.
* * *
Долго разглядывал я картины двух английских современных художников, выставленных на Волхонке. И вдруг в конце выставки увидел фотографии самих художников: его и ее.
Мне показалось странным, что художники, написавшие этакие картины, выглядят обычно, как и все люди. Было бы более естественно, если бы они сами оказались все изломанные, все из смещенных пропорций, диссонирующих красок и условных линий. Верно, они так и изобразили бы себя, если бы писали автопортреты. Дело спасла фотография.
А может быть, и души их тоже обыкновенные, человеческие, как и их лица, изображенные на фотографиях?
* * *
У нас в институте была машинистка Аллочка Князятова, которая, перепечатывая наши стихи, делала счастливые описки. Так, например, в «солдатском» стихотворении Жени Винокурова она вместо «это было весенней привольной порой» написала «привальной порой». Женя подпрыгнул от радости. Во всех сборниках у него теперь этот вариант. Я знал много таких примеров, но теперь забыл.
Аллочке приходилось печатать много стихов, и мы подозревали, что она из озорства подправляет наши стихи. Причем всегда удачно.
Это подтверждается тем, что у меня в стихотворении о встрече Ленина с Уэллсом она вместо «И по карте страны заскользила указка» напечатала «по просторам страны…» — что, конечно, лучше и что не могло быть просто опиской.
* * *
Говорят, к Шекспиру пришел молодой человек и спросил:
— Я хочу стать таким же, как вы. Что мне нужно делать, чтобы стать Шекспиром?
— Я хотел стать богом, а стал только Шекспиром. Кем же будешь ты, если хочешь стать всего лишь мной?
* * *
Искра замысла. Огонь труда. Тепло и свет воздействия на людей. Дым славы. Зола забвенья.
* * *
Искусство — как поиски алмазов. Ищут сто человек, а находит один. Но этот один никогда не нашел бы алмаза, если бы рядом не искало сто человек.
* * *
Мне сказали, что я должен поехать в Индию. Я стал собираться и, между прочим, прочитал множество книг об этой стране. Поездку отменили. В разговоре я пожаловался одному старому поэту, что зря вот потратил время на чтение толстых книг, вместо того чтобы закончить начатую работу.
— Ну, вы напоминаете того деятеля, которого хотели послать за границу дипломатом и несколько месяцев обучали хорошим манерам. У него тоже отменилась поездка, и он тоже был недоволен, что потратил время на приобретение хороших манер.
* * *
Человеческий материал, из которого строится общество, тоже может быть разной кондиции: грубое сукно, тонкая шерсть, штапель…
* * *
Старик Городецкий пришел в ЦДЛ, где в большом зале шло обсуждение стихов молодых поэтов. Современник Блока, человек, вводивший в литературу Есенина, живой обломок истории, слушал, слушал потом вышел на трибуну и сказал: «Гляжу я на вас, какие вы все грамотные, какие вы все умные, какие вы все образованные, какие вы все культурные и как вам скучно».
* * *
Экс-чемпион СССР по боксу Виктор Пушкин однажды учил меня:
— Главное в боксе — уметь расслабляться. Ведь если какая-нибудь твоя мышца напряжена, хотя бы и без дела, значит, она работает, берет энергию, как включенная лампочка или электроплитка. Этой энергии может не хватить в конце боя. Ты выдохнешься раньше времени. Главное в боксе — уметь быть расслабленным, и только в момент удара мгновенно собирать всю силу, сосредоточивать ее в пучок и посылать в одну точку.
Наука хорошая. Точно так же нужно уметь вести себя в искусстве. Интересно, что эта наука боксера в точности перекликается с легендой об апостоле Иоанне. Вот ее смысл так, как его передает Ф. Фаррар.
Однажды молодой охотник увидел Иоанна, играющего с ручной куропаткой, и спросил:
— Как же можешь ты унижать себя столь тщетным развлечением?
— Что это у тебя в руке? — в свою очередь спросил Иоанн.
— Лук.
— Почему же он не всегда натянут?
— Потому что от постоянного напряжения он утратил бы свои свойства, и когда нужно с усилием пустить стрелу в дикого зверя, то невозможно было бы это сделать: лук не имел бы силы.
— Не удивляйся же, молодой человек, что я даю временное отдохновение уму своему: если он будет постоянно в напряжении, то также утратит свою крепость и ослабеет, когда по необходимости потребуешь от него усилий.
* * *
Когда читаешь Паустовского много, собрание сочинений, создается впечатление, что очень большую картину рассматриваешь по фрагментам на близком расстоянии. Чувствуешь, что фактура великолепна, а цельного впечатления не получается.
*
Безграничное доверие может стать угнетающим, превратиться в обузу. Его ведь нужно оправдывать. Его неудобно потерять.
* * *
Никакого прогресса формы художественного произведения нет и быть не может.
Чем джазовая музыка прогрессивнее Бетховена? Кто объяснит, почему симфонии Прокофьева нужно считать более прогрессивными, чем симфонии Чайковского?
* * *
Когда я писал роман, это было для меня как езда в автомобиле ночью с фарами по незнакомой дороге. Фары четко высвечивают вперед на сто метров, а дальше мрак, неизвестность. Лишь умозрительно знаешь, что должны попадаться такие-то деревни или такие-то города.
Так вот, когда я писал роман, я четко, с подробностями видел страниц на двадцать вперед. Остальное умозрительно, в общих чертах, с ощущением основных пунктов.
Проедешь эти двадцать страниц, прояснится следующий отрезок.
* * *
Литература более всего имеет право называться машиной времени. Она дает нам почти реальную возможность (не менее реальную, чем реальность отчетливого сновидения) присутствовать на королевских балах в Версале, на Бородинском поле во время сражения, на необитаемом острове среди дикарей, на дружеских пирушках среди гусар и студентов, в парках русских поместий, на улицах и площадях Парижа, в лесах и замках Шотландии и даже на эшафотах.
* * *
Так называемый реализм сравнивают с фотографией (в противовес абстракции). Но разве можно назвать фотографией «Боярыню Морозову» Сурикова, «Пустынника» Нестерова, кустодиевского «Шаляпина» (казалось, уж вовсе портрет) и врубелевскую «Царевну-Лебедь», и вообще всего Врубеля, и Левитана, и Рериха… Ну какая же фотография рериховский «Гонец»!
Отчего при одном и том же формальном методе одни произведения живописи хочется заклеймить определением «фотография», тогда как по отношению к другим это сделать невозможно даже и при желании?
Оттого, что одни одухотворены, а другие не одухотворены.
* * *
Когда пишется стихотворение, на одно вакантное место просятся двадцать или тридцать слов. Все они как будто хороши и годятся. В меру своего таланта поэт выбирает лучшее, похуже, совсем плохое, совсем хорошее или единственное.
У Пушкина были варианты:
На берегу варяжских волн… На берегу свинцовых волн… На берегу холодных волн… На берегу безбрежных волн…И наконец, появилось:
На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн.Можно научить поэта тому, что нужно искать слова, но найти свое единственное слово может лишь сам поэт. Этому научить нельзя. А между тем степень единственности найденного слова есть единственная мера таланта.
* * *
Конферансье, прежде чем объявить номер, рассказывает анекдот. Вот он от слова до слова. Два иностранных туриста с фотоаппаратами на улицах Москвы. Выискивают нищету. Вдруг видят — идет старушка с кружкой в руке. Один иностранец подбежал и кинул в кружку монету, другой в это время щелкнул затвором фотоаппарата.
— Идиот, — закричала старушка. — У меня ведь в кружке-то сметана!
Вот и весь анекдот. Я подумал: ехал бы этот известный, между прочим, конферансье в купе поезда или сидел с друзьями за столом и рассказывал бы анекдоты. Неужели он решился бы рассказать эту чепуху? Ни за что и никогда. А на публике, оказывается, можно. На публике все идет.
* * *
Можно экранизировать роман и сделать из него фильм. Можно из романа сделать несколько фильмов. Можно из нескольких романов сделать один фильм.
Но все же наиболее нормальным образом в односерийный фильм ложится рассказ. Односерийный фильм и рассказ — вот адекватные жанры.
Нужно учесть и то, что, когда фильм создается из романа и повести, их приходится урезывать, следовательно, обеднять.
* * *
Писатель дает мне свой недавно написанный рассказ и просит:
— Прочитай, пожалуйста, с карандашом.
— А у тебя карандаша, что ли, нет?
* * *
Смотрю на прекрасное женское лицо, как бы излучающее некий свет. Да, в процессе эволюции из-за соображений целесообразности могли укоротиться руки, мог выпрямиться позвоночник, из второй пары рук могли образоваться ноги. Но какая целесообразность сделала из обезьяньей морды прекрасное, божественное лицо?!
* * *
В доме отдыха каждая партия отдыхающих живет двенадцать дней.
А я жил и работал там два месяца, то есть в течение пяти двенадцатидневных циклов.
В каждой партии появлялись у меня знакомые люди, хотя бы по обеденному столу. Они привыкали к новой обстановке, потом чувствовали себя как дома, потом исчезали. И вот мне стало казаться, что я пережил несколько поколений. Это ощущение переросло в некий психологический гнет. Я как бы устал. Первые мои соседи по столу стали мне казаться такими же далекими и нереальными, как древние греки.
* * *
Ямб существовал и при Пушкине. Что делает стихотворение современного поэта, ну хотя бы Твардовского, современным? Неужели только словарь? Вот некоторые строфы из Твардовского:
Я еду. Малый дом со мною, Что каждый в путь с собой берет. А мир огромный за стеною, Как за бортом вода ревет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Я видел, может быть, полсвета. И вслед за веком жить спешил. А между тем дороги этой За столько лет не совершил. Хотя считал своей дорогой И для себя ее берег, Как книгу, что прочесть до срока Все собирался и не мог.В этих трех строфах нет ни одного слова, которое было бы порождено двадцатым веком и принадлежало бы только ему. Все эти слова мог употребить и Пушкин, и все до одного он их употреблял: дом, стена, книга, борт, дорога, прочесть, век, путь и т. д.
И все-таки эти стихи не припишешь к прошлому веку. Что-то неуловимое разлито в них, что говорит о принадлежности нашему времени. В чем же тут дело? Вероятно, в современном складе ума и души поэта, которые невольно кладут свою печать на стихи.
* * *
Если сто лет назад поэт мог созерцательно говорить, что земля прекрасна, то в современной поэзии всегда за этими словами стоит тень. Всегда подразумевается, что прекрасная земля может превратиться в голый, обугленный камень.
* * *
Банально, но все-таки, если прислушаться, самый зловещий из всех земных звуков — тиканье часов.
* * *
Меня возил по Болгарии Станислав Сивриев. Оказывается, до этого он возил в этом же самом «Москвиче» Константина Георгиевича Паустовского.
В первый день пути Станислав все время вспоминал предыдущую поездку: «Паустовский сказал… Паустовский говорил… Паустовский хотел… Паустовский сделал…»
Паустовский, конечно, личность яркая. Но все же в следующий раз, если Станислав будет путешествовать с кем-нибудь по Болгарии, скажет ли он хоть однажды: «Солоухин рассказывал… Солоухин мечтал… У Солоухина была поговорка…»
Я поймал себя на том, как хочется оставить след в человеческом сердце и как непросто!..
* * *
Раньше гусиными перьями писали вечные мысли, теперь вечными перьями пишут гусиные.
* * *
Однажды произошел курьез, объяснить который я до сих пор не умею. Я принес в журнал перевод превосходного лирического стихотворения. Оно состояло из трех сложных девятистрочечных строф и было построено на трех парадоксах.
«Знают ли хоть что-нибудь о солнце те, кто рожден в южных странах? — спрашивала поэтесса в первой строфе и тут же отвечала: — Нет, о солнце больше знают те, кто живет на севере и кто радуется каждому проблеску солнца».
«Знают ли хоть что-нибудь о дожде те, кто живет в дождливом и туманном Лондоне? — спрашивала поэтесса во второй строфе и отвечала: — Нет, о дожде больше знают те, кто ждет его во время засухи».
«Знают ли хоть что-нибудь о любви люди, избалованные любовью? — спрашивала поэтесса в третий раз и отвечала: — Нет…»
И так далее и тому подобное, одним словом, прозрачное лирическое стихотворение.
Поэт, работавший тогда в журнале заместителем главного редактора, прочитал стихотворение и сказал, что оно ему очень нравится, но вдруг совершенно огорошил меня:
— Только знаешь, неясно, о ком идет речь.
— То есть как это о ком?
— Ну да. Вот здесь написано «они», «они», а кто они-то?
— Ясно сказано:
О, знают ли они, как солнце жарко греет, Они, кто в южных странах рождены?— Но все-таки неясно, кто они?
— По-русски же сказано:
О, знают ли они хоть что-то о дожде, Рожденные в приморских низменных долинах…Вот, значит, о них и идет речь. О тех, кто ничего не знает о дожде.
— Это понятно. Но все-таки кто они такие?
Я начал подозревать, что меня разыгрывают, потому что я знал поэта давно, знал его стихи и знал, что такую ерунду он говорить не может. Разве что нашло затмение. Я попросил арбитража. Мы пошли в кабинет главного редактора. Я с выражением прочитал свой перевод. Редактор задумался и, к моему ужасу, вдруг сказал:
— Все хорошо. Непонятно только, кто они.
Я схватил стихотворение и в панике убежал из редакции. Я подумал, что, может быть, в этот момент какие-нибудь неизвестные космические гипнотические силы облучали тот участок земного шара, на котором находилась редакция, ибо невозможно, чтобы два человека, не сговариваясь, говорили одну и ту же чушь. Но позже я сообразил, что космические силы должны были бы подействовать и на меня, находившегося там же. Таким образом, эта загадка до сих пор мной не разгадана.
* * *
Высшее счастье человека, хоть это и банально, в принесении радости другим людям.
* * *
Я иногда вижу, как во время оживленного разговора один из собеседников вынимает записную книжку и скорее записывает в нее только что произнесенную фразу или только что рассказанный случай; я удивляюсь: что интересного нашел он в этом?
В другой раз я записываю то, что не заинтересовало никого из присутствующих.
Каждый берет свое.
* * *
Разговор об искренности (всерьез) может возникнуть только между людьми, которые постоянно лгут.
* * *
Нужно было увеличивать скорость самолетов. Конструкторы годами бились над усовершенствованием машин и в первую очередь мотора: меняли число цилиндров, уменьшали вес, отвоевывали еще десять-двадцать километров скорости, но вновь наступал предел.
Потом какой-то конструктор, которого можно было бы назвать гениальным, решил: не надо усовершенствовать мотор, надо его выбросить. И поставить нечто качественно новое. Турбореактивные двигатели. Черта предела скорости сразу отскочила за горизонт. Когда-нибудь то же самое может произойти и с формами нашего искусства.
* * *
В Жерехове было имение князей Оболенских, а еще раньше Всеволжских. Дом построен в 1622 году. Крыша у него сделана похожей на крышку гроба. На церкви на крестике — венчальный венец. В парке есть Катина аллея и Катин пруд.
Теперь в имении дом отдыха, и затейник, или, как его еще называют, «культурник», рассказывает каждому заезду отдыхающих легенду.
Катя была горничная в барском доме. Сын барыни полюбил Катю. Они тайно обвенчались. Венец на крестике — память об этом венчании. Но сына все же услали в Париж. Катя с тоски засохла и умерла. Сын, возвратившись, переделал дом, придав ему очертания гроба, и поставил четыре башни по углам — как бы свечи. В одной из палат дома отдыха, в которой стоят теперь шесть железных коек, показывают на потолке лепное изображение — будто бы портрет Кати.
Я видел немало барских имений, переделанных то под дом отдыха, то под совхоз, но ничего не известно было об их давнишних обитателях. Понадобилась сильная, необыкновенная любовь, которая, словно вспышка магния, осветила нам глубину веков и породила легенду, дожившую до сих пор.
* * *
Бывает, что сидишь с друзьями в ресторане и выпиваешь и бываешь пьян. Идет интересный разговор. Отпочковываясь от разговора, в голове рождаются как будто бы интересные мысли. Записываешь их на ресторанных салфетках, кладешь в карман. Радуешься, что пришли такие оригинальные мысли, предвкушаешь, как завтра будешь переписывать их в тетрадь.
Утром посмотришь на салфетки и подивишься: все неинтересно, бесцветно, банально.
* * *
Существует ли язык кино, кинематограф в его чистом виде?
Ведь когда на экране актер поет — это вокальное искусство. Когда на экране танцует балерина — это балет. Когда с экрана произносят речь — это искусство оратора.
Декламация, живопись, музыка, архитектура, элементы драматического, мимического, хореографического, литературного (в огромной степени) искусств берутся напрокат кинематографом.
А между тем у него есть свой язык, не доступный ни музыке, ни театру, ни живописи. Рене Клер сказал: «Хорошо, если в фильме на тридцать минут есть тридцать секунд настоящего кинематографа». Это преувеличено. Но в этом есть доля правды. Когда я смотрю фильм, я стараюсь выудить из него эти самые драгоценные секунды.
* * *
В свое время я возмущался (по-профессиональному, конечно) тем, что Семен Кирсанов, описывая раненного в кабине самолета летчика, употребил инструментовку строки на Р: «Рана кРовью маРлю кРасит». Свое возмущение я основывал на том, что кровь пропитывает марлю бесшумно и, значит, Р ни к чему.
Позже я понял, что инструментовка этой строки на Р удачно передает прерывистое, как бы захлебывающееся кровью рычанье мотора.
* * *
Антоний Слонимский (Польша), обращаясь к молодым авангардистам, сказал: «Я допускаю, что стихи могут быть без ритма, я допускаю, что стихи могут быть без рифмы, я допускаю, что стихи могут быть без смысла, но нельзя, чтобы все сразу в одном стихотворении».
* * *
Активный, живой писатель перенасыщен впечатлениями жизни точно так же, как бывает в химии перенасыщенный раствор какой-нибудь соли.
Рождение замысла подобно процессу кристаллизации, когда растворенное ровным образом невидимое вещество начинает на глазах формироваться в строгую и стройную систему кристаллов.
Чтобы начался процесс кристаллизации, необходимо бывает опустить в раствор хотя бы крохотный готовый кристаллик.
Роль такого кристаллика для писателя играет обычно новый яркий факт, свежее резкое наблюдение, высказанная кем-нибудь свежая яркая мысль.
* * *
Маяковский не должен был называть свою статью «Как делать стихи». Он должен был ее назвать «Как я делаю стихи».
* * *
Если я как писатель скажу: «Я шел и увидел разрушенную церковь», этим я еще ничего не скажу. Может быть, ее надо было разрушить, может быть, хорошо, что она разрушена. Или, напротив, может быть, разрушение ее есть проявление варварства, уничтожение истоков культуры целого народа… Ничего нельзя понять из фразы «Я шел и увидел разрушенную церковь».
Непозволительно и кричать: «Ах, как хорошо, что церковь разрушена!» или: «Ах, как плохо, что ее не стало!»
Задача художника — написать такую фразу или ряд фраз, чтобы читатель сам воскликнул: «Вот хорошо!», или: «Вот безобразие!», или просто побежал бы на площадь бить в рельс.
* * *
Любовь, несомненно, болезнь, изученная меньше всех болезней и даже, может быть, совсем не изученная. Как и в результате почти каждой болезни, у человека возникает невосприимчивость, иммунитет. Тяжелой формой любви человек болеет один-два раза, в остальном дело обходится более легкими формами.
* * *
Одна красивая женщина, которой многие признавались в любви, рассказывала, что она всегда заранее могла отличить признание искренне влюбленного сердца от искусственных признаний завзятого сердцееда. Оказывается, в одних случаях она испытывала невольное волнение, в других — оставалась спокойной.
Точно так же, если был взволнован писатель, когда он писал, то и читатель невольно будет волноваться. Это волнение передается между строк. Оно как аромат цветка, который нельзя ни увидеть, ни потрогать.
* * *
Говорят: «Вы с ним помягче, он талантлив, как бы не отпугнуть».
Но нет, талант не отпугнешь, его можно лишь разозлить.
* * *
В языках иных отсталых племен бывает так: есть слова, обозначающие отдельно те или иные травинки, но нет одного обобщенного понятия «трава». Есть отдельное слово для снега падающего, отдельное слово для снега, лежащего на земле, отдельное слово для снега, несомого ветром или тающего. Но нет общего слова «снег».
Большой художник стоит на таком же уровне над толпой, как наш современный цивилизованный человек, знающий слово «трава», над первобытными племенами.
Люди знали отдельно графиню Зубову, графиню Апраксину, княжну Оболенскую, княжну Олсуфьеву, но не знали общего понятия «Наташа Ростова».
* * *
Самовыражается ли колодец, из которого берут или, скажем по-другому, который дает свою воду людям? Бесспорно. Но колодец сначала должен собрать воду из окружающих водоносных пластов, отстоять ее в себе, а потом уж и предлагать. Поэт годами и десятилетиями по крупице вбирает в себя, впитывает, копит и отстаивает в себе все характерное для своей эпохи. Для чего же мы будем говорить ему: не смей раскрывать своей души, а раскрывай только души своих современников. Он-то разве не современник? Отчего душа человека по профессии «поэт» должна быть менее типична, менее характерна для эпохи, чем души людей иной специальности: доярки, бетонщика, сталевара, ученого?
* * *
Известно, что писатели разделяются на работающих ночью и на работающих с утра. Толстой говорил, что он, читая книгу, может точно определить, по утрам или ночам она писалась.
Так, по Толстому, Джек Лондон писал только ночью, а Диккенс только днем. Сам Толстой, как известно, работал в утренние часы.
* * *
Очень возможно, что жителям Земли никогда не удастся установить и наладить связь с обитателями других галактик, так как не найдется общего языка. Возможно, они давно уж посылают нам какие-нибудь сигналы, но мы не понимаем их, точно так же, как они не понимают наших сигналов.
Очень возможно, что муравьи, например, давно уж пытаются установить и наладить связь с человечеством и при помощи своих усиков-антенн посылают нам свои сигналы, которые для нас остаются недоступными.
* * *
Бывает стихотворение, как раунд в боксе. Наскоки, увертки, уходы в глухую защиту, опять наскоки. Стихотворение выигрывает по очкам.
Но есть стихи как один удар, как нокаут. Стихотворение-нокаут. В нем нет лишних движений, подступов к теме, близкой тактики и дальней стратегии. Все, каждая буква, каждая запятая бьют в цель. И вот — нокаут. Большинство стихов выигрывает лишь по очкам.
* * *
Всегда существует непреодолимая пропасть между тем, что писатель хотел сказать, и тем, что у него получилось на самом деле, вернее, тем, что прочитал читатель. Эта пропасть обусловлена свойством слов вмещать в себе несколько понятий, в то время как кажется, что оно вмещает одно-единственное понятие.
Я сказал слово «поляна» и думаю, что сказал то, что хотел. Но я, говоря это, имел в виду совершенно определенную поляну. Сначала я ее видел, держал перед глазами, нарисовал воображением, а потом уж и сказал о ней. Читатель же, прочитав мое слово, неизбежно увидит некую свою поляну, виденную им когда-либо. Это и есть пропасть.
Я начинаю пропасть сужать, я конкретизирую поляну, я говорю, что она залита лунным светом, я говорю, что елочка, выбежавшая из лесу на эту поляну, бросает черную тень и сверкает зелеными огоньками от недавно прошедшего дождя.
Так я сужаю пропасть. Но свел ли я ее на нет? Конечно, не свел. Полностью то, что увидел я, читатель все-таки не увидит. Что-то он увидит не так, по-своему. Узость пропасти и есть мера таланта. Чем талантливее писатель, тем уже щелочка, отграничивающая его внутренний мир от читательского восприятия. Стремление ликвидировать или хотя бы сузить эту щелочку и есть так называемые муки творчества…
Муки творчества есть стремление, чтобы тебя поняли именно так, как ты хочешь, чтобы увидели то, что ты видишь, чтобы почувствовали именно то, что чувствуешь и ты.
Впрочем, давно уже я не слышал в нашем литературоведении самого понятия «муки творчества».
* * *
Про хорошего шахматиста говорят: у него свой стиль игры. Про хорошего борца говорят: у него свой стиль борьбы. Про хорошего конькобежца говорят: у него свой стиль бега.
Конечно, очень хорошо и красиво, когда у шахматиста, борца и конькобежца свой стиль, своя манера. Но их вполне могло бы не быть. Гораздо важнее, чтобы шахматист выиграл партию, борец положил противника на лопатки, а конькобежец первым пришел к финишу, если бы даже это и не было красиво и своеобразно.
Но писателя (настоящего писателя, а не среднего московского литератора) без своего особенного стиля, без особенной манеры быть не может.
* * *
Стихотворными опытами заниматься, вероятно, нужно, но, так сказать, дома, в порядке тренировки, для наращивания поэтической мускулатуры.
Вот тренируется штангист. Он прыгает, бегает, кувыркается, ходит на руках, выжимает штангу не с груди, а из-за плеч, из-за головы, кладет штангу на плечи и нагибается или приседает с ней, берет в руку двухпудовую гирю и то играет ею, как мячом, то крестится… Мало ли что делает штангист дома!
На арене же мы видим только, как он подходит к штанге и при помощи самых экономных и разумных движений поднимает штангу над головой.
Смешно было бы так же боксеру на ринге прыгать через детскую прыгалку-веревочку, хотя всем известно, что дома большую часть тренировки боксер затрачивает на такое прыгание.
Брюсов, правда, издал однажды свои домашние упражнения. Но книжечка так и называлась «Опыты».
* * *
Писатель Иван Р. всю жизнь встает в четыре часа утра и садится за письменный стол. Я спросил, сколько же страниц в день он пишет. Одну — был ответ. Но зачем же ради одной страницы вставать так рано? Ее можно написать и после завтрака.
* * *
Литератор должен работать широко. С годами на складах души и разума накапливается такой материал, который может не умещаться в узкие рамки какого-нибудь одного жанра, в частности в стихи. Он требует иных, более спокойных жанров. Волга не могла бы уместиться в русле горной реки.
* * *
Величие архитектуры вовсе не в размерах, не в количестве этажей. Трехэтажный или даже двухэтажный дворец может быть величественнее стоэтажного небоскреба.
Лебедю для того, чтобы казаться величественным, незачем быть величиной с носорога или слона.
* * *
Нет занятия более бесплодного и безнадежного, чем разговор о том, как нужно писать стихи. «На холмах Грузии лежит ночная мгла». Эта строка великолепна. Допустим. Но дело в том, что для самого Пушкина она тоже была находкой, неожиданностью, радостным событием. Пушкин сам не знал, откуда она взялась, эта великолепная строка. Как же он мог бы научить других создавать такие же строки?
* * *
Молодой критик из Кракова мне сказал: «Наши абстрактные художники жалуются, что им не дают полной воли, то есть что рядом с ними все еще существуют иные направления искусства, но я вам скажу, если бы им дать полную волю, а к тому же и власть, они-то уж не потерпели бы возле себя ничего другого».
* * *
Часто мы называем романами произведения, не имеющие права претендовать на этот самый сложный литературный жанр. Конечно, можно назвать дворцом и здание театра, и аэровокзал, и здание универмага. Но все же это будет театр или универмаг, а не дворец.
Роман — сложное архитектурное сооружение. Это не башня, не собор, но именно дворец, включающий в себя и башню, и дворцовую церковь, и домашний театр, и множество интерьеров, и галереи, и анфилады, и зимний сад, и чертоги, и подвалы (обязательно подвалы), и потайные подземные ходы в отдаленный угол запущенного сада, или к реке, или в ближний овраг.
Чехов называл «Фому Гордеева», кажется, не то оглоблей, не то шашлыком в том смысле, что все действие в этом произведении нанизано на одну линию.
* * *
Почему Покров на Нерли стоит на отшибе от богомолов, на лугу, на пустынном берегу реки? У меня есть такая версия. На этом месте (точно установлено) разгружали белый камень, который привозили на стругах из «булгар». Здесь камень перегружали на лошадей. Здесь был склад белого камня. А камень нужен был для строительства владимирских соборов.
Покров на Нерли построена из остатков этого камня (или из излишков), построена шутя, между прочим, потому что все равно склад, а оказалась она лучше тех основных соборов, ради которых камень везли.
Не знает и художник, что у него окажется самым лучшим. Может быть, что-нибудь сделанное между прочим, «из отходов».
* * *
Ругают ли, хвалят ли, а особенно, когда дают советы, художник должен ко всем прислушиваться и никого не слушать.
* * *
Стихи пишутся в состоянии сильного возбуждения, почти в экстазе. Поэтому очень нелегкий умственный, «нервный» труд человека, пишущего стихи, вовсе не воспринимается им как труд, как работа. Никому не придет в голову называть работой, например, любовные объятия, хотя известно, что они требуют большого расходования чисто физической энергии. Точно так же не замечает, что работает, человек, участвующий в драке, хотя и в этом случае огромные физические усилия очевидны. Азарт, высокая степень возбуждения заслоняют все.
Однако настоящая драка, драка высокого класса, драка профессиональная (если иметь в виду бокс) требует, чтобы порыв, всплеск энергии распределялся на двенадцать раундов. Такая драка — уже работа. Она требует учения, самодисциплины, характера и, главное, повседневности.
* * *
Переводить стихи нужно только в одном случае (если говорить о поэте, а не о переводчике-профессионале), а именно когда воскликнешь: да ведь это же мое! Это должен был написать я. Может быть, завтра и написал бы. Но вот оно уже написано, и мне ничего не остается, как переложить его на родной язык.
* * *
Я человек — существо социальное. От меня, как от точки, существует проекция назад, в прошлое, в глубину (понимание прошлого и отношение к нему) и проекция вверх, в будущее (понимание и ощущение его). Я узелок, связывающий эти две нити. Они натянуты, и их натяжение определяет мое пространственное и временное положение. У меня есть корень в землю и побег в небо.
* * *
В профсоюзном доме отдыха доктор Александра Михайловна, энтузиаст, начавшая работать доктором, наверное, еще во времена земства, пытается приобщить отдыхающих к природе и красотам ее. Вот она вывела смешанную по возрасту группу на опушку зимнего леса.
— Ну, что видите?
— Ничего.
— Как ничего, поглядите хорошенько.
Отдыхающие глядят по сторонам, переглядываются между собой.
— Ну, увидели что-нибудь?
— Ничего.
— А этот иней на ветке разве не видите? А этот куст, обсыпанный бриллиантами? А эту травинку, замерзшую и тем не менее прекрасную?
Среди отдыхающих начинается сдержанное хихиканье.
Тем же уровнем духовной слепоты обладают и те читатели, которые ищут в книге только прямое действие, пролистывая пейзажи, философские раздумья, лирические отступления, вообще так называемые «описательные» места.
* * *
Этот роман в общем-то посредственный, скучноватый и даже несколько старомодный. Но дело в том, что он написан в ином ключе, нежели многие публикующиеся романы. Он — явление иного рода.
Как если бы среди современной фанерной и пластиковой мебели появился вдруг комод красного дерева. Средний комод, не шедевр. Бывали комоды и получше.
Но все же всей фактурой своей он сразу же опроверг бы, перечеркнул и обесценил бы всю фанерную и пластиковую мебель.
* * *
Человек, побывавший в Мексике, говорит:
— Удивительно, что у Мексики такая протяженная граница с США, притом не строгая, и все же Мексика сохраняет свою самобытность, Америка не подавила ее.
Но дело в том, что у Америки нет столь яркой национальной самобытности. Чем же подавлять?
* * *
Существует распространенное мнение, будто необходимость писать канонизированные сюжеты сковывала инициативу русских живописцев, держала их в деспотических рамках.
На самом же деле это означало, что у художника было отнято право думать над тем, что называется литературной стороной живописного произведения, а я бы сказал, что ему было подарено право не думать над ней.
Не думая над внешней стороной «картины», художник мог сосредоточить все свои живописные способности на чисто художественных сторонах своего искусства.
Он шел не вширь (каждый раз новый сюжет), а в глубину своего искусства: каждый раз все новые и новые задачи в области цвета, линии, композиции, каждый раз — новое решение этих задач.
* * *
Кто-то однажды первый сказал: «Руку отдам на отсечение». И пошло крылатое словцо, и держится века. Почему оно держится? Потому, вероятно, что первый, кто сказал, действительно готов был отдать руку на отсечение. А может быть, даже и отдал.
* * *
Музыка написана. Но, оказывается, от дирижера зависит ее трактовка. Я все искал, на что похожа роль дирижера, если взять литературу. Пожалуй, больше всего на роль переводчика с какого-нибудь языка. Ведь переводчик в уже написанное Гёте, Бернсом, Шелли, Верхарном и кем бы то ни было тоже привносит свои оттенки, акценты, свое звучание.
* * *
Философы, искусствоведы, социологи и политики спорят о соотношении и взаимодействии национального и всеобщего. Но вот я беру книгу под следующим названием: «Ручная книга русской опытной хозяйки, составленная из сорокалетних опытов и наблюдений доброй русской хозяйки К. Авдеевой. В трех частях. Издание девятое. Москва. У книгопродавцов Салаева и Свешникова 1859 г.» Читаем:
«Еще несколько слов о прилагательном — „русской“. Моя книга назначается именно для русского хозяйства, я говорю о русском национальном столе, русских кушаньях, русской кухне.
Не порицая ни немецкой, ни французской кухни, думаю, что для нас во всех отношениях здоровее и полезнее наше русское, родное, то, к чему мы привыкли, с чем свыклись, что извлечено опытом столетий, передано от отцов к детям и оправдывается местностью, климатом, образом жизни. Хорошо перенимать чужое хорошее, но своего оставлять не должно и всегда его надобно считать всему основанием».
А ведь лучше-то, пожалуй, не скажешь.
* * *
Бывает искусство, как варенье, которое отбивает аппетит к настоящей еде. Человек голоден, ему хочется и мяса, и лука, и хлеба, и помидоров, и горячих щей. Но если дать ему в это время три столовых ложки варенья, чувство голода пропадает, будто бы и поел.
* * *
У каждого явления есть два полюса, вернее, каждому явлению мы можем подыскать парную противоположность. Противоположны и находятся в паре тепло и холод, свет и тьма, белое и черное, сладкое и горькое, сухое и мокрое, тишина и шум, верх и низ, веселье и скука, любовь и ненависть, тоска и радость, вражда и дружба, злое и доброе, детство и старость, жизнь и смерть, наконец.
Казалось бы, наиболее напрашивающаяся пара: счастье — несчастье. Даже слово одно и то же, разница лишь в частице «не». И однако, если хорошенько вдуматься, в этой паре существует только один полюс, а именно — несчастье, антипода же нет. Антипод несчастья существуя только теоретически, умозрительно в воображении людей.
В самом деле, всякий знает, что такое несчастье, но никто не знает, что такое счастье. Великие философы не дали до сих пор нужной формулы и никогда не дадут. Дело в том, что счастье — это всего лишь отсутствие несчастья. Если не называть этим великим словом более мелкие или более крупные удачи и радости, каждой из которых найдется своя законная пара. Удача — неудача, выигрыш — проигрыш, свидание — разлука, попадание — промах, богатство — бедность, здоровье — болезнь, мир — ссора.
* * *
Писатель, если он зрелый, как бы создает своим творчеством единую мозаику, хотя и непоследовательно. Тот рассказ ляжет в верхний левый угол, то стихотворение — в правый угол, а эта повесть, возможно, в центр композиции… Посторонним сначала и не видно, что тут задумано единое целое. Но художник-то сам держит всю композицию в голове и постепенно ее исполняет.
Однако многое делается им второстепенного, побочного, что никогда не ляжет в главное полотно. Дежурные статейки и многое, многое дежурное.
Так что возможен разговор между хорошо знакомыми людьми:
— Ты что сейчас пишешь?
— Рассказ.
— В мозаику?
— Увы, нет.
Или напротив:
— В мозаику. Только в мозаику.
* * *
Лучше пройти через муки роста и потом со зрелостью прийти к определенным успехам, нежели сначала, сразу окунуться в шумный успех, а потом прийти к мукам уже бесплодным и неизлечимым.
* * *
У меня есть приятель, который работает в учреждении, занимающемся разъяснением широким массам тех или иных, ну, скажем, экономических акций… Разъяснение это направлено всегда на теоретическое обоснование и на оправдание того, что уже произошло в жизни.
Однажды я узнал, что, перегородив большую реку, затопили степь, где паслись тысячи и десятки тысяч овец.
Мне интересно было узнать, как мой приятель будет оправдывать это затопление. Ведь у него, наверно, готова уже какая-нибудь формулировка. Я высказал свои огорчения по поводу загубленной земли. Приятель незамедлительно сказал:
— Напрасно огорчаешься. Еще неизвестно, что для народа лучше: баран или сазан.
* * *
В Древней Греции тоже были пожилые, бесформенные женщины и мужчины на тонких ножках, с большими дряблыми животами. Но древнегреческие ваятели обманули нас. Они ваяли в мраморе мужчин и женщин юных и стройных, как боги. В результате мы знаем, каково было представление древних греков о красоте, но не знаем, каковы же были греки и гречанки на самом деле.
* * *
Абстрактное искусство в живописи, в поэзии, в скульптуре, даже в театре. Расщепление формы.
Унылый натурализм — окаменелость, окостенелость, мерзлота.
Но в том-то и дело, что в природе существуют две критические точки, на которых кончается жизнь: точка замерзания и точка кипения, когда предмет либо окаменевает, либо испаряется, теряя форму.
Мне кажется, что и в искусстве есть эти критические точки, эти полюсы, спорящие между собой, а между тем в чем-то очень сходящиеся. В том именно, что ни в той, ни в другой точке жизни нет: в одном случае она заморожена, в другом случае — кипяток и пар.
Истинная, теплая, полнокровная, живая жизнь находится не в точке замерзания и не в точке кипения, но где-то посередине шкалы.
* * *
Некоторые критики вдруг обрушиваются на какую-нибудь книгу, говоря, что она, книга, искажает действительность.
Но, может быть, книга искажает не действительность, а то представление о действительности, которое у критиков существует и с которым они боятся расставаться.
* * *
К вопросу «рассказать» и «сказать». У К. Симонова есть стихотворение «Жди меня». Оно общеизвестно. В нем поэту удалось очень много сказать от имени всех, кто в то время воевал вдали от жен и любимых.
Потом К. Симонов написал сценарий «Жди меня» — самостоятельное произведение искусства. Потом был фильм «Жди меня» — самостоятельное произведение искусства. Конечно, в фильме рассказано было больше, чем в стихотворении: эпизоды войны, фронта и тыла, разные подробности. Но сказано все было уже в стихотворении, и ничего сверх этого фильм не сказал. И мы все больше помним несколько стихотворных строк, нежели фильм, идущий около двух часов.
* * *
Записная книжка — протез памяти.
* * *
В институтах мозга изучают мозг того или иного человека, рассматривают в микроскоп, определяют химический состав.
Это все равно, как если бы попала к нам книга из неведомой цивилизации на совершенно недоступном языке. И вот мы стали бы определять химический состав ее бумаги, типографской краски, кожи на переплете.
Но книга осталась бы непрочитанной. И никакие анализы не помогли бы нам узнать ее иную, духовную, сущность.
Мне кажется, это относится не только к изучению мозга, но и к изучению природы вообще.
* * *
Как понимать сочетание традиций и новаторства? Как понимать сочетание корней и листьев одного дерева, как понимать сочетание истоков и устья одной реки, как понимать сочетание подножия и вершины одной горы?
* * *
Для того чтобы написать автобиографию, я должен был бы, помимо прочего, рассказать о всех людях, с которыми мне так или иначе приходилось встречаться, а также обо всем, что я успел перечувствовать и о чем передумал, живя на земле.
* * *
Наука может уничтожить гору Эверест или даже ликвидировать Луну. Но она не может сделать хоть чуточку добрее человеческое сердце. Здесь начинается роль искусства.
* * *
Композитор делает музыку, но и музыка делает его. Точно так же любая профессия, любая работа делает своего делателя, формирует склад его ума, души, характера и даже внешность.
Леонов высказал в связи с этим мысль, что, может быть, не случайно революция делалась руками главным образом металлистов и матросов.
* * *
Искусство нужно воспринимать дилетантски, так, как его воспринимает большинство людей, тех, для кого оно, в сущности, и создается. Но если это, конечно, не та степень, когда про Венеру говорят: «Какая-то голая баба, а кругом кусты».
* * *
Для писания басен, кроме поэтического или там драматического таланта, необходимо самое обыкновенное остроумие, которое тоже дар, как поэтический, певческий или иной.
Поэту, прозаику не обязательно быть остроумным. Баснописец должен быть таковым. Блеск остроумия создает настоящую басню.
* * *
Знания, как и впечатления жизни, как и словарный запас, бывают активные и пассивные. Можно приобрести огромное количество знаний, которые никогда не понадобятся. Как если бы нахватать бумажных денег, обращающихся на Марсе.
* * *
Есть уменье из легкой проволочки, выгибая ее искусно, делать этакие контурные портреты в профиль, где уловимо сходство. И вот мы смотрим, и любуемся, и даже говорим: как здорово!
Но существуют: темпера, масло, тушь, гуашь, пастель, уголь, карандаш. Огромное количество современных стихов — именно проволока. Этакая проволочная поэзия.
* * *
Поэзия есть искусство в его чистом виде, экстракт, квинтэссенция искусства, то золото, которое в других видах искусства может присутствовать, как в сплавах, лишь в виде примеси.
Речь идет, разумеется, о поэзии, а не о стихах.
* * *
Вчера мы катались с горы на лыжах. Гора была длинная, ровная, плавная. Кататься с нее было одно удовольствие.
Моя спутница говорит:
— Всем хороша гора. Но очень уж ровна. Не хватает хотя бы маленькой ухабинки.
Ах, как не хватает нам ухабинки в наших повестях и романах!
* * *
Голую мысль можно упаковать в логическую, математическую или химическую формулу и в этой прочной упаковке хранить и разослать всем, и все прочтут, и мысль станет всеобщим достоянием.
* * *
Сильное чувство: любовь к женщине, любовь к Отчизне, восторг перед творением природы — тоже можно сообщить другим. Но для этого нет иного способа, кроме искусства.
* * *
Бывает литература сфокусированная и несфокусированная. Я не хочу сказать, что одна из них второсортна. Просто писатель должен заранее решить, что он собирается делать: много и интересно рассказывать: «Фрегат „Паллада“», «Былое и думы», «История моего современника», биографическая трилогия Толстого… либо много сказать: «Обломов», «Дубровский», «Палата номер шесть», «Сорок первый»…
*
Произведение искусства — передатчик, вечно излучающий эстетическую, нервную, эмоциональную энергию. Оно излучает ее всегда и для всех. Но все же «приемник» должен быть настроен на определенную волну.
Мы, конечно, читаем сейчас «Божественную комедию», но разве так читали ее современники Данте! Дело в том, что она была в то время помимо всего еще и злободневной. Данте заселил круги ада людьми, имена которых много говорили его современнику: политическими деятелями, писателями, героями модных тогда книг.
Чтобы понять тогдашнюю злободневность этой вещи, нужно представить себе новую «Комедию», где фигурировали бы популярные в нашем мире личности (мало ли их) — кто за демагогию, кто за кровопролитие, кто за недержание речи, кто за предательство, кто за самоубийство, кто за фарисейство, кто за пьянство.
Было бы понятнее, почему «Божественная комедия» пользовалась столь грандиозным успехом тогда, когда можно было читать ее, не заглядывая в примечания.
* * *
Всякое искусство — и об этом очень хорошо знают актеры на сцене, ибо у них это проявляется нагляднее и резче, — есть диалог между художником и публикой.
Грубее всего, но зато и точнее всего можно сравнит всякое искусство с игрой в теннис, где хорошая, красивая игра зависит от обеих сторон. Ибо, если игрок будет делать хорошие посылки мяча, но в ответ не будет получать хороших обратных подач, то никакой игры вообще не получится.
* * *
Два интеллигента спорили, какой бывает снег. Один говорит, что бывает и синий. Другой доказывал, что синий снег — это чепуха, выдумка импрессионистов, декадентов, что снег и есть снег, белый как… снег.
В этом же доме жил Репин. Пошли к нему разрешить спор. Репин не любил, когда его отрывали от работы. Сердито он крикнул:
— Ну, чего вам?
— Какой бывает снег?
— Только не белый! — И захлопнул дверь.
* * *
Самолету нужна бетонированная дорожка, чтобы разбежаться. Но для полета ему нужно небо.
Стихотворение тоже должно иметь разбег. И лишь в определенной точке переходить на свободный полет, на паренье. Разбежка происходит на точных конкретных деталях, на зримых и ярких образах. В воздух же, в небо поднимают крылья отвлеченной и чистой мысли.
Иногда на разбег тратится третья часть стихотворения, иногда половина, иногда (очень часто) стихотворение так и не взлетает. А вот классический пример того, как паренье началось на второй строке. Строфа Владимира Луговского:
Мальчики играют на горе. Сотни тысяч лет они играют. Умирают царства на земле — Детство никогда не умирает.* * *
Научимся делать все синтетическое: хлеб, ткани, мясо, овощи, даже зелень. Из нефти, из каменного угля. Но и нефть и каменный уголь рано или поздно кончатся. Даже если превращать в хлеб гранит, то и гранит весь будет съеден.
Я хочу сказать, что это есть расходование земли в чистом виде, расходование без отдачи, без восполнения.
В то время как выращивание хлеба, винограда, деревьев, льна, хлопка не расходует землю, не обедняет ее, но обогащает, год от году прибавляет к ней.
* * *
Наука с ее формулами, выкладками, умозаключениями призвана организовывать интеллектуальную сторону человеческого сознания.
Искусство же призвано организовать эмоциональную сторону сознания, ибо если наука есть память ума, то искусство есть память чувств.
* * *
Поэты учат людей понимать красоту. У Карамзина в его славных «Письмах русского путешественника» записано про двух поэтов: «Весна не была бы для меня так прекрасна, если бы Товсон и Клейст не описали мне всех красот ея».
* * *
В лучших образцах поэзии все: ритм, рифма, интонация, образная система — призвано к тому, чтобы наше сознание как можно легче и свободнее погружалось в стихию смысла стихотворения.
Формальные изыскания, самодовлеющие образы, нагромождение их одно на другое как бы от избытка таланта, а на самом деле от недостатка его, есть не что иное, как сетка из колючей проволоки, наброшенная на стихию замысла художественного произведения.
Сознание читателя, продираясь сквозь эту сетку, оставляет на колючках частицу самого себя. Практически это выражается в том, что каждый самодовлеющий образ, необычная причудливая рифма привлекают к себе наше внимание, заставляют нас остановиться, задержаться на нем. Мы уж читаем дальше, а закавыка образа занозой сидит в мозгу, требуя расшифровки. В то время как образная система, включая рифму, должна помогать сознанию погружаться в стихию смысла художественного произведения.
* * *
Один Пушкин, как бы он ни был велик, еще не эпоха. Чтобы получилась эпоха, нужны Грибоедов и Крылов, Тютчев и Баратынский, Батюшков и Денис Давыдов, Гоголь и Жуковский, Карамзин и Гончаров…
* * *
Не положительные и отрицательные заряды, не нейтроны и протоны должны быть предметом искусства, но положительное и отрицательное в душе человека, то, что выражено извечными словами — Добро и Зло.
* * *
Самобытность любят отождествлять с элементарной непосредственностью, с полной нетронутостью цивилизацией.
Но дикарь не самобытен, он просто дикарь. Самобытен человек, познавший все и при всем том сохранивший черты индивидуальности.
* * *
Белый гриб — это талант, это — гений среди грибов. Есть посредственности, есть и откровенные бездарности. С нашей потребительской, так сказать, «читательской» точки зрения.
И вот часто видишь, как посредственность или даже бездарность подделывается под талант. Есть грибы, которые издали очень похожи на белые, например валуй. Валуи у нас никто почти не берет, хотя гриб съедобный и в нем можно даже найти свою прелесть. Но это уже на полном безгрибье. Разве до валуев, если вышел охотиться за белыми. Получается так: смотришь — белый, подбегаешь — валуй. Со злости ударишь его ногой. Очень часто обманывают валуи, подделываясь под грибной талант, под грибного гения — под белый гриб.
Но дело в том, что, увидев настоящий белый гриб, даже на далеком расстоянии я ни разу еще не принял его за валуй.
* * *
О престарелом алепинском почтальоне Егоре Михайловиче Рыжове я написал в «Капле росы» большую главу. Впоследствии в районной газете появилась заметочка в три строки о том, что надо бы дать Егору Михайловичу пенсию.
Художник, приехавший из Ленинграда, рисовал Егора Михайловича. Во время сеанса он спросил:
— Ну как, дядя Егор, нравится, как вас расписал Солоухин?
— Так все правильно. Но все же в районной газете написали покрепче, получше.
* * *
Двадцатый век. Самое удивительное не то, что люди летают, не то, что они скоро долетят до Луны, не то, что они расщепили атом.
Самое удивительное то, что на земле продолжают рождаться дети.
* * *
С одним крупным, известным фотокорреспондентом, считающимся наиболее культурным и наиболее интеллектуальным среди своих собратьев, мы поехали в командировку. Дорогой разговорились о желаниях человека, чаяниях, идеалах. Я сказал, что если как в сказке — три желания и тотчас исполнятся, то человек затрудняется их назвать. А если одно, то и вовсе не называет. Я проверял на многих.
— Почему, — возразил наиболее культурный и интеллектуальный, — я точно знаю свое желание.
— Какое?
— Денег в неограниченном количестве.
* * *
Поэзия не может быть отделена от мысли хотя бы потому, что выражать ей себя приходится словами, а каждое слово в своей основе есть уже законченная человеческая мысль.
* * *
Какая странная, призрачная погоня за цветом в кино. Как будто игра актеров при цвете сделается тоньше и вдохновеннее и конфликт острее и глубже, а разрешение его естественнее и логичнее.
Кинематограф ведь не живопись, где важен цвет, а самостоятельный вид искусства, не нуждающийся в подпорках.
* * *
Можно допустить, что люди какой-нибудь иной, будущей цивилизации будут удивляться, как это мы могли смотреть (и даже наслаждаться) трагедии. Трагедия короля Лира и Гамлета. Трагедия Анны Карениной и Бориса Годунова. Для них это будет то же самое, что для нас древнеримские бои гладиаторов.
* * *
Во всяком создании и усовершенствовании художественной формы не может быть никакого предела, потому что к построенному всегда можно добавить еще что-нибудь.
Во всяком разрушении, в том числе и формы, должен наступить предел. Кирпич на две половины, кирпич на четыре, на шестьдесят четыре, на миллион, — пыль, прах, абстрактная категория.
* * *
Я перешел ту ступень, когда интересно заниматься детским занятием — смотреть на новые места. Всего интереснее мне в местах давно и вполне привычных. Может быть, потому, что вся энергия тратится не на скольжение взглядом по новым, незнакомым местам, а на внутреннюю работу.
* * *
— Ты, брат, лысеешь.
— Если это не будет влиять на написание книг, то мне наплевать.
* * *
Доктор Кох, в обязанности которого входило лечить обывателей небольшого городка, сидел за перегородкой и никого к себе не пускал и сам не выходил навстречу.
К нему приходили с насморком, с грыжей, с нарывом на пальце, с флюсом, с мигренью, с болью в животе. «Ступайте прочь, оставьте меня в покое!» — говорил он им, и на первый взгляд это казалось чудовищной бестактностью, жестокостью, возмутительным высокомерием. Обыватели вправе были возмущаться доктором, который не хочет лечить их флюсы, грыжи и насморки.
Но однажды доктор вышел и вынес к людям «палочку Коха».
* * *
Избирательность восприятия жизни, внешнего мира: один наклоняется за медной копейкой и наступает ногой на золотистый цветок, другой проходит мимо копейки, но наклоняется за цветком и даже сворачивает ради него с тропинки.
* * *
В земле ползает жирная белая личинка. У нее вполне определенный круг ощущений, связанных с местом ее обитания и образом жизни. Потом как таковая она умирает, некоторое время покоится в коконе куколки, а затем из нее вылетает бабочка.
Бабочка живет уже не в сырой земле, а на солнце, на ветерке, среди зелени и цветов, питается уже не землей, а нектаром. В некотором смысле сфера жизни бабочки — это рай по сравнению со сферой жизни личинки.
Личинка, ползая в земле, вряд ли предполагает, что ее ждет после того, как она окончит свое земляное существование.
Бабочка, порхая с цветка на цветок, вряд ли помнит о своей земляной юдоли, где осталась и догнивает ее опустевшая уродливая оболочка.
И нет никаких путей, чтобы бабочка рассказала личинке о своем небе, а личинка бабочке — о своей земле.
* * *
В отношениях с людьми каждому человеку, а тем более художнику, писателю, поэту нужна скромность.
Но когда поэт остается один на один с листом бумаги, он должен быть не только смелым, не только дерзким, но непременно должен чувствовать свою исключительность. Если поэт, садясь писать стихотворение, не чувствует себя гениальным, он не напишет сколько-нибудь талантливого стихотворения.
Поэт должен сознавать себя имеющим право говорить от имени всех людей, быть учителем всех людей. В нем должно жить ощущение, что только он один знает то, что он знает, и только он один может сказать то, что он хочет сказать.
* * *
Иногда утешают, что после смерти не исчезнем, но превратимся в траву, цветок, дерево. Но это то же самое, если о ценности картины судить по стоимости холста как макулатуры: по две копейки за килограмм.
* * *
На Западе развитие свободного стиха дойдет до своего логического конца быстрее, чем у нас, исчерпает, изживет себя, как начинает изживать себя абстрактное искусство в живописи. И, таким образом, мы заранее, в самом начале пути увидим, что по этому пути идти некуда.
* * *
Для того чтобы проявление человеческого духа можно было назвать подвигом, в нем должны содержаться два обязательных момента: самоотверженность (забвение собственных интересов) вплоть до самопожертвования (смерти) и благо других людей. Не одного или двух человек, а именно людей, народа или даже народов.
Мужчина, спасший из-под поезда девочку и сам при этом погибший, совершил героический поступок, но не подвиг.
* * *
С каким превосходством, должно быть, смотрят на нас, людей, птицы и даже бабочки со стрекозами. Что за беспомощность, что за бездарность: создавать такие тяжелые, такие в конечном счете неуклюжие приспособления, в то время как можно просто вспорхнуть и лететь!
* * *
В кинохронике долго показывают веселого, милого зверька, прыгающего по веткам и по снегу: горностая, соболя, белку. Потом тут же показывают нам огромные связки шкурок этого зверька, разложенные на прилавке магазина, развешанные на складе. По-моему, такое монтирование кадров жестоко, аморально, бездушно, безвкусно, бесчувственно и вообще безобразно.
* * *
Стихотворение — более высокая ступень организации человеческой речи по сравнению с прозой. Доказательств этому никаких быть не может, кроме одного косвенного. Есть десятки примеров, когда поэты начинали потом писать прозу и писали ее хорошо, тогда как нет ни одного случая, чтобы литератор, состоявшийся как прозаик, перешел к стихам и заявил о себе как хороший поэт.
* * *
Известно, что мухомор — гриб ядовитый. И вот люди про него пишут: «Своим ярким, бросающимся в глаза видом он как бы предупреждает: „Осторожно, не трогайте меня, я — ядовит!“»
Поистине велика самонадеянность человека, все привыкшего мерить своей меркой. Да мухомор вовсе про нас и не думает. Может быть, этот гриб ярок для того, чтобы вовремя броситься в глаза лосю, для которого он — лекарство.
* * *
Один за другим исчезают на земле целые виды животных, птиц, растений. Испорчены реки, озера, степи, луга, даже моря.
В обращении с природой человек похож на дикаря, который, чтобы добыть кружку молока, убивает корову и взрезает ей вымя, вместо того чтобы кормить, холить и получать того же молока ведро каждый день.
*
Некрасов — «великий плохой» поэт. Это не красное словцо, не желание блеснуть парадоксом, а тем более не стремление принизить действительно великого поэта. Некрасов велик своими идеями, общей поэтичностью своей поэзии, своим значением для родной литературы. В частностях же, как стихотворцу ему часто изменяет и чувство меры и даже вкус.
Да, искусство в числе прочего есть и чувство меры. Оно не терпит лишних слов и лишних подробностей. Оно погибает в них, как погибает, скажем, наперсток спирта, если его вылить в кружку воды.
Возьмем стихотворение Некрасова «Похороны», кстати сказать, одно из лучших его стихотворений. Напишем его так, как оно, на наш взгляд, должно было бы выглядеть при соблюдении чувства меры.
ПОХОРОНЫ
Меж высоких хлебов затерялося Небогатое наше село. Горе горькое по свету шлялося И на нас невзначай набрело. Ой, беда приключилася страшная! Мы такой не знавали вовек. Как у нас голова бесшабашная — Застрелился чужой человек!.. И пришлось нам нежданно-негаданно Хоронить молодого стрелка Без церковного пенья, без ладана, Без всего, чем могила крепка… Почивай себе с миром, с любовию! Почивай! Бог тебе судия, Что обрызгал ты грешною кровию Неповинные наши поля! Меж двумя хлебородными нивами, Где прошел неширокий долок, Под большими плакучими ивами Успокоился бедный стрелок. Будут песни к нему хороводные Из села по заре долетать, Будут нивы ему хлебородные Безгреховные сны навевать…Действительно прекрасное стихотворение, шедевр. Шесть строф. Все сказано. Ни убавить, ни прибавить. Но ведь у Некрасова в этом стихотворении не шесть, а восемнадцать строф! Среди них есть и поэтически крепкие строфы, а есть все эти «тошнехонько — скорехонько», «нашивал — попрашивал». И вот, оказывается, каков закон искусства: наиболее лишние, наиболее ненужные строфы и сделаны наиболее слабо. Тут и сентиментальное:
Птичка божья на гроб опускалася И, чирикнув, летела в кусты… Что тебя доконало, сердешного, Ты за что свою душу сгубил? Ты захожий, ты роду нездешнего, Но ты нашу сторонку любил.Тут и насильственный набор слов, когда надо сделать строфу, заполнить необходимое количество слогов, а слова не слагаются в музыку, не поются, не хотят сплавиться в поэтический сплав.
Как не плакать им? Диво велико ли? Своему-то свои хороши! А по ком ребятишки захныкали, Тот, наверно, был доброй души!.. Ты ласкал их, гостинцу им нашивал, Ты на спрос отвечать не скучал. У тебя порошку я попрашивал, И всегда ты нескупо давал. Почивай же, дружок! Память вечная! Не жива ль твоя бедная мать? Или, может, зазноба сердечная Будет таять, дружка поджидать.Когда изменяет чувство меры, сразу изменяет и вкус. Главный же просчет поэта в том, что нагружая стихотворение множеством подробностей, разъясняя, расшифровывая его, грубо говоря, разжевывая, он лишает стихотворение и образ молодого стрелка той доли тайны, которая как раз и делала бы стихотворение романтичным, прекрасным. Мы и так, без подробностей догадываемся, видим из всего строя стихотворения, из всего лада, что «стрелок» был хорошим человеком, что симпатии поэта и крестьян на его стороне.
Когда же начинаются «порошок», «зазноба сердечная», «бедная мать», «детки проворные», то вся цельность стихотворения рассыпается на детали, фактически гибнет, и только терпеливый и доброжелательный читатель видит в нем жемчужину, выделяя про себя нужные строфы и отбрасывая ненужные, то есть проделывая ту работу, которую полагалось проделать самому поэту.
*
Время утекает, как песок в песочных часах. И если бы кто-нибудь сумел удержаться на постоянной отметке, то он оставался бы все выше и выше не потому, что поднимался бы вверх, а потому, что утекало бы время.
Такая метаморфоза произошла, например, с замечательным, конечно, поэтом — с Анной Ахматовой. В двадцатых годах это была хорошая, но отнюдь не выдающаяся, не крупнейшая поэтесса. К концу своей жизни она как поэт не стала лучше и больше, чем была в двадцатые годы, — факт бесспорный. Все лучшее написано ею уже тогда. Но провожали мы ее если не как великую, то, во всяком случае, как крупнейшую. Сумела удержаться над временем и стала большой не потому, что поднялась выше, а потому, что не опустилась ниже.
* * *
Существует много попыток определять поэзию. Наверно, ее определяет еще и то, что нельзя пересказать словами стихотворение, строфу или строку, не затратив на пересказ гораздо больше слов, чем содержится в стихотворении, строфе, строке.
* * *
В книге о дельфинах автор, пытаясь доказать, что дельфинам не свойственно все же мышление, аналогичное человеческому, опирается не на те случаи и факты, где дельфин был явно разумен, а на те случаи, где он был явно неразумен.
«В океанариумах они часто гибнут от заглатывания посторонних предметов… Когда дельфинов держат на привязи, они запутываются… Чтобы распутать веревку, им достаточно было проплыть несколько раз вокруг столба в обратном направлении, но сообразить это они не могли… Особенно странно ведут себя дельфины при ловле их человеком… Они позволяют ловцам окружать себя, загонять в сети и даже выгонять на берег… Животные не уходят от смертельной опасности, хотя их отделяют от свободы только поплавки на верхней подборе аломана… Перегородка из металлической сети удерживала полосатых дельфинов в небольшом отгороженном участке бухты в течение многих месяцев. Но никогда животные не старались уйти в море с помощью прыжка, хотя и могли бы это сделать очень легко… Не абсурдно ли, что дельфины, якобы способные освоить космический язык „линкос“, не могут догадаться, как просто уйти из сети?»
Но разве меньшее количество аналогичных абсурдов мы найдем, если будем разбирать поведение людей в тех и иных обстоятельствах? Будто уж мы не заглатываем ничего, что ведет к нашей гибели, будто мы не запутываемся и не можем потом распутаться, хотя для этого «достаточно было проплыть… в обратном направлении», будто у нас нет своих поплавков и сетей, из которых мы «не старались уйти в море с помощью прыжка, хотя и могли бы это сделать очень легко». Пожалуй, если бы кто-нибудь стал изучать нас, как мы изучаем теперь дельфинов, и применил бы то же самое рассуждение, то пришел бы к весьма нелестным для нас выводам, несмотря на то, что мы тоже подбираемся к освоению космического языка.
* * *
Ни у одного животного (а равно и птиц) на земном шаре не запрограммировано предварительной боязни по отношению к человеку или ненависти к нему.
Очень быстро (в заповедниках хотя бы) белки начинают впрыгивать на руки, ежи подходят и нюхают ногу, олени и медведи берут хлеб из рук. Не прирученные, а дикие олени и медведи. Не говоря уж о бесчисленных случаях трогательной привязанности и дружбы. И только сам человек своим безобразным, жестоким и безрассудным поведением отвратил от себя и озлобил птиц и зверей земли…
* * *
Опытные люди читают музыку с нот. Но все равно музыка пишется для исполнения на инструментах. Точно так же для голоса пишутся стихи. Хотя, конечно, их можно читать про себя и даже одними глазами, как опытные люди читают ноты.
* * *
Есть несколько степеней реальности… Реален ли кинофильм? С точки зрения одной реальности, он реален как некоторое количество химического вещества — пленки и эмульсии. Все это лежит в железной банке и, безусловно, реально.
Но с точки зрения другой реальности, в той же банке и в то же время заключены герои фильма с их цветом волос, глаз, с их характерами, с их сложными взаимоотношениями, переживаниями. Там, в железной банке, заключены и таятся сцены любви, погони, сражений. Там заключена идея, в конце концов отвлеченная, умозрительная, не имеющая никакого химизма идея.
Когда мы говорим, что существует фильм «Чапаев», мы имеем в виду и несколько килограммов химического вещества, но и — в первую очередь — все те живые образы и картины, которые и составляют собственно фильм «Чапаев», которые и отличают эту кучу химического вещества от другой кучи химического вещества под названием, скажем, «Броненосец „Потемкин“».
Теперь возьмем кучу химического вещества, называемого Иваном Ивановичем.
С точки зрения первой реальности, это, действительно, куча вещества восьмидесяти килограммов весом. Но с точки зрения второй реальности, эта куча вещества полна ярких действий, сцен и событий. Иван Иванович может сидеть с вами за столом (пленка, лежащая в коробке) и в то же время скакать на лошади, купаться в реке, обниматься с женой сослуживца, выпивать с друзьями в «Арагви», пересекать Атлантический океан. Все это в нем заключено, все есть в виде ярких зрительных образов, но только «не пущено на экран для всеобщего обозрения».
Человек есть его поступки. Допустим. Но это только одна сторона реальности, тем более что поступки бывают подневольными. Да, Иван Иванович сидит в конторе и составляет ведомость. Это его поступок. В это время в той же комнате сидит Андрей Андреевич и составляет другие ведомости. Неужели же только эти действия, эти поступки и характеризуют этих двух человек?
Вот один из них, отрываясь от бумаг и прикрыв глаза, идет в лес по грибы. Вот другой из них, отрываясь от бумаг и прикрыв глаза, взрывает колокольню Ивана Великого.
Неужели эта игра воображения характеризует людей меньше, нежели непосредственные действия — составление служебных бумаг?
Человек есть его поступки. Допустим. Но прежде чем поступок стал достоянием других людей (как кинокадр, спроецированный на экран), он уже существовал и характеризовал человека, составлял его сущность.
Иван Иванович пошел по грибы — это мы видим. Но он уже сначала сходил по грибы в своем воображении.
Представим, что он почему-либо не сможет осуществить своего желания, как и его сослуживец Андрей Андреевич не сможет пока взорвать колокольню. Но это уж зависит не от них, а от внешних обстоятельств. Желание-то взорвать (сходить по грибы), мечта-то взорвать существует, а потом иногда и осуществляется, значит, она, эта мечта, характеризует человека, составляет его сущность, хотя — в силу внешних причин — не может стать достоянием людей.
Итак, человек — это не 80 килограммов химического вещества, или, скажем, не только 80 килограммов химического вещества. Он — не только внешние его поступки (обедает, спит, составляет ведомость, бреется, смотрит кино, читает книгу), но и те его внутренние действия, те фосфоресцирующие картины, которыми он наполнен каждый миг.
Поэтому каждый человек беспределен во времени и пространстве. Он как бы беседует с друзьями, а на самом деле идет полевой тропинкой. Он как бы сидит на собрании, а на самом деле обедает с друзьями в ресторане «Арагви». Он как бы читает газету, а на самом деле купается в теплом море. Он как бы купается в море, а на самом деле участвует в Бородинском сражении… Он как бы здесь, а на самом деле везде, он как бы сейчас, а на самом деле всегда.
Скажут: «Вы что же, бесплотные мечты, грезы считаете более важными для характера человека, чем его поступки?» Да. Что характеризует Бальзака, Толстого, Дюма, Достоевского, Диккенса? Их книги, их герои, мир их героев. Но их книги, мир их героев — это и есть грезы, это и есть бесплотные картины, толпящиеся в воображении. Только в данном случае они еще и записаны на бумагу.
Важно ли, что они записаны? Очень важно. С той точки зрения, что эти люди (Толстой, Бальзак, Диккенс) сделали свою внутреннюю сущность достоянием всех людей, выставили ее напоказ. Но с точки зрения самой внутренней сущности и вопроса ее существования, это вовсе неважно. Ведь если даже она не выставлена напоказ, она все-таки существует, просто мы о ней до поры до времени не знаем. И может быть, она так и умрет вместе с носителем ее — с Иваном Ивановичем и с Андреем Андреевичем, занимающимися составлением ведомостей.
Если человека лишить возможности совершать поступки, проявлять себя — это значит, может быть, уподобить его киноленте, лежащей в железном ящике. Но если погасить его воображение — это значит уподобить его киноленте, с которой смыто изображение. Это значит превратить его в 80 килограммов химических веществ, и ничего больше.
* * *
Когда я читаю научно-фантастические рассказы, повести и романы, не могу отделаться от ощущения, будто мальчишки с деревянными автоматами играют в войну или вообще во что-нибудь взрослое.
* * *
Если разобраться досконально, то окажется, что на земле каждое живое существо ест какое-нибудь другое живое существо. Уж на что божья коровка, и та пожирает тлю. Тля ест, правда, всего лишь траву и листья, но она может погубить целое дерево, которое тоже есть живой организм и притом очень сложный, точно так же, как любая трава, поедаемая сонмом травоядных. Комар пьет кровь у разных зверей и у человека, то есть живет за счет других или во всяком случае приносит им неприятность. Муравей и ласточка, тигр и крокодил, лось и свинья, грач и гриф, кит и карась, овца и собака, змея и крыса — все кого-нибудь да едят. Если бабочка в своей крылатой стадии совершенно безобидна, то очень даже обидна она в стадии гусеницы. Даже трава как живой самостоятельный организм живет, угнетая и вытесняя другую траву.
Но есть, оказывается, на земле существо, которое не приносит вреда ничему живому, хотя бы и траве. Это существо никого не ест, ничему не мешает жить. Самое загадочное, самое мудрое, самое — если можно так сказать — неземное существо — пчела.
Как будто она залетела с другой планеты в наш мир, где всякое «одно» так или иначе живет за счет «другого».
Прекрасный выродок, таинственное исключение. Или, может быть, венец творения природы? Некий идеал? Самая совершенная и гениальная, разработанная природой конструкция?
Мир — это не голубь, хотя бы и несущий оливковую ветвь (голубь тоже кого-нибудь может съесть); идеальное, стопроцентное олицетворение мира — это пчела, сидящая на цветке.
* * *
Моя трагедия — почерк. Напишешь новую книгу — 200—300 страниц, а разобрать никто, кроме меня, не может. Приходится все написанное передиктовывать машинистке. Пока лежит непередиктованное, думаешь с боязнью: ну как умрешь, так никто и не прочитает никогда, что я тут написал. Потеря, конечно, невелика, но самому мне было бы очень обидно, если бы книга, написанная мной, пропала втуне. Передиктуешь и вздохнешь с облегчением.
Но ведь что-нибудь обязательно остается неперепечатанным и, значит, не прочитанным людьми. Не может быть, что все перепечатаешь, приведешь в порядок и ляжешь умирать. И вот боязно: вдруг останется самая лучшая книга.
* * *
Разворачивая и расстилая на столе кусок материи, из которого собираюсь кроить книгу о своей жизни, в растерянности вижу, что весь он в зияющих прорехах.
Беспорядочно и наугад вырезал я из полотна своей жизни то один лоскут, то другой и делал из них то рассказ, то стихотворение, то главу повести, а то и самую повесть. И вот полотно для широкой книги оказалось в зияющих прорехах.
* * *
Музыка — это духовная пища. Доказывать не надо. Притом наиболее тонкая, изысканная и в то же время наиболее концентрированная духовная пища.
Значит, если в приеме всякой пищи должен быть какой-нибудь порядок (едим 3—4 раза в день), то тем более должен быть порядок в приеме пищи духовной.
До радио и телевидения, когда в мире стояла «музыкальная» тишина, человек мог распоряжаться потреблением такого сильного духовного экстракта, как музыка. Скажем, раз в неделю сходить в концерт. Церковная служба в определенные дни и часы. Народные гулянья по большим праздникам. Деревенские посиделки в долгие зимние вечера. Ну или, как неожиданное лакомство, уличный скрипач, шарманщик, певичка.
Представим себе, что какую-нибудь еду мы будем поглощать с утра до вечера, ежедневно. А между тем потребление музыки нами именно таково. Радио, телевизор, кино, магнитофоны, проигрыватели… Мы обожрались музыкой, мы ею пресыщены, мы перестаем ее воспринимать. Только этим и можно объяснить, что она принимает все более крайние и уродливые формы. Нас надобно уже оглушать при помощи микрофонной усилительной техники, иначе музыка нам кажется пресной и попросту не воспринимается нами.
Однако есть люди, которые держат себя на строгой музыкальной диете.
* * *
Писательский труд:
— Ты сегодня с утра сидел за столом. Много ли успел написать?
— Сегодня я всего-навсего зачеркнул то, что было написано вчера.
* * *
Как это ты можешь судить об этом писателе? Ведь ты не прочитал ни одной его книги.
— Да. Но это тоже о чем-нибудь говорит.
* * *
Маяковский рождает соблазн к подражанию, и действительно многие пытаются подражать ему, очень многие.
Блок не рождает такого соблазна. Гора, как бы высока она ни была, зовет вскарабкаться на нее. Белоснежное пышное облако выше такого конкретного желания. Им любуемся, понимая всю его недоступность.
* * *
В искусстве, самом обобщающем, романтическом и даже условном, все равно важна достоверность. Женщина — водитель такси — рассказывает:
— Смотрела кино из старинной жизни, всплакнула. Вдруг вижу, что булка на столе — это наша современная сайка за семь копеек. Слез как не бывало. И смотреть стало неинтересно.
* * *
В электричке заходит разговор о том, что человеку не дано знать, когда он умрет.
— Потому и старается до последней минуты. А если бы заранее знал…
— Что тогда?
— Работать бы за год до смерти бросил. Все, что есть, пропил бы, прогулял. А то убил бы кого-нибудь. Все равно умирать. Ну не за год, а за неделю, например, взял и да и убил человек пять. Поджечь бы мог. Поезд под откос пустить… Мало ли. А имущество все прогулял бы как следует.
— Или роздал бы все за неделю до смерти, — послышался голос с другой скамейки.
* * *
Мы одинаково скорбим о ранней смерти Пушкина и Лермонтова. Что еще они сумели бы написать! Все так. Разница же в том, что Пушкин уже обозначил для нас свой потолок. Его развитие шло бы вширь. Потолок же Лермонтова остается неясным. Ракета все еще набирала высоту.
* * *
Прочитал фразу: «Закон всемирного тяготения был открыт великим английским физиком Исааком Ньютоном». Впервые задумался: почему же английским? Просто — великим физиком. Человеческим физиком.
Диккенс — английский писатель, Гете — немецкий поэт, Пушкин — русский. Но физик? Математик? Химик? Медик?
Искусство должно нести в себе (и в самом деле несет) черты национальной принадлежности. Наука же нести такие черты не обязана, да и не может. Лучше сказать так: «Великий физик Исаак Ньютон, англичанин по происхождению».
* * *
Попробуйте перефразировать знаменитую истину древних: «В здоровом теле — здоровый дух». Получается нисколько не хуже: «Здоровое тело благодаря здоровому духу».
* * *
В одном месте я утверждал, что стихи пишутся для голоса, как музыка пишется для исполнения, а не для того, чтобы ее читали с нот. По существу это правильно. Но Александр Александрович Реформатский сказал, что, когда читаешь небольшое стихотворение, очень важно держать его целиком перед глазами. А сонет совершенно необходимо держать перед глазами.
Очень тонкое замечание.
* * *
Когда поэт пишет прозу, то она, бесспорно, мешает ему писать стихи. Но вовсе не тем, что расходуется при этом много энергии психологической, умственной и физической, которая употреблялась бы на писание стихов. Но главным образом тем, что поэт, пишущий прозу, перестает думать стихами, вернее, только одними стихами, но начинает думать прозой.
* * *
Норвежский писатель Мартин Наг рассказал мне, что однажды норвежские писатели объявили забастовку, добиваясь выполнения каких-то там требований. Я невольно рассмеялся.
Когда бастуют другие профессии, результат сказывается немедленно. Останавливаются поезда, не летают самолеты, не ходит почта, отключается электричество и газ, города зарастают мусором, исчезают булки, не варится сталь, замирают конвейеры…
Компания, концерн, город, целое государство не могут выдержать длительную забастовку железнодорожников, булочников, грузчиков, мусорщиков, парикмахеров и кого бы то ни было. Через несколько дней концерн, город, государство сдаются и идут на уступки.
Но сколько лет и десятилетий должны бастовать писатели, чтобы их забастовка сделалась ощутимой для окружающих?
Бастуйте. Перебьемся пока на Гамсуне, Ибсене, Толстом, Достоевском…
* * *
Человек рассказывал мне свою полную бедствий и огорчений жизнь. Там его обманули, не помогли и прогнали от порога, там ему вежливо, но тем не менее жестоко отказали. Потом он дошел до случая, когда другой человек принял в нем наконец-то участие, помог ему, поддержал. Тут у рассказчика задрожали губы и спазмы сдавили горло.
Спрашивается: почему он не плакал в тех местах, где ему делали больно, обижали, а заплакал лишь в том месте, где ему сделали добро? Такова сила добра.
* * *
— После «Войны и мира» Льва Толстого писать об Отечественной войне, если бы кто захотел, стало труднее.
— Нет, писать стало легче. Читать труднее.
* * *
В районной гостинице за фанерной стенкой обитала пожилая женщина, толстая, грубая, прокуренная, с матерным словом, с сивушным душком и разбойничьим храпом.
Но однажды во сне она простонала, как это делают женщины во время мужских объятий, и стон у нее получился, словно у молодой и нежной девушки.
Где-то под всеми напластованиями, разнообразием характеров и внешних форм хранится, видимо, равноценное для всех золотое зернышко женственности, женской сути.
* * *
Поэзия не любит, чтобы ее объясняли и пересказывали, но она любит, чтобы ее читали вслух. Есть несколько стихотворений, которые открылись мне и которые я полюбил после того, как мне прочитали их другие люди. Точно так же — я знаю — многие стихи (Блока, в частности) открыли для себя другие люди после моего их прочтения.
* * *
Твардовский о бесталанном поэте:
— Бедняга, всю жизнь тащит лодку посуху.
* * *
Муравей не знает человека. Мы для него как таковые в нашем обличье не существуем. Он нас не видит внешне, а тем более за семью печатями для него наша сущность. Мы существуем для него только как некая непонятная неизбежность вроде тайфуна, землетрясения, внезапной гибели. Между тем мы можем косвенно влиять на поведение муравьев. Положив падаль в определенном месте, мы можем заставить их ползти в эту сторону, а не в ту. Мы для них как бы высшая воля. Не совсем высшая, конечно, но все-таки. Солнца погасить не можем, но загородить его навесом в нашей власти. Вырубив лес, поджигая лес, посыпав лес химическим порошком, затопив лес водохранилищем, насадив новый лес, мы выступаем для их как сила почти что космического порядка.
* * *
В Японии группу туристов привезли на место, с которого открывался прекрасный вид на гору Фудзияма, и сказали, что автобус придет через два часа.
— Что же здесь делать два часа? — возмутились туристы. — Существует же программа.
— Да, — вежливо ответили японцы. — По программе с 9 до 11 часов запланировано любование.
* * *
Принято на могильных плитах соединять короткой черточкой две даты: родился — умер. Чаще всего в этом заключается непреложная, хотя и зловещая справедливость.
Но есть люди, для которых такой порядок вещей как бы не правомочен. Люди эти живут, хотя погребены. Так и хочется, чтобы на их могилах стояла одна только дата — дата рождения, а черточка соединяла бы эту дату просто со временем, просто с миром.
* * *
Я бы никогда не спрашивал про стихи — о чем они?
Я бы скорее спрашивал — что в них?
* * *
Природа прекрасна. Но все же нетрудно заметить что лучшие картины, изображающие природу, обязательно имеют какую-нибудь черту человеческой деятельности: прясло, мостик, тропинку, церковный крестик.
* * *
Муравей заполз на обшивку доменной печи. (Или хотя бы на батарею парового отопления.)
Огромное тело, которое внутри себя содержит тепло, независимо от окружающей температуры. Оно излучает это тепло. Материал (с точки зрения муравья) не поддается никакой обработке. Муравей, возможно, отметит и найдет некую закономерность, цикличность в повышении и понижении температуры странного тела, а также будет отмечать отклонения от закономерности.
Поскольку самими муравьями такая вещь сделана быть ни при каких обстоятельствах не может, им останется только гадать о ее происхождении.
Возникнут разные версии, гипотезы и теории. Все они сведутся к двум вариантам:
1. Эта вещь возникла сама собой в силу геологических и космических причин.
2. Эту вещь соорудил некто помимо муравьев, кто умеет такие вещи сооружать.
Подозреваю, что муравьиная гордыня помешает им остановиться на втором варианте. Они будут придерживаться первого, будут множить теории и гипотезы, не имея сил преодолеть свой муравьиный кругозор.
А между тем если бы они начали с того, что эту вещь построил некто, и стали бы пытаться изучить и понять строителя, то они более коротким путем постигли бы суть самой вещи.
* * *
Пролетел самолет. Какой? Один говорит — «биплан», второй — «По-2», третий — «кукурузник», четвертый — «двукрылый». А тетя Маша Пономарева говорит: «Да вот с городьбой-то…»
Дело в том, что процесс тут односторонний. Тетя Маша, приобретя грамотность и некоторую культуру, может говорить «По-2» и даже «биплан». Но тот, кто уже говорит «биплан», никогда не скажет про самолет, что он «с городьбой». Грустно, что все тети Маши научатся в конечном счете говорить «биплан».
* * *
Нельзя к цветку в виде дополнения подвесить шуруп. Нельзя к нитке жемчуга на женской шее присоединить в виде подвесок канцелярские скрепки. Нельзя к слову «дворец» присоединить слово «бракосочетаний».
Объяснить, почему этого нельзя делать, тоже нельзя. Дело сводится к языковому слуху, ко вкусу, к чувству языка, а в конечном счете к уровню культуры.
* * *
Говорят: часто уезжая из Москвы, уединяясь среди природы, малолюдья, можно многое прозевать, например новинку кино, премьеру спектакля, вернисаж, интересное застолье, важное совещание, раков в писательском ресторане…
Но самая большая потеря — прозевать мысль. В Москве прозевать как раз легче всего. В одинокой аллее Карачаровского парка, если уж она мелькнет, ее ни в коем случае не прозеваешь.
* * *
Трудно представить себе космонавтов, летящих на корабле через космическое пространство и сознательно портящих свой корабль, сознательно разрушающих сложную и тонкую систему жизнеобеспечения, рассчитанную на длительный полет.
Земля — космическое тело. И все мы не кто иные, как космонавты, совершающие очень длительный полет вокруг солнца, а вместе с солнцем по бесконечной вселенной. Система жизнеобеспечения на нашем прекрасном корабле устроена столь остроумно, что она постоянно самообновляется и таким образом обеспечивает возможность путешествовать миллиардам пассажиров в течение тысяч и тысяч лет.
Но вот постепенно, но последовательно, с безответственностью поистине изумляющей, мы эту систему жизнеобеспечения выводим из строя, отравляя реки, сводя леса, портя Мировой океан, загрязняя атмосферу.
Если на маленьком космическом корабле космонавты начнут развинчивать гайки и обрезать проволочки, то это надо квалифицировать, как самоубийство. Но принципиальной разницы у маленького корабля с большим нет. Вопрос размеров и времени.
* * *
Сонет. Венок сонетов. Заданность формы. Стихотворение — его форма и содержание — рождаются одновременно. Их нельзя отделить друг от друга, как нельзя отделить молнию от ее зигзага, от рисунка на темном небе.
И тут получается, если воспользоваться аналогией, что нужно сначала нарисовать на небе зигзаг молнии, а потом добиться, чтобы живая молния точно уложилась в этот заранее приготовленный зигзаг.
* * *
Всякий перевод с другого языка есть литературное донорство. Но почему перевод стихов более донорство, чем перевод прозы?
Дело в том, что слова сплавляются в стихотворную речь при более высокой температуре, нежели в прозаическую фразу. Значит, для того чтобы переводить стихи, нужно до более высокой температуры разогревать свои рабочие горны.
* * *
Бунин и Куприн, уехавшие за границу, не принадлежали, однако, к писателям, для которых годилась и гидропоника. Им нужна была почва, земля, притом родная земля.
Когда растение выдернуто из почвы, остаются на корешках комочки материнской земли. Эти-то комочки и питали, пока могли, творчество Бунина и Куприна. Но растения были сильные, жадные до земли и влаги, им требовались не комочки, а весь черноземный пласт. Они хирели и гибли.
* * *
В приключениях барона Мюнхгаузена участвует бегун, который, чтобы не бегать очень быстро, привязывает к ногам пудовые гири.
Я мечтал написать венок сонетов и написал его. Закончив эту работу, я почувствовал себя как мюнхгаузеновский бегун, снявший гири с ног. Легкость-то какая! Рифмуй, как хочешь, строчки чередуй, как хочешь, а хочешь, вообще не рифмуй и не чередуй. Но зато вдруг растерянность: не знаешь, куда бежать.
* * *
Каждый человек с его индивидуальной судьбой, словно камешек на морском берегу. Двух одинаковых не найдешь. И хотя все вместе они есть масса, галька, и для каких-нибудь строительных нужд можно черпать ковшом экскаватора, исчисляя на тонны, все же каждый камешек про себя знает, что он есть отдельный, самостоятельный камешек, что он сам по себе: этот в розовых прожилках, тот прозрачен, этот, хоть и сер, но уникален сквозной дырочкой в нем, этот черен, как агат. А ведь бывает и вправду агат.
* * *
Литературная книжная речь должна быть литературной и книжной в отличие от разговорной речи. Возьмите прозу Лермонтова и Пушкина, Гоголя и Тургенева, Толстого и Чехова — она чиста, строга, хрустальна, я бы даже сказал, изящна. Притом что никто из них не чурался разговорного словечка, диалекта, архаизма, просторечия… Такое слово, употребленное с толком, всегда украсит книжную речь писателя. Нарочитость же в литературе, как и во всяком деле, остается нарочитостью.
Можно представить себе человека с цветком в петлице, но выглядел бы нелепо человек, сплошь утыкавший свой костюм цветами.
* * *
В английском парламенте один оратор устроил остальным членам парламента своеобразную остроумную ловушку. Обсуждался вопрос о молодежи. Оратор огласил с трибуны четыре высказывания разных людей о молодежи. Вот они, эти высказывания:
1. Наша молодежь любит роскошь, она дурно воспитана, она насмехается над начальством и нисколько не уважает стариков. Наши нынешние дети стали тиранами, они не встают, когда в комнату входит пожилой человек, перечат своим родителям. Попросту говоря, они очень плохие.
2. Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, если сегодняшняя молодежь завтра возьмет в свои руки бразды правления, ибо эта молодежь невыносима, невыдержанна, просто ужасна.
3. Наш мир достиг критической стадии. Дети больше не слушаются своих родителей. Видимо, конец мира уже не очень далек.
4. Эта молодежь растленна до глубины души. Молодые люди злокозненны и нерадивы. Они никогда не будут походить на молодежь былых времен. Молодое поколение сегодняшнего дня не сумеет сохранить нашу культуру.
Все эти изречения о молодежи, о грозящей гибели культуры, о безнадежном будущем были встречены в парламенте аплодисментами. Тогда оратор раскрыл карты. Оказывается, первое изречение принадлежит Сократу (470—399 год до нашей эры), второе — Гесиоду (720 год до нашей эры), третье — египетскому жрецу (2000 лет до нашей эры), а четвертое найдено в глиняном горшке в развалинах Вавилона, а возраст горшка — 3000 лет.
Получилось в парламенте очень эффектно и даже смешно. Однако все эти культуры и правда погибли. И горшок найден, увы, среди развалин Вавилона, а не в процветающем городе.
* * *
Литературная книжная речь должна быть литературной и книжной в отличие от разговорной, каким бывает вечернее, праздничное платье в отличие от повседневной рабочей одежды.
Конечно, вовсе не значит, что, сняв рабочую куртку, я должен нарядиться в павлиньи перья. Но все же моя выходная одежда должна быть более продуманной, строгой, стильной, а главное, более чистой, нежели та, в которой я только что копал землю, собирал грибы, косил траву, дежурил у нефтяной скважины.
* * *
Так сложна, так захватывающе интересна жизнь, которая кипит вокруг нас и в которой мы сами участвуем!
Как же получается, что журнал, который эту жизнь отображает, невозможно читать, настолько скучен.
* * *
Легенда не легенда, поверье не поверье, но говорят, что если женщина, носящая в чреве своем, окружена красотой земли, пейзажа, вещей, созданных руками человека, то эта красота уже и в этой, так сказать, предварительной стадии участвует в формировании будущего человека, накладывает отпечаток на его будущую душу, на его будущую эстетическую сущность и даже на внешний облик. Некоторые будущие матери нарочно проводят долгие часы в картинных галереях, чтобы прекрасная живопись загодя воздействовала и влияла на носимого в чреве.
По всей вероятности, это вздор, хотя и не лишенный привлекательности. Но если считать детские, еще несознательные годы человека чем-то вроде инкубационного периода перед тем, как человек осознает себя поэтом, художником, то несомненно, что окружающая человека обстановка, природа влияют на его формирование и придают его дарованию ту окраску, ту степень неповторимости, которая и отличает потом одного поэта от другого и которую критики потом будут называть творческой индивидуальностью.
* * *
Говорят: веди дневник, веди дневник.
Но мысль, более или менее достойная внимания, ложится, допустим, даже вот в этот жанр, в «Камешки на ладони». Но жизненная ситуация, наблюденная или со мной самим происшедшая и достойная постороннего внимания, ложится потом в рассказ, в эпизод повести и романа. Но искра чувства ложится в стихи. Что же остается для дневника? Мякина. Зернышки уже отвеяны и собраны в отдельную горсть.
Я допускаю дневник как литературную форму, как своеобразный жанр, но просто дневник для работающего писателя занятие бесполезное и даже смешное. (Не путать с записной книжкой.)
* * *
Женщина, старая интеллигентка, возмущается:
— Как это говорят теперь — «мушкетёр», надо говорить — «мушкетер». Теперь же неправильная форма по образцу «полотёр», «живодёр» вытеснила правильную. Не говорим же мы «премьёр» вместо «премьер»!
— Да, но произношение «мушкетёр» настолько укоренилось, что исправить тут, боюсь, ничего не удастся. Придется вам примириться.
— Ну уж нет!
— А что же вы будете делать?
— Как что? Говорить «мушкетер».
* * *
Когда будет полное солнечное затмение в Москве? Наука, человеческие знания позволяют ответить на этот вопрос очень точно: в 11 часов 16 октября 2126 года.
Что в это время будет на месте Москвы? Каков город? Что за люди будут в нем жить, что будут есть, как одеваться, о чем думать? Не знаем.
О вселенной, об отдаленных галактиках мы знаем больше, во всяком случае точнее, чем о самих себе и о своем будущем.
* * *
Мы говорим иногда про других людей (другие про нас): «Ограниченный человек».
Но что может значить такое определение? Каждый человек ограничен в своих знаниях или в своем представлении мире. Ограничено и человечество в целом.
Вообразим горняка, который в угольном пласте разработал вокруг себя некоторое пространство, окруженное толщами непроницаемого черного камня. Вот его ограниченность. Каждый человек в незримом, но тем не менее непроглядном пласте мира и жизни разработал вокруг себя некоторое пространство знаний. Он находится как бы в капсуле, окруженной безграничным, непознанным миром. «Капсулы» разные по размерам, потому что один знает больше, а другой меньше. Человек, прочитавший сто книг, самонадеянно говорит о человеке, прочитавшем двадцать книг: «Ограниченный человек». Но что он скажет тому, кто прочитал тысячу? И нет, я думаю, человека, который прочитал бы все книги.
Несколько веков тому назад, когда информационная сторона человеческих знаний была не столь обширна, встречались ученые мужи, «капсула» которых приближалась к «капсуле» всего человечества и, может быть, даже совпадала с ней: Аристотель, Архимед, Леонардо да Винчи…
Теперь такого мудреца, который знал бы столько же, сколько знает человечество как таковое, найти нельзя. Следовательно, про каждого человека можно сказать: «Ограниченный человек».
Но очень важно тут разделять знания и представления. Чтобы пояснить свою мысль, возвращаюсь к нашему горняку в каменноугольном пласте.
Допустим условно и теоретически, что некоторые из горняков родились там, под землей, и ни разу не вылезали наружу. Не читали книг, не имеют никакой информации, никакого представления о внешнем, запредельном (находящемся за пределами их забоя) мире. Вот он выработал вокруг себя довольно обширное пространство и обитает в нем, думая, что мир ограничен его забоем.
Под землей же работает и другой, менее опытный горняк, у которого выработанное пространство меньше. То есть он более ограничен (своим забоем), но зато он имеет представление о внешнем, наземном мире: купался в Черном море, летал на самолете, рвал цветы… Спрашивается, кто же из них двоих более ограничен?
То есть я хочу сказать, что можно встретить ученого человека с большими конкретными знаниями и вскоре убедиться, что он очень, в сущности, ограниченный человек. И можно встретить человека, не вооруженного целым арсеналом точных знаний, но с широтой и ясностью представлений о внешнем мире.
* * *
Хороший музыкант должен беречь свои уши от плохой музыки. Хороший поэт должен беречь свои уши от плохих стихов. Так дегустаторы вин и чая берегут свое обоняние и свой вкус от табака, спиртных напитков, специй, даже от одеколона после бритья.
* * *
Язык — это неисчерпаемый склад материала, склад слов-кирпичей, из которых слово «трава» не лучше и не хуже слова «труба», а слово «купец» не лучше и не хуже слова «конец». Из кирпичей можно строить дома, сараи, пакгаузы, дворцы, захолустные города и блистательные столицы. Архитектурные сооружения, построенные из равнодушного материала, получаются уже разными по характеру, по стилю, по красоте, по одухотворенности, по звучанию, по эмоциональной окраске.
Если угодно, язык — это океан. Можно черпать и наливать в сосуды различной формы. Одна и та же вода принимает форму бутылки, куба, древнегреческой амфоры, хрустального шара и грязной лужи.
Если угодно, объективный словарный запас языка — это хлорофилловые зерна, растительные клетки, которые в зависимости от запрограммированности комбинируются то в железный дуб, то в легкую траву-мураву, то в верблюжью колючку.
* * *
В армии нас учили спускаться с горы на лыжах. Первые уроки опытный и, я бы сказал, мудрый инструктор посвятил тому, что учил нас правильно падать. Собраться в комок, упасть на правый бок, успеть убрать или даже бросить палки.
В жизни нас этому никто не учит. А жаль.
* * *
Животный и растительный мир планеты не прогрессирует в нашем понимании слова «прогресс», Прогрессирует только человек, человечество. Получается, что животный и растительный мир — это как бы неподвижные берега, в которых несется бурный поток, он частично размывает и уничтожает свои берега.
* * *
Один из парадоксов нашей действительности: гаванские сигары, которыми американские миллионеры хвастаются перед друзьями: «Не хотите ли сигару из моей гаванской коллекции?» — в Москве продаются в табачных киосках и доступны даже мальчишкам.
* * *
Явления высокой поэзии определяются подчас причинами очень внешними и случайными. Так, в творчестве Лермонтова нетрудно заметить пристрастие к дубу. «Дубовый листок оторвался от ветки родимой», «Темный дуб склонялся и шумел». У Есенина подобное пристрастие мы находим к березе, к клену.
Дело объясняется тем, что вблизи Тархан располагался прекрасный дубовый лес, куда юный Лермонтов ездил верхом и где проводил целые дни. У есенинской деревни росла березовая роща.
* * *
Читал повесть, построенную целиком на жаргоне, и она постепенно опротивела мне, как опротивел бы, вероятно, хлеб, выпеченный не с добавлением тмина, но почти из чистого тмина. Ломал, ломал я свой язык на чужом жаргоне, и мне остро захотелось простой и прекрасной русской фразы: «Душно стало в тесной сакле, и я вышел на воздух освежиться»
* * *
В человеческом поведении очень много значит, умеет ли человек, когда говорит, слушать себя со стороны. Хорошо воспитанные люди умеют это делать.
Для писателя тоже одно из главных условий в его искусстве — умеет ли он себя читать со стороны, чужими глазами.
Тонкость заключается в том, что надо уметь это делать (как и в разговоре) не задним числом, а тут же, во время разговора или писания, то есть, как теперь говорят, синхронно.
* * *
Известно, что эпитафия на могиле Суворова принадлежит Державину: «Здесь лежит Суворов». «Помилуй бог, как хорошо», — воскликнул Суворов, когда Державин предложил ему эту эпитафию.
А что же начертано на надгробном камне у самого Державина?
«Гаврила Романович Державин, действительный тайный советник и многих орденов кавалер». Зачем все это? К тому же не указано даже, что поэт.
У Суворова орденов и званий было больше и они были громче, но обошлось же дело без них.
Однако, если вдуматься, в обеих надписях есть своя логика. Всякий знает, что у Суворова полно орденов, значит, нечего о них и писать. С другой стороны, всякий знает, что Державин — великий русский поэт. А то, что он «действительный тайный советник и многих орденов кавалер», известно не всякому.
* * *
Кто-то из известных химиков однажды сказал, что грязь — это химические вещества не на своем месте. Действительно, земля на дощатом полу — грязь, а на гряде она — необходимая почва. Машинное масло на одежде — пятно, а в самой машине — необходимая смазка. Чернила на пальцах — и на бумаге, зелень в древесном листе — и на белой рубашке. Более того, видим, что одно и то же химическое вещество может быть то грязью, то великой красотой: живописная краска, прилипшая к рукам, и она же на холсте под кистью великого художника.
Итак, химические категории могут переоцениваться в зависимости от обстоятельств. Духовные же категории (слава богу!) такой переоценке не подлежат. Ни при каких обстоятельствах подлость не может выглядеть доблестью, низость — благородством, предательство — подвигом, душевная грязь — белоснежной чистотой, а зло — добром.
* * *
Считается, что Пришвин писал всю свою жизнь о природе, о лесе, о погоде, о ручейках, но это глубокое заблуждение.
Пришвин писал только о человеке, о его тончайших переживаниях при соприкосновении с природой, о малейших импульсах, возникающих в сознании, в душе человека в ответ на малейшее прикосновение к природе. Он фиксировал всяческое движение человеческой души и человеческой мысли при взгляде на цветок, на сосульку, на каплю дождя, нависшую на паутине, на тающий снег, на плывущее облако.
Правда, если согласиться, что он писал человека, то писал он только себя, но это и хорошо, ибо он был человеком тонким, обостренным, умным, а главное, что он был большой художник. Зачем нам отношение к незабудке шофера Иванова, описанное Пришвиным, вместо отношения к незабудке самого Пришвина?
* * *
Два отношения читающих людей к Пришвину. Одни его читают очень мало, не читают почти совсем, не могут вчитаться, войти в его мир, слиться с ним и говорят, что это, в сущности, скучно.
Другие, если уж вчитались и вошли в его мир, читают Пришвина повседневно, живут им, черпают из него, знают наизусть как стихи.
Объективно Пришвин — огромное и уникальное культурное сокровище, а двойственное отношение к нему объясняется совпадением или несовпадением того, что я назвал бы скоростью течения души.
Для того чтобы войти в Пришвина, разговориться с ним, надо замедлить течение своей души. Мы все стремимся куда-то, скачем, бежим, суетимся и мечемся (если даже внешне сидим на одном месте), а нужно замедлиться, присесть рядом с Пришвиным на его символический пенек и никуда не спешить, хотя бы до вечера. Когда течение вашей души замедлится и сравняется с пришвинским, вы увидите мир его глазами, научитесь понимать его особенную, до сих пор скрытую от вас прелесть.
* * *
Лютик, хотя и ярко-желтый, но все же сам по себе не очень яркий цветок. Купальница и даже одуванчик ярче его. Обычно, когда говорят о любимых цветах, называют ландыш, василек, незабудку, ромашку, а там еще донник, колокольчик, ночную фиалку, да мало ли… Но недавно разговорились за столом, и Татьяна Васильевна твердо и убедительно заявила: «Лютик. Лютик — мой любимый цветок».
«Надо же, — подумал я, — лютик попал в любимые».
Но то же самое у меня несколько раз случалось со стихами и рассказами. Про некоторые думаешь: включать их в сборник или не включать? Не очень-то удались. Без них и сборник как будто цельнее, крепче. Потом пожадничаешь и оставишь, не выбросишь. А потом приходит читательское письмо. Оказывается, стихотворение, которое не хотел включать, кому-то (пусть хоть одному человеку) понравилось больше других.
То же самое случается и с людьми. Смотришь — невзрачная, некрасивая девушка, пожалеешь даже ее, а она, глядь, уже замужем первее красавицы. Значит, для самой безнадежной дурнушки дело не безнадежно. Всегда найдется человек, который разглядит в ней некую, только ему видную красоту и полюбит.
А вовсе некрасивых цветов, как известно, не бывает.
* * *
Метерлинк в своей замечательной книге «Разум цветов» говорит, что отдельное растение, один экземпляр может ошибаться и делать не то, что нужно: не вовремя расцветет, не туда просыплет свои семена и даже погибнет. Но целый вид разумен и мудр. Целый вид знает все.
Не так ли у нас? Поведение отдельного человека может показаться иногда неразумным и на самом деле бывает таким. Человек спивается, ворует, лодырничает, попадает в тюрьму, пропадает.
Отдельный человек может не знать что-нибудь очень важное, начиная с квантовой теории, биохимии, кончая названием цветка и стихами Блока.
Отдельный Серега Парамонов может не понимать, куда идет дело и какой смысл имеет все происходящее с ним самим и с окружающими его людьми.
Но целый народ понимает и знает все. Он не только понимает, но и накапливает и хранит свои знания. Поэтому он богат и мудр при очевидной скудости отдельных его представителей.
* * *
Все критические статьи четко делятся по назначению на две группы. Одни статьи предназначены для тех, кто не читал разбираемой книги (не смотрел спектакля, не видел картины, не слышал симфонии), и содержат главным образом информацию о новом произведении и оценку его. Другие статьи предназначены для тех, кто книгу читал, спектакль видел и музыку слышал. Эти статьи и должны были бы содержать глубокий анализ, философское осмысление, полемику, обстоятельный разговор с приглашением читателя в собеседники.
Но почему-то большинство наших критических статей обращается к первой сфере, рассчитано не на посвященных, с явным упором лишь на информационную и оценочную стороны.
* * *
Как о последней степени невежества и темноты нам рассказывали учителя в начальной школе в конце двадцатых — в начале тридцатых годов о бабках-знахарках, прикладывающих к пораненному месту обыкновенную паутину.
Мы содрогались, верили учителям и возмущались темнотой бабок.
Теперь, когда науке стали известны сильные антисептические свойства паутины, позволительно спросить, кто же тогда был темнее: учителя или бабки?
* * *
Лесков — явление в литературе исключительное. Он имеет право на существование, и даже отрадно, что он существует. Но представим себе, что все стали писать так же далеко от нормы, так же своеобразно, как и Лесков.
* * *
Кто скажет, что язык Гоголя и Толстого, Достоевского и Чехова, Леонова и Булгакова беден, сер и однообразен при том, что он литературен и чист?
* * *
Изощренна современная реклама. Между кадрами кинофильма на протяжении всей ленты вставляют узюсенькую полоску с изображением, ну, скажем, механической зубной щетки. Люди смотрят нормальный фильм. Рекламная вставочка проскальзывает незаметно для человеческого глаза. Зрители поглощены приключениями киногероя и созерцанием киногероини. Но по выходе из кино, дома за ужином они не могут отделаться от ощущения, что неплохо бы обзавестись механической зубной щеткой. Механическая зубная щетка вошла в их сознание помимо сознания.
Полагаю, что в детстве, когда наше сознание как таковое еще отсутствует, спит, врата его — глаза, уши, осязающая кожа и обоняющие ноздри уже распахнуты для восприятия жизни, происходит такое же, как в том кинофильме, подсознательное накопление впечатлений.
Впрочем, и на протяжении всей жизни очень часто впечатления не фиксируются нашим вниманием, но фиксируются механически нашими органами чувств, сразу попадают в подсознание, где и накапливаются, чтобы когда-нибудь неожиданно выплыть на поверхность, в сферу нашей явственной памяти.
* * *
Есть произведения искусства, про которые говорят: «Они не имеют цены». Нужно ли понимать это выражение буквально или оно есть лишь стилистическая фигура?
…Сикстинская мадонна, «Монна Лиза», «Ночной дозор», собор Парижской богоматери, храм Софии в Стамбуле (теперь мечеть, но здание осталось в целости), Василий Блаженный на Красной площади, «Троица» Андрея Рублева…
С одной стороны, им действительно нет и не может быть цены, но, с другой стороны, цена все-таки есть.
Как же выйти из этого противоречия?
Я думаю, так. Если картину и всякую другую уникальную ценность покупают с тем, чтобы она продолжала существовать и оставаться достоянием человечества (хотя бы и переехала в другое государство), за нее может быть назначена какая-никакая цена.
Но можно ли уникальную ценность: картину, скульптуру, икону, старинный храм — продать на заведомое уничтожение? Скажет какой-нибудь сумасшедший миллиардер, бросая вызов здравому смыслу и человечеству: покупаю эту икону, чтобы сжечь, покупаю этот храм, чтобы взорвать. Я плачу. Какое вам дело, что я сделаю со своей покупкой!
В этом случае выражение «нет цены» перестает бы иносказательным и приобретает буквальный смысл. В этом случае действительно нет цены ни картине Тициана, ни скульптуре Родена, ни древней иконе, ни старинному храму.
* * *
Путешествуя по нашей стране и по другим странам, я видел множество старинных крепостей: римских, турецких, германских, шотландских, датских, русских, грузинских, аварских, албанских, персидских, испанских, английских, французских…
Но я не видел еще ни одной крепости, которая в конце концов не была бы взята.
* * *
Природа для нас грубо подразделяется на обширные области: лес, горы, море, степь… Так и спрашивают иногда: вы что больше любите, лес или море?
Сравнивать вещи равноценно драгоценные невозможно, а тем более выбирать из них. И все же у моря (если хотите, у воды вообще: озеро, река, дождь) есть одно великолепное превосходство.
С большинством, так сказать, составных частей природы мы вынуждены ограничиваться визуальным общением, созерцанием, несущим, правда, в себе элемент духовности. «Но что нам делать с розовой зарей над холодеющими небесами, где тишина и неземной покой? Что делать нам с бессмертными стихами? Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать…» — сетовал в свое время русский поэт.
В самом деле, прекрасный горный пейзаж, цветочная долина, лес, шум старых сосен приятен нашему слуху, аромат цветка сладостен для нашего обоняния. Ну, потрогаешь рукой молодые листья березы, мягкий мох или гладкий камень… Но возникает глубокая и досадная неудовлетворенность при созерцании красоты природы, как если бы созерцал красивую и любимую женщину без возможности обладания, через стекло, что ли, через решетку.
Скажут мне, что восторг духовного слияния с природой (вплоть до звездного неба) и полного духовного растворения в ней бесценнее физических вожделений, даже если бы они и были чудесным, фантастическим образом удовлетворены. Все так, если одно заменять другим. Но если «плюс к этому», то зачем же от этого отказываться?
Созерцание тихого озера, полноводной реки, горного потока, бурного ливня, робкого дождичка, синего моря тоже может одарить нас восторгом духовного слияния с природой (ибо это та же природа и есть), но прибавив к этому иллюзию наиболее полного, наиболее физического, наиболее плотского обладания. Вода погружает в себя, вода обволакивает, вода ласкает каждую нашу клетку. Погружаясь в воду, мы приходим в физическое соприкосновение с природой, которое вовсе не исключает духовного восторга перед ней.
Можно развивать аналогию и дальше. В душе и ванной тоже вода. Но душ, ванна, плавательный бассейн, позволяя нам осязать природу, не несут в себе духовного элемента. Это эрзац общения. Поэтому погрузиться в море или выбежать под струи ливня все равно что соединиться с любимой женщиной, а взять ванну… Но остановимся, ибо аналогия ясна, даже если и спорна. Любите море!
* * *
Блок принял Есенина в гостиной, не пригласив в кабинет. В рабочую комнату Льва Толстого или А. П. Чехова попасть человеку постороннему, надо полагать, было непросто.
Но вот писатели умерли. Через их кабинеты, через их гостиные и спальни проходят десятки и сотни тысяч людей. Бесцеремонно разглядывают, трогают, изловчаются посидеть на стуле, критически оценивают или равнодушно зевают. Ежедневно и ежегодно тянется через дома и квартиры великих людей праздно-курортная, развязно-туристская толпа. Правильно ли это? Надо ли так?
Напротив, я вижу картину, как хранитель музея иногда, в особом случае поворачивает ключ в двери и говорит:
— А здесь святая святых, здесь кабинет и рабочий стол (Чехова, Толстого, Пришвина, Пушкина, Блока, Достоевского, Гоголя…)
— Но если не пропускать массы, не показывать, то зачем же хранить? Зачем же все это нужно?
— Затем, что это народное сокровище. А сокровища, не знаю уж почему, не принято выбрасывать на дорогу, но принято хранить.
Между прочим, в Ялте в домике Чехова был случай, когда группу немецких (или чешских?) посетителей экскурсовод широким жестом пригласила в спальню Антона Павловича. Гости остановились у дверей и не пошли.
— Нет, — сказали они, — в чужую спальню заходить неприлично. Да еще и в пальто.
* * *
Эпитеты — одежда слов. Они лишают слово его первозданного звучания. Они избаловали нас. Мы же плохо воспринимаем слово как таковое: осень, море, трава. Нам необходимы подпорки: трава зеленая, сухая, прелая, душистая; осень золотая, ранняя, ненастная, серая, теплая…
А между тем как прекрасно слово само по себе! Осень. Море. Трава.
* * *
Бывают мосты на опорах, покоящиеся прочно и основательно, а бывают мосты, подвешенные на фермах. Несведущему человеку даже странно, как это держится такой длинный, такой стальной мост, перекинувший свою воздушную, ничем не подпертую арку над широким простором воды. Внутреннего напряжения, скрытого в ферме и держащего все грандиозное, ажурное сооружение, простым глазом не видно, не то что частые бетонные опоры, перегородившие всю реку, как частокол.
Сравнение грубое, но с воздушными арочными мостами я сравнил бы бессюжетную лирическую прозу, лишенную видимой занимательности, но исполненную внутреннего напряжения в отличие от прозы, держащейся на очевидных сюжетных ходах.
* * *
У человека в познании мира почти в каждой области есть один и тот же пробел, который сводится к тому, что мы научились пользоваться чем-либо в практических целях, но еще не знаем, что это такое (например, энергия, теплота, гравитация).
Человек в обращении с силами мира похож на каждого из нас, средних обывателей, кто умеет включать и выключать приемник, настраивать его на нужную волну, притом что внутреннего устройства его мы не знаем.
* * *
Говорят, что враждуют между собой поэзия и проза, огонь и вода («лед и пламень»), не понимают друга гений и толпа, в конфликте находятся отцы и дети… Но вот еще одна непримиримая пара: практическая сиюминутная польза и понятие об уникальности какой-либо вещи. Причем практицизм в этом конфликте почти всегда обретает степень невежества.
Геологи (геологи!) нашли в тайге древнюю саблю. Тотчас решили переделать ее на охотничьи ножи. И только то, что сабля не хотела ломаться, да еще то, что в партии нашелся один умный человек, находка не окончательно погибла. Она оказалась саблей XII века с армянскими письменами, которые теперь расшифровываются.
В газете я читаю («Комсомольская правда» от 19 декабря 1970 года): «Уникальную пещеру площадью 800 квадратных метров и высотой 23 метра, сплошь облицованную полуметровым слоем ярко-желтого „солнечного“ оникса, обнаружили геологи Узбекистана.
Промоина привела в один из двух „залов“ пещеры. Камня, который тысячелетиями „натекал“ здесь на пол и своды, по расчетам специалистов, хватит для изготовления полутора тысяч квадратных метров отделочных плит. Ими предполагается украсить станции будущего ташкентского метрополитена».
Скажите, есть ли принципиальная разница между специалистами, рассчитавшими пещеру на облицовочные плиты, и теми геологами, которые древнюю саблю тотчас пытались изломать на охотничьи ножи?
* * *
За пятьдесят лет у меня было время приглядеться к себе и определить, что наиболее присущими мне чертами характера являются две: доверчивость и отходчивость. Черты, которые в наше время можно считать если не недостатками, то слабостями.
Замечаю, что с годами (жизнь учит) медленно-медленно становлюсь менее доверчивым. Да уж и пора! Но вот что интересно: с утратой первой черты начинает в такой же степени утрачиваться и другая. Некоторые обиды, которые забывал бы на другой день, помню и помню. Становлюсь умнее, но хуже.
* * *
Готовится новое издание книги. Кое-что изменилось в тебе, кое-что изменилось в мире. Значит ли это, что прежнюю книгу надо приспосабливать путем переработки и правки к новому твоему психологическому состоянию и к новому состоянию окружающей нас быстротекущей действительности?
Этот вопрос решается по-разному. Пушкин говорил, что никогда не мог изменить раз им написанное.
Горький мечтал переписать заново свои ранние рассказы.
Леонид Леонов переписал ранний роман «Вор».
Но все же переделывание несколько лет спустя написанного, изданного, дошедшего до читателя не равноценно ли тому, как если бы время от времени ретушировать и переретушировать фотографию (подмалевывать живописный портрет) по мере того, как внешность оригинала изменяется под воздействием событий и времени?
* * *
В мебельной мастерской я обратил внимание, что образцы древесных пород, приготовленные для фанеровки мебели, нельзя отличить друг от друга. Белесые, шершавые (из-под пилы), тонкие однообразные полоски древесины. Около них помечено: красное дерево (ствол), красное дерево (пламя), карельская береза, орех, тополь, дуб, клен, граб, бук…
Оказывается, только после полировки каждое дерево выявляет тот свой неповторимый рисунок, цвет, оттенок цвета, которые отличали бы красное дерево от тополя, а тополь от дуба. Только после тщательной полировки дерево обретает свое лицо. Либо уж дерево от дерева можно отличить в первозданном виде, в лесу, когда оно еще не спилено и не обращено в древесину.
Итак, первоначальная индивидуальность и самобытность до всяческой обработки, я бы сказал, дикая самобытность; окончательная, драгоценная индивидуальность после высшей стадии обработки (полировки) — и однообразная, безликая, сероватая древесная масса в стадии полуфабриката.
* * *
Существует предположение, что с исчезновением многих видов крупных животных или с резким уменьшением их численности общая биомасса на Земле, в исчислении на вес, не скудеет за счет биологической мелочи: насекомых, мелких грызунов или даже простейших.
Вместо одного осетра — тысяча ершей величиной с мизинец, вместо одного слона — сто тысяч мышей, вместо одного бизона — три тонны мух. Жуть!
* * *
Много раз я видел, как несколько мелких птичек, например ласточек, преследуют ястреба, отгоняя его. Вчера обыкновенная галка долго гнала ястреба по небу, набрасывалась на него, а он увертывался от ее ударов и убегал.
Но ведь он хищник. У него когти, клюв, маневренность, сила. Что стоило ему обернуться и дать отпор?
В таком случае что же такое его терпимость: трусость, сознание вины, нежелание связываться, то есть снисходительность? Или он не запрограммирован на схватку с галкой ради престижа, а не ради пищи? И неужели это только автоматическая программа (инстинкт), а не характер и не линия поведения?
* * *
Художественные изобразительные средства. Дело в том, что «заоконный» пейзаж, то есть вся жизнь как таковая, это еще не искусство. Набором цветных стекол (типа витража, что ли?) художник-писатель затеняет и обесцвечивает одни участки пейзажа, проявляет, делает ярче, подчеркивает, выделяет другие и таким образом из многоликой до неразборчивости и оттого как бы бесформенной, бесконтурной мешанины жизни создает картину, какую хочет.
Но легко увлечься, и тогда художественные изобразительные средства превращаются в самоцель. Витраж становится столь плотным (хотя бы и ярким), что заоконного пейзажа сквозь него уже не увидишь.
* * *
Издавна люди подделывают золото, драгоценные камни, документы, деньги, картины, рукописи, вина, мысли и чувства.
В последнее время появилась новая отвратительная подделка. В широких масштабах люди научились подделывать еще одну вечную ценность — пчелиный мед.
* * *
Двадцатый поэтический век тяготеет к эстраде. Поэты много выступают на поэтических вечерах, в цехах, на стройках, в парках, в больших залах. Они выступают с микрофонами или без микрофонов, но как бы там ни было, само наличие перед поэтом нескольких сотен слушающих его людей заставляет его говорить громче, а то и кричать. Эта необходимость невольно накладывает печать на стихи. Поэт невольно учитывает заранее эстрадные возможности стихотворения.
Но, конечно, есть поэты, которым удалось уберечь свою поэзию от этого недуга. Их стихи рассчитаны больше на чтение глазами, нежели на слуховые эффекты. Очень часто притом «тихие» стихи оказываются более громкими, ибо важно еще и что говорится. Если человек, войдя в комнату, тихо скажет: «Она умерла», то у него получится громче, чем у закричавшего, что кошка пролила молоко.
* * *
Наедине с самим собой, со своим воображением человек очень часто уходит за пределы того, что называется нормой, за ту черту, которая разделяет, с точки зрения медицины, человека здорового и человека умалишенного. Но только он всегда из той запредельной области возвращается на свое место, к нормальным людям, в нормальный мир.
Разве нельзя допустить, что человек на время вообразит себя на месте… ну хоть президента Соединенных Штатов, или пресловутого испанского короля, или бог знает что он может вообразить наедине с самим собой. Перешагнет черту на пять минут и вернется назад. А иногда перешагнет и не возвратится оттуда, и вслух объявит людям, что он президент Соединение Штатов. И тогда его увозят в психиатрическую больницу.
* * *
Облака Рериха. На иных его полотнах в небе сражаются облачные витязи и облачные дружины. Иногда он композицию всей картины строил ради облаков, так что небо занимает почти все полотно и только внизу — узкая полоска земли.
Читаешь в его книге: «Среди первых детских воспоминаний прежде всего вырастают прекрасные узорные облака. Вечное движение, щедрые построения, мощное творчество надолго привязывало глаз ввысь, чудные животные, богатыри, сражающиеся с драконами, белые кони с волнистыми гривами, ладьи с цветными, золочеными парусами, заманчиво призрачные горы — чего только не было в этих бесконечно богатых, неисчерпаемых картинах небесных».
Так увидел облака Рерих. Отсюда они на его картинах.
Потом многие художники пытались перенять рериховские облака, забывая, что сам Рерих шел непосредственно из облаков, от детского восприятия их, а они идут от восприятия Рериха, то есть от вторичного восприятия.
* * *
Оказывается — и физики это знают, — цвета как физического понятия не существует. Цвет есть производное человеческого глаза. Значит, когда я смотрю на цветок и говорю, что это чудо, то сам цветок еще только половина чуда. Настоящее чудо — человеческий глаз, а точнее — мозг, способный видеть мир разноцветным и ярким…
* * *
Спохватились: под угрозой истребления находится белый медведь. Ученые правы: нельзя допустить, чтобы такая уникальная биологическая модель исчезла на наших глазах. Чтобы сохранить, начали изучать. Брошены самолеты и вертолеты, стреляют шприцами, усыпляют и номеруют. А чего бы проще: договориться и оставить их в покое… Пусть живут и размножаются. Мы же люди. Неужели нельзя договориться?
* * *
В самом начале XIX столетия Грузия вошла в состав Российской империи. По времени это совпало с первым и ярким расцветом русской литературы: Пушкин, Лермонтов. Грузинские мотивы в их творчестве общеизвестны.
Грузия и, можно шире сказать, Кавказ были первой любовью русской литературы.
* * *
Поп-арт. Вместо того чтобы написать предмет на холсте, его приклеивают натуральным. В лучшем случае это хулиганство, в худшем — недоверие к изобразительным живописным средствам. Это как если бы в стихах вместо слова «гвоздь» прикрепить к странице настоящий гвоздик.
* * *
Существует так называемый критерий Тьюринга (английский математик). В изоляции друг от друга находятся два собеседника. Если один из них (живой человек) не может распознать в своем собеседнике кибернетическое устройство, значит, у человека перед компьютером нет, в сущности, никаких преимуществ.
Некоторые физики, основываясь на критерии Тьюринга, наталкивают нас на вывод, что живая литература скоро будет не нужна и что машины будут писать рассказы лучше, нежели живые писатели.
Может быть, и правда нельзя отличить живого собеседника от кибернетического, если обсуждать математические закономерности или литературные произведения, несущие в себе только информационную функцию.
А если спросить у собеседника, когда он последний раз плакал или смеялся? По какому случаю? Жалко ли ему Грушницкого? Каренину? Симпатизирует ли он Раскольникову? За какой идеал он способен пожертвовать собой? На что он готов ради любви? Ради матери? Болит ли за что-нибудь у него душа?
Мне кажется, при таком характере разговора изобличить механического собеседника не так уж трудно.
* * *
Художник в подмосковном городке зазвал меня к себе в мастерскую и стал показывать работы. Ему за шестьдесят. Значит, все, что можно было сделать, уже сделано. Ординарные, не трогающие пейзажи. И вдруг одна работа по колориту, по живописи, по сочности, даже по сюжету резко выделилась изо всех остальных. Сюжет простенький: на весеннем припеке среди поля оттаивает куча навоза. На ней обогретые солнцем куры. Но что за куры! И что за навоз! И что за дали весенние еще под снегом!
Мне показалось странным, как можно в одной работе так резко уйти от остального. Я только и любовался курами, а художник мрачнел.
Оказывается, этих кур он скопировал с чужой (немецкой, кажется) картины.
Но сумел же он ее написать! И краски нашлись, и сочность, и живость. Говорили даже — и я этому верю, — что у него получилось даже лучше, чем в оригинале, где было все сентиментально, засахарено. Чего же самому-то ему не хватило, чтобы дойти до этих кур? Ясно, чего — таланта. И вот ведь, оказывается, какая малость, этот талант. Трудно ли было догадаться? Близко, а не возьмешь.
* * *
Делались в старину такие коралловые крестики со стеклышком в перекрестке. Стеклышко со спичечную голову, а посмотришь в него — и увидишь обширную картину, дуб мавританский, гору Фавор, целый Иерусалим.
Такую же роль волшебного стеклышка играют иногда в поэзии и прозе некоторые детали. Штрих, точечка, пустячок, но сразу раскрывается внутренний мир героя, его судьба или даже время. Например, не помню уж у кого, предвоенный паренек засыпает в гостях на раскладушке: «А раскладушки тех времен похожи были на носилки».
* * *
В ранней юности я любил Лермонтова и жил в атмосфере его поэзии. Потом был Пушкин. Точно так же я прошел через поэзию Маяковского. Открыл для себя Тютчева, Фета. Были периоды Багрицкого, Пастернака, Мартынова, Уитмена, Превера… И, разумеется, Блок.
Теперь с годами (и зрелостью?!) я уже не могу находиться и жить хотя бы некоторое время в атмосфере одной чьей-либо поэзии. Теперь я просто люблю хорошие стихи у самых разных поэтов.
* * *
Время течет и вымывает из памяти сначала наиболее легкие впечатления, а потом добирается до основных и тяжелых. Конечно, самое золотое остается на дне и, может быть, даже не шелохнется, но хорошо, когда оно предстанет постороннему взгляду в оправе сопутствующих ему, пусть и легковесных впечатлений. Одно дело стройный и четкий пшеничный колос, а другое дело — кучка пшеничных зерен.
*
Очень часто при переводе художественного произведения на другой язык возникает как бы тонкая целлофановая пленка, которая отделяет мое читательское восприятие от воспринимаемой ткани художественного произведения. Вроде бы все осталось как есть, но невозможно ощутить живое, теплое трепетание плоти.
*
Жорж Сименон говорит в интервью с актрисой А. Демидовой:
«Техника информации в нашу эпоху дает читателю достаточно широкое образование, а писателя избавляет от лишних слов. Если действие происходит на набережной в Киеве, ее не нужно описывать. Это уже сделали радио, телевидение, кино, географические путеводители. Если героиня моего романа больна, допустим, туберкулезом, нет нужды приводить признаки этой болезни, они уже описаны — к примеру, Ремарком, другими романистами…»
Какое странное для писателя заявление! Сто человек увидят сто разных киевских набережных. Писатель должен увидеть свою, сто первую, и заставить читателя увидеть именно его набережную, а не набережную в Киеве вообще.
Мало ли что известен туберкулез. Вспоминаю в связи с этим маленькую деталь от искусства. Фильм «Цветы запоздалые» по рассказу А. П. Чехова. У героини чахотка. Все мы знаем, что при чахотке бывает кровохарканье. Но вот во время бала героиня закашлялась, вальсируя, закрыла рот рукой, и на белой бальной перчатке, в середине ладони, — красное пятнышко с копейку величиной. Не надо больше ничего говорить и рассказывать. Забудешь весь фильм, но этого пятнышка на белой перчатке не забудешь. Без этого пятнышка нет искусства.
*
В большой поэзии (в стихотворении), как в матрешке, должна мысль выходить из мысли. Только это должна быть матрешка наоборот. Каждая последующая мысль должна быть не меньше, а больше предыдущей, не уменьшаться многоступенчато, а разрастаться. Может быть, это можно назвать многоплановостью, многослойностью, многосферностью стихотворения.
Поэзия существует и без многосферности, притом поэзия настоящая, но все же не высшая. Берем для примера хорошее стихотворение А. К. Толстого. Ну хотя бы «Средь шумного бала». Читаем его — лирическое, пленительное, светлое. Видим, что никакой многосферности тут нет. Ни второго плана, ни третьего, сказано только то, что сказано. Ничего больше. Теперь возьмем стихотворение А. Фета о ласточках. Пейзажный, казалось бы, стишок. Поэт залюбовался полетом ласточки над прудом. Этим мог бы залюбоваться не один Фет. И написал бы стихотворение, где «с настроением» нарисовал бы пруд и ласточку, как это сделал Фет в первой строфе:
Природы праздный соглядатай, Люблю, забывши всё кругом, Следить за ласточкой стрельчатой Над вечереющим прудом.Но не каждый, однако, мог бы пойти дальше (следующая, более обширная матрешка, вынимаемая из первой маленькой), не каждый увидел бы, что тут полетом ласточки соединяются две стихии — воздух и вода — и что стихия воды для ласточки недоступна, как бы даже потусторонний мир, следующее по классу измерение:
Вот понеслась и зачертила — И страшно, чтобы гладь стекла Стихией чуждой не схватила Молниевидного крыла.Это уже поэзия второй сферы. Природу наблюдает философ, мыслитель, но главное — поэт, а затем следует и третья, дерзкая сфера:
Не так ли я, сосуд скудельный, Дерзаю на запретный путь, Стихии чуждой, запредельной, Стремясь хоть каплю зачерпнуть?Теперь это если не гениальное, то огромное стихотворение. А ведь можно было бы для просто хорошего стихотворения ограничиться описанием ласточки над прудом, снабдив его точными деталями, музыкальностью, лирическим настроением.
*
Предположим — прыжки на лыжах с трамплина. Трамплины, оказывается, бывают разные. Пусть в нашем случае трамплин обусловливает прыжок на 70 метров. Остальное — дело мастерства или, напротив, неуменья, а также удачи и неудачи. Пошли результаты: 75 метров, 78, 78,5, 81,3, 80,6, 84. Рекорд! Все ждут дальнейших результатов. Борьба идет за сантиметры. 83,8, 84,2. Побит рекорд!
Так, один получше, другой похуже, идет соревнование. Кто-нибудь побьет рекорд и прыгнет на 86 метров. Его наградят аплодисментами.
Но что сказали бы зрители и судьи, если бы один лыжник (когда борьба идет за сантиметры) взял бы и прыгнул на 170 метров?
В спорте такое едва ли возможно. Но в искусстве именно это и происходит, когда появляются великие, из ряда вон выходящие, ломающие всякие представления о нормах.
Одни говорят тогда: не может быть. Другие восхищаются, третьи… третьи хотели бы даже, чтобы не было такого прыгуна, ибо что же делать теперь остальным, застрявшим на отметке 80?
*
Могуч и почти безграничен по возможностям язык кино. От символических изображений до самых натуралистических, от широких обобщений до мелких и точных деталей. Кино воистину может все. И все же…
Просматриваем материал к одному документальному фильму. Я им говорю: вы снимите мертвую церковь среди деревьев, и вдруг с нее наподобие взрыва взмывают птицы. Что-нибудь их напугало, и они брызнули вверх и в стороны наподобие взрыва.
— Да как же это снимешь? — отвечают киношники. — То есть снять, конечно, можно, но ради одного кадра сколько хлопот и трудов! Множество птиц нарочно на церковь не посадишь, надо ждать, пока сами насядут. А если не насядут? И полетят ли они, когда их спугнешь, наподобие взрыва? А вдруг они как-нибудь не так полетят, в одну сторону, книзу?
Действительно трудно. А что стоит мне, обращающемуся со словом, нарисовать за одну минуту желаемую картину?
«Осеннее кладбище. Церковь среди деревьев. Вдруг, чего-то испугавшись, наподобие взрыва брызнули с нее вверх и в стороны черные птицы…»
*
Вести дневник мне мешало бы, кроме всего прочего, непреодолимое стремление к выразительности. Насколько она удается — другое дело, но стремление к ней — что-то вроде инстинкта. Я не мог бы ограничиться записью: «Сегодня видел еловый лес». Или: «Сосед на завалинке». Или: «Выпивал с мужиками». Но обязательно нужно мне достичь определенной степени выразительности, а для этого необходимо писать фон, окружение факта. Пришлось бы писать все время только один дневник.
*
Вообразим пресловутых условных марсиан, но только стоящих на гораздо более низкой ступени развития, нежели посетившие их космонавты. Космонавты для них как боги с неба. Их посещение породило среди малоразвитых аборигенов поклонение, культ, религию.
Небесные пришельцы, пока находились на условном Марсе, играли между собой в шахматы и, улетая, оставили в палатке на доске недоигранную партию. Все эти предметы для туземцев священны. Они берегут их в неприкосновенности, передавая от поколения к поколению, но не понимая назначения этих предметов.
Постепенно, с пробуждением исследовательского мышления, аборигены начинают эти предметы изучать. Следует цепочка великих открытий. Сосчитаны клетки в ряду, их восемь. Сосчитаны ряды — восемь. Вычислено общее количество клеток — шестьдесят четыре, обнаружена закономерность чередования клеток — черная, белая, черная, белая… Производятся точные измерения клеток, доски, каждой стоящей на доске фигуры, изучаются их конфигурация, геометрия.
Вдруг один ученый высказывает дерзкую догадку: фигуры должны передвигаться по доске, а не стоять неподвижно. Он даже разрабатывает гипотезы, как именно должны передвигаться фигуры.
Ученые-консерваторы, а также жрецы, ведающие хранением неприкосновенных священных предметов, объявляют дерзкого догадчика еретиком и подвергают преследованию. Возможно, сжигают на костре.
Но проходит время. Правильная мысль побеждает. Уже давно никто не сомневается, что фигуры призваны передвигаться. Тут новое дело! Ученый-гений высказывает мысль, что фигуры (недоигранная партия) не просто расставлены на доске, но что в их расстановке содержится некая скрытая идея (идея атаки, защиты, сложной шахматной комбинации).
Как? В этих бездушных предметах живая идея? Откуда она взялась? Дайте ее пощупать, увидеть… Ах, нельзя пощупать? Значит, ее нет!
Ученый объявляется мракобесом и, возможно, сжигается на костре. Так продолжается до тех пор, пока новые поколения не поймут правил шахматной игры, не научатся, короче говоря, играть в шахматы.
*
Строки из «Горя от ума».
За третье августа; засели мы в траншею: Ему дан с бантом, мне на шею.Литературовед-грибоедовед изыскала (посвятив этому едва ли не целое исследование), что третьего августа в те времена русская армия нигде не вела никаких боев. Следовательно, они сидели в траншее просто так, следовательно — вывод литературоведа, — царское правительство ордена раздавало зря, следовательно, Грибоедов хотел обличить царское правительство, самодержавие.
Но не проще ли было бы задуматься над тем, что из всех возможных чисел и месяцев именно третье августа наиболее легко укладывается в стихотворный размер и звучит наиболее благозвучно.
В самом деле:
За первое августа; засели мы в траншею… За седьмое июля; засели мы в траншею… За девятое сентября; засели мы в траншею…Это не говоря уж о таких числах, как пятнадцатое, двадцать второе, тридцать первое.
Ларчик открывался просто.
*
Деньги, распределенные ровным тонким слоем, не способны превращаться в вечные ценности. Только собранные в большую кучу, они вдруг перевоплощаются в дворцы, английские парки, картинные галереи.
Бесспорно, что Версаль, Самарканд, Вавель, Трианон воздвигнуты на деньги, так или иначе отобранные у многих людей. Может быть, даже было так: вокруг бедные крестьяне, а в середине Лувр. Но Лувр теперь национальная гордость французов, и они, даже те из них, кто насквозь проникнут социальными идеями, должны испытывать пусть невольное чувство благодарности к тем, кто собрал деньги в одно место, кто Лувр построил, кто сосредоточил в нем несметные сокровища.
Ни один человек в мире не способен сам, своим трудом заработать на Эрмитаж, на Дрезденскую галерею, на Британский музей.
*
У Федора Глинки, автора замечательного стихотворения «Москва» («Город чудный, город древний…»), есть стихотворение «Две дороги», написанное в середине прошлого века.
Появилась чугунка, и осиротело, опустело шоссе. Редкий пешеход пройдет теперь по дороге, все устремились на чугунку.
Давно ль красавицей дорогой Считалась общей я молвой? — И вот теперь сижу убогой И обездоленной вдовой. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Но рок дойдет и до чугунки: Смельчак взовьется выше гор И на две брошенные струнки С презреньем бросит гордый взор. И станет человек воздушный (Плывя в воздушной полосе) Смеяться и чугунке душной И каменистому шоссе. Так помиритесь же, дороги, — Одна судьба обеих ждет, А люди? — люди станут боги…Ради этой-то последней строки я и вспомнил стихотворение Глинки. Действительно, разве не смеемся мы над обеими дорогами, летая через государства, горные системы, океаны, материки? Оправдалась догадка Глинки. Но боги ли мы?
Боги ли мы с нашими бытовыми, нравственными, политическими проблемами, с волной наркомании в мире и сексоиндустрией, с ростом преступности, с безработицей и фильмами ужасов, с гипнотическим царствованием телевизора и хоккейно-футбольным психозом, с очередями и вытрезвителями?..
Более того, стали ли мы просто лучше, чем был поэт Федор Глинка стотридцатилетней давности и его современники? И станут ли через сто тридцать лет люди на земле лучше, чем мы?
Вот яркий пример того, что совершенствование человека, его прогресс должен лежать не в сфере технического прогресса, а в каких-то иных нравственных, общественных, недооцениваемых нами сферах.
*
Автор статьи в «Литературной газете» пишет о том, как читают книги наши читатели, и рассказывает далее, что он получил из Ленинграда от одного читателя письмо, а в нем список писательских имен, которых, с точки зрения ленинградца, надо теперь читать.
Первым там значился один современный писатель, раньше Пушкина, Толстого и т. д. (смотри «Литературную газету» № 44 от 3 ноября 1976 года), а сотым Овидий, Грибоедов же вообще попал только в дополнительный список.
Дело здесь не в фамилии, стоящей первой. Она — дело личного пристрастия ленинградца. На ее месте спокойно могли оказаться Абрамов, Белов, Распутин, Носов, Шукшин, Трифонов, Астафьев, Можаев, Троепольский, Залыгин… Но в чем-то все-таки ленинградец прав. В чем же?
Классики — это как солнце. Прекрасно, что солнце существует. Без него не было бы жизни. Прекрасно сознавать, что есть солнце. Но вот в доме зябко. И солнце непосредственно, сию минуту помочь в этой беде не может. Нужна обыкновенная, добротная охапка дров.
*
Кому случалось приезжать в чужой большой город на один день (утром сошел с поезда, поздно вечером надо садиться в обратный поезд), тот знает, что, хотя ночевать и не придется, гостиница все же необходима.
Да, необходим номер в гостинице, необходимо само сознание, что этот номер есть и можно в любую минуту прийти и отдохнуть, побыть одному, посидеть в тишине, собраться с мыслями. Без пристанища, без сознания того, что надежное и обеспеченное пристанище есть, день будет долог, мучителен, изнурителен и даже невыносим.
Точно так же легко было Гоголю (Тургеневу, художнику А. Иванову) жить годами за границей, когда они сознавали, что у них есть Россия, родина. И можно в любую минуту поехать, и не было ностальгии, как позже у эмигрантов, оторванных от родной почвы.
Точно так же и в жизни (а она столь же временна, как и день в другом городе) у человека должен быть дом, спокойный, надежный, постоянный, обеспеченный. Без этого человек изнуряется, издергивается, живет на износ, преждевременно устает, и жизнь ему уже не в радость, а только как необходимое бремя, и скорее бы сесть в обратный поезд.
*
Мы с сестрой стали вспоминать одну алепинскую семью. Какие были дети у Ивана с Марьей и как их звали. Надюшка. Ну, это легко, это моя ровесница. Виктор, Настенка. Нюра, Михаил, Андрей. Вспомнили, кто где сейчас живет, кто уже умер.
— А ведь Шурка еще была, — вспомнила сестра.
— Какая Шурка? Не было никакой Шурки.
— Как же не было! Только вот не знаю, куда она замуж вышла и где живет.
— Не было Шурки. Неужели у меня, жившего в те годы в деревне (а это были мое детство и моя ранняя юность), не осталось бы в памяти, что была Шурка? Вот все их дети: Андрей, Михаил, Виктор, Нюра, Настя, Надюшка. А Шурки никакой не было. Это ты что-то путаешь.
Сестра не стала спорить. Ладно, мол, спросим потом у кого-нибудь.
— Ты напиши кому-нибудь.
— Ладно, выясним, но только была Шурка.
Еще два раза заходил у нас разговор о Шурке, и память моя ничего мне не подсказывала — пустое темное место. Но, видимо, какой-то механизм в мозгу был включен, завертелись колесики, и каково же было мое удивление, когда однажды вдруг выплыл в сознании, откуда ни возьмись, отчетливый зрительный образ Шурки. Как живую, увидел я эту женщину невысокого роста, полноватую, с прямыми темно-русыми волосами и с ногами заметным ухватом. Звоню сестре и признаюсь, что действительно Шурка была.
Но спрашивается: где же она таилась в моей памяти столько лет, так что я был уверен, будто ее вовсе не было? Каков химизм памяти? На чем и каким образом была запечатлена в моем мозгу Шурка и хранилась, как в картотеке, и я сам не знал, что она там хранится? Где, как она была там отпечатана в полный рост, в натуральную величину, цельным и ярким образом?
*
Мы привыкли размениваться на разные мелочи, на разные статьи, на разные темы. Сегодня об Африке, завтра об Арктике, послезавтра о посевной. А между тем размениваться нельзя. Например, невозможно себе представить, чтобы, к примеру, Пришвин вдруг написал большую книгу о летчике Водопьянове.
У него было свое. И он это свое твердо знал. И от него не уходил, а работал только в своем. А о Водопьянове мог написать другой писатель, которому это близко.
Нужно и нам каждому знать свое, а остальное отметать со своего пути совершенно беспощадно.
*
Представим себе боксера, который владел бы техникой боя, спортивной грамотностью, был бы наделен физической подготовкой, выносливостью и прочими боксерскими качествами, но у которого в мозгу была бы нарушена некая связь. У него не было бы запрограммированности победить противника, послать его в нокаут. То есть он дрался бы хорошо, технично и даже красиво, но не имел бы цели этого своего боя, не знал бы, к чему стремиться и чем должно кончиться дело.
Вот вам почти вся проза писателя Н. Характерно, что проза его длинна, растянута и при всем мастерстве скучновата, тягомотна. Это вполне понятно в свете предыдущего рассуждения. Ведь боксер не знает, зачем он дерется.
*
Один кинорежиссер, выступая перед публикой, сказал: «Если бы я не был киношником, я бы выбрал себе профессию композитора или писателя».
Ишь как легко и просто. Но в том-то и дело, что есть профессии, которые выбираются людьми, а есть профессии, которые выбирают людей. Поэзия выбрала Пушкина и Есенина, Некрасова и Блока.
Литература выбрала Чехова, пытавшегося стать врачом, офицера Толстого и агронома Пришвина. Музыка выбрала Бородина, уже бывшего химиком, живопись выбрала Сурикова, служившего чиновником в Красноярске, Нестерова, учившегося в реальном училище. Пение выбрало Шаляпина.
*
В его романе есть все, что должно быть в романе: композиция, сюжетные линии с их пересечением, герои и персонажи, отступления, вставные новеллы, рассуждения и т. д. и т. п. Его роман сконструирован и собран, построен как сложный агрегат, ну, скажем, как телевизор, при том что все в нем до последней проволочки на месте. Но только телевизор этот не включен в сеть. И вот, сколько ни крути рукоятки и ни нажимай на кнопки — ни света, ни шороха, никакой жизни и радости.
*
Отними у меня Пушкина, и я уже буду не я.
*
Остается спорным вопрос: если поэт или прозаик много переводил с других языков, правомочен ли он эти переводы издавать отдельным томом (или отдельными стихами) под своим именем? Иногда мы чувствуем, что это выглядело бы по меньшей мере странно, иногда это кажется нам естественным и нормальным.
Стихи Лермонтова «Воздушный корабль», «Горные вершины спят во тьме ночной…», «Они любили друг друга так долго и нежно…» мы всегда встречаем в книгах Лермонтова, хотя указано соответственно, что это из Зейдлица, из Гёте, из Гейне.
У Пушкина есть «Песни западных славян», в изданиях Бунина присутствует «Песнь о Гайавате» Лонгфелло.
Но странно было бы видеть: Лозинский. «Божественная комедия». Из Данте Алигьери. Иванов-Петров. «Восемьдесят тысяч километров под водой». Из Жюля Верна.
*
Главный способ самовыражения для поэта, разумеется, его собственные стихи. Но есть и иные способы. Например, чтение чужих стихов в кругу друзей, на какой-нибудь вечеринке тоже способ самовыражения. Одно дело, когда человек будет читать, ну скажем (для большего контраста), Демьяна Бедного, а другое дело — Анну Ахматову, Иннокентия Анненского. Это вопрос не только литературного вкуса, но и лиричности, склонности к философии (или несклонности к ней), гражданского темперамента, прямолинейности, пристрастия к тем или иным эстетическим ценностям. Короче говоря, это вопрос личности и ее самовыражения.
В еще большей степени личность поэта должна была бы проявляться в отборе стихов для перевода их на свой язык.
*
У человека в жизни может быть два основных поведения: он либо катится, либо карабкается.
На первый взгляд кажется, что катиться легко, а карабкаться трудно. Но, оказывается, все наоборот. Катящиеся очень быстро «устают жить» и, как правило, преждевременно сходят со сцены. Трудно представить себе человека, катящегося до восьмидесяти лет.
Карабкаться же можно хоть до девяноста. И смотришь — все еще бодр и в форме.
*
Услышал случайно, как мать (интеллигентка) учила дочку рисовать и лепить. Вернее, учили ее учителя, а мать дополнительно воспитывала:
— Делай что хочешь и как хочешь. Никто ничего не знает. Как бы ты ни сделала, все будут думать, что так и надо.
Интересно бы проследить потом, как далеко пойдет дочка после такой науки.
*
Мой приятель решил завести собаку. Он накупил множество книг о том, как собаку кормить, как ее воспитывать, как ее дрессировать. Оно и понятно: легко ли вырастить и воспитать такое сложное и высокоразвитое существо, как собака.
Собираясь обзаводиться детьми, многие ли родители читают книги по гигиене, по психологии ребенка, по педагогике? Все считают себя способными воспитывать людей, и редко кто умеет это делать.
*
Известный режиссер известного театра вышел к зрителям, чтобы сказать им о спектакле несколько предварительных слов. Он вышел в замшевой куртке, в темной рубашке с расстегнутым воротником, едва ли не в джинсах.
Что бы мне теперь ни говорили хорошего об этом режиссере, я знаю главное — он не уважает зрителей, которые пришли к нему в театр, надев свои лучшие платья…
Это неуважение, если уж оно существует, неизбежно скажется и в главном деле режиссера — в спектаклях, поставленных им.
*
Н. Верзилин — автор многих популярных книг о природе и большой любитель ее — пишет о Царском Селе: «В парке много различных обелисков, поставленных в память русских войск.
„Когда война сия продолжится, — писала Екатерина II, — то Царскосельский мой сад будет походить на игрушечку. После каждого воинского деяния воздвигается в нем приличный памятник“.
Царица, — делает вывод Н. Верзилин, — не думает о гибели людей на войне. Ей интересно расставлять в своем саду игрушечные памятники».
Уж будто бы! Как бы, с каких бы современных и классовых позиций ни относиться к императрице, все же мнение Н. Верзилина представляется мне несправедливым и упрощенным. Почему бы ему, человеку культурному и, судя по всему, незлому, не предположить, что для царицы (с ее империалистическими замашками) были на первом месте все же «воинские деяния», а потом уж памятники в Царском Селе? Кстати, эти воинские деяния происходили под командованием Суворова.
*
Один факт — случайность, два — преднамеренность, три — тенденция, четыре — традиция.
*
Говорят — в природе гармония, и лишь человек своим вторжением нарушает ее. Знаю я все эти примеры: что если истреблять сов и лисиц, то катастрофически расплодятся мыши; истребляя кашалотов, способствуем размножению кальмаров; истребляя кальмаров, напротив, способствуем размножению морских звезд; морские звезды, размножившись, сжирают целые коралловые острова. Начинается путаница. Знаю я, что нужны и волки, и ястребы, несмотря на то, что они у нас на глазах творят убийства. В природе гармония.
Но вчера в лесу (конец сентября) я обнаружил недалеко друг от друга три свежеразоренных осиных гнезда. Какого вида были осы, не знаю. Мне они показались крупнее обычных ос.
Некий зверь (в нашем лесу это могли быть барсук, енотовидная собака или птица-осоед) раскопал землю и на глубине полуметра добрался до живого гнезда. Вокруг разбросаны соты, которые зверь недожрал, на дне ямы жмутся от холода, ползают в апатии обреченные на гибель обладательницы такого вчера еще надежного, теплого, сытного гнезда.
Конечно, барсуку тоже надо наесться на зиму, и если он выживет, то принесет свою пользу, истребляя вредных личинок майского жука и других насекомых, а излишние осы тоже чем-нибудь вредны, все это так.
Какая же гармония в том, что один зверь, нажравшись, уничтожил за четверть часа результаты труда целого лета и пошел дальше по лесу, а другой живой организм (осиная семья) остался погибать от голода и холода. Нет в этом никакой гармонии и не может быть.
И все-таки гармония есть. Она состоит в том, что, как бы ястреб ни убивал перепелок, а лев — антилоп, как бы ни страдали от этого отдельные перепелки и антилопы (и их детеныши), все же в целом под небом благоденствуют и антилопы, и перепелки, и львы, и ястребы.
*
В Индии, рассказывают, был такой случай. На дороге остановилось движение. Задние не знают, в чем дело, пошли смотреть. Оказывается, опрокинулся воз с сеном. В таком случае долго ли его убрать? Но индусы вышли из машины и сидят на обочине. Философия их при этом была такова: зачем убирать, суетиться, действовать? Жизнь ведь продолжается. Мы дышим, видим небо и землю, говорим. Не все ли равно, где дышать — в машине или на обочине? Не все ли равно, как жить — сидя или двигаясь?
Несколько европейцев тотчас освободили дорогу, и машины поехали.
Итак, два начала: созерцательное и действующее, пассивное и активное или кажущееся активным.
*
Сложилось банальное представление о птичьей свободе, которая возведена нами чуть ли не в символ, не в идеал.
«Свободен как птица», «Птичка божия не знает ни заботы, ни труда…»
Правда, что птица не знает человеческих морально-психологических и государственных границ. Вчера полетела над морем прямо в Турцию. Отсюда, наверное, и сложилось такое представление о птичьей свободе.
Между тем у них есть, оказывается, свои границы. Каждая птица живет в железных цепях и путах предписанных ей законов, обстоятельств, необходимости.
Участок обитания строго ограничен фактом обитания вокруг птиц, не допускающих вторжения со стороны.
Трудоемкая необходимость из травинок и хворостинок делать гнездо или выдалбливать его в древесине.
Изнурительная необходимость сидеть неподвижно и согревать яйцо.
Занудная механическая работа — доставлять птенцам десятки тысяч червяков и мошек.
Да и для собственного горения надо проглотить пищи в сутки с превышением иногда своего же веса.
А затем властная необходимость подчиняться законам стаи, необходимость лететь за три, за семь, за двенадцать тысяч километров, набивая себе под крыльями костяные мозоли.
За все это несколько мимолетных радостей в году — поиграть и спариться, — что, впрочем, тоже есть не что иное, как предписанная природой и, может быть, самая железная необходимость.
*
Говорят: человек терпит лишения. Это значит, очевидно, что человек лишен возможности удовлетворять свои потребности в тепле, в чистоте, в отдыхе…
Получается парадоксальная схема. Дед или прадед имел, скажем, тридцать прямых потребностей и все их имел возможность удовлетворить, если, конечно, не бедствие, не голод, не война, не пожар. Строже говоря, он имел столько потребностей, сколько мог удовлетворить. Ну пусть из условных тридцати оставались неудовлетворенными три — десятая часть. Думаю, что пропорция эта верна.
С техническим прогрессом, с все убыстряющейся суматохой нашего века растет и число потребностей. Я их имею уже не тридцать, а сто, но удовлетворить могу едва ли половину, причем неудовлетворенными остаются иногда самые простейшие: тишина, чистая вода, свежее молоко, чистый воздух, спокойный сон (без снотворного), ежедневная физическая работа.
Кто же из нас больше терпит лишений — дед в прошлом или я сейчас?
*
Классические горные вершины: Эльбрус, Казбек, Монблан, Эверест… Сияющие шатры, конусы, исполины…
Но вот я разглядываю большую фотографию, панораму. Горный массив, протяженный в длину и почти весь одинаковый по высоте. Ну, правда, одно место повыше. Выделяется этакий камешек, который высок не сам по себе, а потому что высок весь горный массив, который его поднял. Нет никакого шатрового эффекта.
Что это за камешек? А это знаменитый пик, самая высокая точка Советского Союза.
*
Естественный отбор, которому нас учили в школе, — основа эволюции. Превосходно. Наиболее сильные, здоровые, приспособленные, то есть, попросту говоря, лучшие представители вида, выживают, постоянно тем самым улучшая, откристаллизовывая данный вид. Но ведь это же тенденция к консервации вида, а вовсе не к его дроблению и изменению! Это движение не к границам вида, на которых он мог бы разжижаться, размываться, соприкасаясь с другими видами, взять да и видоизмениться. Очевидно, что откристаллизовывание есть движение от границ вида к сердцевине. Очевидно, что движение это не центробежное, а центростремительное и, можно сказать, консервативное.
Как же, не вступая в противоречие с логикой, увязать, с одной стороны, естественный отбор, а с другой стороны, стремление природы якобы к дроблению видов, к их бесконечному изменению, то есть именно к эволюции?
*
В Кисловодске по прогулочной тропе, называемой терренкуром, гуляют курортники. Таблички с указанием пройденного расстояния, высоты над уровнем моря и крутизны подъема в градусах. Обгоняю двоих прогуливающихся и слышу разговор.
— Гляди-ка, 900 метров над уровнем моря.
— А где здесь море? Здесь и моря-то никакого нет!
*
Боксерам-профессионалам запрещено пользоваться кулаками в быту, в повседневности, на улице. Кулак боксера приравнивается к оружию.
А слово писателя-профессионала? Не запрещается пользоваться им помимо литературы: в разговорах, письмах, ссорах, речах. Не вообще разговаривать и писать письма, но бить, ударять словами. Профессионал может так ударить словом, что человек после этого слетит с катушек долой и больше не распрямится, не оправится.
Значит, здесь либо недосмотр закона, либо все мы плохие словесные боксеры и нашему оружию не придается значения.
*
Легковой автомобиль одного и того же класса может иметь мощность и 100, и 300 лошадиных сил, но практически они ездят с одинаковой примерно скоростью. Зачем же второй машине такая мощность? Вот едут они по шоссе, скажем, со скоростью 110 километров в час, и одна из них почти на пределе своих сил и возможностей, а другая идет шутя и играя. Она меньше изнашивается, ибо каждая отдельная часть ее испытывает меньшую нагрузку.
Такой запас сил (достоинства, положения) я замечал и в людях. Вот сидят они двое и разговаривают, и внешне положение их одинаково. Но один уже достиг своего потолка и жмет из последних сил, на пределе, а другому легко, ибо он потенциально гораздо больше, чем есть пока на самом деле.
*
Полуправда в искусстве. Говорят про иного писателя, что он, мол, пишет неправду. Но так ли это? Читаешь и видишь, что там люди с нормальными, встречающимися в жизни фамилиями занимаются делом, которым обычно занимаются люди: копают картошку, варят сталь, водят поезда, охотятся, ловят рыбу, руководят предприятиями, едят, ссорятся, любят, разлучаются, рассуждают… Чего же все-таки не хватает?
Приведем поясняющий пример. Допустим, у меня в другом городе (в Киеве) происходит важное событие. Близкому человеку делают операцию глаза. Решается вопрос, будет ли человек видеть. И вот мой знакомый присылает мне длинное письмо. Он пишет, что в Киеве сейчас весна, распускаются листья кленов и каштанов, в оперном театре идет «Наталка-Полтавка», много иностранных туристов, гастролирует югославская эстрада… Надо сказать, что знакомый ничего не выдумывает, все так и есть. Он пишет правду. Не хватает в письме одной лишь фразы: как прошла операция. Если же этой фразы нет, то длинное и правдивое письмо моего друга теряет для меня большую часть своего смысла. Конечно, интересно, что теперь в Киеве…
*
Один современный писатель жаловался мне на свою судьбу: не успеешь приехать в свой городок, как идут люди с просьбами.
— Что же в этом плохого? Популярность, известность. К Толстому шли…
— Да, но за чем идут? Помоги достать шиферу, помоги дочке устроиться на работу или в институт… А к Толстому с какими вопросами шли? Есть ли бог? Любить ли ближнего? Как жить дальше?
*
Когда-то я начинал собирать колокола. И вот два набора. Один набор — болгарских скотоводческих. Самый маленький величиной с чайную чашку, самый большой весит 3 килограмма. И есть несколько колоколов наших церковных, но, конечно, самых маленьких, большие были ведь по триста, по пятьсот пудов.
Маленькие-то они маленькие, но все же по пуду, по полтора, по два.
Так вот, трехкилограммовый болгарский (поскольку он большак и глава в своем наборе) звонит густым рокочущим басом, а наш тридцатикилограммовый, то есть в десять раз больший, но поскольку он был на колокольне меньшим, пищит звонким, но детским голоском.
*
Ручьи впадают в реки, реки в моря. А куда впадает высокогорный ледник, который тоже ведь постоянно течет, хоть и не столь быстро. Ледник впадает в теплоту.
*
С годами неточные (небрежные?) рифмы в стихах начинают все больше раздражать. Строчки А. Вознесенского, например,
Посыпай капусту дустом, Не найдешь детей в капусте.так и тянет прочитать с полной рифмой:
Посыпай капусту дустом, Не найдешь детей в капустом.*
Неисповедимые законы искусства. Горький обронил фразу: «Человек — это звучит гордо», и фраза стала крылатой. Горький же написал целую оду, гимн под названием «Человек», и мало кто эту оду читает.
*
Если сравнивать русский язык с очень близкими к нему славянскими языками: польским, словацким, болгарским, сербским, чешским и т. д., то обозначаются три основные словесные сферы.
Первая состоит из слов, которых нет в русском языке. Например, рахунек — счет (польское), праховка — тряпка (словацкое), лудый — сумасшедший, маса — стол, кышта — дом, цурка — дочка (болгарское)… Слов таких меньшинство.
Вторая сфера — слова, которые и звучат, как у нас, и означают то же самое: день, ночь, рыба, добрый, здравствуйте, муж, жена, три, пять, молоко (млеко), корова (крава), вино, голова… Таких слов тысячи.
Третья сфера самая любопытная и, вероятно, самая обширная: слова, звучащие одинаково, но обозначающие совсем другие понятия.
Слово «стая» есть и у нас, но обозначает оно в Болгарии уже не стаю (птиц), а комнату, а слово «диван» в Польше означает ковер.
Как сказать поляку, что я хочу яйцо всмятку или яйцо вкрутую? Русскими же словами, но так, как у нас не принято говорить: яйцо мягкое или яйцо твердое.[1]
Как сказать по-польски: налейте мне полную чашку? Не знаем. Скажешь — «полную», поляк не поймет. Надо сказать «до бжеги», то есть до брега, до берега, с берегами. В общем-то ведь по-русски, но со своим значением.
В словацких городах на каждом шагу встречается слово «позор!». Оно означает «внимание!».
Кстати, смысл этих слов один и тот же. Что такое русский «позор», если не привлечение к человеку всеобщего внимания? Выставить к позорному столбу — значит выставить на всеобщее внимание.
*
Бернард Шоу, находясь уже в преклонном возрасте, очень много путешествовал. Его таскала по земному шару жена. В интервью не было недостатка. Старик обычно отвечал на вопросы.
— Какое место вам больше всего понравилось?
— Все места одинаковы.
— Какие люди вам показались наиболее интересными?
— Люди есть люди. Они везде одинаковы.
Выходило по Бернарду Шоу, что сам мир, по существу, однообразен и смотреть в мире нечего.
Конечно, в этих ответах Шоу, как и всюду у него, присутствует определенная доля иронии. Конечно, разные земли и люди имеют много общего, но все же однообразие впечатлений у Шоу происходило, во-первых, оттого, что однообразие уже жило в нем самом, а во-вторых, от однообразия способа путешествия: фешенебельные пароходы и отели, установившийся порядок и быт в отелях, однообразные аэропорты, поезда, автомобили, диета, интервью или уклонение от них…
Иначе нетрудно было бы убедиться, что восхождение на ледник Федченко отличается от ловли морских черепах в атоллах Тихого океана, а праздник тирольских крестьян не совсем похож на день оленя в Малоземельской тундре.
*
Давно замечено в армии: чем лучше человек умеет подчиняться, тем более требовательный из него получается впоследствии командир. Из образцовых подчиненных получались образцовые фельдфебели.
*
Телевидение само по себе очень полезное, замечательное изобретение. Директор завода видит, что у него делается в цехах; врачи следят за больным, находящимся в отдельной палате; можно видеть, что делается в шахте, внутри машины… да мало ли!
Но телевидением в научных и технических целях пользуются не так уж широко. Телевидение захватила массовая информация, реклама. Телевизор превратился сначала в игрушку, а затем в общечеловеческое бедствие.
*
Говорим об объективности. Но живой человек, а тем более художник никогда, ни при каких обстоятельствах не может быть объективным.
*
Артист Москонцерта — имитатор. В точности имитирует Шульженко, Зыкину, Сличенко. Попробовал Шаляпина — не выходит. Чтобы имитировать Шаляпина, надо уметь петь, как Шаляпин.
*
Когда в XIX веке философы Германии и Франции изощрялись в определении понятия свободы как философской, нравственной, социальной, психологической категории, болгарам, например, в то самое время нужна была просто свобода, свобода как таковая, свобода как хлеб, как воздух, как жизненная необходимость. И оказалось, что важнее для болгар в то время было не то, чтобы философы определили и сформулировали понятие свободы, а чтобы Александр II двинул русские войска и освободил Болгарию от турок.
*
Ученые будто бы докопались, что во всей нашей современной человеческой деятельности участвует пока, занято пока 8 процентов мозга. Остальное находится в потенциальном ожидании и является резервом будущего прогресса человека.
Как если бы в огромном стокомнатном дворце обжито восемь комнат, а остальные неизвестны. Что в них, как там, какие сюрпризы?
Но, может быть, для иных людей в редчайших случаях открывается еще одна дверь. А мы этим людям удивляемся как чудесам.
Человек обладает гипнотическими, телепатическими способностями, сочиняет гениальные стихи и музыку, умеет властвовать над толпой. Мало ли феноменов.
А может быть, некоторые живут сразу в 9-й, в 12-й комнатах, а не в первых восьми, а мы их считаем сумасшедшими?
*
Меня спросили: вот если бы улетать условно с Земли на другую планету (или хоть на условный необитаемый остров), какую бы музыку отобрал и взял с собой. Разрешается взять всего несколько пластинок.
Стал думать, вспоминать, воображать: это жалко и это жалко. Ну Лист («Венгерская рапсодия»), ну Равель («Болеро»), полонез Огинского — захочется ведь послушать. Ну «Аве Мария», все три: Бах — Гуно, Шуберт и Верди… А как же «Первый концерт», а как же «Лунная»? А как же Шаляпин и Обухова? Хоровые произведения Бортнянского, Рахманинова и Чайковского? Как «Хор охотников» из Вебера? Шопен?
А там ведь еще Мусоргский и Бородин, Бизе и Моцарт, Бах и Вагнер… А там ведь еще все народные песни, все романсы, вся эстрада, в конце концов, начиная с Вертинского. Ну не вся, положим, эстрада, но многое.
Кошмар какой-то! Безвыходное положение.
Потом опомнился: как прекрасно, что не надо никуда улетать, не надо ничего выбирать. Слушай что захочешь и когда захочешь. Счастье.
*
В одной из уважаемых газет читаю заметку, присланную внештатным корреспондентом из Кургана.
«Весенним днем механизатор колхоза имени Свердлова А. Плюхин, скотник В. Верещагин и пенсионер Д. Гусев поехали в поле за сеном. Местечко травное, расположенное в десяти километрах от деревни Шестаково Частозерского района. Подъехали к стогу и видят: под него ведут две норы. Осторожно прощупали ходы вилами, но ничего живого обнаружить не удалось. Стали складывать на тележку сено. Когда Верещагин поднял с земли последний навильник, тут все увидели маленьких лисят. Выводок оказался на редкость крупным. Четырнадцать штук!
Что же с ними делать, задумались колхозники…»
Вот уж действительно бином Ньютона! Да оставили бы их в покое. Сейчас и ребенок знает, что лиса — полезнейшее животное, особенно в степной местности. Питается она преимущественно мышами. Известно, что убить одну лису все равно что выбросить тонну хлеба. Таков эквивалент. А лисят было четырнадцать. У заметки могло быть другое продолжение вроде: «Пришли на другой день и видят: лисят нет. Значит, увела их лиса в новое место».
Однако колхозники «…решили взять зверьков под опеку. Жители деревни приютили лисят. У механизатора А. Гусева „шевство“ над лисенком взяла кошка, кормит малыша своим молоком».
Экая идиллия! Да кому же не известно, что прирученные зверьки для природы все равно что умерли. Их даже считается жестоким выпускать потом, они все равно погибают. И 14 взрослых лис в деревне не нужны, да они и не вырастут, погибнут одна за другой.
Допустимо и понятно, что механизатор Плюхин и пенсионер Гусев не сообразили оставить лисят в покое, допустимо, что то же самое произошло и со внештатным корреспондентом В. Паниковским, но газете-то, газете-то зачем пропагандировать этот поступок на своих страницах?
*
Психологическая загадка. Я родился, научился читать и учился в школе, когда была уже введена новая орфография: без «I», без «ѣ» и без твердого знака в конце некоторых слов.
Мои дочери, естественно, тоже родились при новой орфографии. Разница в годах (тридцатые или шестидесятые) как будто не имеет значения.
Тем не менее я, читая книги дореволюционного издания (Гоголя, Тургенева, Пушкина), никогда не обращал внимания на старую орфографию, она никогда мне не мешала, а дочери жалуются, что чтение старых книг для них затруднено, старая орфография им мешает.
*
Балалайка — народный музыкальный инструмент. На ней играли всегда бренча пальцами, кистью руки.
Теперь виртуозы делают чудеса, извлекают из этого немудреного инструмента бог знает какие звуки. То щипком, то как на мандолине, то на одной струне. Конечно, поскольку есть струны, можно их заставить звучать по-разному. Даже существуют и исполняются со сцен больших концертных залов концерты для балалайки с оркестром.
Все может быть. Но мою душу балалайка трогает только тогда, когда просто бренчат на ней пальцами, кистью руки.
*
Все же странно, что в «Слове о полку Игореве» мы продолжаем держаться за букву, которая явно возникла по описке при многократном переписывании текста и, может быть, в очень давние, первоначальные для этой поэмы времена. И вот мы держимся за эту букву вопреки поэтической, смысловой и даже формальной логике.
Сказано про Бояна, что он когда сочинял песню, то ширял:
Сизым орлом по поднебесью, Серым волком по земле, Мысью по древу.Мысь по-старославянски — белка. Видим четкую конструкцию с тремя существами (прием троекратного повторения — самый распространенный прием в русском фольклоре) и тремя сферами: орел, волк, мысь, небо, земля, дерево.
И все же из издания в издание печатаем полную бессмыслицу: «мыслью по дереву». Уж если ширять мыслью, то зачем же по дереву? Мыслью можно ширять по земным просторам, по дальним странам, по морям и океанам, по прошлому и по будущему, по звездам… Великое дело — ширять мыслью по дереву!
*
Мечта и надежда существуют временно, до их исполнения. Как снаряд существует, только пока летит до цели.
*
Человечество охвачено сейчас, как я бы назвал, вакханалией доступности.
Смею утверждать, что белоснежная гора на Кавказе, сверкающая в недосягаемых высотах и казавшаяся Лермонтову подножием божьего престола, не покажется таковой же, если до нее можно доехать по канатной дороге за 10 минут.
Коралловый атолл, до которого надо было плыть на паруснике несколько месяцев, выглядит для нас иначе, если мы подлетаем к нему на вертолете, затратив на перелет время от завтрака до обеда.
Эта вакханалия доступности пронизывает весь регистр нашего общения с внешним миром от тайны цветка до тайны луны, от женской любви до молнии с громом. Но боюсь только, что со всеобщей доступностью сделается недоступным для нас такое понятие, как красота.
*
Каков должен быть размер вольеры в зоопарке, чтобы зверь чувствовал себя хорошо, сносно?
Оказывается, размер вольеры не имеет решающего значения для самочувствия зверя, а имеет значение, есть ли убежище, где зверь мог бы спрятаться. Если есть — все в порядке. Походит и спрячется, отсидится и опять выйдет на свет божий. Если же убежища нет, то зверь очень скоро гибнет.
Замечаю, что вся моя жизнь, как движение маятника: спрятаться, отсидеться и опять в суету. Посуетиться и опять в нору, в одиночество.
*
Говорим о непереводимости поэзии на другие языки. Но поэзия непереводима прежде всего на свой родной язык, то есть на тот язык, на котором стихи написаны. Ведь нельзя стихотворение пересказать своими словами.
*
В двадцатом веке осуществилось как бы географическое единство мира. Мир стал маленьким и доступным. Расстояния на земном шаре измеряются лишь часами. Но при этом не осуществилось единого сообщества людей на Земле. И в этом одно из главных противоречий современного состояния человечества. Географические расстояния предельно сократились, а общественные, социальные, национальные, государственные, политические расстояния остаются в лучшем случае прежними.
*
Мы с приятелем обедали в гостиничном ресторане. В этой же гостинице проходила, должно быть, какая-то женская конференция. Когда там объявили перерыв, все женщины, участницы конференции, хлынули в ресторан. Вот и за соседний с нашим стол уселась большая компания возбужденных женщин, то и дело доносились до нас слова: Ливан, перспективный план, прогрессивка, материальная база, генеральная ассамблея…
— Интересные женщины, — заметил я шутя, — а о чем говорят? Прогрессивка, перспективные планы, ассамблея…
— Подожди, — успокоил меня приятель, — сейчас остынут, заговорят о другом.
Мы выпили еще по рюмке, забыли про соседний стол. Вдруг оттуда послышалось:
— Нет, Надя, если по низу пустить красную рюшечку, а здесь оборка… и чуть пониже колен…
— Ну вот. Теперь они опять женщины.
*
Одна знакомая собрала на вечеринку нас, несколько человек, чтобы мы послушали и оценили музыкально-вокальные способности ее брата, приехавшего к ней в гости из какого-то далекого города.
Молодой человек под гитару много пел из репертуара Сличенко, Вертинского, Козловского, Муслима Магомаева…
— Ну почему же, почему же, — спрашивала потом женщина, — его не пускают на сцену? Ведь вы же слышали… Если бы закрыть глаза, можно было бы подумать, что поет и правда Сличенко. Или Магомаев. Значит, он не хуже их!
— Милая Вера Павловна! А представьте себе, что кто-нибудь третий захотел бы изобразить, как поет ваш братец Виталий. Ну и что бы он стал изображать? Опять Сличенко и Магомаева?
Вера Павловна посерьезнела, задумалась, кажется, поняла…
*
Излишняя эрудиция. Набил себя знаниями как печку дровами. А тяги нет, дрова не горят.
*
Композитор исполнил на фортепьяно свое новое произведение. Были аплодисменты. Одна из слушательниц задала вопрос:
— А не могли бы вы объяснить, что вы хотели сказать этим произведением?
— Охотно! — откликнулся композитор, сел к инструменту и проиграл всё снова с начала и до конца.
*
Очень много происходит споров в литературоведении, в музыковедении, вообще в искусствоведении об отношении формы к содержанию и о взаимосвязи их. А, по-моему, лучше всех эту проблему решил мой отец Алексей Алексеевич. Он любил загадывать загадку: «Когда баранка съедается, куда дырка девается?»
Ответить, правда, никто не мог.
*
В деградации земных ландшафтов и пейзажей нельзя все валить только на масштабы современной человеческой деятельности. В конце концов египетские пирамиды по своим размерам превышают многие и многие современные постройки, но можем ли мы утверждать, что они изуродовали земной пейзаж? Напротив, не являются ли они одним из редчайших и удивительнейших украшений планеты?
Земля достаточно велика, чтобы освоить и адаптировать достаточно большие сооружения. Не портят же внешнего вида Земли Эверест и Фудзияма, Монблан и Эльбрус, Казбек и Килиманджаро.
*
Все виды птиц называются словом или женского, или мужского рода. Соловей, но сорока, грач, но галка, орел, но чайка, аист, но цапля, воробей, но трясогузка…
И вот каприз языка. При мужской форме от названия вида легко производится название самки: грач — грачиха, аист — аистиха, орел — орлица… Но попробуйте произвести название самца, если весь вид называется словом женского рода. Чайка… Не чайк же? Галка… Не галк же?
Цапля, синица, сойка, ласточка… Ничего не выходит. Каприз языка.
*
Женя Винокуров рассказал мне, что когда он был в Гималаях, то посетил индийского прорицателя. Тот напрорицал ему жить до 80 лет.
Когда Женя уже уходил, его догнал озабоченный слуга прорицателя.
— Хозяин просил сказать, что за автомобильные и авиационные катастрофы он не отвечает.
*
Разговор со старообрядцем.
— Павел Михайлович, а что же вы с церковью-то никак не поладите? Бог у вас один, Христос один…
— Нет, Лексеич, нам с ними никак нельзя.
— Почему же?
— Сам посуди: мы говорим и пишем Исус, а они уж Иисус… Так куды же нам с ними!..
*
Горький когда-то сказал, что человек дорог ему «своим чудовищным упрямством быть чем-то больше самого себя».
Но, может быть, человек интуитивно чувствует, что он и на самом деле есть нечто значительно большее, нежели представляет собой в повседневной жизни, в этой земной юдоли.
*
В человеке всё почти для самого себя: ноги, чтобы ходить, руки, каждый мускул, каждая жилка. И только лицо для других людей. В особенности улыбка. В самом деле, самому человеку улыбка совсем практически не нужна.
*
Сеять разумное, доброе, вечное, конечно, нужно, но только хорошо бы следить, чтобы семена были протравлены, иначе вместе с семенами можно привнести в души людей грибок скепсиса, цинизма, иные плевелы, которые через некоторое время, как и каждый сорняк, прорастут и заглушат добрые всходы.
*
В современных романских языках (то есть в языках, происшедших от латыни), особенно во французском и английском, ужасно искажено произношение написанного. Вместо торжественного и полного «монсиньор» или «мон сир» (мой государь) в написании monsier французы произносят скороговоркой «месье».
Или возьмите в написании английское слово «russian». Пишется оно очень толково, и, если бы произносить его по-латыни, получилось бы «руссиян», что вполне отвечало бы смыслу. Говорят же англичане почему-то «рашен». Другое слово, «Georgia» (Георгия), — страна, так сказать, имени Георгия, произносится почему-то Джорджия.
Если же придется читать страничку чистой латыни, то какая радость от того, что все читается без позднейшего искажения, просто, полно, звучно, буковка в буковку. Словно вместо пахучих и сложных разных там «пепси» пьешь хрустальную родниковую воду.
*
Как художник создает пейзажную картину, так и целый народ постепенно, невольно даже, быть может, штрих за штрихом, на протяжении столетий создает ландшафт и пейзаж своей страны.
Холмы и реки, деревья и цветы могут быть похожими в двух странах, но штрихи, привносимые человеком (народом), создают ту или иную картину, и вот лицо Германии отличается от лица соседней Франции или соседней Польши, лицо Средней России от Украины, а лицо Японии от лица похожего на нее географически острова Сахалина.
Точно так же, как художник-пейзажист вкладывает в свое творение частицу души, так и в ландшафт любой страны оказывается вложенной душа народа и то представление о красоте, которое в душе того или иного народа живет.
*
Есть ведомства по разработке и добыче полезных ископаемых, по строительству дорог, по сельскому хозяйству, по электрификации, по легкой и тяжелой промышленности… Но нет ведомства по внешнему виду страны (земли), по ее опрятности, прибранности, одухотворенности.
Думаем о прочности сооружений, о характере и объеме земляных работ, о количестве древесины, о центнерах и кубометрах, но не думаем о том, а как это будет выглядеть? Как это будет выглядеть не только само по себе, но в сочетании с местностью, в согласовании с традициями и с проекцией в будущее.
*
Мы презираем ложь и лгунов, но нетрудно вообразить, что было бы, если бы все стали говорить друг другу только правду, то есть только то, что думают, и совсем не скрывали бы своих мыслей.
*
Конфуций, создавший, как известно, целое учение, целую философию, если не религию, все время подчеркивал при жизни, что он ничего не создает нового, но лишь объясняет то, что уже было создано и сказано до него. Но вот эти-то объяснения и стали тем, что мы называем теперь конфуцианством.
*
Был период, когда некоторые молодые поэты как бы нарочито и наперебой старались попасть в немилость и под огонь критики. Это стало уже не очень опасно, однако приносило популярность.
Рассказывают, что Анна Ахматова однажды воскликнула про этих поэтов:
— Боже мой, очередь на Голгофу!
*
Паустовский, конечно, любил русскую природу и хорошо писал о ней. Но все же это было немножко со стороны, и знал он ее несколько книжно. Например, в одном месте, описывая разнотравье и перечисляя луговые травы, он засадил в этот ряд и волчье лыко — лесной кустарник.
Это все равно что спутать с травой сирень, бузину, жасмин, калину.
*
Ландшафт во всей его сложности и совокупности — это не просто лицо Земли, лицо страны, но и лицо данного общества.
*
Людей на земле становится все больше, техники все больше. Казалось бы, эти факторы должны обострять потребность людей в красоте и само чувство прекрасного. Возьмите Японию, эту удивительнейшую страну. Многочисленный народ теснится на нескольких камешках среди великого океана в неуверенности за геологическое будущее этих камешков. Но он не только не растерял чувства прекрасного, не только не отупел, не омертвел душой, но, напротив, может служить образцом подлинно глубокой, человеческой цивилизованности. Его и надо взять за образец, ибо это, возможно, будущее всех остальных народов, поскольку когда-нибудь на всей планете будет так же тесно, как сегодня на островах Японии. Но сохранят ли другие народы при этом ту же высоту духа? Смогут ли они так же ритуально преклоняться перед веткой цветущей вишни, так же ритуально любоваться белоснежным шатром горы, так же возвести в ранг искусства составление букета цветов, так же терпеливо выращивать игрушечные, но живые сады, миниатюрные, но подлинные пейзажи?
*
У Василия Федорова есть поэма «Проданная Венера», в основу которой положен исторический факт продажи великих полотен на нужды строительства и промышленности. В поэме есть такие слова:
За красоту веков грядущих Мы заплатили красотой.Понятны и горечь и исторический оптимизм поэта, но все же возникает вопрос: откуда взяться красоте в грядущих веках, если мы, наши поколения не сохраним ее в себе и не передадим потомкам в умноженном и облагороженном виде?
*
Над лугом и рекой завис вертолет. Висит на одном месте, жужжит, винт над ним — полупрозрачное дрожание воздуха (чем и держится в подвешенном состоянии этот летательный аппарат), а через выпуклые передние стекла кто-то смотрит вниз, на луг и на реку. Иначе зачем бы вертолету висеть на одном месте?
Над прозрачной водой, над цветами кувшинок зависла крупная стрекоза. Висит на одном месте, жужжит, крылья ее — полупрозрачное дрожание воздуха (чем и держится в подвешенном состоянии этот летательный аппарат), а через выпуклые, как бы стеклянные глазищи тоже — по аналогии — должен же кто-то смотреть вниз, на воду и на цветы кувшинок. Иначе зачем бы ей висеть на одном месте?
*
Избирательность восприятия информации. Я был в гостях на Украине. Украинские друзья решили показать мне Садоводческую станцию, где замечательный садовод Симиренко вывел в свое время этот знаменитый сорт яблок — симиренко.
Нынешний директор станции и совхоза целый день водил нас по обширному хозяйству и беспрерывно рассказывал и показывал. Наговорил он за эти часы огромное количество фактов и цифр. Сыпались в мой воспринимающий аппарат гектары, саженцы, тонны, интенсивное садоводство, формирование крон, гранулированные удобрения, зимняя прививка, устройство разных машин, названия зимних и осенних сортов, названия вредителей сада, названия средств борьбы с ними, имена передовиков, проценты выполнения плана…
Я полуслушал, потому что все равно всего не запомнишь и потому что (как я обычно шучу) в ближайшие 10—15 лет ничего из этого мне не понадобится.
А понадобилось мне (написавшему книгу «Травы») из всего потока информации одна золотая крупица (другой, возможно, отобрал и поймал бы другое). Я заметил, что между рядами яблонь на одном участке растет высокая зеленая трава, а на другом участке междурядья обработаны и там голая черная земля.
— Какая же разница? — спросил я.
— Изучаем, — ответил директор, — но уже сейчас точно можно сказать: там, где нет травы, яблок на сколько-то килограммов будет больше, но там, где трава, они окрашены интенсивнее, ярче, вкус их более ярко выражен, они дольше хранятся. Одним словом, они лучше.
Мала крупица, да золотая!
*
Время, очевидно, идет быстрее, чем человеку кажется.
Заметьте: если вы спросите у кого бы то ни было, сколько времени идти до такого-то места, никогда вам не скажут больше, а скажут меньше. Если вам скажут, что идти туда минут двадцать пять, значит, знайте, что на самом деле вы затратите на дорогу не меньше сорока.
Но еще более это заметно на другом. «Я приду через пять минут», — говорит человек. Будьте уверены, что он придет в лучшем случае через 15, хотя, когда он говорил, ему казалось, что он придет именно через пять.
Всегда кажется, что времени у нас больше, чем на самом деле, и что идет оно медленнее, чем нам кажется.
*
Одно дело, что человек, задерганный ритмом современной жизни, отучается от духовного общения с внешним миром, с природой, другое дело, что и сам этот внешний мир приведен подчас в такое состояние, что уже и не приглашает человека к духовному с ним общению.
*
В Софии мы жили в умопомрачительной гостинице «Витоше», построенной японцами на самом высоком уровне современных стандартов. Искусственный климат. Всюду электроника. Кнопки нажимать не надо, но только дотронуться. В лифтах тихо звучит услаждающая слух музыка. В длинных, очень глухих и очень пластиковых коридорах вдруг для услаждения слуха поют птицы. В магнитофонной записи, конечно.
Так вот, я заметил на себе, что это пение птиц производит обратное, нежелательное действие, создает гнетущее настроение. Кажется, что певчие птицы залетели по ошибке в эти глухие коридоры и вовек им отсюда не вылететь.
*
Средства массовой информации и связи предназначены для связи людей. Но передают и вещают они вовсе не то, что людей сближало бы и связывало.
*
Нинель Николаевна, работающая юристом при ООН и, следовательно, живущая в Нью-Йорке, приехала в Москву в отпуск. Пошла в овощной магазин, попросила свесить ей помидоров. Продавщица покидала помидоры на весы — 3 килограмма.
Нинель Николаевна стоит ждет и продавщица стоит ждет. Наконец продавщица не выдержала:
— Ну чего стоишь, забирай свои помидоры!
— Но как же я их заберу? — искренне удивилась Нинель Николаевна. — Положите в пакет…
— Ты откуда приехала? Из Америки, что ли?..
*
Сила женщины в ее женской сущности, а не в математических, лингвистических, юридических или иных побочных способностях. Поэтому эмансипация и развитие этих способностей все же не делают женщину сильнее. Как бы не наоборот.
*
Женщина управляет мужчиной. Допустим. Но настоящая женщина управляет им так, что ему кажется, будто он управляет ею.
А если женщина одинока, то в первую очередь она, неосознанно может быть, страдает оттого, что не имеет возможности проявлять свою главную женскую сущность — управлять, подчиняясь.
*
Я не знаю, как произошла игра в пинг-понг, но мне она представляется теннисом для лакеев. Господа в парке, среди зелени, на просторном корте элегантно, широко играют в теннис, а лакеи где-нибудь у себя в лакейской приспособили стол и в подражание господам гоняют маленькими ракетками маленький мячик. Подпольный теннис.
*
Стихи невозможно писать по строчечкам: одну строчечку написал, теперь буду думать о другой строке. Стихи — это блочное строительство. Запускаешь в «компьютер» мысль, а из «компьютера» выскакивает целая готовая строфа. Пусть вчерне. У нее может быть одна строка слабой, требующей замены, иные слова тоже придется заменять, то есть придется это изделие шлифовать и доводить, но все равно оно рождается уже как изделие.
В этом есть что-то от полета, от скорости. По земле камень можно передвигать с остановками. Передвинул на метр, положил. Но если камень брошен, он должен пролететь всю траекторию, он не может лететь с передышками.
*
Много раз уже сравнивали творчество с добычей полезных ископаемых. Человек разрабатывает душевный пласт, золотоносную жилу, ну или там месторождение «черного золота» или алмазную трубку, да хотя бы и просто родниковую воду. И конечно же, любое месторождение может иссякнуть. Вот я все подчищаю уже разведанные, разработанные месторождения, соразмеряя свои силы и свое время с их запасами, но есть у меня ощущение, что некий полный подземный бассейн лежит во мне незатронутым. И когда доберешься до него, случайно проткнешь перегородку и обильно хлынет на поверхность нефть (успевай только подставлять емкости), будет уже поздно, не хватит времени или сил.
*
Много раз приходилось выступать на коллективных поэтических вечерах, когда на сцене усаживается десять, а то и больше выступающих.
Все мы коллеги, если не друзья, называем друг друга по именам: Женя, Вася, Юля, Сережа, Миша… все доброжелательны друг к другу.
Друзья-то друзья, но вот вдруг начинается легкое летучее препирательство, этакая торговля, кому, когда, вслед за кем выступать.
Дело в том, что у аудитории в течение вечера есть свои закономерности. Внимание аудитории можно было бы даже изобразить графически: за пиками следуют спады, ямы, провалы. Например, когда выступает первый, публика еще не сосредоточилась, не «собралась», первого выступавшего она может как бы пропустить мимо ушей. Или другой случай. Если у выступавшего был бурный успех, аплодисменты и прочее, то можно смело сказать, что публика выплеснула на него свои эмоции и следующему их не достанется, следующий оказывается в слабой позиции, в точке резкого спада внимания аудитории. Напротив, если выступал слабый и нудный поэт, то это выгодный фон, после него самый благоприятный момент для выхода.
И вот начинается перед началом вечера легкое препирательство, кому, когда выступать. Каждый старается ставить себя в наиболее выгодные, выигрышные условия. За счет кого, чего? За счет других выступающих, разумеется. Пусть они оказываются в слабых позициях, а не я. А как же доброжелательство, дружба?
*
В поэме Данте над входом в ад, как известно, начертаны зловещие слова о том, что, входя туда, надо оставить надежду. Наиболее известен перевод Лозинского: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Перевод этот неточен в оттенке, как и все остальные переводы. Он неточен из-за того, что в русском языке есть метафорическое выражение «оставить надежду», что значит перестать надеяться. У Данте же эта строка имеет буквальный и более зловещий оттенок. Надежду оставь за порогом. То есть оставь ее как вещь, как верхнее платье, как дорожную палку. Входи без нее. Она тебе больше никогда не понадобится. Надежду оставь за порогом. Согласимся, что выражение «Оставь надежду всяк сюда входящий» не передает этого оттенка.
*
Как говорится, в старые добрые времена, в XIX веке русская поэзия тяготела к поэтической формуле. Так я условно называю это явление, не зная, как его еще можно назвать. Это не просто игра слов, не балансирование на грани с парадоксом, это что-то большее, что поэты в прошлом очень любили и что современная поэзия почти начисто утратила.
Поэтом можешь ты не быть, Но гражданином быть обязан. Понять невозможно ее, Зато не любить невозможно. Все это было бы смешно, Когда бы не было так грустно. Твоя любовь казалась мне смешной, Моя любовь преступной мне казалась. Какой светильник разума угас, Какое сердце биться перестало.Или совсем уж блестящее у Евгения Боратынского:
Близ рощи той его могила! С кручиной тяжкою своей К ней часто матерь приходила… Не приходила дева к ней.*
Среди поэтов-профессионалов нашего поколения издавна было известно стихотворение, автора которого мы никак не могли установить. Приписывали его Бунину, однако ни в одном издании Бунина стихотворения не нашли. Думали на Иннокентия Анненского, Сологуба, Гумилева, но и у них его не оказалось.
Случилось так, что я с чьего-то голоса запомнил из стихотворения (а в нем восемь строк) только первую строчку и две последних. «Легкой жизни я просил у бога» — была первая строка, а две последних звучали так:
Легкой жизни я просил у бога, Легкой смерти надо бы просить.Строчки звучат в сознании, хочется их повторять, хочется читать про себя все стихотворение целиком, но больше ничего не запомнилось. Кому ни позвоню, никто вроде меня не знает. Тогда я подумал: но я ведь сам пишу стихи, я же профессионал. Досочиню-ка я остальную, утраченную часть стихотворения и буду его для себя читать целиком. Моя попытка выглядела так:
Легкой жизни я просил у бога, Рвать цветы, смеяться и любить. Вот уже кончается дорога, Истончилась, ослабела нить. И теперь у страшного порога Ничего уже не воротить. Легкой жизни я просил у бога, Легкой смерти надо бы просить.Ничего, для «внутреннего пользования» вполне годилось. Но тем интереснее мне было найти, в конце концов, настоящий текст стихотворения, чтобы посмотреть, о чем я догадался, в чем совпал с автором, а в чем не совпал.
Наконец поэтический всезнайка и эрудит Александр Межиров в телефонном разговоре сказал, что, конечно, он знает это стихотворение, только вот не знает, кто автор.
Я замер. Разумеется, мой текст оказался неуклюжим по сравнению с полным изящества и легкости подлинным текстом, но кое-что и совпало. Межиров прочитал:
Легкой жизни я просил у бога: Посмотри, как мрачно все кругом. И ответил бог: пожди немного, Ты еще попросишь о другом. Вот уже кончается дорога, С каждым годом тоньше жизни нить… Легкой жизни я просил у бога, Легкой смерти надо бы просить.А до авторства докопался профессор Александр Иванович Овчаренко. Автором этого удивительного стихотворения оказался Тхоржевский, поэт и блестящий переводчик Омара Хайяма. Мысль этого стихотворения Тхоржевский взял у Гафиса.
*
У нас в селе раньше были колодцы. На сорок домов их было восемь. Все знали, в каком колодце вода похуже, в каком лучше, мягче.
Потом пробурили скважину и от нее провели по селу водопровод. Не в дома пока, а просто поставили несколько уличных водоразборных колонок. Строго говоря, особого преимущества я тут не вижу: все равно надо ведь ходить за водой, а не просто отвернуть кран. Ну, может быть, ходить чуть ближе, чем на колодец. Зато нельзя выбрать себе воду по вкусу, приходится брать какая есть. Вода во всех колонках одинаковая. Кроме того, появилась зависимость: колонки ломаются время от времени или вода временами течет очень слабо. И вода эта не очень хороша: пахнет железом, ведро от нее покрывается изнутри красным налетом.
Ранним летним утром я купался на речке, ходил по берегу босиком. Проведешь ногой по росистой траве, ручьем с ноги бежит вода. Солнце еще косое, тени длинные, вода в речке хрустальная, черная от глубины, кувшинки желтые. Одним словом, раннее летнее утро на берегу речки.
Вдруг вижу, идет от села и дальше через речку с двумя ведрами Иван Андреевич Громов. Поздоровались, он остановился.
— Куда это вы, по грибы, что ли? Так ведь никогда я не видел, чтобы по грибы сразу с двумя ведрами ходили.
— Какие грибы? За водой.
— За водой?! Куда?
— А вот родничок там в овражке есть, на Медведке.
— Такую даль? Километра два наберется. Да еще гора крутая на обратном пути…
— Что сделаешь?
— Как что? У вас же колонка под самыми окнами. Пятнадцать шагов.
— Нет, Лексеич, я большой любитель чаю попить, так разве можно той водой чай заваривать? Ее вон в банку нальешь, на дне ржавый осадок на целый палец. Чай получается мутный, о вкусе и говорить не приходится. А тут родник. Банку-то нальем, воды не видно, как будто ее и нет. А той водой разве можно чай заваривать?!
— Да все же заваривают. Один вы, наверное, такую даль за водой ходите.
— Ну и что, пусть заваривают. Это их дело. Каждый живет как может. А я вот на родничок…
Много ли среди нас всех, обращающихся с искусством, таких вот Иванов Громовых? Много ли их останется лет через десяток-другой?
*
Эфир вокруг нас, вокруг земли и далеко за ее пределами насыщен радиоволнами: песнями, речами, морзянкой, музыкой, а также и всевозможными зрительными образами, в том числе цветовыми, поскольку существуют телевизионные станции. Но для нас этот эфир пуст и нем, если у нас нет радиоприемника, или телевизора, то есть воспринимающего устройства. Существует радиоволна и не более, звук же родится только в приемнике. Без приемника этого звука нет, он лишь колебание частиц. Точно так же не носятся в воздухе готовые изображения дикторов телевидения, хоккеистов и эстрадных певцов. Без телевизора их нет, и превратить их из незримого и неслышимого колебания частиц в звуки и образы никаким другим способом невозможно. Мир тих и безмолвен, хотя он весь насыщен радиоволнами. Стой под звездами, смотри на луну, слушай соловья или шорох листьев. В остальном мир безмолвен. Если на земле исчезнут все радиоприемники и телевизоры, а радиостанции продолжат свою работу, все равно никто не будет знать, что пространство вокруг наполнено песнями, речами, морзянкой и зрительными изображениями. Что в них толку, если их не видно, не слышно? Их все равно что нет.
Известно, что звуки, которые мы воспринимаем нашим ухом, тоже не более чем волны, а рождаются они как звуки только в наших барабанных перепонках, точнее в слуховых центрах нашего мозга при посредстве барабанных перепонок. Летучие мыши, например, оказывается, пронзительно визжат, когда летают, но визжат они в том диапазоне звуковой волны, которая не воспринимается нашим ухом, и поэтому вечер с летучими мышами для нас тих и безмолвен, хотя на самом деле он наполнен оглушительным визгом.
Точно так же, только в нашем глазу (вернее, в мозгу при посредстве глаза) родится цвет и вообще любой зрительный образ. Если бы все без исключения люди были дальтониками (чуть-чуть по-другому устроен глаз), мы не имели бы никакого представления о красном, желтом, синем, зеленом. Существуют же цветовые волны, которые не воспринимаются нашим глазом. Мы их условно называем ультрафиолетовыми и инфракрасными, но какие это цвета, как они выглядят на самом деле, мы не знаем. Мир, наполненный и разукрашенный этими цветами, для нас пуст, бесцветен и попросту не существует.
Нельзя думать, что мир, каким видим его мы, человеки, и есть та самая объективная реальность, то есть что мир именно так и выглядит. Предполагается, что птицы видят магнитные волны. Но это значит, что ландшафт для них совершенно другой, нежели для нас. А если змеи видят инфракрасное излучение, то они, значит, обитают в совершенно другом зримом мире, нежели мы.
Теперь представим, что исчезли все глаза и все уши: наши, кошачьи, змеиные, птичьи, шмелей и стрекоз, лягушек и рыб, муравьев и раков, осьминогов и комаров. Это представить нетрудно, ибо все это появилось совсем недавно. А что же было до этого? Ничего! Колебания частиц, никем не воспринимаемые и никем не преобразуемые в звук и цвет. И вообще в зрительный образ. Полная чернота и полное безмолвие. В полной черноте и полном безмолвии извергались вулканы, обрушивались или возникали горы, бушевал океан. Но ведь и сами огнедышащие вулканы не более чем чернота и безмолвие.
И так вся вселенная.
Человек понадобился природе для того, чтобы она могла хотя бы увидеть и услышать сама себя.
*
Первая книга поэта, как правило, несет на себе следы влияний и ученичества. На этом основании поэту часто отказывают в издании его первой книги. Но дело в том, что избавиться от ученичества и влияний можно, только пройдя через стадию первой книги. Другого пути нет. Первая книга — это стадия роста. Соцветие не может расцвести, вися в воздухе, оно должно опираться на стебель, на его колена, на нижнюю, среднюю и верхнюю части.
*
Мы спрашиваем у других людей совета не тогда, когда вовсе не знаем, как поступить, но когда в глубине души имеем уже решение и хотим услышать подтверждение своим тайным желаниям. Человек, который все время советует нам вразрез с нашими тайными и, может быть, даже не до конца осознанными желаниями, может в конце концов вызвать наше раздражение и неприязнь.
*
В Алепине соседке Глафире Ивановне я говорю:
— Хорошо, у вас телевизор. Окно в мир…
— Окно-то, окно. Но только в него видать не то, что видать, а то, что покажут.
*
Дети Пушкина жили долго. Например, его сын Александр Александрович, полковник русской армии, принимал участие в русско-турецкой войне 1877 года и получил саблю с надписью «За храбрость», был награжден Георгиевским крестом, в 1898 году был произведен в генералы, в 1911 году в генералы от кавалерии. Он умер в 1914 году в возрасте 82 лет.
Это говорит о том, что в генах самого Пушкина было заложено долголетие. Недаром гадалка сказала ему: «Проживешь долго, если на 37-м году жизни ничего не случится».
*
Можно вообразить себе картину. Какой-нибудь прошлый, позапрошлый век: двенадцатый, шестнадцатый, восемнадцатый. Все женщины без исключения ходят в длинных платьях, юбках, пальто. И вот одну из них выводят на высокое место при скоплении народа. Наказание за какую-нибудь провинность. Экзекутор берет большие ножницы и отрезает нижнюю часть одежды повыше коленей. Голые ноги. Она старается их чем-нибудь прикрыть, хотя бы ладонями. Но ее пускают в таком виде гулять среди людей. Все хохочут над ее непотребным видом, изуродованным платьем…
А ничего, ведь привыкли.
*
Будучи подростком, я учился во Владимире, в отрыве от отца с матерью и жил очень бедно. Иногда (когда уж было совсем невмоготу) я ходил обедать к дальней родственнице. Она кормила меня перловой кашей и при этом преподавала урок бережливости, экономии.
— Муж приносит мне получку, — говорила она, — я распределяю ее на количество дней до следующей получки. Выходит по три рубля на день (условно и в теперешнем масштабе цен). Значит, если я сегодня истрачу шесть рублей, один день перед получкой окажется пустой, а если я истрачу девять рублей, значит, два дня окажутся пустыми. Деньги ведь с неба не свалятся. Да если я хоть двадцать копеек лишних истрачу сегодня, значит, их обязательно не хватит в конце месяца.
Тогда я пропускал эти поучения мимо ушей, уминая перловую кашу. И позже ее наставления не пошли впрок. Не тот у меня оказался характер, а деньги иногда и впрямь ведь падали с неба, мало ли было пущено на ветер.
Но время? Я вспоминаю наставления дальней родственницы, когда думаю о растраченном времени, которого действительно (и обязательно!) не хватит «в конце месяца» и которое действительно с неба не упадет. Причем растратить время можно необязательно на гульбу и на безделье. Вон Корин оформлял станции метро, писал портреты, а основной замысел осуществить не успел. Не хватило «нескольких рублей до конца месяца».
*
Стихи, не имеющие третьего измерения, глубины. Стихи-плоскатики.
*
Выезжая из нового микрорайона, потерял ориентировку и, подъехав к широкой улице, не знал, куда повернуть, чтобы ехать в сторону центра. Остановился и спрашиваю мужчину средних лет, «работягу»:
— Если я направо поверну, то куда попаду?
— Не знаю, — ответил мужичок, чуть подумав, — не знаю.
— А если налево поеду, куда попаду?
— Не знаю.
Отчасти смеясь, отчасти сердясь, я его спросил:
— Да сам-то ты куда идешь, знаешь ли?
— Я? Я иду в магазин.
*
Рассказали мне почти анекдот, но быль. Одного церковного провинциального иерарха, архиепископа, живущего несколько замкнуто, решили послать для расширения кругозора на две недели за границу. У них там по линии патриархии тоже свои зарубежные связи. Послали его в Италию. Ватикан, Флоренция, Равенна, Милан, Венеция — мало ли…
По возвращении спрашивают у ездившего, как, мол, Италия, понравилась ли?
Тот раздумчиво и со старославянским оканьем ответил:
— Гористая местность…
*
У Пушкина в «Истории Пугачевского бунта» читаем: «Пугачёв скрежетал. Он поклялся повесить не только Симонова и Крылова, но и все семейство последнего, находившееся в то время в Оренбурге. Таким образом, обречен был смерти и четырехлетний ребенок, впоследствии славный Крылов».
Как же положить на весы эти два явления: Пугачева и Крылова? Как же вывести их относительную и абсолютную ценность для истории и культуры? От кого отказаться в первую очередь? И кто знает, скольких Крыловых уносит каждая война, каждое побоище, кровопролитие, геноцид?
*
Читаю в газете: «Над Персидским заливом потерпел аварию военный самолет, истребитель… Причиной гибели самолета оказалось столкновение с птицей…»
Значит, простая птица может практически сбить современный истребитель?! Но только она должна пожертвовать собой.
*
Мы многое мерим по себе и на молодых людей смотрим своими глазами. Нам кажется, что они такие же, как и мы, не могут быть не такими. Но вот я опросил десять молодых людей 18—19-летнего возраста. Из десятерых пятеро не знали, как раньше назывался город Калинин, семеро — как назывался город Горький, семеро — Куйбышев, восемь — Киров, девять — Загорск, десять — Свердловск, десять — Алма-Ата, десять — Новосибирск… А один человек не знал, как раньше назывался Ленинград! Это была студентка техникума из Донецка.
*
Чеснок убивает всевозможные бактерии. Но все же есть одна бактерия — чесночница, которая уничтожает и сам чеснок, превращая его в белую пыль.
*
Бальзак дописывал конец романа и одновременно вычитывал уже корректуру первых глав, которую ему приносили из издательства. Три-четыре романа в год. Невозможно вообразить, как бы с ним было при нашей издательской практике, когда от написания книги до ее выхода в свет проходит два-три года. Просто не было бы Бальзака.
Когда Блок заканчивал новый цикл стихов, через три недели он держал уже в руках книжку с этим циклом.
Во всем этом есть большой смысл. Важно оставить позади написанное, освободиться от него (издать), чтобы идти дальше. Профессионалы знают, как легко и жадно вдруг пишется после выхода книги, на пустом, так сказать, месте, и как, напротив, написанное, но еще не изданное тянет назад, задерживает, словно путы, от которых необходимо освободиться.
*
Говорят, что каждую секунду на земле рождается человек и умирает человек. Да, но умирают очень часто наши знакомые и даже друзья, рождаются же совсем неизвестные для нас люди.
*
Мы часто говорим: писатель-профессионал, поэт-профессионал. С той точки зрения, что писатель живет своим литературным трудом и ничего другого уже не делает, а может быть, даже и не умеет, он, конечно, профессионал. Но ради пользы искусства художник (любого рода искусства) должен немножечко быть любителем, дилетантом. Мастерство, оно либо есть, либо нет. Опыт… тоже дело условное. Каждое стихотворение пишется как первое, как в первый раз. Элемент любительства дает большую творческую свободу, большую радость творчества. Недаром же мы говорим, что каждый художник должен оставаться немножечко ребенком. Кроме того, существует гениальная фраза, кем-то сказанная: «Опытность в искусстве может предупреждать ошибки и предохранять от создания шедевров».
*
Памятники литературным героям существуют. В Копенгагене есть знаменитая андерсеновская русалочка, в Америке есть памятник Тому Сойеру, кажется, увековечены в бронзе или камне Дон-Кихот и Робинзон Крузо…
Я задумался: кому из героев русской классической литературы наиболее естественно воспринимался бы памятник? Печорину? Дубровскому? Кому-нибудь из героев Достоевского? Толстого? Гончарова? Анне Карениной? Вере из «Обрыва»? Пьеру Безухову? Наташе Ростовой?
Нет. Наиболее естественно воспринимался бы (и жалко, что его нет до сих пор) памятник пушкинской Татьяне. Ну там на парковой скамейке с книжкой в руках или пишущая письмо…
Кстати, о положительных героях того же Пушкина. Кого мы можем назвать у него вполне положительными, так сказать, идеальными героями? Как ни странно, трех женщин: Татьяну, Машу Троекурову и Машу Миронову из «Капитанской дочки». Верность долгу, понятие о чести, цельность натур наиболее развиты и выявлены у этих героинь. «Но я другому отдана и буду век ему верна», — говорит Татьяна.
А Маша Троекурова, когда свадебную карету князя Верейского остановил Дубровский со своими разбойниками?
«— …я дала клятву, — возразила она с твердостью, — князь мой муж, прикажите освободить его и оставьте меня с ним. Я не обманывала. Я ждала вас до последней минуты, но теперь говорю вам, теперь поздно. Пустите нас».
А ведь в своих положительных, идеальных героев автор вкладывает наибольшую часть себя самого!
*
Мы ремонтировали мой родительский, дедовский дом. Весь старый скарб и всю утварь и мало ли что накопилось по углам, чуланам, шкафам и полкам, молодая новая городская хозяйка (моя жена) велела сложить в кучу на огороде и сжечь. Сложить сложили, но сжечь сразу не собрались.
К вечеру (не помню уж зачем) понадобилась какая-нибудь удобная емкость. Мы вытащили из кучи медную ендову и внесли опять в дом. Понадобилась грубая жесткая щетка. Нашли в скарбе щетку, которой некогда дед чистил лошадь, и вернули домой. Понадобилось щепать лучину — отыскали старый косарь… Деревянное корытце — рубить студень или грибы на грибную икру, лоток, решето (заменившее вдруг дуршлаг), мутовка — постепенно за две недели многое понадобилось в хозяйстве, и почти вся куча перекочевала опять в дом.
*
— Оправдываясь в каком-нибудь поступке, говори что хочешь. Ведь никто не знает, как было на самом деле.
— Как это никто? Я-то сам знаю…
*
В Провансе есть часовня, расписанная внутри Матиссом. Ну оставим наше отношение к нему как к художнику и оценку этой росписи с точки зрения живописи как таковой. Но совершенно очевидно и бьет в глаза, что, когда Матисс расписывал часовню, у него не было даже и признаков религиозного настроения. А ведь у религиозной живописи одна-единственная задача: создавать религиозное, молитвенное настроение, религиозную атмосферу.
Возьмем грубый пример. Если художник пресыщен едой (объелся накануне) и страдает несварением желудка и смотреть не может на мясную, обильную и жирную пищу, может ли он должным образом написать натюрморт с жареными фазанами, оленем на вертеле и кусками жареного вепря на блюде? Не привнесет ли художник свое, пусть временное отвращение к еде и в свою картину?
Впрочем, отвращение — чувство слишком активное. Достаточно равнодушия, безразличия к изображаемому, чтобы живописец уже не имел права изображать.
*
Материал диктует и технику и стиль. На глиняном (керамическом) предмете возможен грубый, небрежный орнамент, узор, сделанный палочкой, щепочкой, чуть ли не пальцем.
Слоновая или мамонтовая кость требует непременно мелкой, филигранной и очень точной резьбы. Все должно быть четко, резко, а не размывчато.
*
Одной женщине я увлеченно рассказывал эпизод из своей молодости.
Однажды в окно я увидел, что моя любимая девушка целуется на диване с другим парнем.
Не взвидев света, я пошел к приятелю (Васе Федорову, кстати сказать, тоже тогда молодому), мы с ним крепко напились и оказались опять под теми же окнами. Там уже не было света. Мы начали кидать в стекла монеты и, так как свет не зажигался, постепенно увлеклись и перешли на более тяжелые предметы (лежала во дворе куча угля). В результате мы повыбили там все стекла. Поступок можно расценивать как хулиганский, а можно принять во внимание смягчающие вину обстоятельства.
Но женщина, которой я это рассказывал теперь уже со смехом, вдруг загрустила, запечалилась, и на глазах ее даже заблестели слезы.
— Вы что? — спросил я в тревоге.
— Да!.. У меня никто никогда не бил стекол!..
*
Вопиющее несоответствие. Берешь иногда дорогое, так называемое «подарочное» издание какого-либо литературного произведения и видишь: мелованная бумага, красочные иллюстрации, особый набор. А текст годится разве что на шершавую газетную полосу.
*
Я человек не завистливый, люблю радоваться чужим удачам. Но как не позавидовать, когда на странице, скажем, у Андрея Платонова встречаешь такое высказывание: «Краткая, обычная человеческая жизнь вполне достаточна для свершения всех мыслимых дел и для полного наслаждения всеми страстями. А кто не успевает, тот не успеет никогда, если даже станет бессмертным».
*
Однажды на литературном вечере меня спросили: «Трудно ли всю жизнь быть поэтом, писателем?»
Должна быть с самого начала запрограммированность, как в семечке. А потом дерево растет и растет. Трудно ли ему расти и может ли оно не расти? Трудно ли ему быть именно такой породы, иметь именно такие ветви, такой ствол, такие цветы и плоды? И может ли по своему хотению липа на тридцатом году жизни переделаться в клен или в березу?
Конечно, могут обломать ветви (буря или люди), могут даже срубить. Но в общем-то растет дерево, осуществляя свою программу.
*
— Почему у одних поэтов популярность вспыхивает, а потом меркнет, вскипает, а потом опадает, а вон к тому ровное устойчивое отношение?
— Потому что эти — пена, а тот, о ком вы говорите, — пиво, тяжелый плотный напиток.
*
Покойный Н. был большой любитель женской любви. Однажды за рюмкой он признался:
— Как часто бывало: вот если эта женщина останется со мной, можно и умирать!
— Ну? А потом?
— А потом не знал, как избавиться.
*
В плену воспитанности. Один знакомый парижанин много слышал о нашей вобле и много расспрашивал меня о ней. Я не скупился на краски. Тогда он взял с меня слово, что я непременно угощу его воблой, когда он будет в Москве.
День настал. У меня оказалась хорошая крупная таранька. Чешское пиво.
Но сколько бы я ни показывал, как нужно обращаться с воблой, как нужно драть ее и обсасывать плавнички и косточки, парижанин настаивал на ноже и вилке. Изнемогая, терзал он на тарелке сухую рыбину, держа нож в левой руке, а вилку в правой. Так и осталось для него загадкой, что хорошего находим мы в этой вобле.
*
В плену иллюзии. Иногда я перевожу стихи болгарских поэтов, поэтому невольно поддерживается связь с болгарскими журналами и, в частности, с журналом «Обзор». Там мне дали московские телефоны старого коминтерновца, друга Болгарии и редактора журнала. На бумажке с телефонами было написано: «Посылка всех материалов через Бориса Н.».
Зная, что по обыкновенной почте бандероли в другую страну идут очень долго, я всегда пользовался любезностью Бориса Н., делая для этого большие концы по Москве. Однажды мне нужно было срочно переслать подборку стихов, и у меня с секретаршей Бориса Н. состоялся следующий разговор.
— Редактор в отпуске и будет не скоро.
— Как жаль! Мне так нужно…
— А что такое?
— Я всегда пользовался его каналами связи при отправке материалов в Болгарию. Вот и сегодня мне нужно…
После некоторого молчания секретарь сказала:
— Но ваши бандероли всегда отправляла я. Я просто хожу в соседнее почтовое отделение…
*
Зашел разговор об одном литераторе. Умная женщина сказала:
— Но он же озлоблен. Русская литература никогда не питалась озлобленностью. Чувство справедливости — да, борьба за справедливость — да, но озлобленность… Она, может быть, и хороша в иных формах борьбы, только не в искусстве. Нет, он уже не создаст ничего достойного.
*
Известно, что в крупнейшем оперном театре мира, в парижском «Гранд-Опера» сравнительно недавно, лет двадцать тому назад, установлен в зрительном зале плафон (потолок), написанный Марком Шагалом. Не будем судить, хороша или плоха живопись Шагала вообще, но даже ребенку видно, что летающие коровы и чернобородые дореволюционные старички, сидящие на скамеечках в провинциальных российских городках, никак не сочетаются с зеркально-завитушечно-золотисто-голубым стилем зала и всего театра. Не могут они сочетаться и с классическим репертуаром «Гранд-Опера», то есть с тем, что идет на сцене. Ведь нельзя было бы в нашем Большом театре вместо парящих там на потолке муз поместить, ну скажем, картины Пиросмани.
Теперь поставим вопрос по-другому. Если Шагал великий художник, как о нем иногда говорят, как же он не почувствовал, что его плафон и общий стиль театра не соответствуют друг другу? Художник должен был это почувствовать. Глинка никогда не заиграл бы свою «Камаринскую» на похоронах, а Шопен — «Патетическую сонату» на свадьбе.
Либо компромисс со своим вкусом ради побочных интересов?
*
Я долго старался сформулировать для себя, что главное было в искусстве Галины Улановой, и сформулировал так: целомудрие и чистота.
*
В Страсбурге седенькая милая старушка торгует в магазине (вероятно, в своем) ножами. Охотничьи, туристские, складные, разнообразнейших размеров и систем. Я заинтересовался ножами, у которых лезвие выскакивает при нажатии кнопки. Но тут обнаружился дефект — и, вероятно, у всей партии этих ножей. Нож поставлен на предохранитель, а лезвие при нажатии кнопки все равно выскакивает. Я пробую один нож, другой, десятый, пятнадцатый. Создалось неловкое положение: я как бы уличил владелицу магазина в недоброкачественной продукции. Она разрядила обстановку с истинно французским изяществом.
— Видно, вы всерьез решили кого-то прирезать, если так тщательно выбираете нож.
— Еще бы! — Общий смех.
Все-таки нож я купил.
— Ну, желаю удачи! — напутствовала меня старушка.
*
Есть сказочка про черта, который решил освоить все человеческие профессий. Берет пиджак, смотрит, как скроен, где какие швы, и вот чёрт уже годится в портные. Берет, скажем, стул, смотрит, как обструганы планки, как склеено. Ну и так далее. Во всех человеческих изделиях разобрался черт. И вдруг ему в руки попался валенок. Черт вертит его и так и сяк, и ничего не может понять: швов нет, как сделано? А между тем сделано по ноге, прочно, аккуратно, красиво…
Произведение искусства должно быть, как этот валенок: швов не видно, как сделано, непонятно, а сделано хорошо.
*
Не знаю, чем объяснить, но посмотрите, сколько песен сложено в народе про Стеньку Разина, про его удаль и разбойничьи похождения, и нет ни одной народной песни про Пугачева.
*
Я сам не видел, но кто видел, говорил мне, что у великой русской балерины Анны Павловой была слабая техника. Я сначала не мог этого понять, как это так: великая балерина и слабая техника. Но потом понял на сопоставлении с Лермонтовым, полным глубины, очарования, страсти, музыки, силы, полета, озарения, и все это… да, при довольно-таки слабой стихотворной технике. Во всяком случае у Бальмонта, Андрея Белого, Асеева, Кирсанова, Сельвинского, Мартынова стихотворная техника была выше.
*
Что главное с точки зрения живописного, колористического решения в рублевской «Троице»? Сочетание голубого и золотистого. Это васильки и рожь или небо и рожь. И того и другого, конечно же, нагляделся Андрей Рублев на Руси.
*
Абстракционисты ратуют за пятно. Ну хорошо. Ромашка, скажем, — желто-белое пятно, а колокольчик — лиловое. Но неужели пятно проигрывает, когда мы видим при этом и филигранную, ажурную, точнейшую, прекраснейшую форму цветка?
*
У рыболова-подледника, с которым сидели на соседних лунках, я спросил, о чем бы он как рыболов-подледник мечтал?
— Чтобы озеро, крупные окуни и чтобы на всем озере, кроме меня, никого.
Меня ужасно покоробила эта откровенность приятеля. Но потом я вспомнил один звук, врезавшийся в память с детских лет на всю жизнь. В прозрачное осеннее раннее утро я пошел в сосновый лесок собирать рыжики. Роса, свежесть, рыжики ядреные, яркие. И радостное чувство, что я, встав пораньше, опередил всех и теперь все рыжики в этом небольшом лесочке мои. И вдруг в тишине прозрачного лесного утра, шагах в пятидесяти впереди меня, за сосенками явственно и четко звякнула поцепка ведра. В груди так и оборвалось: опередили! По чужим следам придется идти. И хоть я знал, что все равно что-нибудь найдешь, пропущенное другими, расхотелось собирать в этом лесочке, и само хрустальное утро словно померкло.
*
По количеству домов от нашего села, как ни странно, пока не убыло. Оно ведь было все время так называемой центральной усадьбой колхоза. Деревеньки вокруг распадались, таяли в зеленом ландшафте, как сахар в воде, места, где они стояли, запаханы (или скоро будут запаханы), люди же из распадающихся деревенек частично переезжают на центральную усадьбу колхоза, пополняя ее. Вот почему по количеству домов от нашего села не убыло.
Но коренные сельские жители в большинстве своем умерли, некоторые семьи целиком переехали в город, в других семьях так: мать-старуха доживает свой век в родном дому, а дети ее — кто где.
Понаехало много чужих людей, просто нанялись работать в колхоз и заняли пустые дома. Эти приезжие люди часто меняются: одни приезжают, другие уезжают. Кроме того, в колхозе постоянно живет, сменяясь, партия городских рабочих.
Не считая одиноких старух, коренных людей, то есть с не совсем еще оборванными корешками, которые привязывают их к земле, осталось три-пять… В остальном — стоит только подуть ветерку…
Село было следующим органическим образованием в государстве после семьи. Конечно, могли и поругаться (особенно соседи) и подраться даже (что бывает и в семьях), но все же это был цельный и живой организм с большим количеством общих интересов. Жили все вроде бы и каждый по себе, но сообща.
Теперь же осмелюсь сказать: никакого села больше нет, а есть населенный пункт с текучим, нестабильным, не обремененным никакими внутренними связями населением.
*
Вот курьез. Каждый день в нашем доме начинался с того, что мать затопляла печь и просеивала муку. Мука образовывала белый холмик, а в решете оставались рыжие, красноватые отруби. В каждом доме по утрам происходило то же самое.
Теперь мне от одной болезни посоветовали отруби, и я вот уже две недели, живя в деревне, пытаюсь достать их. Обшарил все окрестные деревеньки, «подключил» председателя колхоза, дошел до районных властей, и все пока бесполезно. Говорят, надо обратиться в область, а еще лучше попробовать поискать в Москве.
*
Во французских гостиницах номер, как мы говорим, одиночный, а кровать все равно необъятная. Гектар. Шесть человек улягутся хоть вдоль, хоть поперек. Я спросил у горничной, зачем такие огромные кровати.
— Человек проводит в кровати почти половину своей жизни, — ответила горничная. — Мы, французы, хотим, чтобы эта половина жизни проходила в удобствах.
*
Меткость и яркость народного языка, под который невозможно подделаться.
В наши колхозные деревни приезжают откуда-то и поселяются чужие люди из дальних мест, может быть, даже отбывшие наказание.
Соседка Глафира говорит:
— Навстречу идут, а взгляды у них какие-то тюремные.
Было бы обыкновенно, если бы она сказала: угрюмые, мрачные, бандитские, преступные и т. д. А вот сказала: тюремные — и точка. Хотя что такое тюремный взгляд? Да и в тюрьме никогда Глафира не бывала. Объяснить нельзя, но точнее и ярче не скажешь.
*
Дыма без огня не бывает. Почему на протяжении веков постоянно возникали разные версии об авторстве Шекспира? Откуда сомнения в том, что большая и лучшая часть того, что мы теперь читаем под именем Шекспира, написана не им самим? Тут и имя философа Бэкона, и другие версии. Дыма без огня не бывает.
Дело в том (еще одна версия), что всё, что мы читаем теперь под именем Шекспира, написала Мария Стюарт.
В скотоводческой полуварварской Шотландии XVI века Мария Стюарт была самым культурным и образованным человеком. Она 12 лет, с шестилетнего по восемнадцатилетний возраст, прожила во Франции, где сначала получила образование в Сен-Жермене при королевском дворе, а затем два года была женой французского принца, и только его ранняя смерть помешала ей стать впоследствии королевой Франции. Она при французском дворе общалась с крупнейшими поэтами и драматургами того времени, путешествовала, бывала, вероятно, в Италии. То, что она писала стихи, общеизвестно. Ее сонеты фигурировали в деле и зачитывались на суде как доказательство ее любовных связей. Можно сказать, что она была одним из культурнейших людей европейского, а значит (в то время), и мирового масштаба.
И вот эту образованнейшую, энергичную и талантливую женщину, поэтессу Елизавета четырнадцать лет держит фактически в заточении, в замке на острове среди озера. Что же делала эти 14 лет Мария Стюарт? Писала. Общеизвестно, что свои бумаги она переправляла в явочное место в пивном бочонке. Какие бумаги? Письма, конечно. Но только ли письма? Почему не предположить, что переправлялись и написанные ею драмы? Переправлялись и сосредоточивались в одном месте, в определенных руках и достались потом молодому, крайне предприимчивому человеку по имени Вильям Шекспир?
Родился Шекспир в необразованной семье. Мать его не умела даже расписываться. По свидетельству Бен-Джонсона, «из школы сам Шекспир вынес немного латыни и еще менее греческого языка». Однако классические цитаты в изобилии рассыпаны по страницам Шекспира. А как быть с разговорами на прекрасном французском языке (которого Шекспир не знал) в «Генрихе V»? А как быть с драмами Шекспира («Венецианский купец», «Отелло»), сюжеты которых заимствованы из итальянских новелл Джовани и Чинтио, на английский язык в то время еще не переведенных?
Местный колорит итальянской жизни Шекспира так ярок, что есть в шекспирологии целая теория, будто в молодости Шекспир побывал в Италии. Но, конечно, он никак не мог попасть в Италию ни в молодости, ни позже.
Да, действительно, откуда малообразованному юноше в полудикой стране знать в тонкостях Италию, Вену, Испанию, придворную жизнь, все, что прекрасно знала Мария Стюарт.
Здесь не место, но можно заняться исследовательской работой и найти, что во многих драмах Шекспира в чистом или в завуалированном виде присутствуют многие факты из личной жизни, из биографии Марии Стюарт, а главное — ее психология. «Леди Макбет» — слепок с трагических эпизодов из жизни Марии Стюарт. Ее любовник скрывался в изгнании в Дании, где происходит действие «Гамлета». «Укрощение строптивой» могла написать только женщина. Многие сонеты Шекспира обращены к юноше. Почему?
Теперь возьмите монологи в драмах Шекспира. Как известно, именно в монологах главных героев драматурги, поэты высказывают свои сокровенные мысли и чувства.
Вот Гамлет сетует, что не может покончить самоубийством:
«…если бы предвечный не установил запрет самоубийству! Боже! Боже! Каким докучным, тусклым и не нужным мне кажется все, что ни есть на свете!»
Или когда тот же Гамлет размышляет в своем главном монологе, что лучше — покориться судьбе или продолжать борьбу, согласимся, что эти мысли и чувства ближе заточенной королеве, нежели молодому энергичному драматургу, только входящему в блеск славы.
Характерно и следующее. О долондонском периоде жизни Шекспира почти ничего не известно. В Лондон же он перебирается из Стратфорда около (более точных данных нет) 1585—1587 годов. Скорее именно в 1587 году, потому что это год смерти Марии Стюарт! Случайно ли? Сначала он занимается браконьерством и мелким предпринимательством.
Заглянем в энциклопедию Брокгауза и Ефрона.
«О первых 5—7 годах пребывания Шекспира в Лондоне, именно до 1592 года, нет сколько-нибудь точных сведений, несомненно только то, что он сразу же пристроился к театральному делу… По одному преданию, Шекспир начал с того, что присматривал за лошадьми посетителей театра… по другому, вполне правдоподобному преданию, он был помощником суфлера, вызывая очередных актеров… По-видимому, он принадлежал только к числу театральных „полезностей“».
Но в таком положении ему очень удобно было (для того и пристроился к театральному делу) предложить театру и «свою» драму, а потом другую и третью… Во всяком случае, в 1592 году он еще никто, а через шесть лет уже крупнейший и даже лучший писатель Англии.
Уже у современников его взлет вызывает настороженность. Крупнейший драматург того времени и предшественник Шекспира Грин предостерегает друзей-драматургов от тех, «которые берут наши слова себе в рот». «Невесть откуда выскочившая ворона важно щеголяет в наших перьях… Сердце тигра в оболочке актера… будучи только „Иваном на все руки“…»
Бросалось в глаза и несоответствие самого образа Шекспира, его жизни с тем, что выходило якобы из-под его пера.
«Как соединить в одно личное представление величественную безнадежность „Отелло“, „Меры за меру“, „Макбета“, „Лира“ с таким мелкосуетливым и не совсем чистоплотным занятием, как откуп десятины? Очевидно, ни в каком случае не следует смешивать в одно представление Шекспира-человека, Шекспира-дельца с Шекспиром-художником. Очевидно, что Шекспир-художник жил в своем особом, волшебном мире, где-то на недосягаемой высоте, куда голоса земли и не доходят, где художественное прозрение его освобождается от условий времени и пространства»[2].
Согласимся, что эти слова больше накладываются на королеву, находящуюся 14 лет в заточении, нежели на предпринимателя, суетящегося в густоте лондонской жизни. Причем необязательно пусть и меркантильно-мелочного, с деляческим характером Шекспира подозревать в злостно-умышленном воровстве. Мария Стюарт могла при жизни еще распорядиться пустить на сцену ее драмы под чужим именем, когда ее уже не будет. Может быть, после смерти королевы молодой шотландец перебрался в Лондон именно для того, чтобы выполнить ее завещание.
Конечно, доказать теперь никто ничего не докажет, но если уже существует много версий на этот счет (а дыма без огня не бывает), то почему бы не быть и еще одной, наиболее, как любят говорить ученые о гипотезах, корректной.
*
Крыса, по-моему, выделяет какие-то биотоки омерзения и страха перед ней. Дотронуться до волка и тигра мне было бы легче, чем до крысы.
*
Мы бреемся с утра. Для учреждения, службы, начальства. Французы бреются на ночь.
*
При Леонове (дело происходило в Болгарии) стали рассказывать, как делается крестьянское кушанье «старец». Берется бараний желудок, набивается кусками мяса и жира, специями, опускается в соленую воду… Леонов вдруг замахал руками:
— Вы представьте, если бы они (животные) слышали, как мы про них говорим, что бы они про нас подумали!
*
Разговаривали об очень крупном художнике, которому уже около восьмидесяти.
— Жалко. Такой прекрасный художник. Как несправедлива смерть, одинаково убивает и бездельника и талант…
— Ну хорошо. А если бы дать этому художнику прожить еще восемьдесят, возник бы он в новом качестве, как новое явление?
— Нет, — в один голос ответили собеседники.
— Значит, зачем жалеть. Он сделал что мог. Другое будут делать другие.
*
Время от времени осуществляются новые переводы классиков. Так Пастернак вновь переводил некоторые драмы Шекспира. Но как быть со строками и строчками, которые уже стали крылатыми, цитировались уже нашими классиками и общеизвестны? Попытка изменить их кажется в чем-то жалкой. Ну, скажем, в прежних переводах «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» Пастернак вынужден изменить строку: «Ты перед сном молилась, Дездемона?»
В прежнем переводе: «Неладно что-то в датском королевстве». У Пастернака: «Какая-то в державе датской гниль».
В прежнем переводе: «Есть многое на свете, друг Гораций, что и не снилось нашим мудрецам». У Пастернака: «Есть многое такое, мой Гораций, что наша философия не знает».
*
Казалось бы, наши радио и телевидение пропагандируют русские народные песни, однако пропаганда эта привела к тому, что в репертуаре застольных, вечериночных певцов оказался очень незначительный круг (штук пятнадцать до отупления и до отвращения запетых) песен. Ну там «Степь да степь кругом», «Что стоишь, качаясь…», «Тройка», «Из-за острова на стрежень»… всего штук пятнадцать. Остальные же сотни и тысячи песен лежат в стороне мертвым пластом.
И когда за столом запели было опять «Степь да степь», я сумел остановить их и попросил: «А вы спойте „Плещут холодные волны“. Или хотя бы „По муромской дорожке“. Или хотя бы „Что затуманилась, зоренька ясная“».
Так пели, как будто пили свежую ключевую воду.
*
В нашей литературно-издательской практике (за редкими исключениями) свою первую книгу «молодой», «начинающий» поэт получает, когда ему уже около тридцати, а то и за тридцать.
К этому возрасту накапливается у поэта стихотворений уже на несколько сборников, а выходит только один, притом тоненький: «Хватит на первый раз!» Читатель получает лишь частичное представление о поэте. Стихи, не вошедшие в первый сборник, поэт старается потом включить в последующие книги. Происходит новое смещение: ранние стихи поэта читатель принимает за новые, за сегодняшний день поэта, в то время как это его вчерашний и даже позавчерашний день.
*
Показываясь докторам и выслушивая их, ловишь себя на мысли: как же он, врач, о болезни, о ее внутреннем движении, о самочувствии во время болезни может знать больше меня, если сам он этой болезнью не болел?
Конечно, он вооружен общими медицинскими знаниями, но может ли он полностью «залезть в шкуру» больного, в мир его переживаний и ощущений?
Я не медик, я не изучал разные там клинические картины, об анатомии и физиологии у меня самые поверхностные представления, но зато я знаю, что я чувствую, мне доступны все оттенки моего самочувствия, связанного с болезнью.
Идеальным было бы сочетание личного опыта и профессиональных знаний. В медицине такое сочетание едва ли возможно, ибо не может же врач переболеть всеми основными болезнями, чтобы знать о них не только по научному, но и по личному опыту.
Но такое сочетание личных знаний с общими, теоретическими оказывается возможным в искусстве, когда мастер того или иного вида искусства будет рассказывать о своей профессии и о ее тонкостях. Для этого надо, правда, обладать даром слова. Таким образом, наиболее благоприятным оказывается соединение, скажем, поэт-критик, прозаик-литературовед.
Не будем утверждать, что самыми лучшими объяснителями и толкователями искусства поэзии были сами поэты. Может быть, им иногда не хватало широты охвата предмета и явления, расстановки социальных акцентов, исторического взгляда на литературный процесс, но надо признать, что именно поэтам (коль скоро они брались за это) принадлежат наиболее тонкие и точные наблюдения в области поэзии, наиболее глубокие и интересные (по сравнению с критиками и литературоведами) высказывания о ней.
*
Поэзия — увеличительная речь. Как простое стекло путем особой шлифовки (и придания ему особой формы) превращается в линзу и начинает увеличивать, так и человеческая речь путем особой шлифовки (и придания ей особой формы) превращается в увеличительную речь. Это и есть поэзия.
*
Неужели торжественное слово «потомки» всего-навсего от обыденного слова «потом»?
*
Шахматная партия. Разыгран дебют и начинается настоящая игра. Допустимо, что в расположении фигур на доске уже стоит энергичная выигрышная комбинация. Она уже есть, существует на доске, но только она скрыта во множестве фигур, надо ее увидеть и выделить. Непреложный выигрыш в пять ходов. Но фигур на доске много, возможных ходов и вариантов тысячи. В этой каше можно не увидеть четкую выигрышную комбинацию, уже существующую на доске. Начинается мелкая длительная возня. В конце концов на шестидесятом-семидесятом ходу партия проигрывается или заканчивается вничью. Игрок так и не узнает никогда, что в начале партии на доске существовал выигрыш в пять ходов.
Так же легко просмотреть и прозевать необходимую схему в расположении жизненных биографических обстоятельств, и тогда вместо решительных действий и яркого результата получается нудная житейская каша, мелкая многолетняя возня, проигрыш, ничья. И никогда не узнать, что судьба однажды предлагала блестящий выигрыш.
*
У какого-то африканского племени существует мудрейший обычай. Девушка не может решить, за которого парня ей выходить замуж, колеблется, должно быть, ей нравятся оба. Тогда в момент, когда она находится рядом с обоими этими парнями, ее внезапно и сильно пугают. К одному из парней девушка непроизвольно бросается, ища защиты. Значит, за него она и должна выйти замуж.
*
Иной человек, как бы он ни был образован, умен, культурен и опытен, до самой смерти остается немного ребенком. Считается даже, что поэт, например, должен в чем-то оставаться ребенком. Эта черта может быть присуща и целому народу, и тоже несмотря на его древнюю культуру, богатую историю и т. д. Народ-поэт, народ-ребенок. Таким народом я вижу, скажем, грузин. Древнейшая нация — поэты, виноградари, воины. И все-таки в чем-то они как дети.
*
Всегда со стыдом вспоминаю один эпизод. Была какая-то пестрая компания, шутили, дурачились. Одна женщина обратилась к присутствующим мужчинам: «Хочу вас проверить. Кто сумеет выпить вино из этого бокала?» Она подходила к мужчине с бутылкой вина в одной руке и с полным бокалом золотистого сухого вина — в другой. На поверхности вина барахталась большая сине-черная муха. Мужчины один за другим изощрялись, отдували муху к другому краю бокала… И ни у кого не нашлось характера на то, чтобы выплеснуть этот бокал к чертовой матери и снова подставить его под бутылку. А именно на это и был рассчитан тест. Давно это было, а стыдно до сих пор.
*
На базаре тетка продает соленые огурцы. Огромная бочка на 20 ведер. Ясно, что огурцы солились не для себя, а именно на продажу. Дома распробовал (а сразу на базаре, когда она отрезает ломтик, не заметишь), что засол с перчиком. Это уж из области чистого искусства. Все равно ведь раскупили бы и все равно ведь распробуют только дома. Но вот сделано от души.
*
Когда-то человек зависел целиком от природы, а теперь от монтера, от продавца. У нас в селе погас свет. Надо ждать, пока монтер Мишка исправит линию. А пока сразу едва ли не в каменный век — к свече. Да хорошо еще, если в доме найдется свеча. Или возьмите хлеб. Ни муки, ни зерна, ни мельницы в распоряжении жителей деревни теперь нет. Хлеб только в сельпо. И вот хлеб почему-то не привезли. Где взять? Ну хорошо, привезут завтра, через день, через три дня. А если не привезут? Заскурлыкают самодельные каменные мельницы, затолкут ступы. Опять то же, из 20-го века сразу в каменный. Прикуривала же вся Россия в годы войны от кремня и кресала.
*
В Молдавии распространенное ежедневное блюдо — печеные стручки сладкого перца. Обычно приносят на тарелке с десяток таких стручков. И вот иногда среди сладких стручков попадается один острый. Ну не такой, чтобы невозможно было есть, но острый. А после него обычные стручки кажутся пресными как трава, есть их неинтересно.
В жизни тоже (книга, спектакль, человек): попадаются острые стручки, после которых все остальное кажется пресным и безвкусным.
*
Переход поэта на прозу оправдываем тем, что-де накапливаются на «складах» такие впечатления, такой материал, который ложится не в стихи, а в повесть, в роман, в рассказ. Но не возможна ли тут аналогия с певцом, у которого накопилось бы что рассказать и он из певца превратился бы в чтеца-декламатора?
*
Читал рукопись молодого прозаика: несколько рассказов и две повести. Короткие рассказы мне понравились, а повести написаны слабо. Получилось несоответствие техники и жанра. Акварель размером 30 на 50 сантиметров — хорошо. Но попробуйте вообразить себе акварель шесть метров на восемь. Или то же самое — карандашный рисунок.
*
Очень сильно изменился в нашей стране читатель. Возьмите старые издания Тургенева, Достоевского, Гончарова, Чехова. Если на страницах их произведений попадались фразы на других языках — французском, немецком, латыни, — никогда не делалось сносок с переводом этих фраз. Имелось в виду, что читающая публика языки знает.
Теперь не только обязательно переводятся такие фразы, но даются пояснительные сноски там, где упомянуты, например, Буонарроти, Макиавелли, Беатриче, Варфоломеевская ночь, Нарцисс, стека (инструмент скульптора), Гименей, Виндзорский замок, Нибелунги, Эльсинор, Ян Гус, Сорбонна, Сикстинская капелла…
*
Что делает язык, ассимилируя и переваривая иноземные слова! Наше прозаическое огородно-базарно-кухонное слово «помидор» происходит от французского «помм д’амур» (Pomme d’amoure), то есть яблоко любви!
*
Когда я слышу гениальную музыку, я не могу вообразить, что когда-то ее не было. Ну в самом деле, «Лунная соната» Бетховена или Первый концерт Чайковского написаны соответственно в 18… и в 18… годах. Но где же до этого времени находились эти звуки? Неужели их не было? Тогда откуда же они взялись?
*
Сын Александра Яшина женился, я даже гулял на свадьбе. И вот однажды на улице меня хватает за рукав Елена Леонидовна (Майя) Луговская.
— Вы знаете, у Миши родился сын!
— Да ну! Как назвали?
— Александром. Будет опять на свете Александр Яшин…
Перед моим мысленным взором прокрутилась мгновенно яркая пленка: вологодская деревня Блудново, вологодская крестьянская семья, двадцатые-тридцатые годы, горе и слезы, гармонь и частушки, вологодская скудная землица, ржица, ленок, все обиды, все радости, все страсти, все дружбы, все одиночество, все мужество Яшина. И Бобришный угор над рекой Югом, где он лежит теперь на краю бора, и все, все, что называлось на свете Александром Яшиным. Я сказал:
— Как бы не так! Никакие силы, ни земные, ни космические, не могут сотворить еще одного Александра Яшина.
*
В мире много условного. Нам, когда мы попадаем в европейские страны, кажется странным умываться утром из таза или наполненной раковины. Как-то вроде бы даже и негигиенично. Вымоешь руки в этой воде, она уже мыльная, а потом и лицо надо умывать. То ли дело — проточная струя из крана!
А японцам кажется дикостью и невообразимым делом, чтобы в доме, в квартире ходить в той же обуви, что и по улице. В самом деле — плевки, мало ли что, а потом, находившись по всему этому, и в дом в той же обуви… Невозможно вообразить. А мы ходим (частенько), не замечая этой нелепости.
*
Дело было давно, еще по первым годам женитьбы. Моя жена, как большинство москвичек, старалась похудеть (или, скажем, не толстеть), каждый день на весы, считала граммы. И в общем-то ей удавалось оставаться в форме.
И вот пригласили нас на деревенскую свадьбу. Приехал на эту же свадьбу один наш сельчанин, живущий теперь во Владимире. А жена у него там квасом торгует и что в высоту, что в ширину одинакова. Она смотрела, смотрела на мою жену этак жалостливо, сочувственно и говорит: «Володенька, худа она у тебя, худа. Жалко. Дай ты ее нам месяца на два-три, обещаю: в дверь не пролезет!..»
…К этой же теме. Павла Ивановича Косицына встретил я во время прогулки.
— Как живешь? — спросил меня Павел Иванович.
— Хорошо вроде живу.
Он оглядел меня задумчиво.
— Хорошо, говоришь… А на лице-то не видно. Вон у меня Санька, если хорошо-то живет, так у него и брюшко, и подбородок, и со всех сторон кругло…
*
У Дюма-отца есть роман о Бенвенуто Челлини. Читаем. «Он выбрал для Юпитера лучшее место и все же прекрасно понимал, что в сумерках статуя не произведет впечатления, а ночью и вовсе покажется непривлекательной. В своей ненависти герцогиня всё рассчитала с точностью, с какой скульптор соразмеряет пропорции своего произведения».
Ну хорошо. И вдруг в описании исторических событий, в ткани романа у Дюма прорывается фраза: «Таким образом, еще в 1541 году госпожа д’Эстамп предвосхитила методы критики XIX столетия». Значит, уж допекли критики Александра Дюма, если сквозь ткань исторического повествования прорвалась эта фраза. А он не знал еще современной нашей критики!
*
Бумага терпит только определенную степень искренности.
*
Она чудовищно талантлива. Однако, когда прочитываешь все ее стихи, ощущаешь себя в комнате (в зале), увешанной драгоценными произведениями искусства, со вкусом обставленной, одним словом, в прекрасной комнате, но… без окон.
*
Какая разница между нормальным жилым многоэтажным (четырех, шести, девяти) домом у нас и где-нибудь в Париже, в любом европейском городе?
У нас подъезд, лестница и лестничные площадки являются продолжением улицы, а у них — начало квартиры. Ковровые дорожки, цветы, покрытые лаком деревянные ступени, натертый паркет на площадках…
*
Конечно, и сама работа, сам процесс исписывания страниц (или исписывание красками полотна, или писание нот на бумаге), конечно, это тоже творческий процесс. Некоторые страницы будут написаны с большим подъемом и блеском (вдохновением), некоторые с меньшим; конечно, подыскание рифм, соединение слов в стихотворные строки и строфы — все это творческий акт, вернее, его продолжение, завершение.
Но высшей точкой творческого акта, искрой, вспышкой горючего материала, блеском молнии, озарением, а короче говоря, собственно творческим актом является момент рождения замысла. Здесь в одно мгновение укладывается то, что потом растянется на часы, дни, месяцы, на целые, быть может, годы воплощения.
*
У самых хороших поэтов бывают осечки вкуса. Скажем, строка Пастернака о волнах: «Прибой как вафли их печет». Говорят, что поэт видел однажды, как пекут вафли на кондитерской фабрике, и говорят, что это очень похоже. Но едва ли из читающих стихи хоть один человек тоже побывал на кондитерской фабрике, поэтому эта строка мертва и досадна. Для проверки попробуйте представить себе обратное сравнение: кондитерский автомат выбрасывает, печет вафли как прибой волны. Это уже более допустимо, потому что прибой видели многие.
Но и вообще-то сравнить морские волны с вафлями… Осечка вкуса.
*
В шведском городе Гетеборге я был гостем профессора Гунара Якобссона. Мы ходили в ресторан обедать. Однажды я высказал робкое пожелание пойти в рыбный ресторан. Профессор сказал:
— Вчера был шторм. Рыбаки не ходили в море, так что сегодня не будет свежей рыбы.
— Но позавчерашняя, третьего дня…
— Что вы! Кто же ест рыбу третьего дня?
*
Почему старые названия улиц очень жизнестойки и звучат очень естественно, не натянуто? Кузнецкий мост. Никакого моста через Неглинку там давно нет, равно как и кузнецов. Но дело в том, что они были. Название не взято с потолка, произвольно, оно возникло в ответ на факт, на реальную действительность.
Теперь я читаю: «Бульвар Вешних вод». Почему? Какие вешние воды? Если просто вешние воды, то они текут везде, если повесть Тургенева, то бульвар этот (новый) никаким образом с Тургеневым не связан. Отсюда ощущение натянутости, вычурности, неестественности во многих новых названиях. Они придуманы, а не рождены фактом.
*
Раньше на фортепьяно играли при свечах. Свечи были дороги. Поэтому и говорили иногда: «Игра не стоит свеч». Это значило, что игра была плохая. Но будет ли комплиментом игре, если про нее сказать, что она стоит свеч?
*
Стихи создаются двояко. Либо из сознания поэта, как из компьютера, в который заложена программа, выскакивают целые строфы, и тогда они, эти строфы, монолитны, нерасчленимы, либо они появляются в полуготовом, обрывочном виде, и тогда их приходится доделывать на бумаге, досочинять.
Выхожу один я на дорогу, Сквозь туман кремнистый путь блестит, Ночь тиха, пустыня внемлет богу, И звезда с звездою говорит.Или:
Скажи мне, ветка Палестины, Где ты росла, где ты цвела, Каких холмов, какой долины Ты украшением была.Это идеальный случай, когда строфы возникают и выливаются на бумагу в готовом практически виде и целиком. Но очень часто при написании стихотворения последующая мысль, последующий образ формируется не в виде целой строфы, а в виде двух последних строк, то есть третьей и четвертой строки. Они главные, они ударные, завершающие строфу, и поэт знает, что были бы они, а уж две «верхние» строчки он к ним подберет. Поэтому очень и очень часто две нижние строки в строфе филигранны, блестящи, являются безупречной поэтической формулой, а две верхние пустоваты, иногда нарочиты, искусственны, а то и корявы. Они ведь то что называется проходные, они приделаны к строфе ради ее двух нижних главных строк. Иногда это более очевидно, иногда менее, но то, что такой закон, закон слабых верхних строк, в строфе существует, это факт. Берем даже Пушкина.
И умер бедный раб у ног Непобедимого владыки.Четкость, металл, бронза. А сверху?
Принес и ослабел и лег Под сводом шалаша на лыки.Совсем другая, более слабая ткань. И эти нарочитые «лыки». Какие лыки? Рогожа, что ли? Или связки лык? Ну так и сказал бы поэт, что раб лег на рогожу… Закон верхних строк. У Есенина:
Будь же ты вовек благословенно, Что пришло процвесть и умереть.А сверху:
Все мы, все мы в этом мире тленны, Тихо льется с кленов листьев медь…Тяжеловато и нарочито. Закон верхних строк.
Три четверти всех строф Маяковского особенно ярко подтверждают эту закономерность.
На цепь нацарапаю имя Лилино И цепь исцелую во мраке каторги. Будто целую покаянными губами В холодных скалах высеченный монастырь.Предоставим читателям самим вспомнить начала этих строф, равно как, листая Маяковского, увидеть там и другие примеры, подтверждающие наше наблюдение.
Если же у поэта сформировались и сформулировались сначала верхние строки (а бывает и так), то приходится подписывать и подделывать, подстраивать, подвязывать к ним нижние строки, а это еще труднее, и тогда нижние строки получаются особенно слабыми. Возьмем того же Маяковского.
Берет, как бомбу, берет, как ежа, Как бритву обоюдоострую…Это вырвалось само, сформулировалось. А дальше? Бог знает что:
Берет, как гремучую в двадцать жал Змею двухметроворостую.Но я-то интуитивно чувствую, что есть высший закон: если возникли две блестящие строки (верхние или нижние, все равно), значит, существуют к ним и вторые соответствующие такие же блестящие строки, надо только их искать. Они непременно существуют, и надо их лишь найти. Не всегда у поэта хватает терпения.
*
Если я прихожу в дом к человеку и вижу у него на столе или на трельяже (у женщины) совершенно затрепанную колоду пасьянсных карт, значит, можно безошибочно сказать, что человек этот очень и очень одинок.
*
Ошанин Лев Иванович, будучи секретарем секции поэтов, бежал, как всегда, в запарке через многолюдный зал ЦДЛ. Навстречу ему попался Юрий Олеша.
— Здравствуйте, Юрий Карлович! Как живете?
— Вот хорошо, хоть один человек поинтересовался, как я живу. С удовольствием расскажу. Отойдем в сторонку.
— Что вы, что вы! Мне некогда, я бегу на заседание секции поэтов.
— Ну… Вы же меня спросили, как я живу. Теперь нельзя уж убегать, надо выслушать. Да я долго не задержу, я уложусь минут в сорок.
Лев Иванович едва вырвался и убежал.
— Зачем же спрашивать, как я живу? — обиженно ему вслед пробурчал Олеша.
*
В Смоленске какая-то комиссия осматривала новую скульптуру Коненкова. Это было изображение русского строителя Федора Коня. Кажется, это был даже проект памятника зодчему.
— А почему он босиком? — спросил председатель комиссии.
— Я ваятель, а не сапожник, — ответил Коненков.
*
Все люди делятся на две категории: на тех, кто сначала съедает лучшие кусочки, оставляя худшие на конец, и на тех, кто сначала съедает худшее.
*
Рыба мечет миллионы икринок, цветок высевает множество семян. Природа работает с запасом, с гарантией. Конечно, выживут не все, а вид должен сохраниться. Но сколько же максимально должно в конце концов остаться от двух особей кого бы то ни было и чего бы то ни было? По самой глубокой и конечной программе?
От двух особей должно остаться в конце концов максимум две особи. Ведь если будет оставаться больше, то один вид заполонит в конце концов всю землю.
*
Пушкин написал замечательное стихотворение о царскосельской статуе. Все его знают.
Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила, Дева печально сидит, праздный держа черепок. Чудо! Не сякнет вода, выливаясь из урны разбитой, Дева над вечной струей вечно печальна сидит.Получилась невольная литературная мистификация. Статуя эта (скульптора Соколова, 1810 года) на сюжет басни Лафонтена называется, увы, «Молочница», всего-навсего молочница, разбившая вовсе не урну с водой, а кувшин с молоком.
*
Писательница Наталья Иосифовна Ильина, прожившая первую половину жизни в эмиграции (в харбинской) и прошедшая там хорошую школу борьбы за существование, обладающая повышенной работоспособностью, повышенной деловитостью (в самом хорошем смысле этого слова) и прямотой суждений, однажды обратилась ко мне (как всегда, на ходу, при случайной встрече на улице, опустив боковое стекло своих «Жигулей»):
— Володичка, ты там переводишь какие-то романы с разных языков. Может, ты составил бы мне протекцию на перевод какого-нибудь романа. Можно потолще. Я, конечно, пишу свой «Семейный альбом», но это долгая песня, а нужны деньги.
Я пообещал, поговорил, где надо, а потом забыл этот эпизод. Через полгода встречаю опять Наталью Иосифовну. Тары-бары.
— Да! А что тогда вышло с переводом романа? Дали они вам?
— Видишь ли… — замялась немного моя собеседница. — Да, спасибо тебе, они мне позвонили и прислали подстрочник. Я прочитала.
— Ну и что?
— Я прочитала и сказала себе: «Лучше смерть».
*
К биографической катастрофе в наше время надобно относиться, как раньше относились к дуэли. На фоне полнейшего благополучия и процветания (и в расцвете лет) на мирном балу или во время мирного виста человек (слово за слово) мог получить вызов. В шесть утра надо стреляться. Так что всегда надо было быть готовым к такому моменту и сознавать (живя), что это может случиться в любой день.
Великолепна запись графа В. А. Соллогуба на этот счет: «Делать было нечего, я стал готовиться к поединку, купил пистолеты, выбрал секунданта, привел бумаги в порядок…»
*
— Из женщин, видите, сидящих за тем столом, которую вы бы предпочли?
— Ту, которая предпочла бы меня.
*
Я понимаю, что сочетание всех частей лица, движение всех мышц лица могут складываться в ту или иную гримасу, в то или иное выражение. Брезгливость, радостная улыбка, огорчение, удивление, испуг, ужас и прочее. Но глаза… Зрачки и белки. Ничего они сами по себе выражать не могут. И однако глаза бывают то стальными и холодными, то медовыми и теплыми, то сияющими, то потухшими, то грустными, то веселыми с прыгающими в них солнечными зайчиками, то озорными с прыгающими в них чертиками, то зовущими, то отчужденными, то восхищенными, то мертвыми, как осенняя вода в канаве… Что же освещает их изнутри, откуда берется этот свет и какова его природа?
*
Книга Марины Цветаевой «Мой Пушкин». Масса интереснейших наблюдений, сопоставлений, ум и страсть. Тем удивительнее, что иногда текст Пушкина прочитывается неправильно. Отчасти виноват в этом и сам текст, доля поэтической неточности или даже небрежности.
Птичка божия не знает Ни заботы, ни труда, Хлопотливо не свивает Долговечного гнезда.«Что же она тогда делает, — спрашивает Марина Цветаева, — и кто же тогда вьет гнездо?»
Мысль Цветаевой здесь в том, что гений может позволить себе подобную вольность: пренебречь очевидностью, прозой жизни. А между тем Пушкин, способный допустить поэтическую вольность, никогда не допускал вольного обращения с фактами, и все дело только в неточности поэтической формулировки, все дело в словечке «долговечного». Вьет-то она гнездо вьет, но не вьет долговечного.
Второй случай немного серьезнее.
Ты ждал, ты звал, я был окован, Вотще рвалась душа моя! Могучей страстью очарован, У берегов остался я.В рассуждениях Цветаевой по поводу этой строфы получается, что Пушкин остался из-за страсти, из-за женщины, а это неверно. Могучая страсть — это его желание уехать, но вот он остается. Остается, как говорится, по не зависящим от него причинам, остается со своей могучей неутоленной страстью уехать, остается, несмотря на то, что могучая страсть и т. д.
*
Толстой в конце своей жизни (в середине жизни он сам скупал землю за Волгой) утверждал, что земля не может быть ничьей собственностью, что она всеобща как воздух, что собственность на землю порождена только человеком и усугублена цивилизацией. Не будем касаться социального аспекта этой проблемы, но вспомним, что каждая птица, когда вьет гнездо, «застолбляет» за собой определенный участок земли. То же самое делают и звери, отмечая особыми метками участки своей охоты и даже воюя за них.
*
В своей книге «Судьба родного слова» А. Югов справедливо возмущается тем, что современные словари русского языка определяют огромные пласты слов как разговорные либо местные, помечая их ярлычками: «разг.», «местн.» и не рекомендуя к употреблению в литературной речи.
Должен признаться, что, исписав (и опубликовав) не одну сотню страниц, я ни разу в жизни не сверялся со словарем: разговорное или не разговорное употребляю словечко. Ну, скажем, «холодок», в смысле тень в жаркую солнечную погоду («Давай посидим в холодке»), помечен как разговорное. Так что же, нельзя его употреблять? Абсурд. Итак, я не боюсь словарных запретов и пометок, и никакие редакторы не запретят мне употреблять слово «холодок». Однако произошел более неприятный и печальный процесс. Возьмем словечки «целик» или «голик». Целиком у нас называют большой нетронутый сугроб снега, а голиком небольшой веничек без листьев (одни только прутья) для обивания ног (валенок) от снега. Эти голики обыкновенно держат на крыльце. Никакие словари и редакторы не запретят мне, конечно, употреблять эти слова. Но ведь хорошо употребить слово (любое), зная, что оно будет понято, найдет отклик в душе собеседника (читателя) и принесет ему радость. Да, я скажу «голик» или «целик», но все равно эти слова окажутся пустым звуком для воспринимателя, если он их слышит впервые. Он даже найдет их в словаре и узнает, что они значат, но радости от этого все равно не получит.
*
Перед Львом Дмитриевичем Любимовым, писателем, возвратившимся из эмиграции, я однажды похвастался, что был в Париже три раза по двадцать дней. Лев Дмитриевич скромно ответил:
— Ну… Я был там один лишь раз. Правда, двадцать четыре года…
*
Полистайте стихи прошлого века.
Где я страдал, где я любил, Где сердце я похоронил. Что без страданий жизнь поэта, И что без бури океан? Ты отстрадала, я еще страдаю. Меня могила не страшит, Там, говорят, страданье спит.Целая книга, наконец, «Страдания молодого Вертера».
Страдание было не просто модным словечком в стихах, но как бы одним из главных «двигателей» поэзии.
Теперь полистайте сборники стихов современных поэтов. Не страдаем. Живем в раю, и все ангелы.
*
Конечно, легче поправить в чужих хороших стихах строку, чем самому написать хорошие стихи, и все же…
Издавна я знаю прекрасное стихотворение Марины Цветаевой о прохожем, по-моему, это одно из лучших ее стихотворений.
Идешь, на меня похожий, Глаза устремляя вниз. Я их опускала — тоже! Прохожий, остановись.И вот там в середине этого стихотворения есть строфа, которую я про себя читал, оказывается, более правильно, чем она есть на самом деле.
И кровь приливала к коже, И кудри мои вились… Я тоже была прохожей, Прохожий, остановись!То есть я тоже проходила когда-то по земле мимо чужих могил, как ты сейчас проходишь мимо моей могилы. Каково же было мое удивление, когда я прочитал:
Я тоже была, прохожий! Прохожий, остановись!Право за автором, но это явно слабее, чем в первом варианте. Итак, стихи эти про себя будем читать по-прежнему.
Между прочим, точно так же улучшил чужую строку Вертинский, этот замечательный русский артист. У Ахматовой было:
Я очень спокойна, но только не надо Со мной про него говорить.Вертинский поет:
Я очень спокойна, но только не надо Со мной о любви говорить.Что лучше в сто раз.
*
Однажды во время литературной декады нас, группу московских литераторов, привезли в отдаленный среднеазиатский колхоз. В колхозном Доме культуры (зал на тысячу мест) предполагалось провести литературный вечер. Во-первых, зал оказался на две трети наполненным детьми, как говорится, младшего школьного возраста. Во-вторых, выяснилось, что собравшиеся не очень хорошо понимают по-русски. Что же делать, о чем говорить, какие читать стихи? Тем не менее приехавшие начали выступать — деваться было уж некуда. Они говорили и декламировали, не думая о том, понимают их или нет, тем более что публика сидела дисциплинированно — тихо, а хлопала оглушительно-долго независимо от того, что было сказано или прочитано.
И вот я почувствовал, что перед не понимающей меня аудиторией не могу выдавить из себя ни одного слова, ни одной стихотворной строки. Ну, не могу, и все. Режьте меня, а я не могу.
*
Рассказывают, что когда в Париже появились первые телефоны, то один аристократ, у которого в доме был телефон, возмущался: «Но я должен бегать на каждый звонок как лакей!»
*
Я убежден, что большая часть сердечно-сосудистых заболеваний возникает за счет современных будильников. Вспомните, как они бьют по нервам, как все сжимается внутри вас от их пронзительного верещания, как вы вздрагиваете, словно при сильном испуге. Раньше будильник начинал тихонько и мелодично вызванивать вальс «Дунайские волны». И вы просыпались под приятные звуки, а не под сигнал боевой наземной тревоги.
*
Толстой был непротивленцем не по внутренней своей сути, а по самовоспитанию. Это у него было благоприобретенное, если не придуманное. Он убедил себя, что он непротивленец, а на самом деле оставался русским офицером, участником кавказской войны и севастопольской обороны. Это видно хотя бы из его реакции на войну 1904 года. На словах он клеймил кровопролитие, а на деле с нетерпением ждал газет, ужасно переживал поражение, возмущался неумением командования, в самой глубине души страстно желал русской армии победы. Какой же непротивленец?
*
Одни считали, что Софья Андреевна Толстая была больным человеком (истерия), другие утверждали, что эта истерия — ее оружие в борьбе с Левочкой за наследство. Теперь уж трудно решить, кто прав, но есть факт: после смерти мужа Софья Андреевна прожила девять лет, и у нее не было больше ни одного приступа истерии.
*
При восприятии окружающего мира, при любовании красотами природы надо знать закон кадра.
Вы едете в Армении по Араратской долине. Белоснежный (розоватый) шатер знаменитой горы висит в синем небе справа от вашей дороги. Вы останавливаетесь и выходите из машины около каменной арки, сооруженной вблизи дороги. Вы взглядываете и замираете в восхищении. Теперь Арарат и часть неба как бы вставлены в рамку, ограничены специально для этого построенной аркой и кажутся еще прекраснее. Из необъятного внешнего мира вычленен кадр. Кадр — это ключик к любованию внешним миром.
Немыслимо на каждом шагу строить арки или носить с собой какой-нибудь прибор, который позволял бы вам видимое пространство (лес, реку, равнину) организовывать в кадр, но умозрительно вы всегда сможете выделить для себя любой кадр из внешнего мира.
*
По закону кадра строится японская поэзия трехстишия и пятистишия. Конечно, остановленным бывает не только зрительное мгновение, но и событийная его сторона, но все равно это всегда остановленное мгновение, кадр.
На желтых камышах Отлив оставил Сверкающий ледок. Я в тени прилег. За меня толчет мой рис Горный ручеек. Дождливый осенний вечер. К соседу, не ко мне Зонтик прошелестел.Когда начитаешься японских трехстиший, то даже японские пятистишия кажутся уже многословными, не говоря о наших стихах длиной с версту. Японцы смотрят и любуются, а не рассуждают. Японец написал бы:
Цветок засохший, безуханный, Забытый в книге вижу я.И на этом остановился бы. Он избежал бы дальнейших рассуждений поэта европейского:
Где цвел, когда, какой весною, И долго ль цвел и сорван кем, Своей, чужою ли рукою И положен сюда зачем? На память тайного свиданья, Или разлуки роковой, Иль одинокого гулянья В тиши полей, в глуши лесной? И жив ли тот и та жива ли И ныне где их уголок, Или оне уже увяли, Как сей неведомый цветок.Может быть, японец обо всем этом подумал бы, глядя на засохший цветок, но подумал бы про себя, предоставив то же самое право и читателю.
*
Раньше по деревням ходили нищие, собиравшие милостыню, особенно в престольные праздники. От дома к дому, и в каждом доме где кусок хлеба, где кусок пирога, где картошину. В округе было двое-трое нищих, которых все уже знали. Так, например, в наших местах Мишка Зельниковский (то есть, значит, из деревни Зельники), Костя Рыбин, Наташа Бурдачевская (из деревни Бурдачево) и был еще Егорка Неражский (из деревни Нераж).
Этот Егорка обладал дефектом речи. Вместо «куски» он говорил «кутьки», а вместо «берем» — «бегем». Вот он придет хотя бы и в наш дом, истово и долго крестится на иконы, смело садится за стол. Его покормят и захотят дать ему с собой еще хлеба или пирога. Тут он начинал сердиться:
— Кутьки не бегем! — кричал он, сердясь на мою мать. — Кутьки не бегем!
То есть куски не берем.
Поесть поест, а кусков не берет. Граница его морали, которую он не переступал. Как-то само собой у меня и у некоторых моих друзей, которым я рассказал про Егорку, это взялось на вооружение. Ведь бывают в жизни случаи, когда то или иное выглядит как подачка. Тут самое время сказать словами Егорки Неражского:
— Кутьки не бегем!
Об издании
Владимир Алексеевич Солоухин
КАМЕШКИ НА ЛАДОНИ
Редактор И. Соболев
Художник А. Гангалюка
Художественный редактор А. Романова
Технический редактор Е. Михалева
Корректоры Г. Трибунская, В. Авдеева
Сдано в набор 16.12.81. Подписано в печать 31.05.82. Тираж 100 000 экз. Цена 65 коп. 271 страница.
Издательство «Молодая гвардия».
Примечания
1
Я опускаю здесь оттенки произношения, не играющие существенной роли. По-польски звучит: яйко мегко, яйко твердо.
(обратно)2
Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона, т, 77, с. 390.
(обратно)
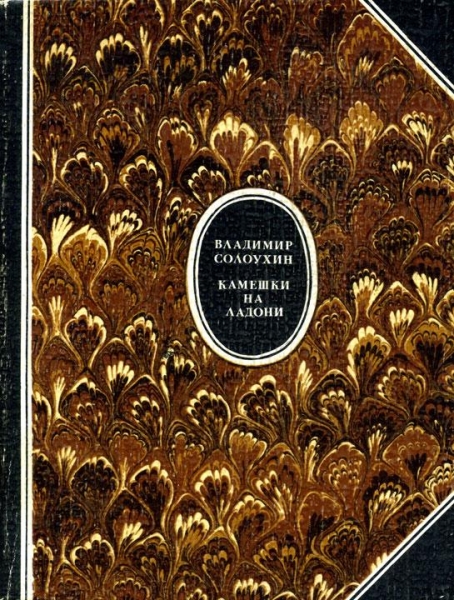






Комментарии к книге «Камешки на ладони», Владимир Алексеевич Солоухин
Всего 0 комментариев