Виталий Александрович Закруткин СОТВОРЕНИЕ МИРА Книга вторая
Глава первая
1
В Москве, на Красной площади,у Кремлевской стены, там, где невысоким шатром темнеет старая квадратная башня, был временно поставлен деревянный Мавзолей. Покрытые масляным лаком, стянутые коваными фигурными гвоздями, светло-коричневые брусья образовали строгое ступенчатое сооружение с площадкой, лестницами, угловыми трибунами и венчающим Мавзолей четырехсторонним портиком с колоннами из темного дуба.
В Мавзолее, в центре обтянутого красно-черной материей подземного траурного зала, на возвышении, под стеклами простого гроба покоилось освещенное двумя люстрами тело Ленина.
Тот, кто потряс злой старый мир, кто впервые привел шестую часть земли к победе над социальной несправедливостью и звал народы к добру и счастью, лежал теперь неподвижно, навеки уснувший…
Лютыми казнями, муками, огнем и кровью пытались враги человечества умертвить людей, воспринявших вечно живое ленинское слово. Не было такой смертной кары, какой не обрушили бы изверги рода людского на каждого, кто стал на ленинский путь. Они утопили в крови германскую революцию и подло, в спину застрелили Карла Либкнехта и Розу Люксембург. Они расстреляли героя баварской революции Евгения Левине. Морозной зимней ночью они утопили в Черном море турецкого коммуниста Мустафу Субхи, его жену и тринадцать товарищей. Руками бандитов-лахтарей они живьем заморозили на льду финских рабочих-красногвардейцев, умертвили на улицах Бухареста сотни участников демонстраций, травили газами американцев-забастовщиков.
Но тщетна была радость врагов. Как не в силах они были погасить свет солнца или остановить ветер, так же невозможно было им заглушить учение Ленина, потому что в нем люди видели свой путь к свободе, справедливости и счастью. На место павших борцов вставали тысячи новых, и ни тюрьмы, ни пытки, ни сама смерть не могли укротить их, поставить на колени.
После поражения гамбургского восстания стали собирать силы немецкие коммунисты. Росла Коммунистическая партия Франции. Несмотря на зверства фашистов-чернорубашечников, террор и провокации, закалялась в борьбе компартия Италии. Несмотря на виселицы, пули и муки в застенках сигуранцы, несмотря на расстрел шестисот повстанцев в Татарбунарах, готовили рабочих к будущим боям румынские коммунисты.
Выходили из своих убогих лачуг литейщики, кочегары, шахтеры, матросы, крестьяне. Они звали за собой всех, кто трудился, но был голоден, и непобедимая, могучая ленинская идея объединяла их ряды, вселяла в них мужество, веру, надежду.
Терзаемые врагами, загнанные в подполье, преследуемые, но мужающие с каждым днем коммунистические партии росли на всех материках. В огромном Китае, ограбленном капиталистами Англии, Америки и Японии, разодранном на клочки волчьей сворой закупленных иностранцами генералов, ширилось революционное движение, крепли ряды коммунистов, близились кануны невиданных боев.
Только одна тысяча человек входила в ту пору в Китайскую компартию. Казалось, это капля в океане. Но за партией была правда, единственная правда жизни, и множество людей, угнетенных, голодных, нищих, обратили взоры к борцам-коммунистам.
На земле не оставалось такого уголка, такой страны, где, подобно искрам в ночи, не светили бы призывы коммунистов. Еще темна была холодная ночь и очень далеким казался рассвет, но посеянные Лениным искры светились везде…
По всей земле, во всех странах, с трудом и отчаянием, с верой и надеждой поднимались борцы за свободу. Они умирали в неравных боях, но их становилось все больше, и объединяло их всех имя — Ленин…
Так, в преддверии весны, когда пригреет солнце и сначала на взлобках степных курганов, на высотах, на гребнях борозд, а потом в низинах, в западинах, начнут таять снега, тихие, бесшумные, еще неприметные, пробиваются наверх первые струмочки талой воды. С каждым днем солнце греет все больше, и все быстрее текут разрозненные ручьи. И вот приходит час — ручьи сливаются в один могучий, неодолимый поток, рушат твердыню реки, с грохотом, шумом и звоном уносят темные, потерявшие блеск льдины к голубому морю. И никто не может остановить победное движение весеннего потока, никто не может удержать под лучами солнца застарелый, ноздреватый, испещренный трещинами лед…
Александр Ставров хорошо знал все, что делается в мире. Минувший год стал «годом признаний» Советского Союза со стороны многих зарубежных государств, и Александру пришлось ездить в Норвегию, Австрию, Швецию, Данию. В конце года он вернулся из последней поездки во Францию, и ему разрешили отдохнуть.
Он по-прежнему жил в квартире Тер-Адамяна. Дотошный адвокат привык к нему и несколько раз повторял:
— Мне жалко будет лишиться такого удобного жильца. Вас почти никогда не бывает дома, и даже не верится, что у меня есть жилец…
Остроту разгоревшейся внутрипартийной борьбы Александр почувствовал в Комиссариате иностранных дел. Не успел он появиться там после очередной поездки, как его сразу поймал в коридоре референт Волошин, прижал в углу и, придерживая за лацкан пиджака, стал убеждать в необходимости голосовать за «оппозиционную платформу».
Волошин никогда не вызывал симпатии Александра. Маленький, тщедушный, измученный хронической экземой, он ходил с забинтованными руками, сутулясь, и от него всегда пахло дегтем и серой.
— Вы, товарищ Ставров, даете себе отчет, что творится в партии?! — зашептал Волошин. — Это уму непостижимо! Нас тянут в мелкобуржуазное болото, затыкают нам рот! Это же катастрофа!
— Подождите! — досадливо поморщился Александр. — О каком затыкании ртов можно говорить, если оппозиционеры открыто печатают свои статьи и выступают сколько им хочется?
— Да, но их никто не слушает, — с детской наивностью пролепетал Волошин. — Но они своего добьются!
В голосе Волошина внезапно зазвучала неприкрытая угроза, тронутое красными пятнами лицо задергалось в тике.
— Я обратился к вам, товарищ Ставров, как к человеку развитому и культурному, — сказал он, — я думал, что вы можете глубже разбираться в вопросах, чем, скажем, товарищ Черных. Если я ошибся, простите.
Александр отодвинул его рукой:
— Очевидно, вы ошиблись, Волошин. Даже определенно ошиблись. Не знаю, насколько глубоко я разбираюсь в партийных вопросах, но взглядов оппозиции не разделяю и, так же как все честные товарищи, считаю их вредными.
Разговор с Волошиным оставил в душе Александра тягостный осадок.
Вечером Александр вышел из комиссариата вместе с пожилым сотрудником протокольного отдела Игнатом Ивановичем Спорышевым.
На улице зажглись первые фонари, и вдоль расчищенных тротуаров, на сумеречном голубом снегу, желтели тусклые отсветы. Мороз усилился. Прохожие сутулились, поднимали воротники пальто, бежали вприпрыжку, постукивая ногами.
Широкоплечий Спорышев, закрывая рукавицей толстый нос, проворчал:
— Берет морозец! — Он повернулся к Александру, тронул локтем его локоть: — Давай, Ставров, зайдем ко мне, погреемся. У меня, кажись, водка в графине осталась, выпьем по стаканчику — на душе полегчает.
Игнат Иванович Спорышев был старый революционер-подпольщик. До революции он лет десять просидел в тюрьмах, потом попал в ссылку, откуда вернулся весной 1917 года. Семьи у него не было. Жил он в неуютной комнатушке, где стояли раскладной топчан, табурет и поломанный стул. За стулом жила ворона с перебитым крылом. Когда-то в Сибири Спорышев подобрал ее на снегу, привез с собой в Москву и поселил в углу.
— Видал мою квартирантку? — спросил Спорышев Александра. — Весьма серьезная личность, с характером. Зовут ее Марфа, тетка Марфа…
Пепельно-серая, с черной головой и черными крыльями ворона вышла из своего убежища, проковыляла, покачиваясь, по полу, издала гортанное «кар-рр».
— Здоровается! — объяснил Спорышев. — Приветствую, дескать, гостя и желаю всяческих благ.
На длинном подоконнике, среди книг и газет, он разыскал графин с водкой, два стакана, коробку консервов и поставил все это на табурет.
— Стола так и не удосужился купить, обхожусь пока табуретом.
Руки у Спорышева были крепкие, рабочие, с узловатыми венами и слегка растопыренными пальцами. Но все, что он ни делал — вытирал ли салфеткой стаканы, резал ли перочинным ножом хлеб или ставил на табуретку тарелку, — выходило у него ловко, спокойно и аккуратно.
— Ну чего ты голову повесил? — сказал Спорышев, когда первая порция водки была выпита. — Напугала тебя катавасия, которую подняли троцкисты? А ты не бойся, голубчик, не впадай в панику. Партия не младенец, она сумеет сплотить свои ряды. И потом, запомни, дружок, троцкистская оппозиция не имеет и не может иметь никакой связи с народом потому, что ее лидеры — типичные авантюристы в политике. Конечно, они могут принести немало вреда — сбить с пути отдельных неустойчивых рабочих, посеять в душах сомнение, — но партию никакая оппозиция с пути не собьет.
— Они, по-моему, стали уже сколачивать свою оппозиционную партию, — сказал Александр. — Ездят по губерниям, выступают с докладами, строчат директивы и указания, рассылают их на места.
Спорышев махнул рукой:
— Все это известно! Однако партия и народ отлично понимают, куда могут завести страну троцкистские извращения, и, если надо будет, сумеют дать оппозиции по рукам, можешь в этом не сомневаться.
Он поднялся, походил по комнате, кинул вороне корку хлеба, присел на топчане рядом с Александром.
— Ничего, молодой человек! Это издержки. Понимаешь? Когда в мире совершается гигантская работа, сора не оберешься. А придет час — расчистим мы свое хозяйство, выбросим в мусорный ящик щепки, грязь, всякие ошметки, подметем каждый уголок, и засверкает у нас все чистотой…
То короткое время, которое Александру довелось провести в Москве, научило его многому. Он убедился, что, несмотря на истерическую суету оппозиционеров, жизнь шла своим чередом. Вступали в строй восстановленные заводы, и рабочие по утрам заполняли трамваи, вокзалы, просторные автобусы, привезенные из-за границы. По улицам сновали первые выпущенные в Москве автомобили. Всюду пестрели вывески кооперативных магазинов. Щедро были заполнены продуктами московские рынки. И люди — рабочие, продавцы, дворники, почтальоны, бесчисленные служащие учреждений — спокойно выполняли свою работу. Наблюдая все это, Александр проникался гордостью за партию, верил в то, что партия сумеет преодолеть большие и малые преграды и выполнить заветы Ленина.
Однако к чувству радостной гордости примешивалось горькое чувство одиночества. Он заставлял себя ходить вместе с Черных в клуб, знакомился там с девушками, но, к удивлению своего друга, тотчас же становился молчаливым и пасмурным.
Довольно часто Александр посещал клубные вечера и дискуссии. Это было время, когда оппозиционеры, вербуя себе сторонников, выступали в заводских и вузовских клубах, в совпартшколах, на рабфаках. Александр терпеливо слушал их нервические выступления, крикливые реплики, бесконечные споры и удивлялся тому, как иногда простые, малограмотные рабочие одним ловко сказанным словом разбивали самые хитроумные филиппики оппозиционеров и выпроваживали их из зала.
Такую сцену Александр наблюдал однажды в небольшом клубе завода «Серп и молот», где от имени оппозиции выступал некий Трухачев.
После выступления мрачного, каркающего, как ворон, Трухачева попросил слова молодой рабочий-литейщик. Это был ничем не примечательный белобрысый парень в серой робе, с черными, изъеденными металлом руками. Сунув за пояс кепку, он вышел на сцену и заговорил, повернувшись к Трухачеву:
— То, что вы тут рассказывали, мы уже слышали не раз: и это, мол, у нас плохо, и этого не хватает, и в мировой революции задержка произошла. Словом, если сказать попросту, на всякие подковырки и укусы вы — образованные люди. А вы вот выйдите сейчас и скажите: что нам, рабочему классу, надо делать? Только точно и ясно скажите. Разойтись с крестьянством? Этого вы желаете? Так на это рабочие не пойдут.
— Правильно, Вася! — закричали из зала.
— Погодите! — отмахнулся литейщик. Он шагнул ближе к столу и отчеканил: — Нам хорошо известно, чего вы желаете, что прикрываете своим бузотерством. Поэтому надевайте пальтишко — на дворе холодно, — берите вашу котиковую шапочку и катитесь отсюдова!
Аплодисменты заглушили белобрысого литейщика. Вняв его совету и видя настроение рабочих, злой и сконфуженный докладчик, пятясь, ретировался за кулисы.
Александр возвращался домой один. На предпоследней остановке он вышел из трамвая и, делая круг, медленно пошел к Красной площади. Стоял ясный морозный вечер. В небе, резко очерченная, полная, светила луна. Голубоватые лунные отсветы, неясно смешиваясь с желтыми огнями города, создавали странное розовое, ровное свечение в котором неподвижно темнели силуэты редких деревьев, сверкали снеговой выпушкой карнизы домов, радужно вспыхивали натянутые над улицами трамвайные провода.
На Красной площади людей было меньше. Она белела, покрытая снежной пеленой. Изредка вдоль Верхних торговых рядов, скрипя снегом, проносились извозчичьи сани или мчался окутанный светлым паром автомобиль, и снова наступала тишина.
На передней площадке ленинского Мавзолея, у главного входа, стояли одетые в полушубки и валенки часовые. Александр прошел совсем близко, на секунду остановился, склонив голову. Часовые не пошевелились.
2
Небольшой флигелек, крытый замшелой, зеленоватой от времени черепицей, стоял в глубине обширного школьного двора. Шаткое крыльцо флигеля покосилось, сползло в сторону, и весь он, ветхий, облупленный, с подслеповатыми оконцами, прятался за высокими штабелями дров, между которыми петляла протоптанная в снегу узкая тропинка.
До революции в этом флигеле размещались сторожа пустопольского бакалейщика Липатова. Дома и магазины Липатова были конфискованы и переданы трудовой школе. Сейчас флигель именовался кабинетом природоведения, в нем хозяйничали старый учитель Фаддей Зотович и Андрей Ставров.
В трех комнатушках флигеля стояли ящики с рассадой, на стенах висели картонки гербария, чучела птиц. По углам в деревянных клетках жили зайцы, кролики, черепахи, степные кобчики. Между двумя окнами, накрытый газетами, стоял длинный стол — святая святых кабинета природоведения. На столе в строжайшем порядке располагались микроскоп, скальпели, пинцеты, стеклянные колбы, цилиндры, пробирки — все, что составляло для Андрея предмет преклонения.
Каждый свой свободный час Андрей проводил в кабинете. Рано утром, до уроков, он отмыкал висячий замок на дверях, кормил животных, отмечал в журнале температуру, потом бежал на занятия, а после обеда усаживался за заветный стол и надолго приникал к окуляру микроскопа. Андрей помещал под линзы все, что попадалось под руку: тонкие срезы древесины, капли воды, крови, яичного желтка, молока, кусочки кожи, рыбьей чешуи. Он неутомимо резал, составлял различные растворы, рисовал, чертил, и перед его жадными, удивленными глазами возникал мир невиданный, сложный, полный неразгаданных тайн.
— Ты не горячись, молодой человек, не бросайся на все сразу, — сдерживал своего рьяного ученика Фаддей Зотович, — выше себя не прыгнешь. Истинные знания покоятся на твердой системе, а не на ребяческих прыжках. Привыкай работать последовательно, не торопись и не рассеивай внимание…
Слушая поучения любимого учителя, Андрей краснел, давал слово остепениться, день-два безропотно выполнял несложные, связанные с очередной темой задания, а потом, увлекаясь, снова закладывал под микроскоп крылья мух, лепестки комнатных цветов, овечью шерсть, капли колодезной воды, супа, древесного сока…
Вязкая, живая, перед взором Андрея неуловимо дышала протоплазма разделенных оболочкой клеток — комочки простейшей жизни: шевелили ресничками инфузории, в строгом порядке мерцали волокнистые пучки древесины.
«Черт его знает, как мудрено устроена жизнь! — думал Андрей. — И разве можно все это понять до конца?»
Отодвинув микроскоп, он шагал по комнате, подолгу стоял у окна, всматривался в темные зимние облака, в заснеженные улицы, на которых уныло чернели неподвижные деревья, и странное чувство овладевало им: ему начинало казаться, что сам он, Андрей Ставров, бессмертен так же, как вечная, постоянно обновляющая себя материя — от облаков до клетки земляного червя.
Довольно часто в кабинет забегал Виктор Завьялов. Он отогревал у печки руки, вытаскивал из кармана кусок хлеба и, поглядывая на Андрея, презрительно спрашивал:
— Опять с мышиной кишкой возишься?
— Угу, — вздыхал Андрей, — опять вожусь.
— Надо это тебе, аж некуда! Пока ты будешь потрошить своих лягушек, мы с Павлом да с Гошкой борцами станем, каждый день практикуемся, уже почти все правила выучили.
— Для этого особого ума не требуется! — ядовито ронял Андрей.
Однажды Виктор пришел в кабинет, выждал, покуривая, пока Андрей закончит вечернее кормление животных, и сказал насмешливо:
— Хочешь полюбоваться своей Елочкой? Пойдем со мной, я тебе покажу, как она развлекается. — Не дождавшись ответа, он тронул Андрея за руку: — Пошли, пошли…
— Куда? — спросил Андрей.
— Недалеко, в больничный садик.
— А что там такое?
— Сам увидишь…
Они вышли на улицу. Вечерело. Снег розово искрился. В свежем, влажном воздухе слышался запах дымка, разбросанного по дороге сена, навоза. Закутанные шалями женщины несли на коромыслах ведра с водой. Во дворах протяжно мычали коровы, лениво взлаивали собаки.
Расстегнув дубленый кожушок и сунув руки в карманы, Андрей шел рядом с Виктором, ждал, что он скажет.
— Так вот, рыжий мой друг, — задумчиво проговорил Виктор, отводя взгляд от товарища, — зря ты сохнешь по Еле: она из молодых, да ранняя, барышню из себя строит, ей не нужны такие увальни, как мы с тобой.
— Это я уже слышал, — буркнул Андрей.
Виктор взял его под руку:
— На днях к Рясным, Елиным соседям, приехал из города сын, студент. Такой, знаешь, кавалер в черной шинели. Его зовут Костей, и учится он на инженера — не то в политехническом, не то в технологическом…
— Ну и что же? — спросил Андрей, чувствуя, как у него отливает кровь от лица и сжимается сердце.
— Позавчера Костя Рясный познакомился с Елей. Они но соседству живут. Не знаю, как там получилось: не то Еля прибежала зачем-то к Рясным, не то этот городской кавалер зашел к Солодовым. — Искоса глянув на Андрея, Виктор проговорил быстро и грубо: — Дурак ты, Андрюшка, последний дурак! Понятно? Сейчас Елька с Костей в больничном саду гуляют. Взялись за ручки и прохаживаются по дорожке. Я их видел, когда шел к тебе.
Откусив и выплюнув кончик папиросы, Андрей сказал глухо:
— Что ж… пойдем полюбуемся…
И пока они шли по окраине села, Андрей с болью вспоминал все, что было связано с Елей: первую встречу в школе, прогулку в лесу, подаренный Елей ландыш… Да, он не нравился ей, этой красивой, избалованной девчонке. Разве могла она оценить его глубокую отроческую влюбленность, его полное радости и робости чувство, если все вокруг искали ее расположения, преклонялись перед ней, уверяли ее в том, что лучше ее нет никого на свете?
— Вот они, — мотнул головой Виктор, — имею честь представить.
Андрей увидел их — высокого юношу в длинной шинели с барашковым воротником и Елю. Одетая в синее пальто и серую вязаную шапочку, Еля шла по снеговой дорожке, весело улыбаясь, размахивая шарфиком, поскрипывая сапожками с короткими голенищами, над которыми были видны обтянутые светлыми чулками колени. Должно быть, студент рассказывал Еле что-то смешное, она звонко смеялась, отмахивалась шарфиком, и ее лицо с ярким румянцем во всю щеку, с чуть удлиненным ртом и ясными глазами сияло молодой радостью и торжеством.
— Видал? — коротко бросил Виктор.
— Пойдем им навстречу, — сквозь зубы проговорил Андрей.
Тень высокого забора скрывала товарищей, и Еля не сразу увидела их, хотя прошла совсем близко, потряхивая вплетенным в косичку лиловым бантом.
Не дожидаясь Виктора, Андрей пошел следом и, когда Еля обернулась, сказал отрывисто:
— Здравствуйте! Я, кажется, помешал?
Незнакомый студент посмотрел на него, удивленно подняв бровь, а Еля густо покраснела, затеребила шарфик.
— Нет, зачем же? Вы не помешали. Знакомьтесь.
— Спасибо, но, кажется, я все же помешал вам, — загораживая дорогу, сказал Андрей.
— Да нет, что вы! — смутилась девочка. — Мы гуляли, и Костя рассказывал…
— Мне безразлично, что вам рассказывал Костя, — грубо перебил Андрей, — мне на это наплевать! Я знаю только одно: если люди мне мешают, я честно говорю им об этом…
Круто повернувшись и не обращая внимания на Виктора, Андрей зашагал прочь. Любовь и ненависть боролись в нем, он шел все быстрее, не оглядываясь, и ему казалось, что теперь он перестанет жить, потому что самое дорогое безвозвратно ушло из его жизни…
С этого вечера Андрей стал избегать Ели. Хотя Виктор сказал ему, что Еля плакала от незаслуженной обиды, что она не встречалась больше с Костей и тот уехал из Пустополья, не понимая, что, собственно, произошло, — Андрей только рукой махнул:
— Пожалуйста, не напоминай мне о Еле, хватит…
До изнеможения сидел он над книгами, носил воду, рубил дрова, рисовал Тае цветы для вышивки, а после обеда запирался в кабинете природоведения и работал до глубокой ночи. Чем дальше шло время, тем отчетливее обнаруживался в Андрее перелом от отрочества к юности. Голос его окреп, слегка огрубел, движения стали тверже. Самое же главное, что занимало теперь Андрея, были мысли о жизни, и эти мысли, пугающие его своей значительностью, овладевали им все сильнее.
«Зачем человек живет? — думал он, шагая по кабинету и торопливо, чтобы не застал Фаддей Зотович, куря папиросу. — Зачем жили мой прадед, дед, наш мерин Бой, которого отец продал на ярмарке, собака Кузя? Зачем живут тополя и черешни в нашем саду, инфузории, бациллы? Зачем я живу?» Он пытался найти ответ на эти вопросы, но ни книги, ни Фаддей Зотович, ни микроскоп, под которым шевелился, двигался, мерцал таинственный мир мельчайших существ, не могли объяснить Андрею, зачем он живет и что является целью человеческой жизни.
«Не может быть, чтоб человек жил просто так, без цели, как живут крапива или веслоногий рачок, — думал Андрей. — В отличие от рачка, у человека есть разум, и, значит, он может и должен знать цель своей жизни».
Когда Андрей рассказал Фаддею Зотовичу о своих мыслях и попросил объяснить, зачем живет человек, старик выколотил трубочку-носогрейку и проворчал:
— Рановато тебя стала тревожить эта штука. Твое дело — учиться, играть в снежки, закалять тело. А придет время — ты сам попробуешь разобраться во всем.
— Но вы-то разобрались? — спросил Андрей.
— Ишь ты, чего захотел! — усмехнулся учитель. — До этого надо доходить своим умом, это тебе не таблица умножения. — И, посерьезнев, заговорил тихо: — Над этим вопросом, молодой человек, люди бились веками. Одни говорили, что наше счастье в наслаждении, другие — в служении ближнему, третьи — в свободе, четвертые — в любви, пятые — в труде. Я же, грешным делом, пришел к выводу, что человеку нужны и труд, и любовь, и свобода, и наслаждение — словом, все доброе, что человек может получить на земле.
— А что для этого надо делать? — спросил Андрей.
Фаддей Зотович погладил ладонью небритую щеку, вздохнул:
— Ох, братец, сделать надо немало! Прежде всего надо стянуть с человека грязную ветошь и надеть на него чистую одежду. Надо избавить душу человеческую от подлости, от зависти, лжи, жестокости, лени. Надо разбить скорлупу эгоизма на человеке, а то он, этакий себялюбец, уверен в том, что его персона — центр вселенной. Надо, юный мой мыслитель, приучить нравственно изуродованного, искалеченного человека к мысли о том, что не только он, а все люди одинаково хотят жить, работать, любить. Ты думаешь, это легко, так себе, ерунда? Дескать, раз-два — и обновленный человек выскочил из купели с ангельскими крыльями? Нет, дорогой мой философ, тут перед нами — вернее, не перед нами, а перед тобой, потому что я уже поглядываю на кладбищенскую дорогу, а перед тобой все впереди, — долгий, мучительный, полный труда, страданий и радости процесс…
Старик обнял костлявыми руками колено, посмотрел на Андрея, закачался на табурете.
— Вот подрастешь немного, познакомься с тем, что пишет Ленин. Не читал? А ты почитай. Сильно пишет, остро, беспощадно. Для него, братец ты мой, путь к счастью людскому ясен, и нет у него ни сомнений, ни колебаний: надо, говорит, идти вперед — и никаких отступлений…
После разговора с Фаддеем Зотовичем Андрей взял в школе книгу Ленина «Пролетарская революция и ренегат Каутский». Весь вечер, уклоняясь от настойчивых расспросов Таи, он читал эту книгу, пытался понять ее, но понял только одно: Ленин зло развенчивает «водолея», «начетчика», «чернильного кули» Каутского, называет его «сикофантом буржуазии» и предателем.
— Что такое сикофант? — спросил Андрей у Марины.
Та подняла голову от тетрадей:
— Не знаю. Откуда ты взял это слово?
— В книжке попалось, — объяснил Андрей.
На следующий день он вернул книгу в библиотеку и решил, что ему рано читать такие серьезные книги. Однако даже это глубоко научное, еще не понятое Андреем произведение Ленина произвело на него незабываемое впечатление. Он подумал: «Фаддей Зотович прав, Ленин знает, куда надо идти…»
Классные занятия Андрей посещал аккуратно, не пропускал ни одного урока. Когда сидевшие с ним на задней парте Павел Юрасов и Гошка Комаров начинали дурачиться, мешали слушать, он незаметными пинками останавливал друзей, а на перемене говорил с досадой:
— Бросьте вы, честное слово! Из-за вас придется переходить на другую парту, ведете себя, как сосунки…
И вместе с тем Андрей умел буйствовать: затевал драки в школьном дворе, задирал девчонок, самозабвенно играл в футбол и не раз, к ужасу Марины и Таи, возвращался домой с разбитым носом или с багровым кровоподтеком на скуле.
Как-то в самый разгар футбольного состязания, когда мокрый от пота Андрей бегал за мячом по двору, его отозвала Клава Комарова.
— Чего тебе? — спросил Андрей, подхватив горсть набухшего, влажного снега и слизывая его с ладони.
— Очень умно! — покачала головой Клава. — Весь потный, а снег лижешь…
— Ты меня не учи! — огрызнулся Андрей. — Говори, зачем звала.
Клавины глаза стали совсем узкими щелками.
— Давай отойдем к дровам, чтобы никто не услышал.
Скрытая от взоров мальчишек высокими штабелями дров, Клава стащила правую рукавичку, слегка коснулась руки Андрея теплой ладонью:
— Приходи сегодня вечером к Любе.
— Зачем? — поднял глаза Андрей.
— У нее девочки соберутся и ребята.
— Какие девочки?
— Еля…
Губы Андрея дрогнули.
— Еля?
— Да.
Андрей ковырнул пальцем белую кору березового бревна.
— Это что ж… Еля просила, чтоб я пришел?
— Еля, конечно. Но не только она.
— Кто же еще?
Клава зажмурилась, засмеялась тихонько:
— Я, например…
— Ты?! — удивился Андрей. — Зачем это я тебе понадобился?
Белая шерстяная рукавичка взметнулась перед щекой Андрея.
— Просто так, ни за чем… Соскучилась по тебе, — промурлыкала Клава.
Перед вечером Андрей стал приводить себя в порядок: сбегал в парикмахерскую, подрезал свой непокорный чуб, намыленной щеткой отмыл жесткие, обветренные руки, начистил кремом и до блеска натер суконкой сапоги. Тая заметила его необычное состояние и спросила хитровато:
— Ты в кабинет природоведения, Андрюша?
— Да, в кабинет, — кивнул Андрей.
— Для кого же ты так наряжаешься? Для лягушек?
— Отстань! — досадливо крикнул Андрей. — Сама ты лягушка!
Из дому он вышел в сумерках. Над крышами вставала оранжевая луна. Еще держался легкий февральский морозец; тонкая корка льда лопалась под ногами, трещала; тяжелый снег оседал, темнел незаметно; от него шел свежий, проникающий в самую грудь запах земли и талой воды. Андрей шел по тропинке вдоль забора, старательно, чтобы не испачкать сапог, обходил стянутые ледком лужи, и на душе у него было легко и радостно. Он подумал было, что это ощущение беззаботной и легкой радости связано с тем, что он увидит Елю, но тотчас же вспомнил сцену в больничном саду и помрачнел.
Чувство ревности Андрей испытывал впервые в жизни. Он не мог понять, что с ним творится, и все больше растравлял себя, в сотый раз представляя, как Еля, размахивая шарфиком, шла по снежной аллее, румяная, оживленная, и рядом с ней высокий юноша Костя Рясный. Представляя все это, Андрей как будто вновь подмечал каждую мелочь: сбитое дятлами крошево древесины на снегу, темную тень забора, розовое мерцание наледи на кривых ветвях старых яблонь. Самое же главное — он снова и снова видел торжественное, живое и светлое выражение на румяном лице Ели, и сейчас оно казалось Андрею самым обидным и оскорбительным. «Когда минувшей весной она говорила там, в лесу, со мной, у нее было совсем другое лицо, — с болью и яростью думал Андрей. — Там у нее не было таких ясных глаз, такой улыбки, там ничего этого не было…»
На секунду Андрею захотелось вернуться, чтобы не видеть Елю, он даже приостановился на перекрестке, но его бросило в жар, и он зашагал еще быстрее. Не видеть Ели, не слышать ее голоса, не говорить с ней он уже не мог, это было выше его сил.
С бьющимся сердцем отворил он окрашенную желтой охрой дверь домика, в котором жили Бутырины, разделся медленно, а когда вошел в Любину комнатушку, то уже не помнил себя.
Опрятная, вся увешанная занавесками, салфеточками, вышивками, крохотная комнатушка была до одурения жарко натоплена. Вокруг накрытого цветастой скатертью стола, у лампы, с картами в руках сидели Виктор Завьялов, Павел Юрасов, Люба Бутырина, Гоша и Клава Комаровы. Еще даже не видя никого, не различая лиц, Андрей в первое же мгновение понял, почувствовал, что Ели в комнате нет. Ели действительно не было.
— Проходи, Андрюшенька, садись! — приветливо сказала Люба.
Андрей оправил ремень, смущенно взъерошил волосы, присел на свободный стул.
— Ну, как там лягушки поживают? — ухмыльнулся Гошка Комаров.
— Лягушки зимой спят, — авторитетно заметила Люба, — и даже такой великий ученый, как Андрей Дмитриевич Ставров, не может их разбудить.
Молчаливый Павел Юрасов, лениво щелкая потертыми картами, подмигнул Андрею:
— Дело не в лягушках, правда? Нас интересует другое: для чего мы рождены на свет и что из этого следует?
— Меня сейчас больше всего интересует кусок хлеба, — неожиданно сказал Виктор Завьялов. — Батьку моего сократили, уже третью неделю безработным ходит. Поехал он в Ржанск, думал устроиться, а там счетоводов — как нерезаных собак, десятками на бирже труда околачиваются.
Толстушка Люба, по-утиному переваливаясь, заходила по комнате, накрыла стол полотенцами, поставила тарелки с медом, с орехами:
— Садитесь, философы, забавляйтесь орешками.
Дружно застучали ложки. Соперничая друг с другом и хвастаясь перед девчонками, ребята стали разбивать грецкие орехи кулаками, давить их ладонью; поднялся шум, хохот.
Облизывая измазанные медом губы, Клава склонила голову к Андрею, зашептала вкрадчиво:
— Андрюша, за печкой стоит сундучок, иди посиди там, я сейчас тоже приду и скажу тебе что-то…
В отгороженном занавеской уголке за печкой было неимоверно душно. Андрей присел на сундучок, расстегнул ворот сорочки, подумал с недоумением: «Что Клавке нужно, не понимаю! Она ведь говорила, что придет Еля, а теперь путает, вертит хвостом».
Над занавеской, в противоположном углу комнаты, неярко синел огонек лампады, освещая украшенную серебром икону, вышитое полотенце, резное блюдо на стене. Выше, на потолке, смутно обозначался синеватый по краям круг. «Дьякон сам молится и дочку приучает к молитвам, а она в комсомол поступать хочет», — усмехнулся Андрей. Он поднялся с сундука и хотел уйти, но Клава загородила ему дорогу:
— Подожди немного, какой непоседливый!
Она легонько подтолкнула его в угол и, сдавив плечо, опять усадила на сундук. Поправляя волосы, охорашиваясь, присела с ним рядом.
— Что ж ты молчишь? — испытывая неловкость, спросил Андрей.
Клава, слабо улыбаясь, перебирала пальцами бахрому ковра на сундуке, не сводя глаз смотрела на Андрея.
— Что ты хотела мне сказать? — насупился Андрей. — Говори, а то некрасиво получается: сидим в закутке, как жених с невестой.
— Ты будешь летом приезжать к нам в Калинкино? — зашептала Клава. — У нас возле мельницы сад хороший, пруд, будем купаться вместе. Это же недалеко — всего три версты от вашей Огнищанки.
— Не знаю, — сказал Андрей, — летом у меня работы по горло — то косовица, то молотьба, некогда вверх глянуть.
Тронув его руку липкой от меда рукой, Клава заговорила грудным голосом:
— Ты Елю ждешь, да? Я знаю, не отказывайся. Только ради Ели ты и пришел сюда, правда? Не волнуйся, она придет. Ее оставили дома часа на три, пока родные вернутся. Она обещала прийти.
В полумраке наблюдая за Андреем, Клава заметила, как просветлело его лицо, когда она заговорила о Еле. Он понял, что она заметила это, нахмурился, но его выдали глаза, счастливая улыбка, то состояние общей растерянности и взволнованности, которое при всем желании он не мог скрыть.
— Нам всем жалко тебя, Андрюша, — ласково сказала Клава. — Ты лучше забудь про Елю. Она совсем не такая, как ты. Она и сейчас знать тебя не хочет, а потом уедет в город, и ты никогда ее не увидишь…
«Да, да, — подумал Андрей, — это правда, надо кончать это ребячество. Надо забыть Елю, не думать о ней. Вот окончу школу, уеду в деревню — и все…»
Так он уговаривал себя, покусывая губы, слушая Клавин шепот. Но как только скрипнула входная дверь и сидевшие за столом ребята хором закричали: «О! Елечка! Еля!» — он вскочил, чуть не опрокинув Клаву. Сдерживая в себе бешеное желание бежать навстречу Еле, с нарочитой медлительностью он вышел из-за печки, остановился посреди комнаты и стал вытирать ладонью горячий лоб.
В черном, очевидно материнском, кружевном шарфе и расстегнутом синем пальто, осыпанная бисером тающих снежинок, Еля стояла у порога и, звонко, заразительно смеясь, отбивалась от окруживших ее ребят.
— Дай я тебя поцелую, Елочка! — восторженно заорал суматошный Гошка.
— И я тоже! — пробасил Виктор Завьялов.
— И я, — довольно уныло сказал Павел.
Еля послушно подставила щеку одному, другому, третьему и встретилась взглядом с Андреем, который все так же стоял в стороне и глаз с нее не сводил.
— Может, и мне можно? — несмело глуховатым голосом спросил Андрей.
Полуоткрытые губы Ели дрогнули в усмешке.
— Можно…
Андрей шагнул к ней, прижался губами к румяной от холода щеке.
Почти весь вечер он молчал, украдкой, исподлобья наблюдая за Елей. Она смеялась, шутливо перебранивалась с неугомонным Гошкой, щебетала с Клавой и Любой и только изредка, словно нехотя, посматривала на Андрея и тотчас же отворачивалась. За все время она не сказала ему ни слова, ни разу не обратилась к нему. Даже когда ребята и девчонки, раскрыв книжки, уселись вокруг стола и стали готовить уроки, Еля села подальше от Андрея, приникла к пухлому Любиному плечу и закрыла глаза…
Расходились около полуночи шумной ватагой. Виктор и Гошка, дурачась, забрасывали девчонок снежками. Натянув на брови черную мерлушковую шапку, Павел Юрасов шагал рядом с Елей, бережно придерживая ее за локоть. Андрей шел сзади опустив голову.
Возле освещенных окон почты остановились, стали прощаться.
— Может, ты, Андрюша, проводишь Елочку? — невинно позевывая, сказала Клава.
Еля посмотрела на нее укоризненно:
— Меня Павлик проводит.
— До свидания! — отрывисто сказал Андрей. — Я пошел…
Он свернул в переулок и побрел безо всякой цели, не думая, куда идет. Неясная белизна набрякшего влагой снега не могла пробить густую тьму ночи, но и в ночной темноте, невидимая, еле слышная, бередила душу первая предвесенняя капель. То одна, то другая, с крыш срывались ледяные сосульки и, коснувшись завалинок, разлетались с тонким стеклянным звоном. С юга тянуло легким ветерком, и было в этом свежем степном ветерке, вобравшем в себя запахи тающего снега, земли и прелых листьев, столько неизъяснимой прелести, столько молодой силы и радости, что Андрей снял шапку, засмеялся и запел тихо, бессвязно.
«Крепко тебе надо знать, зачем живет человек, — беззлобно и весело подумал он о себе. — Придет время — узнаешь, а сейчас счастье в одном — в том, что рядом с тобой по земле идет девочка, которую так хорошо назвали Елей, Елочкой…»
И Андрею на миг показалось, что вокруг нет людей, нет домов, нет ничего, только протоптанная в снегу тропа, которая ведет его, Андрея, к зеленому дереву, к стройной, пушистой ели, такой прекрасной, такой зеленой, такой живой, что хочется упасть перед ней на колени и петь о вечной любви…
3
Ростепельным мартовским днем в Огнищанку возвращался освобожденный из ржанской уездной тюрьмы Антон Агапович Терпужный. Ехал он в повозке младшего брата, Павла, привозившего на базар ячмень и случайно встретившего Антона Агаповича возле церкви. Захлюстанные по брюхо кони медленно брели в талой воде, колеса несмазанной повозки однообразно скрипели. Снег уже сошел, обнажил бурую, всю в лежалых бурьянах землю, только по западинам да по негустым перелескам белели снежные пятна.
Небритый, похудевший Антон Агапович, подняв капюшон брезентового дождевика, надетого поверх полушубка, сидел молча, слушал подвыпившего брата. Павел тряс рыжей бороденкой, покрикивал на коней, обстоятельно рассказывал обо всем, что произошло в деревне за время отсутствия Антона Агаповича.
— Демка Плахотин лес возит на усадьбу, строиться думает… Участок ему дали за прудом, возле Тимохи Шелюгина… Этот, Лука Горюнов, верблюдицу свою продал, жеребят купил. Там такие, тоис, жеребята, глядеть тошно, на драных котов смахивают. «Я, — говорит, — ими всю свою земельную норму обработаю, ни шматка земли в аренду не сдам…» А Лукерья десятину отдала Шелюгину за пятнадцать пудов озимой, себе полдесятины оставила. «Мне, — говорит, — хватит». Колька Комлев сулился вспахать ей весной под яровую и под картошку…
Павел поерзал, подмащивая под себя сенные объедки, косо глянул на старшего брата:
— Ты, тоис, слыхал про Пашку, про дочку свою?
— А чего с ней такое? — повернул голову Антон Агапович.
— Дак, это самое, она, тоис, теперь дома, с матерью, живет.
Моржовые усы Терпужного шевельнулись.
— Сбежала, шалава, от Степки или как?
— Да нет, там вроде другое приключилось, — ответил Павел. — Мне уж люди с Костина Кута пересказывали. Лесник, говорят, с Казенного леса, Пантелей Смаглюк, стал, тоис, до Пашки захаживать. Как Степан со двора, так он и заявляется. Ну и спутался, значит, с Пашкой. А Степан вроде застал их ночью чуть ли, тоис, не в кровати. Пантелей убег в одном бельишке, а Пашку Степан в кровь избил и выгнал из хаты. «Иди, — говорит, — отсюдова, чтоб и ноги твоей тут не бывало, чтоб, тоис, и духом твоим не пахло».
— Та-ак, — с натугой выдавил Терпужный, — порадовала дорогая доченька родителей, ничего не скажешь.
Он поежился, оправил брезентовый капюшон, стер холодные брызги грязи с колючей щеки.
— Ну а Степан как? Один живет или же взял кого?
— Вроде один покудова, — неопределенно протянул Павел. — Старуха какая-то ходит к нему, готовит и хату прибирает.
— Та-ак…
Антон Агапович замолчал. Впервые за всю жизнь почуял он в крепком своем теле слабость, а в душе глухую, сосущую тоску. Это тягостное чувство появилось у него не сейчас, не в связи с тем, что он узнал о единственной дочери, а гораздо раньше, там, в тюрьме. Он и сам не знал, откуда она взялась, эта проклятая тоска. Лежа на деревянных нарах в тюремной камере, Антон Агапович понял: все люди идут куда-то в незнакомую жизнь, ломают все то, чем жил он, Антон Терпужный, и только немногие, те, кто сидел вместе с ним в камере, еще цепляются за привычное, старое, еще ждут поворота к прежнему и надеются. Но кто были эти немногие, его друзья по несчастью? Злобный старичок помещик, который в слепой ненависти своей отравил стрихнином общественного бугая; бывший штабс-капитан, колчаковец, который командовал карательным отрядом, вешал людей, а теперь направлялся по этапу в Иркутск; верзила сектант, придурковатый мужик, который оскопил себя, отрезал груди у жены и дочери и по целым дням бубнил про «голубиный дух» и про близкое пришествие господа бога на ржанскую землю. Такими же были и все другие обитатели камеры — конокрады, бандиты, поджигатели, растратчики, воры.
Наблюдая за этой пестрой оравой разнузданных, озлобленных людей, Терпужный думал: «Раскололся мир, лопнул, как арбуз на бахче, и ничем его теперь не склеить. Одни идут, сами не зная куда, другие назад глядят, за привычное держатся, а силы у них никакой, жмут их под ноготь, как последнюю тварину…»
И все же подавил в себе слабость Антон Терпужный. Как ни сосала его тоска, как ни болело сердце, а решил он твердо: «Не поддамся». Для него существовало только одно на свете — дом, в котором он родился, усадьба, земля, и он был уверен, что все это нерушимо и постоянно, как солнце и луна, что это единственное неизменно в неверном, мятущемся мире.
По приезде домой Антон Агапович до полусмерти избил Пашку. Бил молча, неторопливо, долго волочил по полу, полосовал ремнем с медной пряжкой, потом заставил воющую Мануйловну затереть кровь, взял вилы и пошел чистить конюшню.
— Все запоганили, лодыряки! — ворчал он, осматривая усадьбу. — Только и знают, что бока греть на печке!
До вечера Антон Агапович вычистил конюшню, коровник, овчарню, сложил разбросанный по всему двору навоз, обгреб скирды сена и соломы, а когда свечерело, наспех поужинал и стал надевать полушубок.
— Ты куда на ночь глядя? — спросила Мануйловна.
— До фершала пойду, — буркнул Антон Агапович.
— Занедужал, что ли?
Антон Агапович хлопнул дверью:
— Занедужал от таких дураков и лодырей…
У Ставровых он застал Силыча. Дед сидел на корточках у горящей печки, беседовал с Настасьей Мартыновной, которая крошила лапшу и раскладывала ее на длинной доске.
— А где ж хозяин? — осведомился Терпужный.
— В амбулатории, — сказала Настасья Мартыновна. — Садитесь, подождите немного, он скоро освободится.
Терпужный степенно присел на табурет.
— Так вот, Мартыновна, у нас по деревням водился такой стародавний обычай, — не обращая внимания на Терпужного, продолжал дед Силыч. — Аккурат на весеннее равноденствие, девятого марта, каждая хозяйка птичек из теста пекла, жаворонков. А почему? Потому, значит, что в этот день праздник сорока мучеников, которые над птахами командуют, и сорок разных пташек вертаются с юга, до дому летят. Ворона или сорока и те девятого марта вьют гнезда из сорока палочек.
— А кто их считал? — спросила Настасья Мартыновна.
— Нашлись добрые люди, посчитали, — усмехнулся дед Силыч. — Ну а ребятишки с печеными пташками выходили девятого на толоку, песню такую пели: «Ой вы, жаворонки, летите вы в поле, несите здоровье: первое — коровье, второе — овечье, третье — человечье…» Видишь, голубка, как оно получалось: сперва, значит, корова, а потом уж человек.
— Все это дурость мужицкая, — презрительно обронил Терпужный.
— Дак ведь оно как сказать, — пожал плечами Силыч. — Земля да коровка кормили мужика, потому их на первое место и ставили, уважение и почет оказывали. Недаром же и присказка такая была, когда бабы хлебом весну встречали: что весна, мол, едет на сохе, на бороне, на кобыле вороне.
Терпужный махнул рукой:
— Насчет присказок все мы добре мараковали, а до работы не дюже себя приохочивали, каждый желал на дурницу хлеб получить…
На ходу вытирая полотенцем руки, вошел Дмитрий Данилович, поздоровался с Терпужным, открыл дверь в спальню и сердито сказал читавшей журнал Кале:
— Ступай найди Романа или Федора, пусть коням принесут на ночь сена. Поразбегались, черти, а голодные кони ногами топают так, что в амбулатории бутыли звенят.
— Я до вас, Митрий Данилыч, — слегка приподнялся Терпужный. — Дельце у меня небольшое есть.
Он покосился на деда Силыча, думая, что тот уйдет, но старик сидел как ни в чем не бывало, разглаживал на колене соломинку.
— Что у вас? — спросил у Терпужного Дмитрий Данилович. — Здоровье пошаливает? На что вы жалуетесь?
Антон Агапович почесал затылок:
— Да нет, здоровье у меня слава богу. Я по другому делу, по хозяйственному.
Он заговорил медленно, отсекая слово от слова и лишь изредка поднимая глубоко запавшие, в красных прожилках глаза:
— Находясь в городе Ржанске, в заключении, слыхал я про то, что у нас в уезде выставку сельскохозяйственную на осень плануют. Даже и место для нее очищают в монастырском подворье… Мне довелось там по своему желанию недели три работать на вольных работах. Так вот, разговор я имел с одним ржанским агрономом, и он рассказывал, что любой, дескать, работящий хлебороб может чего хочет на выставку представить — коня, корову, овощ, зерно, — абы все это было его трудом выращено. И еще тот агроном разъяснял, что за самые лучшие образцы скота или же зерна хозяева будут дипломы получать и премии — это уже деньгами.
— Я слышал про выставку, — сказал Дмитрий Данилович. — Летом к нам в Огнищанку должен из волземотдела уполномоченный приехать — отбирать экспонаты.
— Вот, вот, — кивнул Терпужный, — по этому делу я и зашел до вас. Брат мой Павел Агапович слыхал от кого-то, что вы, Данилыч, в прошедшем году яровую пшеницу на семена из губернии выписали, длинноколосую арнаутку.
— Не только выписал, но и опробовал ее под лесом, — сказал Дмитрий Данилович. — Там у меня зеленого пара десятина была, я засеял ее длинноколосой арнауткой и взял с этой десятины девяносто пудов.
Дед Силыч крякнул:
— Видал я эту вашу пшеничку, любовался ею, как она красовалась, чистая да ровная. И зернецо в ней твердое, ясное, прямо как стеклышко, а кожечка тонкая.
Терпужный разгладил ладонью шапку, просительно глянул на фельдшера:
— Вот и желается мне, Митрий Данилович, десятинку этой арнаутки посеять по прошлогодней бахче, выходить ее как положено, а осенью в Ржанск на выставку определить, Пора же нам по призыву Советской власти культурно хозяйствовать.
— Давно пора.
— Известное дело. Так я, к примеру, и пришел до вас насчет семенов этой самой арнаутки длинноколосой, чтоб, значит, купить, по какой цене вы назначите, или поменять на озимую.
— Арнаутка у меня чищеная, — Дмитрий Данилович насупился, — два раза пропущенная через триер. Сколько ж вы мне за нее озимой дадите?
— Так на так не пойдет? — спросил Терпужный.
— Нет, не пойдет. Моя арнаутка зерно в зерно, хоть кутью из нее вари.
Толстые пальцы Терпужного забегали по черному смушку лежавшей на коленях шапки.
— Ну вот чего, — сказал он, подумав, — за десять пудов арнаутки я дам двенадцать пудов озимой. У меня ведь озимая тоже на всю волость славится.
— Меньше пятнадцати не будет! — отрезал Дмитрий Данилович. — Я сам собирался посеять ее десятины три…
«Хитрый, чертяка, — с некоторым даже одобрением подумал Терпужный, — такого вокруг пальца не обведешь».
Дмитрий Данилович в свою очередь заключил: «Брешешь, хапуга, меня ты не обдуришь, я стреляный воробей…»
Все же Терпужному удалось сговориться на тринадцать пудов. Кроме того, он пообещал Ставрову пуд семенной кукурузы «миннезота-экстра» и кружку семян какой-то диковинной, стофунтовой тыквы. Семена эти Антон Агапович — он подробно об этом рассказал — выменял у цыганки на ржанском базаре за кувшин сметаны.
— Там такая тыква, что руками не обхватишь, — похвалился Терпужный, — сама беловатая, а мясо в ней желтое и сладкое, как сахар.
— Бери, сосед, — посоветовал дед Силыч, — может, и мне какая семечка перепадет для посадки.
— Ладно, — сказал Дмитрий Данилович Терпужному, — берите арнаутку и сейте с богом. Авось на самом деле диплом получите на выставке.
Антон Агапович поднялся:
— А чего ж такого? Ничего тут мудреного нету. Я сам себе так размышляю: Советская власть дала мужику земельку, грамоте учит, а также разным агрономическим правилам, — значит, мужик, крестьянин то есть, обязан вести хозяйство культурно, расширять посевную площадь и все такое прочее.
— Это ж за чей счет ты, Антон, площадь расширять намерен? — с нарочитым равнодушием спросил дед Силыч. — Арендовать будешь у Тютина, у Сусакова или же у Лукерьи? Так ведь оно, обратно, как при царе, вся земля у тебя окажется, а, скажем, богом прибитый Тютька пойдет с сумой побираться.
С неприязнью глянув на старика, Терпужный не удостоил его ответом и обратился к фельдшеру:
— Слыхал мудреца, Митрий Данилыч? Мелет языком, сам не знает чего. «При царе, при царе…» А то ему невдомек, что пустая земля, ежели она у Тютина или у Сусакова остается непаханой да несеяной, никакой пользы Советской власти не приносит.
Уже взявшись за ручку двери, Антон Агапович закончил в сердцах:
— Из-за таких глупаков у нас и недостачи бывают. Земли себе нахватали, а по ней бурьяны растут да суслики цельными полками скачут. Крепко это Советской власти нужно — голодранцев множить. А по-моему, так должно быть: нечем тебе земельную норму свою обработать — не лежи на ней, как кобель на сене, отдай другому, тому, у кого и скотинка имеется и ума поболе, нежели у тебя…
Возвращаясь домой, Антон Агапович ворчал всю дорогу:
— Голодная шатия… весь век без хлеба сидели, ни на что не годны, а туда же, поперек дороги встают… опора Советской власти… Недаром они себе за начальника выбрали такую сволочь, как безмозглый Длугач… За его спиной они и хоронятся…
После памятного ночного обыска и сидения в тюрьме Терпужный не мог без ненависти и отвращения вспоминать имя Длугача, но пятимесячное заключение не прошло для Антона Агаповича бесследно: он решил до поры до времени прятать свои чувства и не лезть на рожон. «Черт с ним, с Длугачем, — думал он, — придет час, мы с ним, с этим нечистым духом, расквитаемся сполна. А покудова буду перед ним шапку скидать и кланяться за десять шагов: доброго, мол, здоровья, дорогой наш председатель Советской власти, желаю, мол, вам удачи во всех ваших делах…»
— Недаром говорится, что тюрьма человека не красит, — сказал дед Силыч фельдшеру, когда Терпужный ушел. — Подался наш Антон, с тела спал, с лица схудал, а норов тот же остался: чуть чего — сразу же, как скаженный бык, вниз глядит и землю копытами роет.
— Но хозяин он все же добрый, — возразил Дмитрий Данилович, — этого у него не отнимешь. Человек работящий и толк в земле понимает.
Дед Силыч укоризненно цыкнул языком:
— Каждый хлебороб толк в земле понимает. Вот Антошка Терпужный любого бедняка лодырем именует, а ведь бедность, голуба моя, не оттого пошла, что человек работать ленился, а оттого, что с давних времен неправда промеж людей завелась, надвое их разделила: одному землю дала, богатство, а другого лишила всего. Богатому же завсегда его богатства мало, он жадный и ненасытный, потому он и давил бедняка, три шкуры с него сдирал. И хотя Советская власть землю по справедливости поделила, у таких, как Терпужный, и скотина осталась, и вся справа хозяйская — от косилки до бороны. И разве ж может с ним тягаться бедняк Сусаков или хворая Лукерья, у которой, окромя бесхвостой кошки, ничего в хате нет? Я и гадаю: раз у нас есть Терпужный, Шелюгин, раз они земельную норму у бедняков арендуют, батраков наймают и помалу богатеют, значит, еще не вся правда Советской властью установлена.
— Ну это вы напрасно, — сказал Дмитрий Данилович, — у нас все имеют одинаковые права.
— Права-то, конечное дело, имеют одинаковые, да карманы разные — у одного порожний, а у другого под завязку червонцами набит. Вот, голуба ты моя, и смекай — установлена правда или не установлена?..
Старик стал долго и нудно рассказывать о том, как, по его мнению, следует «установить правду» — поделить поровну не только землю, но и скотину, и весь инвентарь, и даже хаты, — но, заметив, что усталый фельдшер не слушает его, повздыхал и ушел.
Однако, несмотря на усталость, Дмитрий Данилович не мог спать. Закрыв глаза, он слышал тихую возню жены, хлопотавшей у печки, слышал, как, негромко переговариваясь и чему-то смеясь, в конюшню прошли сыновья, как, встречая их, коротко заржали кони, но все эти звуки доходили до Дмитрия Даниловича откуда-то издалека и не нарушали его глубокого раздумья.
Разговор с Терпужным оставил на душе у Дмитрия Даниловича неприятный осадок. «Чего я с ним торговался? — с досадой упрекнул он себя. — Не хотел дать ему пшеницу, так бы и сказал, а то начал вести торг, как цыган, пятнадцать пудов за десять потребовал, кружку тыквенных семечек в придачу взял… тьфу!»
Уже давно Дмитрий Данилович начал замечать в себе какую-то неприятную жадность. Жеребилась ли кобыла или телилась корова, отбивался ли от корня яблони молодой отросток, стерегли ли сыновья арбузы на бахче — Дмитрий Данилович ничего не упускал из виду. Он жалел, что корова привела не телочку, а бычка; осторожно выкапывал и пересаживал яблоневую отбойку; часами ходил по бахче, пересчитывал арбузы и дыни и мысленно прикидывал, сколько денег за них можно взять на базаре. За каждый расклеванный воронами арбуз, за каждый сломанный початок кукурузы Дмитрий Данилович ругал сыновей последними словами, а под горячую руку и поколачивал.
Два раза в месяц он ездил в Ржанск на базар, продавал пшеницу, кукурузу, сало, жмыхи. За четыре года жизни в Огнищанке он купил новую бричку с люльками, новую сбрую, два плуга, бороны, веялку, решета, дважды переменил лошадей и коров, приобретая все более породистых и дорогих, и всему этому не было конца. Хозяйство Ставровых росло как на дрожжах, земля из года в год рожала хлеб, скотина и птица плодилась, но мечты и желания Дмитрия Даниловича были беспредельны. Он уже подумывал о косилке, о триере, не прочь был купить по случаю и конную молотилку.
Иногда, принимая в амбулатории больных, Дмитрий Данилович чувствовал, что растущее хозяйство мешает ему, что он стал мало читать, меньше интересовался медицинскими новинками. В такие минуты он спрашивал себя: «На кой черт мне сдалось это хозяйство? Все равно через три-четыре года дети разъедутся, и я окажусь у разбитого корыта». Иногда, досадуя на себя, он решительно говорил: «Нет, надо сдать половину земельной нормы, продать одну лошадь, свиней… все это засасывает, как непролазное болото… Надо оставить себе десятин пять и на этом заканчивать музыку».
Но как только Дмитрий Данилович после приема больных обходил двор, прислушивался к призывному ржанию жеребят, запускал руку в засыпанный чистым зерном закром или вдыхал запах подсыхавшей на ветру соломы, необоримое стремление ехать в поле, на базар, брести по пахоте за сеялкой, чистить скребницей жеребую кобылу, сеять, выращивать, подсчитывать урожай и приплод вновь овладевало им, и он, подвижный, крикливый, бегал по двору, размахивал короткими руками и ругал сыновей: «Опять бороны стоят вверх зубьями! Опять у свиней нет подстилки! Дармоеды! Белоручки! Барчуки!..»
Сейчас, после ухода Терпужного и деда Силыча, Дмитрий Данилович думал о своих посетителях: «Вот двое огнищан родились в одной деревне, трудились на одной земле, а люди они разные. Терпужный, как старая сосна, пускает корни все шире и глубже, все загребает в свое подворье, а дед Колосков совсем другой: ему важно, чтобы установить правду, а в чем эта правда, он и сам не знает».
Подумав это, Дмитрий Данилович вдруг почувствовал, что он, фельдшер Ставров, сын полунищего мужика, тоже стал чем-то похож на Терпужного — то ли хозяйской цепкостью, то ли жадностью, то ли скуповатостью, над которой втихомолку потешались дети.
— Чего ты надулся, как сыч? — Настасья Мартыновна тронула мужа за плечо. — Пора спать, ребята уже давно уснули.
— Дай-ка мне чего-нибудь поесть. — Дмитрий Данилович потянулся.
Лениво пережевывая холодные вареники, он проследил за тем, как жена натужно ворочает тяжелые чугуны с телячьим пойлом, и спросил, отодвинув тарелку:
— Настя! Тебе не надоело все это?
— Что? — не поняла Настасья Мартыновна.
— Корова, свиньи, гуси, индюки — вся эта чертовщина.
Настасья Мартыновна выпрямила спину, глянула удивленно:
— С чего это тебе вздумалось спрашивать?
— Просто так…
— Конечно надоело. Ты бы попробовал хоть один день повозиться на кухне да во дворе. Посмотри, на кого я стала похожа. Так у меня с чугунами и с индюками весь век пройдет…
Дмитрий Данилович виновато вздохнул. В самом деле, когда-то красивая, веселая, Настасья Мартыновна осунулась, похудела, на ее темном от загара лице появились морщины, руки огрубели. А ведь она и не жила еще по-настоящему. Шесть лет он пробыл на войне, а когда вернулся, начался голод и пошла полоса скитаний. Теперь, казалось бы, когда все это было позади, можно бы и пожить по-человечески — так нет, развели хозяйство, залезли в навоз, в каждодневные заботы и за ними не видели просвета.
— Ладно, Настя, — сказал Дмитрий Данилович, тронув жену за локоть, — вернется Андрей, отправим Романа и Федю учиться, а хозяйство начнем помаленечку свертывать. Ни к чему оно нам сейчас…
В этот вечер он принес из амбулатории старый фельдшерский справочник и, шевеля губами, бормотал до полуночи:
— «Магнезиум сульфурикум — три раза в день при запорах… Натриум бикарбоникум — двухпроцентный раствор для промывания желудка… Таннальбинум — кишечное вяжущее…»
Утром же, как всегда, Дмитрий Данилович на заре разбудил сыновей и послал их в амбар веять овес, почистил конюшню, засыпал коням смоченной половы с отрубями, проверил, как заспанная Каля доит корову, полюбовался задиристым индюком и ушел к Терпужному, у которого должны были собраться все огнищанские хозяева — решать вопрос о пастухе и выпасах для скотины. И как только Дмитрий Данилович вышел из ворот, глянул на озаренные солнцем крыши, на белесый парок на холме, вдохнул тяжеловатый, резкий запах оттаявшей мокрой земли, от его вчерашнего настроения не осталось и следа.
Во дворе у Терпужного, на завалинках, уже сидели десятка полтора мужиков. Покуривая махорочные скрутки и сплевывая сквозь зубы, они разговаривали о предстоящем севе, лениво следили, как в долине с голых еще верб вспархивали недавно прилетевшие грачи.
— Давайте начинать, что ли, а то целый день на эту говорильню потратим, — позевывая, сказал Аким Турчак.
— Что ж, начинать так начинать.
— Выходи, Демид, рассказывай!
Старший из братьев Кущиных, Демид, разглаживая темные усы, заговорил излишне громко, как говорят неумелые ораторы:
— Так вот, граждане! Все года пастухом у нас был дед Колосок Иван Силыч, человек вам известный. Ничего плохого мы про него сказать не можем, потому что он еще у барина за пастуха ходил лет, должно быть, сорок и эту квалификацию знает. За каждую голову скота мы вышеуказанному Силычу по осени выплачивали по пять пудов пшеницы, и никто на него не жалился. Теперь же кое-кто из граждан — Шелюгин Тимофей Леонтьич, Турчак Аким, Терпужные оба, Антон и Павел, а также гражданин Тютин Капитон Евсеич — не желают наймать пастуха и вносят предложение пасти скот всей деревней поочередно, или же, сказать, сегодня чтоб пастух был с одного двора, а завтра с другого…
— Правильно! — подтвердил Турчак. — А то чего же получается? У меня дома сидят два дармоеда, а я за корову да за телку должен десять пудов пшеницы выложить.
— Какое, граждане, будет предложение по пастуху? — спросил Демид.
— Дай-ка я скажу. — Дед Силыч поднял руку.
Он привстал с завалинки, снял шапку:
— Не слухайте вы этих крикунов, иначе загубите скотину! Я не набиваюсь до вас в пастухи, можете другого взять, скажу только, что без пастуха никак невозможно. Тут ведь надо знать, когда худобу пасти, когда ей отдых дать, напоить. Надо, голубы мои, в травах понятие иметь, чтобы не потравить скотину чемерицей, беленой, чистотелом, чтоб не спортить молоко полынком или же сурепкой… Разве ж ваши ребятишки управят стадо как положено? Они вам выгонят коров на росу, а коровы вздуются или телята изойдут поносом.
— Чего там говорить! — перебил Дмитрий Данилович. — Старик прав, нечего тут мудрить, надо его оставлять пастухом.
Аким Турчак забрызгал слюной:
— Ну и наймай его для себя, а мы сами желаем пасти худобу, так что ты нами не командуй.
— Сядь, Аким, не скачи! — поморщился Николай Комлев. — Никто тут не командует, как народ решит, так и будет. Я, к примеру сказать, тоже стою за то, чтоб Иван Силыч остался пастухом.
— Правильно — нехай остается!
— На черта он нужен!
— Гребет, старый чертяка, по пять пудов с головы!
— Паси сам, дуроляп, ежели тебе несручно!
Долго пререкались мужики, но все же сторонники деда Силыча одолели. Братья Терпужные и Аким Турчак остались в одиночестве. Антон Агапович Терпужный попробовал уговорить Силыча сбавить цену до трех пудов с головы, но обиженный дед уперся, хватил шапкой о завалинку, закричал:
— Хапуга! Говорить с тобой не желаю! Походил бы под дождем, на ветру да по жаре, небось и пяти пудов не схотел бы, сквалыга! Одно знаешь — в закром себе сыпать, а с людей готов сорочку содрать!
Деда утихомирили. Вопрос о выпасах решили довольно быстро: по весне выгонять стадо на толоку за прудом, раз в неделю допускать легкое стравливание сенокосных угодий, а после жатвы пасти на отавах.
Когда сходка закончилась, Антон Терпужный запряг коней и повез Дмитрию Даниловичу пшеницу на обмен. Кукурузы он дал не пуд, как было уговорено, а десять фунтов. Что касается прославленных, добытых у ржанской цыганки тыквенных семечек, то Антон Агапович вовсе не привез их — пообещал прислать в субботу.
— Вот уж действительно сквалыга! — сплюнул Дмитрий Данилович. — На любую мелочь скупится.
Настасья Мартыновна посмотрела на мужа непонимающими глазами, сказала глухо:
— От Андрюши письмо получили — Марине очень плохо. Андрюша пишет, что звали врача и врач сказал, что дело серьезное. Возьми почитай письмо, оно там, на столе.
Закрыв лицо руками, Настасья Мартыновна заплакала.
4
Болезнь подкралась к Марине незаметно. Ранней весной она ходила из Пустополья в соседнее село Лужки хоронить умершую от скарлатины девочку-ученицу. День был холодный, пасмурный, по дорогам блестели лужи. Марина вернулась домой разбитая, с мокрыми ногами и тотчас же легла в постель. Ночью она изнывала от жара, грудь заложило, она стала кашлять.
— Ты, мамуся, не ходи в школу, — сказала Тая. — Я попрошу Ольгу Ивановну, чтобы она освободила тебя от уроков.
Но Марина в школу пошла, и ей стало хуже. Начались боли в груди, кашель усилился. Неделю она пролежала дома, обложенная подушками, почти ничего не ела, а по ночам просыпалась вся в поту и надрывно кашляла. Только на десятый день она попросила Андрея:
— Сходи, Андрюша, за врачом.
Андрей привел доктора Сарычева. Заросший, нечесаный, похожий на дикобраза, Сарычев редко протрезвлялся. Он вошел с грохотом, кинул в угол суковатую палку, провел пятерней но взлохмаченной черной бороде.
— Ребята, марш отсюда! — зарычал он. — А вы, мадам, разоблачайтесь!
Выслушал он Марину быстро, небрежно, постукивал костяшками пальцев, дышал в лицо спиртным перегаром, устрашающе перекосив рот, приникал ухом к спине больной.
— Температура к вечеру повышается? — прокаркал Сарычев, отводя от Марины задернутые пьяной мутью глаза. — Руки холодные? Мокроты при кашле есть? Угу. А сердцебиение? Сердце чувствуете? Напрасно, его чувствовать не положено. Та-ак, так…
Сарычев присел к столу, оторвал от тетради клочок бумаги, забормотал успокаивающе:
— Ничего страшного, легкая простуда… Сейчас мы вам пропишем жаропонижающее, ну, скажем, хинин… На ночь пейте стакан теплого молока и обтирайтесь одеколоном с уксусом. Ерунда, мадам, до свадьбы заживет… — И, откинувшись на спинку стула, внезапно кольнул Марину острым, проясненным взглядом: — Скажите, красавица, у вас в семействе никто не болел чахоткой? Мать болела? Отлично. Превосходно. Даже умерла от чахотки? Чепуха, вы не умрете. Мы вот еще пропишем вам бром, специально для успокоения нежных дамских нервов. Лежите спокойно, мир за окном останется в целости, пусть его судьба вас не волнует. Пейте свои лекарства и поправляйтесь.
Так же небрежно, лениво он ополоснул под умывальником руки, едва вытер их переброшенным через спинку кровати полотенцем и сказал задумчиво:
— Вы так молоды, милушка, а у вас уже такой взрослый сын.
— Эго племянник, — слабо улыбнулась Марина, — у меня только дочь.
— Ах, племянник? Ну это, в сущности, все равно…
Нахлобучив черный картуз, Сарычев взял палку.
— Вот что, мадам… У вас при откашливании появятся мокроты, могут даже, это самое, появиться с кровинками… Вы не пугайтесь… Пусть ваш племянник забежит ко мне, я исследую вашу мокроту… Так, на всякий случай… Засим имею честь кланяться…
Вопреки требованиям доктора Сарычева, Марину интересовал «мир за окном». Она жадно расспрашивала Андрея и Таю обо всем, что делается в школе, подолгу наблюдала, как резвятся мальчишки и девчонки на школьном дворе, думала об Александре, вспоминала Максима. Обессилевшая, слабая, она лежала, вытянув поверх одеяла маленькие руки, послушно пила подносимые Таей лекарства и тихим голосом говорила ей:
— Ты, Таенька, хозяйничай теперь. Сходи с Андрюшей на базар, купите все, что надо, и варите обед.
Марина обстоятельно перечисляла, сколько следует купить картофеля, луку, подсолнечного масла, яиц, и учила Таю, как надо готовить. Так проходили дни. За чисто протертыми стеклами окна, над длинной крышей школы, проплывали белые облака; сквозь открытую фортку вливался запах бесчисленных ручейков апрельской талой воды; на деревьях верещали, высвистывали прилетевшие с юга скворцы.
С каждым днем Марина чувствовала себя все хуже. К боли в груди прибавились странная одышка, головокружение, ознобы. Но чем хуже чувствовала себя Марина, тем красивее становилась она: голубые глаза ее блестели, слегка припухшие, сухие губы были полуоткрыты, на щеках появился яркий румянец.
— Какая ты красивая, мамуся! — ласкалась к ней Тая. — В тебя влюбиться можно, честное слово…
Когда у Марины появилась испещренная кровяными прожилками мокрота и она испугалась, увидев, как проступает на носовом платке розовое пятно, Андрей пошел в больницу к Сарычеву. Вместе с Андреем пошел Виктор Завьялов, который в последнее время избегал дома и после уроков бесцельно ходил по улицам, чтоб только не слышать причитаний мачехи и ругани отца.
— Ты знаешь, почему доктор Сарычев стал пьяницей? — спросил Виктор.
— Не знаю, — сумрачно ответил Андрей.
— Говорят, от него в двадцатом году жена сбежала с проезжим красным командиром. Смазливая, говорят, была и моложе доктора лет на двадцать. Он на нее молился, жить без нее не мог. А она повисла на шее у лихача-кудрявича и укатила с ним. С тех пор доктор и запил. От него уже спирт в больнице прячут, но разве он не найдет спирта? День и ночь пьяный бродит. Его бы давно уволили, да, говорят, умнейший врач, и руки у него золотые.
Доктор Сарычев пригласил приятелей в свой кабинет. Он, только что закончил прием больных и сидел у распахнутого окна, сосал камышовый мундштук с погасшей скруткой.
— А-а, роскошный племянник очаровательной тетушки! — сказал он, узнав Андрея. — Проходи, садись вон туда, на кушетку, гостем будешь.
Он стащил с себя несвежий халат, растер ладонью густо поросшую черными волосами могучую грудь.
— Ну как больная? Не поправилась?
— Нет, кашлять стала сильнее и мокроту с кровью отхаркивает.
— Угу, — промычал Сарычев, — веселое дело…
Открыв дверцу окрашенного белой краской застекленного шкафа, он достал большую колбу со спиртом, щурясь, налил в мензурку, хлебнул один раз, второй, сплюнул в круглую плевательницу, походил по кабинету.
— Ладно, юноши, посидите маленько. Сейчас я приведу себя в надлежащий вид и пойду врачевать вашу тетушку.
Андрей и Виктор молча сидели на кушетке. Сарычев надел потертый на рукавах полувоенный китель, рассовал по карманам какие-то склянки, выпил у шкафа еще одну мензурку спирта, остановился у кушетки, заведя руки за спину и слегка покачиваясь.
— Дорогие мои юнцы, — заговорил он снисходительно, — для того чтобы не сделаться несчастными, никогда не желайте быть счастливыми. Живите только настоящим, не думайте ни о прошлом, ни о будущем. Одно настоящее истинно и действительно, остальное — ерунда, мыльный пузырь… И потом, юные мои друзья, не бойтесь одиночества. Каждый человек может быть самим собой, только пока он одинок. Я познал это на собственной шкуре, в избытке познал. И еще я познал, что все прохвосты очень общительны, но это дефектные экземпляры человеческого рода. Поэтому запомните, юнцы: ничему не верить, не любить, не ненавидеть — вот главное…
Резко захохотав, Сарычев хлопнул Андрея по плечу:
— Пошли, мальцы, а то неловко получается: тетушка ждет исцелителя, а исцелитель занимается философическими разговорами.
Прихватив палку, он прошагал по коридору, зажмурился на улице от солнца, неожиданно схватил Андрея за локоть:
— А знаешь, юноша, эта твоя тетушка поразительно, дьявольски похожа на… на одну мою знакомую. Была у меня лет пять назад хорошая знакомая… те же глаза, те же волосы… Д-да, бывает же такое сходство!
У Марины доктор присмирел. Говорливость его исчезла. На этот раз он тщательно выслушал больную, заходил то спереди, то сзади и дважды и трижды прикладывал ухо к больным бокам Марины, угрюмо, настороженно слушал хрипы в груди и, словно боясь ошибиться, начинал все сначала, повторяя про себя:
— Д-да, милая красавица, в нижних дольках мелкие, влажные хрипы, а вверху суховатые. М-мм… Ну-ка еще раз… Еще… Так, теперь дайте-ка свое сердечко, послушаем его тоны. Что ж, тоны чистые, но глухие.
Закончив осмотр, Сарычев присел на стул, охватил руками колени и впервые посмотрел Марине прямо в глаза.
— Итак, милушка, — сказал он, подбирая слова, — болеть вам придется долго, гораздо дольше, чем мне хотелось бы. Огорчаться при этом не следует, мы постараемся вас вылечить, если… если вы будете послушны. Вам надо хорошо питаться, есть побольше жиров, дышать чистым воздухом.
— А что у меня? — спросила Марина, заглядывая Сарычеву в лицо.
— М-мм, — замялся Сарычев, — болезнь ваша имеет мудреное название — метапневмонический бронхит. Я вот взял на исследование мокроту, пусть ваш племянник зайдет ко мне денька через три, мы установим точно.
А через три дня, когда Андрей зашел в больницу, пьяный доктор встретил его в коридоре, затащил в кабинет, притворил дверь и сказал мрачно:
— Юноша, вы знаете, что такое активный туберкулез? Слышали? Оч-чень приятно! Так вот, не хотелось мне вас огорчать, но увы…
Он сжал плечо Андрея, заговорил с жесткой требовательностью:
— Ей, больной, ни в коем случае не говорить этого… и девочке, дочке, тоже не говорить. Вы взрослый юноша, должны понимать, что в жизни позволено и что не позволено.
В глубоком раздумье Сарычев взял руку Андрея в свою, потом отпустил, пожал плечами:
— Спасти ее нельзя, можно только облегчить ее конец.
Выпив спирта и сплюнув за окно, он спросил:
— У нее, у больной, родственники есть?
— Есть, мои отец и мать, — сказал Андрей и добавил, почему-то краснея: — И потом, мой дядя Александр, он живет в Москве.
— Родственникам надо сообщить, чтоб позаботились о судьбе девочки.
— Хорошо, я сегодня же напишу.
С жалостью и страхом вспомнил Андрей глаза Марины и спросил, сдерживая дрожь в голосе:
— А она долго проживет?
— Кто знает, — развел руки Сарычев, — может, месяц, может, два, не больше. Во всяком случае, до осени она не дотянет: уж очень бурно протекает у нее процесс.
Сарычев подтолкнул Андрея к двери:
— Ступайте, скажите ей, что ничего опасного нет и что я буду заходить… — И, придерживая Андрея за рукав, он пробормотал растерянно: — Я вам не говорил, юноша, что она похожа на одну мою знакомую? Говорил? Угу. Ну, ступайте.
С этого дня начались мучения Андрея. Он написал два коротких письма: одно — родным, в Огнищанку, другое — Александру, в Москву. В комнату, где лежала Марина, он входил молча, стараясь ступать потише, и отводил взгляд от ее худеющего прекрасного лица. К Тае Андрей стал относиться с какой-то небывалой, удивившей его самого нежностью и теплотой. Он часто обнимал ее, неловко и смущенно терся щекой о Таины мягкие, как пух одуванчика, волосы и твердил:
— Ничего, Тайка, ты не бойся и не волнуйся, все будет хорошо.
— А чего мне волноваться? — недоумевала Тая.
— Вот я же и говорю: нечего волноваться…
На уроки он приходил молчаливый, задумчивый, на вопросы преподавателей отвечал неохотно, вяло, а больше сидел, подперев кулаком щеку и опустив голову. Многие учителя и ученики расспрашивали Андрея о Марине, допытывались, можно ли проведать ее, но он, помня слова Сарычева, говорил сдержанно:
— Она чувствует себя неважно, ее нельзя беспокоить…
«Вы не знаете, что она умирает, — думал он в отчаянии, — и я не могу сказать вам об этом».
Все же Андрей не выдержал и рассказал о своем горе Еле. Получилось это так: Еля, которая никогда не подходила к Андрею и ни о чем его не расспрашивала, встретила его в темном коридоре и спросила:
— Это правда, что Марина Михайловна тяжело больна?
— Да, правда, — потупился Андрей. — Ей очень плохо.
— Может, мне можно ее навестить?
— Нет, нельзя. К ней никто не ходит.
— Почему?
Забыв о том, что он всегда называл Елю на «вы», Андрей легко притронулся к рукаву ее пальто:
— Пойдем, Еля, я тебе все расскажу. Только поклянись никому не говорить об этом, даже отцу и матери.
Они вышли во двор, остановились у ворот. Мимо школы, по залитой жидкой грязью, пылавшей отсветами солнца дороге двигались телеги, хлюпали копытами кони. По деревянным настилам у заборов носились ребятишки. Забрызганный грязью белый петух, расхаживая по высокому штабелю дров, задирал вверх голову и пронзительно кукарекал.
— Знаешь, Еля, — тихо сказал Андрей, — тетя Марина умирает.
— Что ты? — отшатнулась девочка. — Не обманывай меня!
— Я не обманываю тебя, — глядя в землю, сказал Андрей, — она умирает от туберкулеза и проживет недолго. Так сказал доктор.
Слова о смерти, произнесенные в этот теплый весенний день, когда синее небо словно струило едва заметное мерцание, а солнце пылало, тысячекратно повторяясь в лужах, ужаснули их обоих, и они стояли, не зная, о чем говорить дальше.
— Я пойду, — прошептала Еля. — Я никому не скажу.
Андрей проводил ее взглядом и побрел домой.
Марина полусидела в постели, опираясь на высоко взбитые, положенные под спину подушки. Она не догадывалась о своей близкой смерти, улыбалась чему-то и, слушая Таю, приглушенно, закрывая рот ладонью, покашливала.
— Тетя Настя письмо прислала, — сказала Тая Андрею, — она приедет в воскресенье проведать маму. Мама просит, чтобы мы с тобой согрели воды и хорошо истопили печку, мама хочет голову помыть.
Тая обняла Андрея, прижалась к нему острым плечом.
— Ты наноси воды, Андрюша, а я приготовлю маме белье, поглажу его, чтобы оно было гладкое и теплое.
Махнув юбкой, Тая кинулась к сундуку, достала ворох белья, разложила на столе и защебетала:
— Какую тебе рубашку, мамуся? Розовенькую или голубенькую? В розовенькой будет лучше, правда? Или нет, лучше в голубенькой. Она пойдет к твоим косам, мама. Косы у тебя золотые, красивые… Жалко, что у меня нет таких кос…
Она подхватила тонкую голубую рубашку, сложила ее вчетверо, приложила к груди Марины.
— Ой как хорошо, смотри, Андрюша! — И, любуясь матерью, прикусила кончик языка, сдвинула брови. — Вот бы папа посмотрел на тебя, мамуся! Помнишь, ты рассказывала, как он любил твои косы? Помнишь?
— Помню, — сказала Марина.
— Расскажи еще что-нибудь про себя и про папу, — прильнула к ней Тая.
На лицо Марины легла тень, маленькие пальцы худой руки затеребили край одеяла.
— Иди гуляй, доченька! — вздохнула Марина. — Мы так мало с папой прожили и так давно с ним расстались, что я успела рассказать тебе о нем все…
Андрей заметил, что Марине трудно дышать, подложил ей подушки повыше, оправил одеяло в ногах и сказал Тае:
— Пойдем, пусть тетя Марина отдохнет. Я расскажу тебе про твоего папу.
— Ты о нем знаешь меньше, чем я, — надула губы Тая.
— Почему ж меньше? — сказал Андрей. — Я хорошо помню дядю Максима, а ты его даже не видела.
— Ну и что ж?! — отрезала Тая. — Зато я больше его люблю.
Марина молча улыбнулась.
5
В эти самые дни Максим Селищев, запертый в одиночной камере старой тюрьмы штата Теннесси, неподвижно сидел на деревянных нарах, дожидаясь часа, когда надзиратель принесет обед. Окрашенные серой масляной краской стены камеры, как во всех тюрьмах мира, были испещрены надписями на разных языках. В углу, под полом, нудно скреблась крыса. Забранное решеткой квадратное оконце пропускало через покрытые паутиной и пылью стекла скудную полосу света.
На Максиме была арестантская «зебра» — неуклюжий полосатый костюм из грубой мешковины. Щеки его побледнели, ввалились, он оброс темной кудрявой бородой, в ней, так же как и в волосах, резко выделялись белые нити ранней седины.
Всю минувшую осень и зиму Максим вместе с «луковичным батальоном» скитался по многим штатам Америки, каторжным трудом добывая себе кусок хлеба. Составлявшая батальон орава беспаспортных «дроздов», как только где-нибудь находилась работа, неслась туда на рычащих, окутанных гарью автомобилях и в течение нескольких дней убирала все, что требовали подрядчики. Голодные «дрозды» снимали хлопок в Техасе, выращивали шпинат и цветную капусту в Винтер-Гардене, копали свеклу на плантациях Мичигана; они кидались из штата в штат, как гонимые ветром вороны, мерли от дизентерии.
Голландец, прозванный Шатуном, командир полуголого разношерстного батальона, столкнувшись с ловкачами подрядчиками, стал исподволь надувать и грабить своих изнуренных болезнями и голодом «дроздов». Люди проведали об этом в графстве Диммит, на бобовых плантациях, зазвали Шатуна в сарай и мгновенно изрезали его финскими ножами. Когда местный шериф попытался ввязаться в это дело и, нагрянув к «дроздам» с тремя полисменами, стал избивать палкой тщедушного старика Джозефа Тинкхэма, которого за безобидность и доброту все называли папашей, Том Хаббард убил шерифа ударом лопаты по голове. Полисмены удрали на своем «форде». В ту же ночь батальон разбежался.
Максима Селищева, папашу Тинкхэма и его зятя, белобрысого монтера Фреда Стефенсона, через неделю арестовали в штате Теннесси. Том Хаббард скрылся, не оставив никаких следов…
Сейчас, сидя в камере и перебирая в памяти события последних месяцев, Максим не мог себе простить, что не ушел с Хаббардом, а поддался уговорам папаши Тинкхэма и поехал с ним в Теннесси.
«Дурак, набитый дурак, — укорял себя Максим, — сам, как заяц, залез, засмыкнулся в силок. Сиди теперь и дожидайся у моря погоды. Неизвестно еще, чем все это кончится, можно и без головы остаться…»
У Максима были все основания так думать. Ему и его товарищам предъявили обвинение в убийстве шерифа. Это грозило казнью на электрическом стуле. Правда, у Максима была возможность спастись: перед уходом из лагеря «дроздов» убивший шерифа Том Хаббард назвал Максиму улицу и дом в приморском городе Джексонвилле, где в любое время дня и ночи могли сказать адрес Тома. Но открыть его адрес суду — значит выдать товарища, а Максиму претила даже мысль об этом. Уже четвертый месяц сидел он в тюрьме, много раз вызывался к следователю, дважды давал показания каким-то приезжим представителям «большого жюри присяжных», но делу не видно было конца. На все вопросы Максим отвечал одно: «Убийство шерифа было совершено не при мне, и кто его убил, я не знаю». О себе он сказал, что зовут его Максим Мартынович Селищев, что по происхождению он донской казак, офицер русской белой армии, что в Америку прибыл по приглашению своего бывшего одностаничника и однополчанина есаула Гурия Крайнова, местонахождения которого в настоящее время не знает, Этим исчерпывались показания Максима.
Тюремный надзиратель, пан Ржевусский, как он себя называл, пожилой поляк-эмигрант, изъясняясь на варварском англо-польско-украинском языке, не раз уговаривал Максима: «Напрасно ты покрываешь убийцу. Старик с зятем, которые сидят здесь же, в первом этаже, показывают, что шерифа убил твой друг Том Хаббард, и говорят, что ты знаешь его адрес… Назови адрес — и тебя отпустят…» Эти уговоры словоохотливый пан Ржевусский возобновлял при каждом дежурстве.
Так и сегодня. Поставив перед заключенным миску вареных бобов, надзиратель переступил с ноги на ногу, позвенел ключами и вежливо начал:
— Как спалось, пан Макс?
— Ничего, спасибо.
— Не приглашали тебя вчера?
— Приглашали…
— Те двое из федерального жюри?.
— Ага…
— Как же ты?
— Никак…
Пан Ржевусский вздохнул, его остроносое, с маленьким ртом личико омрачилось.
— Мне жаль тебя, пан Макс. Если тебя увезут из нашего заведения в федеральный суд, заказывай по себе мессу. Оттуда, из федерального суда, таких арестантов, как ты, отправляют прямехонько на кладбище.
— Что ж делать, — сказал Максим, доедая пресные, чуть сдобренные тертыми сухарями бобы. — Значит, у меня такая судьба, пан Ржевусский.
Надзиратель взял пустую миску, повздыхал и ушел. Но через час он опять загремел дверным замком и появился в камере с огромной книгой в руках.
— Возьми, пан Макс. Это я для тебя выхлопотал у начальства. Хорошая, богоугодная книга. Библия на русском языке. Она осталась от русского анархиста из секты графа Толстого. Анархист сидел у нас года три назад, потом его выслали куда-то, не то в Канаду, не то в Аргентину.
— Спасибо! — обрадовался Максим. — Давай хоть библию, не то я от скуки подохну, прежде чем меня уволокут на электрический стул.
— Читай, читай! — Пан Ржевусский протянул ему книгу. — Очищай свою душу от земной скверны и готовься предстать перед господом…
Со звоном защелкнулся замок. Затихли шаги надзирателя. Максим задумался. Нелегкая, путаная жизнь, которую он прожил, явно приближалась к концу. Еще в начале осени Максим надеялся, что получит из России ответ на свое письмо. Но прошла осень, прошла зима, а ответа не было. «Или там, в станице, все перемерли, или письмо затерялось», — решил Максим. Он хотел написать еще раз, но раздумал, убеждая себя в том, что все близкие успели его забыть и незачем напоминать им о себе. «Что ж, — усмехнулся Максим, — видно, и взаправду пришла пора очистить себя от земной скверны…»
Он наудачу открыл растрепанную библию. Попалась книга Иова, и Максим, склонив голову на ладонь, стал читать.
«Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями. Как цветок, он выходит и опадает и, как тень, не останавливается…»
«Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут. Пусть устарел в земле корень его и пень его замер в пыли, но, лишь почует оно воду, тотчас даст отпрыски и пустит ветви, как бы вновь посаженное. А человек умирает и распадается, отошел — и где он?»
— Это верно, — вслух проговорил Максим, — человек — как цветок: вышел и опал безвозвратно…
В раздумье полистал он толстую, пахнущую прелью книгу, и взор его остановился на строках:
«Случайно мы рождены и после будем как небывшие… И имя наше забудется со временем, и никто не вспомнит о делах наших, и жизнь наша пройдет, как след облака, и рассеется, как туман, разогнанный лучами солнца и отягченный теплотою его…»
— Это чушь, — тряхнул головой Максим, — человек жив только делами своими. Недаром говорится: «Что посеешь, то и пожнешь». Как ты прожил свою жизнь, так тебя и вспомнят.
Он стал думать о своей жизни и с печальным удивлением признался себе: «У меня никакой жизни не было, ни хорошей, ни дурной, была одна видимость жизни — „туман, разогнанный лучами солнца и отягченный теплотою его…“».
И ему вспомнилось все, из чего складывалась его жизнь. Зеленая станица над Доном, отцовский дом, тяжелая работа в поле и на винограднике, потом, в конце мировой войны, уход на фронт и нудное сидение в окопах. Только в пятнадцатом году, после тяжелого ранения, Максим приехал в родные места и обвенчался с Мариной, тогда совсем еще девочкой. Полтора месяца жизни в станице бок о бок с любимой женой и были, собственно, тем кратковременным, слишком уж призрачным счастьем, которое промелькнуло как сон.
Дальше началось то, что подхватило Максима вместе с миллионами других людей и завертело в вихре гражданской войны. То ли по молодости своей, то ли потому, что стародавний казачий уклад по-своему направлял его мысли, но Максим не задумывался над тем, на чьей стороне правда в кровавой борьбе, и потому волею многих обстоятельств оказался в белой армии, то есть стал на ту ложную, преступную дорогу, которая в конце концов завела его в тупик.
А потом… Что ж потом? Словно несомая волнами щепка, жалкий ошметок живого дерева, поплыл он неведомо куда, на чужбину. Конечно, он мог бы, как есаул Крайнов, как войсковой старшина Жерядов, подъесаул Сивцов и другие его однополчане, ждать «освобождения попранной родины» и готовиться к этому, но он уже не верил своим товарищам, он понял, что все они — и он в том числе — живые трупы, от которых ни отпрысков, ни ветвей не будет…
— Ну как, пан Макс, читал библию? — спросил его вечером надзиратель.
— Читал, — неохотно ответил Максим.
— Добрая книга, правда?
— Грустная книга.
Пан Ржевусский поиграл связкой ключей, обвел глазами унылую камеру.
— А тебе веселиться незачем. Тебе по твоему упрямству надо принести покаяние перед господом.
— Пошел ты к черту, исповедник! — криво усмехнулся Максим. — Пристал как банный лист. Вот возьму стукну тебя от скуки башмаком, и ты отправишься к господу раньше, чем я.
Надзиратель отступил к дверям, жалобно сморщил бескровные губы:
— Это уж совсем напрасно, пан Макс. Я тебе добра желаю. Ты и сам не ведаешь, сколько раз просил я начальство за тебя. Вот и сегодня — подошел к смотрителю и говорю: «Русскому офицеру, который сидит в девяносто шестой, скучно, надо ему кого-нибудь вселить в камеру, пусть человек хоть поговорит немного».
— Что же сказал смотритель? — повернулся Максим.
— Смотритель послушался меня. — Плечи пана Ржевусского самодовольно приподнялись. — «Мы, — говорит, — после вечерней поверки переведем к русскому его друзей».
— Каких друзей? — не понял Максим.
— Старика Тинкхэма с зятем.
Максим подумал, что болтливый надзиратель хочет только утешить его, но после поверки пан Ржевусский действительно привел папашу Тинкхэма и Фреда Стефенсона. На них, как и на Максиме, были полосатые арестантские костюмы и колпаки. Фред еще держался, хоть и очень похудел, а на старика Тинкхэма жалко было смотреть — так он осунулся и ослабел.
Когда заключенные остались одни, папаша Тинкхэм, по его всегдашнему умению устраиваться в любом месте, опустился на четвереньки, старательно расстелил на полу жидкие матрацы, взбил набитые соломой подушки и уселся в углу, поджав ноги.
— Теперь можно ждать, — сказал он удовлетворенно.
— Чего ждать? — улыбнулся Максим.
Старый Тинкхэм тоже улыбнулся:
— Чего-нибудь. Хотя, конечно, ждать нам придется долго. Мне хорошо известно наше американское правосудие. Поскольку у нас нет долларов, ждать придется очень долго.
Поздно ночью, лежа рядом с Максимом, папаша Тинкхэм шепотом заговорил о том, что всех троих волновало больше всего, — об их деле.
— Кроме нас арестовано еще несколько человек, — сказал Тинкхэм. — Эта самая потаскушка Марта с ее байстрюками, однорукий Херд, если ты его помнишь, Вильям Галлигас с женой и сыном, а также негр Эрл с дочерью и… и моя дочь Лорри… Они все показали, что шерифа убил Том Хаббард.
— Откуда это тебе известно? — спросил Максим.
Лежавший у стенки Фред Стефенсон сказал негромко:
— Лорри удалось передать мне записку. В записке написано, что всех этих людей опрашивали представители федерального жюри присяжных и что все в один голос заявили: смертельный удар лопатой нанес шерифу Том Хаббард, которого в лагере называли Томом Красным. Они сказали также, что Том Красный скрылся тотчас же после бегства полисменов.
— Это несколько облегчает нашу судьбу, — отозвался папаша Тинкхэм. — Но нам предстоит еще очная ставка с тремя полисменами, на глазах которых было совершено убийство, а это не предвещает ничего хорошего.
— Почему?
— Потому что полисмены не захотят признаться в том, что они струсили и упустили человека, убившего шерифа, человека, который был вооружен только лопатой и мог быть арестован на месте.
— Вообще, с нашим делом будут тянуть, — добавил Фред. — Возможно, они нас переведут в Винтер-Гарден, а потом будут таскать по всем штатам в поисках новых улик. Могут даже довести дело до верховного суда, а там задержать на многие годы. Таких случаев было немало.
Понизив голос до глухого шепота, папаша Тинкхэм сказал:
— Ты же знаешь, Макс, что представляет собою наш верховный суд? В народе его называют «судом девяти старцев»… Это девять выживших из ума развалин, назначенных на пожизненную должность судей. Они ничего не признают, кроме крупных взяток, и готовы, если это необходимо, осудить самого господа бога…
Фред заворочался, раздраженно почесал белесые космы давно не стриженных волос.
— Три года они томят в тюрьмах этих несчастных, ни в чем не повинных итальянцев Сакко и Ванцетти. Их обвиняют в убийстве и ограблении какого-то кассира, тянут это дело, и конца ему не видно.
— Хорошее же у вас правосудие, — сказал Максим.
— Наше правосудие защищает только тех, у кого большой карман, — проговорил Фред, — остальных оно обвиняет. В прошлом году сенатская комиссия вздумала расследовать аферы воров-миллионеров, которые нахапали несметные сокровища. Ты думаешь, суд осудил их? Ничего подобного. Все они здравствуют и поныне. Вот каково наше правосудие…
Максим отвернулся к стене, сделал вид, что задремал. Папаша Тинкхэм, вздыхая, спал рядом. Вскоре послышалось ровное дыхание уснувшего Фреда. Максим полежал на боку, потом тихонько перевернулся на спину, открыл глаза. Засиженная мухами электрическая лампочка отбрасывала на потолок слабый отсвет. В неярком ее свете было видно, как с потолка, оставляя за собой тонкую паутину, спустился и, раскачиваясь, повис в воздухе серый паук. Под полом несколько раз пропищала, зацарапала когтями о камень и стихла голодная крыса.
«Да, — с тоской подумал Максим, — нет жизни, только одно название… „туман, разогнанный лучами солнца и отягченный теплотою его…“».
Уснул он перед рассветом и во сне стонал и всхлипывал.
6
Весна стояла сухая, солнечная. Ночи были тихие, а перед полуднем разгуливался восточный ветер и дул ровно и сильно, осушал влагу по низинам, выдувал по крутым взлобкам холмов мелко заделанное зерно яровых посевов. На закате ветер слабел, а в сумерках утихал, пропадая за холмами. Дожди пошли только в конце мая. Они обильно увлажнили землю, оживили поздние яровые, омыли тусклые, покрытые пылью зеленя.
Всю весну Григорий Кирьякович Долотов ездил по волости. Он побывал в каждой деревне, в каждом селе, проверял работу сельсоветов, заходил в школы, беседовал с крестьянами. Чем дальше от волостного центра отстояли села, тем хуже, как в этом убедился Долотов, шла там работа: председатели сельсоветов отсиживались по домам; мосты на заросших бурьянами неезженых проселках зияли провалами; сбором налогов никто не занимался, и у отдельных хозяев накопились долги за два и даже за три года.
Очень много земли в волости пустовало. Пробираясь от деревни к деревне, Долотов видел бескрайние пустоши, на которых, точно островки в голубовато-сером море полыни, зеленели отдаленные одно от другого крестьянские поля. Полевые межи были отбиты неровно, на глазок, кривуляли по всем направлениям, далеко обходили каждую, даже самую мелкую, ложбинку, каждую водомоину, и всюду к полям подступала, теснила пшеничные ростки густая, с горьким запахом полынь.
— Вы что же, не всю землю раздали в наделы? — спросил Долотов председателя сельсовета в отдаленном селе Крапивино.
Крапивинский председатель, хилый мужичишка с выгоревшими на солнце усами, покосился испуганно:
— Как так не всю? Ту, что была, скрозь раздали, поделили подушно.
— А чего ж у вас поля раскиданы по пустошам так, что от одного поля до другого за день не доедешь? Разве нельзя навести порядок, чтобы полынь не забивала посевы?
— Да ведь каждый хозяин по-своему землю планует, — развел руками председатель. — Его ж не заставишь сеять рядом с соседом. «Мне, — говорит, — где сподручнее, там я и посею».
— Вы что ж, и выпасы разбросали по клочкам? — спросил Долотов.
— За выпасами у нас вовсе никто не глядит, скот выгоняют куда кому вздумается, по полынкам пасут.
— И молоко небось в рот нельзя взять?
— Так точно, горчит молоко, — согласился председатель, — да народ привык, от горькости, говорят, отравления не бывает.
— А ты сам не пробовал поломать эту дурость с полями и с выпасами? — с сердцем сказал Долотов. — Или твои поля тоже по всему свету раскиданы, а корова на полыни пасется?
Смущенный председатель оправил солдатский пояс на белой в крапинку сорочке:
— Мне от народа никуда не уйти, я должен к людям подстраиваться.
— Подстраиваться? — закричал Долотов. — Какой же из тебя, к черту, руководитель? Как же ты тут Советскую власть представляешь? Подстраиваешься? Плетешься сзади? И тебе не совестно?
Долго еще пушил Долотов обескураженного крапивинского председателя. Тот оглядывался, пятился к дверям, и Долотов признался себе, что он сам, руководитель волости, виноват больше, чем кто-либо другой. Но, с другой стороны, Долотов понимал и то, насколько трудно изменить привычный уклад глухих углов, поломать все косное и темное, что определяло крестьянскую жизнь веками. Школы ликбеза работали по волости плохо. Один агроном — он жил в Пустополье с семнадцатого года — не заглядывал в деревни, а разводил в своей усадьбе гусей и цесарок. Заведующий волостным земельным отделом Паклин, по профессии телеграфист, был прислан из города по решению укома и ничего не понимал в сельском хозяйстве.
Однако Долотова больше всего печалило то, что в начале года, перед весенним севом, распалась единственная в уезде ржанская коммуна «Маяк революции». Организовать коммунаров никто не сумел, они начали ссориться, разбегаться по своим хатам. Как только восстановили ржанский кирпичный завод, все рабочие покинули коммуну. «Нам возле заводских печей привычнее, чем в этой вашей неразберихе», — сказали они на прощание. Еще года полтора после этого коммуна «Маяк революции» влачила жалкое существование, кое-как обрабатывая часть земли и сдавая в аренду сенокосы, а потом распалась вовсе.
Савва Бухвалов, председатель коммуны, приезжал в Пустополье и рассказывал Долотову о ее бесславном конце.
— Потух наш маяк, — говорил Савва, — загасили его паразиты. Насмеялись над красивой идеей и загасили ее. Да и разве можно было начинать это дело с поломанными плугами да с полсотней бракованных коней? Были, конечно, среди нас чистые люди, с душой и совестью, они верили в коммуну и работали так, что падали на пахоте рядом с покалеченными, обессиленными конями. Но немало было и сволочей, белых гадов да кулачья. Эти и подкосили нас под корень: свары между людьми сеяли, кулацкой своей агитацией бабам голову забивали, шептались по углам, скотину губили.
Пряча от Долотова запавшие, полные тоски глаза, Бухвалов говорил виновато:
— Вот видал я в совхозе новую машину. Называется — трактор «фордзон». Сама и плуги таскает, и сеялки. Дали бы нам в коммуну одну такую машину, чтоб людям труд облегчить, может, и не поутекали бы с наших позиций…
Под конец Савва попросил Долотова:
— Некуда мне теперь податься, Григорий Кирьякович, и стал я таким, вроде тяжело меня поранили. Может, вы мне работенку подходящую дадите?
— Поживи немного в Пустополье, а потом мы тебя пристроим куда-нибудь. Через месяц-полтора виднее будет.
Бухвалов подумал:
— Придется ждать, ничего не сделаешь…
После первомайских праздников Долотову сообщили, что он выдвигается на должность председателя Ржанского уездного исполкома и ему надо подготовить волость к сдаче. Вместо него волисполком должен был принять Флегонтов.
Хотя намеченный день отъезда Долотова из Пустополья приближался, работы у него прибавлялось. С утра до вечера в его кабинете толпились люди. Они приходили с просьбами, жалобами, заявлениями, во всем этом надо было разобраться, и Григорий Кирьякович целыми днями беседовал с посетителями, вызывал сотрудников, читал с карандашом в руке вороха бумаг, отвечал на длиннейшие запросы из уезда.
Не раз, особенно в бессонные ночи, он спрашивал себя: «Что же нам все-таки больше всего мешает? Почему крапивинские мужики уродуют свои поля? Почему распалась коммуна? Почему во многих селах неприглядные, облупленные школы? Разве у нас нет глины, нет известки, синьки? Почему в сельсоветах, в волисполкоме неделями, а то и месяцами залеживаются бумаги, от которых зависит человеческая судьба?» Он задавал себе десятки таких вопросов и, мучительно ища ответа, приходил к заключению, что основная причина всего, самое главное, от чего зависят и успехи, и недостатки, — люди.
«Да, да, люди, — повторял Григорий Кирьякович, ворочаясь в, постели. — Люди определяют все. А люди у нас разные. Бухвалов правильно говорит: одни вкладывают в работу всю душу, отдают себя делу без остатка, другие жмутся, семенят, где-то в стороночке хихикают в кулак».
Как-то Григорий Кирьякович поделился своими мыслями с Маркелом Флегонтовым. Тот пожевал губами и прогудел:
— От этого никуда не денешься, Гриша! Так или иначе, а приходится нам строить социализм с теми людьми, которые есть. А они ведь не ангелы с белыми крылышками, у них у многих какой-нибудь изъянец: один в бога верит, другой жену бьет, третий прибрехнуть любит, четвертый — поглядишь на него — кругом добрый человек, и честный, и работящий, а копни его поглубже — и у него отыщешь какую-нибудь зазубринку, хоть и маленькую, но отыщешь…
Флегонтов погладил ладонью колючие усы, стал ходить, тяжело ступая, по комнате.
— Я вот скажу тебе по совести, Григорий: перехожу я сюда, в волисполком, и на душе вроде легче. А почему? Потому что освободят меня от моей партийной должности, и пойду я по старой памяти хозяйством заниматься. Может, подучусь немного, тогда, конечно, другой разговор. А сейчас, брат ты мой, нету у меня ни разума, ни умения. Веришь ли, Григорий, до зари сижу над книжками, пальцем вожу по каждой странице, а спроси меня, что такое госкапитализм, или же стабилизация, или всякие там инфляции, перманентные революции, про которые спор идет до сегодняшнего дня, — буду я перед тобой стоять как баран перед новыми воротами… Вот тебе, Гриша, и ангел с крылышками: чистейший пролетарий, шахтер, член партии с шестнадцатого года, красногвардеец, вроде не алкоголик, не лодырь, а зазубрина есть, и притом немалая, — темный человек, неграмотный, с тяжелым мозгом! Куда ж ты его денешь? На свалку выкинешь? Или сызнова партийно-руководящую должность ему предложишь? Так он обратно ошибок тебе наделает, как с этим обормотом Резниковым.
— Кстати, что с Резниковым? — спросил Долотов. — Говорят, в губкоме на днях разбирали его дело.
— Чего там Резников! — махнул рукой Флегонтов.
— Что?
— Хотели его взять в губернию, да не взяли, оставили секретарем укома. Так-то, Григорий, — закончил Флегонтов, — наш Резников тоже ангел с крылышками. Видал, какая у него зазубрина оказалась? Кажись, за версту разглядеть можно. Значит, мы не умеем еще определять человека, на слово ему верим, а это к добру никогда не приводит…
«Маркел прав, — думал Долотов, — мы обязаны знать людей. Без этого мы будем топтаться на месте или двигаться вслепую…»
С острым интересом, с жадным любопытством стал он присматриваться к людям, которые его окружали в исполкоме, в волости. У каждого из них была своя жизнь, мало известная или неизвестная другим; многие стороны этой жизни, как бы ни скрывали люди, угнетали, мучили их или, наоборот, доставляли им радость, но незаметно приносили вред другим и портили дело. Так, Долотова часто злило выражение равнодушной покорности в глазах секретаря исполкома Шушаева, молчаливого, больного астмой старика, который зиму и лето ходил в стоптанных валенках, почти ни с кем не разговаривал, а на любое замечание отвечал протяжным, хриплым вздохом. Потом Долотов узнал, что у Шушаева тридцатилетний разбитый параличом сын, что этого калеку кормят с ложечки и терпеливо, многие годы, ждут его смерти… Когда Долотов узнал об этом, он побывал у Шушаева в доме и увидел горластого, требовательного парня-паралитика, услышал, как он тиранически командует отцом и матерью. Григорию Кирьяковичу стало стыдно за те раздраженные замечания, которые он часто делал старику в исполкоме.
Изо дня в день наблюдая за людьми, Долотов узнал многое: почему пьет горькую умный, способный доктор Сарычев, покинутый любимой женой; почему так привязана к школе и так любит каждого ученика Ольга Ивановна Аникина, которая воспитывалась в сиротском доме и на всю жизнь осталась одинокой; почему всегда угрюм, язвителен и ядовит прокурор Шарохин, которого десятилетиями мучает тяжкий, неизлечимый недуг. И хотя трудно узнать скрытую, спрятанную от других жизнь каждого человека, Долотову было ясно: тот, кто взял на себя смелость и ответственность вести народ за собой, показывать ему дорогу, обязан знать окружающих его людей, должен уметь вовремя помочь им, поддержать их, подбодрить.
«Нет, нет, не копаться в душе каждого человека, не лезть к нему пальцами в сердце, не выставлять на всеобщее обозрение то, что по-человечески принадлежит ему одному, но быть зорким и проницательным! — думал Долотов. — Таким проницательным, чтобы понять в человеке главное, основное, то, что может помочь или помешать нашему делу…»
От доктора Сарычева Григорий Кирьякович узнал, что молодая учительница Марина Селищева умирает от туберкулеза и что вместо нее в школу только что назначен новый учитель из села Лужки.
— А ей, Селищевой, сказали об этом? — нахмурился Долотов.
— Не знаю. — Сарычев пожал плечами. — Раз ей перестанут платить деньги за уроки, она сама поймет.
— То есть как это перестанут?! Она будет получать свою зарплату по соцстраху.
Сарычев неприязненно посмотрел на Долотова:
— Дорогой товарищ председатель! Эта женщина обречена, она умрет. Зачем же лишать ее надежды? Если она узнает, что вместо нее с детьми уже работает новый человек, она потеряет последние силы.
— Хорошо, — отрывисто сказал Долотов, — ваша больная будет получать свою зарплату по школьной ведомости до… до конца. А приказ мы изменим. В приказе будет сказано, что лужковский учитель назначен временно, до выздоровления учительницы Селищевой.
В тот же день Долотов вызвал заведующую школой Аникину и условился с ней, что Марине будут выплачиваться деньги соцстраха, но по отдельной школьной ведомости.
— Это не совсем законно, — нерешительно возразила Аникина. — Кроме того, в сумме страхового пособия и в сумме школьной зарплаты есть небольшая разница.
— Ерунда! — сказал Долотов. — Я думаю, что жизнь человека дороже, чем мертвая буква второстепенного параграфа. А что касается этой самой разницы, то исполком возьмет ее на себя.
Несмотря на то что отъезд в Ржанск приближался, Григорий Кирьякович работал по-прежнему: ремонтировал здание волисполкома, принимал людей, ездил с Флегонтовым по хуторам.
— Чего ты мотаешься, Григорий? — спросил его начальник милиции Колодяжнов. — Все равно через пару недель твоя деятельность тут закончится и поедешь ты в другие места.
— Какая разница? — вспыхнул Долотов. — Что там, что тут — везде, дорогой мой, наши люди и наша земля. И разве гоже мне, как служанке, которую рассчитали, оставлять пол недомытым? По-моему, негоже. Придут сюда другие люди и, если я чего недоделаю, помянут меня недобрым словом…
Григорий Кирьякович не хотел признаться, что успел крепко полюбить волость и что ему грустно уезжать из Пустополья. Пусть тут еще изуродована пустошами земля, пусть еще шляются кое-где в лесной чаще мелкие банды и но глухим хуторам курятся самогонные аппараты, пусть многое еще плохо, — он, Григорий Долотов, вместе с товарищами начал в этом краю тяжелую работу; он верит в то, что тут победит новое, он привязался к людям и потому с грустью покидает волость…
Глава вторая
1
Когда Александр Ставров сошел с поезда на станции Шеляг, отыскал подводу и выехал в Пустополье, ему казалось, что не все еще потеряно. «Нет, — думал он, — не может быть, Андрей что-нибудь напутал, перепугался и сдуру написал о близкой смерти Марины…»
Александр лежал на телеге, на только что скошенной траве. Трава не успела привянуть, свежо пахла лугом, но уже потеплела, сникла от жаркого солнца. Повязанная белым платком женщина-подводчица, свесив загорелые, с полными икрами ноги, лениво и равнодушно помахивала кнутом и думала о чем-то своем. Над двумя пузатыми гнедыми коньками назойливо вились слепни, кони фыркали, трясли головами, обмахивались хвостами и гривами, сбивая с упряжи мыло.
— Вы сами из Пустополья? — спросил Александр.
Женщина повязала платок потуже, на мгновение обернулась, показав обведенные сеткой морщин карие глаза.
— Мы сами из Лужков. Деревня есть такая возле Пустополья, в четырех верстах.
— А где ж хозяин?
— Нету хозяина, помер в прошлом году, как раз на троицу. В середке у него болезнь была, рак называется. Осталась я с тремя детишками да со старухою свекровью.
— Тяжело небось? — с участием спросил Александр.
— Известное дело, нелегко, — спокойно ответила женщина. — Куда ни кинься, всюду одна, и в поле, и с худобой, и дома. Свекровь вовсе с печки не слезает, ноги у нее больные, а из ребятишек какие же помощники, если старшему седьмой годок!
— Как же вы управляетесь?
— Так вот и управляюсь, — с грустной усмешкой сказала женщина. — Привяжу детей полотенцами к столу, поставлю им миску каши, покормлю старуху, а сама до ночи в поле…
Руки у женщины были большие, темные, с жесткими, обломанными ногтями, под которыми чернели узкие каемки. Каждое ее движение, неторопливое, даже несколько медлительное, говорило о твердом характере и недюжинной физической силе, а узкий, сухой, плотно сомкнутый рот выдавал глубокое горе.
«Трудно же тебе, дорогая, — с жалостью подумал Александр, — и не раз ты, должно быть, плачешь по ночам, чтобы никто не слышал…»
В Пустополье приехали перед вечером. Александр отряхнул от пыли и сена помятый костюм, взял чемодан, шляпу, молча протянул женщине деньги. Она взяла, не отказываясь, но и не считая их, поблагодарила и поехала своей дорогой.
С бьющимся сердцем подошел Александр к домику, в котором жила Марина. Школьный двор он нашел сразу, а домик ему указали ученики. И вот он стоял у порога, вытирая платком потный лоб, и не решался зайти. «Не может быть, — растерянно и тревожно повторял он, — не может быть…»
Марина лежала одна, Андрей и Тая ушли на собрание. На столике, возле Марининой кровати, стоял опущенный в стакан с водой пучок полевых цветов, а рядом поблескивали флаконы, аптекарские пузырьки, баночки с ватой и марлей. Сквозь острый, устоявшийся запах лекарств до Марины доносился медовый душок неяркой, с тонкими стеблями гнездовки, чуть слышно пробивался невыразимо прекрасный, слабый и сладостный аромат опустившей зеленовато-белые лепестки любки — ночной фиалки. Бессильно протянув похудевшие, почти прозрачные руки, на которых едва заметно обозначались тонкие голубые прожилки, закрыв глаза, Марина вдыхала запах цветов и беззвучно плакала.
Услышав незнакомые шаги, она открыла глаза и увидела стоявшего у дверей Александра.
Он опустил на пол чемодан и комкал в руках шляпу. Как ни пытался он скрыть страх и жалость, как ни старался унять дрожь пальцев, его состояние выдали глаза. И он, бросив шляпу, шагнул вперед, вымученно улыбнулся и сказал, чужим, надтреснутым голосом:
— Здравствуйте, Марина!.. Вот я и приехал…
До прихода Андрея и Таи они почти не говорили. Александр присел на стул рядом с кроватью, взял в руки маленькую руку Марины, приник к ней влажным лбом и долго сидел молча. Да и что он мог сказать этой единственной для него на свете любимой женщине, если на ее лице сразу же, как только вошел, он увидел страшный знак близкого конца, увидел ее отрешенный, далекий, полный сокровенного смысла взгляд! Глаза, которые так смотрят, уже ничего не ищут в мире, и уже ничто не может изменить их отчужденного, странного выражения.
«Да, все кончено, — с отчаянием подумал Александр, — все кончено…»
Когда вечерние сумерки затемнили комнату, из школы вернулись Андрей и Тая. Они застали Александра у кровати. Точно оцепенев, он сидел на стуле, держа в руках руку Марины, и на скрип двери не обернулся.
К утру Марине стало хуже. Она уже не могла кашлять, только конвульсивно вздрагивала и хрипела, в изнеможении поворачивая голову набок. Грудь и шея ее судорожно подергивались, и на белую сорочку, на белую наволочку измятой подушки, оставляя на подбородке алый след, стекали струйки крови.
Плачущую Таю увела к себе заведующая школой Аникина. Безучастный ко всему Александр сидел у кровати, изредка вытирал носовым платком кровь на лице Марины и тотчас же ронял голову на руки.
Доктор Сарычев накладывал на руки и ноги умирающей резиновые жгуты или, отвернув простыню, делал ей уколы. Потом отходил от кровати и, сунув руки в карманы, слегка покачиваясь, расхаживал по комнате и еле слышно свистел.
У окна, неподвижный, молчаливый, стоял Андрей. За окном, как всегда, раздавались крики и смех учеников, звенел колокольчик, где-то неподалеку ворковали голуби. Андрей слышал все эти звуки, но слышал какой-то ничтожной частицей слуха, ничего не воспринимая: он весь был обращен к тому великому, ужасному и таинственному, что совершалось сейчас в трех шагах от него. Он видел, как слабели, увядали движения Марины, ловил настороженный, острый взгляд доктора, понимал, что перед ним текут последние минуты человеческой жизни, и его томило ощущение бессилия всех людей перед непонятным, необъяснимым актом смерти…
После полудня Марина затихла. Едва заметно шевельнулись ее маленькие пальцы, чуть вытянулось под тонкой простыней тело. По успокоенному, проясненному лицу, исчезая, промелькнул неуловимый трепет.
— Марина! — с трудом выговаривая дорогое имя, хрипло сказал Александр.
Доктор Сарычев положил ему на плечо волосатую руку:
— Не надо, молодой человек! Она уже не ответит вам.
Он наклонился к умершей, осторожно прикоснулся губами к ее волосам, накрыл ее лицо простыней и, ни с кем не прощаясь, тихонько посвистывая, вышел из комнаты…
Хоронили Марину на следующий день. Из Огнищанки приехали Дмитрий Данилович и Настасья Мартыновна. В школе были отменены занятия. Ученицы старших классов сплели из молодых вербовых лозинок, из веток клена и полевых цветов несколько венков, украсили их белыми лентами, на которых Павел Юрасов, лучший чертежник школы, написал тушью: «Дорогой учительнице от любящих учеников».
Перед вечером небольшой, окрашенный суриком гроб вынесли со школьного двора. Надев через плечо начищенные медные трубы и надувая щеки, ученики-музыканты заиграли похоронный марш.
— Вот и осталась ты, моя касатушка, круглой сиротой, — заплакала Настасья Мартыновна, обнимая бледную, обессилевшую от слез Таю.
Дмитрий Данилович шел рядом с Александром, несколько раз пытался заговорить с ним, но Александр молчал или ронял тихо:
— Потом, Митя… Оставь меня…
В длинном ряду учеников шел Андрей. Виктор Завьялов и Гошка Комаров шагали впереди него. Уже на кладбище Андрей мельком увидел Елю и Клаву. Он стоял, потупив голову, неподалеку от могильной ямы, слушал бессвязную, прерываемую всхлипываниями речь старушки Аникиной и думал угрюмо: «Вот она какова, жизнь!.. Приходит час — и конец… И никто во всем мире не может поправить это, спасти, воскресить человека».
Когда вернулись с кладбища, Настасья Мартыновна уложила Таю в постель, обвязала ей голову мокрым платком, прижалась щекой к ее холодной, заплаканной щеке и заговорила, лаская волосы девочки:
— Будешь ты теперь, Таенька, жить у нас. Мы с дядей тебя любим, как родную, братья и сестра тоже. Успокойся, девочка, тебя никто в обиду не даст!
— Спасибо, тетечка, — захлебнулась слезами Тая. — Я тоже вас всех люблю…
Андрей подошел к ней с другой стороны, поцеловал смущенно и пробормотал:
— Поедем, Тая, вместе будем жить в Огнищанке… Я… я буду защищать тебя от всех, научу верхом ездить, буду тебе сказки рассказывать…
Дмитрий Данилович сидел с младшим братом на крыльце. В ночной темноте мерцал огонек его папиросы, время от времени освещая нахмуренные брови и крепкий нос.
— Ты, конечно, заедешь в Огнищанку хоть на несколько дней? — осторожно спросил он. — Рома, Федя и Каля еще не видели тебя.
Александр помолчал, потом положил руку на колено брата, проговорил глухо:
— Не сердись, Митя! Ты знаешь, как мне тяжело. Я хотел бы уехать куда-нибудь подальше, ни с кем не говорить, ни с кем не встречаться. Если вы с Настей не будете сердиться, я вернусь в Москву, а следующей весной навещу вас непременно.
— Зря ты это, честное слово. — Дмитрий Данилович насупился. — Нельзя же так! Человек ты молодой, у тебя все впереди. Разве можно так распускать себя? И что же мы тебе, чужие люди?
— Я не говорю, что чужие…
Подвинувшись ближе, Александр хотел сказать, что он очень одинок, что он беззаветно любил Марину и теперь, после ее смерти, никого и никогда не полюбит. Но он подумал, что брат не поймет его, и потому сказал, неловко обняв Дмитрия Даниловича:
— Не обижайся, Митя, и Насте с детьми скажи, чтобы не обижались на меня. Не могу сейчас. После когда-нибудь… А сейчас я должен остаться один…
Рано утром Ставровы проводили Александра. Он уехал в Ржанск на почтовой повозке. Настасья Мартыновна убрала комнаты, сложила в сундучок вещи Марины, накупила на базаре продуктов и сказала Андрею и Тае:
— Придется вам немного похозяйничать одним. Через неделю Андрюша сдаст экзамены, в школе начнутся каникулы, и Рома с Федей приедут за вами. Пока же будьте умниками, не ссорьтесь и учитесь как следует.
— А осенью мы найдем тебе, Тая, квартиру, привезем с собой и Калю, и вы будете кончать школу вместе, — добавил Дмитрий Данилович.
С отъездом родных комнаты показались Андрею и Тае совсем опустевшими. На столике, у кровати, еще стояли в стакане увядшие цветы, на стене, между окнами, висело написанное рукой Марины расписание уроков, но вещей стало меньше.
Тая, сжав ладонями виски, ходила по комнате, Андрей обнял ее, усадил на стул, сел рядом, сказал тихонько:
— Ну, хватит… Хочешь, расскажу сказку? — и, проглатывая тугой ком в горле, заговорил протяжно: — Было это за тридевять земель, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве. На море-океане стоял остров, а на острове жили царь с царицей, и было у них три сына…
Тая беззвучно заплакала.
— Ладно, нюня, — с мужской грубоватостью сказал Андрей, — вытри глаза и садись за уроки! А то мы этак проплачем все экзамены и, чего доброго, останемся на второй год.
Последние дни в школе показались Андрею одной минутой. Экзамены он сдавал хорошо, но ходил подавленный. Ему жаль было расставаться со школой. Приземистый дом с облупленными стенами, темноватые классы, в которых постоянно пахло дымом, изрезанные ножами парты, крикливые товарищи, учителя — все это прочно вошло в душу Андрея как свое, близкое, и он представить себе не мог, как будет жить без школы.
Нелегко было покинуть Андрею и любимый флигелек — кабинет природоведения, в котором он провел столько вечеров, где было прочитано столько хороших книжек! Пусть в этом кабинете скрипели вытертые половицы, еле закрывались ветхие двери, а подслеповатые оконца почти не пропускали света — разве в этом дело? Тут, в убогой сторожке, перед Андреем постепенно, шаг за шагом открывался огромный, неизведанный мир, тут возникали свои, дорогие ему мысли, тут он задавал себе первые тревожные вопросы о назначении человека на земле…
И вот все экзамены сданы. В воскресенье надо идти за свидетельством об окончании школы. Тая выстирала и разгладила черную сатиновую косоворотку Андрея и, пока он одевался и причесывался, ходила вокруг него на цыпочках, оглядывала со всех сторон, говорила озабоченно:
— Может, перешить пуговицы на рубашке? А то рубашка черная, а пуговицы белые, стекляшки. Прямо не знаю, куда тетя Настя смотрела.
— Не надо перешивать, сойдет и так.
— Ну как же не надо? — Тая надула губы, дернула Андрея за чуб. — Смотри, чучело какое! Девочки будут смеяться над тобой, и твои же товарищи проходу тебе не дадут. Я же знаю, все они явятся в костюмчиках, в галстучках, девочки в новых платьицах, а у тебя застиранная, полатанная рубашка, да еще стеклянные пуговицы!
— Отстань, Тайка! — рассердился Андрей. — Пусть они являются хоть в поповских ризах, мне на это наплевать. А если тебе не нравятся мои пуговицы, я могу вовсе их поотрывать.
Он начистил сапоги, взял поданный Таей чистый носовой платок, легонько щелкнул ее пальцем по носу и ушел.
Вручение свидетельств было обставлено торжественно и происходило не в школе, а в Народном доме — длинном бревенчатом бараке на базарной площади. Маленькая сцена Народного дома алела флагами, плакатами, красной скатертью, закрывавшей стол до самого пола. За столом сидели учителя и представители пустопольских общественных организаций — секретарь партийной ячейки Маркел Трофимович Флегонтов, женорг Матлахова, секретарь комсомольской ячейки Николай Ашурков.
Когда Андрей, приглаживая чуб и оправляя солдатский пояс, вошел в зал Народного дома, там стоял гул, как в улье. Все скамьи в зале были заняты. Многие ученики пришли со своими родителями; разомлевшие от жары и духоты, родители сидели, обмахиваясь платками, газетами, книжками. Разместившийся у сцены школьный оркестр играл протяжный вальс.
В середине зала Андрей заметил Елю. В светло-розовой кофточке и синей юбке с неширокими нарядными помочами она сидела вместе с отцом и матерью. Рядом с ними разместились Юрасовы, родители Павла, но его самого не было видно. Еля что-то говорила Матвею Арефьевичу Юрасову, а тот, откидывая полу чесучового пиджака, смеялся и шутливо дергал черный бант на Елиных волосах.
— Любуешься, рыжий? — раздался за спиной Андрея знакомый голос. Виктор Завьялов протиснулся к нему, протянул руку: — Что ж ты теперь? В Огнищанку свою поедешь?
— Да, в Огнищанку, — ответил Андрей. — А ты?
Брови Виктора сдвинулись к переносице.
— Я, брат, отыскал себе самую подходящую должность, с первого августа на работу еду.
— Куда?
— В Ржанск решил ехать, на кирпичный завод, — проговорил Виктор. — Устроил меня батька кочегаром. Хоть и жарковато там, зато зарплата своя, не будет меня мачеха попрекать куском хлеба.
На сцене зазвенел колокольчик. Приятели умолкли. Заведующая школой Ольга Ивановна Аникина, волнуясь, поминутно роняя пенсне, стала говорить о том, что пустопольская трудовая школа отмечает большой праздник — первый выпуск учащихся — и что это событие является праздником для всей волости.
— Сейчас мы начнем выдачу свидетельств окончившим школу ученикам, — потирая сухие ладони, сказала Ольга Ивановна. — И мне хочется сердечно поздравить их и пожелать нашим питомцам… нашим дорогим ребятам, чтоб они оправдали те надежды, которые мы возлагаем… которые мы питаем… чтоб они были честными советскими людьми, помнили и выполняли заветы Ленина… чтоб они все трудились на благо…
Ольге Ивановне трудно было сдерживаться. Она умолкла, постояла немного, всхлипнула и закончила, улыбаясь сквозь слезы:
— До свидания, миленькие… Вот хотела вас назвать детьми, а вы уж не дети, у вас уже отросли собственные крылья… Пожелаю же вам счастливой дороги, счастливой жизни…
В зале захлопали. Особенно неистовствовали девчонки. Они вскочили с мест, завизжали.
— Любят Ольгу Ивановну, — перекидывались словами родители.
— Да и она их любит, как своих.
— Своих у нее нету…
После Ольги Ивановны, грузно ступая, вышел из-за стола Маркел Трофимович Флегонтов. Белая гимнастерка подчеркивала его смуглое, почти коричневое лицо и такие же темные руки с крапинками угольной пыли, навсегда въевшейся в кожу. Флегонтов обвел взглядом собравшихся, заложил руки за небрежно повязанный пояс-шнурок и заговорил медленно, словно вслушивался в каждое слово и проверял, на месте ли оно стоит.
— Я вот гляжу на вас и думаю: добра и сильна наша рабоче-крестьянская власть! И ничего она для народа не жалеет, ничем не скупится. Мы как учились при старом режиме? Одно было у нас учение — палкой по шее, а с десяти лет — поле или вагонетка в шахтах, матерщина да кабак. Почти все были неграмотные, крестики вместо фамилии ставили, чуть ли не весь народ крестами расписывался. А теперь что? Освободил себя народ и учиться стал. Все, от малыша до бородатого деда, за книжкой сидят, и власть для учения ничего не жалеет. Помните небось, как ваша школа четыре года назад начинала работу? Кругом голод, разруха, люди мрут, а партия первый ломоть хлеба, первую ложку каши школьникам отдавала: учитесь, дескать, ребята, для вас мы революцию делали, вам все и принадлежит…
Он поиграл кистью пояса, прищурил глаз.
— Вот окончили вы школу, повзрослели, оперились, стали задавать себе самые трудные вопросы, и, должно быть, не один из вас глядел на звезды и спрашивал себя: для чего ж все-таки человек живет? какая цель ему в жизни назначена?
Услышав эти слова, Андрей смутился, покраснел. От него не укрылось и то, что покраснел не он один, а многие ребята.
— На это я одно могу вам сказать, — закончил Флегонтов, — человек, по-моему, живет для счастья. Не только для своего счастья, а для счастья всех людей. Надо сделать так, чтобы на земле не осталось голодных, нищих, бесправных, чтобы не было пролития крови, чтобы работа была красивой, чтоб люди трудились, пели песни, любили. Правильно я говорю или нет?
— Правильно! Правильно! — закричали в зале.
— Добре! — усмехнулся Флегонтов. — Вот я, значит, и желаю вам сотворить, построить новый мир. А дорога к нему уже найдена и указана Лениным. Желаю же вам, чтобы вы честно шли этой дорогой и нигде не сбивались с нее…
Маркелу Трофимовичу Флегонтову тоже хлопали долго и самозабвенно. Оркестр сыграл туш.
Потом Ольга Ивановна стала по списку вызывать окончивших школу на сцену. У стола каждого из них поздравляли и под дружные аплодисменты зала вручали свидетельство. Ученики выходили по одному, одни робко, другие весело, принимали от Ольги Ивановны развернутые плотные листы бумаги, кланялись и возвращались на место.
Андрея вызвали девятым. Он тряхнул волосами и, засунув руки в карманы, медленно пошел по узкому проходу в вале. Кто-то из девчонок хихикнул.
— Вынь руки из карманов! — услышал Андрей сдавленный шепот Любы Бутыриной.
Он машинально вынул левую руку и, злясь и досадуя на себя, поднялся по ступенькам на сцену. Как видно, у Ольги Ивановны произошла какая-то заминка. Она, водрузив на нос пенсне, стала рыться в бумагах. Андрей ждал потупившись. Вдруг чей-то голос — Андрею показалось, что это измененный голос Гошки Комарова, — прозвенел на весь зал:
— Пуговицы у бабушки с кофты срезал.
В зале засмеялись. Андрей багрово покраснел, почувствовал, что его бросило в жар, и, вынув из кармана правую руку, стал лихорадочно расстегивать ворот рубашки. Одна из пуговиц оторвалась и со стуком покатилась по полу. Смех усилился.
В довершение ко всему, как только Андрей получил свидетельство, проклятый оркестр снова заиграл туш и проводил очередного виновника торжества громом своих труб.
— Чертовы обормоты! — в бешенстве прошептал Андрей.
Проходя мимо оркестра, он едва удержал в себе желание пнуть ногой остроносого мальчишку-барабанщика, который смотрел на него наивными глазами и, потеряв такт, истязал барабан ударами палки.
— Здорово, Андрюша! — усмехнулся Завьялов. — Пойдем, брат, лучше от этих почестей подальше, покурим на свежем воздухе.
Они вышли и остановились неподалеку от Народного дома. Андрея душили злость и жалость к себе. Он откусывал по кусочку кончик папиросного мундштука и сплевывал его в пыль, пока не изжевал весь мундштук.
Через несколько минут торжественное собрание закончилось, все стали выходить. Андрей, еще не успев пережить свой позор, собирался сбежать, но неудержимая сила приковала его к месту: он не мог уехать, не повидав Елю.
Солодовы и Юрасовы вышли вместе. Еля шла об руку с отцом и, оглядываясь, говорила что-то сияющему, как медный пятак, Павлу. Когда поравнялись с Андреем, Платон Иванович Солодов неожиданно отстранил руку Ели и сказал, посмеиваясь:
— Вот он где скрылся, бабушкин внук! Ну расскажи, дорогой, как это ты пуговицы с кофты срезал?
Глаза Платона Ивановича были добрые, участливые, а голос звучал дружелюбно, без насмешки. Он положил на плечо Андрея большую руку, заговорил ласково:
— Не журись, казак! Смех — не грех. Ну посмеялись ребята немного, и оркестр тебя малость подвел… Это не беда. Верно ведь? А?
Что мог сказать смятенный, онемевший Андрей? К нему обратился Платон Иванович Солодов, отец Ели, а сама она стояла совсем близко, рядом, смотрела на Андрея, и в ее светлых, лучистых глазах играли искорки смеха.
— Верно, Платон Иванович, смех — не грех, — пробормотал Андрей.
— Смотри, Еля! — удивился Солодов. — Он даже мое имя знает.
Андрей совсем растерялся.
— Это он у Павлика узнал, — слегка смутилась Еля.
— Ничего я ему не говорил, — буркнул рядом стоявший Павел. — Крепко мне это надо.
Платон Иванович глянул на него:
— Ладно, ладно. Ты вот лучше скажи: пригласил ты своего товарища сегодня? Ведь расстаетесь вы надолго, а может быть, и навсегда. Надо же вам попрощаться.
— Приходи к нам, Андрей, перед вечером, — сказал Павел, — мы хотим дома отпраздновать окончание школы.
— Хорошо, — не сводя глаз с Ели, ответил Андрей, — я приду.
Дома он рассказал Тае о своих злоключениях в Народном доме, чем очень огорчил ее. Она схватила ножницы и хотела немедленно отпороть злосчастные пуговицы, но Андрей остановил раздосадованную девочку:
— Подожди, Тая! Меня пригласил в гости Павел Юрасов, и, если я приду туда с другими пуговицами, смеху не оберешься. Пусть лучше остаются эти.
Тая сердито швырнула ножницы:
— Как хочешь!
Перед закатом солнца Андрей отправился к Юрасовым. Они жили на краю села, в доме богатого вдового мужика. За домом, огороженным высоким частоколом, зеленел фруктовый сад. Андрей услышал голоса Виктора и Гошки и не долго думая перескочил через забор.
— И-ха-а! — приветствовал его Гошка. — Вы посмотрите, какой циркач!
На ковре, расстеленном под старой раскидистой грушей, сидели девочки и ребята. Люба Бутырина, низко наклонившись и грудью придерживая гитару, лениво перебирала струны. Клава подпевала ей. Гошка, задрав ноги, валялся на траве. Чуть поодаль, охватив руками колени, сидела Еля. Возле нее стояли Виктор и Павел. Над ковром, подвязанные за толстый ствол груши, раскачивались веревочные качели с примятой вышитой подушкой.
— Пока мать приготовит стол, посидим немного тут, — сказал Павел, обращаясь к Андрею.
— Андрюшенька, — произнося слова нараспев, спросила Клава, — ты будешь приезжать к нам в Калинкино? Еля дала мне слово, что приедет.
— Постараюсь приехать, — грустно ответил Андрей.
Опустив голову, он следил, как с басовитым жужжанием, то взлетая вверх, то опускаясь вниз, носился над цветочной клумбой полосатый шмель. Цветы были недавно политы, с их лепестков мелкими каплями стекала вода, и шмель перелетал от цветка к цветку, будто купался в прохладной и сладкой влаге.
— Павлик, покатай меня на качелях! — задумчиво сказала Еля.
Андрей стоял рядом с качелями. Крепко сжав рукой жесткую, пахнущую смолой веревку, он сказал так, точно собирался драться со всеми:
— Я покатаю!..
Еля поднялась, быстро исподлобья взглянула на Павла с Виктором, на девочек и пошла к качелям. Одной рукой она взялась за веревку, второй ловко и неуловимо оправила сзади короткое платье, села на подушку и вытянула ноги… На один миг ее взгляд встретился со взглядом Андрея, и Андрей почувствовал, что она понимает его состояние и не только понимает, но как бы говорит ему глазами, улыбкой, всем выражением своего милого, красивого лица: «Что ж, я знаю, что ты меня любишь, и все это знают, и это не может быть мне неприятно…»
Робко и осторожно Андрей качнул веревку. Ноги Ели, обутые в мягкие спортивные туфли, отделились от земли. Андрей потянул качели сильнее, еще сильнее и… ничего уже не видел на свете, кроме чуть склоненной набок темноволосой головы, вытянутых стройных ног, легкого платья, относимого ветром, теплой руки, которая доверчиво приблизилась к его руке. Да, он видел сейчас только ее, только одну Елю, и ему мучительно хотелось сказать ей, что она лучше всех, что он любит ее, что только для нее сияют розовые вечерние облака, пахнут цветы, сладостно жужжит шмель. Но он не сказал этого, а проговорил застенчиво:
— Если ты не врешь… если ты в самом деле приедешь когда-нибудь в Калинкино… прошу тебя — пусть Клава придет ко мне в Огнищанку и скажет, что ты у нее…
— Для чего? — с наивной жестокостью спросила Еля.
— Ни для чего! — грубо сказал Андрей и остановил качели.
Еля вздохнула, поправила, подняв руки, растрепавшиеся волосы:
— Спасибо, — и добавила, поднимаясь с качелей и отворачиваясь: — Хорошо… Если я приеду, тебе скажут…
Андрей посмотрел ей вслед и пошел в глубину сада. Павел закричал ему, чтоб он далеко не уходил. Гошка увязался за ним. Но Андрей перемахнул через забор и побежал домой. Там его дожидался приехавший из Огнищанки Роман. Андрей обнял брата, Таю, походил возле коней, огладил их потные шеи.
— Значит, до дому? — баском спросил Роман.
— Да, до дому…
Еще до восхода солнца они вынесли и уложили на телегу сундуки, чемоданы, мелкие свертки, заперли опустевший флигель, отнесли ключ сторожу и втроем выехали из Пустополья.
В поле, по низинам, белел, едва заметно клубился утренний туман. Он поднимался вверх, редел, распадался на мелкие клочья и, розовея, таял в чистом, сияющем пространстве. Близ дороги, на высокой копне сена, сидел ржаво-бурый беркут. Не спуская зоркого взгляда с телеги, беркут оправил клювом пестрые перья на груди, переступил с лапы на лапу, могуче взмахнул крыльями и потянул над желтоватой гладью недавно скошенных лугов.
Впереди синей полосой протянулся большой Казенный лес. Андрей оглянулся. Пустополья уже не было видно, оно скрылось за холмом.
2
На опушке леса, в тени сдвинутых телег, на которые чья-то заботливая рука натянула длинное рядно, сидели и лежали огнищанские мужики. Жатва была закончена, огнищане подгребали раскиданную по полям розвязь, выкладывали копны, а кое-кто уже начал возовицу. Полдневная жара загнала наморенных людей к опушке, и они, тяжело дыша, обтирая выжатыми рубахами мокрое тело, сбились под телегами.
В центре внимания огнищан оказался новый батрак Антона Терпужного, невысокий моложавый мужик Назар Пешнев, которого Терпужный взял вместо работавшей поденно тетки Лукерьи. Лицо у Назара было чистое, приятное, с небольшими, слегка подкрученными усиками над ярким ртом и карими улыбчивыми глазами. Три года назад Пешнев был кузнецом в коммуне «Маяк революции», потом вместе с другими бросил коммуну, несколько месяцев прожил в Ржанске, а перед жатвой нанялся к Антону Агаповичу. При первом же выходе в поле он вызвал симпатии огнищан своей недюжинной силой, рвением к работе и немногословием.
Сейчас, помахивая выжатой рубахой, Назар степенно отвечал на вопросы.
— Жил я под Острогожском, — рассказывал он, — там же и вся моя родня. На хуторе жили, хозяйновали на земле. Не то чтоб дюже бедовали, а хлеба до нового не хватало. В гражданскую взяли меня красные, побывал я под Перекопом, с махновцами бился, а когда приехал до дому, то и деревни не нашел — какая-то банда налетела, людей всех перестреляла, а деревню спалила дотла. Посидел я на пожарище, выпил штоф самогона, надел на плечи вещевой мешок и подался из своих мест. Нудно мне было там оставаться!
— А чего ж ты из коммуны сбежал? — спросил сидевший сбоку Илья Длугач. — Кишка у тебя, красного воина, оказалась тонка?
— Зачем тонка? — невозмутимо промолвил Пешнев. — Не хотел я в коммуне без последних штанов остаться, потому и сбежал. Глядел я на непорядки, мучился, мучился, а потом подумал: «Дорогие товарищи коммунары, не за то я кровь свою проливал, чтоб любоваться такой картиной». Плюнул на все и ушел.
— Правильно, — отозвался из-под телеги Тимоха Шелюгин. — Это не коммуна, а мучительство. Согнали нищих, дали им полтора коня и еще издеваются: обрабатывайте, дескать, три тысячи десятин земли.
— Никто людей силком в коммуну не гнал, — сказал Длугач, — люди добровольно собрались, думали жизнь свою по-новому повернуть.
— Вот и повернули! — засмеялись вокруг.
— До горы ногами!
— Прямо в провалье!
— Да еще баб с собой прихватили.
— Уважение Советской власти сделали…
Длугач надел рубашку, презрительно скривил губы:
— Дурачье вы все, пеньки безголовые! Тут плакать надо горькими слезами, а вы хаханьки справляете, зубы скалите. Люди желали сделать как лучше, общим трудом трудиться и всем равно красоваться, как колосья в поле. Ну, не сдюжали они, скажем, ну, силы оказалось у них маловато — все одно правда на ихней стороне, и народ по этой дорожке пойдет не сегодня, так завтра, попомните мое слово.
— Хай им черт, этим твоим колоскам и этой дорожке, — сумрачно усмехнулся Назар Пешнев. — Я лучше горбом своим заработаю хлебушек, землянку вырою, зато буду знать, что это все мое и не к чему мне голосовать, борщ сегодня варить или же кондер с пшеном.
Длугач зло скосил брови:
— И ты, божий телок, надежду имеешь у Антона Терпужного заработать хлебца? Как же! Подставляй карман! Он тебе насыплет хлебца.
— А чего ж Антон — обманщик или, тоис, мошенник? — вступился за старшего брата Павел Терпужный. — Он такой же человек, как и все.
Сердито сплюнув, Длугач махнул рукой и пошел к своим коням. За ним стали подниматься другие. Павел придержал за руку Назара, собираясь поговорить с ним о Длугаче, но в это время на дороге показались три всадника.
— Кто это? — спросил Назар.
Павел зажмурился от солнца, приставил ладонь к глазам:
— Сдается, фершаловы сыны, они тут поле загребают. Должно, пасли коней в лесу.
Это были Андрей, Роман и Федор Ставровы. Они проехали мимо телег шагом, молча поздоровались и, усмехаясь и переглядываясь, повернули по узкому промежку вправо.
— Рыжий «тоис» батрака накачивает, — повел головой Федор. — Не может без обмана ни одной минуты.
— Жмоты проклятые! — выругался Роман. — За каждый фунт зерна готовы глотку перегрызть, как собаки на людей кидаются!
Андрей с любопытством присматривался к братьям. Пока он жил в Пустополье, Роман и Федор выросли, слегка огрубели, в голосах у них прорывались незнакомые Андрею хриповатые, басовые нотки. И хотя в голосе Андрея такая петушиная хрипотца появилась давно, у себя он этого но замечал, а у братьев заметил сразу.
Три брата мало походили друг на друга. Бабка Сусачиха, соседка Ставровых, шутливо говорила Настасье Мартыновне: «Сынки твои удались ни в мать, ни в отца, а в прохожего молодца». И сейчас, если бы кто со стороны посмотрел на трех молодых Ставровых, вряд ли признал бы в них братьев — не только по лицам, но и по повадкам.
Старший, Андрей, белобрысый, голубоглазый, курносый, был высок, тонок в талии, а движения у него были резкие, размашистые. Он сидел на тонконогой караковой кобыле небрежно, перекинув на одну сторону ноги, и, разговаривая, лихо сплевывал сквозь зубы или поминутно оглаживал жидкую гриву кобылицы.
Средний брат, Роман, — ему исполнилось шестнадцать лет — был едва ли не выше Андрея. Похожий на грузина, смуглый, горбоносый, Роман явно недолюбливал лошадей. Это было видно по его посадке, прямой и излишне осторожной; он не выпускал из рук поводьев и ни на минуту не разжимал коленей. Говорил Роман быстро, захлебываясь, будто боялся, что его не дослушают или он не успеет сказать всего, что хочет. Несмотря на горячность, Роман был добрее братьев и готов за них обоих на стенку полезть.
Тринадцатилетнего Федю за его маленький рост в ставровской семье до сих пор называли Жуком и Катышком. Кареглазый, плотный, очень спокойный и рассудительный, он ни с кем не ссорился, не ругался, послушно выполнял все, что от него требовали. Самым смешным было то, что Катышок всем коням предпочел здоровенную, как слон, серую кобылу. Собираясь сесть на нее верхом, Федор свистел, Серая покорно опускала большую голову, он ложился ей на голову животом, и кобыла одним рывком забрасывала его себе на спину…
— Ну и лихой же ты ездок! — засмеялся Андрей, шлепнув Федора ладонью по спине и любуясь им. — Сам с наперсток, а Серая твоя выше горы.
— Зато она за троих потянет, — спокойно ответил Федор. — И в поле с ней никаких хлопот, борозду ведет ровной струной.
— Тимоха Шелюгин осенью пристал к отцу, чтобы продал ему Серую, так Федька ревмя ревел, ни в какую, говорит, не отдам, — сказал Роман.
Посматривая на братьев, Андрей не переставал радоваться своему возвращению в Огнищанку. Все здесь было дорого ему: и младшие братья Рома и Федор, и угрюменькая рыжеволосая сестра Каля, и отец с матерью, и кони, и поле, и даже короткое пронзительное посвистывание сусликов, которые сновали вдоль заросшей пыреем и пахучей березкой дороги.
— Приехали, — сказал Федор, сползая с лошади.
— Как будем загребать? — спросил Роман, глядя на Андрея.
— Так же, как загребали: я буду подбирать розвязь в валки, а Федя успеет подтягивать валки к копнам.
Андрей запряг двух лошадей в конные грабли, уселся на чугунное сиденье, едва заметно шевельнул вожжами. Кобылицы с места взяли рысью, но Андрей перевел их на шаг и, положив босую ногу на педаль рычага, поехал по полю. Слева и справа замелькали спицы высоких колес, зазвенели упругие стальные зубья. Нажимая на педаль, Андрей время от времени освобождал грабли от стянутой розвязи и двигался дальше. Федор на своей серой, запряженной в меньшие, одноконные грабли, стягивал валки к середине поля, а Роман выкладывал копны.
— Не спеши, Андрюша! Куда ты гонишь? — закричал Роман, когда Андрей приблизился к нему. — За тобой не поспеешь! Вы с Федькой загребаете, а я должен отставать?
— Ладно, мы тебе поможем! — отозвался, взмахнув кнутом, Андрей.
Солнце незаметно склонялось к земле, и все кругом стало приобретать желтоватый оттенок, но жара не спадала. Темные крупы кобылиц заблестели от пота. За граблями бурым шлейфом тянулся хвост пыли, в котором, разлетаясь, кружились мелкие соломинки.
Вытирая рукавом рубашки лицо, Андрей с наслаждением подставлял грудь редким порывам ветра и думал: «Хорошо в поле… простор, тишина». Он вспомнил напутственную речь Флегонтова, повторил про себя: «Человек живет для счастья всех людей. Так он сказал. А что каждому из нас делать — мне, Роману и Феде, Виктору Завьялову, Гошке с Клавой, Еле, — этого он не сказал».
Особенно приятно было Андрею вспоминать и думать о Еле. Но, вспоминая и думая о ней, он не мог отделаться от грустной мысли, что они с Елей никогда больше не увидятся и что ему нужно забыть ее. «Да, конечно, — убеждал он себя, — мне нужно забыть ее. Через год она окончит школу, уедет в город. Зачем я ей нужен?» Ему захотелось рассказать о Еле Роману и Федору, но он решил, что они не поймут его, и ничего не сказал.
По соседству со Ставровыми копнили свою полосу ржи муж и жена Тютины. Хилый Капитон, одетый в подвернутые до коленей подштанники, лениво ковырял вилами редкую розвязь, а Тоська, подоткнув юбку, бродила по полю, таская за собой деревянные грабли.
— Эге-эй, соседи! — закричал Капитон. — Может, у вас найдется закурить? Давайте трошки передохнем, покурим.
Братья Ставровы остановили лошадей, разнуздали их и пошли к Тютиным. Поле Ставровых отличалось от тютинского как небо от земли. Насколько первое было ровным, чистым, с густой стерней, настолько второе заросло колючим осотом, темнело кочками, и стерня была реденькая, немощная, забитая густыми бурьянами.
— Немного вы, должно быть, взяли ржи с этой десятины, — не удержался Андрей.
— Пудов двадцать, не больше, — на глаз прикинул хозяйственный Федор.
Тютин безмятежно улыбнулся, размял пальцами папиросу:
— На мой век, ребятки, хватит.
Он лег под копной, выпустил изо рта дым.
— Весной эту десятину надо было заборонить, кочку на ней разбить, а потом прополоть разок-другой, тогда б жито было, — мечтательно проговорил Капитон.
— А чего ж вы не сделали этого? — спросил Роман.
— Такой лодыряка сделает! — ввязалась Тоська. — Ему бы только на боку лежать!
Не стесняясь присутствия молодых парней, которые, посмеиваясь, глазели на ее толстые, открытые выше коленей ноги, Тоська уперла грабельный держак в спину, почесала одной ногой другую, усмехнулась, оглядывая братьев.
— Здоровые кавалеры повырастали. Видать, не одна уж девка по вас сохнет.
Было в Тоськином лице что-то порочное. То ли упорный, ищущий взгляд неподвижных светлых глаз, то ли откровенно зазывающая ухмылка, которая не сходила с Тоськиных губ, — что-то влекло к Капитоновой жене огнищанских мужиков и парней.
— Ты-то вроде недавно приехал? — спросила Тоська Андрея. — Гляди какой вымахал, выше меня ростом!
— Не стрекочи, Антонина! — досадливо, как от назойливой мухи, отмахнулся Тютин. — Прямо-таки слова не дашь сказать. — И, повернувшись к братьям Ставровым, сказал назидательно: — Человек должон опасаться лишней работы, она здоровью вред приносит. Вы вот свое поле в два следа загребаете, чтоб на стерне ни один колос не остался. А для чего? Ни для чего. Это происходит от жадности. Колоски вы подбираете, а жилы себе рвете, век свой укорачиваете. Мне же это ни к чему. На черта оно мне сдалось? Кусок хлеба есть — и добро. Я, ребятки, один раз рожденный на свет, и ежели я надорвусь и подохну, меня в другой раз никто не родит.
— Жалко, что тебя и первый раз родили! — с презрением бросила Тоська. — Видно, не знали, какая цаца получится…
Роман решил прервать излияния супругов Тютиных, посмотрел на солнце и сказал:
— Пошли загребать, а то батька подойдет, и не знаю, как насчет второго рождения, а второе крещение он нам обеспечит.
Братья закончили загребать и копнить засветло. Домой ехали на граблях, пели песни. Пели Андрей и Федор, а Роман, который никогда не попадал в лад, мурлыкал себе под нос.
Андрей очень устал. Живя в Пустополье и бывая в Огнищанке только наездами, он отвык от работы и сейчас почувствовал боль в пояснице. Но старался не показать этого, держался прямо и даже вызвался ехать поить коней и наносить им на ночь сена.
В воскресный день Андрей в сопровождении Романа и Кольки Турчака ходил по Огнищанке, смотрел, какие изменения произошли в деревне. За прудом он увидел новую избу Демида Плахотина. Изба еще не была накрыта, на ней белели ребра стропил, а в оконницы не были вставлены рамы, но Демид и Ганя уже переселились в нее и по вечерам, придя с поля, хлопотали во дворе: подтаскивали доски, месили глину, строили сарайчик.
— Дядька Лука Горюнов тоже думку имеет строиться, — сказал Колька Турчак. — Иван и Ларион осенью будут жениться, а жить им негде, потому дядька Лука и задумал взять участок и ставить на нем две хаты. А Шабровы погреб копают всем гуртом, у них старый завалился…
— Как живет Лизавета? — спросил Андрей.
Колька злонамеренно уточнил:
— Ведьмина дочка?
— Да.
— Все так же. Малость потише стала, глаз на людей не поднимает, совестится. И обленилась: дома еле ноги волочит, матери почти ничем не помогает, на вечерки не ходит. Выйдет в воскресенье за хату, посидит на лавочке, а потом ляжет где-нибудь за скирдой и глядит в небо.
Восторженно ворочая большой стриженой головой, пришепетывая и облизывая губы, Колька Турчак вертелся вокруг Андрея, заглядывал ему в лицо, скороговоркой выкладывал все новости:
— Пашку Терпужную муж выгнал, она с Пантелеем Смаглюком путалась, с лесником. Теперь до нее Ларион Горюнов ходит, вроде, слух есть, в зятья к Терпужному хочет пристать… А жинка Демида Кущина, тетка Федосья, тройню весной родила, трех девок, и все живые. Дядька Демид аж за голову взялся. «На беса, — говорит, — мне такой выводок…»
Андрей, Роман и Колька сидели на бугре возле старого рауховского парка. Отсюда, с бугра, видна была вся Огнищанка, каждый двор, с избой, сараем, базом, видно было все, что делается на единственной деревенской улице и на огородах: вот тетка Лукерья, размахивая хворостиной, гонит от колодца низкорослую муругую коровенку; вот с кувшинами в руках прошли Поля Шелюгина и толстенькая тетка Фекла, жена Кузьмы Полещука; проехал на велосипеде Гаврюшка Базлов в черном картузе и розовой рубахе; что-то рубит у сарая Микола Комлев; ползая на корточках, копаются в огороде Таня Терпужная и ее брат, косоглазый Тихон…
«Тут вся жизнь на виду, — с каким-то незнакомым, сладостно-щемящим чувством подумал Андрей, — тут все люди не только знают друг друга, но знают, кто чем занят, кто куда пошел и откуда пришел; они знают, кто кого любит, кто с кем ссорится. Они встречают каждого человека от дня его рождения, как встретили тройню тетки Федосьи, потом живут с человеком, трудятся рядом всю жизнь и, если человек умрет, всей деревней провожают его на кладбище… И не только человека знают. Малому и старому известно до мелочей все, что окружает соседей: кто же, например, не знает, что у Поли Шелюгиной есть голубая скатерть с вышивкой, а у Демида Плахотина — малиновые штаны галифе с лампасами, что у комлевского гнедого жеребца объявился мокрец на левой задней ноге, что в хатенке деда Силыча пахнет вялым табачным листом и сухими травами, что Тоська Тютина отбила ручку на синем чайнике, а Капитон обозвал ее за это безрукой дурындой? Всем это известно, все это знают…»
Конечно, Андрей не склонен был думать, что в Огнищанке все люди одинаково хороши, что они живут как одна дружная семья. Печальная история Лизаветы Шабровой, самосуд над Миколой Комлевым, драки при дележе земли, ночные обыски у Шелюгина и Терпужного — все это убеждало Андрея в противоположном, в том, что и тут, в заброшенной между двумя холмами глухой деревушке, как и везде в мире, идет напряженная борьба. Но — так, по крайней мере, казалось Андрею — в Огнищанке жизнь человеческая видна как на ладони, открыта для всех, добрая и злая. «Там же, — думал Андрей, — в больших городах, где такое скопище людей, хорошего человека не отличишь от плохого, и все они похожи один на другого, как деревья в лесу, и не узнаешь, что у каждого в душе».
Большие города запомнились Андрею с голодной зимы, когда на перронах и в поездах толпились беженцы, стыли на морозе трупы, сновали в толпах мешочники-спекулянты. С тех пор затаенный страх и неприязнь к городу не покидали Андрея. Даже село Пустополье сравнительно с Огнищанкой казалось ему чужим.
— Что ж ты будешь делать дальше? — спросил Андрея Колька Турчак. — Поедешь в город дальше учиться или останешься тут?
— Роман поедет учиться, — сказал Андрей, — а я пока останусь.
Лежавший сбоку Роман подтолкнул брата локтем:
— Знаешь, Андрюша, перед отъездом мне хочется одно дело сделать.
— Какое?
— Давай сходим с тобой в Костин Кут, купим пару голубей. Степан Острецов, Пашкин муж, развел голубей, вертунов. — Глаза Романа заблестели, он приподнялся, хлопнул себя по колену. — Ох и голуби, братцы мои! Красавцы! Был я у него, смотрел.
— Он их из Ржанска привез, — сказал Колька, — там, говорят, еще с монастырской голубятни остались вертуны. Ржанские голубятники их переловили, а теперь продают. Острецов по червонцу за пару платил.
— Пожалуй, давайте сходим, посмотрим, — согласился Андрей. — Сегодня воскресенье, перед вечером и пойдем.
— Куда это вы собираетесь идти? — раздался из-за кустов голос Таи.
Продираясь сквозь колючие кусты боярышника, к ним подошли Тая и Каля. Как мало были похожи братья Ставровы, так не походили одна на другую и двоюродные сестры. Насколько живой и подвижной была Тая, худенькая девочка со смуглой кожей, вздернутым носом и пушистыми каштановыми волосами, настолько Каля, рыжеволосая, светлоглазая, отличалась угрюмостью и диковатостью; она почти ни с кем не разговаривала, а если к ней обращались, отвечала раздраженно и односложно, с таким видом, словно все ее обижали.
— Куда ж вы собрались идти? — повторила Тая, усаживаясь рядом с Андреем.
— На кудакало! — ответил Роман.
— Не понимаю! — удивилась Тая.
Каля сердито сломала тонкую ветку:
— Он и сам не понимает, что говорит… лишь бы языком болтать…
— Андрюша, скажи ты! — капризно протянула Тая. Она оперлась подбородком в острые коленки, охватила руками ноги и запричитала: — Вредные, никогда не скажут. Жалко вам, что ли? Только о себе и думаете, бессовестные!
Смешливый Роман не унимался. С первого же дня приезда Таи из Пустополья он начал поддразнивать ее, высмеивал ее городские платья, шрам на переносице, привычку поводить плечами во время разговора.
— Если залезешь на верхушку тополя, тогда скажем, куда мы собрались, — категорически заявил Роман.
— Какого тополя? — Тая оглянулась.
— Вот этого, самого высокого.
Тая измерила взглядом расстояние от земли до тонкой верхушки дерева, обидчиво надула губы:
— Ишь какой хитрый! У него ствол гладкий, попробуй сам залезть.
— Я-то залезу.
— Нет, не залезешь!
— Залезу!
— Лезь! — коварно настаивала Тая. — А я полезу после тебя.
Роман привстал, потянул за рубашку Кольку Турчака:
— Постой внизу, Коля. Если я буду падать, подхвати меня.
Пока Роман с Колькой крутились возле тополя, Андрей незаметно склонился к Тае, прошептал ей тихо:
— Мы пойдем в Костин Кут покупать голубей-вертунов.
Тая кивнула — поняла, дескать, — но не подала виду и стала следить за Романом, который дважды срывался, порвал штаны и наконец, весь мокрый и поцарапанный, залез на верхушку тополя, посидел там с минуту и сполз вниз на плечи Кольки…
— Ну вот… все, — отдуваясь, сказал он Тае. — Теперь лезь ты.
— Куда? — сказала Тая, подняв брови.
— На тополь.
— Зачем?
— Как зачем? — удивился Роман. — Если залезешь на тополь, я тебе скажу, куда мы с Андреем и с Колькой пойдем вечером.
— Фу-у, какая важность! — скривила губы Тая. — Я и так знаю: вы пойдете в Костин Кут покупать голубей-вертунов.
— Хо-хо-хо! — захохотали все. — Молодец, Тайка, натянула ему нос!
Бедный Роман, прикрывал дыру на штанине, отфыркиваясь и пятясь в кусты, окинул Андрея уничтожающим взглядом:
— Предатель, предатель!
Девчонки кинулись за ним.
Через час легкая стычка под тополем была забыта. Тая и Роман помирились. После обеда можно было идти в Костин Кут, но ни у кого из ребят не нашлось десяти рублей. Андрей сберег еще в Пустополье четыре рубля, у Таи в какой-то коробочке нашелся рубль. Денег на покупку голубей явно не хватало, а просить у отца Андрей не хотел: знал, что скупой Дмитрий Данилович, прежде чем дать деньги, заведет разговор часа на полтора. Чтобы выйти из положения, решили послать к отцу его любимца Федора.
— Сходи, Жучок, — попросил Федора Роман, — тебе отец не откажет. Зато мы принесем таких голубей, что слюнки потекут!
Федя почесал затылок, подумал и на всякий случай осведомился:
— А чьи будут голуби — ваши или наши общие?
— Ясное дело, общие, — успокоил его Роман.
Постояв еще немного и попросив Андрея подтвердить, что голуби будут принадлежать всем троим, Федя посопел и отправился к отцу. Какой он вел разговор с Дмитрием Даниловичем, осталось неизвестным, однако десять рублей принес и вручил Андрею.
— Берите, но если обманете — никогда больше не пойду…
Обрадованные Андрей и Роман чуть ли не бегом кинулись в Костин Кут. Колька Турчак едва догнал их возле сельсовета и стал убеждать, чтобы они сразу не давали десять рублей, а поторговались как следует.
— И голубей не очень нахваливайте, а то он тройную цену назначит.
Острецов встретил ребят в садике. В белой ночной сорочке, в измятых галифе и в легких тапочках, надетых на босу ногу, он лежал на рядне, читал. Сбоку, между двумя кирпичами, горел костерик. На кирпичах стоял чугунный утюжок. В трех шагах от Острецова на низком пеньке сидел чернявый парень с охотничьей одностволкой.
— Это лесник с Казенного, — шепнул Колька, — его фамилия Смаглюк.
— С чем пожаловали, друзья? — не очень приветливо спросил Острецов.
— Голуби у вас хорошие, — начал Андрей, вслушиваясь в разноголосое воркование за деревьями, — нам давно говорили про ваших голубей.
— Приличные голуби, — подтвердил Острецов. — Что ж дальше?
— Мы хотели купить пару или две на развод.
Искоса глянув на горячий утюг, Острецов сказал недовольным тоном:
— Мне сегодня некогда — видите, у меня товарищ сидит.
— Мы можем подождать, — вмешался Роман. — Вы себе разговаривайте с вашим товарищем, а мы посидим за плетнем.
— Долго придется ждать, — уже начиная злиться, сказал Острецов. — Придете завтра, и я вам покажу свою стаю, а сейчас не могу.
Андрей решил не сдаваться. Он подошел ближе, присел на корточки и заговорил, посматривая то на Острецова, то на Смаглюка:
— Видите, Степан Алексеевич, я хотел подарить пару голубей брату, вот ему. Он завтра уезжает в город, будет там учиться. Очень просим вас показать голубей. Солнце на закате, они сейчас усядутся. А мы вас долго не задержим.
— Ладно, — скрывая раздражение, сказал Острецов, — пойдемте. А ты, — он повернулся к Смаглюку, — присмотри за утюгом, я скоро вернусь…
Десятка три голубей, самых разномастных, сидели на соломенной крыше низкого сарая, на распахнутых двустворчатых дверях, расхаживали, волоча крылья по земле. Протяжно и тонко гудели голубки, а вокруг них, важно выпятив грудь, поворачиваясь то влево, то вправо, ворковали голуби.
У ребят глаза разбежались. Роман сразу облюбовал крошечного белоголового голубка, будто одетого в оранжевую кофточку. Андрею понравился темно-вишневый голубь с белой вставкой над клювом.
— Мне бы вот этого. — Роман умоляюще посмотрел на Острецова.
— А мне этого.
— Гм, — хмыхнул Острецов, — у вас губа не дура. Оба голубя входят в лучшую мою пятерку. И голубки у них красавицы.
Поодиночке и парами голуби стали залетать в сарай. Острецов ласково приговаривал им: «Гуль-гуль-гуль-гуль». Они вертелись возле него, и он, негромко хлопая ладонями, гнал их к гнездам.
— Продайте нам все-таки эти две пары, — сказал Андрей.
Острецов прищурился, глянул себе под ноги и отрезал:
— Тридцать рублей!
— Что вы! — хором закричали ребята.
— Ого-о!
Поняв, видимо, что настойчивые покупатели от него не отстанут, Острецов спросил нетерпеливо:
— Сколько же вы дадите?
— Пятнадцать рублей, — сказал Андрей. — Больше у нас нет ни копейки.
К удивлению ребят, Острецов не раздумывая согласился:
— Давайте!
Через четверть часа, придерживая за пазухой драгоценную покупку, Андрей и Роман мчались в Огнищанку. За ними несся Колька Турчак.
Вернувшись в садик, Острецов снял с кирпичей утюг, достал из-под рядна чистый лист бумаги и стал гладить его утюгом. По-детски приоткрыв рот, Смаглюк не сводил с него глаз. Скоро под утюгом на белом листе начали проступать коричневые буквы.
— Теперь можно читать, — сказал Острецов.
И он прочитал про себя:
«К первому сентября я обязан быть в Петрограде, в известном вам доме. Меня хочет видеть друг покойного Б. В. С. Очевидно, вы слышали о нем. Этого человека зовут Джордж Сидней Рейли, и он приедет по чрезвычайно важным делам.
К. Погарский».
Острецов еще раз прочитал письмо, легонько свернул его жгутом и сжег. Когда от письма осталась горстка черного пепла, он дунул на нее и вытер ладонь пучком травы.
3
После провала Савинкова капитан Джордж Сидней Рейли уехал в Америку и пробыл там целый год. Тотчас же по приезде он снял в Нью-Йорке, на Нижнем Бродвее, приличное помещение и открыл «Универсальную контору для услуг». Контора эта сделалась полулегальным штабом белогвардейцев-эмигрантов, во главе которых стоял Борис Бразуль, тот самый, который познакомил есаула Крайнова с «графом» Анастасом Вонсяцким.
— Конец Савинкова не означает конца борьбы, — сказал Рейли своей супруге. — Я не намерен складывать оружие. Деловые люди Америки помогут денежными средствами, а исполнители моих планов найдутся на всех материках. Большевики еще почувствуют силу моей руки…
В конторе на Бродвее днем и ночью кипела работа. Кроме Бразуля самыми деятельными помощниками Рейли были многие эмигранты: генерал Череп-Спиридович, который перевел на английский язык и опубликовал в Америке пресловутые «Протоколы сионских мудрецов» — провокационную антиеврейскую книжку; «граф» Анастас Вонсяцкий, который, бесконтрольно расходуя деньги миссис Стивенс, не только разъезжал по Европе и сколачивал белогвардейские группы, но добрался и до Китая, где имел встречу с атаманом Семеновым; офицеры-белогвардейцы Селезнев, Столбин, Ладецкий; группа петлюровцев и сторонников гетмана Скоропадского, а также много американцев из Ку-клукс-клана.
Бывал в этой конторе и есаул Гурий Крайнов. По возвращении с Севера он как связной несколько раз ездил во Францию, на Балканы, а последнее время по приглашению миссис Стивенс отдыхал в ее поместье в Томпсоне.
Капитан Сидней Рейли не брезговал в своей деятельности никем и ничем. Его контора рассылала антикоммунистические письма американским финансистам, генералам, священникам, сенаторам. Отсюда, из конторы на Бродвее, во все страны света отправлялись элегантно одетые люди с тайными инструкциями, приказами, паролями. Тут инспирировались и писались многие антисоветские статьи, устраивались совещания, встречи. Тут под руководством Рейли разрабатывался план «крестового похода» против «красной России». Тут сам Сидней Рейли, пользуясь данными частной полиции, составил картотеку, которая была озаглавлена: «Полный список тех, кто втайне работал в Америке на большевиков».
Пепита, хотя и разделяла убеждения мужа, не раз упрекала его в том, что он не оказывает ей должного внимания. Однако упреки скучающей супруги мало действовали на капитана Рейли. Он дни и ночи проводил в своей конторе и все больше нервничал. Раздражение Рейли объяснялось тем, что он уже более полугода не встречал людей из России, которые могли бы снабдить его точной информацией.
— Скотина Эвардс! — ругался Рейли. — За такой большой отрезок времени не смог наладить прямую связь с Россией!
Капитан Эвардс, давний друг капитана Рейли по Интеллидженс сервис, опытный и пронырливый разведчик, жил в Эстонии, в Ревеле, и ведал «русским сектором». Рейли условился с ним, что, как только появятся свежие люди из «Калифорнии» — так условно два капитана именовали Советский Союз, — Эвардс немедленно свяжет их с ним и, если эти люди окажутся интересными, отправит их в Париж, куда тотчас же выедет сам. Но шли недели, месяцы, а от Эвардса не было никаких известий.
«Что ж, займемся пока Балканами», — решил Рейли.
Он пригласил к себе в контору Бориса Бразуля и сказал ему:
— Мне нужны три-четыре толковых русских офицера, которые имеют знакомство и связи с офицерами армейских частей Врангеля в Сербии и в Болгарии.
Бразуль назвал есаула Крайнова.
— Неужели только он один? — спросил Рейли.
— Есть еще один офицер, — подумав, ответил Бразуль, — одностаничник Крайнова, хорунжий Гундоровского полка. Он знает многих офицеров-казаков в Болгарии. Но дело в том, что этот хорунжий — его зовут Максим Селищев, — насколько мне известно, сидит сейчас в тюрьме.
Рейли повертел в руках бронзовую пепельницу:
— Вы сможете выпустить этого хорунжего?
— Думаю, что смогу. Это не так трудно.
— Найдите его, — сказал Рейли, — но не навязывайте ему никаких заданий. Пусть отдохнет месяц-другой в Штатах, а потом направьте его вместе с Крайновым в Париж. Я сам поговорю с обоими, сведу их в Париже с кем следует и пошлю на Балканы.
Бразуль глаз не спускал с Рейли и думал завистливо: «Дьявол, сколько благ на его долю отпустила судьба! Умница, джентльмен до мозга костей, обладает изумительной женщиной. А уж разведчик такой, что с ним никто не сравнится…»
Заискивая перед капитаном, Бразуль хотел было завести с ним длинный разговор о России, но в кабинет без стука вошел маленький Столбин, бывший камер-паж, исполнявший обязанности секретаря Рейли, и протянул письмо.
— Только что доставлено из Эстонии, — почтительно изогнулся Столбин.
— Из Эстонии? — Глаза капитана Рейли заблестели.
— Да, сэр, ревельский штемпель.
Рейли отпустил Столбина и раскланялся с Бразулем:
— Извините, пожалуйста. Неотложное дело. Я должен остаться один…
Он затворил дверь, осторожно вскрыл конверт и внимательно прочитал письмо.
В письме было написано:
«Дорогой Сидней! К вам в Париж должны явиться от моего имени два лица — муж и жена. Они скажут, что привезли известие из „Калифорнии“, и вручат вам записку со строфой из Омара Хайяма, которую вы, конечно, помните. Если их дело заинтересует вас, попросите их остаться. Если оно вам неинтересно, скажите: „Благодарю вас, будьте здоровы“. Теперь об их деле. Они являются представителями предприятия, которое, по всей вероятности, окажет большое влияние на европейский и американский рынки. Они полагают, что это предприятие достигнет полного расцвета не ранее как через два года, но некоторые благоприятные обстоятельства могут дать ему ход и в ближайшем будущем… Они не хотели бы в настоящее время афишировать себя. Отсюда вам понятна необходимость строгой тайны… Я рекомендую вам проект действий этого предприятия, полагая, что он может заменить тот план, над которым мы столько трудились и который так катастрофически провалился.
Преданный вам Э.».
Пепита была страшно удивлена, когда по возвращении из конторы Сидней Рейли сказал ей, улыбаясь краем губ:
— Я решил, милая, исполнить ваше желание: через четыре дня мы с вами поедем в Париж и проведем там несколько месяцев.
Случилось так, что супруги Рейли отплывали из Америки на пароходе, на том самом, с которым прибыли сюда год назад. На пристани их провожала большая группа людей. Как положено в таких случаях, было много цветов, шампанского, пожеланий счастливого пути. Генерал Череп-Спиридович, похожий на лесной гриб, щуплый старичок, так расчувствовался, что даже прослезился и промямлил, поводя носом:
— На вас, дорогой мистер Рейли, мы только и надеемся! Вы наш земляк, в вас течет частица русской крови, вы не можете забыть горе поруганной родины, не так ли? Не вернуться ли нам в ресторан и не выпить ли по этому поводу шампанского?
— Успокойтесь, генерал, — Рейли щелкнул кнопками светлых перчаток, — мы с вами допьем шампанское в России и в очень скором времени, уверяю вас!
— Дай бог, дай бог, голубчик! — прорыдал старик. — Уже сил нету ждать… Ну ее, эту самую Америку, господь с ней… Мне бы домой, к родным, так сказать, могилкам, последний привет им передать.
Громадный «Нью-Амстердам», лениво покачиваясь на волнах, пересекал океан. Сидней Рейли и Пепита перед вечером выходили на палубу, усаживались в шезлонги и, улыбаясь, между делом вполголоса подтрунивали над пассажирами, говорили о Франции, о вероятном выступлении Пепиты в парижской оперетте, о разных милых пустяках.
От Пепиты не ускользнуло, что во время самых безмятежных разговоров на энергичном лице ее мужа вдруг появлялась тень и глаза его принимали напряженное и злое выражение.
— Ох, боюсь я, мой верный рыцарь, что вы в Париже станете оставлять меня одну, точно так же как оставляли в этом сумасшедшем Нью-Йорке! — покачала головой Пепита.
Предчувствия не обманули ее. Только два дня пользовалась она обществом мужа. Они поселились в предместье Парижа, на комфортабельной даче, которую снимали уже много раз, и, никуда не выходя, сидели в садике, мило болтали, писали письма.
На третий день, в одиннадцатом часу, горничная доложила Пепите, что незнакомые господин и дама спрашивают мсье. Рейли приказал проводить посетителей в его кабинет. В дом вошел маленький, сутуловатый человечек в очках. Чисто, до синевы, выбритый, надушенный, безукоризненно одетый, он вел под руку высокую пожилую женщину с пышным бюстом и морщинистой шеей. Огненно-рыжие волосы женщины были уложены на голове в виде свернутой спиралью башни.
— Наша фамилия Никогосовы, — по-русски сказал человечек Сиднею Рейли. — Мы виделись с мистером Эвардсом, и он порекомендовал нам встретиться с вами. Кроме того, мистер Эвардс просил передать вам письмо.
Это было все, что произнес человечек в очках. Он вынул из бокового кармана узкий конверт, протянул его Рейли, уселся в кресле и замолк. Весь дальнейший разговор вела мадам Никогосова, которая по-мужски шагала по комнате, курила крепкие папиросы и говорила низким, сдавленным голосом:
— Мы с мужем восемь лет, то есть с первых дней революции, состоим в антисоветской организации. Сейчас муж и я занимаем в советских учреждениях ответственные должности и связаны со многими товарищами, которых…
— С кем, например? — не совсем вежливо перебил Рейли.
Мадам Никогосова ткнула окурок в пепельницу и, роняя табак на дорогое серое платье, размяла в пальцах новую папиросу.
— Наши связи охватывают довольно обширный круг старой интеллигенции, служащих различных наркоматов и других учреждений.
— А сейчас вы и ваш супруг выполняете за границей какие-нибудь официальные поручения Советского правительства? — спросил Рейли.
— Муж командирован за границу по торговым делам, — объяснила мадам Никогосова, — а мне разрешили выехать с ним, так как у него детренированное сердце и он не может ездить один.
Крупной рукой она взбила волосы, многозначительно посмотрела на Рейли:
— Помимо официальных поручений, выполняемых мужем, у нас, дорогой сэр, есть особая задача — выяснить отношение Европы к возможному изменению режима в Советском Союзе.
— Какое изменение вы имеете в виду? — спросил Рейли.
Рыжеволосая женщина зажгла спичку, некоторое время придержала ее коричневыми от табака пальцами.
— Видите ли, — сказала она, — по нашим данным, в России существует довольно много различных антисоветских групп, но они все разрознены и, конечно, имеют разную ориентацию. Однако лидеров этой группы — а мы связаны с некоторыми из них — объединяет общая цель: свержение Советского правительства и реставрация капиталистического строя. Если еще учесть, что в Коммунистической партии нарушено единство и что Троцкий активизирует действия своих сторонников, можно прийти к выводу — пришло время для нанесения удара по советскому режиму.
Мадам Никогосова остро глянула на Рейли:
— Кроме того, назрела крайняя необходимость в том, чтобы в Россию, хотя бы на короткое время, прибыл человек, облеченный соответствующими полномочиями от зарубежных антисоветских сил. Он мог бы быстро консолидировать наши разрозненные группы и собрать для удара мощный кулак.
Сидней Рейли побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. То, что говорила неприятная особа в сером платье, имело несомненный интерес. Но можно ли верить ее словам? Не преувеличивает ли она силы антисоветских слоев в России? Насколько реально все это?
Проверить положение дел можно было только там, в России, в той самой «Калифорнии», за которой капитан пристально следил, но в последние годы мог пользоваться только случайно добытой информацией о Советской стране. «Да, — подумал Рейли, — надо, не откладывая дела в долгий ящик, съездить туда самому и решить все на месте. Надо восстановить деятельность притихшей после ареста Савинкова зеленой армии. Надо попытаться наладить прочную связь с лидерами троцкистской оппозиции, спаять разношерстную мелюзгу — монархистов, меньшевиков — всех, кто ненавидит красных».
— Хорошо, — сказал Рейли, — вы оба поедете со мной в Финляндию и оттуда организуете мне встречу с кем-либо из ваших руководителей. Встреча может состояться на территории Советского Союза — в Ленинграде или в Москве, куда я поеду, чтобы изучить обстановку.
Капитан Рейли поднялся, давая понять, что разговор закончен.
— Мы выедем через два дня, — сказал он, — прошу вас приготовиться.
На протяжении этих двух дней Рейли ни на секунду не прекращал свою бешеную деятельность: встречался с секретными агентами Интеллидженс сервис, оформил для себя фальшивые советские документы, запасся значительной суммой советских денег, телеграфировал в Хельсинки о своем приезде.
Не желая волновать жену, он предупредил ее о том, что едет на две недели в Финляндию, но о предстоящей нелегальной поездке в Советский Союз умолчал.
— Прошу вас не скучать, — сказал он Пепите. — Я долго задерживаться не буду…
Как было условлено, через два дня Сидней Рейли выехал из Парижа в сопровождении супругов Никогосовых.
В Хельсинки Рейли встретился с одним из офицеров финского штаба и попросил его обеспечить в ближайшее время переход через границу небольшой группы людей. Флегматичный офицер, давний знакомый Рейли, пообещал сделать все, что от него зависит, и даже предложил двух проводников, которые, по его словам, уже не раз бывали в Советском Союзе и отлично знают все безопасные приграничные проходы.
Мадам Никогосова в свою очередь отправила в Москву телеграмму с условным текстом. Ей быстро ответили, что один из руководителей организации выедет в Ленинград для переговоров с Сиднеем Рейли.
Уже в последние часы перед выездом к границе Рейли решил написать жене письмо. В номере гостиницы он наспех набросал карандашом на листке бумаги:
«Милая Пепита! Мне неотложно надо съездить на три дня в Петроград и в Москву. Я выезжаю сегодня вечером и вернусь во вторник утром. Я хочу, чтобы вы знали, что я не предпринял бы этого путешествия без крайней необходимости и без уверенности в полном отсутствии риска, сопряженного с ним. Пишу это письмо лишь на тот маловероятный случай, если бы меня постигла неудача. Даже если это случится, прошу вас не предпринимать никаких шагов, они ни к чему бы не привели, а только всполошили бы большевиков и способствовали бы выяснению моей личности. Меня могут арестовать в России лишь случайно, по самому ничтожному, пустяковому поводу, а мои друзья достаточно влиятельны, чтобы добиться моего освобождения. Целую ваши руки. До скорого свидания.
Д. С. Р.».
Для перехода через границу ждали темного, туманного вечера. Сидней Рейли в сопровождении финского патруля добрался на телеге до маленькой пограничной деревушки. Его сопровождала неутомимая мадам Никогосова.
— Я хочу пожелать вам счастливого пути и удостовериться, что вы благополучно перешли самую опасную зону, — сказала она капитану Рейли.
Окруженная сосновым бором, финская деревушка стояла на берегу неширокой реки, разделявшей в этом месте два государства. Финны-проводники заверили Рейли, что реку можно перейти вброд и что плыть придется метров десять, не больше. Сидней Рейли уложил в резиновый мешок костюм, документы, деньги, крохотный фотоаппарат, девятизарядный карманный пистолет.
Днем группа засела в сложенном из бревен пустом сарае, из которого хорошо были видны оба берега. Подняв к глазам тяжелый морской бинокль, Рейли сквозь щель в бревнах осмотрел кустарник на советском берегу, уходившую на юго-запад дорогу, черепичные крыши деревенских домов на горизонте. До темноты два советских солдата-пограничкика только один раз прошли вдоль берега, постояли немного у высокой сосны. Они были так близко, что Рейли видел выражение их лиц — один, высокий, монгольского типа, смеялся, второй, наголо остриженный, курносый парень, должно быть новичок, боязливо осматривался. Пограничники скоро ушли. Туман все сгущался.
— Пора! — сказал Рейли.
Не стесняясь присутствия мадам Никогосовой, он невозмутимо снял пиджак, брюки, ботинки, остался в темном шелковом белье, сделал несколько движений руками.
— Не знают большевики, — проговорил он, — какой гость к ним жалует…
— Желаю вам удачи и счастья, — прошептала мадам Никогосова.
Она слышала, как первый проводник вошел в воду и тихонько поплыл. За ним двинулся Сидней Рейли, потом второй проводник. Вокруг стояла мертвая тишина. Мадам Никогосова подождала минут тридцать, сложила в рюкзак оставленный Рейли костюм и ушла в дом, где ее дожидались хозяева.
Капитан Сидней Рейли благополучно миновал пограничную зону и вместе со своими молчаливыми проводниками добрался на следующий день до Ленинграда. Одетый в драповое пальто Леншвейпрома, в скромный костюм, с черной, не первой свежести кепкой на голове, он ничем не отличался от типичного советского служащего и не мог вызвать ничьих подозрений.
Безопасное убежище для Рейли и его спутников было приготовлено на Васильевском острове, в квартире механика Совторгфлота Альберта Ивановича, который уже шесть лет служил в Интеллидженс сервис, вел себя крайне осмотрительно и был у советских властей на хорошем счету.
По вызову Рейли в квартиру механика явился приехавший из Ржанского района бывший полковник Погарский. Седоголовый, обветренный, с хищным носом и круглыми желтоватыми глазами, он был похож на старого степного коршуна, но все еще не терял былой кавалергардской выправки и держался прямо и твердо. В минувшем году Погарский устроился бухгалтером ржанского кирпичного завода, сошелся с мещанкой-вдовой и жил в ее тихом, уютном домике.
— Давно мы с вами не виделись, — сказал ему Рейли. — Года три или около этого.
— Да, три года, — подтвердил Погарский. — С тех пор многое изменилось. Большевики пустили глубокие корни, укрепились, а мы, как суслики, отсиживаемся в норах и все ждем лучших времен.
Рейли рассеянно полистал ноты, лежащие на пианино, переставил с места на место фарфоровую фигурку пастушки с ягненком.
— Мне захотелось увидеть вас по двум причинам, — сказал он. — Во-первых, хочу узнать, не сложили ли ваши люди оружие после смерти Савинкова, и, во-вторых, услышать от вас точную информацию о настроении крестьянства в ваших местах.
— Оружия мы не сложили, — ответил Погарский. — У меня в девяти уездах сохранились небольшие отряды, но, кроме мелких диверсий, они ничем не занимаются, так как нами утеряна ориентация и ни с кем нет связи. Не можем же мы действовать наобум Лазаря и превращаться в провинциальных налетчиков! Что же касается нашего мужичка, то он сейчас жрет в три горла, помаленьку богатеет и знать никого не хочет.
— А поддержит ли он, ваш мужичок, выступление внутренних антисоветских сил, если таковое состоится? Меня, например, уверяли, что мужик против большевиков.
Погарский скептически надул губы, покачал головой:
— Плюньте вы на эти уверения! Мужики политически неразвиты и не хотят никаких изменений. На черта они им сдались! Большевики им землю дали? Дали. Продразверстку упразднили? Упразднили. Цены на промышленные товары снизили? Снизили. Ну а мужикам больше ничего не нужно. Правда, нам сейчас очень на руку все то, что творит троцкистская оппозиция. Кое-кого из троцкистов надо было бы привлечь.
Недобрая усмешка тронула плотно сжатые губы капитана.
— Троцкисты нужны нам только на первых порах, как очередной козырь в игре. Не больше. Во всяком случае, на них опираться мы не будем.
Рейли дал полковнику Погарскому несколько адресов в разных городах Европы, три тысячи рублей и сказал на прощание:
— Ждите моих указаний, сохраняйте отряды и готовьтесь…
Днем Рейли в сопровождении хозяина квартиры ходил по Ленинграду, внимательно прислушивался к разговорам на улицах, разговаривал со студентами, рабочими. Он потолкался на вокзале, в магазинах, съездил на рынок. Нет, никаких признаков голода, нищеты или подавленности капитан Сидней Рейли у ленинградцев не нашел. Они все казались вполне здоровыми, довольными своей судьбой людьми и отнюдь не походили на несчастных «пленников большевизма», как писали о них реакционные газеты Америки и Англии.
Вечером в квартиру Альберта Ивановича вошел невысокий человек в кожаном пальто. Он сказал, что приехал по телеграмме мадам Никогосовой. Рейли молча поклонился гостю.
Они заперлись в отдельной комнате и говорили минут тридцать. Грузный Альберт Иванович, оберегая своих гостей, то и дело выглядывал в окно, выходившее на улицу, и прислушивался к звукам на лестнице. Но ничего подозрительного не было.
Уже уходя, невысокий человек остановился в прихожей и сказал Сиднею Рейли:
— Территориальные уступки западным державам нас не смущают.
— Мне все ясно, — проговорил Рейли. — Не позже чем через неделю я изложу заинтересованным лицам вашу точку зрения.
Невысокий раскланялся, застегнул на все пуговицы кожаное пальто, которое он так и не снял на протяжении всего разговора, и нервными, подпрыгивающими шагами спустился по ступенькам лестницы.
Капитан Сидней Рейли прожил в Ленинграде несколько дней. Он успел встретиться с двумя представителями разных монархических групп, связал их с южной группой белых офицеров, руководитель которой, давно знакомый капитану, приехал в Ленинград по его телеграмме. Хозяину квартиры Альберту Ивановичу капитан оставил обширное задание: во что бы то ни стало связаться с кем-либо из оппозиционеров-троцкистов, выяснить их отношение к подпольным меньшевистским группам и в ближайшие месяцы выслать в Париж подробный шифрованный доклад.
— Если это будет выполнено, — сказал капитан, — я вторично приеду в Ленинград для непосредственного руководства операцией.
В последний день Рейли никуда не выходил, поспешно писал разные инструкции и письма, вечером передал все написанное Альберту Ивановичу и сказал:
— Постарайтесь вручить это адресатам возможно быстрее…
После полуночи Рейли и его спутники-финны покинули Ленинград, доехали поездом до небольшой станции вблизи границы и решили пересидеть день в деревне, дождаться ночной темноты и незаметно пройти к тому самому месту на берегу реки, которое было им всем знакомо и казалось безопасным.
На пороге окраинного деревенского домика они увидели пожилую женщину и попросились к ней отдохнуть.
— А далеко вам идти-то? — спросила женщина.
— Километров пятнадцать, — не смущаясь ответил Рейли. — Мы землемеры, там работает наша партия.
— Что ж, заходите, — сказала женщина.
В жарко натопленном домике просидели часа полтора. Рейли был очень доволен своей поездкой. Все шло как по маслу. Обстановка в России была достаточно выяснена. Впереди предстояла сложная работа по объединению антисоветских сил, которую Рейли уже начал планировать.
Как только стемнело, стали собираться.
— Куда же вы на ночь глядя? — уговаривала их гостеприимная женщина. — Переночевали бы у меня.
Сидней Рейли поблагодарил и сказал, что идти надо, их будет ждать подвода.
Была безветренная звездная ночь. Кое-где по болотцам белели редкие клочья тумана. Сзади и справа лаяли собаки. Пожилой финн, проводник, нащупав пешеходную тропу среди болот, зашагал быстрее. Рейли шел за ним, второй проводник тоже не отставал. До заветной речки оставалось совсем немного, не больше километра…
В это самое время двое солдат-пограничников сидели в кустарнике, неподалеку от тропы. Они поговорили шепотом о завтрашних занятиях и замолчали. Где-то слева зашелестела сухая трава. Ни слова не говоря, пограничники вскинули винтовки. На тропе ясно вырисовывались три фигуры, торопливо идущие к реке.
— Стой! — закричал один из пограничников.
Трое бросились бежать. В темноте вспыхнул огонек выстрела. Передний человек упал. Задний бросился в сторону. Тот, который шел посередине, несколько раз выстрелил из пистолета и побежал к реке. Молодой пограничник поймал его на мушку, нажал спусковой крючок. Грянул выстрел. Бегущий на секунду остановился и беззвучно рухнул на землю.А Пуля попала ему в затылок и вышла чуть выше правого глаза.
Через три недели в лондонской газете «Таймс» появился лаконический, набранный мелким шрифтом некролог:
«28 сентября 1925 года у деревни Аллекюль, в России, большевиками убит Джордж Сидней Рейли…»
4
Советские дипломатические курьеры часто ездили в Берлин, доставляя в посольство инструкции и указания Комиссариата иностранных дел.
Пасмурным октябрьским днем выехали из Москвы и Александр Ставров с Сергеем Балашовым. После смерти Марины Александр осунулся, похудел, стал замкнутым. Товарищи понимали его состояние, не беспокоили расспросами, старались избавить его от поездок, и он молчаливой благодарностью отвечал на это дружеское внимание. Балашов удивился тому, что Александр, как только тронулся поезд и они остались в купе одни, сам заговорил о своем горе.
— Ты, Сергей, любил кого-нибудь по-настоящему? — тихо проговорил он, глядя в окно. — Конечно, я имею в виду любовь к женщине.
Балашов слегка смутился:
— Любил… Мне и сейчас нравится одна девушка, она учится в педагогическом институте.
— Вот и я очень любил, только моя любовь оказалась несчастливой — задумчиво сказал Александр. — Ничего из этой любви не вышло. Женщина, которую я любил, четыре года ждала без вести пропавшего мужа. Потом она умерла. — Он посмотрел на Балашова, невесело усмехнулся: — Видишь, как бывает в жизни… Сейчас, брат ты мой, со мной такое делается, будто у меня вырвали сердце…
Всю дорогу Александр читал, лежа на полке, или часами простаивал у окна, глядя, как убегают назад обронившие листву деревья. На стоянках, не выходя из вагона, он всматривался в лица снующих по перрону пассажиров и думал: «На свете много людей. А ее нет… Среди них много, очень много хороших, красивых, добрых. Но ее нет… Они куда-то едут, чему-то радуются, о чем-то печалятся, кого-то любят. Но ее нет, нет…» Это ощущение пустоты, боли и одиночества ни на минуту не покидало Александра, и он понял, что не сможет забыть Марину никогда.
В Берлине Александру и его товарищу пришлось дожидаться четыре дня.
Служившая в советском посольстве переводчицей фрейлейн Хейнерт, старая дева с грустными светло-голубыми глазами, провожая однажды Александра, сказала ему:
— Вас, наверное, поражает такое количество безработных, голодных людей? Мы уже привыкли к этому зрелищу и потеряли надежду на то, что когда-нибудь наступят лучшие времена…
Робко прикоснувшись к локтю Александра большой, затянутой в дешевую, нитяную перчатку рукой, фрейлейн Хейнерт призналась:
— Счастье моей семьи в том, что я случайно изучила когда-то русский язык и сейчас смогла получить место в вашем посольстве. Если бы не это, мы все умерли бы с голоду. Ведь я одна содержу трех больных старух — мать, бабушку и тетку. Из-за этого я и замуж не вышла, оказалась никому не нужной с моим полуживым приданым…
Стоял ясный осенний день, солнце уже почти не грело, но светило вовсю. По широкой, разделенной бульваром Унтер-ден-Линден, озабоченные, погруженные в свои мысли, проходили мужчины и женщины. Казалось, их ничто не радовало — ни солнечные пятна на тротуарах, ни свежий воздух, ни детский гомон на бульваре. Они шли, засунув руки в карманы пальто, не обращали друг на друга никакого внимания, словно каждый из них находился не среди людей, а в густом лесу.
— Нелегко вам, видно, живется, — сказал Александр.
— Давайте сядем, — попросила фрейлейн Хейнерт, — я немного устала.
Они присели на одну из массивных скамеек, в длинный ряд вытянутых вдоль бульвара. Вокруг сновали дети, проходили, опираясь на палки, старики, молодые и старые женщины возили в колясках закутанных в одеяла младенцев.
— Да, вы правы, — задумчиво проговорила фрейлейн Хейнерт, — живется нам очень тяжело. Хотя инфляция закончилась и мы теперь не носим с собой на рынок полные корзинки никчемных бумажек, которые назывались деньгами, от этого не стало легче. Мужчин у нас выгоняют с заводов и фабрик и заменяют их женщинами, потому что это дешевле. Но и женщинам не хватает работы, и они вынуждены идти на улицу или заниматься на клочках земли огородничеством.
— Что же предпринимают ваши правители? — спросил Александр.
— Они объясняют все наши беды тем, что мы должны платить трибуты[1] англичанам и французам, победившим нас в войне, — махнула рукой фрейлейн Хейнерт, — но мы знаем, что такие, как старый Крупп или Гугенберг, не только не платят никаких трибутов, но еще и получают от правительства займы для восстановления своих заводов. С нас же требуют последний пфенниг и заставляют голодать.
Фрейлейн Хейнерт проводила взглядом пожилого толстого мужчину в военной шинели с меховым воротником. Он шел прямо, сверкая лакированными сапогами и надменно поглядывая по сторонам.
— Такие живут хорошо, — с некоторой завистью сказала фрейлейн Хейнерт, — особенно с тех пор, как фельдмаршал Гинденбург стал президентом. У каждого из них свои поместья, хозяйство, а президент еще обеспечил им ссуду.
— А крестьяне не получают ссуду? — спросил Александр.
— Какая там ссуда! — Фрейлейн Хейнерт взглянула на Александра. — Наши крестьяне еле сводят концы с концами. Недавно я получила письмо из Вестфалии, от своего старого дяди Иоганна. Он пишет, что они начинают есть мякину. До войны у него был свой участок земли, потом он разорился и сейчас стал хоерлингом.
— Что это значит? — спросил Александр.
— Хоерлингами у нас называют полунищих крестьян, которые арендуют у помещика крохотный клочок земли и за это работают на его полях.
— А отработка большая?
— Дядя Иоганн арендует у некоего Гизеке один гектар и вместе с женой и дочкой работает на земле Гизеке девяносто дней в году.
— Здорово! — покачал головой Александр. — Очень похоже, что эти ваши хоерлинги ничем не отличаются от рабов, разве только названием.
Прощаясь с фрейлейн Хейнерт, Александр по-дружески пожал ей руку и подумал: «Сколько же вас тут таких, бесприютных… Не скоро, видно, найдете вы свое счастье…»
Многое в эти дни рассказал Александру третий секретарь посольства Юрий Лещинин, высокий юноша в золотых очках. Сын старого революционера-эмигранта, Лещинин несколько лет назад окончил университет в Монпелье, во Франции, вместе с отцом приехал в Советскую Россию и тотчас же был приглашен на дипломатическую работу. Это был выдержанный, подтянутый, очень спокойный молодой человек; он сразу понравился Александру серьезностью, подчеркнутой вежливостью, остротой ума.
Когда Александр рассказал Лещинину о своем разговоре с фрейлейн Хейнерт, тот походил по комнате и, потирая кончики пальцев, сказал:
— Да, положение здесь очень серьезное. Страна разорена, народ голодает. И хуже всего то, что правительство думает не о помощи народу, а о том, чтобы уже сейчас начать подготовку к будущей войне.
Он вынул из шкафа и положил на стол кипу подшитых бумаг.
— Перелистайте, Ставров, посмотрите, что они пишут. Недавно, например, сообщили, что заводы Круппа выпускают лемехи и зубные коронки из нержавеющей стали, а концерн «Фарбениндустри» — искусственные удобрения. Попробуйте по-настоящему проверить это, и вы убедитесь, какие это коронки и удобрения. Все это наглая ложь. У них почти открыто пущен в ход оружейный завод «Рейнметалл-Борзиг». Почти открыто рейхсвер превращается в армию.
— Конечно, союзники смотрят на это сквозь пальцы? — сказал Александр.
— Несомненно.
— Вообще у меня такое впечатление, что немцы находятся на каком-то распутье и что они очень разрозненны и подавленны, — задумчиво проговорил Александр.
— Что они разрозненны — это верно, — заметил Лещинин, — но подавленны далеко не все. Значительная часть немецкой молодежи, явно контрреволюционная часть, настроена весьма воинственно и начинает группироваться вокруг опасных для будущего политиканов и демагогов…
Перед отъездом из Берлина Александру довелось увидеть на Кёпеникерштрассе, как небольшая кучка полупьяных парней, одетых в одинаковые коричневые рубашки, избивала старого хромого еврея, владельца обувного магазина. Было в этой сцене нечто такое необычное и жестокое, что Александр остановился неподалеку и, стиснув за спиной кулаки и еле удерживая в себе бешенство, старался не смотреть туда, где все это происходило, но не мог не смотреть и не отрывал глаз от кучки коричневых парней.
Седобородый низкорослый старик был прижат двумя парнями к серой стене. Остальные четверо поочередно подходили к нему, и каждый ударял два раза — правой рукой по лицу, левой в живот. Удары сыпались не очень быстро, методично, с правильными промежутками. Один глаз у старика был подбит, на белый воротничок крахмальной сорочки изо рта и носа текла кровь. Он пытался кричать, вздрагивал, но державшие его парни зажимали ему рот, и он только всхлипывал и хрипел.
Наконец невысокий юноша с темными, дурными зубами — это был Конрад Риге — плюнул окровавленному старику в лицо и крикнул начальническим голосом:
— Все! Представление окончено!
Он прошел, чуть не задев плечом равнодушно взиравшего на избиение толстого, неподвижного шуцмана, кивнул ему и, увлекая за собой всю ораву, неторопливо зашагал по улице.
Александра не столько удивила эта дикая сцена, сколько то, что произошла она среди белого дня в столице большой культурной страны и никто из шуцманов, ни один из прохожих даже не подумал помочь избиваемому парнями старику. Люди проходили мимо, отворачивались, даже ускоряли шаг, и если на лицах некоторых мелькало выражение страха и отвращения, то и они задерживались лишь на секунду, поднимали воротники пальто и шли дальше.
Встретив у дверей посольства Балашова и фрейлейн Хейнерт, Александр рассказал им о происшествии на Кёпеникерштрассе и возмущенно закончил:
— Извините меня, но я просто не могу понять, что это такое, не могу представить, как люди терпят это.
— Обычный мелкотравчатый бандитизм послевоенных лет. — Балашов пожал плечами. — Тут нет ничего удивительного. Война развратила этих парней, жизненных целей у них никаких, мораль отсутствует. Чего ж ты с них возьмешь? Придет время — они сами образумятся.
Фрейлейн Хейнерт зябко поежилась:
— Дай бог, чтоб они образумились. Но это не только мелкотравчатый бандитизм, как вы, господин Балашов, говорите, это выражение опасной для нас всех идеи. Я знаю многих молодых людей такого же примерно типа. Они называют себя национал-социалистами и даже имеют свою программу. Они нигде не работают, часто собираются, слушают какие-то лекции, доклады, надевают коричневые рубашки, ходят с финскими ножами.
— На какие же средства живут эти парни? — спросил Балашов.
— Средства у них есть, — сказала фрейлейн Хейнерт, — ведь они, по крайней мере большинство из них, дети зажиточных родителей. Кроме того, кто-то их снабжает деньгами, а полиция смотрит на них сквозь пальцы и, говорят, даже покровительствует им…
Уже сидя в вагоне и наблюдая за тем, как чинно, степенно усаживаются на свои места почтенные бюргеры, как лениво ковыряют они в зубах тонкими зубочистками и от нечего делать подремывают, Александр вспомнил отвратительную сцену на Кёпеникерштрассе и сказал Балашову:
— Знаешь, Сергей, по-моему, наша посольская переводчица права.
— В чем? — спросил Балашов.
— В том, что эти коричневые парни, если их вовремя не остановят, еще наделают дел. Судя по всему, их не так мало, как кажется.
— Поживем — увидим, — сказал Балашов. — Меня пока это мало беспокоит. Подумаешь, большое дело — пятеро пьяных хулиганов набили морду торгашу! Что, от этого мировая революция пострадает?
Александр ничего не ответил ему.
5
Есть в поздней осени невыразимая, томительная грусть. Небо днем и ночью затянуто однообразно-серой пеленой густых облаков, и не видно на нем ни розовых красок восхода и заката, ни солнца, ни луны, ни звезд — только одноцветная, серая пелена. По ночам моросят мелкие холодные дожди, а к утру все вокруг становится отяжелевшим, мокрым, все словно темнеет, уныло никнет к вязкой, безжизненной земле. Деревья в лесу роняют с голых ветвей беззвучные дождевые капли, и не слышно нигде птичьего голоса, изредка только каркнет на опушке одинокая ворона или раздастся в гущине гортанное сорочье стрекотание, и снова тишина.
Особенно грустным кажется в дни поздней осени поле. Уже давно увезены все копны, все скирды, и стоит оно рыжевато-бурое, мертвое, до горизонта раскинув затоптанные скотом, исполосованные черными колеями стерни. Если же где-нибудь в ложбинке сиротеет забытая хозяином копешка немолоченой розвязи, то уж заранее можно сказать, нет ни зерна в пустых, потемневших колосьях — все расклевали птицы, все растащили по норам мыши-полевки.
Таким представилось поле Андрею, когда он ранним утром поехал к лесу привезти оставленный там каменный каток. Очистив его от грязи, он накинул кольцо валька на крючок, отряхнул сапоги и, усевшись на захлюстанную серую кобылу, шагом поехал домой. Жеребая кобыла осторожно ступала по стерне, фыркала, поматывала головой. Снова начал моросить дождь. Андрей ссутулился, поднял ворот мокрого, пахнувшего кислой овчиной полушубка. Уже несколько дней его томило чувство грусти и подавленности, и сейчас он ехал опустив голову, сам не зная, откуда появилось это неприятное чувство.
Между тем Андрей имел все основания грустить. Сегодня из ставровского дома уезжали все молодые: Роман — в Ржанск, его приняли на рабфак; Каля, Тая и Федя — в Пустополье, кончать школу. Андрей на всю зиму оставался в Огнищанке с отцом и матерью. Бабка Сусачиха обещала помочь Настасье Мартыновне по хозяйству, и Дмитрий Данилович согласился взять Андрея с собой — проводить братьев и сестер.
Когда Андрей вернулся с поля, он увидел, что у порога уже стоит наполненная сеном и накрытая брезентом телега, вокруг которой, укладывая сундучки, свертки, узлы, корзинки, суетятся мать и сестры. Одетый в меховую куртку Роман выбежал из дома, столкнулся с Андреем и сказал:
— Пойдем к голубям, я хочу попрощаться с ними.
— Пойдем, — согласился Андрей.
В теплом коровнике, на прибитых под потолком досках, ворковали голуби. В двух гнездах, сделанных из старых ящиков, пищали, высовывали убранные темными колодочками головы желторотые голубята. К гнездам то и дело подлетали старые голуби и, сунув клювы в разинутые рты птенцов, кормили голубят. Две привязанные к яслям коровы мирно жевали жвачку. В углу на соломе дремал рябой телок.
— Ты же, Андрюша, приглядывай и за моими голубями, — попросил Роман, посматривая на брата.
— Ну а как же! Конечно, буду смотреть, — заверил его Андрей. — Весной приедешь — молодых от старых не отличишь. — Он потянул брата за карман куртки: — Скучать небось будешь по Огнищанке?
Роман смутился, засопел носом, откинул пучок сена с пола.
— А ты как думаешь? Попривыкали мы все и к дому, и к полю.
— Эй, чего вы там копаетесь? Другого времени не нашли? — раздался сердитый голос отца. — Пора ехать, десятый час.
Дмитрий Данилович уже подвел к телеге двух караковых кобылиц с подвязанными хвостами и набрасывал на них хомуты. Каля и Тая в новых суконных пальто, в серых пуховых платках и в сапогах стояли на крыльце. Федя тащил из конюшни две мохнатые, подшитые мешковиной попоны.
Как всегда в таких случаях бывает, кто-то что-то забыл, чего-то не сделал. Из дома выбежала Настасья Мартыновна с валенками в руках, закричала:
— Как же вы Таины валенки оставили?
Потом Федя долго искал свой пояс, а Дмитрий Данилович нигде не мог найти коробка спичек в дорогу, бродил по комнатам и ругался:
— Ничего у вас, чертей, на месте не улежит, все растащите!
Наконец вещи были уложены, все расселись в телеге. Дмитрий Данилович шевельнул вожжой. Кони вырвали телегу из грязи и, поигрывая, скаля зубы, побежали к воротам. Настасья Мартыновна, без платка, в башмаках, бежала рядом, глотала слезы, наказывала скороговоркой:
— Смотрите ж, деточки, чтобы все было хорошо… Ты, Федя, не обижай девочек, будь умником. А вы, девочки, поаккуратнее там, смотрите, чтобы полотенечки у вас были чистые, и в комнате убирайте почаще, полы мойте, хозяйку слушайтесь…
Уже далеко ушли кони, уже медленно стали они взбираться на холм, а раздетая, простоволосая Настасья Мартыновна все стояла у ворот, и девочки, пряча от братьев непрошеные слезинки, махали ей руками.
— Ну хватит, — баском сказал Роман, — не навек уезжаете…
Дождь пошел сильнее. Конские копыта хлюпали в жидкой грязи, разбрызгивали мутную воду. Ребята прижались друг к другу, накрылись попонами, заговорили вполголоса, чтобы не слышал отец.
— Ты береги сирень, которую я посадила, — сказала Тая Андрею. — Весной подвяжи ее к колышку и загороди чем-нибудь, чтобы телята не поломали.
— Ладно, подвяжу, — пообещал Андрей.
— Если кошка окотится, не давай маме топить котят, — хмуро прошептала Каля, — а то у нас взяли моду — только котята народились, так сразу на пруд и в прорубь.
И Кале Андрей пообещал охранять еще не рожденных котят.
Дольше всех крепился Жук-Катышок Федор. Но и он не выдержал, толкнул Андрея локтем и пробубнил:
— Серая должна ожеребиться в середине марта. Ты корми ее получше, а к колодцу води шажком, чтобы не поскользнулась где-нибудь.
— Буду водить шажком, не бойся, — заверил Андрей.
Под попоной едко пахло конским потом. Сверху глуховато барабанил редкий дождь. Вызванивали колеса. Тая нашла в темноте руку Андрея, робко сжала ее мокрыми, холодными пальцами и зашептала:
— А мне скучно будет без тебя, Андрюша. Я буду дни считать до весны…
— Правда? — откликнулся Андрей.
— Правда, — вздохнула Тая. — Я так к тебе привыкла…
В Пустополье приехали после полудня. Дмитрий Данилович имел в виду поместить детей на квартире у старухи вдовы Агафьи Кущиной, родственницы своих огнищанских соседей, братьев Кущиных. В прошлый свой приезд в Пустополье он уже договорился с бедовой старухой и столковался о цене, обязавшись уплатить за весь сезон тридцать пудов пшеничной муки и двадцать фунтов свиного сала. Со своей стороны бабка Агафья взялась готовить молодым квартирантам обед и раз в неделю стирать белье.
Как только въехали в Пустополье, Андрей снял попону и стал осматриваться. Тут, в селе, все было по-старому.
В школе тоже ничего не изменилось: так же бегали по двору ученики, так же звенел медный с кожаной ручкой звонок, по-прежнему в глубине двора, за дровами, ютился кабинет природоведения. «Как только освобожусь, сбегаю туда, — подумал Андрей, — посмотрю, что там сейчас делается…»
Андрею очень хотелось увидеть Елю. Он вертелся на телеге, провожал взглядом расходившихся из школы учеников, но Ели среди них не было. У него уже совсем испортилось настроение. Вдруг Дмитрий Данилович повернул лошадей к больничному садику и поехал прямо к тому дому, в котором жила Еля.
— Куда ты едешь? — спросил Андрей и почувствовал, что грудь его сжимает от волнения.
— Как куда? На квартиру, — обернулся отец, — к бабке Агафье. А что?
— Ничего, я так, — смущенно пробормотал Андрей.
Оказалось, бабка Агафья Кущина жила всего через три двора от того дома, который снимали Солодовы, родители Ели. Как только лошади остановились возле маленькой, сбитой из веток калитки и ребята, потягиваясь и отряхивая с себя комья грязи, вылезли из телеги, Андрей увидел Елю. В коротком, накинутом поверх пальто плащике с капюшоном, придерживая под рукой стопку книг и тетрадей, она шла со своим отцом и что-то говорила ему. Андрей хотел было спрятаться за телегу, уже сделал первое движение, но Платон Иванович Солодов увидел его, усмехнулся и закричал издали:
— О, старый знакомый, который пуговицы с бабкиной кофты обрезал! Здравствуй, здравствуй, молодой человек!
Еля подняла голову, густо покраснела и сказала таким тоном, что трудно было определить, довольна она или недовольна:
— Здравствуй, Андрей. Ты как сюда попал?
— Здравствуйте, — сказал Андрей. — Вот коммуну свою в школу привезли. Они будут жить у этой старухи.
Солодовы подошли к телеге, поздоровались.
— Чего ж это вы так поздно? Занятия идут почти два месяца, — сказал Платон Иванович. — Ребятишкам вашим трудно будет наверстать.
— Кончали работу в поле, — объяснил Дмитрий Данилович. — Вы же знаете, как в деревне, пока не управишься, каждая пара рук на счету.
Пока ребята в сопровождении шустрой бабки Агафьи вносили в чистую хатенку свои вещи, Платон Иванович поговорил с Дмитрием Даниловичем об урожае и, когда узнал, что Ставровы поселились в Огнищанке из-за голода, стал рассказывать, как ему пришлось спасать свою семью, покинуть завод и ехать в Пустополье.
Еля стояла рядом с отцом, теребила пальцами уголок тетради и изредка бросала на Андрея быстрый, тревожный и смущенный взгляд.
— Какая красивая девочка! — шепнула Каля Тае. — Прямо живая кукла.
— Это же та самая, про которую я тебе говорила, — зашипела на ухо Кале тоже чем-то смущенная Тая. — Та самая Еля Солодова, которую наш Андрюшка любит…
Обе довольно бесцеремонно стали рассматривать Елю. К стыду Андрея, к ним присоединились Роман и Федор. Все четверо они уставились на Елю и молчали, как в рот воды набрали. Это вконец смутило девочку. Она нахмурилась, ее темные ресницы дрогнули, а рука непроизвольно потащила отца за рукав.
— Пойдем, папа, мама ждет нас.
— Сейчас, сейчас, — отмахнулся Платон Иванович, — одну минуточку.
Наконец Андрей, с ужасом думая, что Еля сейчас уйдет и он не успеет сказать ей ни одного слова, осмелился подойти ближе и проговорил невнятно:
— Что делает Павлик Юрасов?
— Помогает нашим в мастерской, — ответила Еля. — Он только в следующем году будет поступать в техникум.
— В какой?
— Не знаю, кажется, в механический.
Она не спросила его, куда он сам собирается поступать, и Андрей, чувствуя, что его душит обида, сказал вызывающе:
— Все в город тянутся, не выносят мужицкого духа, барчуки. А я вот останусь в деревне и никуда не поеду.
Еля ничего не ответила. Пугаясь своей смелости, он спросил ее:
— Ты сегодня не будешь в школе? Я хочу навестить Фаддея Зотовича и посмотреть кабинет природоведения.
— Не знаю, может, и приду. У нас вечером занятия хорового кружка…
— Ну пошли, дочка, — спохватился Платон Иванович. — Мама и в самом деле заждалась, и нам с тобой достанется на орехи.
Только когда Солодовы ушли, Андрей и Роман стали сносить с телеги тяжелые мешки с мукой, потом выпрягли лошадей, накрыли их попонами и поставили к сену. Девчонки уже хозяйничали в хате. Бабка Агафья, располневшая, но бойкая и подвижная старуха с очками на мясистом носу, хлопотала, накрывая стол потертой домотканой скатеркой и устанавливая миски с борщом.
— Усаживайтесь, молодые хозяйки, и родичей своих приглашайте, — приговаривала бабка. — С дороги в самый раз горяченького покушать, а борщец у меня свеженький, сегодня варила.
Чинно расселись за столом. Дмитрий Данилович достал из мешка четверть вина, налил стаканы — бабке и себе побольше, остальным поменьше.
— Ну, в добрый час, чтоб все было ладно, — с чувством сказал он.
Обедали по-крестьянски — в истовом молчании, неторопливо и степенно. После обеда Андрей поднялся, натянул полушубок, взял с лавки свою мерлушковую папаху.
— Куда ты? — спросил отец.
— Схожу на часок в школу, посмотрю кабинет природоведения, — сказал Андрей, отведя глаза.
Тая вскочила с табурета, вытерла концом полотенца замасленные губы.
— Я тоже с тобой пойду.
— Сиди, пожалуйста! — оборвал ее Андрей. — Шагу нельзя без тебя ступить!
Он хлопнул дверью и не видел, что Тая, обиженная его грубостью, закусила губы и забилась в угол. Роман подсел к ней.
— Только не хнычь, Тайка. Поедешь со мной поить коней…
Андрей взял у знакомой школьной сторожихи ключ и с бьющимся сердцем открыл дверь своего заветного кабинета. Здесь тоже как будто ничего не изменилось: стол с микроскопом стоял на прежнем месте, на стенах висели картонки гербария, по углам в ящиках и клетках шевелились черепахи, ежи, кролики. Только между окнами появились новые картонки с бабочками и жуками, а на подоконнике холмиками лежали камни.
«Кто-то тут без меня работает, — с некоторой завистью подумал Андрей. — Вон наколол жуков на картон, камни собрал… И смотри ты, жуки наколоты ровно, аккуратно, под каждым есть надпись». Завидуя тому, кто хозяйничал теперь в кабинете природоведения, Андрей вместе с тем с гордостью подумал, что он и сам многое сделал, начал с Фаддеем Зотовичем нелегкую работу в полуразрушенном флигеле, первым принес и наклеил на картон листья лесных деревьев, нашел в Казенном лесу этого самого ежа, которого почему-то назвал Яшкой, первым заглянул в окуляр старенького микроскопа и увидел в капле воды поразивший его живой мир…
— Что ж, пусть работают, — проговорил Андрей, — тут еще дела много.
Сторожиха сказала ему:
— Фаддей Зотович теперь не живет при школе. Он еще летом перешел на квартиру, а куда — не знаю, меня ни разу к нему не посылали.
Андрей поблагодарил за ключ и пошел к воротам. Здесь он остановился, закурил. Дождь перестал. На западе пелена облаков чуть-чуть поредела, и сквозь нее смутно багровело пятно заката. «Придет Еля или не придет?» — думал Андрей. Он видел, как сторожиха зажгла лампу в классе и вскоре туда вошел молодой, незнакомый Андрею учитель. По дощатому настилу застучали шаги. В ворота по одному и по два стали заходить ученики, очевидно, торопились на занятия хорового кружка. Андрей отошел от ворот, прижался плечом к забору. «Придет или не придет?» — сверлила его мысль.
Еля пришла позже всех. Андрей заметил в темноте ее плащик с капюшоном и позвал тихонько:
— Елочка!
Она остановилась, оглянулась:
— Кто это?
— Это я, — сказал Андрей. — Подожди немного.
— Что ты хочешь? — негромко спросила Еля, приближаясь к нему.
— Я хочу… Я совсем недолго, — сумрачно проговорил Андрей. — Мне очень нужно поговорить с тобой. Понимаешь? Очень нужно…
Он подошел к ней совсем близко. Она была немного ниже его ростом и выжидающе смотрела на него снизу вверх.
— Так что же ты хочешь? — повторила Еля.
Андрею показалось, что это не он, а кто-то другой, посторонний, задыхаясь, произнес бессвязные слова:
— Я люблю тебя, Елочка… Я больше никого на свете не полюблю, никогда… Только одну тебя я люблю… и всегда буду любить…
Он хотел прикоснуться к ее руке, но Еля, ничего не говоря, не зная, что сказать, слегка отодвинулась, подняла, точно защищаясь от него, обе руки и побежала в класс.
Андрей не знал, что ему теперь делать. Он расстегнул полушубок, походил по улице возле школы, выкурил одну за другой две папиросы. Хоть его мучили стыд и раскаяние за опрометчивый разговор с Елей и он, вытирая потный лоб, укорял себя: «Дурак, дурак», вместе с тем упрямство и злоба душили его. «Врешь, — подумал он о Еле, — все равно я от тебя не отстану, все равно заставлю сказать, любишь ты меня или не любишь…»
В переулке протарахтела запоздалая телега, прошли две женщины с ведрами. С запада подул влажный, холодный ветер. Он принес и расшвырял по лужам редкие капли дождя. Сквозь закрытые окна школы смутно доносилась протяжная песня. Звонкий мальчишеский альт выпевал, грустно и четко произнося слова:
Как далече-далеченько в чистом поле Не белая березонька к земле клонится…Отроческие голоса незаметно подхватывали песню, ладным, согласным речитативом повествовали о чьей-то невеселой судьбе:
Не шелковая ковыль-трава расстилается — Забивает поле полынь горькая, Проклинает долю добрый молодец…«Чего я жду? — думал Андрей, шагая но темной улице. — Я ведь сказал ей все, что хотел. О чем же еще говорить? Чего ждать?» И все же, понимая, что он своим упрямством ставит себя в неловкое, нелепое положение, Андрей молча бродил вокруг школы и дожидался, пока хоровой кружок закончит занятия. «Она выйдет, и я спрошу ее в последний раз. Пусть она думает что хочет, пусть смеется надо мной, а я все-таки подойду и спрошу…»
Когда ученики стали выходить из школьных ворот, Андрей спрятался за угол, прижался к мокрому стволу старого ясеня. Еля снова вышла позже всех, но теперь она была не одна, двое незнакомых Андрею юношей в фуражках и темных шинелях провожали ее. Они прошли так близко от ясеня, что один из них задел руку Андрея рукавом шинели. Еля, смеясь, поворачиваясь то к одному, то к другому спутнику, сказала, продолжая начатый раньше разговор:
— Нет, Стасик, неправда. Этого я не говорила. Я только сказала, что хочу учиться музыке, а в Ржанске нет музыкального техникума.
Тот, кого назвали Стасиком, заговорил звучным баритоном:
— Ну как же, Роза мне прямо сказала, что Еля Солодова собирается стать артисткой и хочет ехать в Москву. И собственно, почему бы вам и в самом деле не подумать о театре? У вас исключительный голос, очень фотогеничное лицо…
Андрей не расслышал, что ответила Еля. Молча стоял он, прислонившись к мокрому стволу, и повторял с бессильной яростью:
— Да, да, конечно, у нее очень фотогеничное лицо… очень фотогеничное…
Он не знал, что такое «фотогеничное», но все повторял это слово, вслушиваясь в удалявшиеся шаги и не замечая, что за воротник его распахнутого полушубка с ветвей ясеня стекают холодные капли воды.
— Сволочи! — коротко выругался Андрей и, махнув рукой, быстро пошел прочь от школы.
«Что ж, — думал он, шагая по грязи, — надо ее забыть, выбросить из головы, никогда не вспоминать о ней. Я ведь давал себе слово не вспоминать о ней — и вот опять… Как глупо все получилось, как смешно и глупо!» Он стал растравлять и подстегивать себя еще больше, представляя, как Еля рассказывает о нем этим незнакомым ему парням. «Конечно, она рассказала обо мне своим фотогеничным Стасикам, все выложила: как я стоял дурак дураком, смотрел на нее и твердил: „Люблю тебя, люблю тебя…“ А Стасики, конечно, хихикали в кулак и обзывали меня идиотом и деревенским вахлаком…»
Слепая злоба, обида и жалость к себе захлестнули Андрея.
— Ладно, артистка, — с угрозой произнес он, — я тебе покажу Стасиков!
Он достал из кармана свернутую тетрадь, карандаш, подбежал к заляпанному грязью фонарю на перекрестке и, прислонив тетрадку к столбу, стал поспешно писать крупными буквами:
«Платон Иванович! Ваша дочь Еля ходит по вечерам на занятия хорового кружка только для того, чтобы встречаться с фотогеничными певцами, которые провожают ее домой и, как видно, давно с ней спелись…»
— Вы еще узнаете деревенского вахлака, сволочи! — пробормотал Андрей.
Вырвав из тетради исписанный лист, он сунул его в карман полушубка и, оглядываясь, торопливо пошел направо, к переулку, где, как он знал, помещалась механическая мастерская Солодова и Юрасова. Двустворчатая дверь мастерской выходила на улицу, на двери висел большой замок. Вокруг никого не было.
Андрей наклонился, пощупал ладонью, есть ли между дверью и порогом щель. Щель оказалась довольно широкой. Андрей просунул в нее свое письмо и уже хотел уйти, как вдруг его обожгла мысль, испугавшая его: «Что же я сделал? Что я натворил? Как я мог допустить такую подлость?»
Он опустился на колени, чтобы вытянуть из-под двери злополучное письмо, нащупал в темноте какую-то щепку, стал ковырять ею в щели, даже зажег спичку, но тотчас же погасил ее, боясь, что кто-нибудь увидит огонек и примет его за вора. Отшвырнув короткую щепку, он сломал ветку растущего за забором клена, стал водить по щели веткой, но письма так и не мог найти.
— Ах, какой подлец, какой же я подлец! — бормотал он с брезгливостью и отвращением. — Что ж это я сделал? Как я мог это сделать?
Руки его дрожали, лицо и шея покрылись испариной. Он ползал по грязи, дергал тяжелую дверь мастерской, сжигал спичку за спичкой, сжег весь коробок, ощупал пол за порогом, занозил ладонь, но письмо так и не достал. Ссутулившись, он побрел на квартиру.
— Где тебя черти носили? — закричал Дмитрий Данилович, увидев покрытого с головы до ног грязью Андрея. — Ты посмотри, на кого ты похож, обормот!
— Ой-ой-ой! — запричитали девчонки. — Да на тебе места сухого нет!
— Я упал в грязь, — еле выговорил Андрей, — шел из школы и свалился в грязь. Что ж я, нарочно, что ли?
Утром, пока Дмитрий Данилович ходил с девочками и Федей в школу, Андрей лежал мрачный, подавленный. У него болело все тело, как будто кто-то избил его.
— Что это с тобой? — подозрительно оглядывая брата, спросил Роман. — Уж не подрался ли ты с кем-нибудь?
— Нет, я ни с кем не дрался, — с тупым равнодушием ответил Андрей. — Просто у меня голова болит, и я вообще плохо себя чувствую…
В одиннадцать часов на квартиру пришел Павел Юрасов. Он обнял и расцеловал Андрея, познакомился с Романом, присев на табурет, заговорил оживленно:
— Мне Еля вчера сказала, что вы приехали, и я решил с утра сходить в мастерскую, обточить там одну деталь, а потом забежать к тебе, Андрюшка.
Как бы спохватившись, Павел ударил себя по колену:
— Да, ты ведь не знаешь, что с Елкой сегодня случилось?
— Что такое? — с трудом разжимая губы, спросил Андрей.
— Какой-то негодяй подбросил к нам в мастерскую письмо и в нем написал, что Елка с парнями бегает. Платон Иванович как прочитал это письмо, так сразу побагровел, на тучу стал похож. Схватил шапку, письмо — и домой. А Елка еще дома была, в школу собиралась. Платон Иванович дал письмо Марфе Васильевне, та в крик, потом ухватила ножницы — и р-раз Елке часть косы, кинула ее вместе с бантом в печку и давай Елку трясти. «Я, — говорит, — тебе дам барышню из себя строить, отца и мать позорить, девчонка поганая!..»
Павел перевел дух, затеребил отвернувшегося к стене Андрея:
— Там, знаешь, такое сейчас идет. Я только что от них. Остриженная Елка сидит в кухне, ревет: «За что ты меня, мамочка?» Марфа Васильевна кидает в печку все Елкины ленточки, шапочки, дневники. Платон Иванович ходит по комнатам, чуть не плачет, места себе не может найти…
До сознания Андрея почти не доходило то, что рассказывал Павел. «Ох, какой же я подлец, какой подлец! — твердил он себе. — Нет, нет, надо сейчас же пойти туда, к Солодовым, и сказать: „Это я сделал, я подсунул под дверь отвратительное, подлое письмо, я во всем виноват…“»
Может быть, томимый стыдом и раскаянием, Андрей и действительно ринулся бы к Солодовым, но пришел Дмитрий Данилович и, отдуваясь, закричал еще с порога:
— Ну, все в порядке, зачислили всех! Запрягайте лошадей, надо ехать, а то дорога плохая. Еще, чего доброго, не доберемся до Ржанска.
Отодвинув табурет, Павел спросил у Андрея:
— Еле передать от тебя привет?
— Да, передай, — пробормотал Андрей. — Или нет, не надо… Впрочем, делай как хочешь.
До самого Ржанска он почти не говорил, нехотя отвечал на вопросы отца и брата и угрюмо следил, как густеют на горизонте хмурые, свинцового оттенка облака. Поля и тут стояли скучные, однообразно бурые, с поникшей полынью на межах, с россыпью прибитой дождем соломы на покатых склонах холмов. Кое-где вдоль дороги тянулись корявые, старые ветлы. Меж их ветвей кудлатыми шапками чернели пустые вороньи гнезда.
В Ржанск приехали в сумерках, попросились ночевать у молодого бондаря, которого Ставровы знали по базарам. Весь вечер бондарь — звали его Василием — и уставший Дмитрий Данилович пили водку, закусывая огнищанским салом и солеными огурцами, а Роман и Андрей отогревались на жарко истопленной печи.
Скуластый, длиннорукий бондарь Василий рассказывал новости.
— У нас в городе теперь все легче пошло, — говорил он, с хрустом надкусывая огурец. — В лавки товаров понавезли, спекулянтов поменьше стало. Двое частников уже заведения свои позакрывали, потому что в кооперации товар дешевеет и выбор хороший. Значит, частнику нет никакой выгоды торговать — все равно за кооперацией не угонится. Я и то хочу бросить свою мастерскую да в бондарную артель записаться, там дело вернее…
— Ну а как начальство? — спросил Дмитрий Данилович.
— Начальство есть начальство, — сказал бондарь. — Товарищ Резников в партийном укоме орудует. Он уже давно в Ржанске работает, кажись, четвертый год. Начальник ГПУ Зарудный тоже старый работник, мы все его знаем.
— Сюда, в Ржанск, поехал наш пустопольский председатель волисполкома, — сказал Дмитрий Данилович. — Он сейчас в уездном исполкоме.
— Долотов?
— Да.
Бондарь многозначительно покрутил головой:
— Мы его уже знаем. Крепкий мужик, с характером. Как прибыл сюда, так и начал везде порядок наводить: по всем школам прошел, базарную площадь заставил прибрать, мосты чисто все проверил.
— Он такой, — согласился Дмитрий Данилович. — Боевой товарищ.
— Только вот разговор есть, что они с партийным секретарем не мирятся, как кот с собакой живут.
— Почему?
— Кто их знает. Говорят так: вроде Долотов за Ленина стоит, а товарищ Резников на Троцкого ориентир держит. С того у них будто и скандалы пошли, чуть ли не каждый день за грудки один другого хватают.
— Д-да, — протянул Дмитрий Данилович, — это, Василий, не только у них такая история. Дело тут серьезное, не сразу разберешься…
Утром Дмитрий Данилович и Андрей проводили Романа в канцелярию рабфака и подождали, пока шло оформление. Стриженая девушка с накрашенными губами бегло проверила положенные на стол документы, сходила с ними куда-то и проговорила нехотя:
— Устраивайтесь в общежитии и выходите завтра на занятия.
Общежитие размещалось в бывшей бане, спали рабфаковцы на банных полках. Роману дали место в большой комнате, где жило человек сорок. Когда Дмитрий Данилович попросил коменданта, краснощекого толстяка на деревянной ноге, перевести сына в комнату поменьше, комендант проворчал:
— Скажите спасибо и за это. Приехали на месяц позже и хотите, чтоб вам будуар с занавесками предоставили?
Пришлось Роману покориться. Он поставил под полку свой сундучок, отметился у старосты и вышел с отцом и братом на улицу.
— Ну, Роман, смотри, — сказал Дмитрий Данилович. И, подумав, добавил две свои всегдашние поговорки: — Всяк своего счастья кузнец… Что посеешь, то и пожнешь…
Андрей обнял брата, неловко поцеловал его в губы:
— Пока, Рома. Пиши мне, если будет время.
— Буду писать, — пообещал Роман. — А ты, прошу тебя, смотри за моими голубями и приезжай с отцом почаще…
— Ладно.
Андрей махнул Роману шапкой и пошел с отцом к лошадям.
— Сейчас мы с тобой заскочим в уездный исполком к Долотову, а потом поедем до дому, — сказал Дмитрий Данилович.
Белое, с каменным крыльцом здание уездного исполкома стояло на базарной площади, неподалеку от соборной церкви. Над крыльцом, прикрепленный к деревянному шесту, висел обтрепанный ветрами красный флаг. Когда Ставровы вошли в коридор, дверь в председательский кабинет оказалась открытой, и Долотов сразу увидел их.
— А-а, огнищанские земляки! — закричал он, поднимаясь из-за стола. — Заходите, заходите, рассказывайте, как там у вас дела!
В черной суконной куртке, в брюках галифе и тяжелых солдатских сапогах, Долотов подошел к дверям, протянул Дмитрию Даниловичу руку:
— Здорово, фельдшер! Заходи. А это кто? Сын? Совсем взрослый парень. Ну, заходите, рассказывайте.
Сдвинув брови и теребя пальцем усы, он внимательно выслушал Дмитрия Даниловича.
Тот закурил предложенную Долотовым папиросу, спросил, подвигаясь ближе:
— Ну, а вы как устроились, Григорий Кирьякович?
— Я что! — усмехнулся Долотов. — Я солдат. Приказали мне — вещички свои собрал да переехал. Теперь вот уезд изучаю. А уезд, надо сказать, не маленький, чуть ли не половина Финляндии в нем поместится. Вот и наводим порядки помаленьку, хозяйничаем.
Дмитрий Данилович вспомнил рассказ бондаря о том, как председатель исполкома «наводит порядки», и сказал, посмеиваясь:
— Люди уж тут говорят про вас.
— Что ж они говорят? — прижмурил глаз Долотов.
— Ничего, говорят, мужик крепкий, только с секретарем укома партии помириться не может.
— Вот как!
Долотов поднялся, заходил по кабинету.
— Тяжелые у нас времена, фельдшер. Ты как, газеты выписываешь? Знаешь, что делается на белом свете? Видишь, вот, что получается: хозяйство мы восстановили, заводы новые строим, фабрики, посевы расширяем. Тут у нас силы хватает. А вот от всякой дряни никак не можем избавиться.
Он с шумом отодвинул кресло.
— Ты думаешь, на местах у нас нет этого? Есть и на местах. Народу не так легко понять, кто тут прав, а кто виноват. Поэтому отдельные люди и попадают на удочку всяким прохвостам.
— Говорят, скоро партийный съезд должен быть? — спросил Дмитрий Данилович. — Наверно, на съезде разговор об этом будет?
— А как же, конечно. Я вот собираюсь в Москву ехать по делам, думаю и на съезде побывать, — сказал Долотов.
Ставров попросил его, чтоб он помог достать для амбулатории кое-какие медикаменты. Долотов присел, черкнул несколько слов в блокноте и протянул листок:
— На, передай заведующему отделом здравоохранения, он все сделает.
Уже прощаясь со Ставровым, Долотов посмотрел на Андрея и спросил:
— Комсомолец?
— Нет, — потупился Андрей.
— Что ж ты так? — Долотов положил руку на его плечо. — Сейчас, брат, нельзя стоять в стороне, особенно молодым. Кругом такие дела идут, что только рукава засучивай. Если же кто и захочет побыть в сторонке, ему все равно из дадут, втянут либо туда, либо сюда. Ясно?
— Ясно, — ответил Андрей.
— То-то.
Долотов протянул ему руку, и Андрей заметил на руке председателя синий след татуировки — гордо поднятую остроклювую голову орла.
6
XIV съезд партии должен был начаться восемнадцатого декабря, и Долотов торопился закончить все дела, чтобы попасть в Москву к открытию съезда. Григорий Кирьякович не был делегатом, он ехал по делам уездного исполкома, но его включили в депутацию, которая направлялась в столицу из губернского города, чтобы приветствовать съезд.
Пасмурным зимним днем Долотов на санях выехал из Ржанска, засветло доехал до станции Шеляг и сел в поезд. В губернию он сообщил о том, что присоединится к депутации в Москве, и ему, чтоб избавить его от необходимости делать круг, разрешили ехать прямо в Москву.
В вагоне Григорий Кирьякович оказался рядом с одним из делегатов съезда, молодым рабочим-металлистом Петром Пургиным. Высокий, мускулистый парень, общительный и приветливый, Пургин освободил Долотову место, узнал, откуда и куда он едет, и охотно рассказал о себе. Пургин был родом с Урала, вместе с отцом и дедом, тоже рабочими, партизанил в лесах, вступил в партию, был комиссаром пехотного полка, а сейчас работает мастером на заводе сельскохозяйственного машиностроения.
На одной из остановок Пургин обегал в станционный буфет, принес бутылку водки и сказал Долотову, поблескивая карими глазами и улыбаясь:
— Давай подзаправимся и выпьем по стопочке. Не признаю еды без доброй стопки водки. Это у меня еще с времен партизанства осталось, мороз приучил. Так с тех пор и пошло — пить не пью, а стопку за обедом опрокидываю…
Они разложили на газете вареную курицу, сало, два соленых огурца и стали закусывать. Петр Пургин умел все делать так, как обычно делал здоровый, веселый, чистый человек: он выпил водку не кривясь, коротко крякнул, закусил огурцом и принялся за курицу, аппетитно обсасывая каждую косточку. Когда поели, Пургин убрал остатки, смахнул и вынес в сорный ящик хлебные крошки, помыл руки и закурил дешевую папиросу.
— Ну, земляк, ты уже слышал, что Зиновьев затеял в Ленинграде? — спросил он у Долотова, затягиваясь дымом.
— Кое-что слышал, — ответил Долотов, — а подробностей не знаю.
Пургин прикрыл дверь — они были в купе одни — и заговорил, понизив голос:
— Подробности, дорогой земляк, не очень красивые. У меня брат в Ленинграде работает, на «Русском дизеле», тоже коммунист. Так он мне писал. Созвал, пишет, Зиновьев губернскую партийную конференцию и стал свою линию гнуть. И что же ты думаешь? Зиновьевцы утвердили делегатами своих крикунов. Ты вот посмотришь на съезде ихнюю делегацию — самые отъявленные дебоширы и демагоги. Они нам устроят маскарад…
— Я слышал, что они и комсомол будоражат, — сказал Долотов.
— Разве только комсомол? Ихние крикуны по красноармейским казармам бегали, рабочих поодиночке агитировали. Зиновьев — тот закрытым кружком руководил, своей политграмоте людей обучал…
Чем ближе поезд подходил к Москве, тем тревожнее становилось на душе у Долотова.
— Да, Петр Анисимович, — сказал он Пургину, — по всему видно, что дело дойдет до серьезного.
Пургин закинул ногу на ногу, обнял колено, сцепив жесткие пальцы больших рук.
— Ничего не попишешь. — Он тряхнул волосами. — Обидно, что так получается, но нам не в первый раз в бой идти, мы народ стреляный…
В Москве Долотов и Пургин обменялись адресами, договорились встретиться и домой ехать вместе.
Долотов остановился в Сокольниках, в общежитии совпартшколы, где были выделены комнаты для многих депутаций. Уложив под койку дорожный мешок и отметившись у регистратора, он зашел в парикмахерскую, побрился и решил посмотреть Москву.
С тех пор как Долотов не был в Москве, многое изменилось: привлекательнее стали дома, особенно на центральных улицах, больший порядок был в уличном движении, лучше одеты люди. «Да, трудную работу мы провели, — думал Григорий Кирьякович. — Чуть ли не из лап смерти вырвали народ, а ведь это только начало, главное впереди».
Долотову очень хотелось побывать на первых заседаниях съезда, но в эти дни у него были назначены важные встречи в трех наркоматах, и он с утра до вечера ездил по разным учреждениям, чтобы получить долгожданные наряды на строительный лес, кирпич и цемент. Кроме того, проект первой в Ржанском уезде электростанции, который был разработан по настоянию Долотова, почему-то не утвердили в губисполкоме, вернули в Ржанск, и Григорий Кирьякович написал по этому поводу письмо в Центральный Исполнительный Комитет и просил примерно наказать губисполкомовских волокитчиков. Проект электростанции был передан на заключение известному инженеру-строителю, который дважды вызывал Григория Кирьяковича к себе и все требовал дополнительных сведений.
Однако Долотов несколько раз виделся с Пургиным, и тот обстоятельно рассказывал ему обо всем, что происходило на съезде: о полном идейном разгроме зиновьевской «новой оппозиции», о боевых выступлениях товарищей с мест и — самое главное — о той грандиозной линии индустриализации страны, которая была провозглашена на съезде.
— Вот это здорово! — обрадовался Долотов. — Значит, я правильно поступал, когда обеими руками дрался с губисполкомовскими чинушами за нашу ржанскую электростанцию! Теперь, по всему видать, мы возьмемся за настоящую стройку!
Все же Долотову удалось побывать на одном из последних заседаний съезда вместе с депутацией своих земляков-крестьян, которая приветствовала съезд. От имени депутации выступал старый крестьянин-середняк. Трое его сыновей служили у Щорса, и все трое в один день погибли в бою под Черниговом в восемнадцатом году. Этого старика, Конона Семеновича Ситяева, Долотов знал: он жил в деревне Пеньки, неподалеку от Ржанска. Широкоплечий, большерукий, с окладистой рыжеватой бородой, Ситяев еще в дороге наотрез отказался читать приветствие по бумаге. Он спокойно подошел к столу президиума и, оправив синюю сатиновую сорочку, заговорил громко:
— Наши крестьяне-хлеборобы через нас посылают привет и поклон Четырнадцатому партийному съезду… Они просят передать вам, что наша деревня Пеньки и все окрестные села и деревни уже стали сеять хлеба больше, чем сеяли до революции. Живем мы теперь в достатке и крепко благодарим партию, а также Советскую власть за помощь крестьянству и за все заботы. Земля, как говорится, слухами полнится, и мы уже слыхали, что в Питере объявилась новая оппозиция, которая желает куда-то на кривую дорожку нас увести. Так вот, наши крестьяне-мужики просили передать съезду, что мы все пойдем той дорогой, на которую нас вывел Ленин, и что никто нас с этой дороги не собьет…
Делегаты съезда несколько раз прерывали речь старика Ситяева аплодисментами, и он даже растерялся немного от такого теплого приема.
Съезд продолжался ровно две недели и закончился вечером тридцать первого декабря.
В ту же ночь Долотов, Пургин, старик Ситяев и трое участников депутации выехали из Москвы. Поезд отходил без четверти двенадцать, и запасливые пассажиры купили в вокзальном буфете вина и закуски, чтобы встретить Новый год как полагается. Вагон был почти пустой. Пургин, как только поезд тронулся, расстелил на столике газету, раскупорил бутылки и стал торопить товарищей, показывая на свои карманные часы:
— Пора! Не то мы провороним царство небесное.
— Ну, Конон Семенович, — сказал Долотов Ситяеву, — тебе, как старейшему, положено произнести новогоднее поздравительное слово.
Ситяев мотнул головой, разгладил ладонью пышную бороду:
— Давайте скажу.
Он взял стакан и, явно не поддерживая полушутливый тон Долотова и Пургина, заговорил серьезно, с крестьянской истовостью:
— Вот, дорогие мои товарищи, на наших глазах великое дело сделано. Партия желает для народной пользы, для победы, значит, государство наше застроить новыми агромадными заводами, чтоб мы сами у себя могли производить все на свете… Когда, скажем, мужик новую хату сбирается ставить, и то ему хлопот полон рот: деньжат поднакопить, лес добыть, кровлю заготовить, гвозди там всякие. А тут не хата, а целое царство по новому плану должно быть построено. Вот и прикиньте, сколько труда требуется вложить, какую силищу надо иметь…
— Ты побыстрей, Семеныч, — напомнил нетерпеливый Пургин, — до Нового года три минуты осталось, у меня часы верные, я их с вокзальными сверял.
Конон Семенович недовольно повел бровями:
— Не мельтешись. Я вот чего хотел сказать. Ежели тут, наверху, нашлись такие люди, которые в планы своей же партии не верят и шкодить начинают, то и среди нас подобные найдутся. Один над рублем своим будет труситься, не захочет его государству в долг дать, другой от работы станет убегать, все одно как черт от ладана, третий плакать зачнет: для чего, мол, это беспокойство — заводы всякие, какая-то индустриализация? Деды наши без индустрии жили да белый хлеб ели, и мы без нее обойдемся.
— Правильно, Семеныч, найдутся такие, — поддержал старика один из участников депутации, член губкома Кузнецов. — Хоть немного, но найдутся.
— Я и не говорю, что много. Если б их много нашлось, таких неподобных, то нечего бы и огород городить. А говорю я это к тому, что партийные товарищи должны теперь же с народом потолковать, полное разъяснение людям сделать, весь план перед ними раскрыть. Народ у нас такой: ежели он разобрался и засучил рукава — горы свернет.
Ситяев поднял стакан, посмотрел на Пургина:
— Сколько там на твоих вокзальных осталось?
— Все. Ровно двенадцать! — возгласил Пургин.
— Ладно. Давайте же выпьем за то, — сказал Ситяев, — чтобы в новом, одна тысяча девятьсот двадцать шестом году весь наш народ за работу взялся и одолел каждого, кто станет нам мешать…
— Молодец, дед, правильно! — закричали, зазвенели стаканами товарищи.
— Выпьем за победу!
— И за счастье!
— И за то, чтоб не последнюю пить!..
Легли спать поздно. Долотов долго не мог уснуть, лежал, подложив руки под голову, прислушиваясь к ровному постукиванию вагонных колес, и думал: «Правильно старик Ситяев говорит: наш народ горы свернет. А организовать, поднять народ должны мы, коммунисты. Тогда все будет в порядке. Тогда народ горы свернет. Так, кажется, сказал Ситяев? Именно так. Народ горы свернет…»
Хотя Долотов спал мало и плохо, он проснулся раньше всех, оделся, долго, с наслаждением отфыркиваясь, умывался, потом стал у окна и закурил. Поезд шел на перегоне между Мценском и Орлом. Сквозь серые клочья паровозного дыма белели засыпанные снегом поля, мелькали разъезды, шлагбаумы, виднелись на горизонте деревни и села.
Долотов, как это часто с ним бывало, на одно мгновение представил громадину своей страны с ее городами, селами, бескрайними степями, тайгой, морями и реками, с миллионами неодинаковых, очень непохожих один на другого людей и подумал о том, что действительно поставленная партией задача индустриализации настолько же трудна, насколько величественна. Он подумал также о том, что вот сейчас по зову партии встанут в головных колоннах народа коммунисты и поведут людей на трудный, долгий подвиг.
— Что ж, — вздохнул всей грудью Долотов, — ради этого можно отдать все: и труд, и здоровье, и силы, и жизнь!..
Глава третья
1
Почти всю зиму Андрею пришлось управляться в хозяйстве одному. Дмитрий Данилович добросовестно высиживал приемные часы в амбулатории и лишь изредка, накинув на плечи тулуп, выходил во двор глянуть, что делает сын. Настасья Мартыновна доила коров, присматривала за птицей, варила обеды. Вся основная работа лежала на плечах Андрея.
Отец будил его на рассвете. Андрей открывал глаза, сладко зевал и потягивался на своей лежанке за печкой. Ему не хотелось вылезать из-под теплого кожуха, но он слышал, как за стеной, в конюшне, топают лошади, нехотя поднимался и начинал разминать подсушенные, затвердевшие от пота портянки.
— Шевелись, шевелись! — поторапливал с печки отец. — Кони стоят голодные! Не слышишь, что ли? Сейчас ночь как год — скотина уже с вечера успевает все поесть.
— Иду. У меня не десять рук! — огрызнулся Андрей. — Одеться-то надо?
Он натягивал штаны, рубаху, всовывал ноги в старые отцовские валенки и, брызгая изо рта водой на ладони, умывался над ведром. Потом надевал полушубок, туго подпоясывался натертым до блеска солдатским ремнем и, прихватив рукавицы, шел в конюшню.
— Ты смотри, как Андрей вытянулся, — провожая сына взглядом, говорила Настасья Мартыновна. — Еще восемнадцати нету, а он на целую голову выше нас с тобой.
— Все они растут, — отвечал Дмитрий Данилович, слезая с печки и покряхтывая. — Так растут, что из батьки последние соки высасывают.
Настасья Мартыновна сердито гремела кастрюлями:
— Из тебя высосешь сок! Только и знаешь, что в амбулатории сидеть да в сельсовет ходить, а на детей все тяготы взвалил… Вон посмотри, сколько сена Андрюша на себе тащит — еле ноги видно.
— Ленится два раза ходить, потому и тащит…
Взвалив на плечи тяжелую вязанку сена, Андрей шел по снеговой тропке к конюшне, свободной рукой отпирал замок и распахивал дверь. Больше всего он любил этот первый утренний заход к лошадям. Из дверей конюшни белесыми клубами валил теплый пар, в нос бил острый запах свежего конского навоза, и три кобылы, повернув головы, встречали Андрея коротким просительным ржанием. Он бросал сено в ясли, ласково похлопывал лошадей по шее, брал лопату и начинал чистить конюшню. Навоз надо было выносить во двор и складывать в одну кучу, которая к весне поднималась все выше и выше.
— А теперь мы вас приведем в порядок, — говорил Андрей лошадям, — а то вы, друзья, на чертей похожи.
Разговор с лошадьми нравился Андрею. Он видел, что лошади не только различают интонации его голоса, но и сами отвечают на его голос ржанием, трутся головами о его полушубок и всем своим видом говорят: «Ладно, ладно… Нам все ясно… Тебе скучно, не с кем поговорить, вот ты и заводишь с нами эти утренние беседы. Впрочем, нам это тоже доставляет некоторое удовольствие, так что давай будем дружить».
Каждая кобыла стояла в отдельном, отгороженном досками деннике, и у каждой из них был свой характер. Любимица Андрея, караковая Розита (он назвал ее так, услышав от кого-то песню о Розите), была самой избалованной и капризной. Суховатая, с тонкими ногами и точеной головой, она постоянно заигрывала то со своей соседкой, старшей по возрасту Летуньей, то с Андреем, которого норовила схватить губами за ухо или толкнуть головой, то нетерпеливо била высоким, как стаканчик, копытом о землю, так что к утру выбивала возле яслей яму. Вторая кобыла, Летунья, отличалась твердостью нрава и, пожалуй, злостью. Она, как видно, презирала Розиту за ее баловство, никогда не разбрасывала, подобно Розите, овес по всей конюшне, а к Андрею относилась с холодноватым почтением. Третья, огромная кобыла — ее называли Старухой — была воплощением могучей, спокойной силы и доброты. В поле она работала за троих, каждый год исправно водила жеребят.
Когда Андрей начинал чистку лошадей, в конюшню заходил Дмитрий Данилович. Он следил, как сын сначала железной скребницей, а потом щетками и куском мешковины натирает конские бока до атласного блеска, расчесывает гривы, смазывает салом копыта. Дмитрию Даниловичу не приходилось вмешиваться в работу сына, Андрей все делал отлично. Только изредка отец ронял сквозь зубы:
— Серой надо бы замыть бока, на ней каждое пятно видно.
— Буду замывать — простужу кобылу, — говорил Андрей, — а она жеребая.
— Можно теплой водой.
— Ладно, замою…
Целый день Андрей возился во дворе. Из конюшни он шел в коровник, кормил и чистил коров, потом гнал и коров и коней на водопой, относил свиньям запаренные матерью отруби, кормил кукурузой кур и уток, расчищал дорожки в снегу, а под вечер, закончив работу, ног не чуял от усталости.
Он никогда не жаловался. Возня с животными нравилась ему, и он, взрослея, стал, так же как и отец, гордиться тем, что их, ставровские, кони быстрее, сильнее и чище всех других коней в Огнищанке, что их коровы дают больше молока, а свиньи выкармливаются до десяти пудов. Он гордился больше всего тем, что это достигнуто его, Андреевым, трудом, его руками, его старанием. Несколько раз Андрей с удивлением замечал, что у него все чаще стало появляться желание идти в конюшню или свинарник без всякого дела, стоять и смотреть, как, роняя с губ желтоватую пену, жуют овес сытые кобылы или как раскормленный кабан, развалившись на соломе, похрюкивает и как ходуном ходит его жирное розовое брюхо.
Подчиняясь желанию сделать все как можно лучше, Андрей каждый день находил все больше важных и неважных изъянов в отцовском хозяйстве и до самой темноты не заглядывал в дом: то чинил крышу в курятнике, то смазывал дегтем сбрую, то затаскивал под накат сани или выгребал из-под снега бороны.
Вначале он не без хвастовства перед самим собою думал, что это только он, Андрей Ставров, проявляет такое рвение и любовь к работе. Но потом, наблюдая за огнищанами, убедился, что и все они, молодые и старые, мужчины и женщины, одинаково привязаны к своей хате, усадьбе, скотине, к своему полю, что без любви и привязанности невозможно хозяйничать; он понял, что без этой любви и привязанности все идет прахом и люди нищенствуют, как беспечный, вечно голодный Капитон Тютин. Андрей не раз видел, какое неутешное горе вызывает у мужика гибель лошади, теленка или побитая градом, потравленная чужой скотиной нива.
Однажды утром во двор к Ставровым забежал их сосед Павел Кущин. Несмотря на мороз, он был босиком, без шапки, белый, как стена, и губы его дрожали.
— Беда у меня, Андрюха, — растерянно затоптался он на снегу. — Бежим, голубчик, поможешь, бежим скорее!
— А что случилось? — Андрей кинул вилы.
— Мерин у меня пропадает! — Зубы Павла выбивали частую дробь. — С вечера, должно быть, снял с себя оброть, ложился в конюшне, а там в полу острый кол торчал, он и пропорол брюхо колом…
Андрей бросился следом за Пущиным.
Дверь в низкую, тесную конюшенку была открыта, и скупой свет пасмурного зимнего утра освещал понуро лежащего на боку вороного мерина. Мерин лежал в луже мочи и крови, а на полу, под его боком, перламутрово мерцала вывалянная в навозе горка кишок. В темном углу скулила кудлатая собака.
— Ох ты боже ж мой! — закрутился по конюшне Павел. — Да чего ж мне с тобою делать, бедная головушка? Разве ж до ветеринара теперь доскачешь?
— Надо бы отца позвать, да он вчера уехал в Пустополье, — со страхом и жалостью поглядывая на мерина, сказал Андрей.
На бегу натягивая рубахи, к конюшне бежали Демид и Петр Кущины, ковылял дед Силыч, в хате дурным голосом вопила Зиновея, Павлова жена. Мужики сгрудились вокруг мерина, осматривали его со всех сторон, а он тяжело, с кряхтеньем дышал, раздувая разбросанную вокруг полову.
— Надо ему сразу же заправить кишки в нутро, — сказал Демид.
Он притронулся ладонью к холодеющей радужной горке, от которой шел слабый парок.
— Видать, не дюже давно пропорол, перед светом… кишки еще теплые…
— Беги, скажи Зиновее, чтоб поставила водицы согреть, — сказал дед Силыч, толкнув Павла. — Спробуем ополоснуть всю эту справу водицей и заправим, — может, чего и получится.
— А выйдет чего? — глухо, недоверчиво спросил Павел.
Дед Силыч пожал плечами:
— Если в середке ничего не повредил — выйдет, а если повредил желудок или же порвал какую нутряную кишку — тогда считай, что все кончено…
— Вот чего: вы тут заправляйте внутренность, а я запрягу своих коней и поскачу в Пустополье до ветеринара, — засуетился Демид, — может, еще и спасем худобу.
Через четверть часа он уже мчался в санках вниз по холму, осатанело понукая низкорослых коней.
Павел вынес из хаты миску с теплой водой, иголку и нитки. Дед Силыч, осторожно орудуя непослушными руками, ополоснул в миске скользкие, раздутые воздухом кишки и, ощупав пах мерина, стал запихивать их в рваную рану. Обессилевший мерин натужно храпел, его влажный глаз лилово светился.
— Вдень нитку и зашивай, — сказал дед Андрею, вытирая о штаны испачканные кровью и слизью руки.
— Как это — зашивай? — испугался Андрей. — Я не смогу.
— Сможешь…
Став на корточки, Андрей ткнул острую иглу в кровоточащий лоскут на паху мерина. Мерин не шевельнулся, только по спине его пробежала и сникла в шерсти короткая дрожь.
— Зашивай, зашивай! — гудел за спиной Андрея дед Силыч.
Однако их старания оказались напрасными. Павел еще не успел отрезать ножом суровую нитку, как мерин дрогнул, захрапел, забил ногами в предсмертных конвульсиях, застучал копытами о глиняную стенку, вытянулся и перестал дышать. Павел молча опустился на порог.
— Тут уж ничего не сделаешь, сосед, — жалостно посматривая то на Павла, то на издохшего мерина, сказал дед Силыч, — значит, он себе колом нутро суродовал, все чисто порвал в середке.
Андрей привел свою серую кобылу, накинул на нее шлею и прихватил валек. Дед Силыч сложил вдвое толстую веревку, захлестнул петлей задние ноги издохшего мерина, завязал узел на вальке. Серая, беспокойно поводя ушами и оглядываясь, рванула, выволокла мерина из конюшни, остановилась.
— Вот и все, — сказал Павел, глядя на прикушенный желтыми, изъеденными зубами язык мерина. — Вот я и обпахался и обсеялся…
Из хаты выскочила беременная, в подоткнутой юбке Зиновея. Она кинулась к мерину, отвернулась к стене, заголосила, как по покойнику:
— Ой, худобушка ж ты моя жалкая! Да чего ж нам теперь делать? Кто ж нас теперь накормит, кто землицу нам вспашет? Мы ж тебя смалочку растили, сколько годов за тобой глядели и недоглядели…
Когда Демид вернулся из Пустополья с ветеринаром и остановил на холме взмыленных лошадей, он увидел распластанную на крыше сырую лошадиную кожу. На вороную шерсть кожи мягко, лениво ложился белый снежок…
Этот случай с соседским мерином потряс Андрея. Вернувшись домой, он осмотрел в конюшне каждый уголок, вынес оттуда и поставил отдельно под навесом вилы, лопаты, грабли, начисто вымыл ясли, разбросал свежую соломенную подстилку.
Вечером он сказал приехавшему отцу:
— У Павла Кущина конь издох, напоролся в конюшне на кол… Давай весной поможем Павлу вспахать поле.
— А что, ему некому помочь? — нахмурясь, спросил Дмитрий Данилович. — У него двое братьев рядом живут, Демид и Петр, и у обоих по паре коней.
Но Андрей не унялся:
— Вот и хорошо. Спряжемся с Демидом и вспашем Павлу поле. А у Петра такие клячи, что он, наверное, и себе-то не сможет вспахать.
— Ладно, — отмахнулся Дмитрий Данилович, — до весны еще далеко…
С недавнего времени в отношениях Дмитрия Даниловича к старшему сыну появились новые черты: временами он еще покрикивал на Андрея и, если замечал какую-нибудь неисправность в конюшне, в коровнике или под стогами сена, ругал сына лодырем и обормотом, но однажды подозвал Андрея и неожиданно спросил у него:
— Не посеять ли нам яровую в балке, за бугром?
Андрей удивленно глянул на отца — с чего это он вздумал с ним советоваться — и ответил с достоинством:
— Ничего не выйдет, там весенняя вода размывает скаты, ила несет видимо-невидимо. Давай уж лучше посадим в балке позднюю кукурузу.
— Что ж, можно и кукурузу, — согласился Дмитрий Данилович.
С этого дня он стал относиться к сыну как к взрослому: если Андрей поздно возвращался с вечерок, помалкивал; если заставал его где-нибудь за конюшней с папиросой в зубах, делал вид, что не заметил, молча поворачивался и уходил.
Андрей чувствовал это новое отношение отца и сам старался походить на взрослых: степенно здоровался с соседями, ходил деревенской неторопливой походкой, вразвалку, на скотину покрикивал хрипловатым баском. Однажды, впервые в жизни, он решил побриться, взял отцовскую бритву и, оставшись один, пристроился в кухне перед осколком зеркала. В зеркале хмурилось молодое обветренное лицо с белесым чубом, иссиня-серыми пристальными глазами и облупленным носом. Поеживаясь от щекотного прикосновения жесткой кисти, разбрызгивая по рубахе взбитую пену, Андрей намылил щеки, подбородок и стал неумело водить бритвой по коже. Он порезался в двух местах, но с гордостью и уважением к самому себе начисто соскреб мягкий пушок на лице. Глубокий порез на верхней губе он заклеил папиросной бумагой и подумал с удовлетворением: «Теперь можно идти на вечерки, все в порядке. А то косой Тихон проходу, проклятый, не дает: куда, мол, ты, курчонок, лезешь со своим пухом!»
Зимой, когда старики отсиживались дома и девчатам негде было принять парней-ухажеров, вечерки устраивали в тесной хате тетки Лукерьи. Девчата приносили с собой пряжу, тайком, под платками, тащили немудреную закуску: одна — хлебину, другая — миску капусты, третья — кусок сала. Парни в складчину покупали полведра самогона. Так коротали долгие зимние вечера.
Побрившись, накормив скотину, Андрей дождался темноты и пошагал на вечерку. Он еще вчера дал Тихону три рубля на самогон и теперь шел спокойно, зная, что его ждут и что он не явится незваным гостем. Только что побритые щеки Андрея приятно пощипывал морозец, все вокруг казалось ему крепким, свежим, как и его собственное упругое тело. Он подошел к хате Лукерьи, тихонько застучал дверной клямкой.
Черноглазая Ганя Горюнова высунула из-за двери голову, сверкнула белыми зубами. Пригласила:
— Заходи…
В низкой горенке было сильно накурено. В углу, под божницей, тусклым светляком мерцала лампада. На кровати и на лавках, склонясь одна к другой и ловко вертя веретена, пряли младшие девчата — Уля Букреева, Василиса Шаброва, Таня Терпужная; тут же крутились выгнанная Острецовым Пашка и ее костинокутские подруги Глафира и Харитина, такие же разведенные молодухи.
Парни сидели вокруг стола, резались в карты. Из-за густого облака махорочного дыма то и дело слышались их короткие выкрики:
— Давай еще!
— Возьми!
— Еще одну!
— Перебор!
Андрей поздоровался, скинул полушубок, походил по горнице, приглядываясь к девчатам. Нарумяненная Глафира легонько взяла его за пояс, проворковала смешливо:
— Чего затопал? Дивчину выбираешь? Так ты на этих прях не гляди — у них еще под носом мокро и они, чуть чего, плакать будут. Ты лучше прямуй до нас, мы тебя приголубим.
— А я вот похожу, может, и выберу какую, — в тон ей ответил Андрей.
— Ну выбирай. — Глафира засмеялась. — Только гляди не промахнись.
Гулящую Глафиру знала вся Огнищанка. Семнадцати лет она вышла замуж, года три жила с мужем-сапожником где-то под Обоянью, потом вернулась на хутор Костин Кут с грудным ребенком, сдала его на попечение матери-вдовы и стала гулять напропалую. К ней захаживали и женатые, и холостые, по ночам заезжали лесники, и смазливая Глафира всех принимала, каждому пела песни, каждого оделяла своей лаской.
Сейчас, то обнимая Пашку Терпужную, то пощипывая свою подругу, толстую Харитину, Глафира притворно зевала.
— Скучно, девоньки! — заявила она. — Поиграть бы в чего-нибудь или выпить стаканчик, а то наши дорогие кавалеры вовсе нас сном поморят.
— А чего ж вы дожидаетесь? — отозвалась из-за печки тетка Лукерья. — Взяли бы в какую игру поиграли.
Глафира растормошила девчат, повырывала у них веретена, обняла двух крайних, втолкнула в девичий круг Андрея и завела протяжно низким голосом:
Хме-ель, мой хме-е-люшко.Девчата подхватили, закружили Андрея, оглушая его хороводной песней:
Хмель, мой хмелюшко, Хмелиное перышко, Лебедино крылушко! Полети, наш хмелюшко, На нашу сторонушку: На нашей сторонушке Приволье широкое, Раздолье великое…Андрей затоптался среди девчат, как спутанный конь, расстегнул ворот рубашки, сразу вспотел, а горячие руки Глафиры все обвивали его шею, и подмалеванные губы выпевали, звали куда-то:
По той по раздольюшке Белый лебедь плавает С белыми лебедками..Опрокидывая табуреты, парни вскочили с мест, ринулись на середину горницы, образовали новый круг. Девчата заверещали, уклоняясь от объятий, стали отбиваться от парней, но те смыкали круг все теснее и теснее, начали приплясывать. Большеносый Ларион Горюнов запел, задыхаясь, а оказавшаяся в центре Глафира, раскинув руки и дробно пристукивая каблуками модных ботинок, зачастила скороговоркой:
Я косила лебеду, лебеду Телятушкам на еду, на еду… Меня парень поволок, поволок В темну баньку на полок, на полок…Стол и скамьи дрожали, мигал огонек лампады, тоненько дребезжали оконные стекла; снизу, из щелей ветхого пола, поднялась пыль. Как щепку в водовороте, вертела Андрея бешеная пляска. Его толкали со всех сторон, и он сам толкал локтями девчат, наступал на чьи-то ноги. Остро запахло дешевой помадой.
— И-э-эх! Эх! — истошно вскрикнула Глафира, обрывая танец.
— Фу-у! — раздался общий вздох.
Обмахиваясь платочками, подолами широких юбок, девчата присели на кровать. Разгоряченные парни выскочили во двор, стали глотать снег. Из-за печки вышла тетка Лукерья, обрызгала пол, сливая воду на горсть, поставила на место опрокинутые табуреты, спросила деловито:
— Ночевать будете? Солому вносить?
— Вносите, — ответил за всех Тихон Терпужный.
Выпили по полстакана самогона, угостили девок сладким, купленным в пустопольской лавке вином. От нечего делать Тихон стал потешаться над Касьяном Плахотиным, молчаливым, придурковатым парнем. Касьян три года батраковал у богатого мужика под Ржанском и совсем недавно, перед рождеством, вернулся в Огнищанку. Был он здоров как бык, незлобив и доверчив, девчат побаивался. Сейчас Касьян смирно сидел на лежанке, теребя кудлатую баранью шапку.
— Касьян, а Касьян, — подошел к нему Тихон, — расскажи, сколько ты грошей в Пеньках заработал.
Касьян втянул в плечи большую круглую, стриженную ежиком голову.
— Ну чего ж молчишь?
— Гы-ы! — осклабился Касьян. — Сколько ни заработал, все мои…
Тихон щелкнул его по носу:
— Выкладывай гроши, мы тебе девку купим. Вот, выбирай любую. Хочешь, Ганьку Горюнову? Хочешь, Улю? А хочешь, Глафиру?
Девчата захохотали. Бедняга Касьян совсем смутился, закрыл рот шапкой, забил обутыми в драные валенки ногами по стене лежанки. А Тихон моргнул зубоскалу Антошке Шаброву, которого все за его малый рост и остроту языка звали Шкаликом.
— Эй, Шкалик, разъясни нам: чего это святого Касьяна празднуют только раз в четыре года?
Антошка закачался на табурете и, как заправский поп, налегая на «о», начал рассказывать:
— Это так получилось. Приходит Касьян к богу одетый по-городскому: на голове шляпа с бантом, на рубашке два галстука, брюки клеш, ботиночки-лакировки, все честь по чести. Пришел, значит, Касьян и говорит богу: «Вот чего, товарищ начальник, не по душе мне, что люди Миколу угодника больше меня почитают, церквей ему понастроили, фото с него у себя держат, а мне хотя бы какую-нибудь завалящую часовню из камня-дикаря соорудили». Послушал бог жалобу Касьяна и приказывает своим рассыльным: «Разыщите-ка мне Миколу угодника». Те кинулись по всем райским закуткам, туда-сюда — нету Миколы. «Ну, брат ты мой, — говорит бог Касьяну, — погоди маленько, пока Миколу найдут, а потом я с вами разберусь…»
— Иди, мол, в дурачка с кем сыграй или в кабаке посиди, — ввернул Тихон.
— Не мешай, Тиша, не перебивай, — зашипели вокруг.
— Ну, посылает бог своих рассыльных другой раз, третий, — с дурашливыми ужимками продолжал Антошка, — и вот те приводят Миколу угодника и становят рядом с Касьяном. Глядит бог — Микола весь в грязи, босой, армячишко на нем задрипанный, мотузком подпоясанный. «Ты где это шатался?» — спрашивает бог. «Да я, — говорит Микола, — помогал мужикам вытаскивать из грязи кобыленок с телегами, там они позастряли по самые уши». Бог поворотился до Касьяна да как закричит: «Слыхал, сукин кот? За это его люди и чтут. А ты небось транваями цельные дни ездишь да за барышеньками ухлестываешь. Ступай вон отседова, лодыряка! Далеко тебе до Миколы. А за то, что ты жалился, тебя люди будут праздновать только раз в четыре года. Понятно?» — «Понятно». — «Ну и катись…»
— Хо-хо! — взялся за бока Тихон. — Слыхал, Касьян?
Закрывая рот рыжей шапкой, Касьян смущенно ухмылялся.
— Ну хватит, — сказал Ларион, — посмеялись над парнем, и довольно.
Андрей, как и все, улыбался, но ему было жаль бессловесного смирного Касьяна, и он сказал вызывающе:
— Если бы я был богом, я б святого Тихона отвел бы к коновалу и выхолостил, чтоб он дурости не выкидывал.
Все засмеялись.
— Это кто еще там пищит? — Тихон насупился.
Ларион примиряюще махнул рукой:
— Бросьте вы, петухи! Давай лучше выпьем самогона.
Он налил еще по полстакана, взял со стула миску с огурцами, предложил:
— Угощайтесь.
Самогон обжег Андрею гортань, он поперхнулся, закашлялся и поспешно схватил огурец.
— Тебе бы молочко пить, — презрительно бросил Тихон.
Когда самогон и вино были распиты, девчата убрали со стола, аккуратно сложили на подоконнике свою пряжу и веретена и зашушукались, выжидающе посмеиваясь. Тетка Лукерья вышла из-за печки, зевнула, перекрестила рот.
— Ну чего ж, вносить солому? — спросила она.
— Мы сами внесем, — сказал Ларион.
Они с Тихоном внесли по охапке холодной ржаной соломы, положили ее на пол. Тетка Лукерья расправила солому, примяла босыми ногами, глянула на девчат:
— А молодые хозяечки чего по углам схоронились? Берите свои пальтишки да стелитесь. Или же вам впервой ночевать с парнями?
— Поучи, поучи их, тетя, — одобрил Тихон.
Тетка Лукерья прислонилась спиной к горячей печке, поджала губы и сказала:
— А чего ж их учить? Это дело у нас спокон веку ведется — ночевка после вечерок. Где же молодым людям познакомиться, как не под одной одежиной! Вот девчаткам только разума не надо терять — это другой разговор. А насчет ночевки — такой уж, значит, деревенский закон: и деды наши, и родители по вечеркам с девками спать ложились. И девки пускали парней, а не баловались, честь свою строго блюли.
— Скажите какой большой интерес! — откликнулась неугомонная Глафира. — Только намучаешься даром — и все.
— Правильно, Глаша! — как гусь, загоготал Тихон.
— Нет, неправильно ты говоришь! — сердито сказала тетка Лукерья. — Как же так можно? Ведь девка не век вековать будет одна, найдет себе человека по сердцу, замуж выйдет. С какой же совестью она на мужа-то глядеть будет?
Махнув рукой, она скрылась за печкой, стала шептать молитву. Глафира расстелила на соломе свой нарядный полушалок и спросила игриво:
— Чей тулуп стелить под голову?
— Стели мой, — сказал Тихон.
Они улеглись у стенки. Рядом с ними, потянув за собой Пашку Терпужную, уселся и стал стаскивать сапоги Ларион. Один за другим повалились и тотчас же захрапели Касьян и Антошка Шабров. Немного похихикали и легли, с головой накрывшись платками, Васка Шаброва, Таня Терпужная и Ганя.
Остались только Андрей и Уля Букреева. Андрей сидел у порога на корточках, курил. Уля, распустив белесую косу, заплетала ее, туго стягивая концы, задумчиво смотрела в окно. Заплетая косу, Уля сняла валенки, поставила их в угол, стащила с ног и разложила на лежанке шерстяные носочки, расстелила свою шубейку.
— Чего ты не спишь? — сказала она Андрею. — Пора!
— Места нет, — сонно пробормотал Андрей. — Я пойду домой.
Уля приподнялась, уперлась ладонью в пол:
— Куда ты пойдешь в такую темень? Тут есть место, иди ложись.
Андрей послушно пошел в угол и улегся рядом с Улей, прикрыв ее полой своего полушубка. Он никогда не обращал внимания на эту тихую белявенькую девушку, никогда не думал о ней и даже тут, в Огнищанке, где все виделись по десять раз на день, встречал Улю очень редко. Сейчас он удивился тому, как спокойно, просто Уля придвинулась ближе, положила голову на его руку и прошептала, засыпая:
— Ну, спи…
Но Андрей еще долго не мог уснуть. Он думал о Еле, о том, как странно все устроено на свете и как ему хотелось бы одним глазом глянуть на то, что делается в Пустополье, где он так жестоко обидел подлым подметным письмом ту, которая уже стала для него дороже жизни…
Домой Андрей возвращался на рассвете. Возле колодца он неожиданно натолкнулся на Длугача. Тот, как видно, только что приехал откуда-то и поил у колодезного корыта оседланного, заиневшего в пахах коня. Увидев Андрея, Длугач подозвал его и сказал, затягивая седельную подпругу:
— Вот чего, молодой человек. Выбери ты часок свободного времени и загляни ко мне до дому. Сурьезный разговор есть. Хватит тебе по девкам шастать да в навозе копаться. Хочу тебя на ответственный пост определить.
2
Илья Длугач жил в убогой избе между Букреевыми и Плахотиными. В его неогороженном дворе не было ни камор, ни сараев, только высилась разлохмаченная ветром скирда соломы да в обложенной навозом землянушке стоял старый гнедой конь. Родом Длугач был с Украины, откуда его отец-батрак ушел задолго до революции, долго скитался по хуторам, потом лет пятнадцать служил конюхом у огнищанского помещика Рауха. В 1917 году конюхи Михайло Длугач и Петр Липец, муж тетки Лукерьи, собрали сход и объявили в Огнищанке Советскую власть. Они подняли на ноги окрестную бедноту, конфисковали у Рауха землю, раздали мужикам его коней, быков, овец. Они разыскали в ямах захороненное кулаками зерно и сдали его продотрядам, арестовали трех кулацких сыновей-белогвардейцев. В 1919 году, осенью, Михаил Длугач и Петр Липец были найдены возле Казенного леса мертвыми. Петр лежал прямо на дороге, ему размозжили голову железной занозой и насквозь прокололи грудь вилами-тройчатками. Михаил был прикручен проволокой к стволу березы и весь изрублен топором. Добрые люди обмыли мертвых, обрядили их как положено и схоронили там же, неподалеку от леса, на невысоком кургане.
В эту пору молодой Илья Длугач, кавалерист Первой Конной армии, сражался против Деникина, потом попал на польский фронт. Когда Илья вернулся в Огнищанку, он вместо родного дома нашел только кривые стены разваленной избы. Тетка Лукерья, вытирая фартуком глаза, рассказала ему о гибели отца и о смерти убитой горем матери. Илья просидел полдня на отцовской могиле, за неделю исправил разоренную избу, а к весне привел из Калинкина девушку-сироту Любу и стал с ней жить, Огнищанские бедняки вскоре избрали Длугача председателем сельсовета.
Круто повел себя молодой председатель. Он вывез из рауховского двора и раздал беднякам все, до последней щепки, а самого Рауха выгнал из дома. Если в сельсовет приходили богатые мужики, Длугач тяжелым, недобрым взглядом окидывал их с головы до ног, и губы его дрожали.
— Я их, сволочей, все одно доконаю, — говорил он угрюмо.
Однако и самому Длугачу не повезло: его жена Люба заболела какой-то неизлечимой женской болезнью и таяла на глазах. Илья таскал ее по врачам, показывал профессору в губернском городе, но даже профессор ничем не смог помочь, только руками развел — безнадежное, мол, дело…
Хотя Люба больше лежала в кровати, в избе Длугача было чисто — кухонный стол вымыт, земляные полы смазаны желтой глиной, марлевые занавески на окнах разглажены.
Гордостью Длугача был большой красочный портрет Ленина, вставленный в роскошную позолоченную раму старинной работы. Портрет-плакат, на котором Ленин был изображен с поднятой рукой, Илья выпросил в губкоме партии, а раму подобрал на рауховском дворе вместе со стеклом, дня два суконкой начищал каждый завиток, а потом вставил в нее плакат и повесил между окнами, против входной двери. С того дня каждый, кто заходил к председателю, видел залитую солнцем фигуру Ленина, а над Лениным — глубокую синеву ясного неба.
Андрей пришел к Длугачу в первое же воскресенье, но дома его не застал. Сидевшая у печки Люба оторвалась от работы — она латала мужнину рубаху — и пригласила Андрея присесть.
— Погодите немного, он выскочил к соседу, скоро вернется.
Всматриваясь в бескровное лицо Любы, в желтоватый цвет кожи на ее худых руках, Андрей спросил, чтобы прервать неловкое молчание:
— Ваш муж, наверно, никогда не бывает дома?
— Почти что, — слабо улыбнулась Люба. — Мне при моем плохом здоровье тетя Лукерья, спасибо ей, помогает. Если б не она, вовсе плохо пришлось бы. А Илья одно знает: сельсовет, волость, собрания всякие, сходки. В воскресный день и то не сидит в хате, то к одному соседу бежит, то к другому, везде дело себе находит…
Люба положила на колени шитье, воткнула иголку в кофточку.
— Такой уж у него, Ильи, непосидючий характер и терпения нету ни крошечки, все мотается да придумывает чего-нибудь…
Илья Длугач вошел в хату неожиданно, с треском распахнув наружную дверь и что-то опрокинув в сенцах.
— Прибыл? Вот и хорошо! — сказал он, увидев Андрея и стаскивая с себя длиннополую потертую шинель. — А я у лесника был, у Букреева, хотел у него пару сошек выписать, стропила в конюшне сделать. Там крыша, окаянная, провалилась, прямо совестно и перед людьми, и перед конем.
Он прошелся по хате, глянул на жену, заговорил, словно оправдываясь перед ней:
— Пришел я к леснику, а у него Назар сидит, который в батраки к Терпужному пристал. Тоже лескý просить заявился. «Хочу, — говорит, — какую ни на есть земляночку себе слепить, а то ваш Антон Агапович скоро жилы из меня вытянет».
— Такой не то что жилы, душу вымотает, — согласилась Люба.
— Во-во! Ну, зачал он про Антона-паразита рассказывать, Назар-то, а я на него и накинулся. «Чего ты, — говорю, — божий телок, здоровье свое отдаешь врагу революции? Руки у тебя есть, кузнец ты, видать, добрый. Пошли, — говорю, — этого кровососа Антона к чертовой матери да кузню открывай, работы у тебя тут хватит, а мы тебе земельки дадим, будешь хозяйновать помаленьку…»
— Что ж он? Согласился? — спросил Андрей.
— А чего ему не согласиться! — ухмыльнулся Длугач. — Парняга он работящий. «Добре, — говорит, — товарищ председатель, я у Терпужного дослужу до пасхи, деньги с него получу, какие положено, а там за свою земляночку возьмусь…»
Длугач присел на табурет, взял с подоконника папку с тесемками, вынул лист бумаги и разгладил его ладонью.
— Тут такое дело, — сказал он Андрею, — получил я отношение от начальства насчет борьбы с темнотой.
— Какой темнотой? — Андрей подвинулся, заглядывая в бумагу.
— Сейчас я тебе разъясню. — Он постучал ногтем по картонной папке: — По нашему Огнищанскому сельсовету числится триста шестьдесят девять жителей мужеского и женского пола, считая с десятилетнего возраста и старых дедов. Мелкая детва в эту цифру не входит, про нее особая речь. Так вот, из всех этих жителей только сорок пять грамотных, а триста двадцать четыре заместо своей фамилии расписываются крестами, разные крючочки ставят и прочую муру. Понятна тебе такая арифметика?
— Да, — неопределенно протянул Андрей.
Захлопнув папку, Длугач сказал сердито:
— Школа у нас в Калинкине одна на все деревни, в ней занятия идут в три смены, а учительша еле ноги волочит. Вот у меня и сплановано такое решение: открыть по сельсовету три вечерние школы ликбеза — в Костином Куту, там Острецова Степана за учителя поставить, в Калинкине, там я тоже паренька нашел подходящего, и у нас в Огнищанке. Тут уж тебе доведется помощь нам оказать.
— Какую помощь? — спросил Андрей.
— Учителем пойти в ликбез. Будешь заниматься в избе-читальне, мы туда столы и лавки поставим, а тетрадки и карандаши нам пришлют.
— А народ?
— Чего — народ?
— Народ пойдет в эту нашу школу?
Длугач остервенело покрутил ус.
— Пойдет. У меня пойдет, за народ ты не печалься.
— Ладно, — сказал Андрей, — давайте попробуем, хотя я и не знаю, получится у меня что-нибудь или нет.
— Получится, — заверил его Длугач. — Ты им нарисуй мелом на доске букву «а», а они нехай повторяют. Апосля «бе» и «ве» таким же макаром нарисуй. Если по три буквы за вечер выучат, мы эту ликвидацию неграмотности за десять дней провернем. У меня так и сплановано. В крайнем случае ты там всякие мягкие знаки и точки-запятые можешь пропустить, обойдутся и без мягких знаков, нам эта мягкость ни к чему.
В понедельник утром Длугач начал вызывать в сельсовет жителей Огнищанки. Он вызывал их по одному, по два и с каждым по-разному беседовал: одних уговаривал, даже упрашивал, других стращал, а перед третьими, повысив голос, ставил ультиматум — ликвидировать в течение месяца свою неграмотность, и никаких гвоздей.
Первым в лапы Длугача попал дед Сусак. Он явился по вызову, уселся на скамье и, жуя конец сиво-зеленой, обкуренной бороды, уставился на председателя.
— Исай Фомич Сусаков? — деловито осведомился Длугач, как будто никогда и не видел деда.
— Так точно, он самый! — отрапортовал дед Сусак.
— Угу… Понятно…
Перелистав бумаги, Длугач сказал с наигранной небрежностью:
— Вы зачислены в школу, товарищ Сусаков. Придется вам вечерком приходить в избу-читальню по средам и субботам. Ясно?
— Это чего ж вы меня в школу зачислили — сторожем или как? — спросил дед.
— Зачем же сторожем? Советская власть имеет желание вашу старорежимную недоразвитость ликвидировать и зачисляет вас учеником в огнищанскую школу ликбеза, — снисходительно объяснил Длугач. — Причем зачислены не только вы, но также баба Олька, то есть Ольга Аверьяновна, ваша жинка.
Дед Сусак с легким испугом посмотрел на председателя — не рехнулся ли он, случайно? — и пробормотал виновато:
— Оно, конечно, правильно, только нам со скотиною некому управляться, и потому мы премного благодарствуем. Нехай уж молодые учатся, а мы с бабкой дома за печкой посидим.
— Об этом не может быть никакого разговора, — строго сказал Длугач. — Со скотиною вы до семи часов управитесь, а печка без вас не захолонет и не развалится. Так что прошу в среду прибыть без опоздания.
— Слухаю! — Дед Сусак почесал затылок. — Раз так, то так…
Чуть ли не полдня Длугач провозился с мужем и женою Шабровыми. Если тщедушный, с детства забитый Евтихий Иванович Шабров, выслушав председателя, повторял: «Как вам будет угодно», то Шабриха сразу полезла на стенку.
— Ты меня хотя убей, а я никуда не пойду! — сцепив пальцы, закричала она. — Придумали, чертяки, какие-то насмешки над старыми людьми и хотят, чтобы народ им покорялся, идолам! Хоть топи меня, никуда не пойду!
Чем больше кричала Шабриха, тем шире раздувались ноздри Длугача и темнее становились его глаза.
— Ну вот чего, — сказал он, пристукнув кулаком по столу, — вы мне тут глотку не дерите! Ясно? У меня лежит на вас заявление от местных граждан насчет того, что вы ведьмуете, молоко коровам портите и вообще своим ведьмовством приносите вред бедняцкому хозяйству. Понятно? Я не давал ходу этому делу, а теперь мое решение такое: ежели вы походите недельки три в школу и научитесь по-людски свою фамилию подписывать, тогда я именем Советской власти сниму с вас этот грех и позор. А откажетесь — пеняйте на себя. Имейте только в виду, что мы не позволим истощать наших советских коров ведьмовским вредительством. Так что лучше идите в школу и докажите свою преданность мировому пролетариату…
С Антоном Терпужным Длугач разговаривал коротко. Как только Терпужный, который уже прослышал, что председатель загоняет огнищан в ликбез, вошел в сельсовет, Илья бросил сквозь зубы:
— Сидай.
Антон Агапович опустился на скамью.
— Грамотный?
— Грамотный.
Длугач придвинул к Терпужному чистый лист бумаги и карандаш:
— Распишись.
Слюнявя карандаш, потея, Антон Агапович с грехом пополам вывел «Тер», а дальше поставил замысловатую каракулю.
— Та-ак, — критически прищурился Длугач. — Ну-ка, напиши мне: «Инду-стри-али-зация». Ясно? «Индустриализация».
Рука Терпужного дрогнула. Он оторопело посмотрел на председателя, крякнул.
— Не можешь? Вопрос ясен. Грамотей! Грамотность твоя не выше, нежели у моего гнедого. В среду приказываю быть в избе-читальне совместно с жинкой. Бывай здоров…
Впрочем, насчет Терпужного в душе Длугача шевельнулся червь сомнения. Едва Антон Агапович скрылся за дверью, Длугач постучал кулаком в стенку. На его зов явился секретарь сельсовета Сережка Гривин, болезненный парень на деревянной ноге.
— Как ты полагаешь, Серега, — спросил Длугач, задумчиво покручивая ус, — ежели, скажем, у нас имеется неграмотный кулак, а мы обучать его станем, будет это изменой революции или же нет?
— А чего по этому вопросу в инструкции говорится? — на всякий случай спросил осторожный Сережка.
Смерив его уничтожающим взглядом, Длугач презрительно сплюнул:
— Ты мне инструкцию не тычь, там про кулаков ничего не написано. Ты своими мозгами шевели, сам в политике разбирайся, а то, к слову сказать, у тебя в голове какая-то недоделка имеется.
И, уже не обращая на обескураженного Сережку никакого внимания, проговорил мечтательно:
— Придет такой час, когда мы каждого кулацкого паразита в крутом кипятке выпарим, змеиную шкуру с него сдерем и нутро его гадово обновим точно так, как скребком обновляют на дереве гнилую кору. А это легче сотворить, ежели он, сволота, будет грамотным: он тогда куда скорее разберется, что к чему. Значит, у Советской власти не может быть никакого возражения против того, чтобы кулак обучался в ликбезе и повышал свою умственность под нашим, конечно, рабоче-крестьянским контролем.
Разрешив таким образом сложный вопрос с обучением Терпужного грамоте, Длугач приказал Сережке Гривину немедленно вызвать в сельсовет заведующего избой-читальней Гаврюшку Базлова.
— Бежи за ним до дому и скажи, что председатель, мол, требует в сей же секунд.
Гаврюшка не замедлил прибыть во всем блеске: еще в коридоре снял старенькое серое пальтецо и предстал перед Длугачем в неизменной розовой рубахе, в синих брюках дудочкой и модных ботинках «джимми». Редкие волосы Гаврюшки были обильно смазаны борным вазелином и уложены бабочкой.
— Честь имею, — поклонился он Длугачу.
— Вот чего, избач, — сказал Длугач, — доведется тебе свою цирюльню из избы-читальни выдворить, там люди будут грамоте обучаться. Ты возьми-ка веник, тряпку, вычисти там все и полы помой.
Табурет под Гаврюшкой скрипнул.
— Извините, товарищ председатель, я, наверно, ослышался. Как же это так? Мне мыть полы? С какой стати?
— Ты деньги за избу-читальню получаешь? — повысил голос Длугач. — Получаешь. Кто же за тебя чистоту там наводить будет? Я, что ли? Позагадил там все углы волосьем, бумажками — ногой ступить нельзя. Чтоб мне завтра изба-читальня сияла! Ясно? Иначе я тебя заставлю языком все вылизать.
— Позвольте, позвольте! — вскочил Гаврюшка. — Я же не дворник, я, извините меня, не полотер, я деятель культурного фронта, образование имею.
Длугач хлопнул линейкой по столу:
— Хватит! Подпольный деятель! Получи у Гривина под расписку тряпку и мой полы. Это первое. Теперь второе. Я уже не в силах терпеть твоей «культуры» в избе-читальне. Только и знаете там стрижку-брижку производить да козлами скачете под балалайку! Довольно! Даю тебе официальное распоряжение — прочитать гражданам лекцию.
— К-какую лекцию? — пролепетал Гаврюшка.
— Лекцию про вред пасхи и откуда произошла вся эта мура с христосованием, с крашенками и прочее. Понятно? Через два месяца пасха, надо уже теперь работенку проводить, агитацию устраивать, а ты заместо антибезбожной агитации краковяк в избе-читальне отдираешь. Вот подбери литературку, рисуночки всякие поделай и выступи перед гражданами.
— Какого числа прикажете? — упавшим голосом спросил Гаврюшка.
— В ту субботу. Не в эту, а в ту. Ясно? Прямо после ликбезных занятий и шпарь лекцию. Мы заранее про лекцию объявим, чтоб люди знали. А сейчас ступай за тряпкой и начинай мытье полов.
Так и пришлось Гаврюшке снять розовую рубаху, брюки и «джимми», подкатать до коленей подштанники и мыть в избе-читальне затоптанные полы, на которых давно уже лежал толстый слой затвердевшей, как камень, грязи. К вечеру полы были вымыты, пыль на стенах вытерта, а к потолку подвешены новые керосиновые лампы. Сережка Гривин привез из Калинкина классную доску, два стола и несколько сломанных парт, которые тут же под руководством Длугача были наскоро сбиты гвоздями.
— Ну вот, — с облегчением проговорил Длугач, — теперь можно начинать занятия. Вроде аж на душе спокойнее стало.
В среду вечером, как было условлено, пришли, хотя и с некоторым опозданием, почти все неграмотные огнищане. Тут были и дед Сусак с бабкой Олькой, и дед Силыч, и Шабровы, и Тютины, и братья Терпужные с женами, и тетка Лукерья. Не пришли только Федосья и Зиновея Пущины — должно быть, захлопотались с малыми детьми.
Андрей пришел ровно к семи. Он волновался, кусал ногти, пробовал на доске острый кусок мела.
— Ничего, парень, не паникуй, — ободрил его Длугач. — Не святые горшки лепят. Ты смелее действуй. Ежели где и собьешься, они все одно ни бельмеса не поймут.
Люди смущались не меньше Андрея. Они смотрели в пол, ухмылялись, перемигивались. Дед Силыч откровенно вздыхал. Тетка Арина, жена Павла Терпужного, сварливо говорила мужу:
— На кой ляд ты меня сюда привел? Чего я, корову не сдою без твоей грамоты или же борща тебе не наварю? Затеяли такое, что совестно на вас глядеть, ей-богу.
Когда все уселись по местам, Илья Длугач скинул шинель, оправил пояс на гимнастерке и заговорил громко и торжественно:
— Отныне кончается ваша тьма. Жили вы все как в лесу, землю плужком ковыряли в точности как деды и прадеды, одно только и твердили, как попки: «Дай, господи» да «Подай, господи». Теперь Советская власть повертает вас на новую дорогу и учит всех уму-разуму. Так что получайте под расписку тетрадки, карандаши и обучайтесь на здоровье.
— А как же они расписываться будут за тетради? — сдерживая усмешку, спросил Андрей.
— Нехай пока роспись крестами да крючками ставят, — разрешил Длугач. — Сами же потом посмеются над этим…
Андрей раздал тетради, взял мел и подошел к прислоненной к стене доске. Он еще и сам не знал, с чего начинать, и некоторое время стоял молча. Перед ним за столами и партами, выжидающе глядя на него, сидели пожилые и старые люди, каждого из которых он знал и к каждому относился по-своему: деда Силыча любил, бессловесного Евтихия Шаброва жалел, Тютина слегка презирал, Антона Терпужного побаивался. Андрей с детства видел всех этих людей в другой обстановке — с косами, вилами, граблями. Там, в поле, они учили его, Андрея, как надо держать косу, чтобы не запороть носок, как выложить снопы в суслонах, затянуть на хомуте сыромятную супонь, отбить на меже ровную борозду, отклепать тупой лемех. Тут же, в просторной, освещенной лампами комнате, он сам, Андрей Ставров, должен был научить этих людей читать и писать, то есть должен был научить их тому, что дается гораздо труднее, чем выкладка суслона или затяжка супони. Сейчас, стоя у доски, Андрей видел обветренные, морщинистые лица, крепкие, узловатые пальцы, неумело держащие карандаш, и думал: «Что ж я им скажу? Как мне научить их? Какой же из меня учитель?»
— Чего на тебя, товарищ дорогой, столбняк напал? — удивленно спросил Длугач. — Дай-ка мне шматок мела, я сам начну, ежели у тебя невыдержка.
Длугач быстро и твердо написал мелом на доске «СССР», потом подчеркнул написанное, повернулся к людям, объяснил:
— Так, граждане, пишется название нашего государства: СССР — Союз Советских Социалистических Республик. Ясно? Первые три буквы называются «с», а четвертая — «р». Теперь перепишите все это в тетрадки и запомните: только у нас в СССР таких сиволапых мужиков, как мы с вами, писать обучают, а в буржуйских странах на нашей спине плетюганом писали бы. Понятно?
— Понятно, — отозвался сидящий впереди дед Силыч. — Ты здесь, голуба моя, агитацию не разводи, у нас на спинах и посейчас есть знаки.
Длугач передал мел Андрею:
— На, действуй. Да учи мне по-настоящему, а то ты зачнешь им показывать, как «папа-мама» писать, а это все ни к чему. Чтоб до субботы они все умели писать слово «индустриализация». В субботу я загляну, экзамены им устрою, и ежели кто не сможет писать «индустриализация», нехай пеняет на себя.
Однако Андрей не послушался Длугача. Он рассказал своим ученикам, как из букв составляются слова, написал на доске несколько слов — поле, бахча, ярмо, борозда, борона, — потом стал писать отдельные буквы, а престарелые ученики, посапывая и потея от напряжения, старательно копировали в своих тетрадях все написанное учителем.
С первых же вечеров Андрей увлекся работой. Он нарезал из картона квадраты и нарисовал лиловыми чернилами комплекты прописных и печатных букв; верхом на лошади он съездил в Калинкино, познакомился со старой, больной учительницей Верой Петровной и выпросил у нее три потрепанных букваря; днем при каждой встрече с кем-нибудь из учеников Андрей останавливался и, рисуя веточкой на снегу ту или иную букву, заставлял старика или старуху на ходу повторять пройденное.
— Хватит тебе, грамотей! — взмолились огнищане. — Ты нам в школе памороки забил, да еще и на улице проходу не даешь. Поимей хоть жалость, ради бога, а то у нас вовсе ум за разум зайдет…
Но почти каждый, кого Андрей останавливал, послушно опускался на корточки и, в свою очередь отыскав щепку, а то и просто пальцем, принимался неуклюже вырисовывать усвоенные буквы.
Только одна Шабриха отмахивалась от Андрея.
— Отцепись, будь ты неладен! — сердито ворчала она. — Делать вам, видно, нечего, так вы придумали беду на нашу голову…
Когда Андрей рассказал о встрече с Шабрихой деду Силычу, тот покачал головой и проговорил укоризненно:
— Темная баба, недаром ее ведьмой кличут. Чего с такой возьмешь? Ее за ручку ведут к добру, а она, вишь ты, еще упирается — я, мол, в темноте желаю жить…
Занятия шли своим чередом, и уже на третьем уроке Андрей почувствовал, что его труд приносит первые плоды: даже старики, дед Силыч и дед Сусак, успели выучить много букв, ругались друг с другом из-за букваря и просили Андрея:
— Ты насчет времени не бойся. Ежели надо, мы часок-другой лишний посидим, абы керосина в лампах хватило…
В очередную субботу после занятий в избу-читальню зашли Длугач и Гаврюшка Базлов. В этот вечер Гаврюшка нарядился как на свадьбу, весь сиял, и только предательская дрожь пальцев выдавала его страх.
— Граждане, — сказал Длугач, — у нас есть указание свыше, чтоб мы скрозь по сельсовету просвещение умов делали путем лекций, а также докладов. Сегодня заведующий избой-читальней товарищ Базлов прочитает нам лекцию про пасху, откуда она взялась и тому подобное.
В избу-читальню стали заходить парни, девчата. Появился даже угрюмый лесник Букреев, вечный молчальник. Следом за ним пришел Острецов. Люди расселись на скамьях. Андрей присел рядом с Длугачем; ему интересно было послушать, как Гаврюшка будет читать лекцию, и он, зная этого недалекого пустомелю, предвкушал удовольствие вдосталь посмеяться.
— Начинай! — приказал Длугач Гаврюшке.
Тот вышел вперед, раскланялся, как заправский артист, и заговорил каким-то булькающим голосом:
— Пасха — это, граждане, праздник Исуса Христа, который, как известно, был абсолютно обнаковенный человек и существовал исключительно давно. Исус возрастал в плотницкой мастерской, в довольно-таки трудящей семье, и имел прозвание «агнец». То, что он якобы по морю пешком ходил или пятью хлебинами накормил пять тысяч душ, — это, конечно, противоестественная брехня. Ничего этого не было и быть не могло по простому закону тяготения, который тогда же изобрел ученый по фамилии Ньютон…
Гаврюшка передохнул, хлебнул воздуха, глянул на Длугача и продолжал самоуверенно:
— То, что этот самый Исус был распнут одним пилотом — я сейчас забыл фамилию пилота, кажется Понтицкий, — это исторически правильно, хотя и довольно смутно. Но что Исус воскрес и как ни в чем не бывало вылез из гроба и даже взлетел — это, конечно, абсолютная мечта, так как мертвый и тем более похороненный человек по закону тяготения не имеет физической возможности воскресать…
В углу, где сидел Острецов, раздался придушенный смех, Андрей уже давно кусал пальцы, чтобы не расхохотаться, плечи его подергивались, и он прятался за спину Длугача.
А горловой голос Гаврюшки булькал упоенно:
— Попы и священники, которые в более поздний промежуток изобрели недоверчивую легенду про воскресение Исуса, стали с людей собирать в свою пользу разный продукт производства, и особенно обожали разноцветные яйца. По этому поводу и возник обычайный ритуал красить яйца в любой колер и освящать их окроплением.
— Охо-хо! — вздохнул кто-то из стариков. — Пора бы уже до дому, а то он, окаянный, до смерти нас заговорит.
Но Гаврюшку трудно было унять. Жеманно оправляя галстук, закатывая глаза, он неистово жестикулировал и заливался соловьем:
— Недалекие, некультурные люди еще с доисторической эпохи попривыкали доверять служащим церковного культа и потому завсегда выполняли требования первосвященников как насчет яиц, так и насчет вербы с пупочками. Мы же в наше время вполне можем отмечать советскую пасху по-новому, а на красных яйцах имеем возможность красиво рисовать свои советские знаки — серп и молот, звезду и тому подобное… И если кто говорит: «Христос воскрес»…
— Воистину воскрес! — рявкнул Длугач. — Сматывайся отсюда, пока цел, и завтра же сдавай избу-читальню, чертов дурошлеп!
Громовой хохот покрыл слова Длугача. Гаврюшка, вытирая потный лоб, пробормотал растерянно:
— Это же все есть в книжке, которая называется «Христоматика молодого безбожника». Можете проверить. Я ее от корки до корки прочитал.
— Ничего не знаю, — сердито сказал Длугач, — знаю только одно, что я дурачков держать не желаю. Завтра же сдавай все по описи, и чтоб твоей ноги не было. Ясно?
— Кому сдавать? — упавшим голосом спросил Гаврюшка.
— Вот ему, — повернулся Длугач, — товарищу Ставрову. Он хотя и совсем молодой, а тебя двадцать раз за пояс заткнет.
Андрей удивленно глянул на Длугача, поднялся с места, хотел было сказать, что ему трудно будет работать и в ликбезе, и в избе-читальне, но Длугач уже положил руку на его плечо и сказал твердо:
— Ты, парень, не вздумай отказываться. Это дело у нас хромает на обе ноги. Слыхал, чего наплел наш избач? Уши вянут. Тебя же Советская власть учила вовсе не для того, чтоб ты бегал по деревне да груши околачивал…
В воскресенье Андрей принял от Гаврюшки Базлова шкафчик с сотней порванных книжек, керосиновую лампу, стол со стульями, три плаката, ржавый дверной замок и стал заведующим огнищанской избой-читальней. Что ему надо было делать, как вести работу, с кем советоваться — он не знал.
3
Как только сойдет с полей снег, потянет с юга теплый ветер и на склонах холмов станет источать едва заметный парок прогретая полдневным солнцем земля, начинают пробуждаться деревья. В садах еще холодит землю неубранная прелая листва, еще, бывает, на утренних зорях блестят в прошлогодней траве призрачные пятна инея, а поглядишь — уже какая-нибудь яблоня-подлеток вся трепещет, налитая только что пробужденной жизнью. Набухают на яблоневых веточках-копьецах полные соков коричневые с краснинкой плодовые почки, шевелятся, колеблемые ветром, тронутые серебристым пушком, тонкие ростовые прутики, и яблоня, молодая, сильная, только что омытая первыми весенними дождями, красуется под солнцем, словно ждет мгновения, когда, бело-розовая, прекрасная, как невеста, оденется она нежным убранством пахучих цветов…
Безмятежно миновали детство и отрочество Ели Солодовой. На пороге своего девичества встала она, милая, беззаботная, полная красоты и силы, как весенняя яблоня. Жизнь баловала Елю. Золотые руки Платона Ивановича, Елиного отца, избавили семью Солодовых от многих бед и неприятностей. Еле не пришлось, как другим, утолять голод вороньими яйцами, есть вареную, сдобренную солью лебеду, падать от изнеможения в борозду рядом с наморенным, худым конем. Даже в самые худшие дни Платон Иванович своим мастерством и трудом смог обеспечить жене и дочке сносную жизнь.
Еля вырастала в семье общей любимицей, и, чем краше расцветала она, тем больше сгущалась вокруг нее атмосфера любви и преклонения. Уже не только отец и мать, не только давние друзья Юрасовы, но и соученики и знакомые хвалили красоту Ели и добивались ее расположения. «Какая красивая девочка! Какие у нее глаза! Какая фигура! Вот осчастливит кого-то!» — эти слова Еля слышала каждый день. Ей нравилось сознавать, что она действительно красива, лучше многих других, и она привыкла к тому, что все обращают на нее внимание, что прохожие, встретив ее на улице, долго оглядываются и восхищенно говорят о ней.
Несмотря на эту атмосферу любви и преклонения, Еля не была самовлюбленной эгоисткой. Она отличалась трудолюбием, хорошо училась, была умна и приветлива. Но так же как любая красивая девушка, Еля чуточку дольше, чем следовало бы, задерживалась у зеркала, особенно когда оставалась одна. «Что они все нашли во мне? — наивно и радостно думала она, всматриваясь в свое лицо. — Я такая же, как все, обыкновенная, такая же, как Соня, Клава…»
Из зеркала на Елю смотрела сероглазая, крупная не по возрасту, хорошо сформировавшаяся девушка. Кожа у нее была гладкая, чистая, того благородного оттенка, какой бывает у слоновой кости, а волосы темные, волнистые, на солнце они отливали едва заметной рыжинкой. С темными волосами и бровями отлично гармонировали, придавали свежему лицу Ели невыразимую прелесть светло-серые, ясные улыбчивые глаза и длинные черные ресницы.
«Нет, все-таки во мне, видно, есть что-то такое», — краснела Еля и, сердясь на себя за свое полудетское кокетство, отворачивалась от зеркала и принималась за уроки. Однако Еля часто ловила себя на мысли, что ей нравятся хорошо сшитые платья, тонкие чулки, туфли на высоких каблуках. «Ну что ж, — говорила она себе, — это всем нравится…»
В доме Солодовых благодаря неустанным заботам Марфы Васильевны царили уют и чистота — все было вымыто, натерто, наглажено. Полуграмотная, но разумная, с сильным характером женщина, Марфа Васильевна полновластно хозяйничала в семье. Ей Платон Иванович отдавал весь свой заработок, и она, бережливо расходуя деньги, умела хорошо одевать мужа, дочь и себя, вкусно готовила, приобретала кое-что из мебели.
— Мы у тебя, Марфуша, как у Христа за пазухой, — говорил довольный Платон Иванович. — Такой хозяйки, как ты, днем с огнем не найдешь.
Еля с детства привыкла к этой обстановке чистоты, аккуратности, взаимного уважения. Каждый день она вместе с матерью ждала возвращения отца из мастерской, слушала, как он, отфыркиваясь, умывался в кухне, приводил себя в порядок. Потом Платон Иванович появлялся выбритый, в белой рубахе, целовал жену, дочку, и вся семья усаживалась за стол — каждый на свое место. За обедом Платон Иванович обстоятельно рассказывал Марфе Васильевне обо всем, что произошло в мастерской, с кем он встречался, что при этом говорилось. Так проходили дни в маленькой семье механика Солодова, и казалось, ничто не нарушит размеренное течение ее жизни.
Но как только началась весна, Платон Иванович неожиданно заскучал. Однажды он вернулся из мастерской пасмурный, недовольный и, усевшись за стол, начал заранее продуманный разговор.
— Надоела мне мастерская, — сказал Платон Иванович, теребя салфетку. — Все товарищи работают на заводах, а я зарылся в дыре, чиню швейные машинки, стал кустарем-одиночкой.
— Ты же не по своей охоте ушел с завода, голод тебя погнал, — возразила Марфа Васильевна.
— Что ж, голод мы давно пережили, пора возвращаться на завод. Сегодня Матвей Арефьевич получил из города письмо, от одного инженера. Тот пишет, что наш завод будет заново строиться, станет раз в десять больше, получит новое оборудование.
— Какой это инженер? — спросила Марфа Васильевна.
— Чернявенький такой, ты его должна помнить. Он как-то приходил с Матвеем Арефьевичем к нам на именины.
Марфа Васильевна испытующе взглянула на мужа:
— Что ты надумал?
— Осенью переедем в город, — сказал Платон Иванович. — Хватит с меня, надоело.
— А мастерская? — спросила Марфа Васильевна.
— Мастерскую продадим.
С этого дня в семье Солодовых начались медленные сборы. Марфа Васильевна с помощью квартирной хозяйки стала исподволь продавать на базаре лишние вещи — кухонный стол, табуреты, лохань, ведра — все, что в городе можно будет потом приобрести по сходной цене. Платон Иванович довольно быстро нашел человека, который, как оказалось, давно хотел купить оборудование механической мастерской и уже не раз говорил об этом с Матвеем Арефьевичем. Мастерскую решили продавать через три месяца, о чем теперь же условились с покупателем.
Елю мало интересовали домашние хлопоты отца и матери. Она знала только одно — по окончании школы ее ждет переезд в город, где все будет гораздо интереснее и красивее, чем в захудалом, глухом селе. Думая о предстоящем переезде, Еля тоже, независимо от родных, приводила в порядок свое незамысловатое хозяйство — укладывала в пустые конфетные коробки разноцветные ленты, кружевца, акварельные краски, отбирала книги. Готовясь к экзаменам, Еля много читала, часами возилась с книгами и успела торжественно объявить двум девчонкам-шестиклассницам о том, что уезжает в город и после экзаменов подарит им все свои школьные учебники.
По-настоящему беспокоила Елю судьба ее любимой куклы. У этой куклы была своя памятная история. Зимой 1921 года, когда Солодовы вместе с другими беженцами пробирались из города в деревню, на забитой голодающими узловой станции к Марфе Васильевне подошел изможденный человек в помятой шляпе. В руках он держал красивую куклу с кудрявыми льняными букольками и лазурными глазками. Человек сказал, что это кукла его умершей дочери и что он просит за нее хотя бы фунт ячменного хлеба. Подумав немного и увидев молящие глаза Ели, Марфа Васильевна отрезала от последней черствой буханки изрядный ломоть и отдала голодному. Кукла перешла к Еле. Конечно, такую чудесную куклу нельзя было не любить: она послушно открывала и закрывала свои невероятно лазурные глаза, тоненько, но внятно произносила слова «да» и «нет», а ее алые губы никогда не переставали приветливо улыбаться. Еля полюбила куклу больше всех других игрушек, назвала ее Лилей, возилась с ней целыми днями, шила ей голубые и розовые платья, заплетала косы, спала с ней, пела своей Лиле колыбельные песни.
— Ты, Елка, должно быть, до самого замужества не расстанешься со своей куклой? — шутил Платон Иванович.
Еля краснела. Ей в самом деле становилось немного стыдно за то, что она, пятнадцатилетняя девочка, продолжала увлекаться красивой игрушкой. «Правда, надо бросить куклу, а то надо мной смеяться будут», — думала Еля. Она перестала возиться с куклой и посадила ее на своем столике. Нарядная, безмолвная кукла приветливо сияла лазурными стекляшками глаз, ровно улыбалась алыми губами, восседая среди учебников и коробочек, как недоступная маленькая королева.
Во все, что делалось в школе и за стенами школы, Еля почти не вникала, с собраний под разными предлогами уходила домой, газет не читала и не интересовалась ими. «Они все скучные», — раз и навсегда решила Еля.
Платон Иванович не раз пытался разобраться в том, что происходит в партии. В свое время, плавая на прославленном мятежном броненосце, он вместе с товарищами восстал против царя. Теперь царя не было, и, по мнению Платона Ивановича, можно было оставить политику.
— Партийные товарищи без нас разберутся, по какой дорожке идти и куда заворачивать, — говорил он жене и дочери. — Нам нечего соваться в эту заваруху, все равно в ней ничего не поймешь.
И Еля, слушая отца и мать, соглашалась с тем, что политика скучное и мудреное дело, от которого лучше стоять подальше, что самое дорогое и важное — это мирный уют родной семьи, тот семейный покой, который сумели создать Платон Иванович и Марфа Васильевна. В этот свой, близкий, знакомый с детства домашний уют нельзя допускать первых встречных. И Еля наслаждалась всем, что составляло ее безоблачную, безмятежную жизнь, — тихими разговорами за обеденным столом, ослепительной чистотой, запахами свежего белья и ванили в крохотной кухоньке, куклой Лилей, чтением любимых книг, которые можно было перелистывать, посасывая леденец. В этих книгах красиво, запутанно и длинно говорилось о любви милых, добродетельных девушек, о робких свиданиях при луне, о дуэлях влюбленных рыцарей.
И все же пятнадцатилетнюю Елю Солодову беспокоило подчас непонятное чувство. Она и сама не знала, откуда приходит это щемящее чувство, но ей вдруг начинало казаться, что она обязана думать о чем-то несравненно более важном, чем ромовые бабки и крахмальные скатерти, что где-то там, за стенами мирного захолустного домика, кипит неведомая ей бурная жизнь, в которой она, Еля, должна занять свое место. В такие минуты Еля хмурилась, задумывалась, невпопад отвечала матери, злилась на подруг и не знала, куда девать себя.
— Знаешь, мама, — сказала она как-то Марфе Васильевне, — из меня, наверно, ничего путного не выйдет. Я за все хватаюсь — и за музыку, и за рисование, — а толку никакого.
— Погоди, дурочка, — утешала Марфа Васильевна, — придет время, найдешь свою дорогу, а пока учись. Переедем в город — там все на свое место станет. Разве тут, в этой собачьей дыре, можно о чем-нибудь большом думать?
Еля плохо помнила город, и сейчас, после пяти лет, прожитых в селе, городские улицы представлялись ей в виде сверкающего карнавала огней, разноцветных вывесок, музыки. «Да, да, — думала она, — в городе будет совсем другое, мама права». Еля с нетерпением отсчитывала дни и недели, дожидаясь того счастливого часа, когда она с отцом и матерью покинет убогое Пустополье и шумный, веселый поезд увезет их в манящий огнями город.
«А как же подруги? — спохватывалась Еля. — Как Люба Бутырина, Клава Комарова? Неужели мы никогда не увидимся? Надо договориться с ними, мы будем писать друг другу большие письма…»
Иногда Еля вспоминала мальчишек, товарищей по школе, вспоминала и Андрея Ставрова. Она не думала о нем чаще, чем о других, и думала хуже, чем о других, считая его насмешником и грубияном. Но в те минуты, когда в ее памяти возникал этот резкий, угловатый юноша, Еля почему-то становилась серьезной, задумчивой и сосредоточенной.
— Скажи, Елочка, тебе нравится Андрей? — спросила как-то Люба.
— Нет, не нравится, — чистосердечно ответила Еля. — Он неотесанный зубоскал и, по-моему, очень злой. Такие мне никогда не нравились.
Жалостливая Люба приникла к плечу Ели:
— А ведь он тебя любит, Елка! — и, заметив на лице Ели тень недовольства, добавила осторожно: — Так мне кажется…
Еле и самой так казалось. Ей, конечно, было приятно сознание, что она нравится кому-то, но Андрея она слегка побаивалась и старалась держаться подальше от него, чтоб не сделаться мишенью его острот и злословия.
Однако, когда Еля вспомнила странную, немного смешную сцену в лесу, запах ландышей и напряженное, побледневшее лицо Андрея, она подумала: «А пожалуй, с этим грубияном тоже жалко будет расставаться. Он какой-то особенный».
4
На страстной неделе, теплой апрельской ночью, талая вода прорвала земляную плотину огнищанского пруда. Уже лет десять за плотиной никто не смотрел, ее устои давно подгнили, хворостяные щиты обломались, свалились на илистое дно. Поэтому напор большой воды легко прорвал смешанную с навозом землю, и мутный поток весело и шумно устремился в пробоину.
Дед Левон Шелюгин первый почуял недоброе. Возвращаясь из церкви, он тихонько брел по вязкой, непросохшей дороге, присел отдохнуть у кладбищенского плетня и вдруг услышал в ночной тишине звонкое журчание воды.
«Чего ж это такое? — подумал дед Левон. — Может, плотину, не дай господь, прорвало?»
Склонив голову, он прислушался. Шум воды усилился.
— Так и есть! — пробормотал испуганный дед Левон. — Скажи ты, беда какая! Надо бечь будить народ!
Припадая на ногу, он доковылял до крайней хаты Луки Сибирного, застучал костылем в дверь.
— Чего там такое? — отозвался сонный голос Луки.
— Вставай, милостивец, буди сынов да людей скликай! — слезливо запричитал дед Левон. — Там плотину прорвало, вода аж гудит…
Уставший за день Лука вздохнул:
— Иди поднимай Акима Турчака и Шабровых. Я сейчас оденусь и выйду.
До рассвета оставалось часа полтора. Пока Лука с сыновьями, Турчак с Колькой и Антошка Шабров ходили по деревне, собирая народ, пока огнищане, зевая, крестя рот, одевались, разыскивали в темноте лопаты и вилы и медленно брели к пруду, рассвело. Утренняя заря окрасила розовым цветом пенистый поток, который уже ревел, как зверь. Вода широко залила ближние огнищанские огороды.
Прибежав к пруду, Андрей и Федор Ставровы застали у кладбища почти всех огнищан. Опершись о лопаты, мужики дымили цигарками, поглядывали на пруд и угрюмо слушали выкрики Кузьмы Полещука.
— С какой это радости я обязан давать вам своих коней?! — кричал скуластый, чернобородый Кузьма. — Ваш край возле пруда капусту садит, скотину поит, а я вам буду коней рвать да плотину вашу латать? Пропади она пропадом!
— Да ведь пруд всей деревне нужен! — доказывал Кузьме Демид Кущин. — А наших коней нет дома — кто в церкву поехал, кто на базар.
— Мне ваш пруд ни к чему, — упорствовал Кузьма. — Моя вода в колодезе…
Обозленный дед Силыч сплюнул, кинул шапку на землю и крикнул:
— Дурачье вы безмозглое! Пруд на глазах пропадает, а они рядятся, коней жалеют, идолы!
— Ступай за своим чубарым и вози землю, — огрызнулся Кузьма, — а у меня кобыленки жеребые, я их в страту не дам!
— Правду люди говорят, что ты как Иван Грозный! — с презрением сказал дед Силыч. Это был его последний довод, он уж не знал, чем донять неподатливого Кузьму.
Однако «Ивана Грозного» поддержали все, кто жил на восточном краю Огнищанки, то есть далеко от пруда, — лесник Букреев, Демид Плахотин, даже смирная тетка Лукерья.
— На самом деле, — Демид пожал плечами, — ваш край с весны до осени прудом пользуется, вы возами капусту на базар возите, а мы за вас должны горб свой подставлять?
— Так ты ж сам строишься на этом краю, — ввернул Турчак, — чего ж ты в сторону скачешь?
— Мало ли что строюсь! Огорода вы мне тут не дали, хотя я и просил отрезать мне шматок земли под поливной огород.
Пока сонные огнищане, лениво перебраниваясь, решали, кому вести своих коней и возить землю к плотине, пруд медленно уходил. Прорванная плотина, окутанная радужными брызгами, таяла на глазах. Вода уносила прелую солому, навоз, вырывала с корнями молодые вербочки, растекалась по долине широким разливом. Уже зачернели вокруг пруда илистые берега, а его позолоченное утренним солнцем зеркало стало совсем маленьким, разбилось на отдельные лужицы.
Вдруг внизу, у пруда, раздался восторженный крик Сашки Турчака:
— Глядите, рыба!
И все увидели, как на болотистых мелях прыгают караси, щуки, лини. Чуя близкую гибель, пытаясь отыскать ушедшую воду, они взметывались вверх, судорожно заглатывали воздух, шлепались плашмя, зарывались в жидкую грязь обнажившегося дна.
Тут и случилось то, что неизбежно должно было случиться. Аким Турчак первым рванул с себя пиджачишко, скинул сапоги, штаны и, придерживая беспалой рукой сползающие подштанники, ринулся в болото.
— Колька! — заорал он хрипло. — Бежи, возьми корзину!
За Турчаком полезли Евтихий Шабров с сыном, Капитон Тютин, здоровенный Тришка Лубяной, братья Кущины. Откуда-то вынырнули толстая Мануйловна, жена Антона Терпужного, Тоська Тютина, бабка Сусачиха. Они тоже поскидали платья, башмаки и в одних сорочках отважно кинулись в холодное болото. На берегу загремели ведрами детишки, наперебой закричали разными голосами:
— Тятька! Вона какая щука!
— Караси сбились в кучу!
— Давай сюда, в ведерко!
— Накрывай корзиной!
Возбужденные огнищане, расхлюпывая болото, с трудом выдергивая из грязи ноги, носились по темному дну пруда, хватали рыбу руками, накрывали корзинками, поспешно совали в ведра, ползали по всем направлениям, рыли руками вязкий ил.
Андрей Ставров, стоя у кладбищенской ограды, видел, как грузная Мануйловна тяжело передвигалась по болоту, жалобно постанывала и тщетно старалась ухватить хотя бы малого линька. Нагибаться ей было трудно, она только водила по воздуху испачканными руками и стонала:
— Ой боже мой, наказание какое!
А чернобородый Аким Турчак, весь темный от грязи, зверем кидался на рыбу, рычал, расталкивал всех и орал хрипло:
— Ага-а-а! Коней жалко, а рыбку грабите, паскуды, жабы ненасытные! Я вам покажу рыбу! Вы у меня покушаете рыбу, гады!
Уже исчезли последние лужицы воды. От берега до берега обнажилось дно пруда — черное болото, на котором торчали утопленные ржавые ведра, опушенные мшистой зеленью бревна, белели черепа утонувших когда-то животных. Уже выловлена была почти вся рыба, а огнищане все бродили по грязи, выхватывали друг у друга снулых мальков, ругались, ползали по хлюпкому месиву.
Длугач вернулся с хутора Бесхлебного только в десятом часу утра, узнал обо всем, что делается на пруду, и верхом на своем старом гнедом мерине поскакал туда. Однако было уже поздно, заляпанные грязью огнищане по одному вылезали из болота, сконфуженно отводили глаза, растерянно топтались у кладбища, не зная, чем обмыться — воды не осталось ни капли.
Последней выползла Мануйловна. Она уже не могла подняться на ноги и еле передвигалась на четвереньках. Седые космы растрепанных, слипшихся от грязи волос падали на ее одутловатое лицо, пудовые груди волочились по болоту, плечи и шея посинели от холода.
— Та-а-ак! — Чугунная злоба шевельнулась в сердце Ильи Длугача. — Видали вы эту живопись? Полюбуйтесь на нее, прошу вас! — И, повернув коня, угрожающе поднял плеть: — Расписать бы тебе спину, чертова холера, чтоб ты не лезла куда не надо!
Губы Длугача побелели, ноздри раздувались. Огрев плетью ни в чем не повинного коня, он закричал полуголым мужикам:
— А с вами, храпоидолы, мы еще поговорим в сельсовете! Мы еще поговорим, помяните мое слово! Загубили пруд, лишили скотину водопоя — теперь чего будете делать? — Он оскалил зубы в злобной усмешке: — Поглядите на себя, дурошлепы, на свое обличье! До вас же подступиться страшно! Погляди, Аким Турчак, у тебя полная мотня грязи! А ты, Тоська, чем обмоешь свое грешное тело? Пугалом бы тебя в огород!
К Длугачу подошел растерянный Силыч, тронул рукой стремя.
— Они, видишь ли ты, один на одного кивали: тот не хочет давать коней, и тот не хочет — моя, мол, хата с краю. Покедова препирались, прудика, голуба моя, не стало, пропал прудик.
— Во-во! — вскричал Длугач. — Вот где старый режим рожу свою обнаружил, свое червивое нутро! Приучили вас только в свой закуток глядеть, только свою печку, свой нужник блюсти. Запамятовали небось, что Советская власть девятый год существует? Загубили общественную ценность! Я с вас шкуры за это спущу, так и знайте!
Долго еще бесновался Илья Длугач, долго хлестал себя плетью по голенищам, орал до хрипоты, но уже ничем нельзя было поправить непоправимое — пруд исчез, от него осталось только черное, исполосованное следами человеческих ног болото.
Когда огнищане, крадучись, один за другим разбрелись по домам, Длугач слез с коня и подошел к одиноко стоявшему Андрею.
— Вот, избач, какое на свете бывает, — заговорил он, потупившись. — Вот она, наша мужицкая темнота, наша дурость. И мы с тобой, секретно говоря, тоже тут виноваты. Я — как представитель Советской власти, а ты, прямо тебе скажу, как заведующий избой-читальней. Это ведь тоже ответственный пост.
Длугач поднял посветлевшие глаза:
— Запомни, товарищ Ставров: деревенский избач — это местный комиссар народного просвещения, местный наркомпрос. Он должен во все вникать, должен знать, что перед ним стоит задача обновить темного, старорежимного мужика, выбить у него из мозгов веру в бога и в черта, вытравить из него этого… как его… индивидуала.
Он толкнул Андрея локтем:
— Ты видал, как бегает взад-вперед кобель на цепи? Видал? Его привязали на короткую цепку, он и тягает эту свою цепку по проволоке — пять шагов вперед, пять назад. И так всю жизнь, так и подыхает на цепи. Похожее получается и с мужиком. Старый режим привязал мужика до его неродящей земельки, до сырой землянки, до печки, пристращал мужика богом, закрыл ему очи вековой темнотой и наказал: «Работай от рождения до гроба на царя и на попа». Вот нам и надо с тобой эту темную дурь развеять, надо объяснить людям, что к чему, да так объяснить, чтобы каждый мужик понял, что он сам теперь власть, сам хозяин…
Перекинув повод на шею мерина, Длугач невесело усмехнулся.
— У нас же видишь чего получилось, — сказал он. — Плотину на пруду проворонили, один на другого кивали, общественный пруд загубили, а пасхи да крашенки святить пойдут скопом, в полном согласии, старый и малый пойдут, потому что их век этим отравляли, смалочку внушали им эту антибезбожную дурость…
В ближайшие дни Андрей не преминул убедиться, насколько Длугач прав. Готовясь к пасхе, огнищане дружно чистили хаты, подметали дворы, возили из Казенного леса желтый песок и посыпали песком дорожки, мыли оконные стекла. Ларион Горюнов и Трифон Лубяной собрали группу парней, выпросили у лесника Букреева три толстых бревна и соорудили на пригорке неподалеку от Ставровых высокие качели.
Андрей все эти дни сидел в избе-читальне, читал, рисовал плакаты. Среди сложенных в шкафчике книг ему попался растрепанный томик «Завещания» Жана Мелье. Из предисловия Андрей узнал, что Жан Мелье — французский священник, что он много лет писал свое обширное, полное гнева и страсти завещание, чтобы хоть после смерти голос его был услышан народом. Читая это «Завещание», Андрей дивился тому, как беспощадно и зло говорил о боге его служитель, как остроумно высмеивал он религию, как неопровержимо доказывал ее вред.
Склонившись над книгой, Андрей читал об Иисусе Христе, чье воскресение из мертвых готовились праздновать огнищане.
«А наши христопоклонники? Кому приписывают они божественность? Ничтожному человеку, который не имел ни таланта, ни ума, ни знаний, ни ловкости и был совершенно презираем в мире. Кому приписывают они ее? Сказать ли? Да, я скажу это: они приписывают ее сумасшедшему, безумцу, жалкому фанатику и злополучному бродяге, распятому на кресте… Вот какому лицу ваши священники и учители приписывают божественность, вот кого заставляют они вас чтить как вашего божественного спасителя и искупителя — его, который не мог спасти самого себя от позорной казни на кресте…»
Забыв обо всем на свете, холодея от восторга, Андрей перелистывал растрепанную книгу, и ему казалось, что не слова, а камни грохочут перед ним. За окном ровно шумел теплый весенний ветер, где-то неподалеку надсадно блеяла овца, кто-то звал ее монотонным голосом, но Андрея не отвлекали эти звуки, он упивался бесстрашными, злыми словами давно умершего священника и думал: «Значит, это правда. Если священник так говорит, значит, это правда, значит, нет никакого бога и нечего его бояться. Уж кто-кто, а священник знал, что такое бог, ему это было лучше известно, чем преподавателям пустопольской школы или малограмотному Длугачу. И если священник говорит, что бог Иисус — безумный фанатик, значит, так и есть…»
«Завещание» Жана Мелье поразило Андрея своей смелостью, резкостью и остроумием, и он, отложив книгу в сторону, в сумерках пошел домой. На дороге между Костиным Кутом и Огнищанкой Андрей встретил Кольку Турчака. Они постояли немного, покурили. Андрей затоптал носком сапога папиросу и спросил неожиданно:
— Коля, ты в бога веришь?
— Как тебе сказать… — Колька на секунду растерялся. — Не так, чтобы очень. В церкву я не хожу, потому что думка у меня есть в комсомол поступать, а «Отче наш» и «Царю небесный» наизусть знаю.
— Ну и молишься?
Колька проговорил серьезно:
— Молюсь два раза в год — на пасху и на рождество.
— Зачем?
— А черт его знает зачем. Все молятся, и я молюсь. Меня от этого не убудет, а прочитать «Отче наш» не мешает: если бога нету, вреда от «отченаша», я думаю, нет никакого, а если бог, скажем, есть, то он запомнит мое старание.
Андрей засмеялся:
— Хитро! Туда, значит, и сюда?
— А ты как думал? — Колька слегка смутился. — Чего я, другой, что ли, какой? Все люди так делают, и я не отстаю…
Дома раскрасневшаяся от жары Настасья Мартыновна, ловко вертя в руках смазанные маслом, присыпанные толчеными сухарями жестяные формы, накладывала в них пышное тесто, передавала бабке Сусачихе, а та, крестясь, ставила формы в печь. Федя и Каля, покрикивая друг на друга, красили яйца. На постеленной посредине стола чистой тряпице, до блеска натертые жиром, уже красовались кучки яиц — красных, лиловых, зеленых, желтых.
— Андрюша! — сказала Каля. — Мы с Таней Терпужной и с Ваской Шабровой пойдем в Пустополье куличи святить. Хочешь, пойдем с нами? Федя идет, Колька и Сашка Турчаки.
— Не знаю. — Андрей сдвинул брови. — Я подумаю.
В его памяти звучали злые слова о «жалком фанатике», но он, стыдясь и негодуя на себя, чувствовал, что ему, как всем, хочется пойти в Пустополье, полюбоваться огоньками свечей вокруг церкви, послушать пение и всласть нацеловаться с девчатами под предлогом христосования.
— Ладно, — махнул он рукой, — в церковь я не пойду и святить куличей не стану, а до Пустополья вас провожу.
Когда куличи были испечены, Настасья Мартыновна расставила их на постели, выбрала самый подрумяненный, завязала его салфеткой, сунула в салфетку десяток крашеных яиц.
— На, дочка! Будешь в церкви — помолись за здравие всех нас, особо за здравие дяди Максима.
— Помолюсь, — пообещала Каля. — И за здравие дяди Максима тоже помолюсь.
Шли шумной, веселой гурьбой. Ночь была темная и теплая. Густо усыпанное звездами небо мерцало. По невидимым ложбинам Казенного леса журчали последние ручьи талой воды. Деревья в темноте казались великанами, а какой-нибудь куст шиповника на поляне, совсем не страшный днем, сейчас представлялся согбенной бабой-ягой или волком. Девчонки бережно несли узелки с куличами, боязливо смотрели по сторонам, перешептывались. Мальчишки хохотали, дурачились, зажигали свечи в разноцветных бумажных фонарях. Изредка ватага ребят обгоняла какую-нибудь богомольную старуху. Одетая в праздничный черный бурнус, повязанная черным платком, старуха неторопливо шла по дороге, пропускала мимо себя крикливых парней и шептала им вслед:
— Угомону на вас нет, прости господи! Пронеслись, пустоголовые, как татарская орда…
Андрей шел рядом с братьями Турчаками и с Трифоном Лубяным. Все еще полный впечатления от вызывающего, резкого до кощунства «Завещания» Мелье, он в сотый раз думал о том, как сильна в людях вера и как трудно убедить не только людей, но и себя самого в том, что никакого бога нет, что все это выдумки. В то же время Андрей вслушивался в тоненький голосок идущей сзади Тани Терпужной, радовался тому, что она идет с Калей и Федей («Это она для меня»), а сам вспоминал красивую Елю Солодову и уверял себя: «Я встречу Елю обязательно, я знаю, что встречу, иначе быть не может…» Вспоминая Елю, Андрей подумал, что самое главное не то, о чем говорит умный и злой Мелье, и не то, что будет сейчас произносить старый пустопольский поп Никанор, а то, что он, Андрей Ставров, живет на свете, дышит весенним воздухом, любит красивую девочку, работает в поле, ездит верхом. Размахивая руками, улыбаясь в темноте, Андрей заключил твердо: «Да, главное не бог, не звезды, главное — человеческое сердце, счастье всех людей».
Вокруг пустопольской церкви в несколько рядов стояли брички, линейки, телеги, ржали кони. Остро пахло навозом, табаком, восковыми свечами. Сквозь чугунную решетку церковной ограды видны были мелькающие огоньки, озаренные неверным светом свечей лица женщин, постеленные на земле попоны, мешки, платки, на которых лежали приготовленные для освящения куличи и пасхи. На площади, у ограды, то и дело раздавались мужские голоса:
— Распутай коня! Повылазило тебе, что ли?
— Ногу, ногу, бесова худоба!
— Подкинь коням сена!
— Тпру, окаянный! Чтоб тебя волк задавил!
Прислонившись плечом к ограде, Андрей вслушивался в людской гомон, в глуховатое пение хора и невнятный речитатив дьяконов, доносившиеся из церкви; он слушал слитые воедино звуки пасхальной ночи и спрашивал себя: «Если и вправду нет бога, то зачем люди придумали все это и обманывают один другого? А если этот самый „жалкий фанатик“ был богом, то как он терпит смерть, убийства, воровство, голод, болезни? Или он не в силах отвести от людей зло? Какой же он тогда бог?»
Возле одной из ближних телег вспыхивали и гасли огоньки цигарок, — должно быть, у телеги разлеглась кучка хуторян. Оттуда доносился старческий голос:
— Третьего дня приехали ко мне зять с дочкою. Он сам механиком работает в совхозе, зять мой. Там же и проживает, в совхозе, квартирку ему дали при усадьбе. Так он рассказывает, что у них в нонешнем году урожай как никогда. А через что? Через то, что они по-новому хозяйствуют: удобрение в земельку вносят, а пашут глубоко, машинами, каждая борозда чуть ли не до колена глубиною. А машина эта самая, трактор, она и пашет, и сеялку тягает, и косилку, и чего хочешь делает. Колеса в тракторе агромадные, чуть ли не в рост человека, полевое трошки поменьше будет, а бороздовое вовсе рукою не достанешь, и обое вроде на резине.
— А на чем же тот трактор ходит? Чего ему ход дает? Гас или же бельзин? — прервал другой голос.
— Кто его знает, бельзин или не бельзин, зять про это ничего не рассказывал.
— Бельзин в хлеборобстве негоден, от него зерно дух нехороший в себя принимает. Такой дух, что хлеб из этого машинного зерна в рот нельзя взять, и люди от такого хлеба чахоткою болеют…
— Охо-хо! — вздохнул невидимый старик. — Напоить коней да идти в церкву, скоро «Христос воскресе» запоют…
И в самом деле, через несколько минут церковь осветилась множеством огней. Из церковных дверей вышел одетый в светлые ризы поп Никанор, за ним потянулись поп Ипполит с дьяконами, молодые служки в стихарях. Следом беспорядочной толпой двинулся хор. Регент, высокий мужчина в модном пиджаке, затянул, широко раскрывая золотозубый рот, а хор подхватил возглас отца Никанора неожиданно стройно и ладно:
Христос воскрес из мертвых, Смертию смерть поправ И сущим во гробех Живот даровав…Андрей смотрел сквозь чугунную изгородь на возглавляемое отцом Никанором шествие. Сверкая огнями, позолотой риз и стихарей, икон и хоругвей, оно двинулось вокруг церкви. Размахивая сделанным из конского хвоста кропилом, Никанор брызгал водой на людей, на куличи, на горы разноцветных яиц, на свиные окорока и сало. Тучный дьякон Андрон, отец знакомой Андрею Любы Бутыриной, брел за отцом Никанором, подставляя ему чашу со свяченой водой, а регент с нафабренными усами выводил, опережая хор:
Жи-ивот даро-ва-а-ав!..Вдруг Андрей увидел Елю. Она шла в толпе об руку с Клавой Комаровой, одетая, как тогда, в лесу, в белую кофточку и синюю юбку, оживленная, веселая. И как только Андрей увидел ее, он мгновенно забыл слова о «жалком фанатике», перестал замечать размахивающего кропилом старого Никанора, перестал слышать медвежий рев регента.
Расталкивая локтями сбившихся у ворот людей, не обращая внимания на толчки в спину, Андрей протиснулся во двор, догнал Елю и взял ее за руку.
Еля испуганно обернулась, нахмурилась.
— Здравствуй, Еля, — сказал Андрей и сразу почувствовал, что теряет всякую уверенность.
— Здравствуй, — ответила Еля, осторожно высвобождая руку.
— Как… как ты живешь? — спросил Андрей, не зная, что еще сказать.
— Может, Андрюша, ты и со мной поздороваешься? — улыбнулась Клава. Она обошла Андрея сзади, стиснула рукой его локоть.
Андрей вспыхнул:
— Да, конечно… Извини меня, Клавочка. Здравствуй.
Теперь он оказался посредине. Справа от него шла Еля, слева — Клава. Заметив, что Еля хмурится, рассеянно посматривает по сторонам, как будто ищет кого-то, Андрей закусил губы и спросил вызывающе:
— Ты что, молиться пришла?
— Да, молиться, — в тон ему ответила Еля.
— Кому?
— Что — кому?
— Молиться.
— Богу, конечно.
Сунув руки в карманы, Андрей презрительно прищурился:
— Богу? Этому жалкому безумцу, злополучному фанатику, которого называют спасителем и который сам себя не мог спасти от позорной казни на кресте? Ему ты пришла молиться?
Еля отодвинулась от Андрея, отвернулась:
— Очень умно! Где ты это вычитал?
— По-моему, Андрюша, это называется хулиганством, — добавила Клава.
Но Андрея уже прорвало. Он залихватски свистнул, сбил на затылок фуражку.
— Тоже мне богомолки! Верят всякой чепухе! Чего же вы на колени не становитесь? Я бы на вашем месте встал. А впрочем, догоняйте этот карнавал, там вас окропят водичкой с конского хвоста, и вы сразу избавитесь от всех грехов.
Он еще раз свистнул, круто повернулся и ушел не прощаясь.
У самых ворот Андрей столкнулся с Калей и Таней Терпужной. Они стояли, зажав под мышкой узелки, дожидались его.
— А где Федор? — отрывисто спросил Андрей.
— Он с ребятами за оградой.
Каля посмотрела на старшего брата, удивилась выражению угрюмой озлобленности на его лице и сказала, увлекая Андрея за собой:
— А я помолилась за всех наших, особо за дядю Максима. Правда, я не знаю, жив дядя Максим или нет, поэтому я молилась и за здравие и за упокой, чтоб было вернее.
— Ну, значит, все в порядке, — заключил Андрей, — можно идти домой…
5
Иногда у человека появляется странное, тягостное ощущение: ему кажется, что он остался один. Подчас это тягостное ощущение объясняется внешними фактами, тем, что человек лишился семьи, любимой женщины, близких. Долго оплакивает он свою потерю, долго томится, тоскует, но время в конце концов залечивает все его раны. На пути человека появляются новые люди, новые привязанности, новая любовь, все это воскрешает угасшие, погребенные в глубине души чувства, и человек возвращается к жизни. Гораздо хуже, гораздо страшнее ощущение отрешенности от всего мира, то безысходное чувство полного одиночества, которое изо дня в день замораживает душу. Тут уж человека не воскресят никакие встречи, никакие новые привязанности, он не способен к любви. И хотя этот человек живет, дышит, ест, разговаривает, то есть как будто делает все, что делают люди, — он мертвец, потому что его уже ничто не волнует, ничто не тревожит, ему уже ничего не нужно. Жизнь проходит мимо него. Рядом с ним борются, работают, радуются и плачут другие люди, где-то льется кровь, где-то рождаются дети, зреют плоды, цветут цветы, но его, опустошенного, при жизни неживого, уже не волнует ничто.
Так бывает поздней осенью, когда улетают на юг гусиные стаи, где-нибудь в голой, неприютной степи остается на колючей стерне потерявший силы, подбитый гусь. Он еще видит, как, отдохнув на коротком привале, трубно перекликаясь, поднимается в воздух вся его стая, еще долго слышит он в сумеречной тишине ее исчезающий, последний зов. Но, распростертый на жесткой, холодной земле, он лежит, вытянув шею, безучастный и безответный, и лишь морозный ветер шевелит изломанные перья на его неподвижных, бессильных крылах…
В июне 1925 года Максима Селищева неожиданно освободили из старой тюрьмы штата Теннесси. Он и сам не знал, почему переменилась его судьба. Долгие месяцы сидел он в камере без допросов, его не вызывали к следователю. Но однажды молчаливый надзиратель вывел из тюрьмы папашу Тинкхэма и Фреда Стефенсона и через четверть часа принес Максиму его свитер, брюки, башмаки. Он велел снять холщовую арестантскую «зебру» и сказал:
— Пойдешь домой.
У ворот тюрьмы Максима встретил Гурий Крайнов. В добротном сером костюме, в сбитой на затылок шляпе, он стоял улыбаясь с чемоданом в руке, потом обнял Максима и заговорил взволнованно:
— Ну вот, станичник, видишь, где нам с тобой довелось повстречаться! Говорят, только гора с горой не сходится…
— Как ты меня отыскал? — тихо спросил Максим.
Есаул Крайнов похлопал его по плечу:
— Мир не без добрых людей. Есть тут один наш человечек, некто Бразуль. Ловкий, чертяка. Может, ты его помнишь? Я когда-то познакомился с ним в поместье графа Вонсяцкого. Так вот, этот самый Борис Бразуль и спас тебя. — Крайнов взял Максима за талию: — Пойдем, друже. За углом стоит автомобиль, он отвезет нас куда надо, и я тебе все расскажу.
В автомобиле Крайнов усадил Максима рядом с собой, вполголоса сказал кудрявому мальчишке-шоферу адрес и, когда старенький «форд» выбрался на загородное шоссе, заговорил, положив руку на колено Максима:
— Надо благодарить бога за то, что Бразуль разыскал твои следы, иначе не миновать бы тебе электрического стула. Имей в виду, Бразуль ничего от тебя не хочет, ему просто жаль тебя. Тут, в штате Теннесси, в Дайтоне, у Бразуля есть родственница, она замужем за фермером. Мы поедем к ним, ты отдохнешь месяц-другой, а там будет видно, что делать. Я скоро должен буду уехать из Америки. Может, поедем вместе.
— Ты расскажи мне, что делается в мире, — попросил Максим. — Я ведь ровно ничего не знаю, меня держали в одиночке, как зачумленного.
Крайнов затянулся дымом крепкой сигары.
— В мире, брат, ничего доброго нет. Все живут как на вулкане. Большевики раскололи мир, встревожили людей, а теперь спешат закончить свой преступный эксперимент — строят социализм.
— Ну а наши беженцы? — спросил Максим.
— Беженцев ты увидишь сам, если поедешь со мной — подумав, ответил Крайнов. — Конечно, многих жизнь согнула, покорежила, но многие еще держат оружие в руках и готовятся к бою. Таких большинство.
Максим промолчал. В силы своих бывших товарищей по оружию он уже давно не верил, большевиков не понимал и боялся, а хотел только, чтобы его оставили в покое и дали ему возможность хоть перед смертью увидеть жену и дочь. Он не задумывался над тем, кто и как предоставит ему такую возможность, но верил, что это обязательно случится.
Крайнов же, наблюдая за Максимом, был очень сдержан, говорил осторожно, словно нащупывал, чем дышит сидящий рядом с ним друг.
Остановились они на окраине Дайтона, в доме зажиточного фермера Сэма Кэртиса, владельца большого фруктового сада. Кэртис, добродушный толстяк с ухватками медведя, его жена и сын, студент, встретили русских так, словно давно их ждали.
— Вы отлично отдохнете тут, — приветливо сказал Кэртис, — вам уже приготовлена в доме самая удобная комната.
За обедом, разливая по бокалам абрикосовый сок, мистер Кэртис проговорил многозначительно:
— На днях у нас в Дайтоне произойдет событие, в котором мне, как присяжному заседателю, доведется принять участие.
Отхлебывая кисловатый сок, мистер Кэртис сердито сдвинул брови:
— Дело в том, что наш местный учитель Джон Скопс осмелился заявить ученикам, что человек происходит от обезьяны. Конечно, Скопса арестовали. Через несколько дней этот негодяй предстанет перед судом за оскорбление библии и за отрицание божественного происхождения человека. И вы знаете, кто будет обвинять его на процессе?
Выдержав достаточную паузу, мистер Кэртис поднял руку:
— Обвинять Скопса будет сэр Вильям Брайан, один из лидеров республиканской партии, который трижды баллотировался в президенты.
— Да, но ты не забывай, отец, что друзья Скопса пригласили в качестве защитника знаменитого Дарроу, — вмешался молодой Билль Кэртис.
— Ну и что же? — отмахнулся мистер Кэртис. — Старик Брайан положит вашего Дарроу на обе лопатки. Уж он-то не даст спуску ни этому мерзавцу Скопсу, ни его учителю Дарвину, которому тоже доведется покормить в тюрьме клопов!
Молодой Кэртис издевательски ухмыльнулся:
— Дарвин давно умер, отец.
— Тем лучше для него, — заключил мистер Кэртис. — Иначе ему не миновать бы скамьи подсудимых…
На протяжении недели маленький, утонувший в садах городок наполнялся приезжими, как губка водой. Со всех сторон сюда ехали юристы, писатели, сотни корреспондентов, фотографов, учителей, профессоров, бездельников-туристов, торговцев, множество праздношатающихся, которых привлекало невиданное скопление людей. В скверах, на перекрестках улиц, на стенах домов по приказу главного обвинителя были вывешены красочные плакаты с призывами: «Читайте библию!», «Изгоняйте богохульников!», «Не уподобляйтесь обезьяноподобным дарвинистам!».
Прогуливаясь по улицам Дайтона, Максим не раз удивлялся экспансивности и невежеству местных ревнителей библии. С усмешкой читал он объявления на дверях магазинов: «Обезьяньим людям здесь не продают», «Шимпанзе и орангутанги, покупайте товары в джунглях!». Однажды он видел, как группа пожилых фермеров, стоя у дверей бара, задевала прохожих дикими выкриками: «Эй, дочь гориллы, подбери свой хвост!» или «Сними-ка штаны, дружище, мы поглядим — не сын ли ты Дарвина и макаки?». Максиму было стыдно за этих уже немолодых людей, и он, опустив глаза, побыстрее сворачивал куда-нибудь в переулок.
У Максима сложилось убеждение, что в эти жаркие июльские дни захолустный Дайтон сошел с ума: дайтонцы, разморенные жарой, спорили, дрались, держали пари, ставили сотни долларов за победу Брайана, за успех красноречивого столичного адвоката Дарроу, за оправдание богохульника Скопса. Престарелый обвинитель с одержимостью фанатичного проповедника выступал перед дайтонцами, призывая все кары господни на головы грешников-дарвинистов, которые осмелились поносить библию и пошли за безумцем Дарвином.
— Библия была и остается единственным источником наших знаний! — патетически восклицал Брайан. — Она — единственный образец нашей нравственности. Горе тому, кто не считает библию откровением воли божьей! Сегодня грешник-дарвинист утверждает, что род человеческий произошел от обезьяны, а завтра он станет доказывать, что мы, белые англосаксы, гордость Америки, произошли от безобразных негров!
Коренастые, одетые в праздничные костюмы фермеры и юркие пройдохи торговцы орали, потея от напряжения:
— Правильно, мистер Брайан!
— На виселицу дарвинистов!
— Гнать обезьяньих потомков из Штатов!
— Судить их судом Линча!
Максим слушал звериный рев возбужденной толпы, всматривался в перекошенные от злобы лица мужчин и женщин, в недоумении пожимал плечами и вполголоса говорил Крайнову:
— Ничего не понимаю! Что происходит с людьми? Они, кажется, готовы сжечь этого несчастного Скопса только за то, что он осмелился назвать в школе имя Дарвина.
Однако Гурий Крайнов, как видно, был другого мнения о происходящем.
— Борьба есть борьба, — жестко сказал он. — Это еще цветики, ты посмотришь, что на суде будет!
Благодаря протекции мистера Сэма Кэртиса двум его русским гостям удалось получить билеты и пробраться в зал суда, хотя конные и пешие полисмены резиновыми палками сдерживали напор толпы и к дверям почти невозможно было пройти.
Две недели одетые в мантии судьи и двенадцать молчаливых фермеров, присяжных заседателей, сохраняя невозмутимо-серьезные физиономии, судили молодого человека в белой сорочке, с галстуком, добропорядочного парня-американца. С важным видом выслушивали они его показания, и он, этот скромный, застенчивый парень, виновато объяснял суду, что весь мир признает учение Чарлза Дарвина, что происхождение человека от обезьяны давно доказано наукой.
Когда ученый эксперт, профессор-зоолог начал излагать свое заключение, судья, оберегая нравственность публики, потребовал, чтобы профессор поднялся к судейскому столу и говорил шепотом, на ухо одному из членов суда. Когда же подвижный, насмешливый защитник сказал, что человеческий зародыш в первые недели развития имеет хвост, судья тотчас же удалил всех присяжных заседателей из зала суда, чтобы не развращать их воображение.
— Нет, все это чудовищно! — шептал Максим, сжимая руку Крайнова. — Мне кажется, я сплю, что в жизни такой чертовщины не может быть.
— В борьбе все средства хороши, — резко сказал Крайнов, — а сейчас Дарвин с его теорией эволюции играет на руку красным. Раз так — к черту Дарвина и да здравствует библия!
— Даже вопреки здравому смыслу?
— Это мы потом разберемся…
На одиннадцатые сутки волнение публики стало особенно бурным. Изысканно одетый, безукоризненно вежливый, но острый и язвительный защитник Дарроу, положив перед собой библию, начал задавать вопросы обвинителю Вильяму Брайану. Едва сдерживая усмешку, он спрашивал:
— Верит ли мистер Брайан в то, что солнце ходит вокруг земли, что небо представляет собою твердь, что Ева создана из ребра Адама, что пророк Иона трое суток провел в желудке кита, что радуга не что иное, как мост между небом и землей?
Престарелый Брайан, поминутно оправляя воротник, глядя вниз, отвечал хрипловатым голосом:
— Да, верю…
Тогда Дарроу под общий смех корреспондентов задал обвинителю последний вопрос:
— Скажите, мистер Брайан, за всю свою жизнь вы что-нибудь читали, кроме библии?
И троекратный кандидат в президенты, один из деятелей республиканской партии, чье имя было известно каждому американцу, ответил внятно:
— Я не стремился к этому, так как не знал, что когда-нибудь буду выступать на суде…
Обескураженные судьи, боясь скандала, вычеркнули из протокола ответы обвинителя, а обвиняемого Джона Скопса поспешно приговорили к штрафу в сто долларов «за нарушайте законов штата Теннесси». На шестой день после суда Мистер Вильям Дженнингс Брайан умер в Дайтоне.
Все это время Максим Селищев ходил как в воду опущенный. Ощущение своей никчемности и одиночества не покидало его ни на секунду. Он не знал, чем ему заняться, что делать, как жить дальше. Дайтонский «обезьяний процесс» вызвал у Максима отвращение.
Даже туповатый, очень недалекий Сэм Кэртис почувствовал, что с «обезьяньим процессом» получилось неладно. Он помрачнел, на незлобивые нападки сына отвечал нехотя, а как-то за обедом проворчал, уткнувшись в тарелку:
— Если б я знал, что мистер Брайан такой же дурак и осел, как наши фермеры, я ни за что не полез бы в эту кашу. А теперь мне совестно на улицу выйти, каждый мальчишка кричит мне в спину: «Эй, дядя Сэм, займи ума хоть у обезьяны!»
К двум русским офицерам Кэртис относился с неизменным вниманием, по вечерам разговаривал с ними о политике, потчевал фруктовыми соками собственного изготовления.
— Скажи, Гурий, на чьи средства мы тут живем? — спросил однажды Максим. — Кто за нас платит? И долго ли ты намерен тут пробыть?
Крайнов недовольно поморщился:
— Я же тебе говорил, что миссис Кэртис родственница Бразуля. Мы приехали в Дайтон по их приглашению. Никто, конечно, за нас не платит — это было бы смешно. Просто нам с Бразулем захотелось, чтобы ты отдохнул после тюрьмы, вот и все. Задерживаться мы тут не будем. Поживем еще недельку-другую и уедем в Париж. Там по крайней мере наших много, веселее будет, не правда ли?
— А старика Тинкхэма и его зятя Стефенсона, которые сидели со мной в тюрьме, освободили? — спросил Максим, пристально всматриваясь в лицо Крайнова.
— Да, конечно, — кивнул Крайнов, — в тот же день. Почти все свидетели показали, что шерифа укокошил ваш друг Том Хаббард и что вы в этом мокром деле не участвовали.
— А что ты собираешься делать в Париже?
Есаул Крайнов усмехнулся:
— Делать мне там нечего, так же как и тебе. Но я за последнее время получил из Парижа много писем от наших полчан. Они пишут, что жить им стало легче, работы сколько угодно, можно даже землю купить по сходной цене и заняться хозяйством. Один из наших гундоровцев, кажется сотник Юганов, завел возле Парижа куриную ферму и сразу разбогател.
Расписывая Максиму прелести эмигрантской жизни во Франции, есаул Крайнов лгал. Его привлекали не куриные фермы и не заработки шофера или носильщика. Связанный с белогвардейским центром, он должен был «обработать» своего одностаничника Селищева, увезти его в Париж и явиться вместе с ним к старому генералу-эмигранту Миллеру, руководителю «Русского общевоинского союза», который был основан по приказу Врангеля. Генерал Миллер, тоже связанный с белогвардейским центром, должен был направить двух офицеров для секретной работы на Дон.
— Что ж, — сказал Максим, выслушав Крайнова, — может, во Франции нам действительно будет легче дышать. Тут я больше не могу. Лучше уж уехать отсюда куда-нибудь, где есть русские.
Через неделю, простившись с гостеприимной семьей Сэма Кэртиса, Максим и Крайнов выехали во Францию. Деньги на переезд, как объяснил Крайнов своему недоверчивому спутнику, им любезно одолжил мистер Кэртис.
В Париже офицеров приютил знакомый Крайнова, настройщик роялей Габриель Гейо, в мансарде которого на бульваре Клиши уже жили два деникинских «полковника» и их общая любовница Рита Кравченко. Юные «полковники» — они называли друг друга Димой и Вадиком — играли на гитарах в кафешантане, а высокая, дебелая Рита аккомпанировала «полковникам» на каком-то странном металлическом инструменте, напоминающем поперечную пилу. Дима и Вадик, испитые, худосочные блондины, когда-то вместе учились в Пажеском корпусе, потом состояли адъютантами при генерале Деникине. Уже в дни бегства из Новороссийска кто-то полушутя присвоил двум друзьям-корнетам звание полковников. Смуглая хохлушка Рита — она же Агриппина — несколько лет служила горничной у княгини Палей, а год назад ловко выкрала у своей госпожи бриллиантовое колье, четыре платья, тысячу франков, вышла сухой из это-то дела и стала любовницей Димы и Вадика. К ней по старой дружбе навязался в сожители бывший управляющий имениями княгини Палей, вечно пьяный толстяк Пал Палыч. Неимоверное брюхо Пал Палыча привлекло одного дотошного антрепренера, который предложил «мсье Папалычу» три франка за выход в цирке «Унион» и взял к себе на службу. «Выход» состоял в том, что одетый в трико Пал Палыч укладывался на ковер, а два танцора-лилипута отплясывали у него на брюхе чардаш.
Вся эта компания радушно приняла двух казачьих офицеров, приехавших из Америки. После того как есаул Крайнов попросил сходить за коньяком и этим дал понять, что у него есть деньги, радушие перешло в ликование.
— Господи! Завтра же устрою вас наездниками в цирк! — сопя, как кузнечный мех, кричал Пал Палыч.
— Зачем им цирк? Они поступят барабанщиками в наш оркестр! — вопили Дима и Вадик. — Правда, Рита?
Рита-Агриппина, подняв голову, отозвалась:
— Да-да, только в наш оркестр! Я с детства обожаю донских казаков. Они такие душки!
Однако после изрядной выпивки бурный восторг уступил место плаксивым причитаниям. Захмелевший Пал Палыч, сняв пиджак и вытирая полотенцем потную шею, заговорил фистулой:
— Ее сиятельство княгиня Палей была второй супругой великого князя Павла Александровича, дяди государя. Жили они в Царском Селе, имели постоянный доступ во дворец, владели несметными сокровищами, много раз, бывало, наследника-цесаревича катали в своем роскошном автомобиле… И мне… гм… гм… доводилось держать на коленках его императорское высочество, носик им утирать кружевным платочком…
Теперь голос Пал Палыча зазвенел рыдающей фистулой:
— А теперь что получилось? Все августейшее семейство, и великий князь Павел Александрович, и молодой князь Владимир, сынок княгини Палей, — все казнены… Вот как все повернулось…
Пал Палыч пьяно всплакнул, стукнул по столу волосатым кулаком:
— Сволочи! Хамье! Никого не пожалели…
Рита-Агриппина тоже всплакнула, по-деревенски утирая слезы большой рукой и размазывая по щекам губную помаду.
— А я слышала, что цесаревна Анастасия жива, — сказала она, вертя в руках рюмку. — Говорят, будто она скрылась в тайге и ее приютило семейство Распутина. Там, говорят, за Тоболом, в таежной заимке, она и сейчас прячется… вроде, говорят, в мужицком платьице ходит, а собой писаная красавица…
— Ерунда! — ухмыльнулся вздремнувший на Ритином плече Вадик. — Бабские сказки! Твою Анастасию шлепнули так же, как и всех остальных. Это ясно! Иначе она давно была бы в Париже и наши выжившие из ума болваны провозгласили бы ее императрицей и самодержицей всероссийской…
Вадик привстал, качнулся, ухватился рукой за стул, на котором сидел Максим, дохнул ему в лицо запахом коньяка и мятных капель.
— Ерунда, полковник Се… Селищев, — сказал он. — Что? Хорунжий? Ну и хрен с тобой, все равно, что полковник, что хорунжий. Грош нам всем цена в базарный день! И великим князьям и хорунжим… Все мы — пыль. Развеяли нас по ветру — и фью-у! Понятно? И ты не верь ни одному нашему слову. Никому не верь! Все мы тут живем, как собаки в дырявой будке. Великие князья грызутся из-за утерянной российской короны, генералы — за право командования несуществующими армиями, всякие там сенаторы да губернаторы — за отнятые у них теплые места. Они жрут, пьют, политиканствуют, а мы нужники чистим и даже из-за этих самых нужников грыземся, чтоб, не дай бог, не упустить пятьдесят сантимов заработка…
— Подожди, Вадик, — перебил друга второй «полковник». — Насчет нужников ты перегнул. Улицы мы подметали, ящики на пароходы грузили, на гитарах по кабакам играли, но нужников еще не чистили.
— Брешешь, Димка! — вспыхнул Вадим. — Чистили! И в Лилле чистили, и в Гавре чистили, и в Руане чистили. Забыл, что ли?
Димка уныло махнул рукой:
— Ладно, к-какая разница? Н-ну, чистили… Подумаешь, беда какая!..
— Довольно, мальчики! — тряхнула волосами Рита. — Пора нам всем баиньки, мсье Гейо стучит снизу. Давайте стелить наши княжеские постели.
Все шестеро улеглись на полу, отодвинув стол в угол и расстелив старые пледы, плащи, пальто. «Полковники» уложили Риту-Агриппину между собой. В открытое окно мансарды вливался посвежевший воздух летней ночи. Розоватое от городских огней, смутно светилось усеянное тусклыми звездами небо. Внизу, запершись в своей холостяцкой комнатушке, тихонько играл на виолончели хозяин мансарды мсье Гейо.
Максим долго не спал. Его босые ноги то и дело натыкались на разбросанные по полу бутылки, на чьи-то башмаки, какие-то банки. Он отвернулся к стене и закурил, пряча в ладонях огонек спички.
«Живут же люди, — с тоской подумал Максим, — вырваны с корнем, растоптаны, а живут. Нужники чистят, а небось мечтают о том, как с колокольным звоном в Москву войдут, как мужиков будут полосовать шомполами…»
Касаясь щекой плеча Крайнова, Максим думал о своих взаимоотношениях с этим человеком. Он не сказал Крайнову о том, что был судим военным судом кутеповского корпуса и приговорен к расстрелу, не рассказал и о бегстве с Хаббардом со «Святого Фоки». У Максима даже мысли не было о том, что одностаничник и однополчанин Гурий Крайнов может предать его или ввергнуть в беду, но в то же время он чувствовал, что Гурий чего-то недоговаривает, что-то скрывает от него, и это смущало и настораживало Максима.
Утром, завтракая с Максимом в дешевой харчевне, Крайнов сказал ему:
— Ты не суди о наших силах по этим сопливым «полковникам». Они давно сброшены со счетов. Таких в Париже немало. Эта заваль только пьянствует и служит панихиды. К счастью, не они определяют нашу дорогу. Через недельку я тебя познакомлю кое с кем из «Общевоинского союза», и ты убедишься, что у нас еще есть порох в пороховницах.
— А ты веришь, Гурий, в то, что порох еще пригодится? — спросил Максим.
— Не только верю, уверен, — твердо сказал Крайнов. — Мы, брат, схлестнемся с большевиками не на жизнь, а на смерть. Но к этому нужно готовиться, не хныкать и не служить панихиды…
Однако, хотя Крайнов и уверял друга, что в эмигрантских пороховницах есть порох, Максим, живя в Париже, пришел к противоположным выводам. Предоставленный самому себе, он слонялся по городу, заходил в русские клубы и рестораны, встречался с людьми, съездил в загородную русскую колонию, побывал на лекциях Милюкова и Амфитеатрова, прочитал десятки эмигрантских газет и журналов, и, чем глубже узнавал жизнь эмиграции, тем более острая тоска и раздражение овладевали им.
Максим видел, что стареющие на чужбине русские женщины-аристократки, так же как четыре и три года назад, продают на парижских улицах потертые, пожелтевшие от времени кружева, ходят в церковь, плачут и ставят свечи «за упокой убиенного государя», что сотни лысых, помятых «министров» каких-то чебоксарских, армавирских, одесских и всяких иных «правительств» по-прежнему ожесточенно делят портфели, а сотни бывших конногвардейцев, кавалергардов, камер-пажей после грошовой получки за подметание улиц нюхают кокаин, занимаются спиритизмом, развратничают.
С невеселой усмешкой слушал Максим, как шаманствовали на импровизированных кафедрах в кабачках «лидеры» и «вожди». Милюков оповещал, что русские крестьяне ненавидят коммунистов и начинают «резать советских деятелей». Амфитеатров, прикладывая руку к сердцу, уже третий год уверял слушателей, что большевики «заморили голодом великого русского поэта Блока» и что в Советской России «свинство громоздится на свинство», а «все граждане арестовывают друг друга».
«Лидеры» и «вожди» шаманствовали, а генералы-подагрики, облезлые чиновники, капитаны-официанты, адвокаты-чистильщики, графини-кокотки восторженно слушали, аплодировали, жеманно перешептывались:
— Боже, скорее бы рассеять этот красный мрак!
— И вернуться в Россию!
— И рассчитаться с большевистской нечистью!
О том, как светские дамы собираются рассчитываться с «большевистской нечистью», Максим узнал в кабаре, где перед изысканной публикой выступала известная поэтесса-беженка. Читая стихи о Советской России, стареющая поэтесса трогательно подняла палец и проскандировала:
Не надо мести зовов! Не надо ликования! Веревку уготовав, Повесим их в молчании…Так эти беженцы, образованные бездельники, носители «белой идеи», сорванные с гнезд ветром революции, как напуганное воронье, разлетевшееся по всему миру, мечтали о своем возвращении на землю, которую они когда-то называли родиной, а тут, в изгнании, — «грязной, подлой, безнадежной и беспросветной страной». Им, казалось, не было никакого дела до того, что на этой далекой, недоступной для них земле поднялся народ и начал строить на развалинах, на грязи и крови, в холоде и голоде новую жизнь. Они плевали на это. Они хотели вновь бросить прозревший, свободный народ в мрак и грязь, и их помыслы, их тайные и явные надежды, их трупный лик как нельзя лучше выразила напудренная старуха, бормочущая о виселице.
Максим Селищев смутно понимал все это, но жалость и отвращение, которые он испытывал при виде каркающего с кафедры политикана-профессора или выпевающей сумасшедшие стихи поэтессы, настолько угнетали его, что он не удержался и сказал Крайнову:
— Ну, брат Гурий, видел я твой порох, видел и за голову взялся: до чего же все это подло!
— Ничего, — невозмутимо ответил Крайнов, — не обращай на эту кладбищенскую падаль никакого внимания. Завтра вечером мы с тобой пойдем к генералу Миллеру, и ты убедишься, что есть в эмиграции подлинно русские люди.
С утра есаул Крайнов заставил услужливую Риту-Агриппину почистить ему и Максиму костюмы, погладить сорочки и галстуки, они сбрызнули духами чистые носовые платки.
На таксомоторе доехали до бульвара Сен-Жермен, свернули направо и остановились в переулке перед невысоким облупленным домом с покосившейся террасой. У заднего крыльца их встретил молчаливый юноша с тростью в руке. Есаул Крайнов кивнул ему, как знакомому, и бросил через плечо:
— Со мной хорунжий Селищев. К его превосходительству.
В большой, небогато обставленной комнате Максим увидел сидящего за столом старика в светлом штатском костюме. У окна в кресле развалился широкоплечий, тумбообразный человек с темной бородой и сонными глазами. Хоть он был тоже одет в штатский мешковатый костюм, Максим сразу узнал его и похолодел: это был генерал Кутепов, не так давно подписавший хорунжему Максиму Селищеву смертный приговор.
6
В кабинет председателя Ржанского уездного исполкома Григория Кирьяковича Долотова вошел в сопровождении секретарши Колька Турчак. Слегка улыбаясь, оглядывая круглую, стриженную лесенками Колькину голову, секретарша сказала недоуменно:
— К вам просится, Григорий Кирьякович. Сколько я его ни убеждала, что вы заняты, он и знать ничего не хочет — подавай ему председателя, и все. «У меня, — говорит, — серьезный разговор».
— Ладно, Галя, идите, — кивнул Долотов.
Он прикрыл деревянным пресс-папье полуисписанный лист бумаги, закурил, посмотрел на Кольку:
— Садись.
Когда Колька, зажимая в коленях старенький картуз, уселся на край стула, Долотов еще раз оглядел его.
— Ну что скажешь?
— Я из Огнищанки Пустопольской волости, — сказал, привстав, Колька. — Фамилия моя Турчак Николай, сын Акима Турчака, — может, знаете? Так вот, я хотел поговорить лично с вами насчет одного дела.
— Я тебя слушаю.
Колька почему-то покраснел, придвинул стул ближе к столу и заговорил, волнуясь:
— У нас в Огнищанке проживает один кулак, Терпужный Антон Агапович. Его недавно из тюрьмы выпустили, — может, вы слышали? Так вот, этот самый кулак года два или три назад взял из детского дома мальчишку, беспризорного Лаврика, такого белявенького, одиннадцать лет ему. Терпужный вроде его усыновил, чин по чину, как положено, даже заставил, чтоб Лаврик его тятей называл, отцом, значит, а Мануйловну, жинку Терпужного, — мамой. Усыновили они, значит, этого Лаврика, земельную норму на него получили, а сами, паразиты, сделали из него последнего батрака: и пахать его посылали, и сорняк выпалывать, и снопы вязать, и коней пасти, и огород поливать, прямо ни на что мальчонку перевели.
— Так, так, — проговорил Долотов.
Колька набрал в грудь воздуха.
— Если Лаврик, скажем, не вспахивал десятину в день или же кони у него ночью в посевы заходили, Терпужный не давал ему есть по двое и по трое суток, железным цепком полосовал, на замок замыкал в подполье. Сейчас на этого Лаврика невозможно глядеть: шея у него как у старика, щеки вовсе зеленые, а спина вся в струпьях, я сам видал.
Долотов передвинул на столе пресс-папье:
— Что ж ты хочешь?
— Я хочу про этого Лаврика написать книжку, — задыхаясь, выпалил Колька, — как его родной отец был убитый в бою с беляками, как матерь померла от сыпного тифа и как самого Лаврика ржанские комсомольцы подобрали в канаве над дорогой и свезли в детский дом. — Он заглянул Долотову в глаза: — Поэтому я до вас и пришел, товарищ председатель, чтоб вы, значит, помощь мне оказали и объяснили, где я смогу напечатать мою книжку.
Долотов коснулся рукой Колькиного плеча:
— Книжка у тебя, Николай Акимович, не получится. Для того чтобы писать книжки, надо быть очень грамотным человеком. А вот статейка в газету, пожалуй, получится. Есть тут у нас в уезде такая небольшая газетка, называется «Ржанская правда». Вот ты возьми и напиши про своего Лаврика, только с сердцем напиши, с душой, примерно так, как мне сейчас рассказывал. А я позвоню по телефону редактору газеты, чтобы они твою статейку напечатали, чтобы в корзинку ее не сунули.
Голос Григория Кирьяковича смягчился, глаза сузились, поласковели.
— Ты комсомолец? — спросил он.
Колька безнадежно махнул рукой:
— Какой там комсомолец! У нас в Огнищанке комсомол не открыли, а до волостного села Пустополья далеко ходить, а то я давно поступил бы, да и не только я. Есть у нас больше десяти подходящих парней и девчат: Иван Горюнов, брат мой Сашка, Антошка Шабров, Трифон Лубяной, фершалов сын Ставров Андрей — он трудовую школу недавно кончил.
— Ну что ж, я поговорю в укоме комсомола, — сказал Долотов, — оттуда пришлют к вам представителя, и вы организуете у себя комсомольскую ячейку. А насчет статьи ты, Николай, подумай. Статья у тебя получится. А? Как ты полагаешь?
— Известное дело, получится, — сказал Колька, выпятив губы. — Я ж все-таки четыре класса прошел, а потом сколько годов разные книжки читал. Статью написать для меня плевое дело, я ее за один вечер напишу.
— Это ты зря, — предостерег Долотов, — бахвалиться тут не следует. Я пограмотнее тебя и постарше, а вот статью написать для меня самое трудное дело.
Он проводил Кольку до дверей, протянул ему руку:
— Желаю тебе, товарищ Турчак, успеха. Душа у тебя, видно, хорошая. Правильно ты сделал, что Лаврика пожалел. Это хорошо. А что ты себя очень образованным считаешь, это плохо. Учиться тебе надо много и долго. Иди домой и присылай свою статью. Посмотрим, как ты ее напишешь.
Когда дверь за Колькой закрылась, Григорий Кирьякович походил по кабинету, посвистел, сказал вслух:
— Ишь негодяи, что делают! Если, значит, десятину не вспашет, голодом его морить, в подполье сажать, избивать до полусмерти. Ладно, обрубим мы вам лапы, никуда вы от нас не уйдете!
Присев у стола, Долотов пробежал глазами незаконченную докладную записку, отложил ее в сторону и задумался. Уже больше полугода прошло с того дня, как он переехал из Пустополья в Ржанск и принял уездный исполком, а дело, как казалось Григорию Кирьяковичу, двигается слишком медленно. Не во всех еще селах и деревнях — а их в уезде было около ста — имелись коммунисты, и это затрудняло работу, мешало по-настоящему организовать население.
Однако Долотова больше всего беспокоило, что укомом партии руководил Резников, который явно мешал работать, раскалывал уездную партийную организацию, открыто тянул в сторону троцкистской оппозиции. Характер у Резникова был бурный, неровный, непостоянный. Как секретарь укома, он пытался держать партийную организацию в «ежовых рукавицах», на подчиненных ему людей кричал, любил стучать кулаком по столу, но, в сущности, был робким и осторожным человеком, а своим криком лишь подбадривал и взвинчивал самого себя.
В уезде у Резникова имелись единомышленники-оппозиционеры из числа партийных и советских работников. Они собирались на квартире у Резникова, читали оппозиционные воззвания, письма, исподволь вербовали себе сторонников из числа комсомольцев, устраивали подпольные собрания, на которые люди приходили по особым пропускам.
Все это было известно Долотову. Он трижды пытался поговорить с Резниковым начистоту, предостерегал его, но своевольный, истеричный секретарь укома только отмахивался или кричал на него раздраженно.
Проводив Кольку Турчака, Григорий Кирьякович полистал бумаги, принял нескольких посетителей и пошел домой.
Стояла июньская жара. Вдоль заборов купались в пыли разомлелые куры. Зеленая листва старых кленов поникла, цветы в палисадниках бессильно опустили разноцветные головки. Расстегнув ворот парусиновой гимнастерки, Долотов шел, лениво здоровался с прохожими и думал о том, как сейчас окатится холодной водой.
Степанида Тихоновна, как всегда, встретила мужа незлобивым упреком:
— Все перестоялось на плите, а ты разгуливаешь. Умывайся да садись за стол, ждать надоело!
Сняв гимнастерку, Григорий Кирьякович крикнул Родю, тот притащил ведро воды и, повизгивая от удовольствия, стал поливать из ковшика загорелый затылок и крепкую, широкую спину отца. Григорий Кирьякович отдувался, фыркал, кряхтел, а под конец обрызгал Родю с головы до ног, щелкнул его по носу и появился в столовой посвежевший и веселый.
— Ну вот, теперь можно обедать!
Наблюдая за мужем, то и дело подливая ему горячего, сдобренного перцем борща, Степанида Тихоновна обстоятельно излагала последние новости:
— Сегодня на базаре милиция забрала двух баб-спекулянток. Они, говорят, шелк продавали. Бабы не наши, не ржанские, вроде из губернии приехали. Денег у них, говорят, куры не клюют. А в сельпо привезли мятные пряники и серую парусину. Надо бы взять Роде на костюм, а то мальчишка совсем обносился.
— Давай возьмем, — согласился Долотов.
Он легонько хлопнул Родю ладонью по спине, дернул темный вихорок на его круглой, склоненной к столу голове.
Занятый делами, углубленный в свои заботы, Григорий Кирьякович не замечал, как в последнее время вытянулся и повзрослел его приемный сын. Голос у Роди начал срываться, черты лица стали грубее и резче, а в характере обозначились замкнутость и упрямство. Сейчас, незаметно посматривая на мальчишку, Долотов вспомнил его убитого отца, пасмурную петроградскую осень, холодные ветры Балтики. Невольно он подумал: «А ведь мог и он, Родька, как этот Лаврик, ходить с побитой спиной, голодный, никому не нужный. И мало ли их, таких?»
Что касается Степаниды Тихоновны, то она за годы совместной жизни с Долотовым научилась читать его мысли. И теперь, уловив взгляд мужа, брошенный на Родю, сказала осторожно:
— Тетка Гаша, наша соседка, няней работает в детском доме. Она говорит, что у них там не все в порядке. Может, ты, Гриша, сходил бы туда, а?
— Да, — кивнул Долотов, — надо сходить. Я и сам об этом думал.
После обеда, отдохнув часок, он пошел в исполком и тотчас же вызвал к себе заведующего уездным отделом народного образования Жизлина.
— Пойдем, Трофимыч, поглядим, что у тебя делается в детском доме. Покажи-ка мне детишек и с воспитателями познакомь.
Жизлин, бывший учитель гимназии, коммунист с дореволюционным стажем, приехал в Ржанск недавно. Щуря близорукие глаза, виновато посматривая на Долотова, он признался, что в детском доме не был ни разу и знает только заведующую, старуху Родивилову.
— Тем более, — сказал Долотов. — Собирайся, пойдем.
Ржанский детский дом размещался на окраине города, в именьице сбежавшего за границу помещика Савича. Именьице было разорено, когда-то густой сад вырублен, сараи во дворе повалились. Остались только ветхий дом с колоннами да амбар, наскоро приспособленный под кухню.
Когда Долотов и Жизлин вошли в распахнутые ворота, их взорам открылась неприглядная картина. Посредине двора высилась куча кухонных отбросов, в которых лениво рылись собаки; тучи мух с громким жужжанием носились по двору, прибиваясь к кухонным окнам; группа босых ребятишек в одинаковых холщовых штанах бродила в развалинах длинного сарая.
— Замечательный детдом! — сквозь зубы проговорил Долотов.
Жизлин смущенно поправил очки, потупился:
— Д-да, надо бы давно тут побывать…
Заведующая детдомом Родивилова оказалась опрятно одетой женщиной с пышными седыми волосами, завитыми в букольки на висках. Она встретила посетителей церемонным поклоном, но от взгляда Долотова не укрылось, что старуха явно встревожена их неожиданным приходом.
— Пожалуйте, — посторонилась она в дверях, — проходите. Хотя должна предупредить вас, товарищи, что у нас ремонт и в доме не очень чисто.
Об этом можно было и не предупреждать: в спальнях, забитых солдатскими койками, стоял тяжелый запах непроветренного помещения, постельное белье напоминало застиранное тряпье; в столовой, так же как и во дворе, жужжали полчища мух. Мальчики и девочки бродили стайками, то робко, то нагловато поглядывая на посторонних людей. Один из великовозрастных парней, сплюнув вслед Жизлину, проговорил громко:
— Очкастый на глисту похож!
В канцелярии, присев на шаткий табурет, Долотов спросил у Родивиловой:
— Скажите, дорогой товарищ, у вас у самой дети были?
— Нет, что вы! — потупилась старуха. — Я незамужняя.
— Угу. А детей вы любите или только так, терпите?
— К детям я отношусь нормально.
Григорий Кирьякович нахмурился:
— Не совсем нормально. К вам в детдом совестно зайти. Вы посмотрите, что у вас делается, — грязь, мусор, ни одной картинки на стене, ни одной детской игрушки. Разве так можно?
— Игрушки еще в прошлом году воспитанники доломали, а средств нам не отпускают, — обидчиво поджала губы Родивилова. — Не могу же я приобретать инвентарь на свое нищенское жалованье!
Предоставив Жизлину разговаривать с заведующей, Григорий Кирьякович осмотрел кухню, морщась, попробовал жидкий ячменный суп, пожевал слабо заправленную подсолнечным маслом ячменную кашу.
— Не шибко вкусно готовите, — упрекнул он румяную повариху.
Та ухмыльнулась, махнула разливной ложкой:
— Из святой водички вкусно не сготовишь.
— Разве вам, кроме водички, ничего не дают?
— Отчего ж не дают! Дают и масло, и яйца, и мясо, только всем этим Инна Витольдовна ведает, а ей, видать, себя да своих сестер накормить надо.
— Какая Инна Витольдовна?
— Товарищ Родивилова, заведующая наша.
Кухарка опасливо притворила дверь, понизила голос:
— Инна Витольдовна тут и до революции жила, она в родстве с помещиком Савичем, который с белыми ушел, свояченицей ему доводилась. А сестры ее, Ирина Витольдовна и Софья Витольдовна, тоже тут проживали. Сейчас они воспитательницами у нас работают…
— Ишь ты! — удивился Долотов. — Не побоялись, значит, в своем имении остаться, так целой стаей и угнездились?
— Имение-то было не ихнее, имением зять ихний владел, Савич, а они вроде на прокормлении у него состояли, — объяснила кухарка.
— Понятно, — сказал Долотов. — Хорошая компания!
Выходя из детдома, он взял под руку худосочного Жизлина и заговорил жестко:
— Вот что, Трофимыч, довольно тебе ворон ловить. Наши люди не за то жизнь свою отдавали, чтоб над их детьми-сиротами измывалась всякая сволочь. Немедленно направляй сюда комиссию, проверь работу этой барской свояченицы и гони ее отсюда к чертовой матери вместе с ее сестрами и прочими родичами. Не видишь разве, чего они тут развели, какую на сиротских хлебах кормушку себе устроили?
Долотов сердито сплюнул, остановился, сжал локоть Жизлина.
— А потом, скажи, пожалуйста, тебе известно, как живут те дети, которых берут из детдомов на воспитание? Ты ведь знаешь, что по уезду розданы в семьи сотни беспризорных детей. За этих сирот хозяева разные льготы получают: и лишний земельный надел, который на три года от налога освобождается, и денежные ссуды, и всякую другую помощь. Не думай, что кулачье этим мало пользуется. Или, ты полагаешь, у нас нет таких типов, которые ребятишек в батраков превратили?
— У нас в наробразе ведется журнал учета, — пробормотал Жизлин. — И кроме того, есть договор на каждого ребенка…
Григорий Кирьякович укоризненно покачал головой:
— Журнал учета? Договор? Этим бумажкам грош цена, если у тебя нет проверки, контроля. Вот поезжай в Огнищанку — есть у нас такая деревушка в Пустопольской волости, — спроси там Антона Терпужного и проверь, как у этого самого Терпужного мальчик живет, сирота, по имени Лаврик…
— Хорошо, я проверю, — пообещал Жизлин.
Впрочем, через три дня произошло событие, которое помогло заведующему уездным наробразом Жизлину установить истину и без поездки в отдаленную деревню. В газете «Ржанская правда» появилась статья, озаглавленная «Под чужой крышей». В статье было написано:
«Крыша в доме Антона Агаповича хорошая, крытая железом, в окнах рамы-двойники, а двери обиты толстой кошмой. Все в этом доме так добротно пригнано, так законопачено, что огнищанам не услышать ни криков, ни стонов, которые часто раздаются за закрытой дверью. В доме Терпужного живет сирота Лаврик, взятый Антоном Агаповичем на воспитание. Родной отец Лаврика, красный боец, в 1920 году был убит белогвардейцами, а мать умерла от сыпного тифа. Антон Терпужный взял Лаврика в ржанском детдоме, получил на него полторы десятины земли, деньги, а сам зверски избивает круглого сироту, бьет ногами, вальком, железной цепью, морит голодом. Пора представителям Советской власти обуздать огнищанского кулака Терпужного и спасти сына погибшего красного бойца».
Статья была подписана: «Селькор Николай Турчак».
Прочитав статью, Илья Длугач вызвал в сельсовет Кольку Турчака, хлопнул ладонью по газете и сказал грозно:
— Твоих рук дело?
— Чего? — спросил Колька.
— Статейка про Терпужного.
— Статейку я писал, — признался вдруг перетрусивший Колька и на всякий случай сделал шаг назад.
— Свидетели у тебя есть?
— Какие свидетели?
— Обнаковенные! Такие, которые подтвердили бы зверское избиение указанного в статье мальца и его мучение путем голода.
— А то как же! — пожал плечами Колька. — Все это видели, и все знают.
— Кто это все? — закричал Длугач.
— Брат мой Сашка, и Васка Шаброва, и ее брат Антошка, и Улька Букреева.
— А самостоятельные, ответственные свидетели есть? — спросил Длугач. — Взрослые люди, которые смогли бы подтвердить указанную подлость и поставить в протоколе авторитетную роспись своего имени, отчества и фамилии?
Колька заморгал глазами.
— Весною, во время пахоты, дядька Антон полосовал Лаврика чистиком от плуга, а сбоку сеяли Микола Комлев и тетка Лукерья. Они видали это зверство и слышали крики.
— Та-а-ак! — с явной угрозой в голосе протянул Длугач. — Немедля ступай и приведи ко мне всех перечисленных свидетелей, как самостоятельных, так и недоростков…
Мрачный, нахохленный, как филин, Длугач допрашивал приведенных Колькой свидетелей часа три; покусывая карандаш, записывал в школьной тетради их сдержанные показания, заставил всех расписаться, потом послал Антошку Шаброва за Лавриком.
Увидев тщедушного, робкого мальчишку с белявым чубом и глубоко запавшими глазами, Илья Длугач спросил как можно ласковее:
— Ну, герой, как твоя фамилия?
— Фамилии у меня нету, — потупился Лаврик. — Была фамилия, только я ее забыл, когда папку убили.
Длугач встал из-за стола, процедил сквозь зубы:
— Скинь-ка, герой, сорочку.
Лаврик испуганно попятился.
— Не бойся, не бойся, — сказал Длугач. — Отныне бить тебя никто не будет, мы только поглядим, как у тебя спина размалевана.
Мальчик всхлипнул, дрожащими руками стащил грязную, заплатанную рубаху, и все увидели худую, с острыми лопатками спину Лаврика, иссеченную розовыми шрамами, темными синяками и кровоподтеками.
— Все ясно, — хрипловато сказал Длугач. — Можешь, кутенок, надевать свою рубаху.
Он повернулся к свидетелям, молчаливо сидевшим на скамье, тронул за плечо Николая Комлева, сказал:
— Ступай, Коля, приведи сюда этого хамлюгу. У меня лежит указание из этой самой… как ее… из редакции проверить факт избиения и срочно дать ответ. Веди сюда гада Терпужного, я займусь проверкой.
Через полчаса Терпужный вошел в сельсовет, остановился у порога, с недоумением глянул на Длугача, на Лаврика, на сидевших вдоль стены людей. Должно быть, скрытая тревога проснулась в нем, но он не подал виду, только вытер рукавом пот на лице и промолвил:
— Добрый день!
— Доброго здоровья, — едва слышно отозвался Длугач. — Берите табуретку, подсаживайтесь к столу. — И, внезапно поднявшись, оправил на себе пояс, бросил коротко: — Все свидетели могут быть свободными. Разговор у меня будет без свидетелей. Забирайте мальца и выходите.
Когда все вышли, Длугач медленно, точно ему трудно было переставлять ноги, подошел к двери, защелкнул задвижку, сунул руки в карманы синих галифе и остановился против Терпужного:
— Что ж, давай побеседуем, Антон Агапович…
Терпужный угрюмо поднял глаза:
— Про чего ж беседа?
— А ты так-таки и не знаешь про чего?
— Откудова мне знать?
— Так-таки и не знаешь?
— Не знаю…
Длугач сел, рывком придвинул табурет к Терпужному:
— Расскажи мне, Антон Агапович, как, когда и какими предметами ты зверски избивал беспомощного сироту, сына геройски погибшего красного бойца. И потом… — Голос Длугача зазвенел на самой высокой ноте, перешел в свистящий шепот: — И потом, Антон Агапович, расскажи, будь ласков, поведай мне правду-истину: с кем и каким именно топором ты семь годов тому назад зарубал прикрученного проволокою до дерева Михайлу Ивановича Длугача, моего отца родного?
Кровь отлила от лица Терпужного, пальцы кинутых на колени жилистых рук задрожали. Он оторопело глянул на Длугача.
— Молчишь, Антон Агапович? — тихо спросил Длугач. — Не желаешь отвечать?
На синих губах Длугача выступила пена. Рванув из кармана наган, он размахнулся, но рука его, описав в воздухе полукруг, замерла, застыла. Длугач прохрипел, отвернувшись:
— Уходи отсюдова, белогвардейское падло… Уходи, волчиная твоя шкура, подальше от греха…
Он пнул ногой дверь так, что сорвалась и, прогремев по полу, закатилась в угол задвижка.
— Уходи, сказано тебе, не то я за себя не ручаюсь!
Терпужный поднялся, тяжело передвигая налившиеся свинцом ноги, прошагал к двери и лишь на миг, уже в сенях, обернулся:
— Зря ты, председатель, напраслину на меня возводишь. Ну насчет парнишки ничего не могу сказать, учил я его, так же как меня в свою пору учили… А насчет отца твоего — это ты зря. Знать я про него не знаю и ведать не ведаю. Нехай меня бог побьет, ежели брешу…
— Уходи, — сказал Длугач, — уходи, добром тебя просят…
Когда шаги Терпужного затихли за поворотом, а в распахнутую дверь робко просунулась голова старого Силыча, Длугач некоторое время бессмысленно, мутными от ярости глазами смотрел на деда, потом выдохнул:
— Чего тебе? Заходи и притвори дверь.
— Не иначе как миропомазание сделал ты Антону, — осторожно подбирая слова, сказал Силыч. — Встрелся я с ним возле калитки, а он как вроде оскаженел: голову угнул и земли под собой не видит. Не иначе, думаю, миропомазание ему сотворено.
— Да, дед, миропомазание, — согласился Длугач и, заметив, что до сих пор держит побелевшими пальцами наган, смущенно отвел руку за спину. — Жалею только, что я по его поганой морде не проехался этой штуковиной и не расписался на ней по-своему.
— Бывает, — снисходительно согласился Силыч. — Ежели за дело, то чего ж, голуба моя, финозомию его трошки пощупать, чтоб помягчала.
Точно сбрасывая с себя тяжесть, Длугач тряхнул головой, попросил Силыча подождать, а сам, вырвав из тетради листок, набросал карандашом ответ редакции.
— Вот послухай, в чем тут дело, — сказал он и прочитал вслух: — «Мною, председателем Огнищанского сельсовета И. М. Длугачем, при свидетелях установлен подлый факт, оказавшийся гражданином А. Терпужным, который избивал маломощного сына красного героя и оставил на его спине знаки кулацкой лютости. Посему сделан вывод: указанного потомка героя по имени Лаврик, а по фамилии неизвестного, от Терпужного отобрать и направить для дальнейшего политического воспитания гражданину Длугачу Илье Михайловичу, которому не пощастило иметь детей. В ознаменование изложенного внести Лаврика в подушные списки сельсовета и от сегодняшнего дня именовать Лаврентием Ильичом Длугачем, что подтверждается показаниями шестерых свидетелей и гербовой круглой печатью…»
— Здорово получилось! — с искренним восхищением воскликнул дед Силыч. — Значит, ты этого паренька вроде как усыновляешь?
Длугач мечтательно поглядел в окно:
— Да, дед, усыновляю. Не век же ему, этому Лаврику, бедовать. Разве ж не для его ребячьего счастья погиб его батька? Разве, скажи ты мне, не ради него напоена кровью земля? И какими же мы окажемся сволочами, если позволим гадам измываться над неповинной, чистой душой! Так ведь, дед?
— Известное дело, — растроганно потянул носом дед Силыч. — Оно прямо скажу, голуба моя, ежели бы у меня в хате была баба, я и сам взял бы себе дите. Теперь я, спасибо вам, человек грамотный, всю науку превзошел и мог бы дитю истинное образование дать. Жалко только, что бабы у меня нету и некому за дитем приглядеть, обмыть, обстирать его.
— Так-то, — заключил Длугач. — Пролетарский род мы в обиду не дадим, нехай кулацкое отродье и не гадает про это…
В тот же вечер Длугач пошел к Терпужному, отобрал у него Лаврика, предупредил, чтобы засеянные у леса полторы десятины озимой пшеницы — земельная норма сироты — были по акту переданы сельсовету, а мальчишку увел к себе.
Люба искупала Лаврика в деревянном корыте, осторожно смазала ему избитую спину снадобьем, приготовленным дедом Силычем, надела на Лаврика чистую мужнину рубаху.
Илья, посапывая, наблюдал за ними, а когда Лаврик, вымытый до глянца, розовый, сияющий, подошел к нему, притянул мальчика к себе, неловко ткнулся ему носом в плечо и забормотал, глотая слова:
— Такие-то дела, герой. Отыскались твои и отец и мамка. Ясно? И фамилия теперь у тебя есть, причем не такая уж плохая фамилия — Длугач. Лаврентий Ильич Длугач. Понятно?
— Понятно, — прошептал Лаврик.
— То-то… Будешь, герой, жить да поживать. А этого твоего мучителя мы обломаем…
Однако Антон Агапович Терпужный не собирался сдаваться. Несколько дней он ходил темный как туча, потом отправился в Костин Кут, к бывшему своему зятю Степану Острецову, распил с ним бутылку водки и заговорил, глядя в сторону:
— Насчет Пашки ты, Степан, зла не держи. Ну ее, шалаву! Не сумела она себя соблюсти, значит, нехай ни на кого не пеняет. Я же к тебе по иному делу зашел, про товарища Длугача поговорить, про председателя нашего. Житья уже от него народу не стало, вовсе распоясался, бандюга…
Терпужный рассказал Острецову о том, что произошло в сельсовете. Острецов слушал молча, раскатывал пальцами хлебные шарики, ухмылялся.
— О незаконных действиях Длугача можно написать жалобу в уезд и в губернию, — раздумывая, сказал он. — Там с него шкуру сдерут за превышение власти. И ребенка он не имел права у вас отбирать. За это тоже по головке не погладят.
— Так ты составь жалобу, Степа, — попросил Терпужный. — И напиши похлеще, а я тебя отблагодарю.
Острецов подлил себе водки, выпил, лениво закусил огурцом.
— Ладно, я напишу. А статейку в газету кто про вас писал?
— Колька Турчак поганый, — скрипнул зубами Терпужный. — Акима Турчака сын, в Огнищанке у нас проживает.
— Ну и что ж, вы ему за это спасибо скажете?
Антон Агапович крякнул, насупился:
— Про Кольку я сам подумаю. Раз он, голозадый, дорогу мне перешел, я его раздавлю, поганца…
Терпужный не сказал, что он собирается сделать с Колькой, но по выражению его пьяных глаз Острецов понял, что незадачливому огнищанскому корреспонденту несдобровать.
Глава четвертая
1
Самые усердные и опытные статистики никогда не могли назвать точное количество людей, населяющих земной шар, ибо люди рождаются и умирают ежедневно и ежечасно. И все же, учитывая события, способствующие повышению рождаемости или смертности, высчитав приблизительный процент рождений и смертей, статистики нашего века утверждали, что на земле в ту пору жило два миллиарда людей.
Однако никогда ни один из статистиков не сказал и не мог сказать, сколько на свете людей счастливых, а сколько несчастных, сколько сытых, а сколько голодных, сколько здоровых, а сколько больных, сколько свободных, а сколько бесправных, забитых, угнетенных.
Между тем подавляющее большинство населяющих землю людей жило на положении рабов, которые постоянно, всю свою жизнь, страдали, сотнями тысяч погибали от голода, эпидемий, нищеты и нигде не видели просвета. Два миллиона мужчин, женщин и детей ежегодно умирали голодной смертью в Китае. Тысячи индейцев Боливии, Колумбии, Перу вместо хлеба десятилетиями жевали кэкча — смесь золы, птичьего клея и листьев кока. Тысячи бразильцев из года в год бродили по сухой земле, ели чертополох, горькие кактусы, и путь их усеян был темными, едва обтянутыми кожей трупами.
Множество голодных людей на всех материках мучилось и умирало от болезней, вызванных недоеданием, — пеллагры, бери-бери, скорбута, анемии, рахита, холеры. Чтобы избавиться от нищеты, родители продавали своих детей в рабство. Младенцы, которые по закону природы начинали ходить, из-за голода вновь опускались на четвереньки и, бессильные, ползали, как щенки…
Конечно, экономисты, социологи, философы, политики, ученые не раз задумывались над судьбой человечества и каждый по-своему пытались найти причину людского несчастья. Одни видели в бедах людей руку «промысла божьего», исполнение заветов бога, проклявшего Адама: «Терния и волчцы произрастит земля тебе, будешь питаться полевою травою»; другие утверждали, что человеческие расы неравноценны, что в жестокой борьбе за существование выживают только «сильные», а «слабые» обречены на гибель; третьи вообще отрицали возможность познать законы жизни и призывали людей смириться и терпеть.
В 1798 году английский священник Мальтус напечатал книгу «Опыт о народонаселении», в которой доказывал, что человечество увеличивается в геометрической прогрессии, то есть как числа 1, 2, 4, 8, 16, 32, а средства существования людей, продукты питания, взращенные на земле, увеличиваются лишь в арифметической прогрессии, то есть как числа 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мальтус ничем не подтвердил и не мог подтвердить свою «теорию двух прогрессий», но сделал такой вывод: «Стремление народонаселения к неопределенному увеличению должно быть сдерживаемо либо нравственным ограничением воспроизводительной способности, либо различными причинами, увеличивающими смертность…»
Хотя в «теории» Мальтуса не было ничего научного и вся она представляла собою злую и грубую фальшь, многие ученые ухватились за нее, потому что эта «теория» оправдывала человеческие беды, голод, нищету и уводила от познания истины.
Истина же заключалась не в том, что человек, «потомок Адама», был проклят богом, не в том, что среди людей были «сильные» и «слабые» расы, не в том, что народонаселение росло быстрее, чем средства земного существования. Истина прежде всего заключалась в том, что причиной бед, нищеты и голода человеческих масс был и оставался несправедливый, установленный на земле общественный строй, при котором отношения между людьми не только начисто исключали общее сотрудничество и взаимопомощь, но основывались на господстве и подчинении, на эксплуатации человека человеком.
Истина заключалась в том, что подавляющее большинство людей изо дня в день работали на фабриках и заводах, на верфях и в шахтах, в полях и в садах, то есть работали сообща, огромной массой, но все те неисчислимые ценности, которые создавала эта огромная масса людей, распределялись не между ними, тружениками, а присваивались ничтожной кучкой эксплуататоров. Так людские жизни, здоровье, пот и кровь превращались в богатства, которыми пользовались лишь очень немногие. И чем больше богатели эти немногие, тем беднее, бесправнее становились массы голодных тружеников.
Маркс и Энгельс открыли эту истину, впервые рассказали о ней людям, возвестили неизбежную гибель капитализма, а Ленин, создавший в обширной, но отсталой стране могучую Коммунистическую партию, указал единственный путь к победе трудящихся. Под руководством Коммунистической партии народы России победили и основали первое в мире свободное государство. С тех пор мрак холодной ночи над людьми стал рассеиваться.
«Для лозунгов, раздающихся из Москвы, — говорил Сун Ятсен, — расстояния не существуют. Молниеносно они облетают всю землю и находят отклик в сердце каждого труженика… Мы знаем, что Советы никогда не становятся на сторону неправого дела. Если они за нас, значит, истина за нас, а истина не может не победить, право не может не восторжествовать над насилием…»
«Русский народ проложил путь к социализму. Он пробил первую брешь в капиталистической системе… Это величайшее событие вселило радость в сердца всех угнетенных в мире и страх в сердца капиталистов» — так отзывался о русской революции руководитель американских коммунистов Уильям Фостер.
Когда молодой француз коммунист Морис Торез впервые приехал в Советский Союз, он писал:
«С бьющимся от волнения сердцем вступал я в этот новый мир, мечту трудящихся, ими самими осуществленную. Я с восторгом наблюдал этот мир в процессе неустанного созидания, видел города, словно выраставшие из земли, заводы, работающие не ради прибылей реакционной и эгоистичной олигархии, а на пользу всего коллектива. „Все это мы построили без хозяев и теперь работаем без хозяев“, — как бы говорили светившиеся гордостью лица рабочих и работниц. Ценою жертв и лишений они строили счастливую жизнь для всех на той земле, которую капиталисты разоряли и опустошали…»
Так, подобно горящему во тьме маяку, Советский Союз стал светочем мира, надеждой человечества.
Лютой ненавистью ненавидели его капиталисты. Теперь каждое восстание, каждую забастовку, где бы они ни происходили, капиталисты объясняли «происками коммунистов», называли «агрессией красного империализма», всюду искали «руку Москвы». И хотя на протяжении столетий, даже в те времена, когда Москва вообще не существовала, угнетенные сотни раз восставали против угнетателей, отныне любой протест против нищеты, голода и бесправия именовался «кознями московских коммунистов».
Тем не менее никакие расстрелы, тюрьмы, пытки, никакие уговоры и лживые призывы уже не могли остановить движение трудового человечества к свободе, его борьбу за новый мир.
Наряду с другими странами ареной великих сражений становился древний пятисотмиллионный Китай…
Когда Александра Ставрова вызвали в Комиссариат иностранных дел и сказали, что он должен ехать в Китай, что, по всей вероятности, ему придется пробыть в Китае довольно долго, это удивило и даже несколько испугало его.
— Я поеду один? — спросил он, скрывая свое волнение.
Заместитель наркома, который вызвал Александра, пристально взглянул на него и сказал:
— Да, на этот раз вас не будет сопровождать никто.
Александр промолчал. Всего четыре месяца назад белогвардейцы-террористы в Латвии совершили провокационное нападение на советских дипломатических курьеров, стремясь захватить почту, которую они везли. Оба курьера отважно защищали почту, но в перестрелке один из них, Теодор Нетте, был убит наповал, а другой, Махмасталь, тяжело ранен. Очевидно решив, что дипкурьер Ставров думает об этом и потому выжидательно молчит, заместитель наркома, рассеянно перебирая лежавшие на столе бумаги, сказал:
— С вами не будет никакой почты. То, что необходимо было отправить в Китай, уже отправлено с Балашовым и Черных. Вы же, товарищ Ставров, едете с другой целью. Дело в том, что у нашего посольства в Пекине очень недостаточная связь с консульскими округами, а это мешает в работе, особенно при нынешнем положении в Китае, когда страна разделена на несколько враждующих между собою зон, а местная почта работает с большими перебоями.
Заместитель наркома еще раз, изучая сидевшего перед ним Александра, взглянул на него:
— Посол в Китае просил хотя бы временно, пока будет налажена связь, прислать в его распоряжение одного из опытных дипкурьеров. Мы решили остановиться на вас, товарищ Ставров. Если у вас никаких причин для отказа нет, вам сразу же будет выписан паспорт с визой и выдан курьерский лист.
— Ехать нужно сейчас? — спросил Александр.
— Чем скорее, тем лучше. Во всяком случае, вам предоставят несколько дней для приведения в порядок своих дел, потому что срок вашего пребывания в Китае не определен. Мне думается, что вам придется пробыть там не менее года.
Александр знал, что эта поездка, связанная с трудной работой в Китае, охваченном гражданской войной, чревата многими опасностями, знал, что ему можно отказаться от поездки — он понял это по тону заместителя наркома. Но после смерти Марины его ничто уже не удерживало здесь, а уклоняться от опасностей было не в его правилах. Поэтому он сказал твердо:
— Хорошо. Если надо, я поеду. Что же касается личных дел, то мне достаточно трех-четырех дней.
— Ну и отлично, — сказал заместитель наркома. — Вам доведется стать очевидцем очень интересных событий, я уверен в этом.
Он поднялся, протянул Александру руку:
— Счастливого пути, товарищ Ставров! Все необходимые инструкции вы получите в отделе азиатских стран…
Три последних дня, проведенные Александром в Москве, показались ему сном. Он ни разу не уезжал так далеко, на такой неопределенно долгий срок и теперь словно прощался со всем тем, чего не замечал в обыденной жизни: с московскими улицами, домами, с людьми, которых он не знал прежде, но которые представлялись ему теперь близкими и родными. Ивана Черных не было в Москве, Александру не с кем было поделиться своим настроением, и он часами бесцельно бродил по улицам или сидел на Тверском бульваре, молчаливо провожая взглядом прохожих.
В конце июня чуть не каждую ночь над Москвой бушевали короткие теплые ливни с громами, а наутро омытый город свежел, сверкал сияющими стеклами витрин, яркой зеленью деревьев, был насыщен запахами влажных цветов.
В эти прощальные дни, покидая родину, Александр впервые почувствовал, что острое чувство горя и одиночества, вызванное смертью Марины, как-то притупилось в нем, стало утихать, уступая место мягкой, светлой грусти. Он и сам не знал, почему утихло его неутешное горе, чем вызвано появление этого нового чувства легкой грусти. Он решил, что здесь, на родной земле, он любит все — людей, города и села, чистое небо над ними — и что ему жаль расставаться со всем этим, таким дорогим его сердцу.
Брату и невестке Александр послал перед отъездом короткое письмо:
«Дорогие огнищане! На днях я уезжаю в Китай. Сколько времени мне придется пробыть там, неизвестно. Думаю, что вернусь я не скоро. Все мои вещи остаются на московской квартире и в случае чего будут переданы вам. Отказаться от этой поездки я не хотел и не имел никакого морального права. Долг коммуниста для меня превыше всего. Будем надеяться, что все закончится благополучно и мы увидимся. К вам, дорогие, у меня есть маленькая просьба: пусть ребята хоть изредка посещают пустопольское кладбище и следят за цветами на могиле Марины. Таю не обижайте и не давайте ей чувствовать свое сиротство. Обнимаю вас всех и желаю вам всего доброго.
Ваш Александр Ставров».
Дождливым летним вечером Александр покидал Москву. До Ярославского вокзала, откуда отходил транссибирский экспресс, его провожали Тер-Адамян с дочкой.
— Ни пуха вам, ни пера, Александр Данилович! — Суетливый адвокат обнял своего квартиранта. — Оно конечно, интересная у вас поездка, но лучше бы вы от нее отказались.
— Почему?
— Потому что там, где летают пули, веселого мало. Я, честно говоря, выбрал бы для себя другой маршрут — Париж или, скажем, Рим.
— Ничего, бог не без милости, казак не без доли. Авось я и в Китае не пропаду.
— Будем надеяться, — заключил Тер-Адамян.
Как только поезд отошел от перрона, Александр закрылся в своем купе. За пять лет он впервые ехал один, без почты ему нечего было охранять, и он улыбаясь думал, что длинные дороги для него сущий отдых. С наслаждением вытянувшись на постели, Александр вспомнил напутственное слово референта отдела азиатских стран, суховатого человека в пенсне, отлично знающего положение в Китае.
— То, что вы увидите в Китае, вам не приходилось видеть нигде, — медленно выговаривая слова, начал референт. — На юге Китая, в Кантоне, год назад Гоминьданом создано национальное правительство Китайской республики. Именно здесь сейчас находится очаг революции. Вся северная часть Китая кишит крупными и мелкими генералами-милитаристами, пешками в руках разных капиталистических стран: там и японский агент Чжан Цзолин и его сынок Чжан Сюэлян, там англо-американский ставленник У Пэйфу со своим дружком Сунь Чуаньфаном и десятки шакалов разных рангов. Отдельно следует сказать о так называемой «народной армии» генерала Фын Юйсяна, расположенной в провинциях Чжили, Жэхэ, Шаньси и занимающей особые позиции.
Референт развернул перед Александром карту с разноцветными пометками и сказал, постукивая карандашом:
— Весь Китай объят пламенем войны. Ни на один день не умолкают там пушки, и люди гибнут тысячами. Весь мир понимает, что в Китае столкнулись две силы — революция и контрреволюция. Именно поэтому американцы, англичане, японцы шлют туда свои суда с войсками и боеприпасами, чтобы начать вооруженную интервенцию и задушить революцию…
Уже прощаясь с Александром, референт счел нужным добавить:
— Моя короткая информация может только схематически ориентировать вас, полностью на нее полагаться нельзя. Гораздо больше вы узнаете в нашем посольстве, а еще больше — на месте событий. Думаю, вы сами чувствуете, насколько осмотрительно и осторожно следует там себя вести, и я только одно могу посоветовать вам: нигде, никогда, ни при каких обстоятельствах не выходите за рамки наблюдателя. Таков уж закон людей с дипломатическим паспортом, ничего не поделаешь…
Лежа в купе и вспоминая слова референта, Александр подумал: «Не выходить за рамки наблюдателя… Легко сказать! На твоих глазах белая сволочь будет поджигать деревни, убивать безоружных женщин и детей, а ты должен сохранять невозмутимое спокойствие и ходить с бесстрастной миной на лице. Завидная участь для коммуниста! Впрочем, может быть, этот сухарь и прав — ведь один неосторожный шаг может очень сильно напортить нам… Что ж, — вздохнул Александр, — постараемся поддержать высокое достоинство дипломатов…»
Первые сутки Александр мучился от жары и духоты. Он открывал окно, надеясь, что встречный ветер освежит его, но воздух был сухой, горячий, а в купе летела пыль и угольная копоть. Однако, чем дальше на восток уходил поезд, тем прохладнее становились ночи, а у озера Байкал стало даже холодновато.
Александр часами сидел у окна, наблюдая, как проносятся мимо степи, леса, станционные поселки, деревни, домики путевых обходчиков. На каждой большой остановке он выходил из вагона, бродил по вокзалам, покупал газеты, всматривался в тысячи незнакомых человеческих лиц и думал с гордостью: «Ну махина же мы, СССР! Жизни не хватит, чтобы объехать нашу землю и посмотреть все города».
С каждым днем в вагоне оставалось все меньше пассажиров, а когда за Читой вагон прицепили к новому составу, повернувшему на юго-восток, у Александра осталось только четыре спутника. Молчаливая пожилая женщина — она почти всю дорогу сидела в соседнем купе с книгой в руках — тоже ехала в Китай.
— Вы уже бывали в Китае? — спросил у нее Александр.
— Да, — ответила женщина. — Я работаю учительницей в советской колонии в Пекине, а сейчас ездила навестить своих стариков, они в деревне живут под Тулой.
Александру понравилась эта скромная учительница в черном платье. Глаза у нее были усталые, грустные, седые волосы уложены на затылке тугим узлом.
— Вы не жалеете, что поехали работать в Китай? — спросил Александр.
Глядя в открытое окно, учительница ответила:
— Народ там хороший, трудолюбивый, честный, природа красивая. А все-таки там живется нелегко.
Учительница — звали ее Ульяной Ивановной — рассказывала: гражданская война в Китае не утихает ни на один день, движение и связь между городами очень затруднены, в некоторых провинциях крестьяне голодают.
— К нам, советским людям, отношение не одинаковое. Народ к любому из нас относится хорошо, а контрреволюционеры ненавидят советских людей. Вы сразу это заметите в Маньчжурии, где стоят войска Чжан Цзолина. Уже на границе чжанцзолиновские офицеры будут ощупывать вас взглядами и тенью следовать за вами. Правда, они пока еще не распоясались по-настоящему, но с каждым днем становятся все нахальнее и грубее…
Ульяна Ивановна рассказала Александру о своей жизни. Вместе с мужем-учителем она шесть лет назад партизанила в тайге у Сихотэ-Алиня. В их отряде было много владивостокских грузчиков-китайцев, которые сражались наравне с русскими и снискали общую любовь партизан. В двадцать первом году муж Ульяны Ивановны и двое его товарищей были схвачены японской карательной экспедицией, увезены в бухту Судзухе за Сучаном и там живьем заморожены на льду реки.
— С тех пор я живу одна, — тихо закончила Ульяна Ивановна. — Никого у меня не осталось, кроме стариков родителей да немногих друзей по партизанскому отряду…
— А в Китай как вы попали? — спросил Александр.
Ульяна Ивановна сказала доверчиво:
— После смерти мужа у меня был человек, которого я недолго, очень недолго звала своим другом, — китаец-коммунист из нашего отряда. Он очень горячо говорил о своей родине и мечтал, что мы с ним поедем туда служить его народу… Потом белогвардейцы поймали его. Он был расстрелян в Великой Кеме за два дня до освобождения Дальнего Востока, а я два года назад уехала в Китай…
Поезд медленно полз среди поросших лесом сопок, взбирался на перевалы угрюмого хребта, с грохотом несся через мосты. В пятом часу утра паровоз дал протяжный гудок, замедлил ход, и состав, погромыхивая, остановился.
Надев пиджак, Александр вышел из купе. Ульяна Ивановна стояла у окна с белым зонтом в руке. За окном, на небольшом перроне, еще затемненном рассветной дымкой, неторопливо ходили люди.
— Мы на границе, — сказала Ульяна Ивановна. — Сейчас начнется проверка документов.
Через несколько минут дверь вагона открылась, проводник посторонился, вежливо приложив руку к фуражке. В пролете двери стоял офицер-китаец в роговых очках. Его форма цвета хаки была перекрещена ремнями, сбоку на поясе болтался маузер в деревянной кобуре. Офицер надменно взглянул на стоявших в вагоне пассажиров и проговорил, с трудом выговаривая русские слова:
— Прошу, по-жалуй-ста, показывать паспорт и ваш багаж…
2
У семьи Ставровых радость — на железнодорожный разъезд прибыла наконец выписанная Дмитрием Даниловичем с завода косилка-лобогрейка. За нею отправилась вся мужская половина ставровской семьи — Дмитрий Данилович с Федей в одноконной двуколке, Андрей с Романом верхом. Пропустив отца вперед, оба брата ехали неторопливым шагом, сберегая силы лошадей на обратный путь. Андрей радовался приобретению лобогрейки, а Роман посмеивался над ним.
— Теперь уж мы не будем махать косой до седьмого пота, — говорил Андрей. — Лобогрейкой можно в день десятин пять выкосить.
— А ты что думаешь, — усомнился Роман, — она сама будет косить, твоя лобогрейка? Нагреешь ты на ней лоб, недаром она так и называется.
— Ну все же лучше, чем коса.
— Один черт!
Лобогрейка оказалась великолепной. Когда ее выкатили из широкого станционного амбара, Андрей и Федя чуть не вскрикнули от восхищения. Платформа и колеса косилки были окрашены огненно-красной краской, оба сиденья и дышло — лазоревой, на крыльях мотовила сияли желтые полосы, а остроносые пальцы, ножи, зубчатки были обильно смазаны маслом.
Дмитрий Данилович тщетно старался скрыть свой буйный восторг. Он похаживал вокруг лобогрейки, крякал, одобрительно причмокивал губами, по-хозяйски проверял рычаги, сел на переднее сиденье, на заднее, потом хлопнул Андрея по плечу:
— Ничего машинка, а?
— Машина царская, — в тон ему ответил Андрей.
— И по цвету как радуга, — добавил Федя.
Только на лице Романа не было и следа радости. Он вежливо поковырял ногтем натек голубой краски на сиденье, вытер палец о штаны и легонько зевнул.
— А вы как полагаете, — спросил Дмитрий Данилович у знакомого механика, который собирал в амбаре косилку, — можно на такой машине работать?
Механик уверенно сплюнул сквозь зубы:
— Золото, а не машина! Каждая шестереночка пригнана до миллиметра, сталь везде отменная, я уж смотрел. Если будете за этой красавицей ухаживать, смазочку ей давать и прочее, она вас и сыновей ваших переживет.
Обрадованный Дмитрий Данилович расплатился с механиком и повернулся к Андрею:
— Запрягай…
В Огнищанку ехали медленно — впереди, на двуколке, Роман с Федей, а сзади, на косилке, Андрей с отцом. Дмитрию Даниловичу не терпелось попробовать косилку в работе, но он понимал, что для этого необходима остановка: протереть и вставить нож, удалить лишнее масло из прорезей пальцев. Поэтому он отогнал от себя соблазнительное желание запустить лобогрейку в чужой высокий ячмень.
У самой Огнищанки, на холме, встретили Антона Агаповича Терпужного и Тимоху Шелюгина. Они стояли на меже, придерживая в поводу разнузданных коней.
— Остановись возле них, — сказал Дмитрий Данилович Андрею.
Когда Андрей придержал кобылиц, Дмитрий Данилович сошел с сиденья, важно отряхнул пыль с рубашки и, шагая вразвалку, подошел к мужикам:
— Здорово, соседи!
— Доброго здоровья, Митрий Данилович!
— С прибавлением хозяйства вас, Данилыч! Машиненка славная, абы только землица для нее хлеб рожала.
И у Шелюгина и у Терпужного были свои косилки, но старые, растрепанные. Они с явной завистью любовались новехонькой радужной лобогрейкой Ставровых.
— Не миновать тебе, фершал, кулацкого списка! — не без злорадства сказал Терпужный. — Я уж, помнится, говорил с тобою на этот счет. Запишут тебя в кулаки, как бог свят, и слова сказать не дадут.
Сбивая кнутовищем одуванчики на меже, Антон Агапович заговорил пасмурно:
— У нас ведь как это делается? Вот ты, к примеру, стал жить справно, конячат выходил, коровки у тебя есть, ни одна десятина земли не пустует. Сейчас ты косилку купил, а на тот год, ежели земля уродит, триер себе купишь или же племенного бугая заведешь. Чего ж ты думаешь, грамоту похвальную тебе дадут за это? Дожидайся! Поглядят на твое хозяйство и скажут: «Гражданин Ставров зажиточный кулак, и разговор с ним должен быть как с врагом Советской власти».
Дмитрий Данилович недовольно поморщился:
— Зря вы это говорите! У меня даже хаты своей нет, в конфискованном доме живу. Батраков не держу, бедняцкую землю не арендую. Какой же я, к черту, кулак?
— Об этом тебя спрашивать не станут, — упрямо сказал Терпужный. — Они уж наговорят. Родных твоих сынов батраками назовут. У меня ж отобрали приемного сына и еще обвинение сделали, что я под видом сына батрака держал.
Тимоха Шелюгин не вмешивался в разговор. Он молча оглаживал ладонью колесо косилки, и с его красивого загорелого лица не сходила задумчивая улыбка.
— Ничего, Данилыч, — сказал он напоследок, — бог, как говорится, не без милости. Косилку ты купил за свои трудовые копейки, никого не ограбил, — значит, бояться тебе нечего, никто тебя пальцем не тронет.
Хотя разговор с Терпужным на некоторое время омрачил настроение Ставрова, он забыл об этом разговоре, домой приехал веселый и радостный и еще в воротах закричал жене:
— Встречай нас хлебом-солью! Не видишь разве, какую мы красавицу привезли? Она нам раз в десять труд облегчит!
В тот же день Дмитрий Данилович заставил сыновей построить сарай для косилки. Дерева у него под руками не было, он полез на крышу полуразрушенной барской конюшни и стал пилить обтянутые паутиной стропила и скатывать бревна вниз.
— Вкапывайте их на тех метках, которые я поделал, да землю трамбуйте хорошенько, чтоб столбы стояли намертво! — кричал он сыновьям.
Столбы обшили снятыми с крыши конюшни досками, из таких же досок сделали широкую дверь.
— Вот и хорошо, — сказал Дмитрий Данилович. — Теперь косилка не будет стоять под открытым небом.
Андрей и Федя ничего не ответили, а Роман осмелился сказать:
— Как бы нас не стукнули за конюшню! Она не наша, а мы взяли да разобрали часть крыши и стропила спилили.
— Конюшня помещичья, — буркнул Дмитрий Данилович, — сейчас она никому не нужна, такая громадина.
— А за кем она числится?
— За волисполкомом.
— Значит, и надо было сперва взять разрешение в волисполкоме, а потом ломать, — сказал Роман.
— Не твое дело! — вспылил Дмитрий Данилович. — Умный нашелся! Сам знаю, у кого надо разрешение брать. — И, подумав, добавил мягче: — Завтра схожу к Длугачу и попрошу его, чтобы оформил разрешение на столбы и на доски.
Он действительно пошел в сельсовет, говорил с Длугачем. Тот почесал карандашом бровь, посмотрел на Дмитрия Даниловича.
— Тут надо бы все сделать по-другому.
— Как — по-другому?
— А вот так. Ты, к примеру, хату себе строить не собираешься? Не век же тебе в барском дому жить, пора своим подворьем обзаводиться.
— Я бы построился, да где сейчас лесу возьмешь? И потом, на постройку деньжат надо собрать.
Длугач поиграл карандашом:
— У меня, фершал, такая думка. От Рауха остались всякие там службы — конюшня, овчарня, — конечно, ежели бы у нас в Огнищанке коммуну организовать, нам это все сгодилась бы, а поскольку коммуной тут пока не пахнет, нам эти помещения ни к чему. Вот мне и сдается, что волисполком разрешит продать конюшню на слом по сходной цене, она все одно разрушается. Ты тоже мог бы купить половину, скажем, конюшни и построить себе хату.
— Если разрешат, я, конечно, куплю, отчего ж не купить, — сказал Дмитрий Данилович. — Только мне хотелось бы заплатить сейчас за взятые мною доски, чтобы не было лишних разговоров.
Длугач пожал плечами:
— Ничего не могу сделать. Ежели волисполком разрешит продажу конюшни, а ты купишь половину, то мы тебе и доски в общую сумму приплюсуем.
Прощаясь с Дмитрием Даниловичем, Длугач счел нужным предупредить фельдшера:
— В общем же и целом я тебе не советую самовольно мудровать там. Это пахнет расхищением государственного имущества. Ясно? А ты сам понимаешь, что мы расхитителей не поощряем и премий им за эти дела не выдаем…
Хотя Ставров и не уладил дело с лесом, он решил, что бояться ему нечего, так как председатель сельсовета знает о бревнах и досках. Впрочем, думать о каких-то там старых досках не оставалось времени, надо было готовиться к жатве.
У огнищан подходила страдная пора. Хлеба созрели, зазолотились вокруг деревни широким морем. Дни стояли ясные, жаркие. Зерно в колосе затвердело, стало отливать янтарной желтизной. Пора было начинать уборку озимой пшеницы, ржи, ячменя.
По всей Огнищанке от зари до зари перекатывался звонкий перестук молотков — старики отбивали косы. Каждый усаживался на низкую деревянную скамью и, широко раздвинув босые ноги, придерживая левой рукой косу на узком клепале, неторопливо постукивал молотком по косе, то и дело пробуя пальцем стальное острие. Потом молотки сменялись брусками, и в однообразный перестук вливалось тонкое вжиканье — хлеба уродились добрые, косы надо было отточить на славу. И уже в каждом дворе — у Горюновых и у Шабровых, у Терпужных и у Кущиных, у Капитона Тютина и у тетки Лукерьи — ладились грабли, вилы, промывались деревянные баклаги для воды, чинилась и смазывалась дегтем упряжь.
В эти дни по Огнищанке бродила нищая странница с горбатым мальчишкой-поводырем. Одетая в рваную ветошь, увешанная сумками, она поводила белками невидящих глаз, стучала посохом в калитки и пела гнусавым речитативом:
Когда бога Исуса Креста распинали И кровь его святую проливали, Голос его мученский люди все слыхали: — Изберу я плоть пречистую, Приму я распятый крест, В рученьки и в ноженьки гвозди острые…Странница склоняла голову, вслушивалась, не идет ли кто к калитке, подталкивала поводыря и закапчивала слезливо:
Поточу я кровь свою горячую. И станут убогие ко мне приходить, Они узы станут с меня снимать И денежку десятую богу отдавать…Женщины вслушивались в жалостную песню, подавали страннице хлеб, сало, деньги, просили помолиться за них. Странница благодарила, обещала молиться за всех и шла дальше.
Ночевала она у тетки Лукерьи. Мальчишку-поводыря уложила на соломе, за печкой, а сама, сидя на полу, стала жаловаться набившимся в хату огнищанским старухам:
— Забыли люди бога скрозь, иконы повыбросили, детей не крестят и молитвам не учат. Стыд и срам глядеть на такое! Стриженые девки уходят к парням без венчания — под каждым кустом венчаются, прости господи, как собаки. Помрет человек — его без попа хоронят, несут на кладбище с флажками, с музыкой, чуть ли не пляшут над гробом усопшего…
— Правда, бабуся, ох, правда! — вздыхали старухи. — Грех это все, и господь не простит людям такого греха. Святых мы не почитаем, в церкву не ходим, в праздничные дни работаем, будто нехристи…
Слепая странница косила мутные глаза, всхлипывала.
— Проклянет господь бог род людской. Слыхали небось, что в писании сказано: ежели, мол, не слухаешь бога твоего, прокляты во граде и на селе, прокляты житницы твои и исчадия утробы твоей, стада овец твоих и земля твоя… пошлет тебе господь скудость и поразит ветром тлетворным, и враг поест скотов твоих и не оставит тебе ни пшеницы, ни скота… Так оно и сбывается по писанию…
Никто из огнищан не знал, откуда взялась слепая странница. К утру она исчезла вместе со своим горбатеньким мальчишкой-поводырем, но вреда наделала немало. Как раз в эту пору поспели хлеба, надо было начинать жатву, потому что погода стояла сухая и жаркая, а тут через каждые два-три дня наступали праздники: архангела Гавриила, Кирика и Улиты, Мокрины Мокрой, пророка Ильи, Марии-Магдалины, Бориса и Глеба, святого Пантелеймона — и так до самого конца месяца. Раньше огнищане отдавали дань только Гавриилу да Илье, как более крупным по рангу святым, а в остальные дни работали. Так решили поступить и в этом году. Но старухи завопили дурным голосом:
— Никуда мы не пойдем и детей не пустим!
— Хватит нам этого беспутства!
— И так господь карает нас, а тут еще вы, антихристы окаянные, бога вовсе забыли, будто назло все делаете!
— Нехай Илюшка Длугач выходит в поле, ежели ему, сатане, это по нутру, а мы не пойдем и скотину не дадим.
— Шибко грамотные все стали, идолы проклятые!
По всей Огнищанке стоял истошный бабий вой. С криком размахивала скалкой Акулина, жена Акима Турчака, пронзительно верещала злая Шабриха, плакала бабка Олька, нудно гудела Мануйловна, причитала тетка Арина Терпужная.
— Тьфу, дуры безмозглые! — отплевывались мужики. — Как, скажи ты, перебесились все или овод их перекусал…
Илья Длугач попытался утихомирить баб, вышел вечером на улицу и остановился возле ворот Павла Терпужного, где, усевшись в ряд на длинной колоде, судачили самые языкатые сторонницы святых.
— Чего это вы надумали? — усмехаясь спросил Длугач. — Святым будете почет и уважение оказывать, а зернишко ваше на землю посыплется? Что ж, вы его потом выклевывать будете из земли или как?
Тетка Арина смерила председателя уничтожающим взглядом, с выражением обиды поджала тонкие губы:
— Наши поля — наша и справа. Будем мы убирать хлеб или же не будем — наше дело. Ты нам не указчик.
— Я не собираюсь, представьте себе, вам указывать, — пошел в обход Длугач. — А только ежели думать по-хозяйски, то надо сделать такой вывод. Гавриле-архангелу и моему святому, Илье-пророку, можно, допустим, снисхождение оказать, не выходить в поле: все же они как-никак по своей должности равняются командиру батальона или даже полка — один всей небесной связью заведует, а другой командует артиллерией. Ну а остальная мелочь? Всякие там Кирики, Мокрины-Магдалины и прочая мура? Ежели еще из-за них дома отсиживаться, то можно вовсе без хлеба остаться и государство подвести под монастырь.
— Мы, милый человек, сами себе хозяева, и ты нам в ухо не гуди, — отрезала Мануйловна. — Сказано тебе один раз: в праздничный день никто в поле не пойдет — и все…
Как ни пытался Длугач уговорить упрямых баб, как ни стыдил мужиков, у него ничего не вышло. Бабы ругались, а мужики только вздыхали и отворачивались: что, мол, поделаешь с этими дурноголовыми!
— Выходите в поле без женщин, — сделал последнюю попытку Длугач. — Берите косы и косите. Ясно? А они нехай молятся своим святым. Есть же у вас преимущество перед бабами! Вы же передовые люди, а бабы — элемент отсталый и политически и умственно, у них по диалектике природы одной клепки не хватает.
— Оно-то косить не штука, — Демид Кущин почесал затылок, — а кто за тобой снопы вязать будет? Никто? Вот и получится так, что розвязь в поле сутки полежит, а потом только дотронься до нее рукою — и ни одного зерна не останется…
Тринадцатого июля, в день архангела Гавриила, в поле собрались только Ставровы, Демид Плахотин с Ганей и Длугач. Однако утром, перед выездом, произошел казус, который приятно удивил Длугача. Как только он, неся на плече косу, поравнялся с домом Шабровых, до его слуха донесся крик Шабрихи и громыхание упавшего на землю пустого ведра. Из ворот, медленно затягивая косынку, вышла босая Лизавета. Следом за ней пробежала разъяренная Шабриха, но Лизавета только повернулась к матери, сверкнула черными глазами и сказала Длугачу:
— Жинка ваша болеет, одному работать несручно, я буду вязать за вами снопы. А если, может, вам не нужно, то я другому кому помогу…
— Нет, чего же, пойдем, Лиза, — сказал Длугач. — Только вот матерь твоя вроде недовольна.
Лизавета нахмурилась, повела плечом:
— Ну их… Они и так всю мою жизнь в грязюку затоптали…
Сбежал из дому и Колька Турчак, решив, что ему, как завтрашнему комсомольцу, не к лицу праздновать архангела Гавриила. Колька огородами выбрался за кладбище и рысью рванул в поле.
Ставровы выехали на заре. Впервые в жизни они собрались косить пшеницу собственной лобогрейкой, и потому настроение было торжественное. На опушке остановились, вкопали в холодную землю баклагу с водой, накрыли рядном кастрюли и котелки с харчами. Взяв косу, Дмитрий Данилович стал делать прокос на меже, чтоб дать ход лошадям. Все остальные, один перед другим подбирая розвязь, зажимая локтем концы пшеничных стеблей и связывая колосья тугими жгутами, начали крутить перевясла.
Наконец прокосы были сделаны. Дмитрий Данилович взял вилы с косо обрезанными зубьями, сел на заднее сиденье лобогрейки и скомандовал Андрею:
— Давай помаленьку! В добрый час!
Андрей подобрал вожжи, взмахнул кнутом. Три кобылы, дружно и ровно натягивая постромки, с места взяли резвым, размашистым шагом. Застрекотал, забегал в прорезях металлических пальцев острый нож косилки, завертелись, подворачивая пшеницу навстречу ножу, красные крылья. А следом по длинному ряду сброшенных с косилки валков пшеницы, сгибаясь, приминая коленями затянутые перевяслами снопы, торопливо пошли вязальщики — Настасья Мартыновна, Тая, Каля и Роман с Федором.
Восседая на высоком переднем сиденье, Андрей первый увидел меж густыми кронами старых деревьев рдяный круг солнца. На округлых крупах коней забелели натеки взбитого упряжью мыла, остро запахло конским потом, потянуло влажным запахом скошенного хлеба.
Рядом, за отмеченной сизой полынью межой, косил Илья Длугач. Его белая рубаха взмокрела, и даже на полинялых защитных штанах галифе виднелся темный накрап проступившего пота. Илья плавно, размеренными движениями, поднимал косу, широким полудужьем срезал густую пшеницу и наклоном прикрепленных к косе легких грабелек укладывал розвязь ровным рядком — стебель в стебель.
Лизавета не отставала от него ни на шаг. Высоко подоткнув юбку, ловко перебирая руками перевясла, она связывала сноп за снопом и еще успевала укладывать снопы в суслоны.
— Прямо черт, а не девка! — восхитился Дмитрий Данилович. — Все горит у нее в руках…
Настороженно оглядываясь, из леса вышел Колька Турчак. Он постоял на опушке, потом прошагал к полю Ставровых, стащил пиджак и сказал Тае и Кале:
— Вы подавайте мне перевясла, а я буду вязать. Ну их, этих святых лодырей, с их архангелом! Плевал я на архангела! Мне комсомол дороже…
Когда солнце поднялось над лесом и высохла роса, к Ставровым подошли Длугач с Лизаветой.
— Давайте шабашить, — сказал Длугач. — Вон уже мой наследник по дороге смалит, харч батьке несет.
По проселку, до пояса скрытый высокой пшеницей, бежал Лаврик с белым узелком под мышкой.
Ставровские ребята выпрягли коней, пустили их в лес и сошлись у телеги, возле которой, расстелив рядно, уже хозяйничала Настасья Мартыновна.
Вокруг рядна по-соседски уселись все вместе. Даже Лизавета и та сняла косынку, вытерла мокрое лицо, шею и, вытянув босые ноги, села рядом с Таей. Андрей изредка бросал на Лизавету короткие взгляды и тотчас же отворачивался. Его радовало, что презираемая всеми «ведьмина дочка» стала помаленьку приходить в себя, показываться на улице, а сегодня, вопреки запрету матери, вышла в поле.
Завтракали молча, жевали затвердевшее сало, хрустели малосольными огурцами, то и дело тянулись с кружками к баклаге. Девчонки угостили застенчивого Лаврика сладкими пышками с творогом и зашептали тихонько:
— Смотри, как Лаврик поправился!
— Белый какой стал, чистый…
— И все к дяде Илье тянется…
Длугач, поглаживая коротко остриженную голову Лаврика, проговорил с сердцем:
— Не могу я простить этой нашей деревенской дурости. Солнце палит вовсю, не сегодня завтра зерно посыплется, а они, варвары, Гавриле своему поклоны бьют, милости у него просят. Хоть бы для смеху кто в поле вышел да на пшеницу поглядел.
— Вот там кто-то идет, — сказала Каля, прикладывая ладонь к глазам.
Федя приподнялся на колени:
— Это дед Силыч, он и косу несет на плечах.
Дед подошел к телеге, снял шапку:
— Помогай бог!
— Спасибо, — отозвался Длугач и подморгнул Дмитрию Даниловичу. — А ты, дед, как же с архангелом помирился? Не накажет он тебя, случаем, за твое своевольство? Разве ж сегодня работать можно?
Силыч хитровато шевельнул бровью:
— С архангелом, голуба моя, у меня полная договоренность. Я с утра помолился ему честь по чести, а потом заявил: так, мол, и так, у тебя на небесах свои дела, а у меня тут свои, и нечего нам с тобой лясы точить, давай я управлю коровок, подгоню их на тырло, а сам трошки косой помахаю.
— Что ж архангел? — усмехнулся Длугач. — Выдал разрешение?
— А то как же! «Валяй, — говорит, — Иван Силыч, у меня никаких препятствий не имеется, коси себе на здоровье».
Все засмеялись. Длугач повернулся к Кольке Турчаку, подтолкнул его локтем:
— Слыхал, комсомолец? Даю тебе от имени партии и Советской власти ответственное задание — раз дед Колосков такой бесстрашный и от самого архангела Гавриила резолюцию имеет, ты не крутись тут промеж девчат Ставровых, а ступай герою-одиночке подмогни, повяжи за ним снопы. Ясно?
— Ясно, товарищ начальник, — ответил польщенный Колька, благодарный Длугачу за то, что тот при всех назвал его комсомольцем. — Снопики у деда будут повязаны, как куклы…
После завтрака Дмитрий Данилович сказал Андрею:
— Ну-ка, бери вилы и садись на косилку, поглядим, какой из тебя скидальщик получится. А Федя возьмет вожжи.
Андрей с гордостью взял вилы. Тут, сбоку, стоят Лизавета, Тая, соседи, братья. Все они прекрасно понимают, что скидальщиком на косилке может быть только взрослый, сильный мужчина. Что ж, Андрею недавно исполнилось восемнадцать лет, он вполне может доказать, что скидальщик из него выйдет настоящий, такой, что отца за пояс заткнет! Пожалуйста, пусть полюбуются девчата и все, кто есть в поле!
Подкатав рукава рубашки, Андрей усаживается на прогретое горячим солнцем сиденье, сразу находит место исцарапанным стерней босым ногам — левую вытягивает вперед, а правую поджимает, — прицеливается глазом, определяя расстояние до неподвижного пока ножа.
— Пошел! — кричит он брату.
Косилка вздрагивает. Навстречу золотисто-желтым морем плывет высокая, густая пшеница. Остроносые пальцы косилки входят в нее, как гребень в волосы, мгновенно разделяют стебли, крыло мотовила пригибает пшеницу навстречу ножу, стрекочущий нож срезает стебли с тяжелым колосом, и они, увлекаемые крылом, валятся на горячую площадку.
Андрей взмахивает вилами, подгребает пшеницу к левой стороне площадки, потом до боли напрягает все тело и одним рывком сбрасывает тяжелый валок на щетинистую стерню. Андрей знает, что валки должны сбрасываться на одинаковом расстоянии, должны лежать ровно, один против другого, и потому соразмеряет, отсчитывает каждое движение: один взмах вилами справа налево, второй такой же взмах, третий и, наконец, последний, самый трудный — назад. Валок сброшен. Один… два… три… назад… Один… два… три… назад… Ох как это тяжело! Кажется, что у тебя внутри все обрывается и ты сам вот-вот свалишься с косилки на землю.
Горько-соленый пот слепит Андрею глаза, заливает полуоткрытый рот, течет по шее, по спине, по ногам. Хотя бы маленькая остановка, чтобы вздохнуть всей грудью, вытереть рубашкой глаза! Нет, кони шагают, обмахиваясь хвостами, неумолчно стрекочет нож, в один красный круг слились крылья, а пшеница наплывает и наплывает, валится, срезанная, на раскаленную площадку. Ее надо сбрасывать… Один… два… три… назад… Один… два… три… назад…
Выпорхнет из-под конских копыт испуганный перепел, напорется на сыпучий холмик кротовины стальной гребень косилки, споткнется на суслячьей норе усталый конь, и снова маячит перед глазами, нескончаемо плывет духовитое море пшеницы, снова, слитые в мерцающий круг, бешено вертятся крылья и валятся отягощенные колосьями, остро пахнущие хлебной пыльцой стебли.
Андрею уже совсем невмоготу. Ему кажется, что кто-то кинул его в пылающую печь, из которой нет выхода. Но, повинуясь движению косилки, он все взмахивает вилами, наклоняет мокрое, горячее тело то вправо, то влево, и на чистой, ровно подрезанной стерне растут ряды тяжелых, туго увязанных пшеничных снопов.
— Молодец! — одобрительно говорит дед Силыч. — Настоящий мужик!
3
Да будет благословен труд на земле! Труд сделал человека человеком. Труд поднял человека на ноги, укрепил его руки, усовершенствовал его изумительный мозг, это чудо живой природы. Все, что тысячелетиями создавалось на земле — от каменного топора до микроскопа, от первого лемеха до Эйфелевой башни, — создано трудом. И как же должен быть счастлив человек, если он умеет и любит пахать, сеять зерно, добывать уголь, руду, водить паровозы, обтачивать послушный металл! И каким немощным и никчемным кажется тот, кто никогда не держал в руках ни серпа, ни резца, кто не радовался плодам труда своего и рос, не пуская глубоких корней, хилый, как тепличный цветок!
Только труд приносит человеку счастье, удлиняет его короткую жизнь, дает уверенность в том, что потомки ушедшего, пользуясь тем, что создано им при жизни, помянут его добрым словом и назовут творцом…
Все лето огнищане работали не покладая рук. Несмотря на то что, подчиняясь старой привычке, многие из них чуть не каждого святого отмечали вынужденным бездельем, даже и эти, стараясь наверстать упущенное, выезжали в поле по ночам, косили, выкладывали скирды на токах, молотили при фонарях, лущили стерню, готовили нивы под новый посев.
В какой бы час дня или ночи не выходил Андрей со двора, он всегда видел или слышал людскую работу: то за хатой Петра Кущина гулко стучала веялка и неторопливая, беременная вторым ребенком Мотя, опустившись на колени и оберегая живот, выгребала из-под веялки чистую, с сизым отливом рожь; то Антошка и Васка Шабровы, пристроившись в тени глинобитной землянки, теребили горох; то за холмом, где-то у Казенного леса, монотонно повизгивали несмазанные колеса плуга, и все знали, что это Капитон Тютин, выпросив у Павла Терпужного лошадь, пашет на склоне свою полоску. Разные звуки — гул молотилки, скрип телег, глухое постукивание палок о пересохшие шляпки подсолнухов, шуршащий шелест зерна на постеленном кем-то рядне — говорили об одном: о неустанном человеческом труде.
Андрей настолько втянулся за лето в работу, что почти перестал замечать время суток: то пахал при луне убранное поле под лесом, то ходил с Романом и Федей на отработки — молотить огнищанам хлеб, то ломал кукурузу с Таей и Калей, то купал у колодца коней и коров. Руки его огрубели, покрылись шрамами и ссадинами. Мозоли на ладонях вначале лопались, кровоточили так, что трудно было сводить пальцы, а потом, распространяясь на всю ладонь, затвердели, покрылись толстой броней омертвевшей кожи. Оттого и руки у Андрея стали жесткими и шершавыми, как чугун.
На это не стоило обращать внимание. Такие же руки были у Романа, у Феди, у Таи с Калей, у всех огнищан. Правда, девчонки, как все огнищанские щеголихи, мазали лица и ладони сметаной, чтобы смягчить кожу, но толку от таких косметических операций не было, разве только запах от девчонок шел как от молочных крынок.
Однако, как ни уставала огнищанская молодежь от тяжелой работы, в любой свободный вечер возле дома Шабровых или Терпужных сходились девчата, и тотчас же где-нибудь поблизости появлялась ватага парней, и уже голос здоровенного Трофима Лубяного выводил протяжно:
Ой, да скатилася звезда-зорька с неба и упала-а над водой…Под скирдой парни подсаживались к девчатам, вместе пели, смеялись, рассказывали о чем-нибудь страшном: как за Волчьей Падью бандитов ловили, как ветхому деду Левону на кладбище привиделся его давно умерший отец… В деревне гасли огни, наступала тишина, и усталые от дневной работы парни мирно засыпали, прислонившись чубатыми головами к теплым девичьим плечам.
Андрей любил эти тихие огнищанские посиделки после тяжелой дневной работы. Наскоро помывшись, он шел к парням, пел с ними, подсаживался то к молчаливой Тане Терпужной, то к Васке Шабровой. Но его никогда не покидала мысль о Еле. Он знал, что Еля окончила школу, что она уезжает с отцом и матерью в далекий губернский город, и ему казалось, что он никогда не увидит ее. Бередя себе душу, растравливая себя, он вспоминал первое знакомство с Елей в школе, прогулку в лесу, встречи в душной комнатушке Любы Бутыриной. Он не спрашивал себя, что такое любовь, и не пытался понять, почему его так тянет к Еле. Но засыпал и просыпался с мыслью о ней. Собственно, это даже нельзя было назвать мыслью — просто перед Андреем всегда неотступно стоял образ Ели, даже в те минуты, когда вокруг были люди. И уже не раз многие замечали, что, говоря с кем-нибудь или подпевая на улице парням, Андрей вдруг обрывал разговор или песню на полуслове, умолкал, и его голубые глаза темнели, становились чужими и далекими. А он в эту пору переставал видеть и слышать все окружающее, останавливал затуманенный взгляд на одной какой-нибудь точке и видел только Елю. И чем дальше шло время, тем чаще Андрей стал избегать товарищей, с тем большей охотой уходил в поле.
Там, отбив первую, трудную борозду, он пускал коней неторопливым шагом, а сам, придерживая ручку плуга, шел сзади. Он не столько видел, сколько чувствовал, что в светлом створе пролегших над горизонтом облаков светит слабо греющее солнце, что корявые вязы на лесной опушке уже начинают ронять тронутые ранней желтизной листья, а бесконечные провода телеграфных столбов, точно бисером, усыпаны вереницами отлетающих на юг ласточек. Где-то в стороне, за пределами зрения, он чувствовал дымок костра на дальней меже, горделивое парение коршуна над пашнями, бездумно вдыхал пьянящий запах только что отвернутой плужным отвалом земли. Шагая вдоль борозды, Андрей почти бессознательно отмечал все это, видел же он только Елю.
Еля легко являлась к нему. Помахивая шарфиком, проходила сквозь розовеющие края облаков; опустившись на колени, выкапывала несуществующие ландыши на лесной поляне; в белой кофточке и короткой синей юбке скользила по заросшему бурьяном промежку и исчезала за холмом. Зимой она носила шапочку, темное пальто и сапожки, черный материнский шарф и плащ с откинутым на спину капюшоном — осенью, белые и розовые, как полевые цветы, платья — летом. Андрей перебирал в памяти тонкие кофточки Ели, туфли, ленты в волосах и с некоторой обидой и удивлением говорил себе: «У нее все не такое, как у наших огнищанских девчат. Наши с весны до осени босиком ходят, зимой солдатские стеганки надевают. Эта же дочка рабочего, а наряжена, как барышня…»
Он попытался представить Елю босиком, в потертом, застиранном платке и чуть не опрокинул плуг от восторга: она показалась ему в воображении еще лучше, еще милее и краше. Подоткнув юбку, чуть склонив, как это делала она всегда, голову набок, быстро перебирая стройными ногами, Еля шла совсем рядом с ним по борозде, и от нее пахло молодыми травами и дождем…
Этого состояния Андрея никто не замечал. В деревне все были заняты своим делом, и ни у кого не было времени разгадывать, почему старший из братьев Ставровых заскучал и стал уединяться. Только Тая, украдкой следя за Андреем, поняла сразу, что с ним что-то происходит. Однажды вечером, когда они вдвоем огребали разметанный телятами стог сена, Тая спросила, отводя глаза:
— Тебе скучно, Андрюша?
— С чего ты это взяла? — ответил Андрей, передернув плечами.
— Так мне кажется.
— Мало ли что кому кажется!
За последний год Тая выросла, в голосе у нее появились новые, требовательные нотки, а сама она казалась еще тоньше и гибче.
— Все-таки я вижу, что ты скучаешь, — настойчиво повторила Тая, подбрасывая граблями последний клок затоптанного в землю сена.
— Болтаешь сама не знаешь что! — рассердился Андрей.
— Нет, правда, скажи мне…
Она подошла так близко к Андрею, что он увидел, как повлажнели ее темные глаза, а рука, держащая грабли, задрожала.
— Отстань! — проговорил Андрей. — Мне надо идти за лошадьми.
— А где они?
— Аж возле Пенькового леса.
Тая прислонила грабли к стогу:
— Давай я с тобой пойду.
— Зачем? — удивился Андрей. — Ступай помоги Кале доить коров.
Тонкие брови Таи сошлись у переносицы.
— Каля сама подоит, а я пойду с тобой. Мне хочется, чтоб ты поучил меня ездить верхом, как тогда… Ты должен помнить…
Она не сказала, что должен помнить Андрей, но он сразу понял: Тая намекает на его мальчишеский поцелуй два года назад, когда они вдвоем мчались на коне и он, озоруя, чмокнул ее в горячую шею.
— Отстань, Тайка! — насупился Андрей. — Ничего я не помню, и ты никуда не пойдешь.
Тая опустила ресницы:
— Как хочешь…
За лошадьми Андрей пошел один, позванивая переброшенными через плечо уздечками, и, как только взобрался на холм и увидел предвечернюю синеву полей, снова стал думать о Еле. А Тая долго еще стояла у стога, покусывала горьковатую былинку и смотрела вслед Андрею, пока он не скрылся из глаз. Мерклый закат тускнел, его желтоватая полоса потонула в неярких багряных тонах, но жидкие отсветы еще виднелись на вершине ближнего холма. Потом очертания холма растаяли, слились с темным беззвездным небом…
Дни ранней осени походят один на другой. С утра над полями висит однообразно-серая пелена слоистых облаков, сквозь которые солнце угадывается как размытое пятно. Иногда ночью, невидимая, беззвучная, упадет на темные пахоти влажная морось, исчезнет ветер, а к рассвету в полях стоит ничем не потревоженная тишина. Если же в полдень или в предвечерье скудный солнечный луч прорвет облачную пелену и озарит землю ровным, мягким светом, на сломанных стеблях подсолнухов, на поникших кукурузных бодыльях, на колючих ветвях обронившего листья терновника видны тонкие, чуть заметно реющие в неподвижном воздухе нити паутины.
В один из таких тихих осенних дней Андрей допахивал в Солонцовой балке поле под зябь. Ему осталось сделать два-три захода, и он уже предвкушал удовольствие хорошо отдохнуть. Докурив папиросу, он почистил плуг и уже хотел было завести его в борозду, но вдруг увидел на вершине холма торопливо идущего к нему человека. Андрею показалось, что это Роман. Он присмотрелся — нет, на Романа не похож. «Кто бы это мог быть?» — подумал Андрей и узнал Гошку Комарова.
— Здоро-о-во, рыжий! — издали закричал Гошка.
Андрей любил этого неунывающего круглолицего парня с его вечно смеющимися глазами, густыми веснушками на носу и выпяченной губой. Андрею говорили, что после окончания пустопольской школы Гошка никуда не поступил, а отсиживался в Калинкине, где его недавно овдовевшая мать арендовала маленькую паровую мельницу. Сейчас, одетый в праздничные серые брюки и сиреневую рубашку с подвернутыми рукавами, Гошка вприпрыжку бежал к Андрею и, по-шутовски размахивая руками, орал:
— Привет трудолюбивому пахарю!
Осторожно, чтобы не испачкать разутюженную рубашку, Гошка обнял Андрея, покосился на его запыленные босые ноги, важно щелкнул никелированным портсигаром.
— А я был у тебя дома, — безуспешно пряча улыбку, сказал он. — Сегодня суббота, дай, думаю, проведаю рыжего: как он там? Ну, пришел, а мне говорят: твой рыжий трудится, дескать, поле допахивает в Солонцовой балке…
Они закурили, сели — Андрей на землю, а Гошка на грядиль плуга, подстелив сначала носовой платок.
— Ну а ты как? — спросил Андрей.
— Лучше всех. Учетчиком стал на мельнице. Бегаю с блокнотом да записываю, кто сколько зерна мелет, чтобы свои фунты за помол взять. Весело! Целый день, как клоун, весь в муке, и нос забит отрубями так, что чихать хочется.
— Действительно, весело! — усмехнулся Андрей.
— Еще бы!
— А Клава как?
Гошка прищурил светло-карий глаз:
— И Клава дома, куда ж она денется? Больше тебя никто не интересует? Если интересует, спрашивай.
Андрей знал, что Клава переписывается с Елей, и ждал, что Гошка, зная о его любви, и сам скажет о Еле. Но тот выжидающе молчал, только губы его дрожали от нетерпения и прищуренный глаз издевательски искрился.
— Что Еля пишет? — как можно более равнодушно спросил Андрей.
Гошкины плечи затряслись от смеха.
— Какая Еля?
— Ну не валяй дурака!
— Еля Солодова?
— Да-да, Еля Солодова!
Не скрывая торжества, Гошка поднялся с плуга:
— Дорогой мой пахарь! Заканчивай свою пахоту, садись на коня и галопом скачи домой. Еля Солодова у тебя дома.
— Ты что? — Андрей угрожающе приподнялся с земли. — Зубы скалить сюда пришел?
— Честное слово! — сказал Гошка и попятился. — Не верит, чудак! Они все — и Платон Иванович, и Марфа Васильевна, и Еля — вчера приехали к нам в Калинкино. Они уезжают в город, уже все вещи отправили из Пустополья. У нас мерин захромал, а Солодовых надо везти в Покрестово, к поезду. Твой отец был на мельнице, увидел Платона Ивановича и говорит: «Поедемте к нам в Огнищанку, погостите денек-другой, а на станцию я вас сам отвезу». Они сели да и поехали.
— И Еля? — недоверчиво спросил Андрей.
— И Еля, конечно, и мы с Клавой.
— Где же они сейчас?
— Тьфу, обормот какой! — рассердился Гошка. — Я же тебе русским языком говорю: Еля с отцом и матерью у вас дома. Допахивай свое дурацкое поле, и пошли домой!
Андрей уже не помнил, как, торопясь, понукая коней и оставляя огрехи, он допахал узкую полоску, кликнул бродившего неподалеку Гошку, перевернул плуг и поехал домой. Он поглядывал на щеголеватого товарища, и ему было стыдно за свою залатанную на локтях и коленях, полинялую солдатскую одежду, за покрытые ссадинами босые ноги, за исполосованные подтеками пота и пыли руки.
«Черт с ней! — злился Андрей. — Пусть эта барышня полюбит меня таким, какой я есть, в драных штанах. А не полюбит — и не надо».
Так он думал, а сам, не обращая внимания на запыхавшегося Гошку, все прибавлял шаг и повторял про себя: «Елочка, милая Елочка… Хоть бы раз еще увидеть тебя, а там будь что будет…»
Дома его встретили шумной ватагой Еля, Клава, братья, сестра. Они стояли вокруг наполненной дождевой водой бочки. Роман держал в руках новые черные галифе и кремовую косоворотку. Федя — начищенные сапоги. Каля — полотенце с мылом. Только Таи не было видно.
— Беги переодевайся! — закричал Роман.
— Пусть сначала умоется…
— Снимай гимнастерку, бери мыло!
Еля, одетая в белое платье, с легким смущением теребила на переброшенной через плечо косе лиловый бант и, посматривая на Андрея, улыбалась. Да, она была такой же, какою виделась Андрею всегда: красивая, с нежным румянцем на щеках, с быстрым взглядом светло-серых внимательных глаз, с открытым чистым лбом и капризным подбородком. Но в то же время — Андрей мгновенно понял это — она стала немножко другой, более взрослой. Исчезли угловатые движения подростка, бедра и плечи округлились, а тонкая ткань легкого летнего платья туго обтягивала высокую грудь.
— Идите, девочки, я быстренько помоюсь, а потом уж буду со всеми здороваться, — сказал Андрей, расстегивая ворот гимнастерки.
Когда все ушли, Роман с одеждой и полотенцем присел на опрокинутую тачку, посмотрел вслед Еле:
— Вот это да-а…
— Что? — сплевывая мыльную пену, спросил Андрей.
— Как царевна. Так бы и ходил за ней следом.
— Ты же, кажется, уже видел ее в Пустополье?
— Тогда я не рассмотрел ее, а сейчас…
Андрей засмеялся:
— Хороша?
— Я же тебе говорю: царевна, — с непонятной грустью промолвил Роман. — Такие только на картинках бывают…
Как из-под земли выросший Федя хлопнул Андрея по голой спине, опасливо оглянулся и зашипел в ухо:
— Красивее этой Ели нет никого на свете.
— Что вы как сговорились? — поглядывая на братьев, сказал Андрей. — Еще влюбитесь, чего доброго.
Никогда не чувствовал он себя таким счастливым, как в этот тихий осенний день. Холодная, с запахом бочки вода освежила его усталое тело, галифе и косоворотка были разутюжены не хуже, чем у Гошки, хромовые сапоги сверкали. Самое же главное заключалось в том, что здесь, в Огнищанке, была Еля и он мог смотреть на нее, разговаривать с ней, любоваться ею.
Через четверть часа вымытый, с начесанными за левую бровь мокрыми волосами, важно заложив руку за широкий командирский пояс с медной пряжкой, Андрей пошел в комнату, где сидели гости.
— О, какой молодец вымахал! — поднялся, увидев Андрея, Платон Иванович. — Ну подойди сюда, я тебя обниму. — Он слегка подтолкнул локоть стоявшей у окна Ели: — Стань-ка, Елка, рядом с ним, посмотрим, кто из вас выше.
— Я выше, — сказала Еля.
— И совсем нет, — решил заступиться за брата Федя. — Андрюша выше.
Еля вызывающе тряхнула косой, подошла к Андрею, стала рядом, хотела незаметно приподняться на цыпочки, но все увидели ее маневр и дружно засмеялись.
— Надо скамеечку подставить, — пошутил Дмитрий Данилович.
— Как раз по бровь…
Обедали чинно, за двумя сдвинутыми столами, накрытыми новой скатертью. Дмитрий Данилович расщедрился, послал Романа в костинокутскую лавку за водкой и вином, а Настасья Мартыновна, накормив гостей отличным борщом и гусем, выставила незамысловатые деревенские лакомства.
Федя и Каля по приказанию матери долго искали Таю, звали ее, кричали, надрывая горло, но Тая куда-то запропастилась.
— Наверно, к девчонкам пошла, — сказала Настасья Мартыновна. — Пообедаем без нее, семеро одного не ждут…
После обеда старшие уселись вокруг самовара, стали чаевничать, а молодежь отправилась в парк.
Заходило солнце. Ветви редких берез отсвечивали розовым, под ногами шуршали опавшие листья. В терновнике тоненько тинькали синицы. Где-то за парком протяжно мычала корова. Снизу, из деревни, доносился монотонный скрип колодезного журавля. Далеко, на противоположном холме, Трофим Лубяной, допахивая поле, пел песню, и его сильный, звучный голос, точно купаясь в прозрачной синеве уходящего дня, плыл над деревенскими хатами, над садами и дорогами.
— Хорошо у вас тут, — задумчиво сказала Еля.
— Хорошо, — как эхо, отозвался Андрей.
Он глаз не сводил с Ели, шел за ней, не замечая никого, не зная, о чем нужно говорить и как говорить. Чтобы выпутаться из неловкости, он стал показывать Еле и Клаве каждый уголок запущенного, заросшего бурьяном парка, водил их от лужайки к лужайке.
Тем временем Роман, показывая Гошке свое хозяйство, выгнал из коровника голубей и взмахами шеста заставил их взлететь.
Солнце только что зашло, и голуби поднялись нехотя, разрозненной, недружной стаей. Потом белокрылый вертун, любимец Андрея, уходя все выше и выше, увлек стаю за собой и повел вверх. Небо было чистое, густой, ясной синевы, но синева эта сияла опалово-розовым отражением заката и как будто застыла в строгом, торжественном покое. На земле уже не осталось солнечного света, снизу, от деревни, надвигались мягкие сумерки, а там, в вышине, как веселые воздушные огоньки, носились озаренные невидимым солнцем голуби. Одни кувыркались, вертясь через голову, мелькали огненной стружкой; другие описывали плавные круги, парили, подняв косые крылья, как белопарусные лодки в безбрежном океане; третьи взмывали вверх и таяли в глубине неба.
Чуть приоткрыв рот, Еля следила за голубями, и в глазах ее светился такой восторг, что Андрею захотелось кричать от счастья. Он незаметно тронул ее за руку и сказал тихонько:
— Хочешь, я покажу тебе старый орех? Ему, говорят, лет сто…
Еля послушно пошла рядом с ним, все еще поглядывая на голубиную стаю. Они вышли на край парка.
— Вот здесь. — Андрей вытянул руку.
Он зашагал в своих начищенных сапогах напрямик, забыв о зарослях крапивы, а Еля, на которой не было чулок, вскрикнула, схватилась за ветку лещины.
Андрей оглянулся, поднял Елю на руки, вынес на лужайку и пробормотал виновато:
— Прости, пожалуйста, я совсем забыл об этой проклятой крапиве. Сильно обожглась? Покажи…
Наклоняясь, он робко коснулся ладонью ее платья и вдруг, не отдавая себе отчета в том, что делает, повинуясь только одному радостно вспыхнувшему в нем чувству нежности, неловко присел и поцеловал Елино колено.
— Что ты? — испугалась Еля. — Зачем?
Она перегнулась, подолом платья прикрывая ноги, зашептала сердито:
— Встань! Слышишь? Увидят…
— Ну и пусть видят…
Андрей поднялся, сунул руки за пояс, сказал так, точно угрожал Еле:
— Я люблю тебя. Понимаешь? Люблю… Я давно люблю тебя, и ты это знаешь, должна знать…
Щеки Ели заалели.
— Хорошо. Пойдем.
— Никуда я не пойду, — отвернулся Андрей.
— Ах, вот вы где! — раздался в кустах голос Клавы. — А мы искали вас на том краю. Пойдемте, проводите нас с Гошей, а то уже темнеет.
Пока шли по дороге, Андрей молчал. Он брел сзади всех, рассеянно слушал говорливого Гошку, на вопросы, обращенные к нему, отвечал невпопад и потому злился еще больше. На развилке распрощались с Клавой и Гошкой и пошли обратно, любуясь выплывшей из-за холма медно-желтой луной.
Настасья Мартыновна встретила их у ворот и спросила тревожно:
— А Таи разве не было с вами?
— Нет, не было, — ответила Каля.
— Где же она, дрянная девчонка? — всплеснула руками Настасья Мартыновна. — Не обедала до сих пор и домой не являлась. Ступайте поищите ее у Шабровых или Горюновых.
Федя с Калей направились на поиски Таи, Елю проводили в дом, а Андрей с Романом пошли к лошадям.
— Ты веди коней на водопой, а я наношу сена, — сказал Андрей брату.
Он взял корзину, зажег фонарь и полез по лестнице на сеновал. Там, в углу, на попоне, подложив под голову тонкую, с острым локтем руку, спала Тая. Дыхание у нее было неровное, прерывистое, как у детей, когда они поплачут, а потом, устав от слез, засыпают.
Андрей легонько потянул Таю за палец босой ноги:
— Ты зачем сюда забралась, Тайка?
Тая открыла глаза, но не переменила положения, только смотрела на Андрея и хмурилась.
— Что ты тут делаешь? — спросил Андрей.
— Я хотела за тебя наносить сена в конюшню, ты же был занят, — тихо сказала Тая. — Залезла сюда и нечаянно уснула…
— Ладно, слезай. А то тебя ищут по всей деревне, и мать сердится, что ты не обедала.
Ему захотелось как-нибудь приласкать Таю, но он посвистел, посмотрел на мигающую свечу в фонаре и повторил с укоризной:
— Слезай, слезай! Нечего тебе тут делать…
Отряхнув попону, Тая молча полезла вниз.
Часов до одиннадцати, не зажигая лампы, Ставровы с гостями сидели на крыльце. Платон Иванович Солодов курил; огонек папиросы на миг освещал его крепкое, чисто выбритое лицо, потом оно снова пропадало в темноте.
— Сидел я эти пять лет, как барсук в норе, — говорил Платон Иванович, — кусок хлеба своей семье зарабатывал. А получилось так потому, что мне мастерство свое некуда было приложить. Завод, на котором я проработал лет пятнадцать, мертвым стал, даже стены обвалились. Ну, зашел я в свой цех, попрощался с ним через выбитое окно, забрал жену с дочкой и ушел куда глаза глядят, по первой деревенской дороге…
«Хорошо, что эта дорога привела в Пустополье, — подумал Андрей, всматриваясь в бледные неясные звезды и радостно ощущая близость сидевшей рядом с отцом Ели, — хорошо, что так получилось, иначе я не знал бы, что есть на свете Еля, никогда не увидел бы ее».
— Сейчас совсем другое дело, — продолжал Платон Иванович. — Завод наш восстановили. Разве можно мне, мастеру, в деревне отсиживаться да швейные машинки бабам чинить? Нет уж, спасибо за такую честь! Кругом такое делается, что душа не нарадуется. Вся страна кипит. Вот, говорят, недавно на Волге тракторный завод стали строить, Волховскую электростанцию заканчивают. Турксиб начали. Куда ни глянь, везде строят, народа требуется миллионы. Подумал я и решил: хватит, не могу без завода. Списался с друзьями, а они все в один голос: «Приезжай, Солодов, цех твой тебя ждет…»
— А когда вы хотите ехать на станцию? — неожиданно спросил Федя, который уже успел примоститься возле Ели на ступеньках и за целый вечер не проронил ни слова.
— Завтра утром, сынок, — ответил Платон Иванович., — Или мы тебе уже надоели?
— Вот и хорошо, — милостиво разрешил Федя. — Утром я вас за полчаса довезу до станции, а Еля с мамой пусть побудут у нас еще день-два.
— Правда, правда! — закричали молодые Ставровы. — Мы очень просим!
Настасья Мартыновна тоже сочла нужным вмешаться и попросила Солодовых:
— На самом деле, чего Марфе Васильевне с Елечкой спешить? Пусть побудут у нас, отдохнут. И нам всем будет очень приятно, а то живем мы тут на отшибе и людей не видим.
Солодовы переглянулись.
— Ну что же, — махнул рукой Платон Иванович, — за приглашение спасибо. Пока я в городе насчет квартиры похлопочу, пусть побудут у вас пару деньков. А потом уж вы к нам приезжайте.
Андрей был на седьмом небе от счастья. Еще целых два дня Еля будет тут, и он будет ее видеть, слышать ее голос!
Братья Ставровы улеглись на сеновале спать, расстелив попоны и потники. Хоть вокруг брунжали комары, дверь решили оставить открытой, и Андрей долго следил, как плывущие с запада темные облака лениво наползали на луну и, поглотив ее светлый диск, сами освещались изнутри слабым, неверным свечением.
Андрей думал о Еле и — в который раз! — задавал себе мучительный безответный вопрос. «А что же дальше? Вот Еля навсегда уедет в город, а я останусь тут. Разве она будет вспоминать обо мне? Мало там, в городе, таких, как я?» Он готов был грызть потник от горя и тоски, ворочался, но не знал, что ему делать, и уснул с грустной мыслью о том, что они с Елей расстанутся навсегда.
Утром, после завтрака, Федя, как обещал, отвез Платона Ивановича на станцию, взрослые Ставровы завели долгий разговор с Марфой Васильевной, а Андрей, не замечая завистливых взглядов Романа и Кали, увел Елю гулять.
Был воскресный день, теплый и солнечный. Возле каждого двора на колодах, на лавочках, на камнях сидели празднично одетые парни и девчата. Судачили, склонившись к плетням, женщины. На завалинке Шабровых, сбитые в тесный табунок, устроились Васка, Ганя Горюнова, Уля Букреева, Таня Терпужная. Андрей и Еля медленно шли по улице, провожаемые любопытными взорами огнищан, и вслед им несся шепот:
— Андрюшка Ставров свою кралю привез!
— А чего ж, славная девка.
— Белая какая да гладкая!
— Будет гладкая, если за плугом не ходит…
— Глаза у нее серые, а в косу лента вплетена.
— Вы поглядите, какое коротюсенькое платье — коленки видать.
Андрей слышал этот шепот, понимал, что разговор идет о нем, о Еле, раздраженно похлопывал прутиком по голенищам и вел Елю за деревню, к высохшему пруду. Там, на поросшей молодым ивняком насыпи, они остановились.
— У нас тут был хороший пруд, — глядя на серую, испещренную трещинами долину, сказал Андрей, — мы в нем купались, скотину поили, по праздникам гуляли над прудом. А весной вода прорвала плотину, и пруд пропал. Видишь, что от него осталось.
Еля посмотрела на усыпанное желтеющими бурьянами пересохшее болото, тронула рукой тонкую талинку и повернулась к Андрею:
— Ты что ж, так и думаешь жить в этой своей Огнищанке?
— Не знаю, — ответил Андрей.
— А учиться ты будешь или нет?
— Конечно.
— Где? Кем ты хочешь быть?
Как мог Андрей ответить на этот вопрос? Что мог он сказать Еле? Что их, Ставровых, в семье четверо да пятая девочка-сирота? Что каждому из пяти надо хоть трудовую школу окончить и, значит, надо помогать друг другу? Что у них один источник жизни — земля, и, значит, надо с весны до поздней осени трудиться на этой земле?.. Ничего этого Андрей не сказал, только лицо его стало невеселым, и он проговорил тихо:
— Я хочу быть агрономом, Еля. Понимаешь, я очень люблю все живое — землю, посевы, коней, коров. Мне кажется, что из меня получился бы неплохой агроном. Думаю, что через год, на ту осень, я поступлю в сельскохозяйственный техникум, если, конечно, мне дадут командировку и рекомендацию… Правда, наш председатель сельсовета Длугач обещал помочь, но, ты знаешь, обещанного три года ждут.
— А где есть такие техникумы? — спросила Еля.
— Не знаю. Наверное, есть и в нашей губернии, я еще не справлялся. Зачем раньше времени тревожить себя?
Он заглянул Еле в глаза. Ему, как всегда, захотелось обнять ее, прижать к себе, без конца говорить ей о своей любви. Но вместе этого он спросил сдержанно:
— А ты что будешь делать?
— Я буду учиться музыке, — мечтательно сказала Еля. — Без музыки я жить не могу. В Пустополье меня три года учила Екатерина Сергеевна, у нее дома был рояль. А сейчас мы переедем в город, там будет легче. Папа мне говорил, что в городе есть музыкальное училище, он узнавал.
Почти не вникая в то, что Еля говорит, вслушиваясь в её звучный грудной голос, заранее предчувствуя горечь близкого расставания с ней, Андрей стоял широко расставив ноги, поигрывая прутиком, и вдруг сказал глухо:
— Знаешь, Елочка, я очень виноват перед тобой, очень виноват. Но поверь мне, я сделал это не потому, что хотел тебе зла. Так глупо и подло все получилось, до сих пор не могу простить.
— О чем ты говоришь? — удивилась Еля. — Я не понимаю.
— Прошлой зимой, — холодея от ненависти к себе, сказал Андрей, — это письмо твоему отцу писал я.
Увидев, как вспыхнула Еля, как мгновенно потемнели от гнева ее серые глаза, Андрей торопливо, точно защищаясь от удара, поднял руку:
— Подожди. Пойми меня. Ты сама не знаешь, как я любил тебя тогда и как люблю сейчас. И тогда и сейчас, слышишь? Я сам не знаю, что со мной делается. Об одном прошу тебя: прости меня. Завтра ты, Еля, уедешь, и я не увижу тебя никогда. Неужели ты не простишь меня? Елочка!
В том, как он назвал ее Елочкой, было столько любви и мольбы, неясности и затаенной ласки, столько искреннего страдания, что Еля сама чуть не заплакала, коснулась рукой его волос и тотчас же боязливо отдернула руку.
— Дурной ты какой! Пойдем! Я давно все забыла…
Весь день они казались немного подавленными, мало говорили друг с другом. К полному счастью Романа, Феди и Кали, Еля лежала с ними в снятом с колес тележном ящике и они, не сводя с нее влюбленных глаз, болтали и грызли подсолнухи. Андрей ходил поодаль, посвистывал или сидел под старым орехом и курил папиросу за папиросой. Раза два мимо него прошла Тая, но он не заговорил с ней, и она скрылась.
Перед вечером Андрей сказал Еле:
— Хочешь, научу тебя ездить верхом?
— А это не очень страшно?
— Совсем не страшно, ты увидишь. И потом, я тебе подседлаю смирную лошадь, на ней чай можно пить.
Еля решительно тряхнула косой:
— Что ж, поедем…
Седел у Ставровых не было, и Андрей с помощью Феди приспособил на серой кобыле потник, сверху положил коврик и туго стянул все это сыромятной подпругой с самодельными стременами. Такой же подпругой он опоясал свою караковую Розиту, которая сразу же затанцевала и ухватила Федю зубами за волосы, за что получила от него изрядную оплеуху.
Поддержав стремя, Андрей помог Еле забраться на Серую, оправил коврик, покосился на круглое Елино колено.
— Поехали!
Они выехали со двора шагом и свернули на дорогу к лесу.
Тишина ранней осени лежала над убранными полями. Ровно освещенные предвечерним солнцем, желтели бескрайние стерни, лишь кое-где перерезанные черными полосами свежей пахоты. Отсюда, с вершины холма, видны были дальние деревни, вытянутый вдоль балки Пеньковый перелесок, обозначенные невыкошенными бурьянами межи, синеватая, вся в багряных бликах, опушка леса. И все это — и поля, и перелески, и набитые проселочные дороги — было объято тем мирным дремотным покоем, какой бывает только осенью, когда земля вырастила все, что должна была вырастить, а люди убрали все, что должны были убрать, и наступила пора отдыха.
Андрей ехал чуть позади, натягивая поводья, чтобы его горячая, игривая кобылица не забегала вперед и ему можно было бы смотреть на Елю. К его удивлению, Еля не обнаружила ни малейшего признака страха. Она сидела на лошади свободно и легко, только по-женски смешно то и дело отводила локти в стороны и часто оглядывалась.
— Держи руки спокойно. Ты машешь ими, как курица крыльями! — смеясь крикнул Андрей.
— Разве не все равно? — отозвалась Еля. — Мне так удобно.
Они въехали в лес. Из его гущины надвинулись тихие сумерки, повеяло запахом прелых листьев и сырой земли. Дорога тянулась по просеке ровной, как натянутая струна ниткой, а справа и слева чернели редкие, окруженные густой чащей подлетков кустарники.
Шевельнув поводья, Андрей поравнялся с Елей, осторожно, чуть прикасаясь, обнял ее за талию. Еля опустила голову, но не рассердилась и не оттолкнула его. И опять Андрею, как тогда, в пустопольском лесу, захотелось сделать что-нибудь такое, что показало бы Еле его любовь к ней и она поняла бы, что ради нее он готов на все.
Заметив на поляне поваленный бурей дуплистый тополь Андрей подумал: «Сейчас я покажу Еле, как надо ездить верхом». Тополь подломился довольно высоко от корня, а его подпертый кроной ствол висел параллельно земле. «Отличный барьер, хоть и высоковато», — отметил Андрей.
— Постой-ка тут, — сказал он Еле, — сейчас ты увидишь скачки с препятствиями.
Он отъехал подальше, пришпорил кобылицу и карьером понесся к поваленному тополю. Месяца два Андрей учил свою Розиту прыжкам через деревенские плетни, глубокие водомоины, не раз пугал огнищанских баб, перепрыгивая на Розите через водопойное корыто у колодца. Поваленный тополь лежал высоко над землей, почти вровень с конской грудью. «Возьмет или не возьмет?» — с тревогой подумал Андрей, приближаясь к тополю. Облегчая груз тела, он на секунду приподнялся на стременах и, стиснув зубы, подался вперед. Кобыла взвилась над тополем, перемахнула через него, лишь слегка стукнула задними ногами по трухлявому стволу и, похрапывая, понеслась по поляне. Андрей восторженно похлопал ее по шее.
— Ну как? — не без хвастовства спросил он, подъезжая к Еле.
Девушка посмотрела на него с укором:
— У тебя всегда дикие забавы. Мне казалось, что ты вот вот убьешься. Не понимаю, что тут интересного.
Еля не захотела признаться в том, что ей понравился сумасбродный прыжок Андрея через тополь.
Возвращались они молча. Еля ждала, что Андрей, как всегда это бывало, когда они оставались наедине, заговорит с ней о любви. Ей даже хотелось этого, потому что ее трогало искреннее чувство Андрея и было приятно, что он, презирая и высмеивая других девчонок, к ней, к Еле, отнесся с такой скрытой нежностью и предупредительностью. Она ехала, незаметно поглядывая на него, и думала уверенно: «Конечно, заговорит… Вот проедет несколько шагов и обязательно заговорит об этом…»
Но Андрей молчал. Ему хотелось сказать о многом, самое же главное — хотелось сказать о том, что он не может представить свою жизнь без Ели и потому подавлен предстоящей разлукой с ней. Напрасно подбирал Андрей слова, которые должны были раскрыть его чувства, — все слова казались ему пустыми. Он ехал, тихонько помахивая плетью, даже боялся посмотреть в сторону Ели, хотя лошади шли бок о бок и Андрей не только видел белевшее в темноте Елино платье, но его колено прикасалось к ее колену.
У ворот он помог Еле сойти с лошади, проводил ее до крыльца, а сам повел лошадей к колодцу. Возле колодца с ним встретился Колька Турчак. Они постояли, покурили.
— Видали наши девки твою кралю, — ухмыльнулся Колька.
— Ну и что? — настороженно спросил Андрей.
— Да ничего, видная, говорят, и с лица белая, только, мол, юбку носит не того, дюже заголяется.
— Крепко там они понимают! — огрызнулся Андрей, — В городе все такие юбки носят…
Вначале Андрею казалось, что ему будет стыдно при мысли о том, что все узнают о его любви к Еле, но вот об этом узнали не только отец и мать, но и огнищане, и Андрей радостно подумал, что ему нисколько не стыдно, что, наоборот, он стал казаться себе и другим взрослее, лучше и, наверно, все это понимают.
После ужина, когда все ушли спать, Андрей и Еля остались одни. Еля сняла туфли и, поджав босые ноги, сидела на топчане, Андрей — на корточках у печки. Лампу Настасья Мартыновна унесла с собой. В печке, слабо дымя, догорали дрова. Полутемная комната была освещена красноватыми отблесками неяркого пламени и ровным белым светом луны.
— Что ж ты молчишь? — задумчиво спросила Еля. — Или тебе на прощание нечего сказать мне?
Андрей сунул в жар отломанный от веника прутик, зажег папиросу.
— Ты же знаешь наперед, о чем я буду говорить, и никогда не отвечаешь мне.
Он жадно затянулся дымом папиросы.
— Об одном я хочу тебя попросить, Еля… Понимаешь, если тебе не будет трудно, пришли мне свой городской адрес. Я очень боюсь, что мы можем… что ты можешь… — Сбившись, Андрей сказал безнадежно: — Может так получиться, что мы никогда не увидимся.
Она перебросила косу через плечо, развязала ленту и, мягко шевеля пальцами, стала расплетать волосы. Андрей не сводил с нее глаз. Вот коса расплетена, а разделенные надвое темные Елины волосы упали ей на плечи. Вот рука ее потянулась к гребенке.
— Подожди, — сам не узнавая своего голоса, сказал Андрей.
Он присел рядом, заглянул Еле в глаза:
— Ты такая…
— Какая? — слегка отодвинулась Еля.
Андрей умоляюще поднял руку:
— Не надо заплетать волосы, оставь так… хоть на минуту… — и, уже не владея собой, подчиняясь вспыхнувшему в нем чувству, он грубовато, неловко прижал Елю к себе, крепко поцеловал ее в губы, а когда она, отстраняясь от него, вытянула руки, стал целовать ее волосы, плечи, шею.
— Пусти! Как не стыдно? — прошептала Еля. — Мама услышит — что она подумает?
Андрей поднялся. Еля с улыбкой смотрела на него.
— Дурной ты какой, честное слово!
Он тоже усмехнулся облегченно и радостно.
— Ну прости меня, Елочка, не сердись…
— Ладно, иди, я буду спать.
На следующий день Андрей увозил Марфу Васильевну и Елю на станцию. С утра он почистил и накормил овсом лошадей, наложил в телегу свежего сена, застелил ковриком рессорную люльку. Делал он все молча, ни с кем не разговаривал, ходил как в воду опущенный. «Что с того, что Еля пришлет мне свой адрес? — думал он. — До города триста верст, разве я смогу поехать туда? А если даже поеду когда-нибудь, то кто знает, когда это будет».
Погода выдалась пасмурная. До полудня над полями стоял густой туман, потом он поредел, стал лениво рассеиваться, но солнце так и не показалось из-за серой пелены туч. Хотя дождя не было, холодноватая влага оседала на смазанную дегтем упряжь, скатывалась вниз мелкими каплями, прибивала пыль на дороге.
Свесив ноги, Андрей вслушивался в монотонный перезвон тележных колес, в ровное постукивание конских копыт, и в мыслях у него было только одно: «Нет, не увижу я больше Елю, никогда не увижу». Он оглядывался украдкой, чтобы не заметила Марфа Васильевна, взглядывал на Елю и опускал голову.
— Что ты такой невеселый, Андрюша? — спросила Марфа Васильевна. — Или с Елкой расставаться жалко?
— Я всегда такой, — угрюмо ответил Андрей.
— Почему?
— Просто так…
На станции он привязал лошадей к дереву, помог Солодовым снести вещи, пошел с ними за билетами. Ждать пришлось недолго, поезд подошел и стоял всего три минуты.
— Прощай, Андрей! — крикнула Еля, наклонившись в дверях поезда.
Андрей снял фуражку:
— Прощай…
Раздался пронзительный свисток. Голосисто загудел паровоз, загрохотали, заскрипели вагоны. Уже последний вагон исчез за поворотом, не слышно стало шума, а над придорожной посадкой все еще висело, медленно растекаясь, белое облако дыма. Андрей стоял, держа в руке фуражку.
— Ну вот и все, — тихо сказал он, — можно ехать…
Возле телеги Андрей увидел Ганю Лубяную. Она стояла с корзинкой в руке и попросила подвезти ее в Огнищанку.
— Ладно, садись, — кивнул Андрей.
Когда ехали вдоль леса, он повернулся к Гане, спросил неожиданно:
— Тебя очень любил этот Юрген Раух? У нас в саду есть тополь, а на нем вырезаны две буквы — имени и фамилии Юргена. Буквы уже зарастают, почти незаметны стали.
— А то не зарастут, что ли? — вздохнула Ганя. — Время им пришло зарасти…
4
Старый Франц Раух, отец Юргена, умер весной. За два дня до смерти он позвал сына, отдал ему коробку с золотом и проговорил, с трудом ворочая непослушным языком:
— В Огнищанке, под деревом, которое я посадил в день твоего рождения, зарыт цинковый ящик с бумагами. В ящике документы, письма, землемерные планы, счета, расписки. Там полная опись нашего имущества, конфискованного красными… Тебе, Юрген, понадобится все это, когда ты вернешься в Огнищанку и, как законный хозяин, будешь введен во владение поместьем. С помощью этих документов ты сможешь потребовать все, до последней щепки…
— Вряд ли это когда-нибудь случится, отец, — глотая слезы, сказал Юрген.
Умирающий посмотрел на него строго:
— Это будет, мальчик. Я верю, что ты доживешь до этого дня…
Хотя Юрген в последнее время мало виделся с отцом и привык к мысли, что старик скоро умрет, смерть отца поразила его и заставила еще острее почувствовать свое одиночество. С полусумасшедшей сестрой он почти никогда не разговаривал, к дяде Готлибу относился равнодушно. Только прогулки с Конрадом да редкие встречи с Гертой подчас развлекали Юргена, рассеивали его мрачное настроение. Ласковая Герта умела быть ненавязчивой. Конрад поддерживал твердостью духа, вызывающим презрением ко всему на свете и едким цинизмом.
— Ты больной мечтатель, кузен, — говорил Конрад. — Должно быть, русская деревня привила тебе недостойные истинного немца черты интеллигентской анемии. На жизнь надо смотреть трезвее и проще. Ты вот истязаешь себя выдуманной сентиментальной любовью к какой-то нечистоплотной русской мужичке, чуть ли не Джоконду из нее создал. А кому это нужно? Я, например, не сомневаюсь в том, что твоя огнищанская Джоконда преблагополучно возлегает с каким-нибудь Иваном и лениво делает с ним детей. У тебя же, надо полагать, иное назначение в мире.
— Я не Наполеон и не собираюсь сокрушать царства, — отмахивался Юрген. — Мне, как и каждому человеку, хочется счастья.
Конрад хохотал, обнажая темные зубы:
— Деревенский ты чурбан, больше ничего! Ты что ж думаешь, что я откажусь от своего счастья? Как бы не так! Только счастье мы с тобой по-разному понимаем. Меня, скажем, мало привлекает то балансирование канатоходцев, которое рекламирует в политике наш пивовар Штреземан. Я не мастер терпеливого ожидания. Мне нужен удар.
— Во имя чего?
— Во имя величия Германии. Ты, как член национал-социалистской партии, должен знать это, и мы с тобой обязаны готовиться к удару физически и духовно.
Впрочем, Конрад Риге отнюдь не отягощал себя духовной подготовкой. Он охотно посещал школу бокса, обучался японским приемам в драке, по вечерам исчезал куда-то с весьма подозрительными приятелями, на головах которых лихо торчали измятые кепи, а вокруг шеи красовались разноцветные шарфы. Зато кузену он создал все условия для всестороннего духовного развития — подвел к шкафам дяди Готлиба, щелкнул ногтями по корешкам книг и сказал:
— Просвещайся, мечтатель. Всяких там Бебелей, Каутских и прочих употребляй как пипифакс, а вот эту полочку просмотри внимательно. Тут кое-что есть. Скажем, такая штука. — Он протянул Юргену черную книгу с позолотой и показал портрет усача с безумными глазами, одетого в белую кружевную сорочку: — Видал? Явный психопат, кончил жизнь в доме умалишенных, но силища необыкновенная. Фридрих Ницше. Не слыхал?
— Слыхать слышал, но читать не приходилось, — признался Юрген.
— А ты почитай…
Почти месяц не расставался Юрген с черными томиками Ницше… Он читал ночами, подперев подбородок поросшей рыжими волосами рукой, читал лихорадочно, забыв обо всем на свете, и ему казалось, что суровый безумец в сорочке с оборками влачит его по острым камням, по нехоженым тропам, чтобы показать сверхчеловека, «сильного белокурого зверя», которому все позволено, который ниспроверг трусливую человеческую мораль и ни перед кем не отвечает за свои деяния. Шли ночи, и Юрген стал верить тому, что земля полна «лишними», а жизнь испорчена «многими», «сволочью», «стадом», теми «тарантулами», которые из-за своей немощи проповедуют равенство и являются «жалкой породой рабов».
«Злоба есть лучшая сила, — записывал у себя в дневнике Юрген, — и самое злое необходимо для сверхчеловека». Марая страницы нервными строками, он наизусть заучивал бьющие, как молот, изречения: «Падающего подтолкни!», «Кто не может летать, того поскорее учите упасть!», «Я не работать советую вам, но воевать, ибо мир — лишь средство к новым войнам».
Не отличаясь религиозностью, Юрген тем не менее с детства привык почитать священное писание, уважать «идею бога», но сейчас, перелистывая Ницше, он восторгался тем, как философ разделывает Иисуса, называя его «богом больных», «пауком», «декадентом», «богом углов, темных закоулков, всех нездоровых жилищ мира».
Чем глубже изучал Юрген поразившие его книги Ницше, тем больше верил в то, что мир представляет собою поле деятельности только для сильных духом, что в человеке хороша лишь «воля к власти» и что все слабое необходимо уничтожать.
«Утомленное и вялое человечество, — читал Юрген, расхаживая по комнате, — нуждается не только в войнах вообще, но в величайших, ужасающих войнах, а значит, и во временных возвратах к состоянию варварства; в противном случае оно из-за средств культуры может поплатиться самой культурой и своим существованием…»
«Да, да, это удивительно верно, — думал он. — Мы все становимся чахоточными слюнтяями, рабами серой посредственности, дряни, а человечеству нужны борцы с крепкими кулаками и с волей к власти, иначе нас сомнут и растопчут…»
Так кузен Конрад подсказал Юргену, где можно найти объяснение смысла жизни и где «искать правду». Посеянное Ницше семя упало на благодатную почву: изгнанный из отцовского гнезда, обозленный, страдающий от сознания одиночества, Юрген Раух стал все чаще посещать вместе с Конрадом полулегальные собрания национал-социалистов, внимательно слушал речи ораторов и приходил к заключению: «Да, мой путь с ними, с моими друзьями… Их не ослабит самоанализ или христианское сострадание, они открыто и честно проповедуют культ крепкого кулака…»
Дядя Готлиб с испугом отмечал частые исчезновения сына и племянника. По приглашению Юргена он дважды побывал на очередном собрании и возвратился возмущенный и раздосадованный.
— Нет, молодые люди! — патетически воскликнул дядя Готлиб. — Меня ваша волчья мораль не устраивает. Как демократ, я могу только протестовать против превращения политики в солдафонскую демагогию! Разве так можно? Вы отбрасываете прочь разумную гибкость социал-демократии и превращаетесь в ординарных головорезов!
— Да! — вызывающе вскричал Конрад. — Хватит нам нянчиться с демократическими потаскухами, которые строят глазки пролетариату и спят с капиталистами. Довольно! Мы будем говорить с людьми языком острых ножей и разрывных пуль!
Воздев руки к небу, дядя Готлиб растерянно заморгал, уронил пенсне — оно закачалось на тонкой золотой цепочке.
— Вот они, времена! Вот они, наследники!
Конрад только усмехнулся:
— Ты еще не то увидишь, отец. Мы только набираем силу.
Когда старик удалился, горестно покачивая головой, Конрад сказал Юргену:
— Только что издательство «Ауфлаг» выпустило книгу Адольфа Гитлера «Моя борьба». Тебе обязательно надо познакомиться с этой книгой. В ней раскрыта наша программа так, что лучше не скажешь…
Юрген знал историю Гитлера после злополучного «пивного путча». Когда демонстрация нацистов была рассеяна огнем полиции, Гитлер скрывался у некоего Ганфштенгля, который удобно устроил беглеца в платяном шкафу дочери. Однако Гитлеру не удалось избежать ареста, его посадили в ландсбергскую тюрьму, где он дописал свою книгу. Вскоре он был освобожден по ходатайству высокопоставленных монархистов.
Книга Гитлера «Моя борьба» по выходе в свет стала тотчас же распространяться во всех организациях НСДАП.[2] Ее рассылали почтовыми бандеролями, в посылках, разносили по ячейкам целленлейтеры и блоклейтеры. Ее название выкрикивали уличные торговцы, она появилась во всех витринах книжных магазинов. Падкие на политические сенсации мюнхенские бюргеры, захлебываясь от восторга, читали «Мою борьбу» дома и в пивных, на улицах и в трамваях. Солидно хмурясь, заключали:
— Наконец-то заговорил истинный немец!
— Тут есть что почитать!
— И подумать есть над чем!
— Адольф Гитлер отлично знает, куда надо идти Германии!
Юрген Раух взял книгу Гитлера у своего блоклейтера Хинкса, маленького белобрысого адвоката. Вручая книгу, адвокат заявил торжественно:
— Запомните, герр Раух, это выдающееся произведение нашего дорогого фюрера в ближайшие годы станет новым евангелием германской расы. Его надо изучать, как священное писание, помните это.
— Я постараюсь, герр Хинкс, — серьезно пообещал Юрген.
Книга Гитлера многими страницами напоминала Юргену знакомые положения Ницше, но было в ней и нечто свое — грубая, солдатская прямолинейность суждений, бесстрашие и открытое прославление германской расы как властелина мира. Гитлер не задумываясь срывал фиговые листки с философии, с политики, с морали, с религии и твердил: человечеством должен повелевать вооруженный до зубов немецкий солдат.
«Национал-социализм, — писал Гитлер, — ни в коем случае не верит в равенство рас и чувствует себя вследствие этого обязанным согласно вечной воле, управляющей универсумом, способствовать победе лучших, сильнейших, и подчинению худших и слабейших…»
Гитлер без обиняков указывал, куда направить удар, чтобы подчинить «худших» повелителю-нацисту: «Если мы хотим получить территорию в Европе, то это желание может осуществиться в общем и целом лишь за счет России, и новая империя должна отправиться в тот же маршрут, которым некогда шли рыцари-меченосцы, чтобы силою меча добыть землю для немецкого плуга и насущный хлеб для нации…»
Призывая к мощному удару по врагу, Гитлер откровенно издевался над гуманностью, называя ее «помесью глупости, трусости и воображаемого всезнайства», уверяя, что человечество погибнет, если не будет войн.
Так страница за страницей открывались перед Юргеном Раухом «истины» нацизма, которым он безраздельно поверил и за которыми пошел. Даже сентиментальные его воспоминания о Гане, образ которой он выдумал, теперь поблекли. Кузен Конрад постарался вытравить из Юргена последний их след.
— Не будь кретином, — говорил он Юргену, — плюнь на свою огнищанскую потаскуху. Как только мы возьмем власть, в твоем распоряжении окажутся красивейшие женщины мира — польки, француженки, чешки. Разве в этом наше назначение? Нам надо взять пистолет, нож, хлыст и идти вперед, дробить черепа врагов. А эту твою красную возлюбленную мы с наслаждением повесим.
Конрад Риге недавно вступил в группу СС, входившую в только что созданный для защиты фюрера Гитлера охранный отряд. Конрад с гордостью носил присвоенную эсэсовцам форму — черную рубаху с лакированным поясом, черные бриджи, краги. В кармане штанов у него всегда был тяжелый стальной кастет, а из-под рубахи торчал финский нож в кожаном чехле.
— В этом, дорогой Юрген, вся наша философия, — усмехаясь говорил Конрад, показывая кузену остро отточенный нож. — К черту бабью сентиментальность и хрупкую совесть! Каждый день мы готовимся к удару и — поверь мне! — ударим так, что мертвые запляшут.
Многие мюнхенские парни — с ними Юрген Раух встречался на собраниях нацистов — думали точно так же, как Конрад. Они открыто носили черные рубашки эсэсовцев или коричневые рубашки штурмовых отрядов полковника Эрнста Рема, револьверы, ножи, кастеты, на улицах держали себя вызывающе, с хохотом избивали торговцев-евреев, бесцеремонно высмеивали Веймарскую конституцию. Их, этих горластых парней, забубенных голов и скандалистов, с каждым днем становилось все больше, и полиция смотрела на их выходки сквозь пальцы, полагая, что если коричневые и черные рубашки развлекаются избиением евреев или разносят еврейские магазины, а начальство при этом молчит, то, значит, за спиной коричневых и черных стоят могущественные покровители.
Товарищи по организации привлекали Юргена своей похожей судьбой. Бывшие офицеры и солдаты разгромленной кайзеровской армии, студенты, молодые врачи, адвокаты, сыновья чиновников и трактирщиков, конторские служащие и сынки зажиточных крестьян, они после позорного для Германии Версальского мира оказались не у дел, без работы и удовольствий, им не к чему было применить свои силы, и они не задумываясь отдали себя в распоряжение Адольфа Гитлера, поверив в его посулы возродить ограбленную и оплеванную Германию.
— Да здравствует фюрер! — кричали штурмовики и эсэсовцы. — Захватим весь мир!
— Сдавим дряхлую землю так, что у нее позвонки хрустнут!
— Рассчитаемся и с русскими, и с французишками, и с англичанами!
— А больше всего — с еврейскими плутократами!
По воскресеньям Юрген пил с эсэсовцами пиво, бесцельно бродил с ними по мюнхенским улицам, с удовольствием подпевал их песням, слушал квартальных пропагандистов фюрера и думал: «У меня, как и у них, одна дорога, больше мне идти некуда…»
Пропагандисты уверяли, что скоро гитлеровская партия соберет в своих рядах сотни тысяч немцев и нацисты возьмут в свои руки рейхстаг. Но Юрген видел, что до этого еще далеко.
Однажды он с кучкой штурмовиков и эсэсовцев фланировал по площади Одеон. Как раз в это время из переулка показалась группа «красных фронтовиков» — коммунистов. Это были здоровые рабочие парни с угрюмыми лицами и тяжелыми кулаками. Они шли в своих промасленных блузах, измятых кепках и несли плакат с надписью: «Мы требуем хлеба и работы!»
Маленький блоклейтер Хинкс мигнул штурмовикам:
— Ну-ка, ребята, пощупайте спины этим бездельникам!
Вслед «красным фронтовикам» полетели осколки кирпича, камни, палки. Эсэсовцы, по всем правилам уличных боев укрывшись в подворотнях, забросали рабочих, смешавших ряды, булыжниками. Рабочие кинулись на эсэсовцев. Началась свалка. Юрген хотел забежать за угол дома, но не успел — раненный камнем рабочий, размазывая по щеке кровь, догнал Юргена, ударил его ногой под колено и сбил с ног. Юрген неловко завалился на бок, закричал пронзительно:
— Ты что, ослеп, скотина? Разве не видишь, что я посторонний?
— Знаем мы вас, посторонних! — сплевывая кровавую слюну, прохрипел рабочий. — Я тебя, рыжего, давно приметил, я видел, как ты шушукался с черной сволочью! Мы вас всех в землю втопчем, так и знайте…
Конраду Риге тоже попало в этой свалке — кто-то рассек ему ухо и поставил под глазом основательный синяк. Но Конрад нисколько не унывал и только посмеивался:
— Нам нужны иногда такие взбучки, иначе мы закиснем. Кроме того, это прекрасная боевая подготовка.
— Зря ты преувеличиваешь наши силы, — заметил Юрген. — Против нас, как стена, стоят тысячи рабочих. Их не так легко обломать.
— Обломаем! — махнул рукой Конрад. — Мы не одни!
В самом деле гитлеровской партии покровительствовали крупные фабриканты, промышленники, воротилы трестов, кайзеровские генералы. Пусть эти никем не избранные властители страны оставались за кулисами — они деловито и обдуманно направляли события в нужное им русло и готовили Германию к новой войне. Они объединяли свои капиталы, сговаривались с иностранными дельцами, исподволь вооружали страну, вопреки мирному договору. Уже на развалинах исполинского стиннесовского сверхтреста возник новый грандиозный стальной трест — «Ферейнигте Штальверке»; уже кроме безобидных лемехов и зубных коронок старый Крупп стал втихомолку делать пушки; уже почти открыто стал работать первый послевоенный оружейный завод фирмы «Рейнметалл-Борзиг». Под нейтральной вывеской «Имперского архива» начали оперативную работу штабисты. Через подставную фирму в Голландии строились для немецкого флота подводные лодки. Под маской «Транспортного бюро», под самым носом у французских оккупационных властей в Дюссельдорфе, стали заполняться тайные склады артиллерийского вооружения. В глубине Люнебургской пустоши был создан артиллерийский полигон.
Даже такой испытанный и осторожный делец, как руководитель концерна «Фарбениндустри» доктор Карл Дуисберг, пророчески заявил членам Федерации немецких промышленников:
— Вот-вот появится сильный человек, который найдет для всех общую платформу, ибо он, сильный человек, необходим нам, как в свое время был необходим Бисмарк. И если Германии вновь суждено стать великой, этого добьется вождь, который не будет считаться с капризами масс…
Юргену Рауху хорошо было известно, что таким «вождем», «сильным человеком» вскоре станет Адольф Гитлер — об этом уверенно говорили все члены национал-социалистской партии, все знакомые штурмовики и эсэсовцы, в это верил и он сам, Юрген. Отсиживая нудные часы в аптеке, он много думал о своих друзьях, о Германии, чувствовал, что его вера в близкую победу крепнет все больше, отбрасывал любое сомнение и незаметно для себя становился самым правоверным, самым непоколебимым нацистом.
И без того не слишком твердые религиозные чувства Юргена были уже ослаблены чтением Ницше. Книга Гитлера и особенно две-три встречи с Розенбергом внушили Юргену презрение к христианству и восторг перед наивной и дикой религией древних германцев — воинов и звероловов. Даже недалекой Герте он сумел вбить в голову, что культ мрачного бога войны Вотана гораздо поэтичнее христианских праздников. Над кроватью Герты появилась цветная гравюра «Последний путь Гаральда, короля викингов». Привязанный к ладье, плывущей по бурному морю, мертвый король пугал бедную Герту, лишал ее сна, но она подчинилась Юргену и охотно говорила с ним о Валгалле — обиталище павших героев, о девах-валькириях, о вещих волках и воронах Вотана, о воспетой скальдами Фрейе.
Упиваясь ночными разговорами с любовницей, Юрген забывал о «красных фронтовиках», о скучных запахах аптеки и ненавистных склянках с лекарствами. Он витал в мире своих лихорадочных фантазий и лелеял мечту о мести.
— Придет время, и я отомщу всем, — бормотал он в подушку. — Проклятому Длугачу, который отобрал у меня землю моих дедов и прадедов, отдал ее жадным огнищанским мужикам, которые по десятине расхватали и запахали эту землю, коммунистам, которые подбили их на это, комсомольцам, комиссарам, всем… Я не прощу им ничего, отомщу за каждую щепку, за каждое спиленное в парке дерево, за каждую зарезанную овцу. Я вернусь туда, в Огнищанку, и приведу с собой Конрада, жестокого маленького Хинкса, всех моих товарищей, и мы устроим там вальпургиеву ночь…
5
Построенная Демидом и Ганей хатенка стояла под вербами, по соседству с подворьем Шелюгиных, у крутого берега высохшего пруда. Хатенка была крохотная, накрытая разлохмаченной шапкой ржаной соломы. Но каждому, кто отворял входную дверь и, склонившись, переступал через порог, каждому, кто входил в тесную, с низким потолком горницу, казалось, что он бывал у молодоженов уже много раз — так было уютно в их неприхотливом жилище.
В горнице вкусно попахивало дымком, глиной, из углов, еле приметный, тянулся кисловатый запах овчин, а снизу, из вырытого под хатой подполья, пробивался душок квашеной капусты, огурцов, помидоров. Несмотря на то что Ганя родила осенью дочку и не спускала ребенка с рук, в горнице все было убрано, подметено, постирано. Веселая молодая хозяйка с одинаковым радушием принимала и своих недавних друзей по вечерним гулянкам — парней и девчат, — и степенных, пожилых огнищан, которые приходили поглядеть на жизнь молодоженов, чтоб потом добродушно посудачить о них где-нибудь на завалинке.
Демида Плахотина тоже все любили. Был он нетороплив, работал исправно, без особого рвения, скорее, даже с ленцой, но все делал аккуратно. С людьми разговаривал спокойно, учтиво, ни с кем не ссорился. Огнищанским парням — да и не только парням — нравилась презрительная небрежность, с какой Демид Плахотин носил свою сдвинутую на нос кавалерийскую фуражку и малиновые галифе с серебряным кантом, нравился его небольшой, но крепкий, как камень-голыш, загорелый кулак, нравились тихие вечерние рассказы Демида о схватках красной конницы с деникинцами, белополяками, махновцами.
Между Демидом и Ганей не было слишком уж бурной и нежной любви. Они почти никогда и не говорили о любви, все больше о хозяйстве, но жили мирно и ладно, советуясь друг с другом по каждой мелочи и уважая один другого. Может быть, поэтому огнищане с охотой навещали их хатенку и коротали у них вечера. Все уже привыкли к тому, что поздней осенью и зимой, когда убраны поля и остается только приглядывать за скотиной, стар и млад шагали на огонек к хатенке Плахотиных, а дома предупреждали: «Схожу до Демида» или «Сбегаю на часок до Гани».
С вечера в горнице было набито битком. Четверо самых отчаянных картежников — с обязательным участием Демида, который любил перекинуться в картишки, — резались в подкидного дурака, гоняли «фильку», а иногда отваживались «рубануть в очко», ставя на кон спички, гвозди, иголки и даже деньги. В углу, на почетном месте, какой-нибудь огнищанский балагур вроде Гаврюшки Базлова точил лясы с девчатами и молодицами, заставляя их отбрасывать веретена и хохотать до упаду. Двое-трое сонных стариков, жуя махорочные скрутки, негромко говорили о новостях: у кого отелилась корова, кто выгодно продал в Пустополье пшеницу, а кто видел под Ржанском очередное чудо — колхоз, организованный после распада коммуны неугомонным Саввой Бухваловым.
К полуночи, когда горница наполнялась табачным дымом настолько, что чадила подвешенная к потолку керосиновая лампа, старики расходились по домам, Ганя дремала на кровати, и только картежники с треском все бросали и бросали карты на стол да где-нибудь в темном углу шептались парень с девушкой.
На осенние посиделки к Плахотиным изредка заглядывал и Андрей Ставров. Отбыв в избе-читальне положенные часы и проводив последних посетителей, он приходил позже других. Его не смущало, что иногда приходилось брести по грязи, пересекать разрушенную плотину, а потом, возвращаясь домой, взбираться на скользкую крутизну политого дождем холма. Дома, с отцом и матерью, Андрею было скучно, а все молодые Ставровы по-прежнему учились в школах. Поэтому Андрей и привязался к гостеприимной Демидовой семье и заходил туда хоть на часок.
Как-то холодным ноябрьским вечером Андрея задержал возле избы-читальни Степан Острецов. Он молча подождал, пока Андрей навесил на дверь громадный замок, и спросил, зевая:
— Ты тоже небось к этому красному герою, к Демиду Плахотину?
— Да, к нему.
— Я знаю. Не раз видел тебя под его окном.
— Ну и что? — удивился Андрей.
— Ничего. Я так. Давай пойдем вместе. Мы ведь с Демидом в одной дивизии служили, оба конники, отчего ж и мне не заглянуть к нему? Дома-то скучно одному — сидишь, будто волк в норе.
Голос у Острецова был слегка простуженный, сонный, но слышалась в нем почти неуловимая усмешка, такая незаметная, что Андрей не понял, над кем посмеивается Острецов — над Демидом или над собой.
— Что ж, пошли, — согласился Андрей. — Мне все равно…
Они захлюпали по размытой ливнями дороге, посматривая на тусклые огоньки огнищанских изб. Острецов чиркнул спичкой, прикрылся полой мокрого плаща, лениво пыхнул папиросным дымом.
— Ну как твоя изба-читальня? — улыбаясь в темноте, спросил он. — Успел ты совершить переворот в деревне?
Андрей сердито засопел:
— Какой там переворот! В избе-читальне полторы порванных книжки да разломанная балалайка. А на ремонт и на инвентарь мне отпустили восемнадцать рублей. Денег, говорят, нету. Разве тут до переворота? Тут сам перевернешься от таких дел.
Искорка острецовской папиросы прочертила в воздухе полукруг.
— Трепачи! У нас все так. Только языком трепать умеем. На бумаге и полит есть, и просвет, и культурная революция, а на деле блеф, мыльный пузырь, вроде твоей избы-читальни. — Он подтолкнул Андрея локтем: — Ты думаешь, мужикам нужна изба-читальня? На дьявола она им сдалась! Мужику добрый плуг нужен, сукно на штаны, пара сапог, а мы ему суем книжонки про мироздание.
— А по-моему, мужику нужны и сапоги, и книги, — отважился возразить Андрей. — Ведь без книги социализма не построишь.
Острецов швырнул папиросу в грязь.
— Хм… Со-циа-лизм… У тебя, товарищ избач, еще молоко на губах не обсохло. Тебе этот социализм известен по плакатам, которыми волполитпросвет украшает твою знаменитую избу-читальню. А ты лучше присмотрись: как народ живет? о чем люди думают? что говорят про твой социализм? А то, видишь ли, оглушили людей обухом: бога нет, собственности нет, кухарка должна править государством. Вы же, божьи бычки, слушаете да помахиваете хвостами.
Андрея удивили и напугали слова Острецова. Он хотел было возразить ему, но Острецов неожиданно переменил тему разговора, стал громко зевать. До Плахотиных они дошли в полном молчании.
В хатенке Демида сидели человек десять. У стола, слушая дядю Луку Сибирного, сгрудились Аким Турчак, Тимоха Шелюгин и дед Силыч. У стены, на лавке, помахивали веретенами бабы: Поля Шелюгина, Лукерья Комлева и тетка Лукерья. На краю широкой кровати баюкала ребенка Ганя. Демид в расстегнутой гимнастерке, мягко ступая босыми ногами, расхаживал от печки к столу.
— Так вот, значит, доехали мы с жинкой до этого селения Усть-Куренга в четырнадцатом году, перед войной, — мельком глянув на вошедших Острецова и Андрея, говорил дядя Лука. — Кругом непролазная тайга и кочковатые болота, а людей почти что никого, только каторжные поселенцы и кочевые охотники с монгольским обличьем. Бывало, идешь по тайге неделю, другую и слова человечьего не услышишь — простор такой и дикость такая, что страх тебя забирает.
Дядя Лука почесал большим пальцем остренькую бородку.
— За Усть-Куренгой на заимке старик проживал, звать его было Иван Иванович. Сам он вдовел, а двое женатых сынов неотделенными с ним жили. Старик этот был из сектантов-шалопутов, и его на вечное поселение в Сибирь сослали. Так вот, как мы только с жинкой прибыли — а у жинки моей уже первое дитя народилось, — не знали, с чего начинать. Постелили кошму на траве, костерок разожгли и сидим горюем. А Иван Иванович, старик этот самый, заявился на дымок, спросил, кто мы такие, откудова, а потом говорит: «Не горюйте, добрые люди, мы вам с сынами помощь окажем…»
— Помогли все ж таки? — спросил дед Силыч.
— А то как же! Лес у старика был пиленый, сложили мы избенку, деляну для меня раскорчевали, зернишка ржаного морозостойкого у поселенцев добыли, и стал я жить по соседству с этим сектантом-шалопутом.
На смуглое лицо дяди Луки легла тень глубокой задумчивости.
— Чудной был старик. Придет, бывалоча, ко мне, сядет возле печки и до полночи проговорит, вроде поучает всех. Нас, говорит, шалопутов, цари да попы прозвали шалыми людьми. А за что? За то, дескать, что мы церкву не признаем, деньги злом людским считаем, а верим в одно: что человек человеку брат и что над ними только бог властен.
Дядя Лука разгладил ладонью клеенку на столе.
— Потом я сустрелся на заимках с другими шалопутами. Их там семей тридцать жило, все с Тамбовщины да с Терека повыселены. Они один другому, как сродственники, помогали и одно мне втолковывали: что все люди обязаны быть хлеборобами, а никаких там торговцев, или же рабочих, или чиновников людям не нужно. На свете, говорят, есть только божья, ничья земля да люди-землепашцы, а все иное — от лукавого.
— Чего ж ты, милый человек, из Сибири назад возвернулся? — спросил дед Силыч. — Или жилось тебе там плохо?
— Жилось хорошо, — сказал дядя Лука, — и поселенцы-шалопуты почти за своего считать меня стали. А только как жинка моя померла, нудно мне показалось на чужой стороне, забрал я детишек и поехал в Россию.
— А избу свою и деляну продал? — скрывая улыбку, спросил Острецов.
— Нет, зачем же, продавать там было некому. Я же говорил, что шалопуты деньги за зло считали и не держали у себя ни копейки. Они мне за избу пчелиного меда дали пудов десять, мяса-солонины, две кошмы новые, беличьих шкурок. Сами довезли меня до Тобольска, а там я все это продал, завербовался в Семипалатинскую область, год батраковал, а потом купил пару верблюдов, новую арбу и поехал верблюдами аж до России. Месяцев семь ехал — думал, богу душу отдам…
— Ну и что ж, Советская власть небось больше понравилась тебе, чем тобольские шалопуты? — кривя губы, спросил Острецов. — Как только ты приехал сюда, тебе, конечно, землю дали, семенного зерна, хату помогли построить? Так?
Дядя Лука смущенно почесал затылок:
— Видишь ли, Степан Алексеич, я прибыл в Огнищанку аккурат под голодный год, людям самим есть было нечего. Землицу мне, спасибо, безо всякой задержки выделили, товарищ Длугач сам мой надел отмерял, в общество меня приняли, а насчет зерна или же постройки хаты трудновато пришлось.
Дед Силыч зорко глянул на Острецова, сказал с достоинством:
— По-твоему, голуба моя, только шалопуты людям помогают, а по-моему, трудящему человеку у нас скрозь уважение делают. К примеру, тому же Луке и денег огнищане позаняли, и хату ставить помогли, и на первой пахоте конячат подпрягли к его верблюдице.
Взгляд Острецова скользнул вслед неторопливо шагавшему по горнице Демиду и вдруг стал напряженным и колючим.
— Я не думаю, что человек сам по себе сволочь. Человек, как говорят, стадное животное. Оно любит держаться себе подобных, а самое главное — любит, чтобы его вели на поводу, дорогу ему указывали. Вот и получается: если пастух добрый, то и стадо доброе, а если пастух окажется неспособным, жестоким человеком, от стада останутся рожки да ножки. У нас же что выходит? Когда царя надо было скинуть и разгромить белогвардейцев, мужики почти все пошли в Красную Армию, по снегу разутые шагали, вшей в окопах кормили, а сейчас мы натравливаем мужиков одного на другого: тот, дескать, бедняк, тот кулак, тот вовсе ни туда ни сюда — середняк. Рабочим мы все привилегии дали, клубы для них открыли, столовки с котлетками да с киселями. А мужик как сидел на тюре да на кондере, так и поныне сидит. Хороша правда, нечего сказать!
Острецов говорил спокойно, даже вяло, улыбаясь краешком губ, но все слушали его внимательно насторожившись.
— Возьмите вот Тимофея Шелюгина, — продолжал Острецов. — Он и деникинцев бил, и махновцев, и на польском фронте мотался, а сейчас Тимофей зачислен в список кулаков, сидит и озирается. И мы ничего сделать не можем, потому что нас самих к ногтю прижмут.
— Оно, конечное дело, обидно получается, — глухо отозвался Тимоха Шелюгин. — Я с первых дней за Советскую власть боролся, нога у меня прострелена, а теперь кулаком меня сделали…
В горенке стало тихо. На кровати зашевелился, забулькал слюной ребенок. Ганя качнула его, проговорила, отворачиваясь от Шелюгина:
— Вас же, дядя Тимоша, не за Красную Армию в список кулаков занесли и налог добавили.
— А за чего же? — невесело ухмыльнулся Шелюгин. — За ранение или за контузию?
Ганя поднялась с кровати, застегнула на белой кофточке пуговицу.
— Не за ранение, а за то, что у вас до революции тридцать десятин земли было, коней штук восемь, коровы, две косилки.
Тимоха невозмутимо качнул головой:
— Правильно, Ганечка. Хотя ты в ту пору в люльке лежала, а посчитано у тебя все верно: и земля была, и кони, и косилки. А только эту самую землю мой отец горбом своим и мозолями заработал.
— Охота вам, ей-богу! — сказала, махнув веретеном, Поля Шелюгина. — Завели разговор!
— Нет, погодите, тетя Поля! — загорячилась Ганя. — Я же не для того, чтобы уколоть дядю Тимошу или обидеть его, я ради правды…
Она снова присела на кровать, поправила на спящем ребенке байковое одеяльце.
— Я только ради правды, — повторила Ганя. — Мне вот мой отец рассказывал про вашего деда Левона и про вас, дядя Тимоша, все чисто рассказывал.
— Чего ж он тебе рассказывал, интересно?
— Хорошие, говорит, были люди, справно жили и народу помогали. Если, говорит, у кого нехватка была, сеять, скажем, было нечем или скотина падала с голодухи, шли до деда Левона, и он никому не отказывал, всех выручал и зерном, и картошкой, и сеном. Только за пуд зерна деду Левону потом отдавали полтора пуда, а за картошку и за сено сверх отданного неделю на ваших полях работали, дядя Тимоша. Видите, как получалось.
— Тоже правильно, — кивнул Тимоха, — было такое дело. Но я тут при чем? Я семь годов на фронте страдал, а как домой пришел, меня враз по голове стукнули: ты, говорят, кулак.
Дед Силыч с явной укоризной поглядел на него:
— Грехи тяжкие! Тебе бы надо, Тимоха, как из армии возвернулся, так от папаши своего отделиться — он, мол, сам по себе, а я сам по себе. Ты же все хозяйство на себя принял и даже барахлишко в голодный год за старое зерно менял — шубу барскую, подбитую мехом, два или три граммофона, сапог солдатских цельную связку, платьев разных. А папашу своего, деда Левона, ты чуть не под икону посадил…
Резкий смех Острецова прокатился по горнице.
— Вот если бы ты, Тимофей Леонтьич, отца своего родного собственноручно расстрелял на пороге, коней и коров порезал, а хату спалил, тогда бы ты был не кулак, а вполне советский человек, красный герой.
Разинув щербатый рот, Аким Турчак захохотал:
— Скажут же тоже, чертяки!
— Зря вы, голубы, смех подняли, — обидчиво пожевал губами дед Силыч. — Отца своего убивать ему было незачем, хату палить его никто не заставлял, а вот старой батькиной привычке грань положить и истинным человеком показать себя надо было…
Ганя взглянула на мужа, думая, что он поддержит деда Силыча, но Демид молча вышагивал по горнице, и с его лица не сходила ухмылка. Вопросительный взгляд Гани он встретил спокойно и в ответ только чуть заметно моргнул: пусть, дескать, грызутся, чего тебе встревать!
Но Ганя, как видно, рассуждала иначе. Она подняла руки, просительно сложила их ладонь к ладони и сказала, обращаясь к Шелюгину:
— Поймите вы, дядя Тимоша! Не с дедом Левоном народ нынче воюет и не с вашими двумя косилками, а с тем, на чем неправда стояла, — со всем старым строем. Так я понимаю. Народу надоело в голоде да в обмане жить, и глаза теперь у всех раскрылись…
Андрей, сидевший за спиной деда Силыча, успел заметить выражение ненависти и злого презрения, промелькнувшее на лице Острецова, когда говорила Ганя. Но Острецов тотчас же согнал это выражение вежливой усмешкой и проговорил, указывая на висевшую в простенке фотографию:
— Кто это снят с вами, Ганечка? Кажется, молодой Раух? Стоите вы с ним в парке, как жених с невестой. Что ж вы других поучаете, а портрет этого Юргена не хотите уничтожить? Хотя бы ножницами его отрезали.
— Зачем же? — нахмурилась Ганя. — Кому он мешает? Мы с ним росли вместе, он даже в Германию меня звал, только я не захотела.
— А ты что скажешь, Демид? — спросил Острецов.
Демид щелкнул пальцем по фотографии.
— Нехай себе висит, он хлеба не просит. — Подавив зевоту, Демид подошел к Турчаку: — Давайте «филечку» сгоняем, а то завели политграмоту — слушать тошно.
От «фильки» собеседники отказались и один за другим стали прощаться. Первыми, замотав в платки пряжу, ушли бабы. За ними отправились дед Силыч с Турчаком, потом Тимоха Шелюгин с дядей Лукой.
Острецов задержался. Нарочито медля, он разорвал непочатую пачку папирос, протянул одну папиросу Демиду и спросил осторожно:
— Интересный разговор, правда?
— Какой разговор? — не понял Демид.
— Про шалопутов, про кулаков и про все прочее.
Демид аккуратно размял тугую папиросу.
— Никчемный разговор, завели его зря, от нечего делать.
— Почему ж от нечего делать? Это, брат, как сказать. Сегодня в кулаки записали Тимоху Шелюгина, а завтра нас с тобой, старых конармейцев, туда же запишут. Что мы тогда запоем?
Давая понять, что гостям пора расходиться, Ганя взяла веник у печки, смахнула с лежанки остатки соломы и проговорила, словно про себя:
— Мне тоже сдается, что разговор этот завели напрасно, никому он не нужен. А про вас, Степан Алексеевич, люди бог знает что могут подумать. Заслуженный, скажут, человек, красный командир, а речи у него непонятные.
— Ну, это ерунда, — блеснул глазами Острецов, — мне на это наплевать.
Он вышел вместе с Андреем, зябко передернул плечами, поднял капюшон плаща, в переулке сразу свернул и исчез в темноте.
Андрей постоял под деревьями, послушал, как шумит мелкий, холодный дождь. В деревне еще светились редкие огни. Наверху, на холме, тоже видны были два огонька — в двух окнах ставровского дома. Поеживаясь от сырости, Андрей побрел домой. За плотиной, у подножия холма, ночная темень вдруг поредела, стала мутно-белесоватой, текучей, и Андрей скорее почувствовал, чем понял, что дождь прекратился и посыпал густой влажный снег. Огни внизу совсем потускнели, расплылись в едва заметные пятна. Слева, со стороны невидимого Казенного леса, потянуло холодным дыханием близкого мороза. Сквозь сырую мглу ночи вместе со слабыми запахами земли, навоза и дыма до Андрея дошло это крепкое, опьяняюще свежее морозное дыхание, и он несколько раз глубоко глотнул воздух, захлебываясь и задерживая в груди каждый выдох.
«Какие все-таки разные люди живут на земле, — подумал Андрей, нащупывая утоптанную тропинку в грязи. — На кого ни посмотришь, у всякого своя жизнь и свои мысли. Вот взять деда Силыча: вроде всех на свете любит, ко всем одинаково ласков, а смотри, как он на Шелюгина сегодня напал! И Ганя тоже. Она красивая, Ганя, и в ней есть гордость. А Острецов интересный человек; когда он говорит, кажется, что у него изо рта ножи вылетают — злой, видно, и умный. Такой, наверно, не поможет людям, как этот сибирский шалопут, про которого рассказывал дядя Лука…»
Андрею было не совсем понятно, почему дед Силыч и Ганя ругали сегодня смирного Тимоху Шелюгина, почему его записали в кулаки. Работящий, неглупый, спокойный Тимоха всегда казался Андрею честным и порядочным человеком: он никого не обижал, в поле и дома трудился за троих. Вот Антон Терпужный — этот похож на кулака, свирепый и тяжелый.
Потом мысли Андрея о сегодняшнем вечере сменились воспоминаниями о Еле, которая до сих пор не написала из города ни строчки, о братьях, о сестре, о Тае. «Летом они окончат школу, а я поеду учиться, ждать осталось недолго», — подумал Андрей, вытирая сапоги на постеленной у порога соломе.
Дома не спали. Отец, лежа на кровати, читал, мать сидела у стола с бабкой Сусачихой. Слюнявя пальцы и шевеля губами, толстенькая бабка перебирала разложенные на столе карты и тихонько бубнила:
— Трефовый король — это, стало быть, и есть твой братец. Он имел, видно, какой-то сурьезный разговор с казенным человеком. Возле него винновая дама с хлопотами и червовый король с большими деньгами.
— Значит, бабушка, жив брат Максим? — Глаза Настасьи Мартыновны загорелись.
— А то как же! Известно, жив! На сердце ему падает неприятный разговор с червовым королем, а на душе злость на винновую даму.
— А дорога не падает?
— Дороги, соседка, нету, только злость на эту, винновую…
Андрей уснул, а бабка Сусачиха все бубнила, угадывая судьбу.
6
Не раз пытался угадать свою судьбу и Максим Селищев. Точно влекомая мутной коловертью щепка, еще живой ошметок поваленного дерева, мыкался он по чужим странам, не зная, где его застанет завтрашний день и как в дальнейшем сложится его жизнь. Измученный бесцельным ожиданием, потерявший надежду увидеть близких, он все больше замыкался в себе, все больше сторонился своих друзей по несчастью и сам не заметил, как в последнее время его все туже сдавливает тяжелая, горькая злоба. Подчас он начинал верить в то, что его возвращение на родину возможно только при новой войне против красных, что, если не будет этой новой войны, он сгинет тут, на чужбине, как бессильный, раздавленный сапогом червяк. И ему хотелось, чтобы война скорее началась, потому что терпение его иссякло.
Все лето и осень Максим провел с Крайновым в Париже. Встреча с генералами Миллером и Кутеповым в доме «Русского общевоинского союза», куда Максима привел Гурий Крайнов, если и не принесла ничего утешительного, то все же заронила в душу Максима искру надежды. Суховатый, подтянутый Миллер, пристально всматриваясь в офицеров и скупо жестикулируя, сказал тогда:
— Советский режим идет к гибели. Он будет взорван тремя факторами, которые изучены и учтены нами: недовольством русского народа, внутренними распрями в Коммунистической партии и жесткой политикой иностранных держав. Четвертым, самым важным, решающим фактором должны стать мы, армия освободителей России. От этой задачи не может уклониться ни один офицер.
Генерал Миллер, поглядывая на сидевшего сбоку тумбообразного Кутепова, развернул карту и показал, в каких странах формируются ударные силы белой армии. Отточенный, чистый ноготь генерала провел черточку под разными городами Германии, Литвы, Латвии, Эстонии, Румынии, Болгарии и задержался на Польше.
— Вас, господа, мы решили направить в Варшаву и Вильно, где вы получите дальнейшие указания от есаула Яковлева, который по нашему поручению и по приказу войскового атамана занимается вопросами Дона. Очевидно, Яковлев сумеет обеспечить вам безопасный переход через советскую границу, с тем чтобы вы, поселившись на Дону, могли бы… это самое… проводить подготовительную работу и ждать соответствующих сигналов.
Потом генерал Миллер на секунду задержал взгляд на Максиме. Глаза у него были зоркие, внимательные, с красными прожилками на белках.
— Наш выбор пал на вас, — сказал Миллер, — потому что есаула Крайнова мы давно знаем и ценим, а что касается вас, хорунжий Селищев, то есаул засвидетельствовал вашу порядочность.
Прощаясь и протягивая широкую руку, генерал сказал:
— Верьте в успех нашего дела. На сей раз у нас все взвешено, все рассчитано. Могу вас заверить, что к будущей осени мы все будем в России…
У Максима не исчезли мучительные колебания, но он решил, что иного выхода у него нет, и согласился ехать с Крайновым в Варшаву. «Черт с ним, — думал он, — все равно где пропадать. Посмотрю Польшу — все-таки к дому ближе, — а там, на месте, видно будет: если Крайнов станет подводить меня под какое-нибудь мокрое дело, сбегу от него хоть к дьяволу на рога».
— Придется подождать немного, — сказал ему Крайнов, — наши еще не все утрясли, списываются с кем-то.
— Что ж, будем ждать, — согласился Максим.
Они по-прежнему жили в мансарде безусых «полковников» у неунывающей Риты-Агриппины и целыми днями слонялись по Парижу в поисках работы. Однако найти работу было не так-то легко: и в мрачных рабочих кварталах Ла-Шапель, Бельвиль, Шаронн, и по бесконечному кольцу старых предместий, и по набережной Сены, и по бульварам и паркам — всюду как тени бродили толпы безработных. За жидкую похлебку или пару сантимов они набрасывались на любую работу: грузили уголь, убирали парки, подносили багаж.
Два или три раза Максиму посчастливилось — он топил печи у торговца в Нейи. Потом в винном погребке ему предложили наклеивать этикетки на бутылки. Но и эту кратковременную работу он буквально из горла вырвал у одного эмигранта-грузина, который, назвав себя капитаном и князем, полез на Максима с кулаками. Разъяренный, голодный, Максим ударил кичливого князя бутылкой по голове, сбил с ног, после чего хозяин винного погребка, любитель подобных сцен, предоставил «отважному казаку» право полторы недели возиться с этикетками и уплатил ему тринадцать франков. Максим сожалел, что избил хлыщеватого князя, но как-то встретил его на бульваре, и разодетый, как манекен, князь похвастался тем, что нашел выгодное место — стал сожителем богатой старухи актрисы, которая настолько пленилась им, что пообещала усыновить.
— Ну и нравы у наших дорогих беженцев! — сказал Максим Крайнову. — Разложились, потеряли всякий стыд. Стоит, понимаешь, этакий ферт в клетчатых штанах, усики подбриты, морда напудрена, на пальцах штук шесть колец — смотреть совестно! А ведь, говорит, гвардейским капитаном был!
К удивлению Максима, история с князем не произвела на Крайнова никакого впечатления. Есаул только пожал плечами и кисловато ухмыльнулся:
— Стоит ли думать о дегенератах!
— Как это — стоит ли думать? — возмутился Максим. — Это же наши с тобой соратники, освободители России! Сегодня они на содержание к старухам определяются, завтра становятся вышибалами, карманниками, тюремными палачами! Хороши соратники, черт их побери!
Крайнов с сожалением глянул на Максима:
— Чудак человек! Главная наша беда не в альфонсах и не в карманниках. Беда в том, что все мы враждуем, как пауки в банке, сколачиваем группки, блоки, грыземся, по рожам друг друга лупим, а красные пользуются этим на каждом шагу. Ты бы вот взял да подсчитал, сколько в одном Париже всяких групп: тут и монархисты, и кадеты, и меньшевики, и эсеры, и гетманцы-самостийники, и петлюровцы. Хочешь, пойдем в субботу в кинематограф, послушаем, как сам головной атаман Симон Петлюра будет обкладывать нас, москалей, на сборе своих гайдамаков?
— Разве Петлюра в Париже? — удивленно спросил Максим. — Он же был в Польше.
— Недавно переехал в Париж. В субботу можешь его приветствовать в кинематографе «Урсус».
Однако друзьям-офицерам не пришлось «приветствовать» головного атамана Симона Петлюру. Его уже давно выслеживал незаметный часовщик Шолом Шварцбард, решивший отомстить атаману за кровавые погромы на Украине, за зверское уничтожение многих тысяч евреев. Шварцбард достал фотографию Петлюры, месяцами изучал его вытянутое лицо, тяжелые губы, всматривался в каждую пуговицу на полувоенном атаманском френче. В ясный летний день, когда Петлюра, сытно пообедав, вышел из ресторана и, заложив руки за спину, зашагал по бульвару Сен-Мишель, ему пересек дорогу маленький черноусый человечек в визитке. Галантно приподняв котелок, человечек спросил: «Пан Петлюра?» — и, не дожидаясь ответа, выхватил револьвер и выстрелил в упор пять раз подряд. Убедившись, что Петлюра мертв, человечек вздохнул и неловко отдал револьвер подбежавшему полисмену…
— Ну? Читал? — потрясая вечерней газетой, закричал Максиму прибежавший в мансарду Крайнов. — Видал, какие дела делаются? В самом центре Парижа тр-рах в пана атамана — и поминай как звали. А ты, брат, о карманниках говоришь. Нет, дорогой полчанин, бой не закончен, бой только разгорается!
— Какой там бой! — презрительно отмахнулся Максим. — Сионист-неврастеник шлепнул на улице бандита-погромщика, вот тебе и весь бой. Собаке собачья смерть!
Полуголые, разомлевшие от жары «полковники» — они лежали на постеленном на полу пледе — переглянулись, захихикали.
— Его, наверно, и судить не будут, этого Шварцбарда, — сказал Вадик.
— Конечно не будут, — подтвердил второй «полковник», Дима.
Вадик приподнялся на локте, захохотал:
— А я, если б моя власть, я б его повесил точно так же, как мы однажды в Екатеринославе одного типчика на балконе повесили.
— Перестаньте, болван! — вспыхнул Максим, наливаясь злостью. — Надоела ваша болтовня! Вешатель! Полковник недоделанный!
— Вы не смеете! — завизжал Вадик. — Вы ответите за эти оскорбления!
— Да-да, ответите! — поддержал дружка Дима. — Он вполне доделанный полковник, а вы всего только хорунжий. Понятно?
Смуглые скулы Максима зарумянились, в глазах мелькнул недобрый блеск. Он вскочил, грохнул кулаком по столу, но силач Крайнов остановил его, придержав за плечи:
— Брось дурить! Охота тебе связываться! Нехай чешут языки!
С этого вечера юные «полковники» возненавидели Максима лютой ненавистью, причем их мальчишеское коварство не знало границ: они уговорили Риту-Агриппину, которая за скромную денежную мзду обстирывала всех постояльцев, не стирать для Максима белье, и ему пришлось заняться стиркой самому; они по ночам незаметно вбивали в башмаки Максима острые гвозди, облили йодом его пиджак, несколько раз науськивали ажана, чтобы он проверил беженский паспорт Максима.
«Глупые, шкодливые щенки! — с грустным презрением думал о „полковниках“ Максим. — Выгнали вас из родного дома, и некуда вам приткнуться, нечем заняться. Так вы и сгниете тут, мелкая, никчемная заваль…»
С отвращением приходил Максим в злополучную мансарду, терпеливо выжидал, пока дебелая Рита-Агриппина расстилала на полу ветошь, молча укладывался у своей стенки и засыпал. Он уже не мог без отвращения выносить зубоскальство «полковников», запах дешевой Ритиной пудры и плесени по углам.
Едва только рассветало, Максим уходил из мансарды и до вечера бесцельно шатался по улицам, отдыхал на скамьях в парках, а если удавалось напасть на случайную работу, с остервенением делал все, что ему предлагали: мыл автомобили, подметал улицы, чистил конюшни, таскал на спине ярко расписанные фанерные рекламы. В своем измятом, в пятнах йода, сером костюме, в потертом кепи и тяжелых сбитых башмаках, он ничем не отличался от бродяг-безработных: так же радовался каждому сантиму, с такой же жадностью ел суп в грязных харчевнях, так же дремал где-нибудь в укромной аллее парка или на прогретом солнцем граните набережной.
В предвечерние часы, когда озаренные заходящим солнцем разорванно-кучевые облака, отбрасывая слабые тени, расползались по небу, а их смутно очерченные края дымились розовым, Максим в тысячный раз пытался разобраться в том большом и сложном, что происходило в мятущемся мире. В воскресные дни он видел беспечных и высокомерных дам в лиловых и черных амазонках, ездивших верхом по аллеям Булонского леса, господ в жокейских картузах и ослепительных крагах и спрашивал себя: «Разве безработный с Ла-Шапеля может хладнокровно смотреть на такого румяного хлюста или на эту расфуфыренную куклу? Разве голодный рабочий откажет себе в удовольствии схватить эту сытую шпану за горло? Значит, и наши мужики были правы, поднимая на вилы помещиков. Значит, не вслепую наши рабочие пошли за большевиками».
Максим всматривался в свои жесткие ногти с темной каймой и думал: «А с кем же мне по дороге? С лиловой мадам, с Вадиком или с Советской властью?» Он уже готов был признать, что ему дороже мужик, но глухая, свинцовая злоба против тех, кто вышвырнул его из России, снова подкатывала к сердцу Максима.
Однажды пасмурным осенним вечером Крайнов протянул Максиму тонкий журнальчик, ткнул пальцем:
— Погляди-ка на этот портретик.
На фотографии был изображен, высокий худой офицер с длинной шеей, жестким прищуром холодных глаз и резким разлетом бровей. На офицере черная с шевронами гимнастерка, казачий наборный пояс, на груди Георгиевский крест. Из-под сбитой на затылок фуражки — на ней череп с двумя костями — пышный чернявый, как будто наплоенный чуб.
— Кто это? — спросил Максим.
— Неужто не узнаешь?
— Нет.
— Это, брат ты мой, крупная птица. Борис Владимирович Анненков.
— Сибирский атаман?
— Во-во! Семипалатинский белый палач, как его именовали красные товарищи. Разве ты ничего не слыхал про него?
— Почти ничего, — сказал Максим, — знаю только, что был такой.
— Ну так слушай…
Крайнов рассказал Максиму об атамане Анненкове, с которым ему довелось встречаться еще в пятнадцатом году на фронте.
— В первый раз я видел его в Пинских болотах, — покуривая, говорил Крайнов, — он тогда разгуливал со своим отрядом по немецким тылам. Лихой был рубака и свирепости отчаянной. Когда в Петрограде пошла заваруха, а царя шлепнули, Анненков увел своих чертей-партизан с фронта, пробрался в Сибирь и заявил: «Не сложу оружия, пока вместо казненного слабого царька не будет поставлен крепкий царь». Было это под Омском. С Анненковым оставалось только двадцать четыре человека. Омский совдеп объявил их всех вне закона. Они хоронились по старинным казачьим станицам и помаленьку собирали отряд. К лету у Анненкова было уже больше тысячи стрелков-отчаюг, он захватил Омск и начал свой кордебалет.
Зеленоватые глаза Крайнова заблестели.
— Вот это, я тебе доложу, были прогулки! Два года носился Анненков по Семипалатинской области, дотла спалил сотни деревень и хуторов, перестрелял и перепорол шомполами несчетное число мужиков. Разговор у него был короткий: как только ему донесут, что в таком-то поселке красный флаг вывесили и Советскую власть признали, он сразу приказывал жителей в расход, поселок спалить — и никаких гвоздей.
Когда красные его прижали, Анненков собрал свой восемнадцатитысячный отряд, дошел до китайской границы, выстроил всех гавриков и говорит: «Со мной должны остаться только самые непримиримые враги Советской власти. Те же, которые устали или колеблются, могут валить назад, я их не держу». Ну две тысячи отрядников отделились, построились — мы, дескать, желаем вернуться назад, к своим домам. «С богом!» — отвечает Анненков. Они, значит, налево кругом и пошли по ущелью. Только отошли шагов на двести, Анненков повернулся на коне и командует: «По красным бандитам — огонь!» Так те две тысячи и легли, будто их корова языком слизала.
Максим повертел в руках журнальчик, поглядел на портрет:
— Ну а потом?
— Что ж потом… Потом Анненков оказался в Китае, затеял там драку с каким-то китайским генералом, и его посадили в тюрьму, а отряд разоружили. Три года он оттрубил в тюрьме, а когда вышел, купил на паях со своим начальником штаба Денисовым — тот тоже в тюрьме сидел — клочок земли и, представь себе, занялся хлебопашеством.
— Верно? — удивленно спросил Максим.
— Очень даже верно. Так два года и ковырял плужком китайскую землю, рожь сеял, коней пас, сено косил. Вокруг него разные деятели бобиками бегали — и представители Чжан Цзолина, и всякие консулы, и посланники Николая Николаевича: желаем, мол, чтоб вы бросили эту комедию с хлебопашеством и возглавили все белые силы на Дальнем Востоке.
— А он?
Крайнов пожал плечами:
— Черт его знает, что с ним сталось! Оставьте, говорит, меня в покое. Я, говорит, благодарю вас за честь, но только возглавляйте эти белые силы сами, а мне сподручнее землю пахать и ни во что не вмешиваться. Так, говорит, для жизни будет правильнее и для меня спокойнее.
— Так и не пошел?
— Пошел, только в другое место, — взволнованно сказал Крайнов. Он взял из рук Максима журнальчик, хлопнул ладонью по портрету: — Знаешь, почему французы портрет Анненкова напечатали? Потому, друг ты мой, что Анненков, а также его начальник штаба генерал Денисов только что бросили свой клочок земли, надели шинели, перешли в Советский Союз и заявили: так, мол, и так, дорогие товарищи, приносим вам свои повинные головы, можете их отсечь, а только мы признаем свой грех и просим русский народ судить нас, как положено по закону.
Максима как будто кто кипятком ошпарил.
— Правда?
— Чудак! Если понимаешь по-французски, читай, тут черным по белому напечатано.
История атамана Анненкова поразила Максима. Он не мог понять: на что надеялся этот отпетый, совершивший множество преступлений человек, когда вдруг решил покинуть безопасное место и добровольно отдаться в руки тех, кого он беспощадно убивал, истязал, грабил? Ведь Анненков не мог не знать, что его ожидает только расстрел, потому что ни раскаяние, ни отшельническая жизнь, которую он вел в Китае, ни добровольный переход в Советский Союз не искупали и не могли искупить тяжких его преступлений. Ждала его только смертная кара, и он пошел на это.
«Что происходит в мире, никому не ведомо, — с горьким отчаянием думал Максим. — Мечутся люди, льется на земле кровь, ни на секунду не утихает ожесточенная борьба. Вот совсем близко, за проливом, бастуют английские углекопы, их жены и дети голодают, но они не сдаются. В Португалии один генерал свергает другого. Чемберлен о чем-то договаривается с Муссолини в Ливорно. Никому не известный часовщик убивает Петлюру. Кровавый атаман по своему собственному желанию сдается красным, а в это же самое время меня и Крайнова посылают куда-то в Польшу, чтобы мы готовили свержение красного режима. Но ведь мы только пешки, неприметные козявки, людская пыль, которую разнесет ветер…»
Бесцельность пребывания в Париже настолько надоела Максиму, что он уже не мог дождаться дня, когда можно уехать в Польшу и жить поближе к России. О том, что ему с Крайновым придется нелегально переходить советскую границу, пробираться на Дон и выполнять там какую-то весьма еще неясную «работу», Максим старался не думать.
Уехали они с Крайновым в начале зимы. Крайнов получил в РОВСе деньги и записки от Миллера в Берлин и в Варшаву, где есаулу должны были выдать довольно крупные суммы немецкими, польскими и советскими деньгами. Кроме того, в Вильно, как сказал Крайнов, для него и для Максима будут заготовлены подложные советские документы.
Дни стояли гнилые, слякотные. По утрам перепадали влажные снега. К полудню снега таяли, и пассажиры, к неудовольствию проводников, растаскивали по вагону жидкую грязь. Берлин встретил друзей холодным туманом, сквозь который неслышно моросил нудный, ленивый дождь. Город показался Максиму темным, словно покрытым копотью, угрюмым и мрачным.
— Скучновато немцы живут, — сказал Максим, всматриваясь в повитые туманом серые дома.
— Скучновато, — рассеянно отозвался Крайнов.
Остановились они на Франкфуртераллее, в особняке, который снимал богатый грузин, коммерсант Шоколашвили, давно связанный с РОВСом и предоставлявший убежище миллеровским гонцам. Восьмипудовый толстяк Шоколашвили с лысой, круглой, как шар, головой, громовым голосом и ручищами мясника встретил Максима и Крайнова объятиями и неиссякаемым фонтаном приветствий. Был он пьяница, бабник и говорун, анекдотами сыпал как из мешка и хохотал так, точно конь ржал в пустую бочку.
— Денег у него, проклятого, куры не клюют, — тихонько сказал Крайнов Максиму, — а ловкач, говорят, такой, каких свет не видал, связи имеет во всем мире.
— А чем он занимается?
— Хрен его знает! То парфюмерию возит из Франции в Турцию, то отправляет в Китай опиум, то везет партию девок для аргентинских бардаков, а больше всего валютой промышляет.
Жены у Шоколашвили не было, женской прислуги тоже, все хозяйство вели два пожилых грузина, одетых в легкие черные черкески и в мягкие, без каблуков, желтые сапоги.
— Сейчас мы для дорогих гостей роскошный обед будем закатывать, — рычал Шоколашвили, бегая по комнатам. — Вино достанем грузинское, в бурдюках, девочек для удовольствия позовем, нам ничего не жалко.
Обед действительно оказался роскошным. После европейских деликатесов, сервированных на обычном, накрытом крахмальной скатертью столе, гостей пригласили в дальнюю, угловую комнату, в которой, кроме ковров и низенького, на трех ножках, столика, ничего не было. Сюда были поданы шашлыки, сациви, а вино наливалось из лежащего на полу бурдюка в окованный серебром рог.
Вскоре появились и «девочки», не первой свежести русские беженки-эмигрантки в поношенных, но кокетливых платьях. Шоколашвили рассадил их между мужчинами и прогудел добродушно:
— Меня зовут Константинэ, Костик. Моих драгоценных гостей — Гурий и Максим. Девочек зовут Катя, Тамара и Фенечка. Будем все друзьями и выпьем за любовь!
Сидящая рядом с Максимом тщедушная Фенечка — в ее темных волосах уже пробивались первые нити седины, а губы были слегка надуты, как у обиженного ребенка, — ела с плохо скрытой жадностью, поглаживала руку Максима и говорила тихонько:
— Вы не представляете, какая у меня тоска по людям. Живу я тут с мужем, но он не выходит из казино, проигрывает последние сбережения… А вы мне нравитесь, у вас хорошее лицо, только глаза почему-то грустные. Вы, наверно, много пьете, правда?
— Нет, почти никогда.
— А мне показалось — вы пьете.
— Нет…
Максим все больше пьянел. Голова у него кружилась. Как сквозь сон слышал он граммофонный голос хозяина, который рассказывал длинные анекдоты.
Потом Максим оказался в комнате с Фенечкой. Когда он проснулся, в окно робко вползал мутный, белесоватый рассвет. Было очень жарко. Фенечка спала. Жиденькая грудь ее лежала на локте Максима. Глянув на Фенечку, Максим, весь охваченный щемящим чувством жалости, поцеловал ее в плечо и уснул.
Разбуженный голосами Крайнова и Шоколашвили, он открыл глаза, поднялся. Фенечки в комнате уже не было.
После завтрака занялись делом. Прислужники в черкесках втащили в кабинет хозяина холщовый мешок и вышли, плотно притворив дверь. Шоколашвили развязал мешок, пнул его ногой. Из мешка вывалились обвязанные тонким шпагатом пачки денег.
— Вот они, — захихикал, как будто его щекотали, Шоколашвили, — советские червонцы! Берите, дорогие друзья, сколько нужно! Увезете по мешку — везите по мешку, берите, если желаете, по два, по три мешка, расходуйте на здоровье! Нам ничего не жалко!
— Расписку надо писать? — деловито осведомился Крайнов.
— Какая там расписка, кацо, — отмахнулся Шоколашвили, — я же говорю — берите сколько влезет! Чем больше в Советском Союзе распространится этих червонцев, тем будет лучше для нашего с вами общего дела.
С холеной физиономии Шоколашвили сошла усмешка. Он выдернул из пачки несколько червонцев, швырнул их на стол.
— Это бомба для большевистских финансов. Червончик выглядит как настоящий, можете хоть в лупу на него смотреть. По нашему заказу выполнен в Будапеште и уже поехал, голубчик, по разным маршрутам. Мы этим червонцем хлестнем по морде советского наркомфина, в корне подорвем их денежную политику, забросим туда миллионы, миллиарды фальшивых денег и собьем коммунистов с ног…
Хвастливый болтун Шоколашвили рассказал казачьим офицерам, как группа грузинских эмигрантов — меньшевик Церетели, некий Корулидзе, князь Николай Эристави, украинский помещик барон Штейнгель, бывший секретарь Распутина Симанович, а также известный немецкий генерал Гофман — разработала план финансовой диверсии против Советского Союза. План заключался в том, чтобы изготовить миллиарды фальшивых червонцев, перебросить их на территорию СССР, пустить там в обращение и этим подорвать советскую валюту.
— Мы пошлем русским коммунистам хороший гостинец, — заключил Шоколашвили. — Наш червонец удушит их без крови, без солдат и без танков.
— Однако, если мы с хорунжим попадемся в России как распространители фальшивых денег, нас законопатят в тюрьму и мы провалим свое дело, — не без оснований заметил Крайнов.
— Это начисто исключается, дорогой кацо, — ухмыльнулся Шоколашвили. — Червончик наш изготовлен так, что комар носа не подточит. Можете смело ехать и тратить денежки где хотите…
Ночью Максим и Крайнов выехали варшавским поездом в Польшу. В их вместительных кожаных саквояжах лежали кипы червонцев. Таможенные чиновники на границе были предупреждены о том, чтобы багаж господ Крайнова и Селищева пропустить без осмотра.
В Варшаве друзья пробыли всего два дня. Остановились они в скромной гостинице, где их посетил щеголеватый молодой человек в отлично сшитом светло-сером костюме. Молодой человек назвал себя штабс-капитаном Веверсом и сказал, что есаул Яковлев ждет господ офицеров в Вильно, куда им надлежит ехать без задержки.
Надушенный тонкими духами штабс-капитан проинформировал Максима и Крайнова о положении в Польше.
— Дела у поляков идут неважно, — сказал Веверс, небрежно поигрывая снятым пенсне, — Злотый их летит в трубу, рабочие бастуют, в восточных районах шляются партизанские банды — им явно помогают красные. Как вы знаете, полгода назад Юзеф Пилсудский снова захватил власть. От поста президента он дипломатически отказался, назвал себя главным инспектором армии и, конечно, держит Польшу в кулаке. Теперь нашему брату эмигранту стало легче дышать: ведь старик Пилсудский свирепо ненавидит Советскую Россию и всячески поддерживает нас.
— Слава богу! — ввернул Крайнов. — Надо только умело воспользоваться этой поддержкой.
Штабс-капитан Веверс учтиво улыбнулся:
— В меру наших возможностей пользуемся, вы увидите это в Вильно. Там мы действуем открыто: издаем свои газеты, имеем свои школы, собираемся без всякой опаски. У нас даже есть свой большой дом — «русское общежитие». Впрочем, есаул Яковлев покажет вам все.
— А что он за персона? — спросил Максим.
— Кто?
— Есаул Яковлев.
Веверс ловким движением руки надел пенсне, многозначительно поднял бровь.
— Я, собственно, не знаю, почему Яковлев скромно именует себя есаулом. В Добровольческой армии он командовал дивизией, а сейчас является весьма доверенным агентом великого князя Николая Николаевича. Яковлев близко связан с виленскими кругами Сапеги и Радзивилла и руководит очень крупной организацией. Послезавтра вы увидите его в Вильно…
Есаул Яковлев оказался красивым, атлетического сложения человеком лет сорока. Он носил драповую офицерскую шинель, папаху, казачьи шаровары с лампасами. Лицо у Яковлева было чистое, открытое, с ярким ртом, оттененным русыми усами и кудрявой бородкой.
— Прибыли, станичники?! — воскликнул он, встречая на вокзале Крайнова и Максима. — Ну, идите сюда, давайте по донскому обычаю обнимемся и расцелуемся.
Расцеловав обоих офицеров, Яковлев отыскал извозчика, усадил гостей в сани, ткнул старика извозчика пальцем в спину:
— Ко мне домой. Ты знаешь…
В своей тесно обставленной неуклюжей мебелью, увешанной иконами и птичьими клетками квартире Яковлев познакомил приезжих с молчаливой казачкой-женой, угостил обедом с водкой. После обеда, расстегнув синий чекмень и закурив трубочку, он заговорил благодушно:
— По всей видимости, в следующем году большевикам крышка. Теперь уже все европейские правительства поняли наконец опасность красных и стали объединяться в своих действиях. Конечно, решающую роль сыграют при этом граничащие с коммунистической Россией государства, особенно Германия и Польша. Сюда сейчас помаленьку стягиваются наши силы, и тут мы начнем завязывать узелки…
Склонив голову, закрыв от наслаждения глаза, есаул Яковлев послушал, как заливается в клетке пестрый щегленок, и пробормотал:
— Артист, сукин сын!
Чайной ложкой он бросил щегленку семян и продолжал, сохраняя на лице выражение умиленности и восторга:
— В одиннадцати городах у нас организованы особые террористические группы, которые только ждут сигнала. В этих группах собран интересный народец. Вот сегодня я познакомлю вас с одним экземпляром. Мальчонка, понимаете, сопляк, а делу, стервец, предан до исступления. Уверен, что этот юнец через три-четыре месяца станет мировой известностью. Впрочем, я сейчас могу его вам представить. — Есаул повернулся к жене: — Дуся, сбегай, радость моя, за Борисом, я хочу познакомить его с гостями.
Безмолвная Дуся покорно накинула бархатную шубейку и вышла. Есаул принес из кухни коньяк, разлил его по стаканам.
— Больно много у нас трусов, слюнтяев и эгоистов, — с огорчением сказал он, отхлебывая коньяк. — Побольше бы таких, как этот мальчик Борис, и мы давно горы свернули бы.
Через четверть часа в сопровождении Дуси в комнату вошел довольно высокий худощавый парень лет восемнадцати. У него было нездорового оттенка лицо с острым подбородком и губастым ртом, темные, зачесанные назад волосы, угрюмоватые карие глаза с припухшими веками. Из своего кургузого серого пиджака парень явно вырос. Искоса глянув на Максима и Крайнова, он одернул короткие рукава, подул на покрасневшие от холода руки.
— Заходи, Боря, не стесняйся, — ласково сказал есаул. — Это наши люди, казачьи офицеры из Парижа. Иди познакомься.
Парень неловко шаркнул ногой и произнес глуховато:
— Борис Коверда.
Есаул кивнул парню, тот присел на край стола, положил на колени руки. Пальцы у него были короткие, с обкусанными ногтями.
— Давай будем чаевничать, Дуся, — сказал есаул жене, — неси из кухни самовар.
— Самовар у нас ведерный, — улыбнулась Дуся, — из России его тащили, а зачем — неизвестно.
— Давайте я вам помогу, — предложил Максим.
Он вышел с хозяйкой в кухню.
Есаул Яковлев мигнул есаулу Крайнову:
— В Варшаве сидит Петр Войков, посол Советского Союза в Польше. Наш Борис очень хочет познакомиться с господином послом. Так ведь, Боря?
Парень подул на руки, смущенно потянул носом.
Глава пятая
1
Новый, 1927 год семья Солодовых встретила в губернском городе, в двухэтажном кирпичном особняке, принадлежавшем зажиточной мещанке-старухе, которая владела тремя большими ледниками и занималась продажей льда. Особняк стоял на горе, на окраине города. Обширный двор был огорожен высокой кладкой из камня-дикаря. Во дворе размещались ледники, сарайчики, росли три корявых, разлапистых клена. Старуха с неженатым сыном жила в нижнем этаже особняка, а верхний этаж — три комнаты с кухней, с балконом и выходившей во двор деревянной террасой — сдала Солодовым.
С балкона солодовской квартиры виден был почти весь город, вытянутый вдоль неширокой, спокойной реки: застроенные высокими домами улицы, площади, купола церквей, лес заводских труб на окраинах, пристани, над которыми с весны до осени темной пеленой расстилался пароходный дым, а зимой, по ночам, ослепительными зелено-голубыми молниями вспыхивали огни сварочных аппаратов.
Еля, как всякая девушка ее возраста, с первого же часа пребывания в городе чувствовала себя на седьмом небе. Остались где-то позади однообразные, по-осеннему унылые поля, убогие деревенские домишки, грязь и скука на кривых улицах Пустополья. У Ели начиналась новая жизнь. Город встретил ее громадинами домов, блеском витрин, звоном ярко выкрашенных трамваев, шумом и гомоном многотысячной толпы, непрерывным движением людей, лошадей, машин.
Квартира тоже понравилась Еле. Комнаты были хоть и небольшие, но чистые, двери и окна окрашены белой масляной краской, полы обиты линолеумом, со двора на террасу вела входная лесенка с перилами, и всюду — во дворе, на террасе, в комнатах — было убрано, подметено, почищено.
— Как тут хорошо! — закричала Еля, пробежав по двору и осмотрев квартиру.
— Тебе нравится? — спросил Платон Иванович, любуясь дочерью.
— Очень нравится. — Еля зарумянилась.
Платон Иванович потеребил ее косу.
— Ну, я очень рад. Помогай маме устраиваться, а потом пойдешь со мной на завод, посмотришь, каким он красавцем стал.
Несколько дней Марфа Васильевна и Еля возились в квартире, планируя, где будет спальня, где столовая, расставляя купленную по случаю недорогую мебель, развешивая сохранившиеся после пятилетних скитаний коврики, картины в дешевых рамках — все, что было привезено в город или приобретено в последние дни Платоном Ивановичем.
Как это всегда бывало, скоро под умелыми руками Марфы Васильевны каждый уголок квартиры засиял чистотой и порядком, от половичка в коридоре до белоснежного покрывала на Елиной кровати, все нашло свое место. Квартира приобрела жилой вид.
— Можно справлять новоселье и Новый год вместе, — сказал довольный Платон Иванович. — Вечером позовем Юрасовых и выпьем с ними по стаканчику.
Юрасовы тоже переехали в город и сняли квартиру в полуподвальном помещении большого дома на одной из центральных улиц. Матвей Арефьевич Юрасов устроился токарем на том же заводе, где стал работать Платон Иванович.
Новоселье справили скромно, но весело. Посидели двумя семьями сначала у Солодовых, потом у Юрасовых, вспомнили пустопольские мытарства, свою мастерскую в сарае.
— Вот, скажи ты, как человек устроен, — задумчиво проговорил чуть захмелевший Платон Иванович, поглядывая то на жену, то на Юрасова. — Казалось бы, что такое Пустополье или эта наша мастерская? Чепуха, собачья дыра. Вот проработали пять лет в этой дыре, расстались с нею — и мне уже чего-то жалко, как будто распрощался я с добрым знакомым.
— Есть о чем жалеть! — Матвей Арефьевич махнул рукой.
— Жалеть, конечно, не о чем, а я вот вспоминаю, сколько нам пришлось повозиться с окаянным мотором, как мы наш станок устанавливали, как доставали каждое сверло, каждый напильник, сколько лет трудились. И думаю: ведь только эта мастерская и спасла наши семьи.
— Ничего, — отозвалась Марфа Васильевна. — Что было, то прошло. Теперь будете на заводе работать, детей учить. Всему свое время.
Толстая Харитина Саввишна поддакнула:
— Правильно. Давайте выпьем за наших детей, за их счастье в новом году!
Из Елиной угловой комнатки позвали Павла и Елю:
— Идите, молодежь, выпейте по рюмочке кагора!
В дверях показался Павел, осторожно придерживая Елю под локоть. Ему пошел девятнадцатый год, и был он красив той яркой, хотя и резковатой красотой, какая часто встречается на юге: пышные черные волосы, черные брови над серыми глазами, припухлые, чувственные губы. Еля ростом была ниже Павла. Она расцвела в свои шестнадцать лет и держалась так свободно, что Павел рядом с ней казался увальнем.
— Вот поднялись наши ребята, как на дрожжах взошли, — сказала Харитина Саввишна, не сводя с сына глаз. — Я и не заметила, как они выросли.
Еля присела на стул рядом с матерью, Павел облокотился о стул Ели.
— Куда же вы думаете Павлика определять? — спросил Платон Иванович.
Матвей Арефьевич переглянулся с женой:
— Мы с Саввишной советуем ему в техникум поступить, в торгово-промышленный, у меня там знакомый работает.
— Не пойду в торгово-промышленный техникум, — насупился Павел, — крепко он мне нужен!
— Слыхали? Техникум ему не нужен. Хочу, говорит, на завод идти работать.
Марфа Васильевна лукаво глянула на Павла:
— Ну-у, Павлик, тогда мы Елку за тебя не отдадим. Она у нас осенью в музыкальную школу поступит, учиться будет. Зачем ей неученый жених?
— Я на Елке жениться не собираюсь, — багрово покраснев, сказал Павел.
— Вот тебе и на! Почему же это?
— Она все равно за меня не пойдет.
Все захохотали. Павел и сам рассмеялся. Еля, поддразнивая его, качнула стул.
— А я вот назло всем возьму и выйду за тебя замуж.
— Что ж, если хочешь стать женой рабочего, — серьезно сказал Павел, — выходи за меня.
— Разве ты всю жизнь хочешь остаться рабочим?
Павел выпрямился:
— Почему же всю жизнь? У меня одна мечта — стать таким мастером, как Платон Иванович. Я, бывало, смотрел там, в мастерской, что Платон Иванович делает с железом, медью, сталью, а потом ночами не спал: если б, думал, мне такие золотые руки, я бы не знаю что сотворил.
Растроганный Платон Иванович тронул плечо Матвея Арефьевича:
— Видишь ты, какая штука. Может, на самом деле возьмем его с собой на завод? А? Пускай парень работает.
Матвей Арефьевич потемнел лицом:
— Об этом не может быть никакого разговора. Осенью Пашка поступит в торгово-промышленный техникум — и все. Окончит техникум, тогда пусть делает что хочет, а оставлять его недоучкой я не желаю. Завод заводом, а учеба учебой.
Заговорили о заводе. И Солодов и Юрасов были приняты в механический цех, первый — мастером, второй — токарем. На работу они должны были выйти после Нового года, третьего января. Этот день приближался, и с каждым часом Платон Иванович испытывал все большее волнение.
— Понимаешь, Арефьич, — сказал он другу, — пять лет не был я на заводе и вот теперь возвращаюсь, как в родительский дом после разлуки. Как же, думаю, встретят меня там, в родной семье? И радостно мне, понимаешь, и боязно: вдруг я за эти годы от чего-то отстал, чего-то не пойму, в чем-то ошибку сделаю?
— Брось ты, ей-богу! — Матвей Арефьевич обнял его. — Пятнадцать лет проработал на этом самом заводе, мастер — какого не найдешь, а сам как малое дите. Мне до тебя далеко, а я послезавтра за свой станочек так спокойненько встану, как будто только вчера с ним расстался. Вот посмотришь.
— Ничего, папка, — Еля приласкалась к отцу, — все будет хорошо…
Третьего января Платон Иванович поднялся затемно, разбудил Марфу Васильевну, надел свой старый рабочий костюм, завернул в газету приготовленный сонной женой завтрак.
— Ну, Марфуша, я пошел, — сказал он торжественно.
— В добрый час!
Платон Иванович зашагал пустынными улицами до трамвайной остановки. Сегодня как будто все радовались вместе с Платоном Ивановичем: впервые за неделю выдалось ясное зимнее утро с чистым бледно-голубым небом, с розоватой зарей на востоке, с легким морозцем. Одетые в полушубки дворники, позевывая, счищали скребками снег с тротуаров. На перекрестке расхаживал в длинной шубе постовой милиционер.
Позванивая, слабо светя уже незаметным в утренний час прожектором, подошел трамвай. В трамвайном вагоне было немного людей, почти все рабочие, пожилые и молодые. Стайка молодых сбилась на площадке, а пожилые сидели на скамьях, негромко перебрасывались словами. Много лет ездили они одним маршрутом, давно знали друг друга, вместе бастовали когда-то, вместе бились на баррикадах. Движения у них были степенные, неторопливые, а речи немногословные и спокойные. Даже не зная, кто из них где работает, Платон Иванович, взволнованно улыбаясь и посматривая на соседей, безошибочно определял по рукам, по ватным стеганкам, по запахам, которыми стойко пропитались темные робы: эти двое — на судоремонтном, этот — на кожевенном, эти — на металлургическом, эти — на лесопильном…
«Вот они, мои добрые друзья, сверстники юности! — захлестываемый горячей радостью, думал Платон Иванович. — Постарели, черти, а еще крепкие как дубы. И меня, видно, не узнают. Ну ничего, узнают…»
Трамвай почти без остановок пролетел пустые центральные улицы, на которых еще светились матовые фонари, и только за парком, в рабочей слободе, стал часто останавливаться, впуская и выпуская толпы людей.
Платон Иванович дохнул на заиндевевшее окно, протер пальцем стекло. Да, это были знакомые с детства места, знаменитая в истории революции рабочая слобода, в которой он сам, Платон Иванович Солодов, родился и вырос. Вытянутая вдоль реки верст на десять, рабочая слобода состояла из старых фабрик и заводов, мастерских и депо, в свое время построенных владельцами в одну линию, несколько отдаленную от речного берега. У самого берега лепились соединенные между собой рабочие поселки — Кукуй, Залепиха, Бабки, Щучий, Кабачный, Свинки — тысячи разнокалиберных домиков, деревянных и глинобитных бараков, с чахлыми деревцами, с голубятнями, сараями, нужниками, с вечной грязью и пылью, с копотью, которая затемняла все, от оконных стекол до человеческих лиц. Между линией заводов и рабочими поселками пролегала пятиколейная ветка железной дороги с путями, ведущими на каждый завод, с фонарями, семафорами, будками стрелочников.
Тут сорок четыре года назад, в поселке Залепиха, в семье слесаря, родился Платон Иванович Солодов. Тут, среди заводских труб, сернистого дыма, грохота, звона, паровозных гудков, он рос, учился, работал сначала подносчиком, потом подручным слесаря, токарем, помощником механика. Отсюда с пьяными песнями, с бабьим воем, с визгом гармошки проводили его на военную службу, и уже через три года стал он, чернявый ладный крепыш, машинным квартирмейстером броненосца «Князь Потемкин-Таврический», потому что были у него золотые руки мастера-механика, острый ум и цепкий, все примечающий взгляд. В этот самый год, когда машинный квартирмейстер Платон Солодов с товарищами носился на мятежном броненосце по Черному морю, на баррикадах рабочей слободы гибла его большая родня — дядьки, родные и двоюродные братья, племянники, зятья. Щедро полили они своей кровью заводские дворы, рельсы и шпалы, булыжники мостовой, песчаный берег тихой, спокойной реки…
Сквозь протертый в инее прозрачный кружочек Платон Иванович узнает ворота каждого завода, каждой фабрики. Вот чугунолитейный — тут почти сорок лет работал дядя Игнат. Вот судоремонтный — на нем трудились дядя Конон и дядя Николай. Вот металлургический — его теперь не узнать, так он разросся. Ему, этому металлургическому, всю жизнь отдал смирный многодетный работяга-слесарь Иван Солодов, родной отец Платона Ивановича. Рядом ворота вагоноремонтного, электростанции, потом старинные решетчатые ворота джутовой фабрики — на ней лет по тридцать работали тетка Евдокия, тетка Матрена, сестры Надя и Вера.
— Что, кум, старые места узнаешь? — раздался за спиной Платона Ивановича прокуренный голос. — А я смотрю: ты или не ты? Даже сбоку заглянул. Ну давай же поздороваемся!
На скамью, где сидел Платон Иванович, подсел коренастый темноусый мужчина в пальто и меховой шапке-ушанке, давний знакомый Солодовых, механик трамвайного депо Шавырин, у которого Марфа Васильевна крестила двух дочек-близнецов.
Солодов и Шавырин обнялись.
— Долго же ты мотался по деревням! — сказал Шавырин, всматриваясь в лицо Платона Ивановича.
— Да вот только приехал.
— Опять на механический?
— Опять. А ты все там же, в депо?
— Там.
— Как семья? — спросил Платон Иванович. — Живы-здоровы?
— Скачут помаленьку, — не без гордости сказал Шавырин. — Юрка политехнический кончает, инженером будет, крестницы ваши в школу бегают. В общем, все идет как положено.
Он поднялся. Приближалась его остановка.
— Ты где же квартируешь?
— Каменный спуск, два.
— О-о-о! — обрадовался Шавырин. — А я совсем рядом, на Карповке.
— Заходи всей семьей в воскресенье, — сказал Платон Иванович, — надо же повидаться.
— Обязательно зайду, — пообещал Шавырин.
Платон Иванович проводил его взглядом и опять, как это обычно бывает, когда человек оказывается в родных местах, стал думать о своей жизни. Жизнь у него была нелегкая. Вместе с другими матросами «Потемкина» он был судим военно-полевым судом, два года отсидел в крепости, потом вернулся в родной город и стал работать мастером на механическом заводе. Хозяин завода, немец Юст, предупредил Солодова: «Ты хороший механик, я тебя помню, но, если ты хоть немножко будешь делать революцию и портить моих рабочих, я тебя буду закатывать в Сибирь, на вечную каторгу». Не столько угроза всесильного Юста, сколько жизненные события заставили Солодова целиком отдаться заводской работе. Он и на броненосце не отличался особой активностью, а тогда, после крепости, решил: «Куда там мне революцию делать! Характер у меня неподходящий, смирный, буду я лучше в цехе трудиться». Вскоре Платон Иванович познакомился с Марфой Васильевной Шкрылевой, дочерью мастера железнодорожного депо, обвенчался с ней в слободской церквушке и зажил своей семьей.
«Да, как будто немного лет прошло, а рабочая слободка изменилась, — подумал Платон Иванович, всматриваясь в мелькавшие за окном трамвая новые дома, киоски, бульварчики. — Много тут за эти годы понастроили. Возле швейной фабрики садик посадили, возле кирпичного завода клуб выстроили, на пустыре, за кожевенным, рельсопрокатный завод строят. И людей в слободе намного больше стало…»
— Первый механический! — выкрикнула девушка-кондуктор.
Платон Иванович вышел из вагона.
После возвращения из Пустополья он уже дважды побывал на заводе — когда договаривался с директором о работе и когда ходил получать пропуск и трудовую книжку, — но сейчас он подходил к знакомым воротам с каким-то особым чувством волнения и торжественности: сегодня ему предстояло начать на заводе свой первый рабочий день.
Большие часы над воротами завода показывали без четверти восемь. К проходной двигалась вереница людей. Дородные, краснощекие торговки выкрикивали, перебивая друг Друга:
— Пирожки свежие!
— Горячее молоко!
— Булочки! Берите булочки!
Предъявив пропуск, Платон Иванович вошел во двор.
Тут как будто все осталось прежним: гора железного лома в заднем углу, маслянистые лужи на плотно утрамбованной земле, вагонетки, тачки, запахи ржавчины, разогретого металла, карбида, краски. Слева и справа темнели огромные двустворчатые двери цехов — кузнечного, литейного, механического, малярного, сборочного.
Шестьдесят с лишним лет выпускал завод Юста различные сельскохозяйственные орудия — плуги, бороны, культиваторы, веялки, косилки, а также выполнял любые выгодные Юсту заказы: отливал столбы для уличных фонарей, крышки канализационных люков, делал пожарные помпы, шахтные вагонетки, колодезные насосы. И теперь еще зеленые, с красными колесами «юстовские» плуги, бороны и косилки расходились во все концы страны, только вместо клейма «Генрих Юст» на заводских изделиях стояло новое клеймо — «Красный витязь».
— Всему свое время, — сказал Платон Иванович.
Он вошел в цех. Рабочие — большинство их показалось Платону Ивановичу неоперившейся молодежью — расходились к станкам, позванивая инструментом. На ходу раздеваясь, пробежал молодой инженер, начальник цеха, с которым успел познакомиться Платон Иванович у директора завода.
Во дворе протяжно зазвучал гонг. Рабочий день начался. И сразу завод наполнился грохотом металла, звоном, шумом станков. Платон Иванович медленно снял пальто, повесил его на крюк в углу, провел рукой по седеющим волосам.
Через десять минут к нему подошли два молодых токаря, заговорили наперебой:
— Вы новый мастер?
— Товарищ Солодов?
— С нас вот требуют быстроты, а резцы горят — чего делать?
— Охлаждайте керосином или мыльной водой, — сказал Платон Иванович.
— Так мы же не сталь обрабатываем, а чугун, — возразил один из токарей. — Разве чугун можно охлаждать керосином?
Платон Иванович сдвинул брови:
— Вы не чугун, а резец охлаждайте. Понятно?
Он круто повернулся, прошелся по цеху, приветственно похлопал по плечу работавшего на третьем станке Матвея Арефьевича, потом стал останавливаться у каждого станка, заговаривать с рабочими. То тут, то там слышались его короткие спокойные замечания.
— Напрасно вы, молодой человек, измеряете расстояние между канавками такой грубой скобой. Привыкайте к точности, пользуйтесь микроштыкмусом…
— А у вас что? Дыры вала не совпадают с дырами планшайбы? Закрепите вал, он и не будет качаться…
— Я вам советую, дорогой, заправить в суппорты разные резцы, один пошире, другой поуже — так дело пойдет быстрее…
Платон Иванович неторопливо ходил по цеху, пристально, надев очки, рассматривал отдельные детали, а вслед ему несся шепоток:
— Новый-то мастер, видать, дока.
— Он, говорят, лет десять тут проработал.
— На «Потемкине», говорят, плавал.
— А по характеру, видать, не злой.
— Выговаривает, а глаза у него смеются…
День показался Платону Ивановичу таким коротким, что он оставил свой завтрак нетронутым и не заметил, как стемнело. На протяжении дня он встретил полсотни старых заводских товарищей — слесарей, литейщиков, формовщиков, инженеров, — и каждый из них обнимал его, пожимал руку, расспрашивал. Платон Иванович почувствовал, что теперь, после долгой разлуки, завод стал для него еще дороже, чем был.
Возвращался в темноте. У калитки его встретили Марфа Васильевна и Еля.
— Ну как, папка, доволен? — закричала Еля, прижимаясь головой к отцовскому плечу.
— Очень доволен, Елочка, — сказал Платон Иванович, — только есть хочу до невозможности.
— Почему же ты завтрак не съел? — удивленно спросила Марфа Васильевна. — Я тебе булочку положила, масла, яичек.
Платон Иванович виновато почесал затылок:
— Про завтрак я, понимаешь, забыл…
Обед в этот день прошел в семье Солодовых празднично. В честь возвращения мужа на завод Марфа Васильевна купила вина. Все выпили за здоровье Платона Ивановича, а он, закусывая, часто вытирая усы и рот накрахмаленной салфеткой, принялся обстоятельно рассказывать о заводе и сегодняшних встречах. Мать и дочь, подперев ладонями щеки, внимательно слушали. Они знали и Шавырина, и многих других рабочих и мастеров, о которых упоминал Платон Иванович, им было интересно слушать о знакомых людях.
Так у Солодовых началась прерванная годами голода городская жизнь, и уже через несколько дней им показалось, что эту жизнь ничто не прерывало, что вообще не было ни глухого Пустополья, ни деревенских невзгод, а был только тяжелый сон.
Но, пожалуй, никто в семье Солодовых так бурно не радовался возвращению в город, как Еля. Она наслаждалась всем — шумом трамваев, нарядными витринами, веселой человеческой толпой, всеми звуками, шумами, красками и запахами большого города. Вместе с Павлом Юрасовым Еля ходила в театр, пропадала в музеях, смотрела захватывающие кинобоевики.
Скоро к Павлу и Еле присоединились молодые Шавырины — брат и две сестры. Юрий Шавырин, не по возрасту полный юноша с чисто выбритыми щеками и модной прической, вначале относился к Еле покровительственно, обучал ее фотографии, водил на концерты, а потом влюбился и каждый свободный час стал проводить у Солодовых. Приносил иллюстрированные журналы, копировал затейливые рисунки для вышивки, а иногда просто болтал о всякой всячине.
Еле нравились ухаживания Юрия, взрослого парня. В ней все больше обнаруживалось то безыскусственное и потому особенно тонкое и непринужденное кокетство, которое свойственно каждой красивой, здоровой девушке и не требует от нее никаких усилий. В своем милом девическом кокетстве Еля не ставила перед собой никаких целей, но при появлении Юрия она неизменно и незаметно для себя меняла интонации, мягким и округленным жестом поправляла волосы, смеялась заразительно и звонко.
— Ты что ж, променяла своего огнищанского рыцаря Андрюшку Ставрова на этого боровка в полосатом свитере? — тщетно скрывая ревность, спросил как-то у Ели Павел Юрасов. — А сама мне говорила, что обещала писать в Огнищанку.
— Ну обещала, что ж из этого? — ответила Еля. — Напишу когда-нибудь…
На секунду ей вспомнилась спрятанная между двумя холмами убогая деревушка, высохший пруд, старый парк, бурые поля под пасмурным небом, Андрей, одиноко стоявший на перроне полустанка с фуражкой в руке. Еле стало жалко Андрея, захотелось увидеть его, но она лениво отмахнулась от воспоминаний и подумала: «Если захочет, напишет сам».
2
Под избу-читальню была отведена большая комната в старом кулацком доме, в котором теперь размещался сельсовет. В комнате было шесть окон, между ними Андрей наклеил вырезанные из «Красной нивы» картинки, а на свободной стене, в окружении плакатов, прибил два портрета в рамках — Ленина и писателя Фурманова. Плакаты Андрею выдали в волполитпросвете. В первые дни они пугали огнищанских баб. Почти полстены занимал плакат Авиахима: багрово-красная голова в клетчатом кепи, в очках, вместо стекол в оправу очков были вставлены восточное и западное полушария, под которыми сверкали ощеренные в улыбке зубы фантастического парня-весельчака. Надпись к плакату гласила: «Совершить кругосветное путешествие можно за 50 копеек, купив лотерейный билет Авиахима». Второй был еще больше и ярче. Окруженный звездами, на плакате алел гигант рабочий в фартуке. Он стоял, широко расставив ноги, одним башмаком касаясь Кремлевской башни, а другим — завода. В руках рабочий держал электростанцию, от которой расходились апельсиново-желтые лучи.
— Тьфу, чтоб тебя гром побил! — шарахались бабы при виде плакатов. — Придумают же такое, что ноги трясутся.
— Очкастый вовсе на черта скидывается…
— Гляди, как зубы оскалил!
Длугачу, однако, плакаты понравились.
— Ничего, подходящие плакатики, — сказал он, войдя в избу-читальню, — в самую точку бьют. Надо только людям разъяснение про плакаты делать, особливо темным женщинам, а то они с перепугу нервы себе суродуют.
Он прошелся по комнате, одобрительно похлопал Андрея по плечу:
— Молодчага, избач! Работенку ты правильно проворачиваешь и порядок вроде навел. За это тебе спасибо. Надо только в хозяйственных кампаниях помощь сельсовету оказывать и против яда религии агитацию вести. Ясно? А ты почему-то не влезаешь в это дело, робеешь.
— Я не знаю, что мне делать, — возразил Андрей. — Тут вы должны помочь мне, подсказать…
— Во-во! Я ж тебе и подсказываю — ты присматривайся и прислушивайся к моей работе. Двери у нас с тобой напротив, сиди и слухай, про что я с людьми толкую. Если я про весенний сев, ты сразу же лозунг малюй «Даешь сев!» или чего-нибудь в таком духе. Я, скажем, про дороги или же продналог — ты, обратно, крепким лозунгом меня подпирай. Ясно? Так у нас с тобой политическая практика образуется и практическая политика. Одни книжечки да плакатики все равно делу не помогут, это ты запомни.
Впрочем, Длугач отнюдь не преуменьшал значения книг. Если в сельсовете не было посетителей, он заходил в избу-читальню, рылся в рауховском гардеробном шкафу — в нем хранились собранные с бору по сосенке книги, — подолгу, слюнявя пальцы, перелистывал страницы, читал. Смешанное с легким испугом отвращение питал он к трудно произносимым или непонятным словам. Однажды ему попалась растрепанная книга. Он уткнул в нее нос, пошевелил губами и спросил у Андрея:
— Что за слово такое — «эгоизм»?
— Как вам сказать… — на секунду задумался Андрей. — Это если человек только про себя думает, а на всех других ему наплевать. Такого человека называют эгоистом.
— Ишь ты! — Длугач покачал головой. — Выходит, значит, что эгоист и кулак одно и то же?
— Не совсем, но вроде этого…
Через час Андрей слышал, как Илья Длугач, растолковывая Тимохе Шелюгину, почему того обложили более высоким налогом, говорил с важностью:
— Поскольку ты нетрудящий эгоист, тебе повышенный налог выписан. Ясно?
Иногда Длугач заводил с Андреем разговор на высокую тему — о коммунизме, о судьбах человечества. Усевшись поудобнее, охватив руками колено, он говорил:
— Ежели я был бы, к примеру, Фордом или же Круппом, я бы составил заявление по такой, скажем, форме: «Имея желание хоть напоследок послужить трудовому народу и ликвидировать свой буржуйский эгоизм, я передаю все мои капиталы, дворцы и заводы рабочему классу и беднейшему крестьянству, а мне, для призрения моей старости, прошу оставить шматок земли, хатенку и пару тысяч деньгами или же облигациями займа. Призываю к такому же делу моего друга Моргана и всех прочих акул и вызываю их на соревнование».
Длугач смотрел на Андрея, поблескивая глазами, ерошил ус и сам же себя осекал:
— Все это дурость! Ни Крупп, ни Морган не поступятся своими капиталами. Каждый из них за копейку задавится и скорее даст располосовать себя на части, чем подарует народу имущество. Значит, немало еще на земле кровушки прольется, и до коммунизма, браток, не такая уж близкая дорожка. Ты-то, может, и доживешь до него, а я навряд…
Андрей приходил в избу-читальню с утра, наводил, не дожидаясь старухи уборщицы, порядок: смахивал пыль с подоконников, поливал посаженные в старых чугунках калачики, подметал пол, раскладывал на длинном столе свежие газеты и журналы.
В конце зимы установилась сырая, слякотная погода, по ночам моросили дожди, их сменили ленивые, тотчас же тающие снега, по растолченным скотиной дорогам трудно было передвигать ноги. Но каждый день в избу-читальню кто-нибудь заходил: до полудня — взрослые, а к вечеру набивалась молодежь, потанцевать под неизменную балалайку Тихона Терпужного.
Присматриваясь к людям, Андрей успел изучить вкусы каждого и определял безошибочно: дед Силыч будет требовать книжки, в которых написано про коммунизм; молчаливый Тимоха Шелюгин унесет с собой какую-нибудь брошюру об озимой пшенице, о борьбе с сорняками или о выращивании телят; Острецов войдет твердой походкой хозяина, кивнет Андрею и станет небрежно листать последние газеты, обращая внимание лишь на сообщения из-за границы.
Довольно часто к Андрею забегал Колька Турчак. После того как ржанская газета напечатала его заметку и Лаврик поселился в хате Длугача, Колька заважничал, по деревне ходил, высокомерно посвистывая, а при новом знакомстве с девчатами цедил сквозь зубы: «Селькор Николай Турчак». Редакция газеты дважды присылала Кольке письма с просьбой писать о жизни огнищан. Колька написал еще две заметки: о том, что «довольно зажиточный хлебороб Тимофей Шелюгин за бесценок арендует земельную норму маломощных бедняков Капитона Тютина и Лукерьи Липец», и о том, что «огнищанские хлеборобы разорили прудовую плотину, а восстанавливать ее некому». Обе заметки были напечатаны.
Головастый, большеглазый, с крупным влажным ртом, Колька шумно вбегал в избу-читальню, торопливо просматривал картинки в журналах и скороговоркой выкладывал Андрею очередную новость:
— Вчера из Пустополья комсомольский секретарь приезжал, Володька Бузынин. «Наберите, — говорит, — хотя бы трех-четырех желающих вступить в комсомол, и мы у вас к осени ячейку откроем».
Андрей уже давно хотел стать комсомольцем. Но, кроме него и Кольки, желающих в Огнищанке не оказалось. Пообещала подать заявление лесникова дочка Уля Букреева, но мать отстегала ее хворостиной и запретила даже думать о комсомоле.
Тщетно Колька уговаривал соседских парней и девчат, на каждой вечерке пел комсомольские песни — его призывы оставались безответными. Больше того — смешливая Васка Шаброва однажды прямо сказала:
— Ты, Коля, не дюже скакай, а то ребята язык тебе укоротят.
— Какие это ребята? — Колька насупился.
— Там поглядишь — какие. Я третьего дня вечером шла от колодезя и слыхала один разговор. Парней в темноте не признала, а чего они говорили, поняла.
— Чего ж они говорили?
— Так и говорили, что, дескать, надо нашему писарю язык укоротить и отучить от писанины.
После встречи с Ваской Колька прибежал в избу-читальню и с порога закричал Андрею:
— Кулацкие гаденыши грозятся меня убить! Только что Васка Шаброва все чисто мне рассказала. Она ночью шла от колодезя и разговор ихний слыхала, только голосов не смогла признать.
— Может, все это брехня? — усомнился Андрей.
Колька воскликнул возбужденно:
— Какая брехня! Чего ж ты думаешь, дядя Антон простил мне статейку про Лаврика? Нет, брат, кулаки-паразиты такую штуковину не прощают. Это не иначе как Терпужный расправу надо мной готовит.
Колькино предположение было весьма недалеко от истины. Дело же обстояло так.
Однажды вечером Антон Агапович Терпужный, управляясь со скотиной, увидел своего племянника Тихона, отгребавшего от погреба снег, подозвал к себе и сказал:
— Что ж это ты, племяш, родного дядьку в трату даешь?
— В какую трату?
Антон Агапович воткнул вилы в снег, придавил их тяжелой, обутой в черный валенок ногой.
— Как же так — в какую? Или ты, Тиша, не замечаешь, что у нас в деревне зараза завелась навроде овечьей коросты?
Потом Антон Агапович от иносказаний перешел прямо к делу:
— Разговор я веду про Акимова байстрюка Кольку. Надо ему заткнуть глотку, чтоб он, паскуда, не чернил добрых людей и не гавкал на них.
Тихон понимающе опустил косые глаза и заверил Антона Агаповича:
— Заткнем, дядя, можете не печалиться…
Дня три Тихон обхаживал Антошку Шаброва, которого Колька Турчак незадолго перед этим избил за украденного голубя. Хитрый Тихон угощал Антошку вином, подарил ему пачку папирос, исподволь разжег в нем злость против Кольки, а напоследок сунул ему фунтовую гирю, привязанную проволокой к ржавой цепочке, и сказал:
— Ты приласкай его этой гирькой, а я возьму чистик от плуга — на нем железный наконечник…
Разговор Тихона с Антошкой и подслушала случайно Васка Шаброва. Но поскольку в этом деле участвовал ее родной брат, она не сказала Кольке, чьи голоса слышала у колодца.
Тихон и Антошка решили осуществить свой замысел в прощеный день, когда все огнищане пили по хатам, а парни и девчата сходились в избе-читальне встречать заигрыши веселой недельной гулянки.
С утра, как это обычно бывало на масленицу, огнищане ходили по хатам, ели блины, пили водку. С холма, вдоль тютинского двора до самого колодца, летали салазки, на которых с хохотом, криком и песнями катались парни и девушки. Накануне прошел снег, салазки легко скользили по набитой тропе, пробивали мягкие сугробы. Верещали засыпанные снегом девчата.
По улице, спотыкаясь, слегка покачиваясь, бродил пьяный дед Сусак. Он останавливался возле каждого двора, стучал палкой в калитку, вызывал хозяина с хозяйкой и, с трудом ворочая деревенеющим языком, бормотал:
— Простите, люди добрые, за грехи мои…
— Бог простит, — отвечали ему.
— И другой раз.
— Бог простит.
— И третий раз.
Хозяева кланялись и говорили:
— Бог простит…
Впрочем, «прощаться» ходил не один дед Сусак; исполняя древний закон, испрашивали себе прощения и другие богобоязненные огнищане — дед Левон Шелюгин, дядя Лука, Мануйловна и даже Антон Агапович Терпужный. Встретив возле двора Андрея Ставрова и Кольку Турчака и, должно быть, вымаливая у бога прощение за то, что должно было случиться этой ночью, Антон Агапович кивком головы ответил на приветствие парней и проговорил, натянуто усмехаясь:
— На широку маслену положено у всех прощения просить. Так, что ли? И хотя ты, Николка, не дорос до того, чтобы старые люди поклонялись тебе, и, окромя того, крепко обидел меня в газетке, прошу и у тебя прощения.
Колька густо покраснел:
— Бог простит, дядя Антон.
— То-то! — облегченно вздохнул Терпужный. — Вы это, должно, на гулянки собрались? Ну гуляйте, Христос с вами…
Перед вечером в избу-читальню повалила огнищанская и окрестная молодежь — подвыпившие парни в новых дубленых полушубках, повязанные цветными шалями девчата, визгливые подростки. В сумерках мимо сельсовета промчалась четверка взмыленных, запряженных в сани коней. Стоя на коленях, ими правил пьяный Острецов, а сзади, хохоча и раскачиваясь, сидел лесник Пантелей Смаглюк, в руках он держал шест, на котором ярко пылало облитое смолой тележное колесо.
— И-ха-а-а-а! — восторженно ревел Смаглюк.
Горящее колесо выплясывало над санями, храпели окутанные розовым паром кони, по сторонам разлетались огненные капли смолы.
— Еще подожгут чего-нибудь, чертяки! — закричала пугливая Уля Букреева.
— Гутентоты! Африканцы! — презрительно сплюнул Гаврюшка Базлов. — Живут в лесу, молятся колесу…
Танцы продолжались до полуночи. Сперва до одури играл на балалайке Тихон Терпужный. Потом он незаметно подмигнул Антошке Шаброву, передал балалайку Базлову, а сам, придерживая живот, нетвердо зашагал к выходу.
— Музыкант наш вовсе запьянел, — объяснил Антошка, — пойду доведу его до дому, а то, гляди, еще замерзнет где-нибудь…
На них никто не обратил внимания, и они выскользнули из избы-читальни. Пошатываясь, они побрели по улице и исчезли в ночной темени. Тут Тихон мгновенно протрезвел. Ухватив Антошку за локоть, он зашипел ему в ухо:
— Сядем в ложбинке, за огородами. Там тропка протоптана, он аккурат пойдет по этой тропке. Тут мы его и накроем.
— А если с ним пойдет Андрюшка Ставров? — на всякий случай осведомился Антошка.
— Насчет этого не тревожься, — буркнул Тихон. — Андрюшку я потяну чистиком через спину, и он враз носом землю зароет. Апосля мы Кольку отработаем. Ты только никакого голоса не подавай, бей молчаком, чтоб не узнали…
Они дошли до ложбины, вытоптали в снегу неглубокое логово, вывернули полушубки шерстью наружу и уселись, касаясь один другого плечами. В руках у Тихона Антошка нащупал тяжелый чистик с острым железным наконечником.
— Таким и до смерти убить можно, — холодея от страха, пробормотал Антошка. — Ты не бей на всю силу, а еще лучше — бей деревянным концом.
— Ну завел волынку! — огрызнулся Тихон. — Сиди да помалкивай!
У Антошки зуб на зуб не попадал, он уже хотел убежать, но на тропе замаячили фигуры людей, и Тихон зашептал:
— Замри!
Шумной гурьбой прошли братья Горюновы, Трофим Лубяной, несколько девчат. Кольки с ними не было.
— Неужто другой дорогой пойдет? — тревожно сказал Тихон и тотчас же оборвал сам себя: — Тихо! Идет!
Колька Турчак шел один. Когда вечеринка в избе-читальне закончилась, он стал дожидаться Андрея, но тот замешкался, и Колька сказал ему: «Ты догоняй меня, я пойду помаленьку». Шел он, поглядывая по сторонам, тихонько насвистывая. Возле огородов остановился, посмотрел, не идет ли Андрей, и пошел дальше.
Тихон пропустил его мимо ложбины, потом бесшумно, как кошка, вскочил, размахнулся и ударил чистиком по голове. Колька дернулся, ловя руками воздух, шапка с него слетела, и он рухнул лицом в снег.
— Бей! — угрожающе выдохнул Тихон.
Антошка, цепенея от ужаса, ударил Кольку гирей по спине. С первого удара гиря оторвалась от цепочки, отлетела в сторону. Антон бросился бежать. Озверевший Тихон стал топтать Кольку ногами, острием чистика ткнул его в шею, в бок, но, услышав шаги на тропе, кинулся в заснеженные кусты.
Андрей уходил из избы-читальни последним. Несколько раз он окликнул Кольку, но никто не ответил ему. «Не дождался, — подумал Андрей, — видно, ушел с Горюновыми».
На темном, затянутом облаками небе не видно было ни одной звезды, но белизна снега слабо наплывала снизу, позволяя различать очертания ближних деревьев, огородные плетни, петлявшую в темноте тропу.
Там, где тропа огибала знакомую, засыпанную снегом ложбину, Андрей услышал невнятное хрипение. Он остановился, прислушался. Хрипение повторилось, перешло в странное бульканье. Сделав пять шагов, Андрей наклонился. Поперек тропы перед ним лежал натужно хрипящий человек. «Пьяный, что ли?» — подумал Андрей.
Он чиркнул спичкой, всмотрелся и, вздрогнув, попятился. На затоптанном, забрызганном красном снегу валялся Колька Турчак. Голова его была повернута набок, плечи судорожно подергивались, во рту, перебивая хриплое дыхание, клокотала кровь.
— Коля! — опускаясь на колени, прокричал Андрей. — Что ты, Коля? Вставай! Кто это тебя так?
Как ни теребил Андрей Кольку, тот только хрипел и слабыми движениями пальцев захватывал снег.
Андрей кинулся в деревню, разбудил захмелевшего Длугача, послал за отцом. Дмитрий Данилович примчался на лошадях, прихватив с собой Колькиного отчима Акима Турчака. На улице замелькали фонари. Со всех сторон к ложбине бежали люди.
Кольку перевезли в амбулаторию, уложили на кушетку, раздели, и Дмитрий Данилович стал его осматривать, бегая вокруг кушетки и роняя отрывисто:
— Черепная кость повреждена чем-то острым и вдавлена… В ране есть костные отломки, сейчас мы их удалим… Вторым ударом затронут хрящ гортани… На позвоночнике кровоподтек от удара тупым орудием…
Работая щипцами, пинцетами, отбрасывая на столик то один, то другой инструмент, Дмитрий Данилович очистил раны, забинтовал Кольке голову и сказал строго:
— Состояние у него очень серьезное. Надо немедленно везти в Ржанск, везти осторожно и аккуратно. Ступайте за санями, намостите побольше сена, я сам поеду с больным.
У окна, сдерживая вой, кусая губы, сидела Акулина, Колькина мать. Илья Длугач молча смотрел на неподвижно распростертого Кольку. Скулы у Длугача играли, закинутые за спину руки были сжаты в кулаки. Он повернулся к Андрею, отвел его в угол, дохнул в лицо водочным перегаром.
— До утра перепиши мне всех, кто нынче был в избе-читальне и кто с кем уходил до дому. Понятно? Перепиши всех поименно.
— Позавчера Колька говорил мне, что Васка Шаброва слышала возле колодца чей-то разговор, — сказал Андрей. — Она не узнала по голосам, кто говорит.
— А что говорили? — спросил Длугач.
— Что надо, мол, нашему писарю язык укоротить и отучить его от писанины.
— Та-ак! — Длугач шагнул к стоявшему у дверей Шаброву. — Сейчас же ступай до дому и веди свою дочку Василину в сельсовет, я буду снимать с нее допрос. Я их, гадов, все равно найду!
Перед рассветом Кольку увезли в Ржанск. Он так и не пришел в себя. С ним поехали отчим и Дмитрий Данилович. Плачущую Акулину увели соседи. Вскоре амбулатория опустела. Долго стоял Андрей у ворот, думая о Кольке и перебирая в памяти всех огнищан. Но как ни старался он определить, кто мог так изувечить его товарища, ответ не находился. «Иван и Ларион ушли с девками, — перечислял Андрей, — Гаврюшка Базлов пошел провожать свою Тосю куда-то в гости, Тихон Терпужный надрызгался пьяный, его повел домой Антон Шабров. Соседские парни уходили последними и направились совсем в другую сторону…»
Случай с Колькой взволновал и напугал Андрея. Он как будто повзрослел за эту ночь. Укладываясь спать, Андрей вспоминал все, что писалось в газетах о не знающей пощады борьбе, которая идет по деревням и селам. Борьба эта страшна потому, что люди бьют людей из-за угла, в спину, прячась в темноте ночи; днем работают, разговаривают друг с другом, по-хорошему улыбаются, молятся богу, а ночами рубят своих односельчан топорами, лопатами, пробивают им головы так, как пробили Кольке Турчаку. Андрей чувствовал, понимал, что за этими убийствами, поджогами, ударами из-за угла черной тенью стоит старое, что оно еще не добито, еще ворочается, больно кусает, ранит.
Ворочаясь под полушубком, Андрей подумал и о том, что ему рано или поздно придется занять место в этой борьбе, что тут не удастся отойти в сторону, спрятаться, что любому человеку волей-неволей придется стать в строй. Он не знал, что нужно будет делать ему, Андрею Ставрову, но сердце подсказывало ему, что он должен быть в том стане, где сошлись все люди, которых он любит, — дядя Александр, Илья Длугач, дед Силыч, Долотов, искалеченный Колька Турчак.
Уже засыпая, Андрей вспомнил сдавленное хрипение Кольки, его липкие от крови волосы, распростертое на амбулаторной кушетке, освещенное лампами тело.
«Нет, нет, этого прощать нельзя! — Андрей скрипнул зубами. — За это надо бить без жалости, без пощады, так, как это делает Длугач…»
Дмитрий Данилович вернулся на другой день. Он сказал, что Кольке сделали операцию и что положение его почти безнадежно — ударом повреждена мозговая оболочка.
— Если он даже выживет, — сказал Дмитрий Данилович, — то останется калекой, надолго потеряет дар речи или станет эпилептиком…
Длугач допрашивал Васку Шаброву всю ночь, грозил ей, стращал тюрьмой. Но она только всхлипывала и бормотала одно:
— Знать ничего не знаю. Хоть убейте меня — не знаю…
Тропу и ложбину, где произошло избиение, Длугач исползал на четвереньках, искал ночью, с фонарями, искал утром, но не нашел ничего, кроме обрывка ржавой цепочки и двух обгоревших спичек.
3
В первую же весну после смерти старого Данилы Ставрова хлопотливая Настасья Мартыновна высадила на его могиле несколько пучков зеленой травы, которую огнищане называли по-разному: одни — могильницей, другие — гробной травой, третьи — воловьим повоем.
Однажды Андрей спросил у деда Силыча, как же все-таки называется эта сочная, низко стелющаяся трава, и дед Силыч сказал:
— Никакая это не могильница и не гробница, она для такого дела не подходит. Разве ж ты не видишь, сколько в ней, в этой травке, буйства да веселости? А правильное ее название — малый барвинок.
И в самом деле, никогда не увядала на могиле веселая, кудрявая травка. Лишь поздней осенью, когда зашумят над холмом холодные ветры и все вокруг замрет в оцепенении, чуть побуреет малый барвинок, слегка обнажит ползучие стебли и накрывается снегом, как белым одеялом, живой, упрямый и крепкий. А в первую же предвесеннюю оттепель, как только сквозь толщу снега пробьются слабые струмочки талой воды, зашевелится неумирающий крепыш барвинок, проклюнут ледяную пленку его слежавшиеся за зиму изумрудно-зеленые кожистые листья, и начнет он ползти во все стороны, цепко грабастая новыми корнями каждый клочок земли. И, глядишь, пригреет солнце разок, другой, омоют ранние грозы пробужденную землю, а барвинок уже красуется, зеленеет вовсю, выбрасывает из сочной листвяной гущи розоватые, как утреннее небо, тронутые голубизной, неприметно-малые цветы…
Андрею полюбилась эта живучая, ласковая трава. Не раз, проходя мимо кладбища, он перелезал через полугнилой плетень, усаживался возле дедовой могилы и, покуривая папиросу, отдыхал в тени. За шесть лет могила осела, словно вросла в землю, но дубовый крест с железным кольцом стоял нерушимо, и вокруг него, расплываясь кудрявой зеленкой, вился барвинок.
Как-то Андрей встретил на кладбище деда Силыча. Сидя на пеньке, старик мастерил из грушевого корневища колодку для рубанка. Приветливо глянув на Андрея из-под мохнатых бровей, Силыч осведомился:
— Прародителя своего проведать пришел?
— Ага, — кивнул Андрей.
— Хорошее дело.
— Я часто бываю тут, — сказал Андрей. — Как прохожу мимо, так заворачиваю. Посижу, покурю.
Дед Силыч ухмыльнулся:
— Небось думу думаешь про жизнь, про смерть? А?
— Нет, почему? — слегка смутился Андрей. — Просто так, сядешь, посидишь… Небо над тобой чистое, воздух свежий, травка вон зеленеет, смотрите, какая сочная.
Старик полюбовался ладно выстроганной колодкой, опустил ее на колени, вздохнул.
— Травка эта великую пользу людям приносит. Как только человек помрет, она, никем не сеянная, враз на могиле оказывается, начинает соками умершей плоти питаться и вроде обратно выводит покойного на свет божий: иди, дескать, голуба моя, и живи хотя бы в ином обличье.
Хитровато скосив глаза, дед Силыч подтолкнул Андрея локтем.
— Оно конечно, не дюже интересно воскреснуть в обличье телка, который покушает эту травку, или же, скажем, шелудивой овечки, которая походя щипнет ее и помандрует дальше, а все же, я думаю, лучше хотя бы овечке пользу принести, нежели сгинуть бесследно. Правильно я говорю или нет?
— По-моему, правильно, — пожал плечами Андрей. — Только никто не знает, что с человеком происходит после смерти, и потому судить об этом трудно.
Дед Силыч отложил колодку и заговорил строго и задумчиво, изредка посматривая на Андрея:
— Человеку незачем гадать, чего с ним будет на том свете и какой он, тот свет. Вот попы сколько веков толкуют нам про бога, про ангелов, про рай и ад, а все это, должно быть, сказки, пустая брехня. Ты видал, как в лесу гниет поваленная грозою верба? Лежит черная, неживая, а потом рассыпается прахом. Точно так же и человек: отживет, сколько ему пощастит, и одно от него останется — прах.
— Говорят же, что у человека, в отличие от вербы, есть душа, — усмехнулся Андрей.
— А кто ее видал, эту душу? — махнул рукой старик. — Ежели у человека есть душа, значит, она должна иметься и у барана и у пшеничного колоса, потому что они тоже рождение свое имеют, растут, а когда час придет, помирают. Нет, голуба моя, все это одна брехня, а придумали ее для того, чтоб ублажить человека, страх смерти у него отвратить, а неимущему бедняку глаза замазать царством небесным.
Андрей с удовольствием слушал деда. Старик говорил спокойно, серьезно, негромким, глуховатым голосом, и в каждом его слове сквозило такое глубокое убеждение, точно он сам побывал на «том свете», только что вернулся оттуда и удостоверяет, что там ничего нет.
— Побрехеньки про царство небесное были нужны лишь царю да барам, — сердито сказал дед Силыч. — Этим самым царством они бедняков утешали: терпите, мол, жуйте лебеду, ходите без порток, а бог воздаст вам на том свете и станет вас райскими яблоками питать… Нет, мил человек, ты нам на земле компот из райских яблок подай, да белой мучицы, да мясца, да масла, да одень, обуй нас с детьми, да труд наш воловий облегчи — тогда нам Огнищанка раем покажется. Так, что ли? — Дед лукаво подмигнул Андрею.
— Пожалуй, это интереснее! — Андрей засмеялся.
— То-то и оно. — Темные, жилистые руки Силыча вновь забегали по грушевой колодке. — Сейчас вот по всему свету бой-сражение идет меж барами да бедняками, и кровь по земле реками льется. — Силыч с некоторой укоризной глянул на Андрея: — Ты, скажем, голуба моя, сидишь в этой самой избе-читальне, газетки почитываешь и небось думаешь: бой-сражение идет далеко, за горами, в Парижах-Берлинах, — а оно, милый ты человек, денно и нощно кипит перед твоим носом, в нашей же Огнищанке, только что без бомбов да без пушек. Вот, к примеру, товарища твоего Миколку Турчака суродовали? Суродовали. До конца дней калекой-инвалидом его сделали? Сделали. Трясет он теперь головой да в падучей чуть ли не каждый день бьется, языка почти лишился. А кто это сотворил? Враги-иуды, те самые, которые супротив народа идут, наши же, огнищанские иуды, с которыми мы за ручку здоровкаемся и вроде одну землю пашем. И это, заметь, не только в Огнищанке! Ныне скрозь кипит такой бой-сражение, в любом завалящем хуторе, в любой деревне, в любом городе…
При воспоминании о Кольке Андрей всегда мрачнел. Он никак не мог вытравить из памяти теплую февральскую ночь, забрызганный кровью снег, распростертого на снегу Кольку. Больше месяца Колька пролежал в ржанской уездной больнице, его лечили лучшие врачи, но ничего не смогли сделать. Больной почти потерял дар речи, ходил согнувшись. В Огнищанку Кольку привез отчим Аким Турчак. Лицо Акима было хмуро, он сказал:
— Парня сгубили за правду, только пусть гады не радуются — следствие будет идти и гепеу найдет концы.
Дважды Андрей побывал в турчаковской хате — ходил проведать друга. Колька лежал на лежанке возле печи, прикрытый материной шубейкой. Впервые в жизни большая его голова была гладко острижена городским парикмахером. Исхудалое лицо подергивалось, глаза смотрели беспокойно и напряженно. Андрея он узнал не сразу; долго всматривался в него, шевелил губами, потом слабо улыбнулся, замычал что-то и заплакал.
— Ничего, Коля, — глотая слезы, сказал Андрей, — ты держись, не сдавайся! Не сегодня, так завтра мы все равно разыщем гадов, будь спокоен.
Редакция «Ржанской правды» напечатала большую статью о зверской расправе огнищанских кулаков с молодым селькором Николаем Турчаком и потребовала глубокого расследования и строжайшего наказания преступников.
В один из воскресных дней в сельсовете был созван общий сход огнищанских граждан. С сообщением о контрреволюционной вылазке и бандитском нападении на селькора Турчака выступил Илья Длугач. Вначале он довольно сдержанно изложил обстоятельства дела, попросил огнищан помочь следствию, а под конец закусил губы и прокричал хрипло:
— Так и знайте — белокулацкая сволочь будет найдена и предана суду трибунала! Мы не станем нянчиться с теми, кто встает поперек дороги коммунизма! Ясно?
Он изо всей силы стукнул кулаком по столу, стукнул так, что задребезжали оконные стекла, и повторил, надвигаясь на людей:
— Ясно вам, я спрашиваю?
Длугачу никто не ответил. Все эти дни огнищане ходили подавленные, боязливо всматриваясь друг в друга, шептались по хатам. Все чаще из уст в уста передавались имена Антона Агаповича Терпужного и Тимохи Шелюгина. Шелюгин даже почернел от горя, никуда не выходил со двора, а Терпужный был спокоен: в злополучную ночь нападения на Кольку он вместе с Мануйловной и братом Павлом находился в деревне Волчья Падь, в гостях у своего Шуряка.
— Меня это дело не касается, — твердо говорил Антон Агапович, — нехай они там хоть головы один другому поотрывают. Моя хата с краю…
И лишь ночью, притиснув племянника к стене сарая, прошипел ему в ухо:
— Гляди, Тишка, и этому своему напарнику перескажи: ежели чуток в чем-либо спотыкнетесь или же про меня кому гавкнете — постреляют, как собак, потому что я в кулацкие списки внесен. Случаем, раскроют это дело и докажут, что вы Кольку убивали, — объясняйте все своей обидой, за девчат там подрались или за что другое, а про меня ни гугу, иначе конец и вам и мне…
— Не бойтесь, дядя Антон, все будет как по писаному, — заверил Тихон. — Мы с Антошкой не маленькие, понимаем, чем это пахнет…
В последних числах марта в Огнищанку приехала особая комиссия из Ржанска — председатель уездного исполкома Долотов, начальник ГПУ Зарудный и прокурор Филин. Помимо дела селькора Турчака Григорий Кирьякович Долотов решил заняться разными вопросами: восстановлением огнищанского пруда, постройкой моста через балку в Казенном лесу и сектантами-бегунами, которые вдруг объявились в Мертвом Логе и стали вести там контрреволюционную агитацию.
Следствием по делу Турчака занялись Зарудный и Филин. Единственным вещественным доказательством в их руках был обрывок ржавой лампадной цепочки, найденный Длугачем на бровке ложбины, возле которой был избит Колька Турчак.
Начальник ГПУ Зарудный, высокий молодой парень, бывший техник тульского оружейного завода, начал с этого обрывка цепочки.
— Раз цепочка от лампадки, — сказал он Длугачу, — значит, огнищанские старухи должны помнить, у кого в доме висела такая лампадка. Вызывай-ка мне по очереди всех старух.
В сельсовет потянулись бабка Сусачиха, тетка Лукерья, толстая Мануйловна, хромая Федотовна — теща Петра Кущина. Чисто выбритый веселый начальник ГПУ заводил с ними ни к чему не обязывающий разговор о домашних делах, любезно усаживал на скамью, а потом вроде невзначай вынимал из стола цепочку, потряхивал ее на ладони и говорил безразличным голосом:
— Балуют у вас ребята в деревне, и никто за ними не смотрит, они тащат из дома что под руку попадет. Я вот сегодня отнял у одного мальчишки лампадную цепочку, надо бы вернуть ее хозяйке, да не знаю, чья это цепочка, кому отдать…
Он небрежно швырял цепочку на стол, посвистывал, а сам, выжидая, зорко следил за посетительницей: что она скажет? Бабки помалкивали, равнодушно жевали губами или роняли односложно:
— Кто ее знает, чья она…
— У нас вроде и нет таких лампадок…
— Может, и есть у кого, да разве ж упомнишь…
Только живая, толстенькая, как бочка, бабка Сусачиха, потянув к себе цепочку, несколько секунд смотрела на нее и сказала нерешительно:
— Это, сдается мне, из барской кухни лампадочка. У себя баре лампады не держали, они из немцев были, а в людской кухне висела такая лампада перед образом Пантелеймона-целителя…
— А кто ж мог взять из барской кухни лампаду? — насторожился Зарудный.
— Да там, сынок, каждый брал чего хотел, — засмеялась Сусачиха, — кто сковородку, кто мясорубку, а кто, может, и лампадочку прихватил. Это ж давненько было, годов семь или восемь…
Так из рук Зарудного ускользнула единственная нить. Но он не падал духом и осторожно продолжал неутомимые поиски. Однако Долотову он все же признался:
— Черт его знает, может, ничего и не добьюсь. Разве ж эта паршивая цепочка доказательство?
По приказу Долотова Илья Длугач вновь созвал общий сход, и председатель уездного исполкома выступил с предложением немедленно восстановить и расширить разрушенную минувшей весной плотину. Казалось бы, огнищанам ничего не стоило нарубить в Казенном лесу хвороста и привезти сотню подвод земли и навоза. Но кто-то — неизвестно кто — перед сходом успел шепнуть мужикам, что землю вокруг пруда хотят отдать городским рабочим для поливных огородов. По деревне сразу пополз слушок: «Как мы только пруд восстановим, так нашу землю для пролетариата отберут».
На сходе огнищане угрюмо молчали. После Долотова выступили только Длугач, Микола Комлев, дед Силыч и Дмитрий Данилович Ставров. Если Силыч упирал на отсутствие водопоя, то Ставров говорил о поливных огородах, о возможности сажать капусту, огурцы, помидоры.
— А кто ж на этих самых огородах будет хозяйствовать? — раздался хриплый голос Кузьмы Полещука. — Наши местные граждане или же какие приезжие дяди?
— Конечно, местные, а то кто же? — удивился Долотов. — Государство выделило норму вашему земельному обществу, значит, и хозяйничать вы будете.
— А у нас тут иной разговор идет, — уставясь в пол, сказал Полещук. — Вроде вы, это самое, желаете поливные участки рабочему пролетариату отдать, а деревню нашу оставить без огородов.
Долотов нахмурился:
— Кто это такую чушь распространяет?
— Люди говорят, — уклончиво ответил Полещук.
Вслед за ним поднялся лесник Букреев. Он долго мял в руках шапку и говорил тягуче и непонятно:
— Ежели, скажем, пруд, то он должен быть общий… а то один край деревни с водою, а другой — без воды, потому что избы наши не кругом пруда спланованы. Оно и выходит — кому капуста, а кому мозоли.
— Правильно! — загудели мужики.
— Нехай те плотину делают, кто обочь пруда живет!
— Кто поливает, тот пущай и работает! А нашему краю пруд ни к чему!
— На беса он нужен!
Мужики галдели, переругивались, потихоньку дымили цигарками, смотрели на Долотова с холодным отчуждением, уклонялись от разговора. Сколько ни объяснял Долотов значение хорошего водопоя и пользу поливных земель, сход отвечал невнятным жужжанием, ропотом и равнодушным позевыванием. Вопрос явно проваливался.
— Чертовы долдоны! — яростно шептал Илья Длугач. — Чурбаки! Им бы только на печи лежать да спины греть…
Но вот попросил слова Тимоха Шелюгин. Встал, как всегда, аккуратный, причесанный, в черном пиджаке, под которым белела праздничная, чисто выстиранная сорочка, и заговорил высоким, приятным тенорком:
— Мне даже совестно слухать то, что тут граждане доказывают. Пруд этот еще при царском режиме всех огнищанских мужиков поил да кормил, что наши деды и прадеды установили. Нам без пруда — как без рук, и, конечное дело, надо его восстановить. А что до поливной земли, то ее можно поделить на всех одинаковыми долями или же по едокам.
Сидевший возле окна Андрей внимательно слушал Шелюгина. Тимоха нравился ему своей незлобивостью, трудолюбием, умением хозяйничать. «Жалко, что такой человек в кулаках оказался, — подумал Андрей. — Он ведь не сволочь, ей-богу, не сволочь…»
Заметно было, что все, слушая Шелюгина, притихли. И даже Григорий Кирьякович Долотов спросил, наклонившись к Длугачу:
— Кто это такой? Толковый мужик!
— Кулак огнищанский Тимофей Шелюгин, — буркнул Длугач, — тот самый, которого четыре года назад за поджог скирды арестовывали. Вы должны его помнить. Он-то, конечно, толковый хозяин, добрый, а только его толковость как у навозного жука — все в свою хату тащить. И народ его все равно не послушает, вот поглядите…
Однако Длугач ошибся. После речи Шелюгина настроение мужиков изменилось. Они повздыхали и в конце концов решили плотину для пруда построить.
— Вот и давно бы так! — заключил Долотов. — А то слушаете всяких дураков да провокаторов…
Ночевал Долотов в семье Ставровых. Он осмотрел амбулаторию, пообещал выделить деньги на ее ремонт и спросил у Дмитрия Даниловича:
— Не смог бы ваш сын подкинуть меня утром до Мертвого Лога? Наши исполкомовские кони ушли в Пустополье, а мне надо ехать.
Дмитрий Данилович, обычно жалевший лошадей, легко согласился: как-никак подводу просил председатель уездного исполкома.
— Пожалуйста, — сказал он Долотову. — Дорога плохая, но лошади у меня сытые, выносливые, за полчаса домчат.
Выехали на восходе солнца. Был ранний час, слабый заморозок еще держался на полях, тонкий ледок похрустывал под тележными колесами. По низинам, по неприметным западинам пестро пятнились желтые от глинистых натеков кулиги последнего снега. Косой луч солнца уже выхватил из дымчатой голубизны голые верхушки дальних тополей, и молодые ветви их светились.
— А кони у вас добрые, — сказал Долотов, любуясь кобылицами. — Таких и на выставку не стыдно послать.
— Сами растили, — не без гордости ответил Андрей. — Они обе полукровки, от племенных жеребцов.
Кобылицы бежали ровной, броской рысью, помахивая коротко подвязанными хвостами и разбрызгивая чуть затянутую ледяной коркой талую воду.
— Ну а ты, избач Ставров, думаешь ехать учиться или нет? — Долотов скосил глаза на Андрея.
Андрей слегка шевельнул вожжами:
— Думаю, Григорий Кирьякович. Летом приедут братья и сестры, они помогут старикам, а осенью я уеду поступать в техникум.
— В какой же?
— В сельскохозяйственный.
— Хорошее дело! А командировка у тебя есть?
— Командировку обещал дать наш председатель Длугач.
Взгляд Долотова скользнул по непаханым холмистым полям и потеплел, словно солнце смягчило пронзительную остроту его колючих серых глаз.
— Хорошо, — повторил он в задумчивости. — Агрономы, товарищ Ставров, нам очень нужны, причем настоящие советские агрономы, такие, понимаешь, чтобы не только определяли всхожесть семян, а повели бы за собой деревню по новой дороге. А ведь словом нашему мужику ничего не докажешь, ему надо показывать делом, примером.
Он поправил на сиденье коврик, умело взбил сено, заговорил, сердито ухмыляясь:
— Ты вот слушай, Ставров, тебе это будет полезно, раз ты агрономом стать собираешься. Лет, кажись, пять назад — я в ту пору кончал курсы ВЦИК — довелось мне побывать на агрономическом съезде в Москве. Получили мы, курсанты, гостевые билеты, ну я и зашел туда послушать. И что ж ты думаешь? Собрались на этом съезде все зубры старой царской агрономии, надутые, важные, при галстуках. Даже какой-то бывший князь среди них оказался — тоже, говорили, ученый агроном. Сели эти господа в президиум, сами список ораторов составили — и пошла писать губерния! Каких только шишек там не валили на голову Советской власти! И что, дескать, крестьянское хозяйство мы разрушили, и что на бедняка упор делаем зря, что главная фигура в деревне — крепкий, богатый мужик и на него, мол, надо делать ставку, как во времена Столыпина. Слушал я, слушал эти ученые речи, а потом вырвал из блокнота листок и написал записку в президиум: «Все вы белогвардейские гады, и головы вам все равно поотрывают заодно с вашим крепким мужиком».
Андрей засмеялся. Долотов ударил его по колену, тоже засмеялся.
— Конечно, не одни кулацкие защитники там собрались. Были и незаметные сельские агрономы, а только их на галерку загнали и рот им закрыли. Такие-то дела творились, друг Ставров!
— Теперь, наверно, все по-другому делается и белогвардейских агрономов не осталось, — сказал Андрей.
— Где там — не осталось! — сплюнул Долотов. — Сколько еще среди них дряни, кулацких подпевал! Это уж вам, советской молодежи, придется дебри расчищать да вести мужика к социализму.
Андрею нравилось, что Долотов разговаривает с ним как со взрослым, величает по фамилии, даже возлагает на него свои надежды. Это льстило, возвышало Андрея в его собственных глазах. Он приосанился, ловко, не выпуская вожжей, закурил папиросу и сказал:
— Нелегкая это будет работа, правда?
— Да, Ставров, нелегкая, — согласился Долотов. — Но ты запомни: настоящая работа никогда легкой не бывает…
Деревня Мертвый Лог, так же как и Огнищанка, лежала в широкой балке, меж двумя некрутыми ее краями, и состояла из девяти похожих одна на другую хатенок. Жили здесь мужики по фамилии Смурыгины, все родичи, переселенцы из Воронежской губернии. Из-за нищенства своего они не доехали до далекого казачьего Дона, куда стремились годами, и осели в Пустопольской волости, выбрав для оседлости угрюмую глинистую балку. Андрей знал почти всех мертволожских Смурыгиных. Были они низкорослые, хилые, неприветливые, как здешняя неласковая земля. Знал Андрей и деда Конона Смурыгина, ветхого старичка, родоначальника всей смурыгинской семьи. Он был искусный постовал и всем окрестным мужикам катал из овечьей шерсти отличные валенки.
Вот у этого-то старого постовала Конона Смурыгина еще с зимы прижились двое сектантов-странников. Как сказали Долотову, они вели опасную антисоветскую агитацию и уже почти совсем подбили мертволожцев на то, чтобы навсегда покинуть деревню и идти искать благословенное опоньское государство. Не слишком доверяясь такту молодого начальника ГПУ Зарудного, Григорий Кирьякович Долотов решил сам съездить в Мертвый Лог, посмотреть, что там происходит, и поговорить с жителями.
Когда Долотов в сопровождении Андрея вошел в хату Конона Смурыгина, их встретила хозяйка, горбатая старуха на костылях. Дед Конон и приземистый рыжебородый мужик сидели на полу, чинили упряжь. Дымная, насквозь прокопченная хата была наполнена тяжелым запахом кислой шерсти, прелой соломы и сырости.
Долотов снял шапку, поздоровался, присел на лавку, спросил о том о сем, потом обронил как бы невзначай:
— Ну а кто у вас тут людей на переселение подбивает?
— Я подбиваю, — смело ответил рыжебородый мужик, — только не на переселение, а на странничество, как велел господь Иисус.
— А кто ты такой? — спросил Долотов. — Откуда родом и как твоя фамилия?
Рыжебородый исподлобья глянул на Долотова, на Андрея.
— Я странник божий, — сказал он. — Месторождения своего не ведаю, имени же у меня нету никакого.
Григорий Кирьякович расстегнул кожанку, вытер платком рот и подбородок.
— А в опоньское царство ты мужиков зовешь?
— Так точно, зову, только не на поселение, а для несения молитвы.
— Где ж оно находится, это царство?
На секунду задумавшись, рыжебородый стал объяснять. Взгляд его хитроватых узеньких глаз перебегал с предмета на предмет, а руки он сложил на животе.
— Опоньское царство далеко, в губе океана-моря, на беловодии, возле острова Лов. Идти же туда надо через город Катеринбурх, на Томск, на Барнаул, апосля по реке Катурне на Красный Яр, сбочь снеговых гор и кижисской земли.
— Та-ак, — сказал Долотов. — Маршрут серьезный; что и говорить, особенно если пёхом переть на Томск, на Барнаул. Ну а напарник твой где, тот, который объявился с тобой в деревне?
Рыжебородый глянул в окошко:
— И напарник здеся. Вон он идет, у соседов был.
В хату твердо, по-хозяйски отворив дверь, вошел сухощавый, не старый еще человек с темно-русой кудрявой бородкой, такими же кудрявыми волосами и смазливым иконописным лицом. Увидев незнакомых людей, он приостановился, слегка сдвинул брови и произнес певучим речитативом:
— Доброго здравия мирным путникам!
— Здравствуйте, гражданин, — ответил Долотов и ногой пододвинул табурет. — Садитесь. В ногах правды нет.
— Спаси Христос, — ответил кудрявый и присел на табурет.
— Вы что же, тоже без имени и фамилии? — осведомился Григорий Кирьякович, довольно бесцеремонно разглядывая вошедшего.
— Братья странники по своим законам не носят никаких имен, гражданин начальник, — охотно объяснил тот. — Они считают, что разные имена и фамилии только разъединяют людей и ведут к раздору. Божий человек — это одно имя для меня, и для вас, и для всех. Так мы, странники, и зовемся.
— А другого имени у вас разве не было? — спросил Долотов.
Кудрявый улыбнулся:
— Нет, зачем же? Было… Федосей Поярков… Я до германской войны маляром работал в Великом Новгороде, злачные места раскрашивал, которые попы именуют храмами божьими. Там, в этих храмах, насмотрелся я, как народ дурят, и возненавидел церковь. В четырнадцатом году забрали меня в армию, зачислили в сто тридцать второй пехотный полк и на два года закинули в известные Пинские болота. Оттуда я ушел самовольно, познав неправду и не желая убивать себе подобных.
Потупив голову, кудрявый добавил:
— Потом меня изловили и за дезертирство расстреляли, только недостреляли — в четырех местах пулями тело пробили, накрыли палым листом и ушли… Вот с той ночи я и оставил свое имя, стал называть себя божьим человеком и пошел в странствие. Так вот и живу.
Андрей слушал кудрявого Пояркова, широко раскрыв глаза. Жизнь этого словоохотливого человека походила на сказку. И хотя волосы его были нечесаны, а под ногтями кинутых на колени рук чернела грязь, Андрею казалось, что на табурете сидит живой герой какой-то захватывающей книги, человек, не похожий на других.
— Чем же вы кормитесь в ваших странствиях? — спросил Андрей. — Где добываете одежду, обувь? Милостыню просите или как?
— Бывает, и милостыню просим, мир не без добрых людей, — охотно, даже весело объяснил Поярков. — Зачем же стыдиться подаяния, если оно дается от чистого сердца? Главное же — руки. Руки меня питают, молодой человек. Земля большая, градов и весей на ней неисчислимо много, идешь по земле, песней с богом беседуешь, красотой и щедротами земными любуешься. А зайдешь в село или в деревню какую, отыщешь калеку немощного, вдовицу, старика, одному огород польешь, другому в поле поможешь, третьему по дому чего-нибудь сделаешь — люди и накормят тебя, и напоят, и спать уложат.
— Какие же вы песни поете? — спросил Долотов. — Небось песни ваши против Советской власти направлены? А?
Кудрявый Поярков посмотрел на Григория Кирьяковича с обидой.
— Зачем же обязательно против Советской власти? Власть сама по себе, а мы сами по себе. Она нам не мешает, а мы ей тем более. Песни же у нас духовные, о странничестве, о покаянии. Впрочем, если желаете послушать, мы с товарищем можем исполнить вам песню.
Он слегка повернул голову к рыжебородому и вдруг затянул чистым, высоким тенором:
Не так жаждою смущаюсь, Как скитаться понуждаюсь, Пускай людям в смех явлюся, Только странства не минуся…Не поднимаясь с пола, рыжебородый подтянул хриплым, рыкающим басом:
Бежи, душа, Вавилона, Нечестивого Сиона, Теци путем к горню граду, К горню граду, к зелен саду…Песня была протяжная, монотонная, унылая, как дорога в степи. Не очень сильный, но высокий, приятный голос кудрявого звенел неподдельной тоской, точно рвался ввысь, к выдуманному певцами «горню граду», а рыжебородый гудел, стращая мрачной угрозой:
Плачи, душе, о том време, О греховном своем бреме: Как ты будешь отвечати, На суд Страшный представати…Закончив песню, Федосей Поярков тряхнул волосами и сказал смущенно:
— Вот вы изволили убедиться, что нами поются свои страннические песни, которые никому вреда не приносят.
Григорий Кирьякович поднялся с табурета, секунду молчал, раздумывая, потом спросил неожиданно:
— А какие у вас есть документы? Паспорта или удостоверения?
Поярков тоже поднялся, по-солдатски вытянул руки.
— Извините, не знаю вашего звания и должности, но обязан разъяснить, что в религиозной секте странников не положено иметь никаких бумаг с печатью властей. Поскольку странствующий отрекается от имени и принимает название «божий человек», он отсылает свой паспорт туда, где был прописан.
— А как же так без документов? — Долотов нахмурился. — Эго не годится.
— Есть у нас бумага без печати, — нерешительно протянул кудрявый, — однако вам она ничего не скажет.
Пошарив в боковом кармане пиджака, он вынул сложенную вчетверо бумагу, развернул ее и протянул Долотову. На бумаге красовался нарисованный лиловым карандашом крест. На кресте и по бокам его были написаны отдельные слова, из которых складывалась фраза: «Сей паспорт духовный по точкам чти тихо: царь царем».
На обратной стороне листа было написано четким писарским почерком: «Господь, спаситель мой! Кого убоюся? Отпустил мя, раба своего, великий владыка града горнего, чтобы не задержали бесы нигде. А кто странного приять будет бояться, тот и с господом Христом не хочет знаться. Кто же странного обидит и прогонит, тот себя с антихристом в геенну готовит. Аминь. Аминь. Аминь…»
— И у вас такой же, с позволения сказать, паспорт? — спросил Долотов у рыжебородого.
— Так точно, — прогудел тот. — Они у нас все на один манер…
Все время молчавший хозяин хаты, старый Конон Смурыгин, огладил густую бороду и проговорил, строго глядя на Долотова:
— Зря вы обижаете их, товарищ начальник. Люди они смирные, уважливые, работящие. Зиму вот у нас в деревне прозимовали, никто от них слова дурного не слышал. Обратно же, и против Советской власти ничего неподобного они не говорили, только богу молились да трудом своим народу помогали.
— Но в опоньскую землю переселяться звали? А что это за опоньская земля? Япония, что ли?
— Звать-то звали, — проговорил Конон, — а только они разъяснение честь по чести сделали: что опоньская земля, мол, у нас в России находится и что Советская власть даже ссуды выдает тем людям, которые пожелают туда переселиться. У нас же в деревне, как вам известно, земельки не хватает, да и та, какая есть, почти что неродящая. Вот мы и надумали переселиться на Восток Дальний, к губе океана-моря, там, сказывают, и земли, и лесу, и рыбы, и зверя всякого на тыщу годов хватит. А божьи странники эти за проводников согласились быть, потому, значит, они в тех краях бывали…
— Ладно, — сказал Долотов, — о вашем переселении на Дальний Восток мы еще побеседуем. Может, год-другой вам потерпеть придется, а потом мы тут такое сельское хозяйство развернем, что вас отсюда калачом не выманишь. Так что вы лучше не торопитесь. Я к вам пришлю товарищей из волости, они объяснят, что и как.
Нахлобучив шапку, Григорий Кирьякович постоял у порога, тронул за плечо кудрявого:
— А вас, божьи странники, я попрошу сходить в Огнищанку, к председателю сельсовета, зарегистрироваться и рассказать ему, кто вы, откуда, сколько времени тут пробудете.
— Как весна установится, потеплеет, так мы и тронемся дальше, — сказал Федосей Поярков. — А по распутице ходить — только бога гневить.
— И потом, опоньскую землю оставьте в покое, у нас и своей земли хватит.
— Это правильно, — согласился рыжебородый. — Куда уж лучше православная русская земля!
— То-то! — ухмыльнулся Долотов. — Ну, бывайте здоровы!
На обратном пути он больше молчал, думал о чем-то, рассеянно посматривал по сторонам. А на повороте дороги, когда Андрей затягивал сползающую постромку, остановил лошадей и, закуривая, сказал серьезно:
— Видал, избач Ставров, каковы экземпляры? И заметь — их еще немало на Руси, хотя мы в этом году десятую годовщину Советской власти будем праздновать. Мы, видишь ли, заводы строим, школы, мужиков кооперируем, а тысячи людей бродят по стране: одни по темноте своей, другие от прошлого убегают, прячутся, третьи чего-то лучшего ищут. Вот и представь: сколько тут надо работать, чтобы мозги человеку просветлить и цель жизни ему показать!..
Дома Андрея ждала радость — два письма. Одно от Клавы Комаровой, которая сообщала адрес Ели и передавала от нее привет; второе, с заграничными штемпелями, от дяди Александра, из Китая.
Адресованное всей семье Ставровых, письмо Александра начиналось так:
«Вот уже скоро год, дорогие мои огнищане, как я вас покинул. За этот год я узнал и увидел столько, что у меня хватит рассказов для вас на всю жизнь. Самое же главное то, что я в полной мере узнал и почувствовал сердцем, как много на свете людей сильных, добрых, трудолюбивых, отважных, истинных наших друзей. При встрече — а она будет, наверно, не очень скоро — я расскажу вам об этих наших друзьях, и вы поймете: жить и бороться стоит!»
4
Бесконечные колонны войск движутся на север. Бурой дорожной пылью покрыты темные лица солдат, истоптаны их легкие соломенные туфли, слоистыми натеками пота выбелены полинялые синие блузы. Солдаты идут вразброд, неторопливо, даже медлительно, растянувшись на десятки километров. По холмам, по равнинам, по зеленым зарослям бамбука разносится ровный гул походного марша — скрип деревянных арб и телег, крики погонщиков, фырканье усталых мулов, мычание буйволов, позвякиванье винтовок, фляг, котелков.
Весеннее солнце, ветер, равнинная грязь и пыль на холмах все окрасили в однообразный буро-белесый цвет — солдат, животных, одинокие тополя, кустарники в долине. Изредка мелькнет над растянувшимися колоннами красно-синее знамя или проплывет по обочине дороги несомый дюжими носильщиками желтый генеральский паланкин — и снова текут и текут массы одинаково серых, обветренных, загорелых солдат.
Девять месяцев, подобная грозовой туче, Национально-революционная армия кантонского правительства движется на север, туда, где угнездились со своими многотысячными войсками самые матерые враги революции — мукденский хунхуз, холоп Японии Чжан Цзолин и до зубов вооруженный английскими и американскими капиталистами ученый-разбойник У Пэйфу.
Девять месяцев длится трудный Северный поход, и, хотя зарубежные пророки обрекли на провал наступление «разношерстной кантонской толпы», Национально-революционная армия, как неотвратимая лавина, движется вперед. Уже остались позади родные провинции отважных революционеров-южан, уже под их ногами дымится только что освобожденная Хунань. Взяты города Юсянь и Лилин, Чаньша и Пинцзян, тысячи деревень, сотни дорог, мостов, речных бродов. Уже знамя Национально-революционной армии реет над Трехградьем — городами Ханькоу, Ханьян и Учан.
Днем и ночью небо затянуто дымом, пламенеет отсветами далеких пожаров. Черная копоть покрывает древние городские стены, заваленные руинами улицы, квадратные башни священных пагод. Пылают подожженные отступающими полками убогие деревни. Иссечены снарядами каменные маски ко всему равнодушных драконов. Рушатся мосты. Вереницы босоногих беженцев растекаются по долинам, полям и лесам. Тысячами гибнут в боях восставшие против угнетателей люди. Но грозная туча народного наступления ползет и ползет на север, захватывая в свою орбиту все новые города, деревни, и на место павших встают тысячи новых отважных повстанцев.
На востоке, бороздя воды трех морей, непрерывно курсируют военные корабли. На их мачтах развеваются чужеземные флаги — американские, английские, японские, итальянские, — а жерла дальнобойных пушек нацелены туда, где полуголодный, нищий, замордованный, но непокоренный народ в боях решает свою судьбу. И чем дальше на север продвигалась Национально-революционная армия, тем ближе к повитому дымом берегу подходили закованные в броню корабли.
Но разве могло что-нибудь остановить, устрашить, поставить на колени тех, кто не страшился даже смерти! По еще не остывшим трупам погибших товарищей взбирались солдаты революции на высокие крепостные стены; стоя по пояс в воде и придерживая на спинах толстые доски, они образовывали живые человеческие мосты, по которым переправлялись через реки пушки и пулеметы; плохо вооруженные, полуодетые, зачастую по суткам не евшие, они упрямо проламывали мощную оборону северных контрреволюционеров, и впереди их наступающих батальонов храбрее всех, беззаветнее всех сражались бойцы-коммунисты, воодушевленные великой идеей освобождения народа…
В эту грозовую пору Александру довелось увидеть тут многое…
За время пребывания в Китае Александр незаметно для себя изменился, поздоровел, возмужал, окреп. Заслоненная важными, значительными событиями, отодвинутая куда-то в повитое туманной дымкой прошлое, тоска по Марине притупилась в нем, утихла. Он ожил, повеселел и весь был охвачен тем бодрящим чувством неразрывной слиянности с людьми, какое обычно появляется у человека, когда он втянут в движение огромных масс народа и вдруг с особой остротой начинает сознавать, что сам он с его горем и радостью, мыслями и делами — лишь малая частица гигантского целого, устремленного к единой цели.
Александру пришлось много ездить по стране — советские консульства были открыты во многих крупных городах Китая, — и Александр успел за это время полюбить умный, работящий, отважный народ, видел его мучения, бесправие, полуголодную жизнь, восхищался его упорной, самоотверженной борьбой за будущее.
В поездках по Китаю Александра сопровождал студент-переводчик Чень Юхуа, тонкий юноша в роговых очках. По-русски он говорил чисто, почти свободно и только при сильном волнении начинал заикаться и пощелкивать пальцами в поисках нужного слова. Александра он называл «товарищ Саша».
Однажды дождливым мартовским днем Александр и его спутник остановились на отдых в небольшой деревушке, расположенной на берегу озера. Деревушка была убогая, нищенская и состояла из десятка глинобитных фанз, таких же красновато-бурых, как земля вокруг. Держа в поводу заморенных мулов, Чень Юхуа постучал в дверь крайней фанзы, услышал невнятный ответ, привязал мулов к хилому дереву и вошел. Александр последовал за ним.
Затянутое промасленной бумагой оконце скудно освещало дымную фанзу, и Александр с трудом заметил сидевшего в углу старика. Неторопливо орудуя ножом, тощий старик вырезал что-то из обрубка ивы. Равнодушно глянув на вошедших, он продолжал работать.
— Что это вы делаете, отец? — спросил Александр, усаживаясь на внесенное в фанзу седло.
Чень Юхуа перевел вопрос.
Старик посмотрел на гостя, пожевал губами и заговорил негромко:
— Это будет бог богатства. Я делаю таких богов по десятку в день. Только теперь их никто не берет. Время не то. Люди, должно быть, решили, что сделанный из ивы бог богатства не принесет им ни хлеба, ни денег.
— Значит, ремесло ваше стало невыгодным? — серьезно, без улыбки, спросил Александр.
Тощий старик махнул рукой, отложил в сторону чурбачок:
— Какое там ремесло! Этим я при плохой погоде занимаюсь или когда уж очень заноют больные ноги, а всегда-то работаю на рисовом поле.
— Где же ваша семья?
— Никого у меня нет. Жена давно умерла, а двух сыновей казнили солдаты.
— За что? — спросил, устанавливая на циновке термос, Чень Юхуа.
— За то, что они у одного богатого тухао [3] зарезали сотню свиней и раздали мясо голодным беднякам.
Чень Юхуа налил из термоса кружку горячего чая, протянул старику:
— Пейте чай. Это ароматный, с цветами камелии. А насчет земли теперь дело пойдет по-другому. Землю получат те, кто на ней работает.
Старик невесело усмехнулся, обнажив беззубые десны, обнял кружку темными, корявыми пальцами.
— Вряд ли из этого что-нибудь получится, — проговорил он, подумав.
Отхлебнув глоток, старик продолжал, посматривая то на Александра, то на Чень Юхуа.
— Зимой стояли у нас на отдыхе солдаты-коммунисты из Железного полка генерала Е Тина.[4] Ничего плохого об этих парнях не скажешь. Отличные парни, веселые, вежливые. Они нам прямо сказали: «Организуйте у себя крестьянский союз, мироедов-тухао прижмите как следует, земли их между собой поделите». Мы так и сделали. А через месяц к нам пришли солдаты из восточной колонны генерала Чан Кашли. На их знаменах была гоминьдановская звезда, и они тоже говорили о революции и о Сун Ятсене. Вместе с этими солдатами вернулся изгнанный нами тухао. Солдаты созвали всех крестьян на берег озера, раздели догола, избили бамбуковыми палками, а землю вернули тухао. Вот вам и революция!
Александру надолго запомнились горькие слова полунищего старика. За время поездок по консульским округам ему не раз приходилось наблюдать, насколько по-разному ведут себя западная и восточная колонны Национально-революционной армии: если западная колонна, в которой было много коммунистов, почти не выходила из боев и уже воевала в провинции Хубэй, нацеливая удар на большой город Кайфын, то восточная колонна — ее вел главнокомандующий Чан Кайши — топталась на дальних подступах к Шанхаю, а первый корпус генерала Хэ Инциня вообще отсиживался в тылах, причем Хэ Инцинь по приказу главнокомандующего откомандировал из своего корпуса всех политработников-коммунистов. Хотя коммунисты, усиливая мощь единого общенародного фронта, еще при жизни Сун Ятсена вошли в Гоминьдан, оговорив полное сохранение своей политической и организационной самостоятельности, Чан Кайши смещал коммунистов со всех командных постов в восточной колонне и держал свою колонну в состоянии медлительного маневрирования, как будто выжидал чего-то.
— По-моему, старик прав, — сказал Александр переводчику, когда они покинули хижину. — В армии происходит что-то странное. Наши корреспонденты рассказывали мне, что Чан Кайши стал приглашать в восточную колонну немецких инструкторов, совещается с ними по ночам, встречается с какими-то иностранными представителями и не считает нужным ставить об этом в известность ЦИК Гоминьдана.
Чень Юхуа невозмутимо пожал плечами:
— Многие замечают это.
Для того чтобы беспрепятственно добраться с консульской почтой до Пекина, Александру надо было взять пропуск у генерала Тан Шэнчжи, командующего западной колонной. Отдохнув в фанзе, Александр отправился искать генерала Тана.
Небольшая железнодорожная станция, куда Александр и Чень Юхуа, немилосердно подгоняя уставших мулов, добрались после полудня, была битком набита солдатами. Они сидели и лежали вдоль украшенных разноцветными плакатами станционных стен, кучками бродили между путями, толпились у методично сопевшего паровозика, на котором алел вырезанный из жести профиль Сун Ятсена. Немолодой, покрытый угольной пылью машинист что-то кричал солдатам, поблескивая белыми зубами. Неподалеку, на перроне, группа солдат разжигала костер и гремела флягами.
— Где же вагон Тана? — спросил Александр.
Машинист, к которому обратился Чень Юхуа, глянул на него и махнул рукой, указывая куда-то в хвост поезда. Они пошли туда, с трудом пробираясь между солдатами. Вид у солдат был усталый, обмотки и штаны захлюстаны грязью, У многих на головах и на руках белели бинты, сквозь которые ржаво пятнилась подсохшая кровь.
— Откуда вы, друзья? — спросил Чень Юхуа, придерживая за локоть маленького солдата с забинтованной головой.
Тот остановился, передвинул котелок на поясе и затараторил:
— Оттуда, с востока. Из отдельной дивизии. Штурмовали мост на шоссе. А попробуй возьми этот проклятый мост, если нам трое суток не давали ни патронов, ни провианта! Мы засохший на котелках рис зубами выгрызали! Древесную кору ели!
Маленький солдат горестно махнул рукой, выругался и зашагал прочь, смешавшись с толпой обветренных, угрюмых, забрызганных грязью товарищей.
«Плохо ваше дело, братцы! — с тревогой подумал Александр. — Должно быть, за спиной у вас какая-то сволочь орудует. Ведь в тылах фронта провиант есть, я сам видел…»
Роскошный, с зеркальными стеклами и медными поручнями салон-вагон Тан Шэнчжи стоял в тупике. У его дверей расхаживали чисто одетые маузеристы-бодигары.[5] На задней, прицепленной к вагону платформе, под натянутым на бамбуковые шесты парусом, два молчаливых буддийских монаха в желтых одеяниях устанавливали раскладной походный алтарь с бронзовым изображением равнодушно улыбавшегося Будды.
— Всегдашние штучки Тана, — прошептал Чень Юхуа. — Он всерьез уверяет, что буддизм и коммунизм одно и то же, и молится Будде перед каждой боевой операцией. Своих же офицеров и солдат Тан уговаривает бороться с соблазнами мира, не мечтать о земном рае, а думать только о Цзинту — чистой стране в потустороннем мире.
— Отличная философия для революционного генерала! — сквозь зубы сказал Александр.
Чень Юхуа косо глянул на монахов.
— Во всяком случае, удобная, товарищ Саша! Буддийскими проповедями генерал Тан надеется убить в солдатах соблазн разделить между собой его собственные богатые поместья.
Один из бодигаров доверительно сообщил Александру и Чень Юхуа, что его превосходительство генерал Тан Шэнчжи выехал с адъютантами на соседний разъезд встречать его превосходительство генерала Фын Юйсяна и что там же, на разъезде, собрались приглашенные на совещание командиры корпусов и дивизий.
— Что ж, товарищ Чень, поедем туда? — сказал Александр.
— Поедем, — согласился переводчик. — Могу вас заверить, что это будет интересное зрелище.
Они отыскали своих мулов, затянули отпущенные подпруги, выбрались из забитых толпами солдат кривых улиц и поехали на запад, держась железнодорожных путей. Справа и слева невзрачные, слитые с желтовато-сизым цветом холмов, замелькали глинобитные мазанки-фанзы. Вокруг не было видно ни деревца, ни кустика, и потому они казались унылыми гробницами давно заброшенных кладбищ. Изредка там, где холмы отодвигались к горизонту, голубыми полукружиями сверкали залитые полой водой рисовые поля, робко зеленели первые травы, а выкрашенные охрой фанзы были обнесены защитным валом и рвом.
То ли неуловимыми признаками ранней весны — влажным запахом ветра, синевой неба, желтыми крапинками цветов, которые доверчиво и нежно выткнулись на обочине дороги, — то ли вереницами летевших на север журавлей эта обширная незнакомая земля вокруг напомнила Александру его родную, далекую землю, и он, придержав мула, поехал сзади один, думая о том, как много у людей общего, одинаково радостного для всех, кто любит весну, мирный труд, отдых под вечереющим небом.
— Вон за холмом виден разъезд, — прервал размышления Александра подъехавший Чень Юхуа. — Надо торопиться, а то мы опоздаем…
На разъезде двумя шпалерами был выстроен почетный караул. У кирпичной водокачки стоял оркестр — одетые в солдатскую форму музыканты с гонгами, барабанами, семиструнными цинями, длинными, окрашенными в разные цвета сяо-ти.[6] В большом желтом паланкине, установленном на краю невысокого перрона, восседал престарелый генерал Тан Шэнчжи. Чопорный, чисто выбритый, в синем сюртуке с позолоченными пуговицами и в черных лакированных туфлях, Тан сидел в кресле паланкина, опершись на трость, и, поминутно оправляя огромные, с дымчатыми стеклами очки, всматривался туда, где сходились сверкавшие под закатным солнцем рельсы.
Неподалеку от паланкина жались друг к другу одетые в мундиры и разноцветные халаты генералы. Они тихонько шушукались, смиренно шевелили пальцами сложенных на животе рук и старались держаться на почтительном расстоянии от угрюмого, нахохленного Тана. Только один из них, коренастый молодой человек с коротко подстриженными темными усами, расхаживал по перрону с независимым видом, улыбался и невозмутимо покуривал большую трубку, не обращая на Тана ни малейшего внимания.
— Кто это? — спросил Александр.
— Генерал Хэ Лун, — шепотом ответил Чень Юхуа, — храбрый, как сто дьяволов. Он уже давно тянется к коммунистам и собирается вступить в партию. За бесстрашие и за талант его любит вся армия.
Через несколько минут из-за холма показался поезд. Стоявшие на перроне зашевелились; важно помахивая тростью, вышел из паланкина генерал Тан Шэнчжи; генералы выстроились за его спиной, на их лицах застыла любезная улыбка; не спуская глаз с начальства, приготовились музыканты.
К перрону подошел поезд: паровоз и четыре вагона — один классный, три товарных. Встречающие двинулись к классному вагону. Заглушаемый барабанами, оркестр грянул бравурный марш. Из классного вагона, улыбаясь и раскланиваясь, вышел адъютант в защитном френче. Он приложил руку к козырьку, молча указал глазами на второй вагон-теплушку. Оттуда, по-медвежьи посапывая, кряхтя и вздыхая, вылез огромный толстяк в полинялой солдатской блузе, в стоптанных башмаках, с вещевым мешком за плечами.
Чень Юхуа подтолкнул Александра локтем:
— Генерал Фын Юйсян! Могу держать пари, что он сейчас выкинет какой-нибудь номер.
И действительно, командующий Народной армией генерал Фын Юйсян вдруг остановился, положил на землю вещевой мешок, уселся на него и, поглядывая на корректного, вежливого Тан Шэнчжи, стал хладнокровно перематывать обмотки. Генералы заулыбались. Между тем толстый Фын вытряхнул из башмаков песок, замотал обмотки, вытянулся во весь свой гигантский рост и проговорил, обращаясь к стоявшим на перроне:
— Вы хотели видеть Фын Юйсяна? Это я!
После такого представления Фын добродушно пожал руку немного шокированному Тан Шэнчжи, поклонился направо и налево, взгромоздился на подведенного бодигарами дюжего мула и спокойно поехал вдоль железнодорожного полотна.
Генерал Тан выслушал Александра, морщась и вздыхая, однако приказал адъютанту выдать советскому дипломатическому курьеру пропуск на проезд через зону действий западной колонны Национально-революционной армии.
Перед рассветом, простившись с Чень Юхуа, Александр выехал в Ухань, чтобы оттуда, минуя наиболее опасные фронтовые зоны, пробраться в Пекин. Соблюдая предосторожности, он на станциях по первому требованию предъявлял свой курьерский лист и густо исписанный иероглифами аршинный документ, выданный ему полгода назад китайским правительственным чиновником в Пекине. К удивлению Александра, этот документ сохранял силу во всех зонах и в конце концов благополучно довел его до Пекина.
В городке советского посольства, где поселился Александр, его ждала неожиданная радость: во-первых, он получил из Огнищанки письмо на десяти страницах — писала вся ставровская семья; во-вторых, письмо это ему передал Сергей Балашов. Родичи прислали это письмо в Наркоминдел с просьбой направить в адрес Александра. Балашов рассказал о московских новостях и вручил записки с приветом от наркомиидельских товарищей.
Румяный подтянутый Балашов на этот раз изменил своей всегдашней сдержанности: прижав Александра в углу, он долго тискал его в объятиях, хлопал по спине и растроганно бормотал:
— Жив, черт ты этакий! Жив! А ведь у нас в комиссариате пронесся слух, что тебя ухлопали где-то под Ханьяном. Ну, думаем, пропал парень, накрылся! А ты, оказывается, вот он, ходишь как ни в чем не бывало!
Искренняя взволнованность Балашова передалась Александру. Обнявшись, они долго ходили по аллее посольского сада, закидывали друг друга вопросами и никак не могли наговориться. Развела их знакомая Александру по сибирскому экспрессу учительница Ульяна Ивановна.
— Хватит вам! — сказала она Балашову. — Дайте человеку прийти в себя и отдохнуть. Нельзя же так!
— Правда, правда! — спохватился Балашов. — Тебе давно пора прочитать письмо.
Письмо было обычное, так пишут близкие в пору долгой разлуки: брат Дмитрий сообщил о домашних делах и успехах ставровской семьи; Настасья Мартыновна — после смерти Марины она подобрела к Александру — просила беречь здоровье и соблюдать осторожность; Андрей писал о своей работе в огнищанской избе-читальне; Роман и Федя просили привезти из Китая хорошие акварельные краски; Каля и Тая — очевидно, в пику ребятам — заканчивали письмо словами:
«Нам, дядя Саша, ничего не надо, просим только об одном: приезжайте скорее, мы по вас соскучились…»
Вечером Александр сел за ответное письмо. Он знал, что Балашов утром уезжает, и ему хотелось отправить письмо с ним. Балашов настоял, чтобы его поместили вместе с Александром. Им отвели комнату в небольшом домике рядом с посольским клубом. В этот вечер в клубе показывали новый американский кинофильм. Балашов отправился туда, пригласив молодую девушку-стенографистку.
Закончив письмо, Александр с наслаждением вытянулся на приготовленной для него чистой, прохладной постели и уснул мертвым сном.
Проснулся он от резкого стука. Кто-то грубо и настойчиво колотил в дверь, дергал ее так, что с потолка летела штукатурка. Александр вскочил, протер глаза. Проникая сквозь щель ставни, на полу мерцала солнечная полоска. Сергей Балашов спал, накрыв голову подушкой. Откуда-то тянуло удушливым запахом дыма.
— Сережа, вставай! — закричал Александр. — Что-то случилось! Должно быть, пожар!
Они мгновенно оделись, кинулись к выходу, но в эту секунду правая половина двери слетела с петель. В комнату ворвались три человека с револьверами в руках. В коридоре, за их спинами, толпились вооруженные винтовками солдаты.
Вбежавший первым высокий человек в форме полицейского офицера закричал на чистейшем русском языке:
— Руки вверх! Ступайте отсюда во двор!
Не понимая, что происходит, Александр спросил спокойно:
— Кто вы такой и по какому праву врываетесь на территорию посольства?
Полицейский офицер поднял револьвер на уровень лица.
— Выкатывайтесь к чертовой матери! — заорал он. — О праве будете говорить после, мерзавцы! Мы вам покажем право!
Александр и Сергей Балашов под конвоем равнодушных солдат вышли из комнаты.
Весь двор посольского городка был забит солдатами, полицейскими и вооруженными людьми в черных штатских костюмах. Возле резной террасы посольского клуба пыхтел большой автомобиль, в который солдаты беспорядочно сваливали книги. Один из домов городка горел, над ним висела темная туча дыма, а из окон вырывались острые языки пламени. Справа, связанные веревками попарно, стояли сотрудники посольства, среди них Александр узнал Ульяну Ивановну. Уцепившись за нее, громко плакали две полураздетые девочки и мальчик.
— Ничего не понимаю! — сказал Балашов, растерянно поглядывая по сторонам.
Александр крепко сдавил его локоть:
— Молчи! Тут и понимать нечего — самый настоящий бандитский налет, подстроенный чжанцзолиновской сволочью и белогвардейцами.
Неподалеку от того домика, в котором ночевали дипкурьеры, стоял окруженный молодыми деревцами, приземистый одноэтажный дом — канцелярия советского военного атташе. Окна этого дома были разбиты, деревца изломаны, а из распахнутых настежь дверей пьяные солдаты, смеясь и перебраниваясь, выносили и бросали возле террасы папки с бумагами, ковры, кресла, картины. Двое штатских — по лицам в них легко было признать русских — наблюдали за солдатами, хладнокровно покуривая сигары. К ним подошла молодая девушка в светлом плаще и легкой красной косыночке. Она о чем-то спросила штатских. Те ухмыльнулись. Потом тот, который стоял ближе к девушке, плюнул ей в лицо, сорвал с ее головы косынку и хлестнул косынкой по щеке.
Сергей Балашов рванулся туда. Александр побежал за ним.
— Как вы смеете оскорблять женщину?! — гневно закричал Балашов.
Оба штатских отступили на шаг, сунули руки в карманы.
— А ты откуда взялся, защитник? — усмехнулся тощий верзила в сдвинутом набок котелке и трехцветном кашне. — Это тебе не Совдепия, тут свои законы!
Еле сдерживая в себе бешеное желание хватить хулигана по наглой, ухмыляющейся роже, Александр спрятал руки за спину и проговорил глухо:
— Мне кажется, что для мужчины, если он даже белогвардеец и налетчик, должен быть один закон — не трогать беззащитных детей и женщин.
Верзила в котелке захохотал, отступил еще на шаг. Его испитое, с синевой под глазами лицо побелело, рот задергался.
— Не тебе, хамская морда, учить меня правилам поведения! — прохрипел он, с ненавистью глядя на Александра. — Ты знаешь, кто я такой? Я князь, камер-паж его величества, а ты скотина, сиволапое быдло! Я ненавижу вас всех и до конца своих дней буду истреблять ваше красно-советское племя — женщин, детей, всех! Слышишь? Всех!
Голос испитого верзилы зазвенел на высокой ноте, перешел в истошный визг. В это время мимо проходил какой-то украшенный орденами китайский офицер с хлыстом в руке и с моноклем в глазу. «Камер-паж его величества» мгновенно осекся, заулыбался, приподнял котелок и, угодливо изгибаясь, засеменил за высокомерным китайцем.
Между тем грабеж посольского городка продолжался. Пожара никто не тушил. Солдаты волокли из домов на улицу одеяла, одежду, белье. Автомобили вывозили книги, мебель. В одном из жилых домиков надрывно кричала женщина, но ее голос терялся, заглушаемый воем автомобильной сирены, звоном разбиваемых стекол и криками солдат.
Посольский городок был лишь частью территории советского посольства. В переулке — Александр сразу заметил это — стояла цепь чжанцзолиновских солдат, а между ними вертелись штатские, очень похожие по манерам на «камер-пажа его величества».
Все же Балашову и Александру удалось незаметно проскользнуть из городка в посольский сад. В саду никого не было. Светило солнце. Слегка шевелились унизанные тугими почками ветви деревьев.
— Ну что ты скажешь? — угрюмо спросил Балашов.
Александр настороженно оглянулся.
— Все ясно. Они открыто пошли на разрыв. Конечно, наши немедленно отзовут посла и прекратят с этой шайкой дипломатические отношения.
Только к полудню закончилось бесчинство в городке советского посольства. Двадцать два сотрудника были арестованы и уведены. Семьдесят служащих-китайцев были избиты, а потом связаны, брошены в автомобили и увезены. Клубную библиотеку и все бумаги из канцелярии военного атташе налетчики также увезли. Почти все жилые дома были разграблены.
Когда последние солдаты покинули двор посольства, Александр и Сергей Балашов побежали к главному зданию. В вестибюле они увидели сбившихся возле лестницы людей и между ними седого человека в сером плаще. Это был поверенный в делах. Он стоял, опершись на перила и глядя куда-то в угол. Губы его дрожали.
— Дипкурьеры? — спросил он, увидев Александра и Балашова. — Очень хорошо. Один из вас сейчас же поедет в Москву и повезет шифрованное донесение обо всем случившемся, а другой отправится в Шанхай, к нашему консулу. Прошу вас приготовиться к дороге.
В третьем часу Александр расстался с Балашовым. Тот уезжал в Москву.
— До свидания, Сергей! — сказал Александр, обнимая товарища. — Не знаю, когда нам придется встретиться, да и придется ли? Расскажи там обо всем, что видел, и не забудь отправить в Огнищанку мое письмо.
На следующее утро Александр покинул Пекин и выехал поездом на юг. Ему уже было известно, что войска Национально-революционной армии на днях овладели наконец Шанхаем и Нанкином, перерезав коммуникации империалистов на восточном побережье Китая. Это была значительная победа. Однако трещина в отношениях между уханьским правительством и генералом Чан Кайши с каждым днем обозначалась все яснее, углублялась, и все понимали, что раскол в Гоминьдане может привести Национально-революционную армию к катастрофе, а революцию — к полному поражению.
В Учане Александр встретился со своим постоянным спутником Чень Юхуа. Этот славный юноша очень обрадовался встрече, но было видно, что он подавлен и растерян.
После завтрака Чень Юхуа предложил Александру прогуляться за город. Они вышли через городские ворота, долго бродили по высокой древней стене, потом забрались на гору и уселись на камнях какой-то разрушенной пагоды. Внизу, за стеной, громоздились черепичные крыши Учана, были видны разбросанные на окраинах нищенские фанзы, а справа, спокойные и чистые, голубели озера.
— Плохое дело, товарищ Саша, — потирая руки, заговорил Чень Юхуа, — очень плохо. Правые гоминьдановцы громят крестьянские союзы, возвращают землю помещикам, арестовывают коммунистов. Кроме того, в это дело ввязались иностранные империалисты.
— Как? — спросил Александр.
— Несколько дней назад два американских военных корабля «Ноа» и «Престон» и английский крейсер «Эмеральд» обстреляли из пушек занятый нами Нанкин, перебили и покалечили сотни мирных жителей… — Чень Юхуа движением руки указал на испещренную сизо-зелеными плешинами моха учанскую стену: — Под этой стеной легли тысячи наших солдат. Их обливали сверху горячей смолой, кипятком, сбрасывали на них десятипудовые камни. По мертвым телам товарищей забрались солдаты на стену и взяли Учан. Теперь все это может оказаться напрасным, потому что единства у нас больше нет…
В том, что в Национально-революционной армии единства действительно больше не было, Александр убедился сразу же, как только попал в Шанхай. Правда, в рабочих районах города — Чапэе, Усуне, Наньши — еще расхаживали вооруженные пикетчики-красногвардейцы: металлисты, трамвайщики, портовые грузчики. Они помогли Национально-революционной армии штурмовать Шанхай, подняв под руководством коммунистов восстание в городе.
Но по приказу генерала Чан Кайши уже со всех сторон стягивались к Шанхаю войска. По городу поползли пущенные кем-то зловещие и нелепые слухи о том, что рабочие пикеты собираются напасть на иностранные концессии и перебить всех иностранцев. И хотя в роскошных дворцах международных банков ни на секунду не прекращалась деятельность разноязыких авантюристов-коммерсантов, а обитатели охраняемого часовыми международного сеттльмента преспокойно веселились в ночных барах и дансингах, слухи о том, что рабочие-пикетчики нападут на сеттльмент, распространялись все шире и шире. Иностранный военный флот незаметно стягивался к Шанхаю.
Сотрудник советского консульства в Шанхае, пожилой украинец с меланхолическими глазами, встретивший Александра в день его приезда, ничего определенного не мог ему сказать. Он лишь поминутно оправлял вышитый ворот сорочки.
— Как же наши реагировали на пекинский налет? — спросил Александр. — И что же теперь прикажете делать мне?
Благодушный украинец почесал затылок.
— Посольство наше отозвано из Пекина, и нота протеста послана, довольно резкая нота, — сказал украинец. — А что касается вас, товарищ Ставров, то мне, по правде говоря, ничего не известно. Вам, очевидно, придется дожидаться распоряжения консула.
Предоставленный самому себе, Александр целыми днями бродил по городу, любовался великолепными зданиями иностранных банков, набережными, пышными особняками английских, американских и французских дельцов. «Устроились как на своей собственной земле», — думал он и невольно вспомнил то, что ему довелось увидеть на отдаленном от центра берегу мутной реки. Сбитые в кучу, там покачивались на волнах тысячи джонок, сампанов, полуразрушенных барж — страшное зрелище плавучей нищеты, мир на воде, в котором всю жизнь, из поколения в поколение, обитали высохшие, как мумии, кули, рыбаки, ткачи, рикши, разорившиеся уличные торговцы, проститутки, матросы, сбежавшие из деревень голодные крестьяне. Это их, хозяев китайской земли, надменные иностранцы именовали «желтыми собаками». Это они, хозяева своей земли, рождались и умирали в огромном плавучем лагере, проклятом заповеднике болезней, невыплаканного горя, убожества и унижений. Вода не успевала уносить от берега горы смрадных отбросов, и в этих гниющих отбросах, тщетно разыскивая что-нибудь съестное, с утра до вечера копошились тысячи голых рахитичных детей…
И когда Александр встречал на центральной улице пришельцев-иностранцев, которые катили на мокрых от пота рикшах, он думал со злобной радостью: «Врете, сволочи! Пробьет час, и всех вас вышвырнут отсюда навсегда, так что и следа вашего не останется».
Однажды днем, гуляя по людному Банду, Александр увидел кортеж: окруженный велосипедистами-бодигарами, свитой адъютантов и полисменов, в автомобиле ехал худощавый китаец-генерал в защитном френче, перекрещенном портупеей, губы генерала были плотно сжаты, из-под лакированного козырька надвинутой на брови фуражки блестели холодные прищуренные глаза.
— Цзян Цзеши! — послышалось в толпе. — Чан Кайши!
Александр остановился. Так вот он каков, этот кандидат в диктаторы, главнокомандующий Национально-революционной армией, который трусливо топтался на подступах к Шанхаю до тех пор, пока восставшие рабочие не открыли перед ним городские ворота. «Хорош же ты гусь!» — с недоброй усмешкой подумал Александр.
Это было в начале апреля, тогда люди не знали, что в штабе Чан Кайши уже успел побывать представитель его «противника» Чжан Цзолина, что главари шанхайских бандитских шаек уже получили от Чан Кайши денежный куш и готовили нападение на генеральный рабочий союз, а сам он виделся с группой иностранцев и заверил их, что «ликвидирует коммунистов» и «наведет порядок». Когда нанкинские банкиры и промышленники пригласили Чан Кайши на банкет и, заискивая перед модным генералом, попросили его «прекратить бесчинства красных», главнокомандующий Национально-революционной армией неожиданно заявил в ответ:
— Бесчинства имеют место не только в Нанкине, но и всюду, где рабочие и крестьяне выступают с их требованиями установить коммунистические порядки…
Устроители банкета встретили слова генерала аплодисментами.
Двенадцатого апреля Чан Кайши решил привести в исполнение свой давно подготовленный замысел. В этот день, на рассвете, пятьсот наемных бандитов-маузеристов разгромили штаб рабочих пикетов. В это же время солдаты введенного в Шанхай двадцать первого корпуса стали разоружать и арестовывать пикетчиков. После восхода солнца массы рабочих, ремесленников, студентов двинулись к штабу Чан Кайши, чтобы вручить ему протест против бесчинства его солдат. На улице Баошань это шествие было встречено пулеметным огнем. Сотни людей погибли. В городе начались повальные обыски и аресты.
Перед вечером Александр, проходя по Норд-Сычуаньрод, видел, как чанкайшистские солдаты казнили пожилого трамвайщика-коммуниста. Они связали ему руки и ноги, свалили на землю. Не обращая внимания на прохожих, щеголеватый офицер с нашивками на рукаве выхватил из ножен тяжелый, остро отточенный палаш, подошел к лежавшему на мостовой человеку и отрубил ему голову. Солдаты надели голову казненного на бамбуковый шест и, ухмыляясь, понесли по улице.
«Да, это конец, — подумал Александр, провожая взглядом редкую цепочку солдат, — революция предана…»
Через три дня в советском консульстве стало известно, что уханьское левогоминьдановское правительство отстранило Чан Кайши от должности главнокомандующего Национально-революционной армией и отдало приказ о его аресте.
На место предавшего революцию Чан Кайши был назначен генерал Фын Юйсян.
Новый главнокомандующий послал правительству такую телеграмму:
«Наш вождь Сун Ятсен сейчас на небе, и он видит оттуда все, что мы делаем».
5
На рассвете троицына дня Дмитрий Данилович Ставров послал старших сыновей, Андрея и Романа, в Казенный лес — нарубить сотню жердей для курятника. Оба брата еще с вечера уговорились идти с девчатами к пруду и потому стали ворчать и огрызаться. Но отец прикрикнул на них, и они, сердито посапывая, умылись, взяли топоры, сумку с харчами и пошли в лес.
— У нас все не так, как у людей, — сплевывая сквозь зубы, сказал Роман. — Кто-то празднует, а мы должны спину гнуть.
— Ничего, не помрем, — утешил брата Андрей. — До полудня мы с жердями управимся, а потом прямо из леса махнем на пруд…
Они шли босиком. Ноги приятно холодила мягкая дорожная пыль. На вершине холма розовели отсветы еще невидимого солнца. В вышине, восторженно захлебываясь, распевали жаворонки. Слева, на гребне оврага, заросшего молодой порослью вязов, тенькали синицы.
Андрей шел ухмыляясь, посматривал на брата и втайне любовался им. Роман за последний год вытянулся, стал выше Андрея; так же, как Андрей, он начесывал чуб на правый висок, так же на ходу размахивал руками, лихо сплевывал сквозь зубы. «Здоровый стал, чертяка, — с уважением подумал о брате Андрей. — Такой если стукнет, мокрое место останется, ишь какие у него кулачищи!»
В лес пришли на восходе солнца, выбрали участок — запущенное мелколесье, прилегли на траву, покурили.
Солнце освещало поляну желтоватым светом. На травах, словно негустой иней, серебрилась роса. Из глубины леса наплывал запах прохладной сырости, и казалось, оттуда, из этой тихой, еще охваченной ночной дремой чащи, стелясь понизу, тянутся к поляне ленивые струи холодной воды.
Над лесом, распластав крылья, слегка наклонив к земле остроклювую голову, медленно парил коршун. Он то описывал плавные круги, то, взмахнув крыльями, взвивался вверх и на секунду замирал, высматривая добычу.
Роман проследил за неторопливым полетом коршуна, вздохнул и проговорил задумчиво:
— Хорошо быть птицей. Поднялся — и лети куда хочешь. Кругом простор, тишина…
Он повернулся к брату, сказал, неловко улыбаясь:
— Знаешь, я хотел бы родиться голубем. Правда, правда! Думаешь, плохо? Можно было бы летать под самыми облаками.
Андрей глянул на него искоса, зевнул:
— Глупости! Каждому свое. Человеку отпущено больше, чем птице, надо только голову на плечах иметь.
— Правильно, — согласился Роман. — Это я без тебя знаю. А только нудно мне иногда. Ходишь по земле, как будто кислой капусты наелся, хочется сделать что-нибудь такое… ну, ты понимаешь… а тебя посылают конюшню чистить или латать старые постромки.
— А что бы ты хотел сделать?
— Я и сам не знаю что. — Роман смущенно засопел. — Вот, скажем, Котовский… настоящий человек был. Посмотришь на его портрет — и прямо захолонешь: глаза орлиные, руки каменные, на сабле и то ордена красуются…
— Да-а, — сказал Андрей, — это верно. А только нету больше Котовского. Слышал небось? Убила его какая-то сволочь. Говорят, его же адъютант. Подошел вечером в саду — и в упор из нагана…
Братья помолчали. Андрей, закинув руки за голову, прилег на траву, а Роман, охватив колени, так же пристально следил за неутомимым коршуном. Потом он притронулся рукой к плечу Андрея и вдруг спросил неожиданно:
— Скажи, ты очень любишь эту свою Елю?
Было в его голосе нечто такое, что заставило Андрея приподняться.
— А что? Чего тебе вздумалось спрашивать?
Роман отвел глаза, сделал вид, что его интересует только коршун, стал быстрыми движениями оглаживать влажный, холодный пырей.
— Понимаешь, — заговорил он растерянно, — вот увидел я ее… Ходила она тут у нас в белом платье… как царевна… Я даже за чуб себя тихонько дергал: не приснилась ли она мне? Бывают же такие на свете. Посмотришь на нее…
— Ладно! — грубо перебил Андрей. — Бери-ка топор, а то мы о птицах да о девках весь день проговорим.
Андрей не мог скрыть то ревнивое чувство неприязненной жалости к брату, которое вспыхнуло в нем, когда он услышал слова Романа и заметил его странную растерянность. «Туда же лезет! — подумал он сердито. — Царевной Елку назвал и завертелся, как карась на сковороде, дурак».
Поплевав на ладони, Андрей взял топор, нацелился глазом на ближний молоденький вяз, ударил по стволу деревца наискось, справа налево, и, отвернувшись от брата, стал с ожесточением рубить. Мелкие щепки разлетались во все стороны. Деревце на каждый удар топора отвечало едва заметной дрожью, шелестом листьев, потом стало клониться и, прошумев ветвями, рухнуло на землю. Андрей слегка оттолкнул его ногой и перешел к следующему, такому же молодому и стройному вязу.
«А ведь Роман влюблен в Елю, — снова подумал Андрей, вонзая топор в податливый ствол вяза, — у него прямо лицо меняется, когда он говорит о ней…»
Он незаметно взглянул на Романа. Тот, тихонько посвистывая, рубил неподалеку. Фуражку он снял, его темный прямой чуб навис над глазами. Работал Роман с ленцой, поминутно посматривая куда-то в чащу или задумчиво вызванивая пальцами по лезвию топора.
Андрею стало жаль брата. Он подошел к Роману, легонько шлепнул его ладонью по спине:
— Так, говоришь, царевна?
Роман в первый раз посмотрел прямо в глаза Андрею.
— Конечно царевна. Такие только в сказках бывают. А ты зря лезешь в бутылку. Что ж, тебе одному можно смотреть на Елю? Нащетинился ежом, слова не даешь молвить…
— Дело не в этом, — издевательски ухмыляясь, сказал Андрей, — дело в том, что два братца врезались в одну девку. Еще, чего доброго, Федька к нам пристанет, тогда прямо-таки красота получится: всем ставровским кодлом окружим свою царевну и начнем поклоны бить. Как сказал бы Длугач, картина Айвазовского.
Роман весело засмеялся.
— Чего скалишь зубы? — озлился Андрей.
— А и правда, смешно получается. Ну да ты не бойся, мы с Федькой отбивать твою царевну не собираемся. Она на тебя и то сверху вниз смотрит, так куда уж нам, грешным!
Мир между братьями был восстановлен. Они принялись рубить деревца, выбирая самые загущенные, как наказывал им угрюмоватый лесник Пантелей Смаглюк. Работали до полудня, потом очистили стволы срубленных деревьев от ветвей, стянули их в одно место, сложили так, чтобы легко было подсчитать, и побрели к лесной сторожке — предупредить Смаглюка.
Деревянная сторожка, в которой жил Пантелей Смаглюк, стояла на гребне оврага, в лесной гущине. Сложенная из бревен, она была покрыта сизо-зеленым мхом, потемнела от времени, скособочилась. На дне оврага, возле сторожки, с весны до поздней осени шумел неугомонный ручей. Справа, на поляне, высился серый стог прошлогоднего сена. Под стогом сидели Степан Острецов, Смаглюк и какой-то незнакомый пожилой человек в дорожном плаще. Незнакомый человек — у него были крючковатый нос и желтые ястребиные глаза — полулежал на конской попоне, остро поглядывая по сторонам.
— Будете считать жерди? — спросил Андрей у Смаглюка.
— А сколько их там? — равнодушно осведомился тот.
— Ровно сто, как договорились.
— Ладно, идите, я потом посчитаю, — сказал Смаглюк. Роман переступил с ноги на ногу, недовольно глянул на Смаглюка:
— Отец велел, чтоб мы принесли оплаченный наряд, а то придется еще раз тащиться к вам в лес.
— Иди выпиши им наряд, иначе они до вечера не отстанут, — сказал Острецов и, подмигнув Андрею, добавил — Так ведь?
— Конечно.
Пожилой человек в плаще рассеянно посмотрел на ребят, спросил у Острецова:
— Это чьи же такие орлы?
— Огнищанского фельдшера Ставрова, — сказал Острецов, — зимой учатся, а летом батьке по хозяйству помогают.
Пока Смаглюк, придерживая на колене потертую тетрадь, выписывал наряд, незнакомый человек в плаще говорил Острецову:
— Я вот поездил по уезду и всюду слышал разговоры о том, что рабочие, дескать, живут лучше, чем мужики, что им всякие привилегии даны и тому подобное. Ерунда! У нас только кричать умеют: «Рабочий класс! Рабочий класс!» — а посмотришь на этот рабочий класс — как был он в кабале, так и остался. Только и того, что клянутся им на каждом шагу, хозяином страны именуют да вывески на заводах переменили…
Острецов не отвечал, только ухмылялся. Когда наряд был выписан и братья Ставровы отправились домой, Андрей сказал, поведя плечом в сторону стога:
— С язычком товарищ! Видно, нездешний, городской.
— Наверное, из Ржанска, — предположил Роман.
Братья не ошиблись. Это был Погарский, бывший полковник, который работал бухгалтером на ржанском кирпичном заводе. Получив отпуск, Погарский ездил по губернии, восстанавливая нарушенные кое-где звенья той большой контрреволюционной организации, которой он руководил и которая в последнее время почти бездействовала, дожидаясь заграничных связных.
Однако братья Ставровы не собирались гадать о том, что собой представляет язвительный человек в дорожном плаще. Им не было до него никакого дела. Думали они о другом: как бы побыстрее дошагать до пруда, где огнищанские девчата, гадая о своей судьбе, вьют венки, а парни, усевшись на берегу, поют песни или с азартом режутся в подкидного дурака. Андрей же торопился к пруду еще и потому, что хотел предупредить парней и девчат о вечерней лекции, которую должен был читать в избе-читальне старый пустопольский учитель Фаддей Зотович, недавно руководивший работой Андрея в школьном кабинете природоведения.
До пруда братья добрались часа через два. Впрочем, то, что огнищане по привычке называли прудом, после прошлогоднего размыва плотины представляло собою жалкое зрелище: между холмом и кладбищем темнел окаменелый, исполосованный трещинами ил, по краям трещин топорщились бурьяны, и лишь кое-где в низинах мелкие, воробью по колено, голубели налитые талой весенней водой лужи. В лужах с утра до ночи, роняя перья, копошились утки, а по топким бережкам мычали застрявшие в грязи телята.
Ни парней, ни девчат возле пруда не оказалось. Только у кладбищенского плетня сидели двое — ослабевший после недавнего ранения Колька Турчак и худощавый, с кудрявой бородкой мужик, в котором Андрей узнал мертволожского сектанта-странника Федосея Пояркова. Голова Кольки Турчака была низко острижена, на ней лиловели шрамы, а кожа на лице и руках Кольки отливала той землистой бледностью, какая обычно появляется у людей, долго не видевших солнечного света.
Федосей Поярков полулежал на расстеленной свитке и с выражением удовольствия, жмурясь и позевывая, осматривал швы на своей растянутой на коленях сорочке. Когда подошли братья Ставровы, он приветливо бормотнул: «Спаси Христос» — и заговорил, продолжая, должно быть, начатый с Колькой разговор:
— Человек, Николаша, слаб и немощен. На земле он только пришелец, и никакой мощи ему от бога не дано. Годов жизни отпущено ему маловато, с гулькин нос, и потому хочет он соблюсти свое благо — и жить по-своему, свободно. Ему, человеку-то, не нужны никакие поводыри и пастыри, он сызмальства желает своей тропкой идти.
Колька понуро пожал плечами, посмотрел на Пояркова:
— Ежели каждый человек на свою тропку загибать станет, то люди расползутся, как мураши, и никакого порядка у них не будет, я так понимаю.
— Неправильно понимаешь, Николаша, — ласково сказал Поярков, — неверное твое понятие. Человека душит власть, над ним стоящая, любая власть, будь то царь-государь или же красные товарищи. Человек сроду не любил власти и никогда не полюбит. Для человека власть — все едино что для быка ярмо…
Федосей вдохнул теплый воздух, почесал загорелую грудь, заговорил мечтательно:
— Ведь как оно получается? Вот мне, к слову сказать, странствовать желается, по белу свету ходить, солнышком любоваться. Никому я этим вреда не делаю, никому поперек дороги не становлюсь, хлебушек трудом своим добываю, а вернее, живу тем, что бог пошлет. И что же? Берут меня товарищи начальники за грудки, документ с печатями вручают и, как нашкодившего кутенка, тычут носом в землю: «Сиди тут, говорят, сиди тут…»
Андрей и Роман с любопытством вслушивались в то, что говорил Федосей. Голос у него был мягкий, чистый, руки ловкие, с крепкими пальцами, и весь он казался легким, простодушным, спокойным. Слушать его было приятно. Однако хмурый Колька Турчак спросил у Федосея с явным неудовольствием:
— А как же тогда с неправдой или с разбоем? Если, допустим, вам, дядя Федосей, голову проломят, покалечат вас, а власти никакой не будет? Сами вы должны обороняться или же как?
— Это все от лукавого, Николаша, — убежденно сказал Федосей. — Не трожь никого, и тебя никто не тронет. А разбой, кражи всякие, злодейство — порождение власти, потому что власть пакостит человека, задачу ему в жизни ставит, ложную цель определяет. Человек должен жить свободно, без цели и без задачи, как живет дерево или, скажем, трава в степи. Тогда душа у него будет не заразная, белая, вроде березовой коры, и он никого не тронет, не обидит.
— Ну это, положим, неверно, — перебил Андрей. — Для чего же тогда люди революцию делали, царя скинули, буржуев? Ведь угнетали буржуи рабочих, а помещики — мужиков. Что ж, обратно им власть отдать? Совсем отказаться от власти?
— Власть им отдавать не нужно, — сказал Федосей, — а отказаться от власти нужно, потому что от нее весь грех.
Андрей проговорил торжественно:
— Советская власть нужна для блага всех людей.
— А вы, молодой человек, допрашивали всех людей? — лукаво посмеиваясь, сказал Поярков. — Может, люди не желают этого общего блага? Вы их допросите по одному, и они, поимейте в виду, ответят вам: нет, дескать, нам не требуется общее благо, вы только не трожьте каждого из нас в отдельности, дайте нам обрести свое благо, кому какое желается: одному — странничество, другому — рыбальство, третьему — труд в поле.
Роман засмеялся:
— А четвертый возьмет пешню и проломит голову первому и второму, а с третьего штаны снимет.
— Вы, конечно, вострый юноша, — улыбнувшись, сказал Поярков. — Оно бывает, допустим, и так, что человек без штанов, извините меня, остается. Вывод же из этого следует такой: не носи бархатные штаны, а довольствуйся вот такими, вроде моих, — Федосей все с той же улыбкой указал на свои подкатанные до коленей потертые брючишки, — тогда их никто с тебя не скинет.
Он стащил с плетня подсохшие портянки, ловко обмотал ими ноги, надел истоптанные солдатские сапоги, потянулся к лежавшему сбоку мешку.
— Так-то, ребятки, — сказал Поярков, натягивая на плечи холщовые лямки мешка. — Пора мне сбираться в дальнюю путь-дорогу, чтоб душу свою от соблазнов очистить. Живите счастливо, а про то, что я говорил, хорошенько подумайте. Может, мы еще и повстречаемся где-нибудь на белом свете…
Взяв палку, Поярков поклонился и легко зашагал по дороге к лесу.
— Занозистый мужичок, — сказал Роман, глядя вслед Федосею.
— По-моему, не занозистый, а самый настоящий контрик, — возразил Колька. — Слыхали, чего он тут городил? Поглядишь на него — ласковый да улесливый, вроде маслом намазанный, хоть живым его на небо возноси, а в середке, видать, змей сидит.
Андрей сказал пренебрежительно:
— Брось, Коля! У тебя все вокруг белогвардейцы да контрреволюционеры. Ну его, этого божьего бродягу! Ты лучше расскажи нам о своем здоровье — лучше тебе стало или нет?
В светло-карих Колькиных глазах появилось выражение горечи.
— Какое там здоровье! Покалечили они меня, сволочи, на всю жизнь силы лишили. Ну да я им все равно не поддамся, нехай не думают, что они пополам меня сломали…
Вместе с братьями Ставровыми Колька пошел на Костин Кут. Андрею надо было загодя приготовить избу-читальню к лекции — помыть полы, расставить скамьи, заправить лампы, и он попросил Романа и Кольку помочь ему. Роман на бегу отнес домой топоры и сумку с харчами.
По деревенской улице шли чинно, с важностью, как положено уважающим себя парням. У дворов, на лавочках, сидели празднично одетые бабы и мужики. Каждые ворота были украшены ветками тополей, вязов, кленов, а дорожки и крыльцо щедро посыпаны травой. Травы и листья на ветках успели привять, и на улице стойко держался острый, немного грустный запах умирающей зелени. Справа, на огородах, подоткнув юбки, поливали капусту девчата. Оттуда несся чей-то звучный, протяжный голос:
Вянули, вянули Цветики в поле Лазо-о-ревы… Линули, линули Слезы у девки Горю-у-чие…Неяркие лучи желтого солнечного заката ровно освещали тихую деревню, все вокруг казалось мирным, неподвижным, застывшим в дремотном покое. А одинокий девичий голос плыл над зеленой долиной, достигал вершины холма и возвращался оттуда, повторенный тающим эхом.
— Ведьмина дочка поет, Лизка Шаброва, — задумчиво сказал Колька. — Голос у нее, проклятой, как серебро, послушаешь — душа у тебя щемит…
— Да, — согласился Андрей, — гордая девка, красивая, а вот искалечили ее так же, как тебя…
В избе читальне, до которой друзья добрались уже в сумерках, стоял полумрак. Пока Роман и Колька заправили и зажгли висячие лампы, Андрей притащил ведро воды, наспех помыл пол и расставил скамьи. За время своей работы здесь он успел полюбить просторную, украшенную плакатами комнату. Встреча же с Фаддеем Зотовичем, любимым учителем, заставляла Андрея работать еще поспешнее и аккуратнее — похвала старика была ему особенно приятна.
Фаддей Зотович приехал с мальчишкой-кучером на линейке, в которую была запряжена принадлежавшая волполитпросвету смирная кляча. Басовито покашливая, старый учитель вошел в избу-читальню, похлопал Андрея по плечу и спросил коротко:
— Как дела, хлебороб?
— Хорошо, Фаддей Зотович, — радостно улыбаясь, ответил Андрей. — Мне уж немного осталось, осенью уезжаю в техникум.
— А не будешь скучать по своей Огнищанке? Ты ведь, поди, привык тут?
— Наверно, буду скучать, — сказал Андрей.
Фаддей Зотович пристально взглянул на него сквозь пенсне:
— Значит, надо после техникума возвращаться на родную земельку и работать тут, среди своих…
Когда просторная изба-читальня заполнилась людьми, Фаддей Зотович вышел из-за стола, оправил ворот сорочки и проговорил хрипловато:
— Я хочу рассказать вам о том, как возникла на земле жизнь, как миллионы лет она развивалась и как первые люди изобрели первое орудие труда и стали называться людьми…
Андрей много раз слышал лекции Фаддея Зотовича, знал он и то, о чем его учитель говорил сейчас притихшим людям, но всякий раз, слушая неторопливую речь старика, вдумываясь в его слова, Андрей испытывал чувство горячего восторга и радости. Может быть, потому, что Фаддей Зотович был стар, спокоен и строг, и потому, что все, что он произносил, было просто, ясно и понятно, с таким же неослабным вниманием его слушали все: и сидевший впереди Илья Длугач, и дед Силыч, который от напряжения даже рот приоткрыл, и Демид Плахотин, и Лизавета, и группка парней на задних скамьях.
А старый пустопольский учитель, покашливая и вытирая платком вспотевший лоб, говорил о белковых комочках, которые он называл «утренней росой жизни», о невидимых инфузориях, о коловратках, каракатицах, прозрачных медузах, океанских водорослях. Шаг за шагом раскрывал он миллионолетний процесс развития жизни на земле, а когда заговорил о человеке, увлекся, забегал вдоль стола, стал выкрикивать отрывисто:
— Знаем ли мы сами, что такое человеческий мозг, человеческая рука? Представляем ли, какую гигантскую работу совершили они за тысячу тысяч лет? Нет, мы непростительно мало знаем! Мы поверили сказке о боге-творце, той врединой сказке, которая унижала и унижает наш разум, связывает нас, тащит людей в мрачную, пещерную дикость.
Он остановился против Длугача, ткнул в него пальцем, воскликнул запальчиво:
— Вот вы, молодой человек! Извольте ответить мне: разве бог создал телефон, аэроплан, микроскоп, часы, паровоз — все, что облегчает нашу жизнь и двигает человечество по пути прогресса? Я вас спрашиваю: бог это сделал? Разве бог создал первый топор, первый корабль, первый плуг?
Длугач вскочил, по-солдатски вытянул руки по швам:
— Никак нет! Все эти предметы под руководством нашей партии создал своими мозолистыми руками мировой пролетариат, и он же, согласно указанию товарища Ленина, должен ими владеть.
— Правильно! — скороговоркой пробормотал Фаддей Зотович. — Совершенно верно! Если по форме ваш ответ требует уточнения, то по существу он абсолютно точен!
— Да уж, будьте спокойны, по этому делу меня никто не собьет, — заверил лектора Длугач. — Тут у меня самое наивысшее образование. Надо только, чтоб вы почаще по деревням ездили да с людьми беседовали.
Фаддей Зотович сконфуженно поправил пенсне:
— Это тоже правильно…
Расходились по домам, оживленно разговаривая, делясь впечатлениями и похваливая старого учителя. Вверху трепетно мерцали звезды, смутно светилась гигантская дуга Млечного Пути. Деревня спала.
Придерживая Андрея за локоть, Роман сказал ни с того ни с сего:
— Разъедемся мы скоро, Андрюша, двинемся кто куда.
— Что ж делать, — глуховато отозвался Андрей, — и разъедемся. Или ты думаешь, что Огнищанка без нас не проживет?
Он сказал это, а сам, подумав о том, что ему скоро придется надолго оставить Огнищанку, расстаться с Романом, с родными и уехать в далекий, незнакомый город, почувствовал, как сердце его сжала тупая, щемящая боль.
6
Самое страшное для человека — одиночество на чужбине. Тут не только люди с их личными делами, интересами, стремлениями, с их жизнью, укрытой от посторонних взоров стенами домов, но и самые дома, улицы, деревья — все кажется чужим.
Чем дальше шло время, тем больше задумывался Максим Селищев, несчетно раз задавая себе один и тот же вопрос: что ему делать и как жить? Помимо желания Максима, судьба все более настойчиво подталкивала его к тому кругу людей, с которым он оказался в изгнании, но который был чужд ему и вызывал в нем настороженное чувство глухой, пока еще не осознанной враждебности. К людям, которые, с точки зрения Максима, «узурпировали Россию», к красным, он относился с не меньшей враждебностью. Конечно, он, офицер, хорунжий Максим Селищев, мог бы пойти против красных с оружием в руках, но при одном условии: чтобы это было в честном, открытом бою, где все решают бесстрашие, солдатская доблесть и — самое главное — сила и воля множества связанных между собою людей. Тут же, на чужбине, вокруг Максима шла какая-то непонятная для него, подлая и жалкая возня: печатались полуграмотные «антибольшевистские» книжонки, распространялись фальшивые червонцы, с опереточной помпезностью устраивались «парады» и «приемы», тренировались какие-то забулдыги террористы.
Есаул Гурий Крайнов во всем этом плавал как рыба в воде: ходил на тайные ночные совещания виленских монархистов, встречался с петлюровскими атаманами, иногда исчезал на несколько дней и возвращался, весь охваченный веселым и злым возбуждением.
— Не горюй, полчанин, — говорил он Максиму, — дела идут, контора пишет, теперь уж недолго нам осталось ждать.
Отношения Крайнова к Максиму не отличались прямотой: жалея своего угрюмоватого одностаничника и всячески поддерживая его, он в то же время скрывал от Максима все наиболее секретные дела и старался держать его в отдалении от всего того, что обсуждалось и готовилось на квартире есаула Яковлева. «Черт его знает, этого нашего дружка хорунжего, — сказал Крайнов Яковлеву, — хотя он настоящий казак и мой односум, а лучше перед ним держать язык за зубами: странный он какой-то, вроде из-за угла мешком прибитый».
Впрочем, Максим и не пытался вникать в дела своего товарища. Заметив, что есаулы иногда сторонятся его, шушукаются о чем-то, он равнодушно позевывал, надевал свою потертую кепку и уходил, чтобы бесцельно бродить по улицам. Несколько раз он видел, как есаулы закрываются в комнате с Борисом Ковердой, губастым, угреватым парнем, показывают ему какие-то фотографии и учат его стрелять из маузера, посылая пулю за пулей в пришпиленного к стене бубнового короля. Однако Максим не придал этому никакого значения и только подумал с беззлобной ленью: «Не-хай забавляются. Когда коту нечего делать, он хвост лижет…»
Бродя по улицам старого литовского города, затерянный в потоке чужих, занятых своими делами людей, Максим мысленно уговаривал себя: «Пора кончать… Пора кончать… Уходят последние силы…» Он не знал, что именно надо кончать и как изменить постылую жизнь, но чувствовал, что терпению его наступает предел и что он обязан принять какое-то важное решение.
Однажды на одном из окраинных виленских базаров, с трудом пробираясь сквозь людскую толпу, Максим услышал протяжный старушечий голос, выпевавший знакомые с детства слова казачьей песни:
Поехал казак на чужбину далеку, Да он на своем на коне вороном, Свою он краину навеки покинул, Ему не вернуться в отеческий дом…Может быть, потому, что полная печали стародавняя песня вдруг с ужасающей отчетливостью раскрыла перед Максимом его горестную судьбу, он, точно слепой, расталкивая локтями людей так, словно продирался через колючую чащобу терновника, пошел на голос и остановился, опустив голову.
В тени крикливо и пошло расписанного балагана, на земле, зажав коленями солдатский котелок, сидела одетая в черное платье могучая старуха. Крупное лицо ее, испещренное глубокими морщинами, было сурово и неподвижно, а обращенные к небу темные глаза влажны от слез. Рядом со старухой стояла белявенькая девочка лет десяти. В руках ее, прижатых к животу, блестела алюминиевая кружка. Старуха выждала секунду и, шевельнув сухими губами, вновь завела низким дребезжащим голосом:
Напрасно казачка его молодая И утро и вечер на север глядит…Белявенькая девочка, звякнув медяками в кружке, подпела чисто и тоненько:
Все ждет она, поджидает: с далекого края Когда ж ее казак-душа домой прилетит…Молчаливые мужики-литовцы останавливались в задумчивости, слушали песню, кидали в солдатский котелок и в кружку мелкие деньги, женщины, скрестив на груди руки, вздыхали, жалостно поглядывали на поющую девочку. Когда песня была допета и люди стали расходиться, Максим подошел ближе к старухе, спросил тихо:
— Какой станицы, маманя?
Темные брови женщины дрогнули, сошлись у переносицы.
— Цимлянской, сынок, хутора Тернового. А ты?
— А я Кочетовской станицы.
— Знаю, как же! Кто ж не знает Кочетовской!
Максим опустился на корточки, коснулся ладонью белявой головы девочки, подумал с болью: «Где-то там моя Тайка, такая же».
— Каким же ветром занесло вас сюда? — спросил он у женщины.
— Должно, тем же, что и тебя, родный мой, — сказала женщина. — Всех нас один ветер нес на беду да на горе.
Она отставила котелок с деньгами, заговорила, тяжело вздыхая, то и дело вытирая губы концом застиранного головного платка:
— С двадцатого года носит нас ветер по чужим краям, и уже почти что все семейство наше призвал к себе господь. Хозяина моего, мужа то есть, красные убили под городом Анапою. Сыночек мой, родитель ее, — старуха указала на девочку, — от сыпного тифа помер в туретчине, а невестка уже тут, на польской земле, лишила себя жизни. Снасильничали ее злодеи, наши же офицеры, пьяные были, она и удавилась с горя да с позора. Вот и ходим мы с нею, с внучкой, побираемся.
Девочка с любопытством оглядывала Максима, молча перебирая монеты в кружке. Руки у нее были худые, пальцы тоненькие, с грязными ногтями и заусеницами. Старуха отобрала у девочки кружку, высыпала деньги в свой котелок, спросила у Максима, нахмурившись:
— Ты тоже небось годов семь тут маешься?
— Да, маманя, осенью будет ровно семь лет, — сказал Максим.
— А там, на Дону, кто у тебя остался?
— Родители еще живы были, жена с дочкой, сестра.
— Писем не получал?
— Нет, не получал, — с грустью сказал Максим. — Видно, тот же ветер всех развеял по свету и следы без остатка замел…
Старуха посмотрела на него строго и задумчиво, положила на его плечо тяжелую, жесткую руку.
— Надо вертаться до дому, — сказала она, — иначе сгибнем мы тут.
Максим вытащил из кармана сигарету, чиркнул зажигалкой:
— Вернешься, а тебя поставят к стенке и шлепнут как белогвардейца и золотопогонную сволочь. Тут, маманя, как ни кинь — все клин.
— Клин-то клин, — перебила его старуха, — а только дома и помирать легче, ежели ты перед своим народом смерть примешь. Это понимать надо. Я вот как подумаю про свой Терновый хутор, про сады весною, про утей и гусей, которые по ерикам плавают, так, кажись, на крыльях туда полетела бы, аж вроде до сердца мне сладость и тошнота подступают…
Эта встреча со старой цимлянской казачкой запомнилась Максиму. Он стал еще более угрюмым, молчаливым, и одна мысль сверлила его мозг: «Да, да, пора кончать, пора возвращаться. Пусть будет что будет…»
Когда Гурий Крайнов сказал Максиму, что им обоим надо ехать в Варшаву, где в ближайшие дни произойдет важное событие, Максим даже обрадовался. «Вот и хорошо, — подумал он. — В Варшаве есть советское посольство, я схожу туда и выложу все начистоту: так, мол, скажу, и так, делайте со мной что хотите, только пустите туда, в Россию».
— А что за событие произойдет в Варшаве? — спросил он у Крайнова.
Тог засмеялся, нервно потер руки:
— Не спрашивай пока, все равно не скажу. Скоро ты узнаешь сам.
Выехали они вечерним поездом. Провожал их есаул Яковлев. Он был слегка возбужден, излишне говорлив и предупредителен. Заплатил извозчику, носильщику, помог Максиму и Крайнову расставить в купе их чемоданы, сбегал за коньяком и торопливо разлил его по стаканам.
— Ну, ни пуха ни пера! — сказал Яковлев. — Передавайте поклон Борису!
В Варшаве Крайнов и Максим поселились в гостинице «Астория». В первый же вечер к ним пришел Борис Коверда. Он был одет в темно-серый кургузый костюм и светлую сорочку без галстука, держался как-то скованно и неестественно: то беспричинно смеялся, зажимая рот кулаком, то с испугом оглядывался и прислушивался к каждому шагу за дверью. Есаул Крайнов покровительственно хлопал его по плечу, щедро поил водкой и ромом и говорил, помахивая рюмкой:
— Не робей, Боря! Все получится как надо! Ты за одну секунду героем станешь, прогремишь на весь мир!
Опьяневший Коверда по-мальчишески смущался, его угреватое лицо краснело, короткие пальцы выбивали на столе нервную дробь.
— А я и не робею, — ломающимся баском бормотал он. — Чего мне робеть? Что я, маленький, что ли? Я уж, слава тебе господи, насмотрелся всего.
Провожая Коверду к дверям, есаул Крайнов задержал его и сказал вполголоса:
— Отсюда, из «Астории», тебе лучше уйти: меньше глаз будет у тебя за спиной. Вот возьми адресок. За один злотый в сутки хозяйка сдаст тебе неплохую комнатушку. И при себе не держи ничего лишнего — ни документов, ни денег. Все эти ниточки надо оборвать, чтоб никаких следов не осталось…
Максим в этот вечер пил мало, почти ни о чем не говорил. Странный разговор Крайнова с Ковердой удивил и встревожил его. Когда Коверда ушел, Максим спросил, следя за шагающим по комнате Крайновым:
— Что это вы задумали с этим недоделанным ублюдком?
Резко повернувшись, Крайнов остановился, сунул руки в карманы:
— А тебе что? Какое твое дело? Что задумали, то выполним. У нас еще есть силенка, не беспокойся. Тебе же с твоим характером я советую одно: не мешать нам и не путаться в ногах.
— Сволочи вы все и дураки! — с сердцем сказал Максим. — Только и знаете фальшивые червонцы, укусы в спину, провокации. Тоже вояки! Нашли какого-то придурковатого недоросля, в герои его готовите. Смотреть на вас тошно, честное слово!
Крайнов примирительно ухмыльнулся:
— А ты не пыли, не кипятись. Жди, пока тебе твою Кочетовскую на тарелочке поднесут.
Он обнял сидевшего на стуле Максима:
— Плюнь, станичник, на все. Мы еще с тобой повоюем и выпьем доброго донского вина, верь моему слову…
Три дня Максим был предоставлен самому себе. Он все еще не мог понять, зачем они с Крайновым приехали в Варшаву, и решил ждать. Крайнов исчезал с утра, возвращался поздней ночью, а на вопросы Максима отвечал шуточками или говорил загадочно:
— Не волнуйся и жди нашего фейерверка.
Как-то в воскресный день Крайнов пригласил Максима в загородный ресторан, куда должен был приехать один из друзей есаула Яковлева, штабс-капитан Веверс.
— Ты должен его помнить, Максим, — сказал Крайнов, — он приходил к нам зимой. Наряжаться любит как кукла, а вообще башковитый парень.
Крытый красной черепицей ресторанчик стоял на берегу пруда и со всех сторон был окружен густым лесом. К его левому крылу примыкала расчищенная, окруженная перилами площадка, на которой были расставлены круглые столики.
— Давай сядем тут, подышим майским воздухом, — предложил Крайнов.
Они выбрали самый отдаленный столик, заказали скромный обед, бутылку токайского вина и стали ждать. Сквозь густую листву старых дубов светились редкие и тонкие лучи солнца. На скатерти шевелились, мерцали светлые пятна. Иссиня-черный, усеянный серебристыми крапинками скворец, устроившись на ближней ветке, бесстрашно посматривал на сидящих у стола людей и, склонив набок голову, протяжно свистел.
— Ишь разделывает, — вздыхая, сказал Максим, — прямо как над Кочетовской плёской… Помнишь, есть там старые престарые тополя, а в их гущине скворцы да соловьи поют. Соловьи всю ночь заливаются, а скворцы — их в дуплах полно — с утра начинают.
— Соловьев и в садах у нас много, — сказал Крайнов. — Соловей — смирная птаха и, если ее не потревожить, легко уживается с человеком…
Разглаживая ладонью рубец на крахмальной скатерти, Максим спросил негромко:
— Скажи, Гурий, тебе не надоело все это?
Крайнов настороженно поднял глаза:
— Что именно?
— Ну все: наши бродяжества, проклятое житье на чужбине, наше положение зачумленных изгоев, бесконечное ожидание какого-то переворота в России. Какого черта еще ждать, не понимаю! Советская власть существует уже десятый год, а мы, как дурачки, по чужим сенцам околачиваемся.
— А что ж делать? — сердито спросил Крайнов. — На колени стать перед большевиками? Так, что ли?
— Я не знаю. Может, и на колени стать придется. Наблудили, напакостили — надо уметь и ответ держать.
— Ну этого ты от меня не дождешься, — сказал Крайнов, — я еще заставлю наше хамье передо мной постоять на коленях…
Неприятный разговор был прерван появлением Веверса. Щеголеватый штабс-капитан, ловко отставив светлую панаму, поблескивая стеклышками пенсне и приветливо улыбаясь, подошел, раскланялся, присел на свободный стул и тотчас же заговорил возбужденно:
— Могу вас обрадовать, господа! Несколько дней назад английская полиция произвела обыск в советском торговом представительстве в Лондоне и нашла бездну интереснейших документов. Это вам не пекинский инцидент и не медвежатники Чжан Цзолина. Не-ет! Лондонские полисмены явились к красным с электрическими сверлами, с кислородными приборами, просверлили бетонные стены, выплавили двери сейфов и обнаружили все, что нужно.
— А что же все-таки нашли? — спросил Максим.
— Это мне пока неизвестно, — сказал Веверс, — но говорят, что Англия объявляет о разрыве дипломатических отношений с Советской Россией.
Крайнов стукнул кулаком по столу. Глаза его заблестели.
— Здорово! Давно пора! — закричал он. — Пускай теперь красные товарищи почешутся! Европа устроит им десятилетие Советской власти!
Вслушиваясь в громкие выкрики Крайнова, из-за столика справа поднялся и подошел к офицерам долговязый рыжеватый человек. Он был одет в скромный черный костюм, а под мышкой придерживал клетчатое кепи.
— Простите, пожалуйста, — сказал он, кланяясь, — я услышал русскую речь и решил побеспокоить вас. Я тоже из России. Зовут меня Юрген Раух.
— Что ж, присаживайтесь, господин Раух, — пригласил Крайнов, — мы рады видеть земляка.
Юрген Раух позвал кельнера, приказал подать французского вина, фруктов. Беседа за столом оживилась. Лица офицеров порозовели. Уже через час Крайнов бесцеремонно похлопывал Юргена по плечу и говорил весело:
— Так-то, дружище Юрген! Слыхал, что говорит Игорь Веверс? Петля вокруг большевиков стягивается все туже. Можно не сомневаться в том, что скоро им крышка.
Потягивая из бокала легкое, чуть сладковатое вино, Юрген мрачно цедил сквозь зубы:
— Они отняли у меня все — любовь, отца, землю. Они затоптали в грязь мою юность… В дом, где родились мои дед и отец, где родился и вырос я сам, они вселили чужую семью какого-то пришлого фельдшера, и он там хозяйничает по-своему… А ведь я там, в Огнищанке, каждый кустик знаю, каждый уголок, ведь это все, все принадлежит мне, и никому другому.
— Ничего, парень, — утешил Юргена есаул Крайнов, — вот вернешься ты в свою Огнищанку, возьмешь этого самого фельдшера за бока и вытряхнешь из него душу к чертовой матери!
Если бы Юрген Раух назвал фамилию фельдшера, поселившегося в Огнищанке, Максим Селищев тотчас же понял бы, что речь идет о его близких, о семье Ставровых, чьи следы он давно потерял. Но Юрген уже забыл о фельдшере, никакой фамилии не назвал, только пил стакан за стаканом и бормотал невнятно:
— Черт с ним, с фельдшером… Наплевать мне на дом и на землю… Я больше потерял — любимую девушку… Ах, какая это была русская крестьяночка! Писаная красавица! Я снисходил к ней… Я видел в ней великолепие земной силы, и она возбуждала во мне…
Крайнов захохотал:
— Что она в тебе возбуждала, нам понятно. Мы эту земную силу знаем.
Штабс-капитан Веверс благовоспитанно улыбался, но пьянел все больше и твердил настойчиво:
— Европа возьмет красных за горло. Теперь им не отвертеться. И помощи они не получат ни от кого. Англия, конечно, с ними порвет. Америка их не признала. Китайская революция удушена. Скоро мы с вами, господа, вернемся на родину и начнем строить новую Россию.
Веверс оглянулся, понизил голос до шепота:
— Могу сообщить вам конфиденциально: на днях генерал Врангель уехал в Венгрию, чтобы начать серьезный разговор с нашими соседями. И если мы тут, в Польше, сумеем осуществить какую-нибудь резко демонстративную акцию, она будет как нельзя кстати.
— Осуществим, — перебил его Крайнов, — будь уверен! Ты ведь видал Борьку? Разговаривал с ним? То-то! Он готов и ждет только нашего сигнала…
Собеседники пьянели все больше. Юрген Раух обнимал Крайнова, Максима, приглашал их в Германию, заставил записать его мюнхенский адрес.
— Не век же я буду коммивояжером, — говорил он слезливо, — это сейчас мне приходится, по прихоти дяди, разъезжать по свету, продавать слабительные и покупать лекарственные травы… Ну их к дьяволу, эти травы!
Разошлись только к полуночи. Максим, трезвея, долго еще ходил по опустевшей улице, тихонько посвистывал. На рассвете, когда ранняя заря окрасила нежным желто-розовым сиянием стекла домов, Максим швырнул на панель недокуренную папиросу и жестко сказал самому себе:
— Хватит! Сегодня же пойду в советское посольство…
Проснулся он в одиннадцатом часу, молча взглянул на спавшего рядом Крайнова, пошел в ванную, искупался, побрился, тщательно завязал на свежей рубахе потертый, старенький галстук, отряхнул кепи.
— Куда ты так рано? — сонно пробормотал Крайнов.
— Спи, я скоро вернусь, — ответил Максим.
На залитой солнечным светом улице было людно, пахло нагретым асфальтом, хлебом, мокрыми цветочными клумбами. Максим шел медленно, закинув руки за спину, ни на кого не глядя. «Что ж, — думал он, — вот и приходит то, чего я так ждал. Я не знаю, что со мной сделают там, в России, но больше не могу. Пусть будет что будет. Старая казачка на базаре правильно говорила: „Дома и помирать легче“». Остановившись на полдороге, Максим подумал о том, что его друзья офицеры, те, с которыми он столько лет прожил в чужих краях, назовут его поступок предательством, ошельмуют его как перебежчика и отщепенца. Но, подумав это, Максим тотчас же мысленно возразил себе: «Но ведь любовь к родной земле сильнее, чем любовь к отдельным людям. Еще неизвестно, кто из нас будет назван предателем. И потом, там, в России, Марина и дочка, самые дорогие, самые близкие…»
У ворот посольства Максим остановился. Над распахнутыми воротами, за которыми зеленели деревья и видна была чистая, усыпанная песком аллея, слегка колеблемый ветром, алым шелком струился флаг. Несколько секунд Максим постоял молча. Ему трудно было переступить заветную черту, сделать хотя бы один шаг, но он вздохнул и, решившись, быстро и твердо пошел по аллее к дому.
Невысокий, плечистый человек в роговых очках тотчас же принял Максима, пригласил из холла в кабинет и проговорил коротко:
— Я вас слушаю.
Многое хотелось сказать Максиму в эти минуты. Воротник рубахи показался ему тесным, лоб покрылся испариной.
— Я офицер белой армии, хорунжий Гундоровского казачьего полка, — сказал Максим, — и я хотел бы, если только это возможно, вернуться на родину и честно работать. В России остались мои жена и дочь.
Человек в очках скользнул по лицу Максима острым, внимательным взглядом.
— Хорошо, — сказал он, — я доложу о вашей просьба послу, товарищу Войкову. Сейчас мне трудно сказать вам что-либо определенное. Заходите дней через пять и принесите соответствующие документы — заявление, данные о службе в армии, жизнеописание. Все это будет рассмотрено в ближайшее время.
Максим спросил, помедлив:
— А скажите, пожалуйста, я могу надеяться на благоприятный исход, на… на возвращение?
— Конечно, — ответил сотрудник посольства. — У нас уже были подобные случаи. Если вы не служили в карательных отрядах, то, мне кажется, никаких препятствий не будет. Заходите дней через пять.
Максим разговаривал с сотрудником посольства четвертого июня, а через три дня в Варшаве произошло событие, которое мгновенно оборвало все надежды Максима, и, как он в этом был уверен, оборвало навсегда…
Ранним июньским утром посол СССР в Польше Петр Войков приехал на главный варшавский вокзал, чтобы встретить возвращавшегося из Лондона в Москву советского посла в Англии. Петр Войков пользовался неизменной любовью и уважением своих сослуживцев. Тонкий дипломат, отличный спортсмен-автомобилист, он обожал быструю езду и сам был быстр и энергичен в движениях, порывист и весел. В это солнечное, тихое утро Войков, одетый в легкий светло-серый костюм, с непокрытой кудрявой головой и сияющими глазами, вышел в сопровождении сотрудника на перрон и, прохаживаясь, стал ждать поезда.
Перрон был почти безлюден, но ни Войков, ни его сотрудник не заметили того, что за ними пристально и настороженно следил стоявший неподалеку, за штабелем шпал, высокий губастый парень.
Парижский поезд прибыл в девять часов три минуты, точно по расписанию, и Войков, издали узнав знакомое лицо сослуживца-посла, быстро пошел ему навстречу, поздоровался и спросил:
— Как самочувствие? Может, вам что-нибудь нужно?
— Спасибо, — ответил приезжий. — Мне нужно пересесть в скорый московский поезд. Он, кажется, отходит в девять пятьдесят пять?
— Да, — сказал Войков, посмотрев на часы, — в нашем распоряжении больше сорока минут, и мы с вами успеем выпить на вокзале по стакану черного кофе.
Войков отпустил своего сотрудника, взял приезжего под руку и пошел с ним в буфет. Губастый парень — это был Борис Коверда, — держа руки в карманах, последовал за ними, потом стал ходить по перрону, не спуская глаз с дверей буфета.
В буфете Войков и проезжий посол выпили кофе и, поглядывая на часы, торопливо заговорили о том, что сейчас всех волновало, — о разрыве дипломатических отношений между Англией и Советским Союзом.
— Вряд ли грубая игра лондонских политиков принесет им пользу, — задумчиво сказал Войков. — Сами англичане, простые люди, очевидно, хорошо понимают подоплеку этого разрыва.
— Мне пора! — заторопился приезжий. — Я могу опоздать.
Они вышли из буфета и направились к скорому поезду, который стоял на девятом пути. Коверда опять последовал за ними, все ускоряя шаги. Когда Войков дошел до спального вагона и стал обходить сиявшую голубизной лужицу, Коверда вскинул маузер и выстрелил ему в спину. Войков обернулся и рывком кинулся вправо, но Коверда, сцепив зубы, все стрелял и стрелял. Закричали пассажиры в вагонах. Слабея, Войков выхватил из кармана браунинг и успел выстрелить два раза, но силы оставили его. Шатаясь, хватая руками воздух, он сделал еще несколько шагов, потом тяжело осел и упал на бок, уткнув побелевшее, искаженное страданием лицо в теплый, только что политый асфальт.
Заметив бегущих по перрону полицейских, Коверда бросил на землю маузер и поднял вверх руки. Его короткие с изгрызенными ногтями пальцы дрожали.
Тяжело раненного Войкова полицейские перенесли в отдельную комнату на вокзале. Губы его посинели, полуприкрытые, устремленные в одну точку глаза стали тускнеть. Через двадцать минут его перевезли в ближнюю больницу «Младенца Иисуса», раздели, положили на операционный стол, но он умер до начала операции, не приходя в себя. Первая пуля навылет пробила ему левое легкое, вторая размозжила кость правого плеча.
В этот же день, седьмого июня, в Ленинградский партийный клуб была брошена бомба, ранившая тридцать человек, а в разных городах Советского Союза запылали десятки подожженных диверсантами заводов и фабрик. Было ясно, что всеми этими внешне разрозненными действиями управляла чья-то одна рука.
В этот же день, перед вечером, посол Польши в СССР Станислав Патек был вызван в Народный комиссариат иностранных дел. Заместитель наркома Литвинов вручил Патеку для передачи польскому правительству твердую и резкую ноту протеста.
В ноте было написано:
«Союзное правительство только что получило короткое сообщение по телеграфу об убийстве русским монархистом полномочного представителя СССР в Польше П. Л. Войкова. Союзное правительство ставит это неслыханное злодеяние в связь с целой серией актов, направленных к разрушению дипломатического представительства СССР за границей и создающих прямую угрозу миру. Налеты на пекинское посольство СССР, осада консульства в Шанхае, полицейское нападение на торговую делегацию в Лондоне, провокационный разрыв дипломатических отношений со стороны Англии — весь этот ряд актов развязал деятельность террористических групп реакционеров, в своей бессильной и слепой ненависти к рабочему классу хватающихся за оружие политических убийств…»
В ответ правительство Польши направило в Москву ноту с выражением «сожаления и скорби по поводу поступка безумца не польской национальности» и заявило, что убийство Войкова «является индивидуальным актом».
Через неделю Чрезвычайный суд Польской республики судил убийцу советского посла. Тайные и явные сторонники Коверды пригласили для его защиты самых известных, «дорогих» адвокатов, и не только эти адвокаты, но и прокурор приложили все силы, чтобы спасти растленного девятнадцатилетнего убийцу: в длинных сентиментальных речах они называли его «жертвой красного хаоса», «мальчиком с голубиной душой», «мстителем», то есть всячески старались превратить подлый, отвратительный акт убийства в высокий подвиг. Суд приговорил Коверду к пятнадцати годам тюремного заключения.
Тело убитого посла Войкова с генеральскими почестями, в сопровождении кортежа «польского рыцарства», было доставлено к советской границе и передано для погребения в родной земле.
Об убийстве Войкова Максим Селищев узнал в тот же день, седьмого июня. И хотя в кармане его старого, видавшего виды пиджака уже лежало заявление с просьбой о возвращении в Советский Союз, он мгновенно понял, что путь на родину для него отрезан очень надолго, если не навсегда.
Теперь, когда посол Войков перестал существовать, Максим вдруг понял отрывочные намеки Крайнова, которые тот с ухмылкой бросал товарищу, понял смысл его исчезновений, встреч с есаулом Яковлевым, понял скрытую цель их долгой и тайной возни с Ковердой, этим мрачным и жалким ублюдком, выполнившим их злой замысел.
— Какие же вы все-таки сволочи! — сквозь зубы сказал Максим Крайнову. — Какие вы подлые твари! Трусливые убийцы — вот вы кто!
— Чего ты взбеленился? — как ни в чем не бывало сказал Крайнов. — Я не имею к этому убийству никакого отношения.
Максим медленно оделся, взял кепи.
— Прощай, Гурий, — сказал он. — На этом нашей с тобой дружбе конец. Хватит с меня! Иди своей дорогой, а я пойду своей…
В тот же вечер Максим покинул Польшу и уехал в Чехословакию. Он и сам не знал, зачем он едет туда; никто его там не ждал, никому он не был там нужен, но теперь уже ему было все равно куда ехать и как жить.
В живописном, утонувшем в зелени парков Градце Краловом Максим задержался, дня четыре бесцельно бродил по городу, прожил последние деньги. На пятый день веселый, подвыпивший чех — скотовод с ближнего хутора предложил Максиму работу: смотреть за коровами и отвозить в Градец бидоны с молоком. Максим согласился.
Запрягая тяжелых гнедых першеронов и дружелюбно поглядывая на стоявшего рядом Максима, чех счел нужным предупредить:
— Только смотри, мне нужен работник постоянный, а ты, может, так, ненадолго?
Максим бросил пиджак на загруженную бидонами телегу.
— Поехали, пан, — сказал он. — Я надолго, потому что идти мне больше некуда…
7
Закинув за спину старое охотничье ружье, Андрей Ставров медленно шел по полю. Впереди опустив голову, принюхиваясь к каждой норе, старательно обыскивая заросшие бурьянами межи, бежала Кузя. Стоял ясный, погожий день поздней осени. Казалось, эта теплая затяжная осень вообще не собирается уступать место зиме и покидать озаренные низким солнцем огнищанские холмы и перелески: вокруг, не тускнея, желтело жнивье, на полях держался сухой, отстоявшийся запах теплой соломы, и только к вечеру, когда на травах появлялась негустая роса, с низин тянуло влажным холодом. Уже давно взошли, дружно зазеленели, закустились озими, а на опушках тихих, словно поредевших, лесов, в однообразной щетине стареющего пырея, все еще можно было встретить лазурные, как небо, головки запоздалых васильков.
Уже дважды, вспугнутые Кузей, с громким хлопаньем крыльев срывались и тянули над жнивьем стайки разжиревших куропаток, по ложбине, совсем неподалеку, промчался заяц-русак. Андрей как будто не замечал этого. Кузя подбегала к нему, тяжело дышала, высунув розовый язык, просительно помахивала обрубком хвоста, но Андрей только досадливо ронял:
— Ладно, ладно… Ступай…
Охота почти не занимала сейчас Андрея. В последние дни мысли его были заняты другим. Месяц назад он послал Еле Солодовой большое, на двадцати страницах, письмо, в котором, как всегда, писал о своей любви, о мучительном желании видеть Елю, говорить с ней. Полные нежности и мольбы строки этого письма Андрей, подчиняясь внезапно нахлынувшему чувству обиды, прерывал грубыми намеками на то, что Еля, должно быть, веселится в городе со своими Стасиками и давно забыла «деревенского вахлака», единственного, кто ее «по-настоящему любит». Он писал о том, что скоро приедет в город, и, как счастья, просил одного — возможности увидеть Елю, чтобы еще и еще — в который раз! — сказать ей «о самом главном». Однако прошел месяц, но Андрей не получил на свое письмо никакого ответа.
«Нет, она мне не пара, — с горечью думал Андрей, шагая по сухому жнивью. — Куда мне до нее! Она ходит с шелковым бантом в косе, в модном платье, в белых туфельках. — В сердце Андрея на секунду шевельнулась щемящая жалость к себе, к глухой Огнищанке, в которой жили отец, мать, братья, но он поспешил отогнать это чувство и злобно оборвал себя: — Ну и черт с тобой! Тянешься, вахлак, к этой городской барышеньке, а ей на тебя наплевать?! Разве ж она пойдет с тобой, полюбит тебя? Это же белоручка, мамино дите, говорящая кукла!»
Разбрасывая ногами стянутое к меже перекати-поле, Андрей хрипловато шептал все более злые и обидные прозвища, но перед ним вдруг вставали, застилая весь мир, светло-серые спокойные Елины глаза, ее смеющийся рот, темная прядь волос над чистым, высоким лбом, и он умолкал, останавливался и долго стоял так, пораженный и встревоженный.
Солнце садилось все ниже. Длиннее стали тени не тронутых косами жестких кустов татарника. С трубным гоготаньем проплыла над полями стая перелетных гусей. Андрей дошел до опушки леса, прилег, закурил. Непогасшую спичку он бросил рядом, на палую листву, и над подсохшей листвой тотчас же заголубела, потянулась вверх горьковатая струйка дыма. Где-то неподалеку постукивал дятел. Среди ветвей редких дубков тоненько, протяжно тенькала синица.
Андрей слушал негромкие, разрозненные звуки, всматривался в глубокое желто-розовое небо, вдыхал запах дыма, сухой листвы, и неясные, сбивчивые, набегавшие одна на другую мысли волновали его, пугали своей неразрешимой безответностью. «Можно ли знать все, что с тобой будет? И лучше ли будет, если человек станет всезнающим? Или лучше жить так, ничего не зная? И есть ли на свете сила, которая повелевает судьбами людей, или все человеческие судьбы подчинены темному, слепому случаю?»
Он подумал о боге и вспомнил умершего недавно пустопольского священника отца Никанора. Перед смертью старый священник послал в Ржанск письмо, которое было напечатано в газете «Ржанская правда» и о котором сейчас шли разговоры и пересуды по всему уезду. Отец Никанор писал в этом письме:
«Полвека служил я богу, но только под конец своей долгой жизни убедился, что бога нет и что своими проповедями о царстве божьем на небесах я лишь отвлекал людей от необходимости добыть человеческое счастье здесь, на прекрасной, многострадальной земле. Отрекаясь поэтому от своего священнического сана, я прошу похоронить меня без обряда. Крест над моей могилой прошу не водружать…»
Точно неведомый берег, над горизонтом встало, вытянулось сиреневое облако, освещенное снизу лучами солнечного заката. Андрей смотрел на это легкое облако и думал: «Старый Никанор прав, ничего там нет, никто оттуда не видит человека, никто не может повелевать им. Человек сам себе хозяин, и то, как он проживет на земле, зависит от него самого».
Андрей поднялся. Отсюда, с вершины холма, на котором желтел редкий лесок, хорошо видна была огнищанская земля — прорезанные Солонцовой балкой узкие, с кривыми межами поля, проселочные дороги с набитыми до блеска колеями, зеленеющие отавой западины, темный след протоптанных скотом тропок, которые петляли по всему жнивью и терялись у самой деревни, сливаясь с бурой, жесткой как камень, неродящей толокой. За шесть лет Андрей успел исходить всю эту землю. С закрытыми глазами он мог пройти по ней и сказать: тут лежат белесые плешины солончаков, там начинается россыпь сусличьих нор, там сходятся две забитые сухим кураем межи, там растет никому не нужный куст колючего шиповника…
Знал Андрей и то, сколько мужицкого пота и крови было пролито на огнищанской кормилице-земле. Если бы имела земля язык, она поведала бы многое: как гнули спину крепостные генерала Зарицкого, продавшего потом землю Рауху; как Франц Раух руками огнищанских мужиков накапливал тут свои богатства; как годами мечтали бедняки огнищане о покупке хотя бы одной десятины земли. И вот Советская власть объявила землю общенародной, безвозмездно раздала ее тем, кто на ней работал. Казалось бы, пришло наконец то счастье, о котором мечтало не одно поколение огнищанских хлеборобов. Но нет! Неполным было это счастье. Исполосованная межами, все еще разодранная на малые клочки земля и сейчас оставалась предметом распрей, драк, и люди обрабатывали ее, кто как умел.
«Нет, нет, — подумал Андрей, — до счастья тут еще далеко, и на каждой десятине огнищанской земли своя счастливая или несчастливая доля: у Терпужного одна, у деда Силыча другая, у Акима Турчака третья…»
Размышления Андрея прервал тревожный лай Кузи. Вдоль лесной опушки, похлопывая лозинкой по голенищам запыленных сапог и ведя в поводу старого гнедого мерина, шел Илья Длугач.
— Здоров будь, избач! — издали закричал он. — Чего это ты? Собаку свою пасешь, что ли?
— Да вот вышел побродить с ружьишком, да так ничего и не встретил, — слегка смущаясь, сказал Андрей.
— Как же так ничего? Я, пока ехал из Пустополья, табунков пять куропаток поднял, пару зайчишек выгнал.
Длугач разнуздал мерина и пошел рядом с Андреем. Старый мерин позвякивал удилами, тянулся, на ходу обкусывал бурьянок у дороги и подолгу жевал, роняя с губ зеленоватую пену.
— Так ты, значит, имеешь думку ехать в город? — спросил Длугач.
— Да, — сказал Андрей. — Давно пора, мне уже девятнадцать исполнилось, а я, кроме коней да плуга, ничего не знаю. Надо учиться.
— Что ж, это дело доброе.
Сбивая лозиной сухие верхушки лебеды, Длугач проговорил задумчиво:
— А меня, брат, никто не учил. Сам до всего дошел. Конечно, грамотность моя не ахти какая, однако в политике я любого за пояс заткну. А почему? Потому что глаз у меня острый, пролетарский, и этим своим глазом я сквозь землю вижу. А тебе, избач, надо подучиться, это правильно.
— Так вы мне дадите командировку в сельскохозяйственный техникум? — спросил Андрей.
Длугач нахмурился:
— А кого мы заместо тебя в избу-читальню поставим? Опять этому дурачку Гаврюшке кланяться станем?
— Зачем же Гаврюшке? Можно Турчака взять. Николая. Он уже почти здоров, припадки у него прекратились, и парень он грамотный.
— Ладно, — сказал Длугач, — командировку мы тебе дадим, только ты мне вперед в одном деле поможешь.
— В каком деле?
Ястребиные глаза Длугача мечтательно сузились.
— Ставок наш надо восстановить, пруд то есть. Ясно? Решение мы принимали на сходке? Принимали. Вот и надо народ на это дело поднять. Погода сейчас стоит ясная, люди все с работой управились. До Октябрьских праздников остались считанные дни. Соберем мы народ, загатим греблю, очистим дно ставка от грязюки, песка туда навезем, вербочки молодые кругом насадим. И дадим мы нашему пруду такое название: Огнищанский пруд имени десятилетия пролетарской революции. Подходяще? А?
— Ничего, — сказал Андрей, — по-моему, подходяще.
Длугач взял его за локоть, заговорил возбужденно:
— Главное, конечно, не в пруде. Главное, брат ты мой, в том, чтобы нам спробовать поработать сообща, всем обществом. Понимаешь? Надо, чтоб люди на этом самом пруде общую силу свою почуяли.
Как будто продолжая те самые мысли, которые только что волновали Андрея на опушке Пенькового леса, Длугач сказал:
— Ведь у нас какая сейчас картина? Каждый хлебороб ковыряется в земле, как жук в навозе, только на свою силенку надеется. А силенка-то не одинаковая. Антон, скажем, Терпужный батрацкими руками, машинами, сытой скотиной, деньжатами богатство свое множит, а дед Сусак, у которого ничего нету, на такой же земельной норме, как топор, ко дну идет. Ясно тебе? Вот и нехай наши мужички хотя бы на пруде общую силу свою спробуют и раскинут мозгами: чего лучше?
После этого разговора Андрей трое суток возился в избе-читальне: склеивал большие листы бумаги, разводил краски в стеклянных банках, писал объявления. Ему помогали Роман, Тая, Николай Турчак. Растянув на полу чуть слинявшую полосу кумача и ползая вдоль нее на четвереньках, Андрей написал огромными белыми буквами сочиненный Длугачем призыв: «Пролетарии всех деревень Огнищанского сельсовета, соединяйте свои мозолистые руки для восстановления разрушенного безответственной стихией общественного пруда!»
Захватив с собой шпагат, гвозди и молотки, Роман с Николаем укрепили этот длинный кумачовый плакат поперек единственной огнищанской улицы, а возле колодца, на столбе, прибили картон, на котором Андрей изобразил огромный, окаймленный зелеными вербами голубой пруд и на берегу пруда шеренгу парней и девчат с цветами. Полюбовавшись прибитой у колодца картиной, Длугач, не слезая с коня, приписал на ней карандашом: «Кто на работу не выйдет, тот в этой красоте и купаться не будет».
Сам Длугач мотался эти дни по деревням, заезжал в каждый двор, беседовал с мужиками, а кое-кому приказывал, повысив голос:
— В субботу, до восхода солнца, предлагаю прибыть к старой гребле с конями, с телегой и с лопатами.
В пятницу вечером он вызвал в сельсовет косоглазого Тихона Терпужного и сказал, рассыпая искры с прилипшей к губе цигарки:
— Вот чего. Завтра, как станет светать, бери гармошку, вставай на старую греблю и без передыху шпарь свою полечку. Ясно? А Ванька Горюнов нехай возьмет балалайку и подыгрывает тебе.
— Так он же вовсе играть не может, — попробовал возразить Тихон.
— Не беда! — перебил Длугач. — Нехай пальцами по струнам бьет, чтоб погромче было, вот и все…
В субботнее утро, на рассвете, вся Огнищанка была разбужена залихватскими звуками гармошки и однотонным треньканьем балалайки. Выполняя приказ Длугача, подвыпившие Иван и Тихон усердно наигрывали бесконечную «полечку с поднавесом». Сам Длугач, строгий, сосредоточенный, ездил верхом от двора к двору и кричал, сложив ладони рупором:
— Пора, граждане, пора!
На заре к старой, прорванной плотине со всех сторон потянулись люди. Они ехали в телегах, шли пешком, вели за собой запряженных в плуги коней, несли на плечах лопаты, пилы, топоры, грабли.
— Гляди ты, какое шествие! — Дед Силыч удивился. — Значит, недаром я цельную неделю по председательскому приказу конные грабарки мастерил…
Ставровы отправились к плотине всей семьей; молодые восседали в телеге, а Дмитрий Данилович и Настасья Мартыновна шли сзади.
Утро выдалось хотя и прохладное, но на редкость тихое. В узкой долине меж холмами — там темнело исполосованное трещинами ложе пересохшего пруда — еще стояла ровная рассветная голубизна, а покатые, мягко очерченные вершины холмов уже зарозовели, четко выделяясь на ясном небе. По обе стороны узкой, осевшей плотины, как бы разрубленной пополам зияющей горловиной прорыва, стояли люди, заливисто ржали кони, вертелись собаки.
Илья Длугач поднялся на плотину и у самой кромки поросшего бурьяном прорыва воткнул в землю заостренное древко, на котором ярко заалел кумачовый флаг. Длугач снял фуражку, откинул светло-русый кудрявый чуб и проговорил, поворачиваясь то влево, то вправо:
— От имени Советской власти открываю трудовую неделю по восстановлению загубленного стихией огнищанского пруда. Советская власть, граждане, непобедимая власть. И хотя за кордоном разные буржуазные выкормыши и прочая белогвардейская наволочь убивают наших геройских людей — таких, к примеру, как дорогой товарищ Войков, — Советская власть спокойно мечтает о завтрашнем дне и своими рабочими руками строит социализм. Вперед же, граждане, на бой с природой!
Полагая, очевидно, что на этом торжественное вступление можно закончить, Длугач надел фуражку и сказал обычным, деловым тоном:
— Строительством плотины будет руководствовать Иван Силович Колосков, а очисткой дна — Демид Сидорович Плахотин. Главное командование по моей должности председателя я возлагаю на себя. На этом вопрос исчерпан.
Вынув из кармана подворный список, Длугач довольно быстро разделил людей на две группы, все костинокутские подводы отправил на подвозку леса, а мертволожские — на подвозку песка. Работа началась.
На плотине застучали топоры, тонко завизжали пилы, заскрипели колеса самодельных тачек. Люди рассыпались по долине и, звонко перекликаясь, вначале посмеивались и не знали, за что взяться, а потом, все более подчиняясь общему ходу работы, принялись каждый за свое дело.
Антон Терпужный, Тимоха Шелюгин, Комлев, братья Кущины и четверо калинкинских мужиков были поставлены на пахоту. Братья Ставровы по указанию Демида Плахотина запрягли тройку своих коней в грабарку и вместе с другими стали подтягивать развороченную плугами землю к плотине. Там десятки людей, дружно размахивая лопатами, кидали землю наверх, на гребень плотины, по которому бегал с аршином в руках дед Силыч. Расположившись под вербами, женщины и девушки плели из лозы длинные плетни, а парни тащили эти плетни и укладывали, присыпая землей, на западный склон плотины.
Огнищане привыкли к тому, что в страдную пору молотьбы они помогали друг другу, ходили на отработки и с утра до ночи трудились вместе. Но это была работа в отдельных дворах, и, хотя все люди трудились одинаково, намолоченное зерно принадлежало только одному из них — хозяину двора, причем у богатого хозяина зерна было много, полные амбары, а у бедняка — жалкая кучка, которой никогда не хватало до нового урожая.
Теперь же тут, у высохшего пруда, собрались сотни людей — жители не только Огнищанки, но и четырех окрестных деревень, — и работали они не на кого-нибудь одного, а каждый на себя и на всех остальных. И должно быть, потому, что это было ново, необычно торжественно и радостно, потому, что невиданно быстро росла и росла земляная плотина, никому из людей не хотелось отставать от других, и все работали не покладая рук.
Подчиняясь этому радостному чувству единения, Андрей Ставров беспрерывно понукал водившего коней Федю, изо всей силы удерживал тяжелую грабарку, покрикивал на Романа. Только освободив грабарку от земли, он вытирал рукавом потный лоб и весело говорил брату:
— Вот это силища! А?
— Куда там! — так же весело откликался Роман. — Гору можно свернуть!
К полудню, когда Длугач скомандовал «Отбой», люди выпрягли наморенных коней, поставили их к телегам с сеном, а сами расселись на солнечной стороне плотины. Женщины загремели кастрюлями, чугунками, кружками. В нескольких местах вспыхнули зажженные парнями костры. Начался обед.
Неярко светило солнце, в долине стоял запах влажной земли, дыма, свежих вербовых щепок. Длугач, размахивая руками, ходил вдоль плотины, останавливался возле обедавших группами людей и говорил возбужденно:
— Видали, чего народ может сотворить? Это вам не шутки! А ежели бы так на общем поле работать, да еще машины пустить, то мы через два-три года хозяйство свое не узнали бы…
Работа в долине продолжалась всю неделю. Плотину насыпали высокую, длинную, протянули ее до самого подножия холмов, укрепили камнями, бревнами, хворостяными щитами, соорудили широкие деревянные ворота водоотлива. Дно будущего пруда распахали, сняв три пласта земли, а когда добрались до твердой глины, засыпали ее толстым слоем чистого песка и вокруг посадили молодые вербы.
— Ну вот, — любуясь преображенной долиной, сказал Длугач, — весною стают снега, нальется наш пруд водой на радость людям.
Андрей подошел к нему.
— Что ж, Илья Михайлович, теперь, я думаю, можно мне собираться? — спросил он.
— Да, — сказал Длугач, — теперь собирайся, избач. Я выдам тебе командировку и самую лучшую характеристику.
На следующий день Андрей сдал избу-читальню Николаю Турчаку и стал готовиться к отъезду. Он съездил с отцом и матерью в Ржанск, и там ему купили хромовые сапоги, суконные штаны галифе, барашковую шапку. Настасья Мартыновна уже приценилась было к хорошему бобриковому пальто, но Дмитрий Данилович наотрез отказался дать деньги.
— Пусть эту зиму походит в старом полушубке, — сердито сказал он, — нечего ему франтить! Если будет хорошо учиться, на будущий год купим пальто, а сейчас обойдется, не велик барин…
Услышав слова отца, Андрей насупился: ему хотелось приехать в город, тот самый город, в котором жила Еля, прилично одетым, чтобы никто из ребят не смел подшучивать над заплатанным, потертым полушубком. Правда, Еля все еще не ответила на письмо Андрея, но он решил обязательно сходить к Солодовым.
Из Ржанска Ставровы возвратились вечером. У ворот их встречали Тая и Каля. Тая держала в высоко поднятой руке конверт и торжествующе помахивала им, а Каля закричала издали:
— Письмо! Письмо!
Сердце Андрея дрогнуло. Конечно, письмо было от Ели. Он знал, что отец и мать ни с кем не переписываются, что в старый дом на холме почтальон никогда не заходит. Письмо могло быть только от Ели. Не дожидаясь, пока отец остановит лошадей, Андрей соскочил с телеги, кинулся навстречу сестре, выхватил из рук Таи белый конверт. На конверте пестрели разноцветные марки и штемпеля. Это было письмо от Александра.
Когда все собрались в доме и Настасья Мартыновна зажгла и повесила на стенку керосиновую лампу, Дмитрий Данилович подсел к свету, долго рассматривал конверт, осторожно распечатал его и сказал детям:
— Сидите тихо! Почитаем, что пишет дядя Александр.
Александр писал:
«В ближайшие дни я возвращаюсь на родину. С горестью и с надеждой покидаю я древний Китай. То дело, за которое три года боролся тут порабощенный народ, предано. Всюду свирепствует белый террор. Но самые честные, самые стойкие люди не сдались. Ведомые коммунистами, они тысячами идут к недоступным вершинам горного хребта Цзинганшань, идут сквозь леса и ущелья, обходят пропасти в зоне вечных туманов, поднимаются все выше и выше. Со всех сторон они окружены врагами, у многих из них нет никакого оружия, кроме острых крестьянских серпов, но — я верю — эти люди когда-нибудь победят, потому что на их стороне правда…»
— Видно, многое довелось ему там повидать, — задумчиво сказал Дмитрий Данилович, откладывая письмо.
Андрей еще раз перечитал наспех набросанные строки письма, и ему живо представилось все то, о чем коротко писал дядя Александр: белесая мгла туманов, рев горных потоков, темная чаща густых лесов, узкие тропы, по которым, сцепив зубы, идут, идут молчаливые обветренные люди с красными повязками на рукавах. «Вот если бы я смог стать таким, как они, эти люди, — холодея от восторга, подумал Андрей, — я был бы счастлив тогда…»
Последние предотъездные дни промелькнули в сознании Андрея как сон. Впервые в жизни он, покидая родную семью, один уезжал в далекий, неведомый город, и странное чувство привязанности к близким и уже наступившей собственной отчужденности, оторванности от них вызывало у Андрея тихую, светлую грусть, какое-то нетерпеливое ожидание: что же будет там, впереди?
Андрей понимал, что не он один испытывает грустное чувство ожидания предстоящей разлуки: Роман почти не расставался в эти дни со старшим братом, девочки, посматривая на Андрея, украдкой вздыхали, Федя деловито чистил его полушубок. Все они тоже разъезжались после праздников — Роман в свой ржанский рабфак, девочки с Федей в Пустополье — и потому были по-особому предупредительны и ласковы друг к другу.
— Ну вот, разлетаются наши птенцы из родного гнезда, — незаметно вытирая слезы, сказала мужу Настасья Мартыновна, — останемся мы с тобой вдвоем.
— «Разлетаются»! «Разлетаются»! — с досадой передразнил ее Дмитрий Данилович. — Ты уже заранее готова слезу пустить. Придет лето, слетятся…
Снова, как тогда, перед отъездом в Пустополье, Андрей обошел весь двор. Постоял в конюшне, простился с лошадьми, зашел в коровник, потом резким свистом поднял с крыши голубей и долго следил за тем, как его вишнево-красный, белокрылый любимец парит в глубокой синеве осеннего неба.
Во двор к Ставровым то и дело приходили соседи, чтобы попрощаться с уезжающими. По нескольку раз прибегали Николай Турчак и его брат Санька, робко прохаживались у ворот девчата, вызывая по одному то Андрея, то Романа. Счел нужным прийти даже Длугач. Видимо, он решил проводить своего бывшего избача должным напутствием.
— Значит, едешь, герой? — весело спросил он Андрея.
— Да, завтра еду, — сказал Андрей.
— Ну что ж, в добрый час. Давай вот присядем да покурим, чтоб дома не журились…
Длугач присел на опрокинутый тележный ящик, достал кисет, медленно свернул цигарку, ловко вставил ее в мундштук.
— Ты там держись покрепче, браток, — сказал он, положив на плечо Андрея тяжелую смуглую руку. — На твоей дороге будут встречаться разные люди, по городам их много, разных людей, один тебе одно будет говорить, другой — другое. Ты же знай, что на свете есть только одна-единственная правда — правда трудового народа. Ясно это тебе?
Скрывая суровую мужскую ласку, Длугач похлопал Андрея по плечу и повторил, крепко сжимая ему руку:
— Ну, в добрый час…
Накануне дня отъезда, уступая просьбам Феди, Дмитрий Данилович разрешил ехать на станцию всем молодым.
— Пускай проводят брата, — сказал он Настасье Мартыновне, — а мы с тобой по-стариковски останемся дома.
Он поднялся на рассвете, сам накормил и напоил коней, положил в новую телегу мешок с овсом, охапку сена, потом разбудил сыновей:
— Поднимайтесь. Пора.
Хотя утро выдалось ясное и на востоке неярко светила желтая заря, с запада, поднимаясь над лесом, медленно вставала темная туча. Тронутая легким морозцем, земля пахла первой зимней свежестью, а в воздухе, вначале почти неуловимый, все больше ощущался запах снега.
— Снег будет, — сказал Дмитрий Данилович, — захватите с собой попоны.
Позавтракали быстро, Федя с отцом запрягли лошадей. Торопливо расселись в телеге Роман, Тая, Каля.
Андрей, уже одетый в полушубок, туго опоясанный ремнем, снял шапку, подошел к отцу и матери.
— Ну, до свидания, — сказал он тихо.
Отец коснулся щеки Андрея колючей, небритой щекой. Мать обняла его, всхлипывая, прижала к груди, неловко, чтобы никто не видел, перекрестила.
— До свидания, сыночек, — прошептала она. — Смотри ж там, чтоб все было хорошо…
Федя шевельнул вожжи:
— Садись, Андрей. Поехали.
Подрагивая крупами, кобылицы рванули телегу, с места взяли крупной, машистой рысью. Мелькнули у ворот фигуры деда Силыча, Николая Турчака, каких-то закутанных в платки девчат.
Андрей молча махнул шапкой.
Как только выехали на холм, пошел густой снег. Он накрыл поля белым пушистым ковром, легкими хлопьями осел на придорожных кустах, закрыл горизонт трепетной завесой.
Встав на колени и откидывая попону, Тая сказала:
— Давайте дадим слово, что мы всегда будем друг друга любить. Хорошо?
И все ответили ей:
— Хорошо…
На станцию приехали как раз вовремя. Андрей едва успел купить билет и с помощью братьев дотащить свой деревянный сундучок до перрона, как подошел окутанный облаком пара поезд. Девочки прижались к Андрею. Неловко обняли его Роман и Федя. Он вскочил в вагон. Гулко просвистел паровоз. Погромыхивая на стыках, поезд тронулся. Деревья, станция, осыпанные снегом фигуры людей на перроне медленно поплыли назад.
Андрей долго стоял в тамбуре, у распахнутой двери. Он думал об Огнищанке, о родных, о предстоящей встрече с Елей, об огромной земле, по которой сейчас мчался длинный грохочущий поезд…
Впереди, то сияя сквозь дым голубыми просветами неба, то затемняясь густыми, по-зимнему низкими тучами, приближались все новые и новые дали, манящие, переменчивые, как наполненная радостью и горем, неумирающей надеждой и непрерывным трудом человеческая жизнь.
Глава шестая
1
Выложенный из дикого камня серый замок стоял на пологом мысу, там, где мелкая кривая речушка впадала в широкую медлительную реку. Угрюмый замок с его тремя башнями, с мрачными узкими окнами, с железными воротами и с зеленоватой, обильно поросшей мхом стеной выглядел странно на этой печальной русской равнине. В некотором отдалении от замка виднелись хутора и деревни — беспорядочное скопление утонувших в снегу приземистых изб, накрытые бурыми камышовыми крышами ометы, темные скирды соломы и стога сена, — а за ними — синевший по всему горизонту лес.
До революции замок принадлежал князьям Барминым. Род Барминых уходил в глубины истории, теряясь где-то в давних временах Ярослава Мудрого. Были Бармины и в опричнине царя Ивана, и в полках Пожарского, вместе с другими возводили на трон Михаила Романова, по приказу царя Петра обучались разным наукам в заморских странах, участвовали в дворцовых переворотах, сражались и умирали под знаменами Румянцева, Суворова, Кутузова, пребывали, как водилось, в опале, и вновь судьба возносила их, наделяя высокими званиями, почестями и обширными землями.
Каменный замок на мысу был построен генерал-аншефом князем Григорием Барминым в царствование императрицы Екатерины, а последняя его владелица, молодая княгиня — вдова Ирина и ее малолетние дети, сын Петр и дочь Екатерина, — еле спаслись от разъяренных мужиков и оказались за границей. Несколько лет разоренный замок пустовал, а потом в нем разместился сельскохозяйственный техникум. В этот техникум по командировке Огнищанского сельсовета был зачислен Андрей Ставров.
Андрей никогда не видел ни дворцов, ни замков и сейчас был поражен сочетанием роскоши и запустения в разоренном княжеском гнезде. Узкие замковые окна, еще хранившие кое-где остатки цветных стекол, были забиты нестругаными досками и фанерой; по углам великолепных, украшенных малахитовыми колоннами залов дымили железные печки-времянки; большая часть узорного паркета на полах была выдрана и наскоро заменена утоптанной глиной.
Андрей приехал до начала занятий. Поселили его в бывшей княжеской молельне, небольшой полукруглой комнате, из которой давно были вынесены иконостас и все предметы церковной утвари, а вместо них поставлены четыре солдатские койки, табуреты и грубый некрашеный стол. Лишь прекрасная, исполненная талантливым художником роспись высокого сводчатого потолка напоминала о прежнем назначении этой полукруглой комнаты.
По приказу завхоза Андрея привел сюда древний, чисто выбритый старик с грустными, глубоко запавшими глазами. Заложив руки за спину, старик подождал, пока Андрей сунул под койку свой деревянный сундучок, и спросил вежливо:
— Откуда будете, молодой человек?
— Из Пустопольской волости, — сказал Андрей, с любопытством посматривая на старика, — из деревни Огнищанки.
— Это какого же уезда? — осведомился старик.
— Ржанского.
Мутноватые глаза старика слегка оживились:
— Город Ржанск? Как же, знаю. Монастыри там были, мужеский и женский. Старинные монастыри. Не раз мне доводилось ездить туда. Целым обозом, бывалоча, ездили. В каретах, в экипажах, в ландо. Я завсегда сопровождал на богомолье их сиятельства — и старого князя Бориса Егорыча с княгиней, и ныне убиенного князя Григория, и супругу ихнюю молодую княгинюшку Ирину Михайловну с детками…
Голос старика дрогнул. Он поспешно достал из кармана застиранный носовой платок и высморкался, отворачиваясь.
— Теперича все прахом пошло, — глухо сказал старик. — Князя Григория в двадцатом году пленили и расстреляли матросы. Княгиня Ирина с неповинными младенцами где-то в заморских странах бедствует. А что с замком сделали, это вы, молодой человек, сами изволите видеть.
Старик строго посмотрел на Андрея и, шаркая ногами, вышел.
Почти до самого вечера Андрей провалялся на койке, потом вышел во двор.
С трех сторон к замку примыкал вековой парк с большими прудами, полуразрушенными беседками, поваленными и разбитыми статуями. Был пасмурный день поздней осени, в оголенных деревьях шумел холодный ветер, на берегах прудов тускло белели ледяные окраинцы, все вокруг было слегка присыпано снежком, и все казалось бесконечно грустным и мертвенным, как бывает на кладбище.
Распахнув полушубок и закинув руки за спину, Андрей медленно брел по аллеям парка и думал о Еле. Вот между деревьями, где-то за горизонтом, на темном небе появилось расплывчатое, повитое туманом желтое свечение. Это отсветы огней большого, незнакомого города, и там, в городе, Еля. Андрей хотел представить, что делает Еля сейчас, с кем она говорит, как смеется. Но он не мог представить это, так как образ Ели, подобно туманному свечению, почему-то расплылся в красках, сверкании и шумах города, в котором Андрей был один раз в жизни и запомнил только громадины домов, толпы людей, несмолкаемое цоканье конских копыт по булыжнику, запахи нагретой резины, бензина, духов, все то пестрое, шумное, суматошно бегущее, что поглотило и увлекло куда-то образ Ели.
Андрей остановился на легком мостике, перекинутом через пруд. Кто-то обронил возле мостика охапку ячменной соломы. Влажная, тронутая морозцем, источающая слабый запах прели, она напомнила Андрею далекую, затерянную среди холмов Огнищанку, отца, мать, братьев, сестер. Сердце его заныло сладкой, щемящей болью, и ему вдруг захотелось оставить навсегда этот угрюмый парк, мрачный замок, послать ко всем чертям свою учебу, запахнуть полушубок и идти туда, домой, где сейчас жарко пылает русская печь, вокруг стола сидят его, Андрея, родные, а за стеной глуховато, неторопливо топают ногами наморенные за день кони.
Отогнав навязчивую мысль об Огнищанке, Андрей побрел в общежитие, зажег керосиновую лампу и от нечего делать стал жевать зачерствевшие лепешки, положенные ему в дорогу матерью.
Когда в коридоре, за дверью, послышались шаги, он поднялся, положил недоеденную лепешку на стол. В комнату без стука вошел огромного роста человек в серой толстовке и таких же серых просторных шароварах, заправленных в смазные сапоги. Был он широкоплеч, по-дьяконски лохмат, тяжелые руки держал на животе. Седеющие усы и густая русая борода слегка прикрывали его крепкий рот, маленькие с татарским разрезом глаза смотрели живо и проницательно. Из-за широкой спины великана выглядывал уже знакомый Андрею бритый старик.
— Вот-с, Родион Гордеевич, — почтительно сказал старик, — только этот молодой человек и прибыл, из Ржанского уезда. Фамилия ихняя Ставров. А коек здесь четыре.
Могучий человек в толстовке, скрипя сапогами, подошел к Андрею, вынул изо рта махорочную скрутку и прогудел густым хрипловатым басом:
— Ну здравствуй, милок! Первым, значит, прибыл? Молодец. Можешь пока гулять. Занятия у нас начнутся через неделю. — Он положил на плечо Андрея смуглую жилистую руку. — Что ж, давай знакомиться. Тебя как зовут? Андрей? Отлично. А я — агроном Родион Гордеевич Кураев, буду читать у вас курс земледелия.
Кураев добродушно усмехнулся, присел на скрипнувший под ним табурет и спросил, жадно затягиваясь махорочным дымом:
— Ну а что ж ты окончил, Андрей Ставров, какую школу? Из какой семьи будешь? Чем твой батька занимается?
— Окончил я Пустопольскую трудовую школу, — сказал Андрей, — отец работает в амбулатории фельдшером в деревне Огнищанке.
Родион Гордеевич Кураев поднял бровь и повернулся к бритому старику, смиренно стоявшему у дверей:
— Слыхал, Северьян Северьянович? Фельдшером батька работает. Вот кого нам по разверстке в техникум посылают. Этот фельдшерский сын не отличит небось быка от коровы, а ячмень от пшеницы.
Старик расслабленно улыбнулся.
Андрей вспыхнул, нахмурился и сказал дерзко:
— Это посмотрим, товарищ агроном. Я еще ваших воспитанников научу, как надо отличать быка от коровы, а триер от лобогрейки. Пусть они, ваши студенты, пошагают по полям столько, сколько я отшагал и с плугом, и с пропашником, и с бороной, и с косой, да пусть намахаются вилами, тогда они узнают, где бык, а где лобогрейка.
Агроном Кураев посерьезнел, одобрительно посмотрел на Андрея:
— Ишь ты! Молодец! Хлебороб, значит? А что ж, земелька у твоего батьки своя была?
— Земельный надел отец получил при Советской власти, в двадцать первом году, — сказал Андрей. — Семья наша с голода подыхала. Вот с тех пор и хозяйничаем.
Поднявшись с табурета, Кураев придвинул к себе стоявшую на столе пустую консервную банку, погасил окурок и подошел к Андрею.
— Ты не обижайся, Ставров, — угрюмо сказал он, — я ведь не в обиду тебе. Тут совсем другое. Горько то, что по этой дурацкой разверстке к нам в техникум попадают все, кому не лень: городские хлыщи в ботиночках «джимми», мамины дочки с накрашенными губами. Разве таким земля нужна? Наплевать им на землю, им где-то устроиться надо, больше ничего. А землю, Андрей Ставров, уважать надо…
Он обнял Андрея, ласково похлопал его по плечу, и Андрей увидел, что поношенная толстовка Родиона Гордеевича в нескольких местах прожжена махоркой. От агронома шел крепкий запах пота, сена и дегтя.
— Уважать землю надо, — строго повторил Кураев, — и, если ты, вот как матерь свою, уважаешь ее и любишь, она тебя приголубит, а нет — уходи от нее, лучше уж учись по канату в цирке ходить или же танцуй где-нибудь в балете. Так-то, милок…
Он еще раз похлопал Андрея по плечу:
— Ну отдыхай да сил набирайся. Через несколько дней съедутся твои товарищи и начнется учеба. Раз ты из хлеборобов и душу земли чувствуешь, трудно тебе не будет.
Уже выходя, Кураев сказал бритому старику:
— Ты бы, Северьяныч, кипяточку парню раздобыл, а то, видишь, он всухомятку мамину лепешку жует.
Через несколько минут Северьян Северьяныч принес чайник с кипятком и две старенькие кружки с отбитой эмалью. Он разлил кипяток по кружкам, развернул завернутые в бумагу леденцы:
— Угощайтесь, молодой человек.
Настоянный на травах горьковатый кипяток припахивал железом, обжигал губы. Андрей, подвинув к Северьянычу кольцо огнищанской домашней колбасы, пил медленно и с любопытством посматривал на старика.
— Понравился вам Родион Гордеич? — спросил Северьяныч.
— Разве так, сразу, человека узнаешь? — уклончиво сказал Андрей. — Мне понравилось то, что он о земле хорошо говорит.
Светло-голубые глаза Северьяныча просияли.
— О, он весь от земли. Молится на землю. И знает ее, голубушку, как самого себя. Он, Родион Гордеич, еще при покойном князе агрономом в нашем имении служил. Совсем молоденьким сюда приехал, может, чуток постарше вас был. — Старик окинул Андрея внимательным взглядом: — Вам примерно сколько годочков будет?
— Восемнадцать, девятнадцатый пошел, — сказал Андрей.
— Вот-вот, — задумчиво протянул Северьяныч, — ну а ему, Родиону Гордеичу, в ту пору лет двадцать пять было. Мы все на него любовались, прямо писаный красавец был. А силища у него будто у Ильи Муромца. Возьмет, бывалоча, две гири двухпудовые и зачнет баловать с ними так, что страшно становится.
— У него, кажется, и сейчас силы хватает, — сказал Андрей.
— И сейчас, конечно, хватает, — согласился старик, — а только в пятьдесят годов хватка уже не та-с…
Прихлебывая остывший чай, Северьяныч стал неторопливо рассказывать об агрономе Кураеве:
— Старому князю Борису Егорычу порекомендовал его какой-то ученый профессор из академии. Возьмите, говорит, к себе агрономом моего любимого ученика господина Кураева. Он, дескать, из мужицкого сословия, землю, мол, любит… Приехал до нас Родион Гордеич гол как сокол. Только и того, что сила богатырская да заношенный студенческий костюмишко с начищенными пуговками и форменная фуражечка на русых кудрях… У нас тут сплошное разорение было: девять тысяч десятин земли, а урожаев никаких, некормленая скотина ревет, голодные мужички зерно да сено прямо с полей разворовывают. И что ж вы думаете? За каких-нибудь пять лет Родион Гордеич из княжеского имения цветочек сделал-с. И князь его, можно сказать, очень даже боготворил… Родион Гордеич тут у нас и женился, простую девушку в жены себе взял, Домну Ивановну, тоже из крестьянского сословия. И зажили они как в сказке: земельку себе купили, домик хороший построили, сад насадили…
Северьян Северьяныч погладил чисто выбритую щеку, опустил голову на руки.
— После революции, когда княжескую семью разогнали, а все имение было сконфисковано, Родиона Гордеича красные не тронули. На князя, говорят, работал, теперь пущай поработает на Советскую власть, руки, мол, у него золотые. Ну и мужички наши слово за агронома замолвили: нам, дескать, без него никак нельзя-с…
Северьяныч вздохнул, уменьшил огонек в лампе и поднялся с табурета.
— Ну-с, почивайте, молодой человек, — сказал он, — мне тоже пора на покой…
После ухода старика Андрей долго не спал. Чувство одиночества одолевало его. Закрыв глаза, он вспоминал Огнищанку, Таню Терпужную. Сейчас, когда Андрей остался один, ему показалось, что молчаливая, застенчивая Таня лучше и красивее, чем Еля, которая, конечно, давно его забыла…
Проснулся он рано, с неохотой умылся ледяной водой, оделся и пошел разыскивать столовую. Под ногами Андрея мягко шуршал выпавший ночью снежок. Где-то совсем близко перекликались петухи, мычали коровы.
Андрей шел вдоль парка и на повороте, возле длинного амбара, увидел агронома Кураева. Агроном медленно шагал навстречу, придерживая на плече большую совковую лопату.
— Доброе утро, — вежливо сказал Андрей.
Кураев остановился, вытер платком потное лицо.
— Доброе утро, хлебороб. Ты куда это так, ни свет ни заря? Столовку ищешь? Она, братец, еще не работает. Вот съедутся наши студиозы, тогда и столовку откроем. А сейчас погуляй часок, а потом сходи к Северьянычу, вон в ту клетушечку, он тебя чайком напоит.
Воткнув лопату в снег, Кураев достал кисет, сложенную газету и стал свертывать цигарку.
— Я бы тебя к себе пригласил на завтрак, — сказал он, дружелюбно посматривая на Андрея, — но это надо было Домну Ивановну с вечера предупредить. У меня ведь шесть едоков в очередь к столу становятся, порции своей дожидают. Так что ты, милок, не обессудь.
— Спасибо, Родион Гордеевич, — смущенно пробормотал Андрей, — у меня есть харчи, я обойдусь… это я просто так…
Кураев усмехнулся:
— Ну-ну! Молодец, хлебороб.
Все утро Андрей бродил по усадьбе, осматривал хозяйство техникума. В самом конце парка он увидел большую теплицу с полукруглой крышей. Почти все стекла с крыши и стен теплицы были вынуты, в середине белели сугробы снега. Справа от теплицы, в отдалении, виднелись коровник, конюшня, свинарник, а еще правее — птичник. Перед ними, раскачиваясь на проволоке, горели четыре подслеповатых керосиновых фонаря, подвязанных к столбам. Видимо, со всех этих служб тоже давно сняли черепичные крыши и наспех накрыли их темной гнилой соломой. Остатки битой черепицы виднелись только по углам.
От коровника к конюшне, согнувшись, медленно шел мужик в валенках с огромной вязкой сена на спине, а возле свинарника возилась баба, закутанная теплым платком. Баба посмотрела на Андрея, подняла поставленные на снег ведра и скрылась в свинарнике.
«Сколько же у них тут животных, если мужик да баба со всеми управляются?» — невесело подумал Андрей.
Он обошел замок и повернул направо, туда, где в рассветном тумане виднелся длинный амбар. На снегу возле амбара стояли тракторы. Андрей видел трактор только на фотографиях в журналах и в газетах и потому с любопытством стал рассматривать полузасыпанные снегом машины.
Все тракторы были американские. Не одна тысяча десятин земли была, видимо, ими вспахана. Краска на тракторах облупилась, всюду проступала ржавчина.
Андрей подошел к тракторам и с трудом стал читать названия: «фордзон», «интернационал», «кейс», «ойл-пул», «оливер». Тракторы были большие и малые, колесные. Но чуть в стороне стояли два гусеничных трактора — «катерпиллар» и «клетрак», приземистые тяжелые машины, похожие на танки.
— Любуешься, молодой человек? — раздался голос за спиной Андрея.
Андрей обернулся. Перед ним стоял высокий худой человек в потертом кожаном пальто и в такой же видавшей виды кожаной фуражке. Высокий человек с невеселой улыбкой смотрел на Андрея. Глаза у него были светло-голубые, брови белесые. На щеках и подбородке выступала рыжеватая щетинка.
— Любуешься кладбищем? — повторил человек в кожаном пальто. — Ты мне скажи, будь другом, разве можно так обращаться с машиной? Разве это по-хозяйски? Ну допустим, тракторишки эти не новые. Так что? Да конца их, значит, гробить?
Человек в кожаном пальто говорил почти спокойно, с едва заметным нерусским акцентом.
— А вы кто, механик? — не без робости спросил Андрей.
Белесая бровь человека дрогнула.
— Танкист я. Понимаешь? Красный танкист. Зовут меня Ян Августович Берзин. А теперь вот механиком к вам в техникум назначен. Списали меня по болезни. — Берзин безнадежно махнул рукой. — Не могу я терпеть такого безобразия. Машину любить надо. Она как живое существо. А тут что? Кладбище. Приехал я три дня назад, взял за холку директора техникума, а он мне говорит: подожди, мол, товарищ, вот съедутся студенты, тогда всю эту музыку будем в порядок приводить. Как тебе это нравится?
Ян Августович стащил с худой руки перчатку, поправил серый шарф на тонкой шее и вдруг спросил:
— Ты студент, что ли?
— Студент. Я только вчера приехал, — ответил Андрей, ответил так, словно оправдывался перед Берзиным.
Тот обрадовался:
— Студент, значит? Отлично! Тогда беги к завхозу, возьми у него две лопаты, и начнем расчищать эту, как говорит директор, музыку.
— Извините, пожалуйста, — краснея, сказал Андрей, — я еще не завтракал, а мне очень хочется есть. После завтрака я готов работать хоть до ночи.
— Есть хочется? Не завтракал? — переспросил Берзин и засмеялся. — Как же тебя зовут?
— Андрей Ставров.
Берзин хлопнул Андрея перчаткой по плечу:
— Ты, Ставров, умный парень. Хорошо, что напомнил мне. Я ведь тоже не завтракал и, признаться по правде, тоже есть хочу зверски.
Расстегнув пальто, Ян Августович вынул из кармана массивные серебряные часы и щелкнул крышкой.
— Без четверти восемь, — сказал он, — сверим часы, товарищи командиры.
Андрей потупился:
— У меня нет часов.
— Неважно, — сказал Берзин, — это у меня привычка такая с войны осталась. А уговариваемся мы так: час с четвертью нам для завтрака вполне достаточно. Значит, ровно в девять мы с тобой приходим сюда с лопатами и начинаем работу. Идет?
— Хорошо, Ян Августович, к девяти я приду.
— Вот и отлично.
Берзин круто, по-военному, повернулся и зашагал по тропинке влево. Андрей долго смотрел ему вслед. Механик-латыш сразу понравился ему, он еще и сам не знал почему. Но было в этом человеке что-то притягивающее, особенно глаза, холодноватые, острые, но удивительно чистые, глаза, которые, казалось, видят все.
Обратно Андрей пошел через фруктовый сад, примыкавший к замку с восточной стороны.
В отличие от полуразрушенных коровников, конюшен, амбаров, в отличие от парков, где немало деревьев было вырублено, сад был в образцовом порядке. Андрей сразу заметил, что его приводили в порядок совсем недавно. Видимо, в прошлые годы здесь тоже часть старых деревьев пропала, но вместо них уже были высажены низкие саженцы яблонь и груш. Все молодые деревца были окучены, старательно подвязаны к кольям, а тонкие штамбики их защищены от мышей и зайцев связанными жгутами камыша.
Только сад и порадовал Андрея. И разоренный княжеский замок с забитыми окнами, и эта печальная молельня, в которой его поселили на долгих три года, и угрюмый парк с поваленными статуями, и сараи с ободранными крышами, и даже не очень далекий город, по вечерам напоминавший о себе призрачным, холодноватым свечением неба, — все казалось Андрею хмурым, чужим, мертвенным, таким неласковым и ненужным, что он готов был завыть от тоски.
Зато сад заставил Андрея остановиться и восторженно проговорить:
— Вот это да! Здорово!
Сад был посажен в шахматном порядке, и поэтому, где бы ни останавливался Андрей, он видел ряды деревьев, ровные, как туго натянутая струна. Кроны старых яблонь и груш были аккуратно обрезаны, стволы побелены с осени, все ветви тщательно очищены от гнезд боярышницы и златогузки.
Однако то, что в старом княжеском саду были высажены стройные маленькие деревца, и то, что они так любовно были защищены от морозов и от прожорливых грызунов, особенно порадовало Андрея.
Он остановился возле молоденькой яблони. Она стояла полузасыпанная снегом, укутанная камышом и тихонько покачивала тонкими, ни разу еще не обрезанными ветвями…
Андрей ласково погладил ладонью холодный коричнево-розоватый стволик яблони и сказал:
— Растешь? Ну расти, расти…
И он подумал о том, что эта посаженная и защищенная чьими-то руками яблоня-младенец не одинока, что здесь есть кто-то хороший и добрый, еще неизвестный ему человек, которого, должно быть, все любят и которого по-сыновьи полюбит и он, Андрей. Пусть он пока чувствует себя сиротой, пусть у него на душе кошки скребут и ему очень хочется домой, в Огнищанку, это ничего… Есть же здесь старый смешной Северьяныч, и этот богатырь агроном Кураев, и очень славный механик Берзин, и неведомый Андрею садовод, совсем, видно, особенный человек, которого, конечно, нельзя не полюбить…
Не замечая того, что у него текут слезы и щекам стало почему-то жарко, Андрей гладил ствол маленькой яблони и тихо бормотал:
— Ничего, ничего… Люди живут не только в Огнищанке, везде есть люди…
2
Засыпанная снегами Огнищанка жила своей жизнью. Своей жизнью жила и поредевшая семья Ставровых. Вскоре после отъезда Андрея в техникум Роман уехал в Ржанск — там начались занятия на рабфаке, а Федора, Калю и Таю отвезли в Пустополье, в ту самую школу, которую окончил Андрей.
Дмитрий Данилович и Настасья Мартыновна остались одни. Нелегко им было в эту зиму. С отъездом пятерых детей дом, казалось, совсем опустел. С утра Дмитрий Данилович и Настасья Мартыновна управлялись по двору. Он шел в конюшню, чистил, поил и кормил лошадей, она доила корову, засыпала корм курам и свинье.
Потом, после завтрака, который обычно проходил в полном молчании, Дмитрий Данилович уходил в амбулаторию, где и просиживал до обеда, принимая больных или бесцельно шагая из угла в угол. Подолгу стоял он у окна, смотрел на засыпанный снегом холм, на темный, поредевший лес на холме, на хатенки в узкой долине.
За шесть лет Ставров привык к Огнищанке, к ее людям, к земле. Но больше всего за эти годы он привык и не только привык, но и полюбил свой земельный надел, свое хозяйство — коней, корову, плуги, косилку, телегу, все, что было добыто и выращено тяжелым трудом его семьи и что спасло его семью от голодной смерти.
Теперь, после того как разъехались дети, он понял, что это начало распада хозяйства и что надо жить как-то по-иному. А как жить, он не знал и не хотел задумываться над этим.
— Ничего страшного, — говорил он жене, — зимой мы с тобой еще управимся, а летом съедутся ребята, и все пойдет как положено, гуртом ведь даже батьку хорошо бить.
— А весной? — растерянно спрашивала Настасья Мартыновна. — Сеять надо, полоть, огород сажать, поливать. Разве мы вытянем все это?
Дмитрий Данилович и сам понимал, что им двоим будет очень трудно, но не хотел думать об этом.
— Не морочь мне голову, — сердито кричал он жене, — как будет, так и будет!..
Вечерами к Ставровым, как всегда, заходил дед Силыч, усаживался в кухне на низкой скамье и, покуривая, топил соломой печь. Одинокий дед Силыч тоже скучал по молодым Ставровым, но при Дмитрии Даниловиче избегал говорить о них, а отводил душу с Настасьей Мартыновной.
— Добрые у вас ребята, голуба моя, — задумчиво говорил он, глядя в пылающий в печи огонь. — И хорошо, что вы их к земле приохотили. Человек без земли — все одно что без души.
— Да, конечно, — соглашалась Настасья Мартыновна, — а только теперь придется им отвыкать от земли. Вот выучатся они и разлетятся кто куда.
Опустив руки, она смотрела на деда и, словно не видя его, добавляла тихо:
— Видно, дедушка, кончать нам нужно с землей. Не управимся мы с мужем вдвоем.
Дед Силыч ворошил кочергой горящую в печи солому, покачивал головой:
— Оно, конечное дело, так. Да ведь пока они выучатся, молодые-то, вам их поить-кормить надо. А их у вас четверо и к тому же девочка-сиротка пятая. Как же вы их воспитаете, оденете, в люди выведете? Вам, голуба, без земли никак нельзя…
Субботним вечером к Ставровым забежал председатель сельсовета Илья Длугач. Распахнув шинель, он присел на табурет. Лицо у него было встревоженное и злое.
— Завтра, фершал, приходи в сельсовет на собрание, — отрывисто сказал он, — товарищ Долотов с уезда приедет, доклад будет делать.
— О чем? — спросил Дмитрий Данилович.
Длугач остервенело крутнул жесткий обкуренный ус:
— Троцкистская сволочь совсем распоясалась. Ты вот послухаешь, чего они на Октябрьские праздники натворили в Москве и в Ленинграде. Да и в Ржанске у нас эти гады зашевелились.
Слушая Длугача, Дмитрий Данилович никак не мог отделаться от чувства острой жалости к этому твердому, мужественному человеку. Председатель сельсовета не знал, что жена его, Люба, с которой он прожил самые трудные годы — голод, разруху, убожество, — была обречена на неминуемую смерть. Длугачу было известно лишь то, что Люба болеет какой-то женской болезнью, и он привык к мысли, что у него никогда не будет детей, и потому с такой охотой усыновил сироту Лаврика, маленького батрачонка, над которым зверски издевался Антон Терпужный. Так же как прикованная к постели Люба, Илья Длугач души не чаял в мальчике. Он верил, что больная молчаливая жена будет жить долго и что они воспитают Лаврика, сделают из него настоящего человека.
Один только Дмитрий Данилович знал, что Люба скоро умрет, что ее «женская хвороба», как говорил об этом Длугач, называется рак матки и что уже никакие операции не спасут Любу, потому что болезнь очень запущена. Но Дмитрий Данилович никому об этом не говорил… Теперь, в этот зимний вечер, он только с нескрываемым сожалением смотрел на Длугача и думал: «На черта тебе этот троцкизм и все прочее, если через месяц-другой ты должен будешь пережить самое страшное: потерять жену-друга и вторично осиротить несчастного мальчишку?»
— Когда начнется собрание? — спросил Дмитрий Данилович.
Длугач рассеянно огладил потертый мех кинутого на колени старого треуха.
— Назначено на двенадцать часов, а Долотов обещался приехать к десяти, — видно, будет с меня стружку снимать.
— За что?
— За хлебозаготовки. У нас по сельсовету значится недовыполнение больше тысячи пудов. — Длугач сердито хлопнул шапкой по колену: — А все через такую сволочь, как Терпужный, Шелюгин и прочие. Зерна у них года на три хватит, а продавать излишки государству не желают, гады. Я, ежели бы мне полную власть дали, под метлу бы у таких паразитов все вымел. — Председатель сельсовета поднялся: — Ладно, фершал, пойду. Мне надо еще секретаря своего Острецова повидать, чтоб он все документы к завтрему в порядок привел…
После того как тяжело заболел секретарь сельсовета Гривин, Степан Алексеевич Острецов попросился на его место. С точки зрения Острецова, это было самым лучшим в его положении. Работая в сельсовете, он мог открыто ездить по хуторам, не вызывая никаких подозрений, мог встречаться с парнями своего бездействующего пока отряда, вербовать исподволь новых людей, чтобы в нужный час быть в полной готовности.
С Пашкой ему пришлось примириться, так как его холостяцкая жизнь на Устиньином подворье постоянно вызывала бабские сплетни, разговоры, а ему не хотелось быть предметом постоянной слежки: кто к нему ходит да кто ночует. Ходили же к нему не разбитные девчата и не веселые вдовы, а люди его отряда из разных деревень и хуторов волости. Они приходили по одному, по два, чаще всего вечерами, а свои тайные сборища маскировали игрой в карты. Чтобы избежать слежки, Острецову пришлось скрепя сердце пойти к Терпужному, повиниться перед обиженной Пашкой и вернуть ее в дом.
Когда появилась возможность работать в сельсовете, Острецов вначале заколебался: подбирая себе секретаря, Длугач мог с излишней придирчивостью расспрашивать Острецова о его прошлой жизни, мог даже писать в ГПУ и в конце концов дознаться, что секретарем Огнищанского сельсовета стал не «костинокутский середняк» Острецов, а сотник казачьих войск из бывшего императорского конвоя, белогвардейский офицер, командир террористического отряда «зеленых», поджигатель хлеба в коммуне, организатор убийства двух чекистов и собственной сожительницы Степан Алексеевич Острецов.
Однако Илья Длугач не стал долго разговаривать. Поддельные документы Острецова о службе в Красной Армии выглядели безукоризненно, на хуторе Костин Кут он жил уже шесть лет, ни в чем предосудительном вроде замечен не был. Да, собственно, у Длугача и выбора не было. Так Острецов стал секретарем сельсовета.
Работал он прилежно, на людях разговаривал мало, был исполнителен и аккуратен. Довольно быстро он привел в порядок запущенные больным Гривиным сельсоветские дела, начал составлять новые подворные списки, очень подробные и точные.
На этой почве у Острецова вспыхнула ссора с богоданным его тестем Антоном Агаповичем Терпужным. Когда Острецов, заполняя графу об имуществе, стал вносить в списки все, вплоть до старого каменного катка и хомутов, Терпужный набычился:
— Ты чего это, Степан? Белены объелся или же шуткуешь со мной? Разве ж нельзя тут хоть какое снисхождение сделать?
— Снисхождение? — вызывающе спросил Острецов. — Нет уж, извините, Антон Агапович. Утаивать я не буду ничего. Мне не хочется из-за какой-нибудь вашей дурацкой повозки, плуга или жеребенка положение свое терять.
Терпужный вспыхнул:
— Тогда вот чего, убирайся ты из моего двора к едреной матери и чтобы ноги твоей тут не было! Писатель! Ты еще блоху на кобеле опиши да крысу в каморе.
— Вы, Антон Агапович, болван! — жестко сказал Острецов. — Сегодня я описываю ваше имущество не для конфискации. Пока до этого еще не дошло. А когда дойдет, я постараюсь заранее предупредить таких идиотов, как вы.
Не прощаясь, Острецов повернулся и ушел. Терпужный прорычал вдогонку зятю отборную матерщину и долго стоял у калитки, сатанея от ярости.
Зато Длугач остался доволен. Просмотрев начало подворных списков, он внимательно глянул на Острецова и сказал:
— А ты, брат, парень грамотный, с культурой. Я, признаться, и не думал, что у тебя так здорово получится. Вот приедет товарищ Долотов, надо ему показать твою работу.
— Тут работы еще очень много, — сказал Острецов, — но, конечно, познакомить товарища Долотова с тем, что мы начали делать, можно. Пусть он свои замечания выскажет, свои советы даст, они нам пригодятся…
Долотов выехал в Огнищанку в воскресное утро. Настроение у него было мрачное. Всю дорогу от Ржанска до Огнищанки он думал о том, что делается в Москве и в Ленинграде. А то, что там творилось, не предвещало ничего хорошего. Троцкисты и зиновьевцы, давно уже объединившись, действовали вместе. Их попытка организовать, свою отдельную демонстрацию в день десятилетия Октябрьской революции означала открытый вызов всей партии, стремление повести массы народа против Центрального Комитета.
Хуже всего было то, что раскольнические действия оппозиционных лидеров в столице повлекли за собой демонстративные выступления их сторонников в разных концах страны. Даже захолустный Ржанск не избежал этой подлой возни, как именовал ее Долотов.
На рассвете седьмого ноября начальник уездной милиции доложил Долотову о том, что на фронтоне Народного дома и на стене укома партии вывешены алые полотнища с надписями: «Долой цекистов-перерожденцев!», «Долой сталинскую фракцию термидорьянцев!», «Да здравствует вождь мировой революции Л. Д. Троцкий!».
— Сволочи! — отрывисто бросил Долотов.
Он знал, что поджигательские полотнища-призывы могли быть изготовлены и тайком развешаны только по указанию секретаря укома Резникова, который никогда не скрывал своих троцкистских убеждений и, почти не таясь, вербовал себе сторонников в различных партийных ячейках уезда.
В то же утро кумачовые полотнища по приказу Долотова были сняты и отправлены в губком…
Но не только подлая и вредная возня троцкистов беспокоила сейчас Григория Кирьяковича. Проезжая деревни и хутора Ржанского уезда, он просил кучера попридержать тройку раскормленных исполкомовских лошадей и, откинувшись к спинке саней, хмуро смотрел на деревенские избы, на засыпанные снегом кривые улицы, на скрипучие колодезные журавли и думал: «Десять лет революции прошло, а деревня мало изменилась. Мужики так же ковыряют землю плужком, так же косят хлеб косами, и пока конца этому не видно. А ведь мужик — громадная сила в стране. Нужно только разбудить эту силу и дорогу ей указать…»
Год близился к концу, а по Ржанскому уезду далеко еще не было выполнено государственное задание по хлебозаготовкам. У многих, особенно у кулаков, хлеб был, но они либо скрывали его, либо прямо говорили о том, что не хотят сдавать зерно по копеечной цене. Секретарь укома Резников предложил с помощью милиции отобрать зерно у зажиточных крестьян, но Долотов категорически воспротивился этому, заявив на заседании бюро укома, что он дойдет до ЦК, но не допустит подобного произвола.
В Огнищанку Долотов приехал в полдень. Люди только начали собираться возле сельсовета. На завалинке, покуривая, сидели братья Кущины, дядя Лука, Николай Комлев и Кондрат Лубяной. Упершись плечом в притолоку дверей, лузгал семечки франтоватый Демид Плахотин, одетый в праздничный полушубок-венгерку и малиновые брюки галифе. Чуть в сторонке стояли бабы с детишками. Опираясь на толстую суковатую палку, по тропинке медленно шел к сельсовету Антон Терпужный.
Долотов вылез из саней, стряхнул с кожаного пальто клочья сена и, по-матросски шагая вразвалку, подошел к мужикам.
— Здравствуйте, товарищи, — сказал он, тронув рукой козырек кожаной фуражки.
С завалинки отозвались нестройно:
— Доброго здоровья!
— Заходите, гостем будете!
— Здравствуйте, товарищ председатель…
— А где Длугач? — спросил Долотов.
— Тут он, в классе, с секретарем своим…
— Зараз скажем ему…
Мужики с настороженным любопытством всматривались в задубевшее на ветру лицо председателя исполкома. То, что Долотов не прикидывался перед ними рубахой-парнем, никого не похлопывал по плечу, а стоял, широко расставив крепкие ноги в грубых смазных сапогах, и только угрюмоватая усмешка слегка играла на его лице, понравилось огнищанам, но вместе с тем еще больше насторожило их. Они переглянулись и замолчали.
На крыльцо школы вышел Длугач в шинели, наброшенной на плечи.
— Прибыли, Григорий Кирьякович? — сказал он, пожимая руку Долотова.
— Как видишь, добрался.
— Так чего ж? Пойдемте, обогреетесь трошки, пока народ соберется, а через полчасика начнем.
Долотов глянул на мужиков.
— Спасибо, я не замерз. Вот лучше с вашими огнищанами поговорю, может, у них вопросы ко мне есть.
Чуть отвернув полу пальто, он достал пачку дешевых папирос, зажигалку и присел рядом с Тимохой Шелюгиным, который только что подошел и устроился на завалинке. Несколько раз пыхнув дымом, Долотов негромко спросил, ни к кому не обращаясь:
— Ну как вам живется, товарищи огнищане?
Стоявший неподалеку Гаврюшка Базлов небрежным движением надвинул на ухо модную клетчатую кепку:
— Это в каких же смыслах, позвольте спросить?
Долотов скосил глаза на оранжевые Гаврюшкины ботинки:
— А вы из местных, товарищ?
— Так точно, — любезно ответил Гаврюшка, — с недавнего времени стал местным. Временно, конечно. Вообще же я городской житель. Мастер модной прически и завивки, парикмахер то есть. А в деревушке этой я одно время культурой ведал, руководил избой-читальней. Но поскольку по идейным принципам не поладил с товарищем Длугачем, то вынужден был оставить этот культурный очаг и вновь заняться парикмахерским искусством.
Мужики стали усмехаться. Засмеялись женщины. Только насупленный Кондрат Лубяной сердито сплюнул, огладил черную седеющую бороду и проговорил:
— Не слухайте вы за-ради бога этого балабона, он языком мелет все одно, что овца хвостом.
Яростно глянув на Гаврюшку, Длугач счел нужным добавить:
— Извините, Григорий Кирьякович, он у нас чуточек придурковатый. Не совсем, конечно, а так, из-под угла мокрым мешком прибитый.
Долотов усмехнулся, пожал плечами:
— Ладно. Меня, товарищи, интересует другое: как живет ваша деревня, как работает сельсовет, школа, есть ли в лавке соль, сахар, керосин, спички, гвозди — все, что вам требуется?
В ответ загудели:
— Благодарствуем.
— Лавки у нас нема, в Пустополье ходим.
— Школа, чего ж… в Калинкине школа… У нас нема…
— Товары не завсегда, а все ж таки бывают…
Мужики ожидали, когда наконец уездный председатель заговорит о самом главном, о том, ради чего он приехал сюда. Они не сомневались, что приехал он только для того, чтобы взять у них то зерно, которое они — один больше, другой меньше — придерживали для весенней продажи на ближних и дальних базарах.
Отлично понимая, о чем думают мужики, Долотов спросил спокойно:
— Ну а план хлебозаготовок у вас выполнен?
— План мы не выполнили, — сказал Длугач, — одну тысячу сто девяносто пудов еще не вывезли.
— Отчего же? Кто не выполнил? — Долотов испытующе посмотрел на Антона Терпужного: — Вот вы, например, Терпужный, сдали все, что положено?
Шевельнув моржовыми усами, Терпужный сказал хрипло:
— Я-то все сдал, товарищ председатель, даже лишку вывез. На меня начислили триста сорок пудов, а сдал я четыреста десять, все подчистую вымел, только семена оставил…
Антон Терпужный говорил неправду. В двух ямах-тайниках на леваде у него было зарыто пятьсот пудов отборной пшеницы, которую он откладывал от каждого урожая и о которой никто не знал, кроме его жены, дочери и «богоданного» зятя Степана Острецова.
— А вы, Шелюгин, выполнили то, что положено? — обратился Долотов к своему соседу.
— Он тоже вывез на сто двадцать пудов больше, — сказал Длугач, — но хлебушек у него есть.
— Кроме семенного зерна?
Оглаживая голенище хромового сапога, Тимофей Шелюгин проговорил тихо:
— Так точно. Окромя семенного у меня найдется еще пудов двести пшеницы, ячменя с полсотни пудов и малость кукурузы.
— А чего ж вы не вывезли эти излишки? — спросил Долотов. — Разве государство не платит вам деньги за зерно?
Глаза у Тимохи погрустнели. Он молча глянул на соседей, глубоко вздохнул:
— Оно конечно, деньги нам платят. А только какие деньги? Ежели же, скажем, зернишко это до весны придержать, цена ему на базаре повыше будет. Продадим мы зерно и одежу-обувку себе справим, инвентарь поновее купим, плужок там или же сеялку. Нам же, хлеборобам, никто этого задарма не дает.
— Но по мере возможности государству тоже надо помочь, — сказал Долотов, — ведь не на помещика вы теперь работаете, а на себя, и государство у нас теперь свое, рабоче-крестьянское. Не так ли?
Увидев среди огнищан Дмитрия Даниловича Ставрова, Долотов кивнул ему и сказал, поглядывая на Тимоху:
— Вот фельдшер ваш — человек грамотный, разные науки изучал, пусть он скажет, правильно я говорю или нет?
Понимая, что между приехавшим из города Долотовым и огнищанами идет трудный разговор о хлебе, Дмитрий Данилович не собирался вмешиваться в этот разговор, так как считал, что такое вмешательство ни к чему не приведет, но вопрос, обращенный прямо к нему, застал его врасплох.
Он подошел поближе, собираясь с мыслями, и сказал, растягивая слова:
— Государству надо помогать, это верно. Но что у нас в Огнищанке получилось? Кто из граждан не вывез хлеб? Самые что ни на есть бедняки — Капитон Тютин, дед Сусак, тетка Лукерья, Шабровы. Таких, по сути дела, вовсе нужно было освободить от поставок, а их земельные наделы в списки включены.
— Списки мы пересмотрим, — сказал Долотов, — а излишки зерна, у кого они есть, надо продать государству по твердой цене, а не придерживать для базара…
На собрании Долотов рассказал о международном положении Советского Союза, о легальной и нелегальной борьбе троцкистов против линии партии. Особо остановился он на том, с какой открытой враждебностью Троцкий и его последователи относятся к крестьянству.
— Если товарищ Ленин постоянно подчеркивал необходимость теснейшей смычки рабочих и крестьян, — сказал Долотов, — то троцкисты считают все крестьянство контрреволюционным, они склонны любого середняка зачислить в кулаки и сегодня же расправиться с деревней, как с силой, якобы враждебной революции…
— А знают ли они деревню? — крикнул с места Дмитрий Данилович. — Кто из троцкистских заправил бывал в деревне и видел труд мужика?
Подвыпивший Аким Турчак сказал хрипло:
— Крепко им это нужно! Они только жрут в три горла тот хлеб, что мы выращиваем, да еще кулаками нас обзывают, подлюги!
Подождав, пока огнищане притихнут, Долотов сказал:
— Между прочим, это верно, товарищи. Ни сам Троцкий, ни его подпевалы в глаза мужика не видели и деревни не знают. И характерного, что среди троцкистов вы не найдете крестьян. Да и рабочих вы у них почти не встретите. Оппозиционеры пытаются вербовать себе сторонников среди городских служащих, мещанства, охмуряют учащихся, студентов…
Лицо Долотова потемнело. Он плотно сжал губы и вдруг грубо отрубил:
— Вообще же троцкистам, если говорить об их количестве, хрен цена в базарный день. Наберется их с гулькин нос. Но воду, сволочи, мутят.
Довольно долго председатель уездного исполкома говорил о происках оппозиционеров, рассказал о предстоящем Пятнадцатом съезде партии и о задачах деревни. Свое выступление Долотов закончил так:
— Каждая деревня, даже самая малая, не может стоять в стороне от той борьбы, которую партия и народ ведут за будущее. Казалось бы, что такое один лишний пуд хлеба, проданный мужиком государству? Вроде бы ничего, капля в море! А если вспомнить, что у нас в стране примерно миллионов двадцать пять крестьянских хозяйств, — подсчитайте, сколько можно собрать хлеба, если каждый двор сдаст хотя бы один пуд зерна? Двадцать пять миллионов пудов. — Долотов посмотрел на Длугача и сказал: — Сейчас мы сделаем перерыв на пятнадцать минут. Вы покурите, подумайте, а после перерыва скажите: кто сможет вывезти еще немного зерна, чтобы за вашей Огнищанкой не числилось никаких недоимок.
Один за другим огнищане вышли на улицу, задымили цигарками. В сельсовете остались Долотов, Длугач и Острецов.
Пока шло собрание, Степан Острецов глаз не сводил с Долотова. Поминутно отрываясь от протокола, он всматривался в угрюмое, точно из чугуна отлитое лицо председателя исполкома; загорелые, обветренные скулы и густые темные брови Долотова, коротко подстриженные жесткие усы над крепким ртом, тяжелые, жилистые руки, низкий хрипловатый голос и неторопливая речь — все это пугало Острецова, внушало ему безотчетный страх.
«Такой не пощадит, — тоскливо подумал Острецов. — Такой шлепнет тебя и не моргнет».
И когда Долотов, выступая перед огнищанами, на секунду задерживал взгляд на Острецове, тот внутренне сжимался. Острецову начинало казаться, что председатель исполкома подозревает что-то, а может, даже знает о его прошлом, что вот сейчас, сразу же после собрания, Долотов шагнет к нему и скажет: «Ну вот что, сотник Острецов, довольно комедию играть. Нам все известно. Следуйте за мной».
Во время перерыва Долотов действительно посматривал на Острецова и наконец спросил у Длугача:
— Товарищ давно у тебя работает?
— Недавно, — сказал Длугач, — он из Костина Кута, человек грамотный, в Первой Конной служил.
— Коммунист?
— Никак нет, — поднимаясь из-за стола, сказал Острецов — я беспартийный, но считаю своим солдатским долгом служить партии и родной власти, за это я кровь проливал…
В висках Острецова стучало, сердце билось. Ему показалось, что именно сейчас, в это мгновение, он должен сделать что-то такое, что доказало бы его преданность Советской власти, иначе — конец! И Острецов чуть не вздрогнул от радости. «Конечно! Черт с ним, с тестем, с его упрятанным верном, с Пашкой».
Оправив командирский пояс на аккуратной гимнастерке, Острецов шагнул к Долотову и сказал, понизив голос:
— Григорий Кирьякович! Хлеб в Огнищанке есть. Только кулаки хоронят его и по доброй воле ни за что не отдадут.
— Кого вы имеете в виду? — спросил Долотов.
— Кулака Антона Терпужного, моего тестя, — твердо сказал Острецов. — Только сегодня, перед самым собранием, я узнал, что у Терпужного на леваде, возле старых верб, в двух ямах зарыто больше пятисот пудов зерна.
Длугач хлопнул Острецова по плечу:
— Вот ты, Степан, и скажи об этом на собрании, нехай этот сучий нос почухается. Припрем его зараз к стенке, оно к для других урок будет.
Помедлив, Острецов сказал:
— Мне не хотелось бы выступать на собрании. Вы знаете, что я женат на дочке Терпужного. Я люблю ее и надеюсь переделать кулацкое ее нутро. А выступление мое отсечет от меня Пашку…
— Дурила ты! — сказал Длугач. — Еще конармейцем называешься!
— Подожди, Длугач, — сказал Долотов, — не горячись. — И, обратившись к Острецову, спросил: — У вас о запрятанном зерне точные сведения? Не подведете вы нас?
— Никак нет, — сказал Острецов, — сведения точные.
— Хорошо. — Долотов подумал. — Можете не выступать. С вашим тестем мы постараемся справиться сами…
Когда огнищане, гася окурки и откашливаясь, вошли и расселись на скамьях, Длугач постучал карандашом по графину с водой и сказал:
— Ну, кто желает взять слово?
Первым выступил Дмитрий Данилович Ставров. Он давно, ранней осенью, выполнил задание по продаже хлеба, а дома, так же как другие, придерживал немного пшеницы и ячменя, чтобы весной продать зерно подороже, но теперь, после того как председатель исполкома Долотов назвал его грамотным, «изучавшим разные науки» человеком, Ставров понял, что он должен подать пример своим односельчанам. Ему было жаль зерна. Те деньги, которые он надеялся получить после продажи пшеницы на базаре, заранее были распределены и предназначены для покупки одежды и обуви пятерым детям и приобретения сеялки. Теперь все это летело под откос, но Дмитрий Данилович, подавляя в себе горечь, поднялся со скамьи и сказал:
— Что ж тут долго говорить? Зерно наше мы отдаем не помещику и не спекулянту, а своей власти, Конечно, каждый из нас рассчитывал на какой-то излишек зерна, чтобы продать его на базаре, получить деньги и дыры залатать по дому и по хозяйству. Но, видно, придется потерпеть. Я, к примеру, то, что на меня было начислено, выполнил еще в сентябре. Дома осталось немного излишков. Не знаю сколько. На глаз пудов сто наберется. Пятьдесят пудов я завтра вывезу в Пустополье на ссыпной пункт.
— Правильно, товарищ фельдшер, — сказал Долотов, — если есть хоть малая возможность, надо вывезти. Рабочие производят для крестьян одежду, обувь, плуги, заводы строят для всех. Надо и рабочим помочь. — Он, прищурившись, окинул взглядом притихших мужиков: — Кто последует примеру фельдшера, товарищи?
Стоявший у дверей Тимофей Шелюгин сказал со вздохом:
— Я вывезу сто пятьдесят пудов пшеницы и пудов пятьдесят ячменя.
Вокруг зашумели:
— Щедрый нашелся!
— Ему можно вывозить, голодным не останется!
— Зернишка небось полон амбар!
Красивое лицо Шелюгина побледнело.
— Я, граждане, как перед богом. Истинную правду говорю. Последнее вывожу. Можете, если желаете, проверить.
После Тимохи Шелюгина, почесывая затылки и переглядываясь, заявили о готовности вывезти небольшие излишки зерна трое братьев Кущиных, Кузьма Букреев, трое костинокутских мужиков, Кондрат Лубяной, Павло Терпужный, Демид Плахотин.
Пригладив волосы, поднялся Степан Острецов. Он вышел из-за стола, ловким движением оправил командирский пояс на черной гимнастерке и заговорил торжественно:
— Только что выступал бывший конармеец товарищ Плахотин. Так же как он, я служил в Первой Конной армии, бил белополяков. Довелось мне служить и в славном корпусе червонного казачества у товарища Примакова. Под его командованием мы громили петлюровские банды атаманов Палия, Крюка, Бровы и прочей сволочи. Как почетные знаки тех боевых дней ношу я на своем теле шрамы четырех ранений. Кровь моя была пролита за любимую власть рабочих и крестьян.
Помолчав, Острецов закончил тихо:
— У меня тоже есть излишки зерна, оставленные для продажи. Двести тридцать пудов. Пару коней хотелось мне купить вместо покалеченных старых. Завтра я вывезу на ссыпной пункт все двести тридцать пудов до последнего фунта, потому что нет для меня ничего дороже, чем Советская власть…
— Молодец, Степан, — одобрительно сказал Длугач, — только так и поступают красные бойцы.
Долотов давно искал глазами Антона Терпужного. Тот, сутулясь, низко склонив седеющую голову, сидел далеко в углу, прятался за спины мужиков.
— Чего вы там хоронитесь, Терпужный? — сказал Долотов. — Подойдите сюда, к столу.
— Мне отсюдова все слышно, — отозвался Терпужный.
— А вы все-таки подойдите. Нам поговорить с вами хочется. Нужно, чтоб люди услышали ваши слова.
Наступила тишина. Все повернулись к Антону Агаповичу.
— Ну чего ты там копаешься? — взорвался Длугач. — Или, может, под ручки тебя до стола довести? Так я быстро доведу!
Держа в одной руке шапку, в другой палку, Антон Агапович прошагал к столу и остановился, грузный, отяжелевший, весь налитый злостью, как бык на бойне.
Кто-то тихонько вздохнул. Кто-то высморкался.
Насупив брови, Долотов долго смотрел на Терпужного.
— Так, значит, Терпужный, у вас, кроме семян, никакого зерна больше нет? — спросил наконец Долотов.
Терпужный не поднял головы, не шевельнулся.
— Я у вас спрашиваю.
Хриплое дыхание вырвалось из груди Антона Агаповича.
— Ничего у меня нету, — выдавил он, — одни семена…
Пальцы Долотова выбивали легкую, еле слышную дробь.
— Так-таки ничего?
— Ничего. Ни зерна…
— А в ямах? — еще тише спросил Долотов.
— В каких ямах? — прохрипел Антон Агапович.
Долотов поднялся со стула, подошел к Терпужному, стал совсем близко, лицом к лицу.
— В двух ямах. На леваде. Под старыми вербами, — отчеканивая каждое слово, сказал Долотов. — Сколько там пшеницы зарыто? Пятьсот пудов? Шестьсот? Семьсот?
Председатель исполкома опустил тяжелую руку на плечо Терпужного, и все услышали, как тяжело оба они дышат.
— Что ж, Терпужный, вы сами вывезете это зерно или, может, вам в помощь кого-нибудь выделить?
Молча оглядел Антон Агапович хмурые лица всех своих односельчан, пытаясь узнать, кто мог заявить председателю исполкома о спрятанном хлебе, но так и не узнал.
— Ну дак чего ж, — кусая вислые усы, сказал он, — завтра я вывезу хлеб, весь, до зерна… На похороны свои держал я это зерно… Подавитесь вы им… А меня нехай похоронят без поминок…
С собрания огнищане расходились подавленные, изредка перебрасываясь скупыми, отрывочными словами.
На следующий день план хлебозаготовок по Огнищанскому сельсовету был выполнен полностью.
3
Поезд долго стоял на захудалой, словно вымершей, станции. Вокруг расстилалась слегка присыпанная снежком пустынная солончаковая степь. Кое-где в степи видны были пологие холмы с голыми глинистыми боками, торчали редкие кустики сухой, покрытой инеем травы. Возле станции стоял равнодушно-презрительный верблюд, а у вагонов скулили голодные, злые собаки, такие худые, что на них страшно было смотреть. У низкой мазанки с плоской крышей и подслеповатыми оконцами сидела скуластая старуха в черных штанах. Прошла и скрылась за мазанкой девочка с посиневшим от холода носом.
И неприютная степь, и станционный домишко с одиноким фонарем, и неподвижный верблюд, и тощие собаки с поджатыми хвостами, и этот странный поезд, в котором было всего четыре вагона, — все казалось застывшим, безжизненным и унылым.
В поезде ехал к месту своей ссылки Лев Троцкий.
Так завершился значительный период в его жизни, тот трехлетний период, когда он после смерти Ленина уже почти наяву видел себя во главе огромной страны и развил открытую и скрытую деятельность, чтобы сплотить вокруг себя преданных, на все готовых единомышленников, свалить всех, кто был его противником, и стать наконец самодержавным вождем многотысячной партии и самого обширного в мире государства.
Если бы он, избалованный славословием льстивых клевретов, самовлюбленный, необузданно жаждавший мировой известности и почестей человек, не утерял способности мыслить критически и мог бы взглянуть на себя со стороны, может, он сам ужаснулся бы, увидев, в какую темную бездну годами влекли его низменные страсти политического авантюриста, никогда не думавшего о народе, преследующего только одну цель: быть на вершине, упиваться славой, повелевать историей и людьми.
Если бы он мог, как бы стоя в стороне, окинуть взглядом весь свой извилистый, кривой путь, полный шатаний, нравственных падений, ловкого приспособленчества и стремления постоянно быть на виду, он бы увидел все, что так старательно вычеркивал из памяти.
Сейчас, сопровождаемый в ссылку сотрудниками ГПУ и будучи на положении арестанта, он мог бы вспомнить, как, подчиняясь чувству самолюбования, много раз хвастался за границей тем, что русские рабочие принимали его «за живого Лассаля».
Он мог бы вспомнить, с каким спокойным и холодным презрением отзывался о нем Плеханов.
Он мог бы подумать о том, почему Ленин, создавший Коммунистическую партию, взлелеявший ее, на протяжении многих лет называл его, Троцкого, «дипломатом самой мелкой пробы», «заграничным лакеем оппортунизма», «вреднейшим каутскианцем», «балалайкиным» и даже «иудушкой»…
Но Троцкий не думает об этом. Он едет в казахстанскую ссылку с женой, с самым близким своим помощником, двадцатидвухлетним сыном Львом, с секретарями и давно проверенными телохранителями-охранниками, с личным архивом и собственной библиотекой, с охотничьими ружьями и собаками, с привычной мебелью из московской квартиры.
Нет, Лев Троцкий не думает сдаваться. У него давние связи с верными ему учениками и соратниками не только в Советском Союзе, но и в Германии, Франции, в Австрии, в Испании, в разных странах Латинской Америки.
И вот он сидит у окна охраняемого чекистами вагона, всматривается в пустынную, заснеженную степь и, посверкивая стекляшками пенсне, декламирует жене и сыну стихи Омара Хайяма:
Я в этот мир пришел — богаче стал ли он? Уйду — великий ли потерпит он урон? О, если б кто-нибудь мне объяснил: зачем я, Из праха вызванный, стать прахом обречен? —и, резко повернувшись, говорит убежденно и зло:
— Нет! Это он обречен стать прахом. Он!
Жена и сын не спрашивают, о ком идет речь. Они хорошо знают, что «он» — это Сталин. Сталина Троцкий ненавидит слепой, свирепой ненавистью. Он считает Сталина личным врагом, которого нужно уничтожить, чтобы навсегда отшвырнуть со своего пути.
Уже, кажется, все было сделано, чтобы убедить страну и весь мир в том, что после смерти Ленина единственным вождем партии и учителем народа остался он, Троцкий. Вышли в свет книги, в которых прямо говорилось, что Троцкий был «основным руководителем» Октябрьского восстания, что сочинения Троцкого «целиком предвосхитили» Апрельские тезисы Ленина, что он, Лев Давыдович Троцкий, был «главным организатором» побед на фронтах гражданской войны.
Сталин беспощадно разоблачил все эти измышления, напомнив на партийных пленумах и конференциях о том, что Ленин буквально через день после своего приезда из-за границы отмежевался от Троцкого, что Троцкий накануне Октября даже не вошел в центр по руководству восстанием, что он, Троцкий, с его планами едва не провалил военные операции против Колчака и Деникина.
Троцкий и троцкисты создали и распространили «теорию», коварнее и вероломнее которой, пожалуй, не знала история: эта зловещая «теория» сводилась к утверждению, что между «старым» и «новым» поколениями, между «отцами» и «детьми» всегда существовали, существуют и будут существовать непримиримые противоречия. Больше того, Троцкий открыто утверждал, что эти неизбежные противоречия, эта борьба уже разделили Коммунистическую партию на два враждующих лагеря «отцов» и «детей».
Это была иезуитская политика натравливания молодежи на старую ленинскую гвардию, попытка отколоть комсомол от партии, а затем с помощью зажигательных фраз о «мировой революционной миссии молодежи», с помощью разных посулов и эффектных обещаний превратить комсомол в многомиллионную армию Льва Троцкого, свергнуть ее руками Центральный Комитет партии и захватить власть.
Это была политика дальнего прицела. Троцкисты начали усиленно обрабатывать комсомольскую молодежь в институтах, техникумах, школах, на рабфаках и разных курсах. Они утверждали, что старая гвардия большевиков переродилась, обюрократилась, изменила революции, что вся надежда возлагается теперь на комсомол, что «учащаяся молодежь — вернейший барометр партии» и что «существо демократии сводится к вопросу о поколениях».
Отсюда оставалось сделать последний шаг: нетерпеливо ожидать нападения капиталистических держав на Советский Союз и выработать директиву — в пору войны свергнуть и уничтожить «цекистов-перерожденцев» и взять власть в свои руки. Троцкисты сделали и этот предательский контрреволюционный шаг, распространив «тезис о Клемансо». Тезис сводился к следующему: в годы империалистической войны французский буржуазный деятель Клемансо, который находился в оппозиции к правительству, в то время, когда немецкие вражеские войска были под самым Парижем, сверг неспособное к сопротивлению правительство и стал во главе страны. Именно так, на случай войны, должна поступить и оппозиция в Советском Союзе.
Сталин шаг за шагом разоблачил и эти действия Троцкого и его сторонников, раскрыв неоднократные попытки оппозиционеров натравливать партийные массы на партийный аппарат, политическое «щекотание» молодежи, изменнические призывы к захвату власти в обстановке войны.
То тайно, то явно Троцкого поддерживали его зять Лев Каменев и Григорий Зиновьев, занимавшие крупные посты в государстве, отдельные партийные работники, некоторые военные, дипломаты и журналисты.
Летом 1927 года оппозиционеры распространили по стране свой манифест под названием «Платформа большевиков-ленинцев». Этот документ был вначале разослан в низовые партийные ячейки, с ним ознакомили многих беспартийных, и только после этого лидеры оппозиции направили свою «Платформу» в Политбюро ЦК партии.
Основным тезисом оппозиционной «Платформы» было утверждение, что строительство социализма в одной стране невозможно вообще, а в «отсталой России» особенно. Троцкисты заявляли, что партия призывает строить социализм «в Пошехонье», «в Глупове», «в одном уезде» и даже «на одной улице».
Ненавидя и презирая трудовое крестьянство, троцкисты рисовали деревню в виде колонии, из которой нужно «выкачать» все для немедленной «сверхиндустриализации», говорили о «засилье кулака» в деревне, они призывали к открытой войне против деревни и к свержению «крестьянского короля» Сталина.
Они высмеивали ленинский план электрификации России и называли электрификацию «электрофикцией». Диктатуру пролетариата они именовали «диктатурой секретариата», а весь Центральный Комитет партии — «сталинской фракцией», которая вместо социализма строит «царство крестьянской ограниченности», заменяя «идейное убожество» «аппаратным всемогуществом».
Троцкий, Зиновьев, Каменев и их сторонники были против монополии внешней торговли, а государственные тресты предлагали превратить в частнохозяйственные предприятия. Отождествляя равенство с уравниловкой, они требовали уравнять зарплату всем рабочим, всем коммунистам и вместе с тем демагогически выдвинули лозунг «участия рабочих в прибылях заводов и фабрик».
Кроме открытых выступлений на партийных пленумах, конференциях и съездах, кроме всем известных групп, фракций, блоков лидеры оппозиции опирались на созданную ими широко разветвленную подпольную организацию с шифрами, явочными квартирами, членскими взносами, конспиративными совещаниями, с тайными типографиями и с особыми печатями. Так, Зиновьев руководил в Ленинграде нелегальным политическим кружком и приказал ленинградским комсомольцам распространить «синюю папку» с документами, подрывающими политику партии в деревне. Оппозиционеры устраивали секретные собрания в подмосковных лесах, на Урале, в курортных городах, рассылая в десятки губерний «директивные письма» Троцкого, печатали и расклеивали антипартийные листовки, воззвания, лозунги.
Все это делалось в пору, когда Советский Союз, подобно одинокому острову, был со всех сторон окружен бушующим океаном бешеной враждебности и ненависти, когда идейные и наемные убийцы с благословения империалистических заправил стреляли в советских послов, убивали советских дипломатических курьеров, совершали налеты на советские представительства, формировали вооруженные банды, а буржуазные правительства Европы, Азии и Америки готовили многочисленные армии для нападения на СССР. Весной 1927 года Остин Чемберлен известил советского посла о разрыве дипломатических отношений между Англией и Советским Союзом. Через три недели в Польше был убит советский посол Петр Войков, а вслед за этим злодейским убийством белогвардейцы Тракович и Войцеховский совершили покушение на советских представителей в Варшаве. В Германии уже была создана нелегальная миллионная армия — «черный рейхсвер», а охранные отряды рвущихся к власти нацистов присягали перед флагом со свастикой. Оголтелый японский милитарист Танака составил для своего правительства секретный меморандум, в котором писал: «В программу нашего национального роста входит необходимость вновь скрестить мечи на полях Монголии…»
Лев Троцкий и его сторонники отлично знали о попытках империалистов создать единый фронт против СССР и уничтожить Советскую страну. Но, зная это, они еще больше усилили свою фракционную, антипартийную деятельность. «Чем хуже, труднее и опаснее становится положение, тем лучше для нас» — такую установку дали оппозиционные лидеры своим явным и тайным единомышленникам.
В этой трудной и опасной обстановке большинство членов Центрального Комитета, верных ленинской идее, сплотилось для борьбы против оппозиции.
В январе 1925 года Троцкий был снят с поста председателя Реввоенсовета, а в октябре 1926 года вместе с Каменевым выведен из состава Политбюро, в октябре 1927 года вместе с Зиновьевым исключен из ЦК, а через месяц Троцкого исключили из партии за его подрывную фракционную деятельность и сослали в Алма-Ату…
Григорий Долотов узнал о ссылке Троцкого от только что вернувшегося из Москвы секретаря укома Резникова. Резников был очень взволнован. Скрывая дрожь, он ежился в кресле, нервно постукивал пальцами по столу, поглядывал в запорошенное снегом окно и говорил растерянно и зло:
— Докатились! До ручки дошли! Скоро царскую каторгу возродим! Арестовывать и ссылать таких людей, как Троцкий! Это измена революции, удар в сердце партии. И всему виной Сталин. Это он жаждал крови таких признанных и всеми уважаемых вождей, как Троцкий, Зиновьев, Каменев, Радек.
— Вождей? — угрюмо сказал Долотов. — А что эти твои вожди вытворяли? Сколько лет они партию лихорадили и в болото ее тянули? Разве они о народе думали и разве мысли народа знали?
Резников швырнул недокуренную папиросу в пепельницу.
— Твои настроения, Григорий Кирьякович, мне известны давно, — сказал он, — и нам с тобой не сговориться. Ты, видимо, и сейчас оправдываешь позорные репрессии, которыми Сталин хочет заткнуть рот истинным ленинцам? Но мировая общественность еще скажет свое слово об этих безобразиях.
— К мировой общественности апеллируешь? — сказал Долотов. — Сталина обвиняешь? А разве Сталин справился бы с такой бандой, если бы он не был верен линии Ленина и не выражал то, о чем думает и чего хочет вся партия?
— Так уж и вся?
— Да, вся, — сказал Долотов, — за исключением немногочисленной, но опасной кучки политических авантюристов, отпетых заговорщиков и интриганов, которых ты именуешь истинными ленинцами и даже вождями. Ты бы хоть почитал, что говорил Ленин об этих горе-вождях.
Бесцельно перебирая лежавшие на столе папки, Резников заговорил глухо:
— Не знаю. Меня, товарищ Долотов, все эти ссылки и аресты пугают. Да, да. Пугают. Где же тут свобода слова, свобода дискуссий, споров? Где право любого коммуниста открыто высказать свое мнение? О какой же демократии при таком положении можно говорить? И почему, например, я должен верить Сталину, а не Троцкому?
Долотов заходил по кабинету, потом, сунув руки в карманы, остановился, долго смотрел на Резникова, сдвинув густые брови:
— Свобода слова, говоришь? Свобода дискуссий? Что же это за дискуссии, которые вы, троцкисты, проводите тайком, где-то в балках, в сараях, при закрытых дверях, прячась от партии, от народа? А подпольные типографии? А листовки? А непотребное, бессовестное заигрывание с желторотыми школьниками и натравливание их на ЦК? Как все это назвать?
— Мы вынуждены были идти на это потому, что вы заткнули нам рот! — раздраженно сказал Резников.
Долотов стукнул кулаком по столу:
— Не ерунди! Вы могли брехать все, что вам угодно, до соответствующих партийных решений. А решениям партии, воле подавляющего большинства вы, как коммунисты, обязаны были подчиниться. Вместо этого вы ушли в подполье, стали пакостить исподтишка, разлагать комсомольские организации. Что ж, вас за это по головке гладить? Или обниматься с вами?
— Сталин ведет партию к буржуазному перерождению! — крикнул Резников. — Он типичный термидорьянец!
На жестком лице Долотова заходили скулы.
— Ты Сталина не тронь! — с угрозой в голосе сказал он. — Мы знаем, почему Сталин стал вам поперек горла. Потому что он выражает думы всей партии и каждое его слово как топором рубит троцкистскую нечисть. Потому что он отстаивает идеи Ленина и пресекает любую попытку изменить Ленину. Потому, наконец, что он не либеральничает с вами и не дает спуску ни троцкистам, ни зиновьевцам. Именно поэтому вы боитесь Сталина как огня. Именно за это ненавидите его и хотите сместить его с поста Генерального секретаря, который доверен ему партией. Но ничего у вас не выйдет, зарубите себе это на носу.
— А тебе, товарищ Долотов, известно завещание Владимира Ильича Ленина? — криво усмехаясь, спросил Резников.
— Какое завещание? — спросил Долотов.
— То самое, в котором Ленин перед своей смертью категорически настаивал на том, чтобы Сталин был снят с должности Генерального секретаря.
Порывшись в одной из папок, Резников вынул лист тонкой папиросной бумаги с бледными строками, отпечатанными на пишущей машинке.
— Вот, дорогой Долотов, слушай, что писал Ленин, обращаясь к партийному съезду… — И Резников, приблизив шелестящую бумагу к глазам, громко прочитал: — «Товарищ Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью… Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от товарища Сталина только одним перевесом, именно более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т. д. Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью. Но… это не мелочь, или это такая мелочь, которая может получить решающее значение». Слышал, Долотов? — сказал Резников. — Это не мои слова, это слова Владимира Ильича Ленина.
— Покажи-ка мне бумагу, — помолчав, сказал Долотов.
— Что, не веришь? Пожалуйста, бери и читай сам.
Долотов взял тонкий листок бумаги, не читая свернул его вчетверо и положил в карман френча.
— Во-первых, это не завещание Ленина, а его письмо съезду партии, — сказал Долотов, — и я о нем знаю. Во-вторых, с этим письмом Ленина были ознакомлены все делегации Тринадцатого съезда, и съезд единодушно решил оставить Сталина Генеральным секретарем, считая, что он учтет замечания Владимира Ильича. А в-третьих, слышишь, Резников, в-третьих, ответь мне: как к тебе попала копия этого письма, если было вынесено решение не распространять его, а ты к тому же даже не был делегатом съезда? Молчишь?
— Верни мне бумагу, — бледнея, сказал Резников и поспешно вышел из-за стола.
Долотов отстранил его рукой:
— Садись. Бумагу я тебе не верну, а отправлю ее в ЦК. Там выяснят, какими путями троцкисты разослали копии этого письма по уездам, по волостям и дошли до того, что читали его беспартийным…
Не прощаясь с Резниковым, Долотов вышел из кабинета, хлопнув дверью.
Он медленно шел по пустынным, засыпанным снежными сугробами улицам Ржанска. Стояла та пора зимнего предвечерья, когда люди после работы успели разойтись по домам. В окнах домов уже светились смутные огни керосиновых ламп, но ночная тьма еще не успела окутать заброшенный в степь городок, над которым висела туманная сумеречная мгла. Редкие прохожие, зябко сутулясь, кутаясь в воротники полушубков, торопливо пробегали мимо Долотова и исчезали, словно растворялись в темных переулках.
Вспоминая разговор с Резниковым, Долотов подумал о том, что больше нельзя мириться с тем, что творил в ржанской партийной организации ее руководитель, открыто заявляющий о своей принадлежности к троцкистско-зиновьевской оппозиции. Ведь это он, Резников, был автором восхваляющих Троцкого плакатов, которые в ночь под праздник десятилетия Октябрьской революции четверо учеников-комсомольцев расклеили на стенах и фронтонах ржанских советских учреждений. Секретарь укома, предупреждая далеко не всех членов бюро, проводил какие-то закрытые совещания, постоянно ездил по уезду один, чтобы иметь возможность вести фракционную работу без свидетелей. Последний случай с копией письма Ленина переполнил чашу терпения Долотова.
«Ишь сволочь, Сталина ругает, — подумал Долотов, — обвиняет его в перерождении, во всех смертных грехах! Понимает, гад, что Сталин их на чистую воду выводит…»
Всматриваясь в смутно белеющие снежные сугробы, Григорий Кирьякович вспоминал все, что знал о Сталине. Долотов видел его несколько раз: на Всероссийском и Всесоюзном съездах Советов, на похоронах Ленина и на вечере кремлевских курсантов школы ВЦИК, где Сталин выступил с речью о Ленине на следующий день после похорон Владимира Ильича.
Но впервые Долотов увидел Сталина холодным весенним днем 1920 года, когда находился на посту у кремлевской квартиры Ленина. Сейчас Долотов так ясно представил это, как будто Сталин находился рядом с ним, на засыпанной снежными сугробами ржанской улице.
Было это в середине дня. Курсант Григорий Долотов уже дожидался смены, и в эту минуту увидел невысокого, коренастого человека в серой, видавшей виды солдатской шинели и в черной кожаной фуражке с красной звездой. Человек в шинели неторопливо шел по коридору прямо к Долотову. Он шел, все больше замедляя шаги, и Долотов успел хорошо рассмотреть его. У него было смугловатое, обветренное лицо, густые, темные брови, такие же темные усы над крепким, плотно сжатым ртом, упрямый, сильный, чисто выбритый подбородок. Но больше всего Долотова поразили его острые, темные глаза: слегка прищуренные, они смотрели напряженно, с тяжелой пронзительностью, так, словно видели человека насквозь. И было в этих немигающих веках, в тигрином взгляде цепких, нацеленных прямо в глаза собеседника глаз нечто такое, что сразу раскрывало огромную силу воли, каменную твердость и властность человека, который на мгновение остановился перед Долотовым.
— Моя фамилия Сталин, — негромко сказал он, протянул Долотову удостоверение и, не дожидаясь ответа, вошел в квартиру Ленина…
С того дня прошло более семи лет. Долотов много слышал о Сталине, знал о том, сколько тяжких испытаний выпало до революции на долю Иосифа Джугашвили — Сталина, сына полунищего грузина-сапожника: почти беспрерывные аресты, заключение в мрачных тюремных камерах, дальние арестантские этапы, глухие места ссылок в Восточной Сибири, в безлюдном Нарыме и где-то совсем на краю земли, у самого Полярного круга. Пять раз бежал Сталин из царской ссылки, бежал, пробираясь сквозь снежную тайгу, сквозь заледенелую тундру, чтобы снова занять свое место в борьбе руководимых Лениным друзей-коммунистов…
«Кто знает, — думал Долотов, — может, тюрьмы и ссылки, таежное одиночество, холод и голод, все, что он перенес, действительно ожесточили его душу, сделали его резким и грубым. Но он по-солдатски верен и предан Ленину и всей своей силой и волей защищает учение Ленина от оппозиционной сволочи, бережет чистоту и дисциплину партии. И я ему верю, так же как верит ему вся наша партия, и я пойду за ним, как идут все…»
Разгребая валенками глубокий снег, Долотов шел по пустынной улице. Тускло светились заиндевелые окна домов. За окнами люди жили своей жизнью, и Долотов, как это не раз бывало, подумал о том, что сейчас, в эти минуты, в тысячах городов, сел и деревень спят и бодрствуют, страдают и радуются, умирают и рождаются неведомые люди, великое множество людей, сквозь густую тьму зимних туч, сквозь туман и метель видящих ту светлую, сияющую даль, до которой еще долго придется идти трудным, но единственно правильным путем. И партия коммунистов никогда не свернет с этого пути, открытого и указанного всем людям Владимиром Лениным, человеком, которого хорошо знал и беззаветно любил бывший подводник, красногвардеец, один из миллионов солдат революции Григорий Долотов.
4
Молодая княгиня Ирина Михайловна Бармина, последняя владелица замка, в котором после революции расположился сельскохозяйственный техникум, оказалась счастливее многих своих подруг и знакомых, бежавших от «красной орды» куда глаза глядят.
После того как муж княгини Ирины, корниловский офицер полковник князь Григорий Бармин, был расстрелян каким-то сводным матросским отрядом, Ирина Михайловна с двумя детьми, двенадцатилетним Петром и десятилетней Катей, и няней, крестьянкой Феклой Ивановной, не пожелавшей оставить свою госпожу и детей, бежала в Новороссийск.
В Новороссийске остатками белого флота командовал старый адмирал, друг покойного отца княгини. С помощью адмирала княгиню с семьей чуть ли не силой погрузили на эскадренный миноносец «Беспокойный», отплывающий к берегам Турции. Отплывал «Беспокойный» уже под пушечными и пулеметными залпами ворвавшихся в Новороссийск красных полков.
Так княгиня Ирина Бармина, ее дети и кормилица оказались за границей…
Теперь, когда с той тяжелой, полной ужасов и унижений поры прошло восемь лет, княгиня Ирина вспоминала все, что ей пришлось пережить, как долгий кошмарный сон… Голубой Босфор, желтовато-серый низкий берег Анатолии, шумные базары, на которых приходилось продавать последние жалкие тряпки, чтобы не умереть с голода. Потом — Тунис, лагерь за колючей проволокой близ Бизерты, чахлые, покрытые пылью пальмы, безжизненные миноносцы на мертвых якорях, самоубийства отчаявшихся белых офицеров, изнурительная работа в оливковых рощах, ежедневное недоедание, бледные лица голодных детей.
Только счастливый случай привел княгиню Ирину в дом француза-колониста Робера Доманжа, больная жена которого нуждалась в грамотной, умевшей читать рецепты горничной. Через несколько месяцев к мсье Роберу приехал в гости из Франции его младший брат — веселый, никогда не унывающий винодел Гастон Доманж, румяный коротышка-толстяк, сразу наполнивший унылый дом мсье Робера хохотом, песнями под гитару, шумливыми играми с Пьером и Катрин, как теперь именовались маленькие Петя и Катя Бармины.
Незадолго перед этой встречей молоденькая жена-певица оставила Гастона Доманжа, грустно заявив ему, что она не собирается хоронить себя в пустынных Ландах, где мсье Гастон владел виноградниками, винодельней и небольшим поместьем, названным в честь юной певицы виллой «Франсуаза». Вскоре был оформлен развод, который отнюдь не опечалил жизнерадостного гасконца.
Приехав в Северную Африку к брату Роберу и увидев в его доме молодую красавицу княгиню, Гастон Доманж с первого взгляда влюбился в нее, несколько раз возил в Бизерту и Сфакс, щедро угощал обедами и ужинами в дорогих ресторанах, а через полторы недели сделал Ирине Барминой предложение.
Угрюмый молчальник Робер и его жена тщетно советовали мсье Гастону подумать и не связывать себя браком с сиятельной, но нищей эмигранткой, имевшей к тому же двоих детей, но Гастон Доманж в ответ на увещевание родственников отрезал:
— Благодарю за заботы, но я ее люблю, и этого вполне достаточно. А мальчик и девочка обузой для меня не будут. Вы же знаете, как я хотел иметь детей…
Что касается княгини Ирины, то у нее не было выбора: заброшенная на чужбину без всяких средств к существованию, познавшая голод, бесконечные унижения и оскорбительное бесправие беженства, она с радостью согласилась расстаться со своим княжеским титулом и стать мадам Доманж. Да и сам мсье Гастон начинал ей нравиться. Этот лысеющий сорокалетний толстяк с красноватым носом и аккуратно подбритыми темными усиками, циник и весельчак, относился к княгине с неизменной предупредительностью, детей очаровал своей неистощимой изобретательностью и постоянной готовностью по-мальчишески шалить с ними.
Даже вывезенная из России хмурая няня Фекла Ивановна, или Феклуша, за свою куриную привязанность к детям прозванная Клушей, и та, узнав о предстоящем браке княгини Ирины, только вздохнула и сказала:
— Ну чего ж, бедное ты мое дите, видно, судьба твоя такая. Оно конечно, этому пузатенькому брехунцу далеко до покойного батюшки-князя Григория. Князь-то писаный красавец был и умница. А только что ж теперь делать, ежели ты без куска хлеба и в одной сорочечке сиротиной осталась. Да и Петеньке с Катенькой хоть какой, а отец все же будет. Видно, на то божья воля…
В начале зимы княгиня Ирина Михайловна Бармина стала госпожой Доманж, покинула с детьми неласковый Тунис и поселилась в Ландах, неподалеку от побережья Бискайского залива, на одинокой вилле «Франсуаза», которую мсье Гастон с милой непосредственностью тотчас же переименовал в виллу «Ирен».
Вилла представляла собой окруженный старым садом просторный дом с двумя башенками-мансардами и с крохотным прудом перед застекленной верандой. Справа и слева от дома высились кирпичные службы — квартиры полутора десятков рабочих, гараж, небольшая конюшня, коровник, птичник, механическая мастерская. В отдалении, за садом, огороженный кирпичной оградой, стоял завод-винодельня.
С первых же дней мсье Гастон стал знакомить жену с хозяйством. Стояли хмурые зимние дни. Печальными показались княгине Ирине безлиственные виноградники среди песчаных холмов и полутемная холодная винодельня с укутанными рогожей прессами, с огромными дубовыми бутами и чанами, хранящими тяжелый, терпкий запах вина и дрожжей, и оголенный сад, в котором шумел сырой, промозглый ветер.
Настороженно встретили новую хозяйку немногие обитатели поместья — помешанный на собаках и вине старый вдовец-винодел мсье Кордье, механик Симон с беременной женой, скотницы и птичницы с кучей детей, неизвестно от кого появившихся на свет.
Но светлый, хорошо обставленный дом оказался теплым, уютным. Княгине понравились его высокие, украшенные недорогими гобеленами стены, пушистые ковры на полу, мягкая мебель с приятным, слабым запахом духов и воска, огромный, всегда раскрытый рояль, который грустно и мелодично звенел при каждом шаге.
И сама княгиня, и мальчик с девочкой безукоризненно владели французским языком, они свободно говорили и с мсье Гастоном, и с редкими гостями, и с прислугой. Только одна круглая, без времени поседевшая Клуша с презрительным равнодушием слушала непонятные для нее разговоры и в ответ на просьбы княгини учить французский язык упрямо твердила:
— Какой же это язык? Одно знают — бон-бон, ви-ви, но-но, пле-пле… Разве ж это язык? Нехай уж лучше они учат русский язык, раз за хозяйку тебя признали…
Клуша тяжело, безнадежно тосковала по России, по родным местам. Целыми днями она молчала, а отводила душу вечерами, когда в ее комнату заходили дети, и она, обняв их, застенчиво всхлипывая и вздыхая, рассказывала им бесконечные сказки о жар-птице, о сером волке, о бабе-яге, о богатырях и царевичах, обо всем, что сама слышала в далеком детстве и что легло ей на сердце как самое милое, самое близкое и невозвратное.
А бывало, в воскресные вечера, когда мсье Гастон и княгиня уезжали в гости к соседям-виноделам, а Клуша оставалась в доме с детьми, она усаживалась у окна, подпирала щеку рукой, долго смотрела на пустынные холмы, на одинокие сосны вдали, тихо плакала и начинала петь хрипловато и жалостно:
Из-под ка-а-мушка, Из-под чи-истого Там тече-ет река, Река бы-и-страя…Худой, белявенький, не по годам серьезный и задумчивый «князь Петруша» и такая же худенькая синеглазая «детка-княжна Катенька», как ласково именовала своих питомцев няня Клуша, затаив дыхание и всем телом прижавшись к старухе, слушали горестную, протяжную песню о том, как донской казак шел топить свою жену, а она, плача, так же как плакала сейчас глухо поющая нянька, уговаривала грозного, жестокого мужа:
Уж ты муж, ты мой муж, Не топи ты меня, Не топи ты меня рано с вечера, А топи ты меня во глухую полночь, Когда дети мои спать улягутся, А соседи мои успокоятся…Шли годы. Но ни случайно оказавшийся в доме мсье Гастона гувернер-иезуит, который занимался с молодыми Бармиными, ни классический лицей в Бордо, куда отправили учиться юного князя Петра, не смогли вытравить из его души все, что было заложено в ней песнями, сказками и рассказами старой Клуши, никогда не забывавшей России, и это беспокоило княгиню Ирину.
С тревогой следила княгиня за сыном. Рос он тщедушным, угловатым юношей, был молчалив, любил уединение. На каникулах, приезжая на виллу «Ирен», он встречался с матерью и отчимом только за столом, часами лежал с книгой в руках в своей мансарде или, оседлав медлительного, раскормленного мула, уезжал на побережье залива и до позднего вечера шатался в дюнах.
К матери и к отчиму князь Петр относился с уважением и с безукоризненной вежливостью, но предпочитал общество сестры и совсем постаревший Клуши.
— Ничего, няня, не тужи, — говорил он старухе, — может, мы и увидим нашу Россию. Не будем терять надежды.
Клуша только горько махала рукой:
— Куда уж мне надеяться? Ты-то молодой, тебе еще путь туда не заказан. А я, Петруша, тут и загину, тут меня и похоронят в чужой земле…
Сестру князь Петр нежно любил. Ей шел семнадцатый год, и становилась она стройной красавицей, такой же, как была в молодости княгиня Ирина. На нее уже засматривались сыновья местных виноделов и виноградарей, самые настойчивые посылали ей цветы, приглашали на прогулки.
— Смотри, Катя, — говорил ей брат, — перед тобой только открывается жизнь, и ты обязана думать об этом. Счастье ведь не только в замужестве. У каждого человека должна быть высокая цель. А ты… а ты вот русский язык стала забывать, с акцентом стала говорить. Ты куда-то все дальше уходишь от меня, от няни Клуши, от России.
— В Россию нам с тобой возврата нет, — отвечала сестра, — там все разрушено, все сожжено, погребено навсегда. И мы с тобой должны все отдать стране, которая нас приютила, спасла от голодной смерти, от унизительных скитаний.
— Да, Франция великая, светлая страна, — говорил князь Петр, — я люблю ее, люблю и уважаю ее народ. Но я никогда — слышишь? — никогда не забываю о России. Это трудно объяснить. Нас с тобой увезли из России малышами. Казалось бы, все связанное с ней давно должно быть забыто. Но я помню русские поля, и леса помню, и пасхальный звон в нашей деревенской церкви, и молодого нашего отца, и могилы деда и прадеда, и русские села и хаты под соломенными крышами, и какие голубые там реки, и как светятся костры в ночном, и как хорошо пахнут снопы на молотьбе.
— Я тоже все это помню, — говорила сестра, — может быть, немножко хуже, чем ты, конечно. Но я не забываю, милый Петруша, о том, что в России власть большевиков. Я не забываю о том, что пьяные матросы убили папу, а мужики разграбили и разорили наш замок и отняли пашу землю. Как же ты вернешься в Россию? Станешь на колени перед большевиками? Будешь служить им?
— Не знаю, — устало и глухо говорил князь Петр. — Я знаю только одно, славная моя Катенька, что я без России, без русской земли, без русских людей жить не смогу…
Обычно эти разговоры брата с сестрой велись наедине, где-нибудь в саду или мансарде. Что касается мсье Гастона, то он постоянно говорил лишь о винограде и о вине. Влюбленный в жену и довольный тем, что его очаровательная Ирен руководила домом со вкусом и тактом, мсье Гастон весь ушел в хлопоты о виноградниках и предпочитал не касаться домашних дел. Два или три раза он пытался заинтересовать князя Петра рассказами о каберне-совиньон, о мерло, об оттенках, окраске, выдержке, тонкости и букете бордоских вин, о знаменитых дегустаторах и о хитростях маклеров винной биржи, но, увидев, что пасынок не интересуется этим, махнул рукой и сказал жене:
— Дорогая моя Ирен! Могу вам точно сказать, что из князя Петра винодел не получится. Видимо, мешает княжеский титул. Пусть Пьер выбирает себе дорогу сам. Не будем насиловать его волю…
Между тем с годами, прослышав о том, что один из богатых виноделов в Ландах женат на русской княгине-эмигрантке, к мсье Гастону Доманжу, особенно в сезон сбора винограда, когда рабочая сила нужна была до зарезу, стали стекаться бывшие офицеры-белогвардейцы, жаждавшие хоть какой-нибудь работы. Из уважения к жене мсье Гастон старался не отказывать им и платил не меньше, чем сезонникам-французам, приезжавшим из разных департаментов.
В один из теплых августовских дней на вилле «Ирен» появились два казачьих офицера: есаул Гурий Крайнов и хорунжий Максим Селищев. После того, что произошло в Польше, казалось, судьба больше никогда не соединит их дорог, не сведет вместе столь разных, столь непохожих один на другого людей. Получилось, однако, иначе.
Есаулу Крайнову, который в Варшаве принимал участие в подготовке к убийству советского посла Войкова, надо было, заметая следы, не только исчезнуть из Польши, но и выполнить новое секретное поручение, связанное с именем великого князя Николая Николаевича, которому зарубежные монархисты-заговорщики прочили русский императорский трон.
Оказавшись ненадолго в Чехословакии, Гурий Крайнов случайно обнаружил след своего полчанина и одностаничника Максима Селищева.
Увидев, в каком жалком положении оказался Селищев, есаул Крайнов сказал ему:
— Слушай, Максим, брось ты это. Спишь с конями, молочко на базар возишь, как самый завалящий батрак. Собирай свои вещи и поедем во Францию, там наши полчане ждут. Деньги у меня есть, на дорогу хватит…
Зная крайнюю щепетильность Селищева, Крайнов счел нужным добавить:
— Нет, нет, Максим. На деньгах моих ничьей крови нет. Я их честно выиграл в карты. Даю тебе слово офицера. И еще даю слово, что во Франции не стану тянуть тебя ни в какую политику, живи как хочешь…
Офицер Гурий Крайнов явно лгал. И на деньгах его была незримая кровь, и земляка своего он звал во Францию не случайно: насчет Селищева у есаула все еще были свои планы. Но Максим поверил ему, человеку, с которым когда-то рос, с которым не раз хлебнул горя…
В Париже Крайнов связался с агентами «Российского общевоинского союза», а те через неделю достали для него и Селищева рекомендательное письмо к мсье Гастону Доманжу и направили обоих офицеров в департамент Ланды, на виллу «Ирен».
5
Хотя молодой огнищанский помещик Юрген Раух, высланный с отцом и глухонемой сестрой из Советской России в Германию, успел обжиться в Мюнхене, успел под влиянием своего кузена Конрада Риге вступить в национал-социалистскую партию и обзавестись друзьями и любовницей, его редко покидало гнетущее состояние неудовлетворенности и тоски. Это тяжелое состояние усилилось с того дня, когда Юрген Раух похоронил отца, а младшая сестра Юргена, Христина, глухонемая неврастеничка, покушаясь на самоубийство, выпила яд и ее еле спасли.
Брат и сестра продолжали жить в доме дяди Готлиба, владельца большой аптеки. Престарелый Готлиб Риге в последние годы усиленно занялся спекуляцией. Его сын Конрад, убежденный сторонник Адольфа Гитлера и активный эсэсовец, помогал отцу в коммерческих операциях. Нагруженный отлично изданными прейскурантами и образцами новых немецких медикаментов, он часто ездил за границу, особенно в страны Ближнего Востока, заключал торговые сделки, встречался с коммивояжерами, а попутно выполнял тайные задания одного из ближайших сподвижников Гитлера, Альфреда Розенберга, который ведал зарубежными связями партии.
Энергичный, живой, напористый Конрад Риге в отличие от своего двоюродного брата никогда не унывал. Поглаживая ладонью жесткий, коротко остриженный ежик белесых волос и обнажая в усмешке дурные, темные зубы, он говорил Юргену:
— Чего ты все время киснешь, кузен? Смотреть на тебя тошно. Возьми себя в руки. Осталось недолго ждать. Мы удушим красных фронтовиков, эту тельмановскую сволочь, растопчем социал-демократических слизняков, уничтожим еврейскую гадину и вместе с Гитлером будем по-своему править Германией. Слышишь, Юрген? К этому надо готовиться. История возложила на нас великую ответственность, надо быть достойным ее. Об этом постоянно напоминает фюрер.
Обычно Юрген выслушивал слова Конрада молча, лениво покуривая или тупо глядя в пол, а однажды прямо сказал ему:
— Знаешь, Конрад, я сам не пойму, что со мной происходит. Видимо, меня тяготит положение приживала в доме твоего отца. Мы с Христиной похожи на квартирантов, которые не имеют никаких прав, хотя и пользуются расположением хозяев. Не сердись и не обижайся, но это так.
— Ты дурак, Юрген, — возразил Конрад. — Тебе отлично известно отношение к вам моего отца, я уже не говорю о себе.
Он секунду подумал и неожиданно добавил:
— Впрочем… впрочем, тебе надо жениться, Юрген. Твоя рыжая любовь Герта — это, конечно, не то. Она милая, уютная баба, но типичная шлюха, которой все равно с кем спать. А у меня есть на примете одна девка — пальчики оближешь.
Прищурив светлые, водянистые глаза, Конрад оглядел сутулую нескладную фигуру кузена, остановил взгляд на больших, покрытых веснушками руках Юргена и засмеялся:
— Правда, твой вид беглого мужика вряд ли будет импонировать Ингеборг фон Курбах, а особенно ее отцу, который кичится своим прусским юнкерским родом. А там — черт его знает! Сама Ингеборг состоит в нашем эсэсовском отряде, она по натуре романтик, и ей может понравиться такое чучело, как ты. Связь с землей, так сказать. Что же касается господина фон Курбаха, то он давно продал свое померанское поместье, накупил акций «Фарбениндустри» и стал заядлым финансистом. Кроме того, папаша Курбах тесно связан с капитаном Германом Герингом — ты этого толстяка должен помнить — и симпатизирует нашей партии. Одним словом, я тебя познакомлю с Ингеборг…
Вскоре знакомство состоялось. Ингеборг фон Курбах пригласила двоюродных братьев на вечеринку в свой загородный дом. Там собралось отборное общество: трое дюжих парней в форме эсэсовцев, несколько хорошо одетых девиц в коротких, выше коленей, юбках, молодой депутат рейхстага с очень милой, застенчивой женой. В просторном зале негромко звучал патефон, за накрытым белоснежной скатертью столом звенели хрустальные бокалы, под люстрой плавали клубы табачного дыма. Вечеринка была в разгаре.
Ингеборг понравилась Юргену. Среднего роста, золотоволосая, с тем нежным и тонким румянцем, которым отличаются блондинки, в отличие от своих вызывающе декольтированных подруг она была одета в черную, стянутую лакированным поясом, наглухо застегнутую блузу с длинными рукавами и такую же черную узкую юбку. На левом рукаве ее блузы матово белел шитый серебром шеврон — череп с двумя скрещенными костями — знак принадлежности к охранным отрядам СС.
Игриво поцеловав руку Ингеборг, Конрад нагловато ухмыльнулся и моргнул Юргену:
— Не думай, кузен, что Инга всегда прячет свою красоту под этим мрачным костюмом. Можешь не сомневаться в том, что ее талия…
Слегка шлепнув душистой ладонью Конрада по губам, Ингеборг протянула руку Юргену и сказала:
— Не слушайте этого болтуна. Пойдемте…
За столом разговор шел о репарациях, о мировом коммунистическом заговоре, о евреях, о модах. Сидя в углу, Юрген молча пил вино и лениво, со скучающим видом слушал бессвязный спор. Ингеборг, не забывая своих обязанностей гостеприимной хозяйки, украдкой посматривала на него.
Больше всех спорщиков горячился депутат рейхстага. Звали его Энно Бруннер. Не обращая внимания на умоляющие взгляды жены, он быстро и взволнованно говорил:
— Такими методами, какие проповедует ваш фюрер Гитлер, национал-социалистская партия никогда не добьется власти в Германии. Это методы средневековья. Сейчас нужны гибкость, умная тактика, умение лавировать, а вы избиваете дубинками евреев, кричите о засилье плутократов, оплевываете социал-демократическую партию…
— Правильно оплевываем, — хрипло сказал один из эсэсовцев. — Вы поставили Германию на колени, отдали ее на разграбление французским и английским удавам, лишили армии, оружия, славы.
— Господину Бруннеру, видимо, хочется, чтобы так продолжалось всегда, — сказал другой эсэсовец, — но истинные немцы больше не хотят мириться со своей безоружностью. Они силой возьмут все, что им положено в этом мире.
— Безоружностью? — переспросил Бруннер. — А вы знаете, что Германия давно уже негласно разорвала оковы Версальского договора, что она заказывает за границей и броненосцы, и подводные лодки, и танки? Вы знаете, что мы добились от американцев, французов и англичан долгосрочных займов на сотни миллионов марок? Что же, вы думаете, что в этом заслуга только господина Штреземана?[7] Нет, в этом и немалая заслуга нашей социал-демократической партии.
— Довольствуетесь крохами с барского стола? — крикнул эсэсовец, стукнув кулаком по столу. — Ждете подачек от англосаксонских плутократов? Нам наплевать на ваше социал-демократическое убожество! Как только фюрер Гитлер возьмет власть в свои руки, мы вам покажем, на что способна Германия! Мы будем владеть миром! П-понятно? Миром!
Эсэсовец был пьян. Пошатываясь, он встал, подошел к Бруннеру, издевательски взял его за подбородок и захохотал:
— Р-ребенок! Ты еще узнаешь, кто такой Гитлер!
— Садитесь на место, Дитер! — сдвинув брови, крикнула Ингеборг. — Здесь не казарма и не митинг.
На секунду наступило неловкое молчание. Кто-то завертел ручку патефона. Конрад Риге, подхватив одну из девиц, шутовски изгибаясь и прижимая к себе пышную партнершу, стал отплясывать фокстрот. Эсэсовцы, ухмыляясь, потягивали из наполненных бокалов крепкое вино и, не скрывая презрения, смотрели на обескураженного депутата Бруннера.
Ингеборг подошла к молчаливо сидевшему у окна Юргену, улыбнулась ему, заговорила ласково:
— Вас одолевает грусть, господин Раух? Не обращайте на них внимания. Сейчас мы с вами выйдем и будем любоваться лесом, последним снегом и первым дыханием весны. Я люблю это время. А вы?
Не отрывая взгляда от темного оконного стекла, за которым смутно угадывались белые пятна снега, Юрген сказал глухо:
— Я тоже люблю, Ингеборг. Я ведь вырос в маленькой русской деревне и очень люблю землю.
— Я знаю, — сказала Ингеборг. — Конрад много рассказывал о вас и о вашей судьбе. — Она коснулась рукой его плеча: — Пойдемте. Им без нас будет веселее…
Надев плащи, они вышли из дома, обогнули ограду сада и медленно пошли по лесной дороге. Лес начинался прямо за садом. При свете луны он казался совсем черным, а сквозь редкие, безлиственные вершины деревьев светилось такое глубокое и чистое небо, какое бывает только весной. На полянах еще лежал снег, но уже всюду было слышно тихое журчание талой воды. Ручейки воды стекали в неприметные лесные ложбинки, тихо звенели меж древесных корней, и весь лес был наполнен таинственными звуками: шевелились на ветвях сонные невидимые птицы, шуршали на земле сырые, еще одетые тонкой ледяной пленкой листья, и казалось, что кто-то большой и веселый радостно, облегченно дышит, встречая весну.
Ингеборг доверчиво прижалась к плечу Юргена.
— Тут недалеко есть пустой шалаш лесника и скамья, — сказала она, — давайте посидим немного, послушаем лес…
Свернув на тропу, они подошли к шалашу, присели на скамью.
— Хорошо, — сказала Ингеборг.
Она заглянула в лицо Юргена и тихо засмеялась:
— Вас, конечно, удивила моя черная униформа и мрачный знак на рукаве блузы. Ведь правда?
— Правда, — признался Юрген.
— Я это знала, — сказала Ингеборг, — и мне хотелось бы объяснить вам, чтобы вы поняли и не считали меня примитивным головорезом. Конрад говорил о вас очень много хорошего, и мне хочется поделиться с вами, как с другом.
Ингеборг снова заглянула ему в глаза.
— Мне сегодня исполнилось двадцать три года. Это много, правда? Я не могу жаловаться на жизнь. Росла в достатке, единственная дочь любящего, довольно богатого отца. Занималась философией в Лейпцигском университете. Да, да, в том самом, в котором когда-то учился наш великий Гёте. И вот, вы знаете, на моем пути оказался человек, старый философ, которого изгнали из всех университетов и объявили сумасшедшим… А он мне открыл глаза…
Склонив голову, Ингеборг помолчала, потом заговорила совсем тихо, словно думала вслух:
— Зачем живут люди, вы не скажете, Юрген? Зачем они бесконтрольно, слепо, подчиняясь только животной похоти, плодят миллионы миллионов голодных, нищих, рахитичных, туберкулезных калек, жадное и жалкое отребье, которое земля не в силах будет прокормить? Почему в этом зловонном океане слабых, никому не нужных существ должны гибнуть сильные, красивые, одухотворенные талантом люди? И не пришла ли пора во имя будущего очистить землю от массы человеческих отбросов, чтобы остались жить только те, кто достоин жизни? Что вы об этом думаете, Юрген?
Напряженный голос Ингеборг дрожал от волнения.
— Но ведь избавиться от тех, кого вы называете океаном человеческих отбросов, можно только массовым уничтожением? — сказал Юрген.
— Да, уничтожением, — подтвердила Ингеборг, — и пусть вас не пугает это. Уничтожение живой, жрущей, беспрерывно размножающейся похотливой дряни будет казаться жестоким и бесчеловечным только сегодняшним поколениям людей. А наши правнуки поблагодарят нас за то, что мы, нарушив все божеские и человеческие заповеди, уничтожили слабых во имя красивых и сильных…
Ингеборг положила теплую ладонь на руку Юргена.
— И потом… прямыми исполнителями приговора судьбы будем не мы с вами, Юрген. Нас не коснется кровь тех, кому надлежит исчезнуть. Эту некрасивую, грязную работу выполняют такие, как те, пьяные, — Ингеборг повела плечом в сторону слабо светящихся окон дома, — на большее эти примитивные ублюдки не способны. А мы с вами — судьи, только высокие судьи, которым дано право вынести смертный приговор всем лишним на земле.
Зябко поежившись, Ингеборг на секунду задумалась:
— Я плохо знаю Гитлера и его ближайших друзей, видела их несколько раз. Мне кажется, что по-настоящему интеллектуальны только двое из них — Геббельс и Розенберг. Но Гитлер победит и будет в самое ближайшее время руководить Германией, потому что в основу своей политики он положил будущее. Не то будущее, которое готовят человечеству всеядные филантропы-коммунисты с их царством божьим на земле и господством рабов, а то, которого достойны только сильные духом. Не так ли, мой милый немногословный собеседник?
В лунном сиянии, в этом свежем предвесеннем лесу тонкое лицо Ингеборг показалось Юргену прекрасным. Он закурил сигарету и заговорил, задумчиво опустив голову:
— Да, я с вами согласен. Хотя, по правде говоря, я не думал, что вы такая.
— Какая? — кокетливо спросила Ингеборг.
— Не знаю, — признался Юрген. О том, что вы говорили, я тоже думал не раз, должен был думать. Ведь в отличие от вас мне пришлось многое испытать. Отец у меня был очень добрый человек, труженик. О нем никто не мог сказать, что он помещик-зверь, эксплуататор. Мы жили в России честно. У нас была земля, было свое небольшое, очень небольшое поместье. Отец помогал всем в Огнищанке. Так называлась русская деревня, в которой мы жили. Десять лет тому назад огнищанские мужики лишили нас всего.
Юрген вздохнул, несколько раз затянулся крепким табачным дымом.
— Если бы вы, Ингеборг, знали, как это обидно и как унизительно, когда все, что нажито вами, каждый предмет, близкий вам с детства, у вас нагло отбирают, а вас выгоняют из дома, и вы становитесь бесправным изгоем, который не может даже защищаться. Мы полтора года прожили в полуразрушенной мужицкой хибарке, дымной и грязной. Там умерла моя мать, и никто из односельчан не пришел ее хоронить, потому что она была немкой и помещицей. Мы с отцом сами сколотили из старых ящиков гроб и похоронили мать сами…
Ингеборг с жалостью посмотрела на низко опущенную голову Юргена.
— Не надо об этом, — мягко сказала она, — мне все рассказывал Конрад. Я понимаю, как вам тяжело.
— Нет, — сказал Юрген, — все это давно пережито. Остались лишь горькие воспоминания. И еще осталось желание когда-нибудь вернуться в Огнищанку, чтобы рассчитаться за все: за погубленную мерзавцами мать, за отца, за себя, за ограбленный наш дом, за оскверненную землю… за все…
Ингеборг поднялась со скамьи:
— Пойдемте, нас ждут. А рассчитаетесь вы за все. Не только за мать и за поруганную землю. Будем надеяться, что мир поумнеет и настоящие люди осознают наконец свою силу. С надеждой на это я и стала членом национал-социалистской партии и надела эту черную форму охранных отрядов…
Они медленно пошли по дороге к дому. У самой ограды Ингеборг остановилась, взяла Юргена за лацканы плаща и сказала, улыбаясь:
— Признайтесь честно, Юрген: что вы обо мне подумали? Молчите? Тогда я сама отвечу. Вы подумали: красивая, заманчивая девка, но, к сожалению, с ней не разгуляешься, потому что ничего женского в ней нет. Этакий солдат в юбке, да к тому же и кровожадный. Верно?
Пожалуй, это соответствовало тому, что Юрген думал, однако соответствовало не совсем: Ингеборг ему понравилась, но он еще не отдавал себе отчета, чем именно.
Взяв ее за руку, он сказал:
— Вы ошибаетесь. Я ведь очень одинок, Инга. Полупомешанная немая сестра, вечно занятый своими делами дядя и Конрад, которого я редко вижу, — вот все мои близкие. И мне остается запах дядиной аптеки, скучные склянки, колбы, рецепты и нудная бессонница.
— А Герта? — вдруг лукаво спросила Ингеборг. — Почему вы не упоминаете о любовнице? Из-за вечного желания мужчин иметь любовниц побольше или потому, что вам не хочется говорить о Герте именно мне? Если второе, то это мне нравится.
«Откуда она знает? — краснея, подумал Юрген. — Неужели Конрад, скотина, проболтался? Не может быть».
Не отнимая рук, он сказал:
— Раз я не назвал Герту в числе моих близких, значит, видимо, имел на это основание. Герта — случайная связь.
— Хорошо, я вам верю, — сказала Ингеборг, — во всяком случае, мне хотелось бы верить… И еще мне хотелось бы, чтобы я вам нравилась, потому что я тоже очень одинока. Слышите, милый деревенский медведь? Очень одинока…
С этого вечера Юрген Раух стал бывать в доме Ингеборг. Ее отец, доктор Зигурд фон Курбах, высокий, стройный человек с пышными седыми волосами, привлек Юргена своими аристократическими манерами: одевался он просто, но со вкусом истинного денди, курил дорогие гаванские сигары, носил старомодный монокль, хотя почти не пользовался им. Был он остроумен, умеренно циничен и насмешлив. Так же как дочь, доктор Курбах в свое время занимался философией в Лейпцигском университете, но кроме этого окончил юридический факультет в Страсбурге.
Бывшее поместье Курбахов, проданное доктором, находилось рядом с поместьем президента Гинденбурга в Померании. Фельдмаршал-президент помнил покойного Пауля Курбаха, своего соседа и однополчанина, и по старой памяти благоволил к его сыну Зигурду.
Юргена доктор Курбах принял благожелательно. От дочери он уже знал его печальную историю и потому был с ним ласков и почти не расспрашивал молодого Рауха о прошлом. Над связью дочери с гитлеровской организацией и над ее вступлением в охранный отряд СС Зигурд фон Курбах слегка посмеивался, однако не мешал Ингеборг. Сам доктор ни к какой партии не принадлежал.
Однажды за обедом, в присутствии Ингеборг, Юргена и Конрада, вслушиваясь в их споры о Гитлере, Штрассере, об охранных отрядах и о деятельности национал-социалистской партии в разных городах Германии, доктор Зигурд фон Курбах вытер салфеткой губы, засмеялся, вынул из кармана и положил на стол бумажник с золотой монограммой.
— Эх вы, молодежь, — усмехаясь, сказал доктор, — деятельностью вашей партии управляет вот эта штука. — Он побарабанил пальцами по бумажнику. — И Гитлером, и партией, и эсэсовскими отрядами командуем мы, истинные хозяева Германии, в чьих руках деньги, заводы, шахты. Без нас вы ничто, нуль. И вы должны знать об этом, хотя это и не подлежит оглашению.
— Но, отец, кроме денег должна быть еще идея, которая могла бы увлечь народ, — с обидой в голосе сказала Ингеборг, — а ты этого не понимаешь.
— Отлично понимаю, — орудуя зубочисткой, спокойно сказал доктор, — поэтому мы и оплачиваем идею Гитлера, которая нас вполне устраивает…
Хотя умный, откровенный цинизм доктора несколько претил Юргену, он все больше привязывался к дому Курбахов. Ему все нравилось в этом доме: ослепительная чистота, традиционный прусский порядок, искренняя любовь к Германии, гостеприимство. Но с каждым днем Юргену Рауху все больше нравилась сама Ингеборг, с ее силой, убежденностью, светлым умом, с ее глубоко скрытой женственностью. Юрген понял, что встреча с Ингеборг не может не оставить след в его судьбе. И он стал забывать прошлое, когда-то любимую им русскую девушку Ганю, все, что хотя бы в воспоминаниях еще связывало его с далекой глухой Огнищанкой.
6
Над Огнищанкой бушевала первая весенняя гроза. С запада, клубясь и сталкиваясь, медленно плыли изжелта-лиловые тучи. Громыхали раскатистые взрывы грома. Ослепительно белые молнии полосовали небо до самого горизонта. Кое-где в разрывах туч на мгновение проглядывало майское солнце, и тогда зеленые озими на склонах холмов ярко и, радостно светились. Дождя еще не было. На пыльную дорогу падали только первые крупные капли, да выжидательно шелестела листва настороженно притихшего леса, но воздух уже был прохладный и резкий, до самой земли насыщенный свежим запахом влаги. Сверкающая пелена дождя, словно слегка колеблемая кем-то серебристая завеса, неуклонно приближалась к холмам.
Придерживая на плече палку с подвязанными к ней солдатскими сапогами и подвернув штаны выше коленей, Андрей Ставров шел по дороге из Пустополья в Огнищанку. Узкая проселочная дорога то петляла по склонам холмов, то терялась в гущине леса, огибая непролазную чащобу молодых дубов и вязов.
Студенты сельскохозяйственного техникума, в котором учился Андрей, были отпущены на короткие весенние каникулы. До станции Шеляг Андрей доехал поездом, оттуда до Пустополья его подвез на лошадях районный кооператор, а из Пустополья ему пришлось идти пешком.
Шел Андрей неторопливо, поглядывая на вспышки молний в темных тучах, наслаждаясь свежим воздухом, майской красотой знакомых полей на холмах, сочной зеленью леса. Около года он пробыл в техникуме, вдали от дома, успел привыкнуть к новым товарищам, к преподавателям и сейчас вспоминал старый княжеский замок на мысу, и хлопотливого дряхлого Северьяныча, и домовитого, любящего землю агронома Кураева, и механика-латыша Берзина, который так хорошо знал американские тракторы и заставил студентов полюбить сильные, умные машины.
Но с особой любовью и уважением Андрей Ставров вспоминал преподавателя садоводства Егора Власовича Житникова. Этот высокий человек с крупным носом, грубоватый, резкий и требовательный, вначале не понравился студентам. Только потом, когда наступили весенние дни и началась работа в саду, студенты поняли и оценили характер Житникова, его знания, его необыкновенное умение по-своему чувствовать ту сложную жизнь, которой живет каждое дерево…
Притихшие перед грозой деревья в лесу — и старые с темной, шершавой корой великаны, и тонкие деревца загустевшего подлеска — напомнили Андрею его мудрого учителя, и он с чувством благодарности подумал о Егоре Власовиче Житникове.
Думал Андрей и о Еле Солодовой. Он не мог не думать о ней. За время его пребывания в техникуме он видел Елю несколько раз и с каждой новой встречей все больше влюблялся в нее, доходя в своей неистовой безответной любви до странной робости перед этой красивой кокетливой девушкой. Робость свою Андрей скрывал под показной бесшабашностью, держал себя этаким фертом, играл роль залихватского парня, чтобы никто не догадался, что происходит в его душе.
Еля училась в музыкальном училище. Иногда Андрей встречал ее на городских улицах в окружении новых подруг, таких же красивых, чистых, хорошо одетых девушек. Почти все они уже детали прически у парикмахеров, некоторые тайком от родителей подкрашивали губы, а возвращаясь домой, аккуратно стирали следы помады, чтобы не получить нагоняй от суровых отцов и матерей.
Как они были не похожи, эти городские девушки с их нежной и тонкой кожей, надушенными волосами, с розовыми ноготками на белых, не знавших работы руках, на знакомых Андрею обожженных солнцем молчаливых огнищанских девчат-работяг! Андрей понимал, конечно, что Елины подруги в ярких платьях и в модных туфельках не бездельницы, что каждая из них станет музыкантом, врачом, учителем, что они будут приносить пользу людям, но, понимая это, он почему-то относился к ним с предубежденностью, а зачастую с открытой, вызывающей неприязнью. Возможно, объяснялось это тем, что однажды произошел случай, который очень обидел Андрея…
Сейчас, шагая лесной дорогой, размахивая хворостиной и вслушиваясь в шуршание палых листьев под босыми ногами, Андрей вспомнил этот случай, и вновь его обожгло чувство горькой обиды.
Было это так. Как-то, встретив Андрея на набережной, Еля поговорила с ним о техникуме, передала привет от Павла Юрасова и между прочим сказала: «Приходи к нам в воскресенье, Павел будет, он, кажется, скучает по тебе». Обрадованный, Андрей пообещал прийти. До воскресенья он считал не только дни, но и часы, лекции слушал рассеянно, думал о предстоящей встрече с Елей, на вопросы товарищей о причине его «тихого помешательства» не отвечал. В субботу он постирал свою лучшую синюю рубаху-косоворотку, брюки положил на ночь под матрац, начистил ваксой тяжелые сапоги, а в воскресенье, приодевшись и еле дождавшись полдня, помчался, задыхаясь от счастья, к Солодовым. Только перед знакомой, выложенной из камня оградой Андрей умерил бег, отдышался, открыл калитку и нерешительно, словно раздумывая, поднялся по шаткой деревянной лесенке на второй этаж.
Ни Елиных родителей, ни Павла Юрасова не было. Еля сидела в столовой в окружении трех подруг. Девушки, весело переговариваясь, грызли орехи и пили чай с пирожными. Андрей поздоровался, присел на стул, от чая отказался.
С его приходом наступило неловкое молчание. С нескрываемым любопытством посматривая на Андрея, девушки переглядывались, улыбались. Все они знали, что этот неуклюжий парень с таким смешным деревенским чубом давно влюблен в Елю.
Скрывая привычную робость и проклятую свою застенчивость, Андрей небрежно развалился на стуле, закурил, закинул ногу за ногу, вдохнул отвратительный запах дешевой ваксы, который издавали его до зеркального блеска начищенные сапоги, покраснел и сказал, глядя в пол: «Сыграй что-нибудь, Еля». Помедлив, Еля села к пианино, полистала ноты и, потряхивая пушистыми волосами с лиловым бантом, что-то сыграла.
В это время из соседней комнаты выбежала маленькая лохматая собачонка, ткнулась черным носом в сапог Андрея и уставилась на него, изумленно тараща глаза. Андрей взял собачонку, посадил ее на колени и, ласково поглаживая, спросил: «Еля, как ее зовут?» Еля слегка смутилась и ответила: «Рюшка». И вдруг все девушки захохотали. Ничего не понимая, Андрей переспросил: «Как? Рюшка?»
Раздался еще более звонкий, заливистый хохот. «Перестаньте, девочки», — хмуря брови, сказала Еля. А к Андрею подбежала самая живая и самая насмешливая из Елиных подруг Аля Бойзен, выхватила у него собачонку и сказала, захлебываясь от смеха: «Не Рюшка! Андрюшка! Она бегает за Елкой по пятам».
Бледный от обиды и негодования, Андрей поднялся, прищурив глаза, посмотрел на Елю, медленно повернулся и вышел, стуча сапогами. Несколько дней он ходил как в воду опущенный, а вечерами, прячась от товарищей, черкал страницу за страницей в заветной своей тетради. Андрей давно пробовал писать стихи, был без ума от стихов Сергея Есенина, и ему захотелось красиво и горестно сказать Еле о своей любви к ней и о той злой обиде, которую с такой наивной, ребяческой жестокостью ему нанесли. Он писал неумелые взволнованные строки о милой его сердцу Огнищанке, об унылых полях, о конях и коровах, о своей любви к земле, деревьям и травам. Заканчивались стихи Андрея так:
И теперь могу сказать вам честно: То, что было, я давно забыл, Потому что все, что бессловесно — Пенье птиц и ржание кобыл, — Ближе мне, чем вы. Чего же плакать? Я роднее безъязыким им, И я рад, что вы свою собаку Окрестили именем моим…Андрей запечатал стихи в конверт, надписал адрес Ели, опустил письмо в почтовый ящик и твердо решил, что с Елей должно быть все покончено…
Однако здесь, в лесу, шагая по дороге, любуясь сочным разнотравьем на полянах и могучими кронами дубов, он вспоминал последнюю встречу с Елей, и горячее, томящее и сладостное чувство любви к ней опять захлестнуло его. Он, словно наяву, увидел Елю, пристальный улыбчивый взгляд ее светло-серых глаз, круглый, капризный подбородок, слегка склоненную набок голову с неизменной лиловой лентой, стягивающей на затылке темные негустые волосы…
Сверху, над вершинами деревьев, пушечным залпом грохнул гром, раскатился затихающим эхом вдали, и сразу пошел дождь. Андрей прибавил шагу, потом побежал, на бегу отыскивая взглядом место, где можно укрыться от дождя. Частые молнии озаряли лес трепетным, неестественно белым светом, и в эти мгновения резко и четко были видны каждая извилина на мокрой коре деревьев, вырезы листьев, сплетения обнаженных в водомоинах корней. Потом лес погружался в темноту, чтобы через секунду вновь явиться в этом неземном, ослепительно ярком свете.
Мокрый Андрей, сутулясь, сплевывая воду, спотыкаясь в залитой лужами колее дороги, побежал в сторону, огляделся и стал под исполинским густолиственным вязом. Дождь лил как из ведра. По лесным балкам неслись мутные, пенистые потоки воды. Вверху, над лесом, грохотало, бесновалось небо. Ливень сбивал с деревьев листья, шумел в ветвях. Вдруг сразу посветлело, грозовые тучи проплыли на восток. На дымчатой завесе туч волшебно засветилась радуга. Воздух стал таким чистым, таким пьяняще-свежим, что казалось, вдохни его всей грудью — и он мягко поднимет тебя и, ласково покачивая, понесет над лесом, над холмистыми полями, над дорогами, над омытой, сверкающей дождевыми каплями весенней землей.
Поеживаясь от холода, Андрей быстро разделся, выжал белье, мокрые штаны и рубаху, бросил их на ветку вяза, а сам, голый, охваченный диким восторгом, стал приплясывать, громко и радостно подпевая:
Рата-тата-тита! Рата-тата-тита! Рата-тата-тита! Рата-там!Он пел, прыгал, рычал, бил себя ладонями по животу и по бедрам, ржал, как взбесившийся от озорства конь-стригун. Каждой кровинкой он чувствовал свое молодое, сильное, мускулистое тело, ощущал каждый толчок сердца, раздув ноздри, вдыхал запахи земли и, по-звериному сатанея от невыразимо радостного счастья, от этой сияющей радуги, от хрипловатого, призывного крика кукушки и воркования бесчисленных горлиц, плясал, выл, вслушивался, как несутся по лесу отзвуки его воя, и ему казалось, что весь он слился с солнцем, с землей, с птицами и стал живой каплей неизмеримо великого, необъятного, прекрасного мира…
Вдруг дикарскую пляску голого Андрея прервала выбежавшая из-за кустов рябая корова. Следом за коровой спешила мокрая Таня Терпужная. Замерев от изумления и узнав кинувшегося в чащу Андрея, она крикнула:
— Тю на тебя, скаженный!
Нахлестывая корову хворостиной, Таня бросилась бежать…
Андрей надел влажное белье, походил по поляне, выбрал из промокшей пачки папиросу посуше, закурил. Солнце уже светило вовсю, и только далеко за горизонтом слышалось смутное ворчание затихающего грома. На дороге, отражая бездонное, глубокой синевы небо, блестели лужи. Лес наполнился хлопотливыми голосами птиц.
Надев штаны и сорочку, Андрей закинул за спину сапоги, вышел на лесную опушку и стал подниматься на холм. На зеленой вершине холма он остановился. Внизу была видна Огнищанка. В груди у Андрея сладко заныло. Только теперь он понял, как там, в далеком городе, в полуразрушенном княжеском замке, ему недоставало этих белых изб под соломенными крышами, и колодезного журавля в долине, и сбегающих с холмов протоптанных скотом тропинок, и подступивших к самой деревне полей, и всего того, чем он жил в годы детства и что давно уже стало для него близким и дорогим.
И еще Андрей понял, что, не признаваясь в этом самому себе, он скучал по отцу и матери, по братьям и сестрам. Тяжкие годы голода, поиски куска хлеба, трудная работа в поле и дома, постоянное желание помочь друг другу и защитить друг друга от любого несчастья связали семью Ставровых незримыми узами, и, хоть не было в этой семье показного проявления любви и ласки, а, наоборот, постоянно было взаимное полушутливое подзуживание и даже общая грубоватость, все в деревне знали, что дружнее, чем Ставровы, в Огнищанке, пожалуй, никого не найдешь. Андрей впервые так глубоко почувствовал это после разлуки, стоя в одиночестве на вершине холма и предвкушая радость близкой встречи с родными…
Не доходя до первой огнищанской хаты, Андрей остановился и надел сапоги. Он считал, что ему, студенту техникума и завтрашнему агроному, зазорно идти по деревне босиком. Пригладив влажные волосы, сунув в рот папиросу, он степенно зашагал по улице.
У крайней хаты растолстевшая Тоська Тютина, раскидывая из подола зерна кукурузы, кормила голубей. Увидев Андрея, она приложила ладонь к глазам, узнала его и закричала:
— Глянь, Капитон, Андрюха Ставров заявился!
Откуда-то из-за угла сарая показалась голова заспанного Капитона.
— С прибытием вас, товарищ студент, — сказал он.
Андрей поздоровался с Тютиным. Тоська, по-утиному передвигая заголенные толстые ноги, подошла к калитке. Хотя Андрею были известны веселые Тоськины похождения, ее распутство и открытая связь с парикмахером Гаврюшкой Базловым, даже она, эта гулящая баба, сейчас показалась ему близкой, огнищанской, своей.
— Ну, здравствуйте, кавалер, — улыбаясь ярким ртом, сказала Тоська и протянула поверх калитки измазанную глиной и навозом жесткую руку. — Скучали небось по своим? А ваши все чисто съехались до дому, и Роман с Федей, и Калечка с Таей. Так ваша мама рада, не дай бог. Да как же матери не радоваться? Все дети по разным школам учатся, когда-то учеными будут…
Дома Андрея встретил общий радостный крик. По случаю грозы и ливня в поле делать было нечего, все оказались в сборе. Дмитрий Данилович только слегка обнял сына и похлопал его по спине, мать поцеловала в щеку, братья стояли улыбаясь, зато босые вихрастые девчонки, повизгивая и перебивая одна другую, повисли на нем.
Выждав, пока девочки угомонились, Дмитрий Данилович пошел с сыновьями по двору, чтобы показать старшему хозяйство. Трое братьев Ставровых шли за отцом, понимающе переглядывались: мол, любит батя прихвастнуть.
Андрея удивляло и радовало все: и то, что, несмотря на его отсутствие, во дворе были чистота и порядок, что кони и коровы были ухожены и сыты. Но больше всего удивляло его то, как за последний год выросли и возмужали его братья, родная и двоюродная сестры.
Роман вытянулся так, что был уже едва ли не выше Андрея. Смуглый, кареглазый, с темным, свисавшим на правую бровь чубом и с большими, сильными руками, он был быстр в движениях, горяч и вспыльчив. Эта унаследованная от отца вспыльчивость роднила его с Андреем. Учась на рабфаке, Роман давал волю своей фантазии: то он хотел стать геологом, то вдруг собирался после рабфака поступать в авиационное училище, а в последнее время заговаривал о лесном институте.
Выросли и девчата. Им пошел пятнадцатый год, платья казались на них короткими и тесными. Двоюродные сестры были очень непохожи одна на другую: Каля крепкая, голубоглазая, с густыми, пышными, золотисто-рыжими волосами и с веснушками на носу, а Тая тонкая, как тростинка, гибкая, с черными глазами и мягкими каштановыми кудряшками.
Почти не изменился только самый младший — Катышок Федя. Он остался таким же маленьким спокойным мужичком, рассудительным и хозяйственным. Дмитрий Данилович любил его больше всех детей, был уверен, что Федя один будет настоящим земледельцем, и не знал, какую каверзу готовил отцу его неразговорчивый любимец, втайне мечтающий о военном училище…
Обедали долго и весело, усевшись, как всегда бывало, во дворе, под тенью старого клена, за низким, не выше аршина, вкопанным в землю столом. Говорили больше молодые.
— Замок, в котором находится наш техникум, — рассказывал Андрей, — конфискован у князей Барминых. Самого князя, говорят, расстреляли красные, а куда делась княгиня с детьми, никто не знает. Замок в годы революции здорово разорили. Правда, осталась кое-какая мебель да тысяч пять или шесть книг, которые уцелели после пожара. Из бывшей княжеской прислуги там у нас живет один дед, его зовут Северьян Северьянович, так он рассказывал мне, как в восемнадцатом году пьяный мужичок привел к замку худющую коровенку, запряг ее в княжескую карету с гербами и с зеркальными стеклами, поехал по селу и кричал, чтобы ему все кланялись и называли его «ваше сиятельство».
— Хорош князь, — усмехнувшись, пробасил Роман.
— Мало ли на свете дураков, — сказал Федя, — за эту карету тысячи рублей уплачены, а пьяный дурак небось на дрова ее порубил. — Федя подумал и добавил: — В такой карете свободно могли бы ездить председатель сельсовета или начальник милиции… Правда, Андрюша?
— Правда, Федя, — пряча улыбку, сказал Андрей.
После обеда Андрей повалялся немного на сеновале, а перед вечером пошел в деревню. У колодца, покуривая и полузгивая семечки, сидели парни: здоровенный Трифон Лубяной, злой на язык Тихон Терпужный, Шкалик — Антошка Шабров и лишь недавно оправившийся после покушения на него первый огнищанский селькор Коля Турчак. Андрей подсел к ним. Коротко рассказав парням о техникуме, он спросил:
— Ну а у нас тут что нового?
— Чего ж тут может быть нового? — пожав плечами, сказал Трофим Лубяной. — Пашем, сеем, волам хвосты крутим…
Большеголовый, низко остриженный Коля Турчак заговорил тихо, ни к кому не обращаясь:
— Новое есть. Теперь у нас не волость, а район. Пустопольский район, так и называется. По уезду кое-где стали колхозы организовываться. Савва Бухвалов, тот, что был председателем коммуны «Маяк революции», опять, говорят, народ на колхоз подбивает. Коммуна-то разбежалась, ну а Бухвалов не сдается: не желаете, мол, коммуну, давайте артелью работать, колхозом.
Взглядом, полным нескрываемой ненависти, Тихон Терпужный с головы до ног окинул Колю.
— Колхозы, Коля? — издевательски сказал Тихон. — Погоди, друг сизый, нам эти колхозы еще зальют сала за шкуру. Оно конечно, таким вековечным лодырям, как Тютин Капитошка или же, к примеру, твой папаша, колхоз одно спасение будет — все равно на боку лежать. А мне, скажем, на черта он нужен, твой колхоз? Я день и ночь работаю, сыт, одет, обут. Верно? Верно. Так я ж зараз на себя работаю. Понятно тебе, Коля? На се-бя! А в колхозе меня заставят гнуть спину на Капитошку, на твоего папашу, на Николку Комлева, на любого голодранца, который будет на печке лежать, а мне заглядывать в рот…
— Ладно, Тиша, — примирительно сказал Трифон Лубяной, — до нас еще колхозы не дошли, а может, и не дойдут. Чего ж раньше времени один другому глотку рвать?
В этот вечер Андрей Ставров узнал все огнищанские новости: как трое братьев Кущиных избили на базаре цыган-конокрадов; как деду Сусаку в районной больнице вырезали килу; как Ларион Горюнов заколол вилами прибежавшую из Костина Кута бешеную собаку. Парни рассказали Андрею о том, что в первый день рождества умерла давно болевшая жена Ильи Длугача Люба, и что перед ее могилой он не плакал, а стоял «прямо-таки черный от горя», и что председатель сельсовета Длугач хозяйнует теперь со своим приемышем-сиротой Лавриком, который когда-то батрачил у Антона Терпужного…
За деревней, где-то над невидимым прудом, взошла большая красноватая луна. К колодцу подошли двое запоздалых телят, уткнули головы в деревянное корыто и стали пить, сладко причмокивая. В окнах засветились смутные огоньки лампад и керосиновых ламп. На Огнищанку опустилась с мирного неба поздняя вечерняя тишина, когда каждый отдельный звук — проскрипит ли колодезный журавель или закудахчет во сне испуганная чем-то курица — только подчеркивает эту нерушимую тишину засыпающей деревни…
Покуривая папиросу, Андрей молча выслушивал смешные и печальные огнищанские новости, вдыхал запахи влажной после дождя земли, древесной коры, горьковатого кизячного дыма, который лениво струился из труб деревенских изб и долго держался в узкой, зажатой холмами долине. И все, о чем узнал в этот вечер Андрей Ставров: и смерть Любы Длугач, и отвага Лариона, убившего бешеную собаку, и мелкие ссоры замордованных работой женщин, — все показалось ему сегодня значительным, близким, потому что это было жизнью простых, дорогих его сердцу людей, среди которых он, Андрей, жил и рос…
Наиболее же значительным и важным показалось Андрею то, что он услышал в эти дни о колхозах. И хотя разговоры о колхозах были разные, говорили об этом все, кого, даже случайно встретив на единственной огнищанской улице, видел Андрей.
Хмурый Антон Терпужный после пытливых расспросов: «чего там в городе решают про колхозы» — задумался и проговорил, тяжело ворочая языком:
— Удавят нас этими колхозами до смерти…
Похудевший после смерти жены Илья Длугач, выслушав рассказ Андрея о встрече с Терпужным, сказал печально и зло:
— Много мы еще горя хлебнем с этой кулацкой сволочью. Насчет колхозов думка есть серьезная. Зараз у нас в стране числится двадцать пять миллионов крестьянских хозяйств. Смекаешь, товарищ студент? Двадцать пять миллионов! И каждый хозяин действует по-своему, он, как это говорится, сам себе агроном: хочет — пшеницу сеет, хочет овес, хочет — ячмень, а хочет — ни хрена не сеет, бурьяны на полях выращивает. А что это значит? Это значит, на советской земле есть двадцать пять миллионов отдельных хлеборобских государств. Поди управься с ними, руководи такой лигой наций, соблюдай социалистическую плановость! Чтобы мы могли устоять перед врагом и к коммунизму двигаться, надо переходить на колхозы. Ясно, товарищ студент? Об этом и Ленин и Сталин говорят, и другой дороги у нас нет…
Однако так, как думал Длугач, в Огнищанке думали немногие. Андрей в этом убедился. Пожалуй, только бывший кавалерист из прославленной дивизии червонного казачества Демид Плахотин, Николай Комлев, над которым Антон Терпужный в голодный год хотел учинить самосуд, дед Силыч да одинокая вдова, тетка Лукерья, поддерживали председателя сельсовета, робко заговаривая о том, что при колхозе люди, может, лучше будут жить.
Двое огнищан при таких разговорах упорно молчали — Тимофей Шелюгин и Степан Острецов. Молчали они по разным причинам. Зажиточный Шелюгин числился по району в секретном пока списке кулаков, краем уха слышал об этом и решил, что ему лучше держаться в стороне и никому не высказывать своего мнения. Степан Острецов уже много лет жил двойной жизнью. Работая секретарем сельсовета, он вместе с тем был главным командиром тайного контрреволюционного повстанческого отряда в Ржанском уезде, о чем знал только живший на отшибе в Казенном лесу угрюмый лесник Пантелей Смаглюк, связной Острецова. Весной, когда слухи о коллективизации стали шириться и распространяться по всему уезду, Острецов приказал своему отряду, разбросанному по разным селам и деревням, быть в боевой готовности и ждать его приказа. Сам Острецов аккуратно приходил в сельсовет, просиживал положенное время за столом и скромно помалкивал.
Что же касается большинства огнищан, то они говорили о колхозах каждый день, в поле и дома, говорили тревожно и растерянно, не зная, как все обернется, а некоторые безнадежно махали рукой — моя, мол, хата с краю, как будет, так и будет…
В один из вечеров заговорил об этом с семьей и Дмитрий Данилович. После ужина, пригладив темные усы и закурив папиросу, он долго смотрел в глубокой задумчивости на мерклый огонек лампы, стучал пальцами по столу, вздыхал, а когда Настасья Мартыновна с девочками домыли посуду, подсели поближе к лампе и занялись вышивкой, заговорил тихо и медленно:
— Вот я о чем думаю и что хотел вам сказать… Семь лет прошло с той зимы, когда мы приехали сюда и стали тут жить. Вы, конечно, помните, какая это была страшная зима… Если бы не земля и не наш труд, мы все подохли бы с голода… В тот год мы получили земельный надел и начали работу на голой земле. У нас не было ни коней, ни плуга, ни бороны. Ничего не было, были только наши руки…
Удивленные тем, как серьезно, в глубоком раздумье говорил все это Дмитрий Данилович, все молчали, переглядываясь. А он продолжал:
— Мы отдали земле все, что могли отдать, работали от зари до зари, ни праздников не знали, ни отдыха… Если говорить по правде, я даже стал забывать свою медицину, то, чему меня учили, по целым дням, бывало, не заглядывал в амбулаторию, а фельдшерскую свою зарплату получал.
Словно желая оправдать себя, Дмитрий Данилович сказал:
— Конечно, винить я себя не могу. Больных тут почти не было. В кои веки явится кто-нибудь из старух или позовут к простуженному. Так и получилось, что с каждым годом я глубже и глубже залезал в навоз, думал только о земле, о хозяйстве…
Дмитрий Данилович оглядел молчаливо слушавшую его семью, снова стал постукивать пальцами по столу.
— В нас никто тут не верил. Помните, что семь лет назад говорили про нас огнищане? Белоручки, мол, заявились, ни к чему не годные интеллигенты, а туда же, за землю хватаются, чтоб только шкуру свою спасти. Их, мол, Ставровых, куры на земле заклюют… А теперь что ж? Теперь у нас все есть: и добрые кони, и плуги, и сеялка, и все, что положено иметь в справном хозяйстве. И это не чужим трудом нажито, не чужим горбом…
За стеной дома, в конюшне, глухо затопали ногами лошади и умолкли. Дмитрий Данилович прислушался, закурил.
— Я, собственно, вот о чем хотел сказать, о чем хотел посоветоваться с вами… Насчет коллективизации есть твердое решение последнего партийного съезда. Частному крестьянскому хозяйству приходит конец. Везде будут только колхозы. Будет, конечно, колхоз и у нас в Огнищанке, если не в этом году, то в следующем. И я… я… — Голос Дмитрия Даниловича дрогнул. — Я хотел прямо спросить у вас: что будем делать?
Все молчали. Взволнованный Андрей вынул коробку с папиросами, ломая спички, прикурил. Братья и сестры давно знали, что он курит, но при отце и при матери Андрей закурил в первый раз. Дмитрий Данилович только глянул на него исподлобья.
Настасья Мартыновна подняла голову, воткнула иглу в отложенную вышивку.
— А что ж делать, — сказала она, — кончать надо с землей. Дети подросли, каждый из них свою дорогу выбирает. Или ты, может, в колхоз хочешь вступить и детей за собой потянуть, чтоб они всю жизнь оставались неучами?
— Я ничего не хочу, — сказал Дмитрий Данилович, — я только спрашиваю: что делать дальше?
— Продать лошадей, корову, телегу, косилку, сдать землю в сельсовет и уезжать отсюда, вот что надо делать, — твердо сказала Настасья Мартыновна и вдруг заплакала. — Если… если я все свои силы отдала этой проклятой земле, вставала до света, ложилась в полночь, здоровье свое потеряла, то не ради косилки или веялки — чтоб они сгорели! — а ради детей. И я больше не могу.
Она повернулась к Андрею и, всхлипывая, сказала с неожиданной злостью:
— А ты чего молчишь, дорогой старший сын и наследник? Чего в рот воды набрал? Почему честно не скажешь отцу, что ты думаешь?
— Перестаньте, тетя Настя, — укоризненно сказала Тая, — при чем тут Андрюша?
С жалостью смотрел Андрей на низко склоненную над столом голову отца. Властный, горячий, решительный, никому не дававший спуска, отец сидел сейчас перед детьми подавленный и растерянный, и как будто впервые увидел Андрей, как за эти годы поседела его темная кудрявая голова.
— Ты свою истерику прекрати! — грубо сказал Андрей матери. — Ваше с отцом дело решать, как поступить. А я что ж, за себя я могу сказать. Только за себя одного… Будут колхозы, не будут, я все равно вернусь к земле. Сюда ли, в Огнищанку, или в другое место, но я вернусь к земле. Для этого я учусь.
— А мне на все наплевать, — вдруг сказал Роман, — у меня свои планы, и, чтобы вы тут ни решили, я к земле не вернусь никогда.
— Слышишь? — крикнула Настасья Мартыновна мужу. — Так же думают и девочки, и Федя.
— И Федя? — переспросил Дмитрий Данилович, недоверчиво глядя на своего любимца.
Тот спокойно выдержал отцовский взгляд, почесал затылок и сказал:
— Мне что скажут, то я и буду делать, пока закончу школу. А потом я поступлю в военное училище.
Дмитрий Данилович поднялся, долго ходил по комнате, заложив руки за спину.
— Ну что ж, — сказал он, — значит, получается так, что я в голодный год для вашего спасения забросил свою фельдшерскую работу и занялся землей, а теперь ради вас же должен бросить землю и запереться в амбулатории? Так? И выходит, что я дважды дезертир. Хорошее дело. К тому же все огнищане скажут, что я от колхоза сбежал.
Он остановился у стола, подкрутил фитиль лампы и сказал с привычной властностью:
— Хватит. Собрание закончено. Нечего керосин жечь, ложитесь спать. Завтра утром пойдем полоть озимую пшеницу…
С рассветом, едва только забрезжила утренняя заря, вся семья Ставровых отправилась в поле. Пока ехали в поле, пока выпрягали лошадей, взошло солнце.
— Любите вы спать, — проворчал Дмитрий Данилович.
В поле никого из огнищан не было, а когда поднялось солнце, приехали Тимофей Шелюгин с женой и председатель сельсовета Длугач с приемным сыном Лавриком. Они тоже выпрягли лошадей, пустили их в лес, а сами принялись за прополку своих участков.
На ставровском поле почти нечего было делать. Ранней осенью Дмитрий Данилович засеял это поле отборными, очищенными и протравленными семенами, и оно лежало зеленое, ровное, как бархат. Только слева и справа, на межах видны были редкие бурьяны. Туда, к этим межам, и пошли молодые Ставровы.
С участком Ставровых граничил участок Капитона Тютина, тоже как будто засеянный озимой пшеницей. На это поле страшно и жалко было смотреть: плохо вспаханное, кое-как засеянное, оно все заросло лебедой, донником, колючим осотом, высоченным, жестким будяком. Лишь кое-где среди буйного разлива сорняков заметны были чахлые, почти бесцветные ростки пшеницы.
Дмитрий Данилович долго стоял перед этим убогим полем, молча покачивая головой, а когда к нему подошел Длугач, сказал с горечью:
— Вот вы, Илья Михайлович, говорите: колхозы, колхозы. Я не против колхозов, я все понимаю. А только гляньте на эти два поля, мое и Тютина. Это же небо и земля. И вот, скажем, станем мы с Капитоном Тютиным колхозниками и будем с ним работать на одном большом колхозном поле. Что ж это будет за работа? От такой работы я либо удавлю Тютина своими руками, либо удавлюсь сам…
— Ничего, Данилыч, — сердито нахмурившись, сказал Длугач, — мы из таких лодырей, как Тютин, в колхозе дурь выбьем, мы панькаться с ними не будем.
— Все может быть, — сказал Дмитрий Данилович, — а только есть такая поговорка: пока взойдет солнце, роса очи выест. И я признаюсь честно: слушаю я разговоры о колхозах, смотрю на таких, как Тютин и на душе у меня муторно и тревожно…
Наблюдая в эти дни за отцом, за Ильей Длугачем, за огнищанами, которых он знал и любил, Андрей понял, что тревожно не только на душе у отца. Тревога односельчан передалась и ему, Андрею, и он, уезжая через два дня в техникум и прощаясь с родными, почувствовал, что на его малую, глухую, упрятанную меж двух холмов деревушку и на тысячи других деревень надвигается нечто неведомое, огромное, неотвратимое, то, что рассечет жизнь земледельцев надвое и поведет их дорогой, которую еще не знает никто…
В то же время, думая так, Андрей вспоминал самосуд, учиненный богатым Антоном Терпужным над бедняком Комлевым, жалкую участь больной вдовы тетки Лукерьи, старого Силыча, у которого земля отняла здоровье, он вспоминал слова своего учителя, коммуниста Берзина о том, как машины облегчат тяжкий, каторжный труд крестьян, как исчезнет между ними стародавняя разобщенность и появится общность цели. И чем больше Андрей думал об этом, тем сильнее утверждался в мысли, что это новое, огромное, незнаемое, начисто рушащее старую крестьянскую жизнь, нужно, что оно неотделимо от того пути, по которому идет весь народ, и что иного выбора не может быть…
Глава седьмая
1
«Тише едешь — дальше будешь, дальше едешь — тише будешь» — с таким припевом, весело подмигивая пассажирам, пели в поездах песни бродячие попрошайки-мальчишки. Ничье имя не называлось в этой залихватской песне, исполняемой под аккомпанемент деревянных ложек, но все понимали, что речь идет о Льве Троцком, за опасную оппозиционную работу высланном из Москвы в далекий Казахстан.
Увы, и в Казахстане Троцкий тише не стал. Дом-особняк в городе Алма-Ате, отведенный Троцкому, его семье, секретарям и нескольким личным охранникам, не пожелавшим покинуть своего шефа, в самое короткое время превратился в главный штаб по руководству подпольной деятельностью разбитых, но недобитых оппозиционеров.
Чекисты, естественно, следили за алма-атинским особняком, следили, не афишируя свое пристальное наблюдение. Однако это не помешало Троцкому в течение двух-трех месяцев восстановить легальные и нелегальные связи со своими единомышленниками в разных концах страны.
Троцкий ежедневно получал десятки писем и телеграмм. Многие из этих писем, несмотря, казалось бы, на самое невинное содержание, заключали в себе шифрованные запросы и донесения о текущей работе отдельных лиц, конспиративных кружков и групп. В Алма-Ате стали появляться десятки «командированных» в Казахстан «хозяйственников», «торговых работников», «журналистов», которые выполняли тайные обязанности связных. Если им трудно было встретиться с самим Троцким, они находили возможности связаться с ним через других людей, пользующихся его полным и неограниченным доверием.
Самым полным и самым неограниченным доверием сосланного в Казахстан Троцкого был облечен прежде всего его родной сын Лев Седов. Этот двадцатидвухлетний парень был не просто сыном Троцкого. Он был твердым, убежденным, непоколебимым троцкистом. Скромный на вид, худощавый юноша, похожий на неискушенного рассеянного студента, Седов не возбуждал особых подозрений: он часами сидел в библиотеках, читал книги, составлял конспекты прочитанного или, сунув руки в карманы, с невинным видом бродил по городу, посещал базары, где подолгу рассматривал старые выцветшие ковры, приценивался к какому-нибудь медному кувшину или к курительной трубке, слонялся по фруктовым рядам, лакомясь алыми яблоками и приторно-сладкой вяленой дыней…
Но Троцкий не случайно называл сына «министром иностранных дел, министром полиции и министром связи». Изворотливый, хитрый, очень осторожный и осмотрительный, Лев Седов ежедневно выполнял скрываемые от всех секретные поручения своего отца: он точно передавал пространные устные распоряжения Троцкого специальным курьерам, приезжавшим в Алма-Ату под маркой «снабженцев» или «заготовителей», встречал троцкистов-связных в условленных местах — в общественных банях, в театрах, в парикмахерских, незаметно принимал от них донесения-письма и относил отцу…
Сам Троцкий, уверенный в своей правоте, продолжавший считать себя незаслуженно обиженным «вождем мировой революции» и «гениальным трибуном народных масс», воспринял поражение возглавляемой им троцкистской оппозиции не как полный крах ее политики, разоблаченной и разгромленной на трех подряд партийных съездах, а как выпад «сталинской фракции перерожденцев» против него, Льва Троцкого, как личное желание Сталина убрать с дороги «признанного всеми коммунистическими партиями мира единственного революционного вождя».
Нисколько не считаясь с мнением сотен тысяч советских коммунистов, полагая, что партия — это только послушная Сталину «фракция», Троцкий все накопленное им годами зло, весь яд своих рассылаемых из Алма-Аты нелегальных «директив» и «указаний» направил против Сталина и возглавляемого Сталиным Центрального Комитета партии. Троцкий при этом не понимал или не хотел понимать, что пробудившая огромные людские массы великая революция — это не боксерский ринг и не цирковая арена, где могут состязаться в борьбе отдельные личности, нисколько не зависящие от народа. Не понял Троцкий и того, что его непрерывные нападки на Генерального секретаря Центрального Комитета партии лишь в еще большей мере укрепляют и повышают авторитет Сталина, возглавившего борьбу против троцкизма, антиленинская сущность которого была разгадана и раскрыта партией и народом.
Полное нежелание Троцкого считаться с решениями и требованиями партийных съездов о соблюдении единства, нелегальная, тщательно скрываемая от партии фракционная работа даже в ссылке, широко налаженная связь с зарубежными троцкистами, установка на захват власти в случае войны — все это заставило правительство Советского Союза пресечь деятельность главного организатора и руководителя троцкистской оппозиции.
19 февраля 1929 года в «Правде» было опубликовано короткое сообщение:
«Л. Д. Троцкий за антисоветскую деятельность выслан из пределов СССР постановлением Особого совещания при ОГПУ. С ним, согласно его желанию, выехала его семья…»
За пять дней до того, как появилось это сообщение, хмурым февральским утром, из Одессы уходил пароход, на котором несколько кают было отведено Троцкому и его спутникам. Пассажирский причал Одесского порта в этот час был оцеплен одетыми в черные пальто чекистами. Никого из провожающих не было видно. Низко надвинув меховую шапку, Лев Троцкий неторопливо поднялся по сходням. Он не сказал ни слова, но по выражению его угрюмого лица, по прищуренным за стеклами пенсне глазам было понятно, что думает он одно: «Борьба на этом не кончена, она будет продолжаться…»
Гремя якорными цепями, пароход отчалил от пристани, развернулся, миновал каменную линию волнореза, дал протяжный прощальный гудок и взял курс к берегам Турции.
Хотя беспокойные обязанности дипломатического курьера стали утомлять Александра Ставрова и он уже дважды пытался разговаривать в наркомате о том, чтобы его перевели на другую работу, эти разговоры не привели пока ни к каким результатам. За последние три-четыре года десятки зарубежных стран по разным причинам вынуждены были признать Советский Союз. Туда, в столицы этих стран, отправились посольства СССР, а потому Александру, так же как его друзьям, дипломатическим курьерам, приходилось ездить очень часто.
Сейчас Александр Ставров возвращался из поездки в Турцию. Скорый поезд Одесса — Москва приближался к столице. Сидя в своем купе в полном одиночестве, Александр рассеянно смотрел в окно, за которым пробегали одетые в нежную, еще прозрачную весеннюю зелень леса Подмосковья, будки путевых сторожей, частые полустанки.
После смерти Марины Александр долго не мог прийти в себя, тосковал, чуждался товарищей, и только в последнюю зиму боль его стала утихать, а воспоминания о Марине все реже посещали его, словно окутывались грустной дымкой давно минувшего, невозвратного.
Однако, несмотря на то что прошли годы, Александр так и не женился. Жил он теперь в новом доме, в хорошей квартире, иногда думал о семье, о том, что пора кончать невеселую холостяцкую жизнь, но пока ничего не предпринимал, хотя все время выслушивал упреки и насмешки друзей.
Его друзья, Иван Черных и Сергей Балашов, женились два года назад, они жили в одном доме с Александром и никогда не упускали случая высмеять его «монашескую келью» и скучную «долю бобыля».
Черных и Балашов встретили Александра на вокзале. После обычных объятий и похлопыванья по спине коренастый, румяный Черных сказал:
— О своей собачьей конуре даже и не думай. Мы проводим тебя до наркомата, вместе сдадим почту, а потом сразу ко мне. У моей Дуняши сегодня день рождения.
— Дай мне хоть привести себя в порядок, — взмолился Александр, — я ведь с дороги, мятый весь, небритый.
— Ничего, сказал Балашов, — заедем в парикмахерскую, там побреешься.
Так они и сделали. Обрадованный встречей с товарищами, посвежевший после бритья, Александр забежал в цветочный магазин, купил несколько белых, выращенных в оранжерее гладиолусов.
В просто обставленной квартире Ивана Черныха друзей уже ждали миловидная бурятка Дуня, стройная молодая женщина в роговых очках, Зоя, — жена Балашова и улыбчивая кареглазая девушка с длинной каштановой косой.
— Это моя сестренка Галя, прошу любить и жаловать, — сказал Александру Сергей Балашов, — она учится в Ленинградском медицинском институте.
За столом Александр оказался рядом с Галей. Как только выпили за здоровье именинницы и взялись за ужин, Сергей Балашов стал расспрашивать Александра о Турции, в которой ему не доводилось бывать.
— Мне показалось, что Турция сейчас вся в движении, — задумчиво сказал Александр. — Там идет какая-то коренная ломка. Мустафа Кемаль, несмотря на сопротивление духовенства и всякой реакционной дряни, упрямо гнет свою линию, чуть ли не силой стаскивает с приверженцев старины фески, чалмы и халаты, вводит европейскую одежду, женщинам приказал снять чадру, предоставил им права, запретил гаремы и многоженство.
— Вот это уж зря, — сказал Черных, подмигивая своей беременной жене, — а то я только было собрался погулять в Турции и принять магометанство.
— Ты опоздал, дорогой друг, — сказал Александр, — Кемаль открыто борется против ислама, он заменил мусульманский календарь европейским, латинизировал алфавит, одним словом, действует на манер нашего Петра Первого.
Он помедлил и заговорил тихо:
— И все же основная масса населения бедствует. Помещики живут в роскоши, а миллионы крестьян нищенствуют, еле концы с концами сводят. Приходилось мне их видеть на базарах: худые, оборванные, забитые, жалко на них смотреть. Поглядишь, идет по городскому базару какой-нибудь голодный, голозадый старик и тощую козу на веревке за собой тянет. В глазах у него отчаяние, какая-то покорность судьбе, обреченность. Со всех сторон его толкают, пинают, издеваются над ним, и он идет, кормилец страны, и ни на кого не смотрит. А вокруг кишмя кишат спекулянты, ростовщики, перекупщики, важно шагают тузы с золотыми цепочками на жилетах. Так вот и живут: с одной стороны — великолепные мечети, дворцы свергнутых султанов, иностранные банки, сверкающие магазины, а с другой стороны — тысячи нищих, неграмотных мужчин и женщин, вшивые ребятишки…
Упершись рукой в подбородок, Галя не сводила глаз с Александра. Худенькая, с острыми ключицами и тонкими, немного неуклюжими руками подростка, она казалась девочкой-ученицей и совсем не походила на студентку.
— Какая интересная у вас работа, — сказала Галя Александру, — и как, должно быть, много вы повидали! Вот бы мне хотелось хоть один год побывать на вашем месте!
— Стоп! — закричал неугомонный Ваня Черных. — Поскольку вы, очаровательная Галечка, то бишь, прошу прощения, уважаемая Галина Владимировна, испытываете желание побывать во всех Европах, у меня есть деловое предложение.
Зная насмешливость своего непоседливого мужа и заранее предвкушая удовольствие услышать его очередной выверт, Дуня подмигнула Зое, Гале и спросила, посмеиваясь:
— Это какое же предложение?
Иван придал своему лицу вполне серьезное выражение и сказал торжественно:
— Предложение, которое вполне устроит обе высокие договаривающиеся стороны. Дело в том, что в самое ближайшее время Александр Данилович Ставров скромно откажется от поста наркома иностранных дел и, конечно, будет назначен чрезвычайным и полномочным послом в одно из самых больших государств мира. Правда, на такую должность не берут холостяков, а вышепоименованный товарищ Ставров, к сожалению, холостяк. Поскольку же Галина Владимировна Балашова выразила желание украсить собой зарубежные страны, ей следует немедленно выйти замуж за будущего посла.
Дуня и Зоя засмеялись. Галя густо покраснела. Покраснел и Александр. Сергей Балашов нахмурился.
— Ну и дурак же ты, Иван! — сказал он. — Дурак самой чистой пробы. Ты посмотри, как смутил девчонку.
— Не только девчонку, — хитровато сказал Черных, поглядывая на Александра. — По-моему, будущий посол смущен не меньше Гали. А это значит, что предложение мое попало в самую точку.
Галя попыталась вскочить и убежать, но Александр вовремя схватил ее горячую маленькую руку и усадил девушку на стул.
— Не обижайтесь, Галочка, и не слушайте этого пустомелю, — сказала Дуня, — он с детства чуточку тронутый.
Только на одно мгновение Александр задержал взгляд на зардевшемся лице Гали, словно впервые увидел темный, с рыжинкой завиток над маленьким ее ухом, по-детски дрожащие губы, и вдруг острая боль сжала его сердце, и он, как никогда, почувствовал свое одиночество, нехотя оставил руку девушки и задумался, низко опустив голову.
— Ладно, — сказал Балашов, выручая сестру и товарища, — давайте выпьем за хозяйку, а потом ты, Саша, расскажешь нам, как чувствует себя в Турции неудавшийся кандидат в Наполеоны.
Иван Черных пожал плечами, стал угрюмо постукивать вилкой по краю тарелки:
— Не пойму я одного: как мы выпустили Троцкого за границу? Сталин такой умный, волевой мужик и вдруг согласился на высылку этой гадины. Словом, пустили щуку в воду, насыпали ему на хвост соли.
— В Константинополе его встречали с шумом, — сказал Александр, — во всех газетах чуть ли не аршинными буквами напечатали сообщение о приезде изгнанного из большевистской России Льва Троцкого. На берегу собралась огромная толпа корреспондентов. Зарубежные троцкисты подали на рейд моторную лодку, а к причалу — автомобиль.
— Ну а как это воспринял народ? — спросил Балашов.
— По-разному. Люди, которые к нам хорошо относятся, помнят отношение Ленина к Мустафе Кемалю, вспоминают приезд в Турцию Фрунзе, те, конечно, сразу встали на дыбы и потребовали у правительства немедленной высылки Троцкого из страны. Таких оказалось очень много. Ну а вся реакционная банда была в восторге и настаивала на том, чтобы турецкое правительство предоставило Троцкому убежище и держало его вблизи от советской границы.
— Во-во! — сказал Черных. — Эта сволочь, сидя на турецкой земле где-нибудь возле Батума, будет гадить нам напропалую.
— Что же решило правительство? — спросил Балашов.
— Правительство вынесло хитроумное решение, — сказал Александр, — дескать, я не я и хата не моя. Троцкого поселили на Принцевых островах Мраморного моря. Они хоть и принадлежат Турции, но Троцкий вроде будет жить, так сказать, не на турецкой земле. Там, на Принцевых островах, он и поселился. Дом его, говорят, день и ночь окружен добровольной охраной и целой сворой злющих овчарок. Небезызвестный Блюмкин, давний адъютант и порученец Троцкого, выполняет сейчас при нем обязанности коменданта охраны. А в последнее время к этому дому началось паломничество: туда едут испанцы и французы, немцы и американцы. В основном это люди, исключенные из партии и жаждущие услышать советы и наставления своего лидера.
— Они нам еще добре нагадят, — сердито сказал Черных, — будут воду мутить и в ногах болтаться!
— Ну его к черту, этого Троцкого, — раздраженно сказала Дуня, — давайте лучше чай пить, а то у меня самовар стынет!
Балашов засмеялся.
— Вот что значит истые сибиряки! Без самовара шагу не могут ступить.
После чая стали расходиться. Александру очень не хотелось подниматься в свою одинокую комнату, и он, расхрабрившись, пряча волнение за шуткой, сказал Гале:
— Может быть, будущая жена важного посла не откажется погулять с ним часик по вечерней Москве? Правда, Галя. Так хочется подышать весенним воздухом!
Девушка вопросительно посмотрела на брата. Тот секунду помедлил и сказал:
— Иди, я позвоню матери по телефону и предупрежу ее, что ты придешь позже.
Скорчив уморительную рожу, Ваня Черных поднял руки:
— Итак, первое действие начинается! Глядите, дети мои, и никогда не забывайте своего свата! Аминь!
Стояла безветренная весенняя погода. Над городом ночные облака розовато сияли в отсветах бесчисленных московских фонарей. Воздух был свежий и влажный. По улицам, позванивая, проносились редкие трамваи. Сквозь частое и ладное постукивание конских копыт слышались приглушенные крики извозчиков.
Бережно придерживая Галину руку, Александр шел молча. Он сам не понимал, почему его потянуло к этой милой кареглазой девчушке, о существовании которой он слышал от своего друга, но которую увидел только сегодня. То ли непрерывные поездки по чужим странам, а по возвращении в Москву одинокие вечера, то ли неизвестно откуда появившееся щемящее чувство глубоко скрытой радости от того, что рядом с ним шла хорошая, безмятежно улыбающаяся девушка, заставили Александра рассказать Гале о себе.
Он рассказал ей о своем убогом детстве на берегу Волги, о годах гражданской войны и родной своей стрелковой дивизии, штурмовавшей Перекоп, рассказал о брате, живущем в далекой глухой Огнищанке. Видимо, в этот вечер Александр не мог молчать. Опустив голову, он рассказал и о своей любви к Марине, единственной его любви, которая так безжалостно и жестоко была оборвана смертью.
— Вот так и проходит моя жизнь, — грустно сказал Александр, — ничего у меня не осталось и, пожалуй, если говорить о личной жизни, ничего нет и впереди.
Галя тихонько сжала его пальцы прохладной рукой.
— Мне вас жаль, честное слово, сказала она, — вы, наверное, очень хороший человек. Сергей много рассказывал о вас отцу и мне. Я очень хочу, чтоб вы были счастливы…
Она доверчиво заговорила о себе:
— Мы ведь с Сергеем сводные брат и сестра. Его родной отец, талантливый ученый, погиб на царской каторге в Сибири. А наша мама через несколько лет вышла замуж за моего отца. Меня тогда еще не было на свете. Сейчас папа — он строитель — временно работает в Ленинграде. Маме нельзя было ехать с ним, потому что она тоже работает, но здесь, в Москве, в Наркомате земледелия. Вот мои родители и решили, чтобы я училась в Ленинграде и ухаживала за папой, а то он у нас совсем беспомощный…
Они долго бродили по пустынным улицам. Александр рассказывал Гале о своих заграничных поездках, о встречах с людьми. Был уже двенадцатый час, когда Галя зябко поежилась и сказала:
— Мне очень приятно с вами, Александр Данилович, но я боюсь, что мама обидится. Я ведь приехала ненадолго и через несколько дней должна уезжать.
Александр проводил ее до большого шестиэтажного дома на Таганке, постоял немного у подъезда и сказал, не выпуская Галиной руки:
— Поверьте, Галя, мне очень жаль, что вы так скоро уезжаете. Не знаю почему, но мне действительно очень жаль.
Девушка вспыхнула, осторожно освободила руку.
— Правда? — застенчиво улыбаясь, сказала она. — А вы приезжайте к нам в Ленинград, мы с папой будем очень рады.
И Александр пообещал приехать.
Домой он шел окрыленным, потому что сегодня, в этот вечер, впервые за долгие годы он коснулся чего-то светлого, чистого, по-человечески теплого и радостного, того, что пропало в нем после смерти Марины, а теперь, волнуя и тревожа, стало воскресать в его душе.
2
В семье Солодовых дела шли хорошо. Платон Иванович, как отличный мастер и к тому же участник восстания на броненосце «Потемкин», был в числе первых командирован в Ленинград, на завод-втуз, который не только выпускал сложнейшие механизмы, но и был своеобразным высшим учебным заведением, куда для повышения квалификации принимались не имевшие диплома инженера наиболее опытные мастера.
Седоусые и седоголовые мастера-студенты, люди с революционными заслугами, не только сохраняли при этом свою заработную плату по тем заводам, на которых постоянно работали, но, обучаясь в Ленинграде, получали сверх зарплаты приличную стипендию, что давало им полную возможность помогать оставшимся в других городах семьям.
Государству очень нужны были такие люди. Еще в декабре 1925 года, на Четырнадцатом съезде Коммунистической партии, был взят курс на индустриализацию Советского Союза. Началось великое преображение страны. Миллионы людей покинули веками обжитые места и устремились туда, где закладывались первые камни гигантов индустрии.
Прошло всего два-три года — и уже строились Днепрогэс, Туркестано-Сибирская железная дорога, Сталинградский, Челябинский и Харьковский тракторные заводы, Бобриковский и Березниковский химические комбинаты, металлургические комбинаты — Кузнецкий в Сибири, Магнитогорский на Урале, Криворожский на Украине, огромные автомобильные заводы в Москве и в Горьком, машиностроительные в Краматорске и в Горловке. В непролазной тайге, в холодной тундре, в сыпучих песках жарких пустынь и среди скалистых гор стали появляться тысячи строителей, возникали новые города, все пришло в движение…
В первые недели своей ленинградской жизни Платон Иванович Солодов очень скучал по жене и дочери, а потом втянулся в работу, в учебу, и скучать ему стало некогда. С утра вместе со своим новым товарищем, пожилым механиком-украинцем Дудой, — они жили в одной комнате большого общежития на Васильевском острове— Платон Иванович уходил в заводской цех или в конструкторское бюро завода, там они работали под руководством инженеров, а после обеда отправлялись в аудитории слушать лекции профессоров и в общежитие возвращались поздно вечером.
— Какие с нас, в черта, студенты? — негодовал тучный Дуда, вытирая платком лысую голову. — Так они, чертовы дети, нас совсем загоняют.
Карпо Калиникович Дуда нравился Платону Ивановичу. Опытный мастер-механик, член партии с 1917 года, он работал до революции на киевском «Арсенале», будучи командиром красногвардейского отряда, громил белогвардейцев и петлюровских сечевиков, а после гражданской войны вернулся на родной завод.
— Зараз из меня хотят сделать инженера, — ухмыляясь, говорил Дуда, — а разве выйдет инженер из человека, который лет сорок назад ходил в церковноприходскую школу, да и ту не закончил? Какой же, скажи на милость, инженер получится из такого грамотея?
Платон Иванович спокойно возражал Дуде:
— А что ж делать? Сейчас государству нужны инженеры, которые вышли из народа, вроде нас с тобой. На старых социалистов теперь слабая надежда. Слыхал небось, чего в городе Шахты натворили в прошлом году старорежимные специалисты?
— Не только слыхал, но и видал. Меня два раза посылали в Шахты монтировать купленные в Америке пневматические врубовые машины…
Весь вечер Дуда рассказывал Платону Ивановичу о контрреволюционной организации шахтинских инженеров, суд над которыми всколыхнул всю страну. Солодову это дело было известно только по газетам, и потому он с интересом слушал Дуду.
— Говорят, они в самые первые дни революции договорились с хозяевами шахт, — рассказывал Карпо Калиникович. — А шахтами в ту пору владели и командовали иностранцы — Ремо, Сансе, Дворжанчик. Но были среди них и русские — Парамонов, Прядкин, Фенин. Ну все эти хозяйчики при первой опасности смылись, конечно, за границу, а инженерам наказ дали: вы, мол, хлопцы, соблюдайте тут наши интересы, а мы, как только царя восстановят, добрые деньги вам отвалим. Ну те и соблюдали.
— А что они все-таки сделали?
Карпо Калиникович сосредоточенно потер лысину:
— Там сам черт ногу сломит. Кое-что мне рассказывали шахтинские рабочие, а кое-что я и сам видел, своими глазами. Ну, скажем, они пускали в ход самые убыточные шахты, а ценные пласты скрывали. Или же, скажем, слабые по мощности врубовки загоняли на такие твердые пласты, что машины разлетались в щепки. Или, допустим, закупали в Америке ротационные компрессоры, которые по своему габариту никак не соответствовали сечению штреков и стояли ржавели. А то накупят за золото разных подъемных машин, насосов, электромоторов, станков, а к ним ни одной запасной части. Поработает, скажем, такой насос полгода, потом бери и сдавай его в утильсырье.
— Говорят, они и за границу ездили?
— Ездили и за границу. У бывших их хозяев в Париже было организовано «Объединение горнопромышленников Юга России». Там вроде шахтинские инженеры и получали гроши и разные инструкции по вредительству. Бог его знает, так оно или не так.
— И много людей судили?
— Поначалу привлекли пятьдесят три человека, а потом не знаю. Среди них были начальники шахт, главные инженеры, механики, инженеры горного надзора. Судило их специальное присутствие Верховного суда. Пятерых присудила к расстрелу, а остальным дали разные сроки.
По воскресным дням в тесной комнатушке заводского общежития сходились пять-шесть знакомых Солодова и Дуды, таких же мастеров-механиков, приехавших в Ленинград из разных городов. Они обычно приносили с собой несколько бутылок водки и пива, селедку, колбасу, соленые огурцы, по-студенчески усаживались на койки вокруг застеленного газетами единственного стола и начинали долгие разговоры.
Все это были немолодые, семейные люди. Они скучали без жен и детей, чувствовали себя одинокими в огромном чужом городе и потому сближались легко и просто. Были среди них и коммунисты, и беспартийные, но все они вышли из рабочих, и связывала их одна профессия.
После двух-трех порций разливаемой в чайные стаканы водки снимались пиджаки, развязывались галстуки, голоса становились громче. Кто начинал рассказывать о строительстве нового завода в Сибири или на Кавказе, кто — о своих стычках с начальством, кто вспоминал годы гражданской войны.
Потом из потертых бумажников вынимались фотографии, глаза у всех становились грустными и слышались отдельные слова:
— Вот моя Даша, на колчаковском фронте вместе со мной была в Красной гвардии…
— А я овдовел три года назад, один сын у меня остался. Вот, поглядите. Добрый парень. У тетки сейчас живет, у моей сестры…
— Один, говоришь? У меня их целая куча. Семеро! Видали? Теща и жинка на пару с этой артелью воюют…
Платон Иванович тоже показывал фотографию Марфы Васильевны и Ели, тоже говорил с тихой грустью:
— Не знаю, как они там без меня, жена и дочка. Дочка у нас хорошая дивчина, Елена, мы ее Елкой зовем.
— Красивая у тебя дочка, Солодов, — говорили друзья, — прямо-таки кровь с молоком.
— Красивая, — соглашался подвыпивший Платон Иванович, — видимо, в маму пошла, не в меня. Крученая только, то за рисование берется, то в кино хочет сниматься. А сейчас в музыкальном училище учится. Скоро восемнадцать лет ей исполнится…
Вечером, когда водка в бутылках подходила к концу, а языки развязывались, кто-нибудь обязательно начинал разговор о политике. Уже более года в партии велась борьба против правого уклона, на партийных пленумах и конференциях резко критиковались взгляды Бухарина, Рыкова, Томского, и потому споры пожилых мастеров в заводском общежитии чаще всего касались этих имен.
Бухарин, Рыков и Томский не раз выступали против быстрых темпов индустриализации и широкого развития тяжелой промышленности, они осуждали стремление партии организовать колхозы и, не видя борьбы в деревне, защищали индивидуальное крестьянское хозяйство, считая такое хозяйство основным источником богатства страны. Они категорически возражали против политики раскулачивания и говорили, что раскулачивание неизбежно приведет к ослаблению и даже распаду сельского хозяйства, обвиняли партию в том, что, удерживая низкие цены на хлеб и высокие — на промышленные товары, партия проводит политику военно-феодальной эксплуатации крестьянства. Они не верили в то, что разработанный и утвержденный партией пятилетний план развития народного хозяйства страны может быть выполнен, и вместо пятилетки предложили свой значительно заниженный двухлетний план.
Это была серьезная и опасная оппозиция против той линии, которую, неуклонно придерживаясь указаний Ленина, проводила Коммунистическая партия. Опасность правой оппозиции усугублялась еще и тем, что ее возглавляли люди, которые были известны стране и имели свои заслуги в борьбе против Троцкого и его сторонников.
О правой оппозиции стали писать во всех газетах, о ней спорили на собраниях, по вечерам говорили за семейным столом.
Неизбежно возникал разговор об этом и среди подвыпивших мастеров в комнате ленинградского заводского общежития.
Обычно такой разговор начинал и при этом больше всех горячился самый молодой из друзей, мастер-оружейник из Тулы Василий Половин, статный, высокий парень с крепкими рабочими руками. Бывший красноармеец-артиллерист, Половин был родом из Тамбовской губернии, там и сейчас, в большой деревне над рекой Цной, крестьянствовали его отец, мать, братья и сестры.
— Насчет мужиков вы мне очки не втирайте, — вскакивая с места и сунув руки в карманы, кричал Половин, — я сам мужик и землю знаю лучше, чем вы. И разве не грабят сейчас мужика? Еще как грабят! Тут Бухарин и Рыков правы. Или возьмите вопрос о кулаке. Сколько у нас в России кулаков? Кто их считал? Говорят, четыре процента крестьянства — кулаки. А откуда эта цифра взялась? Задумал председатель сельсовета расправиться с каким-нибудь тюхой-матюхой, вписал его в кулацкий список — вот вам и процент кулачества.
— Погоди, Василь! — урезонивал Половина добродушный Дуда. — Во-первых, сам Сталин не отрицает, что крестьянин окромя прямых и косвенных налогов дает государству еще сверхналог в виде переплат на промтовары и в виде недополучек по линии цен на пшеницу, мясо и тому подобное. Но Сталин прямо говорит, что эта мера временная — чуешь, Василь? — временная, нужная нам для развития тяжелой промышленности. Понятно тебе?
Половин издевательски усмехался:
— Мне все понятно, дорогой товарищ Дуда. Мне понятно, что в социализм мы желаем въехать на мужицком горбу. На весь мир кричим, что у нас смычка города с деревней, что крестьянство наш союзник. Хорош союзник, на котором мы верхом едем, да еще плеткой подбадриваем.
— Дурак ты, Вася, хотя и коммунист, — безнадежно махал рукой Дуда. — Как коммунисту, тебе должно быть известно, что своим союзником мы называем не все крестьянство, что кулак нашим союзником не был и никогда не будет. И разве ты можешь сказать, что мужик зараз у нас голодает или, к примеру говоря, без штанов ходит? Нет, не можешь ты этого сказать. Крестьянство живет зараз неплохо, и, для того чтобы оно само и весь советский народ жили еще лучше и могли социализм построить, надо, чтобы крестьянство полную помощь государству оказало. А Бухарин и его дружки не понимают этого. Они ставку не на тяжелую индустрию делают, в которой наше спасение, а на своего тюху-матюху: нехай, дескать, этот тюха живет, богатеет и размножается, как его душе угодно, а на строительство оборонных и прочих заводов и фабрик нам господь бог подаст.
— Ты, Карпо Калиникович, мозги мне не крути! — кричал Половин. — Да, я коммунист и кровь за революцию проливал не меньше, чем другие. Только я думаю честно: если строить социализм, то надо, чтобы все общество одинаковые тяготы при этом несло. А то получается так: кормить надо почти что двести миллионов ртов — давай, мужик, хлебушек; машины разные надо покупать — опять же давай хлебушек, а мы его за границу вывезем, золото за него получим и станки купим. Ты же, дорогой наш союзник-мужичок, пока дело до социализма дойдет, сиди в своей хате при коптилке, копайся в навозе, трудись, как каторжный, от зари до зари, потому что нормированный день тебе не положен. А ежели тебе плуг надо купить, борону, сапоги или сорочку, плати за это втридорога, поскольку ты есть собственник, и мы, гегемоны революции, стоящие у власти пролетарии, можем десять шкур с тебя содрать и на твоих костях земной рай построить…
Впрочем, убеждений Василия Половина ни один из собеседников не разделял. Вчерашние рабочие, завтрашние инженеры, они понимали, что у страны, со всех сторон окруженной врагами, иного выхода не было, что ради того же самого крестьянства, которое с пеной у рта защищал от несуществующих противников душевный, честный, но не видящий дальше свого носа Вася Половин, надо построить сотни заводов, которые могли бы производить тракторы и танки, автомобили и комбайны, станки и самолеты, все, что необходимо для народного хозяйства и для обороны единственной на земле свободной страны. Василию доказывали, что если Советский Союз не вооружит себя и не сумеет отразить интервенцию империалистов, то землю у крестьян отберут и снова на их шею сядут помещики, что заводы и фабрики заграбастают бывшие их хозяева, а Россией вновь будет править царь-кровопийца.
Василия Половина полушутя именовали «правым», «бухаринцем», «подкулачником» и даже «эсером», но он и в ус не дул, а продолжал упрямо гнуть свою линию.
— Ежели у нас в государстве все равны и все имеют одинаковые права, то и обязанности должны быть одинаковыми для всех, — раздраженно говорил он, — а то мужик трудится по пятнадцать, а то и двадцать часов в сутки, а рабочий отработал свои семь-восемь часов — и до свидания! Разве это справедливо? Нет, пусть уж тогда и рабочий пиляет по пятнадцать часов и выпуск продукции увеличивает. Тогда мы и хозяйство враз поднимем.
— А зимой чего твой мужик делает? — насмешливо спрашивал у Половина Карпо Калиникович. — Корм скотине задаст, в коровнике уберет и лезет на печь к бабе или самогон гонит. Так, что ли? Вот и подсчитай, Василь, сколько у кого рабочих часов на год получается…
Платон Иванович Солодов редко вмешивался в горячие споры товарищей. Он слушал их, добродушно посмеиваясь, или, разложив на подоконнике чертежи, углублялся в них и записывал в блокноте свои технические расчеты. С каждым месяцем он все больше скучал по семье, досадовал и тревожился, если от Марфы Васильевны и Ели долго не было писем, и чуть не подпрыгнул от радости, когда узнал, что начальство решило на неделю отпустить мастеров-студентов, чтобы они повидались с семьями и побывали на своих заводах.
Карпо Калиникович Дуда стал настойчиво уговаривать Платона Ивановича поехать вместе с ним на Черниговщину. Неожиданное это предложение хитрый хохол сделал не без задней мысли. Дуда уже знал, что после окончания завода-втуза он будет назначен начальником строительства большого военного завода. Карпа Калиниковича уже предупредили об этом в наркомате. Завод решили строить на Черниговщине, стройка была строго засекречена, и Карпу Калиниковичу предстояло подобрать специалистов, за которых он мог бы ручаться головой.
За время совместной с Солодовым работы и учебы Дуда не только успел убедиться в том, что Платон Иванович редкостный механик, человек скромный, прямой и честный, но и по-настоящему привязался к нему. Именно Солодова Карпо Калиникович наметил на должность шеф-монтера, который должен был полностью отвечать за монтаж очень дорогого и сложного заграничного оборудования.
Как-то вечером, попивая чай, Дуда сказал Платону Ивановичу:
— Давай все же съездим на эту побывку вместе. Эх и гульнем же мы на Черниговщине! Места там райские. Леса кругом, грибов полно, в реке и в озерах рыбы до чертовой матери. А охота! Тебе, брат Платон Иванович, и не снилась такая охота. Ружья у меня есть, легавая сучонка Альма прямо не собака, а балерина, ей-богу. В воду ныряет, как заправский водолаз, красноголовых нырков чуть ли не живьем из реки вытаскивает. Не веришь? Вот поедем, сам увидишь.
— Ты не шути, Карпо Калиникович, — сказал Солодов, — я жену и дочку почти что год не видел, соскучился по ним зверски, не то что дни, часы считаю до встречи с ними, а ты меня какими-то грибами соблазняешь и с Альмой своей познакомить хочешь, чудак этакий.
— Добре, хлопче, не взял я тебя с одного бока, возьму с другого, — сказал Дуда. — Виды я имею на твои руки и голову. Только то, что я тебе открою, должно умереть между нами.
И Карпо Калиникович, понизив голос, рассказал Солодову о вызове в наркомат, о строительстве военного завода, подчеркнул оборонное значение этого большого секретного строительства и предложил должность шеф-монтера.
— Ты сам понимаешь, как это важно, — сказал Карпо Калиникович, — это тебе не плужки и культиваторы делать на юстовском заводе, тут, брат ты мой, продукция будет похлеще твоих плужков. Конечно, мы можем выписать шеф-монтера из Германии или из Америки, но на беса он нам сдался на военном заводе? Нет, тут нужен свой человек, мне так и сказали в наркомате. А условия обещают самые распрекрасные, и в смысле повышенной зарплаты, и снабжения, и всего прочего.
— Я должен подумать и посоветоваться с женой, — сказал Платон Иванович. — У нас дочка учится в городе, в лес ее с собой не возьмешь, а ехать на строительство без жены мне не хочется, надоело бобылем жить.
Дуда похлопал Платона Ивановича по плечу, отставил пустую чашку и вздохнул:
— Думай, думай, казаче. Без обдумывания такое серьезное решение не принимают. И с жинкой, конечно, посоветуйся. А что касается дочки, то она у тебя не малютка, слава тебе господи, дивчине восемнадцать годочков стукнуло, замуж пора отдавать. Вот приедешь до дому, обговори все честь по чести, а вернешься — скажешь о своем решении. Я же, Платон Иванович, прямо тебе признаюсь: присмотрелся я к твоим золотым рукам, узнал тебя и убедился в том, что лучшего шеф-монтера для нашей стройки мы не найдем.
— Ладно, Карпо Калиникович, — сказал Солодов, — даю тебе слово, что я очень серьезно обдумаю твое предложение. Поверь что и мне хотелось бы поработать с тобой. Поглядим теперь, что скажут жена и дочка. Думаю, что там, дома, мы этот вопрос уладим…
После нудной двухдневной тряски в старом плацкартном вагоне Платон Иванович рано утром приехал в родной город. Сгорая от нетерпения, он подозвал на вокзальной площади первого попавшегося извозчика и помчался домой.
Легкий стук в дверь — и вот уже на веранду вприпрыжку бежит с гребенкой в руках Еля, она взвизгивает от радости, трется щекой о колючую щеку растроганного отца. В дверях, прижимая к груди полотенце, появляется Марфа Васильевна.
Здесь, дома, Платона Ивановича охватывает чувство теплоты и покоя. Это его малый мирок, в котором он всегда обретает желанный отдых. Тут все предметы и запахи знакомы ему: тюлевые занавеси на окнах и накрахмаленная белоснежная скатерть на столе, пианино в отлично отглаженном холщовом чехле и легкий запах скипидара от натертых полов, потемневший от времени бронзовый ландскнехт на подзеркальнике, купленный по случаю в комиссионном магазине; крохотная Елина комната с трельяжиком и никелированной кроватью, застланной светло-голубым покрывалом, столик, на котором аккуратно разложены книги и годами сидит златокудрая кукла Лиля с ее ультрамариновыми глазами; в Елиной комнате пахнет духами, кажется, они называются «Манон».
А вот и кухня, в которой тоже все начищено, все сверкает: эмалированная раковина умывальника, медные тазики и кастрюли на полках, белый стол-шкафчик, накрытый светлой клеенкой. Тут, в кухне, годами держится удивительно приятный, какой-то очень спокойный и праздничный, очень домашний запах ванили, корицы, лимонных корочек, душистого перца.
И здесь, в этой милой, мирной кухне, и в темноватой спальне с ковриком между двумя кроватями, с тумбочкой и с сундуком у стены, сколько было добрых разговоров — в кухне вечерами, за ужином и долгим чаепитием втроем, а в спальне по утрам, шепотом, уже вдвоем, чтобы не разбудить Елю.
В кухне говорили обо всем: о друзьях и знакомых, о новых американских кинофильмах, о рынке, о последних модах, о работе Платона Ивановича и о Елиной музыке. Утренний разговор в спальне обычно касался только Ели — ее характера, привычек, ее будущего.
Так было изо дня в день, из года в год. Ничто не нарушало покоя дружной маленькой семьи Солодовых. Отец, мать и дочь любили и уважали друг друга. У них никогда не было ссор и ругани, а если иногда, очень редко, кто-нибудь выражал недовольство или начинал хмуриться, это тотчас же погасало в привычной обстановке взаимного дружелюбия и ласки.
«Нет, трудно мне будет расстаться со всем этим привычным, дорогим для меня, для Марфуши, для Елки, — думал Платон Иванович, бреясь в кухне перед висящим над умывальником зеркалом. — И с Елкой трудно будет расстаться, и скучать мы будем без нее, и возраст у нее такой, что оставлять девчонку опасно».
За завтраком Платон Иванович, чисто выбритый, благоухающий одеколоном, выпил за здоровье жены и дочери стопку купленного Марфой Васильевной ради встречи выдержанного коньяка и рассказал о предложении Карпа Калиниковича Дуды. К удивлению Платона Ивановича, Марфа Васильевна не стала возражать против временного переезда на Черниговщину.
— Дело это большое и важное, — сказала она, — да и для тебя оно не безразлично. Вместо механического цеха на юстовском заводе ты получишь настоящую ответственную работу, достойную инженера. И заработок там у тебя будет побольше, это тоже надо учитывать, он нам не помешает при Елкином возрасте. Девочка уже такая, что ее и одеть и обуть хочется приличнее. Она у нас не разбалованная, проживет как-нибудь. И потом, можно кого-нибудь из родичей попросить, чтобы пожили это время с Елкой.
— Но завод на Черниговщине будет строиться два-три года, не меньше. Ты об этом подумала? — сказал Платон Иванович.
— Ну и что ж, перетерпим, — сказала Марфа Васильевна, — три года это не десять лет.
Любуясь красавицей дочерью, повзрослевшей за время его отсутствия, Платон Иванович спросил:
— Ну а ты, Елка-Аленка, что скажешь по этому поводу?
Еля переглянулась с матерью, тряхнула темными волосами:
— Решайте вы с мамой, а обо мне, папочка, не беспокойтесь. Я уже не маленькая и в обиду себя никому не дам.
— То-то, не маленькая. — Платон Иванович усмехнулся и неожиданно спросил: — Рыцарь твой продолжает за тобой увиваться?
— Какой рыцарь? — не поняла Еля.
— Ну этот самый, Збышко из Богданца, который, помнится, грозился, что из любви к тебе бросит перчатку всему миру.
Еля слегка покраснела:
— Ах, Андрей Ставров? Он заходил к нам раза два, а иногда я его встречаю в городе. Такой же грубиян, как был. Молчит или всякие грубости болтает. И так же хвастается своим деревенским чубом и солдатскими сапогами.
— Это ты зря! — сказал Платон Иванович. — А мне, признаться, он нравится. Острый парень и с огнем в душе. Солдатские сапоги, говоришь? Ну что ж! Может, у него денег нет на модные ботинки, вот он и хвастается своими сапогами из гордости.
— Чего это ты о нем заговорил? — вмешалась Марфа Васильевна. — Уж не в женихи ли его прочишь? Рано еще Елке о женихах думать, а поклонников у нее — хоть пруд пруди. Придет время, будет из чего выбрать, а сейчас ей о занятиях, о музыке надо беспокоиться.
Насчет «пруда» поклонников, о которых с улыбкой сказала Марфа Васильевна, пожалуй, в последнее время догадывался и Платон Иванович, и это тревожило и волновало его. Он сам, несколько раз гуляя с Елей по городу, примечал и горделивую, «королевскую», как он говорил, походку дочери, и ее осанку «принцессы-недотроги» (так шутя прозвала Елю Марфа Васильевна), видел, как смотрят на Елю мужчины и с каким выражением лица они оглядываются на нее, не скрывая своего восхищения и нисколько не стесняясь Платона Ивановича.
Незаметно наблюдая за дочерью, Платон Иванович чувствовал, что Еле нравятся эти знаки мужского внимания и косые, быстрые, неприязненные взгляды встречных молодых женщин, которые на ходу оценивали Елю и тотчас же отворачивались. Лицо Ели оставалось при этом спокойным и непроницаемым, только тонкие ее брови чуть-чуть хмурились и на щеках проступал слабый румянец. Она еще выше поднимала свою красивую голову и шла еще медленнее, шла так, словно плыла по воздуху, не касаясь земли, и всем своим видом говорила: «Я вам нравлюсь, не правда ли? Очень хорошо. Я это вижу, понимаю, знаю, и мне это приятно…»
Разговаривая с Платоном Ивановичем в день его приезда, Марфа Васильевна пока умолчала о том, что Юрий Шавырин, сын их давних друзей, получивший должность инженера на химическом заводе, сделал Еле официальное предложение, прося ее стать его женой, но Еля при этом только засмеялась и выбежала из комнаты, а Марфа Васильевна деликатно сказала Юрию, что все Солодовы его любят и уважают, но что Еле, дескать, еще рано выходить замуж, что она и думать о замужестве не будет до тех пор, пока не закончит консерваторию.
— Ну что ж, — невозмутимо сказал Юрий, — я, как вы знаете, отличаюсь терпением и буду спокойно ждать. Давайте, Марфа Васильевна, забудем о нашем разговоре, чтобы я мог с чистым сердцем бывать в вашем доме и видеть Елочку…
Юрий был лет на десять старше Ели. Флегматичный, даже несколько вяловатый, не по годам полнеющий человек, он неуклонно следовал составленным для себя правилам: вставал рано, каждое утро тщательно брился, принимал холодную ванну, делал гимнастику и, будучи модником, одевался со вкусом, два-три раза на день меняя воротнички и галстуки. Он умел добывать немыслимые по расцветке заграничные свитера, джемперы, сорочки и перчатки, недурно играл на гитаре, никогда не повышал голоса, полагая, что это вредит сердцу и нервам.
При всем том Юрий Шавырин слыл неплохим инженером, был в семье послушным сыном и братом, а Елю Солодову действительно любил. Заранее зная о появлении новых американских фильмов, он ходил с Елей в кинотеатры, рассказывал ей о жизни Дугласа Фербенкса и Мери Пикфорд, Бестера Китона и Греты Гарбо, причем умел рассказывать так, словно он, Юрий Шавырин, только вчера с Дугласом Фербенксом пил виски, а «Поцелуй Мери» — фильм, который понравился Еле, — очаровательная Мери Пикфорд предназначила именно ему, Юрию.
Однажды у входа в центральный кинотеатр «Маяк» Елю и Юрия случайно увидел Андрей Ставров. Был пасмурный осенний вечер, моросил мелкий дождик. Стоя в очереди за билетами, Еля и Юрий мило болтали, не обращая на прохожих никакого внимания. Дождь их не беспокоил, оба они были одеты в светлые непромокаемые плащи. Бледнея от бессильной ревности, Андрей хотел было кинуться к ним, оскорбить их, ударить, чтобы выплеснуть захлестнувшую его обжигающе-горячую ревность, но в это мгновение вспомнил, что на нем надет потертый полушубок, вспомнил про свои тяжелые нечищеные сапоги с налипшим на них конским навозом — только час назад он сдал в техникуме дежурство по конюшне, — круто повернулся и, расталкивая прохожих, быстро пошел по улице, не видя, куда идет.
А через несколько дней, случайно встретив Елю в пустынном переулке, Андрей остановился перед ней, распахнул злосчастный полушубок, сунул руки в карманы и сказал сквозь зубы:
— Здравствуй, царевна. Видел я на днях твоего розовощекого борова в небесном плаще. Хорош гусь. Это про его морду сказано: мурло мещанина. Впрочем, для тебя он, видимо, будет самой подходящей партией.
Еля отступила на шаг, тревожно взглянула на Андрея:
— Какой партией? Что ты мелешь?
— Той самой. Вы друг друга стоите. И пора вам сочетаться законным браком. Примерная будет семья.
— Оставь меня в покое! — вспыхнула Еля, беспомощно оглядываясь. — Что тебе от меня надо? Уходи, пожалуйста.
Андрей загородил ей дорогу.
— Нет, подожди. Выслушай меня. Я хочу рассказать тебе о будущей твоей семье, о том, что тебя ждет. — И он заговорил горько и насмешливо: — У вас с этим боровом будет удобная, чистая квартира. Один раз в месяц он будет аккуратно приносить тебе зарплату, которую вы в трогательном согласии вместе будете тратить. Вечерами он будет играть тебе на балалайке и петь о душистых гроздьях белой акации… Подштанники у него будут голубые в лиловую полоску… Ты будешь ежедневно жарить ему прогорклые котлеты, нянчить голозадых, сопливых детей, штопать его дырявые заграничные носки и с тихим упреком говорить ему, что у него ноги дурно пахнут… И еще… И еще у вас будет никелированная кофейная мельница… и вышитая покрышка на чайник в виде рязанской бабы… и цветок на подоконнике под названием бе-го-ния… и серая ангорская кошка по кличке Пусик… А потом, потом, — голос Андрея дрогнул, — потом пройдут годы, и люди у тебя спросят, как спросил у кого-то поэт — помнишь? — что же дали вы эпохе, живописная лахудра?
По щекам Ели бежали слезы.
— Как тебе не стыдно! — сказала она тихо. — Почему ты так зло обижаешь меня?
Губы Андрея задрожали.
— Потому, Еля, что я боюсь за тебя… И еще потому, что я люблю тебя. Слышишь? Люблю так, как не полюбит тебя уже никто и никогда…
Разошлись они молча, не глядя друг на друга.
3
В это тихое зимнее утро лекции по общему земледелию читал агроном Родион Гордеевич Кураев. Одетый в свою неизменную серую толстовку, поскрипывая смазанными дегтем сапогами, он прохаживался по классу, и тонкий дощатый пол прогибался под тяжестью его огромного тела. Из всех преподавателей техникума только один Кураев позволял себе курить на лекциях. Вот и сейчас, свернув толстую махорочную скрутку, он чиркнул спичкой, затянулся горьким дымом, оглядел низко склоненные над тетрадями головы студентов.
— На этом мы заканчиваем раздел о составе и свойствах почвы, — густым басом оказал Кураев. — Особенно прошу запомнить и понять роль перегноя в образовании структуры почвы, в накоплении и сохранении влаги и в тепловом режиме…
До звонка оставалось минут пятнадцать, но студенты, не сговариваясь, стали закрывать тетради. Кураев всегда оставлял время для вопросов, причем позволял студентам задавать любые вопросы, даже не связанные с курсом земледелия. Помня о своей последней поездке в Огнищанку и о том как все огнищанские мужики были встревожены слухами о сплошной коллективизации, Андрей Ставров поднял руку и спросил:
— Скажите, пожалуйста, Родион Гордеевич, какое влияние окажет коллективизация на сельскохозяйственное производство в нашей стране и, в частности, на почвы и их плодородие.
Студенты переглянулись ухмыляясь. Окутанный клубами махорочного дыма, усмехнулся и Кураев:
— На этот вопрос, голубчик Ставров, тебе не сможет ответить и сам господь бог. Коллективизация — это никем еще не проверенный эксперимент, осуществляемый, к сожалению, в общегосударственном масштабе. Имеются, как известно, и сторонники, и противники этого гигантского эксперимента.
Кураев на секунду задумался, лицо его помрачнело.
— Не скрою того, что я лично принадлежу к числу последних. Это объясняется многими причинами. Из них я назову только некоторые…
Родион Гордеевич грузно зашагал по классу и, не глядя на студентов, заговорил, тщательно подбирая слова:
— В отличие от заводской машины почва — живой организм. Она не терпит безответственного отношения к себе. Владеющий определенным участком земли крестьянин годами, десятилетиями познает характер своего участка, так же как он познает характер своей лошади или коровы. Только отлично зная свое поле, земледелец может получить высокий урожай. Лишь в полной слиянности определенного участка земли с определенным земледельцем кроется успех сельскохозяйственного производства. Коллективное же ведение хозяйства сразу разрушает эту слиянность, поле, по сути дела, становится беспризорным, ибо на нем сегодня хозяйничает Иван, завтра Сидор, а послезавтра еще кто-нибудь. Это неизбежно ведет к истощению почвы, а значит, к голоду, к катастрофе. Такова первая причина.
Кураев для наглядности загнул указательный палец на своей огромной, поросшей волосами руке.
— Скажу и о второй, не менее, а может быть, и более важной причине. В отличие от фабричного рабочего земледелец по самому существу своего труда и по образу жизни — индивидуалист, или, как у нас говорят, единоличник. На земле он работает в одиночестве, привлекая к работе только свою семью. Он трудится не покладая рук, трудится, как говорится, в поте лица своего, вкладывая в землю всю душу, не зная отдыха. Он за своим конем, коровой или овцой смотрит, как за родным дитем, он их вовремя кормит, поит, чистит, лелеет их и жалеет больше, чем самого себя. Такого индивидуального, хозяйского подхода к станку и такого неусыпного труда никогда не знал и не узнает фабричный рабочий. Для сравнения вы можете подсчитать количество мозолей на руках земледельца и на руках рабочего. Что же заставляет крестьянина так беззаветно, так неусыпно работать, не жалея ни себя, ни семью? Только одно: быть полным, абсолютным, я бы даже сказал, самодержавным хозяином всего, что выращено им на его участке земли… При коллективном ведении хозяйства этот единственный стимул начисто уничтожается. Член артели уже не пользуется плодами лично своего труда, он получает только то, что произвели он сам плюс его товарищи-колхозники, из которых трое больных, пятеро старых, а пятнадцать лодырей. Так у человека пропадает интерес к работе, и он сам, не желая трудиться для других, начинает работать так же, как черт летит, свесив крылья, лишь бы, как говорится, день до вечера. А отсюда и результат такого артельного труда, почти равный нулю…
В коридоре прозвенел звонок. Родион Гордеевич посмотрел на притихших студентов, невесело усмехнулся:
— Вы, конечно, подумаете сейчас: вот, дескать, агроном Кураев куда гнет, явная, мол, контра. Нет, ребята, я только откровенно делюсь с вами своими сомнениями. Сомнения же эти еще больше усугубляет практика тех жалких колхозов, которые кое-где уже организованы в нашей области. А прав я или не прав — покажет будущее…
На перемене Андрея окружили студенты и заговорили, перебивая друг друга:
— Ну и вопросик же ты подкинул Родиону!
— А чего? Родион не сдрейфил, крыл начистую все, что думает. Молодец, мне такие по душе.
— Думки только у него явно кулацкие.
— Почему кулацкие? Он про кулаков не сказал ни одного слова, он только сравнивал индивидуальное хозяйство с колхозным.
— Сказать-то он не сказал, а весь его разговор против колхозов направлен.
— А что мы можем знать о колхозах? Наше дело сидеть и слушать. Кураев человек ученый, он больше нас понимает в этом деле. Из нас-то ни одного нет из колхоза, и мы еще не хлебнули колхозной жизни.
— Я из колхоза. У нас колхоз два года назад организовали.
Это сказала невысокая дебелая дивчина в стеганке, Феня Сорокина. Все с любопытством повернулись к ней.
— Ну и что? Здорово вы живете?
— Прав Кураев или не прав?
— А в каком районе ваш колхоз?
Феня поправила шерстяной платок, шмыгнула носом.
— Наш колхоз в Нижне-Николаевском районе, село Заброды, может, кто знает. До нас от города почти что триста верст.
— Слыхали про такое село. Ты нам скажи одно: довольны ваши мужики колхозом или нет?
— Какое там довольны! — Феня безнадежно махнула крупной, красной от холода рукой. — Кидаются один на одного, как собаки. Я, говорят, переработал, а ты, говорят, недоработал. Все кони стоят в колхозной конюшне, а колхозники сено разворовывают и каждый своему коню сует. Все равно, говорят, колхоз распадется и мы коней по дворам разберем. А вчера я получила от брата письмо, так он пишет, что мужики из колхоза десятками разбегаться стали.
— Вот вам и коллективное ведение хозяйства.
— Про это самое Кураев и говорил.
— Значит, правильно говорил…
К Андрею подошел Аполлон Тишинский, подслеповатый, чахоточного вида парень, взял за руку, отвел в сторону и заговорщицки подмигнул.
— Слышишь, Ставров, — шепотом сказал он, — сейчас у нас лекция по машиноведению. Ты этот же самый вопрос Берзину задай. Берзин завзятый коммунист, интересно, что он ответит.
Андрей с неприязнью посмотрел на Аполлона:
— А ты что, сам не можешь вопросы задавать? Или у тебя, Тишинский, языка нет?
— Язык у меня есть, Андрюша, — тихо сказал Аполлон, потирая ладонь о ладонь, — и вопросы я умею задавать, но мне это, понимаешь, неудобно, на меня косится начнут, скажут: сын псаломщика, а туда же лезет. Я и так на ниточке тут вишу…
Мимо них, покашливая, прошел в распахнутом кожаном пальто и в такой же кожаной фуражке Ян Августович Берзин, главный механик техникума, читающий курс сельскохозяйственного машиноведения.
Андрей Ставров любил и уважал Берзина. Бывший танкист из дивизии латышских стрелков, Ян Августович в одном из боев против деникинцев был тяжело ранен осколками снаряда в грудь и в горло, с тех пор все время болел, но держался железной силой воли, после демобилизации несколько лет прослужил по вольному найму в одном из автомобильных парков, а потом, по совету врачей, покинул город и стал работать в сельскохозяйственном техникуме.
Лекции Берзин читал хорошо, доходчиво, машины знал, как самого себя. Он не любил объяснять устройство машин по чертежам и плакатам, а предпочитал втащить в класс какую-нибудь часть машины, чтобы дать возможность студентам своими глазами увидеть все эти цилиндры, кольца, клапаны, блоки, потрогать их руками и при этом услышать живой рассказ об их назначении и действии.
Так и сейчас. Вслед за Берзиным два крепыша студента, подталкивая тачку, вкатили в класс разобранный автомобильный мотор, остановили тачку у классной доски, а сами, вытирая замасленной тряпкой руки, уселись на свои места.
Не снимая пальто, Берзин коротко объяснил порядок работы четырехцилиндрового двигателя, начертил на доске схему чередования тактов в отдельных цилиндрах, потом сказал студентам:
— Теперь подходите к двигателю и хорошенько осмотрите блок цилиндров, головку блока, камеры сгорания, картер и его поддон. Возьмите гаечные ключи и сами снимите с блока головку, но действуйте аккуратно, чтобы не повредить прокладку.
Студенты сгрудились вокруг двигателя. Слышалось только негромкое позвякивание ключей. Берзин стоял у окна, тихонько кашлял и внимательно наблюдал за студентами.
Андрей подошел к нему и сказал громко:
— Ян Августович, можно задать вам вопрос, не относящийся к двигателю внутреннего сгорания?
— А что вас интересует? — спросил Берзин. — Спрашивайте, Ставров. Я постараюсь, если смогу, ответить на ваш вопрос.
Студенты притихли.
— У нас тут возникли споры, — волнуясь сказал Андрей. — Преподаватель ленинизма рассказывал нам о решениях Пятнадцатого партийного съезда, о сплошной коллективизации, но некоторые товарищи не верят… сомневаются…
— В чем сомневаются? — сдвинув рыжеватые брови, спросил Берзин.
— В том, что сплошная коллективизация будет полезна стране. Эти товарищи говорят, что в колхозах земля станет беспризорной, а почва истощится от бесхозяйственности… Потом они говорят, что земледелец по натуре своей — единоличник, собственник и что в колхозе он потеряет основной стимул своей жизни, потому что не будет распоряжаться всем тем, что он вырастил на земле…
Выглянув из-за спины Андрея, Аполлон Тишинский добавил робко:
— Потом, Ян Августович, мы слышали, что те колхозы, которые кое-где организованы в нашей области, распадаются, а люди из них бегут…
Оставив двигатель, студенты молча смотрели на Берзина. Он откашлялся, вытер губы носовым платком и заговорил медленно и спокойно:
— Крестьяне не все одинаковы. Это надо помнить всегда. Есть среди них богатые люди, кулаки, есть середняки и есть много бедных. Вы это знаете. Верно? Не можете вы не знать и того, что только революция освободила крестьян от помещиков и отдала им всю помещичью землю. Но, уравняв всех крестьян в правах, революция пока не могла уравнять их экономически. Это экономическое, имущественное неравенство есть в деревне и сейчас. Правильно и то, что крестьянин отличается психологией собственника. Таким его сделала история. Трудно ли крестьянину работать в поле? Очень трудно, дьявольски трудно. Вы отлично знаете, какие у него орудия производства — серп, коса, плужок, грабли, вилы. Должен вам сказать, что от старой России у нас еще и сегодня остались сотни тысяч деревянных сох. Поэтому можно понять, каково качество обработки земли подобными дедовскими орудиями…
Ян Августович подошел к автомобильному двигателю, положил на него руку, слегка огладил холодный металл:
— Артель облегчит труд крестьянина. Если одному хозяину не под силу купить мощный трактор, то колхоз легко сможет сделать это. Улучшится обработка почвы, люди насытят ее минеральными удобрениями. На полях появятся такие машины, о которых мы сейчас и мечтать не можем. Бесплановое крестьянское хозяйство уступит место колхозам, которые будут развиваться по государственному плану, без чего не может существовать социалистическое общество…
Положив руку на плечо смутившегося Аполлона, Берзин закончил устало:
— Вы говорите, Тишинский, что некоторые колхозы у нас в области распадаются. Что ж, такие случаи могут быть. Коллективизация крестьянского хозяйства — это дело новое, неизвестное в истории. Тут могут быть и сомнения, и ошибки. Когда люди ищут новые формы жизни, все может быть. Но коллективизация — дело правильное. Оно завещано Лениным, и, должен вам сказать, другого пути у нас нет… По этому пути партия поведет крестьянство, и вы, завтрашние агрономы, станете участниками великого дела. Слышите? Великого дела, за которое тысячи людей отдали свою жизнь…
Берзин вынул из кармана френча часы, щелкнул крышкой.
— Мы свое время исчерпали. Одно хочу сказать вам, ребята: изучайте машины. Завтра они станут в колхозах первыми вашими помощниками. Пройдет несколько лет, и вы не увидите в поле ни серпа, ни косы, ни сохи. И если сейчас у крестьянина есть сомнения — идти ему в колхоз или не идти, — если наши враги, как злые собаки, облаивают колхозы, то завтра крестьянин поймет, что в колхозе его спасение…
В этот зимний день агроном Кураев и механик Берзин разбередили душу Андрея Ставрова. Он уважал их обоих, считал их людьми честными, умными, знающими свое дело, и то, что они не только по-разному относились к тому большому и важному, что начиналось сейчас в деревне, но и откровенно сказали студентам о своих непримиримых, враждебных точках зрения, совсем запутало Андрея, и он подумал: «Пройдет совсем немного времени, и я стану агрономом и всю жизнь буду работать на земле с теми самыми крестьянами, которые стоят сейчас на распутье и о которых так по-разному думают и говорят мои учителя, одинаково для меня дорогие. А что же я, желторотый, неопытный агроном, стану говорить крестьянам той деревни, куда меня завтра или послезавтра пошлют на работу? Куда я поведу этих растревоженных, чего-то в надежде и страхе ожидающих людей-тружеников, среди которых ни на один день не утихает яростная борьба? Куда я их буду звать, чему буду учить, если я сам ничего не знаю?»
Вечером в коровнике, где четверо дежурных студентов заканчивали, уборку, к Андрею подошел Аполлон Тишинский.
— Ну как, Ставров? — сказал он, криво усмехаясь и дуя на пальцы. — Уразумел ты что-нибудь из манифестов наших педагогов?
— Ни черта я не уразумел и ни черта не понимаю, — угрюмо сказал Андрей.
— А я, например, послушал и Родиона и Яна Августовича и сделал, по-моему, единственно правильный вывод, — сказал Аполлон.
— Какой вывод?
— Кто тебе платит за музыку, тому и играй, — так же усмехаясь и потирая ладони, сказал Аполлон. — Вот закончу техникум, получу должность и буду делать то, что мне прикажут. Понятно, Ставров? Я беспартийный и в партии никогда не буду. Мое дело маленькое — служить тем, кто платит. Прикажут организовать колхоз — буду организовывать, скажут разогнать этот колхоз — разгоню. Мне на эти высокие идеи, в которых сам черт ногу сломит, наплевать. Понятно? Мне давайте мою зарплату, а я обязан выполнять все, что вам нравится, хоть гопки скакать. Вот тебе и вся философия.
Сузив глаза, Андрей с презрением глянул на Тишинского, брезгливо отвернулся от него.
— Эх и сволочь же ты, сын псаломщика, — сдерживая вспыхнувшую злость и понижая голос, сказал Андрей, — сволочь ты и проститутка! В батьку своего, видно, пошел. Так небось твой батька пел богу псалмы, не веря в бога.
Аполлон попятился, прислонился и стене. Андрей с силой воткнул вилы в земляной пол коровника.
— А о мужиках ты подумал, сучья твоя морда? — закричал Андрей. — О тех самых крестьянах, с которыми тебе придется работать? Они ведь будут ждать твоего слова, твоего дружеского совета, они в глаза тебе будут заглядывать. Как же ты им посмотришь в глаза, продажная тварь?
Швырнув вилы в угол, Андрей выбежал из коровника.
Спал он в эту ночь плохо: ворочался, вздыхал, часто просыпался. Его возмущало безмятежное похрапыванье спящего на соседней койке Аполлона, который после разговора в коровнике как ни в чем не бывало подошел к Андрею и сказал, хихикая в кулак: «Ты, Ставров, шуток, я вижу, не понимаешь. Давай утром съездим в город, выпьем в честь перемирия по кружке пива. Завтра ведь воскресенье».
Закинув руки за голову, Андрей думал об Огнищанке, о своей последней встрече с Елей, о том, что сам он ничего не может понять в тех важных событиях, которые назревали в деревне.
Утром, после завтрака в шумной студенческой столовой, Андрей постарался поскорее избавиться от товарищей, незаметно проскользнул в парк, побродил немного по засыпанным снегом аллеям, а потом, оглядываясь, открыл окованную железом дверь угловой замковой башни и полез по разломанной винтовой лестнице вверх.
Этот уголок — полутемный, с круглыми оконцами башенный чердак — Андрей облюбовал еще осенью. Похоже было, что, кроме него, сюда несколько лет никто не заходил: стропила на чердаке были затянуты паутиной, на всем лежал толстый слой густой пыли. На чердаке валялись остатки старой мебели, покрытые зеленоватой плесенью охотничьи патронташи и сумки, какое-то тряпье, разбитые иконы и рамы без картин.
Но больше всего Андрея привлекали большие плетеные корзины и огромные, складчатые, как гармошка, ветхие чемоданы, битком набитые связками писем, альбомами, фотографиями, тетрадями в тисненых кожаных переплетах, записными книжками с тускло поблескивающими позолоченными обрезами.
Усевшись на один из чемоданов, Андрей мог часами читать эти старые письма, рассматривать пожелтевшие от времени фотографии, забывая обо всем на свете. Перед ним в эти часы проходила чужая, незнакомая ему жизнь с ее радостями и страданиями, разочарованиями и надеждами, и он погружался в эту жизнь навсегда исчезнувших из замка князей Барминых и словно наяву видел то, что знал только по книгам да по рассказам привязавшегося к нему дряхлого, почти выжившего из ума княжеского камердинера Северьяныча, который доживал свой век в техникуме и постоянно служил мишенью для незлобивых насмешек студентов.
На фотографиях были изображены молодые и старые генералы с орлиными носами, с бахромчатыми эполетами на плечах, с орденами и звездами на мундирах; мило улыбались красивые дамы в белых платьях и широкополых шляпах; красовались стриженые мальчики в темных костюмчиках и похожие на ангелов девочки, у которых свисали на плечи завитые локоны, а из-под платьиц выглядывали кружевные панталончики с лентами.
На десятках больших наклеенных на картон фотографий можно было видеть парады императорской гвардии на Марсовом поле: точно бронзовые изваяния, сидели на могучих конях белые кавалергарды в касках с орлами, лихие гусары в медвежьих шапках и в опушенных мехом нарядных ментиках, железные кирасиры, драгуны, уланы, лейб-казаки. И почти на всех фотографиях запечатлены были тщедушный царь в форме полковника и на руках у огромного матроса маленький цесаревич в казачьей черкеске и в белой папахе…
Большинство писем было написано на французском языке. Андрей с сожалением откладывал их в сторону. Но многие письма, написанные по-русски, Андрей читал не отрываясь. Он любовался отличной меловой бумагой с золотистым княжеским вензелем, вдыхал слабый, еле ощутимый запах тонких духов, любовался размашистым, четким почерком князя и изящными строчками княгини. Письма посылались в замок из разных мест — из Петербурга и Москвы, из Парижа и Ниццы, из Мариенбада и Неаполя. Почти в каждом письме сообщалось о встречах с князьями, графами, баронами, генералами, сенаторами, о жизни императорского двора, о великосветских балах и парадах, о театрах и музыке, обо всем, чем жили до революции князья Бармины и о чем теперь, спустя много лет, читал на чердаке разоренного княжеского замка Андрей Ставров, парень из глухой деревушки, читал, как захватывающий роман.
Сегодня в самой дальней корзине Андрей обнаружил записную книжку в черном кожаном переплете с крохотным медным замочком. Охватывающий переплет замочек был заперт. Андрей попытался открыть его кривым ржавым гвоздем, но у него ничего не получилось. Тогда он, придавив угол записной книжки коленом, вырвал замочек вместе с кожей.
Очевидно, это была одна из последних записных книжек полковника князя Григория Бармина, расстрелянного красными в 1920 году, нечто вроде дневника и поспешных записей, сделанных разными чернилами и карандашом.
Присев на ящик у круглого, с выбитыми стеклами окна, Андрей стал перелистывать страницы записной книжки. Внимание его привлекла запись под датой «2 марта 1917 года», и он стал читать.
«С восьми часов утра я начал свое очередное дежурство в вагоне государя. Поезд стоит в Пскове. Холодный пасмурный день. На душе также пасмурно и тревожно. Государь еще спит. А вести из Петербурга самые страшные: разнузданные толпы народа вышли на улицу, всюду красные флаги и крики „Долой самодержавие!“. Говорят, войска целыми полками присоединяются к мятежникам. С офицеров срывают погоны, стреляют в них с чердаков и из подворотен. Видимо, это конец. Как жаль, что государь не отличается твердостью Петра Великого, чтобы появиться во главе верных ему полков и пулеметным огнем разогнать взбунтовавшуюся чернь…
В одиннадцатом часу государь позавтракал, но ел без всякого аппетита, бесцельно глядя в окно вагона. Я заметил, что у него темные тени под глазами, а взгляд неподвижный, какой-то вялый и покорный…
После завтрака генерал-квартирмейстер принес государю сводки с фронтов, они теперь приходят в ставку редко и написаны неряшливо, а зачастую безграмотно. Государь быстро просмотрел сводки, точно заранее знал, что ничего хорошего в них не найдет, потом вздохнул, взял французский иллюстрированный журнал и ушел к себе… Мне горько смотреть на его бездействие, на его мистическую покорность судьбе… Не такой нам был бы нужен монарх в это смутное, трудное время…
Вечером приехали из Петрограда представители Государственной думы — помятые господа в черных пальто. Мы уже знали, что они будут уговаривать государя отречься от престола. Об этом сказал нам министр императорского двора барон Фредерикс, который, как нянька, тенью ходит за государем…
Итак, мне уготована роль свидетеля при крушении Российской империи, и я проклинаю свое бессилие, жалкую свою участь…
На всю жизнь я запомню этот мглистый мартовский вечер, и закрытые плотными шторами окна, и обитые зеленым шелком стены вагона, и этих небритых господ из Думы, стоявших с поникшими головами, и осунувшееся, бледное лицо барона Фредерикса…
Государь вышел к ним в серой казачьей черкеске, молча поклонился. Все сели. Только я остался стоять у прикрытых дверей. Они говорили тихо, как будто боялись, что их услышат там, за окном, где, стуча сапогами по перрону, расхаживали часовые, охраняющие священную особу монарха…
Почти все время государь молчал. Говорили те, штатские. Они говорили о хаосе в стране, о мятежах, о забастовках рабочих, о том, что все потеряно, потому что солдаты уже не слушаются своих командиров и цепляют на шинели красные банты. Потом один из них сказал: „И может быть, ваше величество, единственным якорем спасения России и монархии было бы ваше отречение от престола“.
Они протянули государю заготовленный ими текст отречения. Государь взял эту бумагу, не читая положил рядом и сказал глухо:
— Я уже принял решение отречься от престола. До трех часов сегодняшнего дня я думал, что могу отречься в пользу сына… Но к этому времени я переменил решение в пользу брата Михаила… Надеюсь, вы поймете чувства отца… Я не могу расстаться с сыном…
Забыв или намеренно оставив на столе заготовленный штатскими текст отречения, государь ушел к себе. Все молча ждали, не глядя друг на друга. На стене вагона звонко тикали часы. Потом государь вошел, положил на стол отпечатанную на пишущей машинке бумагу и сказал своим низким, глухим голосом:
— Вот текст…
„…В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы, и в согласии с Государственной думой признали мы за благо отречься от престола государства Российского и сложить с себя верховную власть. Не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие нашему брату, великому князю Михаилу Александровичу, и благословляем его на вступление на престол государства Российского… Да поможет господь бог России. Николай…“
„Не желая расстаться с любимым сыном нашим…“ Нет, ваше величество, сегодня я, полковник князь Григорий Бармин, офицер вашей гвардии, трижды раненный на фронтах, обвиняю вас за вашу нерешительность, за мягкотелость, за трусость. Да-да, за трусость! Вы трус и дезертир, государь! Вы ввергли Россию в бездну, превратили ее в Содом и Гоморру, отдали на глумление и растерзание взбунтовавшейся черни. И вы пожали плоды вашего бессилия и трусости: в подвалах екатеринбургской чека расстрелян отданный вами в жертву любимый сын ваш, и дочери ваши, и ваша супруга. Расстреляны и вы, ваше величество, и расстреляны правильно, хотя и не теми руками. Таков неизбежный удел дезертиров и трусов…
У меня тоже есть любимый сын, единственный сын, так же как у вас, государь. И я, отправляясь сегодня на фронт вместе с последними защитниками поруганной и оплеванной родины, говорю своему десятилетнему сыну: „Маленький князь Петр Бармин! Если твой отец падет в бою, возьми его оружие и громи красную банду осквернителей России, не уподобляйся государеву сыну, обреченному на смерть и преданному родным отцом. Будь, мой сын, смелым и отважным воином и сражайся до полной победы или умри в бою…“»
На этой странице стояла дата: „1919 год“.
«„Сие есть сын мой возлюбленный…“ Таков был твой глас, господь, обращенный к единственному сыну твоему, посланному тобою на распятие. Нет, господь бог! Сегодня я, смиренный раб твой Григорий, перестаю быть смиренным и обвиняю тебя в жестокости и трусости: ты не бог, а трус и палач! Сам ты не пошел обличать грехи и преступления людские, устрашился грязи и крови на земле, а послал на смерть сына, наказав ему любить врагов своих. И люди, злобствуя, распяли твоего юродивого сына, и плевали ему в лицо, и издевались над ним. И тебя самого, бога-вседержителя и творца, люди убили в сердце своем, и перестал ты существовать в их сознании, потому что ты не бог, а сыноубийца, трус и палач!
Сегодня, уходя на фронт, я говорю сыну своему возлюбленному: не уподобляйся распятому Иисусу, ничего не прощай врагам. Если я паду в бою, пусть ненависть моя к предателям России вселится в твою душу, пусть она жжет тебя ненасытной жаждой мщения тем, кто, поправ все законы, унизил нашу отчизну. Если же ты, дорогой сын, простишь им их преступления и поклонишься им, пусть моя тень будет преследовать тебя всю жизнь и пусть мое проклятие испепелит тебя. Сын должен походить на отца, а я, твой отец, никогда не был малодушным и мягкотелым, не был дезертиром, трусом и палачом. Я жил и умер как солдат».
На этой странице стояла дата: «1920 год».
Отложив записную книжку, Андрей долго сидел в глубокой задумчивости. Отсюда, из круглого чердачного окна высокой башни, хорошо были видны извивы покрытой льдом речушки, и деревни на ее берегах, и дальние хутора, и сизые дымы над избами, и заснеженные поля, и еле заметный на горизонте синеватый лес.
Андрей с грустью подумал о чужой жизни, которая вдруг раскрылась перед ним в старых фотографиях, в альбомах, в страшных, полных тоски и горечи заметках в записной книжке. И он на секунду представил, как когда-то давно мимо этих убогих деревень и хуторов по санной дороге, которая и сейчас убегала вдаль, теряясь в лесу, мчался крытый возок с княжескими гербами, а в нем сидел его сиятельство князь Григорий Борисович Бармин, владелец замка, всей окрестной земли, повелитель десятков тысяч нищих, забитых мужиков. Оборванные, голодные, они выходили к дороге, кланялись князю, провожали взглядами его сверкающий начищенной медью и лаком возок. Это их, мужиков, точно таких, как милый сердцу Андрея дед Силыч, как Илья Длугач, Демид Плахотин, братья Кущины, князь именовал «чернью» и «красной бандой». Это их он бил по зубам, как скотину, порол плетьми, а в годы гражданской войны вешал и расстреливал до тех пор, пока его жизнь не оборвала матросская пуля…
Почти весь день Андрей бродил как в воду опущенный. Все студенты еще с утра уехали в город — кто к родственникам и знакомым, кто посмотреть в кинотеатре новую картину, а кто просто так, пошататься по улицам.
Повалявшись на койке с учебником биологии в руках, Андрей стал засыпать. Его разбудил стук распахнувшейся двери. В дверях, бледный, всклокоченный, смеясь и плача, стоял дряхлый Северьян Северьянович с листком бумаги в дрожащих руках.
Андрей вскочил с койки, кинулся к старику, спросил испуганно:
— Что с вами, Северьян Северьяныч? Что случилось?
— Андрей Дмитрич… Андрюша, — всхлипывая, забормотал старик.
Волоча ноги, держась руками за стенку, он вошел в комнату, в бессилии опустился на табурет, протянул Андрею бумагу.
— Вот, Андрюша, — размазывая слезы по небритым щекам и захлебываясь от плача, прошамкал Северьян Северьянович, — сподобился я перед смертью… сжалился надо мной, грешным, Христос-спаситель… Письмо мне прислал молодой князь Петрушенька… из самых, должно быть, дальних заморских стран прислал… Вот и конвертик, а на нем столько марок разных!.. Жив, выходит, князь Петруша… Я же его, голубеночка-младенца, на руках носил, сыночком и внучком в тайности от других называл, потому что так и прожил я свой век сиротой-бобылем и не дал мне господь ни жены, ни детей…
Северьян Северьянович достал платок, вытер слезы, — высморкался и протянул Андрею письмо:
— Прочитай мне все, что тут писано, Андрей Дмитрич, прошу тебя, прочитай, потому что стал я вовсе слаб глазами…
И Андрей стал читать медленно и громко:
«Милый и дорогой Северьян Северьянович! — писал молодой князь Бармин. — Пишу я тебе в надежде, что ты еще жив и получишь эту весть из чужих краев. Если бы ты знал, как мне хотелось бы побывать в России, хоть одним глазом, хоть со стороны глянуть на наши русские поля, на реки и перелески, услышать в подвечерье деревенские наши песни, прижаться щекой к земле и так умереть, замирая от счастья…
Все мы живы и здоровы. Почти десять лет мы живем во Франции, в департаменте Ланды, неподалеку от моря. Мама вышла замуж за хорошего человека, господина Гастона Доманжа. У него свои виноградники и небольшая винодельня. И хотя мой отчим из тех, кого у вас называют сейчас буржуями, я его уважаю за доброе отношение к маме и к нам с Катей. Выйдя замуж, мама лишилась княжеского титула, но ни она, ни мы не жалели об этом, бог с ним, с титулом…
Сестра Катя заканчивает классический лицей, а я недавно кроме лицея закончил частный иезуитский колледж (есть во Франции такие школы), а сейчас учусь в военном училище на артиллерийском отделении и сам не знаю, зачем я туда поступил. Училище это русское, вроде Академии Генерального штаба, и преподают в нем бывшие царские генералы и полковники…
Няня Клуша в прошлом году умерла. Все годы она тосковала по России, каждый день рассказывала нам сказки, часто плакала и пела нам с Катей старинные русские песни. Похоронена Клуша на деревенском кладбище, и я часто бываю там и приношу на ее могилу цветы. Я ее никогда не забуду, потому что она, неграмотная наша нянька, зажгла в моей, душе любовь к потерянной родине, к нашему народу, не дала раствориться в чужой стихии и забыть свой язык…
Многое довелось мне увидеть здесь за эти годы. Наряду с богатством и властью избранных тысячи тысяч бедных, бесправных людей, презрение к тем, у кого кожа другого цвета, каторжный труд рабочих, грузчиков, крестьян. Но больше всего меня возмущало и возмущает поведение наших эмигрантов, этих беглецов, вышибленных народом из России. Они все еще мечтают о возвращении домой, о том, как поставят на колени русский народ и станут учить его покорности шомполами, виселицами и расстрелами. Они, эти ядовитые скорпионы, тайно и явно плетут паутину заговоров против Советской России, готовят отряды отпетых карателей, грызутся друг с другом, как пауки в банке, выпрашивают у сильных мира сего грошовые подачки, чтобы этими иудиными сребрениками оплачивать предательство и разбой.
Конечно, не все эмигранты такие. Есть среди них много честных, но заблудившихся, достойных сожаления людей. Они тоже мечтают о возвращении на родину, чтобы трудиться и служить своему народу, а не находиться в услужении у чужих, презирающих их господ…
Теперь, дорогой наставник моего детства, я хочу сказать о самом главном, самом важном. Именно поэтому я и решил написать тебе письмо.
Ты знаешь, что лично меня, Петра Бармина, не отягощает никакая вина перед людьми. Не виноват же я в том, что родился не в бедной крестьянской избе, а в богатом замке, в титулованной княжеской семье. Когда в России свергли царя, мне было всего девять лет, я ничего не понимал и никому из людей не причинил никакого зла. Из России меня увезли, когда мне исполнилось двенадцать лет. Мог ли кто-нибудь меня, мальчика, обвинить тогда в каком-либо преступлении против парода? Нет, никто не мог упрекнуть меня ни в чем. Я и тогда не был злым, балованным барчуком, жалел людей и не имел за своей ребяческой душой никаких грехов…
И все же теперь, на чужбине, когда я повзрослел и стал понимать жизнь, я вдруг почувствовал, что меня невыносимо тяготит сознание страшной вины перед родной страной и перед русским народом. Я почувствовал, что на мне, человеке, которого зовут Петр Бармин, лежит тяжкая, вековая вина моих предков, моего отца и что я должен искупить их бесчисленные преступления. Ведь это они роскошествовали и пировали в своих замках, когда тысячи крестьян гибли от голода, нищеты и болезней. Это они служили кровопийцам-царям, усмиряли народные восстания, командовали целыми краями и губерниями, сажали в тюрьмы и ссылали на каторгу, а сами наживали несметные богатства. Они гордились своими подвигами во имя России, гордились тем, что проливали кровь в сражениях против чужеземцев-захватчиков. Но разве эти их заслуживающие признания и благодарности подвиги могли перевесить на чаше весов все то жестокое и злое, что они причинили народу?
Больше всего и чаще всего я думаю при этом о своем отце. Чью кровь он проливал и в кого стрелял, будучи в белых армиях Корнилова и Деникина? В иноземцев? В преступников? Нет, он, верой и правдой служа темным силам прошлого, расстреливал свой народ, чьим трудом жили мы, поколения князей Барминых, и подобные нам паразиты…
Сознание того, что на мне, ни в чем не виновном, никому не причинившем никакого зла, лежит вина моих предков, и особенно тяжкая вина моего родного отца, не дает мне покоя, мучает меня, и я сейчас думаю о тех новых, еще неведомых мне путях, по которым я пойду, чтобы кровью своей, а может быть, самой жизнью искупить вину перед русским народом…
Это твердое мое решение, и в этом решении каждый день укрепляет меня мой новый друг, разделяющий все мои мысли. Я безмерно рад, что встретил его и что он поддерживает меня. Этот человек появился у нас не очень давно. Он бывший офицер казачьих войск, потом служил в белой армии, был ранен и оказался за границей. Его зовут Максим Мартынович Селищев…»
Андрей вздрогнул, почувствовал, что смертельная бледность покрыла его лицо. Северьян Северьянович поднял голову, посмотрел на замолчавшего Андрея красными от слез глазами.
— Что ты, Андрюшенька? — спросил он.
— Максим Мартынович Селищев, — сказал Андрей, с трудом ворочая непослушным языком, — это мой дядя, родной брат моей матери… Он без вести пропал много лет назад…
Весь вечер Андрей бродил в парке, обошел кругом весь замок, потом, разгребая валенками снежные сугробы, куря папиросу за папиросой, пошел в сад.
На темном небе призрачно мерцали звезды. Обнаженные деревья чернели на белом снегу. В ближней деревне лаяла собака, и гулкое эхо разносило по спящим, заснеженным полям ее хрипловатый, тоскливый лай.
Андрей ходил между деревьями, напряженно всматривался в смутное, туманное и глубокое свечение неба, как будто безмолвное, пугающее своей бесконечностью пространство могло ответить на немой вопрос Андрея, облегчить и разрешить все, что свалилось на него в этот пасмурный зимний день…
«Как непонятны и странны судьбы людские, — думал Андрей, — и как трудно предугадать неожиданные их повороты и столкновения… Это пугающе новое, что надвигается на деревню и чему завтра я, Андрей Ставров, должен буду отдать все свои силы и жизнь. Как оно повернется? Как его встретят тысячи тысяч крестьян? Примут ли они это новое, если даже умные, учащие других и уважаемые учениками люди говорят о нем по-разному? Этот расстрелянный красными князь, перед смертью заклинавший сына мстить народу, и его чистый душой, честный сын, который вдруг принял на себя вину многих поколений… И дядя Максим, которого все считали давно погибшим и который вдруг объявился где-то в далекой Франции. Как он жил все эти годы и что думает о своей судьбе? И что подумают теперь о дяде Максиме отец, мать, Тая? И как я расстанусь с Елей, и неужели когда-нибудь исчезнет, умрет моя любовь к ней?..»
Так, шагая по снегу, думал в этот холодный зимний вечер взволнованный Андрей, но на его молчаливые, смятенные вопросы не мог ответить никто — ни безмолвные, тихо звенящие ветвями деревья в саду, ни усеянное мерцающими звездами небо, ни покрытая пушистым снегом, скованная морозом земля…
4
Молодой князь Петр Бармин и Максим Селищев сидели в бистро на берегу залива. За время своей работы на винодельне мсье Доманжа Максим успел привязаться к Бармину. Маленький, тщедушный, с вьющимися белокурыми волосами и нежным румянцем на щеках, он казался значительно моложе своих лет и, хотя ему пошел двадцать второй год, был похож на скромного, застенчивого подростка.
В этот утренний час в бистро никого не было. Сонная хозяйка с удивлением посмотрела на ранних посетителей, поставила перед ними кувшин вина, кусок сыра и продолговатое блюдо с устрицами.
— Прошу вас, господа, — сказала она, оправляя крашеные волосы и сдерживая зевоту, — устрицы самые свежие, их на рассвете доставляют мне местные рыбаки…
— Что-то долго нет наших, — сказал Бармин и посмотрел на часы, — к девяти они должны были подъехать.
— Не волнуйся, подъедут, — успокоил его Максим.
Уже пятые сутки они бродили в сосновых лесах на побережье Бискайского залива, посещали одинокие домики лесников, ночевали в палатках среди песчаных дюн, ездили с рыбаками на моторных ботах ловить омаров. В этом путешествии принимали участие девятнадцатилетняя Катя, сестра Бармина, ее подруга Габриэль, хорошенькая девчонка, дочь богатого виноградаря Гишара, тайно влюбленная в Петра; были с ними и Гурий Крайнов и молодой коммерсант из Бордо Альбер Дельвилль, веселый холостяк, имеющий виды на Катю.
Два дня назад Дельвилль усадил в свой шестиместный «рено» обеих девушек, Крайнова и укатил с ними в Байонну, а оттуда — к перевалу Сомпорт, чтобы показать своим спутницам северные склоны Пиренеев, полюбоваться горными реками и посетить хижины пастухов…
— Не нравится мне, что Дельвилль так настойчиво обхаживает сестру, — сказал Бармин, попивая кисловатое прохладное вино. — Если Катя выйдет за него замуж, она никогда не вернется в Россию.
— А что ж ей делать? — резонно заметил Максим. — Девушке девятнадцать лет, надо ей как-то устраивать свою судьбу.
Они помолчали. За распахнутыми окнами бистро тускло светилась гладь залива. По заливу скользили черные рыбацкие лодки. День был теплый, влажный и пасмурный, обычный зимний день на побережье Атлантики. Моросил едва заметный дождь, такой мелкий, что он казался влагой, оседающей на земле и на темно-зеленых иглах высоких сосен.
Петр Бармин задумчиво посмотрел в окно.
— Сейчас там, у нас дома, в России, лежат снега, — сказал он, — под стрехами крыш блестят ледяные сосульки… мальчишки катаются на салазках… одетые в полушубки и в валенки женщины носят воду на коромыслах…
— А на Дону темнеют проруби, — сказал Максим, — казаки наши ставят в них вентери… В такую пору хорошо ловятся рыбец, селява, таранка… И по всем станицам свадьбы шумят…
Хозяйка бистро, которая успела ловко подкрасить губы, не без интереса прислушивалась к грустному разговору двух ранних посетителей, так непохожих один на другого, и, хотя не понимала русского языка, безошибочно заключила: «Эмигранты, конечно. Тот высокий брюнет с седыми висками, по всему видно, офицер, а мальчик-блондин, должно быть, его родственник».
Глянув на хозяйку, Максим сказал, понизив голос:
— Знаешь, Петя, мне не очень хотелось бы говорить об этом, но и промолчать нельзя. Понимаешь, мне кажется, что тебе надо быть подальше от Крайнова.
— Почему? — спросил Бармин.
— Потому что он никому не открывает себя до конца. Я его хорошо знаю, мы ведь из одной станицы. Человек он храбрый, воевал, как положено донскому казаку, но сейчас помешан на одном: на свержении Советской власти. Он путается со всякой сволочью, связан с какими-то тайными организациями в разных странах. И я очень боюсь, чтоб он не вовлек тебя в какую-нибудь аферу. А зачем это тебе? Зачем это нам с тобой? Советскую власть признал в России весь народ, и мы, русские, должны для себя сделать выводы даже здесь, за границей, если мы не хотим порвать со своим народом навсегда.
— Я это хорошо понимаю, — сказал Бармин, — и ни в какие аферы меня не вовлечет никто.
— Мы, Петя, должны подумать с тобой и о другом, — сказал Максим.
— О чем?
— Чтобы вилла твоего отчима не стала пристанищем для заговорщиков. А это может случиться. Княгиня Ирина Михайловна по своей доброте сердечной жалеет земляков-беженцев, а мсье Доманж в угоду ей принимает на виноградники всех без разбора, особенно осенью. Такие, как Крайнов, могут воспользоваться этим.
— Я поговорю с матерью, — сказал Бармин, — и попробую предупредить отчима. Он, как ты знаешь, старается отгородиться от всякой политики, надеюсь, согласится со мной.
К ним, оправляя белый передник, подошла хозяйка.
— Может быть, господам угодно кофе? — спросила она, улыбаясь и охорашиваясь.
— Нет, мадам, — сказал Максим, — лучше уж кувшин вина. Я слышу сигнал автомобиля, это наши друзья. Вино им будет больше по вкусу…
В бистро ввалились Дельвилль и Крайнов с девушками. В руках у них были рюкзаки, свертки, кульки и корзины.
— Замрите в восторге и приготовьте себя к наслаждению, господа! — с порога закричал горбоносый кареглазый Дельвилль. — Сейчас мадам Вижье зажарит нам куропаток, запечет под моим руководством бок горной козы, и мы начнем лукуллов пир!
— Как жаль, Пьер, что вы не поехали с нами! — защебетала Габриэль. — Вы знаете, Катрин была в восторге, ей так понравились горы!
Габриэль прижимала руки к груди, встряхивала коротко остриженными темными волосами, всячески стараясь привлечь внимание Бармина. Он улыбнулся ей, помог снять голубую непромокаемую курточку.
— Я тоже жалею, Габриэль, — сказал Бармин, — но утешаю себя тем, что это не последняя наша поездка.
Красивая, похожая на брата Катя сказала:
— Там совсем близко граница Испании. Мсье Дельвилль говорит, что Испания очень интересная страна. Мне хотелось бы побывать там, посмотреть старинные монастыри, бой быков.
Максим усмехнулся:
— Зрелища не очень похожие. У вас, Катя, видимо, широкая натура.
— О, если только мадемуазель Катрин выразит желание, — галантно сказал Дельвилль, — у меня есть полная возможность предоставить ей такое удовольствие.
Катя многозначительно посмотрела на него:
— Возможно, весной я попрошу вас об этом, мсье Дельвилль, если к весне вы отрастите себе маленькие бакенбарды тореадора.
— Для вас, Катрин, хоть бороду библейского пророка…
Мадам Вижье оказалась не только гостеприимной хозяйкой, но и весьма искусным кулинаром. Часа через два поджаренные под ореховым соусом куропатки и запеченный в духовом шкафу козий бок распространяли на столе такой аппетитный аромат, что шаловливая чревоугодница Габриэль забегала, нетерпеливо облизывая губы, а Дельвилль щелкал пальцами и причмокивал.
Начался обещанный Дельвиллем пир. К столу пригласили и хозяйку. Зазвенели стаканы.
— А что, мадам Вижье, у вас тут всегда так пусто? — спросил Максим. — Я смотрю, что с самого утра, кроме нас, не показывается ни один посетитель.
Мадам Вижье жеманно вздохнула:
— Увы, мсье, гости бывают у меня только во время купального сезона, а зимой приезжают лишь ищущие уединения влюбленные.
Гурий Крайнов, развалясь на стуле, пил стакан за стаканом. Беззастенчиво разглядывая пышные формы сорокалетней хозяйки, он все ближе подвигался к ней и заговорил, пьяно осклабясь:
— Если вы живете одна, то не очень, должно быть, приятно слышать звуки поцелуев и оставаться при этом в одиночестве? А, мадам?
Хозяйка слегка отодвинулась от Крайнова, засмеялась:
— Мсье почти угадал. Мой бедный муж был убит в самом конце войны проклятыми бошами, и с тех пор я одна, если не считать старого калеку Жозефа, который именуется сторожем, а целыми днями спит на сеновале.
— О, — закричал Крайнов, — тогда я пью за прекрасных вдов Франции и за то, чтобы на сеновалах они держали не старых калек, а донских казаков!
Он залпом выпил кружку вина, углом скатерти вытер губы.
— Ты бы попридержал себя, Гурий, — сказал Максим, — надеюсь, ты еще различаешь, что за столом у нас не только прекрасные вдовы и не только донские казаки.
Дельвилль посмеивался, лукаво подмигивал Кате, подкладывал ей лучшие куски дичи. Габриэль глаз не сводила с Бармина. Она тоже слегка опьянела, но держалась бодро.
А Крайнов пил кружку за кружкой и захмелел совсем. Голова его клонилась к столу, но он вздрагивал, вскидывал отяжелевшую голову, принимал горделивую позу и смотрел на всех мутными, полузакрытыми глазами.
— Вот смотрю я на вас и думаю: почему мы все оказались с обрезанными крыльями? — с трудом ворочая отяжелевшим языком, сказал Крайнов. — Поч-чему мы равнодушно миримся с тем, что Россию превратили в б-бордель? А? Молчите? А я скажу. П-потому что мы, русские офицеры, потеряли честь, потеряли достоинство, превратились в слизняков, в дерьмо. А з-замечательные наши союзники — англичане, американцы, французы — такое же дерьмо. Они не понимают, не хотят понимать того, что з-завтра большевики доберутся до них и п-повыпустят пух из их н-нагретых толстыми з-задницами перин…
Крайнов произнес все это по-русски. Ни Габриэль и Дельвилль, ни хозяйка бистро не поняли его слов. Они только переглянулись и вопросительно посмотрели на Бармина и Максима: чем, мол, недоволен их подвыпивший приятель?
Брезгливо поморщившись, Бармин сказал:
— Пойдите проспитесь, Крайнов. Вы пьяны и, очевидно, не хотите считаться с тем, что здесь сидят девушки. Я вынужден напомнить вам об этом.
Опрокинув стул, Крайнов поднялся, оперся о стол.
— Ладно, князь, я пойду. Я л-лягу спать, — невнятно сказал он, — но душа у меня никогда не спит. Она не спит с тех пор, как банда красных поработила Россию. А у в-вас душа спит, п-потому что вы все предатели…
Пошатываясь, Крайнов вышел. За ним побежал Дельвилль. Наступило неловкое молчание.
— Извините, мадам Вижье, — сказал Бармин, — наш спутник очень много выпил.
— О, это ничего, — сказала хозяйка, — мне довольно часто приходится видеть такие картины. Я, с вашего разрешения, пойду приготовлю вам комнаты, мсье Дельвилль просил меня об этом.
Она, мило улыбаясь, увела с собой девушек.
— Я знал, что так будет, — сказал Максим, — он в последние дни все время какой-то взвинченный.
Бармин кивнул:
— Я это тоже заметил.
— Пойдем, Петя, побродим, — сказал Максим.
Они вышли, закурили. Сквозь низкие серые облака проглянуло солнце. Лучи солнца сияющей полосой легли на воду залива. На черепичной крыше одинокого дома мадам Вижье ворковали голуби. Свежо пахло водорослями и влажным песком.
Петр Бармин стоял опустив голову. Максим посмотрел на его бледное мальчишеское лицо, и внезапная жалость к этому доброму, наивному юноше сжала сердце Максима. Он ласково похлопал Бармина по спине, положил руку на его плечо.
— Трудно нам с тобой, Петя, — сказал Максим, — и особенно трудно тебе, я это понимаю. Оторвала нас судьба от своей земли, забросила на чужбину, и кто знает, когда мы вернемся домой и вернемся ли? Но ты не горюй, парень. Душа у тебя честная, мысли правильные. Надо только держаться и не уступать таким озлобленным людям, как Крайнов. Надо верить, милый ты мой Петя, в то, что там, на родине, если только мы останемся чистыми перед ней, нас простят и поймут.
Он помолчал и добавил:
— Я вот в белой армии был потому, что ничего не понял в той буре и хотел остаться верным своей офицерской присяге. Потом уже здесь, когда глазам моим открылась правда, белые приговорили меня к расстрелу. Многое я перенес, многое испытал, но я не потерял веры в свой народ, я ему верю, Петенька, и буду верить всегда.
Петр Бармин посмотрел в глаза Максиму, обнял его и сказал:
— Я тоже верю и буду верить, потому что без этой веры лучше не жить…
5
То ли старый садовод Егор Власович Житников заметил у Андрея Ставрова особую любовь к деревьям и старательность в работе, то ли одинокий, хмурый старик был покорен тем, что Андрей постоянно сопровождал его в утренних прогулках по саду и при этом настойчиво расспрашивал о жизни деревьев, но уже к концу первого года Житников стал выделять Андрея из всех студентов техникума, охотно беседовал с ним и про себя решил, что Андрей Ставров может стать лучшим его учеником, а в будущем — настоящим садоводом.
Стать садоводом твердо решил и сам Андрей. Каждую свободную минуту он проводил в саду, подолгу стоял перед какой-нибудь яблоней, грушей или сливой, всматриваясь в цвет коры, изучая форму листьев, осторожно лаская пальцем нежную завязь. Ползая на коленях, он внимательно осматривал каждую извилину на штамбе, разыскивая почти незаметные, потаенные ходы одного из опаснейших садовых вредителей — древесницы въедливой. По цвету и виду листа он уже научился понимать все, что как будто хочет, но не может сказать людям безмолвное дерево: не хватает ли ему влаги, или что-то нужно добавить в его питание, или оно просит разрыхлить почву, потому что плотная, затвердевшая земля мешает ему дышать.
Андрей почти убедил себя в том, что дерево не только живое существо, которое рождается, растет, зреет, старится и умирает, но что оно, подобно человеку, может испытывать радость бытия, боль и страдание, что у каждого из деревьев есть свой характер, свои желания, свое настроение. Однажды с каким-то стыдливым удивлением Андрей признался себе в том, что он начинает любить и жалеть деревья так же, как любит и жалеет людей.
Все это, вначале полушутя, а потом вполне серьезно внушил Андрею Егор Власович Житников. Нелюдимый, угрюмый, резкий до грубости человек, который не стеснялся обзывать нерадивых парней-студентов самыми непристойными, оскорбительными прозвищами и мог оборвать любого начальника, Житников, оставаясь наедине с деревьями, совершенно преображался. Его злые, свинцового цвета глаза вдруг светлели, становились грустными и ласковыми, черты грубого, обветренного лица смягчались, и весь он становился совсем другим человеком. Как-то весной, бродя по саду, Андрей увидел Житникова. Понуро опустив голову, Егор Власович стоял над молодой грушей. Деревья в саду сияли бело-розовым цветением. Над ними хлопотливо жужжали пчелы. Все вокруг благоухало, светилось под лучами теплого солнца. Только невысокое, в человеческий рост, деревцо, возле которого, опираясь на палку, стоял Житников, казалось неживым: его кора была сухой, сморщенной, а серо-зеленые, еще не распустившиеся почки уже зловеще чернели на концах. Подойдя ближе, Андрей увидел, что Егор Власович плачет.
Заметив Андрея, он сердито нахмурил седые брови, отвернулся, незаметно вытер слезы.
— Вот, Ставров, так умирает дерево, — сказал он, — болезнь уже истощила его, а называется она бактериальный рак и поражает корни. В отличие от рака у человека, с этой болезнью можно бороться, но мы прозевали, прохлопали и очень хорошую грушу обрекли на смерть. А жаль, очень жаль…
Егор Власович постоял, погладил ладонью сухую ветку дерева, словно попрощался с ним, и заговорил глухо:
— Мы еще не дошли до настоящего понимания дерева, не научились любить и уважать его. Гордясь своим человеческим разумом, мы считаем дерево известным сочетанием клеток, и только. Это глубокая ошибка. Только тот, кто на своем веку вырастил тысячи яблонь, груш, слив, вишен, черешен, кто годами общался с деревом, как с другом, вдруг в одно прекрасное время становится зрячим и начинает видеть поразительное сходство деревьев с миром животных и даже с человеком…
Он строго посмотрел на Андрея, загнутой ручкой стариковской палки прикоснулся к его груди:
— Знаешь ли ты, студент Ставров, что любой саженец, любое дерево-младенец поддается воспитанию точно так же, как ребенок? Да-да! Из него можно сделать обжору, капризника, попрошайку. Не веришь? Зря. Из одинаковых саженцев я берусь воспитать разные по характеру яблони: одна из них, по моему желанию, станет этакой маминой дочкой, хлипкой, привередливой, скулящей при малейшем дуновении ветра, другая будет здоровой, румяной, веселой, неприхотливой, как деревенская дивчина, которой нипочем морозы и стужи. И разве этой способностью поддаваться нужному тебе воспитанию дерево не похоже на человека? И это не единственное сходство, Ставров. Плодовое дерево подвержено многим болезням, имеющим поразительное сходство с болезнями человека. Возьмем тот же бактериальный рак. Знаешь, что это такое? Это очень похожие на раковые опухоли злокачественные наросты на главных корнях, на корневых мочках, у корневой шейки. А парша яблони или груши? Ведь у человека есть болезнь, которая даже называется точно так же, паршой. Обе эти болезни — человека и дерева — заразные, распространяемые особыми грибками…
Глаза Житникова блестели, голос был почти торжественным, и Андрей слушал его, стараясь не проронить ни одного слова.
— Дерево испытывает боль так же, как человек, — сказал Егор Власович, — его можно тяжело ранить, избить, изуродовать. Его можно замучить, применяя пытки жаждой и голодом, можно умертвить, лишив света и воздуха. Так же, как человек, дерево испытывает со своим избранником великое таинство любви и оплодотворения. Да-да! И венчается оно не с первым встречным, а только с тем, к кому тянется все его существо. И свадебных гостей у него не счесть — солнце и ветер, тысячи тысяч пчел, шмелей, птиц весело участвуют в этой свадьбе…
Вновь коснувшись палкой груди Андрея, Житников сказал с непонятной грустью и горечью:
— Но есть, однако, многие черты, которыми яблоня или груша, абрикос или рябина коренным образом отличаются от людей. Они отличаются…
— Чем же, Егор Власович? — не без робости спросил Андрей.
— Тем, что в отличие от людей в мире деревьев нет лжи и предательства, клеветы и зависти, жестокости и мучительства. В этом мире, Ставров, нет ревности, нет глупости, злости, воровства, нет распутства, убийств, грабежей, нет всего того темного, чем, к сожалению, отличается род людской…
Обычно такие разговоры Житников вел по утрам, перед началом занятий. Он и приучил Андрея вставать рано и, гуляя в саду, присматриваться к каждому дереву. Почувствовав, что в Андрее он нашел благодарного и внимательного слушателя, старик каждое утро рассказывал ему о жизни плодовых деревьев, о сортах яблонь, груш, вишен, слив, и по его рассказам выходило, что деревья действительно похожи на людей, но только чище и лучше их.
Андрей понял, что Егор Власович, видимо, пережил что-то очень тяжелое, о чем он никогда не говорил, но чего не мог забыть. Поэтому к тем преувеличениям, которые допускал в своих разговорах старый садовод, Андрей относился сдержанно. Вместе с тем Андрея привлекала угрюмая одержимость Житникова, его влюбленность в свое дело и поразительное знание живого мира деревьев. Очеловечивая деревья, Житников относился к ним, как к детям. Он скучал по отдельным деревьям в саду, по утрам подходил к ним, подолгу осматривал каждую кольчатку, каждую плодуху на ветвях, думал о чем-то, потом начинал разговаривать с деревом.
Первое время он немного стыдился Андрея, как стыдился бы один человек открывать перед другим самое дорогое и сокровенное, а потом привык к тому, что Андрей, подобно тени, сопровождает его в утренних прогулках, и перестал стесняться.
Как-то в присутствии Андрея Егор Власович затеял разговор с яблоней, растущей в дальнем углу сада. Он подошел к яблоне, постоял, ковырнул палкой землю в лунке и заговорил с тихой укоризной:
— Ну чего, милая моя, пригорюнилась? Что? Чувствуешь себя неважно? Сейчас поглядим. Верхушки побегов у тебя побледнели и листочки желтеть стали… Здесь у тебя не болит? — Он тронул рукой одну из ветвей яблони. — Нет? Хорошо. А здесь? Болит? То-то. Ну ничего, потерпи. Мы тебе поможем.
Повернувшись к Андрею, Егор Власович сказал:
— Запоминай, Ставров. Это — типичный хлороз, довольно серьезное заболевание. А вызвано оно тем, что корни яблони недостаточно поглощают соли железа на щелочной почве. Какой-то дурак с осени сунул ей в лунку свежий неперепревший навоз, и вот тебе результат. Попробуй ее сегодня опрыскать двухпроцентным раствором железного купороса…
Студенты боялись Житникова, дрожали перед сдачей ему экзаменов по плодоводству, про себя называли его «бурбоном» и «психом», посмеивались над ним и над Андреем.
— Он не ученый, а деревенский знахарь, — говорили они Андрею, — и к тому же немного тронутый…
— И ты, как пить дать, угодишь с ним в сумасшедший дом, там уж вы наговоритесь вдосталь…
Но Андрей не обращал никакого внимания на незлобивые насмешки товарищей, каждый вечер запоем читал книги по плодоводству, вел подробный дневник своих наблюдений за садом, все больше привязывался к Житникову, вечерами стал ходить к нему домой, и старик охотно беседовал с ним, с упоением рассказывал о многих садах, которые он, агроном Житников, насадил и вырастил в разных краях России.
Сад при техникуме, так же как вся земля вокруг, до революции принадлежал князьям Барминым. Обширная — около шести десятин — площадь его была обнесена высокой живой оградой из густо посаженных пирамидальных тополей. Княжеский сад на протяжении полувека сажали приглашенные старым Барминым из Австро-Венгрии садоводы-чехи, отец и сын. Местные жители рассказывали Андрею, что это были дотошные, грамотные люди. Они выкорчевали в саду низкоурожайные деревья плохих сортов, стали выписывать саженцы из лучших русских и заграничных питомников, пробурили в разных концах сада четыре артезианских колодца, годами занимались выведением новых сортов, перепрививкой, подсадкой.
Егор Власович показал Андрею десятки красочных каталогов, изданных владельцами разных питомников.
— Эти чехи знали и любили садоводство, — сказал он, — по каталогам видно, какие у них были связи. Вот каталог помологического сада известного Регеля, он выращивал под Петербургом хорошие сорта крыжовника и смородины. Это — каталоги питомников графа Уварова. Это — воронежские питомники Карлсона… Это — знаменитого Льва Платоновича Симиренко, он владел великолепным питомником в Черкасском уезде и создал несравненное по вкусу и лежкости зимнее яблоко… Это — иностранцы: Людвиг Шпет из Берлина, Вильморен из Парижа, американец Старк из штата Луизиана…
Помедлив, Житников протянул Андрею пожелтевшую от времени, скромно изданную брошюру.
— А этот каталог, сказал он, — запомни, Ставров, на всю жизнь.
На обложке брошюры чернели крупные строки:
«Полный иллюстрированный прейскурант фруктовым, декоративным деревьям и кустарникам, а также свежего сбора семенам плодовых деревьев, имеющихся в садовом заведении Ивана Владимировича Мичурина».
— Я хорошо знаю Мичурина, — задумчиво сказал Житников, — именно таким должен быть каждый настоящий садовод, человек с железной волей, с терпением, умеющий годами ждать результата своих трудов. Вряд ли кому-нибудь довелось испытать столько горя, унижения, разных бед, сколько до революции выпало на долю Мичурина. Полунищий садовод-любитель, травимый злобствующими мещанами и попами, проводивший опыты на клочках бросовой земли, не признанный царскими чиновниками, он сумел возвыситься над всей этой сволочью и своими неусыпными трудами завоевал мировое признание. В этом помогла ему Советская власть, помог Ленин. Молодой коммунист Горшков стал его первым и главным помощником. Всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин посетил Мичурина в Козлове, за ним закрепили землю, ему дали необходимые средства…
Егор Власович полистал старый мичуринский прейскурант, бережно положил его на книжную полку.
— В прошлом году я встречался с Иваном Владимировичем, — сказал Егор Власович, — он мечтает о том, чтобы вся наша страна была покрыта садами. Не такими садами, предназначенными для немногих, как высаживали князья Бармины или графы Уваровы. И не такими жалкими и убогими, какие можно встретить сейчас в крестьянских усадьбах. Нет, Ставров. Он мечтал о море садов с самым лучшим сортовым отбором, чтобы их плодами мог пользоваться весь народ, чтобы дети Советского Союза, где бы они ни находились, могли бы круглый год лакомиться свежими плодами. И это будет, но будет тогда, когда десятки миллионов крестьянских дворов объединятся в колхозы…
Одержимый идеей повсеместного развития садоводства, Егор Власович Житников сумел увлечь своей идеей и Андрея Ставрова. С каждым днем Андрей все больше проникался мыслью о том, что цель, поставленная Мичуриным, обязательно должна стать главной целью жизни каждого садовода, в том числе и его, Андрея Ставрова. И он дал себе слово, что отдаст этому все силы…
В один из прекрасных дней, прогуливаясь по центральной улице города, Андрей неожиданно увидел Елю. С ней шли Павел Юрасов, Виктор Завьялов и две Елиных подруги: смешливая Аля Бойзен и скромная, молчаливая Нина Шведова, высокая девушка с длинной светлой косой, ее познакомил с Андреем Павел.
Это была первая встреча Андрея с Елей после памятной им обоим размолвки, когда, подчиняясь гнетущему чувству ревности, Андрей наговорил Еле много грубых, оскорбительных слов…
Скрывая смущение, Андрей подошел, поздоровался.
— Куда это ты? — спросил Павел.
— Так, никуда, — глядя в сторону, сказал Андрей, — надоело сидеть в своем роскошном замке, вот я и брожу.
— Если хочешь, пойдем с нами, — сказала Еля.
Андрей вспыхнул от радости. Своими словами Еля дала ему понять, что прощает его и не помнит обиды.
— А вы куда? — спросил он, волнуясь.
Еля засмеялась:
— Тоже никуда, так же как ты.
— Тогда знаете что, — сказал Андрей, — давайте съездим в наш техникум, я вам покажу сад, правда, там уже почти все снято, остались только зимние яблоки.
Аля Бойзен, облизывая яркие губы, спросила кокетливо:
— А у вас в саду черти не водятся?
— Какие черти? — удивился Андрей.
— Обыкновенные, которые могут соблазнить меня яблоком. Я ведь, Андрей, не очень стойкая, вроде Евы.
— Не болтай, Алька, — остановила подругу Нина. — Если ехать, так ехать. Ты как, Еля?
Еля встретилась взглядом с Андреем, опустила глаза и слегка шевельнула округлым плечом:
— Поедем, пожалуй, все равно делать нечего…
Они сели в автобус, выехали за город. По дороге Андрей рассказывал о замке, о странной и грустной судьбе молодого князя Бармина, о своем дяде Максиме Селищеве, чьи следы совсем недавно отыскались во Франции, с восторгом говорил о Егоре Власовиче Житникове.
Через час автобус остановился на широкой, поросшей желтеющей травой площади у замка.
— Ого! У вас тут, оказывается, настоящий дворец, — сказал Павел Юрасов.
— В таких хоромах можно учиться, — добавил Завьялов.
Предупредив дежурного по техникуму и спросив разрешения у Егора Власовича, Андрей повел своих друзей в сад.
Стоял погожий солнечный день поздней осени. В прохладном безветрии серебрились натянутые меж ветвями деревьев тонкие, еле заметные нити — призрачный след вестника холодов, паучка-кочевника. Кроны яблонь еще зеленели, но в глянцевитой листве груш уже пробивался темный багрянец, а поредевшая листва черешен и абрикосов оранжево желтела.
Андрей неторопливо водил своих гостей по междурядьям сада, осторожно срывал яблоки и говорил, по-мальчишески гордясь своими знаниями:
— У нас не убраны только самые поздние сорта. На днях мы начнем их снимать. Угощайтесь. Это — пармен зимний золотой, обратите внимание на яркую раскраску плода. Его родина — Англия… Это — бойкен, старинный немецкий сорт с очень приятной кислотой… Эти алые красавицы — пепин шафранный, яблоко с сильным и нежным ароматом. Над ним несколько лет работал Мичурин, это любимое его детище… А это внешне неказистое, без румянца яблоко — знаменитый на весь мир ренет Симиренко, творение украинского садовода Льва Платоновича Симиренко. Он сидел в царских тюрьмах, был в сибирской ссылке, а свое прекрасное яблоко назвал в честь отца…
Девушки с интересом слушали Андрея, а Павел с Виктором многозначительно переглядывались: знает, мол, черт окаянный, чешет прямо как профессор.
После того как все сорта зимних яблок были испробованы, непоседливая Аля с умыслом или без умысла потянула Нину и Павла с Виктором на опушку леса.
— Пойдемте, мальчики, — капризно сказала она, — я давно хочу познакомиться с лешим. Говорят, если сводить лешего в баню и в парикмахерскую, он становится симпатичным дирижером джаза…
Андрей и Еля остались одни. Обоим им было неловко.
— Там, на краю сада, есть скамейка, — сказал Андрей, — давай посидим немного.
Старая деревянная скамья стояла на берегу неширокой речки, к которой примыкал сад. Андрей и Еля сели.
Оба берега речки заросли невысокой густой кугой. Неподалеку от скамьи чернела брошенная кем-то лодка с проломанным днищем. На ближней отмели плескались утки. По тихой, прозрачной воде плыли опавшие листья.
— Ну что ж ты молчишь? — исподлобья поглядывая на Андрея и слегка улыбаясь, спросила Еля.
Андрей достал папиросу, закурил. Опустив голову, он смотрел в сторону.
— Хорошо, давай будем молчать, — сказала Еля.
— Я уже все сказал, — надкусив и выплюнув кончик папиросы, проговорил Андрей, — я все давно тебе сказал.
— Что именно?
— То, что я тебя люблю… то, что я одной тобой дышу, что жить без тебя не могу… что ты для меня и горе, и радость…
Он повернулся к Еле и отодвинулся от нее, боясь, что сейчас не выдержит, прильнет к ней, станет целовать ее лицо, руки…
— Скоро мы расстанемся, Еля, — сказал Андрей, мучаясь оттого, что говорит сейчас не то, что надо, — скоро я закончу техникум, получу назначение куда-нибудь к черту на кулички, дороги наши разойдутся, и ты даже не вспомнишь обо мне.
— Откуда ты знаешь? — сказала Еля. — Может быть, и вспомню. Ты ведь, в сущности, неплохой парень, но…
— Но что?
— Но иногда я тебя боюсь.
Андрей удивленно поднял брови:
— Боишься? Почему?
— Я знаю, что ты меня любишь, знаю уже почти пять лет, — сказала Еля, вертя в пальцах яблоневую веточку, — ты говорил мне об этом еще в школе. Помнишь лесную прогулку, и ландыши, и как ты, звереныш, руку себе резал ржавым ножом? Ты, Андрей, дикарь. Честное слово, дикарь. И я боюсь тебя, твоей дурацкой ревности, твоей необузданной, сумасшедшей какой-то любви…
Лицо Ели слегка зарумянилось и стало еще красивее. Она посмотрела на сидевшего с опущенной головой Андрея, улыбнулась. Видимо, ей, торжествующей, испытывающей горячее и радостное волнение от только что услышанных слов любви, тронутой тем, что Андрей, диковатый парень, уже пять лет упрямо говорит об этой любви, бледнеет и теряется при встрече с ней, стало его жалко.
Она тихонько коснулась веточкой руки Андрея:
— И еще, я боюсь тебя, потому что ты рыжий…
В голосе Ели прозвучала скрытая ласка.
— Какой же я рыжий? — с радостной растерянностью сказал Андрей. — Я белобрысый.
Еля подвинулась ближе, несколько раз ударила Андрея веточкой по руке:
— Нет, рыжий, рыжий, рыжий…
Андрей рванулся, обнял ее, хотел поцеловать в губы, но Еля, не отстраняясь, быстро отвернулась, подставила румяную, теплую щеку. И он, как когда-то в Огнищанке, забыв обо всем на свете, стал целовать ее волосы, шею, руки. Позволяя ему целовать себя, Еля прятала губы, отворачивалась, слабо отстраняла его рукой. Щека Ели становилась все горячее, а поцелуи Андрея все неистовее и жарче…
— Довольно, — прошептала Еля, — хватит!
Андрей покорно встал, провел рукой по волосам, оправил пояс. Еля с той же торжествующей улыбкой смотрела на него.
— Ну, скажи, разве ты не дикарь?
Снова присев на скамью, Андрей взял Елину руку и, порывисто поглаживая ее, ощущая ладонью теплую и гладкую кожу этой самой дорогой, самой любимой сейчас для него руки, заговорил хрипловато:
— Елка! Выходи за меня замуж! Честное слово! Ты ведь видишь, ты не можешь не видеть, как я тебя люблю… Я всегда буду любить тебя, всю жизнь… Мы уедем с тобой далеко-далеко, будем работать, будем помогать людям… Ты странная, Елка. Ты не любишь меня… Мне кажется, что ты вообще никогда никого не полюбишь, потому что ты любуешься только собой, своим красивым лицом, глазами, фигурой. Поэтому ты часами торчишь перед зеркалом и всегда держишься так, будто ты на сцене и на тебя смотрит весь мир…
— Дурак ты, Андрей, — спокойно сказала Еля, дурак и самый настоящий дикарь. Чего это тебе поперек дороги зеркало стало? Вот я и сейчас достану зеркальце и буду приводить себя в порядок. Так делают все.
Она щелкнула перламутровым замком модной сумочки, ловким движением вынула крохотное зеркальце, гребенку, губную помаду, разложила все это на скамье и стала прихорашиваться, кокетливо улыбаясь. Андрей молча смотрел на нее.
— Ну ладно, — сказал он, — зеркальце, пожалуй, девушке нужно, гребенка тоже, с духами можно примириться. Но скажи, пожалуйста, зачем портишь себе губы этой дрянью? Рот, милая моя Елочка, у тебя и так немножко великоват, а ты еще раскрашиваешь его помадой какого-то идиотского помидорного цвета.
Склонив голову, Еля секунду полюбовалась собой, уложила все свои вещицы в сумочку, поднялась со скамьи и сказала с прежним спокойствием:
— Похвальный тон, милый мой жених! Интересно, как бы ты заговорил со мной, если бы я действительно вышла за тебя замуж? Наверное, с плеткой в руках?
— Что ты, Еля, — смутился Андрей, — это я просто так. Тебе не надо украшать себя, ты и без украшений самая красивая.
— Спасибо.
Издалека послышался звонкий голос Али, она звала подругу.
— Меня ищут, пошли, — сказала Еля.
Андрей тронул ее за рукав:
— Прошу тебя, подожди.
Оглянувшись, он прижался губами к ее щеке, и она не оттолкнула его, не отстранилась, и он навсегда запомнил этот счастливый для него осенний день в безлюдном, роняющем листья саду…
6
О том, что Максим Селищев жив и здоров, что он оказался во Франции, в департаменте Ланды, семья Ставровых узнала из письма Андрея. Настасья Мартыновна, прочитав письмо, всплеснула руками, заплакала навзрыд и только, давясь слезами, шептала:
— Ой, боже мой, боже мой… братик нашелся… нашелся бедный мой братик, горемычный мой…
Федя — из всех молодых Ставровых он один в эти дни оказался дома — по своему возрасту не помнил дядю Максима и потому отнесся к письму Андрея спокойно.
Дмитрий Данилович ходил, заложив руки за спину, и хмурился.
— Как же мы Таечке об этом скажем? — заволновалась Настасья Мартыновна. — Бедная девочка с ума может сойти от радости. Ведь все эти годы она одна верила, что ее отец жив… Надо сразу же написать ей и Максиму…
Она вскочила, засуетилась.
— Федя, дай мне листок бумаги.
Волнение и суетливость жены не понравились Дмитрию Даниловичу. Ему в эту пору было не до Максима. Больше того, известие о том, что его пропавший без вести шурин, бывший белоказачий офицер, не только остался живым, но и стал эмигрантом, напугало и встревожило Дмитрия Даниловича.
— Подожди, Настя, — жестко сказал он. — Ты знаешь, что я всегда любил Максима и считал его порядочным человеком. Я рад, что он жив. Но нужно ли писать ему сейчас? За всеми заграничными письмами следят. Надвигается сплошная коллективизация, вот-вот начнется раскулачивание. Все это не обойдется без борьбы и без крови… Ты что же, своим письмом хочешь поставить нас всех под удар и погубить детей?
Настасья Мартыновна побледнела.
— Как же так? — пробормотала она растерянно. — Мы почти десять лет не знали о Максиме ничего, ждали, надеялись… И потом, Тая, родная его дочка… Марина умерла… На всем свете их, близких, осталось только двое, и они оба ничего не знают друг о друге… Как же можно молчать? Как можно скрывать от Таи, что ее отец жив?
Дмитрий Данилович постоял у окна, посмотрел на заснеженный двор, на покрытую снеговой шапкой скирду соломы. Мысли его уже были далеко от жены, от Максима, от всего, что сейчас происходило в его семье.
— Черт с вами, делайте что хотите, — сказал он, махнув рукой.
Когда Дмитрий Данилович вышел, надев полушубок и сердито хлопнув дверью, Настасья Мартыновна кинулась к Феде.
— Феденька, сыночек, — запричитала она, — пока отца нет, спиши адрес дяди Максима, а как вернешься в Пустополье, отдай Тае, пусть она напишет… ей ничего не будет за то, что она напишет письмо родному отцу.
— Хорошо, мама, — пообещал Федя, — я обязательно скажу Тае, то-то она обрадуется.
Он еще раз внимательно прочитал письмо Андрея, аккуратно переписал адрес Максима и листок с адресом положил в карман куртки.
— Ты, мама, не беспокойся, — сказал он, — отец ничего не будет знать…
Между тем Дмитрий Данилович, сунув руки в карманы старого потертого полушубка и потупив голову, бесцельно шагал по протоптанной в снегу тропинке между конюшней и скирдой соломы. Тяжкие мысли одолевали его. После приезда детей на каникулы прошлой весной и после разговора о том, вступать ли им, Ставровым, в колхоз, который, конечно, в Огнищанке будет организован в ближайшее время, Дмитрий Данилович понял, что и у жены, и у детей свои планы, что все они по-разному наметили свой жизненный путь и что, значит, как это ни тяжело и ни жалко, пришла пора прощаться с Огнищанкой, с землей, с конями и коровами, бросать все то, чем они жили почти десять лет, и уезжать неведомо куда.
В ту весну Дмитрий Данилович долго и мучительно думал обо всем этом, тщетно искал выход, который позволил бы семье остаться в Огнищанке и не расставаться с этой глухой, затерянной среди холмов деревушкой, с ее людьми, с землей. Но выхода Дмитрий Данилович не находил, наперекор семье идти не хотел и потому в одну из дождливых осенних ночей, когда наморенная за день Настасья Мартыновна крепко уснула, он заперся в амбулатории и написал письмо наркому здравоохранения.
«Дорогой товарищ нарком, — писал Дмитрий Данилович, — я прошу Вас дочитать мое письмо до конца и помочь мне найти выход из того трудного положения, в котором я оказался. Я родился в бедной крестьянской семье на Волге, в детстве батрачил у местного кулака, учился в церковноприходской школе, а потом в высшем начальном училище, которое не мог закончить по бедности. В 1913 году был призван в царскую армию и направлен в военно-фельдшерскую школу, которую успешно закончил. Всю империалистическую войну провел на фронте, ротным фельдшером, был ранен и награжден тремя медалями. В гражданской войне участвовал на стороне красных, будучи батальонным фельдшером.
В зиму 1920/21 года я был демобилизован и вернулся в родное село на Волгу, где жила моя семья — жена и четверо детей, а также мои родители и все родственники.
Дома я застал только разорение, голод и смерть. Ни у кого не оставалось ни куска хлеба, ни горсти зерна. Люди съели последний подыхающий от бескормицы скот, коней, кур, собак, кошек и стали умирать от голода десятками. Мои дети в эту пору питались древесной корой, им варили кожу от конской упряжи. Чтобы спасти семью, я покинул село и вместе с женой и детьми, с умирающим отцом, с невесткой и ее маленькой дочкой уехал куда глаза глядят…
Так в конце зимы 1921 года мы случайно оказались в деревне Огнищанке, Пустопольской волости, Ржанского уезда, где я получил место фельдшера. Голод мы пережили, только отец мой умер от истощения. Весной 1922 года Огнищанский сельсовет укрепил за мной землю, всего десять с половиной десятин — по полторы десятины на душу…
Но что я мог сделать с этой землей, если у меня не было ни коня, ни плуга, ни телеги, не было даже лопаты? Я мог только выйти на этот выделенный мне Советской властью участок земли, стать на меже, кусать локти и плакать от бессилия…
И все же, как говорится, мир оказался не без добрых людей. Двух выбракованных, разбитых на ноги меринов мне оставил красный командир-латыш из проходившей через деревню воинской части. Огнищанские жители, благодарные мне за то, что я, не зная отдыха, бескорыстно и безотказно оказывал им медицинскую помощь, поделились со мной кто чем мог: один, отпахавшись сам, одолжил мне для пахоты свой плужок, другой — упряжь, а многие, отрывая от себя последнее и жалея моих голодных детей, давали семена для посева: кто ведерко пшеницы, ячменя или ржи, кто мешок кукурузы…
И вот прошло семь лет. Год от года, занимаясь крестьянским хозяйством, мы стали жить лучше: забыли про голод, оделись, обулись. Всего этого моя семья достигла своим трудом. Мы недосыпали ночей, работали от рассвета до темноты, руки наши и сейчас корявые и жесткие от мозолей…
И стал я, товарищ нарком, замечать за собой в последние годы какую-то жадность. То ли память о страшном голоде и о смерти многих дорогих для меня людей мутила мне душу и не давала покоя; то ли память детства и жалкая участь бесправного батрачонка, которую я испытал, порождала во мне эту ненасытную жадность; то ли присущая всем хлеборобам-трудягам мужицкая гордость — как бы люди не подумали, что я лодырь и лежебока, — гнала меня в поле ни свет ни заря, — этого я и сам не знаю.
Признаюсь честно: я сам себя гонял на работе до седьмого пота, гонял, не жалея, жену и детей, и все мне хотелось, чтобы в моем дворе было больше зерна, чтобы поля мои были самыми чистыми, а кони и коровы самыми лучшими. Иногда я, задумавшись, втайне именовал себя кулацкой сволочью, а потом, опомнившись, думал: „Постой. Погоди. Чего ж это ты, Дмитрий Ставров, так честишь себя? За что? Какой же ты кулак? У тебя никогда не было и нет никаких батраков, ты не пользовался ничьим наемным трудом. Изобилия и достатка в твоем дворе достигли ты сам и твоя семья. Или, может, ты считаешь, что было бы лучше, если бы поля твои заросли сорняками, худые кони стояли в конюшне нечищеными, некормленые коровы давали всего по кружке молока. Так, что ли?“
Теперь, когда в деревне Огнищанке должен быть организован колхоз, жена и дети заявили мне, что они не хотят работать на земле, что у них у каждого своя дорога в жизни и что пришла пора распрощаться с землей и с Огнищанкой…
Я долго думал и об этом, товарищ нарком. Я не хотел и не хочу бросать работу на земле. Мне жаль полей, на которых я трудился. Жаль коней, которых я вырастил с жеребят и ухаживал за ними, как за детьми. Жаль коров, которых я принимал на руки при их рождении, а они были горячие, мокрые и были окутаны паром. Мне жаль всего в моем дворе: деревьев, которые посадили я и мои дети, телегу, на которой мы ездили, лопату, которой мы копали до кровавых мозолей…
Но сейчас другого выхода у меня нет. Я должен уехать из Огнищанки навсегда. Может, кто-нибудь назовет меня при этом дезертиром и скажет: убоялся, мол, колхоза. Может, кто-нибудь подумает, что я хочу сбежать от раскулачивания, — пускай думает. Я не дезертир и, как фельдшер, раскулачиванию не подлежу. Уехать же я должен по трем причинам.
Причина первая. Я не могу идти против желания жены и детей, которые все годы работали на земле не меньше, а больше, чем я сам, и потому имеют полное право решать судьбу нашего хозяйства и свою судьбу: оставаться им в колхозе или учиться дальше и стать военными, врачами, инженерами. Они же решили, что нам надо уехать.
Причина вторая. Я мог бы остаться фельдшером здесь, в Огнищанке, и никуда не уезжать, предоставив детям право учиться и жить, где они хотят. Но, прощаясь с землей и не желая, чтобы кто-нибудь назвал меня человеком, настроенным против коллективизации, я решил все нажитое за время работы на земле имущество нашей семьи (за исключением личных вещей, одежды и обуви) безвозмездно передать в Огнищанский колхоз. Но поскольку, живя здесь, я не смог бы примириться с тем, как нерадиво, не по-хозяйски работают в колхозе на бывших моих конях местные лодыри, как эти кони падают от голода и обиды и как уродуется и ломается лодырями все, что я нажил своим трудом, мне необходимо уехать из Огнищанки навсегда.
Причина третья. Может быть, во мне действительно появились черты кулака? Может быть, это чисто кулацкая психология и я только обманываю себя? Если это так, то я сам обязан убить в себе кулака, убить так, чтобы он, сволочь и гадина, не воскрес никогда. Значит, и по этой причине я должен проститься с землей и остаток своей жизни целиком посвятить медицине, то есть тому, чему меня учили и что я, помимо своей воли, стал забывать ради дорогой для меня с детства, любимой мною и замучившей меня земли.
Исходя из всего изложенного, я прошу Вас, товарищ нарком, перевести меня из деревни Огнищанки в самую отдаленную местность Советского Союза, куда Вы найдете нужным и где люди нуждаются в медицинской помощи…»
Дмитрий Данилович долго ждал ответа из Москвы, от всех скрывал свое письмо наркому, не спал ночей, похудел, и даже лицо его стало каким-то изможденным и темным. И только сегодня, спустя три месяца, он получил письмо из Москвы.
В письме было всего несколько строчек, отпечатанных на машинке:
«Фельдшеру Д. Д. Ставрову, деревня Огнищанка, Пустопольского района, Ржанского уезда.
В соответствии с Вашим желанием Вы по личному указанию наркома направляетесь в распоряжение Амурского областного отдела здравоохранения. Вам надлежит явиться в город Благовещенск, Дальневосточного края…»
Сейчас, шагая по снежной тропинке, глубоко взволнованный, погруженный в невеселые думы, Дмитрий Данилович понял одно: выбор сделан, никаких изменений быть не может, а это значит, что жизнь семьи Ставровых в Огнищанке закончилась и, хотя, кроме него, главы семьи, никто об этом не знает, последняя черта уже подведена…
Глава восьмая
1
Это памятное для страны время было названо «годом великого перелома». И действительно, с осени 1929 года до осени 1930 года произошли события, которые начисто сломали, разрушили многовековые устои крестьянского быта и круто повернули жизнь десятков миллионов людей на новый, неведомый им путь.
Назвать точное количество крестьянских хозяйств в СССР не мог в ту пору никто. В одних официальных документах значилась цифра двадцать два миллиона, в других она доходила до двадцати пяти миллионов. Такая огромная разница — в три миллиона дворов — объяснялась тем, что ежедневно по всей стране исчезали тысячи учтенных статистиками хозяйств — крестьяне целыми семьями покидали деревню, уезжали на стройки, в города, а многие — куда-нибудь, лишь бы уйти от пугающей неизвестности, которая, подобно грозовой туче, надвигалась на деревню. За внезапным переселением множества крестьянских семей не могли уследить никакие статистики, и поэтому никто не мог назвать точную цифру людей, чья жизнь встала на пороге, за которым этих людей ждало неведомое.
Положение осложнялось тем, что в этот памятный год ломалась привычная жизнь не князей и графов, не помещиков и фабрикантов, начисто развеянных ветром революции, а жизнь тружеников-земледельцев, которые должны были навсегда распрощаться со своим наделом земли, с конем и с плугом, с бороной и телегой, объединить всю землю, скот, орудия своего труда и начать работать артелью.
В эту осень во всех хуторах, деревнях и селах, в сельсоветах и райисполкомах, на вокзалах и городских улицах заалели плакаты: «Ликвидируем кулачество как класс на основе сплошной коллективизации».
По весьма приблизительным подсчетам статистиков, в Советском Союзе числилось один миллион сто тысяч кулацких хозяйств. Все эти хозяйства подлежали раскулачиванию, то есть конфискации и передаче имущества в фонд организуемых колхозов, а владельцы кулацких хозяйств вместе с семьями — принудительной высылке в отдаленные местности страны. Казалось бы, в год великого перелома, когда все села и деревни напоминали растревоженные муравейники, страну неизбежно должен был постигнуть голод, потому что колхозы в массе своей только организовывались, миллион сто тысяч кулаков выселялись и поля весной могли остаться незасеянными.
Многим показалось тогда чудом, что этого не произошло. Единение, сила, воля, трудолюбие и терпение советских людей, разум и воля Коммунистической партии преодолели все.
«Ввиду того что приказом народного комиссара здравоохранения я переведен на работу в Дальневосточный край, прошу принять от меня Огнищанскую амбулаторию. Кроме того, не желая, чтобы мой отъезд кто-нибудь посчитал за бегство от коллективизации и стремление утаить нажитое мною имущество, я решил безвозмездно передать таковое в фонд будущего Огнищанского колхоза. Прошу Вас принять от меня: лошадей — 3, корову — 1, арбу — 1, бричку — 1, сеялку — 1, косилку-лобогрейку — 1, плуг — 1, бороны — 2, а также семенной пшеницы яровой — 63 пуда и два поля, засеянных с осени озимой пшеницей, — 4 десятины. Помимо указанного я передаю в фонд колхоза весь без исключения мелкий инвентарь, как-то: косы ручные, грабли, вилы, лопаты штыковые и черпачные, топоры, катки, решета и тому подобное.
Медицинский фельдшер Д. Ставров».
Председатель сельсовета Илья Длугач долго читал принесенное Дмитрием Даниловичем заявление.
— Чего это ты, товарищ фершал, придумал? — сказал он, насупившись. — Кто тебя в шею гонит? И потом, не совестно тебе оставлять деревню в то время, когда нам грамотные люди позарез нужны?
Дмитрий Данилович проговорил сухо:
— Я обо всем думал и все взвесил, Илья Михайлович. Другого выхода у меня нет. Дети подросли, учатся все, скоро получат разные специальности. В деревне они работать не будут. Может, только один старший, он в сельскохозяйственном техникуме. Ну да разве свет клином сошелся на огнищанском колхозе? Закончит техникум, назначат его куда-нибудь. А я стареть начал, жена нездорова, ей настоящее лечение нужно…
Длугач бесцельно переложил картонные папки на столе, повертел в руках карандаш. Он ценил и уважал фельдшера Ставрова, и ему очень не хотелось расставаться с ним.
— Ну а с этим самым твоим имуществом… — сказал Длугач. — Чего ж ты сам себя лишаешь всего, что нажил честным трудом? К чему, скажи ты мне, колхозу такие подарки?
— А куда я все это дену? — угрюмо спросил Дмитрий Данилович.
— Как куда? Продать можно. Или гроши тебе не нужны?
— Кто сейчас купит коней или косилку? — махнув рукой, сказал Дмитрий Данилович. — Каждый понимает, что все равно и коня, и плуг, и все такое прочее придется в колхоз отдать.
Зорко глянув на похудевшего, мрачного фельдшера, Длугач вдруг спросил:
— Ты, Данилыч, случаем того… не забоялся ли, что под раскулачивание можешь попасть? А? Так это, я тебе скажу, беспокойство напрасное.
— А что? — вызывающе сказал Дмитрий Данилович. — Хозяйство у меня подходящее, можете и раскулачить, если есть желание.
Длугач усмехнулся:
— Чудак человек… Дело тут не в желании. У нас есть указание: сельских учителей и прочих специалистов, которые работают в деревне, ни в коем случае не раскулачивать, даже если бы у них было доброе хозяйство. Ясно?
— Раскулачивания, Илья Михайлович, я не боюсь, — сказал Дмитрий Данилович, — не такое у меня хозяйство, чтобы его зачислить в списки кулацких. Просто мне нельзя здесь больше оставаться. Нет у меня тут никакой цели. Понимаете? Пока надо было спасать от голода семью, я трудился, ночей недосыпал, даже самых малых детей заставлял работать. Прошли годы, дети выросли, скоро разъедутся в разные стороны. Что же мне остается делать?
— А разве лечить людей — это, по-твоему, не цель или не работа? — сухо произнес Длугач. — Или же ты, Данилыч, полагаешь, что кто-нибудь тебя силком в колхоз загонит и заставит гнуть спину в поле?
Дмитрий Данилович укоризненно взглянул на председателя сельсовета:
— Зря вы стараетесь меня обидеть, Илья Михайлович. Конечно, лечить огнищан — это почетная для меня и важная задача. И я бы остался здесь, если бы…
— Если бы что, товарищ фершал?
— Если бы я смог смотреть со стороны и спокойно мириться с тем, как будут работать в колхозе такие отъявленные лодыри, как Тютин и его жена, как поля позарастают бурьянами, а скотина будет стоять нечищеная, некормленая и непоеная. Будь я помоложе и поздоровее, тогда ладно, а при моем возрасте к чему мне эта музыка?
— Ты что же, Данилыч, в колхозы не веришь, что ли? — спросил Длугач. — Или же полагаешь, что заместо доброго, хозяйского колхоза у нас будет шарашкина контора?
Дмитрий Данилович поднялся с табурета, шагнул к столу.
— В колхозы я верю, дорогой Илья Михайлович. Верю и в то, что в Огнищанке когда-нибудь будет хороший, передовой колхоз. Но я знаю, сколько в первые годы будет в этом колхозе неполадок, грызни, бесхозяйственности, попыток спрятаться за спину другого. Терпеть все это при моем характере я не смогу… — Он помолчал и добавил грустно: — Потом, Илья Михайлович, назначение мое уже состоялось, так что теперь поздно говорить. Скажу только одно: мне очень жалко расставаться с Огнищанкой. Я привык к огнищанским полям, к людям и, может быть, когда-нибудь, если буду жив, вернусь сюда…
Длугач тоже поднялся, подошел к Дмитрию Даниловичу, положил руку ему на плечо.
— Ну что ж, Данилыч, — сказал он, — прощевай, путь тебе добрый. Насчет имущества — это ты решай сам, мы тебя неволить не станем. Ежели решение твое твердое, то перед отъездом зайди скажи, мы пошлем комиссию, нехай примет по твоему желанию. Да не уезжай так, чтоб мы не знали, надо же проводить тебя как положено: доброй чаркой водки и добрым словом… — Обняв Дмитрия Даниловича, Длугач продолжал: — Жалко мне, что ты уезжаешь. Время настает такое, что дел невпроворот. Ну да ладно. У каждого, как говорится, своя судьба…
В этот день Дмитрий Данилович рассказал наконец Настасье Мартыновне о своем письме наркому, об ответе из Москвы и о заявлении, поданном в сельсовет. Она вначале заплакала, задумалась, а потом спросила:
— Как же ты оставляешь колхозу все нажитое? На какие же деньги мы будем добираться до Дальнего Востока? Чем станем питаться в дороге? Ты об этом подумал? И как поступить с детьми?
— Не хнычь! — раздраженно сказал Дмитрий Данилович. — Можно продать телку, кабана, кур, кровати, столы, все лишнее барахло. Кроме того, я получу подъемные деньги на себя и на семью. А дети? Что ж, заберем их с собой. На Дальнем Востоке тоже есть и рабфаки, и школы. Тут до лета останется один Андрей. Летом он закончит свой техникум, сдаст экзамены, получит аттестат и приедет к нам.
— А вдруг его назначат куда-нибудь в другое место? — с тревогой в голосе спросила Настасья Мартыновна.
— Если он сейчас попросится на Дальний Восток, его с удовольствием пошлют туда, — сказал Дмитрий Данилович, — в Москву или Ленинград не послали бы, а к черту на кулички — пожалуйста, никто удерживать не будет…
С этого дня в семье Ставровых начались сборы. Впрочем, к отъезду готовилась одна Настасья Мартыновна. Она отвела на пустопольский базар телку-двухлетку, с помощью деда Силыча отвезла и выгодно продала откормленного кабана, полсотни кур, пять мешков лущеной кукурузы. Демид Плахотин купил у нее кровати, буфет и сундук; Шабриха, которая собиралась выдавать замуж Васку и готовила ей приданое, сторговала у Настасьи Мартыновны стол, стулья, посуду.
Что касается Дмитрия Даниловича, то он ни во что не вмешивался и ходил чернее тучи. Чем больше вещей исчезало из дома и более пустыми становились комнаты, тем больше мрачнел Дмитрий Данилович. Как только Настасья Мартыновна собиралась ехать на базар или приводила домой кого-нибудь из покупателей, он надевал полушубок, шапку и уходил в поле, чтобы не видеть, как день за днем исчезает все, что годами наживалось его семьей.
Подолгу стоял он над засеянным с осени полем и, погруженный в думы, не видел ни чуть присыпанной снежком зеленой озимки, ни темнеющего вдали леса, ни облаков, которые равнодушно проплывали над холодной, скованной морозом землей.
Задавая корм кобылам, он старался не смотреть на них, не мог слышать их тихого приветственного ржания, старался поскорее убрать конюшню и уйти куда-нибудь. Лошадей Дмитрий Данилович любил без памяти, баловал их и гордился ими. Все три кобылы стояли сейчас с округлыми, тяжелыми животами, весной они должны были ожеребиться, и Дмитрий Данилович, на минуту представив, как кто-то чужой, бездушный и жестокий человек, наваливает на телегу непосильный для его любимиц груз и как отощавшие от бескормицы кобылы спотыкаются и падают на дорогу, роняя с удил кровавую пену, стонал от боли и жалости и убегал, бормоча сквозь зубы:
— Хотя бы скорее все это кончилось, у меня уже сил нет…
Теперь, в эту тревожную зиму, Дмитрию Даниловичу казалось, что пустеющий дом, в котором он жил, и конюшня, и до каждого камня знакомый двор напоминают место, откуда вот-вот вынесут покойника и под унылый вой ветра и причитания метели понесут по снежной долине, и все вокруг осиротеет, притихнет и замрет от горя и печали в холодной зимней мгле.
2
>
Он ждал этой ослепительной вспышки огня, страшного грома, неминуемой смерти и потому, чуя, что смерть уже за спиной, перед самым выстрелом рванулся вправо, на секунду припал к холодной земле и резкими скачками понесся к синеющей опушке леса. Картечь слегка обожгла ему левый бок, но он не почувствовал боли и не умерил бега до тех пор, пока густая чаща молодого подлеска не скрыла его. И на этот раз одноухий волк спасся от гибели.
Добежав до кромки поросшего терновником оврага, он присел, насторожил острое ухо, тревожно оглянулся. Вокруг никого не было, только шумел ветер. Волк разомкнул челюсти, высунул язык, несколько раз ткнулся носом в бок, разыскивая ноющую боль под левой лопаткой, потом стал лизать снег. Мелкий сыпучий снег недавно выпал и, разнесенный ветром, редкими пятнами лежал по яристому краю оврага.
В длинном извилистом овраге одноухому волку были знакомы каждый куст, каждая протоптанная зверями тропа. Тут, в крутой отрожине, под корневищем сухого вяза, скрытое буреломом от людских глаз, темнело глубокое логово, в котором рождались предки одноухого волка, родился он сам и родились его дети. Никто не знал, сколько зарезанной в свирепых набегах живой твари — овец, телят, гусей, кур, зайцев, собак — было съедено вдалеке от потаенного темного логова вечно голодным, ненасытным родом одноухого волка. Лишь раскиданные по кустам и каменистым ложбинам белые кости оставались памятником кровавых пиров.
Тяжело поводя боками, волк посидел немного, еще раз осмотрелся, втянул ноздрями морозный воздух и пополз в логово. Тут, в темноте логова, его охватили издавна знакомые запахи горьковатых сухих трав, свалянной шерсти и сырой земли. Он с трудом повернулся в темном логове, прерывисто вздохнул и, положив на лапы лобастую голову, закрыл глаза…
— Ушел, проклятый! — сквозь зубы сказал Длугач, закидывая за плечо старое одноствольное ружье. — Теперь его сам черт не найдет…
Вечерело. Хмурое, неласковое небо низко клубилось над пустынными полями, ветер нес по дороге белесые клочья поземки, но на западе, на краю лесной опушки, багряной полосой светился неяркий закат.
«Мороз будет крепчать, — зябко поеживаясь, подумал Длугач, — а у меня дрова в сельсовет не завезены».
Он вспомнил о том, что на завтрашнее утро в сельсовете назначен общий сход граждан, на котором председатель уездного исполкома Долотов должен делать доклад о коллективизации и высылке из Ржанского уезда кулаков. Длугач знал, что в Огнищанке к раскулачиванию и высылке намечены двое: Антон Терпужный и Тимофей Шелюгин. К этим двум людям председатель сельсовета Длугач относился по-разному: прижимистого, хитрого и злого Терпужного яростно ненавидел, а смирного, работящего Тимоху Шелюгина втайне жалел.
«Чурбак дурноголовый, — шагая по дороге, думал он о Шелюгине, — в Красной Армии служил, кровь за Советскую власть проливал, а потом залез по самую глотку в воловье дерьмо и человека в себе убил».
— Хрен с тобой, — сердито проговорил Длугач и сплюнул на дорогу, — сам знал, на что шел, теперь, брат, рассчитывайся как положено…
Запахнув шинель, он пошел быстрее. Заря притухала, тускнела. Пасмурное небо еще ниже нависло над землей. Стал срываться редкий снежок. Длугач шел, поворачиваясь к ветру боком, старательно обходя промерзшие суглинистые кочки.
На развилке дорог, когда уже показались крайние хаты Огнищанки, он увидел человека. Сутулясь, приподняв барашковый воротник полушубка, человек медленно шел навстречу Длугачу и пристально всматривался в него.
«Кто бы это мог быть?» — подумал Длугач и узнал Тимофея Шелюгина. Солдатский ремень туго стягивал его полушубок, за ремень был заткнут топор, а на плече, перехваченная узлом, лежала веревка. Красивое лицо Шелюгина было бледно, губы под рыжеватыми усами плотно сжаты, а глаза казались пустыми.
Увидев Длугача, Шелюгин остановился и сказал:
— Здорово, Илья.
— Здоров, Тимоха, — ответил Длугач.
Шелюгин глянул на тонкую линию потухающей зари, проговорил глухо:
— Мороз, должно, покрепчает.
— Да, видать, покрепчает, — согласился Длугач.
— Может, перекурим? — спросил Шелюгин, исподлобья посматривая на Длугача.
— Давай перекурим…
Они сошли с дороги и сели на пеньках один против другого. Когда-то до войны Казенный лес доходил тут до самой развилки дорог, потом его стали рубить, а после революции на огнищанском холме остались только черные от палов корявые пни. Длугач вынул кисет, неторопливо протянул его Шелюгину:
— Кури.
Тимофей стал сворачивать цигарку. Пальцы его дрожали, махорка сыпалась на полушубок.
— А ты куда это на ночь глядя? — спросил Длугач.
— За дровами, — сказал Шелюгин, ломая спички одну за другой и тщетно пытаясь прикурить. — В хате холодно, хоть собак гоняй.
Длугач хотел было сказать Шелюгину, что дрова ему больше не понадобятся и что он зря будет топить свою хату, но вместо этого сказал:
— Руки у тебя, видать, замерзли, давай я прикурю.
Оба жадно затянулись крепким, обжигающим горло махорочным дымом. Ветер притих. Снег пошел гуще. В Огнищанке зажегся первый огонек.
— Чего я хочу спросить тебя, председатель, — покашливая, сказал Шелюгин.
Длугач остро глянул на него:
— Спрашивай.
Шелюгин опустил глаза, проговорил тихо:
— Слух есть, что… это самое… что кулаков из уезда куда-то в Сибирь высылать будут.
— Ну и что? — спросил Длугач.
Пустые глаза Шелюгина блеснули и погасли.
— Слух есть, что и меня в этот список включили.
Длугач отвернулся, запыхтел цигаркой.
— Этого я не знаю, — помолчав, сказал Длугач.
— Как же так, не знаешь?
Шелюгин глянул прямо в глаза Длугачу. Длугач выдержал его долгий, полный немой укоризны взгляд. Он не мог сказать, что в списке раскулачиваемых огнищан вторым значится Тимофей Шелюгин и что скоро его, Шелюгина, под конвоем поведут на станцию, погрузят со всей семьей в товарный вагон и увезут неизвестно куда.
— Вот так. Не знаю, значит, — хмуро сказал Длугач.
Обжигая пальцы, Шелюгин докурил махорочную скрутку, швырнул ее в снег. Горящий окурок слабо зашипел. Шелюгин вздохнул, вынул из-за пояса остро отточенный топор, положил его на колени.
Ружье Длугача висело на ремне за спиной. «Сейчас ударит, сволочь! — холодея, подумал Длугач. Он сделал едва заметное движение плечом. Молнией мелькнула мысль: — Не успею…»
— Чего? Думаешь, ударю? — с горькой усмешкой спросил Шелюгин. Он положил топор у ног Длугача: — Возьми от греха, а то и вправду ударю.
Не шелохнувшись, Длугач проговорил:
— А чего ж, по дурости можно всего натворить…
— По дурости? — вспыхнул Шелюгин. — Это что ж, я по дурости в навозе копался от самого рождения и на земле работал так, что штаны и сорочки мои от пота в клочки разрывались? Или, может, по дурости эту самую землю оборонял и четыре вражьих пули в себе ношу, две германских, а две белогвардейских? Или же по дурости в голодный год с неимущими последним куском хлеба делился и хворую твою жинку Любу от смерти спас? За что ж, скажи ты мне, Илья, вы меня так караете? За что убиваете, как зверя?
Лица Шелюгина Длугач в темноте уже не видел, но по голосу, по хриплому клекоту в горле понял, что Тимофей плачет.
Холодный ветер нес крупные хлопья снега, переметал дорогу. Сквозь снежную заметь, еще приметные, тускло светились окна в огнищанских хатах.
Длугач поднялся, протянул топор Шелюгину:
— Возьми, пойдем до дому. — Он положил руку на плечо Тимофея, заговорил медленно и торжественно: — Мы что? Хоть и темные мы с тобой, Тимоха, а понятие обязаны иметь — я с одного боку, а ты с другого. Разве ж мы караем именно тебя, огнищанского гражданина Тимофея Шелюгина? Нет, брат. Тут класс на класс войной пошел, и замирения промеж них не будет. Понятно? Вот, допустим, ты бы вдарил меня топором, убил бы. А польза тебе от этого какая? Никакой. Потому что за мной несчетные тысячи крестьян-бедняков и пролетариев стоят. Одного коммуниста, Длугача скажем, убить можно, а партию убить нельзя. Ясно? Тебе же я совет даю такой: покорись жизни, нутро свое в ссылке переделай и вертайся очищенным, потому что как кулацкий класс тебя ликвидируют, а как человека на свет возродят, на ноги поставят и в семью свою примут…
— Пока взойдет солнце, роса очи выест, — еле слышно отозвался Шелюгин. — Никогда я кулаком не был и богатства себе не нажил. И знаю одно: не по правде вы делаете и за это не раз еще плакать будете, помянешь мое слово…
Помолчав, они вместе пошли к деревне. Дойдя до первого двора, Длугач остановился, протянул Шелюгину руку.
— Прощевай, Тимоха, — сказал он, — и не серчай на меня… Знаю я, что человек ты честный, не контра какая-нибудь… А только правду ты нашу не понял… Прощевай…
Еле почувствовал Длугач прикосновение жесткой, холодной руки Шелюгина и почти не услышал его слов:
— Прощевай, Илья…
В эту морозную снежную ночь Огнищанка не спала. С вечера, пока ставни были открыты, в каждом окошке светился неяркий огонь лампы, потом ставни позакрывали, и до утра в оконных щелях видны были лишь узкие полоски света. Изредка хлопали двери хат и сараев, слышались приглушенные шаги по снегу. Хрипло лаяли и подвывали собаки. Перед рассветом то в одном, то в другом дворе раздавался пронзительный предсмертный визг свиней, тишину ночи нарушали гоготанье гусей, истошное кудахтанье напуганных кур. Надрывно мычали почуявшие кровь коровы и телята.
Ветер гнал по небу клочковатые разорванные облака. Они то закрывали смутно мерцающей пеленой поздний ущербный месяц, то, сбившись клубком, неслись на запад, и месяц, на миг пробившись сквозь их завесу, освещал неверным светом беснующуюся на земле снежную мглу.
Видимо, в эту метельную, полную тревожного ожидания ночь жителям затерянной среди снежных холмов глухой деревушки казалось, что завтрашний день надвое рассечет их жизнь и они, встречая пугающе-неведомое, навсегда расстанутся с тем привычным, что веками передавалось от дедов к отцам и от отцов к детям и что было самым близким и родным в своей пропахшей дымом избе, на своем подворье, на своей земле.
Завтра все огнищанские граждане соберутся в избе-читальне на общий сход, и завтра же в деревне будет организован колхоз. Отберут у хозяев скот и птицу, увезут плуги и телеги, подушки и одеяла, кастрюли и сковородки, свалят в одну кучу, поразоряют избы, снесут плетни и заборы, построят один огромный барак, поселят огнищан в этом бараке, и уже ничто не будет своим, а все станет общим — жены и дети, земля, волы и кони, и не останется уже в деревне ни одного хозяина-хлебороба, а всех сделают батраками, бесправными рабами Советской власти, бессловесной, безъязыкой скотиной. И спасения от колхоза не будет, и никто от него не уйдет, разве только бросит все, сожжет свою избу и темной ночью покинет родную деревню, чтобы тайком схорониться и доживать жизнь в непроходимой сибирской тайге.
Это еще осенью пророчили проходившие через Огнищанку нищие старухи богомолки. Об этом в один голос твердили бежавшие из ближних и дальних уездов хозяева-мужики. Они в сумерках останавливались в деревне, наспех кормили и поили отощавших, запаленных в дороге коней, перевязывали кое-как накиданный в телеги скарб и, ругая плачущих баб и детей, шепотом говорили огнищанам:
— Конец света приходит… Под самый корень подсекают хлеборобов. Мы вот побили всю свою животину, мясо засолили и уходим куда глаза глядят. А хаты? Нехай они подавятся нашими хатами, грабители проклятые, христопродавцы…
Всю осень огнищане ходили угрюмые, молчаливые, больше отсиживались по домам. Одни днем и ночью лежали на печи, тяжело вздыхали, ворочались до рассвета. Другие, завернув к соседу, усаживались, молча курили крепкий самосад и опустив головы часами думали горькую думу.
А в эту зимнюю ночь с субботы на воскресенье, узнав накануне о том, что назначен общий сход граждан, огнищане зашевелились, как потревоженный муравейник. Почти в каждой избе еще с вечера начали точить ножи и топоры, греть воду, готовить миски и ведра, бочки и лопаты. С полуночи чуть ли не вся деревня превратилась в кровавую бойню: молотами глушили и торопливо свежевали телят, волов, яловых и стельных коров, забивали свиней и поросят, резали овец, гусей и кур. Чуть присолив горячее, окутанное паром мясо, наполняли им бочки и ящики и в темноте зарывали в потаенные хлебные ямы, хоронили в подполье, на чердаках, а то и просто закидывали снегом.
Задолго до этой полной страха и смятения ночи Илья Длугач, умудренный опытом соседних сел, строго-настрого предупреждал огнищан:
— Забой скота и всякой другой домашней живности категорически запрещен. Имейте в виду, что у нас в сельсовете есть полная опись, в которой значится не только каждая ваша корова или же свинья, но и каждая курица. Так вот знайте: ежели я недосчитаюсь у вас хотя бы курчонка — душу вытрясу вместе с потрохами, потому что забой скота — это есть подрыв Советской власти и прямая контрреволюция…
Но где было председателю сельсовета совладать с той злобой, отчаянием и паникой, которые охватили Огнищанку в ночь перед собранием.
Расставшись с Тимофеем Шелюгиным, Длугач, не заходя домой, пришел в сельсовет. Дряхлая сельсоветская дверь была приперта изнутри. Сквозь щели закрытых ставен еле пробивались тусклые полосы света. За дверью загремели, половина ее медленно приоткрылась, на пороге стоял Николай Комлев с винтовкой в одной руке и с железным ломом в другой. Длугач сердито хмыкнул:
— До зубов вооружился, герой?
Огромный, похожий на добродушного медведя, Комлев пробормотал:
— Ты же видишь, Илько, чего в деревне творится. Ну я и припер дверь ломом. Мало ли чего может содеять наша кулацкая сволота.
— Острецов здесь? — спросил Длугач.
— А где ж ему быть, на лавке там отдыхает.
Длугач прошел в комнату. Слабо освещая расклеенные по стенам плакаты, на столе, покрытом линялым, залитым чернилами красным кумачом, чадила керосиновая лампа. Ее неверный свет еле угадывался сквозь густой махорочный дым. На широкой лавке, закинув руки за голову и вытянув ноги в белых шерстяных носках, лежал Степан Острецов. Увидев Длугача, он привстал, потянулся, стал натягивать сапоги.
— Чего это? — насмешливо сказал Длугач. — Секретарь сельсовета и бывший боевой конармеец товарищ Острецов, будто невинная девка, ломиком двери припирает? Боишься, чтоб огнищанские кулачки пулю тебе в глотку не загнали?
О, если бы знал коммунист Илья Длугач, с каким свирепым наслаждением не «бывший боевой конармеец», а бывший сотник императорского конвоя, корниловский офицер и террорист Степан Острецов зубами перегрыз бы ему, Длугачу, глотку, затоптал его в снег, в мерзлую землю! Но… секретарь Огнищанского сельсовета товарищ Острецов умеет владеть собой. Вот он стоит перед Длугачем, высокий, стройный, с холодными, светлыми глазами, небрежно позевывает, поглаживает аккуратно подбритые темные усы и говорит спокойно:
— Береженого бог бережет, Илья Михайлович. Чем свою голову подставлять под пули, я лучше сам отправлю на тот свет последних контриков.
Длугач отряхнул снег с шапки-ушанки, поставил в угол ружье и устало присел на табурет:
— Ладно, я пошутковал…
Зажав между коленями винтовку, Комлев уселся на пол. Острецов, сунув руки в карманы брюк галифе, медленно заходил по комнате.
— Что, режут, гады? — хмуро спросил Длугач.
— Режут, Илько, — виновато проговорил Комлев, — в каждом дворе скотина криком кричит, а гусиный да курячий пух носится гуще снега. Прямо-таки оскаженел народ: одно знают — бьют скотину да самогон хлещут.
Долго смотрел Длугач в пол, долго в глубоком раздумье постукивал пальцами по столу.
— Я бы их, дураков темных, разложил на улице без штанов да всыпал им плетей, может, поумнели бы.
Острецов остановился у окна, свернул цигарку, вставил ее в обкуренный мундштучок.
— Не имеете права, Илья Михайлович. Во-первых, скотина, которую они режут, еще не колхозная, а их собственная. Значит, они ей полные хозяева, чего хотят, то с нею и делают. А во-вторых, ежели мы начнем прижимать не только Терпужного и Шелюгина, но и середняков, нас по головке не погладят.
— Шелюгин мне зараз встрелся, в лес ходил за дровами, — задумчиво сказал Длугач. — Жалко мне его. Мужик он добрый, а из-за кулацкой своей жадности пойдет под откос…
— К слову сказать, он не то что коровы или же телки, даже поросенка ни одного не зарезал, — тихо отозвался Комлев, — и ставни у него в избе настежь растворены, я недавно глядел…
В избе Шелюгина действительно ставни были открыты, но свет в горнице был слабый, еле заметный, потому что лампу не зажигали, а сидели при лампаде, которая висела высоко, под иконами, тихонько покачиваясь и отбрасывая на стены багряные блики.
После встречи с Длугачем Тимофей Шелюгин пришел домой, молча разделся, сел у стола и, помедлив, тихо сказал отцу и жене:
— Дров я не принес. Теперь дрова нам без надобности. Завтра или же послезавтра нас в Сибирь вышлют…
Почти беззвучно вскрикнула и зажала рот рукой маленькая круглолицая Поля, жена Тимофея. Сидевший на лавке в одном белье дряхлый дед Левон непонимающими глазами уставился на сына, приложил ладонь к уху, спросил тревожно:
— Чего это, Тимоха?
Тимофей сказал громче:
— В Сибирь нас высылают, батя. Как нетрудящих кулаков.
Замолчали. Поля, уткнувшись лицом в стол, плакала. Дед Левон дрожащими пальцами перебирал распахнутый ворот ночной сорочки. У ног Тимофея терлась белая кошка. Она прыгнула к нему на колени, замурлыкала. Тимофей осторожно снял кошку с коленей, опустил на пол.
— Хватит, Поля, — сказал он, — чего ж плакать? Слезами горю не поможешь. Не мы одни попали в эту молотилку. Давай лучше будем помалу собираться. Есть там в каморе два сундучка, в один давай уложим теплую одежду, а в другой возьмем сала, трошки муки, соли.
Тимофей поднялся, положил руку на вздрагивающие плечи жены.
— Ну не плачь, Полюшка, — ласково проговорил он, — люди скрозь живут. Готовь все, что требуется. А я пойду сена положу скотине.
Надев шапку, Тимофей вышел из избы. Так же, как всегда, он железной клюкой надергал из стога большую охапку сена, перехватил его веревкой и понес в конюшню. Увидев его, кони просительно заржали. Двое развязанных жеребят-стригунов игриво кинулись к сену. Тимофей положил сено в ясли, огладил лошадей и вышел из конюшни, притворив дверь на засов. Потом он отнес такую же охапку сена двум коровам, взял в летней кухне захолодавшее пойло и вылил в корыто свиньям, подгреб навоз возле база. В этот вечер Тимофей Шелюгин так же неторопливо, по-хозяйски исполнил все, что он делал тридцать лет, только сегодня он не говорил ни с конями, ни с коровами, а ходил по двору молча, опустив голову, и руки его исполняли привычную работу сами.
Когда Тимофей вернулся в избу, он остановился у порога, потом шагнул к жене. Плачущая Поля стояла на коленях перед раскрытым деревянным сундучком, укладывая в него старую икону. Три другие иконы, побольше, стояли прислоненные к столу. Красная лампада висела теперь в пустом углу, где остались только ржавые костыли.
— Для чего это, Поля? — сказал Тимофей. — Может, нам сундучки доведется на плечах нести. Куда ж еще иконы брать?
— Нехай берет, — хрипло сказал дед Левон, — без бога нельзя. Бог нам дал, бог и взял, на то его святая воля.
Тут только Тимофей заметил, что дряхлый его отец сидит на табурете одетый в свой поношенный полушубок и в стоптанные валенки, с шапкой и с палкой в руках.
— Куда это вы, батя? — с тревогой спросил Тимофей.
Дед Левон повернул к сыну изрытое морщинами белое, давно потерявшее загар лицо, тронул рукой зеленоватую от старости бороду:
— На кладбище схожу, с матерью покойной попрощаюсь… Думал, в одной земле с нею лежать доведется, а оно, видишь ты, что получилось.
Горло Тимофея сдавила спазма.
— Я провожу вас, батя, — сказал Тимофей, с любовью и жалостью глядя на отца.
— Не надо, сынок, кладбище рядом…
Он поднялся, маленький, согбенный, высохший за девяносто лет так, будто земля с годами высосала из него всю кровь и тянула к себе его низко наклоненную седую голову. Опираясь на палку, тяжело передвигая ноги, дед Левон вышел из избы. Он забыл прикрыть за собой дверь, и в горнице заметались красноватые при свете лампады снежинки…
Дед Левон, отвернувшись от ветра и снега, постоял посреди двора, послушал глухое топанье коней за дверями конюшни, поднял и поставил к стене коровника упавшие вилы, потом, разгребая валенками мягкий, пушистый снег, зашагал со двора на леваду. Вся шелюгинская земля — шестнадцать десятин — когда-то до революции примыкала прямо к подворью, тянулась по склону холма вдоль опушки Казенного леса и, огибая пруд, заканчивалась у развилки дорог. Теперь тут были чужие поля, поделенные огнищанами в 1921 году.
На леваде, у пруда, росли ветхие вербы. Все они были ровесницами деда Левона, а сажал их его отец в честь рождения сына. Почти каждую зиму густые кроны верб рубили, из гибких их ветвей плели плетни и корзины, а весною могучие стволы деревьев буйно гнали новые зеленые побеги, которые к лету укрывали своей тенью наморенных, отдыхавших в полдень мужиков.
Сейчас вербы стояли засыпанные снегом. Корявые стволы их чернели над белеющей внизу гладкой пеленой ледяного пруда. Ветер стал немного утихать, но снег шел густой, его крупные хлопья, лениво кружась в воздухе, ложились на безмолвную, скованную холодом землю.
Миновав ряд верб, дед Левон стал подниматься по склону заснеженного холма. Дышал он хрипло, как запаленный конь, шел, согнутый в поясе, еле волоча отяжелевшие ноги, тощей грудью опираясь на суковатую палку. Увязая в снегу, потеряв шапку, он все-таки дополз до межи. Идти дальше у него уже не было сил, хотя он хотел подняться на вершину холма, чтобы последний раз взглянуть на деревню, в которой родился и прожил всю свою долгую нелегкую жизнь. Но и отсюда, с пологого склона, на котором он остановился, содрогаясь от мучительного кашля и слез, хорошо были видны пруд и кладбище за прудом и крайние огнищанские хаты с еле заметными огоньками в окнах.
Уронив палку, дед Левон сел на снег. Ветер шевелил нечесаные космы его седых волос, морозным холодом обжигал шею и спину. Дед не чувствовал ни ветра, ни снега, ни холода. Долго сидел он, обняв руками колени, всматриваясь в темные очертания хат, потом разгреб пушистый, податливый снег, стал на четвереньки, коснулся щекой мерзлой, твердой как камень земли и замер, охваченный болью и острой мукой.
Вся его жизнь, точно в ослепительном озарении, промелькнула перед ним в этот миг. Он вспомнил бесконечные годы тяжкой, непреходящей работы, будто наяву видел каждого вола и каждого коня, которых он, Левон Шелюгин, не жалея ни себя, ни скотину, гонял по полям до седьмого пота, до изнурения. Не один вол и не один конь, замученные им, падали, надорвавшись, в глубокой борозде, и он снимал с них шкуры, а в тяжелый плуг запрягал новых волов, новых коней, и, казалось, не было этому конца.
Рыдая, он терся щекой о землю, и слезы замерзали на облезлом вороте его полушубка, и уже казалось ему, что сквозь снежную заметь идет к нему его покойная жена. Ведь это он, жадный до земли, до работы, сгубил ее. Вся деревня еще спала, а он до рассвета уходил с женой в поле. Еще и заря не занималась, а они пахали, боронили, сеяли, пололи, косили, таскали тяжеленные снопы. Вот на этом самом холме, на этом поле — сейчас оно покрыто снегом и окутано холодной тьмой, а тогда пахло пшеницей и цветами, — она, его жена, надорвавшись, до времени скинула мертвое дитя. После она долго болела, потом родила единственного их сына, а вскоре, подавая на арбу тяжеленные снопы, надорвалась, полгода прожила в больнице и умерла.
«Пойду на кладбище, попрощаюсь с ней, может, она простит меня за все», — подумал дед Левон. Опираясь на палку, кряхтя и всхлипывая, он поднялся с коленей, постоял немного, отворачиваясь от ветра, и осторожно пошел вниз, к ледяному пруду.
Кладбище было совсем близко, за прудом. Огороженное заснеженным плетнем, оно неясно чернело на вершине соседнего холма. По присыпанной снегом ледяной глади пруда дед Левон шел, не поднимая ног. Стоптанные подошвы тяжелых валенок скользили по льду, согнутые дедовы ноги дрожали…
Дед Левон уже давно не выходил со двора. Он не знал, что перед рождеством его сосед Аким Турчак железным ломом продолбил во льду замерзшего пруда прорубь. Прорубь была небольшая, шириной чуть больше аршина. По субботам бабы выходили к проруби полоскать белье, а по воскресеньям, прихватив самодельные удочки, прорубь окружали огнищанские ребятишки. В эту морозную метельную ночь густой снег замел натоптанные тропы и следы вокруг проруби, она лишь смутно угадывалась на снежной равнине.
Повернувшись спиной к ветру, дед Левон шел боком, еле волоча ноги, и вдруг провалился в обжигающую холодом мглистую бездну. Он вскрикнул от ужаса, раскинул руки, стал судорожно скрести скользкий лед, пытаясь выбраться из проруби. Он долго кричал, но его хриплый старческий голос тонул в сумасшедшем шуме ветра, а слабое, немощное, внезапно отяжелевшее тело не слушалось рук. Ветер гудел, завывал по-волчьи, нес тучи снега, вокруг бесновалась белесая мгла.
Дед Левон начал терять сознание. Он хотел сложить на груди руки, чтобы опуститься в воду, под лед, и разом закончить мучения, но руки его одеревенели, стали застывать, и он уже не мог пошевелить ими. Только седая голова его все ниже клонилась к мокрой от хлюпающей воды кромке льда. Он все еще кричал, хрипя и плача, но уже не слышал своего угасающего последнего крика.
Потом ему сразу стало тепло. Он перестал плакать, в изнеможении уперся бородой в лед и закрыл глаза. И уже не дикий вой ветра послышался ему, а тихая, неземная, прекрасная музыка. Он понял, что это его свадьба, потому что рядом с ним, склонив голову в белой фате, стояла его молодая красивая жена. С другой стороны почему-то стоял единственный его сын, а вокруг ласково улыбались соседи, которые давно умерли, все молодые и красивые, такие, какими они были семьдесят лет назад. Близкие его сердцу люди, осиянные теплым божественным светом, пели радостную тихую песню, и душа его, разрываясь от ослепительного невыносимого счастья, тоже пела и плакала в сладком умилении, дождавшись наконец того, чего он всю свою долгую жизнь ждал, но так и не смог дождаться на этой трудной, печальной земле…
Тимофей Шелюгин нашел пропавшего отца утром. Раскинутые руки и борода деда Левона вмерзли в лед. Голова была наклонена вниз, покрытые инеем волосы розовели при свете холодной зимней зари, и был он похож на уходящее под землю распятие. Вокруг мертвого деда подрубили лед, вытащили его окаменевшее тело из проруби и похоронили на засыпанном снегом кладбище, рядом с могилой жены…
В эту же ночь едва не погибли еще двое огнищан: подлежащий раскулачиванию и ссылке Антон Терпужный и председатель сельсовета Илья Длугач.
Терпужный знал о том, что завтра у него отберут дом, коней и скот, все, что он нажил за полвека, а его с женой и дочкой загонят куда-то в Сибирь. Ему об этом сказал его зять Степан Острецов. Правда, Острецов сказал, что дочку, Пашку, может, и не вышлют, потому что она замужем за ним, Острецовым, заслуженным буденновцем-конармейцем, секретарем сельсовета, полностью сочувствующим Советской власти, но это не утешало Антона Агаповича — к разгульной, заполошной дочке он относился с брезгливым равнодушием и даже в глаза называл ее лахудрой.
В полночь Терпужный начал пить. Он принес из каморы штоф самогона-первака, сел за стол и, угрюмо набычившись, с отвращением выпил полный стакан. Толстая Мануйловна с опухшим от слез рыхлым лицом с жалостью посмотрела на мужа, высморкалась и проговорила глухо:
— Чего ж будем делать, Агапович?
Тупо уставившись в пол, Терпужный сипло вздохнул:
— Насточертели вы мне все, гады проклятые…
Помолчав, он добавил:
— Неси сюда все, чего у нас есть из золота или же серебра.
Мануйловна засуетилась, раскидывая перины, хлопая крышкой украшенного латунью сундука, долго обшаривала божницу в углу. Перед мужем она положила несколько золотых царских пятерок, с полсотни серебряных рублей, три нательных креста, набор столовых и чайных ложек и отдельно самое дорогое, что было у Терпужных, — массивный золотой портсигар с бриллиантами и с короной князей Барминых, обменянный Терпужным в голодном двадцать первом году на три фунта сала и ведро ячменной муки.
Хмуро посапывая, Терпужный стащил с ног тяжелые, подшитые кожей валенки, уложил в них портсигар, кресты и пятерки, прикрыл войлочной стелькой и снова сунул ноги в валенки. Потом он залпом выпил второй стакан самогона, отодвинул от себя серебро и крикнул Мануйловне:
— Чего рот раззявила? Забирай все это, склади в торбу и хорони за пазухой, корова дурноголовая!
Опершись волосатой грудью о край стола, Антон Агапович обнял кулачищем граненый стакан с самогоном и долго сидел, покусывая вислые моржовые усы. Выпил самогон, поднялся, взял под лавкой долото и, недобро ухмыляясь, подошел к стоявшей у простенка фисгармонии. Сделанная немецкими мастерами, с инкрустациями по красному дереву и с эмалевыми медальонами, фисгармония в том же голодном году была обменяна Антоном Агаповичем на курицу и стакан соли.
Слегка пошатываясь, Терпужный подошел к фисгармонии, рывком открыл крышку и стал долотом выламывать клавиши. Костяные клавиши с легким стуком падали на пол.
Мануйловна всплеснула руками, попятилась испуганно:
— Чего ж это ты делаешь, Агапович? Ведь это труд людской! И не жалко тебе?
Терпужный с силой швырнул долото, оно воткнулось острием в дверь.
— Жалко? — прохрипел он, с трудом подняв на жену затуманенные хмельной мутью глаза. — Жалко? Кого мне жалеть? Тебя, стерву? Шалаву Пашку? Или же эту вшивую голопузую наволочь, которая зараз меня под откос пущает?
Он вытер выступивший на лбу пот, глотнул самогона, скривив рот, сплюнул тягучую горькую слюну.
— Никого мне не жалко, — с трудом ворочая языком, сказал Терпужный, — никого… ни тебя, ни Пашку, ни подлых людей… Пошли вы все к едреной матери!
В изнеможении он прислонился плечом к стене и проговорил хриплым шепотом:
— Только одну ее жалко… Зорьку…
Он опустился на табурет, положил голову на стол, повторил глухо:
— Только ее…
Золотисто-рыжую Зорьку, рысистую орловско-американскую кобылу, Антон Агапович купил в губернском городе четыре года назад малым жеребенком, заплатив за него огромные деньги, вырученные от продажи полутора тысяч пудов пшеницы. Нэпман-коммерсант, промышлявший на ипподромах, не обманул Терпужного. У жеребенка были отличные, не фальшивые документы, родословная, все честь по чести. Антон Агапович ходил за Зорькой, как за дитем: кормил ее отборным овсом и лучшим степным сеном, таскал ей сахар, хлеб, привозил с базара сладкие пряники; в конюшне Зорька стояла отдельно от трех рабочих лошадей, в чистом деннике, у нее постоянно была свежая подстилка.
Привязанность Антона Агаповича к Зорьке объяснялась просто: всю жизнь он чувствовал себя одиноким. Толстую глупую жену не любил и презирал, ленивую и распутную дочку ненавидел. Каждый день он ругал их последними словами, под горячую руку и во хмелю бил без всякой жалости. Но, видимо, где-то в глубине его темной, угрюмой души гнездилась затаенная тоска по ласке, и он, хмурый, насупленный, временами уходил в конюшню и разговаривал с Зорькой. Ни разу в жизни не приласкавший ни жену, ни дочку, он неумело прижимался жесткой, небритой щекой к горячей конской шее и замолкал, растроганный и смущенный.
Огнищане, глядя на выхоленную красавицу Зорьку, завидовали Терпужному и посмеивались над ним. «На черта тебе эта городская кукла? — говорили они. — Ее только под стекло на выставке ставить, а не в плуг запрягать. Оскаженел ты, Агапыч, на старости». Но Терпужный не обращал на односельчан никакого внимания. Любимицу свою Зорьку он берег, запрягал только в легкий пропашник или в двуколку. Прошлой весной он случил ее в Ржанске с племенным жеребцом и нетерпеливо ждал приплода. Ждать осталось совсем немного, полтора месяца. И вот теперь Антон Агапович должен навсегда проститься с Зорькой и, лишенный всех человеческих прав, ободранный как липка, нищий, под конвоем отправиться в далекую сибирскую ссылку…
— Брешете, гады… не дам я вам Зорьку, — сквозь зубы пробормотал Терпужный, постукивая по столу толстыми, узловатыми пальцами. — Не вы, подлюги, ее растили, и не вам на ней ездить…
Морщась, он вылил из штофа в стакан последний самогон, выпил, закрыв глаза, и поднялся из-за стола.
— Собирай и вяжи в узлы все свои шмотья, — сказал он жене, — а я скоро вернусь.
Надев старую стеганку и шапку-ушанку, Антон Агапович пошел в конюшню. Он снял со стены уздечку и вошел в денник к Зорьке. Жеребая кобыла, посвечивая в темноте лиловым глазом, просительно заржала. Он накинул на нее уздечку, прижался к ее горячему храпу мокрым от снега лбом, проговорил тихо:
— Прощевай, Зорька. Не хочу я давать тебя в страту. Пойдем!
Терпужный вывел кобылу из денника, постоял с ней у конюшни, послушал. Был шестой час утра. Ветер нес в темноте тучи снега, навевал под плетнем сугробы. Антон Агапович ощупью нашел стоявший у стенки плуг, вытащил из-под снега чистик — палку с острым железным наконечником-лопаткой. Этим тяжелым чистиком он весной и осенью во время пахоты очищал плуг от налипшей на лемех влажной земли.
Ухватив поводья, Терпужный вскочил на заплясавшую под ним кобылу и, придерживая ее, шагом выехал со двора. Ехал он не по улице, где его могли увидеть, а свернул в переулок, медленно миновал деревенские зады и направился прямо к Казенному лесу.
Если бы эта морозная ночь была обычной огнищанской ночью, его бы, конечно, никто не увидел, а если бы и увидел, то не придал бы этому никакого значения. Мало ли куда может ехать человек до рассвета! Но эта ночь была особой, непохожей на все другие ночи. Она рассекала жизнь людей надвое, была пугающе-томительной и тревожной. Поэтому никто из огнищан не спал.
Не спал и четырнадцатилетний Лаврик. Он вышел на порог, увидел одинокого всадника, ехавшего не по дороге, словно крадучись, узнал Антона Агаповича и Зорьку и заподозрил неладное. Лаврик знал о предстоящем утром раскулачивании и решил предупредить о бегстве Терпужного своего названого отца, Илью Длугача. Накинув кацавейку, сунув ноги в валенки, он прямо через огороды стремглав кинулся в сельсовет.
В жарко натопленном сельсовете чадила под потолком керосиновая лампа. Илья Длугач с красными от бессонницы глазами расхаживал по комнате. На полу, у печки, вытянувшись во весь свой гигантский рост, обняв рукой винтовку, храпел Николай Комлев. У окна, на лавке, сидели Острецов и лесник из Казенного леса, смуглый, чернявый парень Пантелей Смаглюк. Пантелей был слегка выпивши. Посмеиваясь, он что-то рассказывал Острецову.
— Папаня! — с порога закричал Лаврик. — Дядька Антон Терпужный верхом на Зорьке подался в Казенный лес. Ехал не по дороге, а напрямки и все время оглядывался, будто хоронился от кого-то!
Длугач круто повернулся, шагнул к Острецову:
— Видел, чего твой тесть удумал? Откуда он узнал про раскулачивание и куда подался?
Острецов спокойно пожал плечами:
— Не знаю, Илья Михайлович. Я за тестя, как вы его называете, не ответчик. Кулацкая он сволочь, а не тесть, и я удавил бы его своими руками.
— Ладно, — отрывисто сказал Длугач, — он от меня не уйдет.
Длугач накинул шинель, переложил наган из кармана брюк в карман шинели, надел шапку, взял со стола нагайку и бросил на ходу:
— Из сельсовета никуда не отлучайтесь. А ты, Лаврик, ступай до дому.
У стенки сельсовета, в затишке, стояли два оседланных коня: один — гнедой мерин Длугача, другой — сытый монгольский жеребчик лесника, на котором Смаглюк еще с вечера приехал в Огнищанку.
Метель не унималась. Отворачиваясь от ветра и снега, Длугач вскочил на застоявшегося мерина и крупной рысью поехал к Казенному лесу.
Как только Длугач вышел, а Лаврик побежал домой, Острецов, опасливо поглядывая на спящего Комлева, вполголоса сказал Смаглюку:
— Выйдем.
Они вышли на крыльцо.
Острецов взял Смаглюка за отворот полушубка, быстро и властно проговорил:
— Скачи до Казенного леса в объезд, перестрень Длугача возле Волчьей пади и кончай его. Хватит с ним цацкаться. Погода такая, что никто ни черта не узнает, снег заметет все следы. Понял?
— А то чего ж? Понял! — отозвался Смаглюк.
Он помочился у крыльца, вынул из-за пазухи австрийский обрез, сунул его за пояс, опустил наушники бараньего треуха, сел на коня и поскакал к лесу. Острецов постоял немного, зевнул и, потягиваясь, пошел в сельсовет…
Метель то бушевала вовсю, то на мгновение утихала. Ветер дул порывами, неровно, и снег, густой и резкий, несся с запада на восток, укрывая соломенные крыши хат, пустынные поля, кустарники, овражки глубокой белой пеленой. По небу мчались черные клочья туч, закрывая луну, и все на земле казалось печальным, мертвым и бесприютным.
На вершину холма Антон Терпужный выехал шагом. Натужно поводя тяжелым большим животом, устало пофыркивая и настороженно поводя острыми ушами, Зорька, как всегда, повиновалась крепкой руке хозяина, но шагала осторожно. На вершине Терпужный остановил кобылу. Отсюда еще видны были тусклые огоньки огнищанских хат внизу, а впереди, совсем близко, чернела опушка Казенного леса.
Икая, содрогаясь от противной, мучительной тошноты, Терпужный помедлил минуту, обнял горячую шею лошади и вдруг, приподнявшись, изо всей силы ударил ее тяжелым железным чистиком. Жеребая кобыла взвилась на дыбы, прянула вбок и, закусив удила, ничего не видя впереди, понеслась бешеным галопом. А Терпужный, сатанея, бил её по ушам, по глазам, по шее и, словно издалека слыша её надсадные стоны и утробное кряхтенье, хрипло кричал:
— Вот вам Зорька! Вот вам мое счастье… моя доля… моя жизня…
С каждым словом он опускал острый окровавленный чистик на изрубленную голову лошади. Не умеряя сумасшедший бег, ослепшая, израненная Зорька упала на колени, ткнулась горячим храпом в сугроб и повалилась на бок…
Когда Длугач, сжимая в левой руке нагайку, а правой лихорадочно выхватывая из кармана шинели наган, подскакал к темной, шевелящейся в сугробе куче, он увидел в предрассветных сумерках подплывшую кровью лошадь. Она лежала на боку, вытянутые ноги ее конвульсивно вздрагивали. Уткнувшись лицом в окутанную паром шею лошади, сбоку лежал Антон Терпужный.
Длугач соскочил с коня.
— Т-так, значит… белое падло! — задыхаясь от ярости, прохрипел он.
Он приложил наган к уху издыхающей Зорьки, нажал спусковой крючок. Грохнул выстрел. До боли закусив губы, Длугач ударил Терпужного нагайкой по голове, рванул его за плечо и заорал, не слыша собственного голоса:
— Вертайся до дому, в гроб твою мать, кулацкая курва, а то зараз, как собаку, убью! От Советской власти вздумал бежать, сука? Брешешь, гад, не убежишь!
Сорвав с мертвой кобылы уздечку, Длугач накинул ее на шею стоявшему на коленях Терпужному, распущенный повод привязал к стремени и вскочил на коня.
— Ступай вперед! — закричал Длугач, размахивая наганом. — А ежели вздумаешь чего, знай: в тую же секунду все шесть пуль в глотку вляпаю.
Тяжело вздохнув, Терпужный поднялся с коленей, молча посмотрел на мертвую Зорьку, на которую хлопьями ложился чистый снег, и, сгорбившись, не снимая с шеи уздечку, пошел вперед. Придерживая коня, Длугач поехал следом.
Так они добрались до Волчьей пади. Стало светать. Тут, в этой узкой, забитой сугробами лесной прогалине, густой дубняк с обеих сторон подступал к самой дороге. Медленно натянув повод, неуклюже загребая валенками глубокий снег, шагал впереди Терпужный. Сжимая побелевшими пальцами рукоятку нагана, Длугач с ненавистью смотрел на его заросший седеющими волосами затылок. На крутом повороте конь остановился, насторожил уши и голосисто, заливисто заржал.
Длугач уже хотел вытянуть его нагайкой. В эту секунду слева, откуда-то из гущины леса, грянул выстрел. Пуля обожгла щеку и ухо Длугача. Крутнувшись в седле, он поднял наган, четыре раза подряд выстрелил туда, где слышался удаляющийся треск сучьев. Терпужный оглянулся, глянул на Длугача мутными, хмельными глазами.
— Чего вылупил зенки? — закричал Длугач. — Небось думал, что коммунист Илья Длугач уже на том свете? Шагай вперед и не оглядывайся!
До сельсовета они добрели, когда уже рассвело. На крыльце их встретили Острецов, Николай Комлев и Демид Плахотин, одетый в свой праздничный костюм — защитную гимнастерку и малиновые брюки галифе.
Увидев окровавленного Терпужного и кровь на щеке и на шее Длугача, Острецов нахмурился, подтолкнул локтем Плахотина:
— Беги, Демид, к фельдшеру, пусть сейчас же идет сюда и захватит бинты и йод.
Длугач сошел с коня, снял уздечку с шеи Терпужного и устало сказал Комлеву:
— Расседлай и покорми мерина, а как охолонет, напои как следует… А этого, — он мотнул головой в сторону Терпужного, — замкни в погребе и гляди за ним в оба, мы еще побалакаем…
Так закончилась в Огнищанке метельная снежная ночь.
Через полчаса фельдшер Дмитрий Данилович Ставров перевязывал раненого Длугача. В просторной комнате сельсовета толпился народ. Люди курили, тихо переговаривались, молча покачивали головами.
Длугач сидел на табурете у стола. Подняв голову и глядя в запорошенное снегом окно, он думал о том времени, когда среди людей не будет кровавых распрей, и не будет больше жестокости и жадности, и не будет нелепых смертей и крови, и просветлеет человеческий разум, и все поймут, в чем счастье жизни. Илья Длугач верил, что это время наступит, и, хотя к нему, к этому счастью, еще предстоит идти трудной и дальней дорогой, идти сквозь зимы и весны, сквозь кровь и грязь, через сомнения, тревоги и ошибки, коммунист Илья Длугач верил, что счастье придет к людям.
Длугач хотел теперь же, сразу, сказать об этом столпившимся в сельсовете огнищанам, но ничего не сказал. Как только фельдшер закончил перевязку, Длугач окинул людей просветленным, влажным взглядом, вяло улыбнулся, медленно опустил голову на руки и уснул…
К полудню лесник Пантелей Смаглюк вновь появился в Огнищанке. Встретившись с племянником Антона Терпужного, Тихоном, он угостил косоглазого Тихона самогоном, а когда тот опьянел, Пантелей похлопал его по плечу и сказал презрительно:
— Дядьку твоего Длугач заарестовал, в Сибирь загоняет, а ты сложил руки и, как сопливый мальчонка, глядишь на это?
— А чего я могу сделать? — тупо спросил Тихон.
— Длугача вызвали в Пустополье, — жестко сказал Смаглюк, — вернется он, может, только к ночи. В его хате остался один Лаврик. Вечером, как стемнеет, можно чиркнуть серником, и хата председателя займется, навроде сухого кизяка. Разумеешь? А двери в хату надо дротом завязать, чтобы и Лаврик накрылся…
Вечером снова мела метель. Пьяный Тихон Терпужный прокрался во двор Длугача, постоял, настороженно оглядываясь, под скирдой соломы, завязал наружные кольца на двери проволокой, потом, прикрываясь полой полушубка, зажег спичку и поднес ее к скирде, сунул горящий жгут соломы под камышовую крышу, а сам, никем не замеченный, бросился бежать.
Старая изба вспыхнула как факел. Проснувшийся от дыма Лаврик, задыхаясь, кинулся к двери. Истошно крича, он стал бить дверь плечом и ногами. На нем уже горело белье, когда он разбил окно и, теряя сознание, вывалился на снег…
К горящей избе бежали люди с ведрами, вилами и топорами. Они стали раскидывать солому, отнесли и уложили у сарая Лаврика, но стропила избы рухнули, а через час от избы председателя сельсовета остались только черные, покрытые копотью стены.
На четвертые сутки Лаврик умер в пустопольской больнице, не приходя в сознание.
3
Перед самым отъездом на Дальний Восток в семье Ставровых случилось несчастье: бесследно исчезла Тая. Произошло это так: когда Федя вернулся из Огнищанки в Пустополье, сказал Тае, что нашелся ее отец, и дал ей адрес Максима, девочка будто с ума сошла. Она то смеялась и танцевала от радости, то вдруг заливалась слезами, надолго умолкала и сидела, устремив неподвижный взгляд куда-нибудь в одну точку. Смуглое лицо Таи побледнело, осунулось. Она стала неразговорчивой, замкнутой, часто уходила из школы, пропуская уроки.
За два дня до отъезда Роман, Федя, Каля и Тая получили справки из рабфака и школы и приехали в Огнищанку, чтобы всем вместе отправиться на станцию и сесть в поезд.
На рассвете дед Силыч пришел к Ставровым, запряг в бричку их лошадей, на которых Дмитрий Данилович хотел проехать в последний раз.
Когда на вторую телегу Павла Кущина уложили вещи, стоя выпили по стакану самогона со всеми провожающими, обнялись и стали усаживаться, хватились, что нет Таи. Ее звали, с криками обошли весь двор. Девочки не было.
Вернувшись в опустевший дом, Роман нашел на подоконнике вырванный из школьной тетради листок бумаги, на котором было написано:
«Дорогие дядя Митя и тетя Настя! Дорогие Андрюша, Роман, Федя и Каля! Спасибо вам за все, что вы для меня сделали, когда я осталась сиротой. Я люблю вас всех и не забуду никогда. Сейчас я ухожу от вас. Не обижайтесь и не ищите меня, все равно не найдете… Мне очень жалко, что своим уходом я огорчила вас. Сейчас вы все уезжаете очень далеко, а я решила написать своему папе и ехать к нему. Крепко целую вас всех.
Ваша Тая».
Лошадей выпрягли, отъезд отложили. С помощью огнищан обошли все окрестные леса, хутора и деревни. Дмитрий Данилович и Роман съездили в Пустополье и в Ржанск, заявили об исчезновении Таи в милицию — девочки и след простыл.
Настасья Мартыновна и Каля опухли от слез. Дмитрий Данилович и мальчики с ног сбились в поисках Таи, но это ни к чему не привело. И тогда отчаявшийся Дмитрий Данилович решил ехать.
— Больше ждать нельзя. С Дальнего Востока мы пришлем огнищанам наш новый адрес, если Тая появится, ей скажут, где мы поселились, я вышлю ей денег, и она приедет…
Вторые проводы Ставровых больше походили на похороны: рано утром к ним во двор собрались все соседи, снова выпили самогона, постояли молчаливые, хмурые, женщины плакали.
На станции, когда послышался шум поезда, Дмитрий Данилович обнял глотавшего слезы деда Силыча, Павла Кущина, в последний раз прижался лбом к горячим, потным шеям любимых коней…
К поезду, в котором уезжали Ставровы, на станции Ржанск прицепили два товарных вагона. В этих вагонах под охраной часовых ехали высылаемые из Ржанского уезда кулаки. Среди них были и семьи Терпужного и Шелюгина…
Товаро-пассажирский поезд Москва — Владивосток отходил с Ярославского вокзала после полуночи. От усталости и недосыпания Ставровы уже не чуяли ног. До Москвы они добирались почти двое суток, там намучились, пока Дмитрий Данилович закомпостировал билеты, а в общий вагон дальневосточного поезда еле протиснулись сквозь толпу нагруженных сундуками и свертками людей.
В вагоне было битком набито: люди сидели и лежали на всех полках, между кладью в проходах, в тамбурах — везде, где можно лечь, сесть или встать. Только перед рассветом Ставровым удалось собраться в одном из отсеков вагона, кое-как распихать свои вещи и, прижавшись друг к другу, уснуть мертвым сном.
Проснулись они поздно. Натужно пыхтя, паровоз с трудом тащил огромный состав. За покрытым инеем окном вагона еле различались медленно уплывающие назад темные, заснеженные леса, редкие будки путевых сторожей, телеграфные столбы с провисшими от ожеледи и снега проводами.
В вагоне было сильно накурено. Можно было только удивляться тому, как тут умудрились разместиться люди, с ночи набитые в вагон как сельди в бочку. Кого здесь только не было! Простоволосые молодицы с грудными младенцами на руках; степенные, бородатые мужики с обветренными, угрюмыми лицами; веселые матросы в черных бушлатах и в полосатых тельняшках; худые, изможденные старухи, в которых, казалось, жизнь еле теплится; непоседливые, крикливые дети; мрачные инвалиды на костылях — все это затиснутое в вагон людское сонмище гомонило, кашляло, сморкалось, храпело во сне, ругалось, пело…
На секунду дверь вагона открылась. Пахнуло холодом. В дверях показался посиневший от мороза молодой проводник с двумя вениками в руках.
— Граждане пассажиры! — осипшим голосом закричал проводник. — До Владивостока нам пилять почти что месяц. Вот вам веники и тряпки, убирайте за собой сами, чтоб в вагоне была чистота. Электричества у нас нету, к ночи будем зажигать фонарь. Ресторанов для вас тоже недодумались организовать, зато на каждом разъезде мы стоим часа но два, а там у любой бабы свой ресторан, так что духом падать нечего, найдется что выпить и закусить.
На очередной станции Роман взял чайник, сбегал за кипятком. Заплаканная Настасья Мартыновна разломила вареную курицу, вынула из корзины десяток яиц. Завтракали молча на уложенном на коленях чемодане.
— За нашим вагоном еще штук восемь товарных прицеплено, — сказал Роман, разжевывая курицу, — а в двух самых задних вагонах, видно, арестованных везут, окна у них с решетками, и часовые ходят.
— Черт с ними, пусть ходят, нас это не касается, — сказал Дмитрий Данилович.
После завтрака к Ставровым подошел разбитной старик в полинялом солдатском костюме и в тяжелых стоптанных валенках. Был он слегка пьяноват, на ногах держался не совсем твердо, но маленькие его глазки-щелки смотрели остро и внимательно. Он присел на уголок нижней полки, достал из кармана штанов заткнутую очищенным кукурузным початком бутылку самогона и проговорил глухим басом:
— Я гляжу: соль у вас имеется. Не одолжите ли щепотку?
Не дожидаясь ответа, он взял с чемодана алюминиевую кружку, плеснул в нее самогона, протянул Дмитрию Даниловичу:
— Причастись, раб божий.
Немного поколебавшись, Дмитрий Данилович выпил. Выпил и старик. Оба закусили нарезанными Калей солеными огурцами.
— Далече прямуете? — спросил старик.
— На Дальний Восток, в Благовещенск, а там еще дальше, куда пошлют, — сказал Дмитрий Данилович.
— А откудова сами будете?
— Из Ржанского уезда.
Дотошный старик бегло осмотрел вещи Ставровых, подмигнул Дмитрию Даниловичу:
— Небось тоже в куркульский список занесены и, от ограбления рятуючись, мандруете по белому свету?
— Нет, мы по своей воле едем, перевод у меня на Дальний Восток, — объяснил Дмитрий Данилович, — я фельдшер.
Старик вздохнул, криво усмехнулся:
— Знаем мы эти переводы… А я с Кубани, из-под Армавира. Записали меня граждане начальники в свои куркульские святцы и хотели все чисто под метлу загрести. Ну да мне посчастило. Племяш мой в исполкоме работает, так он мне по секрету это дело раскрыл. Тикай, говорит, дядько, и не оглядывайся, покедова тебя в мясорубку не сунули…
Глотнув из кружки самогона, словоохотливый старик продолжал:
— Попродал я за полцены четверку коней, корову, пару нетелей, косилку, пшеницы пудов двести; все, что осталось непроданным, родичам пораздарил или же верным людям на сохранение оставил, взял свою старуху за ручку и темной ночью давай бог ноги. Нехай зараз шукают Якова Ивановича Кульбабу, его и след простыл. Как говорится, до свидания, милая Маруся…
Слегка разболтав оставшийся в бутылке самогон, пьяный Кульбаба разделил его на две части, налил Дмитрию Даниловичу.
— Выпей, добрый человек, чтоб наша доля нас не цуралась…
Потом он выпил сам и заговорил, слегка икая и теребя Дмитрия Даниловича за рукав:
— Ты погляди, сосед, чего по вагонам у нас творится… Не поезд, а цыганский табор. Скрозь людей понабито так, что ступить негде, будто вся Россия в дорогу тронулась. А кто, спроси ты меня, едет, не знаючи куда? Такие же, как я, хлеборобы, которые от раскулачивания спасаются. Едут с женами, с малыми детишками, с жалким своим барахлом… — Опьяневший Кульбаба поднялся, шмыгнул носом и ушел ругаясь: — Докомандовались, мать их в лоб… дохозяйновались…
Было холодно и тоскливо. Двери вагона поминутно хлопали, кто-то выходил, кто-то входил, плакали измученные дети. С утра до вечера по фанерным бокам сундучков стучали костяшками домино, с треском шлепались карты. В темном, заставленном мешками углу вагона слепой парень наигрывал на гармошке, в другом углу окруженный девчатами солдат непрерывно тренькал на балалайке. Вагон до потолка был заполнен махорочным дымом, запахами несвежей снеди, смазанных дегтем сапог, пота. Ни днем ни ночью не умолкал гул человеческих голосов, только ночью он становился глуше и невнятнее…
А поезд полз и полз по белым засыпанным снегом равнинам, извиваясь змеей, пробирался по склонам поросших лесами холмов, пересекал, грохоча на мостах, незнакомые, скованные льдом реки, подолгу стоял на многолюдных станциях с кирпичными вокзалами и на глухих, засыпанных снежными сугробами полустанках.
На станциях полуодетые, небритые мужчины выходили из вагонов, становились с чайниками в руках в очередь у окутанных паром кипятильников, бежали к станционным базарам, где толкались одетые в шубы и валенки бабы-торговки…
А мороз все крепчал, снега становились все глубже, темное пасмурное небо все ниже нависало над землей, и казалось, не будет конца этой нудной, печальной дороге, по которой медлительный поезд все вез и вез куда-то оторванных от родных мест, ищущих счастья бездомных людей…
Среди этих бездомных, замученных дальней дорогой людей затерялась и поредевшая семья Ставровых. Здесь, в дымном закутке вагона, они вспоминали оставшегося в одиночестве Андрея, бесследно исчезнувшую Таю, все, что за долгие годы было пережито в Огнищанке, и теперь затерянная среди холмов, навсегда покинутая ими Огнищанка казалась им далеким, призрачным сном…
Уже остались позади Вятка и Пермь, шумный Свердловск и Омск, бескрайние, покрытые снегом Барабинские степи, уже давно прощально отстучали колеса поезда по мостам через Волгу, Каму, Чусовую, Исеть, Тобол, Ишим, Иртыш, Омь, Обь, Томь… В сизой морозной дымке проплыли за окнами Новосибирск, Красноярск, Нижнеудинск, Иркутск.
Рано утром поезд остановился на станции Слюдянка. Заспанный проводник проворчал, с трудом шагая через храпящих на полу вагона людей:
— Стоять будет долго: где-то впереди обвал…
Роман Ставров потянулся, зевнул и сказал отцу:
— Давай выйдем, хоть свежим воздухом подышим.
Надев полушубки, валенки, окутав головы башлыками и платками, все Ставровы вышли и замерли, потрясенные открывшейся перед ними картиной.
Поезд стоял на самом берегу покрытого льдом озера Байкал. Впервые за всю долгую дорогу показалось солнце. Большое, розовато-желтое, холодно светящее через мириады повисших в неподвижном воздухе морозных блесток, оно озаряло бесконечную ледяную гладь окруженного горами озера, и невиданно-голубой, прозрачный как хрусталь лед Байкала отсвечивал всеми цветами радуги, играя незаметной слиянностью нежно сияющего света.
В нависших над Байкалом горах белели розово мерцающие снега, еле различались вдали слабо обозначенные лиловыми тенями глубокие ущелья, над которыми высились исполинские сосны. Темно-зеленые сосны с отливающими червонной медью стволами склонялись в вышине над поездом, их корявые, полуобнаженные корни терялись в расселинах гранитной скалы, и все вокруг — голубой лед озера, горы, присыпанные снегом, кроны сосен — застыло в сказочной неподвижности и гулкой морозной тишине…
— Вот это здорово! — с восхищением сказал Роман. — Никогда не знал, что на свете есть такая красота!
Из вагона один за другим выходили сонные, очумелые от многодневной вагонной тряски люди, щурились от солнца и сверкающего льда и замирали, очарованные. Под ногами людей скрипел снег. В отдалении попыхивал белым паром умаявшийся паровоз.
К Дмитрию Даниловичу подошел одетый в доху и меховые унты скуластый человек и протянул связку тронутой инеем рыбы.
— Папаша, — сказал он, — не желаешь покушать омуля? Его нигде нет, кроме как у нас на Байкале.
Дмитрий Данилович купил рыбу и пошел с сыном вдоль поезда. У двух задних товарных вагонов он остановился. Разбитые окна вагонов, из которых пробивался пар, были забраны железом. У чуть приоткрытых дверей стоял с карабином в руках часовой в тулупе.
— Арестованные, — шепнул отцу Роман.
Дмитрий Данилович широко раскрыл глаза, подтолкнул Романа локтем и движением головы указал направо: из-за вагона, застегивая непослушными пальцами замерзших рук ватные стеганые штаны, вышли Тимофей Шелюгин и Антон Терпужный. Их заросшие бородами лица были бледны, в запавших глазах застыло выражение горькой покорности. Увидев отца и сына Ставровых, они остановились как вкопанные.
— Ты как тут оказался, Данилыч? — удивленно спросил Шелюгин. — С нами в одном поезде едешь или как?
— Значит, тебя тоже раскулачили и… это самое… в арестанты определили? — добавил Терпужный.
— Нет, я сам по себе еду, — поспешно сказал Дмитрий Данилович, — на Дальний Восток меня перевели.
Часовой посматривал на них, постукивал валенком о валенок, но молчал.
— А у нас в вагоне чего творится, не дай бог, — сказал Шелюгин. — Из всего Пустопольского района семьи раскулаченных собрали, в Ржанске загнали в вагон, как стадо баранов, замкнули на замок и повезли.
Антон Терпужный хрипло вздохнул:
— А куда везут, никто ничего не знает. Тянут, навроде скотину на бойню. А людей позабрали и кое-кому собраться как положено не разрешили. Давай, сказали, и все. Бабы тут у нас ревут дурным голосом, голодные детишки скулят, дыхать нечем.
— А разве вас в дороге не кормят? — спросил Роман.
— Хлеб дают по полтора фунта на человека и по миске баланды, — сказал Шелюгин, — ну а кто свои харчишки успел прихватить, так те, конечно, делятся с голодными. А ехать нам не ближний свет. Говорят, что жить мы будем в тайге, в каком-то Кедровском районе.
Прикусив губы, Дмитрий Данилович протянул Шелюги-ну связку омулей и, боясь, чтобы тот не отказался, заговорил торопливо:
— Возьми, Тимофей. Это байкальская рыба, омуль называется. Попробуйте там, в вагоне. И детям дай, которые голодные…
Тимофей Шелюгин взял рыбу, поклонился, сказал с горечью:
— Спасибо, Данилыч… Не думал я, не гадал, что когда-нибудь доведется мне принимать подаяние… Правду, видно, люди говорят: от тюрьмы да от сумы не отрекайся… Ну, да я рыбу твою не для себя взял, хоть мы с Полей и раздали в дороге все, что себе наготовили.
— Это ты, Тимоха, за тюрьму свою и за суму спасибо скажи товарищу Длугачу, — со злобой сказал Терпужный, — поклонись ему низко!
Помолчав секунду, он добавил совсем тихо:
— Ничего… придет час, мы с ним за все чисто счеты сведем, честь по чести…
Часовой шагнул ближе, покашлял и сказал:
— Хватит, граждане, ступайте в вагон! — и, повернувшись к Ставровым, спросил: — А вы им что, земляки, что ли, будете?
— Да, земляки, — сказал Дмитрий Данилович, — в одной деревне жили, а теперь вот где встретиться пришлось.
— Бывает, — сказал часовой, — время нынче такое, ничего не поделаешь… Я и то снисхождение им оказываю, жалко людей…
У станционных дверей глухо прозвенел колокол. Ставровы бегом кинулись к своему вагону, вскочили в тамбур. Раздался пронзительный свисток кондуктора, потом голосистый, повторенный в горах гудок паровоза. Поезд двинулся дальше.
И снова потянулись нудные дорожные дни. На станции Чита сошел с поезда со своей старухой хмельной Кульбаба, сходили и другие попутчики Ставровых, в вагон заходили новые люди, одетые в меховые дохи и унты. Они вносили с собой зябкий холод, были неразговорчивы и покидали вагон на ближайших станциях.
Чем дальше двигался поезд, тем сильнее прижимал мороз. Окна вагона покрылись толстым слоем инея. Пьяноватый проводник, воруя на станциях уголь, лениво шуровал железную печурку в углу вагона и засыпал возле нее, укутавшись в тулуп и сладко похрапывая. С каждой станцией пассажиров становилось все меньше, а в вагоне все холоднее. В скупых разговорах местных жителей, заходивших в вагон на несколько часов, замелькали названия селений, городов и рек, которые были известны Ставровым только по старинным песням каторжников.
— Боже, когда уже кончится эта дорога? — слабым голосом говорила Настасья Мартыновна. — Едем, едем, и конца-края ей нету.
— Когда-нибудь приедем, без конца ничего не бывает, — хмуро утешал жену Дмитрий Данилович.
И вот поздней ночью поезд остановился на станции Бочкарево, от которой, как еще в дороге объяснили Ставровым их попутчики, шла железнодорожная ветка до города Благовещенска, центра Амурской области. Ставровы быстро выгрузили из вагона свой багаж. Дмитрий Данилович побежал с Федей и Романом к задним вагонам, думая, что ему удастся попрощаться с Шелюгиным и Терпужным, но вагоны с решетками были закрыты на замки, возле них расхаживал только озябший часовой, тот самый, которого Дмитрий Данилович уже видел на станции Слюдянка.
— Спят ваши земляки, — сказал часовой, — а открыть вагон я не имею права.
— Может, вы им крикнете, чтобы они выглянули в окно? — попросил Дмитрий Данилович. — Шелюгин и Терпужный их фамилии. Люди они все же. Кто знает, доведется ли нам еще встретиться?
Часовой подумал, легонько постучал прикладом карабина в дверь вагона и, несколько раз оглянувшись, сказал негромко:
— Шелюгин и Терпужный! Подойдите до окна!
В вагоне зашевелились, закашляли. Кто-то одну за другой чиркал спички, потом из разбитого окна послышался голос Шелюгина:
— Ты, что ли, Данилыч?
— Я, Тимоха, — сказал Ставров, — пришел со своими хлопцами попрощаться с вами. Отсюда я поеду в Благовещенск за назначением, а Мартыновна с детьми будет ждать меня здесь.
— А какая это станция? — раздался из темноты хриплый голос Терпужного.
— Бочкарево. Отсюда на Благовещенск идет ветка.
— Ну что ж, Данилыч, — вздыхая, сказал Шелюгин, — нехай тебе бог помогает, а нас не поминай лихом…
— Прощевай, земляк, — прохрипел Терпужный, — счастливо тебе. Говорят, бог правду видит, да не скоро скажет. Может, все же я когда-нибудь встренусь с товарищем Длугачем, чтоб спасибо ему сказать…
— Счастливо и вам, — сказал Дмитрий Данилович.
Морозный воздух разрезали трели кондукторского свистка. Часовой вскочил на ступеньки тамбура. Сквозь разбитое окно Шелюгин и Терпужный помахали Ставровым руками. В дымной темени мелькнули красные огоньки, и грохочущий поезд исчез…
Утром Дмитрий Данилович, прихватив с собой Романа, уехал в Благовещенск. Настасья Мартыновна, Федя и Каля остались в Бочкареве.
Дежурный по станции разрешил им сложить вещи в закопченном, пропахшем керосином залике. Там они и прожили трое суток. Несколько раз к ним подходил милиционер, вначале чтобы проверить документы, а потом просто так, поговорить. Каля немного приболела, видимо, простудилась в дороге. Настасья Мартыновна возилась с ней, а Федя гулял по станции, встречал и провожал проходившие поезда, втайне надеясь, что, может быть, увидит пропавшую Таю, которая одумается и решит ехать на Дальний Восток.
Дмитрий Данилович вернулся на исходе третьих суток.
— Если бы знали такое дело, можно было не сходить с поезда, — сказал он. — Нам ехать дальше, до станции Бурея, а там придется добираться с попутным обозом. Назначили меня в поселок Кедрово.
— А как же дети? — спросила Настасья Мартыновна. — Где они будут учиться?
— Роман закончит рабфак в Благовещенске, я уже его устроил, а Каля и Федя будут с нами, в Кедрове есть школа.
Они снова погрузились в поезд и на другой день добрались до маленькой станции. Тут им тоже пришлось сидеть четверо суток, пока сдавали лес возчики лесхоза, расположенного вблизи от поселка, куда был назначен Дмитрий Данилович.
Обоз тронулся в путь на рассвете. В нем было саней тридцать, а возчиков всего шестеро. Привычные ко всему низкорослые, лохматые лошадки послушно шли одна за другой, не требуя вмешательства и понуканий людей. Ставровы разместили свой багаж на двух передних санях, а сами ехали на третьих вместе со старшим возчиком, молчаливым мужиком лет сорока. Двигались по льду реки. Никаких дорог поблизости не было видно. Слева и справа, у самых берегов реки, высокой, глухой стеной темнела тайга. Взошло негреющее желтое солнце, оно заиграло ослепительными отсветами льда, воздух был совершенно неподвижным, но свирепый мороз спирал дыхание. На шапках и меховых тулупах людей засверкал иней, побелели от инея лошади.
На ночевку остановились в сложенном из толстых бревен одиноком охотничьем стойбище. Посередине затянутого паутиной бревенчатого стойбища с черной дырой в потолке высился каменный очажок. Пока выпрягали наморенных коней, старший возчик — звали его Ерофеем Степановичем — принес дров, разжег огонь.
У Ставровых от мороза зуб на зуб не попадал. Им казалось, что руки и ноги их одеревенели.
Ерофей Степанович глянул на них из-под густых бровей, достал из мешка большую эмалированную кружку, набил ее снегом, плотно придавил снег ладонью, отвинтил пробку обшитой сукном фляги, залил снег спиртом и, подержав кружку над огнем, протянул Настасье Мартыновне:
— Пей. И девочка пущай хлебнет.
Настасья Мартыновна безропотно подчинилась, глотнула обжигающего горло спирта, закашлялась, почувствовала, что в груди у нее потеплело, и передала кружку Кале.
— Отпей немного, доченька, — сказала она, — легче будет.
По настоянию Ерофея Степановича выпили спирта и Дмитрий Данилович с Федей, а когда зашли возчики, каждый из них получил свою порцию. Возчики угостили Ставровых вяленой, затвердевшей на морозе рыбой.
— А как же с лошадьми? — спросил Дмитрий Данилович. — Я смотрю, что у вас ни на одних санях нет сена.
— Наши лошади обходятся без сена, — сказал Ерофей Степанович, — их круглый год тайга кормит, они из-под снега корм добывают. Утром дадим им трошки овса. Ну когда мы вертаемся из поездки и становим их на отдых, они получают сено и зернецо.
Ночевали, лежа вповалку на нарах и на полу. Горящие в очаге дрова чадили, от густого, едкого дыма нечем было дышать. Смертельно уставшие Ставровы то ненадолго забывались в коротком сне, то просыпались, ворочались, протирая слезящиеся глаза…
В Кедрово приехали на следующий день к вечеру. Это был довольно большой, окруженный тайгой поселок с широкими ровными улицами и добротными деревянными домами. На всех улицах и в огороженных частоколом дворах лежал глубокий снег. Над крышами домов из печных труб поднимались устремленные в небо почти неподвижные столбы дыма.
Ерофей Степанович подвез Ставровых к райисполкому и сказал Дмитрию Даниловичу:
— Иди спрашивай, куда ехать, я тебя довезу.
В одном доме с исполкомом размещался райком партии. В темноватом коридоре Дмитрия Даниловича встретил грузный мужчина в кожаной куртке. Лицо у него было широкое, монгольского типа, а черные, чуть раскосые глаза смотрели зорко и проницательно.
— Вам что? — спросил он. — Уже поздно, все разошлись.
Дмитрий Данилович рассказал ему о своем назначении в кедровскую амбулаторию. Мужчина в кожаной куртке внимательно выслушал, проверил документы и сказал:
— Ну здравствуйте. Я первый секретарь райкома. Фамилия моя Черепанов. Подождите минуту.
Он ушел куда-то, вернулся с ключом и с шапкой-ушанкой в руках.
— Поедемте, я вас провожу, а то вы сами не найдете.
Они доехали до окраины поселка. Там отдельно, в стороне от последней улицы, на самой опушке тайги, стоял такой же, как все, бревенчатый дом с большим двором.
Черепанов открыл ключом входную дверь, протянул ключ Дмитрию Даниловичу и сказал:
— Отдыхайте с дороги, вы все на себя не похожи. А завтра приходите, поговорим.
Ставровы зашли в пустой холодный дом, занесли вещи.
Дмитрий Данилович открыл печную дверцу, сунул в печь дрова. В печи запылал огонь. Настасья Мартыновна, Федя и Каля стояли вокруг опустив головы. А сидевший на корточках Дмитрий Данилович тихо сказал:
— Ну вот и приехали… Что ж, в добрый час…
4
Выпускной вечер студентов сельскохозяйственного техникума был назначен на первое воскресенье июля. За несколько дней до торжественного вечера студенты-выпускники занялись уборкой клуба, который размещался в большом мраморном зале княжеского замка: вытерли от пыли белые колонны, стены, развесили новые плакаты, помыли и до блеска натерли полы. Директор техникума, старый коммунист-подпольщик Свиридов, разрешил выпускникам пригласить на вечер не только родственников, но и знакомых.
Андрей Ставров пригласил Елю Солодову с подругами и Павла Юрасова с Виктором Завьяловым. После отъезда Ставровых на Дальний Восток Андрей подал заявление с просьбой назначить его туда же, быстро получил согласие, но это не радовало его: предстояла разлука с Елей. «Больше мы с ней никогда не увидимся, — с тоской подумал Андрей, — в такую даль, за десяток тысяч верст, она ни за что не поедет, а я не скоро вернусь сюда…»
Студенты тщательно готовились к вечеру: чистили и гладили костюмы и сорочки, покупали новые галстуки, бегали в парикмахерскую подстригаться, договаривались о концерте. Весь техникум гудел, как пчелиный улей весной.
Однако радостное ожидание торжественного воскресного вечера вдруг было неожиданно нарушено: в ночь под пятницу приехавшие из города на автомобиле сотрудники ГПУ арестовали и увезли преподавателя общего земледелия агронома Родиона Гордеевича Кураева и четырех студентов второго курса.
Напуганные арестом Кураева, студенты втихомолку передавали друг другу разные слухи: что, дескать, органы ГПУ раскрыли какую-то «Трудовую крестьянскую партию», которая действовала в глубоком подполье; что в этой контрреволюционной партии состояли видные профессора и агрономы, сотрудники Наркомзема; что они якобы яростно боролись против коллективизации и отстаивали хуторскую форму крестьянского хозяйства американско-фермерского типа и ратовали за свободную внешнюю торговлю без всякого контроля со стороны государства.
Говорили также, что агроном Кураев уже несколько лет был членом «Трудовой крестьянской партии», вербовал в эту партию студентов и вел антисоветскую агитацию.
Директор техникума и все преподаватели были очень встревожены арестом Кураева: они ходили мрачные, молчаливые, словно чувствовали какую-то вину в том, что в их среде так долго жил, не вызывая никаких подозрений, человек, который оказался врагом.
А молодость студентов брала свое. Выпускники собирались разъезжаться, они уже думали о работе в новых местах, потому им было не до Кураева. Все их мысли были заполнены последним, прощальным вечером.
В воскресенье после обеда в комнату Андрея забежал маленький курносый студент-первокурсник и закричал с порога:
— Мне нужен Ставров!
— Ну я Ставров, — сказал Андрей, не поднимаясь с койки. — Что тебе надо?
— Там тебя девушка спрашивает, — сказал курносый.
— Какая девушка? — удивился Андрей.
— А я откуда знаю? Тоненькая, кареглазая. Должно быть, возлюбленная твоя.
— А где она?
— На улице возле ворот стоит. Просила меня вызвать ей Ставрова, вот я и вызвал.
Надев сапоги, Андрей пошел к воротам и остолбенел: перед ним стояла Тая, об исчезновении которой он давно узнал из писем родных. Одетая в пестрое ситцевое платьишко и в легкие тапочки, Тая стояла, теребя брошенную на плечо косынку, и улыбалась.
Андрей бросился к ней, обнял, стал целовать и, сжимая ее худенькую, смуглую руку, взволнованно забормотал:
— Тайка, милая… дурочка ты этакая… Что это ты придумала и откуда появилась?
Тая приникла к нему, засмеялась, заплакала.
— К тебе можно зайти, Андрюша? — спросила она, по-детски вытирая слезы кулачком.
— Конечно можно. Пойдем.
Обняв Таю, он повел ее в сад, усадил на скамью, подождал, пока она успокоится, потом сказал, потрепав ее пушистые каштановые волосы:
— Ну рассказывай, беглянка…
Взяв руку Андрея и слегка ударяя его ладонь своей горячей, вспотевшей от волнения ладошкой, Тая заговорила быстро и прерывисто:
— Что ж рассказывать, Андрюша? Как только я узнала, что папа жив, я сразу послала ему во Францию письмо и просила, чтоб он поскорее приехал… написала, что я его безумно люблю и скучаю по нем… Я даже послала ему свою фотографию… А тут как раз дядя Митя и тетя Настя затеяли переезд на Дальний Восток. Это ведь очень далеко, правда? Не могла же я уехать на край света, не дождавшись папы?
— Почему ж ты, глупышка, прямо не сказала об этом? — спросил Андрей, охваченный чувством любви и жалости к Тае. — Почему ты убежала тайком, ночью?
— Если бы я сказала, тетя Настя все равно меня увезла бы и не позволила бы остаться, — сказала Тая.
— Ну а где ж ты скиталась полгода?
Тая прижалась щекой к плечу Андрея:
— Понимаешь, Андрюша, когда Федя дал мне папин адрес, я стала откладывать деньги… Ну из тех, что тетя Настя давала нам на питание… И Каля мне отдавала часть своих денег, и Федя тоже… Я, дура, думала: соберу на билет, поеду к папе во Францию и привезу его сюда. Так что деньги у меня были. Вот я и приехала сюда, устроилась ученицей в швейную мастерскую, дали мне место в общежитии… А осенью я хочу поступить в медицинское училище…
— Так ты, значит, полгода тут живешь и ни разу не зашла ко мне в техникум? — укоризненно сказал обиженный Андрей. — Хороша, нечего сказать.
Глядя на Андрея влажными глазами, Тая прошептала:
— Я боялась, что ты отправишь меня на Дальний Восток. Честное слово. А теперь, когда мне сказали, что ваши студенты послезавтра разъезжаются, я пришла… я не могла не прийти… — Тая заплакала: — Я очень скучаю по тебе, Андрюша… сама не знаю почему… Я по всем скучаю… а по тебе больше всех…
Андрей поцеловал ее. Голос его дрогнул:
— Малышка глупая. Брось мудрить и поедем со мной на Дальний Восток. Наши пишут, что там хорошо: нетронутая тайга, птиц и зверей много, озера чистые как хрусталь. Поедем. Я тебя научу стрелять, будем охотиться вместе…
— Не могу, Андрюша… Понимаешь? Не могу. — Плечи Таи вздрагивали от рыданий. — Я должна дождаться папу здесь. Так я написала ему в письме. А потом мы приедем вместе с ним…
— Ну хорошо, хорошо, — сказал Андрей. — Не плачь только. Сегодня у нас в техникуме вечер. Мы будем вместе, ты переночуешь у девочек в общежитии, а рано утром поговорим обо всем, и я тебя провожу.
Успокаивая Таю, Андрей надеялся, что ему удастся уговорить ее и увезти с собой. Его трогала Таина девчоночья любовь к нему, эта наивная и бескорыстная, как сама Тая, преданность, и он, охваченный чувством нежной признательности, стал, лаская, перебирать тонкие пальцы загорелых Таиных рук и сказал тихо:
— Я тоже скучал по тебе, Тая. Когда мне написали, что ты ушла и никто не знает, куда ты исчезла, я места себе не находил, ничего не мог делать, ходил как зачумленный и думал: глупая, злая девчонка…
Он рывком поднял со скамьи Таю, словно хотел подбросить ее в воздух, вскочил сам.
— Пойдем в столовую, надо тебе поесть. Потом приведи себя немного в порядок, умойся, причешись. В восемь часов начало нашего вечера, ты одна будешь представлять на нем всех моих родственников…
Когда вышли из столовой, Андрей попросил свою однокурсницу Феню Сорокину устроить Таю в комнате девчат.
— Понимаешь, Феня, ко мне приехала двоюродная сестренка, — сказал Андрей, — я хочу, чтоб она побыла у нас на вечере, а ночевать ей негде. Так что ты уж приюти ее, пожалуйста, до утра.
Сорокина с любопытством посмотрела на ожидавшую в отдалении Таю и ехидно засмеялась:
— Ладно, Андрей, все будет сделано. Только этих двоюродных сестренок мы знаем, сами с усами…
Перед закатом солнца стали съезжаться первые гости. Андрей расхаживал с Таей по двору, показывал ей коровники, конюшню, птичник, а сам все время посматривал в сторону ворот. И вот сердце его дрогнуло, он остановился и слегка покраснел. В ворота входили Еля, Аля и Павел с Виктором.
Елю Андрей узнал издали, быстро пошел ей навстречу. Одета она была наряднее всех: белое крепдешиновое платье, тонкие чулки на стройных ногах, белые туфли на модном высоком каблуке, в темных, стянутых на затылке волосах белый бант.
Андрей радостно поздоровался с друзьями, оглянулся, отыскивая Таю, чтобы познакомить ее. Тая стояла за его спиной, и Андрей удивился выражению ее лица: покусывая губы и вызывающе закинув руки за спину, Тая смотрела на Елю напряженным, недобрым взглядом.
— Знакомьтесь, — поспешно сказал Андрей, — это моя двоюродная сестра Тая.
Аля и парни протянули Тае руки, а Еля равнодушно глянула на нее и сказала:
— Мы с твоей сестрой знакомы, виделись когда-то в Огнищанке…
После торжественного собрания, на котором были вручены аттестаты окончившим техникум студентам, с короткой речью, обращенной к ним, выступил директор техникума.
— Вы, товарищи молодые агрономы, начинаете свой жизненный путь в сложное, ответственное время, — сказал он. — Впервые в истории наше отечественное земледелие обретает совершенно новые формы, подсказанные эпохой строительства социализма. Вместо десятков миллионов разрозненных крестьянских хозяйств вы увидите артельный труд на обширных колхозных полях. Сплошная коллективизация еще не закончена, она в полном разгаре, и вам в вашей работе придется столкнуться с немалыми трудностями. Как во всяком новом деле, в колхозах еще не один год будут идти поиски путей, которые в конечном счете обеспечили бы самые высокие результаты земледельческого труда…
Вспомнив, должно быть, о недавнем аресте Кураева, директор помолчал, глотнул воды из стоявшего на столе стакана и сказал:
— На вашем пути обязательно встретятся не только маловеры и скептики, не только шапкозакидатели и перегибщики, но и прямые — тайные или явные, это все равно — враги колхозного строя. В борьбе с такими людьми — а борьба будет долгой и трудной — каждому из вас в своей работе надо опираться на великое учение Ленина, на решения партии и никогда, ни при каких обстоятельствах не терять чести советского агронома, которому народом и партией оказано высокое доверие…
После выступления участников художественной самодеятельности и ужина начались танцы.
Танцевать ни Андрей, ни Тая не умели. Они стояли у стены, наблюдая, как танцуют другие. Еля и Аля беззаботно кружились с Виктором и Павлом. Приближаясь к Андрею, Еля весело улыбалась ему, а в перерыве подбежала и спросила:
— Ты что, совсем танцевать не умеешь?
Досадуя на себя, Андрей ответил дерзко:
— Нет, я привык думать головой, а не ногами.
Парни-студенты глаз не сводили с Ели, наперебой приглашали ее на танцы, перешептывались, кивая в сторону Андрея:
— Ставров нашел себе красулю!
— А чего, девка хоть куда!
— Такая любому может голову забить!
Некоторые останавливали взгляд на Тае, посмеивались над ее надетыми на босу ногу матерчатыми тапочками и спрашивали друг друга:
— А эта голоногая худышка кто такая?
— Кто ее знает.
— Фенька Сорокина говорит, что вроде двоюродная сестра Ставрова…
Замечая обращенные на нее взгляды и понимая, что она нравится всем, что все здесь ею любуются, Еля, так же как каждая красивая девушка, радовалась этому и гордилась собой. Щеки ее разрумянились, светло-серые глаза блестели, каждое движение, каждый жест были полны той живой и непосредственной грации, какая всегда бывает у девушки, знающей себе цену и чувствующей, что она находится в центре внимания.
Тая смотрела на Елю не спуская глаз. Губы ее были плотно сжаты и слегка дрожали.
— Ты ее очень любишь? — вдруг спросила Тая, тронув Андрея за руку.
— Люблю, — ответил Андрей.
— Может быть, и женишься на ней?
— Может, и женюсь, если она согласится.
Отпустив руку Андрея, Тая отвернулась и сказала вполголоса:
— Мне тебя жаль, Андрюша. Очень жаль…
— Почему? — спросил Андрей.
— Не знаю. Вы с ней такие разные, ни капельки не похожие люди…
Но Андрей уже не слушал Таю. Увидев, что Виктор отпустил Елю и что она ищет его глазами, Андрей быстро пошел к ней.
— Натанцевалась? — спросил он, любуясь Елей.
— Давай выйдем на воздух, — сказала Еля, — тут душно, и я устала.
Они вышли и медленно пошли к саду. Залитые ровным светом луны, деревья в саду стояли темные, резко очерченные, отбрасывая на дорожку черные тени. В камышах над речкой монотонно квакали лягушки, где-то в отдалении протяжно и грустно кричала выпь.
Андрей и Еля сели на знакомую скамью на краю сада.
— Завтра я уеду, Еля, — сказал Андрей.
— Совсем?
— Совсем. Назначение я получил, больше мне здесь делать нечего. Да и наши просили не задерживаться ни на один день. — Андрей посмотрел на далекое желтое свечение ночного неба над городом, на трепетную лунную дорожку в тихой, дремотной реке и сказал глухо: — Что ж, Елка, так мы с тобой и расстанемся?
Еля молчала.
— Я не представляю своей жизни без тебя, — сказал Андрей. — Вот уеду за тридевять земель и думать о тебе буду каждый день, каждую минуту. Я ведь люблю тебя, Еля… Говорят, что нельзя, невозможно полюбить человека с первого взгляда. Вранье это все. Я полюбил тебя сразу, как только увидел там, в школе, шесть лет назад… Ты помнишь этот зимний вечер? Не помнишь? Я помню, как будто это было вчера. Сумерки в классе, за окном почти потухшая заря…
— Я тоже помню, — сказала Еля.
— Ты стояла у окна в синем пальто, в сапожках и в серой вязаной шапочке, а коса у тебя была повязана лиловой лентой.
— Я помню, — сказала Еля.
— Ребята мне сказали перед этим, что, увидев тебя, я умру от любви к тебе. Я посмеялся над ними тогда. А увидел тебя и понял, что во мне, правда, как будто умерло детство и родилось что-то сильное, красивое… Мне тогда исполнилось шестнадцать лет, а тебе было только тринадцать…
Глянув на Андрея исподлобья, Еля улыбнулась:
— Боже, какими глупыми мы тогда были.
— Я тебе буду часто писать, — сказал Андрей, — но не уверен, появится ли у тебя желание отвечать мне.
— Пиши, конечно, — сказала Еля, — я буду отвечать. — Она поднялась, оправила платье. — Пойдем, неудобно.
Андрей с грустью посмотрел на нее:
— Ну что ж… Прощай, Еля…
Он обнял ее, и она, как это уже бывало не раз, отвернув голову, подставила для поцелуев щеку, что всегда удивляло и обижало Андрея. Но он промолчал.
Они пошли к воротам, где их уже ждали. Павел и Виктор развлекали чему-то смеявшуюся Алю. Чуть в стороне опустив голову стояла Тая.
Андрей проводил своих друзей до автобуса, долго следил, как в сиянии лунной ночи удаляется свет его фар. Неслышно подошла Тая, положила руку на плечо Андрея.
— Давай попрощаемся, Андрюша, — сказала она. — С тобой я не поеду. Ты мне оставь адрес наших.
Как Андрей ни уговаривал Таю, как ни доказывал, что поступок ее безрассуден, она осталась непреклонной.
— Я уже написала папе, жду его ответа и отсюда никуда не уеду, — сказала Тая.
В эту ночь Андрей и Тая так и не легли спать. Почти не разговаривая, они пробродили в саду до рассвета, постояли у речки. На востоке, за лесом, неярко зарозовело небо, совсем белой стала полная луна. В камышах слышалось плескание рыбы. Воздух наполнился прохладной свежестью.
— Когда мы теперь встретимся, Андрюша? — задумчиво сказала Тая. — Никто не знает.
Она вдруг заплакала, приникла к нему, и он, томимый любовью и жалостью к ней, гладил ее худые, вздрагивающие плечи, тонкую девчоночью шею и не знал, что ей сказать, чем утешить ее…
Когда взошло солнце, Андрей уложил свой сундучок, простился с товарищами, с преподавателями и вместе с Таей уехал в город. На вокзале, купив билет, он поделился с ней последними деньгами. Они обменялись адресами, посидели в буфете, долго гуляли по перрону.
Поезд уходил перед вечером. Андрей стоял у открытого окна вагона, махал Тае рукой, а поезд, набирая скорость, все удалялся от вокзала, и все больше удалялась одинокая фигурка Таи, стоявшей на пустынном перроне с низко опущенной головой…
5
Трудно в эти годы жили люди на земле. Когда-нибудь дальние их потомки удивятся тому, как при изобилии всего, что производилось на полях, — пшеницы, риса, молока, масла, мяса, кофе, овощей — голодали женщины и мужчины, молодые и старые, умирали от голода дети. Нелепее и страшнее всего было то, что люди голодали и умирали не потому, что на земле не хватало продуктов питания, а именно потому, что пшеницы, мяса, молока было произведено гораздо больше, чем могли купить люди, а те, кому все эти богатства принадлежали, не хотели терять прибыль и кормить людей без денег.
Были добыты целые горные хребты угля, а миллионы людей мерзли в жалких нетопленых хижинах. Были свезены с полей горы хлопка, добыто огромное количество нефти, стали, чугуна. В роскошных магазинах пылилось множество мужских и женских костюмов, сохло и пропадало множество обуви. А миллионы босых людей в это время ходили в нищенском рубище только потому, что у них не было денег.
И тогда владельцы всех земных богатств, не желая отдавать их за бесценок и отворачиваясь от горя людского, стали закрывать и разрушать заводы, фабрики, доменные печи, нефтяные промыслы, а рабочий люд лишать последних средств существования. Они, эти жадные, жестокие владельцы земных богатств, стали топить паровозы зерном пшеницы и риса, стали обливать нефтью мясные туши и сжигать их, молоко выливать в реки, а зеленые посевы хлебов перепахивать.
Умножались армии безработных в Америке, в Англии, в Германии, во Франции, в Италии, в Испании. Росли безымянные могилы умерших от голода в Индии, в Китае, в африканских странах. К столицам государств двигались колонны голодных, безработных людей, а их встречали пулеметными очередями, залпами винтовок, слезоточивыми газами, гноили в тюрьмах. Тысячами разорялись крестьяне, кончали жизнь самоубийством миллионеры-банкроты, вспыхивали забастовки и восстания, которые подавлялись с невиданной свирепостью.
Этот дикий, трагический хаос ученые люди назвали экономическим кризисом или кризисом перепроизводства, неизбежным спутником капиталистического строя, при котором богатства производят миллионы миллионов тружеников, а присваивают и по-своему распределяют эти богатства немногие, те, кто владеет ими.
Ни днем ни ночью не прекращали люди борьбы с этим несправедливым, звериным строем: демонстрации, митинги, забастовки, массовые выступления рабочих, безработных, крестьян следовали непрерывной чередой во всех частях земли, и все чаще угнетенные люди во всех частях земли стали обращать свои взоры к единственной в мире стране, народ которой, ведомый партией Ленина, навсегда сверг и разгромил самодержца-царя с его жадной челядью, ораву землевладельцев-помещиков, фабрикантов и заводчиков, всех бездельников и паразитов, которые веками сидели на шее народа и наконец исчезли, как исчезает развеянный ветром дым…
Андрей Ставров несказанно удивился тому, что на свете еще существуют люди, которые не только не знают того, что происходит в мире, но, живя в глубине дикой, непроходимой тайги, не хотят ничего знать и оберегают свою жизнь от тлетворного, по их мнению, общения с греховным, погрязшим в преступлениях миром…
По приезде на Дальний Восток Андрей был назначен агрономом Кедровского райземотдела. Заведующий земотделом, пожилой опытный работник, бывший партизан, Иннокентий Ерофеевич Балакин вначале не очень обременял нового агронома, понимая, что ему надо познакомиться с районом, войти, как говорится, в курс, а потом уж приниматься за дело. Невысокого роста, широкоплечий крепыш с лысой головой и веснушчатым загорелым лицом, сильно подслеповатый и потому никогда не снимавший очков, Иннокентий Ерофеевич только приглядывался к Андрею, рассказывал о природе Дальнего Востока, об охоте, о лесозаготовках и пчеловодстве, о попытках соседнего совхоза сеять пшеницу и овес на больших площадях и о том, как эти хлеба косили под снегом.
Большой деревянный дом, в котором поселились Ставровы, позволял выделить взрослеющим парням отдельную просторную комнату, в ней и разместились Андрей и Федор. Каля, которой приходилось ежедневно убирать в доме, презрительно именовала эту комнату казармой.
Иннокентий Ерофеевич посетил Ставровых сразу же после знакомства с Андреем. Осмотрев дом, он одобрительно сказал:
— Ничего, условия для работы подходящие. Привыкай пока, Андрей Дмитрич, обживайся, пару месяцев я тебя гонять не буду, а то еще, чего доброго, испугаешься и сбежишь от нас, а нам люди край как нужны…
Но с наступлением зимы Балакин вызвал Андрея в свой кабинет, критически оглядел его короткий огнищанский полушубок, хромовые сапоги и сказал:
— Вот чего, товарищ Ставров, готовься к дальней поездке в тайгу. Командировку я тебе выписываю на два месяца. У нас тут поселки раскиданы по всей тайге. Каких-нибудь пять-шесть изб — вот тебе и поселок, а ехать от одного до другого триста, пятьсот километров, бывает и больше. Живут в таких точках звероловы, пчеловоды, рыбаки, разные беглые сектанты и просто черт знает кто. Мы должны иметь полный учет всех жителей этих точек, подробное описание их занятий, хозяйства. Одним словом, нам нужна ясная картина. — Иннокентий Ерофеевич протянул Андрею объемистую папку: — Вот тебе инструкции по этому вопросу, двести штук опросных листов и командировочное удостоверение. Костюмчик твой в такую дорогу не годится. Иди получи в исполкоме доху, свитер, меховые штаны, унты, шапку и все сухие продукты, которые положены. Завтра утром по этому же маршруту едет уполномоченный Кедровского ГПУ товарищ Токарев. С ним и поедешь. У него там свои задачи, а ты займешься нашими делами…
Так Андрею довелось повидать людей, которые ему и во сне не снились…
Михаил Токарев оказался славным парнем. Был он лет на пять старше Андрея. Смугловатый, горбоносый, с тонкой талией и отлично натренированным телом боксера, он, несмотря на свой малый рост, выглядел сильным и ловким.
Перед отъездом в далекую, трудную дорогу он внимательно и придирчиво осмотрел весь багаж легких, удобных саней, в которые были уложены сухари, вяленая рыба, консервы, чай, сахар, посуда, мешки с овсом, проверил упряжь на сильном и злом монгольском мерине. Андрею он посоветовал взять с собой охотничье ружье и дал ему сотню патронов, заряженных пулей-жаканом.
— Это нам не помешает, — сказал Токарев, — тайга велика, мало ли что может случиться.
У самого Токарева поверх длинной, подшитой мехом кавалерийской шинели были надеты на ремнях планшет с картой и кобура с наганом. В суконной буденовке с синей звездой и в серебристых унтах из меха нерпы он выглядел весьма воинственно.
Выехали они рано утром. Почти до самого вечера ехали по льду реки. День был пасмурный, безветренный, но мороз доходил до сорока градусов. Подкованный мерин бежал ровной неторопливой рысью, из ноздрей его валил пар, а гнедой круп побелел от инея.
Путники почти не говорили, разговорам мешали мороз и шерстяные подшлемники, закрывавшие все лицо, кроме глаз. Переночевали они в пустой охотничьей избушке, а на рассвете двинулись дальше. Мороз все крепчал. Андрей восхищенно любовался суровым величием зимней тайги. Исполинские ее деревья росли так густо, что их кроны скрадывали дневной свет и в тайге стоял полумрак. Изредка, пересекая ледяную реку, с одного берега на другой перебегало стадо диких коз. Бежали они медленно, а когда оказывались в глубоких прибрежных сугробах, переходили на шаг, проваливаясь по самое брюхо.
На исходе третьего дня Токарев повернул коня на едва заметную просеку. Река осталась позади. По снегу ехать было тяжелее, конь все чаще останавливался.
— Где-то тут должен был быть маленький поселок, — сказал Токарев, — если верить карте, то до него километров двадцать пять.
— По-моему, впереди виден санный след, — сказал Андрей, — он появляется откуда-то справа и выходит на нашу просеку.
Они поехали по слабо заметному, уже припорошенному снегом следу. Мерин, почуяв накатанную дорогу, перешел с шага на неторопливую рысь. Вечерело. Тучи рассеялись. Над тайгой холодно светилось розоватое небо, на котором еле угадывался бледный серпик молодого месяца. Давящая тишина стояла в тайге, слышалось только поскрипыванье санных полозьев да изредка фыркал наморенный мерин.
Продрогший Андрей смотрел на черные стволы высоченных кедров, на снежные сугробы, на вечернее небо, которое с каждой минутой теряло свою розовость и сине темнело, и думал об Огнищанке, о Тае, о Еле, которая осталась где-то очень далеко, за десять тысяч верст, и казалась ему теперь такой же навеки недоступной, как этот тонкий, латунного оттенка месяц над дикой, пугающей необъятным пространством тайгой…
Совсем стемнело, но впереди не было видно никаких признаков жилья. Токарев забеспокоился, заерзал в санях.
— Черт его знает, где этот проклятый поселок, — сказал он, всматриваясь в темноту.
Стащив рукавицу, он достал из кобуры наган, сунул его под шинель.
— Пусть чуток согреется…
Они ехали еще часа два, продрогли до костей, а когда мерин остановился, вдруг услышали впереди далекий собачий лай.
— Ничего, едем правильно, — сказал Токарев.
Почуяв жилье, мерин срывался с шага на рысь, но Токарев сдерживал его, приговаривая повеселевшим голосом:
— Не спеши, дружок, не спеши… охолонь малость…
В темный угрюмый поселок они въехали к полуночи. Упрятанный в глухой тайге поселок представлял собою десяток добротных, сложенных из бревен домов, окруженных высоким частоколом. Токарев повернул мерина к самому крайнему дому. Сквозь щели неплотно прикрытых ставней в этом доме был виден свет лампы.
— Давай заедем, — сказал Токарев.
Он подвел коня к частоколу, закинул вожжи на резной столб калитки и пошел к двери дома. Андрей пошел за ним. Где-то за домом, видимо запертая в сарай, хрипло и злобно лаяла собака.
Пройдя темные сени, Токарев ощупью нашел вторую дверь и распахнул ее. Андрей остановился за его спиной. Их сразу обдало горячим паром, оглушило визгом и криками.
Просторная горница была битком набита в дым пьяными людьми. Здоровенные, заросшие, как медведи, мужики в расхристанных сорочках, простоволосые горластые бабы — две или три из них уже лежали на полу — вначале не обратили на вошедших никакого внимания. Четверо сидевших за длинным столом стариков, пьяно икая, чокались кружками. Горбатый мальчишка ползал по полу и, заливаясь от хохота, заголял лежавших на полу баб. С десяток полураздетых мужиков, сгрудившись в углу, били какого-то парня, били молча, сопя от натуги, а тот, теряя сознание, по-щенячьи тонко выл.
Токарев положил руку на рукоятку нагана.
— А ну тихо! — крикнул он.
На секунду все умолкли, повернулись к двери. Потом широкоплечий рыжебородый мужик в разорванной голубой сорочке — по виду хозяин — вышел из толпы, посмотрел, сдвинув брови, на Токарева, на Андрея и сказал, оскалив в усмешке крепкие зубы:
— А-а-а, дорогие гости! Просим пожаловать! Вы нам как раз и нужны… Брат мой родной сбежал от вас, он порассказал, чего ваша банда натворила в русских селах и деревнях…
Он шагнул к Токареву, сжал кулачищем рог его суконной буденовки.
— Что? — рявкнул рыжебородый. — Земля народу, а богу хрен?
Выкрикнув короткое, мерзкое слово, он размахнулся, хотел ударить Токарева, но тот молниеносным ударом свалил его с ног и, подтолкнув Андрея, бросился из дома. Разъяренная толпа пьяных мужиков кинулась за ними. Токарев схватил вожжи, вскочил в сани, хлестнул кнутом мерина. Андрей уже сидел в санях. Мерин понесся вскачь. Один из мужиков успел схватиться рукой за задок саней и волочился по снегу, пытаясь стать на ноги. Выхватив из-под себя ружье, Андрей изо всей силы ударил его прикладом по руке. Мужик упал, взвыв от боли. Испуганный мерин помчался по темной лесной просеке. Сани заносило на склонах снежной дороги, било о невидимые под снегом пеньки.
— Ты потише, — крикнул Андрей, — сани поломаем!
Токарев оглянулся, придержал мерина.
— Сволочи! — сквозь зубы сказал он. — Ну ничего. Мы этой кулацкой шайке покажем, где раки зимуют…
Только перед восходом солнца они добрались до затерянной в таежной глухомани, засыпанной снежными сугробами охотничьей избушки и решили сделать дневку, дать отдохнуть мерину.
— Тут кто-то есть, — сказал Токарев, — дымом пахнет.
Они выпрягли мерина, зашли в избу. Там, перед потухающим очагом, скрестив ноги, сидел на нарах нерусский маленький старик с коричневым скуластым лицом и раскосыми глазами. На полу, возле очага, лежала рыжая лайка. Она слегка заворчала на вошедших, вопросительно взглянула на хозяина. Старик что-то сказал ей и замолк.
Токарев внес в избушку дрова, подбросил несколько поленьев в очаг. Андрей, присев на край деревянных нар, развязал мешок, вынул консервы, сухари, флягу со спиртом. Поймав обращенный на продукты взгляд старика, Андрей понял, что тот голоден. Рыжая лайка тоже не сводила глаз с сухарей. Когда консервы были подогреты, а спирт разлит по кружкам, Андрей жестом пригласил старика:
— Садись, отец, покушай с нами…
Они вместе выпили спирта, закусили вяленой рыбой, разогретыми консервами, покормили голодную собаку. Старик расстегнул короткую дошку, закурил трубочку, показал глазами на стоявший в углу мешок.
— Моя охотничал белка, немножко куница… совсем мало-мало соболь… три штука соболь, — сказал он нараспев, — два месяца по тайга ходил, оголодал совсем… Теперь-сейчас домой иду.
— А дом твой далеко? — спросил разомлевший от жары и спирта Андрей.
Старик покачал головой, поднял три темных, костлявых пальца:
— Нет далеко… три дня и три ночь…
— Давай, Миша, поделимся с ним продуктами, — сказал Андрей, взглянув на Токарева, — иначе он не доберется.
— Конечно поделимся, — сказал Токарев. — Дай ему коробки три консервов, сухарей и отлей немного спирта, там, в санях, у нас есть пустая бутылка.
Андрей отложил все, что перечислил Токарев, сказал:
— Возьми, отец. Это тебе в дорогу.
Не по возрасту легко вскочив с нар, старик благодарно похлопал по плечу Андрея, поклонился Токареву, подбежал к своему мешку и стал выбрасывать на нары подмороженные шкурки. Отобрав три шкурки соболя, он вывернул их, протянул одну Андрею, вторую Токареву.
— Бери, пожалуйста, — сказал старик, — одна соболь будет моя, одна соболь — твоя, одна — его…
Андрей, никогда не видевший соболя, залюбовался мехом: атласно-темный, почти черный на спинке, с едва заметной редкой, серебристой проседью, он на брюшке и в пахах приобретал мягкий желтовато-кофейный оттенок и, казалось, мерцал и переливчато светился.
— Нет, отец, это очень дорогой подарок, — смущенно сказал Андрей, — спасибо тебе, но нам неудобно, понимаешь? Неловко принимать его от тебя. Правда, Миша?
— Верно, Андрей, — сказал Токарев. — А то, чего доброго, он еще примет нас за живоглотов-скупщиков, которые за бутылку спирта обдирали таких бедолаг как липку.
Вслушиваясь в их разговор, старик обидчиво поджимал губы, пытался что-то сказать и наконец заговорил, волнуясь и перевирая слова:
— Нет, нет… зачем твоя так сказал? Моя видит хороших людей. Вы меня не заставлял. Я сам хочу говорить вам спасибо…
Он топтался по полу, размахивал руками и так настойчиво просил взять у него соболей, что Токареву и Андрею стало совестно.
— Ладно, — сказал Андрей, — у нас есть коробки с порохом, давай дадим ему пару, отсыплем сахара, соли. Он ведь от чистого сердца.
Токарев махнул рукой:
— Валяй. Дед он хороший, жалко его обижать…
Они набили заплечный мешок старика продуктами, дали ему две коробки пороха, двести штук ружейных капсюлей, Андрей повязал его худую шею своим новым шерстяным шарфом, Токарев подарил пару теплого белья.
Андрей не сводил глаз со старого охотника. Он мысленно представил, как этот хилый, худой человек в сопровождении своей рыжей лайки месяцами бродил по тайге, спал на снегу, зажигал костры, жил впроголодь и не страшился оставаться в полном одиночестве среди снегов и деревьев. Всматриваясь в морщинистое, темное, как древесная кора, лицо старика, в его спокойные, полуприкрытые глаза, Андрей представил его полную трудов и лишений жизнь и подивился силе человеческого духа и стойкости таежного жителя.
Расстались они друзьями. Когда отдохнувший мерин, наклонив гривастую голову, вырвал примерзшие полозья саней из обледенелого снега и помчался по узкой таежной просеке, старик и его рыжая собака долго еще стояли у порога одинокой избушки, глядя вслед удаляющимся саням.
Андрей тоже оглядывался и думал: «Вот встретился на моем пути тот незнакомый мне хороший старик, и я больше его не увижу, а память по себе он оставил». И еще он думал о том, как, вернувшись в Кедрово, пошлет Еле шкурку соболя и напишет, чтоб она сделала из собольего меха воротник на платье, надевала это платье в холодные зимние дни и, согревая себя мягким мерцающим мехом, вспоминала его, Андрея, мчащегося сейчас по снежным сугробам в неоглядной тайге…
Ехали они еще семь дней. С каждым часом дорога становилась все уже и труднее. Со всех сторон их окружало безмолвное царство глухой тайги. Ветер не проникал сюда, в эту глушь. Недвижимо стояли огромные, заросшие мохом кедры и пихты. Их недосягаемые кроны обвивали припорошенные снегом, похожие на уснувших змей гирлянды лиан. Петлявшую по распадкам и склонам сопок неезженую дорогу то и дело преграждали завалы бурелома, и этот дикий хаос мертвых деревьев надо было объезжать. Андрей и Токарев часто сходили с саней, разыскивали среди густой чащобы извилины забитой снегом дороги, чтобы потом взять под уздцы мерина и провести его по засыпанному сугробами лабиринту.
На четвертые сутки, после полудня, их настигла пурга. Вначале они услышали только ее отдаленный шум и завывание ветра, но уже через час осатанелый ветер понес по тайге клочья белесой снежной мглы, и вскоре эта страшная, беснующаяся мгла заволокла все вокруг, скрыла даже ближние стволы кедров, засвистала, загрохотала, зашипела так, словно наступил конец света.
Токарев остановил коня, накинул на него попону, подвязал ее к оглоблям.
— Держи брезент! — крикнул он Андрею. — Растянем его на кольях и укроемся от ветра!
Запасливый Токарев, зная тайгу, еще в Кедрове заготовил и вез с собой колья, на отводах саней привинтил железные скобы, куда, в случае необходимости, вставлялись колья. Сейчас он с помощью Андрея растянул и привязал к кольям плотный брезент, превратив сани в палатку. Там, укрывшись от ветра и снега, они быстро развели примус, поели, подвязали коню дорожную торбу с овсом, накормили его, напоили натопленной из снега водой, погасили примус и улеглись, растянувшись в спальных мешках.
В темноте, покуривая под завывание ветра и шум метели, Токарев рассказал Андрею, как два года назад Особая дальневосточная армия разгромила китайских белобандитов, которые налетами на КВЖД[8] пытались втянуть Советский Союз в войну.
— Я в то время находился в действующей армии, — сказал Токарев, — лихо мы им морду набили.
Потом, понизив голос, он начал рассказывать о цели своей поездки в тайгу.
— Понимаешь, Андрей, — сказал Токарев, — тут штука серьезная. Ты парень свой, и от тебя можно это не скрывать. Дело в том, что через нашу границу перешел и где-то в этих местах скрылся один из крупных агентов белогвардейского генерала Семенова штаб-ротмистр Тауберт. Сейчас весь наш аппарат от Бочкарева до Хабаровска поставлен на ноги. Эту птицу нам приказано поймать во что бы то ни стало.
— Задача не из легких, — сказал Андрей.
Токарев вздохнул:
— То-то и оно. Попробуй найди его. Нырнул он в тайгу, как иголка в сено, и будь здоров. А тут еще эта проклятая пурга все следы заметает…
Пурга мела всю ночь. К утру ветер утих, а когда Андрей и Токарев выбрались из своей самодельной палатки, на небе не было ни облачка, солнце золотило верхушки припорошенных снегом деревьев.
— Отлично, — разминаясь после сна, сказал Токарев. — Сейчас выпьем по кружке кофе и двинемся дальше. По-моему, к вечеру мы выберемся из этой чертовой тайги и покатим по льду. Где-то тут должен быть приток реки.
Надежды Токарева оправдались. После полудня они увидели ледяную гладь неширокой речки с довольно крутыми каменистыми берегами, отыскали пологий спуск и выехали на лед. Ехали еще два дня и наконец на высоком скалистом берегу увидели селение, издали напоминающее крепость. Десяток его островерхих деревянных домов, построенных так плотно, что они казались пристройками одного огромного дома, были окружены оградой, которую трудно было назвать частоколом — толстые, затесанные на острие, просмоленные бревна выглядели как неприступная крепостная стена.
Заглянув в планшет, Токарев сказал:
— На карте это селение значится, но, по-моему, в нем спокон веку никто не был. Во всяком случае, в Кедровском районе его не знают. И название у него самое что ни на есть каторжное: Макаровы Телята.
— Сильное название! — не без тревоги отозвался Андрей.
Солнце близилось к закату. Его косые багряно-желтые лучи озаряли тайгу, снежные сугробы и селение-крепость на берегу ровным холодным светом. Токарев, придерживая мерина, зорко всматриваясь в очертания неведомого селения, сказал сквозь зубы:
— Гляди, Андрей, похоже на то, что нас ожидает самая торжественная встреча. Видишь, сколько их валит из ворот? Держи-ка на всякий случай свое ружье поближе, а я переложу наган…
Но, судя по виду встречающих, у них пока не было заметно никаких воинственных намерений. Из полуоткрытых ворот селения торопливо выходили и останавливались на берегу одетые в меха мужчины, женщины, дети. Приложив ладони к глазам, они смотрели на приближающиеся сани.
Впереди всех, опираясь на палку, стоял древний старик с длинной седой бородой. Из-под его меховой шапки выбивались такие же седые волосы.
Токарев остановил коня, притронулся рукой к буденовке и сказал:
— Здоровы были, люди добрые!
Стоявший впереди старик снял шапку, низко поклонился:
— Спаси вас бог и помилуй. Заезжайте, гостями будете. Там, трошки левее, можно наверх взъехать.
Обогнув скалистый выступ, Токарев подъехал к воротам, которые уже были гостеприимно распахнуты. Заехали во двор, стали выпрягать исхудавшего наморенного мерина. Сани тотчас же окружила толпа.
— Откель же вас бог несет? — спросил старик.
— Из Кедрова, — ответил Токарев, — есть такой поселок, районный центр. Может, слышали? Километров шестьсот отсюда.
Мужчины помоложе недоуменно переглянулись, а старик пошевелил губами, точно вспоминал что-то, потом сказал:
— Это, сдается мне, в низовьях реки.
— Да, в низовьях, — сказал Токарев.
Андрей молча стоял возле саней, бегло осматривая двор. Близко поставленные высоченные дома были сложены из толстых бревен и добротно проконопачены мохом. Чуть поодаль виднелись такие же громоздкие сараи, похожие на сушилки постройки, собачьи конуры. Несмотря на недавнюю пургу, весь двор был не только очищен от снега, но и чисто выметен. Андрея поразило то, что все стоявшие в толпе мужчины, даже самые молодые парни — а их, этих парней, было не меньше пятнадцати, — заросли бородами, как будто ни разу не видели бритвы.
Старик жестом подозвал одного из парней и сказал повелительно:
— Отведи мерина в конюшню, оботри его хорошенько, положи в ясли сена, потом, как охолонет, напоишь и засыпешь овса. А сани поставь в закат.
Повернувшись к Андрею и Токареву, старик снова поклонился:
— Милости вас просим пожаловать в избу…
Отряхнув у порога меховые унты, они вошли в большую горницу, в которой стоял длинный, ничем не покрытый, сколоченный из досок стол, вокруг него такие же скамьи. На стене висели выцветшие от времени портреты-олеографии давно свергнутых царя и царицы.
За стол вместе с Андреем и Токаревым сели древний старик — он оказался главой этой странной семьи, — трое стариков чуть помоложе и одиннадцать крепких пожилых мужчин, в бородах которых едва пробивалась седина. Все они были одеты в белые холщовые рубахи грубой ткани. Из горницы в соседние комнаты вели широкие двери, у которых столпились молодые парни, женщины и дети.
Две женщины внесли и поставили на стол несколько деревянных мисок с молочным супом и деревянные ложки. Сидевший на почетном месте старик поднялся, склонил голову и произнес нараспев:
— Отче, любящий всех человеков! Освятись в памяти вечных сынов твоих, восцарствуй премудростью твоею в сердцах их, наполни духом твоим волю их, действуй в них, ими и над ними, яко же хощеши вовеки…
После молитвы все взялись за ложки и стали есть заправленный лапшой горячий суп. После ужина Токарев открыл портсигар, но старик — звали его, как он сам потом сказал, дед Иона Ширицын — хмуро посмотрел на гостя и сказал:
— У нас, милый человек, дьявольским зельем дымить не положено. А ежели тебе так уж невтерпеж, то можно выйти из избы…
Андрей понял, что они с Токаревым попали в какое-то сектантское селение. Так оно и оказалось. Уже вечером, при тусклом, неверном свете лучины, дед Иона Ширицын рассказал гостям историю селения над безымянной таежной речкой. Его благоговейно слушала вся большая семья, рассевшаяся на полу и в соседних комнатах. А было в этой семье человек семьдесят.
— Поселились мы тут в одна тысяча девятьсот третьем году, — так начал свой рассказ Иона Ширицын. — Допрежь того жили в разных местах: две семьи — мы, Ширицыны, и Лахтановы — в Тамбовской губернии, а одна семья Панотцовых — гдей-то за Доном, в Сальских степях. И состояли мы в ту пору в общине всесветного братства духоборов. Мы не признавали и теперь не признаем ни церкви, ни икон, ни попов, ни крещения, ни причастия, потому что все это — дела рук человеческих, а господь бог не дозволяет поклоняться ничему бездушному, или, иначе сказать, рукотворному. Поклоняемся же мы одному богу, который есть любовь, и учим детей наших любить всякую живую тварь, будь то дерево, собака, человек или птица, и не противиться злому… Ну за эту нашу чистую веру стали нас преследовать власти: урядники всякие, исправники, заседатели, а пуще всего — попы, дьяволовы слуги. Зачали нас сселять с мест, где жили деды наши и прадеды, сажать в тюрьмы, где намучились мы вдосталь… И никто за нас не заступился, окромя одного святого человека нашей веры, а имя ему Лев Толстов. Он говорил про нас правду, самому царю писал про гонения на духоборов, да царь энтого праведника Толстова не послушал, а попы прокляли его и предали анафеме, яко татя и злодея… Духоборов же в России были многие тысячи, и стали нас пуще прежнего притеснять, в кандалы заковывать, по острогам мучить, батогами и палками избивать. И тогда святой праведник Лев Толстов помог несметному множеству духоборов переселиться в страну под названием Канада и тем избавил их от мук…
Дед Иона задумался, пожевал губами, вздохнул и продолжал свой невеселый рассказ:
— В тот год мы, Ширицыны, значит, наши земляки Лахтановы, а также семья донских казаков Панотцовых в ссылке находились, в Пермской губернии, и тамошние власти замордовали нас вовсе. И написали мы тогда письмо Льву Толстову и вскорости ответ от него получили, что, дескать, он добыл нам дозволение ехать в страну Канаду и тем от несказанных страданий и притеснений избавиться… Ну подумали мы и порешили свою землю не покидать, а схорониться, значит, от всего мира в самой что ни на есть непроходимой тайге и уйти от грехов, от соблазна всякого и от властей неправедных. Куда идти и в каких краях хорониться, мы не знали и, может, долго бы еще терпели муки, но одного разу случай такой вышел…
Низко опустив седую голову, теребя бороду темной дрожащей рукой, дед Иона замолчал. За дверью тихо заплакала старуха в черном платке.
— Говори, батя, все до конца, пущай люди послушают, — сказал сидевший рядом с Андреем угрюмый мужик. — Мы ж людей сколько годов не видали, они первые добрались до нас.
Дед Иона погладил стол жесткой ладонью.
— Случай получился такой. В воскресный день одна тысяча девятьсот второго году, аккурат на пасху, приезжает за мною стражник. «Собирайся, — говорит, — Иона Ширицын, тебя, дескать, господин исправник до себя кличут». А исправником был капитан в отставке господин Кувалдин, пьяница несусветный и чистый зверь. Рассказывали, что его сам государь за избиение солдат из гвардии выгнал. Ну приводит меня стражник до исправника и ведет прямо в сад. Гляжу, сидит господин Кувалдин за столиком как есть пьяный, а с ним поп Мануил, здоровенный такой мужик, тоже пьяный. На столе, значит, крашеные яйца по тарелкам разложены, недоеденный кулич стоит, окорок и штоф водки. Увидели меня исправник с попом, один одному моргнули и говорят стражнику: выпей, мол, стакан и можешь быть свободным. Стражник выпил и ушел. А поп Мануил спрашивает у меня: так, мол, и так — веруешь ли, раб божий Иона, в господа бога Исуса Христа, распятого за такое падло, как ты, при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна, и воскресша в третий день по писанию? Никак нет, говорю я попу, не верую, потому что Исус не бог, а человек, и не мог, значит, воскреснуть плотию… Поп с исправником поднялись и ведут меня в самый конец сада, он оградою прямо в лес упирался. «Ничего, — обзывается до меня господин исправник Кувалдин, — зараз мы тебе покажем распятого Исуса, ты тогда поверишь…» Пришли мы, и, гляжу я, на полянке высокий крест в землю закопан, а на кресте распят мой друг верный и наставник по вере, донской казак Кондрат Митрофанович Панотцов…
— Как распят? — воскликнул Андрей.
— В точности так же, как Исус Христос, — потупившись, сказал дед Иона. — Поглядел я, а он висит на кресте голый, и руки-ноги его гвоздями до креста прибиты… А было ему в тот год пятьдесят девять лет, и был он человек грамотный, в турецкую войну за православных людей болгаров кровь свою проливал, и сам покойный государь император Александр Второй в болгарском городе Плевне наградил его за храбрость и отвагу. А вскорости после войны Кондрат Панотцов от оружия отказался, бросил ходить в церковь и в нашу веру перешел.
— Что ж, он так и умер на кресте? — взволнованно спросил Андрей.
— Никак нет, — сказал дед Иона, — видно, всемогущий бог за страдания его помиловал… В тую минуту, как я стал на колени перед своим распятым наставником, господин исправник Кувалдин ударил меня ногою по голове и закричал: «Снимай с креста энту падаль и волоки отседова, пока жив!» Приставил я до креста лестницу-стремянку, повынал клещами гвозди из рук, из ног Кондратовых и понес его через лес. Донес до одного овражка, вода в нем протекала, положил Кондрата на землю, сорочку свою разорвал, раны ему обмыл и стал руки-ноги перевязывать, гляжу, а он, сердечный, глаза открыл, застонал и заплакал. Опосля этого мы Кондрата Панотцова все лето от властей хоронили, особливо от исправника. А исправник каждую субботу в наш ссыльный хутор приезжал, избивал плетью кого хотел и все грозился. Я, мол, вас, богоотступников, загоню туда, куда Макар телят не гонял…
Переглянувшись с Андреем, Токарев спросил:
— Поэтому вы и назвали ваше селение Макаровы Телята?
— Так точно, — сказал дед Иона, — мы такое название своему селению дали, чтоб дети и внуки про наши страдания не забывали и не стремились отседова в грешный, неправедный мир…
— Как же вы на этом месте оказались? — спросил Андрей.
— Дождались мы осени, и в сентябре девятьсот второго года три наши семьи — Панотцовы, Лахтановы и Ширицыны — двинулись на Восток Дальний. Руководствовал нами Кондрат Панотцов, а всего нас было с детьми двадцать один человек. Добрались мы до поселка-станции, а оттудова по льду реки в тайгу, в самое что ни на есть глухое место. Коров с собою гнали, коз, коней штук двенадцать, цельным обозом шли почти что три месяца. Пришлось нам это место по нраву, тут мы и поселились аккурат в январе девятьсот третьего года. Пожили шесть лет, до нас еще три гонимых семьи странников-шалопутов пристало да двое беглых, которые супротив царя шли. Они вскорости скончались от чахотки. На седьмой год Кондрат Панотцов — мы его за святого считаем — отобрал четверых мужиков, у которых жены поумирали, попрощался с нами и ушел еще дальше через хребет Дусе-Алинь, к таежной реке Амгунь. Там он с мужиками и поселился. Один раз в год мы ходим на встречу с ним, и он передает нам оттудова все, что добудет: порох, соль, косы, плуги, одежу, а ему все это люди за собольи да за беличьи шкурки доставляют. А селению своему он дал название Ясная Поляна. Так называется село в Тульской губернии, где живет Лев Толстов. Наш Кондрат Митрофанович даже стих про него сочинил и кажное утро читает как молитву…
— Отчего же Кондрат Панотцов с вами не остался? — спросил Андрей.
— Потому что он праведный человек и служит нам, очищающим душу, — серьезно сказал дед Иона. — Он желает, чтобы мы не общались с грешным и злым миром и в нашем пустынничестве соблюдали себя в чистоте.
— Как же вы можете жить без мира? — спросил Андрей.
— Вот так и живем уже двадцать восьмой год, хотя и не соблюдаем всех законов нашего братства. Хлебец помаленьку сеем, пчелок, божьих тружениц, держим… По нужде нашей и на зверя ходим и рыбу в протоке ловим… По законам братства мы не могем убивать ничто живое: ни зверя, ни птицы, ни рыбы. Ну а куды денешься, ежели человек пищи требует? Правда, охотничаем мы и рыбалим, только когда голод заставляет, а лишнего ничего не губим…
Дед из-под густых бровей глянул на стоявших в молчании людей.
— Земля у нас общая и двор один, общий. Мужеское хотение и плоть женскую мы считаем греховным соблазном, но никому сходиться не запрещаем, и потому в нашей семье почти что кажен год дети рождаются. Работаем все как есть, ни один без дела не сидит, и потому из наших запасов кажен берет, чего ему нужно, безо всякого спроса…
Токарев, усмехаясь, посмотрел на портреты царя и царицы, указал на них пальцем:
— А этих для чего вы держите?
— Энто для властей, — сказал дед Иона.
— Для каких властей?
— Которые нас притесняли. Ежели они когда и доберутся сюда, то пущай видят, что мы не бунтовщики и на царя руку не поднимаем…
С нескрываемым любопытством Андрей смотрел на деда Иону, на сидевших вокруг стола мужиков, на парней и женщин, которые благоговейно слушали деда.
— А вы знаете, что ни царя, ни царицы уже давно нет? — осторожно спросил Андрей.
Дед Иона удивленно шевельнул бровью:
— Как так нет? А иде ж они делись?
— Тринадцать лет назад, в тысяча девятьсот семнадцатом году, народ скинул царя, всех его министров, всех губернаторов, урядников, а в восемнадцатом году царь, царица и их дети были расстреляны в городе Екатеринбурге.
Дед Иона широко раскрыл глаза. Не скрывая изумления и даже какого-то испуга, стали переглядываться мужики: не обманывают ли их и не готовят ли какую-нибудь каверзу нежданно-негаданно появившиеся в селении двое гостей, один из которых носит на голове шлем какого-то стародревнего витязя?
— А кто ж теперь государством правит? — не без робости спросил дед Иона.
— Правят выбранные народом люди, а значит, сам народ.
— Так это как же получается? Что народ сам себе власть?
— Выходит, так…
Изборожденное морщинами лицо деда Ионы помрачнело. С явным недоверием он покачал головой, задумался, потом сказал с горечью:
— Зря вы нас обманываете, добрые люди. Мы никому зла не делаем, живем, как велит наша совесть. Для чего ж говорить нам неправду? Или, может, вы испытываете нас?
Токарев пошарил в кармане брюк, вынул и положил на стол серебряный рубль.
— У вас царские деньги есть? — спросил он.
— Денег мы не держим никаких и не признаем их, — сказал дед Иона, — потому что деньги великое зло для людей.
— Но вы хоть помните царский рубль? Не забыли, что на нем было изображено?
— А то как же, с одного боку лик государя, а с другого двуглавый орел державный, герб, значит.
Токарев, торжествуя, подвинул рубль ближе к деду.
— Это новые деньги нашего государства. Глядите теперь: на рубле нет никаких ни царей, ни орлов, а отчеканен новый герб, на котором серп и молот. Это означает, что власть в государстве принадлежит не царю, не помещикам, не капиталистам, а тем, кто трудится: на заводе работает или землю пашет.
Андрей поднялся, походил по комнате и сказал, обращаясь к деду Ионе и к сидевшим за столом мужикам:
— Меня удивляет одно: вы говорите, что каждый год ваши люди ходят к реке Амгунь, чтобы встретиться с Кондратом Панотцовым и взять у него нужные вам продукты и разные изделия. Эти изделия в Ясную Поляну доставляли и доставляют другие люди, связанные с городами, с железной дорогой, с большим миром, как вы говорите. Они не могли не сказать Панотцову о том, что царя в России давно нет, что у нас была революция, что здесь же, на Дальнем Востоке, и по всей стране бушевала гражданская война, в которой победила новая Красная Армия. Неужели вы об этом ничего не слыхали? И почему Кондрат Панотцов посчитал нужным скрыть от вас все это?
Подперев щеку рукой, дед Иона долго молчал, потом заговорил медленно и неуверенно, будто подыскивая каждое слово:
— Двое беглых, которые супротив царя шли, — я вам про них рассказывал, — прожили у нас полтора года… Они нам не раз говорили, что народ все одно царя скинет, и называли такое слово: «революция». Оба они были больные люди, харкали кровью и вскорости умерли. Мы их тут, на своем кладбище, и захоронили… Слышали мы годов двенадцать назад, что вроде пушки в тайге гремели или же какие-то взрывы. Потом все затихло, и ни один человек с той поры в Макаровы Телята не приходил.
— А почему же Кондрат Панотцов не рассказал вам обо всем? — спросил Андрей. — Может быть, если бы ваши парни и девчата узнали о том, что царя и всех стражников-исправников народ скинул, — они бы уехали в города, стали учиться, пользу людям приносить.
— Этого Кондрат как раз больше всего опасался и, видать по всему, опасается и теперь, — сказал дед Иона.
— Почему?
— Потому что он оберегал нас от злого мира и от всякой власти, — убежденно сказал дед Иона. — Он не хотел, чтобы нас притесняли, мучили, искушали. А власть — это Кондрат говорил нам, — какая б она ни была, есть грех, обман и злодейство… Любая власть несет людям притеснение, лукавство, распутство, соблазняет их богатством… Потому Кондрат завсегда говорил нам: отвернитесь от мира, живите правдой и совестью, трудитесь и не желайте ни денег, ни роскоши, ни власти над людьми…
Посмотрев на Андрея, Токарев сделал ему незаметный знак: хватит, мол, разводить со стариком дискуссию. А сам поднялся, поклонился деду Ионе и сказал примирительно:
— Ладно, дед. Если позволите, мы бы легли спать. Дорога такая, что мой товарищ и я ног под собой не чуем.
— Постели вам постелены, — сказал дед Иона, — можете с богом ложиться…
Токарев и Андрей вышли покурить. Темное небо было усыпано звездами, молодой месяц не мешал их тихому сиянию. Негромко потрескивали захолодавшие на морозе деревья. Ледяная гладь реки голубовато мерцала.
— Никогда не думал, что увижу такое, — тихо сказал Андрей, — прямо как на другой планете.
— В тайге и не такое можно увидеть, — Токарев махнул рукой, — тут не то что поселок, сто армий могут спрятаться так, что и черт их не сыщет…
За все дни трудной дороги они впервые отоспались в чистых постелях, а утром тот самый парень, который кормил мерина, детина лет двадцати, разбудил их и сказал:
— Дед Иона велел проводить вас в баню.
Попарились Токарев с Андреем на славу, позавтракали, потом дед Иона по их просьбе стал показывать им свое хозяйство. Хозяйство оказалось хоть и не очень большое, но хорошее, достаточное для того, чтобы прокормить семьдесят девять человек. В амбаре хранилось зерно. Здесь же в углу амбара была устроена ручная мельница. В конюшне стояли два десятка сытых монгольских коней, а в коровнике столько же коров. Кроме того, в поселке было около сотни коз, с полтысячи кур, гусей, уток. В углу двора и за двором высились огромные скирды сена и соломы. В деревянном закуте под низкой крышей хранились поставленные на зиму телеги, сани, длинные плоскодонные лодки, рыбацкие снасти, штук тридцать кос, грабли, лопаты, мотыги.
Но больше всего поразил Андрея громадный погреб. В нем, подвешенные на крючьях, висели медвежьи и кабаньи окорока, целые гирлянды сушеных грибов, привязанные за кочерыжки головки капусты, в погребных нишах виднелись кучи лука и чеснока, стояли здоровенные кадки с соленой рыбой, с квашеной голубикой, с орехами и пузатые бочки, стянутые ловко сделанными деревянными обручами.
— А в бочках у вас что? — поинтересовался Токарев и хитровато похлопал деда Иону по плечу. — Небось самогон, а?
— Какой такой самогон? — не понял дед.
— Ну как какой? Тот самый, который гонят из зерна, из чего хочешь и пьют вместо водки или спирта.
Дед Иона покрутил головой:
— Не-е, добрые люди, энтим мы не занимаемся и не знаем, как самогон делается. А в бочонках у нас медовуха, а также чистый мед.
— Какая медовуха? — спросил Андрей.
— Питье такое, из меда варится, — сказал дед Иона. — Пчелок-то у нас хватает, колод за двести будет. Ну женщины наши и варят медовуху, мед с ключевой водой мешают, хмель туды кладут, травы всякие, корешочки. В обед мы ее откушаем. Ежели говорить по правде, то я своим не дозволяю пить медовуху помногу, чтобы люди не пьянели, а так, по ковшику, разрешение даю.
Когда Андрей и Токарев подивились отличному состоянию хозяйства в поселке и сказали об этом деду, тот почесал затылок и проговорил задумчиво:
— Дак хозяйство-то наше не с неба упало. Много мы на него труда положили и мук с ним натерпелись. В тот год, как мы прибыли сюда, тут непролазная тайга стояла, не было ни одного шматка земли, в какую зерно можно кинуть. Года, должно быть, четыре мы тайгу корчевали, пни такие выворачивали, что не приведи господи. И гнус нас одолевал, и дикие козы да кабаны посевы наши вытаптывали, и медведи на пасеке шкодили, и чего только мы тут не вынесли!.. Чуть ли не каждую осень хлеба под снегом косили, а молотили в овинах…
За обедом гостям поднесли по ковшу медовухи. Вырезанные из дерева и украшенные затейливой резьбой ковши с короткой ручкой вмещали стаканов по пять, не меньше. Когда Андрей поднес ковш к губам, на него пахнул аромат пчелиного меда, запахи незнакомых трав и цветов. Пенистый напиток пришелся гостям по вкусу, и они быстро осушили свои ковши, но вскоре почувствовали, что голова у них пошла кругом. Хозяева тоже оживились. Даже женщины и девушки разрумянились, стали расспрашивать Андрея и Токарева о городах, которых они никогда не видели, о железной дороге, о пароходах, про которые им, тогда еще детям, рассказывали беглецы революционеры.
— Сейчас мужики в России по-другому жить начинают, — сказал захмелевший Андрей, — почти что в каждой деревне артели организовывают, сообща землю обрабатывают и доходы честно делят на всех.
Дед Иона усмехнулся:
— Мы, дорогой гостюшка, уже двадцать девятый год артелью живем, трудимся все от малого до старого и все, что на земле и в воде добываем, по-божески считаем общим.
— Нет, дед, тут есть разница, — возразил Андрей, — вы берете от земли только то, что нужно вашей артели, а могли бы сеять гораздо больше, и пасеку свою увеличить, и грибов собрать сколько угодно, чтобы не только себе, но и людям, государству пользу принести.
— От государства мы только горе да муки терпели, — угрюмо сказал дед Иона, — нам оно ни к чему.
— То было другое время и государство другое.
Токарев повел плечом в сторону царских портретов и сказал, посмеиваясь:
— Этих кровопийц, которые вас притесняли, народ скинул навсегда и за все ваши муки с ними рассчитался. Так чего ж вы их держите на самом почетном месте? Может, давайте снимем их? А, дед?
Дед Иона помолчал, подумал, потом сказал парню-конюху:
— Отклей их от стенки, Матвей.
Парень снял портреты и, держа их в руках, вопросительно посмотрел на старика:
— Куды ж мне теперь с ними?
Токарев, так же посмеиваясь, протянул руку.
— Давай их сюда. Мы с товарищем отвезем царя и царицу с собой, сдадим их в музей, чтобы народ смотрел и удивлялся: как это на четырнадцатом году революции еще живут люди, которые не знают, не ведают, что царя и след простыл?
— Ну чего ж, бери, — сказал дед Иона, — только дай нам взамен царя и царицы хотя бы трошки бумаги, у нас ее дюже мало.
Свернутые в трубку портреты когда-то царствующих особ были уложены в сани Токарева, а дед Иона получил взамен стопку школьных тетрадей и десяток карандашей…
В Макаровых Телятах Андрей и Токарев пробыли еще два дня. Они осмотрели засыпанные снегом поля, побеседовали с жителями селения. Андрей успел сделать подробное описание хозяйства духоборов. Перед отъездом Токарев вынул из бумажника фотографию, показал мужикам, женщинам и спросил как можно равнодушнее:
— Этого человека никто из вас не видал? Вот ищу я своего дружка и никак не могу найти.
На фотографии был изображен штаб-ротмистр Тауберт.
Чуть ли не все жители Макаровых Телят посмотрели фотографию и в один голос сказали:
— У нас за все годы никто не был. Вы первые…
Прощаясь с дедом Ионой, Андрей пообещал попросить кедровских начальников, чтобы будущей зимой в Макаровы Телята был послан обоз с керосином, мылом, гвоздями, одеждой, обувью. Заметив, что дед Иона собирается возражать, Андрей сказал:
— Вы можете отказаться и не принять все это. Дело ваше. Заставлять, дед, вас никто не будет. Но верьте мне, пришло время вашей молодежи жить по-другому. И вы им не мешайте, иначе они когда-нибудь помянут вас недобрым словом…
Провожать Андрея с Токаревым вышел весь поселок. По приказу деда Ионы в сани положили медвежий окорок, бочонок медовухи, мешок сухарей, два мешка овса.
Было раннее утро. Снега розовели, отражая свет зари. Застоявшийся, хорошо отдохнувший мерин неторопливо перебирал ногами. Андрей взял вожжи, рядом сел Токарев. Жители Макаровых Телят сняли шапки, девушки и дети замахали руками. Сняли шапки и Андрей с Токаревым.
— Спасибо вам за все! — крикнул Токарев. — Говорят, гора с горой не сходится, а мы, может, и встретимся когда-нибудь.
— Дай бог! — отозвался дед Иона. — Спасибо и вам. Приезжайте до нас. Вы, видать по всему, славные, уважливые люди, а мы по хорошим людям скучили…
Андрей шевельнул вожжой. Мерин зашагал к берегу, пятясь и задрав голову, спустился на ледяную реку и, постукивая подковами по звонкому льду, побежал резвой частой рысью. Через минуту похожий на старинную крепость поселок и стоявшие на берегу люди скрылись за крутым поворотом реки.
Новая дорога, по которой ехали теперь, следуя за извивами реки, Андрей с Токаревым, на четвертые сутки привела их в новый поселок. На карте он еще не значился, но Токарев о нем знал.
— Тут будет организован леспромхоз, — сказал Токарев, — а строить его будут кулаки, выселенные из разных мест России и Украины.
Собственно, никакого поселка на месте строительства еще не было. На большой таежной поляне длинными рядами стояли брезентовые солдатские палатки, каждая человек на десять. Из палаток были выведены наружу железные, похожие на водосточные, трубы, из которых шел дым. В некотором отдалении от палаток стоял приземистый, наспех сколоченный барак с обледенелыми стеклами. Возле барака пыхтел гусеничный «катерпиллар» с тяжелым прицепом.
Токарев остановил мерина у входа в барак.
— Начальником этого поселка должен быть мой товарищ Гришка Крапивин, — сказал Токарев, — мы с ним вместо учились в школе ГПУ. Сейчас попробуем его найти, если, конечно, он еще не спился или не угодил под топор какой-нибудь кулацкой сволочи.
Толстый весельчак Крапивин оказался на месте, в низкой барачной каморке, которую он не без юмора именовал «кабинетом». Токарева он встретил объятиями и поцелуями, Андрея тоже обнял и похлопал по плечу. Коротко остриженный, краснолицый, одетый в гимнастерку с малиновыми петлицами, в стеганые штаны и валенки, он мало походил на сдержанного, подтянутого Токарева. Ворот его гимнастерки был расстегнут, шпалы в петлицах перекосились. От Крапивина явно попахивало спиртом.
— Вот так, Миша, мы тут и живем, — оживленно сказал он Токареву, — прямо как на курорте. Красота! А?
Потом, спохватившись, закричал хрипло:
— Чего ж это я тут рассусоливаю? Ступайте попарьтесь в бане, а я сбегаю предупрежу свою Тимофеевну, нехай закусон нам сварганит… Насчет вашего коня и саней я сам распоряжусь…
В жарком предбаннике Андрея и Токарева встретил полуголый, небритый, худой банщик в замызганных подштанниках и в резиновых опорках. Он угодливо улыбнулся жалкой, вымученной улыбкой, сказал шепелявя:
— Пожалуйте, граждане начальники. Банька натоплена что надо. Чего-чего, а дровишек у нас хватает…
После бани Андрей и его спутник отправились на квартиру Крапивина в том же бараке, где располагался и его «кабинет». Квартира оказалась одной просторной комнатой, в которой стояли накрытый скатертью стол, широкая никелированная кровать, диван и четыре стула. На стене висели рога лося, а на них охотничье ружье и военный нарезной карабин. Смуглая, скуластенькая, похожая на бурятку Тимофеевна хлопотала у плиты над яичницей.
За столом выпили по полстакана спирта, закусили. Крапивин свернул толстую махорочную скрутку, стал рассказывать о своей, как он назвал, «автономной кулацкой республике».
— Привезли их сюда осенью прошлого года, — сказал Крапивин, — и сказали: вот вам план рубки леса и сплава, план выполняйте, а жилье себе стройте попутно. А было их всего, с женщинами и детьми, шестьсот тридцать девять человек. Ну поставили палатки, расселились, начали лес рубить. Народ непривычный, тайги и во сне не видел. План, конечно, не выполнили. А построить успели девять бараков — они у нас по отделениям разбросаны, — одну общую столовую да три бани. Женщин и детей мы по баракам расселили, а мужчины пока в палатках размещаются.
— Побеги были? — спросил Токарев.
Крапивин махнул рукой:
— Какие там побеги. Куда из тайги убежишь, если до ближайшего села триста восемьдесят километров? Попытались было двое драпу дать, молодые парни. С неделю побродили в тайге, руки-ноги пообморозили и пришли с повинной.
— А охрана у вас большая? — спросил Андрей.
— Десять человек, — сказал Крапивин. — Больше тут и не нужно.
— Ну а как настроение у людей?
Глотнув спирта, Крапивин пожевал соленый огурец.
— На это ответить не так просто. Люди тут собраны разные. Есть, конечно, злобные, отпетые, хотя и затаившиеся, враги, которые готовы Советскую власть сожрать с потрохами. Эти ходят и в глаза тебе не смотрят. Идут, угнутся, как бугаи, и сопят. И работают лишь бы день до вечера. Таких не очень много, но они есть… Мы за ними особо следим… Немало есть людей совсем другого склада, я бы сказал, обиженных тем, что их выслали, как они считают, ни за что. Это работяги, которые без работы жить не могут. Среди них — лучшие рубщики, пильщики, трактористы, конюхи. С ними нам легко, хотя настроение у них неважное, потому что они до сих пор не поняли самого главного: что они репрессированы за принадлежность к кулацкому классу, а не как отдельные личности. Сроки проведения коллективизации в силу необходимости были поставлены очень жесткие, и разбираться в политических взглядах каждого кулака нам было некогда.
Хмель кружил Андрею голову. Не глядя на Крапивина, он сказал:
— Очень жаль. Значит, получается так, что всех скопом подстригли под одну гребенку и, не желая ни в чем разбираться, сказали: «Пожалуйте бриться»?
— Погоди, Андрей, — ухмыляясь, сказал Токарев, — ты что это? Кулаков защищаешь, что ли?
— Не кулаков, а людей. Я, Миша, просто не понимаю: как можно было решать судьбу того или иного человека по сельсоветскому списку — две у него кобылы или, к примеру, три? Можно только представить, сколько при этом было допущено глупых и жестоких ошибок.
— Были, конечно, и ошибки, — согласился Крапивин. — У нас тут есть люди, раскулаченные совершенно неправильно даже с точки зрения общего подхода. Они жалуются, пишут в Москву. Кое-кого из них уже вернули, а кое-кто еще рубит лес…
Все трое пьянели. Тимофеевна помалкивала. Токарев не без любопытства всматривался в побледневшее лицо Андрея и говорил, ломая окурки:
— Жалость к людям хорошая штука, и ты, Андрей, не думай, что, скажем, мы с Гришей лишены этого чувства. Чепуха! У нас тоже есть душа и сердце. Понятно? Но мы обязаны стиснуть зубы и выполнять то, что нам приказано. М-мы понимаем, что время сейчас такое. Или тебе не ясно, что страна со всех сторон обложена врагами? Что мы не могли, не имели права медлить с коллективизацией, что все это связано с обороной?
Андрей, опустив голову, ерошил непокорные светлые волосы, потом вдруг спросил:
— Кстати, Григорий Степанович, не у вас ли находятся двое моих земляков из Ржанского уезда? По-моему, их увезли сюда, на Дальний Восток, в Кедровский район. Одного фамилия Шелюгин, а другого — Терпужный. Их раскулачили и выслали прошлой зимой.
— Не помню, — сказал Крапивин, — но мы сейчас узнаем.
Он постучал кулаком в стенку. В комнату вошел тщедушный красноармеец в белом полушубке.
— Погляди, Будников, числятся ли у нас по спискам Шелюгин и Терпужный, — сказал Крапивин, — если числятся, то на каком отделении они живут…
Через несколько минут красноармеец вернулся, держа в руках толстую, затертую по краям конторскую книгу, и доложил, поглядывая на незнакомых людей:
— Так точно. Тимофей Шелюгин и Антон Терпужный имеются в наличии, оба живут на третьем отделении.
— Можешь идти, — сказал Крапивин и спросил у Андрея: — Они?
— Они самые, — подтвердил Андрей.
— Что, небось хочется повидаться с земляками?
Андрей пожал плечами:
— Если это можно, я бы с удовольствием.
— А почему ж нельзя? Сейчас мы все организуем. До третьего отделения тут недалеко, километров двенадцать. Дадим вам лошадь, кучера — и пожалуйста. А управляющему я напишу записку…
Через час Андрей в сопровождении молодого парня-кучера ехал в санях по расчищенной тракторами таежной просеке в третье отделение леспромхоза. Он вспомнил бесконечно далекую Огнищанку, и Длугача, и деда Силыча, и всех своих сверстников, и этих двоих, с которыми его так неожиданно свела судьба. Глядя на согбенную спину молчаливого кучера, тоже, конечно, одного из сосланных в тайгу кулаков, Андрей думал о крутом и суровом времени, столкнувшем множество людей в непримиримой борьбе.
Антона Агаповича Терпужного он нашел в палатке. Фельдшер дал Терпужному освобождение от работы «по случаю простуды». Впрочем, простуды не было, а освобождение Антон Агапович добыл за пару шерстяных носков. Заросший косматой бородой, опухший от сна, он лежал на койке, накрытый одеялами и тулупом, всмотрелся в Андрея подернутыми мутью глазами и прохрипел:
— Никак, Андрей Митрич? Здорово, земляк, здорово! А я, вишь ты, до ручки дошел… укатали сивку…
Поднявшись с койки и накинув на себя тулуп, он расшуровал железную печку, присел на табурет. Выслушав короткий рассказ Андрея о переезде семьи Ставровых в Кедрово, о Дмитрии Даниловиче и Настасье Мартыновне, Терпужный вздохнул:
— Времечко, будь оно трижды проклято… Поразорили людей, ограбили, закинули на край света, а тут измываются, будто мы разбойники или же каторжники…
— Из Огнищанки вам пишет кто-нибудь? — спросил Андрей.
— Прислал на прошлой неделе письмо Тихон, племянник. Там тоже не легче. Пишет, что огнищан наших силком, чуть ли не с наганами в руках, в колхоз загнали, за председателя выбрали Демида Плахотина, правление разместили в той хате, где вы жили… Опосля, пишет, как Сталин в газете напечатал про головокружение и про то, что нельзя, мол, мужика в колхоз за шкирку тащить, что дело это, дескать, добровольное, люди стали один за другим уходить из колхоза.
— Кто же ушел? — спросил Андрей.
— Петро Кущин ушел, брат мой Павло, тетка Лукерья.
— Еще что пишет Тихон?
Скулы Терпужного заходили. Он сплюнул, утер губы рукой.
— Пишет, что на моих конях Демид ездит, председатель колхоза. Они там все под откос пустят, на ветер. Ежели когда и доведется нам вернуться, то заместо Огнищанки мы найдем только пустошь да бурьян. А все эта сволочь Длугач мутил, вшивый голодранец… придет пора, я с ним встренусь на одной дорожке, скажу ему спасибо. Он, должно быть, и зятя моего со света сжил.
— Какого зятя?
— Острецова, Степана. Пашка моя за ним была.
— А что случилось с Острецовым? — удивленно спросил Андрей. — Он ведь работал в сельсовете, правой рукой Длугача был.
— То-то и оно, что был. Был, да сплыл.
— То есть как это сплыл?
Антон Агапович опасливо посмотрел на вход в палатку, понизил голос:
— Тихон пишет, что осенью, в ноябре месяце, аккурат под седьмое, все районное начальство собралось в Пустопольском Народном доме отметить красный праздник, люди туда съехались из разных деревень, плакаты скрозь порасклеили, музыка играла.
— Ну и что?
— Ну в самый разгар этого праздника — а дело было вечером — кто-то шарахнул в окно Народного дома гранату, прямо на сцену, где красовался этот самый, как его…
— Президиум, что ли?
— Во-во. Граната, значит, разорвалась, человек пятнадцать начальников как корова языком слизала. Милиция вроде зачала перестрелку с теми, кто окружил Нардом, и в перестрелке поранила Пантелея Смаглюка, который был лесником в Казенном лесу. Ну конечно, Смаглюка заарестовали, а Степан Алексеич, зять мой, тою ж ночью пропал. Пришел, пишет Тихон, из Пустополья до дому, оделся, взял харчей, а Пашке, дочке моей, сказал: «Прощай, Паша, меня по делам посылают в город Ржанск, через неделю я вернусь». Неделя прошла, другая, третья, месяц прошел, Степана и след простыл, вроде как в воду канул. А эти самые, из ГПУ, до Пашки раза четыре приезжали и все допытывались: где, мол, твой муж, не вертался ли до дому и не присылал ли писем и тому подобное…
— Здорово, — только и мог сказать Андрей.
С Тимофеем Шелюгиным он увиделся, уже садясь в сани. Шелюгина почему-то долго не отпускали с участка, и он прибежал перед самым отъездом Андрея, кинулся к нему, обнял. Тимофей очень похудел, лицо его осунулось, потемнело, глаза глубоко запали, но Андрею показалось, что он не опустился и не упал духом.
Присев на край саней, Шелюгин стал рассказывать о своем житье-бытье:
— Трудно нам тут, конечно, а надо терпеть, ничего не поделаешь, — сказал он, по привычке оправляя сено в санях. — Весной обещают нам всем квартиры в бараках выделить, кто семейный, тому отдельные, а холостым в общежитии. Хотя на рубке леса и нелегко работать, зато платят нам по-божески. Меня за бригадира недавно поставили, так я вовсе хорошую зарплату получаю. Ну и Поля прирабатывает, она в прачечной устроилась. Так что, можно сказать, нам с нею хватает.
— А по Огнищанке не скучаете? — спросил Андрей.
По лицу Шелюгина пробежала тень.
— Известное дело, скучаю, как же не скучать… Там я родился, там всю свою жизнь прожил. И деды мои, и родители на огнищанском кладбище похоронены… Бывает, проснешься ночью, глядишь в темноту, а перед твоими глазами кажное паханное тобою поле встает, кажная тропка, по которой ты сопливым еще мальцом бегал… И вроде даже слышишь, как в подвечерье колодезный журавель поскрипывает, а на заре соловьи поют в Казенном лесу…
Проникаясь жалостью к Шелюгину, Андрей положил руку ему на плечо:
— Не унывайте, Тимофей Левоныч. Может, и вернетесь когда-нибудь в Огнищанку. Человек вы честный, зла никому не сделали, значит, и отношение к вам будет доброе, человеческое.
— Я и то думаю, — оживился Шелюгин. — Месяца полтора назад приезжал к нам один ответственный партийный товарищ, аж из самого, говорят, Благовещенска. Так он беседовал с нами и прямо сказал: кто, говорит, будет хорошо, по-ударному работать и поведение иметь примерное, того мы через три года вернем на родину.
— Вот видите, — сказал Андрей и, слегка отвернувшись от Шелюгина, спросил: — Ну а имущества вашего — хаты, коней, коров — вам не жалко?
Шелюгин перекусил и выбросил соломинку.
— Хлеборобу завсегда жалко все, чего он вырастил. А только как привезли нас сюда да поглядел я, сколько тут людей собрано, сразу подумал: не твоего это ума дело, Тимоха. Раз по всей России зажиточных людей раскулачили и не побоялись, что народ останется без хлеба, значит, государство гнет свою линию, которая мне, простому, малограмотному человеку, непонятна…
Печально улыбаясь, Шелюгин добавил:
— А хата, кони, коровы — все это наживное. Были бы голова, руки да здоровье.
Прощаясь с Шелюгиным, Андрей записал и отдал ему кедровский адрес Ставровых и сказал:
— Пишите нам, дядя Тимофей. Отец будет рад получить от вас письмо. И передавайте привет тете Поле…
На центральное отделение Андрей вернулся перед вечером и пошел на квартиру Крапивина.
— Ну как, повидались с земляками? — спросил Григорий Степанович. — Небось нажаловались они вам, поплакали в жилетку?
— Нет, никто не жаловался и не плакал, — сказал Андрей, — а только посмотрел я на них и подивился: до чего же разные они люди. Если Терпужный, упрямый, тупой и недобрый человек, и таит где-то враждебные чувства ко всему, что происходит, то Шелюгин, я нисколько в этом не сомневаюсь, совсем другого склада, у него чистая и честная душа…
Крапивин задумался, покатал по скатерти хлебный мякиш.
— Что ж, никто не отрицает, что среди них, граждан этой кулацкой республики, немало честных и добросовестных людей. Наша задача и заключается в том, чтобы выявлять таких, помогать им, поддерживать, а не стричь, как вы говорите, под одну гребенку. Теперь для этого у нас времени хватит…
— Давайте, хлопцы, спать, — зевая, сказал Токарев, — завтра на рассвете нам трогаться в путь…
Выехали Андрей с Токаревым затемно. И вновь заблестела перед ними ледяная дорога, и побежали назад заснеженные берега реки, на которых темной стеной высилась молчаливая, пугающе бескрайняя тайга.
По возвращении в Кедрово Андрей не узнал сам себя. Глянув в зеркало, он только ухмыльнулся: лицо обветрилось, потемнело, заросло светлой щетинкой, губы покрылись кровоточащими язвами, а голубые глаза приобрели какой-то холодноватый, стальной оттенок.
Дома его ждали новости: Федя со своим новым приятелем Гошей были в тайге на охоте, убили дикую козу и с десяток тетеревов и фазанов. Федя при этом, как только остался наедине с Андреем, счел нужным сообщить ему:
— Гошка Махонин славный парень. Он тоже на агронома учился, так же как ты. Отца его японцы убили в девятнадцатом году, а он сам воспитывался в детском доме. — Понизив голос до шепота, Федя заговорщицки моргнул: — Гошка вовсю ухлестывает за нашей Калей. В клуб ее водит кино смотреть, два раза приносил ей яблоки свежие…
В этот же вечер Андрей увидел Гошу Махонина. Это был высокий худощавый юноша с круглым, всегда улыбающимся лицом. Жидковатые свои волосы он коротко подстригал, зачесывал набок, что придавало ему совсем мальчишеский вид. Только что закончив сельскохозяйственный техникум, Махонин был прислан в Кедрово на практику и прикреплен к одному из ближних, только что организованных колхозов.
Уже зная о трудном таежном путешествии Андрея, Гоша Махонин отнесся к нему с уважением, расспросил о поездке, рассказывая о себе, посмеивался, шутил и при этом все время посматривал на склонившуюся над книгой Калю. Андрею он сразу понравился своей юношеской восторженностью и любовью к песням, особенно украинским, которые Гоша пел, немилосердно коверкая и перевирая слова.
В присутствии своих Каля стеснялась разговаривать с Махониным, еще ниже склоняла над книгой или тетрадью — что попадалось под руки — свою рыжеволосую голову, даже как будто злилась, что он зачастил к Ставровым, но видно было по всему, что Гоша ей нравится. «Ну что ж, — подумал Андрей, — девка она взрослая, мир им да любовь…»
Судя по письмам Романа из Благовещенска, у него тоже все было в порядке: он успешно заканчивал рабфак и собирался поступать на геологический факультет. Андрею он писал, что в Благовещенске есть сельскохозяйственный институт, и советовал ему учиться в этом институте заочно или сдать экзамены экстерном, не увольняясь с работы…
Почти целую неделю Андрей сидел над составлением отчета о своей поездке, приводил в порядок заполненные в таежных поселках опросные листы, написал отдельную докладную записку о селении Макаровы Телята.
Каждый вечер он рассказывал отцу и матери о тайге, о том, как они с Токаревым чуть не погибли, нарвавшись ночью на пьяную ораву кулаков, подробно рассказал о своей печальной встрече с Шелюгиным и Терпужным…
Когда Андрей рассказал о бандитском налете на Пустопольский Народный дом, об аресте Пантелея Смаглюка и об исчезновении из Огнищанки Степана Острецова, Дмитрий Данилович проговорил тихо:
— Я почему-то всегда подозревал, что Острецов не тот, за кого он себя выдавал в Огнищанке…
Дождавшись, пока все в доме улягутся спать, Андрей садился за стол и каждую ночь продолжал писать бесконечное письмо Еле.
Он писал ей о суровом и прекрасном крае, открывшемся перед ним в зимнем безмолвии, в сверкающих снегах, в морозах, от которых спирает дыхание. Писал о могучей красоте тайги с ее невообразимым пространством, о людях, живущих в таежных глубинах, как робинзоны, о диких зверях и птицах.
Сейчас, когда Ели не было рядом и его отделяли от нее многие тысячи верст: и тайга, и широкие реки, и озера, и степи, и великое множество людей, — отсюда, из страшного далека, через расстояние, которое даже трудно было представить, Еля казалась Андрею еще недоступнее, еще милее и краше…
Оставив на столе недописанное письмо, накинув на плечи полушубок и осторожно шагая по скрипучему полу, чтобы не разбудить спящих, Андрей выходил из дома, подолгу стоял у калитки задумавшись. Над ним сияло звездное небо, вокруг смутно голубели снега, где-то на окраине погруженного в сон поселка печальным и призывным лаем перекликались собаки. И в этом своем одиночестве, оставаясь наедине с холодным безмолвием зимней ночи, Андрей как никогда остро и сладко чувствовал, что где-то далеко, на краю земли, живет она, Еля, которую он мучительно любит, и ему казалось, что из глубины бездонного неба, в окружении трепетно мерцающих звезд сейчас явится перед ним милое, такое желанное ее лицо, что он услышит ее голос…
Вернувшись в дом, он продолжал писать, называя Елю самыми нежными, самыми ласковыми именами, которые, может быть, постеснялся бы произнести вслух, но которые казались ему сейчас самыми нужными, такими, без которых Еля не сможет понять и почувствовать силу его любви…
В один из оттепельных февральских дней Андрей вложил в фанерный ящик тщательно завернутую в бумагу, отлично выделанную знакомым кедровским охотником-скорняком шкурку соболя, насыпал кедровых орехов, сверху положил свое длинное письмо и отправил посылку Еле.
С этого дня он жил только одним — ожиданием Елиного ответа. Каждый раз, когда приходил почтальон Андрей первым выбегал из дома, торопливо перебирал полученные газеты, ища долгожданное письмо. Но прошла неделя, другая, прошел месяц, а письма от Ели не было.
6
Так называемое «шахтинское дело» контрреволюционеров-вредителей было лишь одним из самых малых звеньев в той бесконечной, хитроумной цепи заговоров, покушений, вредительства, саботажа, сколачивания больших и малых блоков, тайных и явных антисоветских организаций — цепи, с помощью которой правительства капиталистических стран непрерывно пытались связать, опутать, а затем удавить Советский Союз.
Хозяева богатейших монополий, миллиардеры и миллионеры, императоры и короли, президенты, министры, генералы и адмиралы, банкиры, конгрессмены, сенаторы, парламентарии, кардиналы и епископы, отпетые террористы и профессиональные шпионы, люди, именующие себя «республиканцами», «демократами» и «социалистами», изгнанные из родной страны белогвардейцы-эмигранты — все они приложили руку к тому, чтобы цепь-удавка была затянута на горле советского народа смертельным узлом…
Сотни зарубежных газет кричали о «советском демпинге», о применении в СССР «принудительного труда» для производства дешевых экспортных товаров, о «красном империализме», об «экспорте большевистской революции» во все страны мира.
В начале 1930 года римский папа Пий XI торжественно возгласил новый «крестовый поход» против СССР, а добровольный агент Ватикана, бывший полковник австрийской армии, Видаль составил план международного антибольшевистского конгресса, в котором прямо писал:
«Борьба против большевизма означает войну, и война непременно произойдет. Поэтому не время и не место заниматься изучением вопроса, каким образом ее избежать, и тратить энергию на безнадежные мирные утопии…»
29 января 1930 года из Парижа внезапно исчез один из самых злобных врагов Советского Союза белогвардейский генерал Кутепов, очевидно похищенный и убитый своими же соперниками. Тотчас же вся французская реакционная печать выступила с утверждением, что Кутепова похитили и увезли «агенты ГПУ», и потребовала разрыва дипломатических отношений с Советским Союзом…
Вскоре новым главнокомандующим французской армией был демонстративно назначен генерал Вейган, который в свое время был закулисным руководителем польско-советской войны и считался «лучшим знатоком» Красной Армии.
Поздней осенью 1930 года Специальное судебное присутствие Верховного суда СССР судило в Москве группу руководителей «Промышленной партии», или «Союза инженерных организаций», которые показали на следствии и на суде, что они были связаны с Торгпромом в Париже, получали от него деньги для подготовки контрреволюционного переворота и охватили вредительскими действиями ряд промышленных областей в советском народном хозяйстве: угольную, нефтяную, металлургическую, текстильную, химическую, торфяную, лесную, цементную, электротехническую, а также топливоснабжение и энергетику. Подсудимые показали также, что они встречались с представителями французского генерального штаба и обсуждали с ними планы военной интервенции против СССР…
В этом же году в Париже белоэмигранты пышно отметили десятилетие русской гимназии. На празднестве кроме самых видных, сиятельных гостей присутствовали попечительница гимназии, беженка из России, вышедшая замуж за английского нефтяного короля, — леди Л. П. Детердинг и ее супруг, вдохновитель и организатор многих антисоветских заговоров и выступлений. Вот что, обращаясь к гимназистам, сказал в своей речи отлично знающий международную обстановку сэр Генри Детердинг:
«Вы должны помнить, что вся ваша работа, вся ваша деятельность будет протекать на вашей родной русской земле. Надежды на скорое освобождение России, ныне переживающей национальное несчастье, крепнут и усиливаются сейчас с каждым днем. Час освобождения вашей великой родины близок. Освобождение России может произойти гораздо скорее, чем мы все думаем, даже через несколько месяцев…»
Это заявление сэра Генри Детердинга было встречено бурными аплодисментами и криками «ура»…
Ранней весной 1931 года в Москве проходил судебный процесс так называемого «Союзного бюро социал-демократов меньшевиков».
Обвиняемые показали, что в Советский Союз была прислана нелегальная директива меньшевистской «Заграничной делегации».
В этом письме-директиве было сказано:
«Дорогие товарищи! Надежды на ликвидацию большевистской диктатуры путем естественной эволюции и в результате внутреннего разложения ВКП(б) не оправдались до сих пор и все более меркнут… Внутри II Интернационала уже давно зреет и крепнет мнение, что ликвидация большевизма вооруженными силами демократических государств неизбежна и в конечном счете окажется исторически более экономной в смысле бедствий и жертв, чем изжитие большевизма собственными силами страны. Социал-демократизм до сих пор боролся против такого рода установок. Но ныне наступила пора пересмотреть тактику в направлении позиций дружественных партий II Интернационала. Отсюда должны вытекать и новые приемы борьбы социал-демократов с Советской властью… Противодействие разрушительным экспериментам большевиков в новый период политики становится жизненной необходимостью. Охрана форм хозяйства, обрекаемых большевиками на слом грубой силой во имя утопических планов, становится важнейшей задачей ради будущего возрождения страны. С другой стороны, ослабление большевистского государственного и хозяйственного аппарата, при свете предстоящего вооруженного конфликта с Западной Европой, сыграет положительную роль, облегчая родовые муки истории…»
Так люди, именовавшие себя «социал-демократами» и «революционерами», вместе с капиталистами и белогвардейцами стремились не только предательски ударить советский народ ножом в спину, но и уничтожить первый в мире социалистический строй при помощи вооруженной интервенции. Ни один из руководителей «Трудовой крестьянской партии», «Промпартии» и «Союзного бюро меньшевиков» не был расстрелян, их осудили на разные сроки тюремного заключения…
Покорные приказу невидимых хозяев, шумно зашевелились бежавшие в свое время за границу националисты, жаждавшие расчленения Советского Союза и ратующие за отделение Грузии, Армении, Азербайджана, Украины.
Особенно старались при этом украинские самостийники, создавшие за рубежом десятки партий и объединений: один из друзей Гитлера Евген Коновалец и его сподручный Андрей Мельник, руководитель ОУН — организации украинских националистов, сын священника из Западной Украины Степан Бандера, по указанию которого уже начали рваться бомбы в редакциях антифашистских газет в городе Львове.
Не отставал от земляков-«самостийников» и живший под Берлином «ясновельможный паи гетман» Павло Скоропадский, принимавший на своей загородной вилле завтрашних хозяев Германии — коричневых штурмовиков и черных эсэсовцев.
Австрийский кронпринц Вильгельм Габсбург, подогреваемый контрреволюционерами из СВУ — «Союза вызволения Украины», готовился возложить на себя корону «украинского императора»…
Вся эта изгнанная революцией и развеянная по свету свора тайно засылала в Советский Союз своих агентов, эмиссаров, представителей…
Бешеную деятельность развил поселившийся на Принцевых островах Лев Троцкий. К его постоянно охраняемому особняку потянулись десятки авантюристов из разных стран Европы и Америки. Одна за другой стали появляться статьи Троцкого, содержащие клевету на Центральный Комитет Коммунистической партии и преследующие главную цель: в глазах всего мира очернить Сталина, этого «узурпатора», превратившего его, «великого революционера» Троцкого, в «изгнанника».
Когда вышла в свет полная самовосхваления книга Троцкого «Моя жизнь», рвущийся к власти Адольф Гитлер сказал о ней своим друзьям:
— Блестяще! Меня эта книга научила многому, и вас она может научить…
Троцкий предпринял попытку расколоть международное коммунистическое движение, объединить своих сторонников и всю их подрывную работу направить против Советского Союза.
Уинстон Черчилль открыто заявил: «Троцкий стремится мобилизовать все подонки Европы для борьбы с русской армией». А один из американских корреспондентов, Джон Гюнтер, посетивший Троцкого в его штаб-квартире, сообщал: «Троцкистское движение возникло в большей части Европы. В каждой стране есть ячейка троцкистских агитаторов. Они получают директивы непосредственно с Принцевых островов. Различные группы поддерживают между собой известного рода связь».
Между тем пока органы государственной безопасности СССР обезвреживали тех, кто тайно или явно был связан с капиталистическими государствами Западной Европы, с каждым годом все больше стали сгущаться тучи над дальневосточными границами Советского Союза. В Японии началась широкая кампания против «красной опасности».
Летом 1931 года представитель японского военного министерства генерал Койсо заявил на заседании кабинета министров:
«Русская угроза снова выросла. Выполнение пятилетки создает серьезную угрозу Японии… Китай тоже пытается умалить японские права и интересы в Маньчжурии. Ввиду этого монголо-маньчжурская проблема требует быстрого и действенного разрешения».
Снова зашевелились белогвардейские организации в Харбине, в Мукдене, в Цицикаре. Стал созывать добровольцев под свои знамена вышвырнутый Красной Армией с Дальнего Востока японский ставленник атаман Семенов. Начал срочно рассылать приказы и директивы бывший царский генерал-губернатор Хорват. Белогвардейские эмиссары отправились для закупки оружия во Францию, Германию, Голландию. В Болгарии, Югославии и Польше появились вербовочные бюро и этапные пункты для мобилизации белогвардейцев и отправки их на Дальний Восток, в распоряжение генералов Семенова и Хорвата. Большая группа солдат и офицеров-эмигрантов отплыла из польского порта Гдыня, такая же группа — из французского порта Шербур. Сотни белогвардейцев уезжали по железной дороге из Франции, Германии, Румынии. Пункт назначения у всех этих групп был один — Маньчжурия. В Шанхае был сформирован новый ударный офицерский полк, под Парижем белогвардейцы обучались водить бронированные автомобили и, овладев новой военной техникой, отправлялись на Дальний Восток. Начались беспрерывные налеты белогвардейских отрядов на КВЖД, была предпринята попытка взорвать железнодорожный мост через реку Сунгари.
Эмигрантская газета «Возрождение» заявила в эти дни:
«Обстановка на Дальнем Востоке никогда не была для нас и, может быть, никогда не будет столь благоприятной, как теперь, когда при всей нашей несомненной слабости мы можем использовать действующие силы и создать новую базу для начала возрождения новой России…»
В ночь на 19 сентября 1931 года вооруженные до зубов японские войска заняли Мукден и ряд других городов Южной Маньчжурии и стали двигаться на север, приближаясь к границе СССР. В середине ноября передовые полки японцев перерезали КВЖД.
Вся мировая печать заговорила о неизбежной войне между Японией и Советским Союзом.
18 февраля 1932 года, завершив оккупацию Маньчжурии, японцы провозгласили создание на ее территории «независимого» государства Маньчжоу-Го, а вскоре поставили во главе этого государства свою марионетку «императора» Пу-И, последнего представителя давно свергнутой маньчжурской династии Цин. Япония тотчас же «признала» Маньчжоу-Го, заключила с ним военный союз и разместила здесь свои войска «для поддержания государственной безопасности».
Таким образом, японские войска подошли вплотную к советским границам и остановились на линии, образующей гигантский клин Владивосток, Хабаровск, Благовещенск.
Под покровительством японской разведки в Маньчжоу-Го стала организовываться «Российская фашистская партия», которую возглавил матерый белогвардеец, профессиональный шпион и диверсант Константин Родзаевский…
Белогвардейские муравейники зашевелились в Азии, в Африке, в Америке и в Европе. Всюду стали раздаваться призывы: «К оружию!»
5 марта 1932 года на одной из центральных улиц Москвы террорист-белогвардеец Иуда Штерн средь бела дня тяжело ранил выстрелами из пистолета советника германского посольства. На суде Штерн заявил, что он стрелял в советника с целью вызвать конфликт между Германией и СССР.
6 мая 1932 года президент Франции Поль Думер прибыл на торжественное открытие книжной выставки в фешенебельный парижский салон. Среди изысканной публики в салоне оказался врангелевский офицер-эмигрант Павел Горгулов, кубанский казак из станицы Лабинской. Подойдя к Полю Думеру, Горгулов выхватил пистолет и несколькими выстрелами в упор убил французского президента.
Убийство Думера мгновенно всколыхнуло всю Францию и вызвало у эмигрантов страх и смятение. Этот страх усугублялся тем, что задержанный на месте преступления, связанный и в кровь избитый полицейскими Павел Горгулов сразу же заявил, что он не питал к президенту Франции никаких чувств личной вражды, а убил его, чтобы протестовать против того, что Франция не порывает дипломатических отношений с ненавистной Горгулову страной большевиков.
Однако страхи эмигрантов оказались преждевременными. Тотчас же после убийства Думера премьер-министр Франции Андрэ Тардье, министр юстиции Поль Рейно и префект полиции Кьяпп после закрытого совещания объявили, что убийца президента Павел Горгулов не состоит ни в какой связи с кругами русской эмиграции, а, как это установлено, является «агентом Коминтерна».
Это заявление, сделанное официально через министерство внутренних сил, подтвердил и бывший президент Франции Мильеран. Выходя из Елисейского дворца, где стоял гроб с телом убитого Думера, Мильеран сказал журналистам, что ему известны «большевистские связи» Горгулова.
На суде все попытки объявить убийцу-белогвардейца «коммунистом» и «агентом ГПУ и Коминтерна» закончились полным провалом. Стоя перед судьями, Горгулов твердо заявил, что убийством французского президента он хотел спасти Европу и Россию от большевиков. Судьям были предъявлены опубликованные в печати воззвания Горгулова, в которых он говорил своим друзьям по созданной им из нескольких десятков людей «Всероссийской народной крестьянской партии»: «Перебейте всех вожаков-коммунистов, разбойников, грабителей, врагов рабочих и крестьян! Перевешайте всех чекистов!»
После трехдневного разбирательства суд приговорил Павла Горгулова к смертной казни. Приближаясь к гильотине и ложась на плаху, Горгулов хрипло кричал, что он убил Думера во имя освобождения России от большевиков, кричал до тех пор, пока нож гильотины не опустился на его шею и не отсек ему голову…
Ни ясный майский день, ни теплые лучи солнца, ни свежий, напоенный запахами цветов и трав воздух не радовали Максима Селищева. Он сидел на обрубке дерева, низко опустив голову и в бессилии кинув на колени измазанные голубым раствором медного купороса руки. Вокруг него ярко зеленели подвязанные к проволоке виноградные кусты. Издалека доносилось веселое пыхтенье маленького трактора, тянувшего за собой опрыскиватель. Управлял трактором Гурий Крайнов, а Максим при каждом его возвращении наполнял бак опрыскивателя бордоской жидкостью.
Все эти дни Максим ходил сам не свой. С той поры когда он, тяжело раненный в бою против красных, был увезен из России, прошло двенадцать лет. За все эти долгие печальные годы он ни разу не слышал о судьбе горячо любимой им жены и маленькой дочки, но постоянно скучал по ним, никогда их не забывал и все надеялся, что когда-нибудь встретится с ними, чтобы уже не разлучаться до смерти. И вот впервые за все годы непрерывных скитаний, мук и тоски Максим получил письмо от дочки Таи. Вместе с несказанной радостью это письмо принесло Максиму тяжкое, неутешное горе. Из письма дочери Максим узнал о смерти Марины, которую любил больше жизни и встречи с которой так ждал.
«Милый и дорогой мой папочка! — писала Тая. — Если бы ты только знал, как я люблю тебя, как скучаю по тебе и как жду тебя. Сейчас я живу совсем одна. Восемь лет назад мама умерла от туберкулеза, она похоронена в селе Пустополье Ржанского уезда. После смерти мамы мне самой хотелось умереть, но меня поддержали и взяли к себе тетя Настя и дядя Митя Ставровы. Я жила у них шесть лет, закончила школу, стала комсомолкой, а сейчас заканчиваю рабфак и хочу поступать в медицинский институт. Тетя Настя и дядя Митя в 1930 году уехали со всей семьей на Дальний Восток, они живут в поселке Кедрово Амурской области. Все они долго уговаривали меня ехать с ними, но я решила ждать тебя здесь. Я всегда верила, что ты, милый и родной папа, приедешь, и я увижу тебя, и мы никогда уже не расстанемся… Приезжай скорее, дорогой папочка, я так одинока и почти каждый день плачу… Ты мне часто снишься, такой молодой, красивый и веселый, что во сне я с ума схожу от счастья, а проснусь и все плачу… Жду тебя, верю, что ты скоро, скоро приедешь… Теперь ведь нас на свете осталось только двое… Целую тебя крепко.
Любящая тебя твоя Тая…»
Сотни раз перечитывал Максим письмо дочери, сотни раз, замирая от боли и счастья, целовал и прижимал к щеке вырванный из школьной тетради листок бумаги, и непрошеная слеза сбегала по его смуглому, обветренному лицу. Максим понял, что возврата на родину он не дождется. Письмо Таи пришло во Францию за два дня до убийства президента Думера…
Услышав шаги за спиной, Максим спрятал письмо в карман забрызганного бордоской жидкостью клеенчатого фартука, вытер глаза. К нему подошел Петр Бармин.
— Все горюешь, Максим? — сказал он, присаживаясь рядом.
— А что ж мне остается делать, Петруша? — печально сказал Максим. — Впереди у меня ничего нет, даже надежды.
Бармин узнал о письме Таи, о смерти Марины и жалел своего старшего друга. Но чем он мог помочь ему и чем утешить, если у него самого на душе кошки скребли?
— Понимаешь, Петя, — сказал Максим, — после выстрела в Москве и после убийства Думера надо быть дураком, чтобы надеяться на получение визы в Советский Союз. Конечно, большевики обозлены всеми этими провокациями и теперь закроют русские границы намертво, особенно для эмигрантской сволочи.
— А что, если попробовать другой способ возвращения? — нерешительно сказал Бармин.
— Какой?
— Перейти границу нелегально. В Германию мы проедем совершенно свободно, поляки тоже нас пропустят, а из Польши можно перебраться в Россию без всяких виз.
— Ну а дальше?
— А дальше просто: стать перед советскими властями на колени и сказать честно: судите, мол, нас как хотите, но другого пути вернуться на родину у нас не было, а жить без России, в унизительном изгнании мы больше не можем.
— Чудак ты, Петя, — грустно сказал Максим. — Какой же идиот нам поверит? И какие мы можем привести доказательства того, что каждый из нас не шпион, не террорист, не диверсант? Кончиться эта затея может только тем, что большевики посадят нас в тюрьму, а то, чего доброго, и шлепнут. И правильно сделают, потому что верить на слово двум эмигрантам, один из которых белогвардейский офицер, а другой потомок сиятельных русских князей, может только форменный идиот, особенно в нынешней обстановке.
Петр Бармин помолчал, потом положил руку на плечо Максима:
— Знаешь, о чем я сейчас подумал?
— О чем? — спросил Максим, глядя на Бармина.
— А что, если мы с тобой напишем письмо…
— Кому?
— Сталину. Да, да. Не удивляйся и не делай такие страшные глаза.
— Ты что, Петя, с ума сошел? — опешил Максим.
— Почему — с ума сошел? — взволнованно заговорил Бармин. — Прямо и честно напишем: дорогой Иосиф Виссарионович… так, кажется, зовут Сталина? Опасаясь того, что при переходе советской границы нам не поверят и не имея больше сил жить в гнусной эмигрантской клоаке, мы просим… нет, умоляем вас разрешить нам вернуться в Россию, и мы клянемся вам, что будем работать не покладая рук, что всю свою жизнь…
Покусывая губы и сдерживая слезы, Максим отвернулся.
— Дурачок ты… глупый, наивный мальчик, — глухо сказал Максим. — Во-первых, наше письмо никогда до Сталина не дойдет. Ему не до эмигрантских писем. Прочитает это письмо кто-нибудь из его секретарей, посмеется над нашей глупостью, поставит на письме дату, номер и сдаст в архив…
Рядом с Максимом запыхтел и остановился трактор. Вытирая руки, с трактора соскочил Гурий Крайнов. Он поднял на кепи защитные очки, закурил. Максим, черпая ведром из широкой кадки небесно-голубую бордоскую жидкость, стал заливать в бак прицепленного к трактору опрыскивателя. Бармин сидел на обрубке, заложив ногу за ногу и обняв руками колено.
— Чего это вы оба такие кислые? — спросил Крайнов. — Уж не поругались ли, часом?
— Нет, Максим, видно, приболел, — сказал Бармин.
Крайнов раскинул руки, сделал несколько гимнастических движений и ухмыльнулся.
— А у меня настроение отличное! Восседаю я на своем тракторе и думаю: молодец все-таки Горгулов! Хоть и оттяпали ему голову, а прогремел он на весь мир. Господа большевики долго еще будут почесываться от этого грома! Да и французские шансонетки из правительства, которые заигрывают с большевиками, небось не раз икнут, вспоминая судьбу Думера.
— От их икания прежде всего могут пострадать такие, как вы, Крайнов, — сказал Бармин, — потому что в один прекрасный день, учитывая ваши настроения, власти Франции могут выдворить вас из страны. Вы ведь не получили французского подданства, не так ли?
Крайнов засмеялся, махнул рукой:
— А мне на это наплевать. Я живу, как беркут. Есть такая степная птица с острыми когтями и с острым клювом, из породы орлов. Беркут, где учует кровь, туда и летит. Вот так и я. Дружки мои уже зовут меня в Сахалян.
— Какой Сахалян? — равнодушно спросил Бармин.
— Город такой в Маньчжурии, на самом берегу Амура. Понимаете? На правом берегу Сахалян, а на левом, прямо против Сахаляна, — Благовещенск. Если крикнуть погромче, то можно переговариваться с благовещенскими советскими дамочками. Чувствуете? Там, в Сахаляне, начала табуниться целая стая моих дружков. Они пишут мне, что работенка наклевывается добрая. Пишут, что можно лихо погулять на родной сторонушке с пулеметами, с пушками и показать красной банде, что у нас есть еще порох в пороховницах и не иступились казацкие сабли.
Надев очки, Крайнов сел на трактор и медленно повел его по неширокому междурядью виноградника.
— Слышал, Петя? — угрюмо сказал Максим. — Вот тебе и весь сказ. Беркут! Такие стервятники немало крови еще прольют, а из-за них и мы страдать будем…
Вечером на вилле мсье Доманжа собрались гости. Из Бордо приехал Альбер Дельвилль с матерью, вскоре после них в дом впорхнула неунывающая Габриэль, перецеловавшая всех, кто был в комнате, и, наконец, появился самый почетный гость, дядя мсье Доманжа, командующий субдивизионом четвертого военного округа бригадный генерал Ле Фюр, седой франтоватый человек с тонкой талией и подкрашенными усами.
Как ни упирался Максим — ему с его настроением было не до гостей, — Бармин уговорил его посидеть немного за столом.
После традиционной в доме Доманжа дегустации вин разговор зашел об убийстве президента Думера и казни его убийцы Горгулова.
И мсье Доманж и особенно княгиня Ирина Михайловна были очень напуганы тем, что французские коммунисты стали открыто говорить о том, что во всем виноваты контрреволюционные организации эмигрантов и что следует не только запретить их, но и выслать за пределы страны.
— Подумайте, господа, сколько при этом пострадает ни в чем не виновных людей, — сказала Ирина Михайловна, — людей честных, давно оставивших всякую политику. Куда они денутся?
— Точку зрения коммунистов наше правительство не разделяет, — сказал, прихлебывая вино, Альбер Дельвилль.
— Да, но как на это посмотрит народ? — возразил мсье Доманж. — Выстрел белоэмигранта Горгулова неизбежно породит в народе ненависть к любому русскому, а это очень печально.
Маленькая Габриэль, подвигаясь ближе к Петру Бармину, спросила наивно:
— А кто он такой, этот Горгулов? Профессиональный убийца или сумасшедший?
— Похоже, что и то и другое, хотя эксперты категорически отрицают его невменяемость, — сказал Бармин. — Горгулов после бегства из России учился в Чехословакии, получил диплом врача, переехал во Францию. Здесь он издавал какой-то погромный журнальчик, в котором проклинал большевиков и евреев и печатал дикие, заумные стихи.
Дельвилль засмеялся:
— Я слышал, что он чуть ли не целый год писал проект конституции для освобожденной от большевиков России, в которой сам собирался стать полновластным диктатором.
— Ну разве же это не сумасшествие? — воскликнула Катя Бармина. — Говорят, что Горгулов даже рисовал фасоны будущей военной формы для себя и для своей несуществующей армии. Он просто несчастный, больной человек, которого следовало отправить не на гильотину, а в дом умалишенных.
— А что вы думаете по этому поводу, господин генерал? — спросил Дельвилль.
Генерал Ле Фюр молча слушал собеседников, а когда Дельвилль обратился к нему, отхлебнул вина и заговорил серьезно и строго:
— Дело не в умственных способностях убийцы президента, они меня мало интересуют. Дело в том, что выстрел Горгулова может привести к внезапному охлаждению отношений Франции с Россией, чему, впрочем, были бы весьма рады некоторые наши министры. Я говорю об этом с глубоким сожалением, потому что именно сейчас интересы нации и ее будущее властно диктуют нам необходимость не только не порывать с Россией, но и поддерживать с ней самые дружеские связи, особенно в нынешней обстановке…
— С большевистской Россией? — усмехнувшись, спросил Дельвилль. — С Россией, которой правит жаждущий мировой революции красный империалист Иосиф Сталин? Вы об этой России говорите, господин генерал?
Генерал Ле Фюр, презрительно поджав губы, медленно раскурил надушенную сигарету.
— Да, молодой человек, я говорю именно об этой России, и мне очень жаль, что вы в своем ослеплении видите нисколько не дальше, чем очаровательная мадемуазель Катрин, которая по-женски жалеет казненного убийцу. Но мадемуазель Катрин это простительно, — генерал элегантно склонил голову и посмотрел на Катю Бармину, — вам же, мсье… мсье…
— Альбер Дельвилль, — слегка краснея, подсказала Катя.
— Вам же, мсье Дельвилль, следовало бы видеть дальше, видеть хотя бы то, что делается совсем близко от границ Франции.
— Что вы имеете в виду, господин генерал?
— Я имею в виду то, что сейчас творится за Рейном! — резко и твердо сказал генерал. — Нацисты Гитлера набрали уже такую силу, что вот-вот дорвутся до власти, причем не без покровительства старого и убежденного противника Франции германского президента фельдмаршала Гинденбурга. Это будет очень опасная для нас власть. Я достаточно внимательно читал книгу Гитлера «Моя борьба» и, поверьте мне, отлично понимаю, куда устремит свои взоры этот весьма незаурядный авантюрист, с каждым днем приобретающий в Германии все больший авторитет.
Не меняя презрительного выражения лица, генерал Ле Фюр снова задержал свой взгляд на Дельвилле.
— Именно поэтому, молодой человек, я, как профессиональный солдат, вынужден смотреть не на идеологию Сталина, которой я, как вы понимаете, нисколько не разделяю, а на его армию, которая достаточно сильна. Вот почему вероятность охлаждения наших отношений с Россией меня беспокоит и тревожит…
Максим Селищев слушал генерала Ле Фюра, стараясь не проронить ни слова. Ему понравился этот рассудительный, умный человек, высказывающий свое мнение открыто и прямо, а в его словах Максим почувствовал неподдельную тревогу.
Поздно ночью, поднявшись в свою мансарду, Максим сел писать письмо Тае. И хотя он понимал, что его скорое возвращение в Россию невозможно, что, может быть, он никогда не увидит любимой дочери, все же где-то в глубине его души еще теплилась слабая, почти угасающая надежда, и в конце письма он, называя Таю ласково и немного шутливо, так, как заочно называл ее, когда она была ребенком, — «люлькой», «лялькой» и «маленькой Тайкой-болтайкой», — написал:
«Теперь, Тая, ты стала большой девочкой, и с тобой можно говорить как с умным, взрослым человеком… Ты, должно быть, знаешь, что на мне лежит вина за то, что я, не разобравшись в событиях, оказался с теми, кто пошел против народа. Сознание этой вины не дает мне покоя. С тех пор, как я не по своей воле (меня увезли тяжелораненым) покинул родину, я многое понял и сейчас хочу только одного: вернуться домой. Я готов искупить свою вину чем угодно, даже жизнью. И может быть, судьба пошлет мне возможность доказать своему народу, что я не враг ему, а только человек, однажды в жизни совершивший ошибку.
Верь, моя ненаглядная лялечка, что я очень люблю тебя и нашу русскую землю, верь, что я вернусь, обязательно вернусь, возьму, как бывало, тебя на руки и понесу далеко, далеко, и мы уже не расстанемся с тобой никогда…»
Глава девятая
1
Дальневосточный экспресс почти безостановочно мчался на запад, оглушительно грохоча в туннелях и на мостах и оглашая тайгу и теснины над реками протяжными гудками.
Стояли душные июльские дни и ночи, изредка воздух освежался короткими буйными грозами, проходили слабые, теплые дожди, и тогда дышать становилось легче, потом тучи таяли, уплывали вдаль, снова немилосердно жгло солнце, пассажиры открывали в вагонах все окна и томились от безделья и духоты.
Дмитрий Данилович Ставров терпел и духоту, и пыль, которая, клубилась в окнах. Он валялся на нижней полке плацкартного вагона с газетой в руках, спал или играл в карты с соседями по купе. Что касается Андрея и Гоши Махонина, то они с утра до ночи стояли у открытого окна, серые от пыли, усталые от бесконечной тряски, но веселые и оживленные. Гоша Махонин, лукаво поглядывая на Андрея и обнажая в улыбке редкие зубы, непрерывно напевал слова услышанной им где-то песни:
Девушку из маленькой таверны Полюбил суровый капитан…Летели назад леса, реки, желтые поля зреющих хлебов, одинокие полустанки, а Гоша все мурлыкал свою песню о девушке из таверны и о суровом капитане и с такой же незлобивой дружеской усмешкой посматривал на Андрея.
Гоша Махонин и Каля уже твердо решили стать мужем и женой. Каля закончила школу, ей шел двадцатый год, и она собиралась поступать в учительский институт. Этому способствовало и то, что Гоша после практики в Кедровском совхозе получил назначение в Благовещенскую контрольно-семенную лабораторию, куда и решил ехать вместе с Калей.
Андрея же он всю дорогу изводил песней о девушке и капитане не без причины: в мае Андрей получил наконец долгожданный ответ от Ели Солодовой. Получив посылку Андрея и прочитав его письмо, в котором он настойчиво просил Елю выйти за него замуж, Еля долго молчала, потом ответила коротко и неопределенно: приезжай, мы поговорим с тобой и вместе об этом подумаем. Но даже такой невнятный, ни к чему не обязывающий ответ окрылил Андрея. «Еля ведь понимает, как трудно мне увидеться с нею. Для этого надо преодолеть расстояние десять тысяч километров. И если она меня позвала, значит, можно надеяться на то, что отказа не будет». Так думал Андрей, ожидая встречи с Елей, которую он не видел два года. Это ожидание заставляло его радостно волноваться, он никогда еще не чувствовал такого тревожного и светлого ощущения приближающегося счастья.
Андрей не раз уже представлял, как они с Елей будут жить. При этом его мало беспокоило то, что рассудительные, искушенные в жизни люди именовали материальной стороной. На Дальнем Востоке, где зарплата была неизмеримо выше той, какую получали рабочие и служащие центральных районов страны, Андрей был полностью обеспечен, успел приобрести новый, отличный, как ему казалось, костюм, купить хорошее ружье, велосипед и не отказывал себе в удовольствии посидеть с товарищами в столовой и выпить лишнюю рюмку водки.
К тому же, последовав совету Романа, Андрей минувшей осенью съездил в Благовещенск, побывал в сельскохозяйственном институте, где ему разрешили сдавать экзамены экстерном по программе плодоовощного факультета. Зимними ночами он сидел за книгами до рассвета, старался использовать каждую минуту и к лету сдал большую половину экзаменов с отличными оценками. Теперь до получения диплома об окончании института оставалось совсем немного.
Получив ответ от Ели, Андрей прямо сказал отцу и матери, что в июле возьмет отпуск и уедет, чтобы повидаться с Елей, и, если она согласится выйти за него замуж, вернется в Кедрово вместе с ней. Андрея сразу же поддержали Федя и Каля и — особенно горячо — тайно влюбленный в Елю Роман. Дмитрий Данилович подумал, побарабанил по своей привычке пальцами по столу и сказал:
— Ну что ж, дело твое. Семья у Солодовых хорошая. Елю твою мы давно знаем, женись, раз надумал. Человек ты теперь самостоятельный, от батьки с матерью не зависишь. И потом, я полагаю, хватит тебе кобелировать и ночевать где-то у добрых людей…
Андрей покраснел. Готовясь к экзаменам, он все ночи проводил дома за книгой, а «у добрых людей» заночевал всего один раз, причем приголубила его Аня Довган, бывшая жена Токарева, разведенная с мужем маленькая молчаливая женщина. Андрей провожал ее из клуба темным метельным вечером. Аня жила одна на дальней окраине поселка… Пока они шли, отворачиваясь от бешеного ветра и прижавшись друг к другу, замерзли так, что руки у них одеревенели. Аня пригласила Андрея погреться, поставила на стол бутылку портвейна. Они посидели у открытой печки. Аня молчала, куря папиросу за папиросой. Потом посмотрела на часы-ходики, на Андрея и сказала тихо: «Куда ты пойдешь по такой погоде? Уже второй час ночи». Она постелила постель, погасила лампу, подождала, пока Андрей лег, потом разделась, легко вздохнула и легла рядом с ним…
Заметив смущение Андрея, Дмитрий Данилович сказал:
— Я, пожалуй, тоже с тобой поеду, отпуск мне дадут.
— Куда ты поедешь? Зачем? — спросила Настасья Мартыновна.
— Хочу побывать в Огнищанке, хоть одним глазом глянуть на то, что там делается, — сказал Дмитрий Данилович. — Пока Андрей будет упрашивать свою Елю надеть на него каторжные цепи, я успею съездить в Огнищанку.
Третьим спутником Андрея неожиданно оказался Гоша Махонин. Коренной дальневосточник, он никогда еще не покидал пределов края и теперь решил посмотреть страну.
— Может быть, хоть попробую абрикос или персик, — сказал Гоша, — а то я их только на картинке видел.
А оставшись наедине с Андреем, хитровато подмигнул:
— Придется мне, видно, стать сватом сурового капитана.
В дальнюю поездку их провожали все новые знакомые Ставровых: учителя, агрономы, телеграфисты, токари из ближнего леспромхоза, дружная компания веселых парней, с которыми Андрей и Роман не раз ездили на охоту, а по субботам встречались в клубе…
Сейчас, целые дни простаивая с Гошей в тамбуре душного и тряского вагона, Андрей рассказывал ему о своих встречах с Елей, о ее характере, привычках. Ни о чем другом он не мог говорить. А Гоша, добродушно посмеиваясь над ним, напевал свою навязчивую песенку о девушке из таверны.
В Москве они задержались на два дня, устроившись на ночевку в каком-то захудалом общежитии. В первый же день ненасытный Гоша загонял Андрея, бегая по музеям, картинным галереям, выставкам. Бескорыстно и самоотверженно влюбленный в науку и искусство, Гоша хотел сразу побывать везде — от Художественного театра до лотков старых букинистов в Охотном ряду. Он бы мгновенно истратил в Москве все свои сбережения, но предусмотрительный Дмитрий Данилович проверил бумажники обоих своих спутников и отобрал у них деньги, оставив только мелочь.
— Я эти фокусы знаю, — полушутливо сказал он, — пусть ваши бесценные капиталы полежат у меня, а то в Кедрово вам придется возвращаться в одних подштанниках.
Что касается Андрея, то он, устав от московской беготни, сказал Гоше:
— Нет, милый друг. Если тебе охота носиться по Москве высунув язык, носись, пожалуйста, а меня от этой скачки с препятствиями избавь.
Весь второй день Андрей бродил по Москве один. С некоторым удивлением он поймал себя на мысли, что город ему не нравится, что весь этот шум, грохот, автомобильные гудки, утомляющие глаза пестрые плакаты, сверкание витрин, тысячи вывесок, рекламы, милицейские свистки, яркие платья женщин, нависающие над одетыми камнем улицами громады домов, хлопающие двери магазинов, этот непрерывный, суетливый, суматошный поток людей, несущихся куда-то, толкающихся, беспорядочно обгоняющих друг друга, вызывают в нем, деревенском парне, чувство глухой неприязни.
Потный, злой, с головой, гудящей как котел, Андрей добрался до Сокольнического парка и, не обращая никакого внимания на гуляющих по аллеям нарядных мужчин и женщин, разулся и, помахивая туфлями, дошел босиком до заросшей зеленой травой поляны, подложил туфли под голову и, забыв про свой новый темно-синий костюм, с наслаждением растянулся на сочной, недавно политой траве.
Глядя на высокие облака, лениво плывущие в чистой небесной голубизне, Андрей думал о Еле, о встрече с ней, почему-то не мог представить, как она будет выглядеть его женой и как они будут жить вместе. Неясная тревога испугала его, когда он подумал о том, что Еля, самозабвенно любящая город, чувствующая себя в городе как рыба в воде, должна будет поселиться в таежном поселке и проститься с тем, к чему привыкла с детства.
Думал он и о техникуме, в котором учился, о Житникове, о Берзине, о старом Северьяныче. «Надо будет обязательно съездить в техникум», — решил Андрей. С нежностью вспоминал он о Тае, и ему очень захотелось ее увидеть…
Поздним вечером Андрей с отцом и с Гошей снова сели в поезд, теперь уже другой, и он помчал их к заветному городу, в котором жила Еля.
Приехали они на рассвете, получили багаж, сдали чемоданы в камеру хранения, отыскали сонного извозчика, и он через весь город повез их к глухому переулку, где жили Солодовы. Занималась ранняя летняя заря. Город еще спал, но по улицам уже разносился запах печеного хлеба, дворники в белых фартуках мели тротуары, неторопливо и ровно цокали подкованные копыта лошади по прохладному, увлажненному росой булыжнику.
Когда извозчик подъехал к невысокому двухэтажному особняку и остановил лошадь у деревянных ворот, окрашенных слинявшей на солнце коричневой краской, сердце Андрея сжалось.
— Ну, жених, иди узнавай, дома ли твоя невеста, — сказал Дмитрий Данилович, — а мы подождем тебя здесь.
Андрей открыл калитку, вошел во двор, поднялся по знакомой лесенке наверх и остановился на веранде. Дверь была полуоткрыта, на ней белела марлевая занавеска. Андрей тихонько постучал. Никто не ответил. Он постучал громче, но в доме было тихо. Стараясь не шуметь, он вошел в прихожую. Дверь в спальню была распахнута. На широкой кровати, прикрывшись тонкой простыней и закинув за голову руки, спала Еля. Губы ее слегка вздрагивали во сне, темные волосы разметались по подушке.
Андрей постоял, наклонился над кроватью и, замирая от счастья, чуть прикоснулся губами к Елиным губам. Позже он не раз вспоминал этот неповторимый в его жизни поцелуй, вспоминал с грустью и светлой печалью.
Ресницы Ели шевельнулись. Она открыла глаза, несколько мгновений смотрела на Андрея — не приснился ли он ей? — потом быстро натянула простыню на голые плечи, вскрикнула:
— Ты?.. Приехал?..
— Я сейчас выйду, — сказал Андрей, — а ты вставай. Я не один.
— А кто с тобой? — спросила Еля.
— Отец и товарищ…
Пока гости, покуривая, сидели на веранде и перебрасывались ничего не значащими словами, Еля привела себя в порядок и вышла к ним свежая, оживленная, с подкрашенными губами и аккуратно уложенной прической. С помощью Андрея и Гоши, добывших из чемодана бутылку вина, сыр и сардины, Еля быстро приготовила завтрак.
За завтраком она сказала, что уже три месяца живет в городе одна.
— Папу все-таки уговорили ехать на Черниговщину строить какой-то большой завод, — сказала Еля, — а мама тоже поехала с ним. Мне надо было остаться здесь, потому что меня задержали занятия в институте.
— Ты поступила в институт? — спросил Андрей.
— Да, в музыкально-педагогический. Только вчера сдала последний экзамен и переведена, на второй курс.
Гоша Махонин, не сводивший с Ели восторженных глаз, закричал:
— За это положено выпить!
— Давайте выпьем…
Андрей следил, с какой изящной небрежностью, как ловко и хорошо Еля режет лимон тонкими ломтиками, разливает чай, как спокойно и уверенно хозяйничает она за столом, и чувство гордости за нее наполняло его и заставляло посматривать на Гошу с немым вопросом: какова, дескать? И Гоша, как только Еля вышла зачем-то на кухню, понимающе кивнул и, подняв большой палец, прошептал на ухо Андрею:
— Капитан! Девушка из маленькой таверны — во!
После завтрака Дмитрий Данилович и Гоша отправились посмотреть город. Андрей и Еля остались одни. Убрав со стола, Еля села у открытого окна, стала рассеянно перелистывать лежащий на подоконнике журнал мод. Андрей закурил, сунул в пепельницу обгоревшую спичку, заходил по комнате. Заметив, что Еля украдкой следит за ним с какой-то веселой улыбкой, он спросил:
— Что ты смеешься?
Покусывая губы, Еля сказала:
— Ничего.
— А все-таки?
— Любуюсь твоим костюмом.
Андрей смутился, нерешительно осмотрел свой новехонький заграничный костюм, купленный им перед поездкой в благовещенском комиссионном магазине.
— Не понимаю, — сказал он, — костюм как костюм.
— Но ты из него вырос, — сдерживая смех, сказала Еля, — глянь, какие короткие брюки.
— Черт с ними, с брюками! — Андрей вспыхнул. — На Дальнем Востоке мне сказали, что это крик моды. Для тебя я этот самый «крик» и надел.
Оба они засмеялись. Андрей взял стул, подсел к Ело.
— Ну, Елка, — сказал Андрей, — что будем делать?
Еля стала серьезной.
— Не знаю.
— Выйдешь ты за меня замуж?
— Не знаю.
— А кто же знает?
Слегка отвернувшись, Еля задумалась. Ей шел двадцать второй год. Никого она еще по-настоящему не любила, хотя ей нравилось то, что за ней постоянно ухаживают, ищут ее расположения разные люди. Еля стыдливо гордилась этими знаками подчеркнутого внимания к ней, в любом обществе мужчин и женщин начинала кокетничать, но это непроизвольное ее кокетство не было грубым и вызывающе-навязчивым, а скорее напоминало увлекательную игру, отдаваясь которой Еля никогда не думала о ее последствиях. Это врожденное кокетство и страстное желание нравиться всем было живой частицей самой Ели, свойством характера здоровой, красивой девушки, ее неосознанным, чисто женским инстинктом, то есть чувством подсознательным, безотчетным и совершенно непосредственным.
Сейчас, сидя у окна и глядя на сверкающую в отдалении реку, слушая протяжные гудки пароходов, Еля впервые подумала о замужестве всерьез. Ей вспомнились люди, которые особенно настойчиво говорили о своей любви к ней, говорили по-разному, потому что были разными, не похожими один на другого людьми: добропорядочный, но скучный Юрий Шавырин, которого Андрей очень зло, но, пожалуй, правильно назвал «розовощеким боровом в небесном плаще»; милый, застенчивый Елин однокурсник по институту Мишенька Фишер, который при встрече с ней бледнел, краснел, терялся, приносил ей книги и, захлебываясь от волнения, мог целыми вечерами читать вслух сказки Гофмана и стихи Артура Рембо; наконец, этот Вася Подзольский, молодой ассистент института, интересный, смазливый парень, с влажным чувственным ртом, — он сразу заметил красивую студентку-первокурсницу, стал ее провожать домой, бывать у нее, хотя и был женат на женщине, носящей какое-то цветочное имя. Влюбленный в Елю, он не раз говорил, что готов расстаться со своей женой-«цветком» и всего себя, всю свою жизнь посвятить ей, Еле.
И вот — Андрей Ставров. Вырвавшийся из тайги деревенский дикарь в идиотском, вызывающем смех костюме, который он, желая показаться горожанином-модником, напялил для нее же, для Ели. Нет, этот не похож ни на кого. Умный, всегда какой-то неожиданный, вспыльчивый, то злой и резкий, то жалостливый, безгранично любящий все живое. Никогда нельзя угадать, что он выкинет. Восемь лет он преследует Елю своей странной, нелегкой любовью: то режет себе руки ржавым ножом, как тогда, в лесу, то подбрасывает гнусные подметные письма, в которых оскорбляет ее, свою любовь, вдруг откуда-то, чуть ли не из преисподней, присылает ей изумительно прекрасную шкурку таежного зверька соболя и пишет письма на тридцати страницах, и от этих писем, от его сумасшедших, ласковых слов начинает сладко кружиться голова… А ведь он, должно быть, нравится женщинам. Вот он поднялся, ходит по комнате, сунув руки в карманы своих дурацких, клоунских штанов, высокий, стройный парень со светлым кудрявым чубом и чертовски умными, насмешливыми глазами, которые все время меняются: то делаются голубыми и ясными, то темнеют, и тогда смотреть на них становится неприятно…
— Что ж мы все-таки решим, Еля? — спросил Андрей. — Поедешь ты со мной или нет? Хочешь ты стать моей женой?
— Не знаю, — сказала Еля, — дай мне хоть немного подумать. Ехать с тобой — это значит оставить институт, расстаться с родными…
— Институты есть везде, а с родными все когда-нибудь расстаются.
— Это не так легко, как тебе кажется.
— Я знаю.
— И потом, это расстояние. Как только подумаешь о нем, страшно становится. Я никогда не ездила так далеко, тем более без папы и без мамы, — растерянно сказала Еля.
— Ты, видимо, забываешь, что с тобой буду я. Понимаешь? Я буду с тобой всегда.
— Верю, Андрюша. Но ты еще чужой. К тебе надо привыкнуть.
— Я сделаю все, чтоб ты не считала меня чужим.
Еля помолчала. Сквозь открытое окно слышались отдаленные пароходные гудки. Едва донесся и растаял удаляющийся звонок трамвая. По улице пробежали девочки с маленькой визгливой собачонкой.
— А где твой Андрюшка? — спросил Андрей. — Почему его не видно?
— Какой Андрюшка? — не поняла Еля.
— Ну тот самый… щенок, которому ты и твои подруги присвоили мое имя. Помнишь?
Еля покраснела, лицо ее стало грустным.
— Ах, Рюшка? Его, бедного, раздавил автомобиль. Он, дурачок, выскочил за ворота — и прямо под колеса. Я так плакала, места себе не могла найти.
— Смотри, — нехорошо усмехаясь, сказал Андрей, — если ты не поедешь со мной, я тоже могу оказаться под колесами.
— Глупые шутки, — сказала Еля.
— Мне не до шуток, — печально и серьезно сказал Андрей. — Для того чтобы увидеть тебя, я проехал десять тысяч километров. Это, как ты говоришь, страшное расстояние. Ты ведь знала, зачем я еду? Ты знала, что такой разговор у нас должен состояться? Знала? Почему же теперь, когда мы наконец встретились после такой долгой, мучительной для меня разлуки, ты ничего мне не отвечаешь? Почему прямо не скажешь: хочешь ты стать моей женой или нет?
— Но я действительно не могу решить так, сразу. — Еля готова была заплакать. — Мне с тобой хочется уехать, и почему-то я боюсь, и жалко мне расстаться с тем, что мне близко и дорого.
— С чем, например?
— Ты только не смейся, пожалуйста. С куклой Лилей, которую мне подарили, когда я была совсем девчонкой, с этим вот дядькой…
— С каким дядькой? — не понял Андрей.
Еля молча повела плечом в сторону стоявшего на подзеркальнике бронзового ландскнехта. Широкополая шляпа ландскнехта была лихо сдвинута набок, в руках он держал шпагу.
— Вот с этим, — сказала Еля. — Может, все это ерунда, мелочи, но я к ним привязалась, мне без них будет скучно.
Андрей засмеялся, поцеловал Елину руку с розовыми, покрытыми лаком ногтями.
— Бери, ради бога, с собой и куклу Лилю, и этого дядьку, и тетку, и кого хочешь, только давай уедем вместе. Довольно меня мучить.
Вечером, когда утомленные прогулкой по городу Дмитрий Данилович и Гоша улеглись спать в приготовленной для неожиданных гостей комнате, Андрей и Еля долго сидели на веранде. Отсюда, с веранды, хорошо были видны вереницы огней вдоль городских улиц, мигающие разноцветные рекламы, зеленые и красные огоньки тихо скользящих по реке пароходов. Темнота и затихающий шум города, знойный, напоенный запахами реки воздух, неяркое свечение ночного неба и звонкое монотонное стрекотание сверчка где-то внизу, едва слышный шорох листьев старого клена во дворе заставили Андрея и Елю прижаться друг к другу и молчать. Андрей целовал Елины пальцы, плечи, волосы, и она не отстранялась от него, только слабо отодвигала его руки, склоняла к нему пахнувшую духами голову и замирала в непонятном томлении, а он ласкал ее все более исступленно и готов был плакать от счастья.
— Поедешь со мной, Елочка? — прошептал Андрей, коснувшись щекой горячей Елиной щеки.
И она ответила с безвольной готовностью:
— Поеду…
А утром, когда Андрей, постучав в дверь спальни, зашел к Еле, он увидел, что она лежит в постели одетая, с открытыми глазами.
— Доброе утро, Елка, — сказал Андрей. — Как ты себя чувствуешь?
— Доброе утро, — тихо ответила Еля. — Голова у меня болит, Андрюша.
— Ты помнишь свое вчерашнее обещание?
— Какое?
— Стать моей женой и вместе со мной уехать на Дальний Восток.
— Помню, — безучастно сказала Еля.
— Значит, едем? — спросил охваченный радостью Андрей.
Опустив с кровати босые ноги, Еля отыскала на коврике ночные туфли, движением руки поправила растрепавшиеся волосы.
— Едем, Андрей, только не на Дальний Восток.
— А куда?
— Если ты серьезно, давай съездим к папе и маме, — сказала Еля. — Мне надо посоветоваться с ними. Без них я ничего решить не могу…
Уехали они в тот же день, все четверо…
Строительство завода, на котором в должности шеф-монтера работал Платон Иванович Солодов, оказалось упрятанным в густые леса в междуречье Десны и Сейма. На окраине заштатного, даже не обозначенного на карте городишка были разбиты новые кварталы с десятиквартирными, похожими один на другой домами для строителей. В одном из таких домов, близ речной протоки с переброшенным через нее деревянным мостом, жили Солодовы.
И Платон Иванович, и Марфа Васильевна обрадовались приезду дочери и сразу догадались, почему вместе с Елей приехали трое ее спутников, но не подали при этом никакого вида. Андрея и его отца они встретили как старых знакомых, а веселый, смешливый Гоша Махонин понравился им своей восторженностью и добродушием.
Довольно большая квартира Солодовых была их временным жильем, в ней стояла только самая необходимая казенная мебель, но благодаря хлопотам Марфы Васильевны все комнаты казались обжитыми.
Пока радостно сияющая Марфа Васильевна готовила поздний обед, а Платон Иванович и Дмитрий Данилович, сидя за столом и покуривая, предавались воспоминаниям о Пустополье, Еля с Андреем и Гошей вышли побродить и отдохнуть от вагонной сутолоки.
После долгих, утомительных дорог и ненавистного ему городского шума и гама Андрей залюбовался зеленевшими вокруг поселка строителей лесами. Перейдя мост, Андрей, Еля и Гоша остановились на берегу большого озера. Над озером высились могучие сосны с густыми темно-зелеными кронами; они отражались в воде, и потому чистое, спокойное озеро, на котором неподвижно плавали кувшинки, тоже казалось темно-зеленым, таинственным, как в сказке.
Когда вернулись домой, Гоша подсел к мужчинам, а Еля с Андреем остались в ее комнате одни. Сняв туфли, Еля прилегла на узкую солдатскую койку. Андрей постоял у окна, покурил. Дальше все произошло совершенно неожиданно. Вошел Гоша и сказал несвойственным ему серьезным тоном:
— Вас зовут в столовую.
Едва только сели за накрытый белой скатертью стол, Платон Иванович разлил по бокалам вино и сказал, обращаясь к Еле:
— Вот что, дочка. Дмитрий Данилович сказал нам с мамой, что Андрей просит тебя выйти за него замуж. Поскольку речь идет о твоей судьбе, ты сама и решай. Неволить мы тебя не будем.
Взволнованная Еля вскочила, подбежала к Марфе Васильевне, обняла, приникла к ее плечу. Не ожидавший от отца такой прыти, Андрей сидел опустив глаза.
Дмитрий Данилович усмехнулся и сказал:
— Я правильно передал твое желание, дорогой жених?
— Правильно, — выдавил из себя смущенный Андрей. — Еля об этом знает давно. Я много раз писал ей, и, насколько мне известно, она все мои письма читала Платону Ивановичу и Марфе Васильевне.
Еля удивленно посмотрела на Андрея:
— Откуда ты знаешь?
Андрей улыбнулся:
— Вон там в углу, на рабочем столе Платона Ивановича, лежит мое последнее письмо, я вижу его отсюда. Но я не обижаюсь, Елка.
Все засмеялись.
— Мы все ждем твоего ответа, дочка, — сказал Платон Иванович, — поедешь ты с Андреем или нет?
— Поеду, — тряхнув волосами, сказала Еля и выбежала из комнаты. Андрей кинулся за ней, поцеловал ее, привел в столовую.
Платон Иванович переглянулся с Марфой Васильевной — она уже вытирала платком глаза — и поднял наполненный вином бокал.
— Ну что ж, — сказал он тихо, — выпьем за ваше счастье. Вы сами выбрали свою дорогу и сами теперь будете нести ответственность за то, как у вас сложится жизнь…
Все чокнулись, выпили. Платон Иванович и Дмитрий Данилович, маскируя свое волнение шутками, начали долгие разговоры, в которых звучали наставления и советы Андрею и Еле жить дружно, не ссориться, уважать друг друга. Однако все, что потом происходило, показалось Андрею только смутным и прекрасным сном. Рядом с ним сидела Еля, открыто, перед всеми назвавшая себя его невестой, а он, счастливый, опьяневший от радости, видел ее как в тумане, не знал, что ей сказать и как себя вести…
На следующее утро Андрей уговорил Елю идти в загс и зарегистрировать их брак. Мужчины посмеивались, но не возражали, а Марфа Васильевна, у которой глаза все время были красные от слез, сказала:
— Пойдемте, дети, на минутку со мной.
Она увела Андрея и Елю в спальню, опустилась на стул и заговорила, комкая в руках мокрый платок:
— Может, вы и посмеетесь надо мной, не знаю, это дело ваше. Люди вы молодые, новые и живете в другое время, не то что мы. Вот, скажем, ты, Андрюша. Ты ведь в бога не веришь?
— Нет, Марфа Васильевна, не верю, — твердо сказал Андрей.
— Еля тоже не верит, я знаю… И все-таки мне, матери, хочется, чтобы вы обвенчались в церкви. Вам, не верящим в бога, это ничего не стоит, а моя душа будет спокойна.
Андрей переглянулся с Елей, сказал смущенно:
— Но, Марфа Васильевна, это дико… меня и Елю все засмеют, прохода нам не дадут. Отец первый. Он никогда не верил в бога, издевался над религией. Что я ему скажу? Что я скажу Гоше, братьям, товарищам?
— А зачем тебе об этом рассказывать? Я ведь не прошу, чтобы вы венчались здесь, где нас все знают. Приедете в Москву, зайдите с Елей в любую церковь и обвенчайтесь. Никто об этом не будет знать, только вы и я. И никто смеяться над вами не станет… — Марфа Васильевна посмотрела на Елю: — А тебе, Елена, я скажу одно: если вы не выполните то, о чем я прошу, не будет вам моего материнского благословения.
Она опять заплакала. Заплакала и Еля. Андрей подумал: «Да черт с ним! Что нам, действительно, стоит обвенчаться? Не будем же мы демонстрировать этот шутовской спектакль…»
— Хорошо, Марфа Васильевна, мы сделаем это, — сказал он. — Я не верю ни в бога, ни в черта, но я люблю Елю и ради нее готов на все…
Марфа Васильевна поднялась, поцеловала Андрея и Елю, перекрестила их и сказала:
— Пусть господь пошлет вам счастье… идите…
В загсе все прошло быстро и, к огорчению Гоши Махонина, очень буднично. Скучающая девица с перевязанным лицом — у нее был флюс — молча вписала в потертую книгу нужные сведения, заполнила бланк брачного свидетельства. Андрей и Еля расписались, вслед за ними поставили свои подписи свидетели — Гоша и двое сослуживцев Платона Ивановича, тоже недавно женившихся, — Андрей их тотчас же забыл.
Когда все было закончено, Гоша с упреком сказал перевязанной девице:
— Скучно работаете, барышня.
Она посмотрела на Гошу страдающими глазами и сказала раздраженно:
— У меня, молодой человек, зубы болят, и поэтому танцевать с вами танго я не могу…
Возвращаясь домой, Андрей и Еля отстали от своих спутников. Они шли по улице, на которой не было ни одного прохожего. Только недавно прошел короткий и теплый июльский дождь, он прибил пыль на дороге, освежил душный воздух, омыл шиферные крыши и стены низких уютных домиков. Деревянные домики с резными ставнями, с увитыми плющом и хмелем крыльцами тянулись по обе стороны окраинной улицы. За низкими, окрашенными в зеленый цвет палисадниками всеми цветами радуги отливали обрызганные дождем цветы — высокие бело-розовые мальвы, сиреневые и голубые флоксы, разноцветные георгины, петунии, белые и красные левкои.
Охваченный волнением, Андрей шел, искоса поглядывая на Елю, и в мыслях у него было одно: «Жена… Еля — моя жена… Вот она идет рядом, любимая, такая красивая, моя… Да, да, моя… Как долго я ждал этого счастья, и оно пришло… Я люблю тебя, Еля, Елка, Елочка… Счастье мое, жена моя…»
Он шел растерянный, сияющий, обалдевший от радости. Еля поглядывала на него, улыбаясь, потом остановилась.
— И все-таки ты дикарь, Андрей, — сказала Еля, — честное слово, дикарь.
— Почему? — спросил Андрей.
— А ты сам не догадываешься?
— Нет.
— Странно. — Еля обидчиво сжала губы. — Мне казалось, что любящий жених хотя бы в день свадьбы должен был оказать невесте какие-то знаки внимания. Были времена, когда женихи обязательно что-то дарили невестам, ну хоть цветы, что ли… А ты даже не подумал об этом, даже не вспомнил…
Не дослушав Елиных слов, пристыженный Андрей оглянулся, одним прыжком перемахнул через палисадник в первый попавшийся двор и, воровски посматривая по сторонам, стал рвать цветы. За домом залаяла собака, хлопнула дверь. Прижимая к груди мокрую охапку цветов, Андрей перепрыгнул через забор палисадника и побежал догонять довольно далеко ушедшую Елю. За своей спиной он услышал истошный старушечий крик:
— Ах, сукин ты сын, чтоб тебе руки и ноги поотрывало, фулюган окаянный…
Догнав смеющуюся Елю, Андрей протянул ей цветы:
— Принимай, дорогая жена, свадебный подарок…
В квартире Солодовых готовились к свадьбе. Дмитрий Данилович и Платон Иванович привезли с базара три большие корзины разной снеди, огромную миску малины, купили несколько бутылей вина, водки. Марфа Васильевна с помощью соседок, жен инженеров и техников, возилась в кухне. Там стучали ножи, повизгивали мясорубки, звенели тазы.
По столовой расхаживал грузный начальник строительства Карпо Калиникович Дуда, за которым тенью следовала черная с подпалинами легавая Альма. Мужчины успели выпить и были навеселе, но делали вид, что помогают Марфе Васильевне: сдвигали принесенные от соседей столы, переносили с места на место стулья, а больше прикладывались к стоявшим на подоконнике чаркам.
Андрей и Еля бродили по комнате, не зная, чем заняться. Еля попыталась было проникнуть в кухню, но женщины ее туда не пустили, закричав хором, что в такой день ей стоять у плиты не положено.
— Шли бы вы погуляли, смотрите, какой день хороший, — сказала Марфа Васильевна, — а мы тут без вас управимся. Только Гошу нам оставьте, без него мы не обойдемся…
После дождя вновь выглянуло солнце, омытые дождем деревья сияли. На крышах домов ворковали голуби.
— Давай пойдем искупаемся в озере, — сказал Андрей Еле.
— Пойдем, — согласилась Еля, — только подожди минутку, я переоденусь.
На озере не было никого. В сосновом бору свежо и остро пахла хвоя. Чуть дальше, в дубовой роще, пронзительно кричала иволга, протяжно и звонко ворковали горлицы. Крохотный бирюзовый зимородок, точно большая бабочка, носился над зеркально-чистой водой.
Андрей и Еля разделись, взявшись за руки, пошли к воде. Оба они, стыдясь и радуясь, старались не смотреть друг на друга, а если смотрели, то делали это незаметно, украдкой. Первый раз в жизни Андрей увидел Елю почти обнаженной: ее покатые оголенные плечи, чуть прикрытую черным грудь, округлый живот, крепкие стройные ноги.
— Давай я понесу тебя, — задыхаясь, сказал Андрей.
— Зачем? — не глядя на него, спросила Еля.
— Не знаю, мне хочется взять тебя на руки…
— Я тяжелая…
— Ничего…
— Нет, правда, не надо…
Но Андрей уже нагнулся, правой рукой обнял ее ноги, а левой обхватил шею и осторожно понес в воду. Она действительно была тяжелой, рослая, прекрасно сложенная девушка, но он, чувствуя на руках эту милую, такую желанную тяжесть, нес ее, прижимая к себе, нес, как самую драгоценную, самую радостную для него ношу…
Чем глубже Андрей входил в озеро, тем легче становилась Еля, и вот, зайдя в воду по грудь, он совсем перестал чувствовать ее тяжесть. Вода успокоилась, и сквозь ее пронизанную солнцем прозрачность невесомое Елино тело показалось Андрею голубовато-белым, неземным, таким таинственным и влекущим, что он замер от блаженной, никогда еще не изведанной им, поразившей его в самое сердце сладостной боли… Прижавшись к нему, Еля лениво шевелила ногами, а вокруг ее длинных ног, словно ласковые шелковистые змеи, едва заметно шевелились изумрудно-зеленые стебли кувшинок. Белые и желтые кувшинки с пахучей медовой ямкой в цветках плавали вокруг на плоских распластанных листьях, и было их на озере множество. Светило летнее солнце, в лесу над озером безмятежно пели птицы, сияла небесная голубизна. И озеро, и лес, и редкие высокие облака, казалось, застыли, очарованные незаметным, никому не ведомым человеческим счастьем…
Андрей целовал прохладные, влажные Елины плечи, и она молча прижималась к нему. Он тоже молчал, и ему уже чудилось, что они с Елей медленно летят где-то между небом и землей и что никто в мире никогда не остановит этот их сказочный бесконечный полет…
А вечером Андрею запомнилось одно: люди вокруг длинного стола, звон бокалов, крики «горько!», горячая, подставленная для поцелуя Елина щека, клубы табачного дыма, украинские песни, чьи-то объятия, смех, возня под столом черной Альмы… Потом все слилось в его сознании в сплошной гул, и он уже не помнил, как чудом державшийся на ногах Гоша отвел его, уложил на диван и прокричал в ухо:
— Ты, капитан, наклюкался зверски! Вздремни малость, а через часок я тебя разбужу.
Через час Гоша действительно разбудил Андрея и втолкнул в ванную. Там Андрей смочил под краном голову, расчесался, привел себя в порядок. В столовой сидели одни мужчины. Все женщины ушли спать.
— Что, молодожен, проспался? — крикнул пьяный Дуда, — Гляди, так можно проспать и царство небесное. На, выпей чуток, чтоб наша доля нас не цуралась…
Андрей выпил стопку водки. Дуда затянул песню, и все нестройно подхватили ее. Потом снова выпили, заговорили о заводе, о станках, о колхозах, о ценах на молоко и на мясо, о голодном походе безработных ветеранов войны в Вашингтон, о фашистском перевороте в Пруссии, о Гитлере.
Совсем захмелевший Дуда забормотал, стуча кулаком по столу:
— Н-ничего, хлопцы… М-мы с П-платоном Ивановичем п-построим завод, который б-будет готовить добрые подарки для всей этой нечисти…
Разошлись ненадолго и, поскольку предстоял выходной день, условились отдохнуть, опохмелиться и восход встретить всем вместе.
Утро выдалось прохладное, ясное. Над лесом заалела заря. Выпив по бокалу вина со льдом, все пошли к протоке. Голова у Андрея кружилась, он шел, стараясь держаться поближе к Еле. На мосту Карпо Калиникович Дуда стал бросать в воду щепки, камни, и его Альма очертя голову кидалась вниз, ныряла под общий смех и одобрение.
Опершись локтями о перила моста, Андрей стоял рядом с Елей, незаметно гладил ее теплую руку, всматривался в бледное, утомленное ее лицо, в лицо отца и всех стоявших на мосту людей, и ему все еще казалось, что он видит долгий, волшебный сон: и солнечный восход над голубой протокой, и тающие над водой легкие полосы тумана, и лиловый лес невдалеке, и черную собаку Альму, которая, вылезая из воды, трясет ушами… Бережно и робко обняв Елю за талию, он стоял молча, смотрел на почти незаметное движение воды внизу, и в нем в эти минуты слились в одно беспокойное и счастливое чувство любовь к Еле, которую он назвал своей женой, восторженное преклонение перед ослепительным солнцем и небом, щемящая жалость к старой оглохшей собаке, и он стоял опустив голову и думал: «Мы будем счастливы с тобой, Еля, и любовь моя к тебе не исчезнет никогда, так же как никогда не исчезнет эта сверкающая голубизной, колючая, полная счастья и страданий жизнь».
Думая так, он вдруг ясно понял, что где-то позади остались его отрочество и юность, что к нему пришло что-то новое, и он, удивляясь, с тревогой и с уважением подумал о себе как о взрослом, на которого в эти дни легла впервые познанная им ответственность не только за свою, но и за чужую жизнь…
Через два дня Марфа Васильевна и Еля уехали, чтобы собрать Елины вещи, получить в институте документы и приготовить все необходимое к дальней дороге. Андрей попытался было сказать, что поедет вместе с ними, однако Еля вежливо, но твердо отклонила его просьбу:
— Нет, Андрюша, ты нам будешь только мешать. Оставайся здесь, а мы вернемся через неделю.
А Марфа Васильевна добавила улыбаясь:
— Поскучай, дорогой зятек, по молодой жене. Это полезно.
Дмитрий Данилович тоже уехал в Огнищанку, заверив всех, что скоро вернется.
Андрей и Гоша в эти дни были предоставлены самим себе. Платон Иванович с утра до вечера трудился на стройке, а они загорали, лежа на берегу озера, бродили по лесам, шлялись по базару и объедались малиной, таская ее в маленьком чемоданчике. Андрей затосковал по Еле. Он тщетно пытался скрыть от Гоши свое настроение, но тот только смеялся над ним.
В один из вечеров, сидя за бутылкой вина, Платон Иванович заговорил с Андреем о Еле.
— То, что ты, Андрюша, так давно и так терпеливо любишь Елку, это хорошо, — задумчиво сказал Платон Иванович. — Я тебе скажу чистосердечно: она заслуживает любви. Причем говорю я это не потому, что она моя дочка. Впрочем, ты, видно, и сам это понял. Но ты не думай, что тебе будет с ней легко. При всех своих хороших чертах девка она упрямая, с капризами и, прямо скажу, избалованная, в чем больше всего виноваты мы с матерью.
Платон Иванович провел рукой по седеющим усам, допил вино.
— Когда ты станешь отцом, ты сам поймешь это, — продолжал он. — Росла она у нас одна-единственная, мы ей ни в чем не отказывали, старались исполнить каждое ее желание. Никаких трудностей в жизни она не видела… Ну а подросла, стали за ней хлопцы бегать, чуть ли не молились на нее. — Платон Иванович усмехнулся: — Вроде вот как ты… Так и появилась в ней норовистость, этакое желание всеми повелевать, быть, как говорится, в центре внимания.
— Я думаю, это пройдет, — несмело сказал Андрей. — В конце концов, Еля человек умный, она все поймет.
— Я тоже так думаю, — с грустью в голосе сказал Платон Иванович. — У вас все впереди, Елке доведется встретить немало такого, чего она и во сне не видела… Жизнь обкатает ее, продерет с песочком, собьет с нее гонор… Что ж, пускай, лишь бы только она не сломалась…
Заметив в глазах слегка захмелевшего Платона Ивановича выражение печали, Андрей поднялся, обнял его и сказал:
— Вы не тревожьтесь, Платон Иванович. Я Елю люблю, характер ее знаю и постараюсь сделать все, чтобы наша с ней жизнь была благополучной и счастливой…
— Дай бог, дай бог, — растроганно сказал Платон Иванович.
И Марфа Васильевна с Елей, и Дмитрий Данилович приехали к сроку, как обещали. За ужином Дмитрий Данилович рассказал об Огнищанке, и в рассказе его Андрей не почувствовал ничего веселого.
— Умер дед Силыч… Его избрали членом правления колхоза, и он, говорят, хорошо работал, а прошлой зимой старик простудился, слег, провалялся недели две и отдал концы… Судили лесника из Казенного леса, Пантелея Смаглюка, приговорили к расстрелу и расстреляли за бандитизм и контрреволюцию. А Острецова до сих пор не нашли, будто в воду канул. Говорят, он возглавлял в Ржанском уезде какую-то банду… Председателя исполкома Долотова в Ржанске уже нет, его перевели куда-то на Дон, и он работает секретарем обкома партии.
— А как работает колхоз? — спросил Андрей.
Дмитрий Данилович махнул рукой:
— Плохо работает, никак ему ладу не могут дать. Название колхозу придумали громкое — «Красный луч», а получается, что луч этот пока не светит и не греет. Был я на колхозных полях, они позарастали сорняками; скот худой. Коней, которые когда-то были нашими, я не узнал, остались от них только кожа да кости…
Подумав, Дмитрий Данилович закончил коротко:
— Есть, конечно, среди колхозников работящие люди: Илья Длугач — он теперь стал секретарем колхозной партийной организации, Демид Плахотин, Николай Комлев, братья Кущины, Павел Терпужный. Таких даже и немало, но они плутают в трех соснах, не знают, как между собой доходы делить, то ли по душам, то ли по труду. В общем, там еще много дела…
На следующий день Дмитрий Данилович, сидя за завтраком, сказал, что пора собираться домой. Солодовы, которым тяжело было расставаться с Елей, попробовали уговорить его погостить еще хотя бы несколько дней, но он остался непреклонным.
— Отпуск у меня кончается, — сказал Дмитрий Данилович, — надо ехать. Да и Андрея, должно быть, заждались в его райземотделе. Нам всем у вас очень нравится, милые сваты, и мы готовы были бы пробыть тут до самой осени, но ничего не поделаешь…
Уезжали перед вечером. Провожать отъезжающих пошли все, кто был на Елиной свадьбе. В обычной вокзальной толчее занесли в вагон чемоданы, узлы и свертки. Стали прощаться. Марфа Васильевна плакала, Еля тоже не отнимала от глаз платок. Вначале Платон Иванович крепился, потом заплакал и он. Раздался паровозный гудок. Вскочив в вагон, Еля остановилась у окна. Она уже не скрывала своих слез, они лились по ее щекам ручьем.
Двое стоявших на перроне парней переглянулись, посмотрели на Елю, и один из них дурашливо закричал:
— Ты глянь на нее! Плачет так, будто замуж вышла!
Все засмеялись. Сквозь слезы засмеялась и Еля. Застучали колеса вагонов, поезд тронулся, стал набирать скорость, и через минуту запруженный людьми вокзал, плачущая Марфа Васильевна и стоявший рядом с ней Платон Иванович, который не переставал махать шляпой, скрылись из глаз…
По приезде в Москву Дмитрий Данилович решил остановиться в знакомом уже общежитии совпартшколы, побыть в Москве два дня и сделать необходимые покупки. Хотя все студенты были на каникулах, комендант общежития разрешил занять только одну просторную комнату, в которой стояли стол, стулья и шесть застланных серыми солдатскими одеялами коек.
Дмитрий Данилович вернул Андрею часть взятых у него денег и сказал Гоше:
— Знаешь что, давай-ка мы пойдем по магазинам вместе с тобой, а наши молодожены пусть гуляют по Москве вдвоем, не будем им мешать.
Андрей и Еля, взявшись за руки, боясь потерять друг друга в столичной сутолоке, медленно пошли по улице. Лицо Ели было печальным, почти все время она молчала, и Андрей, как мог, старался развлечь ее.
— Скучаешь, Елка? — ласково сказал он.
— Скучаю, — тихо ответила Еля, — папу и маму жалко. Они остались совсем одинокими.
— Но когда-нибудь это должно было случиться? Все девушки выходят замуж, оставляют родителей.
— Да. Но ведь можно выйти замуж и жить в своем городе, навещать близких.
— Ты что, жалеешь, что так получилось?
— Нет, Андрей, не жалею.
— Не надо жалеть, Елочка, все будет хорошо…
Они зашли на какую-то выставку картин, без всякого интереса побродили по залам, ни одна картина не привлекла их внимания. Посидели в маленьком ресторане, пообедали, выпили кофе.
Увидев вывеску ювелирного магазина, Андрей сказал:
— Давай зайдем.
— Зачем? — безучастно спросила Еля.
— Посмотрим, что тут есть.
Андрей медленно прошелся вдоль покрытых стеклом прилавков.
— Покажите, пожалуйста, это кольцо, — сказал он продавцу.
Продавец вынул золотое колечко с красным рубином.
— Еля, примерь, — сказал Андрей.
Еля слегка смутилась, отодвинулась от прилавка:
— Что ты выдумал?
— Вы напрасно, дамочка, — сказал продавец, — кольцо хорошее, старинной работы. У нас редко такие бывают.
Андрей стал настаивать, Еля примерила кольцо. Оно оказалось ей в самый раз.
— Получите деньги, — сказал Андрей.
Выходя из магазина, Еля слабо сжала его локоть:
— Спасибо, дорогой муж…
Уже после полудня, оказавшись далеко от центра города, они увидели зелень деревьев за высокой каменной оградой, а над деревьями церковный купол.
Еля остановилась, тронула руку Андрея.
— Андрюша, ты помнишь, о чем нас просила мама? — сказала Еля. — Давай выполним ее просьбу, мы ведь обещали ей. Слышишь? Давай зайдем.
— Но за это надо платить, а у нас не хватит денег, — сказал Андрей, — часть денег осталась у отца.
— Ничего, хватит. Пойдем! — В голосе Ели послышались умоляющие нотки. — Мама перед нашим отъездом дала мне на счастье одиннадцать серебряных рублей. Они здесь, со мной, в сумочке. На, возьми их, и пойдем, пожалуйста. Я никогда в жизни не обманывала маму. Пойдем, я никому об этом не скажу…
Она вынула из сумочки тяжелые рубли, переложила их в карман Андрея. Андрей подумал, вздохнул:
— Хорошо, пойдем..
У ворот ограды они увидели старика в черном подряснике. Глаза у него слезились, он был горбат, хром и пьян.
— Скажите, здесь могут нас обвенчать? — спросил Андрей, досадуя и злясь на себя.
Старик посмотрел на Андрея, на Елю, ухмыльнулся, почесал редкую бороденку:
— Здесь, молодой человек, все могут сделать. Мы и венчаем, и крестим, и хороним. Пойдемте, я вас провожу.
Хромой старик, припадая на левую ногу и оглядываясь, повел Андрея и Елю за собой. И только когда они вошли во двор, Андрей понял, что оказались они на каком-то кладбище. Вокруг, сколько видел глаз, белели осененные густыми кронами деревьев кресты и памятники. У церковной паперти, прямо на земле, стоял открытый гроб с покойником, а над гробом голосила кучка одетых в черное женщин.
Старик обошел гроб, через боковую дверь завел Андрея и Елю в церковь и усадил в тесной комнатушке. Через несколько минут, шурша лиловой шелковой рясой, в комнатушку вошел моложавый священник с длинными волнистыми волосами и темной кудрявой бородой. Он поклонился, откинул полы рясы и присел на стул.
— Обвенчаться желаете? — вежливо спросил священник.
— Да, если можно, — сказал Андрей.
Священник посмотрел на него усталыми глазами:
— А где же ваши свидетели?
— Свидетелей у нас нет.
— Понимаю, — сказал священник, — разглашения не желаете.
— Да.
— Без свидетелей венчать не положено, — сказал священник, — даже венцов над вашей головой некому будет держать.
Он полистал бумаги на столе, снова мельком взглянул на Андрея:
— Вы небось в бога не верите?
— Нет, не верю, — сказал Андрей.
— Зачем же вам венчаться в церкви?
— Мы исполняем чужое желание.
— Нас мать просила об этом, — робко сказала Еля.
— А мать верующая?
— Да.
Священник поднялся, пригладил волосы:
— Ну что ж, пойдемте. Обойдемся без свидетелей. А что до веры или неверия, то это дело совести, молодые люди…
Они вошли в церковь. Там не было никого, кроме хромого дьячка, который возился у низкого столика. Сильно пахло воском и ладаном. Перед темными иконами тускло горели лампады. Пока священник надевал в алтаре ризы, дьячок стал что-то гнусавить нараспев. Андрей, стоя рядом с Елей перед аналоем, разбирал только отдельные фразы: «в третий день брак бысть в кане галилейстей…», «якоже вкуси архитриклин вина бывшаго от воды и не ведяше откуду есть…», «се сотвори начаток знамением Иисус…».
Когда в дверях показался одетый в ризы священник, дьячок сунул в руки Андрею и Еле горящие свечи, надел им на головы позолоченные венцы. Взглянув на Андрея, Еля чуть не прыснула от смеха. Священник посмотрел на нее строго, спросил у Андрея и Ели их обоюдное согласие на брак, повел за собой вокруг аналоя, быстро и невнятно бормоча. Потом он произнес громко:
— Венчается раб божий Андрей и раба божья Елена…
Перекрестившись, священник торжественно проговорил давно заученные слова:
— Поздравляю вас с законным браком. Живите счастливо. Помните, что брак есть таинство, в котором через молитвы и благословение низводится на сочетающихся мужа и жену благодать, скрепляющая и освещающая союз их для взаимного вспоможения. Как сказано в святом евангелии, еже убо бог сочета, человек да не разлучает…
Оставив торжественный тон, священник сказал обычным своим голосом:
— Пройдите туда, где вы были, я сейчас приду.
В маленькой комнатушке Андрей выложил из кармана на стол счастливые Еленины рубли. Священник зашел, скользнул взглядом по деньгам, сказал:
— Спаси вас Христос. Можете идти.
Выйдя на воздух, Андрей и Еля чуть не бегом кинулись вон из ограды. Они долго шли молча, потом Андрей задумчиво сказал:
— Раститеся и множитеся и наполните землю. Слышала, раба божья Елена? Тайна сия велика есть. Оно, конечно, торжественнее, чем постная физиономия загсовской девицы с флюсом, а в общем один черт. Если люди разлюбят друг друга, тут не поможет никто. — Он взял Елину руку: — Словом, можешь дать матери телеграмму, что мы ее просьбу честно выполнили…
Ни Дмитрию Даниловичу, ни Гоше они, конечно, ничего не сказали.
На следующий день дальневосточный экспресс увез их всех из Москвы. И тут, в дороге, Андрею Ставрову пришлось пережить первую в его семейной жизни глубокую обиду и злую ревность, вызванную Елей. Ехали они в купированном вагоне, занимая вчетвером отдельное купе. Еля и Дмитрий Данилович, как старший, расположились на нижних полках, а Андрей с Гошей — на верхних. В первые дни все шло хорошо: Еля с Андреем и с Гошей читали рассказы Гофмана, которые с трогательной надписью на обложке подарил Еле на прощание ее робкий, незадачливый поклонник Мишенька Фишер, подолгу сидели у открытого окна вагона, любуясь лесами. Дмитрий Данилович отсыпался или уходил в соседнее купе играть в карты.
В соседнем купе ехали трое военных-дальневосточников. Не зная, куда себя девать от безделья, они составили вместе с Дмитрием Даниловичем компанию и целыми днями резались в преферанс. Четвертым пассажиром в этом купе был немолодой мужчина, одетый в черную сатиновую косоворотку, измятые брюки и модные, но потертые туфли. У него были правильные черты лица, крупный, породистый нос. Подернутые мутью глаза и запах коньяка выдавали причину его беспрерывного хождения в вагон-ресторан.
В ресторане он и подсел к Андрею и Еле, хотя свободных столов было много. Кроме бутылки коньяка и двух лимонов, он ничего не заказывал. Когда официантка принесла коньяк, он налил три рюмки и две из них подвинул Андрею и Еле.
— Мне будет очень приятно, если я получу разрешение выпить за здоровье замечательной русской красавицы, — сказал он, плотоядно посматривая на Елю. Голос у него был хриплый, но хорошо поставленный, с низкими бархатными интонациями.
Андрей промолчал, а Еля улыбнулась:
— Благодарю вас, но я не пью.
— Простите, мне следовало назвать себя, мы ведь едем с вами в одном вагоне, — сказал обладатель бархатного баритона. — Моя фамилия Вейганд-Разумовский, я артист драматического театра.
— Очень приятно, — ответила Еля.
— Сейчас меня пригласили на гастроли в Читу, — продолжал Разумовский, через стол наклоняясь к Еле, — и, вы поверите, я с такой неохотой покинул Москву! Дорога долгая, скучнейшая, ни одного интересного собеседника. Да и Чита — такое захолустье!
Выпив еще стопку, Разумовский брезгливо обсосал лимон.
— Вы, пардон, замужем? — спросил он у Ели, не сводя с нее глаз.
— Замужем, — оказала Еля.
— А молодой человек, конечно, ваш супруг?
— Нет, — неожиданно сказал Андрей, — я друг ее мужа.
— Ах, вот как! — радостно удивился Разумовский. — Как же вы удерживаетесь от искушения предать вашего друга, находясь в обществе такой очаровательной женщины? Я бы не выдержал, честное слово.
Еля недоумевающе посмотрела на Андрея, но ничего не сказала.
А Разумовский, потягивая коньяк, уже с апломбом говорил о театре Мейерхольда, о Таирове, о музыке, сыпал фамилиями известных актеров, причем по его рассказам выходило, что все они его закадычные друзья, не раз пили с ним вместе, и он называл их Юркой, Ванькой, Васькой, Машенькой, Люсенькой.
Андрея при этом поразило не столько то, как все это рассказывал Разумовский, сколько то, как его, этого откровенного бабника и пошляка, слушала Еля. Она превратилась в сплошное внимание, улыбалась, задавала Разумовскому вопросы, а самое главное, услышав похвалы пьянеющего актера по своему адресу, сразу изменилась. Заблестели ее глаза, подчеркнуто плавными, какими-то немного театральными стали жесты, зарумянились щеки, даже голос стал другим. Взбешенный Андрей поднялся с места.
— Я пойду! — бросил он Еле и ушел не оглядываясь.
Забравшись на полку, Андрей лег, отвернувшись лицом к стене. «Сейчас она придет, — подумал он о Еле, — но я не могу, не хочу с ней разговаривать». Однако Еля не шла. Мирно похрапывал на своей полке Гоша. Из соседнего купе доносился голос Дмитрия Даниловича. Потом поезд остановился, и Андрею показалось, что стоит он очень долго. Подождав немного, Андрей вышел из купе.
— Почему стоим? — спросил он у проводника.
— Говорят, где-то впереди сошел с рельсов товарный поезд, — сказал проводник.
— И долго мы будем ждать?
Проводник отложил тряпку и веник, посмотрел на часы:
— С полчаса еще простоим. Пассажиры почти что все вышли, цветы собирают.
Андрей опустил окно. Поезд стоял на лугу. Неподалеку от железнодорожной насыпи поблескивала речушка. Уставшие в дороге пассажиры разбрелись по лугу: одни рвали невзрачные, припаленные солнцем цветы, другие прохаживались в пижамах и халатах. Почти рядом с вагоном стояла Еля. К ней подходил Разумовский с цветами в руках. Отодвинувшись от окна, Андрей прислонился спиной к двери купе, но бархатный актерский голос Разумовского он услышал.
— Никакой верности в семейной жизни не бывает, — поучал Елю Разумовский, — это лживые выдумки попов и поэтов. Все мужчины и женщины изменяют друг другу, и я не вижу в этом ничего дурного. Прекрасна только любовь, не зависящая от брака. Но и она не вечна. Вы, милая моя красавица, не преминете убедиться в этом… Я вот расстался с шестью женщинами. Одни оставляли меня, других я оставлял, а измены у нас были на каждом шагу. Но именно в этом и заключается прелесть жизни…
— Только в этом? — спросила Еля.
Разумовский засмеялся своим наигранным сценическим смехом:
— Не только в этом. Древний мудрец сказал: ин вино веритас — истина в вине. Вино и женщины — вот в чем счастье. О! Вы, милочка, не представляете, какое наслаждение — выпить крепкое, дурманящее вино и прикоснуться горячим ртом к груди…
— Простите, мне надо идти, — сказала Еля.
Когда Еля, а следом за ней Разумовский показались в проходе вагона, Андрей не тронулся с места. Он стоял бледный от бешенства, заложив руки за спину, изо всех сил стараясь сдержать себя.
Взглянув на Андрея, Еля тоже побледнела.
— Мы собирали цветы, — сказала Еля, силясь улыбнуться.
— Я вижу, — сквозь зубы процедил Андрей.
Он вырвал из Елиных рук пучок цветов, вышвырнул их за окно, подошел к Разумовскому, с ненавистью посмотрел на его чисто выбритый подбородок, на мутные, в красных прожилках глаза.
— А вам, любитель вина и женщин, — задыхаясь от злобы, тихо сказал Андрей, — я советую немедленно, пока стоит поезд, перебраться в другой вагон…
Ничего не ответив, испуганный актер забежал в свое купе, рывком захлопнул за собой дверь.
— Давай выйдем, — сказал Андрей Еле.
— Поезд сейчас пойдет, — с тревогой в голосе проговорила Еля.
— Ничего, успеем.
Выйдя из вагона, они медленно пошли к паровозу.
— Что это значит? — Андрей остановился, сунув руки в карманы.
Еля отступила на шаг.
— Боже! Ты посмотри, какое у тебя лицо! Я тебя боюсь!
— Я тебя спрашиваю: что это значит? — повторил Андрей.
— Как тебе не стыдно? — сказала Еля. — Сам придумал в ресторане какую-то комедию, оставил меня наедине с этим пьяным нахалом, а теперь придираешься?
— Но тебе, видимо, было очень приятно с этим нахалом?
— А что я должна была делать, когда ты заявил, что я не твоя жена, сорвался и убежал? Сказать, что мой муж пошутил, и повторить твою глупую выходку?
— Хорошо. Но я не представляю, как можно было чуть ли не целый час выслушивать гнусные пошлости циника и прощелыги? И потом, это твое кокетство в ресторане. К чему оно? И перед кем? А ведь ты вся преобразилась. Прямо как конь, заслышавший боевую трубу. Неужели тебе непонятно, как ты обижаешь и ранишь меня этой легковесной и глупой игрой?
Заметив в Елиных глазах слезы, Андрей сразу сник. Слез он не выносил.
— Ну ладно, — виновато сказал Андрей, — прости меня за грубость. Но я тебя так люблю, что впору голову потерять.
Он поцеловал Елю, а она легонько потрепала его волосы:
— Ревнивец противный…
Успокоившись, они пошли к своему вагону. Мимо них, с раздутым, потертым портфелем под мышкой и чемоданчиком в руках, пробежал Вейганд-Разумовский. От Ели и Андрея он отвернулся.
Больше Андрей с Елей не ссорились. Они целыми днями стояли у открытого окна вагона, и Андрей рассказывал своей молодой жене обо всех местах, которые они проезжали, угощал ее байкальским омулем, на остановках бегал за шоколадом.
— Ты только не скучай, Елка, — говорил он, прижимаясь к Еле. — Вначале ты, конечно, будешь тосковать, вспоминать родных, подруг, город, а потом привыкнешь. У нас там хорошо: народ крепкий, добрый, живет дружно, а природа такая, что залюбуешься. Работать мы будем вместе, институт ты закончишь, надо только верить в свои силы…
На упрятанную в тайге станцию они приехали рано утром. Их встречали Роман, Федя и Каля. После радостных восклицаний, объятий и поцелуев вещи погрузили на телегу и подъехали к пристани, где стоял у причала маленький, сердито пыхтящий катер с низкой закопченной трубой…
— Ну, милая моя женушка, теперь, можно сказать, мы почти дома, — обнимая Елю, сказал Андрей.
Похлопывая плицами, катер медленно шел по реке против течения. За его бортами, слева и справа, зеленой стеной высилась темная, густая, исполненная сурового величия, дикая, пугающая своим вечным безмолвием тайга.
2
30 января 1933 года президент Германии престарелый фельдмаршал Гинденбург после секретных, длившихся месяцами переговоров с фактическими хозяевами страны монополистами-миллионерами подписал указ о том, что канцлером республики назначается вождь германской национал-социалистской рабочей партии Адольф Гитлер.
Тот извилистый, опасный, полный лжи и тайных махинаций путь, до которому вели страну верные слуги всесильного капитала и жаждавшей реванша за поражение в мировой войне военщины Генрих Брюнинг, Курт Шлейхер и Франц Папен, привел наконец к власти того, кто должен был начать «новую эру» и привести Германию к господству над всем миром, — «богемского ефрейтора» Адольфа Гитлера.
Во главе семидесятимиллионного народа, давшего миру столько великих людей — замечательных ученых, философов, композиторов, поэтов, инженеров, — народа честного, трудолюбивого, мужественного, стал человек, которому в истории дано было сыграть самую мрачную, самую кровавую и самую подлую роль.
Рано утром в дом доктора Курбаха, где уже больше года жил женившийся на Ингеборг Юрген Раух, прибежал его двоюродный брат Конрад Риге и еще с порога закричал:
— Собирайтесь, друзья! Приказано всем ехать в Берлин, чтобы приветствовать фюрера Гитлера. Наконец-то мы добились своего. Теперь нас никто не остановит.
— О, как долго мы все ждали этого дня! — взволнованно сказала Ингеборг. — Я уверена, что фюрера будет приветствовать каждый честный немец. Не сомневаюсь в том, что Берлин увидит незабываемое, грандиозное зрелище…
Зрелище действительно получилось грандиозным. Вечером 30 января все примыкающие к Вильгельмштрассе берлинские улицы были запружены манифестантами, а мимо президентского дворца с пылающими факелами в руках непрерывным потоком двигались стройные, четко отбивающие шаг колонны штурмовиков, эсэсовцев, нацистских организаций столицы. Над колоннами, озаренные пламенем бесчисленных факелов, реяли багряные знамена с большим белым кругом и черной свастикой — равноконечным крестом с загнутыми концами, таинственный герб нацизма, символ «чистоты расы» и «грядущего господства германцев»…
Наверху, у распахнутого настежь дворцового окна, стояли двое: согбенный от старости президент Гинденбург и новый правитель Германии рейхсканцлер Адольф Гитлер. Дряхлый президент равнодушно смотрел на людские толпы внизу, изредка кивал трясущейся головой, а торжествующий фюрер — ему не так давно пошел сорок первый год — зорко следил за своими верными преторианцами и, приветствуя их, резко вскидывал руку.
В одной из колонн, представляющих на торжестве Мюнхен, город, с которым была неразрывно связана молодость нового рейхсканцлера, где он двенадцать лет назад заложил основы национал-социалистской партии, шагали Юрген Раух, Ингеборг и Конрад Риге.
Заметив среди колеблемых ветром знамен флаг с гербом Мюнхена, Гитлер оживился и, высунувшись из окна, стиснул руки и замахал ими, подчеркивая свою близость к этому милому его сердцу городу.
А колонна внизу бесновалась, ревела, вздымала вверх факелы, и над улицами громовыми перекатами несся тысячеголосый крик:
— Слава великой Германии!
— Гитлеру сла-а-ава!
— Хайль Гитлер!
— Хайль фюрер!
После возвращения в Мюнхен у Юргена Рауха было отличное настроение. Все шло хорошо. Он с наслаждением покинул скучную аптеку дяди Готлиба, чтобы никогда в нее не возвращаться. Своему угрюмому молодому помощнику Гансу Мауру Юрген на прощание сказал:
— На этом, Ганс, моя карьера фармацевта заканчивается. Ну ее к черту! Хватит. Теперь, когда мы взяли власть, надо думать о другом.
— О чем же, герр Юрген? — спросил Ганс, не поднимая головы от фаянсовой чашечки, в которой он помешивал какое-то снадобье.
— О многом. Фюрер поставил перед нами великие задачи, — сказал Юрген. — Надо очистить Германию от коммунистической заразы, от еврейского засилья, от социал-демократической слякоти, от всего, что путается у нас в ногах и мешает нам занять достойное место в мире.
— Да, вас, герр Юрген, ждет большая работа, — странно усмехаясь, сказал Ганс Маур, — на такой работе можно, пожалуй, надорваться…
Не заметив издевательского тона Маура, Юрген похлопал его по плечу:
— Поверьте, Ганс, Германия сейчас накануне великих событий…
«Великие события» не преминули развернуться в самое ближайшее время.
В ночь на 28 февраля никем не замеченная небольшая группа людей собралась в берлинском доме, который занимал председатель рейхстага Герман Геринг. Из этого дома в здание рейхстага вел подземный ход служебного назначения. Дождавшись часа, когда ночной Берлин притихает, группа людей с банками бензина и клочьями ветоши в руках опустилась в подземный ход и оказалась в огромном подвале под рейхстагом. Группу вел депутат рейхстага обер-лейтенант Гейнес, доверенный человек Геринга…
После полуночи рейхстаг запылал. Горели стены огромного здания, горел зал заседаний, пламя и клубы черно-багрового дыма пробивались сквозь высокий круглый купол. К горящему рейхстагу со всех сторон помчались полицейские и пожарные машины. Стали сбегаться перепуганные полуодетые люди. В одном из залов рейхстага полиция обнаружила единственного, спрятавшегося от огня молодого человека с дегенеративным лицом, подслеповатыми глазами и отвисшим от страха подбородком. Когда полицейские надели на него наручники и стали здесь же, в горящем здании, поспешно допрашивать, он назвал себя Маринусом ван дер Люббе, членом Коммунистической партии, и, дрожа всем телом и запинаясь, заявил, что поджег рейхстаг по приказу своих партийных руководителей.
Прибывший на место пожара рейхсканцлер Гитлер громко заявил:
— Это — перст божий. Теперь никто не помешает нам железным кулаком уничтожить коммунистов…
Уже к утру все нацистские газеты вышли с сенсационным сообщением «Коммунисты подожгли рейхстаг!» и с призывом «покончить с поджигателями-коммунистами…». В этот же день чрезвычайным декретом президента Гинденбурга были отменены все права немецких граждан, предоставленные Веймарской конституцией, ликвидированы неприкосновенность личности, свобода слова и собраний. Все коммунистические и социал-демократические газеты были немедленно закрыты.
Начались повальные аресты. Днем и ночью по улицам городов носились автомобили с одетыми в штатское агентами тайной полиции и вооруженными эсэсовцами. Через три дня после пожара в рейхстаге был арестован и брошен в одиночную камеру тюрьмы вождь немецких коммунистов Эрнст Тельман. Был схвачен бывший в Берлине проездом болгарский коммунист Георгий Димитров, которому предъявили обвинение в поджоге рейхстага. В течение нескольких дней под тюремным замком оказалось свыше десяти тысяч человек, но волна арестов не спадала. Хватали и увозили всех: коммунистов, социал-демократов, католиков, бывших министров и депутатов рейхстага, рабочих, адвокатов, ученых.
Нацистские руководители стали готовить грандиозный судебный процесс. Однако мировая общественность насторожилась в связи с появлением данных, непосредственно связанных с поджогом рейхстага: стало известно, что дом Геринга и рейхстаг, куда извне не могли проникнуть никакие поджигатели, соединялись подземным ходом; главный обвиняемый ван дер Люббе утверждал на следствии, что он поджигал рейхстаг один, а полиция успела сообщить, что в подвале ею было обнаружено большое количество зажигательных материалов и что пожар вспыхнул в нескольких местах одновременно; Коммунистическая партия Германии опубликовала специальное заявление, в котором прямо говорилось, что против террора — убийств, поджогов и т. п. — всегда выступали все коммунисты мира.
Важные сведения начали поступать от отдельных людей, которым штурмовики тотчас же заткнули рот. Берлинский врач Белл, который, как стало известно позже, свел ван дер Люббе с нацистами, сказал приятелям в одном из клубов, что он знает точно, кто поджег рейхстаг. Вскоре доктор Белл был убит штурмовиками. Некий «прорицатель» Гануссен, связанный дружбой с руководителем берлинских штурмовиков графом Гельдорфом, стал «предсказывать» пожар в рейхстаге значительно раньше, чем это произошло. Через несколько недель труп Гануссена был найден в сосновом бору близ Берлина.
Наконец, один из влиятельных нацистов доктор Оберфорн, выступавший против подобных средств борьбы, даже написал «меморандум», копию которого удалось перехватить одному из европейских корреспондентов.
«Агенты господина Геринга, — писал Оберфорн, — под предводительством депутата рейхстага Гейнеса, главы силезских штурмовиков, прошли через подземные коридоры центрального отопления и через подземный ход из дворца Геринга в здание рейхстага. Каждому штурмовику было точно указано место его работы. Накануне была устроена генеральная репетиция. Ван дер Люббе шел пятым или шестым. Дело было сделано в несколько минут. Тем же путем, которым они пришли, поджигатели вернулись назад. В здании рейхстага остался один только ван дер Люббе…»
Доктора Оберфорна постигла участь Гануссена и доктора Белла — он был зверски убит «неизвестными лицами».
Конрад Риге в последнее время стал реже бывать у своего двоюродного брата. Юрген с помощью влиятельной жены был зачислен на военные курсы и, живя в казарме, мог приходить домой только по субботам. Сама Ингеборг, не порывая с штурмовым отрядом, работала в небольшом музее живописи и появлялась дома после пяти часов вечера.
Но в день рождения отца Ингеборг, доктора Зигурда Курбаха, все они собрались. Доктор служил юристом в учреждении, которое безобидно именовалось «Транспортное бюро», а в действительности ведало заключением сделок с заграничными концернами на поставку Германии оружия. Поэтому вечером в доме Курбаха собралось весьма респектабельное общество, главным образом друзья доктора по «Транспортному бюро».
После легких закусок и обычных в таких случаях тостов гости заговорили об арестах, о бегстве из Германии многих ученых и художников. Лысый, сморщенный старик в роговых очках, один из хозяев «Транспортного бюро» Якоб Фалль, сказал, дымя сигарой:
— Все это к лучшему, господа. Опасное соседство с такой страной, как Советский Союз, заставляет нас разделаться с коммунистами любыми способами, иначе мы окажемся перед национальной катастрофой.
— Однако массовые аресты, насколько мне известно, производят очень неприятное впечатление за границей, — сказал доктор Курбах. — Туда просочились слухи — я не знаю, насколько они соответствуют истине, — что у нас арестованных пытают и добиваются их показаний самыми непозволительными методами.
Господин Фалль пренебрежительно махнул рукой:
— Это неумный вымысел наших врагов, я не верю в подобные враки. У нас умеют соблюдать законность.
Все время молчавший Конрад Риге слегка подтолкнул Юргена:
— Ты тоже не веришь, кузен?
— Я просто не думал об этом, — сказал Юрген.
Конрад был пьян. Он наклонился к Юргену и прошептал:
— Завтра воскресенье. Если хочешь, пойдем со мной в наше заведение, я тебе продемонстрирую эту «законность». Тебе следует укреплять нервы, а это помогает…
Гости засиделись до полуночи. Все они хвалили Гитлера, дамы восторгались красавцем Герингом, вспоминали о его подвигах, которые принесли ему славу одного из лучших летчиков Германии.
Когда под окном коротко и резко просигналил автомобиль, Конрад сказал Юргену:
— Знаешь что? Пойдем сейчас. Ты увидишь удивительные штуки.
Юрген тоже опьянел. Предупредив Ингеборг, он оделся и вышел вслед за Конрадом. Одетый в форму штурмовика шофер доставил их к большому, слабо освещенному дому. У входа прохаживался вооруженный штурмовик в каске. Узнав Конрада, он пропустил их с Юргеном в дом. Они поднялись на второй этаж, прошли по длинному коридору. Вдоль стен коридора темнели двери. За дверями Юрген услышал шум, грохот, истошные крики.
— Мальчики развлекаются, — скверно усмехнувшись, сказал Конрад.
Он привел Юргена в крайнюю комнату, включил свет. В комнате, кроме стола и двух стульев, ничего не было, только в стене, под самым потолком, торчало толстое железное кольцо, а на полу лежала веревка. Конрад снял плащ, пиджак и остался в белой сорочке с галстуком. Галстук он распустил, а ворот сорочки расстегнул.
В комнате появился здоровенный штурмовик.
— Этого, Карла Гейера, — сквозь зубы сказал Конрад. Он поставил один из стульев в угол, кивнул Юргену: — Садись сюда. Только, пожалуйста, молчи и не мешай мне. Сейчас увидишь Карла Гейера, композитора. Он последние два года якшался с коммунистами, а дочь его вышла замуж за еврея-ювелира, который где-то прячется и успел, негодяй, припрятать все свои ценности.
Сопровождаемый штурмовиком, в комнату вошел человек маленького роста, с длинной седеющей шевелюрой. Он был босиком, в одном измазанном кровью белье. Один его глаз затек и слезился.
— Здравствуйте, Гейер, — не повышая голоса, сказал Конрад. — Как вы себя чувствуете? Судя по вашему виду, неважно, не так ли?
Арестованный молчал, испуганно и покорно глядя одним глазом на Конрада. Конрад подошел к нему ближе, спросил так же негромко:
— Ну что ж, Гейер, скажете вы наконец, где находится ваш зять Георг Левит?
— Я не знаю, господин следователь, — с трудом разжимая опухшие губы, сказал Гейер. — Я уже говорил вам, что Георг шестого марта уехал в Гамбург и больше не возвращался.
— А куда он дел все золото из магазина?
— Не знаю, господин следователь.
Конрад медленно открыл ящик стола, достал никелированный кастет и подошел к арестованному:
— Не знаешь, большевистский выродок?
Сильно размахнувшись, Конрад ударил арестованного в бок. Гейер, коротко вскрикнув, упал. К горлу Юргена подступила мучительная тошнота. Он прижал к губам платок и отвернулся.
— Ну-ка, Христоф, подвяжи эту скотину да подними его повыше! — крикнул Конрад штурмовику. — У него, должно быть, все мысли в задницу ушли, верни их в голову!
Штурмовик быстро и ловко затянул ноги Гейера веревочной петлей, другой конец веревки продел в кольцо и стал подтягивать арестованного вниз головой к потолку. Гейер уже не кричал, только пальцы его опущенных рук конвульсивно вздрагивали.
— Оставь, Конрад, — глухо сказал Юрген. — Слышишь? Сейчас же прикажи увести его…
Прищурив глаза, Конрад с презрением посмотрел на него:
— Что? Неприятно, дорогой кузен? Мне тоже неприятно, но я обязан выполнять эту черную работу во имя великой цели. Понятно? — Круто повернувшись, он сказал штурмовику: — Уведи его к черту, а ко мне доставь эту стерву, Эмму Левит.
Арестованный не мог идти, штурмовик поволок его на себе. Юрген долго молчал, глядя в пол. Сильно затягиваясь дымом сигареты, Конрад шагал по комнате.
— Я этого не приемлю и не понимаю, — сказал Юрген.
Конрад достал из ящика стола начатую бутылку коньяка, стакан, стал наливать коньяк. Руки его дрожали. Он залпом выпил, налил Юргену:
— Пей и не философствуй… Философия тут простая: или они нас, или мы их, вот и все.
Тот же невозмутимый штурмовик ввел в комнату молодую, опрятно одетую женщину в шляпе и темном платье. Конрад подвинул ей стул.
— Садитесь, фрау Левит, — сказал он, не спуская глаз с женщины. — Если вы и сегодня не скажете, где изволит обретаться ваш муж, я вынужден буду применить иные методы воздействия на вас…
— Местопребывание моего мужа мне неизвестно, — довольно спокойно ответила женщина. — Он уехал, не сказав мне ни одного слова.
— А где его товар? Где золото? Тоже не знаешь, шлюха?! — крикнул Конрад. Он шагнул к женщине, сорвал с нее шляпу и ударил шляпой по лицу.
— Как вам не стыдно?! — закричала женщина.
Ударом ноги Конрад выбил из-под нее стул. Женщина упала.
— Касторку! — крикнул Конрад.
Штурмовик достал из стола бутылку чуть поменьше той, которая стояла на столе с недопитым коньяком. Сев на извивающуюся на полу женщину, он сдавил ей щеки и закрыл нос огромной ручищей, а другой стал вливать в рот касторку. Касторка булькала во рту хрипящей женщины, проливалась на пол.
— Скажешь? Скажешь? Скажешь? — рычал штурмовик, раздирая рот женщины бутылкой и засовывая ее все глубже и глубже. — Говори, сука! Говори! Говори!
— Хватит! — сказал Конрад.
Штурмовик поднялся, вытер платком руки, потный лоб. Женщина лежала неподвижно. Из ее открытого рта тонкой струйкой текла касторка.
— Проводи меня, я больше не могу, — еле ворочая языком, сказал Юрген. Не дожидаясь Конрада и не оглядываясь, он бросился из комнаты и захлопнул за собой дверь.
Солнечным майским днем Юрген с женой поехали в Берлин, где Ингеборг нужно было обменять какие-то гравюры для мюнхенского музея. Настроение у Ингеборг было отличное: теплый день, удачно сшитое новое платье, только вчера неожиданно полученный от Конрада Риге дорогой подарок — золотой браслет с крупными сапфирами, которые так чудесно гармонировали с золотистой косой Ингеборг, — все это радовало ее, и она всю дорогу улыбалась, весело болтала с пассажирами битком набитого вагона.
А на душе Юргена скребли кошки. После той ночи, когда Конрад показал ему свою «работу» и он увидел жестокие и гнусные пытки, которым подвергались арестованные, и понял, что это не единичный случай, а массовый, не имеющий никаких границ террор, Юрген места себе не мог найти. Нет, он не разочаровался в том «великом движении» национал-социализма, которое было возглашено Гитлером, он даже был уверен в том, что с коммунистами надо беспощадно расправиться, но как будет выглядеть эта расправа на практике, Юрген не хотел думать. Во всяком случае, он полагал, что самое большее, чем можно остановить коммунистов, это отделить их от народа и на какое-то время заключить в лагерь, а особенно рьяных и активных лишить гражданства и навсегда выслать из страны. Однако то, что Юрген увидел в служебной комнате Конрада, потрясло его.
Сейчас, поглядывая на украшавший тонкую руку Ингеборг золотой браслет, Юрген думал с горечью: «Откуда у Конрада такие вещи? И не принадлежал ли этот дорогой браслет с синими, как небо, сапфирами несчастной Эмме Левит или такой же, как она?»
Юрген опустил голову, задумался. Аресты продолжались по всей Германии. Уже давно были заполнены все тюрьмы, казармы штурмовиков, все, что можно было заполнить обезумевшими от страха и отчаяния людьми, а их каждую ночь везли и везли тысячами. Совсем недавно рейхстаг издал закон о наделении правительства Гитлера чрезвычайными полномочиями. Упразднена была Веймарская конституция. Все партии, кроме национал-социалистской, запрещались. Все профсоюзы были разогнаны, их руководители арестованы. Вместо профсоюзов правительство организовало «Германский трудовой фронт», куда обязаны были вступить все без исключения рабочие…
Наблюдая за мужем, Ингеборг заметила его подавленность и спросила:
— Что с тобой, Юрген?
— Ничего, — уклончиво ответил Юрген, — я просто устал…
В Берлине, увидев, что толпы людей спешат к оперному театру, Ингеборг увлекла Юргена за собой. Вначале они не понимали, что там должно произойти, а потом хмурая старуха объяснила им:
— На площади возле оперы жгут книги.
— Какие книги? — удивленно спросил Юрген.
— Всякие, — на ходу сказала старуха и, опираясь на зонтик, заспешила дальше.
На широкой площади между оперным театром и университетом, оцепленной вооруженными штурмовиками, пылал огромный костер из книг. Грузовые автомобили один за другим приближались к костру, а молодые, похожие на студентов парни, не сходя с автомобилей, с веселым ревом бросали в костер новые связки книг. Блистая трубами, на которых играли отсветы пламени, духовой оркестр играл бравурные марши. Штурмовики и студенты кричали: «Хайль Гитлер!» Вокруг площади стояли несметные толпы людей.
Но вот цепь штурмовиков расступилась, оркестр умолк. На площади показался сверкающий черным лаком роскошный «мерседес». В открытом автомобиле стоял маленький человечек с бледным лицом и гладко зачесанными назад волосами над высоким, словно срезанным, лбом. Вокруг зашептали: «Доктор Геббельс, доктор Геббельс».
Черный «мерседес» остановился неподалеку от костра. Какие-то люди в комбинезонах подтащили к автомобилю микрофон с проводами. Толпа затихла.
— Граждане Германии! — спокойно и деловито сказал Геббельс. — Сейчас на одной из центральных площадей Берлина происходит событие, имеющее важное историческое значение… Мы, немцы, очищаем себя от идеологической инфекции, которая многими десятилетиями вредила нам, лишала нас воли, а нашу великолепную молодежь превращала в жалких либералов-хлюпиков. Эта зловредная инфекция — книги Карла Маркса, так называемых марксистов и чуждых нам писателей, которые поставили себя на службу анархии и воспевали интеллигентскую дряблость… И мы, очищая себя от скверны, говорим: в костер всю эту нечисть! Предадим ее огню!..
Геббельс кричал еще что-то, но за шумом толпы его не было слышно. А в гигантский костер летели связки книг Маркса и Энгельса, Розы Люксембург и Поля Лафарга, Анри Барбюса и Людвига Ренна, Стефана Цвейга и Томаса Манна, Якова Вассермана и Ярослава Гашека, летели и сгорали в костре известные всему миру произведения Льва Толстого, Максима Горького, Эриха Ремарка, Эптона Синклера… На освещенной пламенем костра площади гремел оркестр и не умолкали крики «хайль Гитлер!»…
Как будто угадывая мысли Юргена, Ингеборг стиснула его локоть и прошептала, оглядываясь:
— Тебе жаль книг? Я вижу это по твоим глазам. Напрасно ты жалеешь эту гадость. Подумай, сколько среди книг бесталанного, серого, грязного дерьма!
— Надеюсь, ты не относишь к этой категории Льва Толстого, скажем, или Ремарка? — так же шепотом спросил Юрген.
— Я читала Толстого! — громко сказала Ингеборг. — Если бы мы следовали его учению, то уже сейчас должны были поднять перед большевиками руки и сдаться…
Она примирительно погладила руку Юргена и, заметив, что на них стали оглядываться стоявшие рядом люди, сказала:
— Пойдем. Мы опаздываем…
Дома Ингеборг принесла из кабинета отца роскошно изданную книгу с золотым тиснением. На титульной странице книги было написано размашистым почерком:
«Доктору З. Курбаху — Адольф Гитлер».
— Эта книга должна заменить все сожженные, — сказала Ингеборг. — В ней все будущее Германии.
Хотя Юрген читал книгу Гитлера «Моя борьба», вечером он стал перелистывать ее. Страницы книги были испещрены на полях карандашными пометками доктора Курбаха. Внимание Юргена привлекла страница, на которой красным карандашом были подчеркнуты многие строки.
«Мы, национал-социалисты, — прочитал Юрген, — сознательно подводим черту под внешней политикой Германии довоенного времени. Мы начинаем там, где Германия кончила шестьсот лет назад. Мы кладем предел вечному движению германцев на юг и на запад Европы и обращаем взор к землям на востоке. Мы прекращаем, наконец, колониальную и торговую политику довоенного времени и переходим к политике будущего — к политике территориального завоевания. Но когда мы в настоящее время говорим о новых землях в Европе, то мы можем в первую очередь иметь в виду лишь Россию и подвластные ей окраинные государства. Сама судьба как бы указывает нам этот путь».
Сбоку этих строк рукой доктора Курбаха было паписано: «Правильно! В пору революционных потрясений, которые тревожат весь мир, Германия должна стать аванпостом борьбы против большевистской России. Как государство Россия подлежит уничтожению…»
Юрген задумался. Это говорилось о стране, в которой он родился, вырос и жил. Там, в России, остались могилы его деда, бабки, матери. Там, в глухой русской деревне Огнищанке, жила сейчас Ганя, спутница его безмятежной юности, первая его любовь… Сердце Юргена заныло. Но он вспомнил страшные для его семьи дни революции, изгнание из Огнищанки, унижение, которое довелось ему там испытать, взял карандаш и написал на полях книги: «Согласен. Так должно быть…»
3
В это тихое, теплое лето в отдаленное, затерянное в тайге Кедрово съехались все Ставровы. Вскоре после возвращения Дмитрия Даниловича и Андрея, который привез свою молодую жену, приехал Александр Ставров с Галей, на которой он недавно женился. Закончив незадолго перед приездом курсы при Наркомате иностранных дел, Александр распрощался с сумкой дипломатического курьера, был назначен в советское посольство во Франции и перед отъездом за границу решил попрощаться с братом и его семьей, а заодно познакомить всех родичей с Галей.
Никто из Ставровых не знал, что все вместе они съехались в последний раз, что суровое, полное важных и значительных событий время вскоре разбросает их в разные стороны, а кое-кто из них уже не вернется никогда.
Александр пробыл в Кедрове всего одну неделю и уехал с женой в Москву. Как-то незаметно, тихо и спокойно поженились Гоша с Калей и тотчас же уехали в Благовещенск. Следом за ними отправился в Ленинград Роман, который по окончании рабфака решил поступать в политехнический институт.
Еля устроилась на работу в местной школе, но занятия еще не начинались, и Андрей с Елей часто гуляли, уходя далеко за поселок. Почти у самого поселка начиналась тайга. На опушке она была редкой, с большими порубками, а дальше становилась гуще и темнее. Кое-где в таежных низинах, перемежаясь с жестким кочкарником, голубели чистые озера. Они совсем не были похожи на то теплое озеро у соснового бора, которое Андрей запомнил навсегда. Прозрачные как хрусталь озера в тайге были очень холодными, купаться в них осмеливались только самые отчаянные парни. Андрей и Еля гуляли по берегам озер, любовались бродившими по отмелям стайками голенастых кроншнепов, собирали цветы. Однажды, когда они, утомившись, лежали в тени под кустом, к ним совсем близко подошел громадный лось. Он постоял, настороженно пофыркивая, а потом, почуяв людей, кинулся в чащу, испугав Елю.
Андрей видел, что Еля скучает, хотя и старается скрыть это. У нее, выросшей в большом городе, любившей музыку, театр, шум людных городских улиц, таежная глушь вызывала тоску и уныние. Не занятая по дому — Настасья Мартыновна возилась в кухне одна, — Еля часто уединялась, часами сидела где-нибудь во дворе с вышивкой в руках или читала, лежа в постели. Она немного оживилась, когда начались занятия в школе, но все же часто говорила Андрею о городе, о том, что нельзя хоронить себя в глуши.
Андрей же чувствовал себя в этой глуши как рыба в воде. Ему приходилось много ездить по колхозам, он уставал, но каждый раз, возвращаясь домой, радостно думал о Еле, представлял, как она ждет его и как будет встречать.
Начался осенний перелет птиц, на озерах появились большие стаи диких гусей и уток, и Андрей по субботам и воскресеньям уходил на охоту в сопровождении своего любимца, рыжего ирландского сеттера Марса. Не очень заботясь о добыче, он любил эти одинокие скитания по тайге, утренние и вечерние зори с их первой осенней прохладой, криком гусиных стай и волнующим шелестом птичьих крыльев в предрассветном небе.
В один из пасмурных сентябрьских дней Андрей незаметно для себя ушел очень далеко от дома, долго бродил вдоль опушки тайги, стрелял, а к вечеру оказался на краю кочковатого болота. Солнце еще не зашло, но вода на болоте уже красновато светилась. Андрей присел отдохнуть и вдруг услышал где-то неподалеку детский плач. Кликнув собаку, он забрался в густые заросли карликовой березы и вышел на узкую, протоптанную в зарослях тропу.
На тропе, широко раскинув босые ножонки и склонив к коленям светло-русую голову, сидела плачущая девчонка лет десяти. Услышав шаги Андрея, она замолкла, испуганно подняла голову. У нее было круглое, скуластенькое лицо, черные глаза, чуть вздернутый конопатый носик. Девочка со страхом и любопытством смотрела то на Андрея, то на дружелюбно махавшего хвостом Марса.
— Ты чего плачешь? — спросил Андрей.
— Да… чего… они сами ушли, а меня бросили, — всхлипывая, сказала девочка.
— Кто?
— Мои сестры.
— А как тебя зовут?
Девочка недоверчиво посмотрела на Андрея, отодвинулась от Марса, который успел лизнуть ей ухо:
— Ната-а-ша.
— Где же ты, Наташа, живешь?
— Там. — Маленькая Наташа махнула рукой в неопределенном направлении.
— А дорогу домой ты знаешь? — спросил Андрей.
— Нет.
Андрей секунду подумал, протянул девочке руку:
— Ладно, Наташа, вставай! Будем вместе искать твой дом.
Девочка опять заплакала:
— Не могу идти… занозила ногу…
Андрей взял ее на руки, поднес к болоту, ополоснул в воде ногу девочки и, вынув из фуражки иглу, которую по охотничьей привычке всегда носил с собой, вытащил занозу.
— Ой, болит! — захныкала девчонка.
Увидев у Андрея трех затянутых ременными удавками фазанов, Наташа перестала плакать, шмыгнула носом.
— Это чего такое? Петухи? — с любопытством спросила она.
— Да, да, петухи, — сказал Андрей. — Иди-ка на руки, и пойдем, а то темнеть начинает.
Неся девчонку на руках, Андрей пошел по тропе. Тропа огибала болото на опушке тайги и вскоре привела к длинному, приземистому бараку лесорубов.
— Вот наша хата! — радостно закричала Наташа.
Барак был разделен на десяток каморок-квартир. Наташа указала Андрею на крайнюю дверь, и он вошел в барак.
В скудно освещенной керосиновой лампой комнате Андрей увидел лежавшую на деревянных нарах, прикрытую старым солдатским одеялом маленькую кареглазую женщину. Девочка была очень на нее похожа, и Андрей сразу понял, что перед ним Наташина мать.
Шевельнув рукой, женщина слабо крикнула Наташе:
— Где ж ты была, бессовестная девчонка? Брат и сестры уже, почитай, часа два тебя ищут.
— Да-а, сами бросили меня, а теперь ищут, — плаксиво сказала Наташа.
Она соскочила на пол, подпрыгивая на одной ноге, добежала до скамьи и смирно уселась у окна.
— Чего это ты захромала? — с тревогой спросила женщина.
— Она занозила ногу, — сказал Андрей, — занозу я вытащил, надо бы ранку йодом залить.
— Откудова его тут возьмешь? — сказала женщина. — Заживет и так. А вам большое спасибо, что доставили Наташку до дому. Я уже бояться за нее стала, гляжу — вечереет, а девчонки нема.
— А вы что, болеете? — спросил Андрей.
— Да вот никак не могу после тифа подняться, — тихо сказала женщина, — думала, богу душу отдам, так меня схватило.
— Давно здесь живете? — спросил Андрей, разглядывая убогую обстановку комнаты — две скамьи, стол, кадушку с водой в углу, закопченный чугунок на плите.
— Скоро год будет, — тяжело вздохнув, сказала женщина. — Переселенцы мы. Жили на Дону, а прошлым летом сюда переселились, думали, что тут легче прокормим детишек. Их у нас пятеро, двое хлопцев да трое девчонок. Вербовщики сулили нам рай: и заработки, мол, на рубке леса хорошие, и харчи самые лучшие, и все такое, а оно видите, как получилось. Мужик мой да старший сын лес рубят, а я тут с четырьмя детьми ладу никак не дам — прямо-таки голова кругом идет…
За окном барака мелькнули тени. В комнату вбежали мальчишка лет тринадцати и две девчонки, чуть постарше Наташи.
— Вот она, паршивка, видали? — закричал мальчишка, кинулся к Наташе, но, увидев сидевшего в углу Андрея, осекся и замолчал.
— Не тронь ее, — сказала женщина, — сами виноваты, а теперь кидаетесь на дите.
Андрей поднялся, посмотрел в окно.
— Совсем стемнело, — сказал он и, повернувшись к женщине, спросил: — Может, можно у вас переночевать?
— Ночуйте, ради бога, — сказала женщина. — Только вы уж нас извините за нашу бедность да неустройство.
Сняв патронташ и отцепив фазанов, Андрей сказал девчонкам:
— Ну-ка, хозяйки, давайте ощиплем этих петушков да поджарим их на сковородке.
Девчонки засуетились, забегали. Только одна Наташа была занята собой: туго натянув руками нитку, она трогала ее языком и, склонив голову, с упоением слушала, как брунжит нитка в ее раскинутых руках.
— Пойди, Поля, набери картошки, — сказала женщина старшей девочке.
Через час в комнате вкусно запахло жареной дичью. Поужинали все вместе, отдав изголодавшемуся Марсу косточки и остатки картофеля. Усталый Андрей улегся, не раздеваясь, на сдвинутых скамьях, но долго не мог уснуть, думая о том, как нелегко еще жить людям, как трудно достается им кусок хлеба и как много еще нужно сделать для того, чтобы все люди жили радостно и хорошо.
На рассвете Андрей покинул барак лесорубов и отправился домой. На болоте, укрывшись в береговом березняке, он сел в засаду, и ему удалось убить пару гусей. Марс послушно отправился за ними и притащил сначала одного, потом другого.
Как только Андрей появился дома, вынул из рюкзака свои охотничьи трофеи и умылся, к нему подошла Еля и шепнула:
— Пойдем к нам в комнату, я хочу тебе что-то сказать.
Андрея поразило странное выражение растерянности и страха на ее лице. С полотенцем в руках он пошел к Еле, плотно притворил за собой дверь.
— Что случилось, Елка? — спросил он.
— Ты знаешь… я беременна, — тихо сказала Еля.
Андрей бросился к ней, закинул ей за спину полотенце, притянул к себе и крепко поцеловал.
— Ай да Елка! Молодец! — крикнул он.
— Подожди, не радуйся, — так же тихо сказала Еля, — дело в том… дело в том, что я не хочу рожать.
— Почему? — с беспокойством спросил Андрей.
— Рано мне еще, лучше подождать. Живем мы с тобой совсем мало, не привыкли друг к другу… Я сделаю аборт.
Андрей взволнованно заходил по комнате.
— Ты что, с ума сошла? Разве ты не знаешь, как вредно отражается аборт на здоровье? К чему эти фокусы?
— Это не фокусы, — едва слышно отозвалась Еля. — Я не хочу детей. Понимаешь? Не хочу, и все.
— Талию боишься испортить? — со злостью сказал Андрей.
— Может быть, не знаю…
— Зато я знаю. Никаких абортов я тебе делать не дам. Нечего глупостями заниматься.
— Это не глупости! Я не хочу в самом начале жизни закабалять себя.
Андрей понял, что Елю не переспорить. В ее глазах, в голосе явно сквозило капризное упрямство, и он решил пойти на хитрость.
— Ладно, — сказал Андрей, — не хочешь, не надо. Я знаю средство, которое сразу избавит тебя от беременности без всяких абортов.
— Какое средство?
— Три капли йода на стакан молока, — уверенно сказал Андрей. — Надо пить через день по стакану, а если не поможет, через месяц повторить.
Еля недоверчиво посмотрела на мужа:
— Откуда это тебе известно?
— Мне рассказывал один знакомый врач. Он так лечил жену нашего заведующего земотделом, — бодро соврал Андрей.
Поверила Еля этому рецепту или нет, но стакан молока с тремя каплями йода она выпивала через день и только месяц спустя, убедившись в том, как подвел ее Андрей, заплакала и сказала:
— Дурак! А я еще большая дура…
Наступила зима. На землю легли глубокие снега. Начались сильные морозы. У одного из знакомых охотников Андрей купил для Ели теплые, красиво отделанные и расшитые меховые унты, ее темно-синее легкое пальто тоже подшили мехом, и она после уроков ежедневно гуляла по улицам поселка, дожидаясь возвращения Андрея с работы. Походка ее отяжелела, ходила она осторожно и медленно, по-утиному переваливаясь. Еля стеснялась этого, но продолжала свои прогулки по настоянию Андрея.
Ее платье, которое так любил Андрей, — шерстяное в крупную клетку, с воротничком из соболя, — стало Еле тесным, она перестала его надевать.
Однажды вечером, лежа на кровати, Еля тихонько вскрикнула, посмотрела на читавшего у стола Андрея и сказала, испуганно и недоуменно улыбаясь:
— Стучит…
— Кто стучит? — не понял Андрей.
Еля положила руку на живот:
— Тут стучит…
Андрей стал на колени, робко и осторожно прикоснулся щекой к тому месту, где лежала Елина рука…
Через несколько дней в судьбе Андрея и Ели неожиданно наступили перемены. Приехавший из Благовещенска представитель областного земельного управления, узнав, что Андрей специализировался в техникуме по садоводству, сказал ему:
— Мы давно ищем инструктора в отдел плодоводства. Так что собирайтесь, товарищ Ставров, и немедленно переезжайте в Благовещенск. А здесь мы вам замену найдем…
— А с квартирой как? — поинтересовался Андрей.
— Квартиру получите, — заверил товарищ из области.
Переезд в город обрадовал молодых Ставровых: это облегчало Андрею сдачу последних экзаменов в сельскохозяйственном институте, а Еле хотелось рожать в городе, так как она очень боялась родов и не доверяла местным поселковым врачам.
Переезд, однако, оказался очень трудным. За несколько месяцев самостоятельной жизни в Кедрове Андрей успел купить столы, стулья, кровати, посуду, все это жалко было бросать. Когда Андрей и Еля добрались на санях до Бурей, загрузив сани своим домашним скарбом, знакомый железнодорожник сказал Андрею, что он тоже назначен в Благовещенск и ему для перевозки семьи и вещей предоставлен товарный вагон.
— Грузите свою мебель в мой вагон, и я вас довезу без всяких пересадок, — сказал железнодорожник. — Через час мы двинемся.
В станционной спешке и суете Андрей не спросил, будет ли товарный вагон отапливаться в пути, погрузил вещи, помог Еле подняться в вагон, а потом жестоко ругал себя всю дорогу. Ночью мороз усилился, стенки вагона покрылись толстым слоем инея, у Ели от холода зуб на зуб не попадал. Развязав узел с одеялами, Андрей укутал Елю, согревал ей руки своим дыханием, ругал на чем свет стоит своего спутника-железнодорожника, который невозмутимо пил из обшитой сукном фляги спирт и уверял плачущую жену и Елю, что скоро покажется Благовещенск…
В Благовещенске Андрею дали хорошую светлую комнату с балконом на четвертом этаже в большом доме, который стоял на самом берегу Амура. Наскоро устроившись, Андрей стал ходить на работу, а вечерами готовиться к экзаменам. Потянулись похожие один на другой дни. Теперь Еле приходилось хозяйничать самой. Она готовила на керосинке незамысловатые обеды, убирала комнату и, хотя ей тяжело было подниматься на четвертый этаж, перед вечером выходила погулять по воздуху.
Наступила весна. На береговом бульваре стали распускаться деревья, вскрылась река, солнце начало прогревать землю. Походив немного, Еля усаживалась на скамью и подолгу смотрела на правый берег по-весеннему мутной, свинцового оттенка реки. На правом берегу Амура, прямо против дома, в котором жили Андрей и Еля, располагался военный лагерь маньчжурского города Сахаляна. Утром и вечером оттуда доносились протяжные звуки горна и даже слышны были голоса людей.
По всему бульвару и дальше, там, где высились длинные штабеля уложенных на берегу бревен, днем и ночью медленно расхаживали молодые советские пограничники в зеленых фуражках. Они тоже смотрели на тот берег, внимательно и зорко следили за рекой. Иногда кто-нибудь из них подсаживался к Еле, укладывал на колени карабин, свертывал махорочную скрутку и, не сводя глаз с мутной реки, заговаривал с Елей, расспрашивал, откуда она, где живет, рассказывал о себе и, вздохнув, поднимался и продолжал непрерывное свое хождение.
Срок родов приближался, и Еля со страхом думала о том дне, когда ей придется лечь в родильный дом. Андрей утешал ее как мог, каждую свободную минуту проводил с ней.
Почти каждый вечер они подолгу сидели на балконе. Отсюда, с высоты четвертого этажа, им хорошо был виден правый берег, и они не раз любовались странным зрелищем на реке. Видимо, жители маньчжурского города Сахаляна время от времени отмечали какие-то свои праздники, с наступлением темноты выходили к Амуру и пускали на воду множество разноцветных фонариков с зажженными свечами. Красные, зеленые, голубые и желтые фонарики медленно плыли вниз по течению, а с правого берега до Андрея и Ели доносилась тихая, мелодичная музыка.
— Красиво! — говорила Еля.
— Красиво, Елка, — соглашался Андрей.
Экзамены Андрея подходили к концу. Он закончил дипломную работу, а в середине июня защитил ее, сдал последний экзамен и с торжеством показал Еле только что полученный диплом о высшем сельскохозяйственном образовании.
— Теперь твой черед, Еля, — шутя сказал Андрей, — посмотрим, как ты выдержишь свой экзамен.
Дотошные сотрудницы земельного управления рассказали Андрею о старинной примете, по которой якобы можно безошибочно узнать, кого женщина родит, мальчика или девочку. Андрей решил проверить эту примету на жене. Придя с работы домой, он закричал с порога:
— Елка, протяни-ка мне обе руки!
— Зачем? — удивилась Еля.
— Так, потом скажу.
Елка протянула Андрею руки.
— Все ясно! — крикнул Андрей. — Протянула ладонями вниз, значит, будет у нас мальчик!
— С чего это ты взял?
— А вот посмотришь, — сказал Андрей. — Будет мальчик, можешь поверить…
Душной июньской ночью у Ели начались схватки. Они были нечастыми, но ни Андрей, ни Еля уже не могли уснуть. Еля стонала, то ложилась, то вскакивала с постели, и Андрей с мучительной жалостью смотрел на ее искаженное страданием, покрытое капельками пота, сразу подурневшее лицо.
— Ну успокойся, Еля… Прошу тебя, успокойся, — бессвязно бормотал Андрей. — Скоро все это кончится, и тебе сразу станет легче…
Еле дождавшись рассвета, он выбежал из дома, долго искал автомобиль или извозчиков, волновался, ругался, обегал все ближние улицы и только на вокзальной площади отыскал дремавшего на линейке старика.
— Поехали, отец, побыстрее! — крикнул Андрей.
Бережно придерживая Елю за талию, он свел ее по лестнице вниз, усадил на линейку и сам сел рядом. Доехали они довольно быстро. Двухэтажный родильный дом стоял на той же набережной Амура, у тупика, которым заканчивался бульвар.
Отпустив извозчика, Андрей и Еля присели на скамью.
— Больно, Елка? — не зная, чем помочь Еле, наивно и растерянно спросил Андрей.
Еля, прикусив губы, посмотрела на него чужими, помутневшими глазами.
— Больно, — выдохнула она.
— Очень?
— Очень…
— Ну пойдем, — сказал Андрей.
Он поцеловал холодный, потный Елин лоб, стал целовать ее растрепавшиеся волосы, мокрые от слез глаза, руки.
— Ты хоть покажись мне в окне, — пробормотал Андрей, сам с трудом удерживая слезы, — а то я места себе не найду. Смотри, там все окна открыты…
— Хорошо, — сказала Еля слабым голосом, — если можно будет, я покажусь… А теперь пойдем, милый Андрюша… мне очень плохо…
Андрей повел Елю в приемную. Там их встретила пожилая женщина в белом халате. Она бегло взглянула на Елю и сказала:
— Пойдемте, — а повернувшись к Андрею, добавила: — Вы, молодой человек, подождите здесь, возьмете ее одежду. Камеры хранения у нас нет.
Женщина увела Елю. Андрей остался в приемной одни. Ему очень хотелось курить, но он знал, что курить здесь нельзя, и потому ходил из угла в угол, бесцельно смотрел, ничего не видя и не понимая, на расклеенные по стенам цветные плакаты, стоял опустив голову у окна.
Пожилая женщина вынесла завернутую в газеты и перевязанную шпагатом Елину одежду и сказала:
— Идите домой, молодой человек. Теперь вам тут нечего делать.
Андрей вышел, сел на скамью под деревом, положил рядом сверток и стал ждать. Он не сводил глаз с окон родильного дома. Почти все окна обоих этажей были распахнуты, иногда то в одном, то в другом окне появлялись и исчезали фигуры одетых в серые халаты простоволосых женщин, но Ели не было видно. Куря папиросу за папиросой, Андрей смотрел на окна и думал о том таинственном и важном, что совершается сейчас за этими окнами. Вспоминая бледное, подурневшее лицо Ели, он почему-то чувствовал себя виноватым перед ней и, сам страдая от сознания полной своей беспомощности, сидел растерянный и подавленный. Мимо него проходили люди, мужчины и женщины, они смотрели на белую вывеску родильного дома, переводили взгляд на неподвижно сидевшего Андрея, и многие из них, уже давно пережившие то, что сейчас впервые в жизни переживал он, понимающе улыбались. А он все ждал. Возле скамьи на земле уже валялись десятки окурков, во рту у Андрея стало горько, его тошнило, и он сплевывал горькую, тягучую слюну и не переставал думать о Еле.
Наконец в одном из окон второго этажа показалась Еля, одетая в такой же серый халат, как все другие женщины в родильном доме. Андрей увидел ее измученное лицо, искривленные в жалкой и слабой улыбке губы, на которых уже не было никаких следов помады, подбежал ближе к раскрытому окну и крикнул тревожно:
— Ну как, Елка?
Еля наклонилась из окна, проговорила хриплым, незнакомым голосом:
— Иди домой. Слышишь? Иди, пожалуйста, а я лягу, мне тяжело стоять…
Понимая, что он не уйдет, пока она стоит у окна, Еля постояла еще секунду, потом махнула ему рукой и ушла.
Взяв сверток, Андрей медленно побрел домой. Дома он развернул сверток, достал и положил на постель Елино платье. Светлое измятое платье пахло духами, которые так любила Еля, и он, с трудом проглотив подступивший к горлу ком и весь содрогаясь от любви и страдания, прижал к лицу ставшее таким пустым и легким платье и заплакал, уже не стыдясь своих слез…
На работу в этот день Андрей не пошел. Он сидел на балконе, смотрел на отблески солнца в реке, шагал по комнате, валился на кровать и лежал, уткнув лицо в подушку. Он не мог отделаться от мысли, что с Елей обязательно случится что-то плохое, непоправимое, от чего не уйти и не спастись.
«Она чувствовала это, она не хотела рожать, — в отчаянии думал Андрей, — и, если она умрет, я буду виноват… я никогда не прощу себе этого…»
Его мучительное состояние усугубила соседка по квартире, немолодая женщина с тонкими злыми губами, жена работавшего вместе с Андреем агронома. Хотя Ставровы не успели побывать у соседей и только здоровались с ними, встречаясь на лестничной клетке, те знали о беременности Ели, а любопытная соседка точно определила даже время родов.
Тихонько постучав, она приоткрыла дверь, поздоровалась с лежавшим на кровати Андреем и сказала, жалостливо покачивая седой птичьей головкой:.
— Увезли Елену Платоновну? А вы, бедненький, маетесь? Еще бы не маяться! Это дело такое. Бог знает чем еще может кончиться. У меня вот сестра меньшая никак не могла разродиться. Операцию ей делали, страшную операцию, называется кесарево сечение. И ребенка несчастного на куски порезали, а кусочки щипцами вытаскивали, и ее, сестру мою, не спасли, на четвертые сутки умерла от заражения крови…
— Убирайтесь вон! — крикнул Андрей. — Как вам не стыдно?
Соседка испуганно попятилась, выскочила из комнаты, с грохотом захлопнула за собой дверь и уже за дверью прошептала:
— Нахал…
Весь день Андрей ничего не ел. В обеденный перерыв к нему забежали Каля и Гоша. Посматривая на измотанного брата, у которого осунулось и потемнело лицо, Каля торопливо убрала комнату, слегка потрепала Андрея за волосы:
— Не журись, казак. Все будет хорошо.
До вечера Андрей еще два раза ходил к родильному дому. Он подолгу сидел на скамье, курил, смотрел на заветные окна, зашел в приемную, и та же пожилая женщина, которая увела Елю, сказала ему:
— Вы не ходите зря. Сегодня у нее ничего не будет…
Андрей ушел, до темноты бесцельно бродил по городу, чтобы только не возвращаться в опустевшую комнату, а вечером снова сидел на бульваре, поглядывая на освещенные окна родильного дома.
Спал он плохо, ворочался, стонал и, едва дождавшись рассвета, кинулся туда, к дому с белой вывеской. Но ему опять сказали, что никаких изменений нет. На службе Андрей ничего не мог делать, перебирал какие-то сводки, цифры рябили у него в глазах.
И вот наконец в обеденный перерыв, когда он пришел на бульвар и в изнеможении сел на скамью, из родильного дома вышла женщина в белом халате, подошла к нему и улыбаясь протянула листок бумаги. На листке, вырванном из маленького блокнота, было написано странно изменившимся Елиным почерком: «Ты был прав. Родился сын…»
— Поздравляю вас, — сказала женщина, — парень родился хоть куда! И у мамы все благополучно, так что не беспокойтесь.
Андрей вскочил, обнял женщину, быстро пошел по бульвару, сам не зная, куда и зачем идет. Сердце его билось так, будто он не шел, а бежал по трудной дороге, радость горячей волной хлынула ему в грудь, она словно поднимала его, несла куда-то вверх.
На бульваре, у подъезда гостиницы, сидели цветочницы. Андрей купил целую охапку белых, обрызганных водой роз, вернулся и передал Еле с короткой запиской: «Счастлив. Поздравляю. Скучаю. Жду…»
Теперь он ежедневно приносил Еле шоколад, печенье, банки с компотом, все, что мог достать в скудных городских магазинах. Истосковавшись в ожидании Ели, он стал считать не только дни, но и часы.
И вот наконец уже знакомая Андрею женщина в белом халате сказала ему:
— Завтра вы можете забрать своих жену и сына…
Еще с утра Андрей уложил в чемодан Елину одежду, договорился с извозчиком и поехал за Елей. Ждать ему пришлось довольно долго. Еля вышла бледная, но губы ее улыбались. Женщина в белом несла укутанного в одеяльце ребенка.
— Ну, молодой отец, любуйтесь сыном, — сказала она.
Андрей отвернул угол одеяльца и увидел розовое сморщенное личико с едва заметными белесыми ресницами и таким же белесым пушком на висках. Закрыв глаза, посапывая и сладко причмокивая надутыми губами, сын спал.
— Дайте его мне, — замирая от восторга, любви и жалости, попросил Андрей.
Боязливо и осторожно он взял сына, вынес на улицу. Еля шла рядом. Они сели на линейку и поехали вдоль бульвара. Был ясный летний день. Вовсю светило июньское солнце. Зеленели густые кроны деревьев. Ладно постукивал копытами рыжий, с блестящей, начищенной шерстью конь. Мягко шуршали резиновые шины линейки.
Андрей смотрел и не мог насмотреться на бледное, такое милое и дорогое для него лицо жены, прижимал к себе сына, и на душе у него было ясно и светло, так же как ясно и светло было вверху, в чистом голубом небе, отраженном сверкающей гладью могучей, вечно стремящейся к морю реки.
Примечания
1
Трибуты — дань.
(обратно)2
НСДАП — национал-социалистская германская рабочая партия — официальное название нацистской партии.
(обратно)3
Тухао — деревенский богатей-мироед (китайск.).
(обратно)4
Генерал Е Тин — коммунист, один из наиболее прославленных героев Северного похода.
(обратно)5
Бодигар — солдат личной охраны.
(обратно)6
Цинь — деревянная доска со струнами; сяо-ти — духовой инструмент, похожий на флейту.
(обратно)7
Густав Штреземан — один из лидеров немецкой национал-либеральной партии с 1923 по 1929 год — министр иностранных дел Германии.
(обратно)8
КВЖД — Китайско-Восточная железная дорога, построенная на территории Китая царским правительством России в 1903 году, находившаяся под совместным управлением представителей двух стран. В 20–30-х годах стала ареной постоянных провокаций китайских империалистов против СССР.
(обратно)
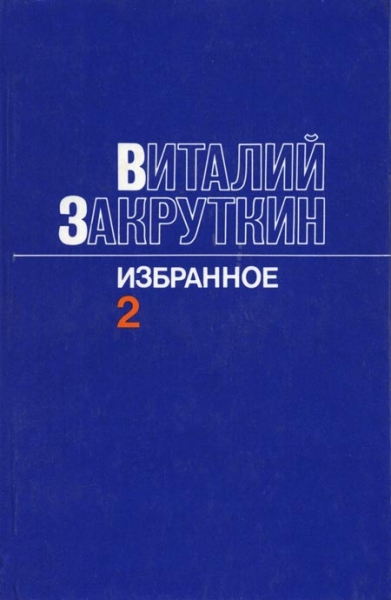


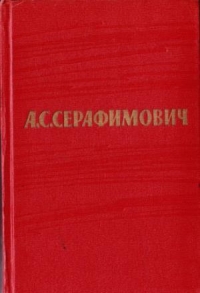

Комментарии к книге «Сотворение мира», Виталий Александрович Закруткин
Всего 0 комментариев