Избранное
НЕТ АЭРОПОРТА
НЕТ АЭРОПОРТА
Иотам Габашвили проделал зарядку под бодрящий голос радио, потом (по рекомендации все того же радио) перешел к водным процедурам. Еще не было девяти часов, когда он вынул из ящика письменного стола чистый лист бумаги, сложил его вдвое, аккуратно разорвал пополам; одну половинку Иотам вернул в стол, а на другой вывел: «Поликлиника — 10 ч. Суд — 12 ч. Лекция — 4 ч.».
У доцента Иотама Габашвили была уйма дел, и каждое утро, перед тем как выйти из дому, он составлял себе распорядок дня. Магический листок бумаги избавлял его от хлопот и придавал смысл существованию: бывало, Иотам извлечет из портфеля свое расписание, заглянет в него и не спеша направляется куда следует. Иотам был философом. Он читал на неспециальном факультете общий курс этики и эстетики. Нужно сказать, что некоторые деканы со всей ответственностью утверждали, что этот общий курс не нужен, студенты едва справляются со специальностью, но, как показывала практика, студентам после их вступления в жизнь довольно часто приходилось пользоваться философией Иотама Габашвили, и их сознательная часть с удовольствием слушала симпатичного, голубоглазого, рано поседевшего лектора, державшегося просто и свободно и говорившего приятно и обаятельно.
Выйдя на улицу, Иотам спохватился: а запер ли он дверь? Некоторое время он бездумно шагал к остановке, пытаясь восстановить в сознании момент выхода из дверей; в конце концов он решил, что не мог уйти, не заперев квартиру, ну конечно же запер… Он в растерянности потоптался на остановке, но все-таки бросился назад и, не переводя дыхания, взбежал по лестнице. Иотам жил на третьем этаже и в спешке обычно не дожидался лифта. Толкнув запертую дверь, он мысленно пожурил себя за излишнюю мнительность, но, не дойдя и до второго этажа, опять остановился в тревоге: а выключил ли он утюг? Этим утром Иотам подгладил воротник сорочки и никак не мог вспомнить, выключил ли он утюг. Доцент еще раз вернулся, отпер свою квартиру, на всякий случай проверил газ, утюг, телевизор, краны и успокоенный покинул дом.
Что делать? Вот уже неделю Иотам мучается. Неделя, как он отправил свое семейство в деревню, и одинокому мужчине приходится напрягать все свое внимание, чтобы справиться с пустяками, с которыми хозяйки справляются почти бессознательно.
Иотам с большим портфелем в руках энергично шагал по улице. Рука с портфелем была вытянута вдоль тела, словно одеревенела. Портфель не шелохнулся. Зато свободная рука как бы компенсировала неподвижность занятой — философ отмахивал ею с добросовестностью офицера-строевика. Вероятнее всего, Иотам нес свой портфель с такой осторожностью потому, что в нем вместе с научной литературой помещался флакон из-под одеколона. У Иотама были камни в почках. Каждое лето он ездил в Саирме и, надо сказать, оставался очень доволен водой «Саирме № 3» и горным хвойным воздухом. Однако в это утро, поднявшись с постели, доцент почувствовал глухую боль в пояснице и вот теперь спешил в поликлинику. Цвет лица у него был несколько бледнее обычного.
«Еще рано, пройдусь немного пешком», — решил Иотам, переходя на другую сторону улицы. В газетном киоске он купил газеты и, прежде чем дойти до поликлиники, успел просмотреть их. Из газет он с интересом узнал, что Самарская область выполнила квартальный план по добыче торфа, а Литопонный завод рапортовал об освоении новых устойчивых красителей. Что же касается спорта, то в Рейкьявике один из сильнейших шахматистов показывал всему миру язык и дразнил всевозможными прогнозами и предсказаниями разгневанных журналистов. Иотам тщательно свернул газеты в трубку и опустил в урну. В этот день значительно больше Рейкьявика его интересовал собственный анализ.
Возле углового дома старик с садовыми ножницами, поднявшись на стремянку, отсекал лишние отростки лозы. Штаны на нем были коротковаты, из штанин высовывались ноги со вздутыми венами. Когда Иотам проходил мимо, старик оторвался от дела и с таким любопытством уставился на него, точно пытался разгадать какую-то тайну.
Иотам решил, что старик принял его за знакомого, и приветливо кивнул. Иотам любил здороваться с незнакомыми людьми. Если кто-нибудь на улице внимательно смотрел на него, Иотам улыбался и кивал. Незнакомец обычно отвечал тем же, но потом останавливался посреди дороги и, разинув рот, глазел ему вслед, по-видимому ломая голову над вопросом: кто же такой этот приятного вида рано поседевший мужчина.
Старик с садовыми ножницами охотно ответил на приветствие, но не прошел Иотам и десяти шагов, как его настиг умоляющий голос старика:
— Погоди-ка минутку, ради бога!
Иотам остановился.
— Будь добр, подойди-ка поближе.
Иотам вернулся назад.
Старик спустился со стремянки, обтирая правую руку о старые суконные галифе.
— Ну как ты? Как поживаешь? — спросил он и крепко пожал руку Иотаму.
— Спасибо… ничего, — растерянно ответил Иотам и впервые в жизни пожалел о том, что поздоровался с незнакомым человеком.
— Куда в наши края путь держишь? — Старый виноградарь все так же внимательно разглядывал его.
— В поликлинику.
— Случилось что-нибудь?
— Да ничего особенного. Мочу несу на анализ.
— Куда?
— На анализ.
— А-а… — Старик задумался.
Иотам тоже не отрывал глаз от старика и все больше убеждался, что никогда прежде не встречал этого человека. Чтобы прервать неловкое молчание, философ извинился и хотел пойти своей дорогой, но не тут-то было.
— Обожди-ка минутку…
Иотам недовольно остановился.
— Ты меня, конечно, извини, старость не радость, но, честно говоря, не признал я тебя что-то, — растерянно проговорил старик и заглянул Иотаму в глаза.
Иотам больше всего боялся такого поворота дела.
— Вы меня действительно не знаете.
— Да, но как же так?.. — не унимался старик. — В таком случае, выходит, ты меня знаешь, как говорится…
— И я вас не знаю.
— Вот тебе и на!.. Так в чем же тогда дело… тут, на нашей улице… как говорится…
— Да так, ни в чем. — Иотам покраснел до ушей.
— Как же ни в чем? Что значит ни в чем? А? — Старик возмутился, переложил садовые ножницы из правой руки в левую и шагнул вперед. — На тебя посмотреть, вроде не мальчишка, на босяка уличного не похож.
— Да что вы! Какой я мальчишка…
— А в чем же тогда дело, я тебя спрашиваю?! — повысил голос старик. — Может, ты думаешь, что сам никогда не состаришься? И видеть будешь хуже, и слышать тоже. Да, да!.. Погляди-ка на меня хорошенько. Что во мне такого, чтоб молокосос вроде тебя издевался надо мной?
— Да что вы, сударь, господь с вами!
— Как это что со мной! — горячился старик. — Посмотреть на тебя, вроде на человека похож: и галстук на шее, и портфель в руке… Эх, горе нам, горе! Скоро и ты окажешься в моем положении. Скоро! За что же насмешки над старым человеком строить? Чем я заслужил? Скажи, куда мне деться, куда убраться с этой улицы, — я уберусь!
— Да что вы, господи! Я шел своей дорогой. Что я вам сделал? Я пойду… — чуть не плача пробормотал Иотам и поспешно отошел от взволнованного старика, чей голос еще долго сопровождал его:
— Не знать тебе старости, негодяй! Не дожить до моих лет! Мог бы для шуток ровню себе найти. Те зубы, которыми такие дурацкие шутки пережевывают, я сносил давно!.. Я-то тебя за человека принял… Чтоб не смел больше по нашей улице ходить. Увижу еще раз — всыплю по первое число, рожу твою бритую разукрашу!
Ну, скажите на милость, в чем провинился Иотам Габашвили?
Рано поутру пожелал здоровья старому виноградарю — ведь больше-то ничего не было? Доцент здоровался со множеством незнакомых людей и всегда получал в ответ слегка растерянные улыбки и чуть-чуть недоуменные кивки.
«Теперь ты видишь, что люди все разные, и, когда человека не знаешь, нечего головой кивать, иди своей дорогой, — говорил себе Иотам. — Кто тебя неволит? Займись своим делом. А старику хватит знакомых, есть с кем поздороваться. Если каждый прохожий станет его приветствовать, у старика голова отвалится. Он прав — никому не нужны твои безответственные поклоны».
С такими мыслями Иотам Габашвили подошел к дверям поликлиники. Поднялся на второй этаж и сел в приемной уролога рядом с другими больными.
Вскоре на пороге кабинета появилась огромного роста медицинская сестра. Она оглядела больных усталыми кроткими глазами и объявила:
— Доктора не будет до двух часов.
— Но почему?
— Как же так можно!
— Сегодня прием с десяти до двух!
— Что нам делать?
— Может, он и завтра не явится!
— Мы будем жаловаться!
— Да, да! Надо пожаловаться…
Послышались такие и похожие реплики, не очень опасные и даже вполне обычные в поликлинической тиши.
Медицинская сестра знала по опыту, что настоящий жалобщик не станет поднимать шума, а просто пойдет куда надо и пожалуется. Женщина-гора подождала, пока больные слегка угомонятся, и еще меланхоличнее, чем в первый раз, повторила:
— Доктора до двух часов не будет.
Когда все недовольные удалились, Иотам почтительно приблизился к служительнице медицины и, привстав на цыпочки, потянулся губами к ее уху. Медсестры вообще не любят конфиденциальных нашептываний. Но великанша, видимо, была любопытна, она наклонила голову.
— Вы не могли бы оставить у себя мою бутылочку? — извинившись, вежливо попросил Иотам.
— Что?! — громко и недовольно переспросила медсестра, хотя прекрасно расслышала, о чем просил ее мужчина.
— Мочу, — скромно, чуть даже пришепетывая, повторил философ, а сам подумал, что, если женщина опять гаркнет на него, придется уносить ноги.
— Какую мочу? — тянула медсестра.
— Мою, собственную. — С этими словами Иотам извлек из портфеля полный до краев флакон из-под одеколона и поставил его на стол.
Медсестра недовольно отодвинула флакон и спросила:
— Вам врач назначил?
— Что?
— Принести мочу.
— Нет. Это я сам. Интересуюсь узнать, какая она теперь.
— Врач вас осматривал?! — повысила голос медсестра.
— Нет.
Это и нужно было медсестре. Она закатила свои кроткие глупые глаза к потолку, потом уставила их на Иотама и понесла:
— Вы что, спятили?! Мы больных не успеваем принимать. Только вашей мочи нам недоставало. Ему, видишь ли, интересно!.. Мне тоже много кое-чего интересно на этом свете. А вы представляете, что будет, если каждый, кому интересно, принесет нам свою мочу. Мы же утопнем в ней. Сейчас же уберите флакон!..
— А как исключение нельзя? — попробовал Иотам подступить с другой стороны.
— Как исключение все можно, — понизила голос медсестра.
Она с интересом наблюдала за Иотамом, копавшимся в бездонном портфеле.
— Вот спасибо! — Иотам утер со лба пот, достал из портфеля листок бумаги, сложил вдвое, разорвал по сгибу, одну половинку положил назад в портфель, а на другой написал: «Иотам Габашвили».
Медсестра окончательно убедилась, что у больного в его огромном портфеле лежат только бумаги и в лучшем случае неиллюстрированные научные журналы.
— Где вы работаете? — как бы между прочим полюбопытствовала труженица медицины. Не дожидаясь ответа, она раскрыла карточку больного и во всеуслышание объявила: — На доцентов я очень зла!
— За что? — Иотам снял очки.
— Мою племянницу в этом году опять не приняли в институт. Девочка третий год поступает. Все доценты люди безжалостные и бессердечные. Их не стоит щадить!
— Но я философ… — попытался Иотам разжалобить медсестру, но ее уже не интересовала узкая специализация Иотама. Для нее все доценты были одинаковы.
— Где бы мне ни попался доцент, я его не обрадую! Племянница, единственная дочка любимой сестры… И вы думаете, я сделаю что-нибудь для тех, кто причинил бедняжке столько горя. Не дожить им до этого дня! Что? Доценту? Да если он гореть будет, водой не залью, умирать будет — не взгляну на него. Вот так-то! — Огромная медсестра все больше распалялась, ноздри ее раздувались, а голос грубел, переходя на бас.
Иотам молча убрал в портфель злополучный флакон и, не говоря ни слова, покинул разбушевавшуюся женщину. Выйдя на улицу, он извлек распорядок дня и зачеркнул: «Поликлиника — 10 ч.». Следующий пункт гласил: «Суд — 12 ч.». Философ взглянул на часы: была половина двенадцатого.
Доцент легко позавтракал в закусочной — взял порцию сосисок и стакан какао — и направился к зданию суда. Теперь он свободно размахивал обеими руками — и той, что держала портфель, и той, которая была без портфеля. Я забыл сообщить уважаемому читателю, что, выйдя из поликлиники, наш герой бросил в урну завернутый в бумагу злополучный флакон.
Иотам был народным заседателем. Он охотно исполнял эту приятную обязанность — свой почетный общественный долг. Признаться, философ всегда любил присутствовать на судебных заседаниях, теперь же он гордился тем, что вместе со своим коллегой восседал рядом с судьей и вершил правосудие. Иотам всегда тщательнейшим образом знакомился с обвинительными заключениями и часто вмешивался в судебный процесс со своими полупрофессиональными вопросами, чем, надо заметить, доставлял судье истинное удовольствие.
— Сколько сегодня дел? — спросил Иотам прокурора.
Прокурор сидел к нему спиной и непринужденно беседовал с сидящей за ограждением обвиняемой. Стоявшие там же сержанты милиции, облокотясь о барьер, по очереди зевали, затем снимали свои фуражки и почесывали в затылке.
Иотам приблизился к прокурору и повторил вопрос:
— Ты не знаешь, сколько сегодня дел?
— Одно, — ответил прокурор. — Вот разберемся с уважаемой Жуту и по домам. Ты знаком с ее делом?
Иотам кивнул. Он внимательно прочитал дело от начала и до конца, но многие моменты в афере Жуту Микаберидзе остались для него «темными», и он надеялся, что по ходу процесса все прояснится. Обвиняемая была весьма интересная женщина сорока трех лет, хотя годы, проведенные в заключении, и наложили отпечаток на ее лоб и щеки. На обвиняемой было синее платье в белый горошек, простое и изысканное. Волосы гладко зачесаны, над высокими дугами бровей красивой формы лоб.
— Скажи мне, только откровенно, — с улыбкой спрашивал прокурор, — у тебя нет собственного дома?
— Откуда? Я снимаю комнату, там и живу, — спокойно ответила обвиняемая.
— Так я тебе и поверил! — усмехнулся прокурор.
— Не веришь, не надо.
— А деньги на чье имя в банке держишь?
— Какие деньги? Да еще в банке!..
— Куда же ты дела такую прорву денег?
— Прорву? Ты десять тысяч называешь деньгами? Проела все. Ради бога, начинайте поскорее. Следователь дело закончил, незачем меня снова допрашивать.
— Придет Миша, и начнем, — ответил прокурор. (Мишей звали судью.)
— Об одном попрошу, — обвиняемая слегка подалась к прокурору, — не затягивайте процесса. Ты обожаешь длинные речи, так, пожалуйста, подсократись. Затребуй четыре года. Миша, наверное, даст три. Как ни крути, трудно вам за это дело больше трех присудить. И чтоб никакого беззакония, а то так вас опротестую, что краснеть будете.
— Послушай, да я же знаю, как на самом деле все было, — словно и впрямь что-то знал, иронически улыбался прокурор.
— Ничего ты не знаешь. Знаешь, что в деле написано, а больше тебе и не надо, — спокойно ответила Жуту.
Иотам был поражен утонченной красотой этой женщины и ее безмятежным спокойствием. Женщина выманила у невинных граждан десять тысяч рублей, профукала их; ее с трудом нашли, через десять минут будут судить — уже в третий раз — как аферистку и мошенницу, а по ней не заметно не только страха, но даже волнения, дивился Иотам. Кто ее воспитывал, кто породил, откуда вообще являются такие? — думал наш философ, и чем больше он присматривался к этому оборотню, тем сильнее его охватывало отвращение. Его возмущало все: ее спокойствие, манеры, хорошо поставленный голос.
— Послушай, — прокурор отозвал Иотама в сторонку. — Ты знаешь эту женщину?
Иотам ответил, что знает о ней только то, что написано в обвинительном заключении.
— Узнать ее по обвинительному заключению невозможно, — вздохнул прокурор. — Беда в том, что и я и судья прекрасно знаем, с кем имеем дело, но… Все дело в этом самом «но». И тут виноваты не только мы, органы правосудия, но также и вы, то есть общество.
— Как вас понимать? — заинтересовался Иотам.
— Жуту Микаберидзе судят в третий раз. Эта женщина по профессии юрист, одно время она работала адвокатом. Потом вдруг забросила юриспруденцию и занялась аферами. Послушай меня: то, за что мы ее сейчас судим, можно сказать, лишь небольшая часть ее «деятельности». А остальное весьма тщательно скрывают сами пострадавшие.
— Поясни, пожалуйста, если можно. — Иотам надел очки, точно очки могли помочь лучше разобраться в сложностях дела.
— Жуту Микаберидзе почтенная женщина. У нее есть компаньонка, солидная седеющая дама лет пятидесяти. Они появляются где-нибудь в людном месте (в исполкоме, в правлении строительного кооператива и так далее) и, словно бы беседуя между собой, говорят. «Прямо не знаю, что мне делать, — начинает Жуту. — Она просит меня найти покупателя. А что я могу, кого я знаю. Да и времени нет, с утра до ночи на работе. А с другой стороны, человек ни за что ни про что потеряет трехкомнатную квартиру». Жуту повторяет эти слова до тех пор, пока не привлечет чьего-либо внимания. На вопрос человека, заинтересовавшегося беседой почтенных дам, они, извинившись, отвечают: «Нет, нет, милейший, у нас свои дела, свои заботы». Но от человека, ищущего квартиру, не так-то просто отделаться. И Жуту начинает объяснять: «Наша приятельница вышла замуж, переезжает на жительство в Омск. Она строила в кооперативе трехкомнатную квартиру, дом почти готов. Муж приятельницы уже в Омске. Она тоже спешит уехать и хочет по сходной цене продать квартиру». Человек, ищущий квартиру, пленен «добрыми феями». «О господи! Да как же нам с вами быть? Мы сами в этих делах не разбираемся. А кто вы по профессии, если не секрет? — начинают щебетать дамы. — Может быть, вы нам что-нибудь подскажете?»
Они ведут покупателя к какому-нибудь строящемуся дому: «Вон та угловая квартира на втором этаже с окнами на сквер будет ваша». Покупатель, радуясь неслыханной удаче, деликатно спрашивает о цене. «Мы, признаться, не знаем. Поговорите-ка с хозяйкой сами», — не теряясь, отвечает Жуту. «Да что ты, милая? Как можно! — возмущается подруга. — Если он явится туда, соседи обо всем догадаются. По-моему, они оценивали в двадцать тысяч». «Но можно платить по частям», — исправляет свою ошибку Жуту. Покупатель, восхищенный как квартирой, так и ценой, берет за руки «сестер милосердия» и умоляет: «Ради бога, помогите, сделайте доброе дело!» — «Но что мы можем сделать для вас?» — изумляются «сестры». Дальше события разворачиваются с молниеносной быстротой. Покупателя ведут на квартиру к Жуту Микаберидзе. (Эту квартиру Жуту снимает, там она и прописана.) Одна из дам набирает по телефону ложный номер и «разговаривает» с мнимой «пайщицей кооператива». Потом с огорченным видом оборачивается к покупателю и говорит: «Видно, не судьба, милейший: квартира уже продана». — «Но неужели ничего нельзя сделать?» — в отчаянии восклицает покупатель. Теперь он доведен до «критической точки», и «сестры милосердия» переходят к делу. «Пожалуй, пока что выход есть! — подумав, говорит Жуту. — Вы должны в течение часа доставить хотя бы десять тысяч рублей, чтобы можно было вернуть тем покупателям их долю и отделаться от них. Вместе с деньгами представьте справку о рождении и о составе семьи, иначе переоформление квартиры на ваше имя может затянуться. Теперь ваша судьба в ваших руках». Обрадованный покупатель мчится за деньгами и справками и через некоторое время возвращается — у него все в порядке. Уверенные в человеческой порядочности, подружки не пересчитывают денег. Будущему владельцу квартиры оставляют расписку в том, что через неделю квартира будет переоформлена на его имя и утверждена на первом же заседании райисполкома. «А когда мне прийти?» — спрашивает покупатель с распиской. «Приходите прямо на заседание исполкома. Узнайте, когда оно состоится, и приходите. А сейчас, извините, у нас срочные дела. Надеемся, не забудете пригласить на новоселье!..» Подружки приветливо прощаются с жертвой и опять спешат к месту, где собирается общественность. Вы спросите, какой же дурак так, ни с того ни с сего отдает свои деньги? Я не отдам, и вы не отдадите, нас не так-то легко провести, но многие дают. Во-первых, часто по тем или иным причинам людям срочно нужна квартира. Во-вторых, чем покупать готовую квартиру, лучше стать членом кооператива — это не так бросается в глаза. В-третьих, две прожженные аферистки весьма умело изображают неопытных женщин, а Жуту к случаю показывает свою прописку в паспорте: «Вы всегда можете найти меня здесь». Вся операция занимает несколько часов. За неделю при умелой работе можно заманить в капкан человек десять. А десять раз по десять тысяч, как вы сами понимаете, будет сто тысяч рублей. В следующий понедельник, когда новые «владельцы квартиры» в нетерпении ждут заседания исполкома, Жуту Микаберидзе пишет анонимку в милицию: «Жуту Микаберидзе аферистка, она обманным путем выманила деньги у гр. Б-дзе, ее следует немедленно арестовать». Да, да, представьте себе, она сама доносит на себя. Мы вызываем названного в анонимке гражданина, допрашиваем, и действительно выясняется, что он отдал Жуту Микаберидзе десять тысяч рублей. Арестовываем Жуту, но дома у нее, разумеется, не находим ни копейки! Жуту успела припрятать сто тысяч (сумму я называю условно). Обманутый покупатель рвет на себе волосы. Жуту тоже огорчена: увы, все деньги уже истрачены, можете меня наказать. Что делать? Описываем ее имущество. В комнате, которую снимает Жуту, имущества не наберется и на двести рублей. Назначается суд. За аферу и вымогательство Жуту осуждаем на три года. В худшем случае она проведет три года в тюрьме или выйдет через два. Но где остальные обманутые граждане? Где еще девять жертв аферы? Возможно, они присутствуют на процессе. Даже скорее всего присутствуют. Большинство из них люди с положением, на хороших должностях, им лучше лишиться десяти тысяч рублей, чем признаться на суде, что их провела аферистка. А если их спросят, откуда у них эти десять тысяч? Многие боятся такого вопроса… А Жуту выйдет через три года из тюрьмы — у нее кругленькая сумма. Теперь вы разобрались в деле? Так-то… Сегодня мы судим ее в третий раз, и все по тому же поводу. По моим предположениям, у Жуту сейчас должно быть что-то около трехсот тысяч рублей. Наверняка есть у нее и собственный дом, мы только не знаем где. Думаю, что есть у нее и машина и прислуга, но мы все еще не нашли их, не напали на след. Выйдет она через три года из тюрьмы и до конца жизни, не ударив палец о палец, будет жить припеваючи, тихо, спокойно и, главное, честно. Ей хватит своих накоплений. А как быть нам? Что делать? Мы знаем всё, но факты, улики… У нас их нет. У нас нет фактов, которые позволили бы применить более строгие меры. Теперь я хочу вас спросить вот о чем: как вы думаете, те, кто дает Жуту по десять тысяч рублей, порядочнее и честнее ее? Да ни в коем случае! Почему мы с вами не можем дать ей таких сумм? Потому что у нас их нету. А они дают, потому что у них есть. А есть они у них потому, что они воруют. Нам известны люди, для которых потеря десяти тысяч не такая уж чувствительная потеря. Жуту — она просто умнее их и обирает, стрижет, как овечек.
Иотам был поражен. Он никак не ожидал, что изящная, элегантная женщина, оказавшаяся на скамье подсудимых, способна на такие дела.
На процессе он, против обыкновения, сидел молча, не задал обвиняемой ни одного вопроса. Он хотел выслушать все до конца, во всем досконально разобраться и под занавес задать Жуту Микаберидзе такой вопрос, который сослужит правосудию неоценимую службу: во всяком случае, так он себя настраивал. Но процесс, разумеется, затянулся, заседание было перенесено на следующий день, а Иотам Габашвили со своим неразлучным портфелем втиснулся в переполненное маршрутное такси, чтобы не опоздать к очередному месту назначения. Местом назначения на этот раз была Фабрика трикотажных изделий № 3. На этой фабрике в четыре часа ему предстояло прочитать лекцию по линии общества «Знание».
Директор Фабрики трикотажных изделий № 3, в прошлом известный танцор из ансамбля песни и пляски, ныне безнадежно располневший лысый мужчина, принял доцента чрезвычайно приветливо и безмерно обрадовался, узнав, что тот прибыл с лекцией.
— Разве вас не предупредили? — Иотам зарделся от удовольствия.
— Как не предупредить? Конечно, предупредили. Нам позвонили из общества, но мы не ожидали, что приедете лично вы, сами!..
— Благодарю вас! Спасибо, спасибо, — смутился философ, по своей наивности поверив, что директора и впрямь очень обрадовал его приход.
Вежливость руководителя фабрики простиралась так далеко, что он расспросил лектора о здоровье всех членов семьи и угостил холодным боржоми. После такого стремительного сближения и короткой, но содержательной беседы директор перешел к делу:
— У вас, наверное, и направление есть.
— Разумеется, разумеется, — закивал Иотам и с трудом отыскал в своем бездонном портфеле путевку от общества. Пока директор знакомился с документом, Иотам мягко дал ему почувствовать, что уже четыре часа и пора приступать к лекции.
— Не люблю заставлять себя ждать, — уточнил доцент.
— Понятно, — кивнул директор.
— Наверное, слушатели уже собрались. Где состоится лекция? Надо полагать, в клубе? Сколько будет народу? — засуетился Иотам.
Вдохновитель успехов трикотажной фабрики дважды расписался на командировочном листе, затем прихлопнул обе подписи круглыми печатями, разделил путевку надвое, одну половинку протянул лектору, другую положил себе в стол.
— Всегда будем рады вас видеть… Охотно примем… — Он вроде бы слегка подмигнул одним глазом и протянул Иотаму руку.
— Что вы сказали? — Иотам пожал протянутую руку, еще не совсем понимая, что директор прощается с ним.
— Всегда, когда вам будет удобно, добро пожаловать. — С лица директора фабрики не сходила радушная улыбка.
— То есть как? А лекция? Вы хотите сказать, что она не состоится? Почему же вы тогда подписали мою путевку? — с отчаянием в голосе проговорил Иотам.
Директор просто и немногословно объяснил, что по некоторым причинам собрать слушателей не удалось.
— Наши рабочие вообще не очень любят лекции, — солгал бывший танцор. — А что до дела, разве вам не все равно? Будем считать, что вы прочитали замечательную лекцию. Я уверен, она и была бы замечательная.
— Но я не понимаю, в чем дело? Неужели вы думаете, что для меня так важны десять рублей, полученные за лекцию? За что вы меня оскорбляете? Я не привык ко лжи и фальши. Кто вас просил подписывать путевку? Теперь извольте собрать мне людей, я поговорю с ними о проблемах эстетики труда и производства.
Директор неловко замялся, взглянул на часы, попросил немного подождать и вышел из кабинета.
«Почему, почему этот человек предложил мне участие в подлоге? Видимо, я допустил какую-то ошибку. А может быть, он хотел испытать меня? Конечно, хотел испытать! Я, доцент института, специально готовился к лекции, проделал такой путь и в дороге обдумывал ответы на возможные вопросы. Я, занятой человек, выкроил полтора часа для беседы с производственниками. Неужели со мной можно говорить как с делягой, которого интересует подпись на путевке и гонорар в конце, месяца?» — думал Иотам.
— Все в порядке. — Директор вернулся в кабинет. — У нас фабрика радиофицирована, вы прочитаете лекцию в радиорубке, и все вас услышат. Я думаю, так будет лучше. Вам не придется стоять целый час, а рабочие получат пользу, не отрываясь от дела…
…Иотам наклонился к микрофону и довольно громко начал: «Товарищи работники трикотажной фабрики, предприятия со славными традициями…» Доцент старался говорить по возможности просто, не перегружая речь философской терминологией. В радиорубке было жарко. Прикрыв глаза, он представил себе, как его голос разносится по всей фабрике, как один за другим останавливаются станки и швейные машины — люди восторженно слушают радио, которое говорит о нужном и понятном всем деле.
Когда лекция кончилась, Иотам щелкнул выключателем микрофона (так научил его директор) и облегченно вздохнул. Затем он открыл дверь радиорубки, и прохладный воздух приятно остудил его высокий разгоряченный лоб. Восхищенный директор ждал его в своем кабинете.
— Огромное вам спасибо! Не можете представить, какое мы получили удовольствие! Очень интересная лекция! — Директор тряс ему руку, незаметно подталкивая к дверям.
Во дворе фабрики Иотам увидел нескольких рабочих. Группа, собравшаяся возле крана, горячо толковала о чем-то. «Наверное, о моей лекции спорят», — по груди Иотама разлилось приятное тепло. Он шел походкой человека, исполнившего свой долг. «Так. Дело сделано. Думаю, что лекция была полезна. Многие, наверное, и не знали, как важно придать красоту рабочему месту, что нужно сделать, чтобы поднять эстетический уровень рабочего. Но они послушали лекцию, и теперь им все ясно. Дело сделано, и немаловажное дело…» — удовлетворенно думал доцент.
В проходной кто-то взял его под руку. Оглянувшись, Иотам узнал своего бывшего одноклассника Важа Губеладзе.
Они от души приветствовали друг друга. Важа много слышал о научной деятельности бывшего одноклассника и полюбопытствовал, что привело того на швейную фабрику.
— Скажи мне откровенно, может быть, что-нибудь было непонятно? Возможно, у кого-нибудь появились вопросы? — в свою очередь спросил Иотам и, увидев изумленную физиономию приятеля, решил уточнить: — Неужели ты меня не слушал? Надо иногда включать радио, дорогой. Десять минут назад я выступал по вашей фабричной радиосети. Больше часа читал лекцию, а ты и слыхом не слыхал.
Бывший одноклассник прыснул, захохотал, да так, что чуть не задохнулся от смеха. Переведя дух и утерев слезы, он объяснил доценту:
— Какая лекция! О чем ты?! Нашу радиосеть повредило во время наводнения, она уже больше месяца не работает. А ты, значит, прочитал нам лекцию? Умора! Клянусь честью, тебя было слышно только в твоей будке. Нет, ты сидел у микрофона? Серьезно?!
При этих словах бывший одноклассник опять расхохотался. У него подкосились ноги, ухватив себя за живот, он прислонился к дереву, слезы ручьем текли по его щекам. Глядя на него, Иотам лишний раз убедился, что в смехе, как и во всем другом, нужно знать меру.
Что же касается доцента Иотама Габашвили, то ему было не до смеха: лицо его заметно пожелтело, оскорбленное сердце сжалось, и, даже не попрощавшись с приятелем, он удалился. Сначала он хотел было вернуться на фабрику и огреть лысого директора своим портфелем, но потом почему-то передумал, а почему, того никто не знает.
В ту ночь Иотам долго не мог уснуть. Сперва читал газеты, потом просмотрел материалы своей докторской диссертации, наконец погасил свет и закрыл глаза. Незаметно для себя Иотам погрузился в сон… Приснилось Иотаму, что он пилот самолета и возвращается из очередного рейса в свой аэропорт. Погода чудесная. Видимость превосходная. И курс он держит верно. Вот уже пора снижаться. Глянул Иотам вниз и поразился — нет аэропорта. Иотам проверил приборы, посмотрел в бинокль. Нет аэропорта. Тогда он развернул самолет на сто восемьдесят градусов и полетел в другом направлении. А аэропорта все нет. Иотам оглянулся назад — он один в самолете.
Сидит Иотам за штурвалом и ищет, где бы приземлиться. Мучается, страдает, срывает шлем, расстегивает тесный ворот. Стрелка, показывающая горючее, давно на нуле. Пора выбрасываться, а аэропорты пропали…
Утром Иотам долго пытался вспомнить, чем кончился его сон, но так и не сумел.
Перевод А. Эбаноидзе.
БЛАГОДЕТЕЛЬ
Восемнадцатого июня 1980 года, примерно в одиннадцать часов утра, к калитке Эрмине Сахамберидзе подошел пожилой мужчина в черном плаще. Сперва он поглядел во двор и довольно долго наблюдал за утятами, пощипывавшими травку и уныло покрякивавшими на своем утином языке; затем он заслонился от солнца кожаной папкой и, словно боясь собственного голоса, нерешительно позвал:
— Хозяин!
Из покосившейся уборной с болтающейся на петлях дверью вышел взъерошенный мальчишка лет пяти и молча встал у калитки. Из подвала выползла чернявая голенастая девчонка в одних трусиках и встала рядом с мальчиком. Девочка была года на два старше брата (незнакомец принял детей за брата и сестру, потому что они были похожи как две половинки одного яблока). На крытом подгнившим тесом курятнике показался веснушчатый малый лет десяти. Все трое довольно долго недоверчиво и не без страха разглядывали мужчину в черном плаще. Наконец, не отрывая взгляда от незнакомца, они одновременно позвали:
— Мамааа!
Этот крик застал супругу Эрмине Сахамберидзе Пистимею на чердаке. Она только опростала и вычистила допотопный сундук и раскладывала на чердаке дедовское, поеденное ржавчиной оружие.
— Иду! — откликнулась она в щель между черепицами и, опираясь на большое кремневое ружье, спрыгнула с чердака.
Гость, увидев направляющуюся к нему женщину в платке и с ружьем в руках, засмеялся:
— Не бойтесь, сударыня, я не враг. — Он присмотрелся к ружью. — Думаете, оно вас защитит? Время кремневок давно прошло.
Дети взглянули на мать, строго поджавшую губы, и одновременно рассмеялись.
— Извините, сударь. — Пистимея прислонила ружье к высохшей вишне и перевязала платок на голове. — Я на чердаке прибирала, случайно прихватила…
Гостя она не признала, но все-таки распахнула калитку пошире и пригласила в дом.
— Надеюсь, не с дурной вестью?
— Что вы, что вы! Не волнуйтесь. Вы, наверно, супруга Эрмине Сахамберидзе?
— Да… Может, все-таки что-то стряслось?
— Я же сказал, что ничего. У меня небольшой разговор, если вы не очень заняты. А нет, так я в другой раз…
— Дела, уважаемый, нет только у тех, кто в гробу лежит. Кто сегодня оставит тебя без дела? Пожалуйте в дом!
Пистимея пнула ногой вылезшего навстречу дряхлого пса и повела незнакомца по расшатанной деревянной лестнице.
В оклеенной газетами дощатой комнате с раскиданными постелями пахло затхлостью. Вид был как после нашествия.
— Вы уж простите, сударь, разве с такими бездельниками под одной крышей можно навести порядок? — извинялась Пистимея, тщетно пытаясь прибрать.
— Не беспокойтесь, я всего на минутку. — Гость опустился на стул с плетеным соломенным сиденьем, но подозрительный скрип напугал его, и он опять встал.
— Садитесь прямо на постель, — подсказала хозяйка. — Ничего…
Мать с детишками уселись в ряд на продавленной раскладушке и, одинаково подперев руками подбородки, уставились на незнакомца.
— Если это возможно, я хотел бы остаться с вами наедине, — еле выдавил из себя тот и, взглянув на побледневшее лицо хозяйки, поспешно добавил: — Не волнуйтесь, сударыня, я Гига Хачидзе, работаю в краеведческом музее, живу в Балахвани, сразу за мостом справа, третий дом от хлебной лавки. Неужели я похож на злоумышленника?
— Коли так, вы должны знать Ушанги Чедиа, — проговорила Пистимея, но искорки тревоги в ее глазах не совсем погасли.
— Конечно, знаю! Как не знать — одноглазый Ушанги, шапки шьет. Неделю назад дочь замуж выдал.
— Он мне деверем приходится, двоюродный брат мужа, — немножко успокоилась Пистимея. — Не хотели они этого дела, зятем не очень-то довольны. — Она встала и прикрикнула на детей: — Ну-ка выйдите на минутку во двор!
Избавиться от детей оказалось не так-то просто. После долгого скандала и пререканий они, правда, оказались за дверью, но у гостя не было ни малейших гарантий, что дети не подглядывают в щелку.
— Подвиньтесь, пожалуйста, поближе, сударыня, извините, как вас по имени?
— Пистимея, — хозяйка слегка подъехала на своей раскладушке.
Гига Хачидзе раскрыл кожаную папку, достал из нее бумажный сверток, огляделся по сторонам и протянул хозяйке:
— Здесь две тысячи рублей, уважаемая Пистимея.
Пистимея, не задумываясь, взяла сверток.
— Посчитайте, если можно. Деньги счет любят, — улыбнулся Гига.
Супруга Сахамберидзе считала долго и необыкновенно тщательно, бормоча под нос и шевеля губами. Разок она сбилась. Приступила сначала. Разложила порознь двадцатипятирублевые и десятки. Гость сидел, обхватив колено руками, и смотрел на нее. У женщины был нос с горбинкой и глубоко посаженные желтоватые глаза, похожие цветом на сыворотку. Из-под вылинявшего платка с рисунками на углах торчали непричесанные волосы. Обута она была в сапоги с обрезанными голенищами, ее грубые пальцы с коротко остриженными ногтями дрожали от волнения.
Закончив считать, она завернула деньги в ту же газету, надежно засунула под тюфяк, надвинула платок на глаза и выжидающе уставилась на гостя.
— Уважаемая Пистимея, — у Гиги дрогнул голос, — эти деньги ваши, и вы можете истратить их как вам угодно. Вижу, что и вы, вроде меня, не купаетесь в роскоши. Может быть, эти деньги хоть немного помогут вам.
— Да что вы, сударь! Ни в жизнь! Неужели какие-то две тысячи помогут при нашей нужде? — Пистимея смотрела в сторону и говорила так, словно волнение гостя передалось ей. — Легко ли в наше время вырастить пятерых детей! Мы люди порядочные. Я восемь лет проработала на шелкопрядильной. Восемь лет рук из кипятка не вынимала, коконы потрошила. Вот, полюбуйтесь, на что похожи мои руки! Сейчас не то что работать, за хлебом выйду, так у детей весь дом вверх ногами. Мой муж, вы, верно, и сами знаете, с тех пор как аварию сделал, ему машину не доверяют, во вневедомственной охране работает. Две тысячи, конечно, подспорье при нашей нужде, кое-что заткнем, но сказать, что хватит, не скажу, неправда это будет. Взгляните вон на нашу крышу. В дождь прямо так в постели и льет.
Гига раскрыл было рот, собираясь что-то сказать, но хозяйка говорила так быстро, что он не сумел ее прервать.
— А та авария, вы, верно, и сами знаете, не по вине мужа случилась. Здесь вот, недалеко у поворота на Кацхи, остановил машину на подъеме. Прошу прощения, по своему мужскому делу отошел в сторонку, за деревом укрылся, а беда, сами знаете, и в гору нагонит: покатилась машина, чтоб ей пропасть, и рухнула в овраг.
Гость встал, заложил руки в карманы и подошел к окну. Его аккуратно подстриженная голова с большими, как бы приклеенными ушами виднелась на фоне яркого окна словно вырезанная из черного картона.
— Вы, верно, удивились этим деньгам, уважаемая Пистимея, — глухо прозвучало в комнате.
Пистимея сидела понурив голову и молчала. Гиге показалось, что супруга Эрмине Сахамберидзе в общем-то не очень удивилась.
— Эти деньги, — продолжал Гига, — мой подарок. Я дарю их вашей семье. Просто так, в виде материальной помощи. Больше у меня не было, не то дал бы и больше. Вы думаете, я не знаю, что по нынешним временам эти деньги ничто, пустяк… — Он обернулся, взял папку и быстро пошел к выходу, но в дверях остановился. — Дай вам бог истратить их с пользой для семьи! — сказал и вышел.
Над окружающим двор частоколом выросли четыре головы: Пистимея и ее дети долго смотрели вслед странному гостю — тот уходил, волоча по земле пояс плаща, и, ни разу не обернувшись, скрылся за оврагом.
* * *
Когда он вернулся из ссылки, ему было сорок три года. Его опять назначили экскурсоводом в музее и вернули двухкомнатный дедовский дом. Словно ничего и не произошло. Словно и не было в его жизни тех страшных девяти лет. Ему сказали, что то было ошибкой, и посоветовали не очень-то допытываться до причин ошибки. Отец его умер от воспаления мозга, когда он был ребенком, мать — через год после его ареста. Братьев и сестер у него не было. Он осмотрелся в пустом доме, подумал и решил собрать немного денег и жениться. Все, что оставалось от зарплаты, он клал в копилку, сделанную одним из товарищей по заключению. Годы протекли между пальцев так, что он даже не заметил. Позавчера ему исполнилось пятьдесят восемь. Была суббота. Он сидел в галерее и рассматривал семейный альбом. У него расшалились нервы. Когда он смотрел на свою улыбающуюся с фотографий физиономию, ему казалось, что того наивного юнца ничто не связывало с нынешним пятидесятивосьмилетним Гигой Хачидзе. Рассердившись, он тупым ножом разбил копилку и опрокинул на пол. Он насчитал две тысячи одиннадцать рублей и восемь копеек. Он почему-то надеялся, что денег окажется гораздо больше. Вид денег не вызвал у него радости, а лишь убедил в собственной беспомощности. Первое, что мелькнуло в сознании, было: на эти деньги дома не перестроить и машины не купить. Особого желания жениться он вроде уже не испытывал. Одинокому, усталому, ему вдруг показалось, что он всюду опоздал. Словно прожил жизнь впустую, никому не нужный и лишний, и теперь не имело ни малейшего смысла начинать все сначала. Обхватив себя руками и поглаживая озябшие плечи, он ходил из угла в угол по комнате. Наливая молоко в миску кошке, он вдруг подумал: а что, если подарить собранные деньги какой-нибудь нуждающейся многодетной семье? Тем, кто знает, как их истратить… Эта мысль настолько обрадовала его, что он даже стал насвистывать. Был найден наиболее разумный способ применения денег, собранных по копейке в течение долгих лет. Его даже пробирал озноб, когда он представлял себе радость на лице человека, которому он подарит две тысячи рублей. Найти нуждающуюся многодетную семью оказалось не так-то легко. Два дня ходил он по городским окраинам. Ему не хотелось давать деньги знакомым. Если бы Пистимея не испугалась, он и себя не собирался называть. «Две тысячи рублей от неизвестного гораздо эффектнее, — думал он. — Вручу деньги, пожелаю всех благ и уйду». Утром кто-то подсказал ему, что за мостом на улице Андиа Синаури живет Эрмине Сахамберидзе, отец пятерых детей. Увидев покосившийся деревянный дом с черными окнами, он решил, что не стоит даже наводить справки у соседей — тот, кого он искал, был найден. Остальное читателю уже известно.
Разумеется, Гига Хачидзе был рад и доволен и как на крыльях летел к своему дому, но чего-то все-таки ему недоставало. Все получилось словно бы не совсем так, как он ожидал. «Хоть бы она спасибо сказала, что ли», — думал он о Пистимее. В конце концов Гига Хачидзе решил, что неожиданная радость вскружила женщине голову, и даже упрекнул себя: ведь он сделал подарок вовсе не для того, чтобы видеть губы, вытянутые для благодарственного поцелуя, и счастливые улыбки на лицах… Я хотел помочь нуждающемуся человеку, вот и все. Не сегодня, так завтра он узнает, что я сделал это доброе дело просто так, без всякой задней мысли…
Словом, наш герой вернулся домой с чувством человека, выполнившего свой долг, успокоенный и умиротворенный, и, сколько он себя помнит, ему никогда не спалось так сладко, как в ту ночь.
Утром, после завтрака, выйдя во двор и проходя мимо крана, он глянул в зеркальце, надетое на кол, и провел рукой по подбородку: пожалуй, надо было побриться.
Он вернулся на застекленную веранду, бросил на кровать пиджак, подогрел в чайнике воду, засунул за воротник чистое полотенце и принялся взбивать мыльную пену. К электробритве он так и не привык. Говорил, что ее жужжание действует ему на нервы, он быстрее и основательнее бреется старым дедовским способом. Весь в мыльной пене, проводя бритвой по навечно прибитому к столбу кожаному ремню, он вдруг заметил, что через калитку тянется чья-то рука в поисках крючка.
— Ниже! Ниже и правее! — посоветовал хозяин дома.
Калитка открылась, и показался коренастый, словно без шеи мужчина с черной кожаной повязкой на глазу и в плоской широкой кепке.
— Пожалуйте в дом! Извините, что не могу встретить…
Гость и без приглашения торил дорогу к дому. Когда он подошел к веранде, Гига узнал Ушанги Чедиа и не смог припомнить ни одного случая с самого детства, когда этот похожий на сову угрюмый шапочник заходил бы к нему во двор.
— Извини, пожалуйста, Ушанги, сейчас смою, — Гига привстал, но гость обеими руками надавил ему на плечи и чуть не силой усадил на стул.
— Да что ты, чего там… Брейся себе спокойно, а мне пару слов сказать, на ходу скажу или сидящему, все равно… Фруктовые-то деревья у тебя состарились. У меня тоже… — Ушанги глянул в окно. — Эта справа от крана, с обпиленными ветвями, слива, что ли?
— «Венгерка». — Гига продолжал бриться.
— Высохла?
— Наполовину. Посоветовали ветки спилить.
— А что «венгерка»? Тьфу, ерунда! Я бы на твоем месте с корнем ее вырвал и посадил бы белую черешню или персик. Только за персиком уход особый нужен, черт бы его побрал, нежный очень, у меня три дерева посажены и никак не подрастут, все три так и стоят недомерки.
— Уход нужен, уважаемый Ушанги. Дерево ухода требует. С утра до ночи надо во дворе крутиться с лейкой, мотыгой и садовыми ножницами. Сейчас все как-то так пошло, что даже трава без ухода не растет. Нужно время и желание. А у меня, сказать по правде, нет ни того, ни другого… — неторопливо, в паузах между движениями бритвы отвечал хозяин, хотя прекрасно видел, что Ушанги Чедиа меньше всего беспокоила судьба его обпиленной «венгерки».
— У тебя вроде и за домом есть землица? — подступал издали гость.
— Да что ты, тот двор давно отобрали.
Некоторое время они молчали. Когда Гига кончил бриться и собрался встать, гость счел подготовительный период законченным и перешел к делу.
— Слышно, начали деньги раздавать, уважаемый Гига, — эти слова вмещали в себя многое, в том числе и то, что говорящий был на стороне Гиги и тайну его выдавать не собирался.
Гига засмеялся:
— Начал, Ушанги, дорогой. А что остается делать…
— Ну и как? Получается? — мастер по шапкам сощурил свой единственный глаз и подался вперед.
— Очень выгодное дело, — Гига засмеялся громче, перебросил полотенце через плечо и встал, но, взглянув на заговорщицки замкнувшееся лицо гостя, сразу же посерьезнел. — Я же просил эту женщину никому не говорить.
— На меня можешь положиться, Гига-батоно, — шапочник прижал руку к груди, огляделся и понизил голос: — Сахамберидзе мне не чужие. Мы с Эрмине молочные братья.
— Какое это имеет значение. Просто не хочу, чтобы все узнали. Не люблю, когда шум поднимается вокруг простого дела.
Гига высунулся в окно и плеснул себе на руки воды из чайника. Ушанги вскочил и выхватил у него чайник.
— Ну что ты, не беспокойся… Я сам… Большое спасибо… — Хозяин утерся полотенцем, надел пиджак и сел против шапочника, молча рассматривающего висящую на стене фотографию.
— Я, конечно, тебя понимаю. Еще бы… я и сам так считаю: дело, вокруг которого много шума, обычно плохо кончается… Но хоть один-то человек тебе в этом деле нужен. В одиночку туго придется. Я так думаю своим умишком… — Ушанги зажал ладони между толстых ляжек и окаменел.
— О чем ты?
— Кто-нибудь свой… верный… надежный, я говорю.
— Ты шутишь, Ушанги!
Ушанги не отвечал.
— На что мне верный человек? Я денег не печатаю, чудак.
Однако и эти слова не изменили выражения лица Ушанги Чедиа. Он знал, что хозяин так просто ему не доверится.
— Поверь мне, Гига, надежнее меня тебе никого не найти. Не разговаривай со мной так.
— Как не разговаривать! Да ты в своем уме? — От негодования Гигу бросило в жар.
— Зачем шуметь? — Ушанги поглядел на калитку. — Я для тебя же говорю, для твоей пользы. А как, если попадешься? Должен быть кто-нибудь, кто за делом присмотрит… передачи принесет. Раз ты так, я доли не прошу, из трех процентов поработаю.
— Какой доли? Что за доля?! — У Гиги похолодели пальцы, комок подступил к горлу. — Что у меня есть, чтобы долю просить? Да знаешь ли ты, милый человек, что я эти две тысячи рублей пятнадцать лет собирал!
— Для кого? — вскользь обронил Ушанги.
— Для себя.
— Пятнадцать лет собирал для себя, а подарил этим Сахамберидзе. Так? — Шапочник нехорошо засмеялся и сложил руки на коленях. — Да кто в это поверит, Гига, дорогой? Кто теперь такое кушает? Послушай, выдумка хоть чуть-чуть должна походить на правду.
— Клянусь памятью покойной матери! — В голосе Гиги звучала мольба, и одноглазый впервые за время разговора внимательно взглянул на хозяина дома.
— Ну и как дальше-то думаешь?
— Что «дальше»?
— Завтра опять деньги начнешь собирать? Или бросишь это дело? А вообще-то канительно, ты прав. Эрмине Сахамберидзе еще пятнадцать лет придется ждать, пока ты ему новых две тысячи принесешь. Так, так… — Гиге никогда не доводилось слышать такой смех. Шапочник словно не смеялся, а гавкал; сверкал большими крепкими зубами и трясся всем телом.
— Значит, не веришь? — чуть не плача спросил хозяин.
— Верю, как не верить. Я и не такому еще верю. Раз ты веришь, то и я поверю… — Ушанги поднес руку к здоровому глазу, потер веко, расправил густые брови и встал. — Я свое сказал, а ты как знаешь. Ну, будь здоров…. Если что надумаешь, я там же работаю, у Зеленого рынка. Запомни, я тебе добра желаю. — С этими словами они спустились во двор, и, когда подошли к калитке, шапочник еще раз с ноткой сожаления в голосе попытался достучаться до хозяина: — Я себе сказал: с таким делом человеку в одиночку не управиться. Ты уже не мальчишка. А это дело нервное… Не думал я, что мы друг для друга чужие…
Гига Хачидзе даже забыл закрыть калитку. Некоторое время он стоял, прислонясь к «венгерке» с обпиленными ветвями. Переведя дух, плеснул на лицо воды из-под крана, вышел со двора и до самого музея ни разу не поднял головы.
Весь день он был не в духе. Молчал, словно воды в рот набрал. Часов в двенадцать ему пришлось сопровождать почтенную немецкую чету преклонного возраста, и он так быстро переходил от экспоната к экспонату, что старички едва поспевали за ним. Когда, без всяких извинений покинув супругов-интуристов, он вернулся к своему столу, высокий очкастый немец с изборожденным морщинами лицом на ломаном русском языке поблагодарил его за чрезвычайно интересную беседу и попросил разрешения на некоторое время задержаться в музее, чтобы посмотреть кое-что самим. Гига смутился, встал и сказал, что он не совсем здоров и просит извинить за спешку. «Разумеется, вы можете находиться в музее, сколько вам будет угодно». Поджарый немец долго жал ему руку и с довольной улыбкой говорил что-то по-немецки. Слава богу, в течение всего дня в музей больше никто не заглядывал.
Гига достал из стола «Идиота» Достоевского, но не смог читать — не читалось. После первых же пяти страниц его охватила злость, чего никогда не случалось при чтении любого писателя; все написанное в книге показалось ему болезненным и растянутым и, представьте себе, в какой-то мере даже надуманным и фальшивым.
Он не помнил, как пришел домой. Вечер был жаркий, душный, и Гига решил лечь пораньше. Уснул с большим трудом, но тут же проснулся.
— Гига! Гига, говорю! Слышишь, что ли? — звал кто-то у калитки.
— Сейчас!
Он сунул ноги в шлепанцы и распахнул окно.
— Сию минуту, батоно! Кто там?
— Выглянь на минуту, если можно!
На дворе было темно и лил проливной дождь. Второпях он накинул плащ, шаркая шлепанцами, спустился во двор и вскоре привел за собой на веранду промокшего до нитки высокого небритого мужчину в свитере мышиного цвета. Гига и при свете электрической лампочки не узнал ночного гостя и, натягивая штаны, еще раз проговорил, как бы оправдываясь:
— Уснул, будь оно неладно. Что-то мне сегодня не по себе. Долго пришлось звать? Садитесь, пожалуйста, — он подвинул гостю стул.
Незнакомец отжал воду из густых волос и бороды и боком присел на табурет.
— Я Эрмине Сахамберидзе.
— Да что вы говорите! — У Гиги просияли глаза, и он сильно пожал гостю руку. — Очень рад познакомиться, батоно Эрмине.
— Я, конечно, за вчерашнее благодарю, — бормотал Эрмине, потирая руки. — Но хотел кое-что уточнить, так, для себя… Вообще-то… извиняюсь, что ночью побеспокоил, но я подумал, поздно уже, а может, он и не лег еще…
— Хотел немножко вздремнуть и уснул. Что-то не по себе мне весь день. Потому и сморило. А то ведь обычно бессонница изводит. Трудно одному. Кроме вот этой кошки, в доме ни живой души. Разве что она голос подаст…
— Да… так-то оно так… А другие, скажу я вам, совсем наоборот. Вот мне, к примеру, только бы одному побыть и детского рева не слышать, вроде больше ничего и не надо.
— Что вы, что вы! Пятеро детей в доме — бесценный клад. — Хозяин почувствовал, что они говорят не о том, и сразу поскучнел.
— Гига, батоно, вы из каких Хачидзе будете? — со вздохом спросил гость; чуть всю душу не выдохнул.
— Да вы, наверное, не знаете. Мой отец умер совсем молодым. А почему вас это интересует?
— Так… просто… — Эрмине вытащил платок и вытер лоб. — Две тысячи, конечно, лучше, чем совсем ничего, но…
— Что «но», батоно Эрмине? — хозяин обратился в слух.
— А то, что… Может, я и не должен это говорить, но, сказать по правде, я побольше ждал.
— Почему вы ждали побольше? — опешил Гига.
— Потому что мне полагается. Моя жена восемь лет на шелкопрядильной в красильном вкалывала. Попробовали бы, каково руки в кипяток-то совать. Теперь даже щипцы не может удержать, чтобы уголек из камина вытащить. А меня, здорового мужика, в проходной на охрану поставили. Если они все еще не собираются машину мне возвращать, должны были больше прислать.
— Кто — они?
— Начальство.
— При чем тут начальство?!
— Теперь-то им просто. Нет ничего легче, как выгнать человека. Но разве какие-то две тысячи помогут мне поставить на ноги пятерых детей?
— Чего вы хотите от меня, батоно Эрмине? — У Гиги зашумело в ушах от прилива крови.
— От тебя ничего. У меня дело до тех, кто послал мне деньги. Я, дорогуша, не такой темный. Раз шофер, значит, ничего в законах не смыслю, так, что ли? Сам подумай, какой дурак поставит машину на подъеме без сцепления? Было и сцепление, и ручной тормоз до отказа, в заключении все так и записано. Но если нет везения — все, хана! Не повезло мне, понимаешь! Почему именно со мной это должно было случиться?
— Дорогой мой Эрмине, я ничего не знаю. Мне нет никакого дела до начальства и правительства. Я подарил свои деньги, собранные мной. Разве супруга не сказала вам?
— Конечно, батоно, но мы не такие уж темные. Всё понимаем. Я о другом, о том, что с другими, в конце концов, и хуже случается, а им новую машину — на, садись! Что уж такого я натворил? Сам бы и отремонтировал, честное слово. Рама целая, и с двигателем ничего страшного, только радиатор сменить.
— Какое-то время подержат вас в охране и вернут права. Они свое дело знают.
— А я так думаю: раз они дали мне эти две тысячи, значит, возвращать права и сажать за руль не собираются.
— Почему вы не хотите понять, что эти две тысячи рублей ни с кем не связаны? Я дал вам их из своего кармана. Тратьте на здоровье!
— Я одно скажу, — после небольшой паузы поднял голову Эрмине.
— Слушаю.
— При деньгах должен быть какой-нибудь документ. Квитанция, к слову сказать, или расписка? Подпись на чем-нибудь надо поставить или нет?
— Опять за свое?! — Гига почувствовал, что его нервы вот-вот не выдержат. — Может быть, вы хотите, чтобы меня хватил удар? Какая квитанция? Я дал вам деньги из собственного кармана. Спросите где хотите.
— Что ты на меня шумишь? — Эрмине встал. — Или голосом взять хочешь? Пока что я говорю с тобой как с порядочным человеком, а надо будет, так и спрошу. А ты думал? Мы и дорогу знаем, и адреса, и телефоны. Не из лесу небось. Время такое…
— Значит, это ваша благодарность. Правильно я понял, батоно Эрмине? — Гига дышал с трудом, ноздри у него раздувались, нос побелел.
— Вы, интеллигенция, не обижайтесь, когда вам правду в глаза говорят. А нервы и у нас имеются… Я так думаю, что и вы не ангелы. Ни о ком не хочу сказать плохого, но разные бывают случаи, разве не так?
— Какие случаи?
— А такие, что человеку выписали четыре сотни, а две зажал тот, через кого их передали. Деньги штука липкая, я ни в чем вас не обвиняю, но все надо проверить, и незачем тут в бутылку лезть. Даже между братьями счеты считаются, а кто мы друг для друга? Никто.
— Идите куда хотите и выясняйте где вам будет угодно! — Гига не узнал собственного голоса. На висках у него колотились жилки, а ноздри точно стянуло морозом.
Когда они спускались по лестнице, Эрмине задержался на ступеньке, наклонился к хозяину и тихо спросил:
— Еще вот что скажи: мою жену знал раньше?
— Какую жену?
— Ту самую, которой ты деньги принес.
— Пистимею?
— Да.
— Не знал. Вчера в первый раз увидел. — До Гиги вдруг дошло, на что намекал гость. — Не стыдно тебе, Эрмине? Я тебя за мужчину считал.
— Кто из нас мужчина, а кто нет, это тоже в надлежащем месте выяснят. Не твое дело, мужчина я или пробка! На свете ничего не скроешь, запомни хорошенько… Ничего не скроешь! — угрожающе сквозь зубы процедил Эрмине и растворился в темноте.
Гига Хачидзе долго стоял у калитки под проливным дождем и смотрел в темноту. Одну руку он прижимал к сердцу. По его щекам текли слезы, смешанные с дождем.
На улице не было ни души.
Неделю его никто не беспокоил.
В тот день сотрудников музея возили на сбор чая, и Гига вернулся домой поздно.
Войдя во двор, он сразу заметил, что дверь на веранду открыта. Он не испугался (красть у него было нечего), но, совершенно уверенный в том, что утром запер дверь (у него расшатался замок, а сменить не доходили руки), крикнул в темноту:
— Кто там?
В дверях возникла чья-то тень.
— Гость я, не пугайся, пожалуйста.
Голос был незнакомый и молодой.
Гига быстро поднялся по лестнице и с трудом нашарил выключатель.
Перед ним стоял сухопарый, красиво причесанный парень с острым, как клюв, носом и в очках. Ему было лет двадцать пять. Белоснежная сорочка, галстук с большим узлом, из кармана пиджака торчал платок того же цвета, что и галстук.
— Не сердись, ради бога, пять часов тебя жду, устал на ногах. Когда дождь стал накрапывать, решил под крышей переждать, встал на крыльце, к двери прислонился, а она и открылась. Видно, не запер с утра. Вот я и караулю твой дом. Тоже дело. Верно?
— Я вообще не запираю. От кого запираться? Если с вора шапку сорвать и в мой дом бросить, он за ней не полезет.
— Ты прав. Вор знает, к кому лезть.
Гиге не понравился панибратский тон незваного гостя, но предъявленное удостоверение настолько его удивило, что он даже раздумал мыть руки, вынес гостю плетеный стул, сам присел на табурет и обратился в слух.
— Догадываешься, по какому я делу? — Молодой человек снял очки, дохнул на них, тщательно протер и снова надел.
— Нет, — в ответе хозяина слышался вопрос.
— К нам приходил Эрмине Сахамберидзе.
— Пожаловался?
— При чем тут жалоба. Просто человека интересует, что, как и почему. Ты бы на его месте не поинтересовался?
— А что его интересует?
— Со мной тебе не стоит так разговаривать. Ты человек опытный, поживший и в наших делах, слава богу, разбираешься. Я человек маленький, и ты это знаешь. Мне приказали выяснить, и я пять часов торчу под твоей дверью. Ты отлично знаешь, что интересует этого Сахамберидзе.
— Но ведь я ему все объяснил. Зачем он к вам обратился?
— Ты должен радоваться, что он пришел к нам. Было бы хуже, если б он подался в милицию или в суд. Мы сейчас всё выясним, я доложу начальнику, вызовут этого Сахамберидзе, разъяснят ему дело, и точка. Разве так не лучше? — Очкастый молодой человек бодрым, веселым тоном произнес последние слова и даже прихлопнул в ладоши.
— Вам нечего выяснять. Я, Гига Хачидзе, отдал свои сбережения, собранные мною две тысячи рублей, нуждающемуся Эрмине Сахамберидзе, отцу многочисленного семейства. Подарил ему. Нельзя?
— Что?
— Подарить.
— Разве я сказал, что нельзя? Что это ты как-то разговариваешь?
— Как?
— С вызовом. Между прочим, я давно заметил, у вас — у реабилитированных — одинаковый тон.
— Раз вы меня знаете, вам должно быть известно, за что я сидел и когда реабилитирован.
— Я одно не пойму: почему вы думаете, что вас нельзя снова посадить? Конечно, если совершите что-нибудь противозаконное.
— Мы свое отсидели и за себя, и за других. А вам я посоветовал бы последить за своими словами. Нагляделся я на таких инструкторов…
— Ну что я такого сказал? — инструктор засмеялся и заложил ногу на ногу. — Знаешь, в чем моя ошибка? В том, что я сам пришел, своими ногами. Надо было прислать машину, отвезти тебя к ним, там бы ты по-другому заговорил.
— Слушай, белены ты, что ли, объелся? Сделай милость, не выводи меня из равновесия. Это дело мне уже не по нервам, истрепались нервы. Говори, чего тебе, и кончай! — не удержался Гига и в ту же секунду осек себя: с этим молодцом нельзя вступать в перепалку, кто знает, что у него на уме.
— Значит, ты отнес Эрмине собственные сбережения?
— Да.
— Подарил?
— Подарил.
— Знаешь ли ты еще кого-нибудь, кто так же собирал бы деньги и потом дарил их?
— Нет.
— Не собирается ли кто-нибудь из твоих друзей сделать то же самое?
— Не знаю.
— Постарайся вспомнить.
— Не припоминаю.
— Ты сам решил помочь Сахамберидзе или кто-нибудь посоветовал?
— Сам.
— Почему выбрал именно Эрмине?
— Не понял.
— Почему ты отнес деньги именно Эрмине Сахамберидзе, а не отдал, допустим, Васо Хурцилаве. Он живет через три дома от тебя, и у него тоже пятеро детей.
— Я хотел помочь незнакомому. К тому же Васо Хурцилава, дай ему бог, в моей помощи не нуждается.
— Был ли ты знаком с Эрмине раньше?
— Нет.
— А с его женой?
— И с его женой.
— Кто направил тебя к Эрмине?
— Я его не знаю. Спросил на улице у прохожего, кто тут живет многодетный, нуждающийся…
— Как понимать — нуждающийся?
— Такой, как Эрмине Сахамберидзе.
— Когда ты пришел, его жена сама сказала тебе, что они нуждаются, и попросила помощи?
— Нет, она этого не говорила.
— Сказала, что они не нуждаются?
— Я не спрашивал.
— Выходит, ты вошел, огляделся, увидел, что с потолка не свисает хрустальная люстра, решил, что эта семья нуждается, сунул под тюфяк две тысячи рублей и назад.
— Под тюфяк она сама их сунула. Я в руки дал.
— Пересчитала?
— Да.
— Разве дареные деньги считают? Допустим, там не хватило бы десятки-другой. Она не взяла бы?
— Не знаю.
— Не знаешь, почему она пересчитала?
— Не знаю.
— И того человека не помнишь, который к Эрмине тебя направил?
— Помню.
— ?!
— У него на носу была бородавка и усы плохо выкрашены.
— Я с тобой серьезно, а ты дурака валяешь!
— Я к нему не присматривался… Не знаю…. Если еще раз встречу, может, и узнаю.
— Почему тебе непременно надо было остаться с ней наедине?
— С кем?
— С Пистимеей.
— Не хотел, чтобы дети видели деньги.
— Пистимея поблагодарила тебя?
— Нет.
— Почему?
— Не знаю. Это ее дело.
— Теперь, если тебе интересно, я скажу мое мнение: то, что ты сделал, это не добро. Вернее, наивное, глупое добро. Я очень хочу поверить, что ты и в самом деле просто так, из добрых побуждений подарил деньги семейству Сахамберидзе, но не могу. И ты отлично знаешь почему. Все, что ты рассказал, похоже на выдумку, к тому же неубедительную. Люди давно отвыкли от поступков такого рода. Если ты хотел уважить Сахамберидзе, помочь ему, надо было сделать это в какой-то другой форме. Я сейчас говорю так, как если бы все рассказанное тобой было правдой. Ты не подумал, что Пистимея с Эрмине могут принять эти деньги не за подарок, а за компенсацию или еще что-то от его бывшей организации?
— Не подумал.
— Вот. А мы никак не можем убедить этого человека, что ты не присвоил часть его денег.
— Пусть это остается на его совести. Меня не интересует, что будет думать обо мне Эрмине Сахамберидзе.
— А это уже неправда. Ты потому-то и отнес ему деньги, что тебя очень интересует, что будет думать о тебе Эрмине Сахамберидзе.
— Это ваш домысел.
— Сколько вам лет?
— Пятьдесят восемь.
— Дожили до таких лет и неужели не поняли, что вашу глупую щедрость сегодня не оценят? Сейчас другое время.
— Какое?
— А такое, что благотворительность нынче не в моде. Взять и подарить человеку деньги — в этом сегодня есть даже что-то унизительное, оскорбительное.
— И это тоже ваш домысел. На добро моды не бывает.
— Подумайте как следует. Ведь может самолюбивый человек Эрмине Сахамберидзе сказать вам: я тебе не нищий, суешься со своими деньгами.
Гига замолчал. Он решил, что спорить не имеет смысла: если спросит что-нибудь — отвечу, а нет — буду молчать.
Гость встал:
— Общая картина ясна. Нужно еще уточнить некоторые детали, может быть, для этого придется разок зайти к нам. Всего хорошего! — Он взял стоящий у двери плоский чемоданчик и легко сбежал по лестнице.
Если поначалу Гигу задел фамильярный тон молодого человека, то теперь еще больше поразила его официальность и неожиданный переход на «вы».
* * *
В три часа ночи к Белому мосту со стороны сада Цулукидзе подошел пожилой человек.
Посвист ветра мешался с ропотом Риони. Безлюдный город казался покинутым.
На крыше бани тускло мерцала единственная лампочка, под ней на асфальте, вытянув ноги, спал сторож без ружья, в сползшем на глаза башлыке. Человек долго, очень долго смотрел с моста на Риони. Потом выпрямился.
Снял шапку и бросил в реку.
За шапкой полетели плащ, пиджак и даже галстук. Человек перелез через перила моста и… Словно какая-то неведомая сила остановила его, он перебрался назад, спрыгнул на мост и побежал. В ночи долго слышалось топанье его башмаков.
Я желаю тебе, дорогой читатель, чтобы эта неведомая сила не покидала тебя в самые тяжелые минуты твоей жизни.
Перевод А. Эбаноидзе.
ЗИМА
Наша деревня и так немноголюдна, а зимой и вовсе вроде вымерла: дел никаких, не с кем словом перекинуться. Нельзя же с утра до вечера сидеть у радио?
Прямо рехнуться можно от скуки.
На охоту я больше не хожу, ноги не держат. Честно говоря, я и в молодости не был большим любителем охоты.
Встанешь в этом промерзшем доме, наколешь дров, натаскаешь воды, подсыплешь сена корове и сиди потом у камина. Грудь согреется, спину холодит, повернешься — спина греется, нос мерзнет.
Уставишься в окно, и леденит душу застывшая картина — месиво грязи в проулке истыкано вдоль и поперек копытами.
Высунешь голову из кухни, и запах навоза шибанет тебе в нос.
Собаку хоть палкой бей, не выгонишь во двор, развалилась у камина и дрыхнет. Ничто ее не беспокоит: бросишь ей кусочек мчади[1] — сжует нехотя, а не бросишь — убиваться из-за этого не станет.
Как красиво изображают в кино нашу бесконечную имеретинскую зиму: тут тебе и кувшин с вином, тут и собравшиеся у камина соседи, здесь же горячее мчади и «чарирама». Это все хорошо, дорогой мой! Но хорошо раз, другой, вчера, позавчера, две недели назад, но не каждый же день?! Изо дня в день холодное мчади, прокопченный камин, третьего дня сваренное лобио и скука, расслабляющая и изнуряющая, бередящая душу скука!
Никому до тебя нет дела, никто не вспоминает о тебе! Каждый дремлет у своего очага и не хочет на улицу показаться.
Какие там гости, какие там посиделки. Дотянешь как-нибудь до вечера, а потом попробуй-ка дождись рассвета. Нескончаемо долги зимние ночи.
Затухает огонь. Тебе неохота идти во двор за дровами. Вздремнешь у камина. Впившийся в плечи холод будит тебя. Всего бьет озноб. Тянешься к кровати. Задыхаешься от злости.
Нет чтобы жена легла раньше тебя и согрела постель. Сидит у лампы и перебирает мерзлую зелень. Каково теперь лезть в эту стылую постель. День проходит так, что мы с женой и парой фраз не обменяемся.
Да и о чем нам говорить, что сказать друг другу нового? Мы же не какие-нибудь молодожены. Сорок лет пилим друг дружку. Все наперед известно, все ясно.
Прибрал и этот день господь. И что изменилось? С зарей опять вставай, опять наколи дров, натаскай воды, задай корму корове и пристраивайся у камина. Смоли самокрутку и до удушья заходись в кашле. Он-то, кажется, меня и доконает, больше вроде нечему.
В полночь слышу — скулит собака. Осталась на ночь у камина и теперь просится во двор.
Я чуть было не лопнул от ярости. Как теперь сызнова засыпать прикажете? Вдел ноги в галоши и прошаркал к двери. Собака пулей выскочила наружу. Закрываю дверь на крючок, и что-то вдруг как толкнет меня. Я так и качнулся вперед. Ну, давление подскочило, думаю. Потом качнуло еще разочек. Чувствую, будто пол из-под ног уходит и я повисаю в воздухе. Кое-как добрался до постели. Моя Пелагея сидит на кровати и смотрит на меня.
— Ты ничего не заметил?!
— А что я должен был заметить? — Закутываюсь потеплее в одеяло.
— Ничего такого не почувствовал?
— О чем ты?
— Вот сейчас, сию минуту, ты ничего не ощутил?
— Ничего. — Не хочется говорить ей насчет давления. Заохает, засуетится, а помочь все равно ничем не поможет.
— Никак, землетрясение было. Кровать аж вверх подкинуло.
— Спи, слушай, это сон тебе такой приснился или голова неудобно на подушке лежала.
Только скажи я это, а землю снизу как тряханет — мы с Пелагеей оба на полу очутились.
Дом наш трясется, колышется, дребезжит. Словно закружился и полетел куда-то, словно волной его подхватило, и понесся он стремглав в бушующее море.
У страха глаза велики. Я попробовал было встать, но колени не послушались. С противным звоном разбилось зеркало. Посыпались с полок кружки, миски. Пелагея нашарила меня в темноте и так отчаянно прильнула ко мне, точно я что-то мог изменить.
Все это произошло в мгновение ока. Когда стены дома как будто угомонились, я потянулся за коптилкой и только сейчас услышал мычание скотины и одиночные выстрелы на селе.
Мы оделись потеплее и выбежали во двор.
Кое-где в домах горел свет.
— Э-ге-гей!
— Кто это?
— Это я, Минаго, слышите меня?!
— Ага!
— Как вы там, Титэ? Живы?
— Живы, живы!
— Испугались небось?
— Пелагея вот струхнула малость, икает!
— Ну и силища, будь она проклята!
— Не говори, слушай, не говори.
— Теперь уже можете спать идти, больше не тряхнет, не бойтесь!
— Откуда ты знаешь, Минаго, чего доброго, прихлопнет нас в доме как мух!
— Да нет, толчков уже не будет, я знаю, идите домой, а то простудитесь.
В окнах Минаго погас свет. Я и Пелагея какое-то время ходили по двору, потом холод стал прохватывать нам ноги, и мы пошли в дом. Сколько ни кликали пса, так и не смогли зазвать его в комнату.
Толчков и вправду больше не было, но с нас хватало и того страху, что мы натерпелись.
Вот я уже шестой десяток разменял, а чтобы землетрясение или что-нибудь в этом роде в наших краях произошло, такого не упомню. Подумать только! Подумать только, какая недюжинная сила подбрасывала, словно щепку, такой большой дом, да что дом — всю нашу деревню со всем ее крупным и мелким рогатым и безрогим скотом, движимым и недвижимым имуществом.
Хорошо еще, что земля колыхалась по вертикали: вверх-вниз, а то, колыхнись она из стороны в сторону, никакие бы стены не выдержали.
Едва рассвело, я первым делом обошел дом вокруг: посмотреть, нет ли где трещины. Пронесло, слава богу. Потом побежал к скотине — здесь тоже был полный порядок. Для всей этой домашней живности мир начинает рушиться, только когда перестаешь вовремя давать ей сена и отрубей. Стоят в вонючем своем стойле и в руки мне уставились, будто и не случилось ничего нынче ночью. Будто та неистовая сила, сотрясая сердцевину земли, грозила лишь нам, людям.
Идет дождь пополам со снегом. Влажная набухшая снежинка чиркнет блеклым штрихом по воздуху и, упав на мокрую землю, тут же тает. Меня прямо мутит от этой смеси снега с дождем. Пусть лучше сыплет один снег. Тогда хоть преобразится немного округа.
— Эу, не слышишь, что ли?
— Слышу, слышу!
Минаго шлепает по грязи.
— Все у вас в порядке? Доброе утро!
— Бог миловал. Доброе, доброе! А у вас как?
— Обошлось. Вот у Шакро Харабадзе дом обрушился.
— Да что ты?! — испугался я.
— Успели выскочить. Как тряхнуло первый раз, схватил Шакро детей и прямо во двор. Кажется, жену задело кирпичом. Так, слегка, ничего серьезного.
— Ну слава богу, раз сами-то целы и невредимы остались.
— Должно быть, на этом не кончится, видать, по второму заходу качнет. Что тогда будет, не знаю.
— Чего ж ты ночью-то трепался: идите, мол, в дом, толчков больше не будет!
— А что мне оставалось делать? Ведь замерзли бы на морозе. Да и какая тебе разница: на морозе ли закоченеть или быть заживо погребенным? Одно плохо: пускай бы прямо во сне и приканчивало человека. А то сперва разбудит тебя, подбросит, как мяч, а ты только и можешь, что глазами хлопать.
— Нашел тоже над чем шутить.
— Отчего ж мне не шутить?! — растянул лицо в улыбке Минаго.
Я надел резиновые сапоги. Натянул на голову сложенный в виде капюшона мешок.
— Пройдем так, задами.
— Здесь грязь по колено.
— Давай, давай пошли тут, по новой дороге больше грязи. Надо бы гравия там подсыпать, иначе не то что машина, арба не проедет.
Шакро живет на склоне оврага, у самой воды. Двор у него довольно большой, но что толку — место неровное. Как он ухитряется обрабатывать эти бугры и впадины, просто диву даешься. С братом у него ссора вышла — и переселился он в позапрошлом году сюда. Этот дом ему тесть подарил. Честно сказать, ветхий был домишко. С трудом его собрали. Вообще чем канителиться со старым домом, перевозить его, заново ставить, лучше уж новый построить, расходы все равно те же. Тут хоть знаешь, что дом новый, и живешь со спокойной душой.
Вот и овраг. Здесь уже вовсю кипит работа. То, что не доделало землетрясение, завершили соседи. Разобрали дом Шакро и сложили по частям во дворе. Женщины снуют взад-вперед, перетаскивают разный домашний скарб на кухню. У Шакро новая кухня, крытая дранкой. Ничего, жить в ней можно. Мы с Минаго тоже взялись за дело, поставили козлы под ореховым деревом — доски пилить.
Человек десять подсобляют Шакро. Сегодня уж не успеем, а с завтрашнего дня примемся за дело вплотную. Только сейчас Шакро выбрал для нас время. Подходит к нам и смеется. Не свихнулся ли, несчастный: у него дом обрушился, а он смеется!
— Что зубы-то скалишь? — сердито встретил я его.
— Дядя Титэ, наверное, найдется во всей деревне хоть один человек, который рад моему несчастью? Да что тут говорить, конечно, найдется. Вот я назло тому человеку и смеюсь. Не буду же я плакать и волосы на себе рвать?! Этим горю не поможешь. Пусть враги мои плачут. А мне незачем слезы лить. Вот только жена немного занемогла: черепица ей в спину угодила, а так бог миловал. Да и этого бы не случилось, послушайся она меня. Беги, говорю, слушай, скорее во двор! Дети у меня оба на руках, цепляются с перепугу за шею. Ей бы сразу следом за мной выскочить, куда там! — возится чего-то, боты застегивает, даже в зеркало, кажется, успела посмотреться. Стою во дворе и ору ей. Детей не мог оставить, а то сам бы ее выволок. Думаешь, кричу, землетрясение тебя дожидаться будет? Ну а как только высунулась наконец, тут-то ей и — бац! — черепицей по хребту. Тогда уж будь здоров как изволила припустить!
С таким смаком и так живо рассказывает это Шакро, что мертвого может рассмешить. Соседи пришли к пострадавшему человеку утешить, поддержать, подбодрить. А у пострадавшего, оказывается, и без того преотличное настроение. Дай бог ему здоровья и удач.
На другое утро чуть свет собрались мы у Шакро. Я и Минаго приволокли два пятиметровых бревна. Три года сушили их в лесу в укромном, потайном месте. Смотрим, и другие тащат кто что может. Одни — столбы тесаные, другие — доски. Судили, рядили, взвесили, прикинули: если что надо заменить, заменим, что надо добавить, добавим и воздвигнем дом. Врагу своему не пожелаю, чтобы деревня отвернулась от него в такой бедственный час.
Дело у меня появилось. Ожил я. Вот уже третий день подсобляем мы Шакро. Работы еще дня на два хватит.
Что может быть лучше? Собрались все вместе, заняты делом, помогаем человеку. В сумерки хозяйка накрывает нам на стол. Даже у еды совсем другой вкус. В небольшом чури[2] в марани Шакро давно уже дно показалось. Каждый вечер навеселе возвращаемся домой. Теперь и не замечаешь, как темнеет и светает. А сколько балагурим! Наши ребята мастаки на шутки и зубоскальство. На свою голову рассказал я (каждый о себе рассказывал), как мы с Пелагеей со страху прижимались друг к другу на полу. Ну они и намотали это себе на ус. Разве Минаго заставишь замолчать? Вот уж у кого и вправду язык без костей. «Дядя Титэ, — говорит, — кто был снизу, ты или жена твоя Пелагея?» Вот такой он у нас распущенный. Без скабрезностей не может. Мысль у него всегда в одном направлении работает. Сущий бес, а не человек. «Брось ты, — говорю, — языком своим паршивым молоть». Но чем больше я злился, тем смешнее делалось ребятам. «А, ладно, — думаю, — пускай себе гогочут: надоест — и перестанут».
…Вот уже две недели, как мы отстроили Шакро дом, и вновь подступило ко мне одиночество. Опять долгие ночи. Опять дрова и сено, сонная собака и камин. Опять моя онемевшая от бесконечных хлопот старуха.
Наконец-то пошел снег.
Раза два кряду ударил сильный мороз. Мороз уплотнил снежный наст, а потом началось: сыплет и сыплет снег. Целый день стою у окна и смотрю на падающие снежинки. Снег шел и всю ночь.
На другой день высота снежного покрова немного встревожила меня. Занесло всю лестницу, и сугроб прямо к балкону подступает. У колодца только скат навеса и виден на вершок. Значит, на добрых полтора метра поднялся покров. Первым делом надо расчистить тропинку к туалету. Накинул тулуп и взял совковую лопату.
— Сначала до калитки любимого соседа дорожку надо проторить, верно, дядя Титэ? — кричит мне со своего двора Минаго. — Не забыл, надеюсь? Доброе утро!
— Верно, конечно, но до уборной все-таки важнее, — смеюсь я. — Доброе, доброе.
— Снегу-то сколько навалило.
— Да. Похоже, подбавит еще. Тяжелый, видать, снег.
— Не говори. Прямо руки не свои. Только что прошел на ходулях сын Иполитэ, говорит, что у Шалико Хабурзания крыша обвалилась. Не знаю, верить или нет.
— Когда, говорит, обвалилась?
— Нынче ночью.
— Ну-ка накинь что-нибудь потеплее, и сходим посмотрим.
Что это, господи! Что со мной происходит! Я ловлю себя на том, что вроде бы обрадовался несчастью Шалико Хабурзания.
«В чем дело? Может, это старость? Может быть, тоска по работе? Заявимся теперь к Шалико, дня три поработаем у него, побудем все вместе, поболтаем, посмеемся, — пронеслось у меня в голове. — Ну мыслимо ли это? Одурел я, что ли, совсем? Что за дьявол сверлит мне душу изо дня в день? Было время, когда я и не знал, что такое тоска или скука. Какая там скука, до скуки ли было. На пустом месте мог найти себе занятие. Неужели все это уходит с годами, а может, я просто болен?»
— Ну чего тянешь, я ведь жду тебя, замерз.
— Я не пойду, сходи ты один, — задумчиво сказал Минаго и отвел взгляд.
— А-а! Да, да, я совсем забыл. Ладно, я пошел, — сказал я и зашагал прочь, ступая в следы ходулей.
Как это я забыл, что Минаго и Шалва в ссоре. В прошлом году Шалва пырнул вилами беременную свинью Минаго, забредшую к нему во двор. Свинья тут же опоросилась мертвыми поросятами. Я и Минаго своими глазами всё видели. Опоросилась матка в страшных муках и издохла тут же на месте. С тех пор Минаго не здоровается с Шалико. Они не ругались, слова худого не сказали друг другу. Только Минаго перестал здороваться с Шалвой, разве это мало значит?
Правду, оказывается, говорил сын Иполитэ. Крыша дома Шалико совсем осела. Видно, стропила подгнили, не выдержали тяжести.
Шалико ходит по кровле и сбрасывает черепицы в снег. Как же так можно: упадут черепицы одна на другую и расколются. Надо бы поставить человека три вверху на лестнице и передавать черепицу из рук в руки. Странный все-таки этот Шалико, что верно, то верно.
Я сперва удивился, что никого посторонних не было у него во дворе — одни домочадцы, но, думаю, наверное, соседи еще не успели прослышать, и, не спросясь хозяев, толкнул калитку. Она не поддавалась. Я сгреб перед ней снег в одну сторону, чтоб было удобней налечь на нее со всей силой. Калитка чуть приоткрылась.
Нет, ни за что на свете не поверю, хоть десять философов пускай меня убеждают, не поверю, что Шалико прав. Не ожидал я от него такого. Всякий волен в своих поступках, но не должны же эти поступки граничить с сумасшествием! К тебе, слушай, приходит человек: не волнуйся, говорит, дорогой Шалва, я мигом созову соседей; ты пока немного строительного материала подсобери, молотки, гвозди нам приготовь, а я, мол, пойду ребят покличу. «Не тушуйся, — говорю, — вон у Шакро вообще дом с землей сровняло, а у тебя, — говорю, — хоть стены целы…» Что может ответить на это любой нормальный человек? Он должен сказать: «Большое спасибо, Титэ, дорогой, дай бог тебе здоровья, ну-ка зови соседей, и бог нам в помощь — разом перекроем крышу». А как вы думаете, что мне ответил Шалико?.. «Не стоит беспокоиться, Титэ, нет нужды всем миром здесь топтаться. Я еще никакой пользы, — говорит, — от мира не видел. Сами как-нибудь справимся, — говорит, — без чужой помощи обойдемся. Людям, им только лясы точить и дело затягивать, им развлечений и зрелищ подавай, а я не собираюсь на зиму глядя комедию на моей крыше устраивать…» Но еще полбеды было бы, если бы он только это сказал. «Сапоги, — говорит, — должен тачать сапожник. А чего от мира ждать, когда каждый только и смотрит, когда ему чайными стаканами подносить начнут. Никто из них по моему вкусу и разумению и гвоздя в стенку не вобьет. Нет, лучше я мастеров приглашу, заплачу что положено, но уж хоть знать буду, что на совесть сделано. Да и в долгу ни перед кем не окажусь и никому не буду чувствовать себя обязанным. Мир этот ваш сделает тебя сегодня на грош, а стребует с тебя завтра на десять. Так что не стоит, — говорит, — беспокоиться, Титэ, иди, — говорит, — домой, займись лучше своими делами». Прямо так и сказал. Ну что ты ему ответишь на это? Ладно, раз не хочет человек, насильно мил не будешь. Но извольте рассудить: человек ли он после этого?
Волк и то лучше такого человека. Сколько раз видел: сойдутся вместе зимой голодные волки и воют. Желудки им, слушай, сводит от голода, рычат один на другого, видеть друг друга не могут, а все равно вместе. Вместе воют. Понимаешь ты, вместе!
* * *
С тяжелым сердцем бреду домой по снегу.
И чего это мне неймется?!
Пока сам человек не попросит: помоги, мол, — кто тебя заставляет совать нос в чужие дела?
Нет, дорогой мой, так тоже никуда не годится. Пусть враг мой воротит нос от чужой беды. Пусть он и живет по принципу — моя хата с краю. Миром собираются не только для того, чтобы помочь человеку, а еще и потому, что людям вместе побыть хочется. Понимаешь ли ты всю красоту единения человеческого?
Как только я ступил к себе во двор, взгляд мой упал на наш кукурузный амбар, и одна мысль пришла мне в голову. Прости мне, господи, но амбар у нас и в самом деле совсем старый. Если снег не перестанет валить, кто его знает, может, он не выдержит тяжести и обвалится.
Не разгибаясь, я часа два перетаскивал кукурузу из амбара на кухню во дворе. Полных два годори[3] высыпал и расстелил ровным слоем там, на чердаке.
Пелагея глядит на меня удивленно, но молчит. Знает Пелагея: если я что делаю, значит, так надо. Потом, когда жена ушла в дом, я взял новенькую пеньковую веревку и захлестнул петлей торец главного венца амбара, под самой крышей. Огляделся по сторонам, как вор: не смотрит ли кто, спрятался за кусты и дернул веревку. Амбар мой выстоял. Я зажмурился и дернул что есть силы. Амбар с глухим стоном осел.
Я молниеносно сбросил веревку с венца, смотал ее и повесил на прежнее место. Отряхнул с себя снег, зашел в дом, примостился как ни в чем не бывало у камина и говорю склонившейся над прялкой Пелагее:
— Замеси-ка тесто, на завтра хлеба надо будет испечь. Рябую курицу и ту хохлатку с красными ножками, что яйца все не несет, не выпускай утром из курятника. Ребят позвать собираюсь, подсобить мне должны. У нас от снега амбар завалился.
Пелагея молчит. Значит, все в порядке. Интересно, догадалась ли Пелагея?
Перевод А. Абуашвили.
ГУДЖУ
Гуджу Маисурадзе стоял у ворот и пытался в щель разглядеть утопающее в зелени четырехэтажное белое здание. Попробуй-ка что-нибудь разглядеть сквозь кроны раскидистых платанов. За закрытыми окнами не видно было ни души. Гуджу сгорал от любопытства. Ему до смерти приспичило узнать, что происходит в этом здании. Скоро уже полгода, как на улице Капитана Бухаидзе появилось новое учреждение, а до сих пор никто не мог толком объяснить Гуджу, что это за учреждение. Нынче Гуджу попробовал туда проникнуть; прямо, без церемоний открыл калитку, но тут из будки вышел очкастый старик в штанах цвета хаки и потребовал пропуск.
— А без пропуска нельзя? — Гуджу и не думал отступать.
— Нет, уважаемый. Вы откуда?
— Да я на этой улице живу, пятый дом отсюда.
Вахтер успокоился.
— В добрый час, только без пропуска все равно нельзя.
— А кто выдает пропуска? — поинтересовался Гуджу.
— Директор или заместитель. Вы к кому будете?
— Да мне-то все равно. Я не по делу. Просто интересно, что внутри делается.
— Ну, ты даешь, — сторож почесал затылок под своей теплой ушанкой. — Я-то думал… Так ты за этим и пришел в такую слякоть?
Погодка и впрямь была не из приятных. Вообще февраль в Кутаиси теплый, однако на сей раз, хотя последний зимний месяц был на исходе, сама зима уходить не собиралась. Солнце выглядывало только в полдень, и то на полчаса, ветер пронизывал до костей, так что действительно без неотложного дела нормальный человек не стал бы выходить из дому, от теплой печки. На улице крайне редко появлялся с раскрасневшимся от стужи лицом прохожий.
— Разве я не должен знать, что здесь происходит, на моей улице? — искренне удивился Гуджу.
— Зачем тебе это, родной мой? Все остальное на этом свете ты уже знаешь? — утешил вахтер досужего соседа.
— Чего не знаю, того не знаю, но так же нельзя. Если что-нибудь секретное, пусть нам так и скажут, будем знать, что секретное, и спрашивать ни о чем не станем. Я же говорю, живу тут, пятый дом отсюда.
— Кто вы по специальности?
— Какая разница. Я человек простой, сапожником работаю. Не в этом дело. С этого места четыре семьи переселили. Им-то дали квартиры, и в хорошем месте, да нам все-таки больно. Сам понимаешь, что такое старые соседи. А потом, сударь мой, привезли эти огромные ворота. Кто это начинает с ворот? Сперва дом строят, так у нас принято, а потом уж ворота ставят. Моргнуть не успели, как построили это здание и угнездились внутри, как в курятнике. И ни гугу. Утром пригромыхает автобус, из него вылезают какие-то люди с портфелями, бегут наперегонки к воротам, а в пять часов снова приезжает автобус и увозит их. Спрашивать ведь не стыдно? Столько времени караулю, и никто еще отсюда не вышел, чтобы я мог задать человеку вопрос: скажи мне честно, чем вы там занимаетесь, что там внутри творится?
— Ничего там интересного не творится внутри, четырьмя внуками тебе клянусь, говорю, что знаю. Ничего не скрываю. Ей-богу, не на что там смотреть.
— Ну а что все-таки? — Гуджу даже руку к уху приложил.
— Комнатушки малюсенькие. Сидят за столами. Кто помоложе, кто постарше, моих лет. И пишут. А что пишут — кто его знает. Мне разве скажут. Говорят, какой-то исследовательский институт, ученые трудятся. Вот и всё.
— Дай бог тебе здоровья, — Гуджу распахнул кожанку, сунул левую руку в карман галифе, а правой сдвинул папаху на лоб. — Так это ты их сторожишь, с ружьем-то, а?
— По правде сказать, сам удивляюсь. Без пропуска, говорят, не впускай. Мое дело маленькое.
Гуджу широко открыл свои бесцветные глаза, потом прищурился и с иронической улыбкой оглядел сторожа.
— Так я тебе и поверил, — он сорвал с головы папаху, — погляди на мою голову, я же не вчерашний птенец. Я тоже не лыком шит, не волнуйся.
— Я тебе четырьмя внуками поклялся. А на этот институт вместе с директором и со всеми учеными мне плевать! Что я, ради них, зря своими малышами клясться буду!
— Тогда пропусти меня. Пройдусь немножко и выйду.
— Возьми пропуск и заходи, — уже слегка обиженно сказал старик.
— Кто выдает пропуска? — Гуджу на шаг отступил и поставил грязный сапог на железный порожек.
— Сказал же: директор или заместитель.
— Так мне и дадут.
— Ты кого-нибудь из них знаешь?
— Ни того, ни другого.
— Ну, так бывай здоров. Паспорт хоть у тебя с собой?
— К чему мне паспорт? — Гуджу подбоченился.
— Таков уж порядок. Не я его придумал. Сперва надо позвонить директору или заместителю. Если они тебя не знают, сказать, кто ты такой и по какому делу. Если разрешат тебя пропустить, предъявишь паспорт вон в ту форточку, там тебе выпишут бумагу, потом покажешь эту бумагу мне, и я тебе скажу: «Проходите, пожалуйста».
Гуджу рассмеялся:
— Не к лицу тебе это. Так, как ты говоришь, получается, что простому человеку, вроде меня, в жизни не переступить этот порог.
— При чем тут простой или золотой?
— А вот при том. Сказано тебе, никого я здесь не знаю. А ты говоришь: «Позвони». Ну, позвоню и скажу: я сапожник Гуджу Маисурадзе, интересуюсь, само собой, что происходит на моей улице, в этом вашем учреждении. Не скажет ли он мне: «А катись-ка ты, братец»? Разве не скажет, отвечай!
— Откуда я знаю! — пожал плечами вахтер.
— Ну что ж, все ясно. Вы сюда пришли, и все здесь ваше. Захотите — и нас прогоните, переселите куда-нибудь, а мы должны молчать, ничего не знать, ни о чем не спрашивать? Ждать, как слепые куры, пока нас палкой не шуганут или в бульон не заманят? — Эту тираду Гуджу произнес уже за калиткой, на улице. Он был взволнован и говорил громко, однако улица была пустынна, и некому было откликнуться на праведный гнев честного сапожника.
Гуджу еще раз взглянул в сторону калитки. В душе он как следует ругнул того, кто построил на его улице таинственное учреждение, затем сцепил руки за спиной, под полами кожанки, и зашагал вверх по улице Капитана Бухаидзе, направляясь к Белому мосту.
* * *
Вахтер вскоре позабыл настырного посетителя.
Он перелистал газеты, потом немного соснул, потом, на исходе дня, послал уборщицу в буфет исследовательского института за колбасой, хлебом и лимонадом. Срезал с черного хлеба корку (зубы подводили), тонко нарезал колбасу, откупорил лимонад и приступил к обеду. Жевал он медленно, без аппетита.
Внезапно прямо над ухом у него раздались звуки барабана и гармони. «Какому бездельнику охота гулять в такую холодрыгу», — подумал он и приподнял драную занавеску.
Фаэтон остановился у ворот.
На облучке, рядом с извозчиком, сидел пьяный вдрызг Гуджу Маисурадзе, а на сиденье расположились барабанщик с гармонистом. «Дорогой мой, золотой, то мужик, то шут хмельной», — надрывались музыканты, а сам Гуджу, высоко вскидывая руки, точно собираясь взлететь в небо, подбадривал их: «Рампата, рампата, рампата, рампата!»
Увидав калитку, Гуджу соскочил с облучка, едва не расквасив себе при этом нос, от чего спасло его лишь то счастливое обстоятельство, что он был пьян и потому гибок как тростник.
— Стань в сторонке и ни с места! — грозно приказал он извозчику, остановил на миг взгляд на белом здании, погруженном в безмолвие, затем подтолкнул вперед барабанщика и гармониста и прогремел:
— Заходим! Музыка!
Музыканты робко переступили порог — делать было нечего. Поняв, что они не шутят, очкастый сторож прервал трапезу, схватил ружье и предстал перед тройкой гуляк:
— Нельзя, назад, говорю!
Оркестранты остановились и жалобно поглядели на своего упрямого патрона.
Гуджу провел ладонью по лбу, качнулся на вахтера, отодвинул его локтем и отчаянно пропыхтел:
— Отойди!
Схватив музыкантов за шкирки, он втолкнул их в полутемный коридор, расправил плечи, с гордостью оглядел сумрачные переходы института и что есть мочи завопил:
— Музыку, не то как врежу!
Стучал барабан, чирикал аккордеон.
Теща мне от воро-от…— Рампата, рампата, рампата, рампата, — в такт подпевал Гуджу, вскидывая руки высоко вверх.
Теща мне от ворот Дает резкий поворот! Говорит, моей дочурке Бражник-муж не подойдет!Ничего неожиданного не произошло. Одна за другой открывались двери, и на лицах выходящих в коридор ученых изображалось сначала отчаяние, затем изумление и, наконец, несмелые, робкие улыбки. В очках и без очков, усатые и безусые, молодые и старые, в сатиновых нарукавниках и синих халатах — все, со степенью и без степени, собирались на шум, производимый Гуджу. Полукруг постепенно ширился.
Музыканты смотрели на двери с какой-то настойчивостью, как бы желая заявить, что во всем происходящем в исследовательском институте они сами совершенно не виноваты. А Гуджу в экстазе топтался по кругу и готов был вот-вот начать пляску:
Нынче мне о том мечтается, Когда теща, эх, преставится, Тесть — за ней, как полагается, А девчонка мне достанется!— Рампата, рампата, рампата, рампата, — хлопая в ладоши, сказал Гуджу.
И стучал барабан, и захлебывался аккордеон.
Напрасно суетился тщедушный директор института, он с криком «Товарищ, товарищ!» бегал за пребывающим в экстазе Гуджу, однако, когда директор делал уже шестой круг, нога его зацепилась за ковер, он едва не растянулся на полу и потому махнул рукой, крикнув председателю месткома:
— Немедленно прекратить это безобразие, что это такое, в конце концов!
Шеф месткома, гололицый мужчина с галстуком-бабочкой, энергично взялся за дело. Сперва он подошел к музыкантам и погрозил им указательным пальцем, однако музыканты, словно почуяв неприятный запах, поглядели ввысь и вдаль. Затем он бросился к Гуджу, но ни угрозами, ни уговорами ничего не добился.
Сотрудники института помирали от хохота, и теперь председатель месткома не столько боялся директорского гнева, сколько оплакивал свой утраченный авторитет.
В конце концов опомнился сам «виновник торжества». Направив оркестрантов к выходу, он сам прошествовал впереди, сделал почетный круг около платана и, под не-смолкающую музыку, проследовал к фаэтону. Как и давеча, он устроился на облучке, музыканты-виртуозы уселись на мягкое сиденье, затем Гуджу простер руки и зычно обратился к собравшемуся у калитки научному персоналу:
— Дай бог вам удачи в вашем деле. Поехали!
Когда фаэтон скрылся из глаз, директор исследовательского института подошел к сторожу, терзавшему телефон.
— Звонишь?
— Никак не дозвонюсь, куда только все подевались.
Директор забрал у него из рук трубку и положил на рычаг.
— Не стоит. Не надо. Не будем шума подымать. В конце концов, что он такого натворил? Ну, гуляет человек, подумаешь, большое дело.
— Пожалуйста, как хотите, — и сторож повесил на стену ружье, которое почему-то до сих пор сжимал коленями.
А директор поднимался по лестнице и думал: «Интересно, существует ли в мире правовой кодекс, в котором имелась бы статья, определяющая наказание виновного в подобной ситуации? А если такая статья существует, то на кой черт она нужна?»
Перевод А. Златкина.
ЧЕСТЬ
Часовщик, примостившийся, подобно пауку, в углу цветочного магазина, опустил ставни, и Ноэ Какабадзе собрал свое хозяйство — сложил стульчик, сунул под мышку ящичек с карточками спортлото.
— Как дела? — вяло поинтересовался часовщик, принимая от него ящик и бросая в искореженный, видавший виды шкаф.
— Не покупают. Не желают, и все тут. Не хотят ни твоей лотереи, ни твоего спортлото. Прежде я хоть план выполнял, а сейчас?! Никому неохота играть в твою лотерею, попробуй заставь!
Часовщик промолчал в ответ. В последнее время Ноэ Какабадзе, продавец лотерейных билетов, что-то часто стал плакаться.
— День напролет мерзну на улице, а домой приду — тоже не радость.
— Что так?
— Старуха моя вконец осатанела. Спасибо, если в дом впустит. А что, ее понять можно, кому охота возле холодной печи рассиживаться?!
— Почему возле холодной?
— Обманул, в седьмой раз обманул меня Пармениа-головастик. Две недели дрова у него выпрашиваю. А он не везет. Если не собираешься привозить, чего обещаешь, говорю, я же не задаром прошу, деньги плачу, окаянные эти.
— Да кто дровами пользуется сейчас, помилуй?! — удивился часовщик.
— А что делать?! К каменному углю никак не привык — вонища от него, проклятого. Газом отапливаться? Уж лучше замерзнуть, чем задохнуться от него.
— А керосин?
— Керосиновая печь, говорят, годится, но, во-первых, где ее найти, и, во-вторых, по правде говоря, боюсь я ее. Ты Катюшу мою знаешь?! Она же стоя спит, как лошадь, ну а сгорит старая, стыда не оберешься.
Не извлекши никакой пищи для ума из этой беседы, часовщик закрыл дверь на засов и без сожаления распрощался с продавцом лотерейных билетов.
Стояла холодная, унылая погода. Моросило. Капли были белые и длинные, не разобрать — то ли дождь, то ли снег. Серо-черные облака так надежно укрыли небо, казалось, солнце никогда больше не появится.
Стены домов со стороны улицы вконец отсырели, лужи во дворах проросли ряской.
Прохожие, нахохлившиеся под зонтами, походили на грибы.
Ноэ долго стоял на остановке; когда два переполненных автобуса проехали мимо, не останавливаясь, он решил пойти пешком до центральной площади — здесь все равно не сесть, а там наверняка в транспорте будет посвободнее. Нахлобучив на глаза подбитую ватой шапку, сохранившуюся со времен войны, он пересек дорогу перед зданием оперного театра.
Ноэ Какабадзе был сгорбленный, худощавый старик с длинным острым носом, который и в солнечную погоду оставался красноватым и влажным. Как человек, страдающий плоскостопием, он ходил широко расставляя ноги, и издали казалось, что их у него не две, а больше.
Неразлучный синеватый плащ так плотно облегал его худые плечи, что Ноэ Какабадзе невозможно было представить без него.
Звезду, украшавшую фронтовую ушанку, он давно уже снял, но пятиконечная отметина все еще выделялась на выгоревшей ткани.
В парке возле театра он увидел толпу людей и пошел по направлению к ней. Услышав взрывы хохота, Ноэ догадался, что над кем-то потешаются, и повернул было назад, но любопытство взяло верх, и он смешался с гудящей толпой.
А на улице разыгрывалась сценка, привычная, можно сказать, обычная для этого города. У сына старьевщика Лери Иосебашвили трое «истязателей» отняли шапку, и теперь он ходил от одного к другому с непокрытой дынеобразной головой, упрашивая вернуть ее.
«Истязателей» — Харлампиа Гогава, Муртаза Цуцкиридзе и Кичиа Учанейшвили — хорошо знал весь город. Ноэ показалось, они были навеселе.
— Верни, Кичиа, шапку, — дрожа от холода, Лери Иосебашвили в изнеможении остановился перед мужчиной лет сорока пяти, который держал в руках папаху из искусственного каракуля и бессмысленно улыбался.
На Кичиа была коричневая кожаная куртка. Широкие черные брови и спущенные к ним жидкие седые волосы прикрывали два шрама на лбу. Он был чуть ниже среднего роста, с толстой шеей и распухшим, словно искусанным осами, желтоватым лицом больного водянкой. Его толстые бесцветные губы время от времени расплывались в улыбке, обнажая редкие черно-желтые зубы.
Владелец папахи тоже был далеко не ребенок. Однако возраст, не говоря уже о разуме, не коснулся его бело-розовых надутых, как кузнечные мехи, щек. Тучность так одолела его, что он даже на спор не завязал бы самостоятельно шнурков на ботинках. Огромный двойной подбородок позволял ему видеть лишь четвертую пуговицу на сорочке, надежно укрывая от него первые три.
— Верни, Кичиа, шапку! — повторил Лери, делая шаг вперед, но Кичиа, взмахнув папахой над головой, бросил ее Муртазу Цуцкиридзе, стоявшему на лесенке у фонтана.
Лери покорно направился к Муртазу.
— Довольно уже, дядя Муртаз, отдай шапку!
— Какой я тебе дядя, Лерико, ты же на три года старше меня! — И, скорчив гримасу, Муртаз завертел шапку на указательном пальце.
— Отдай мою шапку, Муртаз! — в голосе Лери послышались слезы.
— Скажи, у кого ты ее сшил, и отдам, — стал торговаться Муртаз.
— Отдай мою шапку, — бубнил свое Лери.
— Для чего тебе она? — спросил у бедняги кто-то из толпы.
Ноэ не узнал его по голосу, спрашивающий стоял в задних рядах.
— Мне холодно, — объяснил Лери.
— Отдай ему, Муртаз, а то, чего доброго, простудит мозги, и тогда мы пропали, — произнес прислонившийся к столбу Харлампиа Гогава.
— Дай бог тебе такого сына, как я, — благословил его владелец папахи. — Верни шапку, Муртаз!
— Скажи ему, где ты сшил, и он отдаст, — посоветовал Кичиа Учанейшвили.
— Я не крал ее, клянусь Лией, мне дедушка купил.
— А кто это — Лиа? — заинтересовался Муртаз.
— Как будто не знаешь?! — склонив голову набок, стыдливо ухмыльнулся Лери.
— Лерико, ты все еще любишь Лию? — Харлампиа сделал серьезное лицо.
— Да, — вздохнул Лери.
— Несмотря на то что она вышла замуж?
— Скоро она бросит мужа и вернется ко мне, — с глубокой убежденностью отвечал несчастный.
Толпа загоготала.
— Когда бросит, не сказала? — Кичиа давился от смеха.
— Когда рак на горе свистнет. Отдай шапку, Муртаз, а то вот пойду домой, и тогда увидишь… — пригрозил Лери.
Будь у тюленя прямые жесткие волосы, можно было бы подумать, что они с Муртазом Цуцкиридзе братья-близнецы. Рот у него был точь-в-точь как у тюленя и голос удивительно походил на тюлений. Высокий, безбровый, с жестоким выражением бесцветных глаз, он наверняка играл бы только роли гангстеров или предателей родины, если бы был актером.
Лери Иосебашвили с громким плачем бросился было в толпу, но его остановили.
— Ладно, забирай! — сказал Муртаз, протягивая шапку.
— Не дашь, обманываешь, — доведенный до отчаяния Лери кулаком вытирал слезы.
— Не обманываю. Ну, бери, а то рука устала, — уже просил Цуцкиридзе.
Не помня себя от радости, Лери кинулся к нему, и в этот же миг шапка перелетела к Харлампиа.
— Отдай мою шапку! — в отчаянии крикнул Лери.
— Проваливай отсюда. Не надоедай, не то просунешь у меня голову вон в ту решетку, — и он указал на ограду. — У меня, что ли, твоя шапка?! Узнай сперва, у кого, а потом выклянчивай!
Лери посмотрел на Харлампиа и во мгновение ока оказался возле него.
— Отдай, Харлампиа, шапку!
— Какую шапку? — с видом заботливого друга спросил Харлампиа.
— Которая у тебя в руке, — не растерялся Лери.
— А что она — твоя?
— Конечно, моя, не твоя же.
— А почему ты знаешь, что твоя?
— По размеру, — подсказал кто-то Лери из толпы. — У бульдога Сопромадзе и то не такой кумпол.
И снова меж колонн пробежал смех.
— Очень теплая эта папаха. Никуда не годится. Еще перегреешь голову, — высказал опасение Харлампиа.
Харлампиа Гогава называли рыжим шакалом. Он был толстым и низким, с рябым лицом и слишком широко расставленными маленькими карими глазками. Изуродованный плоский нос едва выделялся на лице. Под нейлоновой курткой виднелась тельняшка, плотно облегавшая брюшко. Из заднего кармана джинсов торчала пачка «Примы».
— Отдай шапку, Харлампиа, будь человеком! — стал просить Лери.
— Скажи, как ты любишь Лию, и получишь, — поставил ультиматум Харлампиа.
— Вот так! — и владелец папахи крепко обхватил себя руками.
— А она как тебя любит? — спросил Кичиа.
— От всего сердца. — Удивительное дело, когда речь заходила о Лии, лицо Лери принимало осмысленное выражение.
— А ты видел ее после замужества? — вмешался в разговор Муртаз.
— Да.
— Где?
— Во сне.
— Она во сне тебе сказала, что разводится с мужем?
— Да.
Рев толпы, наблюдавшей за потехой, взрывной волной ударил в окна музея и прокатился по всему подъему Сапичхиа.
Лери понял, пришла пора действовать более энергично: он стал отнимать шапку у Харлампиа, но Гогава так мастерски манипулировал ею, так быстро перекладывал из одной руки в другую, что все неуклюжие потуги Иосебашвили добиться своего ничего, кроме смеха, не вызывали.
И вдруг кто-то ворвался в круг, схватил Харлампиа за руку, в которой тот держал папаху, и строго приказал:
— Немедленно верни шапку, тебе говорят!
Не успел Харлампиа опомниться от неожиданности, как Лери кинулся к нему, вырвал шапку и был таков. Могильная тишина воцарилась вокруг. Потрясенный Гогава обернулся, с тем чтобы проучить выскочку, но, увидев перед собой тщедушного старичка, дрожащего от гнева, ядовито усмехнулся и произнес:
— Ноэ, батоно, это ты?! Ну и напугал же ты нас!
И только Ноэ повернулся, чтобы уйти, как он сорвал у него с головы шапку и швырнул Кичиа.
Этого Ноэ Какабадзе никак не ожидал. Как будто кто-то сдавил ему горло — он вдруг задохнулся, словно стопудовый камень лег ему на сердце и подкосил его.
В ушах зашумело, а перед глазами поплыли какие-то расплывчатые темные пятна.
Отступать было поздно.
Он стоял посреди толпы и, не придумай, как выпутаться из этого положения, очень скоро очутился бы в роли Лери Иосебашвили.
Какое-то время Ноэ выжидал: может быть, отыщется в толпе хоть один заступник. Однако никто не осмеливался обострять отношения с «великолепной тройкой».
Ноэ вытер холодный пот со лба и подошел к Кичиа.
— Пораскинь своим умишком, Кичиа, и не бери пример с этого бугая (он протянул руку в сторону Харлампиа), я вам не мальчишка.
— Я тут при чем, дядя Ноэ? — отвратительно хихикая, Кичиа обнажил редкие зубы.
— Отдай мне шапку. И, глумясь надо мной, перестань унижать этих людей. Я не заслужил этого.
— Я отнял у тебя шапку? Кто отнял, у того и спрашивай. А если тебе что-нибудь доверят, ты разве отдашь другому?
Ноэ тем временем подходил к Кичиа все ближе и ближе и только собрался схватить шапку, как Кичиа преспокойно бросил ее Муртазу, громко крикнув при этом неуклюже подпрыгнувшему с поднятыми руками Ноэ:
— Что ты делаешь, дядя Ноэ, молишься?
— И ты, Муртаз, с ними заодно?
Теперь уже Ноэ искал подход к Муртазу Цуцкиридзе.
— Нет, я умнее их, — засмеялся человек-тюлень, и несколько слабонервных из толпы последовали его примеру.
— Не бросай, говорю тебе, верни мне шапку!
Муртаз повертел шапку в руке.
— Звезду в ремонт отдал?
Ноэ знал, с кем имел дело, но каждый взрыв смеха любителей потехи ножом вонзался ему в сердце.
— Советую вернуть шапку!
— А если пришлю утром полной зелени? — сострил Муртаз Цуцкиридзе.
— Хоть раз будь человеком, несчастный! — голос у старика дрожал. — И что ты постоянно таскаешься с этим хулиганьем! Кто ты, откуда ты, чье место занял, кого из себя изображаешь, разве не видишь, не подходит тебе роль архаровца.
— Оставь меня в покое, я, что ли, отнял у тебя шапку, а? — И Муртаз швырнул ее Харлампиа. — Поди вот с ним потолкуй. А со мной так не говори, я никому худого не делаю. Никого не трогаю, и не надо на голову мне садиться, — в голосе Муртаза зазвучали нотки отчаяния.
Ноэ тем временем снова подошел к Харлампиа:
— Довольно уже… Посмеялись, и хватит. Дай шапку.
— Если она тебе так дорога, вел бы себя потише, — со значением сказал Гогава.
— В чем и перед кем я провинился, Харлампиа?
— А что ты набросился на меня, как ужаленная слепнем корова? Какое тебе дело до этого придурка Лерико?!
— Да разве Лерико не лучше тебя, паразита? — закричал Ноэ.
Харлампиа засмеялся:
— С каких пор, дядя Ноэ, ты стал такой вонючкой? Может быть, война опять началась? Нечего пялиться, никто тебя здесь не боится.
— Милиции, конечно, не видать… Спряталась в кусты. — Ноэ в растерянности посмотрел по сторонам. Он готов был расплакаться.
— Милиция у нас по заказу. Сегодня закажешь, завтра будет. А так, говоря по совести, ты заслужил одного милиционеришку в провожатые!
— Отдай, паразит, шапку!
Лицо старика покрылось мертвенной бледностью.
— Эй, Кичиа, верни-ка ты ему шапку, я человек слабонервный, боюсь обидеть его чем-нибудь, — и, швырнув Кичиа шапку, Харлампиа показал Ноэ спину.
— Кичиа, даешь мне шапку? — Ноэ издали решил прощупать позицию Кичиа.
— Подойди ко мне, поговорим.
— О чем мне с тобой говорить?
— О чем хочешь.
— Объясни мне, где ты воспитывался? Кто распустил вас так? Откуда в вас столько наглости?
— Люди, — обратился к толпе Кичиа с видом оскорбленной добродетели, — мы с Лери Иосебашвили баловались, никому не мешали. А этот человек ни с того ни с сего начал поносить нас. Скажите, в чем мы виноваты?
Толпа оставила без ответа этот вопль души.
— Кичиа! — Ноэ трясло как в лихорадке. — Ах ты, продажная тварь, Кичиа, тебя же, как свинью, зарезать и то не жаль!
— Почему продажная, что я продаю? Может быть, «Спортлото» сбываю, вроде тебя, и людей дурачу?
— Не я печатаю это спортлото, благодарение господу, а ты, ты хватил греха на душу.
— Какого греха? — повысил голос Кичиа.
— Почему твои дружки Хингава и Марганиа в тюрьме, а ты на свободе?
— Потому что я был ни при чем…
— Все знают, все, весь город, что ты был именно при том, но вышел из воды сухим. Что с тебя спрашивать после всего этого!
— Да, но если ты таил столько злобы, почему со мной здоровался, дядя Ноэ?
— Какой я тебе дядя?! Лучше уж быть свояком змию. А «здравствуй» и для врага не жалко!
— Не лезь на рожон, дядя Ноэ, ты ведь знаешь, тебе со мной не справиться, — вызывающе бросил Кичиа.
— Конечно же знаю. Но и ты взгляни на себя, посмотрись в зеркало, и тебе не бог весть как сладко…
— Надейся, надейся, старый хрыч, икру мечешь, приставала, знаешь, что не подвесим тебя на столбе, не марать же об тебя руки! Не испытывай наше терпение, не то не миновать тебе купания в холодной Риони, клянусь памятью отца! — Кичиа вышел из себя.
…Ноэ Какабадзе разорвал круг и пошел своей дорогой. Игра закончилась некстати. Толпа явно сожалела о том, что блестяще начатая схватка закончилась столь примитивно. Долго звали старика Харлампиа и Муртаз, просили забрать шапку, но Ноэ даже не оглянулся.
Цуцкиридзе нагнал его у остановки и силой натянул на него шапку, но Ноэ Какабадзе, вне себя от гнева, сорвал ее с головы и бросил в грязь.
Перевод Л. Татишвили.
НАДЯ
Телефон зазвонил, когда кричали третьи петухи. Давид Исакадзе, его жена и теща одновременно подбежали к аппарату. «Сейчас!» — буркнула в трубку теща и просеменила в свою комнату. «Кого?» — крикнула ей вслед жена, но теща не ответила. Это значило, что звонили Давиду. В те дни Давид не разговаривал с тещей, поэтому поспешность, с которой та бросилась к телефону, вывела его из равновесия. Он стукнул трубкой о стол и гаркнул: «Говорил я или нет: когда я дома, чтоб никто не брал трубку?! Спросить вас, так обе больные, еле ноги таскаете, а к телефону никакому пожарнику вас не обогнать! В собственном доме невозможно стало жить. Мои слова здесь ничего не значат. Куда податься?.. Будь у меня такое место, одного дня с вами бы не жил!» В ожидании повторного звонка Давид нервно прохаживался по комнате.
Опять зазвонил телефон.
«Здравствуй. Хорошо. А кто это? Какой черт, с похмелья — полтора месяца ни капли не пил, даже стакана в руках не держал. А кто это? Теща заела, не то, может, и пожил бы еще немножко. А кто это? Без пятнадцати минут семь, а кто это? Что за дело ни свет ни заря? А кто это? Чего мне особенно одеваться, через десять минут могу спуститься. Скажешь наконец, кто это, или нет?.. Ох, чтоб тебе пусто было! Переполошил нас с утра. Чего тебе? Ладно, понял, сейчас выйду».
Звонил Шота Деисадзе. Просил спуститься по срочному делу. Пока Давид умылся и оделся, Шота уже подъехал и в своих дымчато-белых «Жигулях» ждал у калитки.
— Привет. Надеюсь, ничего страшного? — Давид открыл дверцу, подобрал полы плаща и сел. «Жигули» тронулись с места.
Шота Деисадзе не спешил.
— У Серго дела совсем плохи, — сказал он наконец.
— Какого Серго?
— Нашего.
Серго Цинцадзе работал в комбинате бытового обслуживания никелировщиком, а жил в Балахвани, неподалеку от шелкопрядильной фабрики. Давид, Шота и Серго были неразлучными друзьями.
— Что с ним? — Давид Исакадзе всем телом повернулся к водителю.
— Прошлой ночью позвонила Надя. Помогите, говорит, ребята, выручайте, никогда еще не было так худо. Я говорю, в чем дело, дети здоровы? С детьми все слава богу, а вот Серго гибнет. Что такое? Я чуть не спятил. Он недавно «левый» никель получил, может, думаю, погорел парень. Сердце так и оборвалось. Но, оказывается, ничего похожего. Просто гибнет человек, и все. «Заболел?» — опять спрашиваю Надю. «Да уж хуже болезни и не придумаешь, — говорит. — Спился». У меня немножко от сердца отлегло. Но когда Надю выслушал, понял, что дела его и впрямь неважные. Какая жена станет такое терпеть? Представь себе, уже два месяца каждый день приходит домой пьяный. Говорили с ним и жена, и сын, объясняли, просили, а ему хоть бы что, он все свое. Теперь никто в доме с ним не разговаривает. А он ходит весь опухший. Надя говорит, если не пристану, рубахи не сменит, ног не вымоет. А ведь какой парень наш Серго, а? Добрый, внимательный, золотое сердце…
— С чего это он свихнулся? — проговорил Давид Исакадзе.
— Раньше ко мне вечерами захаживал. Уже давненько не появлялся. Да и как появится, какими глазами посмотрит? Пропадает человек.
— Как думаешь, можно ему помочь? — глухо спросил Давид.
— Не знаю. Надя говорит: если он кого-нибудь и послушается, так только вас. Вы должны нам помочь. Я, говорит, его знаю, при вас он постыдится так себя вести.
— Если человек спился — все! Пиши пропало. Он никого не постыдится.
— Пока еще, я думаю, он не совсем конченый. Пить-то Серго и раньше выпивал, но пьяницей никогда не был. Это что-то с ним в последние два месяца стряслось. Надо нам взяться за него как следует и повернуть в нужную сторону. Сам знаешь, нет у него никого ближе нас.
— Если наше вмешательство поможет, пожалуйста. Но что-то я сомневаюсь. Он нас и слушать не захочет. У него теперь, верно, своя компания. Сам знаешь, как алкаши друг друга находят.
— Вот мы и должны вырвать Серго из их компании.
— Если он поддастся, то конечно.
— Надо с умом подойти. Обложим его с двух сторон, ты оттуда, я отсюда, и не дадим ходу. Потеряем на этом два часа в день. Ничего, зато большое дело сделаем и для него, и для его семьи.
— Дело-то хорошее, куда уж лучше… если, конечно, удастся. Помнишь, в прошлом году сына Машико — Гиглу пять месяцев держали в больнице для алкоголиков и морфинистов. А к концу пятого месяца он так там у них напился, что чуть весь медперсонал с балконов не повышвыривал.
— Гигла — другое дело. Гигла там пристрастился к выпивке. Я думаю, что теперь он и колется потихоньку.
— Потихоньку, как же. Тебя постесняется…
Так, беседуя, они свернули в Балахвани и подъехали к выкрашенным зеленой краской воротам Серго.
День только начинался. Утро было прохладное, свежее.
— Что будем делать? Выйти, позвать — удивится человек: что это вы с утра пораньше?
— Не надо звать, сам выйдет. По правде, в глубине души я даже побаиваюсь, уж не опередил ли он нас. Надя сказала, что в семь из дому уходит. Если, говорит, утром у дома не перехватите, потом трезвого не увидите.
— Что ты говоришь? Неужели с утра пьет? Пропащее дело!
— Тот, кто с утра пьет, и есть пьяница, мой дорогой. А который после работы два-три стакана пропустит, какой же он пьяница. Дома мы все такие пьяницы.
— Тогда подай-ка машину немножко назад, не то заметит нас и спрячется от стыда или вовсе тайком проскользнет.
Шота Деисадзе отвел машину назад и поставил за, ореховым деревом. Отсюда они прекрасно видели калитку Серго, а выходящему из калитки и в голову бы не пришло, что в стоящих за деревом «Жигулях» его поджидают незваные гости.
Ждать особенно долго не пришлось. Серго Цинцадзе открыл калитку и сразу же свернул в сторону улицы Церетели. Когда рядом с ним затормозила машина, он, погруженный в свои мысли, даже не оглянулся.
— Серго! — открыл дверцу Давид.
Серго остановился. Наклонился к окну и обрадовался, узнав Шота и Давида.
— Где это вы полуночничали в наших краях? Откуда вы здесь? — Серго спросил это так приветливо, что в его словах слышалось: «Здравствуйте, ребята, как поживаете, куда вы пропали, я соскучился по вас, надеюсь, у вас все нормально».
Шота открыл заднюю дверцу:
— Садись!
Серго замялся:
— На работу опаздываю…
— Садись, садись, подвезем!
Серго еще раз с сомнением оглядел обоих друзей и сел.
Некоторое время все трое молчали.
Машина покатила дальше. Шота в зеркальце посматривал на нахохлившегося на заднем сиденье друга: у Серго были седые, красиво зачесанные набок волосы. Он был небрит и, наверное, от этого казался старше своих лет. Словно догадываясь о чем-то, Серго поглядывал своими светло-карими, несколько припухшими глазами то на Шота, то на Давида. Давид, отвернувшись от него, смотрел на улицу.
— Серго, у нас к тебе дело, — со вздохом приступил Шота. Было заметно, что ему нелегко начать разговор. Друзьям никогда не приходилось разговаривать на такие темы.
Серго поднял голову.
— Плохо ты себя ведешь, Серго. Клянусь твоей головой! Не нравишься ты ни мне, ни Давиду.
— Разве могли мы ждать от тебя такого? — попытался Давид поддержать друга, но почувствовал, что поддержка не очень удалась, и, отвернувшись, опять уставился в окно.
Серго заволновался, как попавший в капкан зверь. Покрутив ручку, опустил стекло, высунул голову из машины и глубоко вздохнул. Потом опять уселся и поднял стекло.
— Скажи на милость, будь добр, из-за чего тебе спиваться, Серго? Может, работа у тебя плохая, не своим делом занят? Или жена и дети не хороши? Все у тебя, братец, есть. Как говорится, и стол, и дом, а ты… — продолжал Шота.
— Вам Надя нажаловалась? — с проницательным видом сказал пьяница. — Весь город на меня натравила! Убить ее за это мало, да неохота на старости лет в тюрьму садиться.
— Надю мы не видели. Да и зачем нам Надя — весь город говорит, что ты спился.
— Ну кому я мешаю, ребята? — Серго попытался разжалобить друзей. — Не на ихние же пью… Но иначе не выходит. Поработай-ка ты на моем месте, и посмотрим, выйдет у тебя иначе или нет. И без того сердчишко стало пошаливать. Думаешь, мне пить хочется? Но я имею дело с мастерами, с ремесленниками. Ваше дело совсем другое. Вы в одиночку работаете… Уставшие, измочаленные закрываем цех, а тут кто-то и говорит: давайте сложимся по пятерке и пропустим по паре стаканов. Что мне делать? Как быть? Объявить, что Надя не велела выпивать с друзьями? Что не могу от семьи пятерку оторвать, шапку на голову и смыться? Сам знаешь, как таких мужчин называют.
Серго Цинцадзе столь убедительно изложил друзьям причины своего нынешнего положения, что друзья некоторое время не могли найти веских возражений.
— И чего уж там я пью? Разве я свалился на улице или дал повод насмехаться надо мной? — приободрившись, опять заговорил Серго. — Один-единственный раз несколько дней подряд пришлось выпить, так сложилось. Сами знаете, случается. Пришел домой, а жена, вместо того чтобы успокоить, обласкать, скандал устроила, жизнь отравила. Обозлился я и на пятый день назло напился. Она вовсе перестала со мной разговаривать, так я и на шестой напился… Скажите только честно: разве можно, чтобы человек после работы возвращался домой, а жена с ним даже не разговаривала бы? Это нормально? Скажи, ради бога, Шота! Ответь, будь другом!.. Останови-ка на минутку!
— Чего тебе? — Шота замедлил ход.
— Дельце у меня тут небольшое.
— Слушай, по-твоему, мы с утра к тебе заехали, чтобы на лобио отправиться? Для этого здесь остановил? Да ты, никак, спятил, Серго! — возмутился Давид.
— Какое лобио? Никто вас не заставляет лобио есть. Выйду на минутку, дело у меня. Если в открытую: заложил я здесь и хочу долг вернуть. А вообще в такую рань вы, наверное, не завтракали. Вылезайте, съедим по одному хаши и поедем.
— Нам ничего не надо, — поспешно ответил Шота.
— Иди и сию же минуту возвращайся. Если ты сейчас выпьешь, клянусь детьми, прямо отсюда мы отвезем тебя в колонию для алкоголиков! — строго предупредил Давид.
— Да вы что! Пить! Да если я с утра выпью, кто вместо меня работать будет? — Серго поспешно захлопнул дверцу машины и побежал к закусочной.
Оставшиеся в «Жигулях» переглянулись.
— Напьется, — нарушил молчание Шота.
— Не надо было отпускать.
— Пойдем и встанем над ним. Если какое-то время его так оберегать, пиши пропало!
Серго у стойки что-то доказывал буфетчику. Закусочную переполнял запах чеснока. Народу было так много, что приходилось протискиваться, но в помещении царила удивительная тишина. Мужчины сидели тихо, как заговорщики, и ели хаши.
— Три хаши! — крикнул в кухонное оконце буфетчик, когда Давид и Шота встали по обе стороны Серго.
— И по одной! — умоляющим тоном добавил Серго.
— Что мы тебе сказали! — погрозил ему пальцем Давид.
— Ладно, ребята, как угодно. Только пропустить перед хаши по одной — первое дело. Идет к нему водка. Не хотите, как хотите. Похлебаем это начесноченное варево и пойдем, — чуть не плача проговорил Серго.
Они отодвинулись к краю стойки. Горячий хаши смочил и прочистил горло, и Давид сделался разговорчив.
— Вообще-то говоря, человеку каждое утро надо это есть, для желудка и кишечника нет ничего полезней хаши.
Серго, судя по выражению лица, ел совершенно без аппетита. Беседа о лечебных свойствах хаши его ничуть не занимала. Он оставался без выпивки и не находил себе места.
— Хабурзания посылает Давиду Исакадзе! — буфетчик поставил на стойку бутылку водки.
Давид поднял голову. Из угла духана, окутанный табачным дымом, ему улыбался и махал рукой Хабурзания.
— Спасибо, Лери, дорогой, но мы не пьем.
— Не пейте, друзья мои, оставьте так. Она, стерва, горькая, а вам дай бог сладости во всем! — приветливо улыбаясь, рассыпался Хабурзания и повернулся к своему столу.
Серго от радости не мог устоять на месте. С ловкостью иллюзиониста он содрал с бутылки пробку и до краев наполнил три стакана.
— Только по сто, ребята, и больше не будем. Что-то у меня живот разболелся от этого хаши, — видно, не моют как следует. Желудку нужна небольшая дезинфекция, — упрашивал Серго.
Соблазн был велик. Шота с Давидом переглянулись. «В самом деле, не может же человек исправиться сразу, в первый же день! Не будь тут нас, он пропустил бы куда больше одного стаканчика. То, что мы сумели ограничить его одним, уже дело, и не маленькое», — друзья без слов обменялись такими соображениями и выпили.
Могу поклясться перед святой иконой, больше они не пили.
Когда подъезжали к мастерской, Шота Деисадзе обернулся к Серго и перед самым носом погрозил ему пальцем:
— Ты меня понял, Серго? Слово есть слово. Мы уже не дети. Твоя беда — наша беда. Выпьешь еще хоть каплю и навсегда нас потеряешь, понял? В котором часу ты заканчиваешь работу?
— В шесть, — обреченно пробормотал Серго.
— В шесть мы заедем за тобой и сами отвезем домой. Жди и никуда ни шагу!
— Ладно, братцы, подожду, — Серго чувствовал, что деваться некуда, и отвечал уныло, скучным голосом.
Только стрелки на часах вытянулись в линию, как к мастерской подрулили Шота и, Давид. Серго ждал их на улице вместе с тремя незнакомыми мужчинами. При виде дымчато-белых «Жигулей» он поднял руку и бросился навстречу.
— Давид, выйди-ка на минутку.
— Что случилось? — открыл дверцу Давид.
— Выходи, выходи. Вылезай и ты, Шота… Это хорошие ребята, со мной работают. Вон тот, высокий, позавчера выиграл в лотерею холодильник, выигрыш взял деньгами и ставит магарыч. Я ему говорю, что не пью ни капли, а он не верит. Выйдите сами и поговорите с ним. Люди вы или нет? Объясните, что со мной за дела, скажите, что бегаете за мной по пятам, чтоб я, не дай бог, до вина не дорвался.
— Ты сам не мог им все это сказать? — спросил Шота.
— Я-то сказал, но кто поверит? Вы люди посторонние, вам доверия больше.
— Ладно, ты садись сюда, а мы с ними поговорим, — сказал Давид и вышел из машины.
При виде приближающихся Шота и Давида трое «ребят» слегка расступились и почтительно уставились на них. После вежливых и даже несколько высокопарных приветствий беседа приняла примерно такое направление:
— Нельзя ему пить, ни одной капли нельзя.
— Нам тоже нельзя, уважаемый. Мы тоже не какие-нибудь пьяницы.
— Вы, дай вам бог здоровья, люди молодые, крепкие. Ваше сердце все выдержит.
— Пусть просто так с нами пойдет. Не огорчайте нас, уважаемые, не пренебрегайте нашим хлебом-солью.
— Если он и сегодня заявится домой пьяный, его жена, наверное, повесится.
— Что нам какой-то выигрыш, холодильник! Мы хотим отметить знакомство с такими уважаемыми людьми! Серго тоже пусть идет с нами, но не пьет. А мы посидим, поговорим и разойдемся как можно трезвее… Насколько сумеем…
— Ну ладно, только договоримся — по паре стаканов, и все!
— И столько не будем.
— Куда?
— В Гегути.
— Ну, раз так, садитесь — поехали.
— Поместимся?
— Да. Два вперед, четыре назад.
Увидев, что после переговоров все пятеро направились к машине, Серго Цинцадзе все понял и улыбнулся своему отражению в зеркальце.
В тот вечер друзья пили до глубокой ночи. Было далеко за полночь, когда они с трудом подняли друг друга по лестнице на веранду дома Серго.
Шота выглядел трезвее других. Он отозвал в сторонку изумленную Надю, прижал палец к губам и невнятным шепотом пьяного мужчины сообщил:
— Тсс, только не начинай сейчас скандалить! Все в порядке. Сегодня он весь день был с нами. Дал слово больше не пить. А мы, как таковые, не отстанем от него ни на шаг, покоя не дадим. Серго наш брат. Мы не допустим, чтобы ему было худо, чтобы наш брат спился. Серго Цинцадзе — это им не кто-нибудь, пусть они не думают. А ты не беспокойся, мы рядом. Вот они — мы…
Наутро Шота сам остановил машину возле хашной. После вчерашнего — если на свете есть справедливость — надо было пропустить хоть по одной.
Вечером они благополучно покинули мастерскую и на радостях решили зайти на рынок, купить по большому арбузу, как подобает солидным отцам семейства, — это предложил Давид. Но поход на рынок оказался роковым: арбузами там торговал Мелитон Деисадзе из Мухиани, двоюродный брат Шота.
— Прямо с базара к тебе собирался. Чего, чего?! Ты не пьешь — не пей, а эти-то добрые люди в чем провинились? Э, брат, — все мы больные, в наше время у каждого что-нибудь болит. А уйдешь так, увидишь, что здесь будет. Я не буду человеком, если я не вышвырну всю выручку и не раскидаю арбузы. На кой черт мне целый день торчать и мучиться здесь и деньги эти считать, если потом я не посижу с двоюродным брательником и не почирикаю в свое удовольствие…
…Надя, бледная и растерянная, встретила мужчин во дворе. Серго с Давидом подпирали друг друга и старательно выводили песню, узнать которую не было никакой возможности.
Шота Деисадзе отозвал Надю в сторонку и, словно доверяя большую тайну, зашептал:
— Тсс, Надя, все в порядке! Мы с ним рядом. Только не затевай скандал. Он выпил с нами, а не где-нибудь. Там он, если даже и захочет, все равно не выпьет, мы его ни на шаг… Пусть никто не думает, что такими людьми, как Серго Цинцадзе, можно бросаться. Твоему мужу незачем водиться с пьянью. Мы не допустим, чтобы Серго Цинцадзе спился. Ты не поднимай шум, Надя, поверь, дело в полном порядке. Мы — вот они, рядом…
Надя поверила, что дело в полном порядке.
Спустя два месяца она, словно окаменев, сидела на веранде своего дома и слушала двух взволнованных женщин. Жены Шота Деисадзе и Давида Исакадзе тайно явились к ней: «Дорогая, милая, родная, вся надежда только на тебя! Ты должна нас спасти. Если ты не поможешь, наши семьи погибнут. Уговори как-нибудь Серго оставить в покое наших мужей. С тех пор как они стали ежедневно встречаться, мы ни разу не видели их трезвыми. Ты женщина, и ты нас поймешь. Зачем твоему Серго брать на душу такой грех. Только упаси бог, если они узнают о нашем визите!..»
Надя смотрела на руки этих женщин, беспомощно лежащие на столе, и ни о чем не думала.
Что могла Надя?
У этого города были свои железные законы.
Перевод А. Эбаноидзе.
ДАВИД
На базаре торговал один странный человек. Купит орехи по пять рублей за килограмм и тут же продаст их по пять же рублей за килограмм. Ему сказали: «Что ты делаешь, друг, какая тебе выгода от этой купли-продажи?» Человек ответил: «Я не ради выгоды это делаю: мне нравится шорох ореховой скорлупы».
Грузинский фольклорДавид Бешкенадзе вынес с кукурузного поля последнюю охапку выполотой травы, швырнул ее наземь под дикой яблоней и сам упал на нее как подкошенный.
Солнце покусывало. Июльская засуха не давала кукурузе идти в рост, и пожухлые листья совсем уже сникли от полдневного зноя.
— Ну и пекло. Зря я мотыжу, пустое это занятие. Наверно, так и зачахнет вся кукуруза на корню, — вслух размышлял Давид, зевая и поглаживая больное колено.
Полдень, неумолчное пение цикад и прохладная сень яблони нагоняли на Давида дремоту, и он так бы и заснул, если бы не голос жены, раздавшийся над самым его ухом.
— Оглох, что ли, слушай? — спросила Параскева.
— Что случилось?
— Да вот кричу уже целый час: спрашивают тебя там двое.
— Чего хотят?
— Почем я знаю. Давида, говорят, нам нужно. С бутылью пришли — видать, за вином.
— Сама, что ли, не можешь налить?
— Я же не знаю, из какого чури им наливать?
— Они что, здешние?
— Нет, кажется, это те, что у Парфилэ Звиададзе живут.
— Ну и налила бы сама. До них ли мне теперь?
— Как бы это, интересно, я налила?
— Так бы и налила, по рублю за литр.
— Из какого чури?
— Как из какого, из того пятиведерного, в других у меня уже нет вина, — говорил Давид, вставая. — Где они?
— У ворот. Звала в дом, не пошли, — сказала Параскева и, когда Давид нахлобучил на голову старенькую войлочную шапку, заботливой рукой поправила ее. Вернее, она сдвинула ее набок, и теперь шапка сидела на Давиде, как треуголка на Наполеоне.
У ворот стояли двое.
На более молодом были белые брюки и черная рубашка с короткими рукавами; из коричневых сандалий торчали голые волосатые пальцы. Он держал в руках трехлитровую бутыль и звался Гришей. Второй, что постарше, был в белой нейлоновой рубашке, при коротком черном галстуке, заколотом булавкой с изображением петуха. Он то и дело поправлял старомодные очки в металлической оправе и звался Мишей.
Давид, прихрамывая, вышел задами из кукурузника к дому, сунул голову в громадный чан под навесом и тут же вытащил ее — вода была теплой, потом смахнул с век водяные капли и глянул на покорно стоявших у ворот мужчин; какое-то время он молча смотрел на них и, проворчав что-то, снова окунул голову в чан. Потом с заднего крыльца взбежал по лестнице в дом, вытер насухо голову, вылил целый кувшин воды на серые от пыли ноги, натянул на выжженную по́том нижнюю рубашку блузу с двумя накладными карманами на груди, поискал было свой солдатский, военных времен ремень, но, не найдя его, махнул рукой и возник наконец на парадной лестнице.
Усталые от ожидания гости вздохнули с облегчением.
Прежде чем подойти к ним, Давид еще раз остановился, пристально оглядел пришедших и затем, словно приняв какое-то окончательное решение, торопливо, насколько это было в его силах, заковылял к воротам.
Гости вежливо ответили на приветствие.
— Ну и пекло, — сказал Давид и предложил гостям присесть на каменную лавочку под липой.
Гости в один голос поддержали мнение хозяина насчет пекла.
— Небольшое дельце у нас к вам, — начал младший и покосился на старшего. Миша смотрел куда-то вдаль.
— Какое именно? — осведомился Давид.
— Мы по поводу вина… одним словом, нам хотелось бы купить немного вина. Нам сказали, что во всей деревне один лишь вы умеете делать хорошее вино… — сказал Миша; потом вдруг ему не понравилось слово «делать», и он поправился: — Изготовлять, — но и этот глагол не пришелся ему по душе, и он снова поправился: — Дать ему отстояться как положено…
— Выбирать теперь не приходится. В деревне только у меня и осталось вино. Да и то уже на исходе. Прошлогоднее все почти кончилось, а до нового урожая еще далеко. Так что вино сейчас не так-то просто достать.
— Нам ведь немного надо, — начал прибедняться Гриша.
— Одним словом, сколько войдет вот в эту бутыль, — поддержал его Миша.
— В эту три литра входит, — не задумываясь сказал хозяин.
— Точно, точно, — согласился Миша.
— А зачем вам вино? — внезапно спросил Давид и сам же удивился своему вопросу, так как прекрасно знал, что вино испокон веков покупают с одной-единственной целью.
Младший переглянулся со старшим. Наступило неловкое молчание.
— Одним словом, выпить хотим, разумеется.
— Вы хотите? — вновь спросил хозяин.
— Да, я и уважаемый Миша собираемся выпить, — упавшим голосом сказал младший.
— Ага, да-а, — почесал затылок Давид, словно хотел сказать: ну, раз уж вам выпить хочется, да еще вдвоем, тут уж ничего не попишешь.
— По рублю литр, — перешел к делу хозяин.
— Что вы сказали? — спросил Гриша.
— По рублю, говорю, беру за литр.
Младший перекинулся словцом со старшим, потом старший что-то ему ответил, и Гриша сказал:
— Уважаемый Миша говорит, что в воскресенье на базаре вино продавали по восемьдесят копеек за литр, но ничего, для нас цена не играет роли.
— Нет, дорогой, восьмидесятикопеечного вина мы не держим. Водичку и за шестьдесят копеек достать можно. Короче говоря, хотите — берите, хотите — нет. Дело хозяйское. Я по этой цене вот уже двадцать лет продаю.
— Да что вы, что вы, для нас цена никакой роли не играет. Если можно, налейте нам побыстрее. Уважаемый Миша обедает в три часа, — сказал младший и поставил бутыль на траву. Бутыль повалилась. Младший рукой примял под ней траву и поставил ее вновь.
— Пойдемте, — сказал Давид и взял бутыль за горлышко.
Они вошли во двор, миновали узкий проход, обсаженный с двух сторон фасолью. Давид остановился у курятника, зачерпнул из корзины горсть кукурузы и сыпанул внутрь курятника. На звук рассыпавшихся зерен, бросив пощипывать траву, сбежались куры. Давид захлопнул за ними дверь курятника и крикнул, повернув лицо в сторону кухни:
— Слышишь, что ли? Ту рыжую возьми, поставь воду, и поскорее давай!
Гости не совсем поняли значение слов Давида, обменялись взглядами и пошли вслед за хозяином.
В марани стояла приятная прохлада и было достаточно светло, чтобы гости могли различить давильню и маленькие бугорки на земляном полу — места, где зарыты чури.
Давид встал на колени у одного из них. Он отодвинул плоский камень с горловины чури, потом аккуратно, одну за другой стал откладывать в сторону кожаные прокладки, закрывающие зев сосуда, и, когда наконец из темного чрева пыхнуло дурманящим винным духом, поднялся, снял со стены специальный черпак с длинной ручкой, выдолбленный из сушеной тыквы, и осторожно окунул его в чури. Влажный от прохладного вина черпак поднес к губам, отпил сперва сам и, удостоверившись, что вино в початом чури не отдает кислинкой, дал попробовать гостям. Те по очереди отведывали вино, делая это с таким серьезным видом, словно решали какую-то сложную задачу. Затем Давид вложил в трехлитровую бутыль гостей большую воронку и, трижды погрузив тыквенный черпак в чури, наполнил четверть по самое горло.
К тому времени Параскева открыла дверь и принесла на круглом деревянном подносе граненые стаканы, мчади, нарезанный крупными ломтиками сыр и маринованный лук-порей; поставила все на табуретку и вышла.
— Подопри дверь палкой, а то больно темно, — сказал ей вдогонку Давид.
Когда в марани сразу прибавилось света, в глаза гостям прежде всего бросился полный стакан в руках хозяина, вино в нем отсвечивало янтарной желтизной.
Первые пять тостов были чисто традиционными. Хозяин провозглашал короткую, но несколько туманную здравицу, выпивал и почему-то передавал стакан Грише. Гриша брал у него стакан и кидал взгляд на Мишу. Миша смотрел куда-то вдаль, но, когда наступала его очередь, он длинной и сердечной речью украшал застолье. Младший с восторгом взирал на своего патрона, и, когда после восьмого стакана у Миши упали с переносицы очки, Гриша поднял их и осторожно сунул Мише в задний карман брюк.
Когда Параскева вновь появилась с горячим мчади, только что зажаренной курочкой и начиненными сыром хачапури на круглом подносе, пирующим уже мал стал табурет, и они пересели к длинному столику на коротких ножках.
…И наконец, когда Гришина бутыль наполнилась и опорожнилась уже по третьему заходу, из марани полилась сладкозвучная «Лебединая шея». И только придирчивый слушатель, да и то напрягая все внимание, мог различить, что кто-то из поющих фальшивит, но кто именно, он затруднился бы сказать. Впрочем, что же тут особенного? Кто-нибудь один, как правило, всегда фальшивит.
Солнце давно уже удалилось на покой, когда Давид Бешкенадзе в окружении двух покачивающихся особ, сам вдребезину пьяный, прокладывал себе путь к калитке. Гости висели на плечах у Давида и в знак благодарности бормотали нечто понятное только им одним. Процессию замыкала Параскева с коптилкой в руках, ладонью прикрывая пламя с наветренной стороны, чтобы не задуло. В принципе же этот вечер для всех трезвенников и прочих обитателей деревни, то есть для всех, кто мог его оценить, был прекрасным и прохладным.
Началась процедура расставания. Гости поочередно прощались с хозяином. Сначала один припадал к груди Давида и уходил вперед, к тому времени второй хватал Давида за плечи и целовал ему увядшую шею, а когда отходил этот второй, первый уже поворачивал обратно, и так тянулось довольно долго.
Вдруг ушедший было окончательно Гриша обернулся, сунул Мише в руки полную четверть, вытащил из кармана пятерку и, делая крутые виражи, направился к хозяину.
— Что это ты, дорогой? — спросил Давид.
— Деньги за вино, уважаемый! — смежил веки Гриша.
— А-а, ладно, дорогой, погоди-ка минутку, — проговорил Давид, взял у Гриши пятерку, достал из нагрудного кармана две сложенные пополам рублевые бумажки и протянул гостю сдачу.
— Спасибо! — долго раздавалась во тьме исторгнутая из Гришиного сердца благодарность.
* * *
Параскева, стягивая с пьяного, повалившегося ничком на тахту мужа чувяки, выговаривала ему:
— Постарел ведь уж, а все ума не набрался, бедолага несчастный, неужто не мог не нализаться сегодня!
— А что мне оставалось делать?! — говорил в пеструю мутаку Давид.
— Зачем надо было эти несчастные три рубля брать, дурень ты этакий.
— Что ты понимаешь, слушай. Когда я твоим умом жить начну, тогда, считай, что все — умер я. Порядок есть порядок. Что они, нищие, чтобы такое подаяние от тебя получать. И притом — когда денег не берешь, знаешь ведь, какой у нас народ: скажут, такую, мол, гадость налил, что даже деньги совестно было взять. Вот так-то, дорогая.
— Ну да, куда уж там, болтай больше! Придет домой этот приезжий человек и посмеется над тобой.
— Если он человек — не посмеется, наоборот: спокойней у него на душе станет. А как ты думаешь?
— Ладно, ты лучше повернись-ка, повернись, а то совсем задохнешься, дурень ты этакий, — тянула мужа за плечо Параскева, пытаясь перевалить его на другой бок.
— Зачем, говорит, взял деньги… Пусть враг мой живет по разумению жены, тебе бы и знать ничего не следовало… Тебе бы… Где тебе понять… Так-то… Вот так… Не твоим умом… Врагу моему…
Параскева уложила мужа, вооружилась коптилкой и пошла в марани: поглядеть, не осталось ли чури открытым у этого выжившего из ума старика.
Перевод А. Абуашвили.
ТОМА
Известное дело, воскресный базар.
Тома Джавахия обегал все ряды, но не то чтобы весы поставить, самому негде было встать. От тяжелого мешка отекла рука и напряглись мышцы на шее. Дорожная болтанка растрясла лепешки сулугуни, и молочно-белая жидкость орошала рубашку Тома. Запоздал Тома с приездом. Хотя вышел он чуть свет, но поздно нагнала его попутка. Подсадил шофер, везущий бревна. Только машина, будь она неладна, до того медленно ползла, что, пока Тома добрался до базара, уже и полдень подоспел.
Молодой пастух молочной фермы, честно говоря, стеснялся торговать сыром. «Не мое это дело, заранее можно сказать, что ничего у меня не выйдет. В чьих угодно руках этот сулугуни за золото сойдет. А в моих любой товар залежится. Вот бы купил кто-нибудь все сразу», — думал Тома, высматривая место на прилавках.
Тома сегодня первый раз повез сулугуни на базар. Раньше он ездил с отцом. Пока был жив отец, все казалось намного проще. Приедут, бывало, отец с сыном на базар, отец кинется туда-сюда, и место побойчее найдет, и весы в личное пользование отхватит, и все у них шло как по маслу. Тома обычно безучастно наблюдал однообразную сутолоку базарного дня, изредка только протягивал покупателю чистую бумагу завернуть сыр. Вот уже третья неделя, как Тома справил сороковины по отцу. Отныне и все тяготы кормильца семьи легли на шею Тома, и этот тяжелый мешок с сулугуни. Тома зарос мягкой темной щетиной. Он шел по базару, хмуро сдвинув брови, в выгоревшей черной сатиновой рубашке с пришпиленной к груди фотографией отца, обрамленной траурной лентой. «Скорее бы продать и отделаться. Ну и жара. И как только этот народ выдерживает в городе. Хо-хо-хо, сколько ртов прокормить надо. Никакого сыра не напасешься на такое полчище. Да они тоже хороши, все за бесценок норовят урвать». Он-то, Тома, из-за каких-то там грошей не будет мелочиться, но и задарма не отдаст. Откуда им знать, скольких трудов стоит этот сулугуни, из какого далека он везет его. Не хотят, пусть не берут. Вовсе не обязательно, чтобы все сулугуни угощались.
— Дай-ка встану вот сюда, если не обидишься, — сказал Тома продавцу в белом халате, с румянцем во всю щеку и скинул мешок.
— Чего-о?! — сумрачно спросил продавец сыра и подвинул весы на то свободное место, куда Тома прикинул было выложить свой товар.
— Встану, говорю, вот тут, если не обидишься.
— А мне куда деваться?
— А ты стой, где стоишь.
— Ну давай, давай, клади мешок мне на голову, а я из-под прилавка на тебя погляжу.
— Да погоди, слушай, подвинь немного свои весы, и как раз всем места хватит.
— Где хватит, где! У тебя что, не все дома? Из-за твоих красивых глаз я сюда к шести утра приехал?
— Ну а мне, по-твоему, как быть?
— Как хочешь, так и будь.
— Обратно, что ли, тащить этот проклятый сыр?
— Кто тебе велит обратно тащить, — сбавил тон румяный продавец, — просто нет здесь свободного места, и все тут. Поищи за другим прилавком и торгуй там хоть втридорога, дело твое.
Тома вновь вскинул на плечи мешок и обошел прилавок с другой стороны.
— Будь человеком, дай мне встать вот сюда, рядышком, — попросил он нестарого еще мужчину в соломенной шляпе, с островками редкой щетины на рябом лице.
— Где ж ты столько времени прохлаждался?! — не так чтобы очень зло сказал рябой. Видно, он не слишком уж категорически возражал против нового соседства.
— Далеко живу, в Зекари, будь оно проклято. Деньги позарез нужны, а то не стал бы связываться. Стадо на женщин оставил… — отрывисто говорил Тома и выкладывал на прилавок целенькие круги сулугуни.
Рябой глянул на сыр Тома и пожалел, что пустил его. Он прекрасно разбирался в элементарных законах конкуренции: из двух видов сулугуни покупатель выберет тот, который подешевле и лучше качеством. А у сыра Тома не было изъяна.
— Почем торговать будешь? — спросил сосед, пока возле Тома не начал толпиться народ.
— А сам почем продаешь? — вопросом на вопрос ответил Тома и разрезал пополам лоснящуюся от жира лепешку сыра.
— Слушай, у тебя свой товар и своя цена, у меня свой! — вспылил вдруг рябой.
— По три пущу, если брать будут.
— Ты что, рехнулся, парень, цену своему добру не знаешь?! Если такой сыр по трешке отдавать, кто тогда на мой за пять рублей позарится?
— А что делать?
— Продавай по пять, — строго предупредил рябой и перевернул свои худосочные лепешки заветренной стороной вниз.
Тома отлично понимал, что ему гораздо выгоднее вместо трех рублей за килограмм сулугуни получать пять…
— А по пять будут брать?
— Возьмут, куда денутся.
— Не дорого ли пять, а, Имано?
— Во-первых, я никакой тебе не Имано, а Лаврентий, во-вторых, кто сказал, что дорого? Свой ведь товар, не ворованный? Какая у других цена, такая у тебя должна быть.
Тома засучил рукава и первому же покупателю сказал с улыбкой:
— Берите, пробуйте на вкус.
Первым покупателем оказалась тощая женщина с опухшими глазами и с чистыми складками морщин на шее. В худой жилистой руке она держала нейлоновую авоську. Женщина поначалу не обратила внимания на слова Тома. Она пошла вдоль прилавка, пробуя все сыры подряд, и потом снова вернулась к Тома.
— Почем сыр?
— Пять, уважаемая.
— Сколько?
— Пять рублей.
— Килограмм?
— Да.
— Кило сыра пять рублей?
— Это ведь сулугуни, уважаемая, попробуйте-ка.
— Да что там пробовать, вы что, совсем стыд потеряли, по пять рублей килограмм сыра продавать? — помрачнела покупательница.
— Не знаю, нам самим во столько же обходится. Воля ваша, конечно, берите у других, — нерешительно проговорил Тома и взглянул на Лаврентия, внимательно изучавшего купол перекрытия рынка.
— Нет, где у вас совесть, такие цены заламывать, — не унималась «уважаемая», — вы бы у нас спросили, во что нам-то обходится? Когда это было, чтобы кило сыра пять рублей стоило?
— Не знаю, уважаемая.
— Не прибедняйся, все ты прекрасно знаешь. Совесть, совесть надо иметь!
— Да что вам от меня нужно, уважаемая, — чуть ли не криком закричал Тома, — отстаньте от меня, не продаю я ничего.
— А что мне от тебя может быть нужно? Вы разве способны что-нибудь понимать? Вы же разбойники, чистой воды разбойники. Обжуливаете нас, шкуру с нас сдираете!
— Я и не думаю вас обжуливать. Нам самим в такую цену обходится. Всем. У всех у нас своя нужда, свои заботы. Коли не хотите, не покупайте, я же не заставляю вас.
— Какой достойный ответ, — горячилась женщина, — не покупайте, говорит, не ешьте! Они знают, что сказать, они всё прекрасно знают…
Женщина быстро отошла прочь. Тома, словно его всенародно оплевали, стоял потрясенный и смотрел в ту сторону, куда удалилась разгневанная покупательница. Он уже ни о чем не хотел слышать. Он желал поскорее сбыть с рук свой товар и бежать из этого содома.
— Почем сулугуни? — спросил кто-то.
Тома обернулся как ошпаренный: перед ним стоял мужчина с лицом человека, страдающего водянкой, с оплывшим подбородком и узкими плечами. На плоской его голове с густыми курчавыми волосами красовалась тюбетейка, сдвинутая на самое темя.
— Чего так испугался, душа моя? — равнодушно сказал человек и растянул рот в улыбке.
— Мне нечего пугаться.
— Так что тебе дома наказывали, почем, говорят, продавай?
— Никто мне ничего не наказывал.
— Отчего ж цену не скажешь? В секрете держишь?
— Что мне в секрете держать? По пять продаю.
— По сколько? — деланно удивился человек в тюбетейке.
— По пять! — повторил Тома и для вящей убедительности растопырил пятерню.
— Хватит шутить, скажи настоящую цену, некогда мне торговаться, — будто бы заторопился покупатель.
— А я не шучу.
— Ты что, на базаре никогда не бывал, душа моя? Если не знаешь, как люди продают, может, знаешь, как покупают?
Тома ничего не ответил.
— Взвесь-ка кило за два рубля, — перешел к делу покупатель.
— Не пойдет, — сказал Тома и поглядел в сторону.
— Давай на двух рублях сойдемся, и я сразу два кило возьму. Ну, клади на весы, говорю же, некогда мне, — окончательно заторопился покупатель.
— Не пойдет.
— Весь сыр возьму, если по два отдашь: и ты свободен, и я по делам пойду.
Тома, честно сказать, заколебался немного и посмотрел на Лаврентия.
— Чего ему надо? — вмешался тот в разговор.
— По два рубля весь сыр берет.
— Пять рублей, и ни копейки меньше. И кончай разговор, — решительно заявил покупателю Лаврентий.
— Кто хозяин, ты или вон этот?
— Я, — сказал Лаврентий.
Человек в тюбетейке мгновенно уяснил себе ситуацию. Он повернулся к Тома.
— Ты что его слушаешься, чокнутого такого? — понизил он голос. — Давай на двух с полтиной сойдемся, назло ему. Все оптом и возьму.
— Не пойдет! — повторил Тома.
— Ну ладно, накину еще гривенник, хоть и дорого мне встанет, сыном клянусь.
— Пять рублей, и ни копейки меньше! — вновь загремел Лаврентий и хлопнул Тома по плечу. Этим он давал ему понять: потерпи, мол, еще чуток — и покупатель отвалится.
— Так и сказал бы, что продавать не хочешь. Я еще посмотрю, как ты попрешься со своим мешком. Эх ты, деревенщина задрипанная. Тебе ли на хлеб зарабатывать? Тебе ли с этим базаром тягаться? — ворчал просчитавшийся делец-перекупщик, сердито раздвигая встречный людской поток.
Тома облокотился о прилавок и предался горестным раздумьям. Такого тяжелого дня не бывало у него в жизни. Куда идти, как продать этот сыр? Одни честят его последними словами и человека, который из-за хозяйственной своей нужды продает сэкономленное на жене и на детях, называют бессовестным. Другие копаются у него в душе, норовят обвести вокруг пальца, третьи…
— Чей сулугуни?! — спросил надтреснутый голос.
Тома поднял голову и уставился на солидного с виду человека в кепке. В руках у человека был кожаный портфель, а за правым ухом торчал красный карандаш.
— Мой! — ответил Тома.
— Пойдем со мной, — спокойно сказал человек и, даже не поднимая глаз на Тома, пошел дальше.
Тома попросил Лаврентия присмотреть за его товаром и отправился за человеком в кепке.
Хозяин сулугуни смекнул еще дорогой, что он имеет дело если не с самим директором рынка, то с кем-нибудь из ответственных рыночных деятелей, и на всякий случай извлек из кармана справку, выданную ему вчера в сельсовете. В справке говорилось о том, что пастуху Зекарской колхозной фермы Тома Джавахия разрешается реализовать на рынке излишки произведенного в его личном хозяйстве сулугуни (и других молочнокислых продуктов).
Они вошли в комнату, пропахшую чесноком. Хозяин комнаты швырнул портфель на стол, повесил кепку на гвоздь и устало сел.
— Присядь! — сказал он Тома и, пока тот соображал, куда сесть, вытащил огромный цветастый платок и усердно вытер затекший за шиворот пот.
Тома присел и положил перед рыночным начальством справку. Начальство сначала смерило взглядом Тома, потом, словно ожидая чего-то, принялось изучать собственные пальцы и наконец медленно протянуло руку за справкой. Как видно, директор рынка не был большим любителем деловых бумаг.
— Что это ты мне даешь, парень? — спросил он, не отрывая взгляда от написанного.
— Справку, — спокойно ответил Тома.
— За какое число, скажи мне, эта справка?
— Она только что выдана, — удивился вопросу Тома.
— Значит, только выдана, говоришь? Ну-ка погляди сюда! Что здесь написано — 22 июня, так? Ты же умеешь читать?
— Да, так и написано.
— Прекрасно, а может, помнишь, какое у нас сегодня число?
— Двадцать третье.
— С чем тебя и поздравляю, дорогой.
— В чем дело? Я же вчера брал эту справку, вот и стоит там вчерашнее число. А сегодня кто бы, интересно, стал из-за меня в шесть утра открывать сельсовет?!
— Дорогой мой, — с ироническим спокойствием сказал директор рынка и отечески погладил Тома по затылку, — посмотри-ка на мою голову. Как ты думаешь, на сколько лет я тебя старше? Тебе ли меня обманывать?
— А зачем мне обманывать?
— Затем, что по этой самой справке ты уже торговал вчера и хочешь торговать и сегодня.
— Вчера?!
— Да, вчера. И не надо прикидываться. Хитрить все умеют. Я давно тебя приметил, дорогой, да и ты на меня не первый раз глядишь.
— Да с чего ты взял? Кто это меня вчера здесь видел?
— Вчера работала моя смена. Тебе и это отлично известно. Ты тот еще жук.
— Я не был вчера здесь, слушай, могу на кресте поклясться, если хочешь.
— Клятвы тут не помогут.
— А что поможет?
— Ты сам прекрасно знаешь что и давай не тяни. — Директор раскрыл портфель и демонстративно принялся выкладывать из него какие-то бумаги — работы, дескать, много, а тут еще время даром теряешь на пустые разговоры.
— Как же быть? — забеспокоился Тома.
— А так, как положено по закону. Вернешься теперь обратно со своим товаром, привезешь правильную справку и продашь столько килограммов, сколько будет значиться в справке.
— О чем ты говоришь, будто сам не знаешь, что это невозможно, — решил попробовать по-другому Тома.
— Я ничего не знаю! — Директор встал и подошел к окну.
— Что же делать? Неужто мне ехать назад в Зекари и оттуда по новой переться в город?
— Ты что, парень, с луны, что ли, свалился, — оторвался от окна директор, — давай закругляйся, да поскорей.
Тома вроде начал уже догадываться, чего от него хотят.
— Некогда мне, — продолжал между тем директор. — Тебя что, всему учить надо? Сам сообразить не можешь, как к делу подступиться?
— Могу, но…
— Что «но»?
— Но я еще ни одного килограмма не продал.
— Слушай, дай мне получить свое, а там хоть две тонны продавай. Кончай скорей и иди, время даром теряешь.
Тома выложил на директорский стол десятку и некоторое время тщетно дожидался сдачи. «Жалко, что не было пятерки», — посетовал про себя Тома, когда убедился, что хозяин комнаты и не думает вернуть ему хоть сколько-нибудь из его десятки. Проворчав «спасибо», Тома уже вышел было за порог, но голос директора остановил его:
— Обожди.
Тома обернулся.
— На, возьми вот это. — Директор протянул ему пятидесятикопеечную квитанцию за какой-то из видов рыночных услуг.
Когда Тома вернулся к прилавку, он увидел, что Лаврентий прикрыл его сыр газетой, а свои бледные лепешки чуть ли не силой сует в руки покупателю.
— Что он сказал? — спросил Лаврентий, не глядя в его сторону.
— Ничего.
— Справка хоть правильная у тебя?
— Правильная.
— Вот и бесится, когда нормальную справку даешь. Но один черт, все равно найдет к чему прицепиться и сдерет-таки деньги.
— В какую цену сулугуни? — спросил молодой мужчина и, не дожидаясь ответа, продолжил: — Взвесь, будь другом, килограмма два… чтоб я еще когда-нибудь на этот проклятый базар заявился…
Тома взял два круга сыра и потянулся к весам Лаврентия.
— Что это ты затеял? — возмутился Лаврентий. — Теперь и весами с тобой делись? Откуда ты такой умный выискался?
— Дай, слушай, взвесить разочек, потом сбегаю принесу себе, — взмолился Тома.
— Держи карман шире, хе-хе-хе, ждут тебя не дождутся, — хихикнул из-за прилавка зеленщик, мутной от грязи водой он опрыскивал поникшую на жаре зелень.
Лаврентий дал Тома взвесить «разочек» и на всякий случай переставил гири подальше от соседа.
— Твоя где? — Кто-то тронул Тома за плечо, когда он, рассчитавшись с первым покупателем, спрятал деньги в карман.
— Что моя?
— Квитанция.
Тома протянул квитанцию.
Контролер бегло взглянул на квитанцию и сразу нашелся:
— А еще?
— Что «еще»?
— Еще квитанции у тебя должны быть: одна вот эта, пятидесятикопеечная, и три по гривеннику.
— Мне других квитанций не давали.
— Платить надо, чтобы давали. Как же мне теперь с тобой быть?!
— Пойду возьму…
— Хорошенькое дело, он пойдет возьмет, раньше надо было брать.
— Ну что теперь, не торговать мне из-за каких-то там тридцатикопеечных квитанций? — посинел от злости Тома.
— Отчего же не торговать? Плати штраф — и торгуй.
— За что штраф?
— За то, что нет у тебя, дорогой, квитанций. За то, что без белого халата стоишь за прилавком и нарушаешь мне тут санитарные нормы. И если хочешь знать, еще за то, что держишь сулугуни в каком-то мешке и не снабжаешь покупателя чистой бумагой — завернуть сыр.
Как бы там ни было, контролер содрал с Тома пять рублей «штрафа» и исчез.
С его уходом Тома еще раз оставил свое добро под присмотром Лаврентия и побежал за весами.
На складе весов ему холодно отказали.
— Что же я должен делать, на чем мне взвешивать товар, будь он проклят? — говорил Тома кладовщику.
— На весах, — словно нашел выход кладовщик, — на чем же еще можно взвесить?
— Может, выручишь?
— У меня, выходит, есть, а я тебе не даю? Выдал все, какие были. Весы нынче дефицит, дорогой. С семи утра пусто на складе.
— Вот дьявол, ну как, по-твоему, на чем мне взвешивать?
— Как на чем, на весах.
— На каких весах?
— На обыкновенных.
Нервы у Тома больше не выдержали. Он тут же покинул своего не очень-то склонного к сочувствию собеседника. Его душили слезы. Бледный, с плотно стиснутыми губами, широким решительным шагом направился он к воротам рынка.
* * *
Высокий и нескладный милиционер Кикиани обходил ряды и прикрикивал на завозившихся одиночек:
— Хватит! Закрываем! Идите по домам, и так уже на час опоздали! Давайте пошевеливайтесь!
Лаврентий собрал свое имущество с прилавка и сказал Кикиани:
— Позови-ка директора!
— Что случилось?
— Позови, дело есть!
— Сам, что ли, не можешь сходить?
— Слушай, неужели трудно позвать, если просят!
Директор, признаться, удивился, когда ему передали, что его зовет продавец сулугуни. Но тем не менее он покинул свой прочесноченный кабинет.
— Начальник, — шепотом сказал Лаврентий, — этот сулугуни какой-то парень принес утром. Присмотри, говорит, немного — я, мол, за весами сбегаю, пошел и пропал. Не хочу, слушай, впутываться в какую-нибудь историю. Весь день я этот сыр сторожил. Теперь передаю вам на хранение.
Директор базара молча кивнул головой и велел Кикиани отнести мешок с сулугуни к себе в кабинет.
* * *
«Не нажить бы себе неприятностей», — думал директор рынка и в присутствии двух свидетелей — Лаврентия и Кикиани — составлял на всякий случай акт о «найденном» сулугуни. Писал он крупным ученическим почерком, выводя каждую букву в отдельности.
Перевод А. Абуашвили.
ФАТЬМУША
Стройная как газель женщина быстро сбежала по лестнице, едва ступив на поросшую травой землю, остановилась, повязала косынку, прогнала из глаз веселых бесенят и, приняв строгий, неприступный вид, с таким достоинством пошла через двор, словно у нее не было ничего общего с той, что минуту назад отчаянно сбегала по лестнице.
На балконе показался заведующий клубом Вано Абакелиа и окликнул ее:
— Фатьмуша, вернись-ка на минутку!
Женщина замерла, как застигнутая на месте преступления. Секунду стояла не шелохнувшись, похожая на встревоженную лань. Потом повернулась и медленно побрела назад. По лестнице она не стала подниматься. Остановилась внизу и упавшим голосом спросила:
— Что, Вано?
— Совсем забыл спросить, твой муж знает об этом?
Фатьмуша засмеялась искренним бесхитростным смехом.
— Знает.
— Ну и как?
— Что как?
— Не втрави меня в неприятность, ради бога! Сама знаешь, какой он у тебя горячий. Одно слово — Шалико Вацадзе!
— Ты так его боишься?
— При чем тут — боишься, — завклубом придал голосу строгость. — Просто как бы человек не обиделся: дескать, выводишь мою жену на концерт, а мне это, может быть, не по душе. Сама знаешь — у каждого свой бзик.
— Об этом не беспокойся. Поначалу он взъерепенился немножко, выкатил на меня глазищи, но, когда я не отстала, решил своей волей уступить.
— Значит, завтра в восемь, как договорились.
— Ага.
— С кем детей оставишь? — Завклубом явно тянул или прощупывал что-то; иначе что ему было за дело до того, с кем оставит детей Фатьмуша Вацадзе.
— Со свекровью. Ничего. Пусть один вечерок посидит со внуками. Я девять лет из дому не выглядывала.
— Сколько младшему?
— Еще года нет.
— Ну и как ты? — нахмурился опять завклубом.
— В семь часов покормлю и уложу спать. Если б и со старшими дубинами так мало забот было…
— Грудью кормишь?
— А как же? До трех лет его старших братьев не могла оторвать. Всю кровь высушили, свекровь говорит, порода у них такая.
— Ну ладно, до завтра. — Вано Абакелиа пошел к дверям.
— Пока!
— Одним словом, со стороны Шалико все выяснено.
— Да что ты! Разве я посмела бы без его разрешения на концерте выступить.
Вано Абакелиа все-таки не уходил.
— Да, но ты вот оставляешь свекровь с детьми, а разве ей не хочется на концерт?
— Господь с тобой! Скажешь тоже. Скоро двадцать лет, как свекор помер, а она ни разу траура не сняла, все время в черном.
— Значит, договорились. До завтра!..
Фатьмуша Вацадзе поняла, что завклубом болтает просто так, от нечего делать. Она вышла во двор и пошла по улице; так ходят стройные красавицы, одновременно гордящиеся своим телом и смущенные им, ибо бесцеремонные взгляды жгут их, точно удары хлыста.
Может быть, она делает глупость? Разве не скажут люди: нашла время петь на концертах и развлекать публику! Она же мать четверых детей!.. Не дай бог попасть на язык сплетницам! Или вдруг кто-нибудь косо посмотрит на ее Шалико. На что ей тогда жизнь!.. Долго Фатьмуша боролась с собой. Тысячу раз решалась и опять отказывалась, но так и не смогла одолеть желание, дремавшее где-то в тайниках души и вдруг властно напомнившее о себе.
Было ли это желание служить искусству, насладиться успехом, или неодолимая внутренняя потребность призывала сказать свое слово в жизни не только материнством, но и песней…
Девять лет назад окончила Фатьмуша культпросветучилище. Окончание училища совпало с ее замужеством. До замужества будущая жизнь рисовалась ей совсем иначе. У нее был абсолютный слух, мягкий, приятного тембра голос и необыкновенный дар подражать известным эстрадным певицам. Училище возлагало на Фатьмушу свои самые большие надежды. Признаться, она не раз видела себя во сне в длинном платье на залитой светом эстраде в окружении молодцов из «Орера». Мурман Никушадзе научил ее играть на гитаре, и она часто выступала на городских концертах (встреча с депутатом, торжественное заседание, встреча с ветеранами тунговых плантаций, день эмансипации женщин).
Все знали Фатьмушу. Все ценили ее талант, а пуще того — красивое цветение ее молодости.
Замужество Фатьмуши произвело в городе впечатление разорвавшейся бомбы. Пошли разговоры, пересуды, сплетни. Одни говорили, что ее похитили и держат взаперти за девятью замками, другие утверждали, что ее подвела подруга, оставила наедине с каким-то шофером и сгубила бедняжку. Известно — на чужой роток не накинешь платок. Да и дело понятное — Кутаиси не хотел терять свое лучшее украшение. Погодя кто-то принес весть: дескать, Фатьмуша сама, своей волей пошла за некоего Вацадзе из Окриби, бросила петь и теперь качает люльку. Это была правда. Фатьмуша не ожидала столь быстрого завершения своей творческой карьеры, но строгий муж объявил ей на третий день после свадьбы — обойдемся без концертов, я филармонию там не люблю, где она есть, а в доме мне нужна жена, а не артистка. Будем ходить на чужие концерты, а твой концерт — твой дом, будешь здесь жить и поддерживать огонь в очаге.
Что было делать? Угольки искусства еще долго и жарко тлели в ее груди, но с той поры, как она стала матерью, желание стать артисткой постепенно затухло. Проходили месяцы так, что она даже не замечала висящую на стене гитару.
Девять лет пролетели, как девять дней. Фатьмуша подарила семье Вацадзе четырех сыновей. Она стала умелой, заботливой хозяйкой и матерью. Выражение — краса села — словно для нее было придумано. Если б до замужества кто-нибудь сказал ей, что у нее будет четверо детей, она бы, наверное, утопилась. Она считала себя созданной для искусства, и роль многодетной матери казалась ей уделом жалкой провинциалки.
Четверо детей родились один за другим. Четыре жизни, четыре радости. Эти девять лет были прекраснейшими в жизни Фатьмуши. Ее плоть и кровь, ее маленькие ангелочки, их первые слова, первые шаги, ручки, протянутые к маме. Ради своих мальчиков она готова была на все.
Но вот уже несколько месяцев ее осаждают странные мысли. Она потеряла покой. Сцена зовет ее. Фатьмуша соскучилась по аплодисментам. «Для чего мне талант певицы и этот диплом, если я всю свою жизнь должна сидеть дома…» Где-то она вычитала, что у Лолиты Торрес тоже четверо сыновей, однако она не бросила из-за этого петь. «И зачем я уродилась такая несчастная. Ну, выступлю раз на концерте. Кому от этого будет хуже? Может, я талант зарываю в землю. Разве у меня есть на это право?..»
Она столько приставала к мужу, что кое как уговорила его! И вот завтра вечером, в восемь часов, на концерте, посвященном успешному сбору урожая, после длительного перерыва поклонники таланта Фатьмуши опять услышат свою любимицу.
По ее настоянию Вано Абакелиа включил в программу три песни — «Цицинатела», «Цыганский романс» и «Аве Мария».
* * *
Концерт был в разгаре.
Пантомима Мамаладзе вызвала общий восторг, от аплодисментов чуть не рухнула крыша клуба. Смеялась даже Фатьмуша, хотя в былые годы она сотни раз видела эту пантомиму (как человек проглотил сливовую косточку и у него расстроился желудок) в исполнении более выдающихся мастеров сцены.
Время от времени она отодвигает уголок занавеса и разглядывает «партер».
Шалико сидит в третьем ряду. Он словно окаменел, стиснул зубы, молчит. Не смеется и не хлопает.
«Что делать, милый мой Шалико. Раз в девять лет и мой каприз можно исполнить. Потерпи. Ращу же я тебе четырех молодцов. Ты мне дороже жизни, и я вся твоя. Вся как есть только твоя. Ну что ты такой хмурый? Я тебя не осрамлю, не бойся. Я рождена для песни. А зарывать талант в землю большой грех. Разок-другой в году выступлю вот на таких концертах, потешу свое самолюбие. Пожалуйста, не хмурься, милый, улыбнись, прошу тебя…»
Сейчас Деисадзе и Кавтарадзе спляшут «Картули», после них Важа Алхазишвили прочитает «Бакури», и настанет черед Фатьмуши.
Что с гитарой? Фатьмуша выносит ее в коридор, настраивает, но стоит вернуться назад, как третья струна опять фальшивит.
Видно, колок заржавел и не держит струну.
Господи, спаси и помилуй! Вдруг на сцене сфальшивит!..
Неужели она не споет так, чтобы понравиться этой публике? Ну нет уж, на этом уровне как-нибудь споет. Но поймут ли они «Аве Марию» и «Цыганский романс»? Здесь в основном собрались любители скетчей. Ничего, я постараюсь как смогу, не станут хлопать — пусть… А вдруг во время моего пения кто-нибудь свистнет? Вот ужас!.. Да кто посмеет! Хотя бы из страха перед Шалико не посмеют.
Только Важа вышел на сцену, откашлялся и громко, внушительно начал: «Ты поведай, Элизбар, что случилось нынче в Эго», как в глубине зала расплакался ребенок. Декламатор смолк, так как отчаянный рев младенца рассмешил слушателей.
Фатьмуша выглянула из кулис. Ребенок был гварамадзевский. Свекровь Лейлы, подхватив младенца на руки и сурово сжав губы, покачивала его. Старушку смущало хулиганское поведение внука, но покидать концерт она явно не собиралась.
«Бывают же такие странные люди. Ну разве можно вести на концерт несмышленого малыша», — подумала Фатьмуша.
Ты поведай, Элизбар, Что случилось нынче в Эго, Как набросились лезгины На Баруки-цитадель…Не успел Важа дочитать одну строфу, как младенец опять заревел. Мастер художественного слова умолк и выразительно посмотрел за кулисы. Своим взглядом он сказал ведущему: наведи, дескать, порядок в зале, не то брошу читать, и останешься ты со своими бездарными плясунами и примитивными скетчами.
Услышав свое имя, Фатьмуша зажмурилась, по телу у нее побежали мурашки. Сердцем почувствовала — сейчас что-то случится. Оглянулась — Абакелиа с мольбой смотрел на нее:
— Фатьмуша, выручай!
— А мой номер?
— Передвину. Все гибнет, концерт срывается! Я объявляю тебя после спортивного этюда Бабаликашвили.
— Ладно, так и быть…
Фатьмуша пробежала по коридору. Через левую дверь вошла в зал. Взяла ребенка из рук Лейлиной свекрови, села рядом, прикрылась косынкой и дала грудь ревущему младенцу.
Никакие уговоры и заклинания не могли так сразу унять маленького Гварамадзе…
«Нарушитель дисциплины» побежден. Концерт продолжается.
«Ух, какой сильный! Стиснул пальчиками и сосет, не переводя дыхания. Неужели его сегодня ни разу не кормили?»
Фатьмуша раза два попыталась оторвать младенца от груди и вернуть бабушке, но каждый раз тот начинал отчаянно реветь, и под строгие укоряющие взгляды зрителей Фатьмуша сдалась.
«Такое уж мое счастье, что удивляться…»
Когда Бабаликашвили зашвырнул за кулисы последнюю гирю, Фатьмуша так вся и задрожала. «Сейчас объявят меня. Куда я задевала гитару?» Она осторожно вынула грудь из разинутого рта младенца и только собиралась встать, как окрепший, собравшийся с силами потомок рода Гварамадзе могучим ревом оглушил весь зал.
— Куда спешишь, Фати, генацвале. Уйми ребенка, сделай доброе дело! — услышала Фатьмуша чей-то недовольный голос.
Она не оглянулась.
Концерт близился к концу.
В зале среди получавших большое эстетическое наслаждение зрителей сидела одна расстроенная женщина.
Фатьмуша прижимала к груди упрямого отпрыска Гварамадзе и уголком платка вытирала слезы.
О чем она плакала?..
Перевод А. Эбаноидзе.
ОТЕЦ
— Что вы, стало быть, говорите? Люблю или нет?! Ну, не ожидал, не ожидал от вас такого вопроса… Иногда прямо пугаюсь, — думаю, неужели больше родных детей люблю? Да не то, не то говорю — он родной и есть. Уже и не думаешь — родная плоть и кровь или нет?! Вот вы почему спрашиваете, знаете? Сами не испытали! Так вот я утверждаю — если не больше родных детей люблю, то уж не меньше… Нет! Признаться, за жену-то я опасался. Как, думаю, дальше-то? Своих ведь двое родилось. И что вы думаете? Никакой разницы! Такими, говорит, умными глазками смотрит, так ласкается, — сердце так навстречу и рвется. Это чудное какое-то чувство, поверьте! Рассержусь иногда, случается, так потом сам не свой! Своим надеру уши, и ничего! А на этого рука не поднимается, так и деревенеет в воздухе. Видите, и сейчас сорвалось — он, говорю, и свои. И с чего это? Ложь ведь, противно! Трое сыновей — и все! И кончено! Двенадцать лет уже парню, а к родителям — как дитя малое. Уйдем куда — так затоскует, вы не представляете. Ласковый, послушный, какой-то особенный! Вот он растет, а я все думаю — а дальше? Они ведь сдержанней становятся, стесняются ласк-то… К тому же многие знают, сорваться с языка может… Не знаю, что я с таким человеком сделаю, наверное, дом ему спалю, ей-богу! Ну, да он сам не поверит, я-то знаю! А все равно, не нужен он, червь сомнения! Я-то сам отцовское чувство с ним первым узнал. Если бы не он, я, может, и не женился бы. Характер такой! Два года один растил, и ни капли усталости! Помню, войдет в дом женщина, так он мамой ее зовет. Всех так звал! Ну, думаю, надо жениться! Что ж я ему говорить потом буду, где мать-то? Я вообще про это вспоминать страх как не люблю. С вами вот разговорился, а с другими-то! Кто его знает — кто как думает? Я-то сам и живу, и мыслю по-своему?! Расскажу, раз уж интересуетесь, только вот чтоб между нами осталось, одни мы чтобы знали. А вообще историйка не короткая!
В двадцать четыре года кончил я университет, и на работу меня в здешний подотдел милиции начальником направили. Я тогда думал, двадцать четыре года — взрослый человек. А теперь гляжу на таких же — мальчишками кажутся. Вы ведь видели наш подотдел-то? Сегодня там не на что особенно смотреть, а тогда?! Сейчас восемьдесят нас толчется, а в то время? Девять всего было, с секретаршей! Она и завканцелярией, и машинисткой вкалывала, и на оперативные дела, случалось, ее посылали. Таней звали… А мы Микелтадзе из Сарекелы. Часа полтора отсюда на машине. Сестра моя старшая вышла тогда в Абашу за ветврача Сихарулидзе, и старики дома одни остались. Можно бы и из дому ездить на работу — новехонький «виллис» тогда меня обслуживал, — да знаете, молодой-холостой, ключ от собственной комнаты в кармане. Снимал я комнату-то. Десять, помню, метров было. Хватало! Хозяйка, покойница, украинка, как за сыном за мной ходила. По хозяйству рукой шевельнуть не позволяла — все сама!..
Вечером как-то — до сих пор помню, девятого октября, — засиделся допоздна в подотделе. Сижу просматриваю бумаги. У нас дело какое! Пусть никто не похвалится: пробыл восемь часов — и домой. Настоящий опер и всю ночь прошныряет по проселкам — и по грязи, и по снегу.
Часов этак в девять слышу, ломится кто-то. Не стучит, а ломится — и все тут. Смотрю, голова просунулась в дверь — старуха, увернутая в платок. Сколько тогда разных пьяниц ошивалось вокруг милиции. Случалось, такие документы-дипломы приволакивали — волосы дыбом, а все равно не пропишешь, и к работе уже не способны, двух гусей не доверишь! Выпроводил бы бродяжку, что тут говорить. И устал как собака! Да только смотрю — ребенок у нее, в тряпки какие-то запеленут. Так вот этого самого ребенка она мне — на стол!
«Примите, — говорит, — не могу больше с ним возиться! Рядом, — говорит, — со мной Надя живет, девка бесстыдная. Покоя никому не было от ее посетителей. Куда только смотрит милиция! — Будто сама ангел небесный, а не пьяная баба. Скидывает платок, рассаживается, значит, и давай всю историю. — Три, — говорит, — месяца назад родила Надя вот этого. Я ей говорю: и на что только тащила из роддома на квартиру? А тебя кто спрашивает-то? — вылупилась на меня… Мне что? Мне ребеночка жалко. Позавчера принесла так вот завернутого и просит: часок пригляди! Прошел, значит, часок. И два, и три прошло — нету! Что делать? Я что же, за ребеночком могу приглядеть? На другой день, вчера, значит, позвала соседей, сломали дверь, входим к ней и что видим? Записка».
Старуха пошарила за пазухой и вытащила листок: «Тетя Дуся, я вышла замуж. Приглядите за мальчиком или отдайте в милицию».
«В комнате ничего, хоть шаром покати, — продолжала между тем старуха. — Все унесла, спички не осталось. Ищи теперь ветра в поле. Бродяги! Вот вам ребеночек. Два дня пронянчила, больше не в состоянии. И брать никто не берет. Да где ты сыщешь такую дуру, как я?!»
Смотрю — идет к двери. Я — наперерез. Старуха — руки в боки; да что вы, говорит, от меня хотите? Я женщина порядочная, университет кончала. Неужели мне всю жизнь мучиться?
Еще успокаивать, короче, пришлось. Ничего, говорю, имя и фамилию матери только хотел записать. Ну, отчества и фамилии, конечно, не помнила — давно, говорит, не обменивались друг с дружкой любезностями, — а адрес оставила. Состряпали акт, подписались, и на все четыре стороны.
Я — к ребенку. Спит себе, и так безмятежно, будто наследник престола в окружении нянек…
Нажимаю кнопку — никого. Дурак дежурный смотался — поминай как звали! Я на улицу. Кричу! Что делать с ребенком? В первый раз тогда, кстати, взял на руки трехмесячного. А он почувствовал, что ли, нетвердую руку — давай заливаться! Бегаю с ним по кабинету и бормочу что-то, баюкаю. Как назло, «виллиса» нигде не видно. Кругом тишина, ни души! Рванул я домой — там хоть хозяйка поможет, а утром уж поглядим! Отвезу в райцентр, в детскую комнату, пусть там ломают голову. Ну и хозяйка была! Берет ребенка, ни о чем не спрашивает, воду бросается греть. Я говорю, накормить прежде нужно бы, да чем кормят таких, понятия не имею. Сбегал, буфетчицу насильно заставил отпереть да дать мацони. Хозяйка тем временем вымыла ребенка и постелила ему у печки. Затопили ради такого случая. Накормили мальчишку, укладываем, а хозяйка придвинула скамейку ко мне и интересуется, что дальше-то будем делать. Что ж, говорит, случается. Главное, чтоб она не жаловалась да на работе тебя не оскандалила. Еле-еле уверил, что и видеть не видел мальчишкину мать. Завтра утром сдавать, говорю, пойдем в детскую комнату.
Она прямо расстроилась, что ребенок не моим оказался. Не знаю, верит или не верит. Меня обманешь, не обманешь, все равно, говорит, только если твое дитя, не бери на себя греха, а я помочь, говорит, во всем помогу… У меня комок к горлу подступил. Да зачем бы я стал утаивать, говорю, если бы мой. Смотрю — уходит. И жалкая такая, плечи понурые… Если бы не она, я бы, может, и не решился на такой шаг.
Наутро выносит мне дитя — ангел, да и только! — и кладет на подушку…
Сижу, значит, на работе и покой потерял. Все мальчишка в голове вертится. Перевернул он во мне все. Что, думаю, с ним будет в детском-то доме? В кого, интересно, вырастет? И сам на себя сержусь. Непрошеная нянька! Есть закон, и поступай по закону. Одним словом, взялся звонить в детдом этот самый, а рука как деревянная. Пятница, успокаиваю себя, все равно не успеется, пусть побудет до понедельника, а там как начнем, так и кончим…
Словом, суббота эта да воскресенье и решили все. Не смог оторвать от сердца. Такой случай! И сам он держался мужчиной, младенец-то! Соседи заходили — смотрят кто с улыбочкой, кто как еще… кто и ласково. Ну и ребенок, говорят, замечательный! — и на руки. Так он что? В крик! У одного меня как шелковый. Так даже разошелся, что с рук не хотел сходить. Ношу из угла в угол. Жалко… Беспомощный ведь еще. И удивляюсь: чего такого во мне нашел? Нос, что ли, длинный понравился?
На душе новые сомнения. Как, думаю, родителям скажу? Не совсем это и обыкновенно, согласитесь со мной, — единственный сын является в один прекрасный день с ребенком. Ситуация! Откуда? Что? Главное-то я пропустил — недели через две вышло постановление исполкома об усыновлении гражданина Омари Китовича Микелтадзе. Совсем я тогда, помню, переменился. Никогда прежде с работы не торопился, а теперь так и тянет. Днем даже, бывало, забегал, соседи диву давались. Каждый вечер гулял с ним у опушки леса. Прежде над такими папашами улыбался, а теперь?
Пятимесячного повез Омари к себе в Сарекелу. Мать ужаснулась, в слезы… потом только приняла как подарок. То на него взглянет… то на меня, на детину, косится. Пальцами, говорит, да губами похожи. Отец молчит — ни восторгов, ни осуждения. А потом встал, поманил меня, как в детстве, и вот, говорит, сынок, что значит жить одному-то…
Когда немножко поуспокоились, посадил я обоих и рассказал все по порядку. Не мой, говорю, сын, я его мать и в глаза-то не видел. Так, вы думаете, поверили? Да он же вылитый ты! Сказать по правде, я даже обрадовался. Усыновил, так чего отрицать? Так, думаю, лучше. И для них, и для младенца…
Отец мой давно уже желудком страдал и после Омари год всего прожил. К ребенку привязался, так что уж со мной его и не отпустили. В Сарекеле рос. Так вот лежит, значит, отец, покойник, входим мы и что видим? Мальчишка залез на гроб, сел деду на грудь, тормошит, приговаривает: вставай, дедушка, вставай поскорей! Даже смеялись, помню, тогда, а теперь воображу эту картину — и сердце сожмется, и слезы текут… Так что уж простите…
После смерти отца сделалось труднее. Мать все болела. Перевез ребенка к хозяйке — вижу, и она утомляется. У обеих не те уже были годы.
При ребенке не так-то и легко жениться на желанной. К помощи прибегать не хотелось, а так, к какой ни сунусь, как узнают про Омари, так носы и воротят. Одна даже говорит, раз есть ребенок — женись на матери.
С Нанули я хитрость придумал. Ухаживаю за ней, к свадьбе дело идет, и тут я и открылся. Внимательно, должен сказать, выслушала. Не крутила носом, как прежние, но вспыхнула. Разве что самую малость! Проводил домой, успокоил. А наутро смотрю — является на работу ко мне, глаза красные, заплаканные, и все, говорит, между нами кончено. Любить люблю, а свадьбе не бывать. Да почему? Родители и брат ни в какую. Брат у нее был отчаянный какой-то… Этого, говорят, не хватало! Пусть или сдаст ребенка, или прощай…
Я, конечно, все взвесил и думаю: неужели так-таки и не поймет меня никто во всем мире? Да и к Нанули к тому времени очень уж я привязался — или на ней, решил, женюсь, или ни на ком.
Прихожу домой, одеваю потеплее Омари, собираю его вещички, одни только красненькие ботинки оставил, и веду. Детдома у нас в поселке нету, так что в Тетрихеви повез. Сдал Омари директору, договорился, чтоб без меня никому не отдали. Прощаюсь с ним, прощаюсь, а он смотрит как пораженный. С трудом отвлек внимание, с детьми свел, игрушками обложил. Скоро, говорю, приду. И назад!
Не помню, как вел тогда «виллис», как не свалился в ущелье. Приехал домой, смотрю на башмачки и чуть не плачу.
Быстренько, дней через пять, справили свадьбу. Как дожил, удивляюсь. Не пять дней, а кошмар! Хожу как в воду опущенный. Хозяйка дуется, исподлобья смотрит, будто палач я, убийца…
На свадьбу человек двести назвали. Я сижу, как посторонний. Что там тамада толковал, ничего не помню. На невесту, как бездарный артист, фальшивые взгляды бросаю, на тосты тупо откланиваюсь.
Сейчас, говорю, приду, шепнул Нанули и только тогда протрезвился, когда руль в руках ощутил и чуть не угодил в лощину. Там хватились меня, ищут, тесть тамаду унимает, а сам послал кого-то искать меня в кукурузник, на чердак… в курятник даже заглядывали. Мудрецы! Чтоб гости не забеспокоились, пляски устроили…
С трудом перебрался через поток и часов в одиннадцать стучусь в детский дом. Смотрю, нянька дежурная появляется. Где у вас, спрашиваю, Омари Микелтадзе спит? А вы, говорит, кто такой? Начальник милиции, рассказываю, директор ваш меня знает. Взгляну на ребенка и обратно! Ну, пустила она меня. Схватил я ребенка с кровати, одеваю и с собой уношу. «Обратно-то приведете?» — только и успела нянька спросить. «Да никогда!» — отвечаю. Веду машину одной рукой. В левой Омари держу, чтоб скорость можно было переключать. У моста он проснулся, взглянул на меня и уснул опять, убедился, стало быть, что отец с ним.
Ну, вот и все, что ли? Майор тут шутил-рассказывал, как начальник милиции на собственную свадьбу с ребенком явился. Так это он про меня. Приехал я, значит, усталый, мокрый, и так и ввалился на свадьбу к невесте с ребенком. Стою рядом и так весь и млею от счастья. «Вот, — говорю, — Нанули! Без него жизнь не в жизнь. Станешь ему матерью, становись, нет — так и свадьбы не нужно!»
Она сперва поглядела на меня укоризненно, потом улыбнулась и приняла ребенка. С тех пор и не расставались.
Тесть, спрашиваете? А что тесть? Что ему делать-то? Заставил я его повиноваться. В такой ситуации он меня и с крокодилом бы принял…
Перевод М. Бирюковой.
ХИТИА
В прошлом году съездил я туристом в Париж. Двадцать пять собралось нас в группе, и кто мне из всех запомнился? Хитиа Дашниани. Вроде бы и ничего особенного, ничем ни от кого не отличается, а запомнился. В тире работает, у самого входа в новый парк культуры, направо. Загрущу иногда, заскучаю по нему — и в тир. Он как взглянет на меня, давай помирать со смеху. Он заливается, и я заливаюсь, — каждый своему, естественно. Прямо до слез!
— Погодите, что ли! Видите небось, занят — разговариваю! — рявкнет Хитиа на прицеливающихся клиентов и хохочет еще раскатистей.
— Ну, как насчет Парижа? Съездим, что ли? — спрашиваю я, силясь сдержать приступ смеха.
— Чего я там не видал, в Париже-то? Чем мне тут не Париж? — отзывается Хитиа и скалит желтые щербатые зубы, будто приглашая меня пересчитать их.
— Ну почему, Хитиа? Чем он тебе не понравился, Париж? — пытаюсь я принять серьезное выражение.
— Ну, ты не очень-то! Не понравился! Я только говорю — и чего это они в один голос — Париж, Париж! А он… ну, Париж, он и есть Париж… что особенного.
Я в ответ взрываюсь весельем, Хитиа вторит мне, провожает до автобусной остановки и, когда мы уже подходим к ней, испуганно осведомляется:
— Ты, того, надолго?.. Не пропадай, ладно? Приходи!
— Ну! — жму я ему руку. — Бывай, брат!
— Бывай, бывай! — провожает он взглядом автобус и сотрясается от внутреннего хохота.
В допарижский период своей жизни я, признаться, не был знаком с Хити. Не бросился он мне в глаза, по правде говоря, и в вагоне. И одет был как-то не так, чтобы мне понравилось: тощий, долгий, а штаны узкие-узкие и пиджачонко кургузый, зеленый, как травка. Под пиджачком черная сатиновая рубаха-ахалухи, и на голове папаха. Так что, если бы не желтые резные лакированные туфли, вполне можно было принять за живую вывеску духана начала века.
— Ну, так в Париж, стало быть? — без обиняков-предисловий справился он, закинул чемоданчик в железном ободке на верхнюю полку, и поминай как звали до самой полуночи. В полночь явился, на ногах не держится, утешил, прошу, мол, прощения, на полку — и до самой Москвы. Ну, думаю, этому не жизнь без Парижа. Это я только потом убедился, что нам самим без него Париж не Париж был бы. А тогда… Ну вот, скажем, теперь: Париж — хочешь не хочешь, а стирается из памяти, зато Хитиа — прямо как врезался. Ну, сами посудите — дел по горло, а нет-нет да и забегу к Хитии послушать-поглядеть, как он заливается. Ну, послушать особенно не послушаешь, он только зубы скалит, а ничего не слышно, глаза только так и сияют счастьем, так что, если снять его на фото в такую минуту, всякий согласится: не может такой человек быть плохим — и все тут. Он почему, я думаю, заливается? Видит, кому-то весело, и сам того… Не всегда ведь у человека повод для смеха. А вообще чувство юмора у него — будь здоров. У них оно у всех, в Чоме[4]…
У самой Москвы Хитиа распахнул, как выстрелил, чемоданчик, выставил с грохотом бутылку «Варцихе», присовокупил к ней три сухие хурмы, налил до краев козлиный рог и протянул мне. Я насчет питья… нет, говорю, а он удивляется:
— Неужели так, трезвый, и въедешь?
Опрокинул рог, а глаза поблескивают лукаво, бегают. Еле сдерживает хохот, челюсти так и подрагивают.
Я прямо оскорбился.
— Неужто, — говорю, — человек не может быть болен? Неужели смешно?
— Да не в этом, — говорит, — дело! Анекдот, — говорит, — вспомнил!
— Анекдот? — спрашиваю.
— Ну! — говорит. — Тип тут один. Взял билет до Баку, а сел в вагон до Ткибули. Не слыхал, что ли?
— Нет! — говорю.
— Смурной какой-то! Взял билет до Баку, а сам едет в Ткибули. Думать ни о чем не думает, море по колено. В полночь только между прочим спрашивает у спутника: до самого, мол, Баку, едете, что ли? Нет, отвечает, до Ткибули! Ты подумай, удивляется, до чего дошла техника? Едем в одном купе, а один в Баку, другой аж в Ткибули. Так вот я думаю, мы с тобой уж не так ли? — дал мне высмеяться и затрясся сам в беззвучном хохоте Хитиа.
Ну, Париж — сами знаете! Слов нет… Не мы первые, не мы последние. Все ночи напролет не спали, мотались по городу. Один Хитиа как ни в чем не бывало. Оригинал! Будто не в Париж, а куда-нибудь в Самтредиа приехал из Кутаиси. Сижу я, значит, за Хитией в автобусе и слышу, как он рассказывает соседу кутаисские новости:
— Ну что, я говорю, ты к нему пристал? Ну что? Пьяного не видал? Ну вот тебя бы так вздумали поколотить! Пусти, и баста! Увидишь, завтра же явится извиняться. Я же знаю его — балахванский парень! Да и вообще — трудно у нас человека найти? — увлеченно повествует Хитиа, игнорируя протестующие жесты соседа.
— Хитиа! — негодую я. — Да ты погляди — Лувр!
Хитиа поворачивается, взглядывает на Лувр, восхищенно цокает языком:
— Ты погляди, во отгрохали! — и возвращается к прерванному повествованию: — Да кого там не найдешь, в Балахвани-то! В клуб к литопонщикам, скажем, придет? Придет! Ну, не придет, так хинкальная рядом, у самого у вокзала. Куда денется? Ну и пусти, говорю, видишь — на ногах не стоит человек. Нашел, говорю, время счеты сводить!
— Хитиа! — трясу я его за плечо. — Эйфелева башня!
— Ты подумай, а! Во отгрохали, сволочи! — восторгается Хитиа, не упуская нити повествования. — Росточку плюгавенького, а отчаянный, черт, в пасть ко льву сунется, не испугается. В прошлом году, помню, всю забегаловку разогнал у Красного моста. Не скажу, не возьму на душу греха, чтоб совсем был виноват. Там один пришел, сукин сын, с компанией — человек пятнадцать! Так они сдвинули три-четыре стола, а сами сгрудились, за двумя помещаются! Не скажу два, но один лишний? Лишний! Так он, балахванский, стало быть, говорит: займем, что ли? А тот, сукин сын: мы-то, говорит, тут что? Ты подумай? У нас минуты на счету, на футбол торопимся! А этот: отшивайся от стола, пока челюсть не своротил! Видал? Нет того, чтоб — вежливо спрашивают, вежливо отвечай знай!
— Нотр-Дам, Хитиа! — зверею я и бью его по плечу.
— Ух ты! — потрясается Хитиа. — Надо же, отгрохали! — и возвращается к деталям события в забегаловке.
Ни на минуту, словом, не отключился, так и не расстался в Париже с Чомой.
Ну, сувениры, скажем! Насчет оторвать что-нибудь в Париже… редкое, то есть интересное. Старались, не скрою, заглядывали. Так Хитиа силком не могли в магазин заманить! Прибарахлимся, а он знай помирает со смеху:
— Понабрали! Ну, джинсы! Ну, мокасины! В Кутаиси таких не достать, что ли? За семь верст киселя хлебать! Пиво, я понимаю! Пиво у них вещь! Променяю я его на рубаху из бинтика! Или штанов мало в Чоме? Да чтоб они провалились!
Раз только сорвался Хитиа, зашел в парикмахерскую — погляжу, мол, как здешних бреют-стригут. Сидим мы, значит, в автобусе, ждем — не видно Хитии. Показался наконец и просит руководителя — разрешите остаться.
— Да мы ж на Монмартр едем! Больше-то времени не будет побывать там, — увещевает его руководитель, а он знай свое долбит:
— Жил ведь я без него, без Монмартра! И теперь проживу, — и назад в гостиницу.
Вечером возвращаемся — нету Хитии. И что же оказывается? Целый день резался с парикмахером в шахматы! Еле оторвали от доски, потащили ужинать.
После ужина знакомый один, парижский грузин, зазвал меня в ресторан «Золотое руно». Татархан Антадзе с братом содержат его там. Думаю, брать с собой Хитию, не брать? Не взял, не решился.
Ну, так поставили нам в «Руне» все чин чинарем — лобио, соленья, даже аладастури красное отыскалось. Сидим, значит… с час уже, наверное. Слышим, поют. Вроде имеретинская «Мравалжамиер». По голосу Хитиа будто, думаю. А сам молчу. Откуда? Как?
— Молодцы, — говорю своему гостеприимцу, — вы тут, в Париже! Не забываете наших песен. Здорово как поет!
— Это у нас гость тут! Пойдем, что ли, познакомимся…
Идем, значит.
И что же вы думаете? Сидят парижан человек десять и между ними Хитиа! Закинул этак элегантно ногу на ногу и поет-заливается.
— Ты что это, говорю, Хитиа?
А он увидел меня и рот до ушей.
— Ты как, — говорит, — думаешь? Не найдет тут Хитиа места, где покутить? Или, может, мимо пройдет, не заглянет?
Одним словом, сдвинули мы там столики… до самой полуночи.
На обратном пути в самолете снова оказались мы рядом.
— Ну как, — спрашиваю, — Хитиа, Париж? А?
Сперва совсем отмахнулся, потом про совсем другое потолковал, потом только бросил с этакою небрежностью:
— Да, вообще… недотеп хватает… Куафер этот, или как его там… девять партий продул, три вничью с грехом пополам… ну, две вроде подыгрывал я ему… Вот, пожалуйста, парижанин! — закончил Хитиа под мой оглушительный хохот, удивляясь, чего, мол, смешного и неужто же лучше прошвыриваться по Монмартру, чем резаться с куафером?
Ну, не рожден человек путешествовать, зато жить рожден! Вот и не помни его после этого…
Соскучусь по Хитии, заверну в тир, похохочем-поулыбаемся и к автобусу:
— Ты, того… Не пропадай, ладно?! Приходи!..
Перевод М. Бирюковой.
ИМЕДО
Вроде бы и нет в Балахвани ничего легче, чем найти работу, однако Имедо Парцвания желал быть лишь бракировщиком и лишь на чулочно-коттонной фабрике. На означенном же предприятии все больше требовались вязальщицы, слесаря и даже ночные стражи, и места бракировщиком, как назло, все до одного были заняты.
— Вот невезение! — восклицал Имедо Парцвания. — Учись в прядильно-трикотажном целых четыре года, окончи его с отличием, и на тебе! Ну, да я если в слесаря или вязальщицы захочу, и там все места провалятся. Невезучий! Так-таки и ничего в жизни мне не причитается?! Ладно уж, подожду! А жить на что? На пенсию матери?
Чаша терпения у человека обыкновенно переполняется, когда до исполнения мечты остаются считанные минуты. Герой наш, однако, оказался упорнее, чем предполагали на чулочно-коттонной. Имедо Парцвания дождался! Приказ о его назначении младшим бракировщиком фабрики вышел, и он со всею торжественностью готовился к первому выходу на работу. Ровный пробор раздвинул на две половины упрямые кудри и засиял над темновато-зеленым костюмом, искусно скрывающим в переливах блеклые и свежие следы утюга, и ядовито-синими очками производства исправительно-трудовой колонии № 4, дополняющимися белейшей нейлоновой сорочкой под красным нейлоновым же галстуком и туфлями на высоких каблуках и толстенных подошвах объединения «Балахванис-Иберия».
Полупустой портфель, прихваченный для солидности, сообщал шагу Имедо энергию, бодрость и силу.
Единственным требованием, выдвинутым завкадрами и завцехом при оформлении, было своевременная явка. Вовремя появиться, нашлепать печати — и, как говорится, вольному воля…
Вовремя! Да я ж переночую в цехе, если потребуется, убеждал себя молодой бракировщик. Главное — позади, голубая мечта исполнилась, теперь-то он уж знает, как себя показать… Не опоздать — и вся недолга! Да это же легче легкого!
До остановки оставалось всего ничего, когда возле пекарни он заметил стайку мальчишек и — иначе бы ни за что не остановился! — щенка. Он замедлил шаг у канавки, куда ребятишки, дурачась, бросали щенка, а он, скользя по цементным стенкам, с неимоверным трудом выбирался, отряхался и вновь попадал в руки к мучителям.
Сердце Имедо Парцвания сжалось. Он подхватил щенка и цыкнул на ребятишек:
— Вы что это вздумали, а? Ну-ка…
— Да он, дядя, ничей! — нашелся один из мальчишек, самый высокий.
— Ничей! Марш-ка в школу, пока не оттаскал вас за уши!
Мальчишки кубарем скатились под горку и испарились в переулке, меж тем как Имедо извлек из портфеля целлофановый мешочек, посадил в него щенка и прижал к пиджаку.
«Чей бы он мог быть? — размышлял Имедо. — Отстал, видно, от хозяина… Но от кого? Эх ты, горе мое, ну чего скулишь? Я же твой избавитель. Утопили бы тебя, как пить дать! Ну, куда ж мне тебя нести? Есть небось хочешь? Ишь, зевает! Ну, так ко мне давай-ка махнем. Найдется хозяин — ладно! Нет — живи у меня сколько хочешь…»
— Чей это, Имедо? — поинтересовалась с балкона мать, когда он показался в воротах со спящим и потяжелевшим, источающим тепло щенком на руках.
— Прими-ка его у меня. Кабы не опоздать на работу! На балконе бы хорошо устроить. Красавец! Ну, скорее, скорей же!
— Нашел время возиться с щенком! — ворчала мать, провожая взглядом сына, пулей несущегося к площади Маркса.
Завцехом Силибистро Харадзе, тщедушный, косоглазый мужчина с не соответствующим фигуре зычным голосом, встретил его у входа:
— Ты гляди, еще не начал работать, а уже…
— Уважаемый Силибистро…
— Никаких уважаемых! Что я просил-то, помнишь? Все, говорил, прощу, только не опоздание!
— Говорили…
— Ну?
— Мальчишки щенка чуть не утопили в канаве.
— Какие мальчишки?
— На улице.
— «На улице»! — передразнил Силибистро.
— Не знаю чей! Отнес домой к матери. Если спросят, отдам! — повествовал Имедо, между тем как Силибистро сперва раскатисто расхохотался, потом взял себя в руки, окинул Имедо серьезным, укоризненным взглядом и расхохотался снова. Молодой бракировщик решил, что гроза миновала, взялся за ручку двери, но громогласный возглас завцехом пригвоздил его к месту:
— Первый и последний раз! Понял? И никаких щенков! Выдумал тоже! Знаешь небось — испытательный срок! Без всяких профкомов, месткомов уволю!
Гнев исторгала вся фигура завцехом — кривой лоб, выпяченная вперед физиономия, тощие плечи и седые редкие волосенки, — мышонок из мучного мешка, да и только!
Наутро второго трудового дня Имедо Парцвания твердо решил исправиться. Явлюсь в цех первым, пусть полюбуется! Еще не было семи, когда он сел в автобус № 3 в расчете на то, что в полвосьмого появится в цехе; меж тем кто-то легким жестом уже касался его плеча. Кто-то оказался патлатым парнем лет двадцати, в узких джинсах, — он протягивал Имедо обрывок картона.
— Мне? — принял Имедо обрывок.
— А-а-а-а! — протянул парень и опустил голову.
— «Второй переулок Шмидта, девять», — вопросительным тоном громко прочел с клочка Имедо. — Это, стало быть, у известкового? — поинтересовался он у соседа и, не дождавшись ответа, повернулся к патлатому: — Не на тот угодили, пересаживайтесь на четвертый!
— А-а-а-а! — проскулил парень, приложив руку к языку и ушам и покрутив ею в воздухе.
— Да он немой! — догадался сосед Имедо.
— Ну, так как мне объяснить, — взволновался молодой бракировщик, — не в ту ведь сторону едет! Доедет до конца, совсем заплутает! На четвертый надо! Четвертый!
— А-а-а-а! — печально протянул парень и опять показал на язык и на ухо.
— Какой парень, а! И глухой, что твой тетерев! — с сожалением воскликнул кто-то на задней скамейке.
— Да-а! Надо же! — согласились с ним сразу двое.
— Бедняжка! — шмыгнула носом пышнотелая востроглазая кондукторша!
— Четвертый! Четвертый! — распялил перед носом патлатого четыре пальца Имедо.
— Не бедняжка он, а счастливец! Я чего только не слышу, ну и что? — несмешно пошутили рядом.
— Четвертый! Четвертый! — внушал Имедо немому.
— А-а-а-а! — похоже, патлатый не знал арифметики.
— Пошли! — Имедо взглянул на часы, решительно встал и, улыбнувшись немому, стал проталкиваться к выходу.
Сошли на первой же остановке. Имедо за руку, как ребенка, перевел немого через улицу, почему-то решив, что тот ко всему еще и плохо видит.
К площади подъехали на троллейбусе, пересели на четвертый и еще не подъехали к известковому, как пробило восемь.
— Ну как, отсюда дойдешь? — крикнул в ухо немому Имедо, когда они спрыгнули на улице Шмидта.
— А-а-а-а! — отозвался его спутник, помахал клочком картона и прижал руку к сердцу, в знак того, что, мол, если уж так уважил, доведи до места.
— Да опоздал я, понимаешь?! — Имедо в отчаянии поднес часы к глазам немого.
— А-а-а-а! — ныл патлатый.
— Ну, пошли же, черт тебя побери!
У висячего моста над Вацадзевской балкой немой обрел дар речи:
— Давай все деньги и шуруй без оглядки, не то… В общем, знаешь!
Речь «немого» отличалась внятностью и внушительностью.
— И это все?! — возмутился он, обнаружив в кармане поводыря всего-навсего семь рублей. — Так чего же ты галстук-то нацепил? Отпирай портфель! Вот зараза! Хоть газетами бы набил, хоть кусок хлеба с сыром засунул! Ну-ка, что за часы? «Победа»… Каменный век! Ну, ты даешь, голопятый! — «Немой» щелкнул кнопкой складного ножа, и лицо бракировщика покрылось смертельной бледностью. — Ничего, ничего! — подбодрил его патлатый и отсек ножом галстук под самый узел. — Шпарь назад, да не вздумай узнать на улице… В общем, знаешь!
— Ладно! — мотнул головой Имедо и пустился по спуску, ликуя оттого, что все кончилось лишь усекновением галстука.
Завцехом Силибистро Харадзе, тщедушный, косоглазый мужчина с не соответствующим сложению зычным голосом, встретил его у входа:
— А ну, марш отсюда! Смену из-за него не могу отпустить! Попробовал бы, каково всю ночь у машины!
— Дяденька Силибистро…
— Я тебе дам дяденьку…
— Бандит на меня напал!
— Что-о? Кого он морочит? Среди бела дня?!
— Вот, глядите, галстук отрезал! — сунул Имедо под нос Силибистро обрывки своего украшения.
Оглушительный смех Силибистро Харадзе потряс своды цеха, но ему и на сей раз удалось взять себя в руки.
— Держите меня, не то прикончу. Фантазер! Хоть бы придумал что-нибудь путное. Недотепа! Бандит среди бела дня в автобусе. Еще один выговор! Опоздаешь — все, чтоб духу здесь не было!
Утром третьего трудового дня Имедо Парцвания проснулся с твердой решимостью не останавливаться на дороге, если даже подымется из могилы и встретит его, уперев руки в бока, у памятника Киквидзе его дед Эквтиме Парцвания. Чтоб избежать нечаянных встреч, махнул на площадь коротким путем через кладбище.
Пробегая по бревнышку над ручьем, он вдруг заметил черепаху, упавшую навзничь на дно ложбины, изо всех сил мотающую головой и силящуюся перевернуться. Черепаха была самая крупная из всех, каких Имедо когда-либо видел на Огаскурском кладбище.
Имедо скинул обувку, закатал брюки, спустился в ложбину, перевернул черепаху и взбежал обратно. Еще не дойдя остановки, повернул вдруг назад, снова скинул обувку и закатал брюки, поднял черепаху, оказавшуюся тяжелехонькой, выкарабкался и пустил черепаху на травку…
Завцехом Силибистро Харадзе, тщедушный, косоглазый мужчина с не соответствующим сложению зычным голосом, встретил его у входа.
Ничего особенного не случилось. Буря пронеслась мимо сжавшегося в комочек, обратившегося в сплошные испуганные глаза Имедо. Завцехом поулыбался и несвойственным ему мирным и тихим голосом признался:
— Уломал ты меня, брат! Уломал… Голову дам отсечь, не по своей воле опаздываешь. Ну, проходи, проходи, давай вкалывай!
Имедо терзался сомнениями — вторить ли смеху грозного Силибистро или просто склонить повинную голову.
Перевод М. Бирюковой.
СУДЬЯ
Лаврентий Микаутадзе вовсе не добивался звания судьи республиканской категории.
«Нет у меня времени ездить по соревнованиям, — думал он. — Не мое это дело. Где-то кого-то обидишь, где-то с кем-то рассоришься, зачем мне новые хлопоты и треволнения?» Но друзья-приятели настояли на своем: «Если в нашем городе кто и понимает в стоклеточных шашках, так это ты. Вспомни свое спортивное прошлое. Вчерашние юнцы стали патентованными судьями. Пусть и у тебя будет звание, чем оно тебе мешает? Для наших шашистов твое слово закон. Да и человек ты с подходом, тактичный, и совесть у тебя перед всеми чистая».
Уговорили-таки, и написал Лаврентий заявление: дескать, я, мастер спорта по шашкам, ныне старший научный сотрудник курсов по повышению квалификации, хочу получить звание судьи республиканской категории и прошу провести соответствующие испытания, назначить мне экзамен.
Члены шашечного клуба с удовольствием приняли заявление Лаврентия: будет у нас еще один порядочный, принципиальный судья. Кое-кто удивился: неужели у Лаврентия до сих пор нет республиканской категории? Как же так? Куда мы раньше-то смотрели?
Председатель шашечной секции решил не нарушать формальностей и назначил день экзамена. В бюро секции входило пять человек: председатель — Миха Сопромадзе и члены — ветераны секции: Сандро Киладзе, Амиран Таргамадзе, Ношреван Харбедиа и Нестор Катамадзе.
В назначенный час Лаврентий явился на бюро.
— Входи, дорогой Лаврентий, входи. Пожалуйста, садись! — пригласил его Миха.
— Надеюсь, ты не очень волнуешься, — пошутил Сандро Киладзе.
— Да кто посмеет заподозрить его в незнании правил! Покажите мне такого! Неужели нам, неучам, экзаменовать Лаврентия Микаутадзе? — заявил Амиран Таргамадзе.
— Все-таки где ты раньше-то был? Почему в свое время не получил звание? — улыбнулся ему Ношреван Харбедиа.
— Давайте приступим поскорее, не будем задерживать занятого человека. — Нестор Катамадзе взглянул на часы.
Бюро шашечной секции соблюдало все формальности, потому вопросов Лаврентию задали немало. Бывший известный шашист спокойно, толково и верни отвечал на вопросы. Все кивали ему, молча выражая согласие.
Лаврентий не хуже других знал теорию и практику игры в шашки, и все это чувствовали. Повода для споров не возникало, однако экзамен затянулся на час. Председатель не смог сдержать восхищения: даже судьи всесоюзной категории не часто бывают так подготовлены. Наконец, когда все вопросы были исчерпаны, Миха обратился к Лаврентию:
— Извини, ради бога, но тебе минут пять придется подождать в коридоре. Проведем голосование, и ты свободен.
Тогда звание судьи республиканской категории присуждалось тайным голосованием.
Лаврентий прохаживался по коридору шашечного клуба и разглядывал фотографии известных шашистов прежних лет.
На лестнице его дожидались трое верных друзей. Судя по всему, они явились недавно: перед экзаменом Лаврентий их не видел.
— Ну как, Лаврентий? Тебя, часом, не срезали? — крикнул ему Геронтий Тортладзе.
Лаврентий засмеялся:
— Ну, чего пожаловали? Все равно потом Москва должна утверждать. Вот когда придет утверждение из Москвы, тогда и отметим.
Но друзья и слушать его не желали. Они нашли повод для застолья и, разумеется, не хотели упускать его из рук.
— Ты как знаешь, но в небезызвестном тебе месте сегодня получили мировую осетрину, вот мы и пришли предупредить, чтоб ты не прозевал.
Лаврентий понял, что дело с судейством все равно придется «обмыть», и подумал: «Хорошо бы закончить пораньше — ведь завтра рабочий день».
Однако голосование затянулось. Когда Лаврентия наконец позвали, ему что-то не понравились понуро стоящие вокруг стола члены шашечного бюро. Заметно побледневший Миха Сопромадзе встал и сухим, несколько даже придушенным голосом зачитал:
— После вскрытия ящика для голосования в нем обнаружено пять бюллетеней. В голосовании о присуждении звания судьи республиканской категории приняло участие пять человек. «За» — один голос. «Против» — четыре. Бюро шашечной секции постановляет: «Отказать Лаврентию Микаутадзе в звании судьи республиканской категории».
Лаврентий не верил своим ушам.
«Почему так случилось? Ведь все были «за». Всем понравились мои ответы. Никто не спорил, не возразил. Что же они сделали со мной? Опозорили на старости лет! За что? Почему? Неужели я заслужил это?» Слезы подступили ему к горлу. Он посмотрел на понуро стоявших перед ним членов бюро, поблагодарил их и, ссутулясь, подавленный, потрясенный до глубины души, направился к дверям.
Его друзья все поняли без слов и молча уступили ему дорогу. Говорить что-либо, утешать было лишним. Лаврентия «прокатили». Друзья в какой-то мере чувствовали себя виноватыми, ибо они вдохновили Лаврентия на это дело. Кто мог подумать, что у добрейшего, честнейшего человека — Лаврентия Микаутадзе окажется столько врагов!
Вечерело. Было холодно. До зимы еще оставался целый ноябрь, но вечный спутник этого города — промозглый ветер пробирал до костей.
У ворот дома Михи Сопромадзе стояла машина «скорой помощи». Лаврентий подумал было вернуться и прийти в другой раз, все равно тут сейчас не до него, но бывший чемпион по шашкам не был уверен, что его оскорбленное сердце доживет до завтра. Собака с хриплым лаем бросилась на калитку. Ему не пришлось ни звонить, ни звать.
— Пошел вон, пес! — крикнул кто-то во дворе.
Собака метнулась к ограде, пытаясь прорваться сквозь железные прутья.
— Пшел вон, дурной! — Кто-то во дворе бросил в собаку камень. Камень стукнул в калитку, и пес, явно путавший друзей и недругов, поскуливая, отбежал прочь.
Калитку открыл Миха.
Лаврентий стоял, погрузив руки в карманы плаща, и молча смотрел на Миху.
— Заходи, Лаврентий, дорогой. Добро пожаловать!
— Заходить мне некогда, дело у меня маленькое.
— Да входи ты, в дом пойдем. Не станем же на улице разговаривать. Собаки не бойся, это не моя, а соседская, чтоб ей подохнуть. В своем дворе никого не трогает, а тут… Видно, на моих гостей обучена. А кто его спрашивает, кто его просит мой дом охранять? Как только спустят с цепи, в мой двор летит.
Беседуя, они поднялись по лестнице и вышли на застекленную веранду. Лаврентий, не снимая плаща, сел к столу, оперся подбородком о ладонь.
— Не беда ли у вас какая? — спросил он и покосился на ведущую в комнату дверь, где за шторами двигались большие мрачные тени.
— Жена болеет, Лаврентий, дорогой. Тяжело болеет. Горе у меня. Вот уже два месяца «скорая» и врачи не покидают моего дома. — Он наклонился к Лаврентию и шепотом сказал: — Рак желудка у нее, так что все, нет мне никакой надежды.
Лаврентий искренне огорчился:
— Сама-то она знает?
— Не говорим. Не хочу последние дни ей отравлять. Считанные ведь дни бедняжке остались. А какая женщина! Какой человек!
Некоторое время они помолчали.
Лаврентий подумал, что чем скорее он скажет свое и уйдет, тем лучше для обоих, и начал:
— Что там сегодня случилось, Миха, объясни, ради бога!
— А я о чем?! Домой сам не свой вернулся. Как удар грома для меня это дело.
— Недостоин я? Скажи прямо, не темни. Ошибся я в чем-нибудь? Неверно ответил?
— Ты меня об этом спрашиваешь? Меня?! Лаврентий, дорогой, мы с тобой не первый день друг друга знаем. Что значит — недостоин? Неужели ты в себе сомневаешься? Да кто у нас в городе разбирается в шашках лучше тебя? Кто нас в люди вывел? Кто был первым чемпионом? Ты. Да тогда ни один из них понятия о шашках не имел.
— Что же вы меня на старости лет опозорили? Что там стряслось?
— Потому я и не хочу больше возглавлять бюро этой секции. Пусть оставят меня в покое. Сам видишь, какое кляузное дело. Сколько раз говорил: «Буду просто членом бюро». Никак не соглашаются… Может быть, ты и во мне сомневаешься? Посмотри мне в глаза. Детьми заклинаю, ответь прямо!
— Я ни о ком не хочу плохо думать. Но ты присутствовал при голосовании и скажи, объясни мне, пожалуйста, что там случилось?
— Я, братец ты мой, в открытую за тебя проголосовал. Я, говорю, председатель, и таиться мне нечего; человек заслужил звание и пусть получает. И первым опустил свой бюллетень. Да так он там один и остался.
— Значит, остальные четверо меня «прокатили»?
— Выходит дело, так. Но Сандро Киладзе не мог против голосовать. Такой уж он человек, всегда «за» голосует. Ношреван Харбедиа твой закадычный друг и брат, вы с ним вместе начинали и вот уже сколько лет рядом шагаете. Нестор Катамадзе, сам помнишь, ни одного вопроса тебе не задал, только и повторял: что же мы человека мучаем, он же всех нас, вместе взятых, стоит. Нет, прямо и наверняка никого не обвиню. Не хочу на людей напраслину возводить… Как ты с Амираном Таргамадзе?
— Не знаю… Вроде хорошо.
— Да я своим коротким умом его одного и подозреваю слегка.
— Сказал он что-нибудь против меня?
— Нет, сказать-то не посмел. Но любит меня куснуть. Кляузный немножко человек. Хочет в председатели вылезти и, что бы я ни сказал, обязательно против выступит. Я думаю, может, он заметил, что я всей душой к тебе расположен, вот и решил назло мне «против» проголосовать?.. Так я думаю, себе своим коротким умишком.
— А я-то тут при чем?
— Разве людей поймешь? — пожал плечами Миха Сопромадзе. — Не так-то это просто…
Лаврентий извинился за несвоевременный визит и спустился по лестнице. Последних слов хозяина: «Не принимай это дело близко к сердцу» — он даже не слышал.
Амиран Таргамадзе жил тут же, неподалеку, в начале улицы Конституции.
Единственная дочь Амирана вышла замуж. С женой он давно развелся и жил один. Не найдя звонка, Лаврентий долго стучался в дверь, долго звал: «Хозяин!» — но никто не отзывался. Наконец горбатая соседка Амирана распахнула окно и посоветовала подняться наверх: «Ему вас не услышать. Он телевизор смотрит на веранде».
— У него собаки нету? — спросил Лаврентий и, получив отрицательный ответ, поднялся по лестнице.
— Разве они люди, а? Положи руку на сердце и скажи: разве это люди? — такими словами встретил Амиран поднимающегося по лестнице Лаврентия.
— Про это я и пришел узнать. — Лаврентий заглянул в глаза старому приятелю, ему очень хотелось разглядеть, мог ли Амиран голосовать против него.
— Как они тебе завтра в лицо посмотрят? Как они жить-то будут после этого?
— Не то мне обидно, Амиран, что «прокатили» меня на голосовании, а то, что так бесчестно саданули под ребро. Встань и скажи прямо: не заслуживаешь ты этого звания. Кто запретит человеку свое мнение высказать? Детьми клянусь, я бы не обиделся. Я бы решил: значит, так он считает. И это его право. Но коварно, исподтишка садануть из-за спины? Разве это не гадость?
— То, что они тебе сделали, хуже, чем гадость.
— Скажи, ради бога, заметил ты там что-нибудь? Как ты понял все это дело?
— Я тебе скажу, коварный человек хуже рыси, Лаврентий. Она хоть прямо кидается. Да если б я в ком-нибудь заметил злой умысел против тебя, разве я допустил бы до этого? Да я бы все их тайное голосование вверх дном перевернул бы, наизнанку бы вывернул! Ты меня знаешь. Никто о тебе слова дурного не сказал. Напротив, все обрадовались, что ты надумал наконец звание получить. Я вот что тебе скажу: Михе Сопромадзе с тобой делить нечего. Он председатель секции, да и председательства не хочет. Вы с ним не соперники. Так что Миха должен был за тебя голосовать. А остальные? Кто там еще был? Ношреван, сам знаешь, немножко кляузный мужик, но сердце у него доброе. Зла он не сделает. Нестор Катамадзе мне прямо сказал: дурацкая формальность, не нам, говорит, Лаврентия экзаменовать. А как ты с Сандро Киладзе?
— Да вроде хорошо… Всегда рады друг другу.
— Знаешь, почему я спрашиваю? Что-то он так активничал. Верно, ты и сам заметил? Больше других вопросы задавал… Может, я и грешу перед господом, но кажется мне, что он не совсем хороший человек. В позапрошлом году хотел я свою дочку в институт устроить. Спортсменов, сам знаешь, отдельно экзаменуют. Вот я и подумал: запишу ее в список со спортсменами. Что я еще от спорта могу урвать? Сандро тогда был секретарем нашей секции. Пришел я к нему. Поставь, говорю, печать на справку. А он и слышать не хочет. Шум поднял: «Как так — поставить печать! Твоя дочка, пальцем не пошевелив, в спортсменки запишется, других детей перепрыгнет!..» Так прямо и сказал. А что ему, убыло бы от этой печати? Скажи мне, ради бога, растолкуй. Может, я чего не понимаю? Его детям и племянникам желаю получить такое образование, какое моя дочка получила. В прошлом году замуж, негодница, выскочила, так и осталась без высшего. Кто знает, что ждет меня в будущем? Может, в один прекрасный день зятек мой даст ей коленкой под зад и вернет мне домой. А так у женщины профессия была бы, специальность какая-нибудь. Вот я и сомневаюсь в нем. Неверный Сандро человек. По-моему, одно «против» он тебе подложил.
— Не знаю, черт бы побрал совсем!
— Ты так уж на веру мои слова о Сандро не принимай, может, я и ошибаюсь, кто его знает, но факт остается фактом. Я, мой дорогой Лаврентий, всем показал: «Вот, говорю, мой бюллетень. Чтобы потом, говорю, никто ни в чем не сомневался». Показал всем и проголосовал за тебя. Я в одном только Сандро немножко сомневался, но кто бы мог подумать, что четверо против проголосуют!..
Лаврентий поблагодарил хозяина дома и надел шапку.
— Куда ты? — бросился за ним Амиран. — Я так тебя не отпущу! В первый раз в моем доме. У меня винцо славное имеется, клянусь единственной дочкой, сам давил, виноград по кисточке отбирал. Неужели не выпьем по стакану, хотя бы стоя, на ходу?..
Но Лаврентий уже был на улице и вдоль канавки шел к Поточной улице.
С Сандро Киладзе он встретился возле хлебного магазина. Сандро раскрыл объятия и обнял его, как старого друга, с которым давно не виделся.
— Лаврентию наше почтение! Что это ты кислый какой? Нос повесил… Нашел о чем горевать. Поверь моему слову, они еще сами горя хлебнут. Завтра, когда весь город узнает и они не смогут людям в глаза посмотреть. Ведь каждому известно, что ты заслужил звание и без всякого голосования… Где ты тут был, в наших краях-то?
— К тебе шел.
— Вот и отлично. И слава богу. Пошли, коли так. Теплый хлеб при нас, я и сам еще не ужинал, закусим, посидим.
— Что вы сегодня со мной сделали, Сандро? Ответь мне, ради бога: неужели я чем-нибудь перед вами провинился?
— Вот и я говорю, не до ужина мне было. Можешь себе представить, в каком состоянии я оттуда вернулся. Что, думаю, делать? Как завтра Лаврентию в глаза посмотрю? Надо же: с этими мартышками в их чертовом бюро оказался. А теперь расхлебывай. Еще, чего доброго, на меня человек подумает. Но они и сами подтвердят: я знал, с кем имею дело, и в открытую за тебя проголосовал. Встал у ящика и всем четверым показал свой бюллетень. Такой уж я прямой человек, мой дорогой Лаврентий.
— Может быть, ты кого-нибудь подозреваешь? — спросил Лаврентий, как утопающий хватается за соломинку.
— Сам все узнаешь. Все тайное станет явным, мой дорогой, все откроется. Хотя что тут узнавать: мой голос был «за» — это наверняка. Стало быть, они все четверо «против» голосовали.
— Может, я в чем-нибудь ошибся? Может, недопонимаю чего-нибудь? Или в тактике промашку дал?
— До голосования все было на лучшем уровне. Так что четырех «против» никто не ожидал. Я, как только ящик вскрыли, хотел уйти. «Тьфу, — говорю, — на вас, хорошие же вы гуси оказались. Славное дело учинили, ничего не скажешь. Мясники вы после этого, вот кто». Обругал всех четверых. Они ни гугу. Если они ни при чем, если чистенькие, показали бы свой бюллетень, как я показал. Будь там хоть два «против», можно было бы спутаться, со следу сбиться. Тогда каждый мог бы сказать: это не мой голос, а его. А теперь мы всех четверых как облупленных видим. Так что знай на будущее, может, пригодится.
— Было по кому-нибудь заметно, что он «против» проголосует?
— Я думаю, Ношреван Харбедиа «против» голосовал. Вроде он с тобой дружбу водит, но такому ни на минуту нельзя доверяться. Не наш он человек, попомни мое слово. Даже если ты ему яичницу на ладони изжаришь, он тебя не пощадит. Нужен ты ему — он тут как тут, залезет и ластится — лиса лисой, а если не надеется урвать чего-нибудь — все, ты для него не существуешь!
— Кто? Ношреван?!
— Да, Ношреван, Ношреван. Чего только я для него не делал, шкуру с себя готов был содрать. Такая дружба — ну душа в душу. Не было случая, чтоб в моем доме хоть стакан вина без него выпили. А ошибся я разок, погорел немножко — да ты помнишь это дело, — он тут же от меня отвернулся. Да что отвернулся, следователю показания дал: я, мол, замечал, что он какими-то темными делишками занимается. Когда закрыли мое дело, позвал я его к себе домой, изорвал об его голову эти его показания и так прямо и сказал: «С этого дня ты сам по себе, а я сам по себе». Вот и живу себе тихо-мирно.
— Я, пожалуй, пойду, — сказал Лаврентий, когда они поравнялись с калиткой Сандро.
— Жизнью твоей клянусь, не пущу никуда! Как так? Неужели мы с тобой не друзья? Я мигом маринадов достану, сыр хороший, хлеб горячий, и посидим, покалякаем…
— Некогда мне, спасибо, — бросил Лаврентий и чуть ли не бегом пошел прочь.
— Лаврентий, ради бога, то, что я о Ношреване сказал, между нами! — крикнул ему вслед Сандро Киладзе и ногой толкнул калитку.
Ношревана Харбедиа Лаврентий застал дома, тот чистил клетку кенаря.
— Ты? — проговорил Ношреван и включил настольную лампу.
— Я.
— Куда ты исчез? Искал я тебя после этого дела, хотел поговорить.
— В хорошем настроении вы меня оттуда выпроводили.
— Хочу дать тебе совет.
— Какой?
— Напиши протест. Опротестуй нас. Там процедура была нарушена. Протокол не велся.
— На кой черт мне звание, полученное такой ценой? Да гори оно синим пламенем!
— Дело принципа. Ты непременно выиграешь. Не должны мы допустить, чтобы их взяла.
— Где птаха?
— Вон там, под котелком.
— Как бы не задохнулась. Воздуха ей хватает?
— Не задохнется, я ненадолго. Пожалуй, продам ее. Не до нее мне теперь. Мои за ней не смотрят. Иной раз месяц пройдет, и ни разу воду не сменят. Только трели ее слушать любят. Провоняла птица, а почистить клетку никому в голову не приходит. Все на меня смотрят. А я возьму и продам.
— Это все ерунда, — вздохнул Лаврентий. — Скажи мне, что там сегодня случилось, я сам не свой.
— Об этом-то я и хотел поговорить, а ты убежал. Из спорткомитета, оказывается, потом звонили. Ходжава говорит: «Что вы там натворили? И это называется объективное и принципиальное бюро? Гнать всех вас надо!..» Может, и распустят теперь…
— Мне уж это не поможет. Я свое получил. Горечь в глотке торчит, не проглотить.
— Что поделаешь. Сомневайся мы хоть чуточку сначала, иначе бы все организовали.
— Как «иначе»?
— Заранее бы всех предупредили, поговорили бы с каждым. Я встал бы и охарактеризовал бы тебя честь честью. И сам бы голоса подсчитал. А как же! Их бы за дверь выставил и, окажись в ящике что не так, вовсе заменил бы бюллетень.
— Да ладно тебе. И кого бы я провел такими приемами? Самого себя?
— Если б ты не заслуживал, другое дело. Знаешь мой характер: хоть ты мне как брат родной, я прямо в лицо сказал бы — не заслужил еще, погоди маленько, правила подучи. Но ведь все обстоит иначе! Что? Нестор Катамадзе, этот никудышный пустомеля Нестор Катамадзе судья республиканской категории, а ты — нет?!
— А что Нестор?
— То, что он «против» голосовал, можешь не сомневаться. Рядышком со мной сидел. Когда бюллетени раздали, я с места не сдвинулся. «За» оставил, «против» зачеркнул и бросил в ящик. А Нестор взял свой бюллетень и говорит: «Раз уж голосование тайное, пусть тайным и будет». Отошел к окну, минут десять простоял там, сложил вчетверо свой листок и опустил последним. Тогда же у меня мелькнуло: «Против, — думаю, — мерзавец, проголосовал». Но одного я не боялся. Думал, все остальные «за» проголосуют.
— Выходит, ошибся.
— Что за фрукт этот Нестор, всякий знает, но какая муха остальных-то укусила? Как могли Миха Сопромадзе, Сандро Киладзе и Амиран Таргамадзе против тебя проголосовать? В особенности Амиран Таргамадзе…
Ношреван вытряхнул клетку, дунул на нее, и облако пыли пронеслось по кухне. Потом протер клетку мокрой тряпкой, но, учуяв, что она все еще воняет, подставил под кран.
— Одно тебе скажу: пережди немного и снова подавай заявление. Протест писать не стоит. Тут ты, пожалуй, прав: они еще больше обозлятся. Подавай новое заявление, а дальше уж я знаю, как мне действовать. Что ты на это скажешь?
Не дождавшись ответа, Ношреван приподнял колпачок настольной лампы и огляделся. Лаврентия на кухне не было.
Нестор Катамадзе жил на Сухумской улице в двухкомнатной коммунальной квартире.
Дверь Лаврентию открыла седая женщина в фартуке.
— Простите, Нестор дома?
— Да, да. Пожалуйста, входите.
— Вы…
— Я его теща. Входите, входите.
Лаврентий вошел. Теща подала ему стул и, извинившись, сказала:
— Он купается. Если что-нибудь срочное, я скажу и потороплю.
— Давно он в ванной?
— Только что вошел, но какое это имеет значение.
— Ничего, я подожду.
— Погодите, я сейчас спрошу. — Теща подошла к дверям ванной: — Нестор, слышишь? К тебе гость.
— Кто такой?
— Кто вы? Как ему сказать? — с улыбкой спросила теща.
— Лаврентий, скажите, Микаутадзе.
— Лаврентий Микаутадзе! — крикнула в дверь теща.
— Пусть войдет, — послышалось из ванной.
Теща отошла от двери.
— Если дело срочное, пожалуйста…
Лаврентий снял плащ, перебросил через стул и толкнул дверь ванной.
— Лаврентию наше почтение. — Из пенистой ванны высовывалась лысая голова Нестора. — Извини, пожалуйста, Лаврентий.
— Да что ты! Это ты меня извини.
— Огорчили мы тебя сегодня, но что поделаешь, случается.
— Бывает и хуже, Нестор, не о том речь. Но что я кому худого сделал, за что вы со мной так?
— Человека понять нелегко, Лаврентий. Видно, некоторым стоит оказаться перед избирательной урной, так всякая пакость и лезет в голову, вся злоба так и закипает. Разве такое звание должно присуждаться тайным голосованием? Настоящий мужчина встанет и во всеуслышание скажет свое мнение.
— И все-таки как ты думаешь, кто «против» проголосовал?
— Не спрашивай об этом, Лаврентий. Нас там было пятеро. И все пятеро мы должны поровну поделить и тот один голос «за», и четыре «против». Оправдываться теперь перед тобой и выдавать себя за чистенького нехорошо.
— Кто-нибудь показал всем свой бюллетень?
— И этого я не могу сказать.
— Ты лично «против» голосовал?
— Лаврентий, прошу тебя по дружбе, не ставь меня в затруднительное положение. Думай обо мне как знаешь, во что меня ценишь, так и цени. Тайное это голосование, черт бы его побрал совсем, и пусть уж остается тайным. Я не смогу тебе доказать, что голосовал «за», да и не попытаюсь это сделать. Да и какое значение имеет мой голос? Проголосуй я «за» или «против», все равно ничего не изменилось бы. Я никому в друзья не набиваюсь. Пусть каждого своя совесть судит.
— А то, что меня так обидели? Унизили!.. То, что я веру потерял!..
— Во что ты веру потерял, чудак?
— В бюро нашей секции.
— Это не беда. Мы сегодня есть, а завтра нас не будет. Вы нас выбрали, вы и переизберете. Главное — не потерять веру в то дело, которому мы всю жизнь посвятили. Шашки непростая игра, мой милый. Если помнишь, первым чемпионом нашего города был именно ты, а не кто-нибудь другой. Тогда у нас была одна-единственная стоклеточная доска, и чемпионат растянулся на целый месяц. Что значит — обидели, сердце разбили? У людей, мой милый, случается, сын погибает, единственный кормилец, и ничего, ходят, живут. Да если ты признаешься где-нибудь, что из-за этой республиканской категории у тебя сердце разбито, тебя на смех поднимут. Ступай себе с богом и спи спокойно. Чего сегодня нет, завтра будет.
* * *
Он сидел на холодном камне у развалин храма Баграта и смотрел на город.
Здесь, на холме, ветер задувал злее. Он носился по полуразрушенной обители Багратидов, со свистом протискивался сквозь узкие обомшелые окна и пропадал где-то далеко в долине Риони. В городе один за другим гасли светильники. Город засыпал. Человек не помнил, как поднялся сюда. От пронизывающего холода и промозглого ветра сводило скулы, но он никак не мог уйти домой.
«Что же сегодня был за день? Что с нами случилось?» — думал Лаврентий, и ему хотелось, чтобы все, что с ним произошло в этот день, оказалось сном. Хотелось забыть пятерых мужчин — бюро шашечной секции, из которых только один оказался порядочным человеком.
«Если так… если все это так, на кой шут мне их звание, на кой черт оно мне сдалось! Хорошо, что все наконец открылось, не то ходил бы всю жизнь как слепой щенок».
Внизу, по улице, прилепившейся к склону Укимериони, пошатываясь брел пьяный. Он неверным голосом напевал прихваченную из застолья песенку. Порой он останавливался, вслушивался в ночь и кричал: «Эгей!» Может быть, ему хотелось разбудить уснувший город.
Перевод А. Эбаноидзе.
СПИРИДОН
Все устроилось так, как мне хотелось. Машину я оставил внизу, у обочины дороги (не одолеть ей было этот подъем), и, как только подошел к воротам, услышал голос Спиридона. Я огляделся. Хоть и не видать было самого Спиридона, но голос его я узнал — густой, с баском, чуть осипший, но все еще мощный. Трудно было понять, с какой стороны сада окликает он меня.
— Подойди поближе, сынок! — услышал я совсем близко.
Справа, за забором, из-за густых инжировых листьев показалась голова Спиридона, в платке цвета хаки, низко спущенном на лоб. Вся эта картина напомнила мне рисунки-загадки из журналов моего детства, где надо было искать сидящего на ветке стрелка, медведя, сову или павлина.
— Тамаз я, дядя Спиридон, друг вашего Сосо.
Мне вдруг показалось, что Спиридон может не узнать меня. Мы ведь виделись всего один раз. В прошлом году он приезжал в город справлять Сосо день рождения. Сам был тамадой за нашим столом и до того споил всех ребят, что мы друг друга уже не узнавали.
Раздвинув ветки, Спиридон перемахнул через забор, бросился ко мне, обнял и, не выпуская из рук, поволок к забору, подальше от дома.
— Что, сынок, беда? — Спиридон рванул ворот рубашки, словно задыхался.
— Ничего страшного, дядя Спиридон, успокойтесь.
Мне бросились в глаза его голые ноги. Похоже, он мотыжил босой. Высоко закатав брюки, он не замечал, как болтались у колен тесемочки белых подштанников. Никогда мне не приходилось видеть таких больших, грубо-бесформенных ступней. Черная земля налипла к ногам Спиридона. Набухшая синяя жилка, извиваясь по всей длине голени, сползала по самые щиколотки, и казалось, Спиридон обут в сандалии с кожаными ремешками, оплетающими икры, как у древнеегипетских воинов с музейных ваз.
— Он жив?! — выдохнул Спиридон и так настороженно оглянулся на дом, словно ждал оттуда невероятных вестей.
— Жив, жив, все нормально, — я смутился, что истомил человека ожиданием и не сразу сообщил, зачем приехал.
Набравшись духу, я начал выкладывать растерянному хозяину все по порядку. Правда, иногда я старался смягчить ситуацию, иногда комментировать ее так, чтобы хоть на секунду погасить огонь негодования в глазах Спиридона. Однако я стал замечать, что мои комментарии мало его интересуют.
— Ты мне вот что скажи, — прервал он меня, — дрались они в квартире?
— Нет, на улице.
Вопрос Спиридона был неожиданным для меня. Какая разница, где подрались ребята — на улице или дома, но я заметил, что мой ответ немного успокоил его.
— Когда это случилось?
— Вчера ночью.
— Задержан еще кто-нибудь?
— Нет.
— Тот сильно избит?
— Говорят, «легкие повреждения». Я не видел, не знаю, говорят, еще два зуба у него выбито.
— Жаль, что моего осла не отметелили как следует. Знал бы тогда, как руки распускать.
Я дипломатично смолчал.
— Никуда вы, нынешняя молодежь, не годитесь. Грош вам цена. Говорил я вам тогда в Тбилиси, но, что ни говори, вы в одно ухо впускаете, в другое выпускаете. У вас все не как у людей получается. Пустил вас человек, как порядочных, в дом, поил, кормил, а вы нет чтобы мирно по домам разойтись, друг другу челюсти сворачивать стали. Еще друзьями называетесь, похоже, вы и дружбы настоящей не знаете.
— Сосо не виноват, дядя Спиридон. Тот первый к нему привязался, ты, говорит, весь вечер шпильки мне подпускал.
— Что подпускал?
— Шпильки.
— Какие еще шпильки?
— Ну, смеялся, говорит, надо мной.
— А что, наверно, и смеялся. Этот мой дурак думает, что со всеми позволено шутить и балагурить. Сиди, слушай и не лезь. Я представляю, как он петушился, хвост распускал, а тот человек не выдержал, обозлился. Слава богу, что прямо за столом не запустил в него бутылкой, хозяев уважил, не омрачил им пира.
Долго еще Спиридон перечислял наши недостатки. Тамаду, говорит, выбирать не умеете, при хорошем тамаде не до «шпилек», говорит, за столом люди пьют и веселятся. Ничему, говорит, у старших не хотите учиться. Нам, говорит, в ваши годы серьезные дела государство доверяло. Наш Илья и Важа со второго курса университета, говорит, взвалили на плечи народное бремя, а вы, говорит, все в детях ходите (с Ильей и Важа он был не совсем точен, но я смолчал). Потом он вдруг осекся и уставился на меня:
— Что же я должен сделать?
— Вам надо ехать со мной в Тбилиси, повидаться с отцом того парня и договориться. Обычно милиция поступает так, как захочет пострадавший. Сегодня с утра мы ходили к тому парню домой, но отец не принял нас, пусть, говорит, кто-нибудь из родителей приходит, если они у него есть.
— Ну конечно, тот человек, наверно, думает, что отец этого бедолаги такой же никчемный, как и сын. Зря уговариваешь, дорогой, не поеду я никуда.
— Потом, во время следствия, труднее будет помочь, — проговорил я словно про себя, скосив взгляд на Спиридона.
Нервным движением руки Спиридон теребил черную бороду.
— Пусть как будет, так и будет.
— Из института исключат. Заново на наш факультет уже не поступит. Сами знаете, как сложно!
— Ну что ж, пусть работать идет, не всем университеты кончать. На меня ему обижаться не за что, я сделал для него все, а если он не хочет быть человеком, пусть как хочет.
— Как вы так можете, дядя Спиридон, он ведь сын ваш. Ну, глупостей наделал, что тут особенного, тем более что в этой истории он меньше всего виноват.
— Ничего себе — глупости, бить людей — это разве глупости?! Я ради него днем и ночью в земле ковыряюсь, вот, взгляни-ка на мои руки. Как они тебе? Последнее с себя снимаю, ему отсылаю, а он чем занят?! Где вам понять меня. Впору ему уже самому немного о нас с матерью позаботиться, а тут, в мои-то годы, еще и по милициям бегай, век дороги туда не знал, и на тебе! Семеро нас у отца росло, пахали, сеяли, своим горбом хлеб добывали. Не поеду, никуда я не поеду. Как хочет, пусть так и выкручивается.
— Так сын ведь ваш, дядя Спиридон, — больше я ничего не смог сказать.
— Бездельник и лоботряс не сын мне вовсе, — отрезал Спиридон.
Какое-то время мы молчали оба. Я решил, что не стоит сейчас перечить Спиридону, надо дать человеку поостыть, подумать. В конце концов Спиридон сам поймет, что ехать необходимо.
— Ладно, пошли, сынок, в дом, что это я напустился на тебя, ты-то тут при чем. Ты от меня, мой Тамаз, кроме благодарности, ничего не заслуживаешь, пошли. — Он распахнул передо мной ворота, одной рукой попридержал их, а другой махнул побежавшим навстречу нам курам. — Ты никого еще из наших не видел? — с испугом взглянул на балкон. — Не говорил им пока?
— Как я мог сказать без вас.
— Женщинам ни слова, сынок, начнутся слезы, причитания, не до них мне сейчас. Что же им сказать, что придумать. Тьфу, голова совсем не своя!
— Давайте скажем, что наш курс посылают на целину и, чтобы освободить Сосо от поездки, вам надо поговорить с деканом.
— Ничего, хитер ты на выдумки, — ухмыльнулся Спиридон. — Единственный сын, скажу я декану, без него, скажу, уважаемый, не собрать мне урожая. Эх, позор на мою голову!..
* * *
В ту ночь я так и заснул за столом. Не знаю, кто раздел меня, кто уложил в постель. Проснулся ни свет ни заря. Слегка кружилась голова, и шумело в ушах. Сунув босые ноги в туфли, я вышел на балкон. Спиридон, уже одетый в выходной костюм, стоял, прислонясь к столбу, и ждал, когда я проснусь.
— Встал? Ну как вино, сынок? Иногда изжога от него бывает, вино у нас кисловатое получается, лоза такая, а в остальном — бальзам, ничего не скажешь.
Куриный бульон и вчерашние хачапури взбодрили меня. Когда мы спустились к дороге и я стал открывать дверцу машины, удивлению Спиридона не было предела.
— Твоя машина?
— Нет, дядя Спиридон, у двоюродного брата одолжил.
Спиридон какое-то время стоял в нерешительности. Но другого пути не было, ему пришлось садиться.
— Водить-то умеешь? — спросил он недоверчиво.
— Не волнуйтесь, дядя Спиридон, до Тбилиси без хлопот домчу.
— Мне бояться уже поздно, сынок. Страх и все такое я давно уже позабыл. Теперь вам бояться надо, остерегаться беды. Видишь, как испортил себе жизнь этот мой олух.
— Да что вы, дядя Спиридон, тоже мне беда! Приедете, переговорите с отцом того парня, и дело с концом.
— Во-первых, они могут меня и на порог не пустить, во-вторых, сынок, я тебе и вчера сказал, что, если ты не все говоришь и Сосо натворил что-нибудь постыдное, на меня не надейтесь. Я не буду унижаться из-за грязных дел моего сына, просить людей пощадить его, наоборот, может быть, даже сам потакать им стану.
— Вы что, дядя Спиридон, неужели ни разу в молодости не дрались? Что в этом особого?
Спиридон замолчал.
Реку у выезда из деревни я решил проехать вброд, рядом с деревянным мостом.
— А почему через мост не едешь?
— Через какой?
— Да вот! — кивнул он на деревянный.
— Разве по нему проедешь на машине?
— Как же, запросто, сынок. Когда ехал сюда, тоже небось вброд переправлялся?
— Да.
— Нет, сынок, не делай больше этого. Ты не глупи с нашей рекой. Вот этому мосту лет сто, если не больше, и ничего с ним не делается, еще столько же простоит. Из дубовых бревен сколочен, проезжай свободно, не бойся.
Я повернул назад и въехал на мост. Не могу сказать, что я испытывал слишком приятные минуты, пока переезжал его.
Вскоре Спиридон задремал. Мы миновали Шорапани, и до самого Сурамского перевала (дорога была свободна) я гнал на предельной скорости. Иногда я поглядывал на Спиридона и думал: «Вот такие люди и выдерживают все трудности жизни. Будь мой отец в его положении, так тот расклеился бы окончательно; тут тебе и трясущиеся руки, и гипертонический криз». Удивительно, какая сила воли оказалась у Спиридона, с каким мастерством разыграл он вчера перед домашними счастливого хозяина. И пил вместе с нами, и пел, сколько энергии в человеке, какая закалка. Но одно мне не понравилось в нем, и это было новостью для меня: несколько черствым показался мне Спиридон, словно Сосо и не сын ему. Поначалу он даже отказался ехать. Как это так: сын твой нуждается в помощи, а ты из-за какой-то надуманной гордости отказываешься выручать его!.. Мыслимо ли это? Нет, думал я, сохранилась все-таки какая-то первобытная суровость и жестокость в сельских жителях, в их родительских чувствах. Горожане в этом смысле намного мягче… Потом мне вспомнилась Отарова вдова[5], и все мои философствования стали с ног на голову.
Между тем мы проскочили последний подъем к Шроше и подъехали к роднику.
Это место я называю рублевым базаром. Бойкие ребятишки суют тебе прямо в машину вареную кукурузу, инжир, грецкие орехи, соленый огурец… Все здесь стоит рубль, все так точно выверено и разложено по кучкам и мискам, что — торгуйся не торгуйся — гроша не сбавят. В покупателях здесь нет нужды. Редко какой шофер проскочит мимо, не освежившись родниковой водой, не перекусив на дорогу.
Я остановил машину. Спиридон спал. Купив лобио и горячих мчади, я поспешил обратно, но пассажира своего на месте не обнаружил. Я увидел его немного в стороне от машины, перед двумя подростками. Спиридон что-то старательно втолковывал им. Вокруг них собирались любопытные. Я подошел поближе. Девочка и мальчик (похоже, брат с сестрой) продавали грибы в двух корзинках.
— Поверьте мне, ребята, я ничего против вас не имею, просто я хорошо разбираюсь в грибах и знаю, что эти грибы ядовитые, — как видно, уже не первый раз говорил Спиридон.
Грибники и слушать его не хотели.
— Почем грибы? — спросила пожилая женщина в брюках, аппетитно поглощая соленый огурец. Надкусывая его, она всякий раз как-то забавно клонилась вперед.
— Большая — пять, а та (девочка показала на маленькую) — три.
— Не берите эти грибы, уважаемая, ядовитые они, отравитесь, — не дал ей опомниться Спиридон.
— Да что вы, какие же они ядовитые?! — не выдержала девочка.
— Поверь мне, дочка, — стоял на своем Спиридон. — Вот смотри, разве опята бывают с такими желтыми шляпками? Это ведь ложные опята, часто даже взрослые ошибаются, принимая их за съедобные. Ну-ка, вспомните, где вы их собирали? Конечно же не в сухом лесу, а в низине, где сырости побольше. Ну что, не так разве?! Теперь взгляните-ка на ножку, видите, как она почернела. У настоящих опят ножки не чернеют.
Мальчик молчал. Он, видимо, уже был склонен верить Спиридону.
Поймав взгляд моего спутника, я постучал пальцем по стеклу своих часов — опаздываем, мол.
Махнув рукой, Спиридон пошел к машине, но вдруг обернулся и подозвал брата с сестрой. Ребята покорно подошли к нему. Открыв багажник, Спиридон расстелил на дне его газету и опрокинул туда обе корзины. Расплатившись с ребятами, он сказал им на прощанье: «Ядовитые покупаю, запомните, не продавайте больше таких грибов, беды людям принесете».
Брат с сестрой, размахивая пустыми корзинами, пустились под гору.
— Зачем тебе грибы, дядя Спиридон, кто их готовить будет?
— Сейчас узнаешь, — он хитро сощурил глаза, — останови-ка на берегу Дзирули.
Подъехав к реке, я остановился. Спиридон вышел из машины, открыл багажник, собрал все до единого грибы и вместе с газетой выкинул в воду. Потом отряхнул ладони и, садясь в машину, сказал:
— Так оно лучше, а то купит кто-нибудь и всю семью отравит. Правда, восемь рублей на ветер выкинул, но как тут быть, не переубедишь ведь этих упрямцев.
— Дай бог вам здоровья, дядя Спиридон, мудрый вы человек.
Спиридон словно и не слышал моих слов, поудобнее устроился на сиденье и снова вздремнул. До дому было еще далеко.
За Хашури нас настиг ливень.
Перевод А. Абуашвили.
КОМУ Я НУЖЕН…
КОМУ Я НУЖЕН…
Дидмицельцы давно приметили его, и внушительная толпа любопытствующих следовала за ним на небольшом расстоянии. Он был невысокого роста, в кожаной куртке и мятой выцветшей шляпе. Гости в селе Дидмица — явление обыкновенное, и, если бы не странное занятие человека в шляпе, дидмицельцы потеряли бы к нему интерес. Незнакомец же, не обращая внимания на окружающих, был поглощен нумерацией столбов электропередачи. Выйдя из автобуса, он достал из кожаного портфеля мел и записную книжку, подошел к первому же столбу и вывел на нем цифру «35». Потом вынул авторучку и что-то отметил в записной книжке. Рабочий инструмент (мел, записную книжку, авторучку) он держал в правой руке. Каждый столб гость сперва рассматривал издали, сощурив один глаз, нацеливался ручкой, потом решительно направлялся к нему и ставил цифру.
Дидмицельцы окончательно убедились в таинственности его поступков, когда после цифры «39» на следующем столбе он вывел «221», затем почему-то последовала цифра «7», а столб на сельской площади, что возле клуба, получил номер «511». Тут Виктор Майсурадзе, работяга, специализирующийся на кукурузе, не выдержал, разорвал круг любопытных и приблизился к гостю:
— Издалека ведете счет этим столбам, батоно?
Незнакомец поднял шляпу двумя запачканными мелом пальцами и взглянул на Виктора большими голубыми глазами. Чувствовалось, что он ждал вопроса, но не столь уж простодушного, поэтому серьезному ответу предпочел шутку:
— Если я скажу, что учусь считать на этих столбах, поверишь?
За спиной Виктора раздался безудержный дерзкий гогот.
Майсурадзе снял шляпу, провел огромной ладонью по жидким волосам и в тон ему ответил:
— Нехитрое занятие нашли себе!
— Пока что не жалуюсь, — бросил незнакомец и направился к следующему столбу, стоящему у самых дверей колхозной конторы.
Толпа последовала за ним. Шутливый тон незнакомца придал смелости дидмицельцам. Расстояние между ними заметно сократилось, а Виктор Майсурадзе следовал за ним почти вплотную. Когда гость вывел на последнем столбе цифру «725», внезапно воцарилась тишина. Все поняли, что незнакомец не шутит. Изменившийся в лице Майсурадзе тревожно выдавил:
— Простите нашу серость, батоно, но…
— Что «но»? — Незнакомец вынул обрывок бумаги, завернул в нее мел и сунул в карман брюк; записную книжку и авторучку надежно спрятал в кожаный портфель и, отряхнув руки, пошел прямо на толпу. — Да будет вам известно, эти столбы временные! Деревянные столбы электропередачи устарели!
Он прислушался к тишине и продолжил:
— Гниют они. Мы должны заменить их. На днях привезем железные, поставим их, и будут они стоять и стоять. — Он улыбнулся, сплел пальцы рук и с видом человека, весьма довольного сказанным, добавил: — Так будет лучше, как вы считаете?
— Дай бог вам здоровья! — произнес кто-то.
Незнакомец улыбкой ответил на эту искреннюю благодарность. Улыбка у него была обаятельная. Невинная. Выражение глаз при этом не менялось, он улыбался не глазами — красивым ртом. На левой щеке у него был шрам, который улыбка делила надвое.
— А с этими столбами что собираетесь делать? — Виктор Майсурадзе был практичный человек.
Толпа вновь затаила дыхание. По-видимому, судьба столбов волновала многих.
— Я же сказал вам, мы заменим их на железные! — произнес незнакомец тоном учителя, недовольного своими непонятливыми учениками.
— Это-то мы уловили. Но вот старые столбы куда денете? — почесал затылок Майсурадзе.
— Найдем им применение, — улыбнулся мастер по замене столбов электропередачи.
Колхозники как по команде уставились на столб, возвышавшийся перед конторой. Прямой как стрела, смазанный мазутом, превосходный материал для стропил.
Незнакомец, посчитав вечер вопросов и ответов законченным, собрался было подняться в контору, как кто-то остановил его:
— Может, продадите нам эти столбы, батоно?
Незнакомец остановился, внимательно посмотрел в замершую толпу и громко, словно декламируя, произнес:
— Как я могу продать вам эти старые столбы?! Если они вам так нужны, распределите между собой и забирайте даром. Но, — он поднял руку, успокаивая взревевшую толпу, — при двух условиях. Первое — во время распределения не скандалить, каждой семье — по одному столбу. Второе — до того, пока не будут установлены железные столбы и перемонтирована линия передачи, старые столбы не трогать!
Никто не поблагодарил его. Все как один сорвались с места и сломя голову помчались вниз по улочке. А незнакомец, подобно фельдмаршалу, стоял на лестнице, глядя вслед толпе, несущейся лавиной к ближайшему столбу. Первым до столба добежал верзила в галифе и обхватил его руками. Это означало, что отныне столб принадлежит ему. Остальным ничего не оставалось, как бежать к следующему. Распределение столбов электропередачи происходило по закону джунглей. Все решали сила и быстрые ноги.
Незнакомец поправил шляпу, еще раз взглянул с улыбкой в сторону охотников за столбами, покачал головой и стал подниматься по лестнице.
Подойдя к дверям кабинета председателя колхоза, он вдруг повернул назад и пошел влево по коридору. Навстречу ему спешила женщина с кувшином воды. Он остановил ее, протянул руку. Женщина, смутившись, вытерла правую руку о передник и ответила энергичным рукопожатием.
— Председателем у вас все еще Пармен, не так ли?
— Да, да, Пармен Какабадзе, — лицо уборщицы просветлело оттого, что ей задали такой простой вопрос.
— Он председательствует…
— Уже два месяца, батоно, он ведь на ферме работал, наверху!
— Вот проклятье! Из памяти вон выскочило, старею, старею.
— Ну что вы, батоно!
Она посмотрела вслед незнакомцу и решила про себя, что самое большее ему лет пятьдесят, а человеку в таком возрасте, да еще так хорошо сохранившемуся, рано думать о старости.
У председателя было круглое, как мяч, рябое лицо. Страдальчески изогнутые брови на гладком, без единой морщины лбу создавали своего рода треугольник. Буденновские усы лихо закручены кверху. Карие глаза смотрели кротко, но при этом он до хрипоты кричал на стоящего перед ним человека с большими ушами. Одурев от крика, тот втягивал голову в плечи так, что казалось, вот-вот исчезнет под воротником ватника.
— Вы все одинаковы! Мне никто ничего не прощает! Хотите работать — работайте, нет — разойдемся по домам!
— Что нам делать? — робко спросила жертва.
— Мы должны раз и навсегда договориться, иначе ничего не получится.
— О чем договориться?
— А вот о чем. Когда меня вызовут и спросят, как идут дела, я позову тебя и спрошу, как идут дела! Когда меня вызовут и скажут: работай быстрее, я прикажу тебе: работай быстрее! Когда мне дадут выговор, я дам выговор тебе, когда меня будут ругать за плохую работу, я буду ругать тебя! — председатель постепенно повышал голос и на слове «ругать» встал из-за стола.
Гость немедленно сообразил, что эта интеллектуальная беседа вряд ли улучшит настроение председателя, поэтому убрал с лица дежурную улыбку и, протянув к нему руки, направился к столу:
— Мой дорогой Пармен! Опять я твой гость, но на этот раз хорошие дела привели меня к тебе, очень хорошие! А у тебя, я знаю, все в порядке, в столицу неплохие вести о тебе приходят. Клянусь детьми, очень рад за тебя! — залпом выпалил гость, не давая хозяину опомниться. Он расцеловал его, повесил шляпу на гвоздь, провел пятерней по густым каштановым волосам, положил на стол свой портфель и защелкал замком — словом, произвел впечатление вполне делового человека.
— Каково мне среди таких вот! Если не стоишь над головой — никто не работает, не хотят! А наверху с меня требуют.
— Конечно, конечно. Ты по-прежнему требователен, дорогой Пармен, но трудолюбивых людей мало. Повсюду так. Я вот езжу, смотрю, везде одна и та же картина. Кто этот товарищ?
— Бригадир огородников. Так вот каждый день заставляет лаяться. Вгоняет меня в гроб, а сам как кремень, — председатель не сводил глаз с незнакомца, силясь вспомнить, где и когда он встречал этого человека, но, так и не вспомнив, разозлился на себя.
Обладай председатель феноменальной памятью, он и тогда не припомнил бы его, потому что видел незнакомца впервые. Гость уловил дымку неопределенности в голосе и во взгляде хозяина, открыл портфель, вынул бумаги и спокойно произнес:
— Боюсь, дорогой, что ты забыл меня. Я Како Ратиани. Давненько мы с тобой не виделись, и я, правда, высказал опасение, что ты забыл обо мне, но разве можно забыть нашу первую встречу, такое редко бывает в жизни и запоминается навсегда. Это был не просто ужин, это была клятва в верности и братстве. В настоящее время я являюсь начальником геологической партии. Здесь, в вашей деревне, у меня будет штаб, и, думаю, мы не станем мешать друг другу.
По правде говоря, Пармен не слишком хорошо представлял себе, что нужно геологической партии в селе Дидмица, но, оказавшись перед фактом, согласно закивал головой:
— Да, да, конечно. Голову положим, а поможем. Что ищете у нас?
— Нефть ищем, Пармен.
— И думаете найти?
— Надеемся. По предварительным расчетам, должна быть нефть. Организуем поисковые работы. Найдем — хорошо, а нет — распрощаемся, и все тут.
— Хорошо, надеюсь, все согласовано там, наверху?
— А как же! Без согласования и утверждения ни одна геологическая партия не приступит к работе. Здесь тысячные затраты, мой Пармен, так что все знают, все осведомлены, будь спокоен.
— От нас вам что-нибудь нужно? — подумав, спросил председатель.
— Этого Како Ратиани тебе не забудет по гроб жизни, — по выражению лица председателя гость заключил, что он забыл его фамилию, и деликатно напомнил о ней. — До приезда людей и техники мне надо провернуть подготовительные работы. Дорога у вас никуда не годится. Мне понадобится твой «виллис» ненадолго, рабочая комната и люди в помощь.
Пармен Какабадзе ответил решительным отказом:
— Нет, батоно, это невозможно. Я всех уважаю, всех люблю, но что не могу — не могу. О каких людях речь?! Я тут надрываюсь из-за недостатка рабочих рук, сам ищу, кто бы помог мне. Ни на минуту никого не могу оторвать от работы!
— А зачем отрывать? — вставил Како. — Если в свободное от работы время человек заработает какую-то копейку, тебя от этого не убудет!
— У меня план, понимаете, план!
— Ну и что? Он поработает у тебя и пойдет домой, так? И если потом часа на два займется другим делом, это уже тебя не касается! Причем никто не принуждает его работать даром, у нас ставки наивысшие!
— Не знаю. Ничего не знаю. Еще что? Машину? Один раздолбанный «виллис» у меня, и день и ночь гоняю на нем вверх-вниз.
Начальник геологической партии улыбнулся своей магической улыбкой.
— А ты отдохни немного. Человек плечо подставляет другу, а ты машину жалеешь, палки мне в колеса вставляешь. В течение двух недель я получу три новеньких «виллиса». Даю честное слово, возьму и один «виллис» от имени нашего управления подарю вашему колхозу. Вот тебе моя рука, врать я не умею, так и знай. Что еще я просил? Комнаты для меня не найдется? И не надо, перебьюсь как-нибудь, если нет возможности…
Словом, они договорились. Новенький «виллис» сделал свое дело. Председатель обещал всестороннюю помощь. Одолжил машину, выделил рабочую комнату здесь же, в здании конторы, и временно (до того как прибудут палатки и финские дома, как сказал Како Ратиани) поселил его в новом доме Виктора Майсурадзе.
Виктор Майсурадзе был безмерно рад и воодушевлен тем, что ему доверили в квартиранты начальника геологической партии. В ту ночь в честь гостя хозяева закатили пирушку и основательно кутнули в доме Виктора. Пармен Какабадзе оказался добродушнейшим существом. Его так очаровали непринужденные манеры и фамильярные шутки Ратиани, что, прощаясь, он обнял его и прижал к своей груди, не желая с ним расставаться, так что пять человек с трудом вырвали задохнувшегося гостя из железных объятий председателя.
* * *
На другой день, ранним утром, Како Ратиани с видом делового человека с неразлучным портфелем в руке шел по главной улице села. По пути он останавливался у столбов электропередачи и громко смеялся. Цифры, проставленные им, оказались стертыми, а вместо них появились такие вот надписи, сделанные чернилами, тушью, мелом (а кто поработал и ножом): «Этот столб принадлежит Микеладзе Мурману», «Амберки Тадумадзе», «Севасти (сын)», «Марта Кебуладзе-Квеквескири», «Наташа», «Корнели Швангирадзе» и т. д.
У конторы стоял худой с тонкой шеей человечек. Увидев начальника геологической партии, он бросился ему навстречу, правой рукой придерживая белую имеретинскую шапку, чтоб она не слетела с головы.
Догадавшись, что у человечка дело к нему, Ратиани показал ему спину и быстрым шагом поднялся по лестнице. Тот последовал за ним.
— В чем дело? — не замедляя шага, спросил Како, давая понять, что очень занят и просит не мешать.
— Я, батоно, Саша Вашакмадзе. Вчера ездил в деревню к родственникам жены и прозевал свое. Пропал я.
— Надеюсь, там все благополучно? — насупился Ратиани.
— Вы вчера столбы распределили, батоно, и надо же было случиться такому, что именно вчера меня не было. Вот я и остался ни с чем.
— И это все? А я-то думал, бог весть что случилось, — успокоился глава геологов.
— И случилось, батоно, конечно же случилось, если кому и нужен этот столб, то только мне. Весной дом собираюсь рушить и новый строить. А столбы таким достались, на дрова ведь пустят такой прекрасный материал.
— Ничем не могу помочь, что есть, то налицо. Я и не вмешивался в это дело. Сами распределяйте — так и сказал председателю. Остальное меня не касается. — Он подошел к двери своего нового кабинета, открыл ее и с таким мрачным видом вошел в комнату, словно всю свою жизнь проработал в ней и она порядком ему надоела.
Саша Вашакмадзе следовал за ним по пятам.
— Вы должны мне помочь!
— Как?
— Должны мне устроить один столб.
— Каким образом? По-твоему, у меня они есть, а я не даю, да?
— Не знаю каким…
— Отнять у кого-нибудь и отдать тебе? Ты позволишь себе такое? А что скажет тот, кто оставил на столбе свое имя и фамилию? Что он обо мне подумает?
— Я ведь не за так, батоно, — понизил голос Вашакмадзе.
— И тебе не стыдно? А ведь молод еще! Как ты смеешь предлагать мне такое! Продать тебе столб и положить деньги в карман! Почему ты решил, что я способен на это? Мое честное имя, чтобы ты знал, дороже мне всего на свете. В другой раз чтобы этого не было! Я прожил честную жизнь, ты меня пока не знаешь, но запомни, не перевелись еще на этом свете честные люди!
— Не обижайтесь! Что мне теперь делать, не знаю. На нет суда нет, вы только не сердитесь, — грустно проговорил Саша, еще раз взглянул на геолога и собирался выйти из комнаты, но Ратиани остановил его:
— Ты кем работаешь, парень?
— Механизатором.
— Образование высшее?
— Нет, — устыдился Саша.
— Очень хорошо. Оформлю тебя начальником отдела кадров, согласен?
— Меня не отпустят из МТС.
— И не надо. Работай и там и тут. Здесь не много работы будет. Собери мне народ. В неделю надо будет сладить дощатый мост у сихарулидзевских ворот. Техника прибудет большая, а этот ваш разваленный мостик не выдержит. Обойди всех, кого знаешь, сообщи. Председатель в курсе. Он тоже там будет. Поработаем вечерами по два-три часа. За эти два часа каждый рабочий получит по двадцать рублей, а если будет стараться, то и по двадцать пять. Что, плохо? Никому не говори, но ты лично будешь получать тридцать!
— Хорошо, батоно, когда привести людей? — Вашакмадзе не стал тратить время на раздумывание.
— Сегодня же вечером. Сперва расчистим дорогу, а то она никуда не годится. Беги сейчас, а ровно в пять жду тебя у моста. Пусть возьмут с собой заступы и лопаты.
Новоиспеченный начальник отдела кадров согласно кивнул головой.
— Погоди, — еще раз остановил его Ратиани. — В конце села, там, где наша дорога начинается… через один столб… он, правда, к основной магистрали относится, ну да черт с ним, в конце концов выпрошу у начальника лишний железный столб. Надпиши свое имя и фамилию и забирай его. Только никому ни слова, слышишь? А то отбою не будет от желающих. Ну давай беги!
Саша Вашакмадзе, сорвав шапку с головы, счастливый сбежал с лестницы.
* * *
В селе Дидмица нашлось немало желающих заработать лишние деньги, тем более что за час работы платили десять рублей. Саша Вашакмадзе привел около сорока добровольцев. В первый же вечер они убрали сгнившие бревна на мосту и расчистили дорогу. На другой день по настоянию Како председатель колхоза выписал из районного склада аварийный лесоматериал для моста. В тот же день он был доставлен в Дидмицу. А к концу недели через сихарулидзевский ручей перекинулся чудесный мостик. После окончания работы Како Ратиани записывал в тетрадь фамилии колхозников, ставил против них цифру «25» и заставлял расписываться.
Прошло пятнадцать дней. Начальник геологической партии стал своим человеком в деревне. Его уважали, с ним считались. На работу по вечерам выходили с такой охотой, что Како нередко отказывался от услуг некоторых — «мне не нужно столько народу, будет перерасход». Потихоньку он распределял должности. Среди колхозников насчитывалось уже три заместителя начальника геологической партии, четыре делопроизводителя, три землемера, шесть проводников-спасателей и четыре счетовода-уборщицы. Каждому из них в соответствии с должностью Како назначил зарплату, и немаленькую.
Авторитет Како Ратиани достиг кульминационной точки, когда бригада под его руководством закончила ремонт дороги и приступила к строительству бани в центре села.
Энтузиазм трудящихся не имел границ. За двадцать дней иные работяги выработали до пятисот рублей. Когда речь заходила о деньгах, Како с удовольствием объяснял, что в середине месяца приедет кассир и раздаст зарплату.
Прошло двадцать дней. Зарплаты не было видно. Среди штатных и нештатных сотрудников геологической партии возникли пересуды и подозрительное ворчание.
Однажды на сельской площади появились два трайлера, груженные огромными трубами. Шоферы спросили начальника геологической партии — Ратиани. Како был в своем кабинете. Он вышел на балкон и, увидев трубы, гневно обрушился на ни в чем не повинных шоферов: «Что вы натворили, для чего мне сорокадюймовые трубы, когда я выписал двадцатидюймовые. Раззявы, тоже мне работнички! Двадцать дней я кручусь, здесь как белка в колесе, люди не покладая рук работают, а из управления до сих пор не соизволили кассира с деньгами прислать. Отправляйтесь немедленно и доставьте сюда материалы и людей. А в первую очередь кассира и три моих «виллиса». — «Слушаемся, начальник, все будет сделано, начальник», — заверили его шоферы и повернули назад.
После этого никто уже не сомневался, что Како Ратиани действительно начальник геологической партии.
А спустя месяц после появления Како Ратиани внезапно исчез. Виктор Майсурадзе обнаружил на письменном столе письмо, оставленное квартирантом:
«Большое спасибо за все, дорогие дидмицельцы. Видит бог, я люблю вас. Покидаю вас, поскольку близится время расплаты. А откуда у меня такие деньги. Я всего лишь неудачник, у которого не сложилась жизнь. Хотелось провести с вами месяц, ну и провел. А теперь пойду своей дорогой. Не ругайте меня, вы так бесхитростны и доверчивы, что у меня не хватило духу предать вас. Я ничего не украл у вас, ничего не отнял. Ваш Како Ратиани».
Через несколько дней на доске объявлений отделения милиции появилось фото Како Ратиани со следующей надписью:
«Органами милиции разыскивается мошенник, проходимец и аферист, называющий себя Како Ратиани. Выдавая себя за начальника геологической партии, он знакомится с ответственными лицами, входит к ним в доверие и использует доверчивых людей в качестве бесплатной рабочей силы для выполнения различных негосударственных дел».
Вскоре после этого на сельской площади снова появились груженные трубами трайлеры. «Мы из третьей АТК, — объяснили шоферы. — Возим трубы на строительство ГЭС. Недавно в дороге нас остановил какой-то мужчина и попросил свернуть в эту деревню. «Я встречу вас там, — сказал он, — отругаю. А вы выслушаете меня, кивнете головой и поедете своей дорогой. Я, ребята, побился об заклад, помогите мне выиграть». И сунул нам в карманы по десятке. Мы постеснялись отказать ему. Он показался нам серьезным человеком. В шляпе. Откуда нам было знать, что он мошенник».
Когда разъяренные дидмицельцы разошлись по домам, перед зданием конторы колхоза остались два человека. Они сидели на камне и курили.
Был тихий вечер. Откуда-то доносился звук патефона.
— Я вот что хочу сказать, — начал Виктор Майсурадзе.
— Что? — спросил Саша Вашакмадзе, бывший начальник отдела кадров геологической партии.
— Все вот кричат, какие деньги проел, пусть только попадется нам в руки — забьем камнями, ну, скажи, справедливо это?
— По-твоему, не проел, не заставил нас работать как волов в течение целого месяца?
— О чем ты говоришь, Саша! Если и заставил, то опять же на себя работали: мост построили, дорогу отремонтировали, баню отгрохали — все для себя. Ему-то какая выгода от этого? Что он взял у нас?
— Взять ничего не взял, но как ты считаешь, что ему нужно было от нас? Думаешь, из-за моста и бани приехал он сюда черт знает откуда?
— Бог знает, что ему нужно было, но ругать его — нет, не заслужил он этого.
— А что заслужил — благословение?!
— Пусть каждый заглянет себе в душу и пошевелит мозгами. Чего тебе от Ратиани нужно? Уже одно то, что дорога на дорогу похожа и я не утопаю в грязи, одно это чего стоит!
— Не знаю, не знаю, ничего не знаю, ничего не понимаю. Вот поймают его, — наверное, он сам все объяснит, чего хотел от нас, почему приехал к нам, именно к нам, — растерянно произнес Саша.
— Может, это был бог, бог, понимаешь, а мы его не узнали. Сожрать захотели. Мы ведь это умеем! — усмехнулся Виктор.
— Скажешь тоже — бог. Не бог, а… — Саша Вашакмадзе встал, поправил накинутый на плечи пиджак и шагнул в темноту. Он пошел не домой, а в конец села, где у самого поворота на шоссе стоял столб электропередачи. На нем белой краской было выведено: «Саша Вашакмадзе». Он спешил стереть эту надпись.
Перевод Л. Татишвили.
УПРЯМЫЙ ГОГИ
У поворота на Хони он развернулся и только помчался назад по улице, как тут же услышал:
— Дядя Гоги!
Он оглянулся. Мальчишки стояли у магазина без продавца и махали руками.
— Сейчас не могу. Начальник увидит!
— На минутку, ну, пожалуйста! — не отставали мальчишки.
Проезжающий мимо троллейбус протяжно просигналил, и в знак приветствия водитель вскинул на тротуар огромную машину.
Гоги не терпел таких шуток, он погрозил водителю кулаком и тронул мотоцикл с места.
Вообще-то его звали Григол, а не Гоги, но уже давно никто не называл его полным именем.
Во всем городе он был известен как «инспектор Гоги».
Шел пятый год с тех пор, как, окончив двухгодичные курсы, он поступил работать в автоинспекцию. Если за это время на его погонах не прибавилось ни лычки, ни звездочки, виноват был он один: справившись сегодня с заданием целого отделения и заслужив благодарность перед строем, назавтра он мог сделать что-нибудь такое, от чего о его заслугах забывали начисто.
«Не мое дело — быть инспектором, тут нужен другой человек, а у меня характер мягкий», — говаривал он, но уходить из органов не собирался; видно, эта работа пришлась ему по душе больше, чем какая-нибудь другая.
У младшего сержанта подотдела городской автоинспекции Григола Абакелия были медвежьи лапы и сажень в плечах.
Бывший борец, в последнее время он потучнел и от этого не ходил, а вроде бы катился.
Кожаные брюки и куртка лопались на нем. Ноги, одинаково толстые в ляжках и в голени, при ходьбе он ставил так, словно на нем был водолазный костюм.
На его правой руке постоянно болталась дубинка на петле, впрочем, абсолютно лишняя в его наряде, ибо никто из шоферов не осмеливался бы оказать сопротивление этому медведю.
Не доезжая до магазина без продавца, Абакелия чуть не столкнулся с «Москвичом», выскочившим с улицы Ниношвили. Он с такой силой дунул в свой свисток, что, пожалуй, заглушил бы сирену консервной фабрики.
Из машины вылез бородатый, патлатый парнишка лет двадцати и, подтягивая джинсы на поджаром заду, направился к мотоциклу.
— Чего тебе, Гоги?
— Да так, скучно одному, поговорим немножко.
— Нет, правда!
— Ставь машину в сторонку, предъяви документы и не строй из себя шута, не выламывайся! — приказ прозвучал внушительно; Гоги не понравился нагловатый тон незнакомого парня, к другому он, пожалуй, не обратился бы так строго.
— Значит, между нами теперь так, Гоги? — Водитель «Москвича» ничуть не заробел от его строгости.
— Ты меня знаешь? — вот какой странный вопрос задал автоинспектор изумленному парню.
— Как не знать!
— Так я и американского президента знаю, но он-то меня не знает!
Парень в джинсах засмеялся, и бородка его затряслась, как у козла.
— Чья машина? — перешел к делу охранник порядка.
— Володи Зарнадзе.
— Ну, а ты тут при чем?
— Я-то? Зять он мне. Он же на моей тетке женился вторым браком. Две недели назад свадьба была.
Гоги расплылся в улыбке, сощурил глаза и искоса поглядел на водителя.
— Значит, Наргиза тебе теткой приходится?
— Ну!.. — задрал нос бородатый парнишка.
— Езжай и будь осторожен. «Москвич», мой дорогой, машина, а не игрушка, ты на него так не смотри. Выскочил из проулка на улицу, а вдруг… Права есть?
— Да вот собираюсь получить…
Автоинспектор не слышал последних слов. Он сел на мотоцикл и посмотрел на мальчишек, сбившихся в кучу у магазина без продавца.
Их было четверо, старшему лет двенадцать, не больше.
Прижав к груди портфели и сумки, они притопывали на месте от нетерпения. Когда мотоцикл подъехал, они окружили его, для верности подставив ноги под колеса.
— У вас что, уроков нет? — Похоже, на этот раз автоинспектор не собирался катать мальчишек на своем мотоцикле.
— Учительница заболела, — с серьезным видом ответил высокий светловолосый мальчишка и сел в коляску. Другие последовали его примеру.
— Держитесь покрепче и не валяйте, как вчера, дурака. Из-за вас весь город надо мной смеется. На мотоцикле надо сидеть чинно. Ушибетесь — с вас ответа не спросят; скажут, какой умник посадил.
— Это ты-то умник? — вырвалось у толстоносого, редкозубого пассажира, и он тут же схлопотал подзатыльник.
Едва тронув с места накренившийся на сторону мотоцикл, Гоги услышал, что его кто-то зовет, и притормозил. Звали из автоинспекционных сине-желтых «Жигулей».
— Абакелия, поди-ка сюда!
Он пропустил старый изношенный «виллис», пересек круг и с пассажирами в коляске подкатил к «Жигулям».
— Что такое, чего орешь?! — недовольно спросил он лейтенанта, с трудом сдерживающего смех.
— Тебя Салдадзе вызывает.
— Зачем?
— Не знаю. Чтоб, говорит, немедленно явился, — бросил ему коллега в приспущенное оконце и отъехал.
Мальчишки поняли, что у Гоги появилось неотложное дело, ни о чем не спрашивая, вылезли из коляски, сказали, что будут ждать возле «Хроники», и вприпрыжку пустились по тротуару.
Гоги подкатил к зданию автоинспекции и взбежал по лестнице.
— Один? — спросил он зарывшегося в бумаги дежурного и, пошлепывая жезлом по ладони, направился к кабинету начальника.
— Ага, — кивнул дежурный.
— Не знаешь, чего ему надо?
— Мн-мне н-н-не до-до-докладывал, — заика-дежурный напрасно сделал над собой усилие, чтобы выговорить эти три слова; Гоги Абакелия был уже в кабинете.
— Вызывал, начальник?
Салдадзе не обратил внимания на младшего сержанта. Он что-то писал. Слюнявил химический карандаш и писал, бормоча под нос.
Младшему сержанту наскучило стоять, он взял стул и сел к столу.
— Я тебе одно скажу, Абакелия! — оторвался наконец от бумаг Салдадзе, вытащил из кармана платок и принялся протирать очки.
Гоги обратился в слух.
— Был у меня дед — Бачулия Салдадзе, может, слыхал? Во всей Балахвани не было мужчины красивее. Кутила, хлебосол, бабник, весельчак! У него на уме было одно — как веселей время провести. Никогда за свою жизнь не работал. Мотыгу и тяпку видеть не мог, а нас — семью свою, — содержал, кормил-поил. Пятерых детей вырастил, да и нам, внукам, от его щедрот перепало.
Как он добывал средства к существованию, об этом мне никто не докладывал, а я и не спрашивал. Расскажу только про то, что сам помню. До войны это дело было. Мне восемь лет… Дед сколотил на краю двора, у дороги, будку и большими белыми буквами вывел на ней: «Усы высший сорт!» И как ты думаешь, чем он там занимался? Взял в руки бритву и сделался парикмахером? Да ни в жизнь! В будке он устроил оконце. Клиент просовывал в него голову, а дед окидывал взглядом его физиономию и говорил: «Буденный!» — то есть тебе к лицу усы пышные, как у Буденного. Не каждый знает, какие ему пойдут усы. То так подбривают, то этак стригут — словом, маются.
Дед своим странным ремеслом взбудоражил весь город. Помню, огромная очередь выстраивалась около нашего дома. Откуда только не приходили — кто пешком, кто верхом, кто на арбе. И чего только не несли в оплату. Весь Кутаиси красовался тогда в усах, отпущенных по совету моего деда. Люди нервы свои сберегли, от лишних хлопот избавились, а мой дед пятерых детей вырастил.
Гоги никак не мог взять в толк, для чего начальник рассказал про своего деда.
— Как ты думаешь, для чего я тебе это рассказал? — спросил Салдадзе и, не получив ответа, продолжал: — А рассказал я это для того, мой дорогой, чтобы ты понял — деньги можно добывать разными способами. Их тысячи. И из этих тысяч наше с тобой дело самое простое и верное. Если ты не любишь этого дела, только напрасно мучаешь себя.
«На этот раз я вроде ничего не натворил, никуда не опоздал, шоферов не задерживал, чтобы они пришли сюда жаловаться», — Гоги тщетно пытался разгадать причину вызова к начальству.
— Что смотришь на меня, как пасхальный ягненок? Не знаешь, зачем я тебя вызвал? Или пиши заявление и уходи, или работай, как все. Весь город на тебя смотрит, пойми! Автоинспектор все равно что артист на сцене. Перестань катать этих мальчишек. Отделайся от них как-нибудь. Думаешь, они к другим не пристают? Цыкни разок построже, и отвяжутся. Сегодня трое или четверо мне звонили: «Гоги в коляске своего мотоцикла мальчишек катает!» Это уже в который раз сигнал поступил! Когда тебе кажется, что никто тебя не видит, тут-то как раз и попадаешься. Зачем ты нас позоришь? На свете полно зубоскалов и охальников. По твоей милости всю автоинспекцию на смех поднимут. Потом на меня не обижайся. Ты уже не ребенок, должен понимать. Я со своей стороны предупредил, а дальше сам знаешь. Ступай!..
Зарывшийся в бумаги дежурный раскрыл было рот, чтобы спросить что-то у Гоги, но, увидев его мрачное лицо, только махнул рукой.
Младший сержант в три прыжка сбежал по лестнице, накачал воды из колодца, выпил, плеснул на лоб. Потом натянул перчатки и с таким треском вылетел на мотоцикле со двора автоинспекции, что гуси, цепочкой вытянувшиеся посреди улицы, с гоготом шарахнулись к ограде.
«А вообще-то они правы. Слыханное ли дело — дети на мотоцикле автоинспекции! Цыкни, говорит, разок построже, они и отстанут. Прав Салдадзе. Будь я на его месте, пожалуй, такому сержанту строгача бы влепил! Вот уж эти мне мальчишки! Дружба дружбой, а работа работой. Что им, больше не на чем покататься? Сколько склочников в городе, кто-нибудь да и донесет начальнику… Ничего больше не хочу, только бы они не ждали меня сейчас около «Хроники»… Цыкни построже, они и отстанут. Ага. Так и сделаю…»
Мимо «Хроники» он проехал, даже не глядя вправо, и, когда подумал, что все позади — проскочил, тогда-то до него и донеслось:
— Дядя Гоги!
Четверо бесхитростных мальчишек, четверо друзей преданно ждали его.
На глаза навернулись слезы, сердце сжалось, и не было в эту минуту силы, способной остановить его.
Около кузницы он развернул мотоцикл, огляделся, не едет ли какая-нибудь машина, пересек белую полосу и у витрины «Хроники» улыбнулся сбившимся в кучу, нахохлившимся от холода мальчишкам:
— Лезьте!
Мальчишки, не дожидаясь его слов, бежали к мотоциклу.
Перевод А. Эбаноидзе.
ЖЕМЧУЖИНА ЦИРКА
Сперва разнесся слух, что в Сакариа приезжает цирк, потом город запестрел афишами, и в один безветренный ноябрьский день на площади адмирала Гогиадзе вдруг поднялся пестрый гигантский шатер. Поскольку в Сакариа не было цирковой гостиницы, артистов поселили в отеле «Аргонавт», а неподалеку от шатра на берегу Риони наскоро построили для дрессированных животных прекрасный зверинец. Автор этой новеллы просит прощения за то, что использовал слово «зверинец» в связи со слонами и степными волками, демонстрирующими на арене подлинные чудеса разума и послушания.
Жители Сакариа, соскучившиеся по ярким зрелищам, валом повалили в цирк, и администрация оказалась вынуждена давать по субботам и воскресеньям три представления в день.
«Наш зритель не пойдет в цирк! У нас свой преданный зритель!» — во всеуслышанье утверждал директор оперного театра, но в глубине души он сильно опасался той конкуренции, которую мог оказать опере цирк с его чудесами.
Так оно и случилось, количество зрителей во всех культурных учреждениях города, как говорят работники канцелярий, заметно снизилось. На площади Гогиадзе до глубокой ночи не смолкал гром оркестра и грохот мотоциклов, летящих по вертикальной стене. Городские пижоны переместились с окраины сада Церетели поближе к цирку. В пригородных ресторанах часто можно было увидеть раскованно сидящих во главе стола артистов цирка (особенным почетом пользовались клоуны, иллюзионисты и акробатки), окруженных охочими до гостей беспечными имеретинами. В школах резко увеличилось количество пропусков без уважительной причины, и (хоть официально это не признавалось) заметно снизился уровень производительности труда на предприятиях.
Словом, цирк преобразил город, и я как коренной житель Сакариа глубоко убежден: несправедливо, что этот достойный город по сей день существует без своего цирка.
Джабе Цуладзе попалось на глаза объявление, приклеенное к дверям аптеки: «Цирку требуются рабочие сцены — униформисты и музыканты». Недолго раздумывая, он решил: «Я сейчас ничем не занят; чем бездельничать, устроюсь в цирк рабочим сцены, хоть развлекусь немного» — и около кинотеатра «Подросток» свернул направо.
Почему он был свободен? Джаба Цуладзе сезонно работал на консервной фабрике. С ноября по конец апреля фабрика существенно сокращала штат рабочих. В этой спешке я забыл сказать, что цирк прибыл в Сакариа 11 ноября. Первое представление, на котором, разумеется, присутствовал и большой поклонник циркового искусства Джаба Цуладзе, состоялось 14 ноября. А объявление на дверях аптеки попалось ему на глаза 24 ноября в двенадцать часов дня. Вы скажете: к чему эти цифры — часы и даты, — приведенные так точно? Ведь все равно никто не станет их проверять. Да пусть уж будут: некоторые читатели обожают точность.
Так вот: герой нашей новеллы так с ходу решился поступить в цирк потому, что ему не с кем было посоветоваться. Он жил один-одинешенек в конце улицы Орджоникидзе. Почему был одинок зрелый мужчина тридцати четырех лет, куда делись его родители или почему он до сих пор не женился — это тема совсем другой новеллы, и я не стану ее касаться. Не стану хотя бы по той простой причине, что этого не требует сюжет новеллы. На этот раз нас интересует тема — цирк и Джаба Цуладзе.
Директор цирка, хромой немолодой мужчина в очках, прежде чем подписать его заявление, не то чтобы совсем уж в шутку, предупредил:
— Товарищ, не обижайтесь, вы, по всему видать, человек серьезный, солидный, и я сразу же хочу вам сказать — не влюбляйтесь в Упокоеву. В противном случае наше сотрудничество не состоится. Уволенный нами вчера товарищ в общем-то был неплохим парнем. Сейчас назову вам его фамилию, — он отыскал на столе нужную бумажку и прочитал: — Шаликашвили. Но… влюбился в Упокоеву и… артистка попросила нас. Мы не имеем права не верить артисту. Думаю, что все остальные трудности вы легко преодолеете. Главное препятствие у нас Упокоева. Вы можете положиться на себя?
— Извините, не понял, — Джаба подумал было, что с ним шутят, но администратор говорил так серьезно, что в какое-то мгновение он пожалел, что вообще заявился сюда.
— Вы видели наше представление? — спросил директор.
— Да.
— Гимнастку Валю Упокоеву, она выступает вторым номером, разумеется, помните.
— Припоминаю.
— Вот об этой Вале я и толкую. Не думайте, что проблема эта простая. Два года Упокоева работает у нас, и два года у нас нет никакой жизни. Куда бы мы ни приезжали на гастроли, не говоря уже о профессиональных ухажерах из числа зрителей (к слову сказать, Валя знает, как от них отделываться), все униформисты поголовно влюбляются в нее. Мы только тем и занимаемся, что распутываем бесконечные конфликты, возникающие из-за Упокоевой.
— Но при чем здесь вы?
— Легко сказать, товарищ! Во-первых, влюбленный униформист плохо справляется со своими прямыми обязанностями; его голова все время повернута в сторону Вали, в течение всего представления он высматривает ее одну и, покуда конферансье не ущипнет его, не уносит с арены реквизит. Второе: как только кончаются гастроли, униформист приходит к нам, устраивает сцену, требует, чтобы мы взяли его с собой, выражает готовность хоть целый год работать бесплатно, только бы быть около Вали, видеть ее…
— Да, у вас сложное положение. А что думает обо всем этом сама Валя?
— Что Валя? Валя девица на выданье. Ей уже двадцать шесть лет. И между прочим, она совсем не ветреница. Ей никто не нравится, никого близко к себе не подпускает. В любовь она не верит. О, если б и она была беспечной и легкомысленной, как другие! Может быть, ее поведение хоть немного сократило бы число поклонников. Словом, товарищ, мое дело предупредить. Договорились?
— Договорились, — кивнул Джаба и подумал: «Вот уж точно — цирк! Слыханное ли дело — такая странность. Где еще, кроме цирка, возможен такой разговор?»
Дело он освоил с первой же репетиции. С завидной ловкостью ловил гигантские ложки, бумажные цветы, фарфоровые шары и белых, красноглазых кроликов, которых бросали с арены в кулисы клоуны и иллюзионисты. Он так быстро и прочно устанавливал алюминиевые каркасы на посыпанной опилками арене и натягивал батут, что лилипуты братья Чопы и прекрасная Валя Упокоева только касанием руки проверяли их прочность и с улыбкой кивали ему. Единственное, к чему он так и не смог привыкнуть, это был зеленый бархатный костюм и смешки знакомых парней. Ни одно представление не проходило без того, чтобы кто-нибудь из них не обратился к нему примерно с такой бессмысленной шуткой: «Джаба, ступай домой, пока тебя лев не слопал». Или: «Сколько лет ты учился в цирковом училище, скажи, ради бога». Или: «Слыхал, нашего Джабу в клоуны выдвигают. Правда это?» Конечно, он злился, но виду не подавал. Иногда косился в сторону зрителей, чтобы запомнить остряка и при первом же случае надрать ему уши.
Валя Упокоева, высокая, длинноногая, голубоглазая Валя, и впрямь была жемчужиной цирка. Стройная, с гладко зачесанными золотистыми волосами, собранными в «конский хвост» и достающими до пояса; огромные голубые глаза, черные ресницы, пухлые, красиво очерченные губы, округлые сильные руки, несколько полноватые, но вполне гармонировавшие с чуть полноватым станом, — не буду больше распространяться: Упокоева была как раз такой девушкой, какие особенно нравятся в Сакариа, да и в других местах не оставляют мужчин равнодушными. Но причиной того, что номер Упокоевой сопровождался протяжными вздохами и громом аплодисментов, была не только ее привлекательность. Многократная чемпионка области, мастер спорта, Валя Упокоева исполняла не иллюзионистский номер, она не обманывала людей, а на самом деле изгибалась, пальцами ног касаясь подбородка, на руках спускалась и поднималась по ступенькам алюминиевой лестницы, крутилась на перекладине и, сделав в воздухе четыре оборота, как ни в чем не бывало с широко раскинутыми руками замирала на пыльном ковре.
Щедро посылая во все стороны воздушные поцелуи и изящно подгибая колени, Упокоева пятясь удалялась за кулисы, в знак благодарности кивала Джабе и, колдовски покачивая бедрами, направлялась к гримерной комнате. После представления она тактично избегала восторженных поклонников и, сославшись на усталость, ныряла в автобус. Вместе с двумя-тремя артистами цирка, возвращающимися в гостиницу (остальные приступали к выполнению трудной миссии почетных гостей и под конвоем благодушных сакарийцев отправлялись в рестораны), в автобус садился и Джаба Цуладзе. Около гостиницы «Аргонавт» он выходил и дальше шел пешком.
Прошел месяц с того дня, как Джаба поступил в цирк униформистом, и за это время Упокоева не сказала ему и двух слов. Джабе казалось, что, встреться они на улице, Валя, скорее всего, даже не поздоровается с ним. По правде говоря, и он не горел желанием поговорить с «гвоздем программы». «И с чего этот народ посходил с ума? Прямо эпидемия какая-то — письма, венки, букеты! Она простая, обыкновенная девушка, слишком избалованная вниманием», — говорил он себе и, как только оставался один, тут же переставал думать об Упокоевой.
…На последнем дневном представлении Упокоева оказалась рядом с Джабой; какое-то время она стояла, сложив руки на груди, и вдруг задала совершенно неожиданный вопрос:
— Вы женаты?
Джаба обернулся; правой рукой он ловко поймал брошенную с арены гигантскую ложку; наткнувшись на задумчивый взгляд девушки, он несколько резковато, пожалуй, даже грубо ответил:
— Я думаю, для нашей работы это не имеет никакого значения.
Упокоева больше ни о чем не спрашивала. Она сбросила халат, опустила руки в картонную коробку с магнезией и грустно улыбнулась прошествовавшему мимо элегантному конферансье. Во всяком случае, Джабе ее улыбка показалась грустной.
Шли дни.
Цирк жил своей цирковой жизнью. Он уже настолько сросся с городом, что жителям Сакариа трудно было представить, как обходилась без цирка древнейшая столица Колхиды. Никто не думал о том, что через три месяца ровно, одиннадцатого февраля, жителей улицы имени III Интернационала не разбудит львиный рык, а площадь адмирала Гогиадзе будет выглядеть как после нашествия, прекраснейший цирковой шатер шапито сложит крылья и переедет в соседнюю республику.
Сейчас об этом никто не хотел думать, ведь цирк находился еще в Сакариа со своими добрыми клоунами, мотоциклистами, колесящими по вертикальной стене, братьями-лилипутами и гибкой, как хлыст, непокоренной Упокоевой.
Отношения между Джабой и жемчужиной цирка по-прежнему оставались неопределенными. Однако теперь, закончив свой номер, Упокоева не спешила, как прежде, в гримерную. Она задерживалась возле Джабы и то подавала ему «волшебный жезл» для клоунов, то принимала у него белых кроликов. Занятый своим делом Цуладзе даже не замечал настойчивого внимания девушки. Ему было настолько все равно, кто примет у него из рук пушистых, сонных кроликов, что он даже не благодарил Валю. И только в напряженнейшую минуту, когда эквилибрист Марченко с алюминиевым шестом в руках шел по канату, Валя, сложив на груди руки, становилась возле униформиста, почти прислонялась к нему; Джаба чувствовал под ухом ее теплое дыхание, и, когда, казалось, достаточно было единственной вспышки, чтобы упрямая циркачка оказалась в его объятиях, Джаба срывался с места, одним прыжком пересекал пространство между кулисами и помогал старику клоуну Какафонову тащить на арену огромный ящик с морскими камнями.
За неделю до нового года, после третьего представления, когда к служебному входу цирка подъехал старый, раздолбанный автобус, Упокоева сунула в руки Джабе огромный букет, поднесенный ей безнадежно влюбленными поклонниками, и села с ним рядом.
Всю дорогу Джаба неловко держал букет в руках и даже не смотрел на Валю. Он смотрел на улицу.
Когда автобус остановился около «Аргонавта», девушка спросила:
— Вы очень спешите?
— Да, — кивнул Джаба и протянул ей букет.
Упокоева правой рукой приняла цветы, а левую протянула Джабе.
— Может, посидим немного?
Униформист неохотно согласился.
Некоторое время они сидели молча, словно в ссоре, потом девушка откинула с лица свои светлые волосы, заложила их за уши и, сердито глянув на Джабу, проговорила:
— Почему ты такой?
— Какой? — глядя в землю, спросил Джаба.
— Другой. Не как все.
Джаба не ответил.
Жемчужина цирка неожиданно прижала руки к лицу и разрыдалась.
Цуладзе растерялся. Впервые при нем плакала женщина, и он не знал, как быть.
— Ты чего плачешь? — спросил он, когда Упокоева смолкла, достала из нагрудного карманчика платок и, стряхнув его, принялась вытирать слезы.
— Устала. Господи, как мне все это надоело!
— Что?
— Скручиваться в кольцо, разбрасывать воздушные поцелуи и, что самое главное, с фальшивой улыбкой благодарить поклонников, подносящих букеты цветов.
— Не думаю, что это такое уж надоедливое занятие.
— Ужас! Для меня — совершенно невыносимое. Может быть, другая на моем месте была бы даже счастлива.
— Я слышал, что женщины любят внимание, а столько цветов, наверное, не подносили и самым знаменитым красавицам. Тебе грех жаловаться на судьбу.
— Знаешь, я, наверное, не могу играть навязываемую мне роль женщины. Моя популярность и красота раздавили меня. Я надорвалась, надоела себе. Что это за жизнь: мужчины смотрят на тебя с вожделением, женщины — с завистью.
— Но ведь ты сама выбрала этот путь.
— Нет, Джаба, мой путь был другой. Я была просто старательная девчонка. Спорт забрал у меня все и взамен дал цирк. Конечно, ты прав, когда говоришь, что мне грех жаловаться на судьбу, но представь себе, бывает и так: ты — известная спортсменка; сборы, соревнования, пресса, турниры, зарубежные поездки. Как ты думаешь, сколько лет продолжается такой триумф? Ха-ха-ха, года три или, от силы, четыре. Потом — все кончается. Сперва тебя отчисляют из сборной, потом не приглашают на сборы. Пресса и телевидение забывают тебя. И знаешь, когда это случается? В моем виде спорта примерно в возрасте двадцати двух — двадцати трех лет. Как можно примириться с мыслью, что в двадцать три года ты стара для спорта! Не представляешь, какой это моральный и психологический стресс.
— Ну…
— Что ну?
— А потом?
— Потом ничего. Карьера закончена. Впереди только несколько часов работы тренером, раздобытых всеми правдами и неправдами, или цирк, и тот ненадолго. Форму, конечно, и здесь нужно сохранять, хоть и не так тщательно, как в спорте.
— Не надо смотреть на это так болезненно, Валя, не то найдешь новые причины для отчаяния. В конце концов ведь мы сами выбираем, по каким правилам нам жить.
— Кто выбирает, а кто и нет. Мне кажется, жизнь сама чаще предлагает нам свои правила, а мы слепо следуем им.
— Ты не похожа на слепую. Сколько я наблюдаю тебя, ты, по-моему, человек с принципами. Ты никому не позволяешь навязывать свою волю, как у вас говорят, самостоятельная девушка.
— Но знаешь ты, чего мне стоит эта самостоятельность! Мне говорят: пока ты молода и хороша собой, надо позаботиться об обеспеченной старости. Надо заводить связи, расширять знакомства, играть роль влюбленной женщины, неизвестно когда и как это тебе пригодится в дальнейшем.
— Ну…
— Что «ну»? Я так не могу. Вот и все. Всю свою жизнь я ищу только подлинности, ищу настоящего. Настоящую любовь, настоящее сочувствие, настоящего мужчину, благородного и не церемонного.
— И как тебе кажется — найдешь?
Упокоева улыбнулась и провела руками по кожаным рукавам дубленки.
— Думаю, что да. Не поверишь, но я, не раздумывая, променяю свою шумную жизнь, под оркестр и аплодисменты, знаешь на какую? Маленькая комнатка, печка, шлепанцы, ты сидишь у окна и ждешь мужа, которого любишь, качаешь колыбель, колешь дрова, на тебе мужнина рубаха с длинными рукавами. В хлебном магазине все обращаются к тебе почтительно, на «вы», никто к тебе не пристает, не навязывается, поскольку ты жена настоящего, хорошего парня.
Некоторое время они еще беседовали примерно на такие же не слишком интересные для читателя темы.
Валя:
— Джаба, откуда ты так хорошо говоришь по-русски?
Джаба:
— В армии я служил в Рязанской области…
И так далее.
Было почти двенадцать, когда жемчужина цирка обернулась в дверях гостиницы, подала Джабе руку и со страхом подумала: «Господи, только бы он не попросился сейчас ко мне в номер — посидеть немножко со мной, только бы он не сделался похожим на всех, господи!..»
Цуладзе выдержал и это «испытание», он пожелал девушке спокойной ночи и ушел.
* * *
7 февраля, когда диктор телевидения объявил программу дня законченной, в дверь Джабы Цуладзе осторожно постучали.
Валя Упокоева была в белом платке, с чемоданом в руках и, бледная, смущенная, виновато смотрела на хозяина.
— Я пришла, — сказала она и опустила голову.
…14 февраля, как и было запланировано, цирк отправился на гастроли в другую республику.
В купе, перед секретаршей, красиво подобравшей длинные ноги, лежала стопка отпечатанных типографским способом программок и рулон афиш. По распоряжению директора она всюду вычеркивала фамилию Упокоевой и вместо нее вписывала буффонаду «Веселая карета». Номер этот устарел и давно не включался в программу, но другого выхода не было, и его восстановили.
Валя Упокоева осталась в городе Сакариа.
Перевод А. Эбаноидзе.
УПРЯМЕЦ
— Слыхал ястребиный клекот? Вот и у Шетэ голос что у ястреба, и в точности ястребом налетел на меня.
Чего-чего, а взбешенного Шетэ я видел не раз — нагляделся, но такого никогда, прямо гром и молния!
В одной руке здоровенный дрын, другой тащит за рога моего овна — ворвался во двор эдаким душегубом.
«А теперь что скажешь?» — кричит, пинком загоняет барана и дрыном в землю тычет.
«Что случилось? Чего, говорю, встал надо мной скалой?»
Знаю я Шетэ, ежели от него попятишься, заробеешь, сомнет, как низкий плетень.
«Избегал я ссоры-драки, ан нет — ничего не выходит! Захочет господь наказать человека, злого соседа подсунет. Чего тебе от меня? Зачем привязался? Пока до греха не доведешь, не отстанешь?»
«Чего грозишься? — говорю. — Ишь, расшумелся! Разве твоя скотина никогда не заходила на мой луг? Скотина на то и скотина, чтобы по горам в любую сторону бродить».
«Не скотину, а тебя надо наказать, на крюке вздернуть! Коли не по силам за коровами да овцами ходить, собирай манатки и уматывай отсюда подобру-поздорову!..»
Так вот он мне объявил, да еще дрыном своим замахнулся.
Ладно я отскочить успел, не то все ребра бы переломал.
Такого я даже от него не ожидал. Взбесился он, что ли? Или, может, думает, что я и впрямь обессилел? Если его не отучишь замахиваться, пиши пропало: когда-нибудь прибьет до смерти.
Меня как молнией пронзило, в глазах потемнело.
Схватил я топор, что рядом из колоды торчал, и пошел на него.
Побежал Шетэ! Драпанул за милую душу. Бежал саженьими шагами и вопил, ругался. Я за ним до первых столбов добежал.
Он и столбы те сам врыл: досюда, говорит, твоя земля, а отсюда моя территория начинается. Тысячу лет жили наши предки бок о бок, но никому не приходило в голову делить склоны гор.
Осталось нас тут всего-то двое стариков, а он, того гляди, удушит меня. Неделя одна, а он на той неделе не меньше трех раз налетит: твои овцы выщипали мою траву! А в своих глазах и бревна не замечает. Его лошадь и коровы, считай, всю дорогу по моим лугам бродят. Но разве я сказал ему хоть раз или взглядом дал понять? Да я и в сердце своем зла на него не таил.
Терпел раньше и в тот день стерпел бы, если б он не брякнул: собирайся и уматывай. Нас всего-то двое осталось в селе, два очага теплим. Как же нам уходить? Даже врагу наши ослепшие дома видеть больно. Уродился таким — ничего не поделаешь. Кремень, а не человек. Да мы друг возле друга всю жизнь прожили, вместе состарились. Он и моложе-то меня не намного, всего-то года на два отстает. Восьмого июля мне семьдесят три сравняется, пойдет семьдесят четвертый. И ему, стало быть, за семьдесят. Наши майские деньки давно позади…
Он и в молодости такой был — ругатель и задира. Повздорить и полаяться случалось нам не раз, но до рукоприкладства не доходило.
То, что я рассказываю, случилось прошлым летом в конце июля; в последний раз поругались мы с Шетэ и с тех пор не разговариваем. Он сам по себе живет, я сам по себе. Хорошо еще, что я не догнал его тогда с топором в руке, не то кто знает, какая беда могла приключиться. Убить я бы его, конечно, не убил, но хватил бы топорищем по поджарому заду, поплясал бы он у меня.
— Выходит, вы целый год друг с другом не разговаривали? Удивительный народ! Да как же вы выдержали? Хоть словом перемолвиться — и то дело. Тут в одиночестве за год разговаривать разучишься, — гость глянул на село, подобно орлиному гнезду прилепившееся к круче. — Ну и что? Никто, кроме Шетэ, там не зимует?
— Никто.
— Сколько тут расстояния?
— Двух верст не будет… Хоть мы и в ссоре, но злобы на него я не держу, на черта упрямого. Как-никак человек живой по соседству, надежда. Порой думаю, уж не наперекор ли друг другу мы здесь сидим, в этих скалах. Не будь его, пожалуй, собрал бы я свое барахлишко и подался бы вниз, в долину, к сыновьям. Пора отдохнуть старым костям. Но сердце не хочет отдыха. Как говорится, где птаха выросла, там ей и Багдад. А можно и без поговорок. Не признаюсь себе, но конечно же из-за чертова Шетэ здесь сижу, уперся и ни с места. Да и он наперекор мне окрестные горы волком обвывает.
В эту зиму, сам знаешь, снег у нас рано выпал.
В начале октября улетел последний «пропеллер», закрылись дороги, и до апреля хмурилось небо над снежными кручами. Подались в долину и те краснобаи, что на встрече с правительством, на празднике пастухов, били себя кулаками в грудь и клялись остаться в горах, возродить село, перезимовать в отцовских домах… Куда там! Ушли, умотали…
Остались на всю эту округу только мы — я да Шетэ. Шетэ по ту сторону ущелья, я по эту.
Зима человека разленивает. Овцы давно уже в ногайских степях пасутся, коровы и лошади в хлеву заперты.
Медленно тянутся белые дни.
Очаг с тлеющими углями и теплой золой, прокопченная хибара, навоз вперемешку со снегом, заледеневшие кукурузные стебли и солома… Подоишь корову, заквасишь сыр, и день проходит так, что забываешь даже кусок хлеба для себя отломить. От досады прикрикнешь на заупрямившуюся корову: «Ну, волчья сыть!» — чтобы ноги пошире расставила, до вымени допустила; на сову гаркнешь во тьму или пальнешь из ружья в зимнее небо — волков отпугнуть. И все. Живешь в безмолвии. Словно в белой гробнице лежишь и ждешь чуда. А ожиданию нет конца…
Глянул однажды поутру на гору, по ту сторону ущелья — дымка не видать. А это значит, что Шетэ нынче не разжег огня в очаге.
Заквасил я молоко, накормил и напоил скотину, взял бинокль и опять принялся разглядывать дом и двор Шетэ. Никого. И никаких следов на снегу. Даже в отхожее место тропинка не протоптана. А ведь это знак нехороший.
Стемнело. Настала ночь. Может, хоть теперь в окнах у Шетэ свет зажжется, думаю. Ничуть не бывало. Непроглядная темень навалилась на опустевшее село. Пожалел я, что дождался темноты. Сейчас через ущелье не перейти. Или сорвусь где-нибудь вместе с конем и разобьюсь об камни, или зверь задерет.
Неспокойная выдалась ночка: я то задремывал, то просыпался, на душе было тревожно.
На рассвете даже не стал седлать коня, покрыл ему спину попоной, кинул в котомку хлеб да водку и пошел: тут и гадать было нечего — неладно с Шетэ.
Снег слежался, подмерз, и коню пришлось туго — наст то и дело проламывался под копытами.
На краю ущелья выточил я себе ходули, а коня отпустил назад, домой, — все равно по этой круче на себе пришлось бы его тащить. Раза два угодил в такие сугробы, что даже на высоких ходулях по грудь провалился. Шел, хватаясь за ветви деревьев, торчащие из снега, и в любую минуту мог сорваться и вместе с обвалом рухнуть в ущелье, в форелевую речку.
Так умаялся, как будто к каждой ноге по жернову подвесили. Но добрался-таки до дома Шетэ.
В хлеву ревела скотина, и я первым делом заглянул туда. Можешь себе представить, что там творилось: недоеная скотина в неубранном хлеву с пустыми яслями!.. Я наспех накидал им соломы и сухих кукурузных стеблей и вошел в дом.
Шетэ лежал недалеко от очага, на низкой кушетке, лежал на спине, вверх лицом. Войлочная шапка с опущенными краями была надвинута на глаза, из-под нее виднелись только залитые потом рот и подбородок. Он навалил на себя пахучую овчину и длинный тулуп.
Я бросился к окну, отворил ставни. От света, ударившего по глазам, он застонал и ниже надвинул шапку.
«Шетэ!»
Молчание.
«Что с тобой, бедняга?»
Положил руку ему на лоб — раскален, как печь. Услышав мой голос и почувствовав прикосновение руки, отвернулся к стене.
Тут не время церемониться, уговаривать его и ласкать. Разжег я огонь, развел в водке немного уксуса. Вытащил из сундука шерстяную шаль и давай его растирать; так растирал, что аж косточки у него похрустывали. Шетэ на меня и не смотрел, только, когда я обтер его досуха, тихонько простонал и отвернулся опять.
Я нашел котелок, подоил коров, убрал в хлеву. Разогрел молоко, накрошил в него хлеба и поставил миску возле кушетки на низенький столик.
«Шетэ!»
Молчит.
«Похлебай горячего молока с хлебом. Не ломайся, как молодка после свадьбы…»
«Если я сейчас не уйду, подохнет, дурень, но ни за что к еде не притронется», — говорю сам себе. Подтащил к очагу корягу, взял свои ходули и ушел.
Я шел по своим следам, по проторенной тропке и добрался до дома без особого труда.
Была у меня одна хромая овца, я не отпустил ее со стадом — все равно бы не дошла, а солому и сухую кукурузу жевала за милую душу. Она у меня, как дитя, сызмальства рядом жила, и как не собирался я руку себе отрубать, так и ту овцу закалывать не собирался, но болезнь Шетэ проняла меня до глубины души. «Как бы он не помер», — думал я. Тут уж не до ссор и обид, когда жизнь человека на волоске висит.
На следующий день после полудня привязал я свою овцу веревкой к ремню и полез по круче к Шетэ. Я так решил: если здесь ее заколю, пока дотащу мясо, надорвусь, да и у замерзшего мяса ни того вкуса, ни той силы, что у парного, не будет.
Шетэ миску-то опорожнил, но опять в стену уткнулся — отвернулся от меня.
Обрадовался я: «Ах ты, смрадный старик! А говорил мне, забирай манатки и уматывай. Выходит, я еще нужен здесь…»
Потрогал лоб: жар еще был сильный.
Кроме «пастушьей бани», думаю, ему ничего не поможет.
Накидал в котел снегу, поставил на огонь. Законопатил щели в дверях и окнах. Собрал с кухонных полок головки сыра и сложил все у огня. Когда вода закипела, залил ее в кожаные мешки и завязал потуже. Отыскал на чердаке две старые, изношенные бурки. Обложил Шетэ со всех сторон бурдюками с кипятком и на спину ему положил. А сверху бурками укрыл. Когда он руками-ногами задрыгал, я прикрикнул: «Но, но, потише! Только без этого!» — и поверх бурок еще сам навалился.
Долго он пыхтел и брыкался, но я не отпускал до тех пор, пока «пастушья баня» не стала остывать. Я подбавил огня, подкинул дров в очаг, а кожаные мешки посбрасывал на пол. Вот когда на Шетэ стоило поглядеть — весь измочаленный, точно выжатый, нос просвечивал. А белье и подушка аж отяжелели от пота.
Я вытащил из сундука шерстяные носки и смену теплого белья, перевернул Шетэ, вытер его, растер хорошенько и переодел в чистое. Ему явно полегчало. Отвернулся к стене, облегченно вздохнул. Через минуту слышу — посапывает размеренно.
«Ну, раз уснул, — думаю, — значит, не помрет». Обмотал ему голову покрепче жениным платком, подтащил кушетку к очагу, а сам пошел в хлев.
Заколол свою овцу, освежевал. Из парного мяса приготовил такую чобан-каурму — пальчики можно было проглотить. Готовить чобан-каурму меня научил блаженной памяти дед, когда в детстве брал меня с отарами в дальние перегоны.
Еду и разогретый над огнем хлебец положил на стол, разбавил немножко водки и потрепал по плечу своего упрямого, как кремень, больного.
«На тебе, парень, горячая каурма. Съешь ее вместе с соком, сразу окрепнешь».
Он чего-то проворчал в ответ и с головой укрылся тулупом.
Подоил я коров, створожил молоко и в сумерках собрался домой. На всякий случай заглянул в дом через щель в дверях. Шетэ, скинув с головы войлочную шапку и засучив рукава, торопливо ел мою каурму. Видно было, что он изрядно проголодался. Я прикрыл дверь. Знал, что, если зайду, он смутится и перестанет есть. Собирался переночевать у него, но передумал — как бы из-за меня опять не заупрямился. К тому же надо было за своей скотиной присмотреть.
Борьба за жизнь Шетэ на этом не кончилась. Ночью он встал по нужде, его ветерком-то и обдуло, и наутро опять от жара распалился, как перец.
Целый долгий месяц и потом еще половину не отходил я от него. Очень ослаб, бедняга. Каких только целебных трав я для него не варил, тер-растирал то козьим жиром, то водкой с уксусом, но вырвал-таки из рук Михаила с Гавриилом, отнял у архангелов. Можно сказать, с уходящего на тот свет поезда снял черта упрямого…
У нас все по-старому, мы по-прежнему в ссоре. Удивительное дело: за те полтора месяца, что я над головой у него простоял, он полутора слов мне не сказал, не улыбнулся ни разу, не поблагодарил. Хотя за что меня благодарить. Я ведь не только с его смертью боролся, а и со своей смертью тоже, со своим одиночеством. Так-то, племянничек…
Прошло немало времени с того дня, как Шетэ встал на ноги, и встретились мы как-то в овраге у ручья, спустились прутьев в орешнике нарезать, для приплода ягнят загон сплести. «Здорово, говорю, старик!» Он ни гугу. Молчит. Повернулся и попер напролом через орешник вверх по горе.
Ну, что тут попишешь, такой уж он уродился, Шетэ. Теперь его не переделать. Только бы жил, не помирал, и пусть будет какой есть — упрямый, суровый, неприступный. Сердце-то у него доброе, я ведь знаю, но если заупрямится, все — будет на своем стоять, не отменит. Сядет на осла и не слезет.
Стыдно мне тебе это рассказывать. Не к лицу нам, старикам, в ссоре жить, сынок. Двое нас только и осталось на всю округу, на сколько глаз хватит. Двое — я и Шетэ. Тех, что летом сюда наезжают: дачники, кутилы, празднословы, — не обижайся, но я их в счет не беру. Из старых и верных, что не уйдут никуда, нас только двое.
Садясь в лодку, не ссорься с лодочником, говаривали наши предки.
К твоим словам люди прислушиваются: может, поднимешься к нему и напомнишь эту мудрость, образумишь упрямца.
Сделай доброе дело; вдруг уважит тебя черт упрямый. Не старик, а кремень, будь он неладен…
Перевод А. Эбаноидзе.
ЖИВЫЕ
В деревне Схлте живет много одиноких стариков. Два года назад и Никуша Тагвиашвили остался один. Чаще всего причиной одиночества старого человека, коротающего долгие, скучные дни под равнодушным небом, бывает кончина супруга или супруги; ведь дети давно перебрались в город… Вот и с Никушей Тагвиашвили случилось то же самое.
Примерно в каких-нибудь пяти километрах от Схлте, по другую сторону горы Хуха, на крутом склоне ущелья раскинулось миловидное селенье Гу. В этот раз Гу интересует нас только потому, что там живет закадычный друг Никуши Тагвиашвили — Робинзон Цквитинидзе. Робинзону тоже уже под семьдесят, и, каким бы странным или даже неправдоподобным это вам ни показалось, он тоже совсем одинок.
Дружба Робинзона и Никуши началась сорок лет назад самым простым образом: демобилизовавшись после окончания войны, они оказались попутчиками в поезде, вместе возвращались домой. Обоим было не до разговоров. Оба были погружены в те сладостные воспоминания, что поднимаются в человеке при виде давно покинутых родных мест, в предвкушении встречи с близкими после долгой и мучительной разлуки.
Диалог их был короток и для беседы двух имеретинцев достаточно скуп.
— Где довелось воевать?
— На втором Украинском. А тебе?
— У Рокоссовского. До Берлина дошли.
— А мы в Праге закончили.
— Ранен?
— В плечо. Осколком. Ничего особенного. А ты?
— Представь себе, даже пальца ни разу не оцарапал.
— Повезло.
— Что и говорить!
— А куда путь держишь?
— Я из Схлте. Отсюда девятнадцать километров.
— А я из Гу, — расплылся в улыбке Робинзон.
— Выходит, соседи.
— Жаль, раньше не встретились.
— Меня призвали в сорок третьем.
— Где же нам было встретиться. Двадцать второго июня война началась, восьмого июля я уже был по всей форме, в эшелоне на север катил.
— Выходит, в первый же призыв попал…
— Да, в первый.
На платформе в Чурии они спрыгнули вместе и, беседуя, дошли до парома. Отсюда идущему в Гу надо было свернуть направо по аробной дороге, а до Схлте путь лежал по-над речкой тропками.
— Ну, я пошел.
— Заходи, когда будет время.
— Ты тоже загляни. Как тебя звать-то? Забыл спросить.
— Робинзон. Робинзон Цквитинидзе.
— А я Тагвиашвили. Никуша. Обязательно повидаю, если чего…
— Вот и ладно…
Эх, хорошее было время! У обоих в руке по деревянному чемодану, поверх выгоревших гимнастерок наискосок шинели в скатках, а из-под лихо заломленных пилоток выбивались черные, курчавые чубы!..
Река времени текла размеренно и незаметно, и вот обоих друзей прибило к берегу старости, когда ноги уже не так легки и время движется медленнее, чем раньше, когда все чаще перебираешь четки воспоминаний и не очень-то тянет выходить со двора и пускаться в путь.
Если я стану уверять, что за эти годы они друг без друга не садились за стол, это будет преувеличением, но дружба у них была крепкая, и в горе, и в радости они были вместе. И не раз им случалось опорожнить кувшинчики с добрым домашним вином.
Теперь, овдовев и осиротев, бывшие солдаты стали особенно бережны и заботливы друг к другу. Времени свободного у них не так уж много, да и силы в ногах поубавилось, но видятся они чаще, чем в прежние годы, — им есть о чем поговорить.
В тот день Никуша Тагвиашвили проснулся рано. Он собирался прополоть по второму разу кукурузу, но передумал: ночью прошел дождь, а на мокрой земле мотыгой не размахаешься. Обул сапоги и вышел во двор повозиться, нашел себе дело. Скотины он не держал. С пяток кур семенило по двору, да и тех он собирался продать: куры не неслись, а только клевали петрушку и сельдерей на грядках в огороде.
Июнь был на исходе.
Утро рассвело какое-то серое, невеселое. Сеял мелкий дождь. Гору Хуха окутали низкие облака.
Никуша поднялся на балкон дома, стянул с ног сапоги и опять завалился в теплую еще постель. Под хрипы радио он ненадолго заснул.
Проснулся скоро. Все еще не распогодилось — не до прополки.
«Схожу-ка повидаю Робинзона, в такую погоду все равно не поработаешь, земля на мотыгу налипнет», — подумал он. Натянул штаны. Надел галифе, гимнастерку, обул сапоги, набросил отцовский кожушок на плечи, на голову надел войлочную шапку и, выйдя со двора, закрыл за собой калитку. За ним увязалась было собака, но он шуганул ее и загнал назад, во двор.
До поворота в гору шел легко, быстро, но на круче дорогу развезло, и он немного помучился. К сапогам липла рыжая грязь, каждый шаг давался с трудом. Иногда сапоги прилипали так сильно, что, когда он вырывал их из грязи, слышались чавканье и чмоканье. Он шел, цепляясь руками за кусты дикого орешника, подтягиваясь на руках, чтобы не съехать назад. Одолев кручу, остановился передохнуть, утер пот с лица и шеи своей войлочной шапкой и дальше пошел не аробной дорогой с наезженными колеями, а выше, по нехоженой траве.
Когда миновал родник, выглянуло солнышко и от земли густо повалил пар. Никуша сбросил с плеч свой кожушок и перекинул его через руку.
— Хозяин! — позвал он у знакомой калитки, глядя на стоящий на сваях небольшой дом, одна половина которого была покрыта черепицей, а другая тесом. Не дождавшись ответа, поднялся по лестнице, заглянул в открытую дверь комнаты и опять позвал: — Робинзон!
Никто не отвечал. Никуша вошел в комнату. Из залы заглянул в спальню. Постель там была не убрана. На одеяле лежали очки, возле кровати на полу были разбросаны газеты.
Никуша вышел во двор и, шагнув через перелаз у плетня, направился в виноградник. У Робинзона был небольшой — кустов в двести — виноградник, постаревшая лоза «цоликаури», урожай с нее был невелик, но он любил возиться в винограднике — как-никак это было дело. Работа.
Никуша не сделал и десяти шагов, как там же, под старой грушей, на которую попали брызги медного купороса, увидел на земле Робинзона. Робинзон лежал на спине, глядя в небо: левую руку он подложил под голову, в вытянутой правой руке была зажата погасшая сигарета.
— Робинзон!
Глаза умершего смотрели далеко и высоко.
Никуша почувствовал на лбу холодный пот. Опустившись на колени, торопливо взял друга за руку и попытался нащупать пульс. Затем задрал ему блузу: обнажив грудь с седыми волосами, прижался ухом к сердцу. Робинзон не подавал никаких признаков жизни. Лицо у него холодное, руки отяжелевшие и остывшие, как камень. Никуша закрыл ему веки и бросился к калитке — надо было дать знать соседям.
Не добежав до калитки, крикнул: «На помощь! Помогите!» — но никто не откликнулся. Ближайшие соседи жили довольно далеко — внизу, на краю ущелья.
Никуша вернулся в виноградник, подхватил умершего под мышки и потащил, но почувствовал, что поднять его по лестнице в дом один не сможет: небольшой и поджарый старик вдруг сделался свинцово тяжел. Нашел на кухне циновку и с трудом перетащил на нее умершего. Потом взял циновку за углы и поволок по траве, но в руках у него остались обрывки циновки, и он опять посеменил к калитке и с бьющимся сердцем вышел на проселочную — нужно было добраться до ближайших соседей.
У старого орехового дерева он поскользнулся и рухнул как подкошенный. Кое-как поднялся. Боль в пояснице не пугала его, он увидел, что поскользнулся на коровьей лепехе, — штаны и блуза с одного боку были все выпачканы.
Вернулся назад, достал из колодца воды, налил в таз и, укрывшись за плетеной кукурузницей, разделся. Исподнее тоже было выпачкано зеленой жижей. Поднялся по лестнице в дом, достал из сундука чистое белье Робинзона, снял со стены его синие галифе с латками на заду, переоделся, вернулся к тазу и принялся стирать. Он наскоро простирал свою одежду и развесил ее там же на ветках шелковицы.
На этот раз он шел под гору медленнее и осторожнее.
Во дворе ближайших соседей его учуяла собака, выскочила из конуры и с отчаянным лаем бросилась к частоколу. Ему не пришлось даже звать: следом за собакой из кухни показалась замотанная в платок старуха в черном и, странно размахивая руками, нетвердо направилась к калитке. Стоило во дворе показаться хозяйке, собака сочла свой долг исполненным, повернулась и спокойно улеглась под лестницей.
При виде дожидающегося ее мужчины старушка, сколько могла, ускорила шаг.
— Пожалуйте, — она стянула с калитки металлический обод. — Давно зовете, сударь?
— Дома, кроме вас, нет никого? — Никуша локтями оперся о верхнюю планку калитки.
— Мужика утром позвали на гору Мухудо, на вторую прополку. Входите, сударь, сделайте милость.
— В такую грязь мотыгой особенно не поработаешь.
— Да кого это нынче беспокоит. Утром кликнули, он и побежал. Нашу кукурузу — вон сами изволите видеть — сорняк заел, а все потому, что времени не хватает. Что делать — один он, мужик, руки до всего не доходят.
— Беда случилась, сударыня, вот ведь какое дело…
— А что такое, мил человек?! — старушка поднесла руку к подбородку. — С кем беда?
— Робинзон помер.
— Да что вы говорите?! — воскликнула она. — Он же утром к нам заходил, медного купоросу взял, раствор для опрыскивания собирался разводить.
— Да… А я вот к нему пришел, гляжу, а он в винограднике лежит, мертвый.
— Где? Да как же так сразу? Господи! А что, если он еще… — старуха хлопала себя по коленям и вертелась на месте.
— Нет, сударыня, мертвый он, совсем. Часа три, как преставился, не меньше.
— Что же нам делать? Как быть? Если б мужик мой хотя бы был дома… — мельтешила и восклицала старуха.
— Теперь уж ничего не сделаешь, сударыня. Но вам надо бы пойти со мной. Умершего прибрать надо…
— Сейчас… Я сейчас, сударь, сию минуту иду. Конечно, а как же.
Старуха зашла на кухню и вскоре вышла оттуда в другом платке и без фартука. Затем она поднялась по лестнице, встала на носки и крикнула в сторону дома, нависающего по другую сторону ущелья:
— Анета! Анета!
Прислушалась и, не дождавшись ответа, обернулась к Никуше:
— Куда там! Анету средь бела дня дома на веревке не удержишь.
В гору они поднялись молча, нетвердой стариковской поступью.
Когда вошли во двор и старуха увидела лежащего на циновке покойника, она негромко воскликнула: «Ах, бедняга Робинзон!» — и ударила себя по щеке.
Внизу, у камина, нашли прислоненную к стене тахту. Вынесли ее, поставили под липой и веником обмели паутину и пыль. Пыхтя и отдуваясь, с трудом перетащили покойника и уложили на тахту. Никуша достал из сундука белоснежную простыню и укрыл ею усопшего. Простыня оказалась коротка: ноги торчали из-под нее.
Потом старуха вышла на балкон, разок глянула на сидящего под липой без шапки Никушу и громко, пронзительно заголосила:
— Ой! Ой! Ой! Ой!
От ее воплей у Никуши мурашки побежали по спине.
«Ну и голосина!» — подумал он.
Старуха еще некоторое время голосила на веранде, потом взяла там табурет и, спустившись во двор, села под липой неподалеку от покойника.
— А вы, сударь… Я вас частенько здесь видела… — спокойно и тихо спросила она Никушу.
— Я старый друг Робинзона, из села Схлте, пришел его повидать, и вот…
— И не говорите, сударь. Что такое наша жизнь? Мгновение — и нет человека. Но все же так сразу, в одночасье…
— Да не так уж и сразу, сударыня. Сколько нам мучений, страданий и лишений пришлось перенести в войну. Даже удивительно, что до сих пор дотянули.
— Вы вместе на фронте были?
— Да, вместе воевали. — Никуша соврал, поскольку чувствовал, что старухе будет приятнее представить их боевыми друзьями, подружившимися в огне сражений, а не в ткибульском поезде после демобилизации.
— А какая в этот год кукуруза у вас в Схлте?
— Кукуруза ничего. А вот фруктов, похоже, никаких не будет в этот год.
— И у нас то же самое. В цветение морозом прихватило и сгубило все как есть.
С минуту молчали.
— Так мы ни до кого и не докричались, сударыня? — спросил Никуша и согнал муху с простыни.
Старуха встала, опять поднялась по лестнице и, облокотись о перила балкона, заголосила в сторону домов на склоне горы Хуха:
— Ой! Ой! Ой! Ой!
Она прислушалась к эху, откликнувшемуся на ее вопль. Еще разок растерзала воздух пронзительным воплем. Затем принесла с веранды стул и поставила Никуше:
— Садитесь, сударь. Устанете на ногах.
— Спасибо, не стоило беспокоиться обо мне.
Никуша подвинул стул в сторону, примерил его и, убедившись, что он не шатается на неровности, сел.
— Время-то какое, что же он в такую пору преставился, — проговорила старуха, прижав ладонь к подбородку.
— Что вы сказали, сударыня? — Никуша поднес к уху руку воронкой.
— Плохое, говорю, время, никого в деревне не осталось, все разбежались, разъехались: кто на работы, кто на добычу. Хоть бы Бачули оказался на месте.
Бачули был единственный сын Робинзона. С женой и детьми он жил в городе, работал на мебельной фабрике начальником цеха прессованных опилок.
— А что? Он куда-то собирался?
— Точно не скажу, не знаю, а вообще-то он все время в разъездах. Новое дело начали, вот и таскают его туда-сюда, учиться да опыт перенимать.
В открытую калитку вошла коза с ярмом на голове, глянула на сидящих под липой стариков и скакнула в виноградник. Никуша погнался за ней.
— Пошла вон, волчья сыть!
Коза почуяла, что ее поведение пришлось не по нраву, отъела росток, пробившийся у ствола сливового дерева, и побежала, Никуша довольно долго гонялся за ней, наконец загнал в угол, силком потащил из виноградника и вытолкал на проселочную.
Опять выглянуло солнце, и от мокрой земли повалил пар. К плетню подошла худая высокая женщина в платке, с орлиным носом, раздвинула ветви гранатового куста и спросила:
— Ты, что ли, кричала, Елена? — Она явно все видела и понимала, что произошло, но все-таки сочла нужным спросить.
Старуха поднялась, опершись о колени.
— Входи, Анета, входи. Видишь, беда-то какая?
— А что случилось? Что стряслось? — Анета примешала в голос нотки плача.
— Робинзон!.. Бедняга Робинзон!..
— Ой! Ой! Ой! — прямо с проселочной заголосила Анета. Вбежала во двор, глянула на покойника и шлепнула себя по щеке. Затем развязала и сняла раздутый передник и, свернув, бросила на землю под липой. — Я вот в овраге крапиву собирала, а тут такое дело!.. Ах, господи, как же так? Когда? Почему мы ничего не слышали? Объясни, растолкуй мне, ради бога! — Анета поразительно естественно перешла с пронзительного вопля на тихий печальный шепот.
— Да мы б ничего и не узнали, если б вот этот добрый человек к нему в гости не заглянул.
— Значит, вы это обнаружили, сударь? — Анета взглянула на Никушу. — А кто вы будете?
— Я друг Робинзона, из Схлте.
— Ах… да, да… Он часто о вас говорил.
С вершины горы Хуха слетел стервятник. Он так низко пролетел над липой, что на шорох крыльев все трое подняли головы и глянули вверх.
— Хау! Хау! Хау! Чтоб тебе ослепнуть! — крикнула Анета и сообщила Никуше: — Цыплят совсем нам не оставил, разбойник, вчера чуть ли не из-под носа подросшего петушка унес. Чтоб ему сгореть!..
Никуша встал и обошел покойника.
— Ну, теперь, извините, конечно, не мне вас учить, надо бы немного прибрать во дворе и в доме, люди придут, народ… Неловко может получиться.
— Сейчас, сударь.
— Конечно, конечно…
Елена и Анета хозяйничали во дворе. Никуша глянул на солнце и подумал:
«Хотел бы я знать, высохли там мои штаны и бельишко и где мне переодеться, чтобы эти почтенные женщины не заметили».
За это время Анета раза три прошлась мимо развешанного на шелковице белья, вернулась, сняла белье и брюки и перевесила через руку.
— Оставьте там, пусть сохнет, сударыня, это все мое, я переоденусь, как только высохнет.
Анета направилась к лестнице:
— Вы что-то сказали, сударь?
— Я говорю, не снимайте белье, мое это. Надо будет переодеться. Я, когда вниз шел, поскользнулся и упал.
Анета остановилась, по ее лицу пробежала улыбка, но она сдержалась.
— Очень на наших дорогах скользко после дождя. Такая глинистая земля, — она вернулась и опять развесила белье.
За это время Елена убрала во дворе и с граблями на плече прошла мимо Анеты. Анета шепнула ей что-то. У обеих от смеха затряслись плечи, и они пошли рядышком, прикрываясь руками.
Никуша словно бы ничего не видел и не замечал: заложив руки в карманы, он разглядывал зеленый полог горы Хуха.
Через час Анета и Елена стояли на балконе дома Робинзона и громко причитали. Их голоса дополняли друг друга, сливались, словно звон колокола, и эхом возвращались к шелестящей листвой старой липе. Они словно состязались, словно старались перекричать друг друга, голосили так пронзительно и жутко, что волосы становились дыбом; порой они переглядывались, смотрели друг на друга — две старые исполнительницы обряда; лица у них были серьезные и, видит бог, спокойные.
Перевод А. Эбаноидзе.
ТЯГОСТНОЕ СОСЕДСТВО
Он знал, что в этой гостинице одноместных номеров нету вообще, и, когда короткорукая администраторша с линзой в глазу и трехъярусной прической выписала ему заблаговременно забронированное место, молча взял квитанцию и, даже не поблагодарив, направился к лифту.
Гостиница «Привет» относилась к числу гостиниц, лишенных удобств и комфорта. Раньше Автандилу не случалось здесь останавливаться, но он слышал, что гостиница была построена в тот период, когда пребывание граждан в отдельных номерах считалось нежелательным хотя бы ради соблюдения интересов самих граждан (в одиночестве, так сказать, наедине с собой, им могли прийти в голову глупые и даже нехорошие мысли, что в свою очередь могло повлечь за собой трудно предсказуемые последствия). Как раз в то время во всех городах нашей огромной страны были возведены многочисленные гостиницы и дома отдыха с высоченными потолками, богатой, но осыпающейся лепниной и комнатами, вмещавшими от семи до одиннадцати коек, где личность не только отдыхала и морально закалялась под положительным воздействием коллектива, но и щедро открывала тайники души и интеллекта, рассказывая анекдоты и житейские истории, с которыми не без интереса знакомились сожители-соотдыхающие. Где-то Автандилу довелось прочитать, что в этой гостинице со славными традициями прожил несколько суток сам всесоюзный староста Калинин, а по пути на родину на несколько часов задержался легендарный акын Джамбул.
— Семьсот шестьдесят третий, — он протянул пропуск дежурной по этажу — девушке с вьющимися красивыми волосами, которая только что кончила говорить по телефону и усталыми глазами смотрела на нового гостя; ее маленькому точеному носику удивительно не соответствовал большой рот с полными, пухлыми губами.
— Пожалуйста, это туда, — дежурная указала в сторону длинного коридора.
— А ключи?
— Ваш сосед в номере.
Автандил не спеша пошел в указанном направлении.
По коридору, обгоняя и навстречу ему, шлепали в домашней обуви постояльцы гостиницы с перекинутыми через плечо полотенцами и решительными, деловыми лицами.
Автандил изрядно устал в дороге, ему не терпелось лечь и, так сказать, преклонить главу. Самолет прилетел без опоздания, однако сначала очень долго не подавали трап, затем больше часа ждали выдачи багажа, и, наконец, еще чуть ли не час ему пришлось стоять в очереди на такси: он, конечно, мог поставить чемодан, а не держать в руке и, как делали это другие, передвигать его, подталкивая ногой, но была оттепель, снег подтаял, превратился в грязную жижу, смешанную с солью, и ставить в нее новенький кожаный чемодан было жалко.
Автандил тихонько постучал в дверь и, не дождавшись ответа, осторожно приоткрыл ее: в нос ударил спертый застоявшийся воздух. На кровати против двери храпел мужчина в пижаме. Он лежал отвернувшись к стене, были видны только его лохматая голова с нестриженым затылком и толстая красная шея. На коленях подогнутых ног лежала красная как рак ладонь с широким запястьем. Кроме дешевой пижамы отечественного производства на нем были зеленые, протертые на пятках носки.
На журнальном столе, поверх разостланной во всю ширь газеты лежало несколько кусков черного хлеба, остатки копченой рыбы и четыре пустые бутылки из-под пива.
Автандил на цыпочках обошел стол, поставил чемодан у стены и сел на стоящую у окна койку.
Его самые страшные опасения сбылись — сосед по номеру храпел.
Уважаемый читатель знает, что храп бывает разный. Сосед Автандила по номеру издавал примерно такой звук, каким в театре юного зрителя озвучивают погружение якоря на толстой, ржавой цепи. Да, да, этот человек не придерживался обычных, традиционных методов храпа, он грохотал, как ржавый якорь, хрипел, как забарахлившая пила, и скрипел, как несмазанная колодезная бадья. К тому же тот сложный звук он издавал только при вдохе. А при выдохе лишь слегка задерживал воздух губами и как бы с легким хлопком выдыхал его. Словом, храп у товарища в зеленых носках был, так сказать, односторонний, но при этом производился звук настолько мощный и зычный, что Автандил не смог бы уснуть в этой комнате даже после семи бессонных ночей. Автандил опять на цыпочках обошел стол, повесил пиджак и пальто на гвоздь, вбитый в дверную раму, шкаф он не стал открывать, опасаясь разбудить соседа. Затем достал из чемодана зубную щетку и мыло, перевесил через плечо полотенце и, выйдя в коридор, стал озираться в поисках душевой. Найти ее оказалось нетрудно: в конце коридора, всего в каких-нибудь шестидесяти шагах от номера Автандила, на дверях он увидел знак, несомненно обозначавший вход в душевую.
Когда он вернулся в номер, разулся и вытянулся на своей койке, ему показалось, что сосед храпит громче, чем прежде. Какое-то время он терпел, но, не дождавшись затишья, постучал кулаком по спинке кровати. От стука храп прекратился. Сосед перевернулся на другой бок, заложил правую руку под голову, и через минуту-другую опять со страшным грохотом и лязгом задвигалась якорная цепь старого, проржавевшего дредноута.
Автандил еще несколько раз постучал по спинке кровати; не добившись никакого результата, он сунул в рот два пальца и пронзительно свистнул. От свиста сосед опять ненадолго затих, потом лег на спину, раскинулся, почесался и захрапел с новой силой. Он словно доказывал, что может храпеть в любом положении.
Чаша терпения у Автандила переполнилась. Он встал, подошел к соседу, с минуту смотрел на его раскрасневшееся, налитое кровью лицо, затем положил руку ему на плечо и встряхнул; сначала легко, затем все грубее и грубее.
Храпящий мужчина приподнял голову, заморгал и уставился на соседа бессмысленными глазами. Он ничуть не удивился и не выразил ни малейшего неудовольствия по поводу того, что его так грубо разбудили.
— Храпел?! — виновато спросил он.
— Очень. Может, ляжете как-нибудь удобнее.
— Есть, — ответил сосед и повернулся спиной к Автандилу.
Сперва он нерешительно, как бы неуверенно зацепил глоткой струю воздуха, постепенно все прочнее ухватывался за нее и вскоре тянул ее в горло с таким хрипом, скрипом и, наконец, грохотом, словно старался компенсировать потерянные десять минут.
Автандил ходил по комнате из угла в угол. Он уже не осторожничал и не ступал на носки. Он нервно метался, то и дело задевая стол, угол кровати. Повернув ручку репродуктора, сделал максимальную громкость и разок-другой даже, громко притопывая каблуками, прошелся в каком-то танце, похожем на мексиканскую «самбу».
Потом набросил на плечи пиджак и открыл дверь номера. Выходя, глянул на часы: было почти двенадцать.
Дежурная по этажу сидела за своей конторкой в конце коридора и в уютном свете настольной лампы читала.
— Видите ли, дело в том, что мой сосед храпит, — стараясь сдержать досаду, сообщил ей Автандил.
Девушка положила руку на книгу, подняла голову и снисходительно улыбнулась.
— Представьте себе, я была уверена, что вы это скажете.
— Вы знали, что он храпит?
— Откуда я могла это знать? Он поселился всего на каких-нибудь два часа раньше вас.
— Как же тогда вас понимать?
— А обыкновенно: вы все без исключения любите жить в номере одни, без соседа.
— Пойдите, убедитесь — и потом судите сами, можно ли там спать.
— А я и не утверждаю, что можно. Скажу вам откровенно, меня вообще мало волнует проблема храпа в гостинице.
— Что же мне делать? Впереди целая ночь. Что вы посоветуете?
— Идите к администратору. Только я очень сомневаюсь, чтоб вы чего-нибудь добились.
Дежурная по этажу оторвала руку от лежащей на столе книги и откашлялась. Затем она нажала на кнопку настольной лампы и продолжала читать. Своим поведением она ясно давала почувствовать: раз вы не в состоянии предложить тему поинтереснее, считаю разговор оконченным.
Автандил вышел на лифтовую площадку, нажал на кнопку лифта и уставился на табло с нумерацией. Один за другим загорались «первый», «второй», «третий» и «четвертый» этажи. На пятом кто-то надолго остановил лифт. Табло погасло, через несколько секунд зажглось опять, и лифт пошел вниз: «четвертый», «третий», «второй», «первый»… Автандил в сердцах махнул рукой и побежал по лестнице.
Пышная администраторша с короткими руками и трехъярусной прической ела садовую малину: двумя пальчиками жеманно брала маленькую гроздь, заячьими зубками откусывала ягодки прямо у стебелька и стебельки бросала в пепельницу. При виде унылой физиономии направляющегося к ней Автандила она перестала есть малину и весело захихикала:
— Храпит?
Автандила возмутила бесцеремонность сотрудницы гостиницы, но он не подал виду и в свою очередь сдержанно спросил:
— Разве это по мне видно?
— Да что тут видеть. — Администраторша сменила выражение лица с таким поразительным мастерством, что ей позавидовали бы знаменитейшие мимы: вместо улыбки теперь на лице была гроза — гром и молния. — В этой гостинице все храпят. Вы не первый сюда бежите. Сегодня уже одиннадцать человек просили перевести их в другой номер.
— Может быть, как-нибудь в виде исключения… — взмолился Автандил. — Я не останусь в долгу.
— Ничем не могу помочь. Мест нет.
— Может быть, вы объедините двух храпящих, а меня поселите с нехрапящим…
— Теперь поздно этим заниматься. И вообще: в паспорте ни у кого не записано, храпит он или нет.
— Как же мне быть? Неужели не спать всю ночь? Я и без того вымотался в дороге, устал, а завтра масса дел. Хорош же я буду…
Администраторша опять вернулась к малине. Теперь она ела с большим аппетитом и еще жеманнее, чем прежде.
— Может быть, вы что-нибудь придумаете, а? Я не останусь в долгу… — Автандил облокотился об конторку администратора и подпер рукой подбородок.
— У меня есть одно место в шестиместном номере. Пойдете туда?
— А какая гарантия, что там никто из шести не храпит?
— Никаких гарантий. Обычно из шести человек как минимум трое храпят.
— Вы смеетесь надо мной!
— Нет, шучу, — на пухлом, вернее, одутловатом лице администраторши проступило что-то вроде улыбки. Но она тут же посерьезнела и взяла телефонную трубку. — Татьяна, загляните в семьсот шестьдесят третий, неужели он и впрямь так безбожно храпит? Сейчас вот и этот товарищ (она строго взглянула на Автандила) поднимется к тебе, сходите вместе. Если и впрямь так храпит, позвони мне.
Автандил поблагодарил администраторшу и живо взбежал по лестнице на свой этаж.
Минуты через две он вместе с дежурной по этажу стоял в своем номере.
Довольно долго они внимательно разглядывали мужчину в пижаме и зеленых носках. Словно бы назло Автандилу сосед по номеру спал тихо и кротко. Он не только не храпел, но даже не посапывал.
— И вам не стыдно, товарищ?! Человек спит как младенец, а вы на него клевещете.
Автандил не успел рта раскрыть — дежурная повернулась и вышла, хлопнув дверью.
Он огорченно взглянул на соседа и пошел к своей койке.
Разделся, повесил одежду на спинку стула, чуть-чуть приоткрыл окно и лег. Подложил руки под голову и уставился в потолок. Ему было неловко перед сотрудницами гостиницы. Он даже пожалел, что любитель пива и копченой рыбы перестал храпеть.
Но только он стал задремывать, как комната опять наполнилась скрежетом несмазанной бадьи. С перебоями подключилась старая пила. И вот уже ржавый якорь дредноута закачался, скребя об дно. У Автандила кожа покрылась пупырышками, его бил озноб. Какое-то время он терпел, но когда храп достиг апофеоза, стал поспешно одеваться.
Быстро прошел весь коридор. Дежурная, сдвинув два больших кресла, уютно устроилась в них и — мы не намерены терять объективность — в эту минуту была очень мила. При приближении Автандила она не встала, только приподняла голову.
— Ради бога, извините, может быть, вы еще раз заглянете… убедиться… — взмолился гость.
— Ну, что вы ко мне пристали! — возмутилась дежурная. — Я же уже проверяла. Не храпит он. Не храпит, и все.
— Тогда… как нарочно… Такое уж у меня везение… Не знаю, что с ним случилось… А сейчас мне кажется, что я на лесопилке.
— Ну почему вы не хотите понять, что менять номера не в моей власти. Идите к дежурному администратору и убеждайте ее.
Автандил спустился по лестнице и после получаса уговоров, просьб и обещаний вместе с дежурной администраторшей шел к семьсот шестьдесят третьему номеру.
Когда приблизились к двери, он вышел вперед, с осторожностью профессионала повернул ручку, не скрипнув, не издав ни звука, вошел, прижал палец к губам и пропустил женщину вперед. Оба мягко, как кошки, вошли в комнату, остановились и уставились на спящего. У Автандила от нервного напряжения началось сердцебиение и кровь прилила к вискам. Сосед в зеленых носках даже не похрапывал. Более того, глядя на его кроткий, тихий сон, нельзя было предположить, что он вообще может захрапеть.
Администраторша бросила на Автандила злобный и презрительный взгляд. Автандил не терял надежду и рукой дал знак: дескать, подождите немного. Ответственное лицо минут пять прождало в номере. Выбежавшему за ней следом Автандилу она бросила как из пулемета:
— Вы непорядочный человек! Теперь хоть узлом завяжитесь, я вас в другой номер не переведу. Вы избрали не лучший способ. Прямо скажем — самый грубый и примитивный. Этот прием нам давным-давно известен. Идите в номер и ложитесь спать. Но знайте, если вы еще раз нас побеспокоите, меня или дежурную по этажу, я вызову милицию — и мы составим акт. И напишем в вашу организацию, чтобы они не направляли в деловые командировки неврастеников и психопатов.
Администраторша не стала слушать лепета оправданий Автандила, гневно вскинула голову и решительным шагом направилась к лифту.
Автандил бегом вернулся в номер, в несколько прыжков добрался до своей койки, молниеносно разделся и сунул голову под подушку, надеясь воспользоваться паузой: вдруг успеет уснуть…
Не тут-то было! Не успел он согреть своим теплом постель, как совсем рядом, у него над ухом, задвигалась ржавая цепь гигантского якоря. Автандил сел, дотянулся до полотенца и обмотал им голову. Все было тщетно: в тишине, опустившейся на ночной город, храп звучал оглушительно. Звук наполнял все уголки комнаты и сквозь щели в окнах летел на улицу — возмутительный, страшный, громоподобный храп, от которого волосы становились дыбом.
Разумеется, он всю ночь не сомкнул глаз.
На рассвете оделся, взял чемодан, и в ту самую минуту, когда с чемоданом в руке направился к выходу, его сосед сел на кровати.
— Уходите? — спросил он и поскреб рукой в своих всклокоченных волосах.
— Да. Я приехал всего на один день.
Автандил соврал. Сегодня он собирался обойти все гостиницы города; если не удастся нигде устроиться, он пойдет на ночь на вокзал и будет спать там в зале ожидания, стоя как лошадь, но ни за что, никогда не вернется в этот номер.
— Я храпел? — виновато и смущенно улыбнулся сосед.
— Да чего уж тут скрывать — храпели, и очень зычно.
— Прямо не знаю, что делать. Из-за этого храпа даже жена от меня ушла.
— Всего хорошего.
Автандил закрыл дверь. Ему недосуг было слушать грустную историю о том, как из-за храпа распалась счастливая семья.
Стоило Автандилу выйти из номера, гражданин в зеленых носках бросился к телефону:
— Иннокентий, это ты?.. Поднимайся, я один… Да, прошло… сработало… хе-хе-хе. Рванул из номера, не оглядываясь… А вообще-то и мне нелегко пришлось. Каково всю ночь не спать и храпеть силком! — Он поскреб затылок и опять захихикал в трубку, затрясся: — А вообще-то, по правде, мне его даже жалко было: такой интеллигентик в галстуке, грустный, востроносый. Только я захрапел, он в двери и два раза подряд администраторшу притащил — на свидетельствование. — Он опять захихикал: — Теперь твой ход: может, урвешь у тещи еще пару рыбешек, а пиво за мной, здесь буфет в восемь открывается…
Не прошло и часа после этой беседы, как в семьсот шестьдесят третий номер постучали.
— Входи, входи, — не вставая, откликнулся мужчина в зеленых носках. — Заждался я, Иннокентий. Где тебя носит?
В дверях стоял угрюмого вида мужчина в светлой шляпе и в черном пальто, с желтым чемоданом в руке.
— Я не Иннокентий, — грустно сказал гость.
— Входите… — растерялся хозяин.
— Меня к вам переселили… Эту ночь я спал в семьсот одиннадцатом, но уж больно громко храплю, будь оно неладно, не дал спать соседу. Оказывается, и вы тоже здорово храпите. Верно? Вот нас и решили объединить, дескать, оба храпящие, друг другу не помешаем. Так решила администрация.
Не дождавшись ответа, он повесил пальто и шагнул к окну. Чемодан он держал так, словно рука у него одеревенела.
Хозяин номера разинул рот; глаза его выражали отчаяние. Зачем он разинул рот, что хотел сказать — не скажу, не знаю.
Перевод А. Эбаноидзе.
БЕЗОТКАЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Мне, конечно, доводилось слышать о несправедливо наказанных людях, но то, что случилось со мной, стоит описать, хотя, может, и не стоит: вряд ли читатель поверит. Сорок два года проработал я на курсах кройки и шитья преподавателем кроя и не то что выговора — замечания ни разу не получил. В управлении даже поговаривали о том, чтобы наградить меня грамотой и с почетом проводить на заслуженный отдых. Теперь какая там грамота — скоро весь город будет на меня пальцем показывать. А посплетничать жители Карателета любят, скажу я вам. Мне бы сразу рассказать всю правду — глядишь, и избежал бы позора, а теперь уж поздно — не поверят. А может, и тогда бы не поверили. Не было печали — так черти накачали, вот так и со мной. Я смолчал и тем самым такую свинью сам себе подложил, что мне уже, видно, никогда не оправиться. Только очень мне обидно, потому что я невиновен. Будь на мне хоть самая малюсенькая вина — тогда ладно, пусть.
Если ты не торопишься, дорогой читатель, то я начну сначала и коротко изложу, что со мной приключилось. Ежели ты спешишь, прочти пока другую новеллу, покороче. А «Безотказного человека» отложи для другого раза. А если времени у тебя не найдется и ты ее вообще не прочитаешь, тоже не велика беда.
Месяца два назад сижу я как-то у себя во дворе и прутиком отгоняю индюшат, чтобы не поклевали только-только пробившуюся травку.
У калитки Сашуры Аграмидзе стоит парень и давно уже безуспешно зовет хозяина.
— Кто там? — окликнул я его, не вставая с места. Тогда гость подходит к моей калитке:
— Здравствуйте, дядя Алекси. Не знаете, у Аграмидзе есть кто-нибудь дома?
Я узнал Чичи Гвилава. Старшего сына Мелентия. Они живут в пяти домах от меня. Чичи и в детстве был серьезным мальчиком и в дальнейшем не сплоховал. В прошлом году закончил юридический, и его распределили в наш город.
— Сашура только что ушел, и — когда будет — не могу сказать, — говорю я ему. — А Гагуца с Майей, в Тбилиси. У их дочки неприятности, ты, наверно, слышал. Так что Сашура сейчас один, и он, как я уже сказал, ушел и, наверно, трезвым не вернется. Так что, если дело у тебя срочное, приходи лучше завтра утром. Встает он поздно.
— Ну, раз так, то, если вы не будете против, придется мне вас побеспокоить. И очень прошу, дядя Лексо, не откажите, — расплылся в улыбке Чичи Гвилава.
Мне не очень понравилось, что гость Сашуры так быстро переметнулся ко мне, но что было делать? Запер индюшат и пригласил Гвилава в дом.
— Нет, нет, я ненадолго, — отвечает Мелентьевич. — Я ведь, дядя Лексо, как вы знаете, работаю в милиции. Пока ночным дежурным инспектором. Дипломированным положена должность следователя, не меньше, но вакансии пока нет, и я согласился временно поработать ночным инспектором. Одним словом, помогите мне. Отец меня к Сашуре послал, но его нет, да и будь он дома, ему, видно, сейчас не до меня. А кстати, что с Майей? Я ничего не слышал.
— Да тот парень жениться не хочет, — коротко отвечал я.
— Но ведь это дело уже уладилось, он, мне сказали, взял ее в жены.
— Расписываться не хочет, и они опять живут врозь, — говорю. Отвечал я неохотно, дал понять, что говорить на эту тему мне неприятно.
— Так вот, дядя Алекси, по какому необычному делу я вас беспокою… За весь этот месяц во время моих дежурств не было ни одного происшествия, и, если начальник увидит чистый журнал, может объявить мне выговор за ротозейство. Давайте я составлю небольшой акт и занесу в журнал: будто бы вы в час ночи в саду Акакия в нетрезвом состоянии устроили дебош и работники милиции препроводили вас домой.
— Что я устроил?
— Драку, — объясняет.
— Чтоб я пил и устраивал драки — да этому никто не поверит: весь город знает, что у меня язва двенадцатиперстной. Ты уж лучше дождись Сашуры, он тебе больше подойдет, — говорю.
— Ну, раз так, давайте придумаем что-нибудь другое, — не сдается Чичи, — скажем, вы среди ночи мочились в городском саду, и милиция призвала вас к порядку. — Я немного заколебался, а он поспешил добавить: — Не бойтесь, дядя Алекси, этот акт никто и читать не будет, и о нашем уговоре никто не узнает. Я просто зарегистрирую его, и нам это зачтется в работе. Начальник, может, и вовсе не заглянет в журнал. А по истечении года мы уничтожаем регистрационные журналы, сжигаем их, — явно приврал он.
Назвался груздем — полезай в кузов, как говорится. Прикинул я и так и этак — и пересилило желание оказать услугу Чичи. Что в этом плохого, в конце концов, надо же поддержать молодого человека. На то мы и люди, чтобы помогать друг другу! Ведь не призывает же он меня в свидетели по делу об убийстве. Возьму на себя, единственный раз в жизни, такую вину: мочился-де в неположенном месте. Во-первых, как уверяет Чичи, в журнал, скорее всего, никто не станет заглядывать, а ежели и заглянут, то кто будет заниматься таким пустяком, думаю.
Короче говоря, я согласился. Акт был составлен тут же, у меня во дворе. Первоначально названное «место преступления», по моей просьбе, было заменено сквером Цулукидзе, потому что в саду Акакия ночью все уголки освещены и я не посмел бы совершить там проступок, в котором обвинялся. Изменили и время, немного, правда, да это и не имело большого значения, но я предложил вместо часа ночи написать полвторого. Чичи беспрекословно принимал все мои редакторские замечания, и я даже преисполнился благодарности к молодому юристу. Я подписал акт, и мы с Чичи расстались, крепко расцеловавшись на прощанье. Было это одиннадцатого июня 1984 года — в жизни не забуду!
Не прошло и трех недель, как вызывает меня директор. Мы с ним дружим с детского садика, и знает он меня как облупленного. На столе перед ним лежат какие-то бумаги, а он сидит и посмеивается.
— С каких это пор, Лексо, ты заделался хулиганом? — спрашивает.
— Что такое, в чем дело? — говорю, а самому не по себе как-то.
— Из милиции поступило уведомление, требуют принять меры. Слушай, мил человек, чего это ты среди ночи побежал в сквер Цулукидзе? Другого места не нашел?
Перелистали мы с ним уведомление. Вижу, к написанному у меня во дворе акту прибавилась еще одна бумажка. Некий старшина Хруашвили (которого я никогда в глаза не видел и, наверно, не увижу) пишет:
«Несмотря на наше словесное предупреждение, гражданин упрямо продолжал начатое им неположенное действие. Закончив, сопротивления не оказал, а свой злостный проступок объяснил нетерпением. Так что производить предупредительный выстрел в воздух нам не пришлось. Гражданин Алекси Дарабадзе был строго предупрежден, и с него было взято слово, что подобное с ним больше не повторится».
Зачем мне было что-то скрывать от директора? Я взял и рассказал ему.
— Все это неправда, — говорю, — соседский парень Чичи Гвилава попросил, и я не смог отказать. А уведомление, видно, отправили механически, не согласовав с ним.
Директор утер выступившие от смеха слезы:
— Я знал, что ты, Алекси, не способен на такое. Молодец, что поддержал инспектора, но что нам делать, ведь отделение милиции требует, чтобы мы отреагировали.
— Напишите и вы механически: «Меры приняты, Алекси Дарабадзе предупрежден» — и, будь другом, пощади, никому не показывай эту бумажку.
Тут же и составили текст ответа: якобы меня публично осудили на общем профсоюзном собрании курсов кройки и шитья и передали на воспитание ячейке местного комитета. Отослали «ответ» в милицию, и думал я, что этим все и кончится.
Но куда там? Как говорится, человек предполагает, а бог располагает.
Двадцать девятое сентября. Сижу на районном собрании работников курсов кройки и шитья. Выступает председатель районного объединения. Докладчик — человек достойный, молодой, энергичный специалист — Гараханидзе. Окончил сельскохозяйственный, говорят, над диссертацией работает. Еще и года нет, как его перевели к нам с должности дежурного по вокзалу. Кто обычно слушает первую часть доклада? Не слушал и я. Докладчик как горохом сыпал достижениями, а предусмотренные регламентом три минуты оставил для недостатков. «К сожалению, — говорит, — находятся еще в наших рядах люди, которые, сознательно или неосознанно, бросают тень на наши славные достижения в доселе невиданном подъеме производственного развития. Алекси Дарабадзе — опытный, заслуженный работник, и кто мог ожидать от него такого легкомыслия. Нетактичный поступок Дарабадзе — как гнойная язва на нашем здоровом коллективе! Этот случай должен послужить горьким уроком не только самому Дарабадзе, но и всем нам».
Эх-ха-ха! Вот тебе и помощь, вот тебе и отзывчивость. Меня аж холодный пот прошиб. Дай, думаю, выступлю в прениях и расскажу все как было. А то эти люди, видно, и вправду считают меня виноватым. Но что ты будешь делать! Повестка дня оказалась такой перегруженной, что не только мне, но и половине заранее подготовленных выступающих не дали слова. Не нашлось для меня места и в «объявлениях».
Когда собрание закончилось, коллеги косились на меня, как на прокаженного. Многие явно испытывали ко мне отвращение, как к позорящему коллектив элементу, другие украдкой, издали, выражали сочувствие. Один осмелел, спросил: «Что ты там натворил, объясни, будь человеком». А когда я объяснил — глянул на меня недоверчиво и быстро отошел. Видно было, что он предпочел бы иметь дело с более серьезным преступником, чем с человеком, который мочится в неположенном месте.
Как прошли двадцать бесцветных дней после районного собрания — помню плохо. Дважды встречал на улице Чичи, но он меня явно избегал, — видно, стыдно парню, что так удружил мне. Я тоже не стал выяснять с ним отношения: ссорой и криками мое безнадежное положение все равно не исправишь. Да и в чем его упрекать, разве хотел он так ославить меня на весь город?
Должен вам напомнить, что за районным собранием работников курсов кройки и шитья обычно следует общегородское. На городское собрание меня никогда не приглашали (по субординации не полагалось), и, когда пришло приглашение, сердце у меня екнуло: наверное, генеральному директору городского объединения для доклада понадобился факт — вот они взяли и вставили меня в директорский доклад, иначе кто бы обо мне вспомнил!
Дай бог, чтобы все ваши добрые надежды сбывались так, как сбылось мое ужасное предчувствие. Читают доклад, а я вроде окаменел: хоть ножом режь — ни капли крови не вытечет. От упреков в адрес Рейгана докладчик сразу переходит ко мне:
— Но прискорбно то, что в период такой напряженной международной обстановки и у нас, в нашем коллективе, есть люди, порочащие наше доброе имя. Передовая общественность города с возмущением осудила факт, имевший место на курсах кройки и шитья. Необдуманный шаг Алекси Дарабадзе положил несмываемое пятно на наше славное ведомство. Это что же получается, товарищи? Выходит, преподаватель кроя днем проповедует своим ученикам добродетель и нравственность, а ночью — подумать только! — совершает такие предосудительные действия. Вот уж действительно — в тихом омуте черти водятся!
Ниже докладчик покритиковал и других, но, надо отдать ему должное, наиболее впечатляюще и красочно остановился на мне. Когда я выходил из зала, вдогонку, правда, не неслись оскорбительные выкрики вроде: «И не стыдно ему!», «А еще считает себя порядочным…» — и тому подобное, но по телу у меня пробегала дрожь, и спина горела, будто меня отхлестали кнутом.
Кое-как доплелся до автобусной остановки. Затылок горит, — видно, подскочило давление. На тротуаре снуют голуби, хлопают крыльями, и стоит одному из них стукнуть клювом по раскаленному асфальту, как все слетаются к нему и поднимают такой шум, будто обнаружили россыпи ячменя. В портфеле у меня, кажется, должен быть кусок хлеба для голубей, но сейчас мне не до этого.
Четвертый номер вообще не остановился, видно, был переполнен. За моей спиной двое мужчин, словно нарочно для меня, заводят разговор:
— Видел сегодняшнюю газету?
— Да.
— Читал «Кто нас позорит?»?
— Читал, но так и не понял, о каком проступке идет речь. Уж коли пишете, пишите пояснее, люди добрые. А то читаешь: «Алекси Дарабадзе в два часа ночи в общественном месте позволил себе неподобающие действия». Что это значит, что он там делал, объясните, ради бога?
— А ты сам не догадываешься? Тут женщина замешана. Не распишут же тебе все в подробностях. На то она и газета, чтобы кое о чем люди сами догадывались.
— Говорят, работает на курсах кройки и шитья, человек в возрасте, под шестьдесят.
— А женщина-то какова, бесстыдница? Тоже, видать, хорошая штучка.
Я хотел было обернуться и взглянуть на говоривших, но испугался — чего доброго, еще узнают.
Совсем разбитый, поднялся я в какой-то автобус и забился в угол.
Какая разница, куда он меня повезет, — лишь бы подальше отсюда.
Вообще-то, если поразмыслить, не лучше ли мне было остановиться на проступке, предложенном Чичи с самого начала? Устроить дебош в нетрезвом состоянии — совсем не так страшно. Во всяком случае, это лучше, чем совершенно трезвым мочиться посреди сквера. Тем более что докладчики стыдливо избегают называть содеянное своим именем и тем самым предоставляют любознательным слушателям широкий простор для сплетен.
Перевод Л. Кравченко.
КАПКАН
Точно не знаю, есть ли еще у какого-либо народа такой чудной обычай, который, по свидетельству летописца, укоренился в Имеретии в начале семнадцатого века и затем распространился по всей Грузии. Эта странная традиция называется «смотринами» невесты. Некоторые называют ее также «испытанием». Неженатый мужчина, чаще по доброй воле, а нередко и вопреки собственному желанию, отправляется в сопровождении нескольких доверенных лиц в дом, где есть девушка на выданье. Хозяева, естественно, стараются принять возможного зятя получше и приглашают гостей за стол. Конечно, «смотрины» можно устраивать и на нейтральной территории — в театре, например, или просто в сквере, но когда они происходят в доме невесты — это совсем другое дело. Во-первых, жених на деле может убедиться в хозяйственных способностях девушки, во-вторых, он имеет возможность присмотреться к дому, к семье будущего тестя и уяснить себе, в какой среде, в каких условиях и традициях воспитывалась будущая спутница его жизни. Печальную картину таких смотрин блестяще описал бессмертный Давид Клдиашвили в «Невзгодах Дариспана», и если я сегодня позволю себе коснуться этой темы, то лишь потому, что события, о которых я собираюсь рассказать, происходят в восьмидесятых годах двадцатого века, то есть почти столетие спустя после жития Дариспана, и, кроме того, конец моей истории существенно отличается от концовки «Невзгод Дариспана».
Итак, приступаю.
Тридцатидевятилетнего холостяка Рафиэла Зумбадзе везли на смотрины. Слово «везли» я употребил отнюдь не случайно. Рафиэла действительно везли, так как энергичному фармацевту жениться хотелось не больше, чем, скажем, мне тебя чем-нибудь обидеть, дорогой читатель. Но сколько он ни придумывал отговорок, сколько ни тянул время, увильнуть ему так и не удалось. Родственники и друзья Рафиэла (особенно старался его одноклассник, отец троих детей, Гизо Шавдиа) решили во что бы то ни стало его женить, и вот передовому аптечному работнику предстояло вскоре в седьмой раз за последние три месяца присутствовать на церемонии смотрин. Шесть предыдущих попыток женить Рафиэла, к полному удовольствию жениха, окончились неудачей. Один раз он не приглянулся невесте, другой раз наотрез отказала мать девушки, а в четырех случаях заупрямился сам Зумбадзе: «Не нравится, не по душе она мне — хоть убейте. Гизо-то что! Мне, а не ему придется прожить жизнь с нежеланной женой. Пожар, что ли, чего пристали с ножом к горлу?! Подождите, дайте осмотреться, может, найдется кто-нибудь получше». У Рафиэла сердце было тоже не каменное, ему порой заснуть не давали вопрошающие глаза несправедливо отвергнутой им девушки, но не хотелось ему жениться, и, как ни старались его близкие, дело до сих пор так и не выгорело. Сколько его ни уговаривали, у него в одно ухо влетало — в другое вылетало. Он и сам толком не знал, почему ему так не хотелось жениться. Казалось, что жизнь изменится, наступит конец счастливой привольной поре, ляжет на плечи тяжкое бремя обязанностей.
Семью сапрасийца Гагнидзе отыскал Гизо. Дочь землеустроителя Тариэла Гагнидзе Шорена закончила педагогический и работала учительницей в Багдадской начальной школе. Гизо уверял, что девушка из прекрасной семьи и безупречна в смысле внешности и порядочности (это последнее понятие имеет для имеретийца очень широкий смысл, и я, из соображений деликатности, не стану его уточнять). «Сегодня выяснится, способен ли ты вообще жениться и рожден ли ты мужчиной!» — заявил Гизо. Короче говоря, друзья, как могли, увещевали и стыдили Рафиэла. Побрили его, нарядили и теперь везут «жениха поневоле» в Сапрасию. «Господи, спаси и помилуй!» — думает про себя Рафиэл и всю дорогу молча смотрит из окна машины на дубы Сагории. И да простит его бог, но в эти минуты фармацевт просто ненавидит друга детства Гизо Шавдиа: «У самого на руках трое птенцов, самому некогда даже футбол посмотреть по телевизору, и вообще совсем забыл друзей — так теперь хочет и на меня надеть ярмо!» Ругает он и своего младшего (тоже семейного) брата Датуну, сердится даже на незамужнюю тетушку Веру — на всех, кто сидит сейчас на заднем сиденье «Жигулей» и возлагает такие надежды на визит в Сапрасию. «Ничего у вас не выйдет», — думал Рафиэл и в душе радуется, что хотя бы мысленно может выражать собственное мнение.
Едва Гизо затормозил, как выкрашенная в зеленый цвет калитка приоткрылась и появился мальчуган. Он энергично протащил по асфальту обе створки ворот, потом вытер руки о красную рубашку и уставился на спешившего к гостям от кухонной постройки Тариэла.
— Въезжай во двор, Гизо, дорогой! Во двор! Здравствуйте, дорогие гости! — в первую очередь хозяин за руку поздоровался с тетей Верой.
— Ничего, пускай здесь стоит, — Гизо вылез из машины и оставил дверцу открытой. — Батоно Тариэл, это мой друг Рафиэл Зумбадзе, это его брат Давид, а с тетей Верой вы, кажется, знакомы.
— Да, немного, издали, — уклончиво ответил Гагнидзе, хотя всех, кроме Гизо, видел впервые.
— Лучше все же загони машину во двор. Тут дети бегают, мало ли что. Как себя чувствуешь, Гизо-батоно? Все ли в порядке?
— Как можно себя чувствовать в такую жару, когда кругом один асфальт! — посетовал на городскую жизнь Гизо, оставляя все же машину на улице. — Мы тут были неподалеку и вот решили заехать. Нельзя, говорю, проехать мимо дома батоно Тариэла. Если вам доведется быть в Кутаиси, разве вы проедете мимо?
— О чем речь! Для чего же тогда мы живем на этом свете? Если б ты знал, как ты меня обрадовал, Гизо! — хозяин провел дорогих гостей во двор, подвел к большой лестнице с железными резными перилами. — Пожалуйте наверх, батоно, может, в нарды поиграете — развлечетесь?
— Спасибо, дорогой хозяин, мы лучше побудем на свежем воздухе, — Рафиэл знал, зачем его приглашали наверх, — там ему устроят встречу со стыдливо потупившей глаза невестой, — и хотел по возможности отдалить эти тягостные минуты.
— Поднимемся, батоно Тариэл, конечно, поднимемся. А пока погуляем немного в вашем прекрасном дворе, разомнем кости, ведь в городе мы только и делаем, что сидим.
— Тогда я вас на минутку оставлю, вы уж меня извините, — и Тариэл заспешил к кухне.
В Сапрасии тоже было довольно жарко. Августовская жара немного смягчалась дувшим с речки Ханисцкали ветерком, переворачивающим то лицом, то изнанкой листья растопырившей посреди двора ветки липы, отчего дерево, казалось, переливалось серебром.
Стебли растущих вдоль забора огурцов от жары почти высохли у корней, на них висели толстые, пожелтевшие плоды, и только у самой макушки все еще зеленели ушедшие, сморщенные листочки.
Не менее плачевный вид был и у кукурузы. Ее длинные, гибкие листья-руки, словно перебитые, свисали к земле, и единственным признаком жизни в ней были развевавшиеся на ветру, длинные, медово-желтые «волосы» на початках.
Рафиэл, заложив руки за спину, прошелся под навесом и украдкой глянул в сторону кухни.
Там хлопотали две чернявые женщины, у очага сидел Тариэл и поворачивал надетую на шампур курицу.
В подвешенном на железный крюк закопченном котелке пыхтело гоми[6].
— Заходите, пожалуйста. Только извините, у нас здесь не прибрано, — неверно истолковала взгляд гостя миловидная женщина в белой косынке, месившая тесто.
— Ах, — Тариэл выпустил из рук шампур и обернулся. — Я сейчас, сейчас иду.
— Ну что вы, что вы. Не беспокойтесь. Мне просто очень нравятся такие кухни. Совсем исчезли у нас кухонные постройки. В городе их теперь вообще не увидишь, да и в деревне далеко не у каждого хозяина есть.
— Да, это действительно очень удобно. Во-первых, сохраняется чистота в доме, и потом, у нас стоит на первом этаже газовая плита, но мы с женой предпочитаем готовить вот так, по-крестьянски. На огне как-то сподручнее.
— И ведь у пищи, приготовленной на огне, совсем другой вкус, — сказал жених после небольшой паузы и отошел от двери, но Тариэл уже успел вымыть руки и тоже вышел.
Когда поднимались по лестнице, хозяин задержал Гизо:
— Что скажешь, Гизо-батоно, где лучше накрыть стол: наверху или…
— Зачем беспокоитесь, дорогой Тариэл, мы ведь ненадолго. Посидим лучше вон там, под липой. В доме все же жарко.
На веранде их встретила полная молодая женщина в серебристом платье, белолицая, с яркими губами. У Шорены необычно лукаво для невесты поблескивали глаза, и она с трудом удерживала от улыбки свои красивые губы. Видно было, что вся эта процедура смотрин и для нее тоже не в новинку. Коротко подстриженные прямые черные волосы, черные изогнутые брови и тонкий нос с красиво очерченными ноздрями; только чуть плотноватые вверху руки выдавали, что Шорене далеко за двадцать.
Познакомились, поговорили о том о сем, о погоде, а затем, как и было предусмотрено по плану, все постепенно выскользнули из комнаты, оставив жениха с невестой одних для «решающей беседы».
«Эх, незавидная все же женская доля. Мне ли отказываться от этой прекрасной, как джейран, девушки. Нет, пора мне кончать с этим безобразием. Ни за что не поеду больше ни с кем на смотрины. А то проломят мне когда-нибудь череп. Жениться я не собираюсь, а стольких людей беспокою. Как бы там ни было, а являешься к людям в дом… И потом, отец отвергнутой девушки хоть и не показывает этого, а в душе становится твоим врагом. Объявлю всем, что вообще не хочу жениться, и в конце концов от меня отвяжутся. Но этого сумасшедшего Гизо разве можно в чем-нибудь убедить? Ну что мне теперь сказать этой достойной всяческого уважения девушке? О чем с ней говорить? Прямо как актер на сцене…» — думал Зумбадзе.
Шорена сложила руки на груди и не сводила глаз с репродукции рембрандтовской «Валаамовой ослицы» в ожидании начала беседы.
— В каких классах преподаете? — спросил Рафиэл, просто лишь бы что-то спросить.
Шорена прекрасно поняла, что этот вопрос не имеет никакого отношения к тому делу, ради которого их оставили вдвоем.
— В начальных.
— Дети вас, наверно, очень любят.
— Не без этого. Детям понравиться нетрудно.
Рафиэл чуть не сказал: дескать, взрослым понравиться намного труднее, но сдержался, поняв, что это может прозвучать двусмысленно.
— Школа ваша далеко? — «И чего я привязался к этой школе», — подумал Рафиэл, но было уже поздно.
— Внизу, в центре, там, где вы повернули, по правую руку.
— Пешком ходите?
— Если никто из знакомых не подвезет, то пешком.
— И часто вас подвозят?
— Довольно часто. В нашей деревне только у пятерых моих двоюродных братьев свои «Жигули».
— А что, в этих краях живут одни Гагнидзе?
— Нет, нас, Гагнидзе, здесь немного. Мы переселились сюда из Рачи. А коренные жители — это Котрикадзе, Церцвадзе и Самхарадзе.
— Слава богу, — облегченно вздохнул фармацевт, встал, подошел к окну и выглянул во двор.
Под липой накрывали на стол.
— Побеспокоили мы вас сегодня.
— Что вы, гости — от бога, — тут же ответила Шорена.
— Это Гизо настоял, а я не такой человек. Не люблю такие вещи.
— Почему? Иногда это необходимо.
— Что необходимо? — Рафиэл продолжал смотреть в окно.
— Ходить в гости, принимать гостей.
Зумбадзе обернулся и произнес очень четко:
— Шорена, нам нужно поговорить откровенно.
Слова Рафиэла прозвучали решительно и почти угрожающе.
Шорена вся обратилась в слух.
— Ну, скажи, к чему все это? Видишь, что творится в мире? Каждый должен отвечать только за себя. Не время сейчас обзаводиться детьми. Какому-нибудь психу стукнет что-то в голову, нажмет кнопку — и поминай как звали, вместе со всеми твоими птенцами и с благоверной.
— Что тебя так напугало, мил человек? — чужим голосом произнесла Шорена.
— У Гизо свои соображения в голове. А я иначе смотрю на жизнь. Жениться и обзаводиться семьей мне надо было лет в двадцать пять. А сейчас разве под силу мне такая ноша? Я и так еле на ногах держусь. Скоро за сорок перевалит, видишь, голова — как у общипанного гуся.
Шорена задумалась.
— Ты, я вижу, девушка разумная и должна меня понять правильно. Не создан я для семейной жизни. Детишки, болезни, лекарства, люльки, родственники — все это не для меня. Не смогу я бегать на базар и стоять в очереди за молоком. Не смогу, понимаешь? Не создан я для всего этого.
— Ну и кто же тебя заставляет? — глянула в сторону девушка.
— Кто заставляет? Да меня заели дома. Тетя Вера — так это просто наказание господне. Сама замуж не вышла, живет себе одна, в свое удовольствие. А мой балбес-брат как пристанет: мне, говорит, стыдно в городе показаться, стыдно за тебя, что ты бобылем стареешь. Ну что в этом постыдного, скажи на милость? Не всех же господь создает для семьи.
— Правильно.
Рафиэл, окрыленный надеждой, придвинул стул поближе к Шорене и заговорил еще энергичнее:
— Ты — прелестная девушка, и не мне от тебя отказываться, но у нас с тобой ничего не выйдет. Будь на твоем месте хоть сама Мариам Распрекрасная — и она мне не нужна. Я вообще не собираюсь жениться. Думаешь, я по своей воле приехал? Этот чокнутый Гизошка силой втолкнул меня в машину. И если я сейчас откажусь — я его знаю, он мне шею свернет. Ты должна меня спасти.
— Что я должна сделать? Упаси тебя бог от того, к чему душа не лежит, — задумчиво произнесла Шорена.
— Благослови тебя господь! Вот это я понимаю — умная женщина! Ты должна сама от меня отказаться. Так будет лучше. Не нравится, скажи — и все тут, лучше за заборную жердь замуж пойду, чем за него. Держись со мной как можно холоднее. Даже если бы я и собирался жениться — ну какая я тебе пара? Но я не гожусь для семейной жизни. Один раз довелось покачать люльку племянника — так голова закружилась. Бывают ведь такие неполноценные люди.
— Пожалуйста, пожалуйста, что может быть проще, — у Шорены, как при первой их встрече, запрыгали в глазах чертики, и Рафиэл не понял, была ли эта улыбка проявлением жалости и сочувствия к нему или женщина просто смеялась над ним.
— Я скажу, что ты мне понравилась, а ты дай мне решительный отказ: не хочу, дескать, нет и нет. Вообще они, видно, смерти моей хотят. До женитьбы ли мне! По ночам не сплю. Я больной человек. Мне к врачам надо идти: глухая боль в левой почке донимает, да и желчный пузырь давно пора удалить…
— Ты уж не хорони себя заживо.
— Правду тебе говорю. Зачем мне врать? — прижал обе руки к сердцу Рафиэл. — Не губи меня, Шорена. Категорически откажи мне. Ты ведь умная девушка.
Шорена улыбнулась, отвела взгляд от рембрандтовского рисунка и еще раз оглядела Рафиэла с ног до головы.
— Что ты со мной торгуешься, мил человек. Даже если бы ты об этом не просил, я и так собиралась отказать.
Фармацевт вскочил на ноги и прильнул губами к руке девушки:
— Благослови тебя господь!
* * *
В два прыжка Гизо очутился возле лестницы. Пропустил вперед Шорену и подхватил Рафиэла под руку:
— Ну как?
— Дай отдышаться. Чего налетел, как коршун… — отстранился Зумбадзе.
— Только не говори, что не понравилась, а то я сейчас всю одежду на себе изорву, — сквозь зубы, убежденно процедил Гизо.
Жених какое-то время испуганно взирал на друга, потом, убедившись, что тот не шутит, спокойно ответил:
— Как может не понравиться такая девушка, но…
— Что за «но»?!
— А у девушки ты спрашивать не собираешься, чокнутый? Ты уверен, что она за мной вприпрыжку побежит?
— А это мы посмотрим, — Шавдиа почти слетел с лестницы и с сияющим лицом помчался к липе.
* * *
…Тамада, Тариэл Гагнидзе, собирался поднять тост за предков, когда Гизо попросил слова.
— Простите меня, дорогие мои. Но секреты и недомолвки нам не к лицу. Все мы здесь, за столом, люди свои. Все прекрасно знают, по какому делу мы сегодня сюда пожаловали. И пусть все, так или иначе, решится сегодня же. Отсрочка в таких делах — находка для черта. Вот здесь сидит мой дорогой Рафиэл, а вот и драгоценная Шорена. Может, я немного спешу, но я человек прямой. И пусть застолье это пойдет не впрок тому, у кого на душе недобрые чувства. К тебе обращаюсь я, Рафиэл, к вполне трезвому человеку. Нравится тебе эта девушка?
Рафиэл огляделся по сторонам, опустил голову и произнес:
— Да.
— Возьмешь ее в жены?
— Возьму, батоно, но пойдет ли она за меня?
У тети Веры глаза наполнились слезами.
— Теперь к тебе обращаюсь, сестричка. Вот здесь сидят твои родители, а вот и мы все. Подумай хорошенько и скажи нам прямо: нравится тебе этот человек? Никто тебя не неволит. Но и откладывать это дело тоже не нужно. Скажи, нравится? Пойдешь за него замуж?
За столом установилась мертвая тишина.
Шорена оторвала листочек от петрушки, повертела его в руке, потом взглянула на Гизо, улыбнулась, вздохнула и, собравшись с духом, храбро сказала:
— Да.
Ответ женщины прозвучал для Рафиэла как гром среди ясного неба. Лоб у него покрылся потом, сердце заколотилось, в ушах зашумело. Он понял, что его провели.
Его поздравляли, обнимали, Гизо Шавдиа провозглашал тост за жениха и невесту. Фармацевт был уже не в силах сдержать обрушившийся на него водопад веселья. Растерянный, он встал, подошел к Шорене, положил руку ей на плечо и прошептал в самое ухо:
— Так вот какая ты «умная»? Значит, на вас, женщин, ни в чем нельзя положиться?
Шорена похлопала его по руке и одарила улыбкой самой счастливой на свете женщины.
…Свадьбу назначили на субботний день, 8 сентября 1984 года.
Перевод Л. Кравченко.
МАМА!
Все в этом мире подчиняется неумолимому закону непрерывного изменения, за исключением приемных. У приемных своя, особая жизнь — чуть заторможенная, безмятежная и спокойная, как в пещере. Это говорю вам я, Бондо Карселадзе, который, можно сказать, всю свою жизнь провел в приемных, так что можете мне поверить. Очень уж нервным стал народ в последнее время. Нередко приходится наблюдать в приемных такую картину: сидит посетитель, серьезный товарищ. Сначала сидит довольно спокойно, свесив голову на грудь, как наглотавшийся винных выжимок индюк, потом начинает барабанить пальцами по папке для бумаг, которую держит на коленях, а еще через некоторое время срывается с места, подлетает к секретарше и, точно его пчела за язык ужалила, невразумительно выпаливает: «Они, видно, сегодня оттуда не выйдут, я пошел!» И не успеет секретарша рот открыть, как его словно ветром сдувает. Жаль мне таких людей. Большинство из них либо кончают жизнь инфарктом, либо просиживают остатки дней у своих калиток с трясущимися руками и ногами, и если какому-нибудь прохожему вздумается спросить у них время, то пока они дрожащей рукой извлекут из кармана часы, спрашивавший окажется от них за тридевять земель. Вы, наверно, не поверите, но я лично люблю приемные. И не только в силу привычки, а вообще. Да-да, очень люблю приемные с их тишиной и замедленным ходом времени. Вырвешься из жизненного круговорота, ввалившись в приемную, обалдевший, с бешено колотящимся сердцем и сумасшедшим пульсом — и здесь наконец обретаешь покой. «Занят, садитесь, пожалуйста, подождите», — скажет тебе миловидная секретарша, указывая на стул. Ты садишься и постепенно успокаиваешься. Медленно погружаешься в сонную атмосферу приемной. Тишина. Слышится лишь размеренный стук настенных часов. Вдоль стен разместились на стульях занятые своими мыслями граждане. За столом сидит секретарша и вяжет. Интересно, когда же наконец заинтересуются социологи этим совершенно новым видом человеческой породы, появившимся в нашем веке: женщиной-секретарем. Во всем мире секретарши удивительно похожи друг на друга. Привлекательной внешностью, невозмутимостью и одинаковым безразличием к чужим бедам и заботам. Может, это и есть тип человека будущего? Ведь только он, с его стальными нервами и учтивостью робота, сможет выдержать все возрастающее напряжение городской жизни. Так вот, как я уже докладывал, я лично люблю бывать в приемных. Атмосфера в них почти всюду одинаковая: секретарша вяжет, посетители, за редким исключением, дремлют, дверь в кабинет начальника закрыта — никто туда не входит, никто не выходит. О моей слабости к приемным знают и на работе, и дома, поэтому все «кабинетные» поручения всегда достаются мне. В городе нас, таких людей, не так уж много, поэтому из десятка сидящих в приемной посетителей, как правило, по меньшей мере человек семь оказываются твоими старыми знакомыми. Да-да, у кабинетов начальников всех рангов сидят в терпеливом ожидании почти одни и те же люди. Если об этом знаю я, то уж должностные лица тем более знают. Это дало им возможность выработать свой стиль работы с посетителями: допустив наконец к себе просителя, они ему все обещают и ничего не выполняют.
В тот день я сидел в приемной начальника одиннадцатого управления на улице Конференций, где я давно не бывал. За это время здесь все изменилось: и мебель в приемной другая, и секретарша сидит новая. Единственная во всем городе незнакомая мне секретарша. Встретила она меня, конечно, холодно. «Вы приглашены?» — тут же задала мне вопрос, каким обычно встречают незнакомых посетителей. «Да. Меня ждут», — невозмутимо отвечал я и без приглашения опустился на стул. Стоит в подобном случае чуть-чуть растеряться и сказать: «Нет» или на вопрос: «Вы по какому делу?» — ответить: «По личному» — все пропало. Начальника вам не видать. Как вы, наверно, помните, во времена Остапа Бендера «по личному вопросу» еще можно было проникнуть к председателю. В наше же время эта формула в приемных уже не действует. По словам самих начальников, они по «личным вопросам» уже давно никого не принимают. И если провести в приемных социологическое исследование, то тоже выяснится, что простые граждане по личным вопросам на приемы к начальникам теперь не ходят. Если хотите, я охотно поделюсь с вами опытом, полученным мною в результате многолетнего общения с секретаршами, и подарю вам эту надежную, магическую фразу, позволяющую проникнуть к любому начальнику. Вот она: «Я вызван, меня ждут!!» Произнести ее нужно очень твердо и при этом уверенно оглядеться по сторонам. И не надо пугаться ответа: «Подождите. Все эти люди тоже вызваны». Усаживайтесь на свободный стул и, чтобы придать себе и делу, по которому вы явились, больше важности, принимайтесь внимательно изучать украшающий приемную плакат, призывающий к досрочному завершению текущей пятилетки. Начальники редко помнят, кого они вызывали, поэтому так называемые «приглашенные» беспрепятственно проникают в любые кабинеты. Во всяком случае, до создания данной новеллы этот способ действовал безошибочно.
К начальнику одиннадцатого управления у меня помимо служебного было и личное дело. Служебное дело было обычным канцелярским вопросом, который вряд ли вас заинтересует, дорогой читатель. Что же касается личного дела, то в подобные дела, ввиду их деликатности, посвящаются лишь самые близкие друзья, поэтому, с вашего разрешения, о нем я тоже умолчу.
Зазвонил телефон.
— Венеру? Подождите, узнаю, на месте ли она, — пропела в телефонную трубку секретарша, но ее, видимо, не расслышали, и она повысила голос: — Узнаю, говорю, пришла ли она.
Встала, сняла длинный белый шарф, обмотанный вокруг талии, снова еще плотнее стянула им свой стройный стан и, красиво покачивая бедрами или покачивая красивыми бедрами (в данном случае это одно и то же), вышла из приемной. Вскоре она вернулась в сопровождении высокой горбоносой женщины с распущенными по плечам прямыми черными волосами. Если бы не чрезмерно длинная жирафья шея, из-за которой она и казалась такой высокой, Венера была бы вполне привлекательной женщиной. В таких случаях женщины обычно носят свитера с высокими воротами, а у Венеры шея была почему-то обнажена, а высоко посаженная, маленькая головка кокетливо, но не особенно изящно вертелась во все стороны. Она подошла к столу, взяла трубку, усталым голосом произнесла «алло» и тут же как ужаленная испуганно отпрянула и протянула трубку секретарше:
— Леди, дорогая, ради бога скажи, что меня нет, умоляю!
Леди взяла трубку и уверенно проговорила:
— Алло, вы меня слышите, калбатоно?[7] Венеры нет, еще не пришла. Когда придет? — она вопросительно взглянула на Венеру.
— Скажи, что не знаешь, что меня сегодня не будет, — замахала та руками.
— Не знаю, калбатоно, может, ее сегодня вообще не будет.
После этого трубка была возвращена на место, а обе женщины одновременно опустились на стулья. Венера втянула голову в плечи, насколько это позволяла ее длинная шея, провела двумя пальцами по уголкам губ, огляделась по сторонам и снова повернулась к Леди.
— Ну, все, теперь я пропала. Она меня и тут разыскала, — громко сказала она, обращаясь к Леди, но с явным расчетом на то, чтобы слышали все присутствующие.
— Кто это? — Леди сложила руки на груди и поежилась.
Венера еще раз обвела взглядом приемную.
Не помню, говорил ли я, что нас, посетителей, в приемной было семеро. Будь нас вдвое больше, мы бы все равно поместились, так как вдоль стен приемной стояло ровно пятнадцать стульев. Мы, все семеро, словно по команде, отвернулись, делая вид, что нас вовсе не интересует, от кого и почему так упорно скрывается Венера.
— Ты ее не знаешь, Леди. Ох! Уж раз она меня и здесь нашла, нет теперь на свете человека несчастнее меня! Господи, откуда она узнала телефон? Кто же это меня выдал? Прямо без ножа зарезали!
— Да скажи же наконец, кто это звонил? — улыбаясь, снова спросила секретарша. — А что это у тебя за бусы?
И хотя меня это совсем не касалось, я тоже невольно бросил взгляд на затерянные где-то в самом низу высоченной шеи зеленые бусы.
— Господи, до бус ли мне теперь! Как она меня нашла? Кто мог дать ей этот телефон? Я ведь как перешла сюда, думала — все, избавилась, а теперь что? Случилось именно то, чего я больше всего боялась.
— Чего она от тебя хочет? Что ей нужно? — Леди еще плотнее сомкнула сложенные на груди руки.
— Когда-то мы вместе работали. Она была помощником делопроизводителя или что-то в этом роде. Точно не помню, давно это было. Она неплохо вышивала. Наволочки, полотенца — тогда ведь вышивка была в моде. Пару раз я даже домой к ней заходила, чтоб у меня ноги отсохли. Несколько раз посылала клиентов. В то время вышивальщицы были нарасхват. Потом она ушла на пенсию, и мы о ней, конечно, забыли. Жизнь сейчас такая, сама знаешь. Люди каждый день видятся — и то друг о друге не помнят. А кто мог помнить о пенсионерке тете Марусе! И вот месяца два назад звонит она мне. Вспомнила я ее, конечно. Ты ведь знаешь мой характер. Ласково, душевно поговорила, выслушала. В прошлом году она, бедняжка, оказывается, похоронила мужа. Осталась одна. Скучно, говорит, одной жить, тоскливо — жалуется мне. Ну скажи, чем я могу ей помочь? Есть ли у меня время развлекать тетю Марусю? А она с тех пор по пять раз на день звонит. И все говорит, говорит. Все мозги проела. Не могу же я бросить трубку — не так воспитана. Что делать, куда деваться — ума не приложу.
— А детей у нее что, нет?
— Конечно, есть. Дочь, помню, и в то время уже была замужем. Сын, правда, женился поздно. Работает, кажется, начальником почтового отделения, где-то в Дидубе. Говорили, будто он закончил Московский институт связи. Сейчас ему уже, наверно, за пятьдесят. Он иногда заходил к матери на работу. Волос на голове у него и тогда уже почти не было. На детей она не жалуется. У них, говорит, своих забот хватает, некогда им со мной, старухой, возиться.
— Чего ж она от тебя хочет?
— Да разве поймешь, чего она хочет? Сначала сказала мне, что у нее теперь много свободного времени, и просила найти ей клиентов — хочу, мол, немного поработать, пока еще в состоянии. Короче говоря, старческие заскоки у нее, бедняжки. Кому сегодня нужно ее вышивание? Мода на вышитые наволочки давно прошла. Ну, я, конечно, пообещала узнать, спросить — что мне еще оставалось.
— Теперь мне все понятно. Ты сама добровольно сунула голову в капкан.
— Да нет! Думаешь, она поэтому звонит? Она уже и забыла об этом. Она вообще не помнит, что рассказывала вчера, и каждый день начинает все сначала. Представляешь, какие нервы нужно иметь, чтобы каждый день выслушивать одно и то же?! Муж, говорит, у меня был прекрасный, не то что некоторые. Без меня из дому — ни ногой. За всю жизнь ни разу в гости один не пошел. Я и детей, говорит, так же воспитала. Мой сын — порядочный человек, прекрасный семьянин. Нелегко ему, бедняжке, приходится. Можно ли в наше время отцу семейства прожить на зарплату начальника почтового отделения? И я, старуха, ничем не могу им помочь. Потом начнет рассказывать о своих болезнях. Наверно, нет на свете такой болезни, которой бы она не страдала. Представь, каково все это выслушивать. Вчера звонит — мизинец на правой ноге, говорит, отнялся, совсем не чувствую. Представляешь?! На ночь я телефон отключаю, но стоит только включить утром, перед работой — тут же раздается звонок, и я уже заранее знаю, что это тетя Маруся.
— А муж у нее отчего умер?
— Да отчего он мог умереть — от старости, конечно. Правда, она утверждает, что его погубили врачи. Не разобрались, что у человека инфаркт, и стали делать промывание желудка, — тут Венера немного понизила голос. — А может, и правда врачи виноваты — кто знает.
Зазвонил телефон.
Леди дотянулась до трубки, сняла ее, но, услышав отбой, тут же снова положила.
— Жалко ее все-таки. Ведь, если вдуматься, никто из нас не знает, что нас самих ждет в жизни.
Не знаю, как для Венеры, а для меня эти слова в устах Леди прозвучали очень неожиданно.
— Конечно, жалко! — Венера потеребила левое ухо и задумчиво провела пальцами вниз по шее, оставляя на ней длинные красные полосы. — Но что я могу сделать? Чем я могу ей помочь? Каждый раз со страхом подхожу к телефону. Ты только представь себе, какое нужно иметь терпение, чтобы каждый день часами выслушивать ее склеротические бредни. Все время одно и то же, одно и то же. Иногда я кладу трубку на стол и занимаюсь своими делами. Время от времени поднимаю трубку и подаю голос: «Да… Гм… Конечно…» — а ей от меня, кроме этих междометий, больше ничего и не нужно. Она может два часа подряд трещать без передышки, так что слова не вставить. Господи, и откуда столько энергии! Ее бы к электростанции подключить да перерабатывать эту энергию в электрическую!
— Я бы на твоем месте, — Леди выдвинула ящик, достала голубую тряпочку, аккуратно протерла стоявшую перед ней на столе печатную машинку, облокотилась на нее обеими руками, уперлась в руки подбородком и снизу вверх взглянула на Венеру, — я бы так прямо и сказала ей: «Очень вас прошу, не звоните мне больше».
— Да я и сама уже сколько раз принимала такое решение! Другого выхода нет, я это прекрасно понимаю! Но каждый раз в горле у меня пересыхает и язык не поворачивается ей это сказать. Снимаешь трубку и чувствуешь, что там, на другом конце провода, человек ждет от тебя участия, ты нужен ему. Помочь-то я ничем не могу, но она хоть душу со мной отводит. Как услышу ее дрожащий виноватый голос, словно она чувствует, что надоела и боится чего-то. Ну как я могу ей сказать: «Не звоните мне больше»? Кому же ей еще звонить?
— Ты думаешь, она одной тебе звонит? Она, наверно, многим голову морочит.
— Не знаю… Что делать? До каких пор мне от нее прятаться? Теперь еще и рабочий телефон узнала. Пропала я…
Телефон, будто только и ждал этих слов, снова затрещал.
— Калбатоно, ее не будет сегодня, не будет. Уехала по заданию. Завтра позвоните, завтра, наверно, будет, — прокричала в трубку Леди и, повернувшись к Венере, блеснула в улыбке красивыми зубами: — Это опять она, ну, эта твоя… Как ее зовут?
— Тетя Маруся.
— Да, тетя Маруся. Неужели у нее телефон никогда не портится? У нас дома, например, без конца отключается.
— Да что ты! Случись такое — она же всех на ноги поднимет. Телефон для нее — единственная связь с миром. Она без телефона, наверно, и дня не проживет: у нее просто сердце разорвется.
* * *
Не помню, как я очутился на улице, как разыскал телефонную будку, у кого взял двухкопеечную монету, как набрал номер. Ждал я долго, мучительно долго, но трубку никто не брал. Я нажал на рычаг и с пересохшим от волнения горлом еще раз набрал номер:
— Мам! Где ты была, мама?!
— Это ты, сынок? Куда ты пропал? У тебя все хорошо?
— Почему ты не подходила к телефону, мама?! — чуть не плача, закричал я, чувствуя, как кровь горячей волной приливает к лицу.
— Я отцовский сундук разбирала в дальней комнате, сынок. Проклятая моль все поела. Я ведь, сынок, стала плохо слышать. А ты что, давно звонишь? Ах ты, господи, да как же это я, старая…
— Я так испугался, мама, — говорю я, с трудом сдерживая слезы, обжигающие глаза. — Как ты себя чувствуешь, мама?
— Ничего, сынок, спасибо.
— Мама!
— Да?
— Я сейчас к тебе приеду, вот прямо сейчас, через пять минут буду у тебя!
И вот я стою на улице и как полоумный машу рукой всем проезжающим машинам. А такси, эти проклятые такси, как всегда, когда очень спешишь, все словно сквозь землю провалились.
Перевод Л. Кравченко.
ГРУЗ
Посвящаю Ревазу Табукашвили
— Это еще что такое?! — в ужасе отпрянул тощий, затянутый в мундир австрийский таможенник, когда четверо здоровенных негров, пыхтя, поставили на весы огромный медный гроб.
— Гроб, — с улыбкой отвечал Рамаз Такашвили и для пущей убедительности легонько постучал по гробу пальцами.
Таможенный чиновник укрепил на носу пенсне и обошел вокруг необычного груза. Долго, бормоча себе под нос, читал он отчеканенную на меди с правой стороны латинскую надпись: «Мамука Уплисашвили, 1545—1587». Затем, не оглядываясь, куда-то убежал, оставив паспорт в руках любезного путешественника.
Он смешно переставлял ноги и издали был похож на пингвина.
Вскоре лакей распахнул резную дверь таможенного департамента, и человек шесть в черных сюртуках вышли навстречу Рамазу.
Когда они приблизились, один из них отделился от остальных, щелкнул каблуками и, приставив два пальца к виску, приветствовал гостя:
— Честь имею представиться, начальник таможни Ганс Канцверберг.
Остальные за его спиной молча поклонились.
— Примите наше искреннее соболезнование, милостивый государь, — начальник таможни крепко пожал Рамазу руку.
Рамаз поблагодарил и, не заботясь о том, что с точки зрения принятого здесь церемониала его поведение может показаться слишком дерзким, обошел свиту начальника, пожав каждому руку со словами:
— Спасибо, сударь, благодарю, дорогой.
— Позвольте узнать, вы изволите ехать на Кавказ? — у начальника таможни был мягкий, гортанный голос.
— Совершенно верно.
— Мое любопытство вызвано лишь одной причиной: вы пробудете в дороге по меньшей мере неделю, и покойник… короче говоря, он забальзамирован или нет?
— Не могу вам сказать, я не открывал гроб, — Рамаз взглянул в глаза таможеннику.
— ?!
— Покойник скончался более трехсот лет тому назад.
— Понятно, — ни один мускул не дрогнул на лице таможенника, хотя он и сгорал от желания понять, какое отношение имеет трехсотлетний труп к этому мужчине с живыми, бойкими глазами и для чего ему понадобилось подвергать мертвеца беспокойству, волоча в такой дальний путь.
— Если мой груз вызывает у вас какие-нибудь сомнения, можете вскрыть саркофаг, — нарушил молчание Рамаз Такашвили и тут же пожалел об этом: легкое подрагивание в голосе выдало волнение Ганса Канцверберга.
— Вы изволите шутить, господин путешественник. Действительно, Австро-Венгрия считается государством со строгим пограничным уставом, но мы еще не дошли до того, чтобы обыскивать покойников.
Начальник таможни натянул белые перчатки и указательным пальцем поманил четырех богатырей-негров, облокотившихся о перила.
— Прошу, — Канцверберг пропустил Рамаза вперед, и процессия двинулась к поезду.
Рамаз Такашвили, скрестив руки на груди, шел за гробом и слышал за спиной тихую, размеренную поступь таможенников.
Гроб водрузили в почтовый вагон, еще раз пожали руку гражданину Российской империи и в ожидании, пока поезд тронется, встали внизу, под окнами вагона.
Это было уже чересчур. Рамаз хотел сказать, что не нужно, пусть уходят, не достоин он таких почестей, но побоялся еще раз обидеть австрийцев, строго соблюдавших дорожный этикет. Когда поезд тронулся, Рамаз помахал рукой и в знак благодарности послал начальнику таможни пару воздушных поцелуев, на что тот ответил недоумевающим взглядом.
Спал Рамаз плохо.
Скрип вагона и мысль о том, что скоро он будет дома (как посмотрят на его поступок там: правильно поймут или нет), не давали ему спать.
Стоило улечься на спину и сложить на груди руки, как ему казалось, что точно так же лежит сейчас Мамука Уплисашвили в своем герметичном гробу, и Рамаз переворачивался на живот, чтобы избавиться от неприятных ассоциаций.
Когда поезд гудком возвестил о пересечении границы Российской империи, только-только рассвело.
«Согласно правилам прохождения таможенного досмотра, утвержденных его императорским величеством, пассажирам воспрещается без разрешения выходить из вагонов!» — с трудом расслышал Рамаз сквозь скрежет тормозов.
Целый час тянулось тягостное ожидание, наконец в купе заглянул поручик с закрученными усами:
— Господин Такашвили?
— Да, — Рамаз потер руками щеки и встал.
— Это весь ваш багаж? — кивнул поручик на желтый кожаный чемодан.
— Нет, у меня еще гроб, — у Рамаза покраснели уши.
— Знаем, знаем… Будьте любезны пройти со мной, — поручик подхватил чемодан и исчез.
На перроне не было ни души.
Войдя в комнату с высоким потолком, где помещалась таможня, Рамаз первым делом увидел гроб и свой чемодан, посмотрел на сосредоточенного знакомого поручика и только успел присесть на стул, как послышались торопливые шаги, и ему пришлось встать.
В кабинет с шумом ворвался чиновник без шеи, с крысиным лицом и сцепленными за спиной руками. Он обежал вокруг гроба и остановился перед Рамазом, расставив ноги, словно готовясь к прыжку:
— Ваше звание?
Голос у таможенника был холодный, квакающий.
— Дворянин.
— Род занятий?
— Я коммерсант. Ездил в Европу закупать литературу по фотоделу и фотоаппараты.
— Национальность? — представитель власти с лихорадочной быстротой выпаливал слова; можно было подумать, что ответы путешественника его не интересуют.
— Грузин, — ответил Рамаз и положил на гроб паспорт с двуглавым орлом. — Полноправный гражданин империи.
— Оставьте нас! — обратился чиновник без шеи к поручику, и, когда последний, стуча сапогами, удалился, таможенник с дьявольским блеском в глазах приблизился к коммерсанту. — Хорошо еще, что вы попали в мое дежурство, иначе эта история могла бы плохо кончиться. — Он прихлопнул паспорт ладонью. — Неужели вы не понимаете, что выбрали не самый удачный способ для провоза контрабанды?
— С вашего позволения, ни ваш покорный слуга, ни какой-либо другой член нашей фамилии еще ни разу не оказывался в роли торгаша-контрабандиста. — Рамаз Такашвили расправил плечи.
По лицу таможенного чиновника было ясно, что он обиделся. Ему не понравились ни надменный тон путешественника, ни вероятность того, что в гробу и впрямь может лежать покойник.
— Предупреждаю вас, пока мы в этой комнате одни, мы можем доверять друг другу. Но когда начнется досмотр, имейте в виду: за малейшее нарушение таможенных правил вы будете наказаны строжайшим образом.
— Понимаю.
Чиновник подбежал к столу и задребезжал колокольчиком.
Досмотр продолжался долго.
Прежде всего Рамаза поставили посреди комнаты и попросили раздеться.
В одном белье, босиком стоял наш дворянин на холодном полу и рассматривал висевший над столом портрет графа Витте.
Обыскивали его, что называется, с ног до головы, не поленились даже простучать молотком подошвы его ботинок.
Затем вытряхнули содержимое чемодана. Когда и там не нашлось ничего подозрительного, разочарованный поручик вытер руки и велел Рамазу одеться и сложить чемодан.
Дошла очередь и до гроба.
Стоя у окна, Рамаз слышал, как долго звенела медь. Рожденное встречей металла с молотком эхо подолгу не смолкало в комнате, уносилось в окно и исчезало вдали, там, где виднелся купол белой церкви.
Лишь один-единственный раз Рамаз обернулся и увидел такую картину: крысоголовый таможенник взгромоздился на табурет и сквозь лупу смотрел в открытый гроб.
Рамаза привело в ужас это зрелище. Он почувствовал себя виноватым перед покойником, уткнулся лбом в стекло и уже не оборачивался, пока его не окликнули.
— Кем был покойный? — таможенник обмакнул гусиное перо в чернильницу с резьбой и приготовился записывать.
— Грузинский деятель шестнадцатого века Мамука Уплисашвили, — спокойно ответил Рамаз.
— Где похоронен?
— В Венеции.
— Почему?
Рамаз не понял вопроса.
— Как он оказался в Венеции?
— Не могу вам сказать. Лично мне его биография известна мало. Он писал церковные исследования и гимны. Откровенно говоря, я и не знал, что он похоронен в Италии. Мне случайно один миссионер сказал: здесь, говорит, на четвертом канале Боккаччо, есть грузинская могила. Я заинтересовался, пять дней дожидался отлива. Когда вода спала, показался крест, а на кресте, внизу, табличка с надписью «Мамука Уплисашвили». А имя Мамуки Уплисашвили известно каждому моему соотечественнику. Вот я и задумал перевезти его останки на родину, ну и не отступился. Отложил свои дела и занялся этим. Чтобы получить разрешение, пришлось даже на прием к папе римскому попасть. Но, как видите, все закончилось удачно.
— В каких родственных отношениях находитесь вы с усопшим? — казалось, рассказ Рамаза чиновник попросту пропустил мимо ушей.
— Я… — Рамаз почесал ладонь. — Ни в каких.
— Тогда с какой целью вы перевозите покойника?
— Просто, он же грузин…
— То есть как это! — поднялся на ноги страж имперской границы. — Значит, вы, грузин, ездите по Европе и, если где-то встречаете могилу какого-нибудь грузина, немедленно ее раскапываете и везете останки на родину? Прекрасное развлечение, нечего сказать!
— Это не просто грузин, — от гнева у Рамаза пересохло во рту. — Это крупный общественный деятель и ученый.
— Тем более! Думаете, вы его уважили тем, что выкопали из могилы? — крысоголовый осклабился, показывая три торчащих вперед и вызывающих ужас зуба. — Вы думаете, быть похороненным в Венеции — это шутка? Кто дал вам право совершить подобное надругательство над покойным! Если бы он хотел, чтобы его похоронили в Грузии, Он позаботился бы об этом при жизни. Не покинул бы вашу страну и не уехал бы в Венецию! Поглядите-ка на него! Представитель новой профессии — собиратель мертвецов!
Рамаз Такашвили понял, что таможенник не знает, к чему придраться, и предпочел смолчать. Эта пауза и подвела итог. Представитель крысиного рода кончил писать, вытащил из серебряного гнезда печать величиной с лепешку, трижды шлепнул ею по бумаге в разных местах и, выходя из комнаты, с трясущейся челюстью прокричал коммерсанту:
— Нет, нет! Вы, я вижу, это дело не бросите, нет, не бросите! Ах, будь моя воля, будь моя воля… — он остановился, махнул рукой и поспешно покинул комнату.
Это происходило 16 февраля 1902 года.
Вице-губернатору Раушу фон Траубенбергу с самого утра испортили настроение. Когда помощник объявил, что Рамаз Такашвили пришел опять и настойчиво просит аудиенции, он замахал руками и с мольбой поглядел на чиновника:
— Скажите, что меня нет.
Помощник улыбнулся:
— Он знает, что вы здесь. Видел, как вы выходили из коляски. Он и сегодня здесь ночевать будет. Может, вам лучше принять его и избавиться?
«Принять, как бы не так, легко тебе говорить!» Вице-губернатор знает, еще бы не знать, по какому делу явился Рамаз Такашвили. О похоронах Мамуки Уплисашвили весь город говорит. Уже три дня вице-губернатор скрывается от необычного просителя. Такого тяжелого дела у него еще не было. Вот уже пять лет он служит в Тифлисе, а такого не случалось. Все точно установлено — национальный деятель. Книжник и патриот, ну и что? При чем здесь Рауш фон Траубенберг? Почему он должен заниматься этим щекотливым делом? Потом кто-нибудь напишет про эту историю в имперскую канцелярию — хлопот не оберешься. Из-за трехсотлетнего мертвеца должна пойти прахом твоя карьера, а, Траубенберг? А с другой стороны, сколько можно откладывать аудиенцию? В конце-то концов все равно придется принять?
— Просите. — Вице-губернатор сердито посмотрел на помощника, словно хотел сказать: «А все ты, ты виноват!»
Когда дверь распахнулась, Траубенберг встал и с распростертыми объятиями пошел навстречу коммерсанту.
— О-о, пожалуйста, господин Такашвили. Вы нынче самый желанный гость. Прошу прощения, что заставил вас ждать. Не доложили вовремя… Присаживайтесь. Надеюсь, путешествие вас не утомило?
Родной отец не встречает так сына после долгой разлуки.
Улыбающийся Такашвили поглаживал руками свои колени, чтобы рассеять неловкость; что вице-губернатор лицемер, он слыхал, но чтобы до такой степени — не думал.
— Вы себе представить не можете, как вы нас обрадовали. Вы истинный герой, герой наших дней. Спустя триста лет Мамука Уплисашвили обретет покой в родной земле — это же похоже на сказку. Мы все давно уже мечтали об этом. Вам трудно было получить саркофаг?
Рамаз подумал, что если уже вице-губернатор так заговорил, то он может его и выпроводить, не дав слова сказать, и приступил к делу:
— Мои затруднения в счет не идут, ваше превосходительство. Но теперь уже необходимо ваше содействие, чтобы драгоценным останкам устроить подобающие похороны со всеми почестями.
Вице-губернатору не понравилось, что от него так скоро потребовали ответа.
— Разумеется, разумеется… А в частности, что вы имеете в виду?
— В основном два вопроса, ваше превосходительство: откуда выносить и где хоронить.
— Я-то тут при чем? — эти слова уже не были продиктованы обычной Траубенберговой хитростью. Вице-губернатор не сумел скрыть досаду и вскочил на ноги, хотя тут же попытался загладить невольно вырвавшиеся слова: — Я, конечно, все, что смогу. Словом, ваш топор — моя шея…
Рамаз Такашвили понял, что пройдоха-чиновник ищет лазейку, и постарается отрезать ему путь к отступлению:
— Осмелюсь доложить: все вопросы, касающиеся похорон и свадеб, входят непосредственно в вашу компетенцию.
— В общем-то, да… Разумеется… Но тут особый случай… Это ведь не просто похороны… Откровенно говоря, для меня это явилось совершеннейшей неожиданностью… Когда вы затевали такое дело, нужно было согласовать, чтобы городские власти были, как говорится, в курсе… А вы нас поставили уже перед фактом. Это, знаете ли, нехорошо, — вице-губернатор не мог скрыть раздражения.
— Вы, ваше превосходительство, правы, но ведь и я сам ничего не знал заранее. Случайно узнал уже там, в Италии. Вы понимаете, согласовывать, совещаться просто не было времени. Сейчас, хорошо ли, плохо ли, полдела сделано. Другого выхода у нас нет — останки необходимо предать земле.
— В том-то и дело, милостивый государь, что другого выхода нет. А вы подумали о том, что похороны могут принять опасные формы? Народ и так норовит взбунтоваться, довольно малейшей искры — и похороны вашего Уплисашвили превратятся в демонстрацию. Только вы-то останетесь в стороне, а отвечать придется мне.
Оба помолчали.
— В данном случае, ваше превосходительство, проволочка может иметь куда худшие последствия. Уверяю вас, похороны не примут опасного направления. Жители города будут оплакивать своего предка. Панихида по усопшему триста лет назад заставит подозрительных лиц дня на три позабыть и экономическую, и политическую борьбу.
— Вы упускаете из виду одно обстоятельство. Похороны всколыхнут национальные чувства, развернутся национальные знамена. Вы помните, какие неприятности были в связи с Давидом Эристави? Тогда ведь тоже губернатора уверяли, что это всего лишь этнографический спектакль и все пройдет безболезненно!
Рамаз решил прибегнуть к последнему средству.
— Ваше превосходительство, повторяю: проволочка может оказаться губительной. Весь город знает, что гроб стоит у меня дома. Вот уже третий день я вижу у своих ворот незнакомых людей, и с каждым днем их становится все больше и больше. Чем провоцировать демонстрации возле моего дома, не лучше ли придать церемонии официальный характер, устроить вынос из какого-нибудь учреждения? Тогда и полиции будет легче следить за порядком.
— Какое ведомство, по вашему мнению, подходит? — глухо спросил вице-губернатор.
— Пансионат Каплана Сараджева или здание дворянского благотворительного комитета, оттуда можно хоронить, эти заведения ничего общего с политикой не имеют.
Вице-губернатор встал.
— Господин Такашвили, я разрешаю вам действовать по вашему усмотрению. Нашего разговора не было. Я вас не принимал и никакого разрешения вам не давал. Так будет лучше. Я предпочитаю оставаться в стороне от этого дела. Вы сами договоритесь с Капланом Сараджевым.
— Но без вашего разрешения он, конечно, не согласится. Не осмелится.
— Это уже дело другое. Я постараюсь ему не препятствовать. Но церемониал не должен выходить за рамки погребения церковного деятеля. В случае опасных инцидентов я возложу личную ответственность на вас.
— Благодарю вас, ваше сиятельство, — сказал Рамаз Такашвили.
«Лиса, ох лиса, да только наплачешься ты у меня. Будешь хвалиться — меня не забудь. Три дня меня мурыжил, а все равно я тебя в угол загнал. Именно такой ответ мне от тебя и был нужен. А уж дальше-то я разберусь», — думал коммерсант, довольно резво для своего возраста сбегая по устланной ковром лестнице городского департамента.
Каплан Сараджев, низенький, голубоглазый, рано облысевший, полный молодой человек, встретил Рамаза Такашвили в коридоре. В одной руке он держал объемистый черный портфель, в другой — связку книг. Едва завидев Рамаза, он вскинул вверх занятые руки, попросил минутку повременить, подбежал к окну, сложил свою ношу на подоконник и подлетел к коммерсанту. Каплан так долго прижимал гостя к сердцу, что вокруг них в коридоре начали собираться любопытные.
— А я к тебе в гости, — с трудом удалось Рамазу проговорить Каплану в ухо.
— Ну, а к кому же еще? Неужели об этом нужно говорить? — он указал кому-то на подоконник и, обняв Рамаза, повел его за собой. — Нет, что ты сделал, а! Вот это человек! В последние дни куда ни приду, во всех семьях поднимают бокалы за твое здоровье. Я просто мечтал тебя повидать, — Каплан вертелся в кресле, как угорь.
— Нужно, чтобы вынос состоялся из твоего пансионата, — Рамаз словно накинул аркан на шею обезумевшего от радости Каплана.
Сараджев остолбенел.
— Я, конечно, всей душой… Но почему именно отсюда? — это было сказано упавшим голосом сраженного наповал человека.
— Ну, известное заведение, национальное…
— Над этим вопросом надлежит немного поразмыслить, друг мой Рамаз, — владелец пансионата начал издалека, но Рамазу уже было ясно, что он твердо решил отказать. — Не будем торопиться, иначе мы все испортим. Учреждение, откуда будут хоронить покойника, должно иметь к нему хоть какое-то отношение.
Рамаз убедился, что продолжать беседу не имело никакого смысла. Он разозлился:
— Как? Мамука Уплисашвили не имеет отношения к пансионату? И это говоришь ты, Каплан Сараджев?
— Эх, если так рассуждать, то человек, написавший хоть одну статью, уже имеет ко всем нам какое-то отношение, но факт остается фактом: он не имеет отношения к нашему пансионату и образование получил не у нас.
— Знаешь, что я тебе скажу? — Рамаз встал и засунул руки в карманы брюк. — Так, дорогой мой, нельзя. Не следует жить, настроив себя только на то, чтобы голова не болела. Стыдно. Если в тебе ни на волос нет решимости, тогда уйди с этого поста и сиди дома. На словах — голову отдашь за родину, а сам пугаешься собственной тени. Родина ждет от тебя полезных дел, помощи. Как там у Ильи[8]: «Можешь ты сказать пару таких слов, чтобы сердце рассыпалось на кусочки, а?»
Каплан давно отвык от того, чтобы ему кто-то делал выговор; он надулся.
— Ты все свое гнешь, а теперь меня послушай. Дела обстоят совсем не так, как тебе кажется. Откуда тебе знать, чем я занимаюсь, в каком пламени ежедневно горит моя голова!
Вы там сделаете какую-нибудь мелочь и тут же облекаетесь в ореол героев. Да что ты такого видел, чтобы учить меня уму-разуму, будто я твой ученик! Как можно хоронить отсюда Мамуку Уплисашвили! У меня тут полно бунтовщиков. Скажет какой-нибудь студент, горячая голова, что-то неподходящее, — и прикроют наш пансионат, а ты потом отвечай перед грузинским народом!
Сараджев говорил так патетично, в таком экстазе, что даже постороннему человеку было бы ясно: на грузинский народ этому выдающемуся деятелю глубоко наплевать. «Всего хорошего», — сухо бросил Рамаз, так и не выслушав до конца монолог владельца пансионата.
На другой день Рамаз Такашвили имел аудиенцию в дворянском благотворительном комитете. Его принял князь Ношреван Амилахвари. Глухой восьмидесятилетний старик лежал в кресле, его генеральский мундир был застегнут так туго, что князь с трудом дышал и то и дело двумя пальцами оттягивал высокий стоячий воротник, чтобы глотнуть немного воздуха.
Генерал Ношреван Амилахвари был уже не тот, что прежде. Он плакал.
— Когда мне сказали, я ушам своим не поверил. Думал, не может быть. Я, господин коммерсант, к старости стал недоверчив, вы уж простите, и не предполагал, что у отечества остались еще такие преданные сыны. Нынче каждый за себя, и я думал, какой нормальный человек станет везти гроб из Италии, простите меня, господин коммерсант, — (Амилахвари успел уже трижды забыть имя Рамаза.) — Сегодня у меня счастливый день. Неужели это правда? Счастливый мы народ! Неужели Мамука Уплисашвили будет погребен в родной земле?! Это… это… Это же мечта моего детства!
Князю не хватало слов, он приложил к глазам шелковый носовой платок и зарыдал вновь.
— Ваше превосходительство, чтобы увенчать это дело, требуется ваша поддержка, — взывал Рамаз к вздрагивающим плечам князя.
— Что требуется? — старик приставил к уху ладонь.
— Помощь!
— Вы не поверите, — Амилахвари ударил себя в грудь, затем хлопнул по колену. — У нас нет ни копейки, наша касса никогда не была так пуста, как сейчас.
— Деньги нам не нужны.
— Что вам не нужно? — генерал опять приставил ладонь к уху.
— Нам нужна ваша помощь.
— Для чего?
— Мы хотим выносить останки из этого здания.
— Что вы хотите делать?!
— Панихида должна состояться здесь!
— Чья?!
Рамаз Такашвили почувствовал, что его нервы не выдерживают:
— Мамуки Уплисашвили!
— А-а-а-а… О-о-о-о, — наконец понял председатель благотворительного комитета. Однако легче от этого не стало. — Ничего не выйдет. Вы человек молодой. Вы не знаете, что за этим последует. Мы едва добились, чтобы император обратил милостивый взор в нашу сторону. Нынешней весной мы ожидаем Великого князя в Боржоми. Я не могу пойти на это. Не могу об этом хлопотать. Вы не знаете, господин коммерсант, вы еще даже не родились в тридцать втором году. Не обижайтесь на нас, мы жили совсем по-другому. Если бы вы прошли через Метехские казармы, вы разговаривали бы по-иному. Мне самому тогда было десять лет, но моего старшего брата Каихосро Элизбаровича Амилахвари принесли в жертву… Даже могилы его не сохранилось.
Генерал опять завозился с платком. Когда он наконец отвел душу, коммерсанта в его кабинете уже не было.
«Тебя-то что помяло. Ты-то чего боишься. Тебе-то что затуманило мозги. Стоишь одной ногой в могиле. Хоть один раз будь мужчиной, хоть однажды расправь плечи, несчастный ты человек. Каких тебе еще чинов и побрякушек не хватает, когда тебя не сегодня завтра вынесут вперед ногами. Можешь ты хоть в свои последние дни быть человеком?» — горестно размышлял Рамаз Такашвили, шагая по Головинскому проспекту.
Так прошел месяц.
Весь город знал, что дома у фотокоммерсанта находится гроб с останками Мамуки Уплисашвили, а он никак не может добиться разрешения на похороны.
Об этом была заметка в газете. Было создано общество по организации погребения Мамуки Уплисашвили, но конца делу не было видно. Рамаз поднимался и спускался по лестницам различных департаментов города. Его везде встречали с радостью, прижимали к сердцу, объявляли героем, но стоило Такашвили заикнуться о похоронах, как люди бежали от него, как от чумы. Никто не желал совать голову в львиную пасть.
И наконец отчаявшийся коммерсант оказался в приемной высокопоставленного царского сановника.
Он не думал, что попасть к нему так легко. Его прихода словно ждали, не успел он назвать свою фамилию, как чиновник с самой любезной улыбкой подвел его к высокой резной двери и открыл ее перед изумленным Рамазом:
— Прошу. Вас ждут.
Прежде всего Такашвили обрадовался тому, что сановник не раскрыл ему навстречу объятий и не стал прижимать его к своему сердцу. «Сразу видно — деловой человек, хоть он-то разберется что к чему», — мелькнуло в голове Рамаза, он даже не воспользовался предложенным стулом и сразу начал:
— Мне не хотелось вас беспокоить, но другого выхода просто нет. Хожу как преступник, стыжусь показаться на людях. Лежал себе спокойно человек в итальянской земле, никто его не тревожил, никому в голову не приходило нарушить его вечный сон. Я думал, что совершаю доброе дело. Думал, стоит немного похлопотать — и прах Мамуки Уплисашвили будет покоиться в Тифлисе. Вот уже целый месяц у меня дома стоит гроб. Вот уже месяц, как я не сплю ночами. К утру удается на секунду задремать, и тут же передо мной встает покойник и, простирая руки, молит меня: что ты затеял, чего тебе от меня надо, зачем ты сунулся в эту историю, для чего вытащил меня из могилы? Последняя надежда на вас. Я изнемогаю, я потерял всякое терпение.
Он почувствовал на своем плече руку и умолк. Он даже не заметил, как тот встал из-за стола и подошел к нему.
— Можете не продолжать, — голос у сановника был надтреснутый, нервный. — Все это мне уже известно, уже месяц я жду вашего посещения. Поздновато же вы о нас вспомнили. Я сейчас говорю с вами как государственный чиновник и вовсе не намерен тронуть ваше сердце уверениями в любви к родине. Думайте что хотите, но за этот месяц я тоже лишился покоя. Я не позвал вас сам только потому, что хотел, чтобы вы сами вспомнили обо мне и пришли сюда. Обо мне трудно не вспомнить, поскольку газеты ежедневно обо мне напоминают, — он усмехнулся, — когда возносят, когда срамят. И прийти ко мне не трудно. Позвольте предположить, что причиной вашего неприхода до сих пор было лишь недоверие ко мне. Вы, конечно, полагаете, что я занимаю слишком высокую должность при дворе, чтобы думать о похоронах Мамуки Уплисашвили, так вы все решили. Это, милостивый государь, не так. Никогда моя служба интересам империи не мешает мне думать о будущем Грузии. Возможно, наше служение родине неравнозначно, но поверьте, что каждый божий день я приступаю к своим делам с мыслью о благе нашей с вами отчизны. Знаю, вам нелегко в это поверить. Мои слова мне самому кажутся не в меру патетичными. Зачем вам понадобилось обивать чьи-то пороги? Неужели вы не знаете, что никто не может решить этот вопрос без меня? Ну, так и надо было начинать с меня, дорогой мой! Хотел бы я знать, кто это распространил сплетню, будто у меня нет времени для такого рода дел? Разве кто-нибудь, обратившись ко мне с подобным предложением, получил отказ?
Коммерсант и сановник беседовали до глубокой ночи. Но и эта беседа не имела результата.
В конце концов время взяло свое.
Скорбящий о непогребенном покойнике народ взбунтовался.
Напуганное народными волнениями правительство было вынуждено разрешить погребение под усиленным надзором полиции.
Похороны Мамуки Уплисашвили собрали море народа.
Перевод А. Златкина.
ЖЕНА
Вы не хуже меня знаете, что собственную жену хвалить нескромно, но раз уж пришлось к слову, расскажу я вам о своей жене. Если б вы не заговорили об этом, сам бы я, наверно, и не вспомнил: давно никому не рассказывал эту историю. Только не ждите, пожалуйста, чего-нибудь необыкновенного. Это совсем простая история.
Я, как и многие, любил когда-то все откладывать на завтра и поэтому долго не женился. Покойный дядюшка, старый холостяк, оставил мне однокомнатную квартиру и тем самым чуть меня не погубил — я едва не остался без семьи и без потомства. Закончив университет, приехал в Гочоуру, начал работать на обувной фабрике младшим экономистом — и зажил припеваючи. Припеваючи в том смысле, что благодаря дядюшке имел над головой крышу — отдельную однокомнатную квартиру. Что же касается материальной стороны — тут врать не буду, сидел на голой зарплате. Некоторые считают: если человек работает на обувной фабрике — ему деньги сами в руки плывут. Уверяю вас, что это далеко не так. У кого-то, может, и были деньги, но кто к ним подпустит младшего экономиста! Но я не роптал на судьбу. Знал, что человек по натуре ненасытен: чем больше имеет, тем сильнее аппетит разгорается. Вот и старался «протягивать ножки по одежке», спокойно плыл по течению. Все холостые мужчины, обладатели отдельных однокомнатных квартир (можете поверить мне на слово), живут одинаково. Семьей обзаводиться не спешат, ссылаясь на недостаток жилплощади, а для тех темных делишек, на которые их толкает нечистая, однокомнатной вполне хватает. Так что, скажу я вам, холостякам, ежели мы им желаем добра, надо либо добавлять к одной комнате еще вторую, беря с них при этом письменное обязательство немедленно жениться, либо отбирать и эту комнату. Но это просто мои личные соображения, и я ни в коем случае не настаиваю, чтобы их немедленно возводили в закон.
Время шло, летели годы. «Зачем мне жена? Мне и так неплохо!» — повторял я, как все упрямые холостяки. А интересных и свободных женщин, слава богу, и в то время хватало.
Не буду вас более утомлять, а просто скажу, что постепенно я стал полноправным членом добровольного братства убежденных холостяков. Имею свой круг знакомых, накапливаю понемногу число «сердечных увлечений», сезонных «охов-вздохов» и любовных писем. Но когда мне стукнуло сорок, я сказал себе: «Э-э, браток! Хватит тебе баловаться. Так дальше не пойдет. Очнись, протри глаза, оглядись по сторонам — и немедленно женись на первой же понравившейся женщине (разумеется, если она за тебя пойдет) и побыстрее обзаводись семьей».
Сказано — сделано. В тот год дали мне часы на курсах счетоводов. Я отыскал у себя дома потрепанную студенческую тетрадку и стал добывать нелегкий преподавательский хлеб. В первую же неделю присмотрел одну самтредскую девушку — счетовода. Не стал наводить о ней никаких справок: в таких делах чем больше тянешь и чем больше вмешиваешь людей — тем хуже. Вызвал я Гугули на перемене в учительскую и без всяких предисловий с ходу сделал предложение. Ухаживать и ждать, говорю, мне некогда — вот он я весь тут, и ты мне завтра же должна дать ответ. Зачем завтра, засмеялась она, я тебе и сейчас скажу, что согласна. Оказывается, я ей тоже приглянулся. Я не суеверен, но убежден, что какая-то сила все же помогает людям находить друг друга. Много времени спустя жена рассказывала мне, что, как только я вошел к ним в аудиторию, она сразу же поняла, что станет моей женой. И когда я вызвал ее в учительскую, она уже точно знала, какие слова я ей скажу и что она мне ответит.
Вот так, безо всяких затруднений, наше дело и сладилось. Через неделю подали заявление, и я устроил небольшое застолье: пригласил человек семь-восемь близких друзей. Дело было зимой, и родственники мои не могли приехать из далекой деревни. А у Гугули была только одна больная мать. Исходя из всех этих и еще некоторых соображений, свадьбу отложили до лета.
Так вот, как я уже говорил, подали мы заявление, посидели с друзьями, и я пошел провожать Гугули. Их общежитие находилось тогда на улице Кикителашвили — там, где сейчас фармацевтическое училище. С сегодняшнего дня ты — моя жена, говорю я ей, забирай свои вещи, и пойдем ко мне. Я сейчас, подожди немного, отвечает — и бегом наверх. Мельничный жернов и семь раз не успел бы, наверно, повернуться, как она уже стояла передо мной с маленьким серым чемоданчиком в руке. Этот чемоданчик долго хранился у нас дома. Сначала дети складывали в него свои игрушки, потом оторвали крышку, приделали парус и пускали, как лодку, в ванне…
И вот я первую ночь лежу рядом с женой, а сердце мое переполнено не только счастьем, но и страхом. Чего же я боюсь? Боюсь, как бы кто не постучался ко мне среди ночи. Не буду скрывать, на отсутствие гостей я в то время не жаловался. То, дождавшись, когда заснут сынишка и свекровь, забежит разведенная соседка Тамрико. А то еще, бывало, кто-нибудь из друзей разбудит среди ночи: я, говорит, тут с девушкой, пойди немного погуляй… Сколько раз приходилось мне «гулять» по ночам во дворе, тоскливо поглядывая на темные окна своей квартиры. Причем находились настолько бесцеремонные, что, даже если у меня у самого в гостях бывала девушка, иди, говорят, проводи свою гостью, друг ты или не друг?! Не пустишь — со свету сживут, а пустишь — и ходишь под окнами взад-вперед, как маятник, проклиная свою судьбу.
Пусть у вас так сбываются все ваши добрые предчувствия, как на этот раз сбылось мое. Слышу среди ночи осторожный стук. Притворился спящим: может, думаю, Гугули не услышит. Но у женщин кошачий слух, от них разве что ускользнет! Глянул на часы — около часа. Поплелся к двери, в одних трусах. Открыл дверь — и онемел от изумления. Стоит передо мной с чемоданом в руке прелестная, стройная, светлокудрая девушка. Еще раз присмотрелся — и узнал Люсю Курчатову, с которой познакомился прошлым летом на море. Живет в Северодвинске, у меня и адрес где-то должен быть. Что делать? Откуда она взялась среди ночи? Почему вдруг вспомнила обо мне? Хотя чего тут удивительного: уж сколько я ей в любви клялся! Мы ведь, мужчины, на курорте все становимся Цицеронами. Я по натуре очень замкнутый и неразговорчивый человек. Вы — первая девушка, с которой я так разговорился. У вас такие ясные и чистые глаза, что вас невозможно не любить. Сердце мое навеки принадлежит вам. Вот мой адрес. Я — ваш преданный друг до самой смерти. Грузия, божьей милостью, полна до краев! Фрукты, цитрусы, вино, настоящий грузинский чай, сухая хурма или еще что — по первому же звонку вышлю целый вагон. И вообще: как только сможете — приезжайте в гости. Наш край — родина динозавров, а на берегу Риони недавно найдены обломки древнего «Арго». Обещать мы все мастера, но в такие минуты, вы ведь знаете, это как-то само собой получается… А Люся вот взяла чемодан и приехала в такую даль. Что мне ей сказать? Я ведь и сам тогда не знал, что так скоро женюсь! Хотя, вообще-то, она тоже хороша! Хоть бы позвонила, что выезжает (хотя куда она могла позвонить — телефона-то у меня нет), или телеграмму прислала.
Прикрыл я за собой дверь и обнял Люсю: «Откуда ты? Какими судьбами? Почему не предупредила? Как добралась одна так поздно?» — спрашиваю. Поняла она, что что-то не ладно… «Я, — говорит, — приехала цхалтубским поездом. Но станция Гочоура от вас, оказывается, далеко. Полтора часа прождала автобуса, потом взяла такси. А почему ты меня в дом не приглашаешь? У тебя что, гости?» — «Люся, дорогая, — отвечаю, чуть не плача, — я женился». — «Да что ты?! — изумилась она, и ее красивое лицо сразу вытянулось и погрустнело. — Что же мне делать? Куда я пойду сейчас, ночью?»
Тем временем Гугули встала, накинула халат и тоже вышла. «С кем ты тут разговариваешь, Буча, приглашай в дом», — говорит. Представил я их друг другу. Церемония знакомства прошла спокойно. Они отнеслись друг к другу гораздо теплее, чем я ожидал. Я со своего ломаного русского быстренько перехожу на грузинский, хотя какие тут требовались объяснения: «С этой девушкой, Гугули, я познакомился летом на море. И вот она приехала в гости. Не знаю, что делать». А жена (благослови ее господь, а я после этого случая полюбил ее вдвое сильнее: ведь не всякая на ее месте сумела бы понять! Ты только представь себе: в первую брачную ночь является к твоему мужу домой прелестная девушка с чемоданом! Шутка ли!), так вот, Гугули спокойно говорит: «Заходите, пожалуйста», — приглашает ее в дом, подает чистое полотенце, провожает в ванную, сажает за стол, поит, кормит, ласково гладит по шелковым кудрям и щебечет, мешая русские слова с грузинскими: дескать, очень устали, наверно, в дороге.
Ну, пока все идет хорошо, а что ты дальше будешь делать, Буча Хомерики? Куда собираешься укладывать гостью? У тебя ведь всего одна тахта. А раскладушку, что обычно стоит за комодом, позавчера забрал сосед, к которому приехали гости. Что делать?
«Куда мы ее положим?» — тихо спрашиваю у жены. Она и бровью не повела. «Со мной, говорит, будет спать. Если ее отпустить в гостиницу — ты представляешь, что будет! Все гочоурские шалопаи у ее двери соберутся. Ты что, не знаешь, как у нас любят блондинок?»
Так и сделали. Люся Курчатова легла спать на тахту, рядом с моей женой, а я, новоиспеченный муж, отправился среди ночи к своей крестной. Рассказал ей, что со мной случилось, — она даже фонарь из рук выронила и захохотала так, что не только все свое семейство, но, наверно, и соседей разбудила.
На следующий день солнце поднялось уже довольно высоко, когда я доплелся до дому. Сидят моя жена и гостья, пьют чай и так тепло беседуют, словно всю жизнь прожили вместе и нет на свете людей роднее их. «Какая хорошая девушка, — говорит мне жена по-грузински. — Если б ты знал, как мило она посапывала всю ночь, как приятно было смотреть на нее спящую. И такая вся чистенькая, аккуратненькая. Но очень уж доверчивая. Все мне рассказала. Муж ей, оказывается, попался пьяница, и она через пять месяцев от него сбежала. Работает на ткацкой фабрике и живет в общежитии. Видно, очень нуждается, бедняжка. Одета бедно, но очень аккуратно. Где только она взяла деньги на такую дальнюю дорогу? Наверно, на последние копейки билет купила».
Пока Гугули мне все это рассказывала, наша златовласая гостья смотрела то на меня, то на жену. И большие синие глаза ее так и лучились кротостью и волшебным теплом.
Люся пробыла в Гочоуре неделю. И всю эту неделю мы с Гугули от нее не отходили, буквально водили за ручку. Показали, что могли: свозили в Гегути, в Гелати. Ночью гостья по-прежнему спала рядом с моей женой, а я — в кухне, на раскладушке.
В последние минуты прощания на вокзале обе разрыдались и так крепко обнялись, что я еле оторвал их друг от дружки…
Жена моя до сих пор переписывается с Люсей. Но в гости она больше не приезжала. Вскоре замуж вышла, и, видно, муж не отпускает.
Перевод Л. Кравченко.
БЕДА
С Гервасом Грдзелидзе мы вместе учились в школе. До восьмого он был в параллельном классе, а в восьмом перешел к нам. Кажется, он тогда подробно рассказал мне о причинах своего перевода, да я теперь уже не помню — так что не буду врать. Причина, видно, была незначительная — вот и не запомнилась. В наше время учеников из класса в класс переводили легко. Достаточно было родителям написать заявление: дескать, такой-то учитель «невзлюбил» моего сына или дочь — и уже на третий день этот ученик объявлялся в другом классе. А если тебя вдруг за что-то «невзлюбил» директор — можно было вообще в другую школу перейти.
Закончили мы школу, и дороги наши, как это водится, разошлись. Вообще жизнь у меня сложилась так, что я почему-то встречаю кого угодно, кроме бывших одноклассников и однокурсников. Видимо, так бывает у большинства людей. Кончают школу — подхватывает жизненный водоворот недавних одноклассников, и разбегаются они в разные стороны, как цыплята. Закончишь институт — и однокурсники твои тоже будто сквозь землю проваливаются. Бывает, идешь по улице и думаешь: «Куда они все подевались? Нарочно, что ли, от меня прячутся?» Проходит время, и вот однажды ты вдруг нос к носу сталкиваешься с кем-нибудь из них на автобусной остановке или в метро у эскалатора. Что тут можно успеть? Ты спешишь — он тоже торопится. «Привет! Как дела? Работаешь все там же? Как жена, дети? Наших видишь?!» — строчишь ты как из пулемета. И он спешит задать тебе те же вопросы. «Я тоже никого не вижу. Только Куправу встретил на днях — больше никого!» — кричишь ты. Выясняется, что Куправу и он тоже видел. Больше вы ничего не успеваете сказать друг другу. В это время либо автобус, либо эскалатор вырывают из твоих объятий долгожданного одноклассника или однокурсника — и уносят прочь. Ну разве это жизнь? Куда мы все бежим, куда несемся? Давайте сбавим скорость, приостановимся хоть на несколько минут, поговорим друг с другом! Ведь все мы стареем, друзья! Стареем! Скоро узнавать друг друга перестанем. Стыд-то какой будет! А может, это лишь я один тоскую по друзьям юности? Если бы это было так — то ладно, черт со мной! Но ведь все так! Неужели для этого нам были даны наши горько-сладкие детство и юность? Для чего мы клялись друг другу в вечном братстве? Чтобы вот так навсегда растерять друг друга? Взять, к примеру, хоть меня. Были бы какие-нибудь объективные причины — тогда другое дело. Вот если бы, скажем, я закончил мореходку и плавал боцманом на корабле дальнего плавания — тогда бы я, конечно, слова не сказал: ну где там, в открытом море, встретишь друзей детства?! Но я ведь закончил самый что ни на есть мирный факультет — лечебно-физкультурный. И за все эти годы из Гочоуры — ни ногой. Где родился — там и живу по сей день. И жену нашел по соседству: мой тесть через пять домов от меня живет. Работаю рядом с базаром, в клубе трезвости. Так где же они, все эти мальчишки и девчонки, друзья моего детства, куда подевались?
Начал про Герваса — и вон куда меня занесло! Прошу меня извинить, дорогой читатель, — никак не научусь рассказывать коротко, что поделаешь! Так вот, за последние восемь месяцев я трижды встречал Герваса, и все три раза он очень просил меня зайти к нему, детьми заклинал. В прошлом году, Седьмого ноября, идем мы на парад. Колонну нашу на минуту останавливают возле кинотеатра «Кутаиси». «Заури!» — слышу вдруг откуда-то справа. Оглядываюсь — и сразу узнаю его. И смех все тот же, напоминающий лошадиное ржание. Тут наша колонна опять тронулась. Выходить из строя нельзя. Что делать? «Как дела, Гервас?!» — кричу я на ходу, потом прикладываю к губам обе руки и посылаю ему так называемый «воздушный» поцелуй. «Приходи ко мне, обязательно приходи, слышишь! Поговорить надо! Детьми заклинаю — приходи!» — доносится до меня голос Герваса и вскоре пропадает где-то сзади, растворяется в звуках марша. Второй раз я видел его в апреле, на субботнике. Повезли нас за город, в сторону Моцамети, на посадку леса. Возле железной дороги выстроили в шеренгу, раздали лопаты. Останавливается возле нас автобус. «Заури!» — высунув голову из окна автобуса, кричит Гервас. «Приветствую тебя, Гервас, дружище!» Тем временем автобус трогается, я — за ним: «Гервас, куда едешь?!» — «За саженцами, мы вас, наверно, еще застанем. Почему не пришел? Я же тебя просил. Разговор есть! Приходи, детьми заклинаю!» — «Приду! Приду!» — только и успел я крикнуть в ответ. Нас до самого вечера заставили рыть ямы. Саженцы в тот день так и не привезли. А на днях я проезжал там на поезде. Вырытые нами ямы прекрасно сохранились. А саженцы, наверно, в будущем году подвезут. И вот совсем недавно, 1 Мая, видел я Герваса в третий раз — опять на параде. Он, стоя на подножке пожарной машины, размахивал транспарантом. «Гервас!» — окликнул я его. Он повернулся ко мне всем телом и чуть не свалился с подножки. Увидел меня и с досадой воскликнул: «Ну где же ты? Как тебе не стыдно? А еще друг называется!» — «Приду, Гервас, приду!» — пообещал я и на этот раз решил обязательно сходить к нему. «Детьми заклинаю!» — на всякий случай добавил Гервас. Хотя мог и не добавлять — я бы и так пошел.
Я помнил, что жил он по ту сторону канала, кажется, рядом с бывшей техшколой. Я и жену его знал, дочку зеленщицы. Она тоже училась в нашей школе, закончила на год позже нас. Звали ее Валида.
В субботу после обеда часов в пять собрался я в гости. Купил в сувенирном киоске небольшой кувшинчик для вина. Такие кувшинчики с дарственными надписями у нас сейчас очень в ходу. Красиво и не очень дорого. Гравер тут же, на месте, сделал надпись: «Другу юности Гервасу и его дорогой супруге Валиде от Заура Маквадзе». Завернул я кувшинчик в газету, сунул под мышку и направился в сторону канала. Отыскал дом Герваса. Дверь открыла худая женщина в зеленом байковом халате и в белом платочке. Я по глазам узнал Валиду.
Когда церемониал с «Заходите, пожалуйста», «Не беспокойтесь, «Присаживайтесь», «Ничего, я постою» закончился, я спросил:
— А Гервас скоро придет?
— Гервас не живет с нами, — глядя в сторону, вздохнула Валида.
— Как так? И давно? — изумился я.
— А вы что, не слышали? Хотя, конечно, многие не знают. Уж скоро год будет. Собрал свои вещи и ушел. Одно время жил на Сапичхии, снимал комнату.
— Да, но…
— Причин никаких, клянусь нашим единственным сыном. Мы не только не ругались — голоса никогда не повышали друг на друга. Пьем мы как-то утром чай на кухне, а он и говорит: «Я ухожу». — «Куда?» — спрашиваю. «Вообще ухожу из дома». — «Что случилось, чем мы тебя обидели, что за муха тебя укусила?» — «Ничего, говорит, не случилось, ты прекрасная жена, но я здесь больше не останусь. Я пока и сам не понимаю, что со мной. Для сына все сделаю и тебе, чем смогу, буду помогать. Все оставляю вам — и дом, и все остальное. Возьму только свою одежду. Ты сейчас ни о чем меня не спрашивай. Но под этой крышей я больше ни дня не останусь». — «Подумай хорошенько, — говорю я ему. — Зачем разрушаешь семью?» — «Я же просил тебя, ни о чем не спрашивай». Сын в это время был в школе. Сложил он в небольшой чемоданчик свою одежду — и к двери. Вышел за ворота и уходит — ни разу даже не оглянулся.
Я — платок на голову — и за ним, на улицу. «Гервас, — говорю я ему, — ничего от меня не скрывай. Может, ты заболел? Может, у тебя какие неприятности? Скажи мне правду, я все пойму». — «Нет, — отвечает, — ничего, у меня все в порядке, не беспокойся. А ты иди домой, не ходи за мной». Приостановился, торопливо пожал мне руку, как назойливому встречному на улице, и ушел. Что мне было делать? Не звать же людей на помощь. Вернулась домой. Сыну, когда из школы вернулся, сказала: «Отец уехал по работе». Месяц скрывала от него правду. Все надеялась, перебесится мой муж, вернется домой. Пару раз ходила к нему на работу, но ему это не понравилось. Два месяца даже не смотрел в нашу сторону. Теперь иногда видится с сыном, в школе. А парень-то уже большой, в седьмом классе — все понимает. Правда, меня ни о чем не спрашивает. Первое время я скрывала от родных, потом, конечно, все узнали. Кто только с ним не разговаривал, как только его не вразумляли — все напрасно. Живет на Сапичхии, в доме Кечакмадзе. Знаете, там, рядом с керосинной лавкой. Хотела сходить туда, но как услышала, что к нему какая-то женщина ходит, разозлилась и не пошла. Уж коли ему другая женщина была нужна — кто ему мешал? Зачем же семью бросать? Разве я была подозрительной и ревнивой женой? Ни разу не спросила, где был, почему задержался. Он ведь мужчина, мало ли какие у него могут быть дела — какое мое дело. Теперь передает нам со своим приятелем половину зарплаты. А в суд не подает. Говорит, что разводиться со мной пока не собирается: не хочет вмешивать государство в свои личные дела. Но так ведь тоже нельзя. Надо что-то решать. В конце концов, разводятся люди — не мы первые, не мы последние. А если, не приведи господь, с ним что случится? Кто его хоронить будет? Уж в этом-то вопросе должна быть у человека ясность?
— Храни вас обоих господь. Какое время вам о похоронах думать? — пробормотал я.
— Мы ведь уже не молоды. До пятидесяти рукой подать. А в наше время люди мрут, как мухи. Так что обо всем нужно думать заранее. И, доложу я вам, дело вовсе не в отравленном воздухе. Вы, наверно, читали, что пишут во вчерашней газете: землетрясение в Мексике произошло из-за подземного атомного взрыва. В мире творится бог знает что, поэтому и у людей мозги сдвинулись — вот и мечутся туда-сюда, как спасающиеся от гиены козы.
Я положил завернутый в газету кувшинчик, который все это время держал в руках, на ближайшую табуретку и встал.
— Схожу-ка я к нему, поговорю. Выясню, в чем дело. Может, он хоть меня послушает.
— Буду вам очень благодарна, Заур. И узнайте, что он дальше делать собирается, какие у него планы. Вы ведь с ним друзья детства. А уговаривать его особенно не надо. Может, мы ему действительно не нужны. Может, ему так лучше. Он мужчина — ему виднее. Лишь бы ему было хорошо. Ничего не поделаешь. Что будет — то будет. Наверно, есть у него на то свои причины.
— Как вы сказали, где он живет? — обернулся я уже в двери.
— Как пройдете мимо железнодорожной больницы, там же, по улице Урицкого, третий дом после керосинной лавки. Фамилия хозяев — Кечакмадзе, а кто они такие — не скажу, не знаю.
— До свидания.
— Он сейчас как раз дома должен быть. Вообще-то он с работы приходит в семь, но сегодня короткий день, и он, наверно, уже дома. Пожарники ведь без выходных работают. Вы уж нас извините, Заур, за такой прием…
— Что вы, что вы. Ну, всего вам доброго. Пойду выясню, в чем дело. Все будет в порядке, уверяю вас. Вы ведь сами сказали: никаких серьезных причин.
— Да уж что будет, то и будет. Ничего не поделаешь, второй раз родиться еще никому не удавалось. Лишь бы у него все было хорошо… Ну, всего вам доброго, всего доброго.
— До свидания.
Дом Кечакмадзе я разыскал без особого труда. Правда, из-за сильного ветра мне с трудом удалось докричаться до хозяев. Наконец к калитке подбежала девочка в берете и в накинутой на плечи шубке.
— Извините, пожалуйста. Наверно, давно зовете? Мы смотрим телевизор в дальней комнате, а там не слышно.
— Ничего, ничего, дочка. Я к Гервасу. Он ведь у вас живет?
— У нас, у нас. Пойду узнаю, дома ли он. — Девочка бегом взбежала по лестнице, постучала в крайнее окно. Видимо убедившись, что квартирант дома, вернулась к калитке, открыла ее и провела меня на веранду. — Дядя Гервас, к вам гости!
— Я сейчас, только оденусь! — услышал я голос Герваса.
Девочка скинула калоши, оставила их на лестнице и, извинившись, в одних носках прошла в гостиную.
Вы себе не представляете, как он мне обрадовался.
— Я сейчас сбегаю за вином. Магазин рядом.
Но я не пустил его:
— Давай лучше поговорим за чашкой чая. Я ведь не пью, Гервас, дорогой.
— Да как же я могу угощать одним чаем такого дорогого гостя! По правде говоря, я тебя уже не ждал. Сегодня я вообще никого не ждал — вот и забрался пораньше в постель, чтобы согреться. Я слышал, что кто-то зовет, но мне и в голову не пришло, что это мог быть ты.
Засуетился Гервас: поставил чайник, разломил буханку черного хлеба, достал из походного холодильника кусок засохшего сыра. На подоконнике стояли банки с вареньем. Он выбрал мандариновое открыл банку.
Когда разлил по стаканам чай и мы отпили по глотку, заговорил:
— Ты, конечно, слышал о моих делах?
— Представь себе, я ничего не знал. Я только что был у тебя дома.
— Валиду видел?
— Конечно.
— Ну и что она? Что говорит, скажи, будь другом?
— Говорит, что ничего не понимает. Не знает, что за муха тебя укусила. Иди, говорит, поговори с ним, может, хоть ты что-нибудь поймешь.
— А ты ничего не заметил?
— Что я должен был заметить?
— Да, конечно, что ты мог заметить?.. Если бы люди вот так, поговорив несколько минут, сразу понимали друг друга, все было бы иначе в этой жизни.
Он помолчал немного, потом продолжал:
— Заури, неразлучными друзьями мы с тобой в школьные годы не были, но, помнится мне, всегда понимали друг друга. Или мне сейчас так кажется… Во всяком случае, когда со мной это случилось, я подумал: «Надо рассказать Заури. Только он может меня понять». Кто только не побывал у меня здесь! Нотации читали, уму-разуму учили. Ты ведь знаешь, каждый считает себя умнее других. Но я никому так и не сказал правды. Отделывался разными отговорками. Мало ли по каким причинам люди разводятся. А тебе скажу правду. Может, эта правда покажется тебе бредом, может, она-то как раз больше всего и похожа на выдумку, но, клянусь, это истинная правда, а ты хочешь — верь, хочешь — нет. Знаешь, почему я тебя спросил, не заметил ли ты чего? Она ведь все очень умно и рассудительно тебе изложила, да? Не знаю, сколько времени вы беседовали, но она наверняка успела высказать заботу и обо мне, и о будущем нашего сына, и даже о том, что в наше время не так просто получить место на кладбище… Короче говоря, ты наверняка ушел с ощущением, что беседовал с умной, здравомыслящей женщиной. Но признайся, что все эти ее разговоры, ее рассудительность и предусмотрительность все же немного утомили тебя.
— Право, не знаю. Я об этом как-то не думал. Вообще, конечно, умная женщина. Если, говорит, ему так лучше — не уговаривай его, лишь бы ему было хорошо.
— Знаешь, чего я боялся? Боялся, что не смогу, не сумею тебе все сказать, не найду нужных слов, чтобы понятно объяснить, почему я ушел из семьи, и окажусь в твоих глазах пустым, легкомысленным человеком. Видно, в подобных случаях нельзя спрашивать человека о причинах. Супружество — это нечто особенное, окутанное тайной, оно не терпит вмешательства третьих лиц, публичного разбирательства. Я уже говорил, что существует по меньшей мере сто причин, по которым люди разводятся, но моя причина — сто первая. Ну скажи, разве может живой человек все предвидеть, все рассчитывать, взвешивать, никогда ни в чем не ошибаться? И чтобы никогда не поссориться, не поспорить с мужем? Разве может в семейной жизни все всегда быть разложено по полочкам? Никогда не давать ни малейшего повода для замечания! А мужчине необходимо чувствовать себя старшим, главой семьи, он должен иногда и пожурить свою спутницу жизни. Где это видано — такой безупречный порядок во всем! Чувствую, не получается у меня, не могу я тебе объяснить. Знаешь, что меня раздражало, выводило из себя? Догадываешься? Чрезмерная, утомительная рассудительность моей жены. Женщина — на то она и женщина, чтобы быть хоть чуточку рассеянной, несобранной, легкомысленной. А я утром проснусь, гляну на нее — и кажется мне, что рядом со мной лежит умудренный опытом и знаниями прорицатель, а не женщина. Ее нельзя было ни шлепнуть шутя, ни ущипнуть, как это бывает между мужем и женой. Нет, она бы ничего не сказала, но сама она была всегда такой добропорядочной, такой серьезной (эх, все не те слова говорю!), что не оставляла никакой возможности для шуток и заигрываний. По-моему, женщина должна быть прежде всего женщиной. А Валида все знает заранее: что из чего может получиться, что за чем последует, что, где и как нужно сделать и сказать. Никогда ни одного лишнего слова! Хоть бы притворилась иногда, что ревнует, спросила: «Гервас, где ты был так долго?» Хоть бы раз вышла из себя! Нельзя же быть все время такой одинаковой, такой спокойной, рассудительной и предусмотрительной! Видишь, не могу я все это выразить словами. Сам чувствую, что ничего у меня не получается. Другие, наоборот, разводятся из-за каких-то недостатков, из-за того, что их не понимают. А я, выходит, ушел потому, что у моей жены не было недостатков, потому что она хорошо, слишком хорошо меня понимала, — короче говоря, была слишком хорошей женой. Именно так, наверно, может показаться со стороны. Что за беда свалилась на мою голову, что за напасть — я и сам не пойму. Выходит, не пошло мне впрок добро? Надоело однообразие? Слушай, ты ведь умный парень! Вот пойдешь сейчас домой — и додумай сам все то, что я не сумел сказать. И ни с кем не советуйся, ни у кого не спрашивай, может ли по такой причине распасться семья. Мой пример доказывает, что может. Я тебе сказал все как есть, ничего не утаивая и не преувеличивая. И, слава богу, я пока что в здравом уме.
— Говорят, к тебе ходит какая-то женщина. В нашем возрасте такие увлечения бывают. Это что, последняя любовь?
— Да нет, что ты! Женщина ко мне действительно ходит, но она ко всей этой истории не имеет никакого отношения. Какая там любовь! Ничего похожего. Она ничего не значит в моей жизни. Выйдет из этой комнаты — и я за целую неделю ни разу о ней не вспомню. Так что дело не в ней, тут совсем другое дело…
— А вообще… Ну… что ты собираешься делать дальше?
— Ты мне вот что скажи. Ты меня понял? Ну хоть немного? Понял? Вот это для меня самое главное. А что дальше?.. Почем я знаю, что будет завтра? Может, это у меня со временем пройдет, а скорее всего, не пройдет. Почти год живу один, а назад даже оглядываться не хочется. С ужасом вспоминаю умные глаза и мудрые речи Валиды.
— Ну что я могу тебе сказать? Смотри сам. Тебе виднее. А вообще-то человек меняется. Пройдет время, и ты, возможно, взглянешь на все это другими глазами. Может, решишь, что именно такая жена тебе и нужна.
— Не знаю… До чего же странная штука — эта наша проклятая жизнь!
Простился я с ним поздно ночью. Говорили мы и о многих других вещах, но к новелле этой добавить больше нечего, да и ни к чему утомлять читателя. Во всяком случае, на тот вопрос, который нас с вами интересует (вернется ли Гервас домой), наша дальнейшая беседа пролить свет не смогла.
Перевод Л. Кравченко.
ПРОИСШЕСТВИЕ В ГОСТИНИЦЕ
Долетел Иосиф Ниорадзе прекрасно и место в гостинице «Рональ» получил без особого труда по той простой причине, что для него был забронирован номер. Поднимаясь с чемоданом к себе на седьмой этаж, он вдруг подумал: «А что, если этой ночью помру?..» Где только не приходилось бывать в командировках старому страховому агенту, но подобные мысли никогда не посещали его. А нынче с утра привязался страх смерти. Стараясь отвлечься, Иосиф Ниорадзе переносил свое внимание буквально на все, что его окружало, но в конце концов верх брала мысль о смерти в гостинице. Сорок лет он проработал заведующим пунктом социального страхования в небольшом городке; старость подкралась так, что он даже не заметил. А если старость ничем не дала о себе знать, то, как говорят, ты еще молод. «Ну куда мне в моем возрасте по командировкам?» — вырвалось у него вчера, когда укладывал чемодан. Подобные мысли надо гнать от себя, дорогой читатель. Посылают тебя в командировку? Надо ехать. Тот, кто тебя посылает, знает, вышли твои силы или нет. Короче, в девять часов утра, когда уборщица седьмого этажа гостиницы «Рональ» Наталья подсунула под дверь 721-го номера свежие газеты, жилец этого номера Иосиф Ниорадзе был уже мертв. Заложив правую руку под голову, он спал вечным сном. В таких случаях говорят — тихо ушел во сне. Такой конец называют легким и даже счастливым: дескать, человек незаметно, без мучений, отправился в лучший из миров. Но скоро вы убедитесь в том, что кончина агента соцстраха не была совсем счастливой. (И вообще автору этой новеллы понятие «счастливый конец» представляется несколько сомнительным.)
* * *
В городе Цхунтуриани семь гостиниц, восемь отделений милиции и одиннадцать аптек. Гостиница «Рональ» находится на правом берегу реки Хвипии, рядом с наблюдательной вышкой пожарной команды. Хвипиа течет медленно, отчего производит впечатление полноводной реки. Поблизости нет других рек, и поэтому местные жители называют Хвипиа мать-рекой.
Дежурная седьмого этажа Варвара — немолодая, но хорошо сохранившаяся женщина с высокой прической, придающей ей сходство с удодом, — проснулась довольно давно, даже успела сложить свой шезлонг и засунуть в шкаф. Думается, я не причиню ей особого вреда, если открою, что, в отличие от всех других дежурных по этажу, Варвара по ночам спала в шезлонге, который ставила рядом со своим столом. Несколько раз ее заставала в шезлонге специально присланная по чьему-то наущению проверка; Варвару строго предупреждали, но она продолжала поступать по-своему, и от нее отстали. В Цхунтуриани женщины заняты на любых работах, но в гостиницы дежурными по этажу идут очень неохотно, объясняя это тем, что работа очень трудная.
Варвара, уборщица Наталья и слушательница двухгодичных курсов по подготовке работников гостиничного обслуживания девятнадцатилетняя Карожна пили чай в хозяйственной комнате. В сущности, Карожну никто не обязывал ночевать в гостинице, но она так любила свою будущую профессию, что оставалась на ночное дежурство совершенно добровольно и даже с удовольствием: то играла в подкидного дурачка с уборщицей, то засиживалась в номерах у разговорчивых гостей, рассказывающих удивительные истории.
— Если б у него язык не чесался, может, еще и обошлось бы. А теперь, того и гляди, с работы турнут и сядет мне на шею. Хоть себе на сигареты зарабатывал… — жалобным тоном повествовала Варвара и между глубокими вздохами отпивала по глоточку чая. — Позавчера утром звонит в дверь управдом: снимите рубаху на балконе, к нам эфиопская делегация едет. У нас управдом новый. Серьезный парень. А мой язык распустил, стал кочевряжиться: «А кому мешает моя рубашонка, трепыхающаяся на одиннадцатом этаже». Управдом ему: «Она фасад уродует. Если сам не видишь, поверь человеку». Я говорю: «Погоди, Виктор, не кипятись, проедет делегация, и я ее назад повешу». А он как рявкнет: «Не лезь, когда тебя не спрашивают!» Жалко мне стало того управдома, ей-богу. Ему же поручили, чтобы с фасадной стороны ни одной тряпочки не висело. Разве самому охота с утра по домам ходить, людей беспокоить? А своему я бы голову разбила, мелет языком что на ум взбредет. Нельзя по любому поводу шутить да зубы скалить, так и дошутиться можно. Стоит в дверях и усмехается. Управдом повернулся: ладно, говорит, ты меня еще попомнишь. Вот и вызвали нас вчера в райисполком. Теперь если его с работы турнут, что я буду делать…
Карожна отпила чай, откусила кусочек сахара и посмотрела вслед дежурному плотнику во вьетнамских джинсах — он прошел, не поздоровавшись. Практикантку не слишком заинтересовала история с рубахой Виктора, вывешенной на балконе одиннадцатого этажа.
В половине десятого появилась смена — дежурная по этажу старая дева Магдалина, уборщица Параскева и практикантка Лючия.
— Приятного аппетита, девочки! — Магдалина с несколько неуместной в ее возрасте живостью и тяжеловатой грацией приветствовала компанию, бросила пальто на диван и потянулась к стакану Варвары. Щеки ее раскраснелись.
— Холодно? — в один голос спросили Наталья и Карожна.
Оказалось, что на улице мороз изрядный.
— Прямо и не знаю, что делать; если морозы продержатся, моя старшая наверняка заработает воспаление легких, — пожаловалась Наталья.
— Но ты же ей прошлой зимой пальто купила, — сказал кто-то.
— Купила, точно, но разве она его наденет? Теперь, говорит, все куртки носят. «Я у тебя дубленку не прошу, купи хоть спортивную куртку». А есть ли у меня деньги ей на куртку или нет, об этом не спросит.
— Она по-своему права. Мода есть мода, — проговорила Карожна.
Во время беседы уходящая смена собиралась, заступавшая натягивала халаты поверх платьев.
Варвара, Наталья и Карожна скинули туфли, переобулись в сапоги, туфли сложили сперва в целлофановые пакеты, затем в сумки. Надели пушистые шапки из недорогого меха, натянули варежки.
Варвара сдала дежурство Магдалине: на этаже все в порядке, с 719-го получили деньги за чай, в 721-м поселился старик, выпишешь ему пропуск; в 727-м опять протекает кран, в 731-м не работает телевизор, а все остальное в норме.
Магдалина слушала и, склонившись над зеркалом в спинке дивана, осторожно поправляла свою грандиозную прическу.
Бригада Варвары тепло попрощалась со своей сменой и, постукивая каблучками сапог, направилась к лифту.
А в 721-м номере лежал прибывший по командировке в Цхунтуриани и скоропостижно скончавшийся заведующий пунктом социального страхования.
* * *
Около двенадцати часов к столу дежурной по этажу подошел невысокий мужчина в тюбетейке; он вежливо поздоровался с Магдалиной и протянул свой пропуск.
— Гостья с вами? — заинтересовалась дежурная, глядя на светловолосую женщину с красивыми ногами, смущенно жмущуюся позади мужчины в тюбетейке.
— Да, — у смуглого южанина зарделись уши. — Знаете, эта женщина сотрудница нашего управления, очень порядочная женщина. Она мне помогает составлять баланс. Это, знаете, дело государственной важности… Скоро у нас будет искусственное море, приезжайте, отдыхайте, да?..
Магдалина не раз слышала подобные речи, поэтому на нее не произвели особого впечатления ни моральный уровень светловолосой женщины со стройными ногами, ни тем более красоты еще несуществующего искусственного моря.
— У вас есть пропуск? — ласково спросила она.
Женщина со стройными ногами взглянула на своего друга. Тот заволновался:
— Знаете, она только на полчаса пришла по делу. Мы пропуск не выписывали.
— Как же вас пропустили у входа? Прямо чудеса какие-то! Я в этой гостинице, можно сказать, состарилась, и меня без пропуска не впускают! — Магдалина продолжала ласково улыбаться, но мужчине в тюбетейке ее улыбка не понравилась.
— Она очень порядочная женщина. А баланс, сами знаете… дело срочное… А вы… Приедете к нам на искусственное море, отдохнете, дыни покушаете, — хватался за соломинку мужчина.
— Без пропуска нельзя, — ответ Магдалины был твердый и, судя по всему, окончательный.
— Я удостоверение оставила дома, а без удостоверения пропуск не выпишут, — попыталась объяснить светловолосая женщина.
Но Магдалина не желала слушать никаких объяснений.
Уборщица Параскева хлопотала в гладильной комнате, а практикантка Лючия, поджав ноги, сидела в кресле и делала вид, будто разглядывает старый номер журнала «Советская женщина». На самом деле, что скрывать, все ее внимание было у стола дежурной.
— Может, хоть на пять минут пропустите? Я ей сводки отдам? — дрогнувшим голосом попросил простодушный мужчина в тюбетейке.
— Вы пройдите за сводками, а женщина подождет здесь.
Очевидно, мужчине совеем не хотелось одному «проходить» в свой номер.
— Ой, как нехорошо, как нехорошо… — проговорил он, взял свою гостью под руку и направился к лифту.
Когда они скрылись из виду, Магдалина негромко захихикала:
— Так им и надо!
— Уж очень вы строгая, Магдалина Павловна! — Лючия сбросила с ног туфельки и устроилась в кресле, так изящно поджав ноги, как это могут делать только девушки ее возраста.
— В тот день один привел тощую кикимору. Я не впустила. Тогда он попытался провести свое счастье по пожарной лестнице. Ну и шуганула я их!..
Беседа на животрепещущую тему между Магдалиной и практиканткой продолжалась до полудня. Опытной дежурной по этажу было что вспомнить.
Зазвонил телефон.
— Дежурная, — спокойно ответила Магдалина и через некоторое время строже отчеканила: — Звоните десять — тридцать три — шестьдесят семь. Мы не можем никого звать к телефону. Здесь стол дежурной, а не… Да, он в номере… отдыхает. Во всяком случае, ключа у меня нет. Я же сказала, позвать не могу. В номере есть телефон, туда и звоните.
Магдалина положила трубку, осторожно в двух местах дотронулась пальцами до своей грандиозной прически и объяснила Лючии:
— Семьсот двадцать первому звонили. Говорит — сын. Обещал, говорит, утром позвонить домой и не позвонил. Я ему даю номер телефона. Этот номер, говорит, знаю, уже звонил несколько раз, но не отвечает. А я-то при чем? В таких случаях нужна твердость! Раз уступишь — все, заездят! Так и будешь на побегушках — всех и каждого к телефону звать. В нашем деле главное принципиальность.
— Откуда звонили? — спросила Лючия.
— Из какого-то восточного городка. Не знаю, я ихнюю топонимику не запоминаю.
Скоро настало время обеденного перерыва. Магдалина, Параскева и Лючия пошли в буфет на втором этаже гостиницы.
А в 721-м номере лежал прибывший по командировке в Цхунтуриани и скоропостижно скончавшийся заведующий пунктом социального страхования.
* * *
Рамаз прибыл в Цхунтуриани на четвертый день.
Сердце подсказало ему, что с отцом что-то неладно.
А утром при выходе из дома ему вручили телеграмму на имя отца:
«В связи состоянием здоровья товарища Ниорадзе просим прибыть кого-нибудь из родственников».
Телеграмма была без подписи.
Ее послала Варвара. Перед очередным дежурством ей сообщили о печальном происшествии в гостинице и поручили послать телеграмму.
«Хорошо еще, что бедняга умер не в мое дежурство: пришлось бы ходить на допросы, давать объяснения…» — думала она.
Откуда было знать Варваре, что командированный Иосиф Ниорадзе умер три дня назад именно во время ее дежурства.
Она была уверена, что не обязана оплачивать телеграмму из своих денег, но, надо отдать ей должное, оплатила и взыскивать ни с кого не стала. Долго, бормоча под нос, составляла она текст, хотела, чтобы сообщение прозвучало не слишком ошеломляюще. Затем приложила к тексту рубль и попросила Наталью спуститься на почту: Карожну не удалось найти, не то, конечно, она послала бы с телеграммой практикантку, а не пожилую уборщицу.
В пять часов к дежурной седьмого этажа подошел Рамаз Ниорадзе.
— Я сын Ниорадзе, — сказал он; голос у него был сухой и усталый. — Когда это случилось?
— Той ночью. Тогда другая дежурила. Тоже очень внимательная женщина. Она ничего не слышала. Мы все очень переживаем и сочувствуем вашему горю. Наверное, у него было слабое сердце. Ох, сердце, сердце, не бережем себя, и вот… Вы получили мою телеграмму? Когда мне сказали, не поверите, как обухом по голове… Такой хороший человек. Вселился во время моего прошлого дежурства… В номере ничего не осталось. Мы все внимательно осмотрели. Можете не беспокоиться, у нас ничего не пропадет. Все сложили в чемодан и спустили вниз, в наше багажное отделение. Теперь уж ничего не поделаешь… случается…
— Вы не скажете, где мне искать… — Рамаз запнулся и глухо договорил: — Где я могу получить тело отца?
— Ничего не могу сказать, товарищ. Такого случая у меня еще не было. Куда его увезла «скорая»? Наверное, в морг. Но какая была «скорая», откуда? В нашем городе четыре станции «Скорой помощи». Вам лучше всего повидать директора, если он сейчас на месте. У директора все и узнаете.
— Я к вам от директора. — Рамаз устало облокотился на стол. — Он сказал, что все сведения я получу у дежурной по этажу.
— А откуда знать дежурной, скажите на милость. Я пришла, мне сообщили. Тело уже было увезено. Я знаю только одно: здесь у нас ничего пропасть не может.
Рамаз понял, что от дежурной большего не добиться, повернулся и пошел к выходу. Но когда он стоял в ожидании лифта, перед ним выросла Карожна.
— Вас дежурная зовет, если можно…
Варвара встретила его с квитанцией в руке.
— Извините, тут выяснилось, что у него за три дня не оплачено. Вам, конечно, сейчас не до этого, я понимаю. Но бухгалтерия удержит из оклада. А какие наши оклады, сами знаете…
Рамаз расплатился за номер и, не дожидаясь лифта, спустился по лестнице.
В гостинице никто не смог сказать, где находится тело его отца, увезенное нынче утром из гостиницы «Рональ».
Номера машины «скорой помощи» не записали, фамилии врача не спросили.
Позвонили домой Магдалине.
Магдалина сказала, что ей дали подписать акт о смерти; печати с собой у врача не оказалось, он пообещал все оформить и прислать на следующий день. Врач был высокий мужчина с хмурым лицом, — это все, что смогла сказать Магдалина.
Рамаз обегал весь город. Побывал на всех четырех станциях «Скорой помощи». Записи об Иосифе Ниорадзе не оказалось ни в одной из книг. Кто-то (Рамаз мысленно благословил его) сказал, что этот случай был, кажется, в третьей «Скорой» у доктора Марчукадзе: «Я мельком что-то такое слышал. Подождите здесь, а когда бригада вернется с вызова, перехватите во дворе. Шофера вам покажут».
Рамаз так и сделал. Марчукадзе извинился перед ним и объяснил: девушка, производящая в подобных случаях записи в специальной книге, как раз в это время ушла пить чай — и мы не смогли оформить документы по всем правилам; пойдемте со мной, я сейчас же при вас напишу заключение. Сердечный приступ. Он умер задолго до нашего прибытия. Тело, по-видимому, вскрыли. Я напишу свое заключение, а у дежурного в прозекторской должно быть написано свое…
— Доктор, мне не нужны бумаги. Я ищу отца. Где я могу найти его тело? В какой больнице? — вопрос прозвучал довольно громко, на что врач ответил недовольным и осуждающим взглядом.
Выяснилось, что «скорая» сдала Иосифа Ниорадзе в морг Второй больницы.
Дежурный прозектор сперва потребовал у Рамаза удостоверение личности и паспорт. Убедившись, что перед ним действительно сын умершего Ниорадзе, он выразил ему соболезнование, взял со стола акт с двумя печатями и, со скорбным лицом отдавая его, пожаловался:
— Вот так и мучаемся! Морг Первой больницы на ремонте, и «скорая» всех везет к нам. Две прозектуры на такой город. Вашего отца вскрыли до перерыва, примерно, стало быть, в двенадцать, и сразу передали на захоронение: мест не хватает. Если хотите, убедитесь сами.
— Может быть, он еще здесь. Я прошу вас! — взмолился Рамаз.
— Ну что вы! После вскрытия мы не держим ни минуты; я же только что объяснил, какая у нас теснота. Зайдите со двора во вторую дверь, спросите дежурных могильщиков, они скажут, где похоронили, — вежливо объяснил врач и в знак сочувствия еще раз крепко пожал Рамазу руку.
В комнате могильщиков двое играли в домино. Рамаз узнал от играющих, что они с ночного дежурства, а в дневной смене (один из них взглянул на висящее на стене расписание) работал Тевдоре Квавадзе, золотой парень, обязательный, на него можно положиться. Что касается адреса Тевдоре, то просим прощения, он развелся с женой и снимает комнату где-то на окраине; лучше всего приходите завтра утром — и все узнаете из первых рук…
Рамаз взглянул на часы.
Было почти одиннадцать.
В гостинице «Рональ» свободных мест не оказалось. Обходить другие гостиницы у него не было сил — решил переночевать на вокзале.
* * *
Довольно долго он бродил взад и вперед по перрону.
За полночь стало очень холодно, и Рамаз вошел в зал ожидания.
В просторном зале с широкими окнами, украшенном яркими плакатами, пахло хлоркой.
Было просторно.
Он разулся, подложил под голову зеленовато-серую сумку из искусственной кожи и прилег, но только он закрыл глаза, тут же услышал не слишком ласковое:
— Земляк! — Кто-то сильно тряхнул его за плечо.
— В чем дело? — Рамаз нехотя раскрыл глаза, однако, наткнувшись на строгий взгляд милиционера, поспешно сел, свесив ноги в шерстяных носках.
— Какого поезда ждете?
— Разве это имеет значение? — Рамаз почувствовал, что не соразмерил резкость ответа: охрана не любит, когда отвечают вопросом на вопрос.
— Лежать нельзя. Здесь не гостиница, — категорично объяснил дежурный милиционер и пошел дальше.
Рамаз вовсе не путал зал ожидания с гостиницей. Просто он очень устал.
Он крепился сколько мог, но в конце концов вокзальная духота и переутомление взяли свое. Однако только он прилег, как опять:
— Товарищ!
— В чем дело?
— Ваши документы! — представитель железнодорожной милиции был молод, высок и хорош собой.
Рамаз протянул паспорт.
Молодой милиционер внимательно переводил взгляд с фотографии в паспорте на сидящего перед ним мужчину, наконец вернул паспорт, козырнул и ушел.
К утру зал ожидания почти опустел.
В пустом зале, заложив пальцы за ремень, сидел Рамаз Ниорадзе и смотрел на сверкающую пару рельсов за широким окном, по которой всю ночь с пыхтением ходил старый маневровый паровоз.
А на окраине города, в комнате с умывальником в глубокой нише, спокойно спал уставший от дневных трудов Тевдоре Квавадзе.
Перевод А. Эбаноидзе.
ДЕНЬ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ
В девять часов утра к университетскому саду со стороны улицы Меликишвили подошел седой худощавый старик среднего роста в поношенном пальто из синего драпа. Какое-то время он как завороженный смотрел на воробьев, с бойким чириканьем слетавших прямо под ноги задумавшимся прохожим. Потом щелчком стряхнул пыль с серого каракулевого воротника пальто, поднеся кулак ко рту, хрипло прокашлялся, вошел в сад, потрогал скамейку, стоящую рядом с бюстом Меликишвили, — убедился, что она не выкрашена и что роса высохла, повернулся, подобрал полы пальто и сел.
Если чем он и походил на ястреба, то разве что глазами, безотрывно и зорко смотрящими вдаль. Время от времени он издавал странный гортанный звук, словно посмеивался сипло, кивал проходящему мимо знакомому студенту и опять застывал, вытянув шею и весь обратившись в зрение.
Примерно в двенадцать часов со стороны студгородка к университетскому саду подошел высокий, всклокоченный тучный мужчина с кирпичного цвета усами на простом грубоватом лице. На нем был длинный просторный плащ, размера на три больше того, что был бы ему впору. Руки он держал не в карманах, а за спиной, и хоть вовсе не хромал, но ступал так косолапо и вразвалку, что если б заинтересованный человек измерил амплитуду раскачивания его туловища, она наверняка достигла бы шестидесяти — семидесяти сантиметров. Вновь пришедший остановился возле худощавого старика в пальто с каракулевым воротником и, когда тот, на мгновенье оторвавшись от своих мыслей, оглядел его, поздоровался. Худощавый старик с полувопросительной улыбкой кивнул в ответ.
— Извините, вы Гига? — спросил краснолицый.
— Да, это я. А что угодно вам? — шутливо, с театральностью провинциального актера отозвался старик.
— Что вы здесь делаете?
— Вы же видите — дремлю.
— Разрешите присесть рядом.
— По-моему, я внятно сказал, что я дремлю. Вам что-нибудь нужно?
— Подремлем вместе, — незнакомец был вовсе не так застенчив, как показалось Гиге с первого взгляда. Он не стал подбирать полы своего макинтоша, подул на скамейку, постелил на нее клетчатый носовой платок и сел.
Когда солнце склонилось на запад от огромных платанов и тень университетского купола отпечаталась на Верийском спуске, краснолицый подобрал полы макинтоша и обернулся к Гиге:
— Меня зовут Варламом.
Гига довольно долго смотрел на него, потом улыбнулся и мягко дотронулся до его плеча:
— Выходит, я ошибся. В моем представлении ваше имя должно было быть Джургаи.
— Почему Джургаи?
— Представьте себе, люди чаще всего похожи на свои имена. А может быть, становятся похожи. Вон того парнишку в черном свитере, что бежит к лестнице, наверняка зовут Кока. Если хотите, догоните его и спросите.
— Вы, наверное, знаете его, — засомневался Варлам.
— Впервые вижу.
— А вы, Гига?
— Что — я?
— Вы похожи на свое имя?
Гига хитро сощурился и, словно доверяя тайну, сказал:
— Я гений. Для гения любое имя мало. В лучшем случае гений делает имя похожим на себя, а не подлаживается под имя.
— Ааа… Ага-а, — растянул Варлам и поскреб в затылке, так как ничего не понял из слов старика. В сущности, и понимать было нечего.
— Спрашивай, спрашивай, не стесняйся. Случается, и я чего-нибудь недопонимаю. Бывает, ничего страшного. Я хотел сказать, что гению имя вообще ни к чему! Если предпочитаешь просто и ясно, то вот тебе моя мысль.
Варламу показалось, что предыдущая мысль была понятней, чем эта «простая и ясная», но он никак не высказался по этому поводу.
— Значит, все правда. Так оно и оказалось, — сказал он и поглядел в сторону.
— Что правда? — Гига разглядывал дворника со шлангом в руках.
— Что о вас говорят: с первого взгляда не в себе, говорят, может показаться даже тронутым.
— А со второго? Со второго взгляда должно быть поинтереснее.
— Если б вы знали, уважаемый Гига, какой я проделал путь, чтобы познакомиться с вами. Триста с лишним километров отмахал.
— Думаешь, удивлюсь, если это правда? И то — пора! Пора человекам течь отовсюду, со всех краев, дабы услышать истину о жизни из уст мудреца.
— Вы шутите, а ведь я действительно приехал издалека.
— В самом деле?
— Я сам из Самтредиа, из Малого Джихаиши, может, слышали; в общем-то ничего особенного, тутовые деревья прививаю хорошо, вот и все мои достоинства… Я говорю, мой племянник в прошлом году окончил университет. Приехал. Сами понимаете, человек ученый, образованный. Приятно рядом с собой его видеть. Ну, как дела, спрашиваю, чему тебя там научили? Он-то прямо ничего такого не говорил, но по рассказам я почувствовал, что за эти пять лет больше всего ему запомнился Гига Шабрадзе. Кто такой, спрашиваю, в какой области специалист? Да так, отвечает, с утра до вечера сидит в университетском саду, если сам к нему не подойдешь, он ни за что не заговорит. Поначалу может даже странноватым показаться, но слово за слово, и так увлечешься, что все на свете забудешь. Он столько мне про вас рассказывал… Если совсем в открытую, я вас даже во сне видел раза три. Совсем мне сейчас не ко времени было в Тбилиси ехать, но не выдержал, и вот… Поверите, только для того, чтобы познакомиться с вами и поговорить, приехал.
Через полчаса они сидели в столовой у зоопарка, в той самой, где готовят имеретинское лобио, пекут кукурузные лепешки и в любое время года подают свежую зелень. Они никуда не спешили. Знаешь ли ты, читатель, как это великолепно — сидеть в столовой, где готовят имеретинское лобио, и никуда не спешить!
— Видели ли вы когда-нибудь в мечтах свое детство? — между прочими вопросами спрашивал Варлам.
— В мечтах — да, но снова стать ребенком я бы не хотел. И знаешь почему? Ну, что за удовольствие снова болеть свинкой и корью! При виде директора школы закрывать уши руками. Бегать по улице в синих трусах и красной майке. Снова привыкать к курению и водке. Ведь как все это было трудно! Да ну его! Не хочу. Еле привык, еле обучился, сложился наконец как человек.
— Друзья у вас есть?
— Конечно. Есть два-три гениальных друга, — Гига опять засмеялся, и в его глазах забегали бесенята. — Сам знаешь, гений с гением не очень-то сходится. Гениев больше к придуркам тянет. Уж я старался, из кожи вон лез, только бы обычным смертным при них прикинуться. Кажется, в последнее время заметили, что я придуриваюсь, поняли, что я тоже гений, и отстали. — Он неожиданно заскучал и добавил: — Вот что я тебе скажу — кроме шуток: пусть мои друзья живут много лет, но меня они предпочли бы мертвого, а не живого.
— Что вы такое говорите?!
— Не подумай о них плохо, Варлам. Это от большой любви ко мне. Мы же умерших любим больше, согласись. Помнишь, у Галактиона есть такая строка: «В славе усопший под балдахином…» — не помню точно… Хоть я и гений, то, что я сейчас сказал, не записывай, глупости это, старческий скулеж. От друзей не надо требовать больше того, что тебе полагается. Видно, мне больше не положено. И вообще: вместо тебя никто твою жизнь не проживет. Вот это я хорошо сказал. Это можешь записать.
— Племянник говорил, что вы стихи пишете.
Гига засмеялся, поднес кулак ко рту и прокашлялся.
— Наврал твой племянник. Поэзия дело настолько серьезное, что, если писать стихи, я тебе скажу, в какой состоянии этим можно заниматься: сперва тебя долго должны мыть и умащать благовониями эти самые… как они там называются?.. Но вот под конец окатили розовой водой, ввели в высокий светлый зал, нарядили в бархат и атлас, вложили в руку золотое перо, а сами удалились, пятясь. Да, забыл сказать, что в шандалах горят ароматические травы из Индии, те, что воскуряют в храмах… А что за стихи могу написать я, которого управдом ежедневно долбит по голове за неуплату коммунальных услуг?.. Так что наврал твой племянник про мое стихотворство. Скажешь наконец, как его зовут, или нет?
— Бежан Схиртлава.
— Ах, Бежан, Бежан! Брат мой. Поесть по-прежнему любит? А поспать? Спать он не дурак, силен спать! С ума сойдешь, его пробуждения дожидаючись. Ваш род может гордиться — очень удачный разлив, далеко пойдет. Скоро сами убедитесь. Пять лет его приучал, но так и не смог ни к чему плохому приучить и махнул рукой. При виде меня ему всегда казалось, что я голоден, и совал мне в карман трояк. При этом пожимал мне руку и подмигивал. Раз по какому-то поводу поспорил со мной. Я ему сказал: «Ты меня не нервируй, не то рассержусь и перестану у тебя трояки брать». Тут же примолк. Такой парень, чистый, неиспорченный. Поступил на работу?
— Нет пока.
— Не женился?
— Нет.
— А чего ему спешить? Он такой, что все успеет. Я вот всюду опоздал на этом свете. Не могу сказать, в чем причина. Мне с детства трудно было начать что-нибудь новое. Боюсь нового, перемен боюсь. Что мне в моем возрасте в этом саду делать, чего тут сижу? Как тебе кажется, я не задумываюсь над этим? Очень даже задумываюсь, но ничего изменить не могу…
Он полез в карман, размял «Приму» и зажег спичку.
Варлам посмотрел на него с почтением.
— Скажи мне, — продолжал Гига, — если б я не оказался сегодня в саду, где бы ты меня искал? Значит, кому-то нужно, чтобы я здесь сидел. Сказать по правде, раз ушел я отсюда, на работу поступил. Но каждый вечер заходил я сюда, в этот сад, и не поверишь, — вроде себя самого искал. Искал человека, который должен здесь сидеть. Никто не пожелал взять на себя эту роль. Опять же я сам бросил работу и вернулся сюда. Каждый из нас должен заполнить предназначенное ему место. Но все хотят больше того, что определила им природа, вот в чем беда. Похоже, что мое дело сидеть здесь, точно так же, как дело Роберта Мелкадзе избивать человека на ринге…
Вино пили из белых пластмассовых стаканчиков.
Стоял холодный декабрьский вечер. Справа доносился рев автомобилей. В зоопарке резкими голосами кричали изведенные посетителями обезьяны.
Изрядно захмелевшие, они вернулись в университетский сад. То, что они захмелели, было заметно только по более громким, чем раньше, голосам и большим паузам в разговоре.
— Вот счастливые люди, — Гига кивнул в сторону статуй, выстроившихся вдоль аллеи. — Все счеты с этим миром они уже свели. О, если б ты знал, Варлам, как трудно носить свое тело. Чем раньше обратишься в камень, тем лучше.
— Надо дело делать. Не все обратятся в камень.
— Но в траву-то ведь, без сомнения, обратимся. Мне и это годится. Ты о себе подумай, а то мне уже и скучать наскучило. Чувствую, что мне совсем мало осталось, чтобы стать травой. Об одном жалею…
— О чем?
— Хотел бы знать, что станут говорить через десять лет после моей смерти на вечере воспоминаний. Кто что вспомнит, в чем обвинит. Знал ли меня кто-нибудь? Заинтересовался ли кто?
— Ты только не умирай, а что касается воспоминаний, все будет в полном порядке. Такие скажут речи, что прослезишься, если услышишь.
— А я уж и на это не надеюсь.
— Почему мы затеяли этот плохой разговор?
— Замолчу. Пожалуйста. Если эта тема тебе не по душе — молчу.
Они расстались в полночь.
Гига предложил гостю переночевать под его кровом, тем более что он жил неподалеку. Но гость отказался, уверяя, что на улице Палиашвили у него родственники и не вернуться туда на ночь никак нельзя.
Шел Варлам к дому и думал: необыкновенный человек, это факт. Из другой, особой глины вылеплен. Порой в его словах слышна горечь. Какая-то боль его гложет. Дай бог ему удачи во всем.
Перевод А. Эбаноидзе.
НЕ ПРОПАДЕТ?
В первый салон самолета вошел безусый парнишка. Сдвинув со сросшихся, словно углем проведенных бровей кверху козырек широченной кепки и поведя вокруг шустрым и в то же время озабоченным взглядом, он с ходу забросил на багажную полку узел, уселся на первое же свободное сиденье у окна и, устроившись поудобнее, уткнулся глазами в иллюминатор, неотрывно глядя на правое крыло, — будто пересчитывал заклепки на алюминиевой поверхности.
Очень скоро его отвлек появившийся в салоне низенький густоусый мужчина средних лет под широкой, давно вышедшей из моды шляпой. Тяжело дыша, он держал в руках две доверху набитые сумки. Зажав сумки между ногами, мужчина протянул парнишке билет.
— Ну-ка глянь, родимый, чего написано, какая цифра? — выдохнул он сиплым, будто шедшим прямо из легких голосом.
Не вынимая рук из карманов и не взглянув на билет, парнишка ответил:
— Садись, дядя, где свободно. Все равно все вместе прилетим!
— Тут ты прав, — затолкав сумки под сиденье, усач, отдуваясь, медленно опустился в кресло. — Вот ведь кровопийцы, живьем человека сожрут!
— Это с тобой, что ли, ругались? Из-за чего? — парнишка обернулся и подпер ладонью щеку.
— Да две сумки, мол, нельзя, одну сдать надо! А там у меня такое внутри, что побиться может запросто! Если б не это, им меня учить, думаешь?
— Схитрить нужно было, дядя. Дал бы кому пронести одну, вот и все.
— А то бы не дал! Не успел я. А потом штука эта раззвонилась, чтоб ей сгореть, — четыре раза! И ключи вытащил, и мелочишку из карманов… Пока пояс из штанов не вытянул — не унялась!
— Дай погляжу. Ага, пряжка металлическая. Конечно, зазвонит.
— Да раньше-то отчего не звонила? Пояс-то, он и раньше на мне всегда был!
— Не знаю, их разве разберешь? Сдается мне, не аппарат звонит, а сами нажимают ногой на кнопку и трезвонят, когда захотят.
— И тут ты прав, точно! Вон передо мной прошел мужик, железяк всяких не меньше двух пудов нес. Так, думаешь, зазвонило?.. Э-эх, с места-то не поднимут?
— Или поднимут, или нет. Я сам тоже не на своем сижу. Гляди, ведь пустой самолет. Разве что кому-то как раз здесь сесть приспичит. Ну, так уступим, велика важность.
Между тем симпатичная стюардесса уже в третий раз пересчитала пассажиров. Отвели трап: заревели моторы, самолет задрожал и медленно поехал по взлетной полосе.
— Сколько на твоих-то? — захотелось проверить свои часы мужчине.
Парнишка провел рукой по голому запястью:
— Нету у меня.
— Минут на пять запоздали, не больше. Стало быть, в полтретьего по-нашему в Тбилиси будем.
— Мне дальше ехать надо, вот только бы билет достать, — вздохнул парнишка.
— Это куда?
— В Кутаиси.
Разверзлось небо, счастливо зазвонили колокола, пахнуло сладостным ароматом блаженства… Усатый мужчина подскочил в кресле — так, что шляпа чуть не свалилась:
— Ты… ты, парень, из Кутаиси??
— Ага. — Парнишка вновь приник к иллюминатору.
— А меня не знаешь? Не признаешь? — от восторга и удивления мужчина даже перекрестился.
— Не-е. А что, должен бы знать?
— Плясун я, парень! Бухути Герсамия!
Парнишка долго изучал лицо спутника, но так ничего и не вспомнил. Однако решил, что признаваться в этом не стоит.
— В этой шляпе тебя и не узнать…
— Во-во! — усатый сорвал с головы шляпу и сунул ее между колен. — Жена все уши прожужжала: озябнет, мол, у тебя голова-то, а так и сроду ее не носил! Вообще здесь теплее, чем в наших краях. Прилетел, понимаешь, в пуловере да в кашне, а тут в сорочках разгуливают…
— Ага. И женщины здесь так: раз — и уже по-весеннему ходят…
— Ты где работаешь?
— В Ак-Булаке. Не работаю, учусь только. В гужевом училище. Три года отпыхтеть надо. Не техникум, конечно, но все ж таки… Пока на первом курсе. Учеба и не начиналась еще. Летом сдал экзамены — и прямо на практику погнали.
— Понимаю, понимаю… В самом Ак-Булаке ваши?
— Двадцать километров оттуда. Вообще близко. В лесу живем, в глубине.
Самолет набирал высоту, и все та же миловидная, похожая на японскую куколку стюардесса предупредила, чтобы пока не отстегивали ремни.
— Еще чего, будто помогут эти ремни, если что! — возмутился парнишка.
— А то нет! Случись авария, люди без них в кашу б смешались!
— Значит, для того они, чтобы родные на земле своих покойников с чужими не спутали, побыстрее разобрали, — усмехнулся парнишка.
— Э-эх, если самолет упадет, родимый, то будь здоров — не то что ремень, господь бог не поможет! Н-да… А фамилия у тебя какая, как ты сказал?
— Не говорил еще. Кучухидзе я, Мерабом звать. А так Сипито называют.
— Это ты чей, из каких Кучухидзе?
— Отца Сашей зовут. Ты не знаешь. В Цхалтубо работал завсекцией в магазине. Нервничал много, и в сорок лет давление прижало. На два года слег. В позапрошлом году не вытерпел и опять в магазин пошел работать, а там, ведь знаешь, всякие нервы перетрутся. Опять давление поднялось, и вышел на пенсию.
— Саша Кучухидзе… Саша Кучухидзе… — бормотал усач, уставившись в потолок, и затем заключил: — Нет, не припомню.
— Говорю же, не знаешь ты его.
— А практика сколько длится?
— Шесть месяцев.
— Выходит, отпуск-то тебе еще и не положен?
— Ждал я отпуска, как же! Держи карман шире! — Сипито ухмыльнулся и потянулся в кресле. — Телеграмма — и дело с концом.
— Какая телеграмма?
— Обыкновенная: отец, дескать, умирает, успей попрощаться.
— И клюют на это?
— От руководителя практики зависит. Иной раз и по настоящей не отпустит.
— Хороший руководитель-то?
— Ко мне — ничего, так — не знаю.
— И сколько дней дали?
— Неделю.
— Ждут небось тебя?
— Вообще-то не сегодня. Не знаю, на кутаисский рейс билет когда достану. А про телеграмму я им сам написал, и текст тоже. И чтоб две отстучали — одну мне, вторую руководителю, ясный ход.
— Ты мне, Сипито, вот что скажи: с работой не тяжело?
— Вначале — было… Ну, да ведь знаешь, наши — они не пропадут нигде. Бригадир попался, подлюга, такой — и на шаг никуда не отпускал. С утра до вечера житья от него не было, душу его!.. Ну, нам, первокурсникам, невтерпеж стало, сам понимаешь. Что делать, думаю? И придумал: воду ему в постель подливал! По-другому нельзя, таким спуск давать — только себя гробить. Вечерком, понимаешь, прокрадусь к нему и бац! — всю банку на кровать опорожню. Раз пять так сделал — и что ты думаешь? Человеком стал! Сейчас — как шелковый! А снова начнет — я опять банку возьму, и пусть отряхивается, сколько хочет!
У Бухути от смеха выступили слезы на глазах.
— Точно, иначе оседлает тебя! Главное, родимый, не бойся!
— Что поделаешь. С ними подогнешься — так все училище по тебе пешком протопает, — рассуждал Сипито.
— А с едой как?
— По-всякому. Мы в столовке питаемся. Утром тебе — чай да каша, в полдень — борщ и каша, вечером — чай и каша…
— Неужто хватает тебе?
— Первый месяц не хватало. Сейчас привык, еще остается даже.
— Мяса хоть дают?
— В обед, вареное. Ма-аленькие кусочки нарезают. Когда обносят, паршивое дело: иной ухватит три куска сразу, а другому потом — шиш. Я засек: как только миску поставят, я ее сразу цап — и ласково так остальным: «А ну, ребята, угощайтесь!» Тут уж застыдятся, по одному берут, потому как другие видят. Вот так всем предложу, а потом миску перед собой ставлю. Они свой кусочек жуют, а у меня в миске меньше трех-четырех не остается. Я и говорю: в любом деле свою засечку отыскать надо.
— А язык-то знаешь?
— Откуда мне, кутаисцу, знать его? Диву даешься: узбеки да казахи — казахи, главное, — вовсю шпарят по-ихнему, а я в первые дни — ну как немой! Потом думаю: это чтоб они меня обскакали? И давай слова учить: порой по пять-шесть в день. В тетрадку их сразу записывал, где что услышу. За два месяца до ста слов набралось. Все, думаю, больше и не надо, на практике хватит.
— Ну, а этот… акцент ведь есть?
— Ни у кого там твой акцент не свербит.
— Слышал я, когда на практике, ближе к складу или к столовой податься нужно…
— Да ни черта в этой столовой нет. Нам вот каждому раз в месяц дежурить в ней надо, так это совсем хана! Остальные если в шесть встают, ты — в четыре. Я вот, когда картошку чистил, все пальцы себе в кровь обстругал. А маслом подсолнечным воняет — прямо задыхаешься. Вот склад — это да, только там с умом надо, умело. На каждом шагу проверяют. Ух, не прощу себе, такую глупость на складе натворил!.. Вот уже месяц идет, понимаешь, практика, и — на тебе! — руководитель меня к складу прикрепляет. Грузин, мол, — а ему наши люди рачительными и дельными кажутся. Да еще на какой склад послал, знаешь? Три склада у нас — инструментальный, одежный и продуктовый. Так вот на третий склад и послал. Ну, я дух перевел там! Повару, понимаешь, как точно ты ни отвешивай, а всегда чего-то останется: мясо там, масло, хлеб, ну, и колбаска бывает. Пива еще, бывало, притащишь — так вообще мировое житье. До сих пор бы там был, если б дурака не свалял. Знаешь, по неопытности… Заглянул как-то на склад младший по гужам: на обед, говорит, опоздал, может, чего у тебя осталось? Ну, думаю, привяжу я этого сейчас на веки вечные. И приглашаю. Стол накрыл — царский. Чокаюсь с ним и втолковываю: остается, мол, на складе того-то и того-то… Всегда ко мне заглядывай — и не прогадаешь. Он как запел: ну, спасибо, парень, не забуду, будем отныне друзьями!.. На следующий же день меня со склада — вон. Оказывается, дело-то в чем: чего ты младшего-то, болван, думаю, приглашал да языком трепал? Ну, теперь ученый, знаю, как сделал бы, только кто меня к складу подпустит…
— Из дому шлют чего?
— Ага. Только далеко ведь. Кроме фруктов сухих, сахара, еще кой-чего, больше ни черта не положишь — портится в дороге. Да еще почтальоны, черти, у нас посылки открывают — и как араку или вино найдут, сами же и пьют. Думаешь, сдают куда? Но я и тут засек…
— Ну-ка?
— Понимаешь, мы хоть и должны гужевую практику проходить, пока что с восьми до четырех на стройке вкалываем. Я — сварщик. Ну, особенно спину не гну, знаешь, от сварки глаза болят ведь, так чего мне себя губить. А есть и настоящие рабочие, их посылки почтальоны вскрывать боятся. Вот я и договорился с одним, и мне на его имя посылки шлют. Положит отец в ящик, скажем, пару бутылок, так тот знает: одна — его. Еще мне благодарен!
— А есть где пить-то? Поймают — так отчислят небось?
— Верно. Строже всего у нас насчет выпивки. Ну, я, скажу тебе, это дело не люблю, просто иной раз опрокину утром грамм сто для бодрости, и все. До конца смены эти граммы сорок раз испарятся, никто и не учует.
— А насчет баб как?
— Ну, чтобы совсем хорошо было, не скажу. По правде говоря, уж извини, с бабой не был, пока в училище не попал. До города — всего двадцать километров. Что мы, ради бабы больше порой не промчимся? Эх, да кто пускает… Какие уж там танцы-шманцы…
— Так как же?
— Я и тут засечку нашел, будь спокоен. Есть у меня одна — Тамара. Работает в конторе на стройке, секретаршей начальника. С перерывом там четко, вовремя выходят. И живет она рядом. Вот, выбегаем, значит, на перерыв — не вместе, а порознь, ясный ход. Она пять минут как дома, тут и я — без стука вхожу, прямо. Матери Тамара заявила — жених мой. До чего сердечная женщина: узнает, что мы дома, так сразу нас оставляет и — к соседям. Ну, а мы с Тамарочкой поваляемся, пообщаемся — словом, погужуемся, как ребята у нас говорят, эдак с часок, и шагаю я обратно.
— Ну, ты парень — не промах!
— Только, видно, с Тамарой дело долго не протянется. Не жениться же мне на ней, сам понимаешь.
— Что, плоха чем?
— Не плоха, да старше меня на пять лет, с мужем в разводе. Муж бывший пьет, нет-нет да и заявляется. А Тамара не открывает, ну и начинается заваруха у дверей, знаешь ведь пьяных… Пока мне Тамара ни о чем таком не бормотала, однако сейчас чего-то завздыхала и ласкает еще жарче обычного. Полюбила. Так что, если вовремя не отъеду… Там бабы верные, влюбляются крепко. Закрутит тебя, потом поздно будет. Родит еще, ясный ход, примчится в Кутаиси, и потекут слезы — до этого мне, шутишь?
— А драки у вас там случаются?
— Ага, бывают. Налетят иной раз друг на друга, как петушки, и колотят. Как разнимут да спросят, в чем дело, сами толком ответить не могут, дурачье. Распалятся двое, одному кто-то поможет и другому тоже кто-то, вот и сцепятся. Я-то в стороне, но и здесь, дядя, засечку сделал. В драку под конец можно вступить, когда уже дело ясное и валяются кто где, силенок-то уж нет. Тогда, если кому и врежешь, на ногах не устоит. Вообще не до драк мне. На макушку залезть, конечно, никому не дам, но и сам не начну. У нас выяснять-то не будут, кто первый ударил и из-за чего сыр-бор разгорелся. Всех под одну гребенку, и привет! А мне вылетать из-за них, шутишь? И так еле поступил.
— Э, Кучухидзе, как погляжу, ты нигде не пропадешь!
— Не это главное, дядя Бухути, и не такие пропадали! Просто надо малость поднажать в жизни-то, это верно… Только иной раз в ней с такой ноги встанешь — ни черта не выходит, и ничем не поможешь, хоть ты сквозь стенку проходи!..
Парнишка снова сдвинул к затылку кепку и стал пристально смотреть на темные тучи, в которые вплывал самолет.
Я сидел в кресле позади них, но в разговор не вмешивался.
Неловко слушать чужую беседу, однако Бухути и Сипито общались так громко, что слышно было во всем салоне.
Сначала я едва сдерживал смех, но потом меня вдруг охватила грусть, и хотелось закричать: бедный Сипито, чему только мы все не научили тебя за эти четыре месяца — тому, что ты не узнал дома, на своей тихой улочке, и что не написано в учебниках…
Перевод Л. Бегизова.
КАКТУС
Погруженный в раздумья о своей нелегкой жизни, не столь уж передовой мелиоратор Каджана Апакидзе в один ветреный июньский вечер возвращался по улице Киквидзе домой.
Каджана выходил на нее, когда, приезжая из Гегути на одиннадцатом номере автобуса, сходил у стекольного завода и огибал канал и кинотеатр имени Сандро Жоржолиани, а отсюда до его дома было уже рукой подать.
Жил Каджана на окраине города в III тупике Киквидзе в маленьком трехкомнатном домике на железных сваях.
Каджана ездил на работу в село не ради экзотики и сельских идиллий — просто работу получше в городе Багратисеули было не найти, а трудное ремесло мелиоратора ценится в деревне, как известно, куда выше.
Дома Каджану ждали жена, маленькие дети и прикованная к постели теща. С течением времени ухаживать за тещей становилось все тяжелее. Помимо всего прочего, старуха изводила домашних подозрительностью: ей упорно казалось, будто Каджана, втайне рассчитывая, что она расстанется с бренным миром пораньше, подает ей лекарства далеко не в соответствии с назначением и, если бы не боязнь небесного суда, давно бы уже сунул в одну из ее микстур гвоздик…
На самом деле все было наоборот: тещиной смерти Каджана страшился больше всего, и не последней из причин этого страха были расходы, которые в случае ее кончины тяжким бременем легли бы на его тощий семейный бюджет. Общественные заслуги тещи также не позволяли надеяться, что расходы по ее похоронам возьмет на себя государство, и понятно рвение, с каким Каджана пытался оторвать от ложа недуга старушку, уже преклонившую колени перед вратами иного мира. Однако его старания, увы, были тщетны.
Устало шагавший к дому Каджана был одет в выцветшую голубую рубаху и синие, давно обтрепавшиеся брюки с единственным нашлепнутым пониже спины справа карманом; на ногах болталась черно-зеленая обувка местного производства — подделка под изделие фирмы «Адидас» (фирменный знак стерли обстоятельства времени); она, собственно, ничем не отличалась от оригинала, если не считать того, что верх ее вокруг шнуровки облупился уже на третий день носки, а крепчайшая подошва, несмотря на все усилия Каджаны, при ходьбе так и не хотела сгибаться.
Засунув руки в карманы и сгорбившись, Каджана молча шел, выбрасывая вперед ноги, — так, будто хотел скинуть и без того еле державшуюся на них обувь. Его карие глаза посверкивали из-под густых бровей и ресниц — словно освещая шедшему в задумчивости Каджане путь на ближайшую пару метров, чтобы он не споткнулся о камень. Утомленный, он не замечал попадавшихся знакомых, да и, говоря по правде, у него, родившегося в Сакулии и переехавшего в Багратисеули вследствие женитьбы, в этом городе их почти не было.
Итак, пора была летняя; на городских часах скоро должно было пробить девять. В это время замершие от жары улицы снова наливались жизнью; девушки, отпросившись у родителей к подруге, бежали на свидания, семейные мужчины, вторично в этот день побрившись, под предлогом поздно проводимых общественных мероприятий спешно уходили по делам совершенно иного рода…
В прозрачно-чистом небе не было ни облачка, и казалось, его больше никогда не затемнит непогода…
Как бы учуяв совсем близко надвинувшуюся ночь, солнце внезапно скрылось за горой Хвамли — так вспугнутая куропатка мгновенно исчезает в густых зарослях.
Алевший небосвод стал медленно затягиваться тьмой…
Вдруг на правое плечо Каджаны что-то упало. Он отскочил в сторону и завертелся на одном месте, — к плечу и шее прилипла неизвестная влажная и вязкая масса. Проведя рукой по вороту, Каджана немного успокоился — крови не было, налипшая масса оказалась увесистым комом сырой черной земли. Осторожно повернув голову, Каджана посмотрел на то место, где только что проходил, и увидел посреди улицы небольшой кактус и обломки горшка, разбросанные по мостовой и тротуару. Тут Каджана почувствовал боль в плече; выйдя на середину улицы, он задрал голову и возмущенно закричал нависшим над ним балконам пятиэтажного дома:
— Чтоб вас! Так ведь убить можно!
Наверху никого не было, и никто Каджане не ответил.
Как любят повторять молодые следователи, вскоре на месте происшествия собралась толпа. «А голову не задело?» — уже в третий раз спрашивал Каджану высокий поджарый старик в полотняном кителе, в очках и с палкой и, когда тот, счистив с себя грязь, наконец ответил ему, облегченно воскликнул: «Ну, слава богу, главное, что не на голову!»
— По улице спокойно пройти нельзя — на что это похоже? — с гневом и обидой в голосе вопрошал обсыпанный черной пылью Каджана; оттянув у ворота мокрую рубаху, он показал собравшимся посиневшее плечо.
— Очень больно? — с сочувствием спросила полная молодая женщина с заплетенными черными косами, державшая в обеих руках набитые продуктами авоськи; ей очень хотелось дотронуться до синяка, но поставить в сутолоке авоськи на землю она не решалась.
— Разве это люди? Нелюди они, говорю я вам! — мужчина с лихо закрученными кавалерийскими усами и в белых сапогах, приложив ладонь ко лбу, сурово всматривался вверх. — Чуть не убили человека — и ухом не шевельнут! Даже не спустятся, чтоб извиниться хоть! Невелик труд был бы!
На одном из балконов третьего этажа показался бритоголовый толстяк с массивным подбородком и в ярком халате с иероглифами, перегнулся, осведомился, в чем дело, вперил глаза в обломки и, не дождавшись ответа, ухватился покрепче за перила, привстал на цыпочки и поглядел вверх.
— Тебе говорят! — повысил голос усач. — Кто растением бросался? Или мы знать не должны?
Жилец с третьего этажа развел руками и снова посмотрел наверх.
— Милицию нужно вызвать, — решил усач.
— Незачем ее звать, — женщина с авоськами не собиралась уходить. — Лучше-ка вы, мужчины, подымитесь да уши ему оборвите, скотине этакой!
— Так, думаете, он вам и покажется? Коли спрятаться сумел, то и эту… алибу себе придумает! Вас самих и виноватыми выставит: дескать, в квартиру вломились! Тут уж мне поверьте! — Суетился вертлявый человек с газетами под мышкой.
Появившийся милиционер — сухощавый парень лет тридцати, — заявив, что он участковый инспектор старшина Циколия, заставил Каджану повторить все с самого начала, завернул кактус и обломки горшка в газету, оглядел собравшихся, велел двум свидетелям остаться, а остальным разойтись и раскрыл кожаную папку.
Спустя несколько минут старшина, Каджана и свидетели поднимались по лестнице дома; было бесспорным, что горшок с кактусом сверзся с балкона квартиры, расположенной слева от лестницы.
Пока безрезультатно нажимались кнопки звонков на дверях квартир первого этажа, сверху спустился толстяк в ярком халате, поманил старшину и что-то зашептал ему. Внимательно выслушав, старшина покивал головой; толстяк, шурша рукавами халата, удалился к себе. Старшина приблизился к нетерпеливо ждавшим его Каджане и свидетелям, отвел их подальше от дверей и так же шепотом произнес:
— С четвертого этажа сбросили!
Оба свидетеля — усач и старик с палкой — радостно и бодро подтянулись, давая понять, что готовы ради торжества справедливости следовать не то что на четвертый этаж, но и за тридевять земель.
…На обитой фанерой и картоном и выкрашенной белой краской плохо пригнанной двери было нацарапано карандашом: «Бакурадзе». Было очевидно, что Бакурадзе составляли редчайшее исключение, будучи жильцами, не сменившими после въезда в новый дом заставшие их двери, или, если использовать бытовую терминологию, не отремонтировавшими новую квартиру.
Дверь приоткрыл низенький, тоненький, весь, казалось, превратившийся в нос и глаза паренек; при виде милицейской формы на его лице отразилось отчаяние. Попятившись назад, он запутался в шлепанцах и чуть не упал.
— Заходите… пожалуйста, — наконец простонал паренек.
Старшина почему-то пропустил вперед Каджану и вошел следом за ним; свидетели шагнули одновременно и, застряв в узком проходе, еле протиснулись внутрь.
В гостиной был беспорядок. Стулья стояли друг на друге. На подоконнике лежал свернутый коврик. Слева от двери на балкон стояла железная кровать со скатанной постелью. На табуретке стоял тридцатилетний, с крохотным экраном «Рекорд»; из-за телевизора виднелись таз с водой и мокнувшим в ней обрывком мешковины и прислоненная к стене палка для мытья пола.
Виновный, стоя перед пришедшими у стола с расшатанными ножками, теребил пуговицы когда-то голубой фланелевой сорочки и ждал приговора. Ясно было, что он полностью осознает свое преступление и то, зачем сюда пришли эти уважаемые люди.
Старшина со значением развернул газету и показал на обломки:
— Это ваше?
— Да… — паренек отпустил пуговицы и обхватил руками острые коленки.
— Так почему выбросили? — вонзив в него суровый взгляд, грозно спросил старшина.
— Поверьте, само упало! Я его поливал, тут этот проклятый горшок и полетел! Ну кто же будет горшок с кактусами сам вниз сбрасывать?! — с таким жаром и искренностью выкрикнул паренек, что свидетели потупились, а Каджана пожалел, что пришел сюда.
— Ну-ка, покажи ему плечо! — повернулся к Каджане старшина.
Каджана расстегнул рубаху на три верхние пуговицы и стянул ее с плеча, обнажив красно-лиловое пятно.
— Господи! — снова застонал хозяин кактуса.
— Вы видели, как кактус упал на гражданина? — этот вопрос усатого свидетеля показался представителю органов правопорядка преждевременным, но он промолчал.
— Видел…
— Да я уже сбегал по лестнице, а увидел людей — и устыдился…
— Устыдился? Чего? — не удержался Каджана.
— Соседей… Опять на смех поднимут — снова, мол, вляпался в историю!..
— Вам было стыдно, товарищ, а из-за этого едва не погиб человек! — подал голос старик.
— Да что вы, отчего он мог погибнуть?
— От вашего горшка!
— Так ведь он маленький и тонкий совсем! Видите же, какой он хрупкий, — и обвиняемый ткнул пальцем в обломки.
— Это он оттого такой тонкий да хрупкий, что в другого попал! На тебя бы свалился — небось по-другому бы запел! — усатый свидетель не мог скрыть негодования.
— Стало быть, вдвойне виновен: первое — горшок уронил, второе — не оказал потерпевшему по твоей вине гражданину помощи. Тут и говорить не о чем! — заключил старшина.
— Да я же знаю, что виноват, и не отрицаю этого! — едва не плакал паренек, не сводя глаз с Каджаны.
Старшина разложил на столе папку, вынул из нее бланк акта, подсунул под него еще два, проложил между бланками копирку, достал авторучку, поставил номер и дату и стал писать, поочередно спрашивая у пострадавшего и виноватого их фамилии, имена, отчества, домашние адреса и места работы.
Владелец злополучного горшка оказался временно нигде не работающим Бадри Бакурадзе.
Старшина громко прочел акт, велел всем четверым подписаться под ним и в самом низу подписался сам, приказал Бакурадзе назавтра в двенадцать часов явиться в отделение милиции в комнату номер двадцать девять, а затем встал и — на этот раз первым — вышел из квартиры.
Возле клуба консервного завода старшина записал адреса свидетелей, поблагодарил их и распрощался с ними, а Каджану Апакидзе повел на медицинскую экспертизу; там Каджане вручили справку о легком телесном повреждении, которую старшина приобщил к акту.
Дома Каджана никому не рассказал о происшедшем. Плечо, правда, болело, но не так уж сильно, чтобы не потерпеть; жена бы только напрасно встревожилась, а помочь ничем бы не могла.
Вечером следующего дня, перед самым началом программы «Время», у ворот залаяла собака.
— Поглядите, ведь сожрет она там кого-то, неужто некому во двор выбежать? Ох, чтоб вас всех! — загремел неожиданно зычный для больной в ее положении голос тещи, но Каджана не слышал его — он уже спешил к воротам, на ходу покрикивая на собаку.
В кружке света у фонарного столба стоял, опустив руки, Бадри Бакурадзе, показавшийся Каджане еще ниже и тоньше. Он нерешительно занес ногу и робко подошел ближе.
— Проходи, она не кусается, — Каджана распахнул ворота и отогнал рычавшую собаку.
— Будь добр, привяжи ее! Уж такое мое везение — никого другого не укусит, а на меня кинется, — севшим голосом проговорил Бакурадзе.
Каджана привязал собаку, и гость бочком шмыгнул во двор.
— Нет, в дом не зайду, если можно, посидим тут… Я хотел сказать кое-что, — попросил Бакурадзе, с опаской косясь на собаку, которая злилась и рычала еще пуще, видя в нем главного виновника того, что она оказалась на привязи.
Они сели на скамейку под ткемалевым деревом. Бакурадзе долго смотрел на черный небосвод, потом наконец спросил:
— Как плечо?
— Немного побаливает. Ушиб сильный, но врач сказал, перелома нет.
— И почему у меня ноги не подломились, когда я на балкон выходил?.. Надо же, увидел его завядшим и захотел полить!..
— Будет тебе, ты же не нарочно.
— А если б он тебе на голову упал? Уж для нее — той, что с косой, — без разницы, нарочно это было или ненарочно! Случись с тобой беда похуже — что бы я делать стал?!
— Осторожнее быть надо. Не ровен час, всяко может случиться. Был бы внимательнее, и я бы наверх не поднялся. Ведь меня что обидело, знаешь?
— Как не знать…
— Подумалось мне тогда: ну что могло человеку, грузину, кровь так выстудить?! Угодил другому здоровенным горшком в шею — и сидит себе, в ус не дует. Хоть бы посмотреть прибежал: а вдруг я, могло статься, лежу да помираю?
— Врагам бы твоим так в ус не дуть, как я в тот вечер! Все пальцы себе обгрыз, стучал зубами, стучал, два раза сбегал по лестнице! А наружу выйти так и не посмел!.. Только когда тебя на ногах увидел, вздохнул свободнее!
— В милиции был?
— Был… Пришел к двенадцати, как и вызывали. Его в кабинете не было. Их ведь тоже гоняют, а город разросся… Он через полтора часа появился. Неплохой, видно, парень. Я, дескать, вас наказывать не хочу, однако обязан поступить по закону. Даже если б мог, говорит, иначе, все равно Апакидзе не успокоится — накатает на меня жалобу, и останусь без погон!
— Делать мне больше нечего! Говорю же, и тогда заставили, а то бы разве поднялся? Хорошо, думал, цел остался, а больше ничего и не нужно!
— Чего уж там, виноват я, и отвечать — тоже мне. Этак, если каждый будет с балкона горшками швыряться… Извиняться-то легко, да делу этим не поможешь. Такой испуг и стыд тогда пережил, что было не до извинения, потому и не вышел. Лучше уж мне пострадать, ты ни при чем! Разрази гром того, по чьей милости я так мучаюсь! Видишь, словно баба, уже до проклятий докатился!
— А в чем дело-то? — Каджана чуть наклонился вперед, выгнулся и пытливо посмотрел на Бакурадзе.
— Неважно со мной. Извела бессонница, и руки дрожат. Глотаю на ночь две таблетки тазепама разом, да не помогает. Иной раз до того тошно становится — вот-вот, кажется, на балкон этот выбегу и с четвертого этажа вниз брошусь! Раньше, бывало, услышу — кто-то с собой покончил, так и не поинтересуюсь отчего, что его довело до такого. А теперь… Есть, видно, в жизни минуты, когда одно остается — на себя руки наложить. Нет, жалеть меня не надо, в своих бедах я сам виноват, хотя, если приглядеться, — не я один. Я-то сил не щадил, все старался, чтоб как лучше было, — а жизнь не наладил. Бывает такое — не выходит, и все, хоть головой об стенку бейся! Отца с матерью не помню, в одночасье умерли. Отец монтером был, его током ударило, когда в кухне электричество проводил. А мать на помощь бросилась и провод голой рукой ухватила… Вместе и похоронили. Мне тогда три года было. Опекун мой — тетки, матери сестры, муж — меня до пятнадцати лет растил, потом дом продал отцовский, из денег больше половины — себе в карман: мол, у меня на твое воспитание столько-то потрачено, а меня вон в ту однокомнатную, где вы были, запихнул. Я заочно автомобильный техникум закончил — на фарфоровом комбинате работал и учился. Само собой — зарплатой и обходился. И вот взыграет же самолюбие! Завцехом мой — он в тот день в плохом настроении был — меня козлом обозвал: один станок не разобрал, его давно списать должны были (собирались), а я еще с ним возился. Надо было, конечно, стерпеть, а я возьми радио — знаешь, такая коробка за пять рублей — и запусти ему прямо в лоб! На следующий же день с работы и сняли. Стал искать новую. Ну, а на уволенного, сам понимаешь, как смотрят. Наконец пожалел меня один добрый человек — директор института полупроводников — и взял к себе лаборантом. Шесть лет там проработал и сейчас бы там был — работа хорошая, тихая, но попал под сокращение штатов. Второй месяц, как дома сижу. Нас, лаборантов, под сокращение трое попало; что-то обещают, да когда это будет… Лаборант-то я был хороший, две благодарности имел, да ничего не поделаешь… Я и директора не виню — приказали ему лаборантов уволить, он распоряжение и выполняет. Эх, родил меня господь кругом горемыкой: как у меня на работе дело не пошло, так и в семье своей… Любил я одну, еще со школьной скамьи, а она прямо перед моим носом замуж вышла. Слово дали друг другу, в дом к ним ходил, родители ее про все знали. Я тогда на третий курс перешел, она на литопонном заводе работала. Замуж внезапно вышла. Кто знает, что ее вдруг стукнуло, женщину не поймешь. А я, раз уж погорел в любви, семьей, по правде сказать, обзаводиться не собирался. Через четыре года у невесты моей бывшей муж погиб — в аварию попал, бедняга. Она еще год погоревала и за меня пошла. Да детей вот у нее и со мной не было. Прошлой весной ушла она с литопонного и устроилась в вечернюю школу на Квитирском шоссе, учительницей рисования. Ну, там и… продала меня, как козу. Только я ревновать начал да к сплетням стал прислушиваться — а она уже с новым оказалась. Убежала из дому к преподавателю химии, он там же работал, жену и детей из-за нее бросил. Ну, какова, а? Всего три недели назад и случилось это, мы еще развестись не успели. Вот так я и остался, Каджана ты мой, без работы и без жены. Смотришь — ничего вроде такого, отчего умирают и чего с другими не бывает, но для моих нервишек и это — сверх всякой меры, и измотало оно меня страшно. Я в тот день пол мыл, убирал квартиру, как мог, вот и кактус, чтоб его, полить решил. А край доски, видно, надломился, и проволочка не удержала — горшок возьми да и сорвись. Сподобился же ты проходить там в эту самую секунду!.. Ну, да ладно… Зачем это я к тебе пришел? Чтоб бессердечным каким ты меня не посчитал, вот зачем! Только и всего!
Оба долго молчали.
Рассказанная убитым, словно пропущенным сквозь треснувшую дудочку — саламури голосом исповедь Бакурадзе жгла Каджану; в горле у него давило. То, что он испытывал, было не просто сочувствием, но и желанием помочь, что-то сделать для ставшего вдруг таким близким ночного гостя. Каджане показалось, что и он в чем-то повинен перед Бакурадзе, причастен к невзгодам, обрушившимся на него.
— Пойду я уже, — Бакурадзе встал. — Не сердись на меня, да и чтоб не было у тебя больше, чем этот синяк, горя! Жизнь пока впереди. А мы авось еще встретимся.
— Да не думай ты об этом! Займись своими делами, а я завтра схожу к Циколия — пусть порвет тот акт ко всем чертям! Все ему объясню! — убежденно говорил Каджана, провожая Бакурадзе до ворот.
— Этого не делай! Еще взбредет им в головы другое совсем! — взмолился тот.
На следующий день Каджана не поехал на работу. Собравшихся на автобусной остановке товарищей он попросил передать начальству, что по семейным обстоятельствам ему придется остаться в городе.
Старшина Циколия оказался на месте. Запинаясь, Каджана смущенно объяснил ему, что больше не зол на Бакурадзе и просит уничтожить составленный позавчера акт. Старшина нижней губой затолкал в рот кончик редкого черного уса и долго покусывал его зубами, потом поглядел на Каджану и с упреком выговорил:
— Вы, гражданин Апакидзе, вроде не ребенок, а ведете себя… Разве не понятно, что подписанный работником милиции и свидетелями акт разорвать нельзя? Знал я, между прочим, что вы сегодня с этим ко мне придете. Да что это со всеми вами? С чего в Багратисеули народ такой отходчивый и благодушный? Второй год здесь работаю, а взять любое дело — так еле до конца довожу. Все друг другу знакомые, кумовья, друзья — мыслимо ли такое? Стоит кого-то задержать — на другой же день со всех сторон обступят, всем городом, а громче всех за того охламона сам потерпевший просит! По-вашему, легко от всего этого? С другой стороны, если этого Бакурадзе простили вы, то полагаете, остальные прохожие тоже? Думаете, те два свидетеля меня тормошить не станут — что, мол, с тем, кто горшки бросал, сделал? А вдобавок месяцев эдак через пять прилетит в управление анонимное письмецо: мол, в такой-то и такой-то день на улице… Как ее там?
— Киквидзе.
— …на улице Киквидзе произошел такой-то и такой-то факт, который пытался скрыть старшина Циколия. А за сокрытие фактов, сами знаете, снимают у нас, как за взятку.
— Да, но ведь кактус упал на меня и ни на кого другого? А я — я не жалуюсь. Напишу вам объяснительную записку! — упрашивал Каджана.
— Вы все ж таки не поняли! Упал-то на вас, но там собралось еще более двадцати граждан, и упасть он мог на любого из них. Сейчас ясно? Ничего не могу сделать! Ладно, пишите, — старшина пододвинул стопку бумаги и ручку, — покажу начальнику, а там уж как решат.
Каджана написал:
«На меня упал легкий обломок горшка. По правде говоря, лишь слегка задел, я почти ничего не ощутил. Чувствую я себя хорошо и на Бадри Бакурадзе не жалуюсь. Прошу составленный позавчера акт аннулировать».
Старшина долго таскал бумаги по делу Бакурадзе по разным кабинетам; вернулся он, когда уже вечерело, и сообщил задремавшему Каджане:
— Отделается завтра твой Бакурадзе пятьюдесятью рублями штрафа — и конец! И то, снисхождение оказали, ты учти. Вот и все, что сделать для него удалось.
— Откуда этому бедняге столько взять… — пробормотал Каджана и привстал.
— Раздобудет, не бойся… Не такой уж голяк, чтобы полсотни не найти, — ответил старшина, и в голосе его Каджане почудилась грусть.
* * *
Бакурадзе не было дома; Каджана позвонил к соседям и попросил у открывшего ему дверь седого мужчины в железнодорожной форме листок бумаги.
Мужчина вынес бумагу и сказал, что Бадри наверняка дома и забрался в ванну, — на улицу он выходит редко. Но больше звонить Каджане не хотелось. Поблагодарив, он вытащил карандаш и расправил листок на стене. Дверь соседей захлопнулась. А Каджана писал:
«Бадри, сколько я ни просил Циколия, выпутать тебя полностью не позволили. Наверное, и в самом деле нельзя. Завтра утром пойдешь в милицию, заплатишь им эти пятьдесят рублей, выпишут тебе квитанцию — и будешь свободен. На этом и кончим. А вообще не отчаивайся! Ко мне заглядывай почаще, поговорим. Каджана Апакидзе».
Завернув в записку пять десятирублевок, Каджана просунул ее вместе с деньгами в щель под дверью Бакурадзе, сбежал вниз и скоро уже легко и весело шагал по улице Киквидзе.
Вновь был ветреный июньский вечер — ведь ветры в Багратисеули задувают на целую неделю.
Перевод Л. Бегизова.
ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛЬЦЕ
ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛЬЦЕ
— Здесь не занято? — спросил мужчина средних лет с проседью в усах, в имеретинской шапке и с корзиной в руках у дремавшего в кресле парня лет тридцати — тридцати пяти.
Парень открыл глаза, взглянул на мужчину и подвинулся.
— Садитесь, пожалуйста, дядечка.
Мужчина задвинул корзину, покрытую газетой и тщательно перевязанную бечевой, под кресло, сел, снял шапку, сложил ее и положил в карман белой рубашки, затем повернулся к сидящему рядом парню.
— До Тбилиси едете?
— Нет, уважаемый, до Хашури. Моя тетя замуж выходит, сегодня вечером что-то вроде свадьбы.
— По хорошему делу едешь, дай тебе бог. Говоришь, тетка?
Мужчина не смог скрыть любопытство. По его предположению, парню было лет тридцать, не меньше, значит, и тетка была у него немолода.
— Моя тетка вдова. Муж у нее погиб восемь лет назад. Может, помните, автобус перевернулся на перевале… Детей у нее не было с тем мужем, а теперь уж какое время, ей уже пятьдесят. И замуж незачем было, да так уж получилось…
— Ну почему же?! И насчет ребенка ты не совсем прав. Пятьдесят лет это еще не возраст, ты, наверное, в школе проходил «Мачеху Саманишвили»?..
— Как же не возраст, пятьдесят это все-таки пятьдесят… Сказать по правде, мне стыдно на свадьбу идти, но теперь уж чего, раз так случилось, не могу же я с теткой поссориться.
— Да ладно тебе! Очень хорошо поступила твоя тетка. Да поможет ей бог! Это, мой друг, закон природы. Мужчина должен найти себе женщину, а женщина — мужчину. Так повелел Создатель. Друг без друга они не могут.
— Я не возражаю, но ведь всему свое время!
— А кто же установил, как твое имя, дорогой?
— Левуша, Леван…
— Мой Левуша, меня зовут Варлам. Так вот, кто, говорю, время установил? Разумеется, всему свое время. Но разве жизнь так устроена, как нам хотелось бы? Мой дед говаривал: никогда не отказывайся от счастья, подошедшего к твоему порогу, уйдет оно — и больше не дождешься, так-то.
За время этой беседы «Икарус», на стекле которого рядом с водителем была надпись «Кутаиси — Тбилиси», прошел уже довольно приличное расстояние. Тех, кто исследует признаки национального характера, прошу признать это свойством национального характера. Видите, они ведь только познакомились, но как откровенно делятся друг с другом своим сокровенным, своей душевной болью. В другой стране вместе можно пропутешествовать сотни километров и не обмолвиться и словом. Есть и такие «высококультурные» народы. Считается бестактным заговаривать с незнакомым человеком. Ты ему никто, неважно, что вы вместе путешествуете, это не дает тебе права сблизиться и разглагольствовать о замужестве своей тетки. Автор этой новеллы вовсе не входит в рассуждения хорошо это или плохо. Он просто подчеркивает, что грузинам это свойственно — быть накоротке с сидящими рядом. Напротив, он считает неприличным сидеть молча, словно бы надувшись на соседа. Таков уж он по натуре.
Короче, когда автобус миновал Зестафони, Леван и Варлам уже многое знали друг о друге, они так увлеченно беседовали, можно было подумать, что это отец с сыном или дядя с племянником.
— И тебе не стыдно? — досадливо сказал Варлам и вытер платком лоб и шею. — Вот мы говорим сейчас о повышении рождаемости, а ты такой здоровый парень — и без жены, у тебя сейчас трое уже должно бегать, не меньше.
— Легко сказать, трое детей. Думаешь, я не хочу?! И содержать могу, но так уж сложилось, ничего не поделаешь. Не так уж я и виноват. Вот расскажу тебе, но ты не смейся, заклинаю тебя духом твоего отца.
— Да почему я должен смеяться?!
— На ком мне жениться? Не могу же я на улице взять за руку женщину и жениться. Просватанную или разведенную мне не надо. Если девушку надо сватать, значит, не все в порядке. Как тебе ее показывают, так и другим, наверно, показывали. Человек пять ведь найдется в Кутаиси, которые скажут, вот, мол, я от нее отказался, а Левуша Чкоидзе взял и женился. Нужна мне такая жена? Не нужна. Думал, понравится мне девушка и женюсь по любви. Но годы бегут, а где она, любовь? Лет семь тому назад была одна девушка, на улице Ниношвили жила, четвертую школу окончила, из хорошей семьи, фамилию не хочу говорить, дело-то уже прошлое. Приметил я ее. Она тогда в десятом классе была. Между прочим, и она была не прочь. Ну и ходил я за ней, пока школу не окончила, не только ходил, опекал, правда, издали. Красивая она была, боялся, чтоб не похитили. Кончила она школу и поступила в Тбилиси на медицинский. Жила там у своей тетки. А из Тбилиси разве хорошую девушку отпустят сюда? И пока я брал разгон, увели ее у меня из-под носа на втором курсе. Разве я виноват? И родители ее были не против — я кончил сельскохозяйственный институт на пятерки (неудобно говорить, но это так). И девушка была не против. Не мог же я хватать ее за руку на первом курсе. Не мог, и на тебе, получил! Другой смог. Или вот еще. В позапрошлом году мы были в Ткибули на свадьбе у крестника моего отца. Среди подружек невесты была одна девушка, просто красавица. Тоненькая, как серна, из Батуми или Озургети, так и не узнал. Они уехали раньше всех. За ними приехал новенький «Москвич», и они втроем уехали со свадьбы. И где мне теперь ее искать?! Не могу же я выспрашивать, как идиот: мол, такая девушка, с такими ногами, с таким волосами, не знает ли кто ее? Если б я вовремя подошел к ней и познакомился. Но нужен подходящий момент, не подойдешь же и не набросишься на девушку, мол, нравишься ты мне. Так и отпугнуть недолго.
— А ты не помнишь номера машины?
— Я и не посмотрел, врать не стану.
— А откуда ты знаешь, говоришь, не то из Батуми, не то из Озургети?!
— У невесты мать из Озургети, говорили, а школу она в Батуми заканчивала. Это мои домыслы, что из Батуми или Озургети, может, она вообще из другого города была. Она не была похожа на деревенскую, не так одета. Хотя сейчас не поймешь, некоторые сельские девчонки так одеты, как с картинки журнала. Разве я встречу когда-нибудь случайно эту девушку? Об этом и думать нечего.
— Левуша, сынок, не обижайся, но так говорить могут только болваны. Если захочешь, запросто найдешь. Чья была свадьба знаешь, что подружка невесты была знаешь, а что же тебе еще надо? Спроси у невесты, и все дела!
— Ты думаешь, легко у постороннего человека спрашивать о таком?
— Разве это стыдно?
— Я же должен сказать, почему спрашиваю, может, она вообще замужем или обручена. Еще не хватало, чтоб новая наша невестка посмеялась надо мной.
— А зачем она должна смеяться! Ты меня с ума сведешь, ей-богу! Что тут такого, если ты спросишь о ней? Ты тут под боком не смог девушку найти, а я за четыре тысячи километров нашел человека, даже не зная, в каком городе он живет. Вот послушай.
Три года назад я получил путевку на работе, не помню, говорил я тебе, что я учитель, преподаю зоологию в средней школе Окриби. Поехал я в Сухуми в пансионат, знаешь, как въедешь справа. Через железную дорогу — море. Прекрасное место, между прочим. Но за все восемнадцать дней, что я там был, я ни разу в море не окунулся. Во-первых, нас напугали, что оно загрязнено, но и без того все время шел дождь. За восемнадцать дней всего только и было три дня солнечных.
Брал я зонтик и гулял по центру. Две остановки на автобусе. Глазел по сторонам. От скуки чуть не умер, но не мог же я уехать домой. Стыдно было перед домашними и перед сослуживцами. Все-таки уважение оказали, путевку дали, а я?
Однажды у платформы Бараташвили, где автобусы останавливаются, там еще ярмарка, знаешь, наверное, со мной заговорил один русский мужчина. «Кацо!» — окликнул он меня. Честно говоря, мне не понравилось это «кацо». Они всех зовут «кацо». Интересно, кто им сказал, что в Грузии так надо окликать человека, им кажется, что это нечто вроде «скажите, пожалуйста» или «прошу прощения». Говорили бы уж «уважаемый». «Кацо» очень плохо звучит, так мне кажется, но, может, я ошибаюсь.
Я оглянулся, подходит ко мне этот русский: «Здравствуй, кацо». Я кивнул ему. И вдруг он говорит: ищу, мол, «Вепхисткаосани» на русском языке, весь Сухуми обошел, но нигде не нашел.
Ты знаешь, мне стало приятно. Все русские, что встречались мне в Сухуми, спрашивали одно и то же: «Скажите, пожалуйста, где тут можно приобрести сухое грузинское вино?» А этот «Вепхисткаосани» спрашивает, представляешь? Я чуть не обнял его. Рядом с горсоветом большой книжный магазин. Я спрашиваю его: вы там были? Я, говорит, только оттуда. А на вокзальной, возле рынка, были? Нет, говорит, честно говоря, там не был. Ну, может, там есть, говорю, беги. А он грустно так вздыхает, уже времени не осталось, этот автобус, что стоит, должен везти меня в аэропорт. Я, говорит, отдыхал в Гудаута, там не было, и я рассчитывал на Сухуми. Не хотел уезжать без Руставели. У нас нет в библиотеке. А где вы работаете, спросил я его. Педагог русского языка в педучилище, а живу так далеко — и не поверите, между вашим и моим городом четыре часа разницы во времени. Не повезло мне, не повезло, сокрушался он, побывать в Грузии и не купить Руставели, а у вас, конечно, Руставели должен продаваться на каждом углу. Всего хорошего, пожал он мне руку и помчался к отходившему автобусу. Я даже не успел ему сказать, чтоб оставил адрес. Он вскочил в автобус, и тот сразу ушел, оказывается, только его и ждали.
Он уехал, а я, поверишь, покой потерял. Человек, думал я, огорчился и говорит, что везенья нет, только потому что не смог купить «Вепхисткаосани». Как же так, хоть телефон бы взял! Разумеется, в Сухуми я не достал «Вепхисткаосани». Не только по-русски и по-грузински, не найдешь его и на абхазском языке в переводе Мушни Ласурия. Через неделю я вернулся домой. В Кутаиси я с трудом нашел «Вепхисткаосани» в переводе Заболоцкого. Мне уступил один мой однокурсник, я ему мозги проел, говорю, обещал такому человеку, стыда не оберешься, если не достать.
Приехал я в Окриби и привез с собой книгу. Теперь стал я думать, как найти своего русского. Ни имени не знаю, обрати внимание, ни фамилии. Единственное, что он мне сказал, что преподает русский в педучилище и между его городом и Сухуми разница во времени четыре часа.
Занятия уже начались, когда я отпросился у своего директора, сказал, что неважно себя чувствую и, может быть, лягу в больницу в Кутаиси. Он меня отпустил.
В Кутаиси я опять заявился к своему однокурснику. И признался ему во всем, сказал, что хочу найти того человека во что бы то ни стало.
Поначалу я отправился в милицию, но в милиции меня ничем не обнадежили. Если бы у тебя была фотография и ты знал город, где он живет, — другое дело, а так это пустая трата времени, сказали.
Но я не отступил. Пошел в пединститут на кафедру географии и уточнил, какая территория разнится от города Сухуми на четыре часа. Как я и предполагал это была территория Сибири за Байкалом. Мне очертили огромную площадь. Я взял и выписал из атласа все крупные населенные пункты, где могли бы быть педучилища. Но не остановившись на этом, я достал справочник, где были указаны все педучилища нашей страны. В интересующих меня городах оказалось приблизительно 47 педучилищ. Я положил перед собой этот список и стал звонить. Я спрашивал директора или зама и справлялся у них, кто из их педагогов отдыхал летом в Сухуми. Разумеется, ни имени, ни фамилии я не знал. В день я звонил только в четыре-пять училищ. Больше не получалось. Звонил я, звонил и, что ты думаешь, на девятнадцатом училище попал в точку. Директор мне говорит: да в этом году Петр Сергеевич Савельев отдыхал в Сухуми. Преподаватель русского языка. Ну, я попросил адрес или телефон. А он говорит мне: а кто вы такой, мы посторонним не даем адреса и телефоны. Я говорю, он просил меня прислать ему «Вепхисткаосани», видимо, он поверил и дал телефон. В тот день я уже не успел, позвонил ему на квартиру на другой день. Он уже знал и, оказывается, весь день ждал у телефона. Вы кто, спросил он меня. Разве мог он меня помнить. Я сказал: я тот, с кем вы разговорились у автобусной станции в Сухуми. Я достал вам «Вепхисткаосани», скажите адрес, и я вам вышлю. Он чуть с ума не сошел от радости. Я выслал ему книгу на следующий день, выслал и еще кое-что, сухофруктов немного и чурчхел. То, что не портится, ведь посылка идет четырнадцать дней. Месяца через полтора после того я получил от Петра Сергеевича ящик таранки и благодарственное письмо. Вот прочтешь его, и слезы на глаза навернутся. Что вы за люди, грузины, пишет он, если бы мне это рассказали, я бы не поверил, как вы меня нашли в таком огромном государстве? Мы теперь очень дружны. Переписываемся. Осенью я жду, он должен приехать. Очень соли его мучают.
Ты знаешь, почему я тебе это рассказал, Левуша? Если человек захочет, он из-под земли достанет то, что хочет. Желание нужно иметь большое и не бояться обеспокоить себя.
Ты не можешь найти девушку в Батуми или Озургети? Не говори, кроме меня, этого никому, стыдно, засмеют.
Перевод Н. Двораковской.
АСАКУСА
С утра у него дергался правый глаз.
От этого, собственно, он и пробудился чуть свет. На часах не было еще и семи. Он натянул одеяло на голову и уткнулся в стену в надежде уснуть. Напрасно!
Чем больше он пытался отдаться Морфею, тем мучительней протрезвлялся. Из утреннего тумана сознание бешено переливалось в реальность, в которой с калейдоскопической быстротой перемешивались яркая реклама столицы Японии, двухэтажные эстакады, бесшумные и нежные, как шелк, гостеприимцы. На каждом шагу вежливое «моси-моси» и сильнейшее из чувств — тоска по родным местам.
Отчаявшись уснуть, он откинул кимоно на постель, сунул ноги в кожаные шлепанцы и юркнул в ванную. Показал зеркалу язык и долго вглядывался в него. «Что за черт… опять побелел. И с чего? Улиток вчера вроде не ел».
Он с треском сорвал со стакана обертку, подставил его под кран и набрал в рот густо отдающей хлором воды. С бульканьем ополоснул горло и выплюнул.
Потом долго промывал надоевший и раздражающий глаз.
Дерганье не прекращалось.
Заверещал телефон.
— Слушаю вас, любезная Элеонора!
Никто другой звонить, пожалуй, не мог.
Элеонора, как верный утренний страж — петух, звонила ему каждое утро. Эта женщина сопровождает их из Квавети, прекрасно знает японский, работает переводчиком и вообще интересная особа, но его, Герасима, убивает ее подчеркнутая официальность. Говорит немыслимо самоуверенным тоном и порой берет на себя такие функции, которые далеко выходят за рамки безобидного переводчика.
В официальных бумагах отмечено, что в делегацию фармацевтов, отправляющихся в Японию на две недели по приглашению местного отделения международной ассоциации, входят всего два члена — Василий Плиев и Герасим Пагава. Элеонора в делегацию не входит и по своему положению должна была бы удовольствоваться статусом чиновника низшего ранга, но — боже мой! — тотчас по прибытии в Токио она принялась действовать так энергично, что — невозможно не заметить! — заставила двух заслуженных фармацевтов плясать под свою дудку и — представьте! — благодаря прикрытой флером решительности и самонадеянности достигла этого мгновенно.
Василий с первого же дня смирился и подчинился, но Герасим, можно сказать, взбунтовался. Василий был не только уживчивый, но и самолюбивый, и эти свойства стали для него просто находкой. По этой (и по некоторым другим) причине Василий и Элеонора быстренько подружились, Герасим же остался в сторонке.
Сразу по прибытии началась суета и так до сих пор не прекращается. Бесконечные разговоры — на эскалаторах метро, в такси, на заседаниях фармацевтического общества, на официальных и неофициальных банкетах. Будто никого и ничего вокруг не замечают. Приникнут друг к дружке и шепчутся, шепчутся. Василий полностью отдается беседе, Элеонора же успевает делать и главное дело — представляет делегацию хозяевам, произносит патетические речи, уютно устраивается на полу на плоской подушке и то и дело поворачивается к Василию. Вежливые японцы, чтоб не беспокоить переводчицу, или помалкивают, или на ломаном английском с помощью мимики (это первобытное средство общения Герасиму как-то доступнее) пытаются дать понять грузинскому фармацевту, что рады принять его у себя и будет неплохо, если он и в будущем году посетит Страну восходящего солнца.
— Вчера вы высказали желание посетить Асакусу. Так вот, через пятнадцать минут за вами зайдет девушка-гид и, если вы не передумали, сопроводит вас.
Вчера в полдень состоялась встреча с президентом одной из крупных фармацевтических фирм. По окончании аудиенции прошлись по улице. До обеда оставалось полчаса, и Герасим остановился у огромного храма за углом. Фармацевта интересовали древности, он хотел уже было спросить, что это, но японцы опередили его — это, мол, Асакуса, буддийский храм четырнадцатого века, а всего в Токио до двадцати таких храмов.
— Подойдем поближе, — осторожно попросил Герасим у спутников, но тут же осекся, потому что Элеонора безапелляционно отрезала: мы идем в ресторан, уважаемый Герасим, сейчас не до экскурсий, и вообще прошу в мои функции не вмешиваться, вы ведь знаете — каждая минута расписана.
Представитель фирмы тотчас заметил, что между членом делегации и переводчиком идет перепалка по поводу Асакусы, и обратился к Элеоноре: подойти, мол, поближе не составляет никакого труда. Но отступать было не в правилах Элеоноры. Герасим, что и говорить, иностранными языками владел не особенно, а японского так и вовсе не знал, но мимика и интуиция объяснили ему все. И вот отзывчивые хозяева сегодня хотят ему показать Асакусу.
— Да что ж передумывать-то? Времени-то уже не остается?!
— Кабы знала, сразу бы не согласилась, — вздохнула как бы с сожалением Элеонора.
— В котором, стало быть, часу мы выезжаем? — Герасим знал, что из гостиницы они выходят в час дня, но на всякий случай поинтересовался.
— В час. В два нужно быть в аэропорту.
Багаж уже собран. В три часа из аэропорта Нартия взлетит лайнер и возьмет курс на родину.
— Нужно было сказать, что вчера интересовался, а сегодня уже не интересуюсь. Мы и так очень беспокоим этих людей.
— Но если вы не пойдете, они обеспокоятся еще больше. Неудобно! Поезжайте на метро. Успеете. Два часа — туда и обратно. Без четверти час мы будем ждать вас в вестибюле. Приготовьтесь, вот-вот появится эта девушка.
— Что за девушка? — равнодушно бросил Герасим. Собственно, не все ли равно, кто его будет сопровождать в Асакусу.
Он побрился, принял душ, прихорошился и выглянул в коридор.
«Наверное, эта», — подумал он, когда мимо него, стуча каблуками, торопливо прошла невысокая японка и осторожно постучала в дверь номера Элеоноры.
Спустя несколько минут фармацевт с гидом-японкой, не совсем, правда, в ногу, бежали по Гинзе.
Высокий, долговязый Герасим шагал, как утомленный марафонец, раскачивая перекинутую через плечо сумку, правой рукой раздвигая текущую рекой толпу и стараясь не отстать от девчонки.
Девчонка же, маленькая, но прелестно, пропорционально сложенная, летела, как бабочка, ударяя друг об дружку коленки. Семенила, так мило раскачиваясь, как умеют одни только японки. Она знала несколько предложений по-русски, и Герасиму удалось выяснить, что зовут ее Мицуки, что родители ее проживают в Киото, что из материальных соображений, а также с целью поупражняться в переводе она помогает японским фирмам, связанным с Советским Союзом. В ответ на вопросы Герасима она сперва широко улыбалась, потом выдергивала из прижатого к груди ридикюля крохотный словарик, уточняла кое-какие слова и после каждого ответа по нескольку раз извинялась. Да что извиняться, подбадривал ее Герасим, вы прекрасно изъясняетесь, но было явно заметно, что Мицуки комплиментам не верит.
В конце Гинзы Мицуки подбежала к электротабло у остановки автобуса, нажала пальчиками на несколько зеленых светящихся пуговиц, видимо, не удовлетворилась ответом, попросила подождать и подбежала к полисмену в центре площади. Полисмен покосился на нее и отвернулся. Девушка, мягко покачивая бедрами (как японские красотки из мультипликационных фильмов), вернулась к Герасиму, опустилась у лестницы на коленки, нажала кнопку уличной схемы, и они оба в нее уставились.
— Где мы сейчас, Мицуки, находимся? — поинтересовался Герасим.
— Вот здесь, — карандашом показала Мицуки.
— А где эта самая Асакуса?
— Вот, — очертила девушка кружок на противоположном конце схемы, на самом краю города.
— Но на какой она улице?
— А в Токио у улиц названий нету, — устало улыбнулась Мицуки.
— Да ну?
— Здесь улицы пронумерованы. Только Гинза зовется Гинзой. Потому что главная улица.
— Ну, да ладно. Все равно! На каком номере стоит Асакуса?
— На пятьдесят седьмом.
— Ну и что нам мешает?
— Да ничего. Я спросила у полицейского, как туда добраться короче, а он не ответил.
— Почему?
— Говорить ему нельзя, не разрешается. Движение регулирует.
— Ну и что? Найдем такого, который сумеет помочь нам.
Приветливо и благодарно, будто услышав великое откровение, Мицуки улыбнулась, сложила схему, сунула в сумочку и пошла вверх по тротуару.
Долго искали полисмена, но в отличие от других капиталистических стран (где полицейских встретишь буквально на каждом шагу), блюстителя порядка в Токио оказалось найти не так уж и легко.
У фонтана заметили чиновника в черной шапочке, радостно бросились к нему:
— Ай дозо! Уважаемый!
— Ай, ай, — поднес тот руку к шапке.
Мицуки долго объясняла ему свои затруднения, вытаскивала схему, показывала изображение на ней Асакусы, но по грустному голосу девушки Герасим догадывался, что страж порядка ничем ее не обнадеживает. Но только Мицуки обратила к нему идущее из самого сердца «аригато» — «спасибо» и засеменила обратно, как страж порядка двинулся за ней и, просияв, что-то протараторил по-японски.
Обрадованная Мицуки снова схватилась за схему, и они уселись у парапета фонтана, под огромным портретом президента.
— Аи… аи… аи… — поминутно соглашалась Мицуки и кое-как отвертелась-таки от отзывчивого помощника.
Только они пересекли улицу и пошли вниз по лестнице, как полисмен снова нагнал их, снова попросил извлечь схему и на чистейшем японском повторил свои объяснения.
Минут через десять они мчались в поезде метро. Мицуки вглядывалась в разостланную на коленях схему, а припавший к окну Герасим внимательно изучал на каждой станции плакат с сидящей глубоко в мягком кресле вагона мартышкой и молча и задумчиво стоящих японцев.
Фармацевт, чего греха таить, не без зависти провожал взглядом снующих по эскалатору токийцев, прекрасно знающих, куда и зачем направляются.
Часы показывали половину двенадцатого.
— А вообще-то, между нами, может, и не стоит глядеть эту Асакусу, раз она так далеко, — несмело обратился Герасим к Мицуки.
— Нет, нет, Герасим-сан! — встрепенулась Мицуки. — Это недалеко. Мы просто сбились с пути. Это не та станция. Я сама никогда здесь не бывала. Простите меня, сан, простите.
— Ну, что ты, Мицуки, конечно! — погладил Герасим ласково девушку по ладони.
Они проехали еще одну спящую обезьянку и вышли из вагона.
Пробежав длинный коридор, устремились к билетеру с огромными кусачками для пробиванья билетов, и выяснилось, что сошли рано, что нужно проехать еще целую остановку, потому что у них билет не до Старой, а до Новой Хурам.
Вернувшись к вагону, они добрались-таки до своей станции.
У перекрестка повернули направо, пересекли сквер и оказались на маленькой площади с афишами цирка. Мицуки подлетела к электротабло, поиграла пальчиками на клавишах, чуть не со слезами на глазах спросила что-то у стоящей рядом японки, и, когда через две минуты вокруг нее собрался плотный круг отзывчивых граждан, у Герасима екнуло сердце.
Убедившись, что коллективное обсуждение ни к чему не приводит (между тем как кружок вокруг нее становился все плотнее и разговорчивее), Мицуки вырвалась из толпы и побежала к Герасиму.
Когда Герасим с лестницы в подземный переход оглянулся назад, толпа все стояла на прежнем месте и обсуждала проблему.
Переводя дух, Мицуки снова обратилась к своей схеме, прислонила ее к авточистильщику, поднесла палец к виску и задумалась.
— Успокойся, Мицуки, что же делать… бывает… Сейчас половина двенадцатого, вернемся назад, и всего-то дел! — начал Герасим.
— А Асакуса? — в узких глазах девушки застыло отчаяние.
— Н-ну… скажем, что побывали… что очень понравилась. Бог с ней, с Асакусой. Поедем в такси назад. Так лучше для дела.
Девушка не сразу усвоила, что это значит — скажем, что побывали, — но в тысячный раз бросила взгляд на часы и, даже не складывая схемы, подхватила Герасима за руку, и они вместе вбежали в ворота под желтой аркой. Внизу эскалатора в бамбуковом домике, нахохлившись, как сова, сидела немолодая японка.
Мицуки взволнованно что-то у нее спрашивала, а она спокойно передавала ее вопросы по микрофону.
— Что ей нужно? — спросил Герасим, когда они снова оказались на эскалаторе.
— На такси, говорит, не успеете. Вот-вот начнется час пик, — дрожащим голосом пролепетала Мицуки. — Бежим на метро.
— Ну и бежим. В чем же дело?
— Ни в чем. Сейчас попробуем найти эту станцию. Подождите здесь…
Но Герасиму было не до ожидания. Он уже не послушно спешил за своим гидом, а обгонял ее. Пару раз брал ее за руку и тащил за собой, невзирая на красный свет. Мицуки полностью покорилась ему и плача просила прощения.
Когда они в третий раз оказались на площади с огромным портретом Жана Габена, Герасим понял, что они заблудились.
Было без двенадцати час. Время бежало неумолимо.
Мицуки кусала губы, размахивала схемой и обращалась к прохожим таким затравленным голосом, что они останавливались и выражали ей сочувствие.
Кто-то вытащил бумагу и принялся собирать подписи. Герасим понял, что они необходимы для сохранения репутации Мицуки как гида.
Фармацевт собрался с последними силами, чуть не силой посадил дрожащую девушку на тротуар.
— Сядь, говорю, сюда. Что, в конце концов, случилось? Мир, что ли, перевернулся? На тебе лица нет. Вытри слезы и вытаскивай эту проклятую схему. На какой мы сейчас площади?
Но схему разворачивать не пришлось. Полисмен разорвал круг, оказался между Герасимом и Мицуки, подхватил обоих за руки и повел к желтой машине.
Спустя минуту они мчались на полицейской машине по улицам Токио. Сирена ревела, «тоёта» пробивалась через толчею с немалым трудом, благодаря устным переговорам водителя с проезжающим рядом.
Мицуки забилась в угол и всхлипывала, как наказанный за шалость ребенок.
У Герасима все внутри дрожало, но внешне он держался спокойно, с напускным равнодушием следил взглядом за аккуратными японцами с сумками в руках, спешащими по своим японским делам.
В аэропорту им сказали, что «Ил-64» маршрута Токио — Москва улетел пятнадцать минут назад.
Герасим Пагава заявил работникам аэропорта и всем заинтересованным лицам, что опоздал по уважительной причине, что при осмотре Асакусы ему стало дурно и он не мог продолжать путь.
В письменном показании, которое он с согласия официальных лиц написал по-русски, настойчиво утверждалось, что отзывчивая японка Мицуки в опоздании не виновата, она делала свое дело точно и все произошло по не зависящим ни от кого причинам.
…Когда самолет набирал высоту, к красной, как перец, Элеоноре подсела стюардесса и принялась расспрашивать об оставшемся пассажире.
— Он вел себя как-то странно, был какой-то замкнутый, но что он способен на такое… я представить себе не могла, — громко, чтоб слышали окружающие, отвечала переводчица.
Стюардессе в общем-то вменялось в обязанность обслуживать пассажиров, остальное ее не касалось. Просто она была любопытная и чуть болтливая девушка.
* * *
Герасим вернулся через неделю. Как это произошло и что было с ним дальше — тема другой новеллы, а я и так наскучил читателю.
Перевод М. Бирюковой.
ДИОГЕН
Я буду не совсем прав, если скажу, что машинист Варден Мамакаишвили, как правило, приходил на работу рано. Нередко состав выводил из тупика помощник машиниста. Когда заканчивалась посадка и диктор нежным голоском объявляла, что «поезд номер двести пятьдесят пять Какучети — Салихе через пять минут отправляется с первого пути», именно тогда появлялся на платформе идущий быстрым шагом Варден, мимоходом перебрасывался кое с кем словом или шуткой, взбирался в кабину локомотива, теребил за нос своего испуганного помощника: «Ну как дела, Ачико?» — поворачивал шапку задом наперед и брался за ручку гудка.
Сегодня его подвели часы, и он пришел на десять минут раньше обычного. Упершись подбородком в окошко локомотива, он лениво оглядел перрон и остановил взгляд на группе людей, спешащих к составу. Начальника станции Робакидзе и двух его заместителей он узнал тотчас; идущий марафонским шагом рядом с молоденькой секретаршей мужчина, вероятно председатель профкома (он не ошибся), отстававшего от процессии на несколько шагов одетого в черный костюм плотного молодого человека в очках он видел впервые. Варден спустился и пошел им навстречу.
«Поздравляю тебя, Варден, — обратился к нему начальник станции. — Благодаря тебе мы прославились на весь город, и пусть тебе всегда сопутствует удача». И он протянул Вардену завернутую в белую бумагу коробочку, чуть побольше спичечного коробка, и газету «Индустриальный Какучети». Все пожали Вардену руку, а миловидная секретарша даже поцеловала его. Вслед за воцарившимся после этой церемонии неловким молчанием начальник станции деревянным голосом сказал что-то своим подчиненным, и они повернули обратно.
Варден, взобравшись в кабину, тотчас открыл коробку и приколол к груди значок «Почетный железнодорожник», Ачико же прочел вслух газету. «Индустриальный Какучети» сообщал: «— На пути человек!» — закричал Мамакаишвили и изо всех сил рванул на себя тормоз. Послышался страшный скрип колес, но по всему видать, локомотив ему не остановить вовремя, слишком поздно он заметил человека. Тогда опытный машинист открыл дверь, выпрыгнул и побежал. Поезд медленно приближался к человеку на рельсах, но машинист опередил поезд, схватил человека и стащил его на насыпь. За проявленную бдительность во время исполнения служебных обязанностей министр путей сообщения наградил мужественного машиниста значком «Почетный железнодорожник». Заметка называлась «Происшествие», и автором ее был некий Буцхрикидзе.
Когда поезд проехал Мцхету, Варден сложил газету и спрятал ее в нагрудный карман, откупорил об алюминиевую раму бутылку боржоми, протянул ее Ачико, и, пока паренек жадно пил, Варден потянулся и довольный проговорил: «А помнишь, как меня месяц назад снимали с работы? А теперь видишь, как повернулось дело?» Помощник машиниста не был эмоциональным человеком, он не спеша выпил боржоми до уровня этикетки, отлил немного и вернул бутылку Вардену.
Поезд Какучети — Салихе вместо положенных по расписанию пяти часов добирался из Какучети в Салихе за семь часов, а на обратном пути опаздывал на полтора часа. Не был исключением, разумеется, и этот рейс, но на сей раз дежурные по станции не посмели отчитывать Вардена за опоздание, напротив, они не могли простить себе того, что были так пренебрежительны к герою прессы, нередко ругали его за опоздание и даже грозились снять его с работы, хотя это вовсе не входило в их компетенцию.
Читатель, для которого пишется эта новелла, знает, что в том, что поезд опаздывает, машинист бывает виноват меньше всего. Честно говоря, в этом нет вины и дежурного по станции, стрелочника или диспетчера. Очень часто мы все сваливаем на дорожные происшествия, но ведь известно, что поезда опаздывают и тогда, когда на трассе не случается никаких дорожных происшествий. Вы напрасно ждете от меня четкого ответа на вопрос, почему опаздывают поезда, тем более что над разрешением этого вопроса тщетно бьются тридцать девять комиссий.
Около полуночи Варден с перекинутым через плечо кителем железнодорожника подошел к калитке своего дома на улице физиолога Бериташвили.
Стоял жаркий июльский вечер. Варден чувствовал себя уставшим. В Салихе товарищи по работе встретили его с музыкой, а потом так рьяно подбрасывали его в воздух, что у него чуть не лопнул желчный пузырь. Не умеем мы подбрасывать человека, что правда, то правда. А по возвращении в Какучети его вновь встречали и те, кто провожал. На берегу Цкалцители устроили ему безалкогольный банкет, так обласкали, говорили столько приятных слов, что у Вардена пылали уши. Нелегкая это ноша — слава, сколько можно улыбаться и кивать головой в знак благодарности, думал под конец банкета Варден Мамакаишвили, но, разумеется, только думал, не высказывал своих мыслей вслух. И правильно поступил, не то прослыл бы неблагодарным.
Варден отвязал собаку и удивился, что Курша по обыкновению не обежала радостно двор и не исчезла за оградой, вдоль которой росли кусты трифолиата. На сей раз, вильнув хвостом, она положила голову на лапы и уставилась на хозяина.
— Что с тобой, Курша?
Собака несколько раз вильнула хвостом, оповещая хозяина о том, что она не больна, что просто-напросто ей не хочется на улицу, где ничего интересного не происходит.
Варден разделся, опустил уставшие ноги в теплую воду и глянул на небо, виднеющееся в окне галереи. Усеянное звездами небо и сегодня не предвещало дождя.
Варден жил один. Жена сбежала от него восемнадцать лет назад, единственная дочь, которая росла у матери, находилась под ее влиянием и особой любовью к отцу не пылала. Вышла она замуж в Салихе, и, хотя зять был неплохим парнем, Варден не часто навещал внуков, но никогда не забывал принести малышам арбуз и конфеты в пестрых обертках.
Кто-то подошел к калитке, окликнул хозяина, Варден по голосу не узнал полуночного гостя.
— Кто там, входи, — откликнулся Варден, вытащил ноги из воды, не вытирая, просунул их в шлепанцы и пошел к калитке.
— Это я, Гогита, — раздался спокойный голос.
«Наверное, кто-то из близких, постарел я, не узнаю людей», — с этой мыслью Варден подошел к калитке, осветил гостя фонарем, и сердце у него вздрогнуло. Перед ним стоял человек, которого Варден ждал все эти дни, — Гогита Читайа. Две недели тому назад именно в пятницу Варден подарил жизнь человеку, и этим человеком был Гогита Читайа.
Тогда они толком не поговорили, Гогиту увезли на машине «скорой помощи». Варден думал, что спасенный сам найдет его, чтоб поблагодарить, но день следовал за днем, а Гогита не появлялся, в последнее же время Варден, признаться, и не вспоминал о происшествии в пути, а вот сегодня сразу два события — поздравления сослуживцев и приход желанного гостя. Имя и фамилию спасенного Варден запомнил потому, что Гогитой звали его старшего брата, а фамилия Читайа — одна из распространенных в Какучети, они были известными в городе портными.
— Где ты пропадал, батоно Гогита, я уже соскучился по тебе… — Так просто, по-домашнему могут встречать гостя разве что только в Имерети, чтоб гость сразу почувствовал себя как дома, хотя о какой скуке могла идти речь, когда почетный железнодорожник видел Гогиту с того самого дня в первый раз.
— Да, я заслуживаю упрека, батоно Варден, никак не находил времени… — гость пожал Вардену руку и поздравил с наградой.
— Любим мы преувеличивать, — скромно произнес хозяин и пригласил гостя во двор, — прямо неловко: газета, награда, и даже банкет устроили. А что особенного я сделал? Любой на моем месте поступил бы точно так же… — И, не дожидаясь ответа Гогиты, спросил: — Где вы хотите сесть: здесь, во дворе, или в галерее?
— Где вам будет угодно. Я не отниму у вас много времени, побеседуем немного, если вы согласны, конечно, — извинялся гость.
— Тогда посидим в галерее.
Варден захлопотал, накрыл стол белой скатертью, достал тарелку с сухофруктами и чурчхелами, бутылку водки из холодильника, потом принес из подвала кувшин с «Изабеллой» и, когда сел за стол, извинился:
— Не осуди, Гогита-батоно, не ждал я гостя. Человек я одинокий, то в одном месте перекушу, то в другом, а в холодильнике пусто.
— Ну что вы, батоно Варден, всего вдоволь, вот только сожалею, что вас побеспокоил в столь поздний час.
— Напротив, ты меня очень обрадовал. Завтра я не работаю, так что мы можем беседовать хоть до самого утра.
Долго сидели они в ярко освещенной галерее, когда же их стала донимать мошкара и комары, погасили свет и продолжали беседу при свете луны. Гогита оказался человеком словоохотливым. Он закончил фармацевтический техникум, преподавал в школе сангигиену. Родился в Салихе, где и живет по сей день неподалеку от электромельницы в переулке Урицкого.
Я не буду задерживать вашего внимания на том, о чем говорили, чем делились друг с другом слегка подвыпившие наши герои. Я поведаю вам только о том, о чем не смог бы догадаться даже самый догадливый читатель и ради чего написана эта новелла.
Когда вторично прокричали петухи, Гогита поднял голову, провел рукой по взъерошенным волосам, снял очки, спрятал их в футляр, который положил в карман белого кителя, и, заложив ногу на ногу, уставился на хозяина.
— Ну вот, дорогой мой Варден…
Варден решил, что он собирается уходить, и предложил:
— Скоро рассветет, батоно Гогита, чего тебе в этакую темень уходить. Рассветет — и поедешь к себе преспокойно.
— Если я не надоел тебе, батоно Варден, тогда слушай. Если мой рассказ покажется тебе смешным, смейся, если поступки мои покажутся тебе сумасбродными, скажи, что я сошел с ума, я не обижусь. Но не прерывай меня, прошу тебя. Никому не рассказал бы этого, но ты другое дело, ты должен знать правду. Если помнишь, когда ты спас меня, то первый вопрос, который ты задал мне, был: «Как ты попал сюда, зачем губил себя?» Я ответил, что повредил ногу, потерял сознание и упал на рельсы. Ты поверил мне, так мне во всяком случае показалось, поверили и врачи, потом я сказал, что боль прошла, мне перевязали на всякий случай ногу и отпустили. Я солгал. Ни нога у меня не болела, ни сердце, слава богу, меня не беспокоит.
— Ты что, шел на самоубийство?! — воскликнул изумленный Варден.
Гогита прищурил глаз и, ухмыльнувшись, проговорил:
— Разве я похож на самоубийцу, на несчастного человека? Я же сказал, слушай меня, Варден. Вот уже два года я занимаюсь этим делом. Неплохое это дело, скажу я тебе. Один собирает марки, у другого, как это называется, хобби собирать зажигалки разных марок или же пустые бутылки, но ведь никто не осуждает их за это. Я же занят настоящим делом. Думаешь, это навязчивая идея? Нет, уверяю тебя… Два года я ни с кем словом не обмолвился, если узнают о моих делах, спасибо мне не скажут. Знаешь, почему я открываюсь тебе? Ты другой человек, чистый, надежный, если выдашь меня, не буду на тебя в обиде. На земле столько фокусников, что я перед ними — ягненок. В конце концов и мне мое занятие надоест, но пока я очень увлечен, должен признаться тебе. Ты не догадываешься, о чем идет речь?
— Нет, — чистосердечно признался Варден и, подперев кулаком скулу, приготовился слушать.
— Мы отвыкли от уважения, от внимания друг к другу, дорогой мой Варден. Не знаю почему, но очень уж мы озлобились друг на друга. А почему все это? Конечно, тот, кто потерял совесть, должен получить по заслугам, но чем больше проходит времени, тем труднее отличить мерзавца от хорошего человека. Какие у этих волков манеры, какие на них маски ангелов! Ты не представляешь, как у меня портится настроение, когда я вдруг узнаю, что мой сосед оказался жуликом! Как тут не растеряться, когда сегодня привлекают к ответственности того, кто сам недавно судил. А почему так получается, знаешь? Многие забывают, что в итоге все мы приходим к одному концу, всех нас ждет судный час. Столько вокруг развелось мерзавцев и жуликов, что хорошего человека днем с огнем не сыщешь! Вот я и решил собрать армию честных, добрых людей и придумал следующее: надо, чтоб в газетах чаще отмечались дела добрых и честных людей! И что я делаю, чтоб осуществить эту мою идею, ты и теперь не догадываешься?
— Нет, — в недоумении произнес Варден, хотя что-то похожее на догадку мелькнуло в его голове.
— Что я делаю? Работаю над тем, чтоб найти хорошего человека. Создаю условия для того, чтоб люди совершали героические поступки. Я бы не сказал, что это очень просто. Несколько раз я оставлял в такси деньги и паспорт (сам понимаешь, намеренно), но этот способ оказался не совсем удачным: два водителя по возвращении в гараж сдали деньги, найденные в такси, третий же присвоил себе, а паспорт прислал мне по почте. Я перешел на другой способ, в материальном отношении менее ощутимый для меня: стою на берегу и, как кто-нибудь появится, бросаюсь в воду. Некоторые не раздумывая бросались вслед за мной спасать меня, другие, испугавшись, звали на помощь, а один недавно заставил меня здорово побарахтаться в Риони. Я бросился с Белого моста, высунулся из воды и стал звать на помощь, а он стоит, смотрит и голоса не подает. Когда я в очередной раз скрылся под водой и вынырнул, он махнул рукой и пошел восвояси. Скажи, разве это человек?
— А ты что?
— Что я? Выплыл, конечно… Не оправдал себя и этот способ. Тогда я решил специализироваться на пожарах. Но, во-первых, пожары бывают не так часто, а во-вторых, это связано с риском для жизни — и для меня, и для того, кто отважится спасать меня. На железную дорогу, клянусь тебе, я вышел впервые, и мне тут же повезло. Разве плохо вышло? Во-первых, мы нашли друг друга, во-вторых, начальство будет смотреть на тебя другими глазами, в-третьих, став почетным железнодорожником, ты всегда будешь чувствовать свою ответственность — и на работе, и дома.
Варден вмиг отрезвел, в ушах у него загудело, точно он въехал в глухой и темный тоннель на своем старом и натруженно пыхтящем паровозе. Он не знал, как ему быть. Не хотелось обижать человека, пытающегося столь странным образом совершать свои добрые дела.
— Но а если бы я не спрыгнул, что тогда?!
— Не беспокойся, я одним глазом смотрел в твою сторону, как только локомотив приблизился бы, я бы откатился в сторону; не думаешь ли ты, что я подставил бы свою голову?
— А почему ты до сих пор молчал? — после тяжелой паузы спросил Варден.
— Я не знал, какой ты человек, а вдруг ты разобиделся бы — и тогда мои труды пропали бы даром. А теперь тебя уже наградили, а в том, что я сейчас раскрылся, вина «Изабеллы» и твоей доброты. Хотя, признаться, я думаю, что тебе лучше было бы не знать всего этого.
— Ты не должен был делать этого, теперь я выгляжу смешным.
— Почему?
— И награду я получил ни за что…
— Ну что ты, дорогой мой Варден! Ты ведь не знал о моем намерении и спасал меня потому, что поступить иначе не мог. Ты хороший человек и достоин почета, разве не так? Не сделай я этого, кто бы о тебе узнал?! Мое дело — вторая сторона медали, тебя это вовсе не касается, у меня своя функция. Считай, что я тебе ничего не говорил.
Они долго еще сидели молча, не глядя друг на друга. О чем думал каждый из них, одному богу известно. Когда же над храмом Баграта вспыхнула зарница и жаворонки взметнулись в прохладное небо, Гогита встал, пожал Вардену руку и направился к калитке. Варден, накинув на плечи пиджак, стоял не шелохнувшись и смотрел ему вслед.
Ну, что, дорогой мой читатель, ты убедился, что с людьми происходят странные истории?..
Перевод В. Зининой.
ШАГ
Не обижайся, голубушка, но ты сама во всем виновата. Я вот ровесница твоей матери, и то такого не сказала бы. Дай бог здоровья моим детям и внукам, но я в свои шестьдесят восемь лет завтра же вышла бы замуж, если бы только захотела (боже меня упаси)! А ты-то чего переживаешь? Что значит — «какое время»? Да, конечно, лучшие свои годы ты пустила на ветер. Гнилой орех, сама знаешь, ни мышке, ни человеку не нужен, но для тебя еще ничего не поздно. И выбрось эти мрачные мысли из головы. Вообще, деточка, ни для кого ничего никогда не поздно, если душа просит и настроение есть. Боже мой, ну что значит «не сумела выйти замуж»?! Пусть никто не смеет говорить, что вот, мол, очень хотела, вовсю старалась выйти замуж, но не смогла. Вранье все это. Не годитесь вы, милая моя, не годитесь. Во всех своих бедах судьбу обвиняете, — так мне, дескать, на роду написано. Что тебе написано-то? Не на роду написано, а просто не захотела. Не покрутилась, что-то сразу не сладилось, ты и бросила оружие. Чего тут говорить, — все мы хотим выходить замуж так, как нам мечталось, ну, а если не получается? Если не сбылось? Если ты не рассчитала своих сил? Значит, все кончено, мне уж замуж не выйти — и давай топтать свою жизнь, калечить кто во что горазд, так, что ли?! Ты говоришь, любовь. Я-то верю: большой любви и впрямь приносят жертвы, а как же. Раз не сложилось, не вышло, как хотелось, женщина все-таки существо слабое, как там ни прыгай, и женщина, у которой большая любовь, до конца остается верной рабой своего чувства. Это я понимаю, такие женщины слишком редко встречаются. А ты другое говоришь: дескать, никого я не смогла полюбить, вот и не вышла замуж. Что значит не полюбила и осталась без мужа? Значит, слабый ты человек. Не обижайся, но ты еще и эгоистка. Большая любовь — дар небес, талант. И что же, если мне его не дано, этого таланта, — все, конец, выцарапать себе глаза и не идти замуж?! Любовь, деточка, приходит иногда до свадьбы (это лучше), иногда после свадьбы, а ты решила не рисковать, не связываться с жизнью, вот и сидишь у окна, ждешь, когда большая любовь к тебе постучится. А тем временем тебе уже сорок стукнуло. Знаешь что? Я много видала девушек-ангелочков, которые не знали отбоя от женихов, а замуж выйти так и не смогли. Мы часто ищем себе прекрасного принца и забываем о том, что прекрасному принцу нужна прекрасная принцесса. Кривляемся, выбираем. У того нос длинный, у этого шея короткая, у третьего зубы не нравятся, четвертый в неглаженой сорочке ходит. Велика важность! Надо трезво смотреть на жизнь. Разве сами мы без изъяну? Это же, в конце концов, мужчина. Его ни на выставке показывать, ни на продажу выставлять. Человек, божье созданье. Ну и пусть себе живет с короткой шеей, что, мир от этого перевернется? Неправильно это, деточка, нельзя быть чересчур разборчивой — пробросаешься. Да я у самой богородицы Марии недостатков сколько угодно отыщу, а какому-нибудь гордецу-капризнику и Кинцвисский ангел будет не мил. Ты подумай, ведь мы же, как птицы, живем на этой земле всего несколько дней, не больше. Чего же нам ждать? Хватит перебирать! Неужели не родился на свет человек, который может нам понравиться? За судьбой погонишься — оглянуться не успеешь, как уже старуха. Спохватишься, когда зеркало напугает. Старость умеет в одночасье свалиться на голову. Иной раз за день и состаришься, глядишь — ни мужа у тебя, ни детей. У меня прямо сердце переворачивается, когда такая ягодка, как ты, говорит, что не смогла выйти замуж. Ты уж прости, однако даже зло меня берет. Я себя ругаю — кто меня спрашивает, кто просит вмешиваться в чужие дела, — да только, думаю, неправильный это человек, слишком высокого о себе мнения. Не признала никого достойным себя, вот и осталась старой девой. Грех так говорить, детка, грех. Про всех так и не скажешь. Кого болезнь одолела — что тут поделаешь. Но уж если ты здорова и не выходишь замуж или не женишься из-за каких-то идиотских причин — «не люблю» там или «условий нет», как некоторые говорят, — не боюсь сказать, идиотские это причины, и о таких людях у меня свое мнение. Не испытываю к ним симпатии, хоть убей, так-то.
Если мое брюзжание тебе еще не надоело, я расскажу, как сама выходила замуж. Не для того, конечно, чтобы ты поступила так же, вовсе нет. Трудно что-то другому советовать, да и времена нынче иные. И девушки другие, и ребята. В моей истории тебе только одно может стать наукой — это чтобы ты поактивнее была, поприлежней жизнь свою устраивала. Знаешь ведь, умный человек сказал: это не я бегу, это меня нужда гонит. Что мы сами себе хозяева — факт, и нечего тут судить да рядить.
Я выросла на улице Ниношвили, вниз от рынка, восьмой переулок, дом десять. Отец мой был жестянщик, в прошлом году скончался, бедный, в октябре годовщина будет. Окончила четвертую женскую. Школа Турдзеладзе, ты о ней, ясное дело, слыхала, — единственная образцовая школа в Кутаиси. Окончила школу, потом двухгодичные курсы медсестер, звезд с неба не хватала, и на этом мое образование завершилось. В двадцать лет как начала работать в железнодорожной больнице, так до сих пор там и работаю. Кроме меня, у отца никого не было. Говорят, в двадцать лет все красавицы, не совсем это верно. Не сочти бахвальством, но я и в самом деле не была дурнушкой. Высокая, длинноногая, стройная, с черными вьющимися волосами, большеротая. Где сейчас все это… А вот зубы подкачали, такие же были редкие, как теперь, что поделаешь. Все равно многим нравилась. Кому что. Мужчин разве поймешь. У меня по соседству одни ребята жили, так что, как говорится, среди мальчишек выросла. Я в моих мальчишках души не чаяла; некоторые до сих пор там живут, некоторых уже нет в живых. Когда встречаю их, обнимаю, как родных братьев (брата мне бог не дал), и плачу. Они мне и вправду братья. Вместе выросли. Во дворе вместе играли в футбол, когда я была уже в девятом классе. Мать меня все бранила: погляди, говорит, на себя, какая корова вымахала, с вот такой задницей, а все гоняешь за мячом, словно Маргуша-дурочка. Короче говоря, сорвиголова была. Сорвиголова, точно, только добрая, не вредная. Характер у меня что у мальчишки, вдобавок такой искренний, наивный, что отец хватался за голову: что с ней делать, кто ее такую замуж возьмет? Отцовские страхи (он, вечная ему память, был человек умный) едва не оправдались. Годы пролетели так, что я и не заметила. Знай себе одно твердила: «Куда мне торопиться, куда спешить», — а мне уж двадцать восемь. Я-то все себя маленькой девочкой считаю. Безрогий козел все думает, что он козленок, вот и я так же. Туда, сюда — гляжу, мои ровесницы семьями обзавелись, ребята с нашей улицы переженились и живут припеваючи. А я — всем подружка, добрая вестница, краса их свадеб — остаюсь сама по себе. Небось слыхала — кто всех благословляет, сам без благословения будет. Думаю, что же это получается. Если разобраться, никто со мной серьезного разговора не заводил. В лицо-то все улыбаются, говорят — дай бог тебе здоровья, а толку-то! Э, нет, думаю, так дело не пойдет, надо что-нибудь предпринять, пока не поздно. В Вакисубани, это в конце нашей улицы, за полотном, не доходя до больницы, налево, жил Отар Чумбуридзе. Родители его находились в Обче, сам он снимал комнату и работал в пединституте. Он недавно окончил институт, и его там оставили ассистентом — или как это у них называется, не знаю. Я с ним встретилась на свадьбе синауридзевской дочери. Тощий, нос насквозь светится. Пиджак на локтях протерся, а все-таки ассистент — при галстуке. Больше он ничего не мог себе позволить, раньше ведь у честного ассистента ничего не было. Да и теперь-то что у них есть… Роста среднего, слегка прихрамывал. Лицо-то миловидное, только глазки, как блошки, бегали туда-сюда, будто он все время чего-то боялся. Короче говоря, внешне он мне все-таки не понравился, но привлек внимание мое тем, что умел красиво говорить и еще, скрывать не буду, пару раз он мне улыбнулся. Так наивно, так жалко улыбнулся этот парень, что запомнился он мне, я-то все же девчонка была, больше ничего. После этого, когда встречались мы с этим Чумбуридзе на улице, он улыбался мне, спрашивал: «Как дела?» — и шел дальше. Мне все казалось, что он не решается со мной заговорить или стесняется, не знаю. Он был вообще застенчивый такой, замкнутый парень, я ни разу не видела его с девушкой. Так прошло пять лет. Я тебе говорила, мне уже двадцать восемь лет исполнилось, а Отару тридцать пять (когда мы на свадьбе познакомились, ему было тридцать). У него своя жизнь, у меня своя. Мы ни разу толком даже не поговорили друг с другом. Здравствуй — до свидания, вот и все наши отношения, а улыбался он мне одинаково все эти пять лет. В Кутаиси все всё про всех знают; я часто слышала, что Отар Чумбуридзе застенчивый и нерешительный молодой человек. И невесты у него нет. Так и состарится без жены, ну, там, мало ли о чем люди говорят. В общем, чтобы не тянуть кота за хвост (я вижу, ты торопишься), однажды вечером — уж этого-то дня я никогда не забуду, двадцать восьмое сентября было, я решилась постучаться к моему Отару Чумбуридзе. Он сразу же открыл дверь, словно ждал моего прихода. Входи, говорит, стул пододвигает, глаза улыбаются. Я огляделась: интересно же, как выглядит комната холостого мужчины, — гора посуды, на окнах пыль, грязные занавески. Что значит — нет женской руки, а! Уставилась я в пол и с ходу прямо говорю: «Вот, пришла к тебе, нет у меня другого пути. С ума по тебе схожу, обожаю, ты должен на мне жениться». Когда вспоминаю сейчас его лицо, не могу удержаться от смеха. Оно стало шафранного цвета. Потом он заулыбался, думал обратить в шутку, а когда понял, что я не шучу, рассердился. Что это, мол, за разговоры такие, я, говорит, думал, ты по делу пришла. Я ему отвечаю, что это, дескать, самое главное дело в жизни, и я отсюда никуда не уйду, потому что с сегодняшнего дня я твоя жена и нечего тут ворчать. Он говорит: ты что, взбесилась, кто тебя научил этим глупостям, разве когда-нибудь выходили замуж таким способом? Ясное дело, прогоняет он меня. Тут уж и я разозлилась, у меня ведь самолюбие есть, девушка я, в конце концов. Интересно знать, говорю, божий ты дурачок, чем это я тебе не нравлюсь. Сгоревшую лепешку и собака не съест, но у тебя-то не тот случай, ты мне пять лет уже улыбаешься, а все слова вымолвить не можешь. Вот и видно, что ты за фрукт. Ведь как дорого свою пересохшую худобу ценишь! А чем я хуже тебя? Словом, обругала его, как могла. Он смеется. Потом почесал в затылке и начал изворачиваться. Нечего, говорит, тебе меня бранить, ты хорошая девушка, но дело серьезное, надо подумать, куда нам спешить. Посмотрим, погуляем немного, может, и не подойдем друг другу вовсе. Я ему отвечаю, мол, нечего мне гулять, можешь обойти весь Кутаиси, никто тебе обо мне дурного слова не скажет, никому я зла не причинила, и все меня любят.
Вот, словом, я к тебе пришла, хочешь — женись, нет — пойду своей дорогой. А если бы, говорит, меня дома не было, ты бы к другому пошла? Авось кто-нибудь не выгнал бы? Мужчины все-таки ужасные грубияны. Только я уже не выдержала, нервы не железные, и расплакалась; если бы, говорю, тебя дома не было, я бы к тебе завтра пришла, болван несчастный, люблю я тебя, куда только твои слепые глаза пять лет смотрели, — и всхлипываю. Он тоже заплакал. Что ж ты мне раньше не сказала, говорит, — жалостливое сердце у моего Отара. Короче говоря, осталась я в ту ночь у него, а на следующий день известила родителей. Отец с матерью думали, что я в больнице на дежурстве, они и не собирались меня разыскивать. С тех пор мы вместе. Троих детей вырастили, не опозорились. Если и говорить о супружеской любви, то это как раз про нас, за сорок лет громкого слова друг другу не сказали. Зачем господа бога-то гневить.
Перевод А. Златкина.
ПРИГОВОР
Пропустив Того Цуладзе, швейцар больницы однорукий Шалико оттеснил толпу посетителей за дверь, задвинул засов и, шаркая войлочными тапочками, пустился вдогонку за великаном. Тот стремительно шел по коридору. У лестницы остановился и, не глядя на Шалико, спросил:
— Как он?
— Еще спрашиваешь?! Изуродовал до неузнаваемости, как колодезное ведро! Слыханное ли дело — так избивать человека?
Цуладзе провел кулаком по лбу и бросил уничтожающий взгляд на выскочку-швейцара:
— Твоего карканья не хватало. Что говорят?
— Смертельной опасности нет, но всякой жестокости есть предел, — стоял на своем Шалико.
— Ты когда-нибудь видел избитого мной человека? — Того положил свою лапу на плечо швейцара и, видимо, так сдавил его, что худенький Шалико отскочил в сторону, опасливо передернув плечами.
— Не видел, потому и говорю. Пьяным ты не был, да и он вроде тоже. Впрочем, разве разберешь, он, как пасхальное яйцо, был весь красный от крови.
— И часа не прошло, как мы сели за стол, тамада только второй тост говорил. Откуда же мне пьяным быть? На каком он этаже?
— На втором. Да, но…
— Кто с ним?
— Баха, старший брат.
— Среднего как зовут?
— Как, еще и средний есть?
— Да, белобрысый такой. Кажется, его зовут Чуту.
— Не ходи, Того, заклинаю тебя твоей девушкой, не ходи, — швейцар вцепился ему в рукав.
— Почему это? — Цуладзе пригладил свой блестящий черный чуб и, положив руку на пояс, улыбнулся.
— Ты не знаешь, Баха совсем помешался! А ну отделай так кто-нибудь твоего братца, что бы ты запел? Не ходи, не надо. Пусть малость придут в себя. Только что перевязку сделали. Кровотечение из носу с трудом остановили.
— Нет, именно сейчас я должен поговорить с Баха. — Того Цуладзе был непреклонен в своем решении.
— Зачем спешишь? В милицию они не побегут, ты это знаешь.
— При чем тут милиция? Разве я похож на человека, который чего-то боится? — Цуладзе стал подниматься по лестнице.
— Это я боюсь. Вам на все начихать. А случись что, с меня спросят, — последние слова Шалико произнес плачущим голосом, знал, что упрямого Того не переубедить.
— Недаром говорится, кто кашу заварил, тот и расхлебывай! — уже с лестницы бросил Цуладзе.
Шалико замер и непонимающе уставился на него.
— Мне нечего расхлебывать. Расскажу Баха все, как было. Поймет меня — хорошо, а нет — так нет, я готов на все, — вполголоса, останавливаясь на каждой ступеньке, говорил Того; при этом он каждый раз разгибал спину и смотрел вниз на оторопевшего швейцара.
Дверь восемнадцатой палаты оказалась приоткрытой. Он заглянул в нее. Взгляд уперся в могучую спину Баха Салакая, склонившегося над кроватью. Того втянул в себя воздух, открыл дверь и тут же закрыл ее за собой, как если бы убегал от погони. Долгое время стоял, прижавшись к стене. У окна лежал больной с перебинтованной головой. Виднелись только рот и полузакрытые глаза.
Баха сидел у постели брата и обмахивал его газетой.
— Баха!
Баха оглянулся. Увидев Того, зло отшвырнул газету, посверлил его недобрым взглядом и, махнув рукой, отвернулся:
— Чего тебе?
— Это моих рук дело, Баха, — Цуладзе тяжело дышал, то и дело вытирая потные ладони о брюки.
— Знаю. Сейчас у меня нет времени говорить с тобой. Уходи.
— Ты должен выслушать меня, Баха.
— Я сказал, уходи! Ты хотел вышибить из него дух? Если сегодня ночью с ним ничего не случится, я покажу тебе, как давать волю рукам, а нет, готовь веревку.
— Баха!
Больной приоткрыл глаза, увидев стоящего у дверей Того, странно скривил губы и сплюнул кровью.
— Убирайся, говорю! Не доводи до того, чтобы я прикончил тебя в больнице. Завтра я займусь тобой.
— Делай со мной что хочешь, но прежде выслушай.
— Ты, можно сказать, жизни его лишил, а я тебя слушать должен? — руки у Баха дрожали.
— Врач сказал, ничего с ним не будет.
— Ты его чуть не убил. Уходи, Того, я тебе этого не спущу, так и знай…
— Баха! — Цуладзе сделал несколько шагов вперед и остановился посреди комнаты.
— Я уже тридцать лет Баха!
— Я же никогда никого и пальцем не трогал, ты когда-нибудь слышал, чтобы я дрался?
— Такой вот тихоня, как ты, и может убить человека! Уходи, говорю.
— Да никакой я не убийца, и ты это хорошо знаешь. Вкалываю целыми днями, маюсь…
— В последний раз говорю — убирайся, не то схлопочешь, не время сейчас разбирать, что да как, — Баха говорил свистящим шепотом.
Больной, разумеется, слышал весь разговор. С трудом подняв левую руку, он прикрыл ею глаза, чтобы пришедший не заметил слез, увлажнивших повязку.
Того подошел к столу, вырвал из тетради лист, вытащил из кармана рубахи карандаш, сел рядом с Баха и приглушенным басом, так, чтобы больной слышал, отчетливо произнес:
— Знаю, не время сейчас заводить этот разговор, но я скажу всего два слова, и, коли буду прав, пусть он напишет здесь «да», коли нет — пусть ничего не пишет. Правда, тебе сейчас не до этого, но я ведь не прощения прошу, я хочу, чтобы ты знал правду, и, если ты не выслушаешь меня, клянусь прахом матери, наложу на себя руки. Ты должен знать, как это все случилось. Весь город черт-те что болтать будет — на всяк роток не накинешь платок, впрочем, меня это мало волнует…
Баха молча смотрел на Того. Наконец взял у него бумагу и карандаш. Карандаш сунул в правую руку больного, а левую, осторожно опустив, положил на лист бумаги:
— Говори!
Того посмотрел в сторону, вытер потную ладонь о всклокоченный чуб и начал рассказывать:
— Это было два месяца назад, в Цхалтубо, числа не помню. Время — три часа ночи. Из сквера, что возле бывшей правительственной бани, выходят твой брат и дочка Ивлиты.
— Какой Ивлиты?
— Той самой, которая сегодня дочь замуж выдала, Майю. Кроме нее, у Ивлиты никого нет.
— Короче, — поморщился Баха.
— Ивлита родственницей мне приходится, может, ты этого не знаешь. Что мне нужно было в Цхалтубо в такое позднее время? Я работал в ночную смену. Сел ко мне в машину какой-то тип. Попросил отвезти в Цхалтубо. Приехали, а он мне говорит: подожди меня, я сейчас деньги принесу. Я прождал его целый час. Нет, я знал, что никаких денег он не принесет, но хотел убедиться в его гнусности. В это время появляется эта парочка. Не узнали мою машину. «В Кутаиси повезешь?» — спрашивает твой брат. «Садитесь», — говорю. Сели на заднее сиденье, и вдруг девчонка как вскрикнет: «Ой, дядя Того!» Поворачиваюсь и, как мне и подобает, спрашиваю: «А вы что здесь делаете посреди ночи? Мама знает, где ты?» Это я Майе, а то с парня какой спрос. «Дядя Того, мы любим друг друга, а маме я сама все расскажу. Вы только ничего ей не говорите, она думает, я на рождении у Пественидзе, и сойдет с ума, если вы ей что-нибудь скажете». Девчонки в ее возрасте частенько обманывают матерей… Не хотел я быть причиной ссоры между матерью и дочерью и смолчал, конечно. Потом раза два видел их вдвоем в неурочное время и в довольно укромных местах. А недели две назад встречаю твоего брата. «Как дела, зятек?» — спрашиваю. А он мне: «Мы с Майей давно расстались». — «Почему?» — «Да потому, что я не собираюсь жениться, а она замуж хотела». — «Как же так? Таскал девчонку повсюду за собой, а теперь — «жениться не собираюсь»? — «Это не я ее таскал, она сама за мной ходила. Любили мы друг друга, а потом разлюбили, вот и все. Прошло время, когда вскрывали вены из-за несчастной любви». Сказал и показал мне спину. Было такое?
Больной облизнул нижнюю губу, сложил пополам лист бумаги и с трудом вывел карандашом: «Да».
— Дальше? Нельзя ли покороче. К чему столько лишних слов, — Баха сидел, уставясь в пол.
— Сегодня играли свадьбу. Майину свадьбу. Она вышла за парня из Окриба. Я его даже не знаю. И полчаса не прошло, как мы сели за стол, заявляется твой брат со своими дружками. Их было двое, ни один из них мне не знаком. Ну я решил, приглашены они. «Садитесь, пожалуйста», посадил, все как полагается. Твой брат был пьян. Майя сделалась мертвенно-бледной. Пару раз он что-то такое брякнул во всеуслышание. Тамада нахмурился. Явно он собирался сорвать веселье. «Дядя Того, умоляю, спаси», — это мне Майя. Сел я рядом с ним и говорю: «Веди себя потише. Не надо подпускать эти шпильки, и так все знают, что Майя была неравнодушна к тебе. На твоем месте я бы вообще сюда не пришел». — «Оставь меня, я свое дело знаю». Ни во что меня поставил. И такое выдал — в глазах потемнело. Ну, думаю, позор на все семейство! Слыханное ли дело, Баха, срамить невесту на ее собственной свадьбе?! Разве настоящий мужчина позволит себе такое? Чью свадьбу расстраиваешь, той, которую любил и еще две недели назад к груди прижимал?
— Я сказал, короче, — прервал его Баха.
— Я кончил. «Выйди на минутку, у меня к тебе дело», — сказал я ему. Мы спустились вниз, к черешневому дереву, в укромный уголок. Больше я ничего не помню.
— Было такое? — теперь уже Баха спросил больного, обмахнув его газетой.
Избитый молчал. Потом снова облизнул вздувшуюся губу и на сложенном листке бумаги, на этот раз в другом месте, написал: «Да».
Какое-то время все трое хранили молчание.
Наконец Баха встал, подошел к столу, налил в стакан воды, но не выпил, а взглянул на Того. Тот продолжал сидеть на кровати, сцепив пальцы рук так, что они побелели.
— Иди, Того, домой, — тихо сказал Баха.
Того встал и вяло направился к двери. Баха пошел за ним.
Они молча шли по коридору. У лестницы Того схватил Баха за рукав.
— Я свое сказал, Баха, — он смотрел на него своими красивыми воловьими глазами, — теперь когда хочешь и где хочешь я отвечу за то, что сделал. Но я хотел, чтобы ты был в курсе. Больше никто об этом не узнает…
Баха не стал медлить с ответом:
— Иди, Того. У меня к тебе никаких претензий. Ты хорошо сделал, что пришел, клянусь прахом отца. Разок вздуть моего братца не мешало. Вот он и получил свое. Ладно, хватит об этом. Дай бог поправится, ума наберется.
Они расстались.
Баха Салакая стоял у лестницы и разглядывал ярко освещенный коридор, пока грузные тяжелые шаги спускавшегося вниз Того, становясь все глуше и глуше, под конец не замерли вдали.
Шалико отодвинул засов и пропустил посетителя. Его конечно же интересовало, что произошло там, наверху, но спросить он не решился.
Перевод Л. Татишвили.
ДОКТОР
Полдень. С юго-запада дует горячий, удушливый ветер.
На улице ни души.
На всю округу разносятся оглушительные удары доли[9], и от этого звука делается еще более невыносимым знойный кутаисский ветер.
В полдневной тишине громкие удары доли до того явственно слышны, что не спрятаться, не убежать от них человеку. Кто-то старательно упражняется в игре на доли над самым ухом у читателей городской библиотеки № 3, агентов соцстраха и безобидных сотрудников треста озеленения. Эти последние затыкают уши пальцами, и хорошо, что они не слышат друг друга, а то по движениям губ видно, что не очень-то приятные слова слетают с их уст в адрес упрямого музыканта, который в эту полдневную жару не щадит себя ради искусства и, невзирая на единодушный протест обитателей улицы Ниношвили, разучивает сольный концерт для доли.
На балкон в одних трусах и майке вышел высокий, с журавлиной шеей доктор по имени Александрэ Гобронидзе и свесился через перила.
— Гурам!
Звуки доли не прекращались.
— Гурам! Не слышишь, что ли?! — изо всей мочи крикнул доктор, но, поскольку ему и на сей раз не удалось дозваться увлеченного своим делом музыканта, Гобронидзе прибег к более эффективному средству: взял швабру, просунул сквозь балясины и стукнул ею о столб нижнего балкона.
Доли замолчал, и внизу показалась лысеющая голова.
— Чего тебе? — спросил будущий великий виртуоз исполнитель и угрюмо посмотрел на отца.
— Отдохни немного. Сил больше нет. Устали.
— От чего вы устали? — с явной усмешкой в интонации спросил Гурам Гобронидзе и, так как ему неловко было глядеть снизу вверх (да еще солнце слепило глаза), зажмурился и раскрыл рот.
Металлические зубы в ту пору были в большой моде, и Гурамов рот был полон благородного металла. Под солнечными лучами открытая пасть Гурама ослепительно сверкала и переливалась, и доктору Гобронидзе невольно подумалось: от человека с такими зубами пощады не жди.
— Да от этого бесконечного треска, сынок. Ты уж сперва убей нас с матерью, а потом колоти сколько влезет в свой проклятый доли.
Гурам ухмыльнулся:.
— А как ты думаешь, отец, у тех, кто хорошо играет на доли, никогда не было ни отца с матерью, ни соседей?
— Откуда я знаю.
— А я вот знаю. Никто в лес не ходит упражняться на доли. Все так и учатся. Так что придется вам немного потерпеть.
— Уже и терпение лопнуло, слушай. Сколько можно терпеть? Как только у тебя руки выдерживают, неужели ты-то не устаешь?
— А когда на застольях классно играют на доли, это вы любите? Скажешь, нет… Ну а во сне на доли играть не научишься. Чтобы хорошо играть, трудиться надо, дорогой отец, трудиться и еще раз трудиться.
Александрэ подумал, что вовлечет сына в спор и хоть ненадолго даст отдохнуть всей улице, но не тут-то было.
— Кто тебе мешает трудиться, но ты ведь с таким инструментом дело имеешь, что если бы это только нас беспокоило, так еще полбеды. Ты же всю улицу оглушаешь своими занятиями. Представляю, как они матом кроют всю нашу родню.
— Но в таком случае когда же мне работать над собой, дорогой отец? — чистосердечно удивился Гурам. — Утром соседи спят — матом крыть будут, в полдень соседи спят — матом крыть будут, вечером соседи спят — опять же матом крыть будут. Какое же мне подыскать время, скажи, пожалуйста?! Да пускай матерятся сколько их душе угодно!.. И вообще не мешай мне заниматься. Если тебя так уж воротит от моей игры, можешь пойти прогуляться по улице. Чего дома-то киснешь в субботний день?
«Почему бы и в самом деле не прогуляться?» — подумал Александрэ, оделся, спустился во двор; когда он открывал калитку, доли опять на секунду замолк, и Александрэ услышал за спиной заботливый голос сына:
— Не пей смотри! Кто бы ни пригласил, откажись, Не пей, заклинаю тебя моим здоровьем! Вспомни, как ты в тот день задыхался. Ты слышишь?! — повышал голос Гурам.
— Слышу, — недовольно проговорил Александрэ и, хотя слова сына согрели ему сердце, все-таки подумал: будь ты порядочным сыном, читал бы книги, чем на своем доли упражняться, — тогда и мне не пришлось бы идти «прогуляться».
Александрэ Гобронидзе был хирургом. Правда, его хирургическая карьера не ознаменовалась блистательными открытиями наподобие пересадки сердца или чего-нибудь в таком роде. Александрэ в основном специализировался на операциях по удалению аппендикса и ампутации конечностей. Хотя для больных любое хирургическое вмешательство дело серьезное и опасное, но среди врачей подобные операции считаются легкими. Возможно, в молодые годы у Александрэ и бывали порывы ступить на неизведанные тропы хирургии и обогатить медицину новыми экспериментами, но больница, в которую был направлен Александрэ, с точки зрения технического оборудования и даже элементарной санитарной гигиены не могла предоставить ему широкого поля деятельности, потому-то хирург Александрэ Гобронидзе смирился с судьбой и поплыл по течению жизненной реки.
У Александрэ была привычка здороваться безмолвно, жестами. При этом он приветствовал знакомых не кивком головы, как это было принято в его родном городе, а вскидывал голову вверх и вслед за тем поднимал правую руку. На нем был китель из желтоватого полотна с двумя нагрудными и двумя боковыми карманами. Издавна известно, что полотно садится при стирке, и это исконное свойство одного из древнейших видов ткани не преминуло сказаться и на кителе Александрэ. Рукава его до того укоротились, что, глядя издали, можно было подумать, что вот, мол, Александрэ даже в быту не изменяет своей профессиональной привычке, даже на улице засучивает рукава. При ходьбе он то и дело подтягивал сползающие вниз брюки. Длинные, загнутые книзу ресницы затеняли его светлые глаза, до того спокойные, что он часто производил впечатление дремлющего человека. У Александрэ был крупный нос с горбинкой и симметрично раздвоенный подбородок.
…У входа на базар царил невероятный гам и гвалт. И продавцы, и покупатели покатывались со смеху. Два милиционера, два рослых детины, истомившись от жары, окатывали один другого водой. Бросив на произвол судьбы сложнейшее дело надзора за порядком в общественных местах, они гонялись друг за другом с полными ведрами. Даже карманные воры (на каком базаре их нет?) и те стояли как зачарованные, забыв о своем ремесле.
У киоска с газированной водой выстроилась большая очередь. Но киоскерша, рыжая толстуха, торговала очень бойко, и Александрэ добрался до нее довольно быстро. Только успел наш хирург отойти в сторонку и поднести стакан к губам, как явственно услышал за спиной:
— Конечно, почему бы тебе не выпить сладкой водички: свояка-то моего спровадил на тот свет, а сам жизнью наслаждаешься.
Александрэ прикинулся глухим. Всем сердцем желал он, чтобы эти слова были бы адресованы кому-то другому.
— Нет им пощады, этим врачам! — продолжал голос, и Александрэ понял, что влип. Насколько он заметил, в очереди за газировкой не было никого из его коллег.
— Вы это обо мне? — обернулся Александрэ.
Перед ним стоял тучный гражданин маленького роста с торчащими наружу верхними зубами, на голове его красовался носовой платок (чтобы солнце не слишком припекало мозги).
— Вы, конечно, не узнаете меня, зачем вам теперь нас узнавать. Надо было тогда заставить тебя нас запомнить! — страшным шепотом, четко выговаривая каждую букву, сказал человек с торчащими зубами и посмотрел в сторону.
— Вы обо мне? — переспросил смущенный врач.
— Я полагаю, что, кроме вас, другого хирурга Саши Гобронидзе пока что нет в Кутаиси.
— Верно.
— Вы все забыли, конечно. Человек для вас все равно что муха. Все вы большие мастера отправлять больных на тот свет. Кто знает, сколько таких, как мой свояк, угробили вы за свою жизнь. Однако, может быть, не сочтете за труд припомнить: в позапрошлом году вы моему свояку Мелитону Кирвалидзе сделали операцию слепой кишки — и на второй же день человек концы отдал.
— Как фамилия, как вы сказали?
— Кирвалидзе, из Окрибо. Пожилой такой человек, моего роста и моей комплекции, такой же полный и ладный, как я.
В другой ситуации Александрэ мог бы и рассмеяться, так как при первом же взгляде на его собеседника легко было убедиться, что в свояке покойного Кирвалидзе даже намека на «ладность» не было. Он скорее всего походил на бочонок.
Что касалось самого Кирвалидзе, то Александрэ вспомнил его. Действительно, был такой случай. У больного было прободение аппендикса. Хирургическое вмешательство ничего не давало. Организм уже был отравлен. Перитонит быстро развивался. По настоятельной просьбе близких и родных (среди них он не помнил своего собеседника) Александрэ пришлось оперировать больного, но, увы, без положительного результата.
— Вы что-нибудь смыслите в моем деле? — Александрэ поставил стакан на прилавок, не допив его до половины. Жажды у него как не бывало.
— Зато сами вы небось чересчур много смыслите, потому-то, понимаешь, и не выжил мой свояк! — заявил человек с платком на голове.
— Что вы кричите! Вы же не знаете, в каком состоянии его привезли ко мне.
— Ну да. Мертвого привезли, а тебя просили как-нибудь оживить.
— Я этого не говорю.
— Привезли живого, а увезли мертвого, скажешь, не так?! Тут и спорить нечего.
— Я и не собираюсь с вами спорить.
— А что вам с нами спорить, мы народ темный. Вот только надо было сразу в суд на вас подавать да за решетку отправить, тогда, глядишь, по-другому запели бы. А сейчас чего уж там… все шито-крыто.
— За что бы это меня за решетку посадили, хотел бы я знать? — задрожал голос у Александрэ.
— Всех вас пересажать надо. Не одного тебя. Все вы, здешние врачи, только и делаете, что в руки смотрите: кто сколько даст за своего больного. Жизнь человека в грош не ставите, не так, что ли?
Александрэ покрылся холодной испариной. Человек с торчащими наружу зубами говорил нарочито громко. Александрэ почувствовал, что его собеседника в настоящую минуту не столько интересовала правда, сколько одолевало стремление унизить, оскорбить, задеть самолюбие врача и подорвать его авторитет. И, как можно было заметить по выражению лиц стоящих в очереди людей, он был близок к своей цели.
У врача сжалось сердце, и по звону в ушах он понял, что у него подскочило давление.
«Видно, как с утра день не заладится, так уж добра не жди. Ничего у меня с этой прогулкой не выйдет. Пойду-ка посижу немного у брата», — подумал Александрэ и быстро зашагал прочь от своего вошедшего в экстаз оппонента. Александрэ принял правильное решение. Человек с платком на голове относился к той категории людей, которых нельзя переубедить никакими доводами и доказательствами. В споре с ним наш доктор свободно мог заработать настоящий инфаркт. Разумнее всего было, конечно, уйти.
Старший брат Александрэ, пенсионер Григол Гобронидзе, жил в начале улицы Ленина, между Домом пионеров и аптекой. Хирург слишком резво для своего возраста перебежал на ту сторону — ему хотелось перейти дорогу раньше, чем проедет приближающийся трамвай, — и пошел по направлению к мосту.
Уже невдалеке от моста его настиг долгий трамвайный звонок. Александрэ не оборачивался, поскольку знал, что пунктуально соблюдает правила уличного движения для пешеходов, но прибавил шагу. Назойливый трамвайный звонок не умолкал. Доктору показалось, что трамвай, въехавший на мост, персонально следует за ним. Ведь сколь ни мала скорость у этого отживающего свой век городского транспорта, все равно он давно уже должен был обогнать нашего специалиста по аппендицитам и ампутации конечностей.
Александрэ почти бежал. Его догонял протяжный трамвайный звонок. Доктор зашагал медленнее, трамвай соответственно тоже уменьшил ход. Когда наконец Александрэ все-таки вынужден был обернуться, трамвай вдруг остановился прямо рядом с ним посреди моста и из кабины мигом выскочил вагоновожатый. Александрэ от страха попятился и ухватился за перила моста. К нему подбежал счастливо улыбающийся вагоновожатый, крепко пожал ему руку и кивнул на пустой рукав своей рубашки, заправленный в карман.
— Доктор Саша, вы меня не узнали?
— Узнал, как же! — облегченно выпалил Александрэ.
Врач узнал своего пациента. В прошлом году он ампутировал руку этому молодому мужчине. Вследствие производственной травмы (он был рабочим на автомобильном заводе, руку втянуло в станок) левая рука у него была до того искромсана, что ничего, кроме ампутации, нельзя было предпринять. К тому же опухоль и кровоизлияние распространились и на область плеча, и, чтобы избежать возможной гангрены, хирург ампутировал больному руку выше локтя и этим, быть может, спас его от смерти.
— Как вы поживаете, доктор Саша? — Бывший больной по-прежнему крепко стискивал кисть врача.
— Кряхчу понемногу. — На этот оригинальный вопрос Александрэ всегда давал такой стереотипный ответ.
— Зачем же кряхтеть, вам положено счастливо жить и здравствовать. Такого золотого человека, как вы, я еще никогда в жизни не встречал.
— Спасибо, дорогой, — засмущался врач.
— Доктор Саша, я вам так благодарен, в таком я долгу перед вами, что внукам своим закажу любить вас и руки вам целовать.
— Ну что ты, что ты…
— Четырьмя детьми клянусь, если это не так. Вы мне жизнь подарили. Когда меня в больницу привезли, я уже с белым светом распрощался, думал, не выкарабкаюсь.
Трамвай стоял посреди моста. Расчувствованный вагоновожатый не собирался уходить. Недовольные пассажиры принялись стучать в окна.
— Ступай, зовут тебя, — показал на трамвай Александрэ, но бывший пациент не хотел с ним расставаться.
— Ничего, пусть подождут. Ох, господи, в какое неудобное время встретились мы с вами, доктор Саша! — забеспокоился вагоновожатый.
— Да что ты, все нормально, только не задерживайся больше, народ тебя ждет.
— Ну как же мне вас без магарыча отпустить. Вы знаете, как много вы для меня значите? Каждое утро я богу за вас молюсь, больше родного отца почитаю.
Из трамвая послышались недовольные голоса и угрозы:
— Иди, слушай, будь человеком.
Вагоновожатый все еще восторженно глядел на своего спасителя и тихо поглаживал его по плечу.
— Доктор Саша! — вдруг выкрикнул он, словно некая блестящая идея осенила его. — Пошли ко мне, честью тебя заклинаю!
— Я к брату иду, два шага до него осталось, — немного отодвинулся от него Александрэ.
— Садись, я тебя подвезу. Прямо у ворот остановлю. — И, не дожидаясь ответа, вагоновожатый подхватил Александрэ под руку и почти силой втащил его в трамвай.
— К чему так беспокоиться, слыханное ли дело, и народ столько времени ждать заставил. Вот возьмет кто-нибудь и напишет, что тогда?.. Останови-ка вот тут, убавь немного ходу — и я соскочу.
— Да что вы, доктор Саша! Наконец-то я встретил вас, самого, можно сказать, дорогого на земле человека, да неужели же я вас просто так отпущу? Не беспокойтесь, я соображу сейчас что-нибудь.
— Перестань, какое время соображать, ты же на работе!
Трамвай все набирал скорость.
— Вы только не волнуйтесь, дорогой доктор. Я мигом управлюсь. Вот сброшу сейчас пассажиров на вокзальной площади и поставлю свою таратайку на запасные пути. Дело десяти минут, дорогой доктор!
— Ах, ни в коем случае! Не смей делать глупости, иначе я вообще здороваться с тобой перестану! — воскликнул Александрэ, но сам же почувствовал, что возглас его прозвучал неестественно; впрочем, с каким бы отчаянием он ни взывал к своему благодарному пациенту, тот все равно не собирался его сегодня отпускать.
На конечной остановке вагоновожатый объявил ждущим трамвая, что посадки не будет: вагон, будь он проклят, идет в парк. Требуется срочный ремонт. Сзади следует другой трамвай… И, не обращая внимания на реакцию уставших от ожидания людей, он легким поворотом ручки с грохотом прокатил пустой вагон вдоль улицы.
* * *
«Ни с кем не заговорю. А так и не заметит. Не скажу никому ни слова. Тихо зайду к себе в комнату. Пожалуюсь на головную боль и лягу. Откуда он узнает? Честно говоря, не так уж много и выпил. В тот день иначе было. Тогда я пил с утра. Но разве хотелось мне сегодня пить? Не хотелось, конечно, но как в таких случаях быть? Человек ради меня трамвай остановил. Ну как можно было после этого не пройти с ним, не чокнуться стаканами? Как тут откажешься? Со стороны, конечно, легко рассуждать. Попади кто в мое положение, посмотрел бы я, как бы он отказался. Кто в наше время будет вспоминать о тебе с такой благодарностью, кому это нужно? А человек догонял меня в трамвае, работу из-за меня бросил. Ух, что за благодать, тишина-то какая. Ушел небось куда-нибудь. Ну и пусть себе играет на этом проклятом доли. Не хочет он твоих книжек, что ты с ним сделаешь. Если он и в самом деле научится прилично играть, то, будь здоров, без куска хлеба не останется. Да и я, пока жив, не ради него, что ли, работаю? А так-то на кой мне сдалось все мое добро. Теперь главное — незаметно пройти к себе и заснуть до его возвращения. Какая тишина вокруг! Наконец-то отдохнут соседи. Все-таки он слишком злоупотребляет их терпением. Живи мы в другом городе, нас бы давно выслали к чертовой бабушке…» Так размышлял Александрэ, шагая от ворот к лестнице. Он старался ступать твердо и уверенно. Но не успел Александрэ одолеть нескольких первых ступенек, как гулкий удар о доли хлестнул его по ногам и поверг в отчаянье.
Доктор вытащил из кармана носовой платок, аккуратно расстелил его на пыльной ступеньке, медленно, стараясь опуститься именно на платок, сел.
Сидел с усталым, измученным лицом, упершись локтями в колени, и глядел в темноту.
Перевод А. Абуашвили.
ПЕРЕВОДЧИК
— Выкрутились как будто, а? — шепнул министр Леван Хведелидзе своему переводчику Гии Кубусидзе, сойдя под гром аплодисментов с трибуны и вплывая в кулисы.
— Да, пожалуй! — весело кивнул переводчик.
— Не по мне эти церемонии! Тут как, знаешь? О делах не потолкуешь — гость! Ну, а о чем? О чем тут таком расскажешь, чтоб хоть ненадолго запомнили?
— Ну, натурально!
— Вообрази! Председатель уже назвал меня… встаю, а ни слова не помню!
— Я ведь предупреждал, загодя надобно речь пробежать!
— Загодя! Да я ее всю ночь… Не дитя как-никак! А вообще-то вышло вроде бы… а?
— Да вроде бы!
— Ну и ладно! Чего еще! Здравица, скажешь, получилась, тост? Ну, а этот, до меня? Всё цифры бубнил, проценты!.. Хорошо, что ли?
— Ну да, натурально, подробности ни к чему! Вот только бы…
— А?.. — приложил министр к уху руку лодочкой.
— Да в начале не нужны бы эти общие фразы. Приехал из солнечного края! Привез вам солнце! Каждый ведь, кто с юга появляется, начинает с этого самого. Вершины! Горы! Ну и что?
— Нехорошо, что ли?
— Ну, натурально же! Солнцем их, что ли, удивишь? Пооригинальней вам подобает быть… и вообще! Ну, что они там — солнце, допустим, море… ну, вершины, лужайки?! Заслуга, что ли? Природой даны! А сами? Сами, говорю, что создали? Чем от других отличаемся?
— Верно!..
— И еще вот это… в гости к чему этакую толпу было звать?
— Да брось! Пошутил я!
— Пошутил! А они так и застыли от изумления! Мы тут у кого находимся? Помнить надобно! Тут, в Мумумии, на островах этих, последнего человека когда слопали? Восемьдесят лет назад всего! Ну, стали, допустим, на путь культурного развития, просвещения! А с шуточками, с чувством юмора как?
— Ты там, словом… Ну, если вырвется что, не переводи… Пропускай, что ли? А? — пошел на попятный министр. — Трудно было переводить?
— Да нет, ничего.
— Гнал я небось?
— Да нет же, натурально!
— И ты все переводил!
— Почти! Одну только фразу, признаюсь, пропустил… Про то, что, как сошел с корабля да взглянул на ваши горы, сердце так и екнуло…
— Это почему? — изумился министр.
— Не знал, как по-ихнему «екнуло»…
— А ведь правда, как мы иногда скажем… и не переведешь!
— Ну, натурально! Не только что на мумумийский, ни на какой другой не перетолкуешь.
— Ну и ладно, что пропустил! А загоготали они вдруг чего? Помнишь?
— Еще бы!.. Ящерица пробежала всю сцену и сунулась в репродуктор!
— Да ты что?!
— Точно!
— Хорошо, хоть не видел. А то обязательно бы сбился!
— Да ну!
— Боюсь я их, ящериц… Ну, а теперь как? Постоим тут, что ли?
— Нет, вам надо пройти в президиум…
— Прямо сейчас и пройти?
— Вот закончит этот, вы под аплодисменты прямо в третий ряд и шмыгните. Вот… рядом с негром в очках!
— А ты где будешь?
— Я тут подожду!
— Ну, тут ничего еще… Не уйди только!
— О чем разговор!..
Оставшись в одиночестве, Гия Кубусидзе походил за кулисами, потом по винтовой лестнице спустился на улицу, решив, пока митинг не кончился, поглядеть на город.
Столица Мумумии пылала жаром.
По улицам проходило совсем немного граждан, обернутых в белые полотняные накидки, с огромными сосудами с водой на головах.
Гия скинул пиджак, распустил узел галстука и, отдуваясь, прислонился к стволу магнолии. Он не мог пожаловаться на свою участь. За рубежом, правда, он был впервые, но знал о мумумийцах и их столице столько, что не потерялся бы в их огромном городе — было бы, как говорится, время. Он великолепно сознавал ответственность своей миссии — переводчик министра в чужеземной стране… Шутка ли?! Кубусидзе был мужчина лет тридцати, с открытым доверчивым лицом, сутулый, тощий и конечно же в очках. Точь-в-точь такой, какими в кинофильмах изображают чрезвычайно честных, но слегка рассеянных, глубоко эрудированных, но несколько нерешительных персонажей. Он окончил факультет английского языка и литературы, но долго оставался без работы, ибо в городе, в котором он жил и получал образование, каждый второй владел английским, и если там и требовались переводчики, то во всяком случае не с английского. Он взялся было подготавливать абитуриентов, но скорехонько смекнул, что репетиторство не его стихия. Из четырех подготавливаемых по крайней мере трое без особых обиняков давали почувствовать, что домогаются не знаний, а помощи и поддержки на экзаменах, а такой подход, чтоб не сказать больше, претил репетитору. Кроме того, Кубусидзе всегда избегал подозрительных и нечистых делишек. Какой-то добрый человек посоветовал ему изучить мумумийский, поскольку у нас нет сколько-нибудь видных знатоков этого языка. Обескураженный подвохом со стороны языка Шекспира, Кубусидзе отнесся к совету с недоверием, но, ободренный обещанием советчика пристроить его к делу, засел за мумумийский. За год он настолько овладел его сложнейшими формами, что улавливал смысл радиопередач на нем и разбирался в особенностях диалектов. Отношения с Мумумийскими островами развивались многообещающе, и в одно прекрасное утро его назначили не канцеляристом, не стилистом отдела переписки, не… а переводчиком министра!
Министр был мягкосердечен и доверчив, как ребенок. Он высоко оценил способности Кубусидзе и особенно считался с его соображениями относительно своеобразия нравов племен Мумумии. Доверие его простерлось до такой, как мы убедились, степени, что он даже позволил молодому переводчику пропускать часть своих высказываний.
Еще только ускользая из театра, Гия Кубусидзе заметил, что за ним устремился высокий мумумиец в черном костюме; сейчас он прохаживался перед театром и с озабоченным видом то смотрел на Гию, то вытирал белым платочком пот с лица и шеи.
Мумумиец и Гия переглянулись и улыбнулись друг другу, что мумумиец воспринял как разрешение вступить в собеседование и, извинившись, осведомиться о причине оставления помещения.
Переводчик оправдался сердечной недостаточностью, повлекшей за собой потребность подышать свежим воздухом, в связи с чем верзила напомнил о кондиционерах, повергнув Гию в некоторое смущение. Вот незадача, упрекнул тот себя, накинул пиджак и вслед за вежливым мумумийцем вошел в здание театра оперы и балета Мумумии, выстроенное в стиле Парфенона.
Только он вошел в кулисы и взглянул на шефа, как председатель, низенький человечек в пестром тюрбане, привстал и объявил митинг закрытым.
Рукоплескания и топот ног долго не смолкали.
На лицах мумумийских граждан выражались радость и удовлетворение, показавшиеся Гии ликованием по случаю окончания томительного заседания.
Перед партером и у выходов стояли полицейские в белых митенках и задумчиво взирали на покидающих зал.
Сидевшие в президиуме по одному, не оборачиваясь к залу спинами, с улыбками и воздушными поцелуями исчезали в кулисах.
Министр, подозвав к себе пальцем переводчика, протянул ему сложенную вдвое бумажку:
— Ну-ка, чего там?
— Приглашение. В семь часов вечера… на прием… к министру культуры и черной металлургии Мумумии.
— Да ведь это вроде бы завтра!
— Видно, изменили программу!
— Так, в котором, говоришь?
— В семь…
— А по-нашему?
— И по-нашему.
— Как же так?
— Да так! Разница-то у нас двадцать четыре часа. Ровно сутки!
Солнце склонялось к закату, и двухсаженный термометр на улице показывал всего сорок девять градусов, когда министр и переводчик поднимались по лестнице пятиэтажного бамбукового дома. В длинном коридоре друг за дружкой распахнулись и захлопнулись семь дверей. Из-за каждой выскакивали по два мумумийца во фраках, кланялись гостям в пояс и сломя голову неслись к следующей двери. Деревянные сабо, в которые они были обуты, производили неописуемый грохот.
За последней дверью оказался кабинет министра.
Гия удивился длинному желтому шелковому сарафану на правительственной персоне, блестящим булавкам с увесистый гвоздь в его рыжей кудрявой шевелюре, здоровым крупным зубам, которых не могли прикрыть губы, будь они даже в пять раз толще. Все в совокупности вызвало у него в памяти исполнителя роли Отелло в провинциальном театре.
Гия отступил и пропустил вперед министра. Приблизившись к гостю, хозяин сложил на груди руки и согнулся в поклоне так, что ткнулся головой в собственные колени. «Лучше без поцелуев», — прошипел Гия министру, но было уже поздно, ибо последний в могучем объятии обхватил шею хозяина и горячо целовал его то в правую, то в левую щеку.
Министр культуры и черной металлургии кряхтел и отдувался, не понимая причины, от которой гость так расчувствовался, что-то лопотал и, повертывая время от времени с удивлением голову, давал гостю понять, что, пожалуй, и не достоин столь бурных ласк и объятий.
По окончании церемониала министр переключил внимание на переводчика. Он разложил вокруг себя четыре подушки и, едва переводя дух, указал на одну из них гостю.
«Надо же, ведает этаким ведомством, и никакой выносливости, — с неудовольствием подумал Хведелидзе, — от простых приветствий запыхался», — после чего тихонько, чтоб хозяин не слышал, поинтересовался: а теперь что?
— Сядьте на подушку! Вон у стены валики, один заложите за спину, другой пристройте на коленях, локтями будете опираться.
Удобно устроившись, министр поднял вопросительный взгляд на переводчика, в ответ на что последовал одобрительный кивок.
Председатель мумумийской стороны как-то особенно шлепнул кистями рук друг об дружку, возвел глаза к потолку и произнес приветственный спич. Он говорил быстро, но Гия Кубусидзе успевал переводить, потому что после каждого третьего предложения министр культуры и черной металлургии начинал все сначала.
— Я счастлив видеть вас в нашей стране, — говорил министр культуры и черной металлургии. — Не утомила ли вас дорога? Каково действие вашего желудка? Наша встреча откроет новую страницу… Нам приходится туговато, но мы надеемся на ваше содействие! Мумумийцы преданны и выносливы, но, как только заметят, что их обманывают, перестают верить даже правде. Одноженство мы уже ликвидировали! Переходим на всеобщее начальное образование. Черной металлургии, правда, у нас пока еще нету, но мы надеемся на… Черная металлургия хлеб промышленности! Со временем можно будет переключиться и на цветную!
Ответное слово гостя было кратким и путаным, но достаточно искренним. После каждых двух фраз он глубоко вздыхал и бросал умоляющий взгляд на переводчика.
Мумумиец весь обратился в слух. Время от времени он с удовлетворением крякал и протягивал руку к земляным орехам.
Покончив с официальностями, хозяин зевнул и потянулся, давая понять, что можно переключиться на непринужденную беседу.
— Что это он? — шепнул министр переводчику.
— Дескать, будем как дома!
— Ну и ладно! — отлегло от души у министра. — Ты думаешь, можно взять этот орешек?
— Натурально же, можно!
— А с какой тарелки? С которой сам берет или рядом?
Хозяин, словно бы понял, подтолкнул к гостю тарелку. Министр взял орешек и движением согнутой руки поблагодарил хозяина за щедрость, вслед за чем обратился к переводчику:
— Спроси-ка, как у них насчет протекционизма?
— Ну, неудобно! Они еще не достигли этого уровня! Он, может, и слова такого не знает! — залился краской Гия Кубусидзе.
Министр поежился.
— Ну, тогда вот что! У нас, скажи, первый роман был написан тысячу пятьсот лет назад. А у вас как с этим?
— Незачем спрашивать! У них и сейчас нет романа! — отверг Гия и новый вопрос.
— В том-то и дело! Так пусть знают…
— Ни за что! — Переводчик покраснел до ушей. — Он сочтет за оскорбление! Они же только что выбрались…
— Ну, так о чем же спрашивать?
— О чем хотите! Я бы и про роман перевел, да ведь неловко!
Министр культуры и черной металлургии переводил взгляд с министра на переводчика и обратно, видимо, догадываясь, что они о чем-то перебраниваются.
— Джампомумокивопута! — нарушил он их диалог.
— А? — воззрился министр на переводчика.
— Не утомился ли, спрашивает, гость? Не приказать ли подать кофе? Не желательно ли прогуляться по саду?
— Скажи, что я благодарю — только что ужинал.
— Бубуточаноквана! — обернулся переводчик к мумумийцу.
Хозяин успокоился.
— Ты, брат… вот что: как, мол, у вас с реставрацией памятников старины, — придумал новый вопрос Леван Хведелидзе.
Упрямству Гии не было предела.
— Не могу я перевести такой вопрос, уважаемый Леван.
— Это почему же не можешь? — несколько повысил голос министр.
— Нет у них никаких исторических памятников, о какой же реставрации может идти речь.
К горлу министра подкатил ком гнева.
— Ты, знаешь… вот чего… Переводи, что говорю, и не учи меня! — дипломатично глядя в сторону, проговорил Леван Хведелидзе.
По возвращении из Мумумии Гия Кубусидзе был освобожден от должности, каковой факт поверг его в недоумение. Что за ошибка, терзался он догадками, была им допущена при исполнении служебных обязанностей на островах Мумумии?
Перевод М. Бирюковой.
МАКВАЛА
Проехав Гудамакари, я вдруг почувствовал, что изрядно проголодался, но как назло не то что ресторана, ларька и того нигде не было видно — словно земля их поглотила.
Наконец, потеряв всякую надежду встретить хотя бы подобие торговой палатки, у деревни Самеба я увидел дорожный знак с изображением ножа и вилки. Сердце мое забилось от радости.
«Не отпускай» — гласила вывеска вдоль резной лестницы ресторана. Неплохое название придумано, ничего не скажешь. Я поставил машину, набросил на плечи шубу и поспешил к ресторану. Только открыл дверь, как у меня тут же упало настроение. В зале, красиво расписанном Кобой Вашадзе, не было ни души. Я отыскал буфетчика и бесцеремонно спросил:
— Что у вас есть?
— Нельзя сказать, чтобы мы были во всеоружии, но, если понадобится, все пойдем воевать, — не задумываясь, бойко ответил худой усатый буфетчик, с трудом сдерживая улыбку.
Мне понравилась его шутка, но время ли говорить иносказаниями!
— Я про еду спрашиваю.
— Еда у нас есть, батоно, а чем еще другим заняты мы здесь, — и он протянул руку в сторону узкого, как на минарете, арочного окна, возле которого сгрудились официанты.
— Ну так за дело, где мне сесть?
— Где вам угодно, а я мигом обслужу. Ради вас, пожалуй, оленя на ходу подою. Такой стол накрою!.. Этого только не хватало, чтобы Какоя Пественидзе стоял за прилавком и не знал, чем накормить гостя!
Он вмиг нарезал сыр, щедро разложил по тарелкам зелень и джонджоли, открыл холодильник, вынул оттуда длинные подносы с пхали и баклажанами в орехе. Все спорилось у него в руках, движения были ловки и точны так, что я не мог оторвать от него глаз. Хорошо, когда человек знает свое дело.
— Какая судьба занесла вас, имеретинца, сюда, в горы? — спросил я его.
— Нашли чему удивляться, люди за рубеж едут работать, а сюда подняться — долго ли? В Грузии нет больших расстояний.
— Это верно.
— У меня знакомые ребята есть, так когда их здесь поприжали, они все бросили, уехали и устроились буфетчиками в других городах — туда письмо три недели идет. Что будете пить?
— Кахетинское, если есть. Он улыбнулся.
— Я тоже вроде вас ничего, кроме кахетинского, не пью. Если пить, так только кахетинское, а ежели ты пришел на дегустацию, то выпьешь ли пару стаканов «Цицки» или «Цоликаури» — все одно.
Я поправил сползшую с плеч шубу и направился к ближайшему столику.
Окна ресторана выходили во двор, и в отдалении, у самого оврага, я увидел два огромных мусорных ящика и старуху возле них. Я замер, не веря своим глазам: в одной руке старуха держала сумку, другой шарила в ящике, что-то выбирала и прятала в сумку, которая наполовину уже была заполнена.
— Что она делает?
— Эй, Гвтисавар! — не отвечая мне, крикнул в открытую дверь буфетчик. — Опять Маквала роется в мусоре? Разве вы люди? Ничего вам не поручи! Позорите меня, и только, да еще аппетит гостям портите!
Я оглянулся. В дверях стоял веснушчатый парень в белом переднике и улыбался.
— Она только вышла отсюда. Две тарелки харчо навернула и компот в придачу!
— Чего ж еще нужно, проклятой, что она там в мусоре ищет?!
— Ты что, Маквалу не знаешь? Я мигом!
Парень исчез, а Како Пественидзе повернулся ко мне.
— Если человек начнет побираться, конченое дело, его уже не отучишь. Я как перебрался сюда, сразу эту старуху приметил. Ничего подобного у нас, в Имерети, быть не может, клянусь детьми. Что я вижу, подумал тогда, человек в поисках пищи роется в мусорном ящике?! Волосы дыбом встали у меня. Стал расспрашивать о старухе, мне сказали: одинокая она, живет над деревней, Маквалой зовут, никого у нее нет на свете, так вот и побирается. Сегодня никто не умирает с голоду, мне кажется, и по правде говоря, пропушил я здешних, не стыдно, говорю, человека нужда заела, а вы равнодушно смотрите на это, вперед, говорю, как увидите Маквалу, зовите ее сюда, накормите, напоите и отпустите с богом. И чтобы, говорю, я этого больше не видел, чтоб человек в мусоре рылся. И вправду, как увидят наши работники Маквалу, тут же зовут в ресторан. Ежели одного-двух не сможем мы накормить бесплатно, какое же мы заведение! Впрочем, ее и звать-то не надо, сама каждый день приходит. И как ее ни корми, сунет свой мешок под мышку и непременно обойдет мусорные ящики. Никак не бросит своей проклятой привычки. Вы же сами слышали, что парень-то сказал: она только что вышла отсюда.
Я увидел в окно, как Гвтисавар подбежал к Маквале, почти силой оторвал ее от мусорных ящиков и повел к воротам.
Настроение у меня испортилось. Я пообедал без аппетита. Вздремнуть в машине, как собирался до этого, не удалось. Сон не шел ко мне. Включил магнитофон в надежде, что музыка развеет тревогу, поселившуюся в сердце, но увы. Тогда я вышел из машины, закрыл ее и стал подниматься в гору. Однако вскоре прогулка наскучила мне, я повернул обратно и снова очутился возле ресторана. Мысль о несчастной старухе не оставляла меня. Я понял, что пока не вызнаю о ней все досконально, не уеду отсюда.
Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать, говорится. И я решил навестить Маквалу. Буфетчик, узнав о моем намерении, сперва с подозрением взглянул на меня, затем позвал Гвтисавара.
— Это недалеко. У родника поверните направо. Езжайте все время прямо. Как доедете до места схода, там старики сидеть будут. Остановите машину. Оттуда и километра не будет.
— Моя машина поднимется?
— Почему бы и нет. Дорога хорошая. Отсюда до дома Маквалы не больше трех километров.
И словно только сейчас задумавшись над тем, почему это я так подробно расспрашиваю его, веснушчатый парень оглядел меня с ног до головы и с улыбкой спросил:
— Вы родня Маквале?
Я кивнул.
— Сфотографировать ее хотите? — и он засмеялся.
Я не ответил. Спустился вниз по лестнице и, пока не отъехал от здания ресторана, чувствовал на себе пристальные взгляды Како Пественидзе и Гвтисавара.
Миновав деревню, я вышел из машины и прошел немалое расстояние, прежде чем добрался до дома Маквалы. Он стоял над оврагом, далеко в стороне от всего поселения. Читателю, вероятно, хорошо известны горские деревушки с домами, стоящими впритык друг к другу. Известна и причина такой их скученности. Кем был, хотелось бы мне знать, тот предок старухи, который рискнул отмежеваться от племени и поселиться отдельно. Я говорю предок потому, что дом был очень старый, сложенный из сланца. Каменный забор вокруг дома оказался без ворот. Я позвал хозяйку. На мой голос появились четыре собаки. Остановившись в отдалении, они нехотя залаяли, как мне показалось, скорее из желания проявить преданность хозяйке, чем испугать меня. Собаки смотрели на меня, потом поворачивались к дому и лаяли, равнодушно, без всякой охоты. Я позвал хозяйку три или четыре раза, но никто не отозвался. Так и не сумев заставить меня отказаться от намерения проникнуть в усадьбу и не дозвавшись хозяйки, собаки (обыкновенные дворняги), прижав уши, еще раз оглядели меня напоследок и, решив, по-видимому, что я не похож на злого духа, затрусили под навес.
Простояв некоторое время, я собрался было повернуть назад, но любопытство взяло верх, и я вошел во двор. На старой прокопченной двери дома висела подкова. Изнутри не доносилось ни звука. Я толкнул дверь, она со скрипом отворилась, и глазам моим открылась удивительная картина: старинная грузинская зала, куда свет проникал через отверстие в потолке, была полна кошек и собак: котят, щенят, взрослых сук, пятнистых кошек и котов с глазами рыси. В таком количестве я их не видел даже на выставках. Посреди зала на чурбаке сидела старуха и, шепча что-то ласковое и непонятное, кормила животных объедками из сумки. Вот, оказывается, почему она рылась в мусорных ящиках!
Я кашлянул. Все, кроме хозяйки, обратили на меня внимание. Оно выразилось в беглом взгляде, брошенном в мою сторону: мы тут важным делом заняты, читалось в нем, будь человеком, не мешай нам.
«Есть тут кто-нибудь?» — крикнул я что было сил. Старуха, заметив настороженность своих подопечных, наконец оглянулась. Сморщенное лицо, потухший взгляд. А ведь глаза стареют последними. Маквала одряхлела вплоть до глаз. Из-под платка выбивались пожелтевшие от грязи, щетинистые волосы. Она встала, пододвинула ко мне чурбак, и я понял, время согнуло Маквалу так, что ей уже не выпрямиться. Не отвечая на мое приветствие, она шуганула своих подопечных, вышла в кухню и вскоре вернулась, вытирая руки грязной тряпкой. Старуха не сводила с меня глаз.
Я произнес еще несколько безобидных фраз и, окончательно убедившись, что Маквала безнадежно глуха, вынул записную книжку и написал: «Для чего вам столько кошек и собак?» Затем вырвал листок и протянул Маквале. Она и не взглянула на него, взяла листок и сказала:
— Читать не умею.
Эта женщина так и осталась бы для меня загадкой, не заговори она сама:
«Что тебя удивило, сынок? Моя старость или мои кошки с собаками? Да не будь их, хоть сейчас в могилу ложись. Что есть дом без мужчины да гора без травы? Они моя забота. Зимой согревают меня, а летом помогают коротать бесконечные дни. Понятливы и послушны, как птенчики. Где еще ты видел таких дружных тварей? Они не обижают друг друга. Я их так вырастила, потому и не обижают. Все от того, как вырастишь, зависит. Ты не думай, Маквала не полоумная. Видать, не здешний ты, так не дивись тому, что расскажу тебе. На все воля господа. Эти вот руки семерых вырастили, но ни одного мне в живых не оставили ни человек, ни бог, ни бог, ни человек, будь благословенна их справедливость. Муж в ту войну погиб. Ушел — и как в воду канул. Ни слуху ни духу! Семьдесят лет прошло. Кабы не пуля, своей смертью уж помер бы. Троих сыновей в эту войну потеряла, четвертый у Гудамакар вместе с конем со скалы сорвался, а жена его через неделю от родов померла. Пятого со всей семьей тиф унес, шестой, он проводником альпинистов был, встретил свою смерть на Гергети. Тридцать лет уж прошло, а все не сыскали его, горе мне, последыш на свадьбе друга гулял и пропал ни за грош. С той поры двадцать весен минуло, слышали, может, в перепалке человека из пистолета убили. Шутя убили, так и писали в газете. Но мне, что поймали убийцу, что нет — все одно, сына-то не оживить.
Так уж повелось, сынок, сыздавна: бог за человеком охотится, тиф за человеком охотится, лихо за человеком охотится — все враги жизни. Вот я и осталась одна. Раз подумалось мне, сколько на свете несчастных сирот, возьму одного, сердечного, и выращу. Но не решилась, сробела. Гробы, вынесенные из этого дома, вконец сгубили меня. С этими вот собаками да кошками я и отвожу душу. Их бог хранит. Ни тиф не берет, ни усобица. В походы и на сходки не зовут. Они более надежны. Надоело мне со смертью играть, на мертвых смотреть. Люди уходят. Потому что рождены для смерти, для горя рождены, для слез. Не думай, сынок, Маквала в своем уме. Правду говорит. Тебе легко и осудить меня и в обмане уличить. Пусть тот, кто пережил с мое, скажет обо мне. Он знает, что такое смерть».
Больше ничего она не сказала. И по правде говоря, что можно было добавить к сказанному? Какое-то время старуха смотрела на меня, потом повернулась спиной и засеменила к середине залы. Взяла в руки сумку, призвала своих подопечных.
…Я спускаюсь к Пасанаури. Слезы застилают мне глаза, голова раскалывается от боли. В ушах все еще звучит голос Маквалы. А перед внутренним взором маячит одна и та же назойливая картина: из соседнего с нашим подъезда выходит бездетная супружеская чета. Муж поддерживает жену под локоть. В руках у нее белая, пушистая, кудрявая болонка. Никакой связи между этой парой и судьбой Маквалы я не вижу, однако стоит мне нащупать малейший намек на смысл в трагедии старой женщины, как тут же, словно по воле провидения, мысли мои путаются и снова возникает навязчивое видение: из подъезда выходит супружеская пара с холеной белой кудрявой болонкой в руках.
Перевод Л. Татишвили.
СОСЕДИ
Марлен Тевдорадзе грохнул на пол швейную машину и прислонился к стене, вытирая пот со лба.
— Незачем было тащить наверх, если собирался ломать!
Глава семьи оставил реплику жены без ответа. Он устал, его душила злоба. Семь лет строился этот кооперативный дом. Десятиэтажное здание, подобно Сурамской крепости, возводили медленно, капитально. Семь лет назад, получая квитанцию об уплате первоначального взноса, доцент Марлен Тевдорадзе впервые ощутил на сердце тревогу, — а что, если десятый этаж достанется. Последний этаж, как известно, соседствует с крышей, а она почти во всех домах, построенных трестом «Цителстрой», в дождливую погоду протекает, а в жаркую — накаляется до предела. Да и помимо всего прочего жители Дзелквиана не любят жить высоко над землей. И вот вчера его опасения сбылись. Марлену по жребию достался именно десятый этаж. Никуда не денешься. Даже не на кого свалить вину, — сам тянул жребий. А потом детьми клялся — заранее знал наверняка, что десятый этаж вытяну.
Марлен Тевдорадзе прошел на кухню и вернулся с куском хлеба в руке.
— Хоть бы лобио сварила, сухой хлеб в горло не лезет.
— Ты так говоришь, будто я целый день сложа руки сидела.
Супруга Марлена Тевдорадзе была абсолютно права, это поймет любой читатель, даже тот, кто уже давно перебрался в новую квартиру и успел забыть связанные с переселением хлопоты.
— Много еще осталось поднять?
Вопрос жены застал благоверного уже в дверях. По правде говоря, Лили и не ждала ответа. Попросту ей хотелось посочувствовать мужу, подбодрить его, а то, что предстояло поднять добрую половину багажа, она прекрасно знала.
В это время в коридоре раздался чей-то голос. «Гостей только не хватало», — подумала Лили и вбежала в ванную, чтобы привести себя в порядок.
Марлен узнал соседа, но не мог вспомнить его имени и фамилии. Он всегда опаздывал на собрания членов кооператива и каждый раз приносил многократные извинения за свое опоздание. Высокий, сгорбленный седовласый старик, ему за семьдесят, остановился в дверях и приступил прямо к делу.
— Не удивляйтесь, что я как снег на голову свалился, но потом будет поздно. Я Самсон Замбахидзе, с шестого этажа. Вы меня не знаете, естественно. Пенсионер, сорок лет проработал на Рионской станции. Начальник станции и сейчас просит меня вернуться, но годы уже не те — трудно работать. Вчера я был свидетелем, как вы вытянули десятый этаж и крайне огорчились этим. И вы и ваша супруга. Она дома?
— Дома. Лили! — позвал жену доцент.
Вышла Лили, поздоровалась, присела на обернутый в ткань ящик трельяжа.
Самсон тяжело дышал. Голубая жилка на виске напоминала изображение реки Риони на географической карте.
— Вы молоды. Впереди у вас целая жизнь. Дети есть?
— Трое, — ответила Лили.
— Трое?! Дай бог вам здоровья! Нет, вы намучаетесь с этим этажом. То лифт не будет работать, то вода не поднимется… Одним словом, чего уж там тянуть, мы с женой решили поменяться с вами этажами, разумеется, если вы согласны. Вы спуститесь на шестой, а мы поднимемся на десятый. Так будет лучше для вас.
Слова Самсона были подобны ливню в засуху. Супруги чуть не заплясали от радости, но Марлен Тевдорадзе, взяв себя в руки, спросил:
— Да, но вы?!
— А что мы? — Самсону шла улыбка. — Наша жизнь уже прожита. Детей у нас нет, а где доживать свой век — на десятом ли этаже, на шестом ли — все одно. Да и родственники не нуждаются в нашей квартире. Так что, я думаю, мое предложение вас устроит. Вы молоды. А доброе дело зря не пропадет. Не правда ли?
— Если… мы и согласимся, то не даром, — Лили провела ладонью по руке и, глядя в сторону, добавила: — Назовите цену, и мы договоримся.
— О чем вы говорите? — голос Замбахидзе дрогнул от обиды. — Разве можно все сводить к деньгам? Правда, есть среди нас такие, кто без выгоды и шага не сделает, но не все потеряли человечность и совесть. Ничего вашего нам не надо. Просто так поменяемся, если хотите, конечно.
Короче, они ударили по рукам. Марлен трижды приник к плечу соседа, безграничная доброта старика взволновала его, и он, подобно пьяному, долго и трогательно бормотал о том, что он тоже человек, и человек стоящий, и доброты соседа вовек не забудет.
Они не стали зря терять время. К ужину все вещи были уже на своих местах. Марлен забыл об усталости. Подумать только, шестой этаж! Похоже, мечта его сбылась! Когда дети уснули (матрацы разложили прямо на полу, отложив установку кроватей на утро), Лили вышла в переднюю, где ее супруг разбирал пачки аккуратно связанных книг.
— Опять порешь горячку? И вот так всегда!
Марлен разорвал бечевку и вопросительно взглянул на жену.
— Не нравится мне все это, хоть убей.
— Что это? — Марлен опустился на колени и превратился в слух. Впрочем, он отлично понял, о чем шла речь.
— Этот обмен квартирами, вот что…
— А что в нем плохого?
— Как что?! Все знают, что нам достался десятый этаж.
— Ну и что?
— Будто не знаешь, какие у всех языки. Завтра же весь город будет болтать, что Марлен Тевдорадзе купил шестой этаж. Этого нам только не хватало!
Марлен почесал затылок. Он и сам подумывал об этом, но произнести вслух не решался.
— А пусть говорят!
— Пусть, но зачем, — Лили понизила голос, что придало ее словам больше убедительности, — пусть говорят, но зачем… Оставались бы себе на своем десятом этаже, который нам бог послал, такова уж, видно, наша судьба.
— Что же ты до сих пор молчала? Зря я надрывался! Ради тебя старался, а то мне, по правде говоря, и не хотелось спускаться сюда. С десятого и вид лучше, даже немножко жалко было.
На другой день утром доцент с испуганным видом стучался к Самсону Замбахидзе. То и дело поглаживая волосы потными ладонями, он, пристыженный, объяснял старику, что они с женой рассудили и порешили вернуться на свой десятый этаж. Пусть только уважаемые соседи не обижаются, хотя, конечно, все это у них как-то по-детски получилось.
Самсон немедленно согласился, даже причиной не поинтересовался: ради бога, как им будет угодно, господь свидетель, он ничего, кроме добра, им не хотел. И, не отходя от двери, крикнул своей супруге, хлопотавшей на кухне: собирайся, мы опять спускаемся вниз.
Спустя час между шестым и десятым этажами началось оживленное хождение. Не в меру возбужденные Тевдорадзе, светясь от радости, поднимали свой багаж. У Самсона же и его супруги, напротив, были довольно кислые лица. При встречах на лестнице обе стороны принимали серьезный, бесстрастный вид, но стоило им разминуться, как маски сбрасывались, и каждая из сторон возвращалась к своему естественному состоянию — Тевдорадзе почему-то к радостно-возбужденному, а Замбахидзе — к горестно-печальному.
В среду утром к Марлену в гости пожаловал двоюродный брат матери Джемал Басиладзе, человек открытый, широкий, хлебосольный. Джемал работал в отделе ревизии какого-то ведомства и в отличие от иных своих коллег жил скромно. У него была репутация надежного парня, на которого можно положиться. Узнав, что Марлен получил квартиру, он поспешил навестить его.
Выслушав водевильную историю об обмене квартир, Джемал схватился за голову:
— Что вы натворили?! Ну, Лили, понятно, она женщина, но ты почему дурака свалял? Вам привалило счастье, а вы от него сами отказались?!
— Стали бы болтать об этом, — дрогнувшим голосом произнес доцент и, вздохнув, уставился в потолок.
— Ну и пусть болтали бы. Темы для сплетен не переведутся, будь спокоен. И о чем бы стали болтать? Ты что, украл что-нибудь?! Добрый порядочный человек средь бела дня добровольно поменялся с тобой этажом. Эх ты, заячья душа!
— Все же чем шестой этаж лучше десятого, скажи по-честному? — совершенно очевидно было, что Марлен сдает свои позиции.
— Будто не знаешь? — закричал в ответ Джемал. Он, подбоченившись, стоял посреди комнаты, поминутно вскидывая кустистые брови. — Можно подумать, все у нас в идеальном порядке — и сантехника, и подача электроэнергии, и все остальное. Выключат ток — авария. Остановится лифт, прекратится вода. Может быть, она поднимется на десятый этаж без насоса? Где, в каком доме он качает нормально, или ваш дом — исключение?! Ты сейчас молод, дай бог тебе здоровья, а вот состаришься, тогда поймешь, что значит пешком на десятый этаж взбираться.
— Теперь уж делу не поможешь, — подала голос Лили, хлопотавшая по хозяйству.
— Беги вниз, Марлен, на коленях вымоли у них прощенье, скажи, мол, сдуру отказался. Они простят тебя, вот увидишь. Давай беги, не теряй время.
Не хотелось Марлену идти на попятный, но он все же рискнул. «Не было у бабы хлопот, купила баба порося», — твердил он сам себе, спускаясь на шестой этаж. Это как-то помогало. Извинившись перед угрюмым соседом, он объяснил, что поддался уговорам жены и страшно корит себя за это, он понимает, что проявил черную неблагодарность, но если уважаемый сосед не передумал и может простить ему его дурость, он готов все переиграть.
Самсон Замбахидзе в раздумье уставился на пришельца. Казалось, он подыскивает слова для ответа. И не находит их. Он чувствовал себя несколько оскорбленным, и в то же время было приятно, что соседи наконец по достоинству оценили его добрый порыв. Под конец последнее чувство взяло верх, лицо его прояснилось, и он протянул руку гостю, который, подобно бедному родственнику, сиротливо стоял в дверях.
Джемал Басиладзе помогал перетаскивать вещи. Подхватив очередной предмет, поднятый Марленом до самой двери, он спешил на помощь к соседям. Старался быть одинаково полезным обеим сторонам. В этот день выяснилось, что ревизор, знает наизусть бесчисленное множество стихов и черной работы (как-то: перенос багажа и тому подобное) не любит.
В полночь Марлен Тевдорадзе проснулся. И сразу тяжкие мысли навалились на него. Сон бесследно пропал. Он встал, открыл окно, посмотрел на погруженный во тьму город. «Ну и олух же я! Какая муха меня укусила, почему я позволил одурачить себя? Разве можно было слушаться Джемала?! Тоже мне голова! Десятый этаж, правда, под самой крышей, но зато весь чердак в твоих руках! Можно устроить подсобные помещения! И на крышу подняться, погулять! Можно и шезлонг поднять, позагорать на солнце. Да и кроме всего прочего, неизвестно еще, что у этих Замбахидзе на уме? Все это, конечно, вранье насчет уважения ко мне, как к молодому ученому. Как бы не так! Не иначе кого-то в институт хочет устроить или того почище. А нет, так почему всю свою жизнь я должен быть обязан этому старику, угодничать перед ним. Что он за человек — неизвестно, может быть, завтра эта его заботливость так осточертеет мне, что я и рад не буду. Как будто мало подобных случаев. За что меня упрекать, собственно? Своим горбом всего добился, никому ничем не обязан».
Когда наутро Самсон Замбахидзе увидел в дверях бледного от стыда соседа, он застонал как раненый зверь и, не слушая его, схватил два чемодана, стоящие тут же у стены, и, не оглядываясь, бросился вниз по лестнице. Самсон, как видно, был готов к этому визиту и даже не распаковал багаж. Все вещи наготове лежали в прихожей.
С угрюмыми злыми лицами перетаскивали они вещи из одной квартиры в другую. Не глядя друг на друга. Не произнося ни единого слова. Случайно столкнувшись на лестнице, они поднимали вверх головы и, словно почувствовав неприятный запах, отворачивались, устремляя взгляды куда-то вдаль.
Спустя три года после этих событий Самсон Замбахидзе умер.
Из квартиры Марлена Тевдорадзе, как, впрочем, и других соседей, были вынесены стулья и черные шторы.
Главу семьи, безусловно, огорчила эта смерть, но соболезнование жене умершего он не высказал и на похороны не явился. «Все знают, что мы в ссоре друг с другом, и неизвестно, как истолкуют мое появление. Да и несчастной вдове может быть неприятен мой вид, еще проклинать начнет».
Весь дом провожал Самсона Замбахидзе в последний путь.
Перевод Л. Татишвили.
БОЛЬ
Посвящаю поэту Льву Кондыреву
У Капитона Церцвадзе оказалось отложение солей. Когда диагноз установили, было уже поздно. Болезнь успела, как говорится, свить себе гнездышко в Капитоновых костях. «Неправильное лечение загнало ваш недуг в тупик», — заявил врач.
Разве может врач сказать что-нибудь более приятное и утешительное?
Не позаботился о себе вовремя статистик дельфинария города Патригети Капитон Церцвадзе.
Пять лет назад его впервые забеспокоила боль в запястьях, руки отяжелели; ему сказали — ревматизм, и Капитон целый год пил лавровую заварку. Когда ему стало трудно сгибать руку в локте и шевелить пальцами, кто-то предположил — застудил суставы. Его даже научили, что принимать: варить сотню виноградных листьев в ведре воды до тех пор, пока вода наполовину не выкипит, добавить в это варево ложку меда и пить три раза в день перед едой. Но и это не помогло. И вообще, ничего Капитону не помогало. Что же, все пять лет этот серьезный человек жил в надежде на знахарей и гадалок? — спросит справедливо раздосадованный читатель. Дело обстояло не совсем так. Ведь Капитон ходил и к участковому врачу и даже пил «уродан». Участковый врач при каждом осмотре обнадеживал его — сам видишь, как тебе полегчало, на прошлой неделе похуже было. Как известно, ложь врача обладает магической силой. В такие дни Капитону и вправду бывало лучше, но на другой день, когда все его суставы разом отказывались повиноваться, он клял свою судьбу, и в голове его роились весьма неприятные соображения в адрес участкового врача, однако статистик был человеком робким и не решался ежедневно нарушать покой районной поликлиники.
Когда же не помог и отвар из семян одуванчика, Капитон окончательно разуверился в медицине и махнул на болезнь рукой. О врачах и лекарствах он и слышать не желал. Грустное зрелище являл собою статистик дельфинария. Ему под шестьдесят, человек он одинокий, стакан воды подать некому, — только солей ему не хватало. Если сидел — встать не мог, стоял — невероятных мучений стоило сесть. К ногам его словно привязывали мельничные жернова, а при письме он стискивал пальцами авторучку так, что потом вынужден был разжимать их другой рукой. Без посторонних замечаний он сам понял, что не в состоянии больше работать, и попросил уволить его. «А жить на что будешь?» — спросил директор. «Пройду комиссию, назначат пенсию, а там уж как-нибудь доковыляю до могилы», — ответил Капитон. Была у него надежда, что получит он свидетельство об инвалидности второй группы и пенсию ему назначат приличную.
27 февраля 1980 года в 10 часов утра Капитона вызвали на медицинскую пенсионную комиссию. Райсобес располагался тогда на улице Сергея Лазо в бывшем доме Казанджанца. Скрюченный Капитон с трудом поднялся по лестнице и вошел в приемную, красиво оформленную статьями Конституции. Вдоль стены дремали человек пять стариков. Капитон хотел спросить, кто последний, но передумал. Во-первых, торопиться ему было некуда, а во-вторых, ему все равно предстояло пропустить вперед всех пятерых. Из-за высокой, мышиного цвета двери вышла девушка в белом халате и спросила:
— Есть тут Церцвадзе?
— Это я, — привстал Капитон.
— Пройдите, пожалуйста.
— Да, но ведь эти люди пришли раньше? — забеспокоился бывший статистик.
— Мы вызываем по списку, уважаемый. Скоро отпустим всех.
Капитон последовал за ней.
Девушка указала ему на открытый шкаф, стоявший в узком проходе.
— Раздевайтесь здесь и проходите. — Она окинула старика взглядом, усмехнулась и толкнула коленом дверь.
— Я извиняюсь, — покраснел Капитон. — Раздеваться, э… до каких пор, то есть какой у вас порядок?
— Снимайте, дядя, все, кроме нижнего белья, — хохотнула фельдшерица и скрылась за дверью.
Десятью минутами позже Капитон Церцвадзе стоял в просторной комнате с зеркалами и от холода то и дело поглаживал ладонями плечи. Он был высокий, тощий, с узкими лопатками и впалой грудью как у тюремного узника. Сохранившиеся на висках волосы зачесаны от одного уха к другому. Глубоко запавшие серые глаза, тонкий, свисающий нос и острый подбородок. На Капитоне красовались длинные белые трусы в полоску; он был бос, как сошедший с фрески святитель. Довольно долго на него никто не обращал внимания. В комнате стояло пять столов, за каждым из них сидел врач в белом колпаке, и заняты они были тем, что передавали новости с одного стола на другой. Продрогший Капитон кашлянул как можно громче, и тогда пузатый мужчина без признаков растительности на лице, облокотившийся на второй стол справа, сказал:
— Мы их сегодня заморозим! Наденьте обувь, почтенный, и заходите.
Капитон вышел и вскоре предстал перед комиссией уже обутый.
— Сюда, пожалуйста, — Капитон обернулся и оказался перед знакомой фельдшерицей.
— Церцвадзе Капитон Варламович, — раздельно прочитала девушка.
— Да.
— Год рождения?
— Тысяча девятьсот пятнадцатый.
— Национальность?
— Грузин.
— Место работы?
— Сейчас я нигде не работаю. Болезнь помешала. А раньше работал статистиком в дельфинарии.
— Какие заболевания перенесли?
— В детстве — скарлатину, коклюш, так… потом… Воспаление мочевого пузыря, ну, там грипп, каждый год разный, об этом и говорить нечего. Было у меня однажды воспаление легких, простудился на ипподроме.
— Где? — девушка коснулась губы кончиком авторучки.
— На ипподроме.
— Вы наездник? — заморгала глазами девушка.
— Нет, зритель. Пошел, одним словом, на скачки поглядеть, вот и продуло меня на трибуне. Больше я туда и не ходил.
— Венерических заболеваний не было?
— Нет, не было. — Капитон смутился и потупился. — Я вообще-то даже не женат, без жены жизнь прожил.
— Женитьба, дядя, ничего общего с венерическими заболеваниями не имеет, — тут фельдшерица хихикнула с таким знанием предмета, что сидящие за соседними столами разом обернулись.
— Еще какие болезни перенесли? — вновь посерьезнела фельдшерица.
— Больше я ничего не перенес. То, что сейчас болит, ведь не считается перенесенным?
— А что вас сейчас беспокоит?
— Соли.
— Где?
— Везде, где только могут отложиться соли. Ни один сустав не работает нормально.
— Как это — везде? — Девушка провела кончиком авторучки по красным, пухлым губам, а затем принялась грызть его зубами.
— Абсолютно везде, от пальцев ног до шейных позвонков.
Девушка прикрыла свежезаполненную анкету разлинованными листами бумаги, встала и еще раз оглядела Капитона с ног до головы.
— Пройдемте.
Они ушли недалеко. Девушка подвела старика к первому же столу, положила бумаги перед лопоухим врачом с усами и вернулась на свое место.
Врач сначала изучил анкету, затем встал и скрылся за резной дверью. Оттуда он вынес стул, поставил его перед своим столом и пригласил Капитона сесть. Пока тот с трудом опускался на предложенное сиденье, врач вооружился дирижерской палочкой.
— Итак, начнем. Видите эту букву?
— Да, — ответил Капитон.
— Какая буква?
— «П».
— А эта? — врач указал палочкой ряд пониже.
— «К».
— Да не эта, вот эта, вот!
— «Д».
— А это? — ткнул врач в еще более мелко напечатанную букву.
— «М».
— Очень хорошо. — Лопоухий врач больше ничего не спрашивал и, кончив писать, протянул бумаги Капитону со словами: — Идите к тому врачу, у меня все.
Пузатый, гололицый врач с такими толстыми губами, словно их раздуло от укуса шершня, в заломленном набок белом колпаке, из-под которого виднелись рыжие вьющиеся волосы, беседовал с молодой блондинкой, сидевшей за третьим столом.
— Сама посуди, что ему эти полставки в поликлинике? Не то что в поликлинике, нынче и в больнице-то… — Он одним глазом взглянул на старика. — Положите сюда бумаги и садитесь. Неужели никто не мог его тогда же утихомирить? Кому не достается от заведующего отделением, сама понимаешь, но если все мы будем убегать с работы, далеко мы уедем? Ухо, горло, нос беспокоит, дядя?
— В общем-то, нет. Сухость у меня в горле с детства.
— Это ничего. — Гололицый начал писать, время от времени поглядывая на блондинку.
— Сколько у него детей?
— Кажется, трое, — ответили с третьего стола.
— Ну, скажи, разве умный человек станет так себя вести? — Он встал, собственноручно передал Капитоновы бумаги блондинке и пальцем указал старику, дескать, садитесь сюда.
Красавица блондинка велела Капитону развести руки в стороны и держать их так некоторое время. Церцвадзе посмотрел на ее сильные, изящные, чистые пальцы, затем, чего уж тут скрывать, заглянул и в вырез докторского халата и заключил, что это, сразу видно, врач — она и мертвого запросто оживить может.
Когда блондинка скомандовала опустить руки, погруженный в свои мысли Капитон не услышал и долго еще сидел, похожий на старого грифа, который ленится взлететь, но расправляет крылья специально, чтобы округа знала — он еще не совсем опустился.
— Опустите руки, уважаемый. — Красавица взяла карточку и поднесла к самому носу соискателя пенсии. Капитон отстранился и удивленно посмотрел на врача.
— Не бойтесь, — ласково успокоила блондинка, — следите взглядом за авторучкой. Пока я не скажу, не отрывайте от нее глаз. Так… Так… — Рука описывала в воздухе круги. — Хорошо… Благодарю вас.
— Что вы сказали? — между нами говоря, Капитон в белых трусах выглядел весьма комично.
— Спасибо, говорю, — она вооружилась молотком и так сильно стукнула его по колену, что старик едва не опрокинулся.
Когда его стукнули по другому колену, Капитон уже ждал этого и даже не подпрыгнул.
— Как у вас со сном, почтенный?
— У меня?
— Да.
— Ничего. Только в последнее время слишком рано просыпаюсь.
— Наверное, рано ложитесь спать.
— Рано, конечно. Что ж еще делать-то. — Капитон вовремя сообразил, что блондинка его не слушает. С быстротой молнии она писала, что-то бормотала своими бледными, чувственными губами.
Кончив писать, она просмотрела анкету и внимательно взглянула на старика:
— Вас соли беспокоят, так?
— Да, очень. — Капитон прикрыл плечи ладонями скрещенных рук. Так было теплее.
— Васо, это ваш пациент! — окликнула блондинка сидящего за четвертым столом мужчину, который закатал рукава, словно мясник, и, не сумев уместить под халатом свой огромный красный галстук, расстелил его на столе. Доктор Васо был лыс, его красивые уши были прижаты к затылку, и, не будь он так мал ростом, он напоминал бы героя пресловутого французского фильма.
— Фамилия? — не давая больному сесть, спросил «Фантома».
— Церцвадзе.
— Вы из каких Церцвадзе, откуда?
— Из Имерети. Церцвадзе вообще живут в Багдади.
— На что вы жалуетесь?
— У меня отложение солей.
— А еще что?
— Как это еще, неужели недостаточно?! — взорвался Капитон.
— Достаточно или недостаточно, это мы выясним. Значит, кроме солей, никаких заболеваний органов у вас нет? — Удивительно, до чего лицо этого человека походило на маску.
— Нет.
— Ну-ка, придвиньтесь ближе. Пододвиньте стул. Еще. Вот так. Дайте правую руку. Так болит? — врач резко, как в каратэ, крутанул Капитонову руку в локте. Капитон едва не закричал.
— Болит! Полегче немного, бандит!
— Вращайте правым запястьем.
Капитон попытался.
— Поэнергичнее, поэнергичнее.
— Да я бы с удовольствием, кабы мог.
— Что сейчас чувствуете? — врач взял его за правую руку и сильно дернул за запястье.
Лицо Капитона исказилось от боли, он вырвал руку.
— Будто ножом меня режут.
— А вот от солей не бывает такой боли, — ухмыльнулась маска, сверкнув в лицо Капитону стальными зубами.
— А какая боль от них бывает? — рассердился Капитон.
— Глухая боль. Как будто кость растягивают.
— Не знаю, глухая это боль или со слухом, только убивает она меня.
— Опасного для жизни у вас в настоящий момент нет ничего, — успокоил врач. — Ну-ка, согните ногу в колене.
Капитон решил, что лучше сделает это сам, чем даст врачу, который наверняка сломает ему ногу. Он выпрямил левую ногу, а затем так резко согнул, что кости захрустели.
— Что-нибудь почувствовали?
— Кроме боли, ничего, вы же слышали.
— Что? — спросил врач.
— Как кости хрустнули.
— Ну-ка, еще раз выпрямите и согните ногу, — врач приложил ухо к Капитонову колену.
Капитон вторично совершил свой подвиг.
— В левом колене действительно наблюдается небольшое скопление солей, — согласился врач и принялся писать.
У пятого стола проверять не стали. Седобородый врач с черной перчаткой на левой руке задал всего один вопрос:
— Как у вас с желудком?
— Мороженое мясо плохо влияет, — признался Капитон.
— На меня тоже, тоже плохо влияет, друг мой. Между прочим, в нашем возрасте лучше употреблять как можно меньше мяса и как можно больше зелени. Идите оденьтесь и подождите в коридоре. Вы сегодня же получите ответ.
Одеваясь, он улыбался. Он так радовался, словно только что переплыл бушующую реку и выбрался на берег неги и покоя.
После пятичасового ожидания ему объявили, что он практически здоров и небольшое понижение трудоспособности, вызванное временным заболеванием, явно недостаточно для получения какой-либо степени инвалидности.
У него потемнело в глазах. За целый день у него во рту маковой росинки не было, он так ослаб, что думал, не доберется до дома. Медленно опустившись на стул, он разглядывал свои скрюченные пальцы.
Его терзало страстное желание: схватить этими сморщенными, слабыми пальцами за ухо врача с застывшим лицом, который попросту наплевал на чужую беду и оставил ни с чем обессилевшего и вдобавок оставшегося без работы человека.
Он не двинулся с места, пока члены комиссии, закончив работу, не вышли и не преградили дорогу трусившему рысцой «Фантомасу».
— Значит, по-вашему, я здоров, да?
Человек-маска остановился.
— Во всяком случае, вы не инвалид.
— Ну что ж, желаю и тебе такого же здоровья, как у меня. Тебя это не должно обижать, ведь я же здоров. Так ведь?
Низенький врач ускорил шаг и уже с лестницы ответил прислонившемуся к стенке Капитону:
— Что поделаешь, дядя. Я правительство обманывать не могу. Что увидел у тебя, то и написал. Мы районная комиссия. Можешь пожаловаться в городскую. Некоторые так делают, первую группу получают. Мне-то что. Ты не можешь сказать, что я на тебя зуб имею, я тебя сегодня впервые вижу. А ты, видать, из тех, кто любит побуянить, только сомневаюсь, чтобы на городской комиссии ты этим чего-нибудь добился. Впрочем, дай бог тебе удачи!
Последние слова врач произнес уже стоя на последней ступеньке лестницы, и Капитон их даже не расслышал.
К концу недели он написал слезное заявление в пять страниц на имя городской медицинской комиссии. Я, писал он, всю жизнь верой и правдой служил в дельфинарии, судимостей не имею и никаких мыслей против правительства тоже. Просмотрите мое личное дело — ничего, кроме благодарностей и поощрений, там не найдется. Чтобы не тревожить страну своими затруднениями, я даже не женился. А теперь я одинокий человек, меня мучают соли, иначе разве оставил бы я общественно-полезную деятельность. Утром мне нужен целый час, чтобы подняться с постели, не могу поднести руку к лицу, чтобы умыться. И в таком положении меня раздели и заставили полтора часа унижаться. Неужели районной комиссии зачем-то понадобилось водить меня за нос? Зачем?.. Все как-то живут на этом свете, а у меня, кроме пенсии, нет никого и ничего. Как говорится, обещанного три года ждут, но я честный человек и, чего не натворил в молодости, в старости тем более не совершу. Надеюсь на вашу принципиальность, вы должны мне помочь и восстановить справедливость.
Городская комиссия рассмотрела Капитонову жалобу, обследовала больного, признала верным заключение районной комиссии и оставила его в силе. Когда Капитон раскричался, к нему в коридоре подошел кто-то и таинственным шепотом заговорил: «Чего ты кричишь, дядя? Разве их криком и угрозами удивишь? Ты человек в летах, я тебе дивлюсь. Надо было хлопотать в районной комиссии, а раз ты сюда пришел, оставь всякую надежду. Они же друг другу коллеги и приятели, так ты думаешь, они станут друг друга топить, а тебя вытаскивать? Не верь. Знаешь что значит отменить решение районной комиссии? Для этого нужно обвинить тех врачей, и чтобы комиссия признала их некомпетентными. А кто из-за тебя пойдет на такое?»
Капитон даже не взглянул на говорившего. Он притих и, держась за перила, часто останавливаясь, спустился с лестницы.
Целую неделю он не выходил из дому. В пятницу он снес на толкучку седло, принадлежавшее еще его матери, и первому же покупателю продал его за семьдесят рублей.
Долго не мог примириться с тем, что седло придется продать, но в конце концов решил: о каких реликвиях может быть разговор, когда человек голодает. Вернуться в дельфинарий он стыдился, бороться за пенсию казалось ему бессмысленным делом, комиссии совершенно сломили его.
Когда в тот вечер он листал газету «Вечерний Патригети», в мозгу его мелькнула такая мысль, что мучимый солями человек буквально взлетел со стула: несмотря на адскую боль в суставах, он вышагивал по комнате, играя тростью и бормотал — слава богу, уж он-то не оставит свое творение без средств к существованию. Затем он присел к столу и принялся стучать костяшками счетов. Кончив считать, он открыл окно и подставил лоб холодному ветру. Немного погодя его пробрала дрожь, и он затворил окно. Затем вновь на мгновенье приоткрыл его и прокричал в ночную мглу:
— Ничего мне от вас не надо! Я проживу на три рубля в месяц!
Как может живой человек прожить на три рубля в месяц? Что за идея такая родилась у Капитона, поделитесь с нами, должно быть, сгорает от любопытства читатель.
Открытие Капитона заключалось в следующем: «Вечерний Патригети» ежедневно помещает извещения о смерти. В среднем в городе хоронят семь покойников в день. Из семи по крайней мере трое — из числа Капитоновых знакомых. А если не окажется знакомых, все равно, во всемирной истории поминовения усопших не было случая, чтобы человека, пришедшего к поминальному столу, спросили, — а с кем вы, собственно, пришли. Вот и буду, решил Капитон, каждый день ходить на похороны, и долг свой гражданский исполню, и от приглашения на поминки не откажусь. «Вечерний Патригети» стоит две копейки. В месяц это получается (30×2) шестьдесят копеек, троллейбусом туда и обратно — восемь копеек (30×8) — два рубля сорок копеек, так что в месяц, прикидывал Капитон, будет уходить не больше трех рублей.
…Почти на каждой погребальной церемонии, происходящей в городе Патригети, можно встретить Капитона Церцвадзе. Он или регулирует вход и выход посетителей на панихидах, или руководит приготовлениями к поминкам. Если же все это уже организовано, он стоит в тени и дремлет.
Надежный человек, говорят о нем в Патригети, умеет оценить человека в беде и встать рядом в трудную минуту.
Первое время он стыдился появляться на всех похоронах подряд, потом привык, и проводы в последний путь стали смыслом его существования.
Соли беспокоили его по-прежнему, однако ему были уже настолько безразличны и жизнь, и смерть, что боль свою он не ставил ни в грош, а, как известно, болезнь бывает побеждена именно тогда, когда о ней начинают забывать.
Перевод А. Златкина.
КРЫЛЬЯ
Ипия — небольшая страна, расположенная на границе двух континентов. Живут в ней преимущественно ипийцы. Я говорю «преимущественно», потому что по данным последней переписи населения ипийцы составили пятьдесят семь процентов. Во время предпоследней переписи они составляли девяносто процентов, каков же будет их процент к моменту следующей переписи — неизвестно, так как в последнее время ипийцы, осознав плачевную перспективу низкого уровня рождаемости и одумавшись, приступили к действенным мерам ускорения демографических темпов. Что из этого получится — покажет время.
Ипийцы в основном люди рослые, голубоглазые, с черными вьющимися волосами. Я говорю «в основном», так как встречаются среди них и низкорослые, и светловолосые, и кареглазые. Более того, среди ипийцев, по природе талантливых, терпеливых и выносливых, не часто, но все же встречаются вспыльчивые, легкомысленные и даже явно слабоумные личности. Разумные, уравновешенные ипийцы подолгу, годами внимательно приглядываются к такому соплеменнику с явно выраженными отклонениями от ипийских норм, а убедившись, наконец, в его умственной неполноценности — как вы думаете, что они предпринимают? Направляют его на лечение? Ничего подобного! В Ипии традиционно отсутствуют лечебницы для душевнобольных. Просто нормальные ипийцы начинают сочинять анекдоты о своих слабоумных соотечественниках. А по части сплетен и анекдотов ипийцы, надо отдать им должное, не знают себе равных.
Президента в Ипии избирают сроком на четыре года. Выборы проходят очень организованно, при строжайшем соблюдении избирательных прав трудящихся. Хочу особо подчеркнуть, что объективно каждый отдельный голос может иметь решающее значение для избрания президента. Ипийцы — народ очень степенный. После продолжительных раздумий и споров они всегда выдвигают на пост президента одну-единственную кандидатуру. По окончании выборов, при вскрытии урн обыкновенно выясняется, что за президента отдали свои голоса девяносто девять целых и девяносто девять сотых процента избирателей (одна сотая процента воздержалась ввиду болезни).
Придерживаясь известного принципа о том, что лучше зло привычное, чем новое, ипийцы, однажды избрав президента, оставляют его на этом посту до тех пор, пока за ним не пожалует сам Микел-Габриэл. И только когда мировая медицина окончательно складывает оружие и престарелый президент отходит в мир иной, только тогда (что еще им остается?) ипийцы избирают нового президента.
Эта новелла — об одном из самых знаменитых ипийских президентов, девятнадцать лет назад внезапно скончавшемся в восьмидесятисемилетнем возрасте. Я говорю «внезапно», так как президент не болел ни одного дня, во всяком случае не лежал. Скончался, можно сказать, прямо у штурвала государства. На четвертый день после кончины президента газеты опубликовали медицинское заключение за подписью группы врачей с целым списком болезней покойного президента. Что же касается обстоятельств, при которых наступила смерть, то об этом пресса единодушно хранила молчание. Вообще в Ипии принято, во избежание паники и излишних волнений, не оповещать население о болезни главы государства. Если президент в течение месяца не появляется на экранах телевизоров, догадливые ипийцы делают вывод, что он занемог. Что же касается ипийского президента, о котором пойдет речь в этой новелле, то он накануне кончины присутствовал на приеме в честь чвенчурского принца. На следующий день он должен был принимать ипийского премьер-министра Хаие, и распространился слух, что он скончался как раз во время этого приема. Правда это или нет — выяснится на четвертый день, — говорили многие ипийцы, более не доверяя слухам, особенно часто распространявшимся как раз об этом ипийском президенте. Но каждый раз, именно на четвертый день, на зло любителям посплетничать, президент снова появлялся на экранах телевизоров, неестественно выпрямившийся, с вымученной улыбкой на лице.
За последние тридцать лет ипийский президент сильно постарел и заметно сдал. Руки у него дрожали, и если прежде он всегда собственноручно прикреплял ордена и медали к знаменам и к груди награждаемых, то теперь это делал постоянно стоявший у него за спиной помощник. Так что ипийцы, конечно, догадывались, что конец президента не за горами, но все-таки не ожидали, что катастрофа произойдет так внезапно, во время приема молодого ипийского премьер-министра.
Да простят меня ипийцы, но у ничтожного автора этой новеллы появилось странное желание: описать последний день президента и тем самым, возможно, хоть немного сдержать буйную фантазию сплетников.
Была среда. В то утро президент не выглядывал в окно, иначе он увидел бы нависшее над городом свинцовое небо. Свинцово-серое и тяжелое, как свинец. Казалось, тяжелые серые тучи не могут удержаться на небе, распадаются на пряди, и эти пряди оседают вниз.
Проснулся президент на рассвете. И так и не смог больше заснуть. Бессонница совсем замучила его. Не раз просил он врачей давать ему снотворное по утрам, когда он просыпается. Уверял, что с вечера и сам прекрасно засыпает. Но врачи, словно сговорившись, в одно ухо впускали — в другое выпускали его жалобы: знали, во что может превратить принятое с утра снотворное и без того выжившего из ума президента. Правда, глава государства давно уже ничего не решал в делах управления страной, но как бы там ни было, он все же был президентом и врачи обязаны были хоть на пару часов в день ставить его на ноги для показа по телевидению.
С восьми утра и примерно до половины десятого рассудок у президента несколько прояснялся. И тогда он начинал извлекать из кладовой памяти самые приятные воспоминания прошлого — лежал и, представьте себе, нередко блаженно улыбался. Особенно отчетливо он помнил те дни своей жизни, когда его, сына пастуха, приняли рабочим-учеником на завод и даже выделили в общежитии железную койку. По вечерам он, сидя на этой койке, с аппетитом уплетал колбасу с черным хлебом и пил из бутылки пиво. Потом сознание президента снова затягивалось пеленой. Однажды он целый час тщетно пытался вспомнить, как зовут его первого заместителя, но так и не вспомнил. В детстве он долго путал левый и правый ботинки, и в последние два года эта детская странность снова стала проявляться. Поэтому его уже давно обувают услужливые телохранители. Вообще эти телохранители — странный народ. За последние два месяца президент менял их семь раз, но и этими, последними, он был недоволен. Выходит, к примеру, президент из ванной — его бесцеремонно поворачивают и возвращают назад: зубы, дескать, забыл почистить. Бестактность этих телохранителей просто не знает границ! Ну, какое ваше дело, почистит или нет зубы президент? Некогда обладавший ясной головой, президент с каждым днем все чаще страдал провалами памяти. «Позовите мне этого… этого… ну, этого…» — твердил он, бывало, уставившись в потолок, обращаясь к своему помощнику, тщетно пытаясь вспомнить имя старого друга. Спроси его в эту минуту — он бы и имя помощника не смог назвать. Однажды даже не смог вспомнить имя покойной супруги — и горько заплакал. Но это было всего один раз. А так он прекрасно помнил имя подруги жизни.
Взглянул на электронные часы. Было около девяти. Скоро заработает селектор. Сначала его поприветствует первый помощник, пожелает доброго утра. Потом явятся телохранители. Ему так хотелось подольше полежать в постели, понежиться. Так хотелось, чтобы его оставили в покое. Избавили от этого навязчивого внимания и предупредительности. Он прекрасно знал, что на него всю ночь направлено недремлющее телевизионное око, при помощи которого за его сном неусыпно наблюдают врачи, сидящие в соседней комнате. Стоило только чуть участиться дыханию — как возле него тут же появлялись люди в белых халатах со шприцами и в очередной раз вонзали иглу в и без того всю исколотую ягодицу. Если бы вы знали, как ненавидел президент этих бдительных, лишенных сна врачей с вечно встревоженными лицами!
Как я уже говорил, президент не спал, но лежал с закрытыми глазами: дескать, может, подумают, что я сплю, и еще хоть ненадолго оставят меня в покое.
Лежал и думал.
«Как можно так издеваться над человеком, совсем с ним не считаться? А еще президентом называюсь. Люди думают, я мировые проблемы разрешаю. Видели бы они мой зад. Ни повернуться, ни потянуться в свое удовольствие. Разве это жизнь? Не принадлежать самому себе. Когда же это кончится? Неужели я уже никогда не смогу вставать, садиться и ложиться, когда мне вздумается? Спать, сколько захочется, а не захочется — не спать. Часами держат в этой проклятой барокамере и «вдувают душу». Не хочу, не нуждаюсь я ни в вашем кислороде, ни в насильственном продлевании жизни. И никого рядом, с кем можно было бы поговорить. Собеседников сколько угодно — стены и те отзовутся на любое мое слово, но «по душам» поговорить не с кем. Все разговаривают с тобой сдержанно, холодно или смущенно. Уж и не припомню, когда в последний раз слышал простую, открытую человеческую речь, человеческий смех.
Ради чего все это? Неужели ради этого я двадцать восемь лет назад задумал и совершил невозможное? Будь тогдашний правитель Ипии хоть чуточку поумнее, мне бы, может, и в голову не пришло становиться президентом. Но он, этот мой покойный предшественник, был просто-напросто буйно помешанным. Чуть не пустил страну под откос. Можно сказать, посадил всех на черный хлеб и воду. Вот я и решил тогда: такой, дай ему волю, совсем погубит страну — и стал подумывать о президентстве. А до этого у меня ничего такого и в мыслях не было, да и, господи прости, особого государственного ума я за собой никогда не замечал. Сейчас кажется, что все произошло очень просто, а тогда, вы думаете, легко было все это провернуть? Легко ли сбросить президента? Я долго прикидывал, как взяться за дело. Главное — первые трое, первые три человека, которым ты доверишься. Допустим, тебя не поддержали — куда тогда деваться? Отступать некуда. Тут ставка не на жизнь, а на смерть. Мне тогда казалось, что, кроме меня, никто на это не решится и никто не сумеет укрепить наше пошатнувшееся государство. Слава богу, все закончилось благополучно: нам удалось увести престол из-под самого носа отбывшего на курорт президента. Вначале меня даже немного мучили угрызения совести. Но разве не тем же способом и сам он вырвал ипийскую корону у своего предшественника? Пятьдесят шесть лет ему было, когда ввиду «преклонного возраста и плохого состояния здоровья» мы освободили его от занимаемой должности. Так писали тогда газеты. Так уже в Ипии заведено: не оповещать народ об истинных причинах смещения государственных мужей. А если разобраться, то какой это преклонный возраст — пятьдесят шесть лет? Преклонный возраст — это вот у меня сейчас, но я — другое дело. Я и члены моего кабинета представляем собой то счастливое, редчайшее исключение, когда человек и в солидном возрасте сохраняет необыкновенную активность и способность управлять государством. Пресса наша в последнее время или вообще не касается проблемы старости, или если и затрагивает ее, то очень деликатно. Тут как-то один новоиспеченный доцент опубликовал в одном провинциальном медицинском журнале статью, в которой осмелился утверждать, что после восьмидесяти лет человек не в состоянии вести общественно-политическую работу. Так не только этот доцент навсегда потерял право печататься и лишился ученой степени, но и сам журнал прикрыли. Как будто его и не было. Должен же человек, тем более доцент, соображать, что и когда писать!
А вообще-то, между нами говоря, восемьдесят семь лет — это немало… Трудно мне управлять страной, конечно, трудно, но куда деваться? Во-первых, у меня в кабинете и нет никого моложе и здоровее меня. Я сам об этом в свое время позаботился. Молодому да здоровому мало что может взбрести в его здоровую голову. Мы так плотно затворили двери кабинета — муха не залетит. Есть у нас, конечно, талантливая и энергичная молодежь, как ей не быть. Но пусть она пока подождет, потерпит. Трудно мне, ох, как трудно… Чего стоят одни эти нескончаемые приемы и встречи, раздача орденов и медалей — и все на ногах, на ногах… Я иногда просто сгибаюсь под тяжестью своего пиджака. Когда тебя награждают — сначала это приятно, но потом как подумаешь, что пиджак станет еще тяжелее, — сразу настроение портится. Непосвященные люди, наверно, думают: другим награды раздает и себя, небось, сам награждает, сукин сын. А ведь это не так. Просят тебя, умоляют — ведь не откажешь. Теперь вот думаю: я на то и политический деятель, чтобы быть дальновидным, уметь глубоко постигать явления и события, анализировать, быстро ориентироваться в сложнейших вопросах. Так что мне вполне хватает собственных достоинств.
Если вы меня действительно уважаете, дайте мне лучше пару лишних часов полежать утром в постели — больше мне ничего от вас не нужно. Вот это и будет ваше уважение. Вообще-то, по справедливости, мне бы давно пора подать в отставку и уступить президентское место другому, но, черт побери, кому уступить и куда самому деться? Кто поверит, что я по собственному желанию ушел? Решат, что сняли. Новый человек придет, своих людей приведет, а всех моих стариков спровадит на пенсию. Да еще и обязательно примется меня критиковать. Так уж заведено. Все мы так поступали. Ну, и что за этим последует? Разорвется от переживаний сердце. И думаешь, тебя похоронят со всеми почестями, полагающимися тебе за твои заслуги перед Ипией? Да ничего подобного! Отделаются коротким сухим некрологом, и если в ипийской крепостной стене отыщется место для урны с твоим прахом — можешь считать это большой честью. Зачем мне это нужно — кремация, урна, стена? Назовут моим именем какую-нибудь глухую улочку и небольшой пароходик — тем все и кончится. Ради этого ли я столько старался, потратил столько сил и здоровья? Вот поэтому я не хочу уходить. А так, конечно, что может быть лучше заслуженного отдыха? Внуки уже все повырастали, в генералы вышли, а я ни на коленях не успел их подержать, ни наиграться с ними вволю.
Люди, завидующие мне, — это ненормальные, можете мне поверить. Я ведь несчастнейший человек. Знаете, кто в этом мире счастлив? Тот, кто может, когда ему вздумается, пройтись по деревенской улочке, вдоволь надышаться ароматом скошенной травы, нарвать букет полевых цветов, посидеть на перекинутом через ручей бревне, поболтать в воде ногами, вволю нахохотаться. Счастлив тот, кто может неторопливо прогуливаться по людному проспекту, на ходу уплетая мороженое и улыбаясь незнакомым красивым девушкам. А в моем положении какое счастье? Сам себя приговорил к президентству и вот уже почти тридцать лет не принадлежу самому себе…»
Мысли его были прерваны писком селектора. Он натянул на голову одеяло и затаился.
— Доброе утро, господин президент, — послышался знакомый голос.
Он не отвечал. Минут через пять аппарат снова запищал и президенту опять пожелали доброго утра. Он и на этот раз не отозвался, притворяясь спящим.
Вскоре в комнату вошел помощник, элегантный мужчина во фраке, с прической дипломата, с папкой из натуральной кожи в руке. Бесцеремонно откинул с лица президента одеяло, любовно пожурил его: «Не притворяйтесь, я же знаю, что вы не спите», придвинул к кровати кресло, раскрыл папку и приступил к чтению утренней информации. Президент вскоре задремал: его всегда клонило в сон, когда ему что-нибудь читали. Ощутив на лбу ласково-отрезвляющее прикосновение руки помощника, открыл глаза.
— Ты мне вот что скажи, — президент подложил под голову правую руку и уставился в потолок.
— Слушаю.
Он забыл, что хотел спросить, но поскольку помощник ждал, то сказал первое, что пришло в голову:
— Встреч и проводов сегодня много?
Он терпеть не мог поездки в аэропорт. Он смертельно устал от этих встреч и проводов. Но всем ведь не объяснишь, что обход почетного караула — тяжкое испытание для больных ног.
— Сегодня только один прием.
— Кого будем принимать?
— Премьер-министра Ипии. Вы что, забыли? Он ведь вчера прибыл.
Президент промолчал. Вчерашний день он помнил очень смутно.
— А будет ли на приеме… этот, как его?..
— Все будут, — успокоил его помощник, встал, сунул под мышку кожаную папку, тряхнул головой, поправляя прическу, и вышел.
После завтрака президенту стало плохо. Врачи растерялись: время барокамеры еще не подошло. Уложили его на кровать и всадили один за другим два укола.
В двенадцать начался прием.
Сначала помощники ввели в зал для приемов главу Ипии и поставили его у длинного стола. Следом за ним вошли седовласые члены правительства и тоже стали вдоль стола. Минуту спустя открылась дверь и в зал спортивной походкой вошел молодой улыбающийся премьер-министр Хаие.
Хаие, блестя в улыбке белыми зубами, подходил все ближе, и на лице его было написано любопытство. За ним следовала свита из восьми человек.
Президент сделал шаг навстречу гостю и снова оперся о стол. Так ему было велено. А то он вполне мог сделать и два шага.
Когда ипийский премьер протянул ему руку, президент не только пожал ее, но, сделав над собой усилие, поднял вверх обе свои немощные руки, положил их на плечи Хаие, привлек его к себе, прижал к груди и стал лобызать то в левую, то в правую щеку. Это продолжалось до тех пор, пока, наконец, стоявший сзади помощник не взял президента за локти и не оторвал от гостя.
Усевшись за длинный стол, президент достал носовой платок и принялся вытирать глаза. В последнее время он стал очень чувствительным и во время приемов после объятий и поцелуев на глаза его всегда наворачивались слезы.
Переговоры длились довольно долго. Президент чувствовал себя неважно и в беседу не вмешивался. Он все время смотрел на гостя, а мысли его были далеко. Кто знает, возможно, в это время его гораздо больше, чем все мировые проблемы вместе взятые, интересовал вопрос, болезненными ли будут два укола, которые ему должны сделать сразу после приема. Переговоры с ипийским премьер-министром вели другие члены правительства.
Правитель Ипии сидел, сидел и постепенно начал сердиться. Ему казалось, что во время переговоров глава Ипийского государства своими живыми глазами и щебечущим говором, мощной шеей и обаятельной улыбкой явно вводил в заблуждение, в чем-то дурачил опытных, но простодушных хозяев. И чем дальше, тем больше в нем крепла эта уверенность. «Да он явно жулик, хочет нас одурачить», — думал он, но в чем именно тот жульничает — сказать бы не мог, так как не слушал участников переговоров, и даже если бы и слушал, вряд ли его утомленный разум был в состоянии что-либо понять из специфической, полной взаимных реверансов и фальшивых улыбок беседы дипломатов.
К концу приема произошло нечто неслыханное. Когда начался церемониал подписания договора, президент вдруг странно ухмыльнулся, схватил договор, который только что положили перед ним, разорвал его пополам, бросил через плечо, встал, шаркая ногами, обошел вокруг стола, с трудом доплелся до высокого гостя, склонился к нему и поднес к самому носу ипийского премьер-министра господина Хаие комбинацию из трех пальцев.
Зал оцепенел. Хотя этот прием не транслировался по прямому каналу — телекамеры мгновенно отвернулись на сто восемьдесят градусов от этой, с дипломатической точки зрения, в высшей степени неприличной сцены.
Затем, будто вновь ожил остановленный кадр, ипийский правитель выпрямился и как всегда шаркающей походкой направился к двери. У двери президент остановился, обернулся, сунул в рот четыре дрожащих пальца и засвистел изо всех сил.
Свист постепенно слабел, и, прежде чем подоспели помощники, президент без посторонней помощи вынул изо рта пальцы, повернулся к присутствующим спиной и стал оседать на пол.
В зале, как по волшебству, тут же появились люди в белых халатах, но ни искусственное дыхание, ни растирание ушей, ни нашатырный спирт не дали результата. Президент был мертв.
На четвертый день газеты оповестили мир о кончине президента, о которой все уже давно знали по слухам. Одновременно с некрологом было опубликовано медицинское заключение. Врачи — народ осторожный: дескать, как бы нам не оказаться виноватыми — взяли и написали в заключении все, как было. В подписанном девятью врачами-академиками заключении читателям сообщалось, что в последние двадцать шесть лет президент страдал гипертонией, атеросклерозом, перенес семь (в том числе один микро) инфарктов миокарда, правая гемосфера мозга не функционировала, а в левой были атрофированы канальцы памяти, кроме того, развивался необратимый процесс ороговения спинного мозга, а шейные позвонки были окончательно деформированы. Нарушения речевого аппарата сопровождались потерей способности установления логических связей. Желчный пузырь был набит камнями, а мочеточники давно утратили проходимость.
«И как он до сих пор еще на ногах держался», — ознакомившись с этим убедительным заключением медицинских экспертов, вздыхали ипийцы и, тщательно сложив газету и спрятав ее в карман, с озабоченными лицами спешили дальше по своим ипийским делам.
Перевод Л. Кравченко.
ГИГИЛО
Это случилось двадцать восемь лет назад: девятнадцатого января тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года. Не буду отрицать, что мы, писатели, по разным причинам, нередко меняем время и место действия — так, как это нужно для дела. Но что касается этой истории, то она действительно произошла ровно двадцать восемь лет назад — девятнадцатого января тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года. Я подчеркиваю это, так как сейчас как раз девятнадцатое января тысяча девятьсот восемьдесят пятого года.
В приемную председателя исполкома города Мужужи вошел Гигило Цхададзе, молодой человек лет тридцати, и, тихо кивнув на закрытую дверь кабинета, заговорщицки спросил секретаршу:
— Много народу?
— Никого нет.
Ответ девушки-секретарши удивил и даже огорчил Гигило. Он бы предпочел, чтобы она сказала что-нибудь вроде «Занят», «Очень много посетителей», «Сегодня не сможет вас принять, приходите в другой день». Во-первых, такие ответы в приемных звучат как-то естественнее. Во-вторых, Гигило привык проникать в кабинеты сильных мира сего хоть с небольшим, но все же боем. Посидишь какое-то время в терпеливом ожидании, потом начнешь высказывать вслух недовольство — а тем временем, глядишь, и обдумать все успеешь как следует, и первая фраза уже наготове: «Еле прорвался к вам, уважаемый!..» А на этот раз, видно, так не получится. «Наверно, председатель не принимает», — решил Гигило.
— Пойдете? — спрашивает секретарша.
— Пойду, если пустите. Доложите, пожалуйста, — Цхададзе, по личному вопросу.
— Зачем докладывать? Идите. Сами все и скажете.
Девушка аккуратно завязала тесемки на зеленой папке, убрала ее в шкаф, встала, оправила юбку и распахнула перед посетителем дверь кабинета.
Председателем горисполкома в то время был Пимен Рохва. В тысяча девятьсот шестьдесят первом его, неожиданно для всех, назначили вдруг директором конторы по сбору металлолома. Через шесть месяцев он был арестован и отбывал срок в Хонской колонии, правда, всего полтора года. После освобождения возглавил отдел соцобеспечения в исполкоме. Он, наверно, и по сей день занимал бы этот пост, но в прошлом году, зимой, попал под грузовик и скончался на месте.
У председателей, как правило, вырабатывается со временем так называемый «профессиональный нюх», позволяющий им буквально с первого взгляда определять цель визита посетителя. Глянет такой председатель разок — и словно на лбу у посетителя прочтет, с какой просьбой тот явился. Вздохнет председатель, а у самого уже отказ наготове. А дальше все идет как по нотам. Словно какой-то строгий режиссер раз и навсегда разработал и установил нерушимые законы действия: посетитель старается как можно трогательнее изложить свою просьбу, а председатель, в свою очередь, делает все возможное, чтобы убедить просителя в необоснованности его просьбы. Если этого оказывается недостаточно, отделывается от него лживыми посулами. Правда, просители, едва покинув кабинет, как правило, тут же делают верные выводы из всех этих «Постараемся… Заходите… Я поставлю этот вопрос… Мы тут посовещаемся с товарищами… Лично я ничего не имею против, напротив — сделаю все, что в моих силах…» и оценивают их одним словом «Отказал».
Впрочем, все это не имеет никакого отношения к данному рассказу, просто пришлось к слову.
А теперь я хочу еще раз напомнить читателю, что, во-первых, все это произошло двадцать восемь лет назад и, кроме того, Гигило Цхададзе был не совсем обычным посетителем — иначе не появилась бы на свет эта новелла.
Лицо гостя показалось Пимену Рохва знакомым, но больше он ничего не мог вспомнить. Не вставая с места, он протянул посетителю правую руку, одновременно левой указывая на стул, и, прежде чем Гигило успел сесть, не теряя времени, спросил:
— Вы ведь уже были у меня?
— Был, — подтвердил Гигило.
— Ну и как? Уладилось ваше дело? Кстати, что это было за дело? Ну-ка, напомните мне, а то я что-то не припомню.
Цхададзе оглядел председателя: его усталое лицо, светлые, короткие, будто обгорелые брови, сдвинутые на лоб очки, волосатые кисти рук, подпирающие массивный подбородок, — и откашлялся в кулак.
— Вы сами меня вызывали, Пимен Отарович, сразу после рождества, если помните.
— Как не помнить — конечно, помню. Так о чем шла речь?
— О моем отце, — гость, будто нарочно, был крайне скуп на слова.
— Ну да. А что с отцом-то?
— Реабилитируют.
— Как фамилия? — председатель выдвинул ящик, достал длинный серый блокнот и положил перед собой.
— Цхададзе, Шермадин, — отвечал посетитель.
— Так… Цхададзе… Цхададзе… Шермадин — вот он. Работал председателем отдела просвещения, был ответственным за Годоган — Квахчир — Сихуньский район, по профессии — историк. Верно?
— Да, это так.
— И что же? — председатель закрыл блокнот и снова убрал его в стол.
— Я был там. Принял меня высокий однорукий мужчина. Фамилии не знаю. Принесли документы. Он долго читал их, качал головой — потом обернулся ко мне: «Приходите, — говорит, — двадцать первого. К тому времени комиссия рассмотрит дело и вынесет окончательное решение». А сегодня какое число? Девятнадцатое. Послезавтра опять надо идти.
— Значит, все в порядке! — Пимен привстал и снова, но теперь уже гораздо крепче, чем при встрече, торжественно пожал руку привставшему навстречу Гигило. Но тот, высвободив руку, опять опустился на стул.
— У меня к вам просьба, Пимен Отарович.
— Я слушаю, — председатель поставил сжатые кулаки друг на друга и уперся в них подбородком.
— Нельзя ли приостановить это дело?
— Какое дело?
— Реабилитацию. Имею ли я право отказаться от реабилитации отца?
Пимен окаменел, словно заколдованный, и какое-то время молча взирал на Цхададзе, потом ожил, опустил на нос очки и снова стал пытливо всматриваться в гостя.
— Ты что, парень, рехнулся, что ли?
— Да нет, я в порядке. Я просто хочу знать, имею ли я право отказаться. Идя сюда, к вам, я, конечно, заранее знал, что вы мне ответите. Дескать, осудили в свое время — тебя не спросили и оправдают — тоже не станут спрашивать твоего согласия. Но я же все-таки сын своего отца, или как?
— Сын, — невольно вырвалось у председателя.
— Так имеет сын право на собственное мнение о реабилитации отца или нет?
— А как же, а как же! — подмигнул председатель, встал и заходил по комнате, громко топая сапогами.
— Извините, если можно, сядьте, пожалуйста, и выслушайте меня. Вы ведь видите, что я не совсем обычный проситель. — Гигило старался говорить спокойно, но побелевшие губы выдавали волнение.
— Если бы вы знали, сколько ночей я не спал, обдумывая то, что собираюсь сейчас рассказать. Пожалуйста, выслушайте меня, и если слова мои покажутся вам бредовыми, — вы мне так прямо и скажите: дескать, нигде больше этого не повторяй. Я даже не знаю, имею ли я право все это говорить. Поэтому решил поговорить с вами наедине и во всем положиться на вас.
Пимен Рохва бочком присел на стул, плотно задвинул все ящики, отодвинул в сторону бумаги, снял очки, сложил их и спрятал в карман кителя. Все это он делал, не сводя глаз с Гигило. Каких только посетителей не перевидал на своем веку председатель, но такого странного видел впервые.
— Ну вот, я готов. Слушаю вас.
— Когда забрали моего отца, мне было девять лет. — Гигило не отрываясь смотрел в окно, забранное железной решеткой, и говорил чуть приглушенным, надтреснутым голосом. — Во втором классе учился. Я очень хорошо все помню. Не знаю, что меня разбудило той проклятой ночью. Отец поспешно одевался, время от времени негромко обращаясь к матери, застывшей на пороге с остановившимся взглядом. У стола сидели двое незнакомых мужчин в плащах. Они то переглядывались, то, словно по команде, устремляли глаза в потолок. Когда я в одних трусах предстал перед ними, отец погладил меня по голове и почему-то с укором сказал матери: «Вот видишь, я же тебе говорил: разбудишь ребенка. А у тебя, сынок, все уроки назавтра готовы?» — «Угу», — ответил я, подошел к матери и прижался щекой к ее локтю: очень не нравилась мне ее странная задумчивость. Она стояла, неподвижно сложив руки на груди, не отрывая взгляда от пламени стоявшей на камине лампы. «А они вам не сказали, зачем вызывают? Почему вдруг среди ночи? Я всего час как вернулся из Годогнии. Меняли балки в начальной школе. Если сам лично не будешь стоять над головой — кто станет работать в такую погоду. А балки совсем прогнили, потолок со дня на день мог рухнуть детям на голову», — застегивая пуговицы кителя, говорил отец, обращаясь к сидящим за столом мужчинам. «Нам ничего не объяснили. Скажем, — говорят, — пару слов — и отпустим домой», — отвечал один из гостей, большеголовый мужчина, глядя на мать. «Ну, пошли. Вы на машине?» — бодро спросил отец. «Нет», — отвечали гости, шумно поднимаясь. «А вы ложитесь и спите. Дверь на засов не закрывай, просто прикрой. Я часа через полтора вернусь и еще успею поспать, иначе завтра из меня будет плохой работник. Ты ложись с ребенком, а то еще испугается». Они даже не поставили отца в середину: сами пошли вперед, отец — за ними. «Теплое белье надел?!» — вдруг крикнула мама. Это и было ее прощанием. «Да-да, я одет тепло!» — донесся голос отца уже от калитки и, кто знает, может, он нам и рукой помахал в темноте, но мы этого не увидели. Мы с мамой, стоя на веранде, слышали лишь размеренные шаги, а когда они совсем стихли, мама обернулась ко мне: «О господи! Ну разве можно, сынок, выходить вот так, совсем раздетым?! Ты уже большой мальчик, неужели я должна за тобой смотреть как за маленьким? Пойдем, пойдем спать. Папа скоро придет».
В ту ночь мать так и просидела в надетом поверх ночной рубашки байковом халате до утра возле моей кровати. Одной рукой она гладила меня по голове, другой подпирала подбородок, неотрывно глядя в окно. Я под утро немного вздремнул, а когда проснулся — мама по-прежнему сидела в той же позе.
Не буду рассказывать, сколько бед посыпалось с того дня на нашу голову. Во-первых, для вас это не будет новостью — вам, наверно, довелось слышать немало подобных историй. Да и мне самому не хочется ворошить прошлое. Зачем? Чем толще будет на нем слой пыли — тем лучше для всех нас.
Скоро, четырнадцатого февраля, мне исполнится тридцать. Работаю младшим взрывником в Дормосттуннельтресте. Вы, наверно, слышали, мы сейчас расширяем Хвамлийскую дорогу. Много времени прошло с той злосчастной ночи, и ни к чему все это вспоминать. Кто виноват в том, что с той ночи мы больше не видели отца? Что через неделю нас выселили из квартиры? (Нас приютил у себя мой дядя, и все это время, до прошлого года, мы жили у него. В прошлом году трест выделил мне однокомнатную квартиру, и нам с матерью, пока я не женат, хватает — а там видно будет). Кто виноват в том, что мою мать, преподававшую в начальной школе, сразу же уволили и ей пришлось работать на швейной фабрике, пока ее, тридцативосьмилетнюю женщину, не разбил паралич? Кто виноват в том, что меня долго не принимали в комсомол, куда я вступил лишь в девятнадцать лет? И в том, что очень долго я чуть не терял сознание от страха, стоило лишь мелькнуть в нашем переулке незнакомой фигуре в темном плаще? Кто виноват? Вы? Или те двое, что увели в ту ночь отца?
Нет, уважаемый, я прекрасно знаю виновника. Виновато время, эпоха, и, клянусь своей больной матерью, в душе я давно простил всему миру свою исковерканную жизнь и несчастье всей нашей семьи.
В конце концов, ведь ничего невиданного и неслыханного не произошло, ничего такого, что бы не случалось в иных странах и в иные времена. Мало ли мелких людишек, а то и маленьких государств было раздавлено на крутых поворотах истории? По мановению ее всесильной десницы в мгновение ока исчезали с лица земли целые государства, нации, изменялась карта мира. Что такое мы в сравнении с этим? Не то что маленькому скромному инженеру отдела народного образования Шермадину Цхададзе — вон каким гигантам не удалось избежать жестокой мясорубки эпохи. Так бывало прежде, так будет и впредь. Все это описано в исторических книгах. Взять хоть эпоху Македонского или Наполеона. Или историю Римской империи. Так что в том, что с нами произошло, ничего удивительного нет. Те, кто стоит у штурвала истории, естественно, прежде всего защищают свои интересы — и им незачем извиняться перед историей, что не всегда в белых перчатках и с дипломатическими реверансами приходится им отстаивать свою правду. Потом, со временем, история, конечно, скажет свое слово, выяснит, был ли прав тот, на чьей стороне была сила, и что дало человечеству очередное потрясание кулаками. Но мы ведь с вами прекрасно знаем, Пимен Отарович, что этот справедливый суд беспристрастной истории чаще всего запаздывает. Его время наступает тогда, когда не только жертвам уже ничем не помочь, но и могилы возмутителей справедливости давно поросли травой.
Я уже рассказал, как поступили с моей матерью. На меня тоже долго косились с подозрением. Стоило мне немного расшалиться, как наш учитель военного дела, хотя никто не вменял ему это в обязанность, тут же меня одергивал: «Не выйдет из тебя человека — весь в отца!» Что из меня вышло — все видят, а его, этого учителя, в прошлом году посадили — кур воровал у соседей и продавал повару в ресторан. Когда я был маленьким, в душе нередко злился на отца за то, что он навлек на нас столько бед. Но стоило мне произнести вслух что-либо вроде «Будь у меня другой отец — все было бы по-другому», как мать хватала меня за ухо и с рыданиями в голосе твердила: «Замолчи! Ты ничего не понимаешь! Не болтай глупостей! Отец у тебя не плохой, а хороший!»
Подрастая, я стал смотреть на все другими глазами. Часто разглядывал сохранившиеся фотографии отца. Стану, бывало, перед зеркалом, рядом со своим лицом держу фотографию отца и отыскиваю сходство. Даже волосы стал причесывать, как отец. Ему в то время было двадцать восемь. Я теперь уже старше своего отца. Я-то считал его взрослым мужчиной, а он был всего-навсего двадцативосьмилетним парнем. А сколько у него было друзей и просто благодарных ему за что-то людей. Как часто совсем незнакомые люди, узнав, что я сын Шермадина, ласково гладили меня по голове и прижимали к груди…
Так вот, осмелюсь вам напомнить, хоть мир и велик, но мы в нем не потерялись. Мы с матерью тоже кое-что сумели в этой жизни. Жили честно, и никогда ни перед кем не унижались. Ни перед кем не падали ниц и не просили пощады. После беды с отцом все остальные невзгоды казались нам мелочами, и злоба человеческая больше не удивляла и не возмущала нас.
В моем сознании, Пимен Отарович, по мере того как я присматривался к этой жизни, постигая ее, сложился свой образ отца. К двадцати восьми годам человек уже должен твердо знать, чего он хочет, должен выбрать четкую жизненную позицию. И отец мой, судя по всему, не был простофилей и по многим вопросам имел собственное мнение. И если он и не был вожаком, то и покорно бредущей за стадом овечкой тоже не был. Видно, была у него потребность высказывать обо всем происходящем свое мнение. Шагать не в ногу в общем строю — некоторыми рассматривалось тогда, как преступление. Вот отец и поплатился. Я даже не знаю, предоставили ли ему возможность словом и делом доказать, что ничего преступного он в душе не вынашивал и мир переворачивать не собирался. Он просто был человеком мыслящим и позволял себе вслух рассуждать о том, где добро, а где зло.
Вот таким человеком я представляю себе своего отца, и если я вам скажу, что ничуть не горжусь им — не верьте мне, ибо это будет неправдой. Двадцативосьмилетний парень, молодой работник отдела просвещения ценой собственной жизни заплатил за свои убеждения. А это совсем не мало, Пимен Отарович! И, чего греха таить, мне в этом отношении далеко до моего отца. Я не смогу того, что сумел Шермадин. Вы воспитали меня по-другому, и я совсем другой человек. Я ни на чем не настаиваю, в споры не ввязываюсь, во всем с вами соглашаюсь и всюду послушно следую за вами.
Вы меня слушаете, Пимен Отарович? Все это так, но я не хочу, чтобы обезличили моего отца, чтобы он выглядел еще более жалким и никчемным, чем я сам. Для меня это будет ужасно, понимаете? Я стану еще ничтожнее, а какой вам толк от полного ничтожества? Лучше я буду считать моего отца человеком, пострадавшим за свои, пусть ошибочные, убеждения. Не хочу я, чтобы мне сказали, когда я пойду туда двадцать первого: «Шермадин Цхададзе к тому делу не имел никакого отношения. Он был простым, бесхитростным человеком, как говорится, тюхой-матюхой, и пострадал по ошибке, ни за что». Понимаете, что я хочу сказать? Был ли в чем виновен мой отец или нет — этого мне сейчас наверняка никто не скажет, да мне это и не нужно. Но для меня очень важно, чтобы он что-то собой представлял, был пусть заблуждавшейся, но личностью. Иначе ради чего, ради кого мы с матерью вынесли столько страданий? Ради ничего не понимавшего жалкого недотепы? Ради безропотной послушной овечки?
Нет, Пимен Отарович, пусть Шермадин остается таким, каким он был для меня до сих пор. Ему реабилитация теперь уже ничем не поможет. Так что не надо моего двадцативосьмилетнего отца в тряпку, в ничтожество превращать. Может, он и правда ничего особенного собой не представлял, но я такого бесцветного, безликого отца не принимаю! Я с таким трудом создал себе его портрет, по крохам собрал образ моего отца — Шермадина Цхададзе и хочу сохранить его именно таким. Ну кому от этого будет хуже? Уверяю вас, так будет лучше.
Вот в чем состоит моя просьба. Прошу извинить меня за несвязность и сбивчивость речи. Я старался успеть сказать все. Позвоните туда и скажите: дескать, сын возражает против реабилитации отца. Знаю, что это покажется им странным, но я очень надеюсь на вас, так что вы уж меня не подведите.
Это случилось двадцать восемь лет назад — девятнадцатого января тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года. Не буду отрицать, мы, писатели, нередко, в силу множества причин, меняем время и место действия — так, как это нужно для дела. Но эта история произошла ровно двадцать восемь лет назад — девятнадцатого января тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года. Я подчеркиваю это, так как сейчас как раз девятнадцатое января тысяч девятьсот восемьдесят пятого года.
Перевод Л. Кравченко.
ГОСТИ В САЧКЕПЕЛЕ
Это же непредставимо — молчать на протяжении одиннадцати часов, но Дарья и Петр, если не считать междометий, так и не сказали друг другу ни слова. Поезд вышел прошлой ночью в половине первого; в купе, кроме них, больше никого не было. Наутро, едва рассвело, Дарья оделась и села у окна. Время от времени она поглядывала на лежавшего ничком мужа — словно хотела что-то ему сказать, но потом, как бы передумав, снова отворачивалась к окну. Уверенной в том, что Петр не спит, она не была — равно как и в том, что он скажет ей что-то новое. К двенадцати Петр поднялся, оделся, повязал галстук, натянул на широкие плечи пиджак из синего бархата (который сидел бы на нем куда лучше, будь размером на два номера больше), сложил руки на коленях и уставился на Дарью. Он долго, даже ни разу не глянув в окно, не сводил глаз с жены, и… кто знает, о чем он думал, время от времени тщательно приглаживая рукой непокорные седые вихры, затем прижимая ладонь ко лбу и всячески стараясь таким образом удержать взъерошенный женой чуб, но стоило ему отнять от головы руку, как волосы потихоньку, один за другим, вновь вставали торчком и принимали такой вид, при котором появляться в обществе с эстетической точки зрения не вполне удобно.
Когда поезд оставил позади Кванцалаури и уже приближался к Миминосцкаро, Дарья обвела мужа долгим, очень долгим взглядом и сказала ему голосом привычно спокойным и влюбленным:
— Развяжи ты этот галстук, бога ради. Неужели не давит?
Петр рассмеялся.
— Сколько раз развязывать-завязывать — голова заморочится, и бегать тогда за прохожими на улице, чтоб узел сделали? Кореш мне наказывал: если особой надобности, мол, не будет, не развязывай, лишь на ночь слегка распусти и стяни через голову.
— Зачем он тебе вообще понадобился? Когда это ты галстуки носил?
— Надо. — Петр положил ладонь правой руки на левую руку (а до этого было наоборот). — Что ты понимаешь! Мы же едем в провинцию. И приезжать туда без галстука — это неуважение к себе.
Куда же направлялись, дорогой читатель, эти двое и что это было за место, куда, как твердо полагал Петр, приехать без галстука было бы неуважением по отношению к самому себе? Жители и уроженцы городка Морозовки, Дарья и Петр, ехали в село Сачкепелу, куда их запросто, без церемоний пригласил погостить их новый друг Шавлего Шаврикия.
Шавлего и Петр без малого два месяца назад совершенно случайно познакомились в ватном магазине. Шавлего находился в Морозовке в командировке, но тут я выдам его и скажу, что командировочное удостоверение у него было липовое. Иными словами, государство командировку ему не оплачивало, поскольку на этот раз Шавлего прибыл в Морозовку не по делам службы (как порой ездят другие), а именно для покупки ваты. Вату, как и многое другое, в сачкепельском сельмаге приобрести было нельзя. Чтобы не отвлекаться, продолжу: в магазине Шавлего минут на пятнадцать отлучился из очереди не по столь уж важному делу — чтобы зайти в соседний магазин и купить сынишке красный ластик. В Сачкепеле бывают только голубые ластики, а они, как знают читатели, понимающие толк в стирании, годятся лишь на то, чтобы стирать написанное карандашом. Вернувшись, Шавлего собрался встать на свое место в очереди, но не тут-то было — очередь запротестовала. У Шавлего прямо ком подкатил к горлу. «Я же стоял, вышел всего на несколько минут! Спросите, если не верите, вот хотя бы этого уважаемого товарища!» И Шавлего показал на него — он был в очереди перед ним и еще спросил Шавлего: «Как вы думаете, нам достанется?» «Уважаемый товарищ» оглядел Шавлего и невозмутимо ответил: «Не стоял». Оставалась вторая и последняя надежда — высоченная зеленоглазая женщина с мохнатыми ресницами, которая стояла позади Шавлего и правда ни о чем его не спрашивала, но на его вопрос: «Вы стоять будете?» — кивнула головой. «Стоял я перед вами или нет, уважаемая?» — громко спросил Шавлего, уверенный в своей правоте. Женщина помахала ресницами и улыбнулась: «Я вас впервые вижу!» «Не стоял!» — загудела очередь, собираясь окончательно отринуть Шавлего, как в этот момент за его спиной раздалось: «Да, стоял, я помню!» Шавлего просиял. После непродолжительного колебания очередь неохотно учла показания третьего свидетеля, и справедливость восторжествовала. Шавлего был впущен на свое место. Читатель, вероятно, уже догадался, что спасителем его был Петр. Этого естественного поступка незнакомого человека вполне хватило для того, чтобы Шавлего предложил Петру свою дружбу навеки и пригласил его вместе с женой в свою родную деревню Сачкепелу.
Полтора месяца обе стороны писали друг другу письма; наконец горячая просьба Шавлего обрела отклик: Петр попросил трехдневный отпуск за свой счет (он работал табельщиком на номерном заводе), взял жену — Дарья была домохозяйкой — и… ну, а остальное вы уже знаете.
Близ Миминосцкаро стало припекать сильнее. В окнах медленно, тяжело тащившегося поезда вначале показались длинные складские помещения вдоль путей, а потом серая платформа с толпой людей, вовсю обмахивавшихся носовыми платками и веерами, и похожие на улья ящики с мороженым, возле которых надсаживались продавцы в белых халатах. Несмотря на зной, мороженого никто не покупал. Здесь очень любят мороженое, но в Миминосцкаро оно и сейчас намного хуже, чем в Морозовке, — скрывать мне тут нечего, об этом и так все знают.
Остановка поезда не возбудила в Петре особого интереса к местному вокзалу. Он прекрасно знал, что вокзальные здания даже в нашей огромной стране очень похожи друг на друга, и на перронах картина тоже везде одна и та же. На деревянных скамьях сидят прижимающие к себе чемоданы и сумки пассажиры, прохаживаются, стараясь не встречаться друг с другом глазами, милиционеры и воришки, везде продают негодный теплый лимонад и задубевшие пирожки. Поезд не простоял еще и трех минут, как кто-то отодвинул дверь купе, извинился и с грохотом задвинул ее; его загорелое лицо с широко расставленными глазами и высовывавшийся из расстегнутого ворота рубахи пук черной, как деготь, растительности показались Петру знакомыми, но вспоминать было некогда, потому что волосатый пассажир вновь показался на пороге купе и восторженно закричал:
— Петр! Мой Петр!
Брови у Петра выгнулись вопросительными знаками: он привстал и опять сел, потом хмыкнул.
— Господи, да это же Шавлего! — оторопело заговорил он, обращаясь то к жене, то к Шавлего. — Ты куда-то едешь? А мы же к тебе собрались!..
— Не утерпел я — намучаются они в дороге, думаю, вот приехал и встретил вас. Я на машине, пересядем в нее. Отсюда до деревни семь часов, и дорогу посмотрим. Разве так не лучше?! Ну, что скажете? — Шавлего повернулся к Дарье. — А это наверняка моя невестка? Не надо, не надо мне ничего объяснять! Ух, простите, милая — растерялся на радостях и руки вам не подал! В телеграмме-то было ясно сказано, четырнадцатый вагон, да я все равно нервничал, думал: поменяют места, и не найду их. Ну, за дело! Чемодан — раз… Наверху у вас ничего нет? Смотрите, чтоб не осталось чего… Поезд здесь вообще-то полчаса стоит, но, когда опаздывает, может и через десять минут уйти… Ради бога, оставь, мой Петр, я сам… Ради бога…
Когда супруги следовали за нагруженным кладью и быстро шагавшим по перрону Шавлего, лица у них были слегка озадаченные. По правде сказать, Петр считал поступок Шавлего более чем странным. «Что за необходимость была во встрече в Миминосцкаро, если поезд через каких-нибудь девять часов уже приходит в Сачкепелу?» — думал он, но, чтобы удовлетворить любопытство поминутно обращавшейся к нему с вопросами о том, что происходит, жены, сделал спокойное и довольное лицо и отвечал: «У них тут так принято».
Когда они приближались к стоявшей в тени эвкалипта за газетным киоском старенькой «Победе» со снятым тентом, дверь машины распахнулась, и выскочивший из нее полный курчавый мужчина лет тридцати бросился к Шавлего, самоотверженно выхватил у него чемодан и сумку, поставил их на землю, а затем кинулся к супругам, протянув руку сначала Петру, а потом его жене: «Шио, дорогие мои! Друг Шавлего!» Дарья отпрянула было в испуге, но, видя просветленное лицо мужчины, осмелела — тоже протянула ему руку и, кажется, даже шепнула Шавлего: «Какой шустрый у вас друг!»
Спустя несколько минут «Победа» уже мчалась по местами асфальтированной дороге; Шавлего сразу извинился перед гостями: «Не обессудьте, машина у меня старая, но не бойтесь! Ходовая часть у нее — вся с «Волги»! Петр сидел, крепко стиснув губы и зажав руки между ляжками, и при каждом встряхивании несшейся вперед «Победы» сильно сомневался в происхождении ее ходовой части. Дарья же была увлечена рассматриванием цитрусовых насаждений, росших вдоль дороги, и время от времени оглядывалась назад; в автомобилях она не разбиралась, и ей очень нравилось, что «Победа», подобно реактивному самолету, оставляет за собой длинный и густой шлейф голубоватого дыма.
Еще не проехали и десяти километров, как Шавлего что-то озабоченно сказал Шио на родном языке, и гости догадались, что у хозяев появился серьезный повод для беспокойства. После этого «Победа» стала часто останавливаться; Шио перебегал через дорогу, возвращался, с сопением, присаживался к Шавлего и что-то говорил ему; тот кивал головой и ехал дальше. Когда Шио выскочил из машины в седьмой раз, Петр опасливо спросил: «Не случилось ли что?»
Шавлего выбросил окурок, продул мундштук, посмотрел в маленькое зеркальце над рулем и захихикал: «Извините — это мы ищем местечко, чтобы позавтракать!»
Дарья, пожав плечами, посмотрела на мужа, но ничего не сказала. Она удивилась — что за место надо было искать для завтрака, когда вокруг сплошь цвели сады!
Наконец был найден укромный уголок на вершине зеленого пригорка, где до сих пор лежит обросший мхом широченный плоский камень с доселе не прочитанной надписью на нем; рядом журчал источник.
Из багажника вынули сваренную целиком курицу, истекавший соком сыр сулугуни, завернутые в ореховые листья мчади[10], до блеска вымытые помидоры, огурцы и пучки зелени — цицмати[11] с петрушкой — в целлофановом пакете, начиненные орехами баклажаны, серебристую экалу[12] и кувшин с вином. Петр сразу же осведомился, домашнее ли вино, и, получив утвердительный ответ, огорчился. Невесть кто устрашил его когда-то сообщением, что домашнее вино у грузин не годится и лучше пить заводское; если бы незадачливый советчик сказал наоборот, то Петр точно так же всю жизнь остерегался бы вина, продававшегося в магазинах.
Завтрак прошел в обстановке, как принято говорить, теплой и дружеской. Не буду докучать читателю перечнем произнесенных здравиц; кто хоть однажды побывал на грузинском застолье, помнит их традиционную последовательность, а тех, кому еще не доводилось бывать на нем, я не хочу лишать радости первооткрывания его для себя и заранее ничего не скажу.
Когда Дарья пришла в восхищение от тоста «за оставшиеся нам на этой земле дни» — «Как они красиво говорят!» Петр наклонился к ней и прошептал ей в ухо: «Без оваций, ведь только говорят так, ничего больше».
Трапеза подходила к концу, когда Дарья наивно воскликнула: «Какие вкусные баклажаны! Интересно, какой рецепт их приготовления?» — Петр сначала посмотрел в сторону, а затем, когда Шавлего вновь разливал по стаканам вино, снова наклонился к жене: «Будь сдержаннее, это не больше чем баклажаны».
В другом случае Дарья, может быть, не стерпела бы и резко ответила мужу — дескать, ну что ты пристал, уж и баклажаны похвалить нельзя, но она была умной женщиной и на этот раз ничего не сказала, а про себя подумала: «Не потому смолчала, Петр, что по душе мне твои бесконечные «и больше ничего», а потому, что постыдилась — не должны хозяева нашу ссору слышать».
Прежде чем миновать наполовину покрытый морем древний колхский город, Шавлего предложил гостям осмотреть пещеру Оконкиле. Петр вообще не любил пещер, а сейчас, после сытного завтрака, ему тем более не хотелось вылезать из машины. Недовольно поморщившись, он хотел сказать «Как-нибудь в другой раз», но тут Дарья захлопала от радости в ладоши; со скоростью шелковичного червя Петр выбрался из «Победы» и, пока Шавлего и Шио хлопотали, в обход очереди (чтобы не задерживать гостей) добывая билеты, степенно встал поодаль, заложив руки за спину.
Пещера Оконкиле состоит из трех открытых и семи необнаруженных залов. В ансамбле сталактитов и сталагмитов Дарье больше всего понравились сталагмиты, а озаренный нежно-фиолетовым светом звездный зал столь изумил ее, что она взяла своего понуро стоявшего мужа за локоть и потрясенно зашептала ему: «Смотри, Петя! Разве не бессмертен тот, кто открыл эту пещеру?» Но Петр озяб; холод и сырость пещеры наводили его на невеселые размышления, и, когда пара сталактитовых капель шлепнулась ему на шею, он вздрогнул. «Ну так что ж, пещера, и ничего больше», — пробормотал он и, держась за перила, заглянул в голубое пещерное озеро. Гораздо больше, чем окружавшая красота, его волновал вопрос безопасности. «А ну как перила обломятся — спасемся ли тогда?» — думал он… Никто не знает, дорогой читатель, пригодилась бы в случае беды эта последняя мысль больше, чем восхищение Дарьи хрустальными глазами сталагмитов, в течение пяти миллионов лет смотрящими на тех, кто приходит в пещеру.
Без происшествий покинувшим пещеру, им снова резанул глаза солнечный свет, и июльская жара вновь обдала их. «Здешнее солнце слишком горячее, уж лучше было бы еще побыть в пещере», — и не думая шутить, произнес Петр, но хозяева от души расхохотались. Петр пугливо поглядывал то на них, то на свою жену. Шавлего и Шио уже казались ему достаточно странными людьми, от которых можно было ждать чего угодно, но сейчас непонятно было, отчего смеялась его верная Дарья.
Когда «Победа», пыхтя и урча, преодолела Вирихидский подъем и понеслась по ровной дороге с наибольшей скоростью, какую только могло выжать из себя ее бедное, производства первой послевоенной пятилетки тело, Дарья приложила ладони к плечам призадумавшихся о чем-то Шавлего и Шио и попросила: «Пожалуйста, спойте, если можно!» Те не ждали такой просьбы и, между нами говоря, даже не помнили, случалось ли им петь в машине, но ведь гостю не откажешь! «С удовольствием!» — разом ответили оба, улыбнулись Дарье, переглянулись и запели. «Ты моя веснаа»… — звучало в обшарпанном салоне «Победы»; песня вылетала наружу и, обгоняя машину, разносилась за ветровым стеклом далеко по дороге. «Ты слушаешь?» — Дарья легонько толкнула локтем по-прежнему зажимавшего руки между ногами и застывшего в этой позе мужа. «Слушаю, ну? Поют, что ж больше-то?» — отвечал Петр, не вытаскивая рук.
Долго, очень долго и грустно пели друзья. Пели они и тогда, когда разомлевшие супруги задремали, положив головы на плечи друг другу, и кто знает, сколько бы пели еще, если бы Шио случайно не повернулся назад и не воскликнул: «Глянь — спят вроде!»
…Они отменно пообедали в ресторане «Самамлия» в Опурчхети. Рядом с рестораном тянулся длинный комбинированный магазин. Заглянули и туда — так, на всякий случай. В магазине было полно товаров — тех, которые никак не распродаются нигде и никогда; разморенные бездельем продавщицы уселись вместе и читали вслух старую газету. Петр подошел к прилавку, хитро прижмурился и спросил одну из них — приземистую толстушку: «А автомат у вас есть, Калашникова?» «Были, вчера кончились, на следующей неделе получим снова», — бойко ответила та, угадав подвох, и оба всласть посмеялись. Это у Петра так было заведено — как попадет в магазин победнее, непременно спросит: а автомата Калашникова у вас не найдется? У него самого чувство юмора отнюдь не было обострено, но вопрос этот он услышал от кого-то в Морозовке, и тот ему настолько понравился, запал в душу, так запомнился, что он стал его повторять всякий раз.
Когда они, наконец, прибыли в Сачкепелу, дело близилось к десяти часам вечера по летнему времени. Они проехали проулок между плетеными изгородями, и когда машина скатилась с шаткого мостика через речку Цкалтбилу, Шавлего подрулил к огромной и крутой гранитной скале. Забравшийся на ее верхушку мальчик в белой рубашонке, размахивая руками, продекламировал по-русски в знак приветствия пламенное стихотворение; Дарья и Петр плохо различали слова, но и из того, что разобрали — «сияние Севера», «белые ночи», «солнечная долина», — было явно видно, что мальчик благодарит супругов от имени всего населения этого благословенного уголка за то, что они осчастливили его своим визитом. Кончив, мальчик размотал рулон полотна, и над скалой завис ярко раскрашенный в синее и зеленое транспарант. На нем на фоне взметнувшихся в небо заснеженных горных вершин было написано: «Добро пожаловать!» (Буквы художник расположил довольно неуклюже, и они походили на пирамиду из взгромоздившихся на спины друг друга слонов.) Выйдя из машины и пройдя по гранатовой аллее, они подошли к приоткрытым зеленым воротам дома; во дворе под развесистой липой был накрыт длинный стол, вокруг которого сновали мужчины в белых широкополых шляпах и нарядившиеся по-праздничному женщины и дети. На воротах висел новехонький (так, во всяком случае, показалось Петру) медный щит; когда супруги уже были у самых ворот, из-за гранатовых деревьев выбежал подросток, высоко держа в руках меч, и грохнул им о щит так сильно, что эхо ударилось о гору Квакочию и затем слетело вниз, растворяясь в рощах. Оно еще не успело вернуться, как в распахнувшихся воротах показались семеро одетых в праздничные перепоясанные наборными ремешками чохи и перетянутые в голени тесьмой с украшениями ноговицы, обутых в чувяки и повязанных черными башлыками белоснежнобородых стариков; выстроившись в соответствии со своим возрастом и положением, они звучными — чуть с хрипотцой, но еще сильными и сочными голосами затянули старинную песню о том, как промазали семеро охотников, выпустив по семь пуль каждый в тура, и как свалил его с утеса, зацепив рогами за выступ и закачав в вышине, метким выстрелом из кремневого ружья пращур.
Прежде чем посадить гостей за стол, Шавлего представил им свою жену Хионию и дочь Татию. Хиония была худощавой женщиной среднего роста, с натруженными руками и добрым, вселявшим доверие лицом; семнадцатилетняя Татия, черноглазая и чернобровая, была совсем худенькая, даже тоньше матери.
Ужин продолжался до рассвета; своеобычные законы местного пиршества настолько были Петру внове, так заворожили гостя, что даже тамошнее красное не сразу сломило его — замерев, он дивился этому поразительному застолью, стараясь при этом внешне сохранять серьезность и невозмутимость. Больше того, ему опять приходилось одергивать вновь и вновь восторгавшуюся супругу и напоминать ей о том, что «шутят, танцуют, ну так чего же тут больше-то…». На протяжении всего пира его тревожило главным образом вот что: первое — почему это не выказывают возмущения творимым в доме Шаврикия шумом и гамом хотя бы их ближайшие соседи, второе — отчего не садятся за стол Хиония и хорошенькая Татия. Вследствие того, что осведомиться об этом ему все-таки было не с руки, он, поразмыслив, самостоятельно пришел со временем к выводу: близживущие сельчане сами находятся за этим столом и поют вместе со всеми остальными, а что касается Хионии и Татии, то из-за диковатых здешних приличий и запретов им нельзя садиться за общий стол с гостями; они наверняка довольствуются остатками, и в этом одна из главных причин их худобы.
Еще два дня пробыли гости в деревне, и все это время семейство Шаврикия опекало и потчевало их как могло и чем могло — и чем не могло тоже. Чего уж об этом говорить, однако ладно, хоть и обидится хозяин, скажу и это: на третий день учитель чистописания сачкепельской четырехклассной школы Шавлего Шаврикия послал своего верного друга к племяннику в соседний Хони, чтобы взять у того взаймы, и когда Шио привез вместо двухсот рублей, о которых просил Шавлего, сто, он, оглянувшись по сторонам, взял деньги, быстро запихнул их в карман и, сощурившись, молвил: «Уж лучше б вовсе отказал, ну да ладно, сотню рублей вернуть легче, чем две. Как сказал мудрец, знаешь? Брать в долг — накладно для берущего. Вот послушай-ка: берешь чужое — отдаешь свое, берешь на время — отдаешь навсегда. Сам же в проигрыше, э-эх!..»
За тринадцатым и последним застольем, за час до отхода поезда, Петр, до сих пор молчавший, но ободренный радушием хозяев (так, во всяком случае, казалось им самим), попросил разрешения у тамады и выступил, пространно и чуть сбивчиво — дескать, после столького всего сразу и не упомнишь, — с поразившими хозяев словами… нет, не признательности им, но развернутого и детального осуждения нескончаемых кутежей — мол, ну что особенного в моем приезде, что ему так радоваться, прямо не верится, а если и поверю, то чего мне радуетесь-то, тоже, нашли посланца божьего, я ж простой человек, и ничего-то больше, во всем нужно знать меру! — и ряда других подмеченных им за время пребывания в Сачкепеле недостатков; под конец Петр, если не ошибаюсь, затронул и пещеру Оконкиле, заявив, что так с ней носиться хозяевам негоже — это не их творение, а заслуга текущих вот уже пять миллионов лет подземных вод, и вообще — пещера принадлежит не только местным жителям.
Сачкепельцы решили, что понес все это Петр спьяну, не обиделись и проводили гостей с той же любовью и теплом, что и встретили.
Снова сев у окна вагона, Дарья всматривалась в потонувшие в жаре дворы, дома с широкими лестницами и черепичными крышами, колодцы с журавлями… Петр, засунув руки между колен, исподлобья выжидательно смотрел на нее — как выжидательно смотрят наутро славно погулявшие, покутившие и нашкодившие накануне мужья на нахмуренных жен. Наконец Дарья, метнув на него гневный взгляд, потребовала объяснений по поводу его безобразного поведения: почему он срамил себя и отравлял праздник ей, между тем как хозяева поистине прыгнули ради них, гостей, выше головы?!
— Что ты понимаешь? Судишь обо всем со своей колокольни, а я заглядываю куда дальше вперед, — рассудительно и веско возразил ей Петр. — Вот остался я вроде недоволен — и разом два добрых дела сделал, и для тебя и для них. Да знаешь ли ты, что нормальный гость, коль обрушивают на него гостеприимства больше, чем ему положено, и впрямь оскорбиться может — уже не высмеивают ли, мол, меня? Это ж унижение для человека, считай, издевательство — принимать его лучше, чем следует, и считать черт-те кем! Так с тобой носятся, что просто… Уразумела? Отлично все было, не спорю, да только я не зря был сдержан — будто б это вовсе и не мне, а кому другому, поважнее меня птице, предназначалось, а я тут ни при чем. А они — что ж, какие есть, такими и были, ведь не столь меня так встречали, сколь во-об-ще гостя, ясно? Думаешь, не заметил я, что в доме у них не густо? Из всех углов богатство прет, как же! В конце концов, устал народ гостей встречать да от попоек отрезветь-то надо — раз и навсегда, должны ж люди это сообразить?! Сами не сознают, так надо им дать понять-то аль нет? Вот я им пирушку и подгорчил малость. А кроме того — не сделай я этого да недовольным не прикинься, так ведь и самим вскоре их приглашать пришлось бы! Кумекаешь, дурья голова? И что б ты потом делала, разве ж так принять смогли бы? Не потянули б, нет! Небось меня дурнем-то считаешь… Тебе все легким кажется. А дело, видишь, непростое выходит… Так-то вот.
Дарья молчала.
А поезд, чуть взлетая на стыках рельсов, мчался по зеленой долине мимо лип и эвкалиптов, среди которых он весело проносился уже долгие годы.
Перевод Л. Бегизова.
УЧИТЕЛЬ ПЛАВАНИЯ
…Какое-то время я еще читаю новеллы Эсы де Кейроса, но тут начинает припекать совсем уж нестерпимо, а спрятаться от жары некуда. Глаза жжет, буквы прыгают, и я захлопываю книгу, прерывая чтение на том месте, где автор в новелле «Мертвые» рассуждает о преимуществе покойников перед живыми. Заложив страницу шнурком туфли, я привстаю.
Солнце щедро разливается над бескрайним морем и сотнями расположившихся в самых разных позах тел на пляже.
Горячий воздух время от времени оглашается преувеличенно громкими вскриками женщин, вспугнутых медузами.
Репродуктор без устали твердит о вреде полуденных солнечных лучей, но они уже настолько прокалили загорающих, что никто не двигается с места.
В темно-синей дали виден белый корабль; близ берега, привязанная к разъеденному ржавчиной рельсу, подрагивает на зыби лодка, в которой, улегшись на спину и накрыв лицо сомбреро, дремлет наш сердитый спасатель.
На гигантском цементном выступе пристроился на корточках единственный в нашем доме отдыха удильщик — японец, обладатель великолепного спиннинга и несгибаемой воли, но, похоже, и сегодня он ничего не выловит.
Я — не из «отдыхающих», то есть из нескучающих. Если бы мне могли наскучить эта чистая лазурь, созерцание этих стройных женских тел, что бы меня ждало осенью на нескончаемых заседаниях методических советов!..
Неподалеку от меня под пляжным грибком — грибков не хватает на всех, и пускают под них только иностранцев — устроилась говорливая супружеская пара из Банании, и я слушаю их неумолчный щебет, изобилующий чем-то вроде «мба» и «нга» — ничего другого я в нем не разбираю. Оба они низкорослые, темнотелые, стройные, плосколицые, толстогубые — как бы вырезанные на один лад, курчавые, с небольшими, но яркими глазами и поминутно хихикают и смеются, и мужчина ласково проводит ладонью по удивительно хрупким и нежным рукам женщины. Потом он подбегает к воде, входит в нее до колен и оглядывается на жену, смеясь и обнажая белоснежные зубы.
— Мба-мба! — радостно кричит жена, а он плещет себе водой в лицо и опять смеется.
Вернувшись под грибок, муж барабанит мокрыми ладонями по плечам жены, капризно визжащей в ответ:
— Нга-нга!
Спустя некоторое время она сама бежит к воде, высоко отдергивая крохотные ступни от острых камешков, и тоже останавливается у самого берега; муж довольно кивает вслед и кричит:
— Мба-мба!
Потом оба опять смеются — жена стоя в воде, а муж под грибком.
В этом году в окрестностях вообще много бананцев, но эту пару я еще не замечал, а может, и замечал, но вследствие притупившейся способности различать их забыл.
Я расстилаю на белой гальке полотенце около грибка, ложусь и спрашиваю:
— Очевидно, ваша жена не умеет плавать?
Бананец оглядывается и смеется:
— Нет, не умеет!
— И вы, видно, тоже?
Бананец вновь отрывает глаза от жены.
— И я. У нас нет моря. Самое низкое место в Банании находится на высоте тысячи восьмисот метров над его уровнем.
На некоторое время я замолкаю, а потом, пока бананка, покачивая бедрами, приближается к нам, говорю:
— Знаете, научиться плавать совсем нетрудно.
Бананец, который почему-то смеется после каждого моего слова, соглашается, снова весело улыбаясь:
— Да!
— Я, например, могу научить вас этому за час.
Бананец прищуривает глаза и вновь показывает крупные белые зубы.
— Да.
Бананка подсаживается рядом, обтирается полотенцем, прижимается к мужу и произносит:
— Мба-мба!
Тот не отвечает и внимательно всматривается в горизонт.
Я поднимаюсь, без особых церемоний подхожу к ним и представляюсь:
— Очень приятно с вами познакомиться! Меня звать Заза.
Бананец вежливо наклоняет голову, протягивает мне руку и со смехом отвечает:
— Ба-мба!
Потом, показывая на жену, поясняет:
— Моя жена.
Я улыбаюсь жене и спешу к морю — лучи солнца уже гвоздями вонзаются в кожу.
Я долго плещусь в воде и, когда Ба-мба, по своему обыкновению, опять входит в море до колен, подплываю к нему и заявляю:
— Я — бывший спортсмен-пловец. Положитесь на меня! Человек может свободно лежать на воде, но только он должен преодолеть свой страх.
— Да, — улыбается бананец, и глаза его при этом, и без того маленькие, скрываются вовсе.
— Я вас буду учить по грузинскому методу.
Я со значением упоминаю о методе и своем спортивном прошлом специально для того, чтобы он доверял мне.
— Да! — смеется Ба-мба.
Я хватаю его, окунаю в воду до пояса и объясняю:
— Вот так медленно наклоняйтесь и ложитесь на поверхность воды. Раскиньте руки, наберите в легкие побольше воздуха и погрузите в воду голову — обязательно с ушами! Вытяните тело и лежите на воде.
— Да-да! — по-прежнему улыбаясь, растерянно отвечает бананец и вместо того, чтобы следовать моим указаниям, поспешно выбирается из воды и убегает к грибку.
Мне страшно хочется научить Ба-мба плавать, но я вижу, что он панически боится воды и что вообще с ним трудно.
В тот день до обеда супруги больше не заходят в море, не смеются, и я несколько раз ловлю на себе их украдкой скошенный на меня взгляд.
Во время «мертвого часа» я догоняю их на аллее, по которой они прогуливаются, и снова здороваюсь.
Бананцы останавливаются, опасливо смотрят на меня и жалко, словно безденежные должники, улыбаются.
— Плавать, — обращаюсь я к Ба-мба, — умеют все! Это умение заложено в генах человека, как и у животного, просто надо его вспомнить! На суше плавать не научишься, надо войти в воду по крайней мере по горло.
— Да, — кивает бананец и делает шаг в сторону; сейчас передо мной — его жена.
— Никто не учил плавать первобытного человека! Очутившись в воде, он спасался при помощи беспорядочных движений рук.
— Или спасался, или нет, — тихо говорит жена.
Сначала Ба-мба, а потом я настороженно глядим на нее.
— Преимущество грузинского метода по сравнению с другими состоит в том, что обучение начинается с лежания на воде. Лежишь, энергия не затрачивается, а затем поочередные взмахи руками — как в балете «Лебединое озеро» — плыви куда хочешь!
— Да, — соглашается Ба-мба. Совершенно очевидно, что этот столь выгодно отличающийся от других метод абсолютно не интересует его.
Ссылаясь на что-то и извиняясь, я ухожу вперед по аллее.
После пяти я жду бананцев на пляже, лежа в шезлонге.
Вот и они. Оглядевшись и убедившись, что меня нет поблизости, бананцы усаживаются под грибком и снова начинают хихикать, подталкивать друг друга и смеяться. Когда Ба-мба, осторожно переступая худыми ногами, опять входит в воду до колен, я устремляюсь к нему.
— Мба-мба! — испуганно зовет он жену, но уже поздно — самозваный тренер, я упорно продолжаю начатое дело.
— Отведите обе руки назад и лягте на воду! Забирайтесь в нее до пояса и не бойтесь, я рядом!
— Да… — бананец проводит рукой по лицу и обреченно смотрит на жену.
Кажется, Ба-мба поверил мне: вытянувшись, он прячет уши в воду, но стоит небольшой волне набежать ему на лоб, как он выскальзывает из моих рук, отряхивается, как теленок, потом несется к грибку, плюхается на песок возле жены и бормочет — вероятно, что-то нелестное в мой адрес.
Солнце уже заходит за горы, окружившие озеро Рица. Дав бананцу прийти в себя и передохнуть, я снова направляюсь к нему и усаживаюсь сбоку.
— А знаете, вы ведь уже лежали на поверхности воды, и вполне успешно. Можете смело входить в воду и ложиться на нее, какой бы глубокой она ни была. Вы очень способный ученик!
— Да, — недовольно бурчит Ба-мба.
— Просто в последний момент вас подвели нервы. Почему вы не послушались меня? Я же — специалист, обучил плаванию сотни людей. Вы ведь не боитесь лежать в постели?
— Нет! — уверенно отвечает Ба-мба.
— Вот и будьте на воде, как в собственной постели, — улягтесь на ней, и я даю вам стопроцентную гарантию, что вы не утонете! Только не напрягайтесь, расслабьте мышцы. Ну, пойдемте со мной!
Я встаю и поджидаю его.
Бананец приподнимается, с тоской смотрит на меня и что-то говорит жене.
— Нга-нга! — чуть не плача, отвечает та, и вдруг оба разражаются гомерическим хохотом. Смеются долго, до слез, наконец Ба-мба с усилием смыкает над белоснежными зубами полные, сочные губы и с искорками в глазах произносит:
— А нельзя ли научить сначала мою жену?
Мы все трое от души хохочем. Бананка грозит мужу кулаком и что-то сквозь смех говорит ему.
— Жену, если понадобится, я еще себе найду, — поясняет мне бананец, снова трясясь от смеха, и, держась за мою руку, как ребенок, идет следом за мной к воде.
— Мба-мба! — сопровождает нас голос жены.
Мое упорство берет верх. Сперва я заставляю Ба-мба, поддерживая его рукой снизу, как следует лечь на воду, затем, потихоньку убирая руку, приказываю ему лежать неподвижно без опоры, — он, конечно, боится и кривит от страха лицо, но вынужден покориться; далее бананец учится с головой уходить в воду и разводить в ней руками и овладевает простейшими приемами скольжения по воде. Еще через час Ба-мба запросто ложится на воду и уже упражняется в поворотах налево и направо.
Достигнув своего, я понемногу теряю интерес к обучению, оставляю Ба-мба и отправляюсь играть в теннис. Возвращаясь, я решаю еще раз искупаться.
На опустевшем пляже в одном месте собралась толпа; я приближаюсь и вижу: покачиваясь на воде и зажмурив глаза, мой ученик громко выкрикивает слова какой-то молитвы. Вокруг полно бананцев: около десятка из них вошли в море, остальные молча стоят на берегу и сосредоточенно следят за Ба-мба. Подойдя к ним, я окликаю его и велю повернуться направо. Не открывая глаз, Ба-мба успешно осуществляет это и восторженно вопит:
— Мба-ба!
Воодушевленные этим, его соотечественники все вместе моментально поворачиваются ко мне и бьют в ладоши; многие пожимают мне руку, хлопают меня по плечам, а некоторые даже кончат по-нашему: «Хо-ро-шо, хо-ро-шо!» Подбегают Ба-мба и его жена и встают во главе торжественного шествия бананцев. Я ободряюще киваю им и иду к себе: когда я оборачиваюсь, они останавливаются, колотят себя в грудь, кланяются мне, всячески выражая свою признательность.
После ужина я становлюсь в очередь за билетами в кино. Фильмы здесь у нас — один хуже другого; я и сегодня вечером не жду ничего стоящего и потому даже не смотрю на афишу — просто как-то надо убить время. Впереди меня стоит бананец. Лет ему можно дать и двадцать, и сорок; вообще возраст представителей этого древнейшего и мудрого народа на первый взгляд определить очень трудно, и поэтому и в данном случае я, дабы избежать грубой ошибки, заключаю предполагаемое число лет парня в столь широкий диапазон.
Бананец поворачивается ко мне и улыбается.
Я тоже улыбаюсь в ответ.
Мы долго улыбаемся друг другу; я подозреваю, что бананец хочет мне что-то сказать, однако не решается.
В конце концов он превозмогает стеснительность:
— Вы сотворили чудо, так быстро научив Ба-мба плавать! Не научите ли вы и меня? Я вас очень прошу!
Последние слова он мог бы и не говорить — столь пламенно их смысл выражает его лицо.
Я назначаю новому ученику первый урок на двенадцать часов завтрашнего дня. Он протягивает мне обе руки и на радостях норовит поцеловать меня в плечо.
Фильм оказывается скверной детективной лентой, снятой на киностудии одной из среднеазиатских республик. С самого начала мне становится ясно, кто убийца. Когда один из негодяев подкрадывается к народному дружиннику и в его руке сверкает нож, пленка рвется, включают свет и зал пустеет.
Кто-то, сидящий сзади, трогает меня за воротничок.
Я оглядываюсь. Бананец в пестром национальном костюме (он — единственный из своих сородичей в нашем доме отдыха, кто сохранил ему верность и гордо разгуливает в ниспадающих шелестящих одеяниях и белых панталонах в обтяжку) тепло улыбается мне и просит прощения за беспокойство.
— Вы что-то хотите?
Выясняется, что и он желает обучиться плаванию — к тому же, как для специалиста по рытью каналов, это умение для него необходимо.
Я назначаю ему урок также на завтра.
Не дожидаясь окончания фильма, я, сгорбившись, с извинениями пробираюсь между рядами к выходу и уже в фойе слышу чей-то топот — кто-то догоняет меня.
Я ускоряю шаг, незнакомец — тоже. Тогда я замедляю его, а преследователь — нет и настигает меня в темном коридоре у медицинского кабинета; забегая вперед, он широко разбрасывает руки в стороны — то ли в знак приветствия, то ли для того, чтобы преградить мне дальнейший путь — и здоровается со мной по-банански.
Я тоже раскидываю руки и, наклонив голову, отвечаю ему.
— Наверное, фильм не понравился вам? — вежливо осведомляется он.
— Нет.
— А мне очень нравятся картины вашей студии!
— Спасибо.
Мы с интересом приглядываемся друг к другу.
— Надо полагать, вы хотели бы научиться плавать?
— Именно! — отвечает бананец. — Если можно, я приведу с собой и своего брата.
— Кто ваш брат по специальности? — спрашиваю я (будто я знаю, кем является он сам!). — Возможно, необходимость умения плавать вашему брату диктует профессиональная потребность?
— О нет, мой брат скорняк.
С испорченным настроением я вхожу в лифт. В кабине я натыкаюсь на приземистого бритого ловкого бананца в черных очках, и, прежде чем я успеваю вытащить руку из кармана, он мигом сдергивает их и нажимает на кнопку пятого этажа.
— Вы если я не ошибаюсь, поднимаетесь к себе? — справляется бананец и снова надевает очки.
— Да, — удивленно отвечаю я, одновременно давая ему понять, что пока не имею чести знать его.
— Га-мб-нга! — без запинки представляется попутчик и жмет мне руку.
— Простите? — собственно, переспрашивать имя для меня не имеет смысла — все равно навряд ли мне удастся его запомнить.
— Я сказал: Га-мб-нга. Вы можете называть меня просто Га.
— Если вы позволите…
— Конечно!
— Весьма рад. А меня зовут Заза.
— Я знаю! Вы уж не обессудьте, но я собирался вас потревожить…
— Насчет плавания?
— О, как вы догадались?! — Моя сметливость настолько восхищает бананца, что он даже подскакивает.
— Завтра в одиннадцать.
— На пляже?
— Учиться плавать можно только в воде! — я сдвигаю брови.
— Благодарю вас! — восклицает бананец; мы выходим на моем этаже, и он мчится вниз к себе по лестнице.
У двери меня подкарауливают два бананца в панамах. Когда я поворачиваю ключ в скважине, они молча подступают ко мне с обеих сторон, словно полицейские агенты из западных фильмов.
Я окидываю их строгим взором.
— Плавание?
— Да! — и они разом подтверждают ответ кивками.
— После завтрака, на пляже.
— Отлично!
Бананцы так же синхронно срывают с себя панамы, машут ими, описывая дугу, до пола и пятятся назад.
Запершись, я раздеваюсь и выхожу в одних трусах на балкон.
Сзади раздается стук в дверь.
— Кто там? — спрашиваю я; даже если это сам всевышний, я не открою! — Извините, я в ванной!
— Мы по поводу плавания…
— Завтра в одиннадцать на пляже!
— Благодарим!
Я снова выхожу на балкон.
Сверху на нитке спускается спичечный коробок.
Внутри него я обнаруживаю записку. «Мое имя — Ма-мба, я родственник Ба-мба. Беспокою вас по вопросу обучения плаванию…»
Нацарапав карандашом на обороте: «После завтрака в одиннадцать на берегу! Привет Ба-мба и его жене!» — я сворачиваю записку и запихиваю ее обратно в коробок. Ниточная почта заработала вновь, и через минуту с верхнего балкона доносятся радостные возгласы.
Пошатываясь, я подхожу к койке, тупо просматриваю случайно попавший на нее номер газеты «Советакан Врастан», укладываюсь спать, и тут звонит телефон.
Я снимаю трубку и пресекаю долгие слова учтивости:
— Плавание?
— Да-да!..
— Завтра в одиннадцать!
До полуночи телефон звонит еще восемь раз; я по-прежнему избегаю длительных обиняков, отвечаю отработанным стереотипом «Завтра в одиннадцать!» и быстро кладу трубку.
На следующее утро за завтраком шеренга моих учеников возрастает еще на семь человек. Когда я подхожу к пляжу, те, кому занятия были обещаны еще накануне, с ликованием встречают меня и дружной гурьбой сопровождают до самого берега. На ходу раздеваясь, я приступаю к уроку и раздаю ученикам указания.
Я попал, как говорится в грузинской поговорке, в тяжелое положение наседки, мечущейся между яйцами и выводком. Представьте себе такую картину: я стою по грудь в воде, вокруг меня с душераздирающими воплями неуклюже подпрыгивает на волнах несметное множество бананцев, и каждый из них умоляет подплыть к нему и проверить, как он держится на поверхности. В отличие от других народов, бананцы явно замечаниям предпочитают похвалу и, удостаиваясь ее, обрадованно разевают рот, скаля все тридцать два зуба. Как бы кто из них сейчас не захлебнулся, озабоченно думаю я и внимательно пересчитываю глазами обучающихся — не приведи господь, еще влипну из-за этого в историю! Мои ученики орут наперебой; вертясь, как белка в колесе, и изнемогая, я время от времени кричу: замолчите, не все сразу! На мгновение они утихают, но стоит мне заняться кем-нибудь одним из них, как все начинается заново.
Я провожу урок и на другой день и чувствую, что не выдерживаю…
— Куда вы заторопились, вам отдыхать еще четыре дня! — изумленно спрашивает администратор ранним утром сегодняшнего дня, когда я сдаю ему ключ, прошу паспорт и сообщаю, что срочно возвращаюсь в Тбилиси.
Я не отвечаю, да и он больше ни о чем не допытывается у меня — вероятно, просто так спросил, из вежливости.
Перевод Л. Бегизова.
ВОРОБЕЙ НА КОРАБЕЛЬНОЙ МАЧТЕ
ВОРОБЕЙ НА КОРАБЕЛЬНОЙ МАЧТЕ
Меня зовут Эрмало Квашали. Если верить моему паспорту, до ста лет мне осталось два месяца. Даст Бог дожить до этого дня — хорошо, ну а призовет раньше — я все равно не буду на него в обиде. Правда, я прожил тяжелую жизнь, судьба водила меня по опасным дорогам, но вот то, что я целый век смотрю на это солнце и эту землю, — разве этого мало? Никто не верит, но на самом деле мне уже за сто. В маленьком селении Озургетского уезда, где я родился в прошлом веке (может быть, слышали — Сачхартве?), не было церкви. Нашим приходом считалась находящаяся в 18 верстах от Сачхартве церковь св. Георгия. Поэтому мои односельчане редко посещали богослужение. Ездили туда разве только на Рождество и Пасху, а в остальное время не убивались ради церкви. Детей крестили, когда им исполнялось года три-четыре, и священник записывал их в церковной книге как новорожденных. Так что, по моим расчетам, мне должно быть года на три больше, чем указано в паспорте, но кто теперь поверит в это. Свидетели — мои родители, да, естественно, тот священник, что крестил меня, — давно в земле.
Эти свои слова я диктую внучке моего внука Цирунии. Нет, я тоже грамотный, но вот со зрением у меня очень плохо. Запишет Цируния, что я наговорю, а потом прочтет мне. Понравится мне, то есть коли правильно все запишет девочка, — я подпишу и пошлю в тбилисский музей. Кто-то мне сказал, там рукописи покупают. Мне их денег не надо, но если для моей рукописи найдется в музее местечко, я им по гроб жизни буду благодарен. Пусть я человек маленький, жизнь прожил ничем не примечательную, но, может быть, когда-нибудь попадется она в руки человеку, которого заинтересуют мои воспоминания.
Это такие, как я, исчезают бесследно, а о людях знаменитых и без того все известно. По правде говоря, писать воспоминания — не моя идея, подбили односельчане, продиктуй, говорят, заставь записать свою жизнь. Пусть страна узнает о тебе. Я все откладывал это дело, откладывал, но сегодня утром, когда у меня подскочило давление, я подумал: наверное, Господь к себе призывает, и позвал Цирунию. Я буду говорить коротко, не спеша, чтобы Цируния успевала за мной, да и мне так легче — не устану.
Я закончил двухклассную сельскую школу. Ее и школой-то не назвать. Бывший протоиерей Шамше Ломджариа открыл в своей оде[13] бесплатные курсы. Ходило нас туда семеро ребят, и он обучал нас грамоте. Ни за что не брал плату за обучение. Сколько раз я видел, как он гонялся по двору за очередным родителем, явившимся к нему с козленком на шее и батмани[14] лобио, принесенными в качестве вознаграждения. «Как ты посмел, — кричал он, размахивая дубинкой. — За кого ты меня принимаешь? Я учу грамоте твоего сына и потому должен отнять у тебя последнее?! Как ты мог обо мне так подумать!»
После того как я закончил школу Ломджариа, отец посчитал мое образование законченным, вручил мне в руки мотыгу и велел следовать за ним. Но из меня получился никудышный работник. Во-первых, я был еще ребенок и быстро уставал, во-вторых, слаб здоровьем. Рождаются же дети слабые от природы. Двенадцати лет меня повезли в Озургети и определили мальчиком на побегушках в духан купца Роква. Тогдашние духаны мало походили на нынешние магазины с прилавками и витринами. Назывался он духаном, а фактически был и продуктовым магазином, и столовой, и, если угодно, гостиницей. Два-три человека, задержавшиеся в пути, всегда могли найти здесь приют. Покупатель входил в духан, говорил, что ему нужно, духанщик делал мне знак, я влетал в другую комнату и приносил требуемое, если оно, конечно, имелось. А прилавки и украшенные витрины вошли в моду позднее, кажется, после первой мировой войны.
Однажды, помню как будто это было вчера, в нашем духане заночевал революционер Доротэ Жгенти. Он сам мне сказал: «Я — Доротэ Жгенти, член партии, служу революции, дай мне поесть где-нибудь в укромном уголке, никто не должен знать, что я здесь, не то жди пули в лоб». Он был среднего роста, с черными усами и бородой, в бурке, в двадцать четвертом расстреляли беднягу. К счастью, в тот день духанщик уехал за товаром в Батуми, и я был сам себе голова. Увидев на моем лице изумление, Жгенти потрепал меня по щеке и, улыбаясь, сказал: «Не бойся, я пошутил, ради таких, как ты, верчусь волчком, за ваше счастье борюсь». Я проводил его в комнату, которую мы делили с духанщиком Чания из Сенаки. «Это кровать моего хозяина, — сказал я, — лягте и отдохните, а я, чтобы вам спокойнее было, лягу на эту плетеную тахту, если позволите».
Короче, в ту ночь этот человек на многое открыл мне глаза. Он объяснил мне, в чем беды крестьянина и что проповедует марксизм. Между прочим, от него впервые я услышал имя Ильи Чавчавадзе. Илья, сказал он, хочет для Грузии добра, но он не понимает сущности пролетарской борьбы. Он думает, что страну можно освободить без союза с русскими рабочими. Замучил нас, работать мешает. Сказать по правде, в тот момент и я подосадовал на Илью. Что я понимал тогда, невежественный малец. Позднее, вступив в партию, я долгое время находился в плену взглядов Жгенти и ему подобных. И пока мне открылась мудрость Ильи, прошло почти тридцать (если не больше) лет. Результатом той нашей ночной беседы было то, что через две недели я вступил в ряды членов РКП(б). Тогда, чтобы вступить в партию, одного желания было недостаточно. С тобой беседовали, поручали кое-что сделать для партии — надо было проявить себя, потом ты платил вступительный взнос и клялся головой отвечать перед партией за разглашение ее тайны. Тех троих, что 11 мая приняли меня в ряды членов РКП(б) в Озургети, в плетеной избе, я, признаюсь, никогда больше не встречал. Виделся только с Жгенти, он приходил ко мне и передавал прокламации для распространения в городе. Помню, несколько раз я забросил их даже во двор полицейского участка без каких-либо последствий для себя.
Немало испытаний выпало на мою долю — поражение революции, зверства Алиханова-Аварского… В 1909 году я приехал в Тбилиси. Две причины привели меня в столицу: во-первых, я хотел избежать призыва в армию. Со здоровьем у меня было все в порядке, но мне не хотелось натягивать на себя сапоги имперского солдата. Меня объявили дезертиром и искали по всему Озургети. В Тбилиси я надеялся укрыться понадежнее. Во-вторых, я жаждал более активной революционной работы. У меня было с собой рекомендательное письмо Жгенти, с которым я обратился в социал-демократическую ячейку трамвайного депо. Партия к тому времени раскололась на большевиков и меньшевиков. Помню, небольшого роста мужчина в черном кителе (если память мне не изменяет, по фамилии Буцхрикидзе) в течение часа выяснял мою «позицию» в партийном вопросе. Тогда это называлось «позицией», сейчас, наверное, по-другому. На чьей ты стороне, спрашивал он, большевиков или меньшевиков? На стороне тех, кто будет лучше служить делу пролетариата, мне все равно, и те, и другие — мои братья, отвечал я. Негоже сидеть на двух стульях, замечал он, надо определиться, либо ты с ними, либо с нами. А что они не поделили, спрашивал я, почему едят друг друга поедом, объясни. Он объяснил, правда, не совсем понятно, но на кое-что все же открыл мне глаза. Будучи большевиком, посоветовал примкнуть к большевикам. Я ничего против не имел, только сказал: хорошо бы им найти общий язык, сказал, как бы про себя, прощаясь с Буцхрикидзе. И понял, что меня это никак не касается, как, впрочем, не касалось и самого Буцхрикидзе.
Я работал с большевиками, но, не скрою, продолжал с большим уважением относиться к Ноэ Жордания, Чоле Ломтатидзе, Карло Чхеидзе, Исидорэ Рамишвили и другим. На всех собраниях прорабатывал меньшевиков, кстати, мало разбираясь в разных там платформах. И таких, как я, в партии было немало. Мне приходилось раньше слышать выступления вышеперечисленных лиц в Озургети и Батуми, и они, по правде говоря, мне очень нравились. Позднее, в 1913 году, я слушал приехавших с лекциями в Тбилиси Карло Чхеидзе и Александра Керенского, и они говорили так хорошо, так складно, что я не выполнил задания партии. Я промолчал, вместо того чтобы крикнуть: «Предатели! Вы обманываете народ!» — за что, конечно, получил выговор от ячейки. Между прочим, второй раз судьба столкнула меня с Керенским в Париже. В 1926 году я видел его на кладбище Пер-Лашез, когда хоронили беднягу Карло Чхеидзе. Вы, наверное, помните, он перерезал себе горло бритвой, сведя таким образом счеты со своей безрадостной жизнью.
Если я вам надоел, читатель, отдохнем и после обеда продолжим. Да и моя Цируния, как я погляжу, утомилась…
В марте 1914 года мы, рабочие депо, объявили забастовку. Забастовкой руководили пять человек. Я был в их числе. Три дня мы бастовали, потом устроили демонстрацию в Нахаловке, во время которой произошло столкновение с полицией. Обошлось, правда, без жертв, но стычка была горячей. Мы, рабочие, взяли верх — отстегали полицейских отобранными у них же нагайками. В ту же ночь за мной пришли жандармы. Забыл сказать, в 1911 году я женился и имел к тому времени двухлетнего сынишку. Прежде чем меня увести, жандармы тщательно обыскали мою квартиру, нашли прокламации и «Две тактики» Ленина. Меня посадили в Метехскую крепость. Два месяца шло следствие по моему делу, и в конце мая состоялся суд. Присудили мне ссылку в Ставропольский округ сроком на пять лет без права жить с семьей, но зато под надзором полиции. На четвертый день после того, как меня привезли в Ставрополь, я бежал. Бежал прямо с распределительного пункта заключенных. Тогда это было сделать гораздо легче, чем теперь. Я поехал в Ростов, оттуда в Астрахань, из Астрахани вместе с двумя рабочими-революционерами отправился в Баку. В Баку я поработал некоторое время под чужой фамилией и в начале ноября в полночь уже стучался в двери собственного дома. Жена чуть не тронулась от счастья. На другой день я снял в Сололаки небольшую полуподвальную квартирку, а свою полуторакомнатную пацху в Нахаловке на время запер. К трамвайному депо, понятно, и близко не подходил. Начал работать на лесопилке Казарянца, разумеется, под чужой фамилией, если кому интересно — Баджелидзе.
Между тем наступил 1917 год.
Если я скажу, что принимал активное участие в революции, будет неправда. Между прочим, начиная с февраля семнадцатого года, у нас царило удивительное спокойствие. Я не пропускал ни одного митинга, но ничего похожего на волнения или мятеж не замечал. Чувствовалась общая растерянность. События стремительно сменяли друг друга — отречение царя, образование Временного правительства, потом разгон Временного правительства. Революция практически свершилась в Петербурге, и прав был Галактион, который, как мне сказали, в одном из своих стихотворений написал, что об Октябре мы узнали из депеши. Я сам, правда, этого стихотворения не читал.
После революции я вернулся в Нахаловку, в свою пацху, восстановил фамилию и отправился в депо. Мои документы тщательно проверили и избрали меня председателем деловой комиссии депо. Это приблизительно то же, что председатель нынешнего месткома.
Три года как три дня пробежали. В течение этого времени независимую Грузию стараниями меньшевистского правительства признали Англия, Франция, Германия и, кажется, Италия с Голландией. Меньшевистское правительство послало в красную Россию делегацию с Григолом Уротадзе во главе. Если память мне не изменяет, седьмого мая 1920 года Россия и Грузия заключили договор, по которому красная Россия признавала независимость Грузии и обязывалась быть ее добрым соседом, не вмешивающимся в ее внутренние дела. И года не прошло после заключения этого договора, когда 25 февраля 1921 года в Тбилиси вошла 11-я армия. Я видел это своими глазами.
Сколько людей — столько мнений.
В книгах пишут, будто Грузия с песнями и аплодисментами встретила «освободительную» 11-ю армию, но ведь дело обстояло совсем не так. Нельзя сказать и то, что грузины боролись с ее частями до последней капли крови, как утверждали на страницах французской прессы бежавшие меньшевики. Не буду грешить против истины, советизация имела среди нас немало сторонников.
В июне 1921 года к нам приехал из России комиссар, который должен был выступить по какому-то вопросу. Я спросил у него, каким рисуется ему будущее Грузии: ведь то, что произошло, очень похоже на нарушение договора. Он было растерялся, но потом сказал: «Вы очень отстали, товарищ Квашали, 11-я армия вошла в Грузию по вашей просьбе, просьбе трудящихся. Красная Россия спасла вас от иностранной интервенции». Я не стал спорить с ним. У меня был свой взгляд на «просьбу». Однако этого вопроса оказалось достаточно для моего ареста. Взяли меня в полночь. У николаевской полиции, кажется, не было столь определенного времени для ареста. Не помню, говорил ли я, что в 1914 году жандармы арестовали меня в шесть часов вечера. Но, начиная с двадцать первого года, полночь, как видно, была признана самым удобным временем для обыска и арестов. Как мне рассказывали, и в тридцать седьмом к «врагам народа» приходили в основном после полуночи.
С победой революции политически ненадежных уже не ссылали в Сибирь. Отправка в Сибирь была признана вредной практикой царской России. Может быть, потому меня как недоброжелателя Советской власти выслали, вы не поверите, за границу, в Европу. Так я очутился в Голландии. С собой мне ничего не дали, кроме справки, которая удостоверяла, что я выехал за границу на постоянное местожительство по собственному желанию. Пришлось порядком повертеться и покрутиться, прежде чем я добрался до Ноэ Жордания, главы так называемого грузинского эмиграционного правительства.
Нельзя сказать, что члены правительства приняли меня с распростертыми объятиями, но как эмигранта и социал-демократа приютили, позволили присутствовать на собраниях.
Я начал работать на автомобильном заводе «Ситроен» и один день в неделю проводил со своими соотечественниками то в Левилле, то в Париже.
Я люблю правду, поэтому скажу, что правительство Жордания характеризовали в Париже те же беспомощность и растерянность, что и здесь, в Грузии. Они могли спорить до хрипоты по поводу того, правильно ли поступили, эмигрировав за границу, и что им делать, чтобы восстановить свой авторитет в глазах европейских правительств. Никакой я не теоретик, но и мне было ясно, что меньшевики оказались не столь уж прозорливы. Им следовало в первую очередь укрепить границы и решительно встать на определенную позицию — либо Европа, либо красная Россия. Они должны были знать: тот, кто гонится за двумя зайцами, обычно остается ни с чем. Ленинское правительство не верило их лживым улыбкам, и Европа не спешила открывать им объятья.
Все, что я сказал сейчас о меньшевиках, более подробно и обоснованно написал я своему другу Силибистро Канкия — мы работали с ним вместе в депо. Домой я, понятно, не писал. Письмо к Канкия я передал сотруднику консульства, который ехал по своим делам в Москву, и попросил опустить его в почтовый ящик, так как не надеялся, что из Парижа оно дойдет до Грузии.
Не прошло и четырех месяцев после того дня, как меня вызвал к себе Жордания. Был тысяча девятьсот двадцать шестой год. Числа не помню. Уже во дворе нашей конторы я заметил грузин. При моем появлении они как по команде отвернулись. Что-то стряслось, подумал я. Меня ввели в комнату для совещаний. Сидим. Со мной никто не разговаривает. В это время входит Ноэ с газетой «Комунисти» в руках. «К сожалению, господа, — говорит он, — среди нас оказался предатель. В «Комунисти» опубликована его статья, и прежде чем мы прочтем ее, должен сказать, я лично выведен в ней пустоголовым политиком, да и вам, членам моего правительства, досталось порядком. Молодцы большевики! Даже в моем кабинете умудрились заиметь своего корреспондента — господина Квашали!» От потрясения и бешенства у меня пересохло во рту. Затем Ноэ Жордания прочитал мое письмо к Силибистро Канкия. Как потом выяснилось, письмо до Силибистро так и не дошло, оно попало прямо на полосу «Комунисти». Через год, когда в Париж вернулся тот самый сотрудник консульства, через которого я посылал письмо, я спросил у него, что он с ним сделал. Тот поклялся, что опустил письмо в почтовый ящик, как я и просил. Может быть, и вправду опустил. В тот период ЧК очень интересовалось почтой.
Прочитал, значит, Жордания мое письмо, и, даже не выслушав, члены правительства постановили исключить меня и из рядов партии, и из грузинского землячества, прогнать с «Ситроена» (куда я был принят по рекомендации Жордания). «Почему ты нам не сказал, в чем не согласен с Жордания, непременно надо было посылать корреспонденцию в «Комунисти»?» — даже Хомерики, наиболее близкий мне из всех присутствовавших, публично осудил меня.
Я вам докажу, говорил я, что я не тот, за кого вы меня принимаете, но никто меня не слушал. И я ушел. Начал работать в универмаге «Самаритэн», и, хотя экономически стал чувствовать себя увереннее, мои неприязненные отношения с грузинской эмиграцией не давали мне покоя.
Года через три-четыре мои соотечественники как будто немного смягчились. Стали здороваться со мной, приглашать в гости, но на собрания не допускали и мою робкую просьбу о восстановлении в партии пропустили мимо ушей. А я и не настаивал.
В тысяча девятьсот сорок пятом году я вернулся в Тбилиси. В моем возвращении большую роль сыграл тогдашний сотрудник нашего посольства в Париже Тевзадзе. Он сам нашел меня, предварительно, оказывается, порасспросив обо мне. Во-первых, сказал он, во время войны ты вел себя достойно и чист перед Советской властью, во-вторых, ты оказался здесь не по своей воле — тебя выслали, в-третьих, о твоих отношениях с Жордания наверняка знают там где следует. Возвращайся в Грузию, что ты сидишь здесь, по семье хотя бы не соскучился?
Я с восторгом встретил его предложение. Но перед отъездом все же сказал ему, что просилось наружу: так, мол, и так, в двадцать первом у меня с одним большим человеком вышло что-то вроде маленькой ссоры, как ты думаешь, помнит он о ней? Тевзадзе рассмеялся. Наивный ты человек, говорит, он стоит сейчас у руля истории и, как ты думаешь, может помнить о некоем Квашали, который что-то спрашивал у него двадцать пять лет назад? Спасибо, если он о Грузии помнит, о каком Квашали может идти речь!
Умиротворенный, полный надежд, я возвращался в Тбилиси. Вообразите, что могут испытать родные друг другу люди, которые не виделись двадцать четыре года?! Три дня мы плакали. Жена вся седая, у тридцатипятилетнего сына — прекрасная супруга, двое детей. Они жили там же, в Нахаловке, в моей полуторакомнатной квартире. Сын только недавно вернулся с фронта. Я, естественно, ничего об этом не знал.
Прошло несколько месяцев, никто не спешил обеспечить меня квартирой или работой. Я писал одно заявление за другим в самые разные инстанции, но мне не отвечали. Когда я слишком уж надоедал, говорили: ваш вопрос изучается комиссией, о ее решении сообщим. Под конец я послал телеграмму на имя секретаря ЦК Компартии Грузии — своего рода призыв о помощи, и через две недели к нам заявился сотрудник Наркомвнудела и передал мне конверт. Уполномоченный писал: вам с супругой предлагается отбыть на поселение в ваше родное село Сачхартве, поскольку в настоящее время у нас нет возможности предоставить вам работу и жилье в Тбилиси. Посланец заставил меня расписаться на какой-то бумажке и добавил от себя: «На сборы дается три дня, настоятельно прошу уложиться в этот срок, спрашивать будут с меня». Делать было нечего, отправились мы с женой в Сачхартве, поселились в отцовском доме. Начали работать в колхозе. Летом к нам приезжали внуки, радовали нас. В Тбилиси мы не ездили, нам почти запретили это. Я говорю «почти», потому что в тот день, когда ко мне заявился представитель Наркомвнудела, он еще сказал: «Здесь это не записано, но мне поручено довести до вашего сведения, что ввиду вашего прошлого Наркомвнудел считает нецелесообразным ваше пребывание в Тбилиси».
Семнадцатого декабря 1951 года меня, шестидесятитрехлетнего старика, и мою супругу в пять часов утра подняли с постели, велели взять по одной смене белья, до 5 килограммов продуктов и, ничего не объясняя, объявили, что нас на неопределенный срок отправляют на работу в отдаленный район Союза. Это же фактически высылка, сказал я. Высокий худощавый мужчина в форме прикрыл мне рот рукой: не шуми, а ты как думал, мы простили тебе твою подрывную деятельность и шпионские дела в пользу империализма?
Слышишь, Цируния? В Париже меня исключили из партии за то, что я был агентом красных, а теперь красные высылали меня как шпиона, ведущего подрывную деятельность против них.
Куда высылаете, скажите хотя бы это, спросил я, когда нас, четыре семьи из Сачхартве, загнали в кузов грузовой машины и повезли по озургетской дороге. Не знаем, был ответ. И на следующий день, когда нас погрузили в товарный вагон поезда, шедшего в северном направлении, я не смог добиться ответа на свой вопрос. Мы проехали Царицын, взяли курс на восток, а от нас продолжали энергично скрывать, куда же мы едем. Под конец мы сами догадались — в Сибирь, что грозило нам неминуемой смертью.
Представьте, в дощатом со щелями вагоне мы, человек пятнадцать, лежали прямо на полу. С нами были женщины — наши жены и дочери. В углу вагона прямо в полу вырезана дыра: чтобы справить естественную нужду, надо на глазах у всех сесть на корточки. Мы умоляли военных, надзиравших за нами, чем-нибудь завесить так называемый туалет. Наконец они сжалились над нами, дали какую-то тряпку. Но она мало помогала. Опускаясь на корточки, мы покрывали голову платком, как бы прячась от стыда, хотя остальные отворачивались или отводили глаза. Это была настоящая пытка. Нам поставили железную печку и дали уголь, чтобы мы не замерзли, но у печи не было вытяжной трубы, и дым от сгоравшего угля съедал нас. Мы задыхались, не спали ночами. Укрывались всем, чем Бог послал — зонтами, полотенцами, обрывками газет. Трусы и шерстяные носки натягивали на головы, спасая от мороза уши и лоб.
Выходить из вагона имели право только трое из нас — сравнительно молодые мужчины. Такое доверие им было оказано потому, что дважды в день в одиннадцать утра и пять часов вечера они становились у вагона с деревянными ящиками в руках, в один из них бросали хлеб и сало, в другой — уголь, который хватало разве что на два часа. Однако попробуй они отойти от вагона больше чем на пять метров, в них без предупреждения выстрелили бы. За разговоры с неизвестными били прикладом ружья. Однажды один из этих троих, озургетец Вацадзе — красивый, кудрявый (бедняга умер в ссылке от воспаления легких), сообщил нам по секрету: «Мы спасены, нас везут не в Сибирь, а в Казахстан». — «Откуда ты взял», — спросил я. «Я увидел на предпоследнем вагоне плакат — «Добровольцы из Грузии — на помощь братскому Казахстану». Я вспомнил, во время кратковременных стоянок в больших городах до нас доносились звуки духового оркестра. Очевидно, нам организовывали встречи. А однажды мы проехали мимо оркестрантов, у которых были на редкость грустные лица. Может быть, оркестр тоже ехал с нами и на больших станциях его заставляли играть: смотрите, как веселятся грузины, по доброй воле едущие в Казахстан на уборку хлопка!
Утомил я тебя, читатель, и, по правде говоря, мне тоже не по себе — воспоминания о том, как мы, сорок тысяч грузин, наказанных за «подрывную шпионскую деятельность в пользу империализма», жили в палатках в холодных угрюмых степях Казахстана, привели меня в дурное настроение. Пусть это будет на совести тех, кто придумал все это и поставил нас в невыносимые условия.
В 1957 году нас вернули на родину. Возвратились, разумеется, не все: кто навсегда остался лежать в казахстанской земле, кто не пожелал уезжать по собственной воле: «Знаем мы их, — говорили они, — навесят нам еще что-нибудь, снова будут высылать, второй круг по этому аду мы уже не вынесем, так что лучше уж доживать свой век здесь».
Вот и все. Моя жена не вынесла обратной дороги. Заболела и через неделю после приезда домой умерла, несчастная.
Я, как уже говорил, дожил до ста лет. Человек, Цируния, раньше отпущенного ему срока не умирает.
Ну что, записала все, что я тут наболтал? Нет, сейчас читать не буду. Воспоминания о Казахстане давят на сердце. Пойду сосну, если удастся. Вечером заглянешь и прочтешь мне от начала до конца, что записала.
Мне кажется, это стоящее дело, а? Что ты скажешь? Пусть останется для потомков история моей жизни. Кто знает, может, кому и пригодится…
Перевод Л. Татишвили.
ФЕВРАЛЬ
— Послушай, как ты идешь?
— Как, дедушка?
— Шестнадцатилетней девушке не пристало так топать.
— Спешу, дедуля, в четыре надо быть в школе.
— Почему?
— У нас встреча.
— Вечно ты спешишь. У вас же вчера была встреча.
— Вчера мы репетировали, дедуля.
— Циала!
— Чего тебе?
— Не беги, малахольная! Уморился я. Не бойся, не начнут без тебя эту встречу.
Циала остановилась, переложила авоську в левую руку и подняла воротник пальто у подбородка. Затем, взглянув на нерасторопного деда, сделала такое движение, какое обычно делают девочки ее возраста, когда хотят выразить досаду: слегка согнула ноги в коленях и тут же выпрямилась.
Февраль был на исходе.
Зима решила проявить себя во всей красе — третий день стояли морозы.
В начале месяца неожиданно потеплело. Снег мгновенно растаял, и только тонкие его полоски вдоль основания заборов напоминали о зиме. Неасфальтированные проулки Гочоуры покрылись черным месивом. Подвалы залило водой. Для пешеходов настали малоприятные дни. И вдруг ударил мороз. Канавы затянуло тонкой пленкой льда, который, однако, так и не окреп. Он легко ломался, стоило ступить на него, и мелкими осколками уходил под воду. Изрытая колеями земля окаменела, и хотя опасности перепачкаться в грязи уже не было, следовало соблюдать большую осторожность, чтобы не оступиться и не ушибиться об обледенелую твердь.
Ветеран Великой Отечественной войны Эпифанэ Ломсадзе идет следом за своей «малахольной» внучкой и журит ее так, чтобы не слышали прохожие, а Циала время от времени останавливается, чуть сгибает ноги в коленях, чтобы тотчас выпрямиться, и с видом мученицы поджидает деда.
Эпифанэ, не прибавляя шагу, медленно обходит затянутые ледяной пленкой лужи, осторожно ступает по скользкой земле — как бы не споткнуться, и, несмотря на Циалино ворчание, продолжает идти тяжело, не спеша. Стремительная, энергичная походка не к лицу (возможно, это не совсем точное выражение) человеку его возраста, когда вера в силу собственных ног утрачена и в любой момент можешь растянуться на земле.
Во дворах дерутся петухи, у самых заборов громко хлопают крыльями утки, и собаки, изнывая от безделья, зевают, уставившись в блеклое небо.
— Блаженной памяти бабушка твоя тоже так ходила. Ты вся в нее. Где это видано, чтобы женщины, как полевые сторожа, вышагивали?
— Что же мне делать, если я спешу, так идти, что ли?! — Циала встает на цыпочки и, лениво раскачиваясь всем телом, плывет, мерно покачивая авоськой.
— Перестань дурачиться, не то вспылю по первое число! — сердится Эпифанэ.
— Дедуля, я спешу, понимаешь, спе-шу!
— Коли так, сидела бы дома. Я в твоем сопровождении не нуждаюсь. Как-нибудь дотащил бы это мясо.
— Но ты же сам просил пойти с тобой, ты сказал, что едва держишься на ногах и боишься, как бы тебе не стало плохо.
— Скверная ты девчонка, скверная. Никогда никому ничем не поможешь.
Между тем они вошли во двор. Циала бросила авоську в кухне, в два прыжка одолела лестницу и вскоре появилась со скрипкой в руках. Не взглянув на деда, побежала к калитке. Эпифанэ проводил ее взглядом и, махнув рукой, опустился на выкрашенную в синий цвет скамейку под черешней.
Из кухни выглянула Нанули, невестка Эпифанэ. Ссыпав в лохань смоченную в воде муку для птицы, она отряхнула передник и спросила свекра:
— Ускакала коза? Опять не поладили?
— Нет-нет. Что ей прикажешь делать? К четырем надо было быть снова в школе, она и торопилась, а у меня ноги чуть не отнялись. У них какая-то встреча на сегодня назначена, — Эпифанэ сидел, положив руки на колени и устремив взгляд на покрытую черно-белыми складками Хвашльскую гору, возвышавшуюся над Ухимериони.
Вот уже пять месяцев, как в Гочоуре, на улице Сергея Лазо, рядом с баней, открылся магазин для ветеранов войны. Магазин — универсальный, стало быть торгующий не только продуктами питания, но и промышленными товарами. Это благородное предприятие превосходно снабжалось, и у его входа постоянно толпился народ. Я сказал «у входа», потому что здесь собирались в основном те, кто не принимал участия в войне, но тем не менее горел желанием воспользоваться привилегией, предоставляемой ветеранам. В магазин можно было войти только по книжке, которую участники войны предъявляли лично. Передавать свои удостоверения другим лицам им, естественно, не разрешалось. В дверях стоял дежурный ветеран с красной нарукавной повязкой, строго следивший за тем, чтобы соблюдались установленные правила, и, несмотря на протесты некоторых невоздержанных на язык граждан («Впусти нас тоже, подумаешь, в конце концов и ветераны и допризывники одинаково хотят есть!»), доступ к прилавку имели лишь наши славные, прошедшие огонь, воду и медные трубы старики.
Эпифанэ Ломсадзе сидел во дворе своего старого дома и, как это ни парадоксально, думал о белоголовой индейке, одиноко стоявшей под навесом. Сегодня утром она неожиданно сникла, безучастно поклевала черный, смоченный в воде хлеб, стала в сторонке и воззрилась на своих товарок, с гомоном налетевших на лохань. Нанули, невестка, попыталась силой накормить занемогшую индейку, но рожденная на берегах Ганга птица заупрямилась. Она так искусно изворачивалась, что Нанули удалось запихнуть в нее всего несколько кусков хлеба. Наконец она вырвалась из невесткиных рук, один-два раза недовольно крикнула в знак протеста против такого унизительного метода кормления, пробежалась между грушей и навесом, взъерошила перья, а потом тяжело уселась на землю. Сейчас она стояла под навесом и была явно не в духе. Вот она закрыла глаза и в полном унынии погрузилась в дрему, но, потеряв равновесие, качнулась, тут же выставила вперед ногу и, вытянув шею, оторопело огляделась вокруг. Так повторилось несколько раз.
Эпифанэ продрог. Он потер руки, поднес кончики пальцев ко рту и подышал на них. Подвигал пальцами ног, обутых в высокие резиновые сапоги, и ударил пяткой о пятку. Потом потер рукой лоб и мохнатые брови, развязал узел на видавшей виды ушанке и опустил концы на уши. Вынул сложенный вчетверо серый неглаженый платок, аккуратно раскрыл его, встряхнул и, утерев заслезившиеся от мороза глаза, с таким шумом высморкался, что стоявшая на одной ноге индейка вздрогнула и сделала два шага назад.
Эпифанэ устал. Сегодня ему уже дважды пришлось побывать на улице Сергея Лазо. Утром пришла теща Намгаладзе: батоно Эпифанэ, может, купите для нас сыр в своем магазине, а то в доме ни крошки не осталось. Не мог же он ей отказать. Пошел. Сыр оказался неплохой, двухрублевый, он и себе взял полтора кило. К трем часам надо было снова возвращаться сюда — продавец сказал, мясо подвезут после перерыва. Эпифанэ взял с собой примчавшуюся из школы Циалу, и ровно в три они были в магазине. Им достались последние куски. Мясо, как выяснилось, привезли до перерыва и успели распродать. Не прояви Эпифанэ решительности и не разорви он лжеочереди из постоянно толпящихся здесь людей, возможно, он ушел бы ни с чем. Мясо завезли свежее, и ветераны запаслись им на неделю. Магазин, правда, получал его ежедневно, но, кто знает, когда еще завезут сюда такое отличное мясо.
— Здравствуйте, дядюшка Эпифанэ!
— Кто это? — Эпифанэ поднял голову и посмотрел на стоящего у калитки гостя. Эпифанэ не узнал его, хотя голос показался знакомым.
— Это я, Туху!
— Туху?
— Губеладзе! Не узнаете? Не похоже на вас, дедушка Эпифанэ.
— Ничего не поделаешь, старею. Входи же, Туху, что ты, право, как чужой у калитки стоишь!
Туху — сын Калистрате Губеладзе. Бедняга Калистрате страдал грыжей. В прошлом году у него случилось заражение крови. Ему сделали операцию, но спасти не удалось. Туху — парень неплохой. Закончил институт физкультуры, работает директором плавательного бассейна, женат, имеет четверых детей. Живет очень скромно. Что делать! На его зарплату не разгуляешься. А кроме зарплаты неоткуда брать и копейку, да и он вряд ли пошел бы на такое.
Несмотря на мороз, на Туху нет шапки. Он приближается к Эпифанэ, заложив руки за спину под синим плащом с таким видом, будто собирается посвятить его в радостную тайну. В его черных усах прячется улыбка.
— Надеюсь, вы в порядке, дядя Эпифанэ?
— Как тебе сказать… пока держусь, — Эпифанэ пожал гостю руку, — садись.
— Некогда мне рассиживаться.
— Сядь, передохни маленько. Куда это вы все торопитесь, хотел бы я знать. Ну и народ!
— Все равно половины дел не доделываю, дядюшка Эпифанэ. То да се, пятое-десятое — завертелся волчком, даже на работу сегодня не вышел, — Туху опустился на скамью рядом с хозяином, поднял с земли прутик, переломил его пополам, одну часть отбросил в сторону, а другой стал постукивать себя по кончикам пальцев.
— Что решил с поминками?
— Да вот, в марте год исполняется, двенадцатого числа, считанные дни остались.
— Это случилось двенадцатого? А мне почему-то казалось раньше…
— Двенадцатого, дядюшка Эпифанэ, двенадцатого числа на меня обрушилось это горе. Будь отец жив, я бы беды не знал. Хворал все время бедняга, а какой надеждой и опорой для всего дома был… Теперь я один остался.
— А как ты хочешь, зато скоро твои ребята подрастут.
— Пока они ума наберутся, я концы отдам.
— Это тебе так кажется. Время быстро идет.
— Я ведь даже не знаю, как принято — устраивать поминки в день смерти или нет?
— Двенадцатое какой день недели?
— Среда.
— Можешь отодвинуть до субботы, три дня не имеет никакого значения. И не закатывай ничего грандиозного, скромный обед — лучшая память.
— Если уж тратиться — так тратиться, дядюшка Эпифанэ. Соседей и близких надо позвать? Надо. Только их наберется человек триста. Не могу же я в самом деле срамиться. Все сделаю так, как того требует обычай. Это мой долг перед памятью отца.
— Пожалуй, ты прав.
Они помолчали.
— Дядя Эпифанэ, — гость окинул взглядом разлапистые ветви груши, — смерть как не хочется вас беспокоить, но у меня нет другого выхода, только вы можете помочь.
— Я тебя слушаю, — Эпифанэ поднял конец ушанки со стороны Губеладзе.
— В вашем магазине, говорят, какие-то штаны продаются, съела меня моя девчонка.
Ветеран рассмеялся.
— Позавчера мы с моей внучкой из-за этих вот штанов чуть не убили друг друга. Как насела на меня: пойдем скорее в магазин, там брюки продаются, как бы все не распродали. Ну мы и помчались. Что за брюки? Обыкновенное галифе. Как ухватилась за них: это, говорит то, о чем я мечтала. Не своди меня с ума, говорю я, ты хочешь сказать, что наденешь это на себя? Она убивается: они сейчас в моде, пойми! Но это еще не повод, чтобы нацеплять на себя офицерские брюки! Ладно, говорю, куплю тебе их, если ты так настаиваешь, но чтоб твоего духу не было в моем доме! — стращаю, так сказать. Но нынешних детей разве заставишь от своего отступиться?! Она мне на шею: дедулечка, родной, если не купишь, умру! Ну я и купил, что мне оставалось делать! Где носить будешь, спрашиваю. Это мое, говорит, дело. Ну висят они в шкафу, разве мать позволит ей надеть их? Ни в жизнь!
— Вот и я в таком положении, — пожаловался Туху.
— Нет, я не отказываюсь пойти с тобой, но куда это годится?
— Что?
— А то, что полную волю даем детям.
Туху ничего не ответил, встал, выпрямил спину.
— Ох, и замучила меня эта проклятая поясница!
— У тебя, верно, ишиас.
— Я бы не тужил, кабы это был ишиас, у меня смещение позвонка.
— Куда это он у тебя сместился?
— А черт его знает. В Парцханаканеви, говорят, знахарь живет по фамилии Синауридзе, так он запросто вправляет позвонок.
— Ну?
— Да все не удосужусь туда съездить.
— Нанули! — крикнул Эпифанэ в сторону кухни.
В дверях появилась невестка.
— Я схожу с Туху в магазин и сейчас же вернусь. А индюшка очень плоха. Коли к вечеру не поест — придется зарезать.
— Если это чума, что будем делать? — Нанули заправила концы косынки под щеки.
— Склевала, должно быть, что-нибудь, откуда чуме в этот мороз взяться, — отозвался Туху.
Они вышли за калитку.
— Книжку не забыли, дядюшка Эпифанэ?
— Как можно, кто меня без нее впустит! Я ее всегда в кармане держу.
Было около шести, когда они вернулись назад. Мороз пробирал до костей, небо на западе было оранжевым.
— Завтра будет ветер, — Эпифанэ просунул в щель руку и отодвинул засов.
— Ветра нам только не хватало, — глухо проговорил Туху, забирая под мышку завернутое в газету галифе.
— Заходи, поужинаем вместе, — как истый имеретин, Эпифанэ не мог так просто отпустить гостя.
— Клянусь, дядюшка Эпифанэ, недосуг мне. Я же знаю, моя чокнутая девчонка на улице сейчас меня дожидается. Утомил я вас, хлопот доставил, просто не знаю, как благодарить.
— Ерунда. Ну, будь здоров.
— Большое спасибо, дядюшка Эпифанэ, — Туху пошел своей дорогой.
Эпифанэ отужинал и прилег в кухне на тахте. Незаметно для себя он задремал, как вдруг голоса во дворе вывели его из забытья.
За окном уже стемнело.
— Только вот вернулся, очень уставший, нет, правда, я не смогу сказать, — это был голос Нанули.
— Не губи меня, — заклинал второй голос.
— Вон он лежит, возьмите и сами скажите, — с досадой проговорила Нанули, поскольку упрямый гость, как видно, не собирался отказываться от своего намерения.
— Дядя Эпифанэ, — раздался вдруг голос над головой старика, — умоляю, помоги мне, я в благодарность зажгу тебе такую свечу, такую…
Эпифанэ удивился, как он не узнал по голосу Заура Ревишвили, дежурного аварийной службы водопровода. Недавно он купил полдома у Доменти Квирквелиа, что возле колодца, и стал его соседом по улице. Голос у него был громкий, густой, к тому же он чуть-чуть заикался.
— Что случилось?
— Гости ко мне нагрянули! Четверо! А дома — хоть шаром покати. Что делать — не знаю. Они же будут чесать про меня языками — не остановятся!
— Я только что пришел, клянусь Циалой, с ног падаю, да и сердце что-то пошаливает, — Эпифанэ сел на тахте и провел ладонями по коленям.
— Ладно, дядя Эпифанэ, как-нибудь выкручусь. Вам, видно, в самом деле скверно, раз вы мне отказываете, я же знаю, — в голосе Заура звучало отчаяние, он пошел было к двери, но передумал, — а если вы одолжите мне свой пропуск, или как он там называется, дядя Эпифанэ?
— Не впустят тебя, нет, — глухо проговорил Эпифанэ. Он встал, тяжело вздохнул. — Где моя шапка, Нанули?
— Вот она, — невестка подала ему ушанку.
— Да, но… если вам нездоровится… как-то у меня нехорошо получилось… надо же было им свалиться как снег на голову именно сегодня… Дядя Эпифанэ, дорогой, не ходите, если невмоготу, — бормотал гость.
— Пошли, пошли. Как-нибудь доползу. Только бы не опоздать. Сколько на твоих?
— Было почти семь, когда я вышел из дому.
— Думаю, успеем, они в восемь закрывают. Слышишь, — Эпифанэ обернулся к невестке, — если запоздаю, выйди к переулку и встреть ребенка. Как бы кто не напугал ее. Надоели они со своими встречами в этот мороз. Что с индюшкой?
— Ожила как будто немного. Подождем до утра.
— Поела?
— Поклевала чуть-чуть.
— Как бы в убытке не оказаться…
— Пусть это будет вашей последней бедой, — невестка открыла сундук, вынула перчатки и протянула старику, — наденьте, папа, прошу вас, очень холодно.
— Ты же знаешь, я не могу их носить, — Эпифанэ посмотрел на Заура, — оказывается, человек, какой он есть смолоду, таким на всю жизнь и остается: я вот в молодости не выносил перчаток, даже под Сталинградом в двадцатиградусный мороз — кожа на руках вся потрескалась — обходился без них. Ну пошли!
Они вышли за калитку и спустя некоторое время в свете фар вынырнувшей из-за переулка машины увидели человека, идущего нетвердой походкой. Эпифанэ ускорил шаг и скрылся за гаражом Салдадзе. Заур последовал за ним.
— Что случилось, дядя Эпифанэ? — шепотом спросил он.
— Кажется, это Пармен Сандухадзе?
— Кажется, а что?
— Да ничего. Постоим здесь, пока он пройдет. Не хочу с ним встречаться.
— Он обидел вас, что ли?
— Ну что ты! Разве Сандухадзе способен кого-нибудь обидеть! Это же милейший человек, второго такого в этом переулке нет. Месяц назад он попросил у меня взаймы двадцать рублей и до сих пор не вернул — нет, наверное, у него денег. Ему будет неловко столкнуться со мной носом к носу. Вообще ты это знай, Заур, если человек тебе должен, не надо мельтешить у него перед глазами, иначе он возненавидит тебя. Такова особенность денег.
Мурлыча себе под нос, Сандухадзе прошел мимо, даже не взглянув в сторону гаража. По всему чувствовалось, что он здорово навеселе.
Сандухадзе завернул в свой переулок, и соседи вышли из своего укрытия.
— Будет этой зиме конец или нет? — Эпифанэ вынул руки из карманов и стал дышать на них.
— У нас еще ничего, вот на западе плохи дела. Сегодня утром по радио передавали, что в Батуми восемь градусов мороза.
— Вот это да! Восемь градусов в Батуми! Это не шутка, цитрусовым погибнуть недолго.
— Если ветра не будет, на что-то еще можно надеяться, ну а если мороз с ветром — пиши пропало.
Они вышли на улицу Сергея Лазо, и тут погасли уличные лампионы. Оба остановились. Ревишвили посмотрел в сторону Ухимериони.
— А за мостом светло, — проговорил он.
— В чем дело?
— Сколько раз говорил себе: не выходи ночью без фонаря, но разве с моими детьми это возможно?! Попробуй спрячь от них что-нибудь. Недавно купил себе чудесный фонарь, но где он? Подарили, наверное, кому-нибудь или, того хуже, потеряли.
Лунный свет отражался в затянутых льдом лужах. Вместе с темнотой на улице воцарилась удивительная тишина. Кое-где в окнах появилось слабое мерцание. Неожиданное затишье ласкало слух.
Они были почти у магазина, когда дали свет. Ночной город мгновенно ожил, прозрел, всколыхнулся, зашумел.
Эпифанэ протянул дежурному с красной нарукавной повязкой свою книжку и, кивнув на Ревишвили, сказал:
— Он со мной.
— Вижу, батоно, — почему-то подчеркивая последнее слово, сказал дежурный и, не глядя на книжку, посторонился и пропустил пришедших.
Мяса не было. Они купили брынзу, овощные консервы и болгарские маринады.
Дежурный, подбоченившись, стоял в дверях.
— Вы еще других наставляете, товарищ подполковник, — гневно проговорил он, когда они выходили, — надо совесть знать!
— Что такое? — Эпифанэ показалось, он шутит.
— А то, что совесть надо знать! — повторил дежурный.
— Это ты мне говоришь? — у Эпифанэ перехватило дыхание, отчаянно забилось сердце. Он прислонился к железным перилам.
— Да, вам! Вы сегодня в четвертый раз приходите! И я скажу об этом, где следует!
— Скажи! — он хотел еще что-то добавить, но не смог. Ему показалось, если он сейчас же не выйдет на улицу и не сделает глубокого вдоха, то задохнется.
В дороге они не проронили ни слова.
Ревишвили шел, тяжело вздыхая. Он хотел разрядить напряжение, но не знал, с чего начать. Не находил нужных слов. Когда они подошли к калитке, он простодушно спросил:
— Все хотел узнать, дядя Эпифанэ, как у вас со здоровьем на войне было? Я не ранения имею в виду, а болезни.
Эпифанэ долго не отвечал. Открыл калитку, вошел во двор, раскрыв руки, ухватился за ограду и тихо произнес:
— Я сейчас на войне.
— До свиданья, дядя Эпифанэ, большое спасибо, — у Заура вдруг пересохло в горле.
— Будь здоров.
Утром Эпифанэ Ломсадзе нашли мертвым в постели.
Он умер тихо, никому не причинив беспокойства.
По решению Совета ветеранов бывшего подполковника похоронили под звуки оркестра. В Гочоуре в сопровождении оркестра в настоящее время хоронят только высокое начальство и ветеранов войны.
Перевод Л. Татишвили.
СЕМГА
Редко бывает, чтобы находящийся в командировке в чужом городе мужчина хотя бы мысленно не поддался неизбежному в таких случаях искушению. Но Пармен Котрикадзе был необыкновенно выдержанным и морально устойчивым человеком. Где только ни побывал в командировках, в какие только переделки ни попадал, но ни разу не позволил себе того неблаговидного поступка, которого так опасаются, и, чего греха таить, вовсе не безосновательно, жены отбывающих в командировку мужчин.
На этот раз члены клуба любителей фантастики Пармена Котрикадзе на три дня командировали в районный центр Рию. Надо сказать, что по линии фантастики он отправлялся в командировку впервые. Председатель клуба внезапно заболел и за день до отъезда поручил рядовому члену клуба Пармену эту, надо признать, не такую уж легкую миссию — съездить в Рию и принять участие в семинаре представителей клубов любителей фантастики. По справедливости, председатель должен был сначала предложить эту поездку своему заместителю. Но он, этот заместитель, не в пример большинству замов, отличающихся скромностью, очень уж любил себя выпячивать, и, кто знает, может, и правильно поступил глава клуба, поручив участие в семинаре не своему не в меру энергичному заместителю, а такому тихому и скромному человеку, как Пармен Котрикадзе.
Основным местом работы Пармена Котрикадзе было похоронное бюро, ведающее погребением беспризорных покойников. Он занимал должность младшего могильщика, и с лица его не сходило унылое выражение. А причина заключалась не только в том, что ему, отцу, как он выражался, «троих сорванцов», приходилось жить на одну голую зарплату, да и профессия его давала мало поводов для веселья. Дело было в том, что Пармен с детства был по натуре тихим и застенчивым, не выносил общества шумных весельчаков, не особенно уважал остряков и шутников и всячески старался избегать их общества. Если в его присутствии рассказывали анекдот — он либо вообще не смеялся, либо смеялся с запозданием, да и то очень осторожно и сдержанно.
Время было обеденное. Пармен шел по улице, носящей имя легендарного разведчика Чиче, в поисках какого-нибудь не слишком многолюдного кафе. Если я скажу, что он был очень доволен сегодняшним семинаром, это будет неправдой. Пармен любил фантастику, но он также прекрасно знал, что существует и иная жизнь. И в этой иной, реальной, жизни все еще встречаются такие прискорбные факты, как беспризорные покойники, неоплаченные старые облигации, винные подвальчики времен Пиросмани и потрескавшиеся от землетрясения стены. Деловыми и конкретными выступлениями Пармен не был избалован и на объединенных заседаниях похоронных бюро, но то, что он услышал сегодня, было так же далеко от здравого смысла, как небо от земли. Докладчики и выступавшие в прениях товарищи, пока сидели в президиуме, производили впечатление людей серьезных, но как только им предоставлялось слово — лица их тут же освещались каким-то потусторонним голубовато-розоватым светом и они до хрипоты кричали о том, что самый верный путь для достижения всеобщего братства и гармонии между людьми лежит через клубы любителей фантастики. И что в настоящее время историческое развитие человечества может осуществляться лишь в направлении дальнейшего развития этих клубов. Что только приверженцы фантастики в состоянии решать сложнейшие социальные и экономические проблемы. И высказывали возмущение в адрес тех, остальных личностей, которые, вольно или невольно, препятствуют широко развернувшемуся движению любителей фантастики.
«Да, правительство у нас действительно золотое. Где бы еще стали терпеть подобное пустословие! Что я здесь делаю? Думал, немного отвлекусь от своих проблем, а выходит еще хуже», — размышлял Пармен и медленно, но верно приближался к решению распроститься по возвращении с клубом фантастики и вступить в какой-нибудь другой клуб, попроще.
Близился к концу сентябрь. Зная, что в Рии рано наступают холода, Пармен предусмотрительно оделся потеплее. И действительно, вчера вечером, когда он сошел с поезда, ноздри ему защекотала характерная для крупных городов копоть, а уши обожгло холодом. Сегодня утром ему тоже не пришлось жалеть о том, что он надел пальто на ватине и теплые носки. А вот сейчас жалеет.
Серое, пыльное небо Рии вдруг разом очистилось и засияло золотом. Наш герой не видел солнца, но чувствовал, что оно повисло совсем близко, прямо над головой, решив, видимо, продемонстрировать свою мощь усомнившимся в осеннем тепле горожанам. Котрикадзе сначала снял шарф, свернул его и спрятал в карман, потом снял кепку из буклированной ткани с пуговицей на макушке и стал обмахиваться ею, как веером. Наконец, широко распахнул пальто и, двигая плечами, спустил его почти до локтей. Пармена, шагающего по улице, с болтающимся где-то сзади пальто и с вытянутой вперед шеей, издали можно было принять за страуса, а подойдя поближе, вы могли безошибочно признать в нем человека приезжего, махнувшего рукой на элегантность в одежде и в походке, безразличного к тому, что подумают о нем все эти честные граждане — жители Рии, провожающие ироническими взглядами эту невесть откуда залетевшую в их края «неведомую птицу».
Возле всех кафе и столовых-забегаловок тянулись длинные хвосты очередей. Пармен испытывал непреодолимое отвращение к стоянию в очередях, так что и беготня по улице, носящей имя легендарного разведчика, вполне могла окончиться бесплодно. Ведь в нашей необъятной стране обеденный перерыв, слава богу, всюду начинается в одно и то же время и большая часть трудового населения, исключительно в целях экономии времени, отдает предпочтение кафе-столовым, а не ресторанам с их оркестрами и предупредительными официантами во фраках.
Глянув на часы, Пармен убедился, что один из двух часов, предоставленных председателем семинара в распоряжение его участников, был уже на исходе. «Не остаться бы мне голодным», — подумал Пармен и решился, наконец, стать в очередь у кафе «Мистерия». Он даже прошел через весь зал с цветастым подносом в руках, но, увы, прошел — и только. Не приглянулся ему ассортимент.
В те времена меню кафе и столовых районного центра Рии не отличались большим разнообразием. Будто сговорившись, все они на первое предлагали посетителям сборную солянку, на второе — котлеты и бледно-голубые части мороженой курицы, а на закуску — кисель фиолетового цвета, разлитый в массивные, так называемые «меленковские», граненые стаканы, чинно выстроившиеся на подносе, стоявшем рядом с кассиром.
Улица разведчика Чиче выходила на широкий проспект, но Пармен даже не поинтересовался его названием. Кроме того, его сейчас больше интересовали пункты общественного питания, нежели достопримечательности города Рии, поэтому, не обнаружив ничего съедобного и в кафе «Национальном» (его чуть не стошнило от стоявшего в кафе специфического тошнотворного запаха), Пармен впал в отчаяние.
Он вытер платком взмокшие лицо и шею, поправил пальто и уже собирался повернуть назад, как вдруг заметил у памятника Котовскому толпу. Он обратил внимание и на то, что обгонявшие его прохожие спешили туда же. Одни бежали небрежной трусцой — дескать, что там может быть такого, другие мчались во всю прыть и так размахивали на бегу руками, словно на них напали пчелы.
Пармен Котрикадзе, естественно, тоже подошел к плотной, как сжатый кулак, толпе — и не поверил собственным глазам: краснощекая женщина в белом халате и черном брезентовом фартуке на мощном животе и ляжках продавала рыбу, и не каких-нибудь мороженых, намертво слипшихся лещей, а живую семгу. Крупные рыбины плескались в огромной бочке; они широко разевали рты, раздували жабры, били хвостами и во время взвешивания доставляли немало хлопот продавщице с и без того, видимо, издерганными нервами. Пармен, не раздумывая, стал в очередь, выстоял ее и попросил взвесить ему двух рыб. Стоявшие сзади него покупатели зашумели: дескать, больше одной не отпускайте, а то нам не хватит. Однако продавщица почему-то расположилась к Пармену благосклонно и взвесила ему, как он просил, две рыбы (вместе они потянули три с половиной килограмма). Тут произошла неловкость по той причине, что у Пармена не оказалось не только пакета, но даже газеты, чтобы завернуть рыбу. Рассерженная продавщица уже собиралась отдать взвешенную рыбу следующему покупателю, но тут какая-то сердобольная старушка, сжалившись над несчастным, растерянным Парменом, протянула ему целлофановый пакет. Отделавшись от очереди и сделав несколько шагов, Котрикадзе почувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Конечно, пришлось немного понервничать, но зато теперь у него, приезжего человека, были в руках две красавицы семги. А о том, что Пармен был большим любителем свежей рыбы, и говорить не приходится.
Он перешел на другую сторону улицы и, чуть ли не пританцовывая на ходу, направился к кафе «Мистерия». Попрошу повара поджарить рыбу — вот и будет у меня вкуснейший обед, — размечтался Пармен, от радости не чуявший под собой ног. Но, как говорится, человек предполагает, а бог располагает.
Повар отослал его к заведующей: дескать, если разрешит, мне-то что — мне ни масла, ни сковороды не жалко. Заведующая выслушала необычного посетителя, бегло взглянула на рыбу, зевнула, осторожно похлопывая ладошкой по пухлым густо напомаженным губам, и спросила: «Вы это серьезно или шутите?» — «Серьезно», — отвечал Пармен. «Так что же я вам, гражданин, плохого сделала, за что вы решили меня в тюрьму упрятать?» И прежде чем опешивший Пармен успел открыть рот, пояснила: «Знаете, что означает наличие в кафе «левого товара»? Если нагрянет проверка, думаете, мне поверят, что я, из уважения к гостю, разрешила поджарить им же купленную и принесенную рыбу? И даже если никакой проверки не будет, найдется по меньшей мере трое посетителей, которые напишут куда следует: так, мол, и так, мы ели котлеты из мороженого мяса, а какого-то чернявого молодчика угощали жареной семгой».
Убедительный тон заведующей не оставлял возможности не только для дальнейших уговоров, но даже для вопросов — и так все было ясно. Пармен вышел из кафе и опять зашагал по улице в обратном направлении.
В кафе «Национальном» ему тоже ответили отказом, а столовая «Только для вас» оказалась закрыта под предлогом санитарного дня. Зайти в гостиницу он уже не успевал, да и вряд ли в буфете гостиницы (ресторан был на ремонте) отнеслись бы сочувственно к просьбе Пармена. Сегодня утром, за завтраком, он случайно оказался свидетелем того, как буфетчик заставил одного из посетителей убрать блестящую бутылку шведского пива, которую тот достал было из портфеля: дескать, не дразни народ. Пармен тяжело поднялся по ступеням, ведущим в ресторан. Швейцар, строгий и категоричный, тон которого ясно давал понять, что функции его гораздо шире, чем простое открывание и закрывание входной двери, сначала велел Пармену снять пальто, потом, когда тот, одной рукой на ходу приглаживая волосы, в другой неся пакет с рыбой, с деловым видом направился в зал, снова остановил его: дескать, входить в зал с сумками и пакетами запрещено. Злосчастный любитель рыбы послушно вернулся назад и протянул пакет гардеробщику. Тот, не двигаясь с места, назидательно изрек: «Мясные, рыбные и кондитерские изделия на хранение не принимаем». — «Куда же мне его девать, этот пакет, скажите на милость?» — почти сердито спросил Пармен. Но гардеробщику явно не было никакого дела до того, куда посетитель денет свою рыбу. Однако, когда Пармен подмигнул ему, шепнув при этом «Я в долгу не останусь», ответственный за гардероб работник нарушил клятву, видимо, данную администрации, и сунул целлофановый пакет под стойку — туда, где обычно хранятся сумки, зонты и калоши посетителей.
Когда официант с перекинутой через левую руку белоснежной салфеткой, удивительно напоминающий ласточку, в своем черном фраке и с черным галстуком-бабочкой на белой рубашке приблизился и, словно собираясь брать интервью, вооружился записной книжкой и карандашом, Пармен побарабанил по столу пальцами и спросил:
— Рыбные блюда есть?
— Нет, — убежденно ответствовал официант.
— А что у вас есть?
— На первое — сборная солянка, на второе — котлеты, на третье — кисель. Между прочим, на второе есть также курица, — после небольшой паузы добавил он.
— Рыбу можете мне поджарить? — понизив голос, спросил Пармен.
— Какую рыбу?
— Ту, что продают на улице — семгу.
— На улице много чего продают, — видимо, решив, что посетитель шутит, игриво отвечал официант.
— Вы меня не поняли. Я купил рыбу, и она у меня здесь — в гардеробе. Приготовьте ее для меня — я в долгу не останусь. У меня две большие семги. Одна пусть будет вам — за хлопоты.
Официанту это предложение, видимо, показалось заманчивым. «Я сейчас, схожу договорюсь с поваром», — сказал он и ловко заскользил между столиками. Вскоре он вернулся, с явным огорчением на лице: «Сегодня ничего не получится, — сообщил он Пармену. — Приходите послезавтра, в четверг, это будет рыбный день — что-нибудь придумаем». — «Послезавтра меня здесь уже не будет. И даже если бы и был, что же мне, до тех пор так и носить с собой повсюду эту рыбу?» — со слезами в голосе пролепетал Котрикадзе. «Вы уезжаете?» — полюбопытствовал официант, но Котрикадзе не стал удовлетворять его любопытство. Минут через пять он уже опять шагал по улице в своем тяжелом зимнем пальто, с затихшими, уснувшими рыбинами в руке.
— Простите, это у вас семга? — Пармен неохотно оглянулся — и тут же, как по команде, вытянулся по стойке смирно. Перед ним стояла очаровательная молодая женщина — высокая, стройная, с большими зелеными глазами и светло-пепельными волосами. Глаза у женщины были усталые, вид озабоченный, пожалуй, слишком строгий для такой красивой женщины.
— Вот там продавали, в переулке, у памятника Котовскому.
— Наверно, по талонам?
— Нет, свободно.
Женщина поблагодарила Пармена и быстрой, легкой походкой направилась в указанном направлении. Те, кому доводилось бывать в Рии, наверно, согласятся со мной, что такая стремительная и грациозная походка присуща только жительницам этого города, которые всегда всюду успевают, прекрасно зная все неписаные законы городской жизни. Они не озираются тревожно по сторонам, как это делают приезжие, и не докучают прохожим глупыми вопросами. Они всегда точно знают, что, где и каким путем можно достать. И порядка не нарушат, и примерно раз в семь быстрее приезжих все достанут. Увидят издали очередь — и уже точно знают, что «дают» и достанется ли им. Если вы увидите терпеливо выстаивающую длинную очередь и позевывающую от скуки представительницу прекрасного пола, то даже если на ней не будет зеленого свитера и красных резиновых сапог, вы, дорогой читатель, все равно догадаетесь, что она приехала если не из далекой провинции, то уж во всяком случае из какой-либо близлежащей деревни.
Не могу объяснить почему, но факт остается фактом: Пармен повернул назад и пошел, почти побежал за женщиной с пепельными волосами. Догнал ее, попытался идти рядом — дескать, я тоже люблю быструю ходьбу, — но вскоре отстал — и опять припустил трусцой. Женщина, разумеется, заметила семенящего рядом с ней мужчину с рыбой, но продолжала свой путь, не обращая на него внимания.
На том месте, где совсем недавно продавали рыбу, теперь не было ни души. Лишь валялась опрокинутая пустая бочка да все еще стоял хромоногий стол с облупившейся белой краской. Весов на нем уже не было, и это, по-видимому, означало, что сегодня рыбы больше не будет и неизвестно, будет ли завтра.
— Кончилась, — сокрушенно произнес Пармен, почему-то чувствуя себя виноватым.
— Я так и знала, — женщина еще раз глянула своими зелеными, влажными глазами на оттопыренные уши Котрикадзе, пожелала ему «всего доброго» и направилась к троллейбусной остановке.
Пармен кивнул в ответ, взглянул на часы и пошел было прочь, но, сделав несколько шагов, повернул назад и снова подошел к стоявшей на остановке женщине.
— Знаете что, — зашептал он прямо в красивое ушко очаровательной незнакомки. — Если вы не возражаете, я отдам вам эту рыбу.
Женщина оглянулась, какое-то время молча смотрела на него, потом вздохнула. Она привыкла давать отпор назойливым мужчинам, но этот незнакомец смотрел на нее такими добрыми глазами, что она не решилась ему нагрубить.
— Одну?
— Обе. — Пармен протянул пакет.
Женщина пакет на взяла: кое-что еще требовало уточнения.
— А вам она что, не нужна?
— Берите, берите. Я еще достану… А нет — и так обойдусь.
— Большое спасибо, — женщина взяла пакет, поставила на асфальт между ног и щелкнула ридикюлем (точно не знаю, как называется сейчас эта маленькая кожаная сумочка, в которой женщины носят деньги, помаду и прочие мелочи, а в наше время ее называли ридикюлем). — Сколько я вам должна?
— Нисколько… Что вы… Какие-то копейки… До свидания. — Пармен повернулся спиной к озадаченной женщине, глубоко сунул руки в карманы пальто и направился к высокому зданию редакции «Блокнот агитатора». Он еще раньше заметил это строение очень оригинальной архитектуры: восьмиэтажное здание постепенно расширялось кверху и так заметно склонялось вправо, что несведущему человеку могло показаться, что оно вот-вот опрокинется.
— Подождите, подождите, — светловолосая красавица догоняла Котрикадзе и в голосе ее — о боже! — явно слышалось недовольство. — Возьмите свою рыбу… Вы что… И вообще… У нас так не принято!
Пармен остановился и с улыбкой оглянулся. Женщина, стоявшая перед ним, была действительно очаровательна: носик с красиво очерченными ноздрями, пухлые губки, длинные черные ресницы. Взгляд ее зеленых глаз был устремлен куда-то в сторону, правой рукой она протягивала странному гражданину рыбу, не отвечая на его улыбку.
— Уважаемая, неужели вы думаете, что эти наши мелкие счеты так уж важны для мирового прогресса?
— Как это? Порядок есть порядок… Или возьмите деньги, или… — женщина опять поставила пакет на землю у своих изящных ног и снова щелкнула ридикюлем.
— Поймите, уважаемая, эта семга мне все равно не нужна, — продолжал улыбаться наш герой.
— Как это? Почему? — на верхней губе, слева, у нее была фиолетовая родинка со спичечную головку.
— Я здесь в командировке и вот купил эту семгу… Понимаете, с детства люблю свежую рыбу. Обошел все кафе-столовые и в ресторане был… Долго упрашивал поваров и директоров поджарить для меня эту рыбу — но все напрасно. Ничего не поделаешь: все боятся, как бы им не пришили «левый товар». Зачем им из-за меня рисковать. В гостинице у меня тоже нет условий, чтобы приготовить рыбу, да и времени нет. По правде говоря, мне уже и есть расхотелось. И на семинар пора. А вы, пожалуйста, не думайте об этих копейках. Берите эту рыбу и ешьте на здоровье.
Женщина вроде немного успокоилась.
— Понятно… Что же это получается… Выходит, вы для меня купили… Спасибо… — бормотала зеленоглазая фея. А Пармен, боясь, как бы ему опять не стали предлагать деньги, обеими руками дотянулся до изящных ручек незнакомки, прижимавшей к груди ридикюль, слегка пожал их в знак прощания, повернулся и направился к входу в здание «Блокнот агитатора». Поэтому он почти не слышал последних слов женщины.
В здание редакции его не пустили. Сказали, что буфет обслуживает только сотрудников. Снова оказавшись на улице, Пармен опять увидел перед собой светловолосую незнакомку.
— Простите, как вас зовут? — застенчиво глядя на него, спросила она.
— Пармен.
— А меня Наташа, — она еще раз оглядела Котрикадзе с ног до головы, задержавшись взглядом на его оттопыренных ушах, что всегда очень не нравилось Пармену. — Может, вы поедете ко мне?.. Вместе пообедаем… Не знаю, смогу ли я приготовить эту рыбу по вашему вкусу, но постараюсь. Конечно, если вы ничего не имеете против, — и, совсем смутившись, женщина добавила: — Живу я одна.
Пармен Котрикадзе, конечно, ничего не имел против.
Пока дожидались троллейбуса, он успел поведать богом посланной зеленоглазой фее, что работает в похоронном бюро, ведающем захоронением беспризорных покойников, а сюда, в Рию, приехал как представитель клуба любителей фантастики.
Женщина внимательно слушала его и, как прилежная ученица, изредка кивала головой.
Когда троллейбус тронулся, светловолосая Наташа спросила:
— Неужели в наше время еще есть беспризорные покойники?
— Встречаются иногда. Редко, конечно, — отвечал Пармен.
На этом новеллу можно было бы закончить. Но чтобы любознательные читатели не забросали меня письмами, я все же добавлю, что в тот день Пармен, конечно, не вернулся ни на семинар, ни вечером в гостиницу.
Утром он сидел в зале отрешенный, и пламенные речи ораторов доносились до него обрывками, словно откуда-то издалека. Временами он даже подремывал, то и дело поеживаясь от приятных воспоминаний и размышляя о том, как все-таки хорошо устроена жизнь. Ведь если бы все эти повара, к которым он обращался, не отказались удовлетворить его просьбу — он никогда в жизни не встретил бы светловолосую Наташу.
Перевод Л. Кравченко.
СТРОПТИВЫЙ
Жаркий, безветренный августовский вечер.
Хорошо известно, что в это время года в Тбилиси остаются в основном люди, так или иначе связанные со вступительными экзаменами, да некоторые самоотверженные отцы семейств, давно отправившие жен и детей на курорт, а сами, дабы не оставлять без присмотра квартиры, отложившие отпуск на осень. Они регулярно пишут семьям грустные письма, сетуя на жару и одиночество, но в действительности, за очень редким исключением, вовсе не чувствуют себя такими несчастными, как это кажется некоторым доверчивым женам. Очень не хочется прослыть доносчиком, но что поделаешь — истина для меня превыше всего. Дело в том, что в это же самое время остаются в городе и те, чей героизм когда-нибудь оценят историки: влюбленные в женатых мужчин женщины. В жаркие летние месяцы они, будто сговорившись, дружно отказываются от своего нелегального положения и переходят на легальное. Именно они ступают теперь по натертому вами, дорогие супруги, паркету, бесстыдно пользуются вашими холодильниками и (господи, прости, но бывает и такое) до утра нежатся в ваших мягких постелях.
Не будь я лично знаком со многими представителями сильного пола, по-настоящему преданными своим семьям, давно бы поверил утверждению экзистенциалистов, будто жизнь каждого цивилизованного человека делится на две части: легальную и нелегальную, будто большинство первобытных инстинктов осталось неизменным, несмотря на все придуманные человечеством этические законы, и будто стремление вкусить от запретного плода и в наши дни по-прежнему живо в потомках Адама. И кто знает, может, именно то, что люди существуют в двух лицах, тайном и явном, как раз и делает их жизнь более интересной?
Но все же есть люди, которые своей бесхитростной и открытой жизнью вдохновляют меня на горячий спор с этим несомненно ложным тезисом буржуазной философии. Именно такие люди и сидят сейчас в тупике Давиташвили на скамейке возле покосившейся изгороди и мирно беседуют.
Их трое: бухгалтер Гриша Асатиани, жестянщик Гигла Чирадзе и ткибулец, приехавший в Тбилиси с дочерью-абитуриенткой, человек неопределенных занятий Касианэ Лукава. Касианэ уже успел поведать новым друзьям прискорбный факт провала на экзамене его дочери и принять в изобилии горячие соболезнования. Завтра Лукава собирается уезжать. А сегодня он отпустил дочь погулять в сад Ваке и сходить в кино с соседским, тоже срезавшимся на экзамене, парнем (пусть бедные дети немного развеются), а сам предпочел скоротать время за дружеской беседой с новыми приятелями.
По какому руслу потекла на этот раз нехитрая беседа этих трех независимых граждан, мой проницательный читатель поймет из следующего простодушного, но явно наболевшего вопроса, с которым обратился к собеседникам Гигла Чирадзе:
— Вот гляжу и удивляюсь. Ведь не встретишь двух одинаковых людей. У каждого свой характер, свои причуды. А почему у других не так?
— У кого это, у «других»? — спрашивает Гриша.
— Да взять хоть животных, хоть птиц. Хоть еще кого. Среди них ведь нет ни бандитов, ни хулиганов, ни аферистов.
Гигла глянул на Касианэ, погруженного в невеселые думы, которого вопрос, есть ли среди животных хулиганы, явно мало интересовал. Но чтобы как-то поддержать беседу, он все же вежливо кивал головой.
— Это только так кажется, — заговорил Гриша. — Мы их видим такими. Но ты напрасно думаешь, что животный мир более упорядочен, чем наш. У них тоже есть свои лодыри, и лицемеры, и хулиганы, и, представьте себе, даже пришибленные. Расскажу-ка я вам одну историю — и вы сами убедитесь.
Гигла и Касианэ одновременно сложили руки на коленях и приготовились слушать. Гриша помял в пальцах сигарету, отщипнул обгорелый конец, какое-то время повертел ее в руках, потом раскурил, глубоко затянулся и осторожно положил ее на край стоявшего у его ног чурбана. Такая уж у него привычка: пока окурок догорит, он сделает еще несколько затяжек. А может, и не сделает. Это зависит от того, насколько его увлечет история, которую он собирается рассказать. Вот уже более трех десятков лет собираются соседи на этой скамейке (Касианэ, как я уже говорил, здесь человек новый), и изо дня в день все повторяется примерно одинаково: сначала побеседуют немного, а потом Гриша Асатиани начинает рассказывать, а остальные слушают. Наверно, и у вас во дворе есть такой признанный рассказчик, дорогой читатель? Он обычно бывает во дворе один. А уж коли появится второй, то группа неизменно распадается на две части — и во дворе ставят еще одну скамейку. Ведь всем известно, что неистощимые на выдумку и наделенные красноречием рассказчики не очень-то жалуют друг друга.
— В каком это году у нас были трудности с мясом и с хлебом? — начал Гриша.
— В шестьдесят втором, — отозвался Гигла.
— Правильно, в шестьдесят втором. А эта история приключилась в шестьдесят четвертом. Я тогда работал на курсах кройки и шитья. Главным бухгалтером. Вы ведь знаете Вахтанга Сабадзе, моего друга? Он и сейчас работает администратором в гостинице. Так вот он и подбил меня на это дело.
В Катахвавкавы, говорит, по дешевке можно купить поросят и кур. Давай съездим в выходные, чем мы хуже других: язык тамошний знаем, чего нам бояться? И вот застряла эта мысль у меня в голове. Чего греха таить, пришлось пойти на небольшое мошенничество: выпросил я у своего начальника такой, знаете, восьмиместный автобусик, сейчас его называют «рафиком», а в то время — не помню, как называли. Теперешние, правда, получше, а тот был на очень высоких колесах, и если приходилось заворачивать на скорости выше двадцати километров — запросто мог перевернуться.
Короче говоря, тронулись мы в путь. Автомобиль, конечно, старый, расхлябанный, зато водитель нам попался опытный. Мужчина в возрасте, за шестьдесят, с огромным, во всю левую щеку, фиолетовым родимым пятном. Утром он немного запоздал, и мы уже начали нервничать. Наконец приехал, извинился за опоздание: машину, дескать, отлаживал — постарела, давно на покой пора, да вот все ездит. Когда я смущенно начал мямлить что-то о неявившихся «остальных участниках экскурсии», водитель расплылся в улыбке и лукаво подмигнул: ладно, говорит, чего уж там, я ведь прекрасно знаю, зачем вы едете в Катахвавкавы, на какую такую «экскурсию».
Гигла вот знает — не люблю я тянуть резину. Так что не буду утомлять вас подробным рассказом о том, как нас мучила, как выматывала из нас душу наша машина-развалюха. Особенно когда миновали Расанаури. Вода в радиаторе закипала, и приходилось поминутно устраивать «привалы». Это было настоящее кино. Мотор вдруг начинал чихать и кашлять, мчавшаяся во весь опор машина резко сбавляла ход, потом начинала двигаться со скоростью черепахи — и мы останавливались. Водитель вылезал из машины и, будучи человеком предусмотрительным и хорошо зная нрав машины, прикрывал лицо сварочной маской и шел открывать капот. Наденет на руку брезентовые задубевшие перчатки, поднимет крышку радиатора — и отпрянет назад, спасаясь от брызжущего во все стороны кипятка. Постепенно радиатор успокаивался, переставал плеваться и переходил на тихое бульканье. Тогда водитель, все еще не снимая маски, открывал кран, сливал кипяток, наполнял радиатор холодной минеральной водой — и мы продолжали путь. Проезжали километра полтора, от силы два — и все начиналось сначала. Но когда миновали Крестовый перевал и выехали на равнину, наш «рафик», словно одумавшись, вдруг припустил во всю прыть, и вскоре мы уже простили ему все его злые проделки.
Выехав утром, в Катахвавкавы мы прибыли лишь к одиннадцати часам ночи. В гостиницу, конечно, не попали, на что, по правде говоря, и не очень рассчитывали. Переночевали в Доме колхозника.
Едва рассвело — помчались на базар. К поросятам и тут было не подступиться: дешевле, чем за тридцатку, сторговаться было невозможно. Но куры, по сравнению с нашим базаром, действительно были дешевле. Купили мы с Вахтанги по поросенку, по пять увесистых курочек и то ли по девять, то ли по одиннадцать цыплят. Столько же, а может, чуть побольше, точно не помню, приобрел и водитель. Он, кстати, действительно оказался человеком очень предусмотрительным: заранее припас ящики для птицы и даже мешки для поросят прихватил. Но постойте, я ведь чуть не забыл о самом главном. Когда мы, уже после второго захода, выходили из рынка, Вахтанги у самых ворот приценился к пятнистому поросенку, которого держал черкес в огромной папахе и с ястребиным носом. Поросенок, висевший вниз головой, верещал, как ошпаренный, видимо, выражая таким образом яростный протест против столь бесцеремонного обращения. Черкес запросил довольно дорого, Вахтанги выразил удивление, дескать, ничего себе — и мы прошли мимо. Я думал, Вахтанги спросил просто так, из интереса — мы ведь с самого начала договорились купить по одному поросенку. Но когда мы погрузили купленную живность в машину и уже собирались ехать, Вахтанги вдруг, буркнув «Я сейчас», исчез в разинутой пасти базарных ворот. А минут через пять вернулся с визжащим, дергающимся и извивающимся у него в руках пятнистым поросенком. Мы втроем еле с ним справились: запихнули в мешок, крепко завязали и облегченно вздохнули. Водитель опустил мешок с поросенком в ящик, прикрыл ящик куском фанеры, а сверху, для верности, еще положил пару кирпичей. Вот, не утерпел, — виновато пояснил Вахтанги, — у пятнистых поросят мясо очень вкусное.
Не успели мы проехать и первый переулок, как черкесский поросенок опять поднял визг. Что это был именно он, мы и не сомневались: у него был какой-то особенный, по-женски визгливый, леденящий душу голос. Трое других поросят были все в одном ящике. Я на всякий случай заглянул в него: сидят все трое тихо, смирно, даже не хрюкают. А ведь, казалось бы, тоже такие же поросята, разве нет?
Так дело не пойдет, — говорит водитель. — Надо его утихомирить, а то сейчас карантин, и как бы у нас вообще все не отобрали, все наши покупки. — И почему-то обращается ко мне: — Сбегай-ка, — говорит, — вон в тот магазин. Может, удастся раздобыть бутылку водки. Я и побежал. Какая там водка! Даже если для лекарства понадобится — не достанешь. Да мне ведь не для себя нужно, — заискивающе улыбаюсь я продавщице, — для поросят. И вы знаете, подействовало. Ну что ж, — говорит, — вы у нас в гостях, мы обязаны вам помочь, тем более что не для себя просите. Ловко прибрала красную десятирублевку и вынесла завернутую в обрывок газеты бутылку. Мы спасены! — я, окрыленный, выбегаю из магазина — и вдруг кто-то берет меня за руку. Оборачиваюсь: стоит передо мной рослый мужчина с пышными выгоревшими усами, в костюме букле и в матросской бескозырке. Наполовину вытащив из кармана, показал корешок удостоверения и, ни больше ни меньше, приказывает следовать за ним в отделение. Ну что ты будешь делать?! Только этого мне и не хватало. Не для себя, — говорю, — купил, уважаемый, у меня печень больная, капли в рот не беру — для поросенка это. На месте во всем и разберемся, — отвечает. А я-то прекрасно знаю, что значит «разобраться на месте». Всплывет и использование в личных целях экскурсионного автобуса, и вывоз за пределы республики животных во время карантина — да мало ли еще что могут пришить! Достаю вторую десятку, выпрашиваю в магазине еще одну бутылку — для отзывчивого блюстителя порядка и, преисполненный благодарности, долго жму ему на прощание руку, выслушивая пожелания счастливого пути.
Трем спокойным поросятам дали хлебнуть по глотку, а черкесскому влили в глотку больше полбутылки. Он тупо уставился на нас сразу посоловевшими глазками, а мы опять сунули его в мешок и, обнадеженные, продолжили путь.
При выезде из Катахвавкавы нас, конечно, остановили. Подошел пожилой плотный сержант. Потребовал у водителя документы, подозрительно оглядел нас, поинтересовался, не везем ли какую-либо живность. Водитель успокоил его на этот счет и уже собрался тронуть машину с места, как вдруг наш черкесский узник как заверещит! А ну-ка, ставьте вон туда машину и выходите все трое, сейчас разберемся, что вы за птицы! — говорит сержант.
— Не погуби, родимый, — умоляем мы его. — Нас дома ждут жены и малые детки. На честно заработанные деньги купили вот поросят и кур — везем домой. Пожалей ты нас, за ради христа.
— Знаю, — отвечает, — какие вы ангелы, спекулянты бессовестные! Одурачить меня хотели?! — бушует сержант. Потом вдруг понижает голос — и мы понимаем, что создатель не совсем от нас отвернулся. Сунули ему в руки пяток цыплят. Ему показалось мало, мы добавили еще парочку — и он отпустил нас с богом.
Сказать вам, что настроение у нас после всего этого было прекрасное — будет, конечно, преувеличением, но в глубине души мы все же были довольны, что избежали серьезной опасности и сравнительно легко отделались.
Километрах в пяти от города Чикучитами стоит у дороги симпатичная голубенькая будка — пост ГАИ. Бдительный страж заметил нас издалека. Вышел нам навстречу и вежливо отдает честь. Воспитанный народ, ничего не скажешь. Поросенок, разумеется, орет вовсю. Светлоглазый инспектор заглядывает в машину, улыбается и укоризненно качает головой. Поманил к себе водителя, они скрылись в будке и там довольно долго беседовали.
— От кур отказывается, — уныло потупившись, объявил нам по возвращении водитель. — Придется отдать одного поросенка.
— Давайте отдадим черкесского, — воскликнул я. — Избавимся наконец. Его вообще не нужно было покупать.
Так и порешили.
Извлекли из мешка строптивого поросенка и вручили инспектору. По всему было видно, что дорожный страж не был новичком в подобных делах: проворно схватил поросенка за задние ноги — и бегом к будке. Но не успел водитель убрать документы и взяться за руль, как послышалось смачное ругательство — и мы, как по команде, разом повернули головы к будке. Смотрим — бежит дежурный инспектор назад, по-прежнему держа в правой руке поросенка, и на бегу бьет его сапогом по морде. Указательный палец левой руки держит во рту, а воротник — весь в крови.
— Стойте! — кричит. — Бандиты окаянные! Всучили мне бешеного поросенка! Он мне чуть палец не отхватил. Верь после этого людям! А я-то к вам по-человечески, вошел в положение…
Короче говоря, забрали мы назад нашего малахольного, а пострадавшего дежурного одарили другим, кротким поросенком с ангельски-невинными глазками.
У поворота на Брутский ледник дорога оказалась перекрытой. К нам подошли двое горцев с красными повязками на руках. Должен признать, что оказались они парнями прямодушными и честными: не стали требовать документов, а просто сунули под мышку по увесистой курочке — и отпустили нас с богом.
Было уже около семи, когда мы подъехали к Миминосчала. Вахтанги предложил перекусить. Мы напились у минерального источника, вымыли руки, умылись — и направились к хинкальной. В хинкальной было все, кроме хинкали. Тем не менее мы прекрасно поели, выкурили по сигарете и вернулись к нашему «рафику». Кровь застыла у нас в жилах от доносившихся оттуда криков и кудахтанья. Бросились открывать дверь — и глазам нашим предстало страшное зрелище. Черкесский бандит прогрыз мешок, разворотил прикрывавшие ящик фанеру и кирпичи и выбрался из ящика. Он уже успел передушить цыплят и теперь гонялся по автобусу за курами, беспомощно прыгавшими со связанными ногами. Когда нам наконец удалось усмирить разбушевавшегося поросенка, то оказалось, что три курицы и восемь цыплят уже успели испустить дух. Задушенных пришлось выбросить, а тех, которым разбойник поотрывал головы, — сложили в ящик и всю дорогу, до Квасанахури, ехали, не проронив ни слова.
Очередная дорожная встреча на въезде в Квасанахури тоже не сулила ничего хорошего. Блюстители порядка внимательно обследовали нашу машину и, кажется, сильно огорчились, не обнаружив в ней наркотиков. Потребовали у каждого документы, долго изучали их, потом засыпали нас вопросами, видимо проверяя, можем ли мы быстро, без запинки, назвать свои имена и фамилии, место работы и дату рождения. Убедившись, что особой опасности для общества мы не представляем, нас отпустили, оставив в качестве залога одного беленького, как ангелочек, поросенка.
Кому ни рассказываю эту историю — никто не верит. Вот и вы, наверно, не поверите. Вконец измученные и удрученные, въехали мы ночью в Тбилиси. От всей нашей коммерческой эпопеи остались в машине лишь черкесский поросенок и три обезглавленные курицы.
Вахтанг Сабадзе, как вы знаете, живет внизу, и мы, естественно, остановились сначала у его дома. Он, нервно потирая руки, вылез из машины и стал прощаться. — А поросенка, — говорю, — кому оставляешь? — Бери его себе, — отвечает, — мне он не нужен. — Ничего подобного, — говорю. — Ты этого поросенка купил, ты его и забирай. Сам ведь говорил, что у пятнистых поросят мясо вкуснее. — Нет, — отвечает, — ни за что не возьму, — и уходит.
Я схватил мешок с поросенком, выскочил из автобуса — и за ним. Но не успел я сделать и пяти шагов, как почувствовал, что мешок вдруг стал очень легким, увидел метнувшегося в соседнюю улицу поросенка. Он, оказывается, успел прогрызть и этот мешок и, улучив момент, дал деру. «Держи его, ребята!» — крикнул я и припустил за ним. Вахтанги побежал ему наперерез, по улице Читодзе. А водитель разогнал свой «рафик» и с ревом несется следом. Поросенок мчится впереди, мы все — за ним, не обращая внимания на сигналящие и объезжающие нас машины, на смех и шутки проснувшихся и высыпавших на балконы жителей. В последний раз заметил я этого поросенка уже возле фуникулера: он сломя голову мчался по лестнице. Потом он куда-то сгинул. Земля ли его поглотила или небо — не знаю, но мы его больше не видели. «Что вы тут ищете?» — подошел к нам, рыскающим по Мтацминде, сторож с винтовкой. «Поросенка!» — не оборачиваясь, бросил Сабадзе. «Какого поросенка?» — не отставал сторож. «Черкесского!» — скрипнув зубами, отрезал я, надеясь отбить у него охоту к дальнейшим расспросам.
Часам к трем ночи мы прекратили поиски и признали себя побежденными. Может, он и не поднимался на гору, а нырнул в подвал к какому-нибудь кустарю-одиночке? Мало ли что может взбрести ему в голову, поросенку, тем более черкесскому.
Приписка: Прочел я в прошлом году эту новеллу в доме у близких друзей. Не могу сказать, чтобы она вызвала тогда особый восторг. Но дело не в этом. Встретил я на днях одного из присутствовавших при ее чтении друзей, и он мне говорит: «Слушай, помнишь, сколько мы смеялись, когда ты читал ту новеллу о поросенке. Почему ты ее не печатаешь?»
Я тогда промолчал, но, может быть, вы, дорогой читатель, будете так добры и скажете ему при встрече, что новелла эта вовсе не о поросенке?
Перевод Л. Кравченко.
КАТАСТРОФА
Международный симпозиум акушеров закончился в четверг, семнадцатого июня. На последнем заседании докладов, разумеется, не было. Нас коротко ознакомили с итогами симпозиума и дали по три минуты на пожелания и предложения. Мне пришлось выступить от имени нашей делегации. Я говорила о параллелизме в научной работе, под конец, поблагодарив устроителей симпозиума, сказала, кажется, что было бы неплохо, если бы телевидение уделило нашему собранию больше внимания, в целях популяризации научных достижений, о которых говорилось в наших докладах. Мое выступление на итоговом заседании объяснялось моим статусом руководителя делегации. Впрочем, о каком руководстве могла идти речь, когда вся делегация состояла из трех профессоров — Герасиме Хеладзе, Самсона Рехвиашвили и меня, Ксении Миндадзе. Коллеги уступили мне портфель руководителя из уважения к моему полу. Поначалу меня веселило это мое амплуа администратора. Самсон и Герасиме (особенно покойный Герасиме) к слову и не к слову без конца вставляли: «Как нам велела наша начальница» или «Если наша начальница нам позволит» и т. д. Но по мере того как симпозиум набирал темп, я все более и более убеждалась, что роль руководителя делегации — дело нешуточное. Хозяева то и дело устраивали трехминутные совещания глав делегаций, и на деловых встречах или экскурсиях часто звучала моя фамилия.
Восемнадцатого июня в двадцать два часа ноль-ноль минут после утомительного таможенного досмотра мы сидели в самолете и прислушивались к гудению реактивных двигателей. Хоть Латрапезо и небольшой городок, но он является своеобразным центром авиалиний на Тихом океане. Международный аэропорт Латрапезо, находящийся на побережье, принадлежит к числу довольно комфортабельных аэропортов мира. Сотрудник нашего консульства Ричард Шмаковский вежливо проводил нас до самого трапа и, пока самолет не вышел на взлетную полосу, долго махал нам с открытой площадки перед зданием аэропорта, освещенного ярким светом неоновых ламп. Наш самолет «Боинг-535» принадлежал бельгийской компании. Он должен был доставить нас в Париж, в Париже мы пересаживались в самолет Аэрофлота и уже на нем летели до Москвы.
Я помню все до мельчайших подробностей. У страха глаза велики, и человек, чудом избежавший смерти, может сочинить что угодно, скажет, к примеру, что видел накануне страшный сон, что сердце сжималось в тяжелом предчувствии и он почти наверняка знал, что что-то должно случиться; что члены экипажа с обреченным видом вошли в самолет и без кровинки в лице проследовали в кабину, а стюардессы растерянно носились по салону и на все вопросы отвечали весьма двусмысленно. Ничего подобного не было. Как только я села в свое кресло, тут же сняла туфли. Они мне жали, и пока я стояла в очереди на таможенный досмотр, только о том и думала, как бы поскорее очутиться в самолете, снять туфли, опустить спинку кресла и, наконец, вздохнуть. Должна признаться, я не терплю эти привязные ремни и никогда их не застегиваю, если стюардесса на этом особо не настаивает; а то положу концы ремней на колени — как будто пристегнула. Самсон и Герасиме, сидевшие ближе к иллюминатору, обсуждали свои мужские дела. Они как будто забыли обо мне, и мне это было приятно. Люди устают друг от друга. Мы тоже, как видно, устали. Настолько привыкли друг к другу, что, кажется, потеряли интерес к общению. В конце концов, что такое человек? Несколько интересных историй, хранящихся в его памяти, несколько анекдотов и определенная манера установления контактов с людьми. В течение прошедших пятнадцати дней мы почти исчерпали себя. Утром, встречаясь за завтраком, уже знали, что Самсон всплеснет руками и воскликнет: «Наша руководительница сегодня неотразима!» — а Герасиме, сняв очки, захихикает: «Клянусь всеми святыми, такой начальницы, как у нас, в целом свете не сыщешь!» А я, как и пристало женщине, получающей комплименты, кокетливо опускалась на стул и без всякой застенчивости произносила: «То ли еще будет!»
«Боинг» вышел на взлетную полосу. Стюардесса представила нам членов экипажа и пожелала счастливого полета. Оглушительно взревели реактивные двигатели, и мы сорвались с места. В этот миг я, по обыкновению, закрываю глаза и открываю, когда грохот стихает и самолет уже в воздухе. Тогда же случилось вот что: на какую-то десятую долю секунды воцарилась тишина и, когда я уже решила, что мы, очевидно, в воздухе, удар страшной силы выбросил меня из кресла, потом снова — удар, скрежет и визг, еще один удар, и самолет покатился вперед. Если бы мне тогда сказали, что мы упали в воду, ни за что не поверила бы! Я была уверена, что мы рухнули на бетон аэропорта и самолет переломился. Не помню, как я снова очутилась в кресле. Голова горела, но первая мысль была: «Жива!» Протяжно звонил звонок. В салоне запахло горелым. Это был тот самый, предшествующий крикам и панике миг катастрофы, когда пассажиры еще не пришли в себя после первого потрясения. И тут же отчаянный женский крик разорвал зловещую тишину и как бы послужил сигналом — салон загудел, застонал, заметался. «Мы на воде!», «Тонем!» — со всех сторон раздавались крики. Я бросилась к иллюминатору, но за стеклом была беспросветная тьма. Пассажиры в панике повскакали со своих мест. Часть из них, кто был во втором салоне, бежала к кабине, а сидевшие в первых рядах первого салона пытались пробиться в хвост самолета. В центральной части лайнера началась давка. Справа от меня, в ряду девятом или десятом кто-то терзал запасную дверь, пытаясь ее открыть. «Не открывайте! Ворвется вода! Мы захлебнемся!» — взревели поблизости. «Не бойся, Ксения, не бойся, опасности уже нет!» — крикнул Самсон, сжимая мне руку, а я, потеряв дар речи от страха, что-то бормотала в ответ, пытаясь ногой нащупать свои туфли — зачем только они мне были нужны, одному богу известно.
Вдруг захрипел микрофон, и на весь самолет с оглушающей беспощадностью разнеслось: «Внимание, говорит капитан! Прекратите панику. Знайте, ваше спасение в ваших руках! Возвращайтесь на свои места! Дайте нам возможность спасти вас!» И свершилось чудо: крики и рев умолкли, пассажиры, минуту назад оравшие до хрипоты, до пены во рту, правда, не разошлись по своим местам, но, как цыплята, съежились между креслами и освободили проход. «Подпустите нас к люку! Не бойтесь, все будет в порядке!» Это стюардесса с обезумевшим лицом кричала в мегафон, протискиваясь между пассажирами. За ней следовали члены экипажа. Тогда я не обратила внимания, но сейчас эта сцена отчетливо встает передо мной: все четверо держали в руках по огромному чемодану. Так, отдавая приказы в мегафон, экипаж добрался до люка. Пассажиры старались держаться как можно ближе к нему. Вот когда началась отчаянная давка, толкотня! Каждый думал только о себе, куда только девались корректность и благовоспитанность! Пассажиры всех трех кресел, составлявших ряд, одновременно рвались вперед, без всякого стеснения вспрыгивали друг другу на спины, пытаясь первыми проскользнуть к выходу. «Что происходит! Дайте пройти друг другу!» — кричали иные для вида, пытаясь таким манером прорваться вперед. Между тем горелым пахло все сильнее, в салоне становилось дымно. Мы с Самсоном стояли, Герасиме продолжал сидеть возле иллюминатора. Он то снимал очки, то снова водружал их на нос и с таким спокойствием воспринимал царящий вокруг переполох, что я удивилась. Но это спокойствие, конечно, было внешним, я убедилась в этом, он вдруг вынул из кармана гребешок и стал расчесывать волосы.
Я заметила, как дым поплыл в ту сторону, куда ушли члены экипажа. «Открыли люк?» — спрашиваю возвышающиеся передо мной спины, но мне никто не отвечает. «Что они говорят, брать с собой личные вещи?» — женщина с растрепавшимися волосами пытается снять чемодан с багажной полки. «Ничего не берите!» — не оборачиваясь, отвечает стоящий передо мной верзила — одна сумка у него перекинута через плечо, другую он держит в руке. «Дайте пройти друг другу! Мужчины, будьте благоразумны, пропустите стариков и женщин!» — кричит в мегафон стюардесса. Она ничего не говорит о детях, не могу поклясться, но детей в самолете я и впрямь не видела ни во время посадки, ни позднее.
Неожиданно я почувствовала, что стою в воде. «Вода!» — крикнула я что было силы. Это был первый сорвавшийся с моих губ крик. «Тонем!» — послышалось со всех сторон, и пассажиры с новой энергией стали пробиваться к выходу. Неподалеку от меня какой-то лысый мужчина безуспешно пытается справиться с запасной дверью. «Прочтите инструкцию, она там же, на двери!» — кричат ему. «Все делаю по инструкции! Не открывается!» — почти плача отвечает лысый и яростно крутит красную ручку. Уже так дымно, что в двух метрах ничего не видно. «Пошли! Чего мы ждем!» — кричу я своим коллегам. «Герасиме, вставай!» — Самсон дотрагивается до плеча Герасиме, с безмятежным видом сидящего у иллюминатора, другой рукой он поддерживает меня, потому что сзади напирают. «Я не умею плавать», — говорит Герасиме. «Вставай немедленно, там что-нибудь будет, лодки или еще что!» — Самсон тянет Герасиме за рукав. «Там ничего не будет», — отвечает тот. «Вставай, Герасиме, не будем зря терять время!» «Вы идите, я выйду следом». «Мы не уйдем без тебя!» — Самсон не отпускает рукав Герасиме, но тот продолжает сидеть. «Я же сказал, идите, я приду, не бойтесь!» Между тем меня, а следом и Самсона увлекла за собой людская волна. Герасиме сделал вид, что встает, но этим и ограничился. «Батоно Герасиме! Умоляю вас, не оставайтесь!» — кричу я, вытянув шею, пытаясь повернуть к нему голову. «Идите, идите, я вас догоню!» — успокаивает он нас вслед. Вода уже почти до колен. Я с трудом передвигаюсь. На какой-то миг, кажется, теряю сознание и, когда ко мне возвращается способность соображать, обнаруживаю себя барахтающейся в воде. На самолет не смотрю, но чувствую, что-то горит. В черной воде играют красные зайчики. Вокруг вопят, кричат, шлепают по воде руками. «Ксения! Держись за эту ручку! Не отплывай!» — кричит мне Самсон. «Куда ты? Не оставляй меня одну!» — в моем голосе звучит мольба. «Я мигом! Вытащу Герасиме!» — Самсон исчезает в дымящемся зеве люка. Меня тошнит. Я отталкиваю от себя плавающие на поверхности сумки и шапки. Чувствую, как отяжелело мое платье. С большим трудом освободилась от него и тут же ощутила необычайную легкость, как если бы меня распеленали. В этот момент из полузатонувшей двери люка показывается голова Самсона. «Ксения!» — «Я здесь!» — «Он не идет!» — «Выведи его насильно!» — «Не могу оторвать от кресла! Он боится! Говорит, не умею плавать! Даже пристегнул ремень! Он погибнет, Ксения!» — «Эй — кто-нибудь! В самолете человек! Ради бога, помогите вывести его!» — вопим мы оба, но никто нас не слушает.
«Отплывите от самолета! Он может взорваться!» — кричит по-немецки мужчина со шнурком на лбу. Я заметила его еще во время посадки. На его обнаженной груди висел крест. Немец подплыл к человеку в шляпе и оторвал его от самолета. «Снимите с себя все лишнее! Не будьте детьми!» — он приказывает, как умеют приказывать немцы в момент опасности. Он подплыл и ко мне, велел отпустить ручку и довольно грубо оттолкнул от самолета. «Самсон!» — крикнула я в темноту. «Я здесь! Плыви сюда! Скорей, самолет вот-вот взорвется!» В отчаянии я забила руками по воде и таким образом отплыла от самолета на тридцать — сорок метров. Вокруг меня барахтающиеся тела, крики, плач, мольба, переклики на разных языках. Такое впечатление, будто горит не самолет, а вода вокруг. Самолет, покачиваясь, тонет на наших глазах. «Самсон, а Герасиме, Самсон?!» — меня душат рыдания. «Я был бессилен! Он принял решение. Если бы ты знала, как я умолял не делать этого, пытался вытащить силком, но он вцепился в ремень, я не смог его оторвать. Уходи, говорит, я предпочитаю остаться, не заставляй меня кричать, и без того сердце болит». Я слышу слезы в голосе Самсона и чувствую, ему хочется реветь, чтобы хоть как-то облегчить душу.
А океан горит. Вода пахнет бензином. Совершенно отчетливо вдруг осознаю, как она холодна и неприятна. Мы плывем шумно, пыхтя и стеная. Вокруг меня — освещенные пламенем лица. «Самсон!» — кричу я время от времени. «Я здесь, ты не устала?!» — «Нет, я выдержу, не бойся!» — «Если устанешь, обопрись о мое плечо!» — «Пока плыву, ты только не пропадай, держись возле меня!» — «Не волнуйся, я ведь совсем рядом!»
Немного как будто успокаиваюсь. Руки и ноги еще подчиняются мне, сил достаточно. Немного болит голова, но ничего, терпимо. «Остановитесь! Мы плывем не в ту сторону! Берег там!» Это опять тот немец. «Где берег, где? Неужели нам не придут на помощь?!» — «Плывите за мной!» В такие минуты обязательно находится человек, берущий на себя роль вожака, и все мы, оставшиеся в живых, должны быть благодарны за это тому немцу. «Откуда вы знаете, что берег с этой стороны?!» — «Как далеко мы от берега?! Хватит ли у нас сил добраться до него?!» — раздаются скептические голоса, но командирские призывы немца заставляют нас подчиниться. «Не время сейчас объясняться!» — кричит немец, «дельфином» рассекая воду. Его красивая голова со шнурком на лбу то и дело мелькает на поверхности воды.
Если до сих пор наши действия были беспорядочны и сумбурны, то теперь они, кажется, вполне организованны. Мы охвачены единым порывом — спастись! — и это объединило нас, сколотило в одну группу, подчинило одному-единственному желанию. Несмотря на поминутные предостережения немца: «Не спешите! Плывите медленно, с расстановкой, впереди у нас долгий путь!» — мы стараемся не отставать от него и плыть по возможности в первых рядах. Почему-то я уверена, что оказаться в хвосте равносильно смерти. «Помогите, больше не могу!» — раздается время от времени чей-то отчаянный крик. На миг мы оборачиваемся на него, прислушиваемся и, как если бы этот вопль о помощи не имел к нам никакого отношения, продолжаем плыть дальше, поспешно удаляясь от тонущего, как от прокаженного. Позади нас пылает огонь. К счастью, самолет не взорвался по той причине, что пилоты, как мы узнали позднее, успели открыть бак с бензином, а когда самолет упал в воду, прокатить его немного вперед. Поэтому и казалось, что горит не самолет, а океан.
Вас не интересует, почему мы не воспользовались спасательными жилетами, которые должны были находиться под креслами «Боинга»? Представьте себе, мы и не вспомнили о них. Другие, может быть, и искали эти жилеты, но мы трое начисто забыли о них. На другой день после катастрофы я узнала, что именно на нашем «Боинге» жилетов не было (знак судьбы!), нам даже объяснили почему: наш самолет вообще должен был лететь в другом направлении, над сушей (то есть своим обычным маршрутом), но в последний момент компания пошла на риск и отправила лайнер без спасательных жилетов по маршруту «Латрапезо — Париж». Может быть, действительно так и было. Теперь уже не проверишь.
«Отдыхаем! Ложитесь на спины, опустите головы в воду, прогнитесь, раскиньте руки, дышите глубоко!» — это опять немец. Все беспрекословно подчиняются ему. После катастрофы прошло, наверно, пятнадцать минут. А мне кажется, я уже вечность в воде. Под влиянием пережитого страха я — совершенно другой человек. Куда только девалась моя способность мыслить и рассуждать, без которой я и шагу не сделала в своей сознательной жизни. В данный момент я — покорнейший солдат, беспрекословно подчиняющийся приказу, лишь бы только выжить.
Я лежу на спине и смотрю в небо. Оно такое же черное и местами мерцающее, как и океан. И по нему как будто временами пробегает рябь, которая как бы хочет стереть звезды.
Шум воды и грохот мотора выводят меня из раздумья. Уши у меня в воде, и потому я услышала шум мотора гораздо раньше, чем увидела катер. Снопы яркого света прорезали мглу. Это прожектора! Нас ищут! Наконец свет нащупал нас и уже не меняет направления, пока два катера не подошли к нам вплотную. «Спасены!» От охватившего меня счастья сердце готово выскочить из груди. Но никто не окликнул нас с катера, во всяком случае, я не слышала. Наконец спустили веревочные лестницы, и тогда началась толкотня. Каждый стремился раньше других ухватиться за лестницу, первым поставить ногу на заветную ступеньку, поскорее вырваться из черной пасти океана. Однако подняться по лестнице оказалось гораздо труднее, чем я ожидала, и если бы не Самсон, мне вряд ли удалось бы удержаться на ней. Как только я вытащила ноги из воды и поставила их на ступень, почувствовала страшную усталость и тяжесть во всем теле. Уже не помню, как очутилась у перил катера, измученная, изнуренная. Я слышала только гул мотора, больше ничего.
На берегу мы попали в очередную передрягу. Пока подошли машины «скорой помощи», журналисты и фотокорреспонденты вымотали всю душу. И без того едва державшихся на ногах, они хватали нас за руки, не отпускали, засыпали вопросами: о чем вы думали, что испытали в первые минуты катастрофы и т. д. В ответ я несла околесицу и, вцепившись в руку Самсона, не чуя под собою ног, разрывала круг журналистов и зевак.
Нас привезли в клинику, и, очутившись в белом, ярко освещенном зале, я осознала, что почти раздета. На мне был нейлоновый бюстгальтер и голубая рубашка, я так и стояла в недлинном ряду спасшихся, пока какая-то добрая душа не накинула на меня белый халат.
За семью столами сидели люди в белом. За первым заполняли анкеты, у следующего мерили давление, за третьим задавали вопросы: не ушибли ли голову, на что жалуетесь и т. д. Пострадавших тут же помещали в стационар. Нас с Самсоном нашли целыми и невредимыми и отправили назад, в машину «скорой помощи». Возле машины крутился белобровый репортер, который сообщил нам, что из ста двадцати семи пассажиров спаслись только сорок шесть, девятнадцать из них госпитализированы, так что мы принадлежим к числу двадцати семи счастливцев, отделавшихся легким испугом.
Нас привезли в небольшую гостиницу «Бонасера» на окраине города и поместили в двухместный номер, обставленный недорогой мебелью. По правде говоря, только сейчас я вспомнила, что я — женщина, и даже хотела попросить хозяйку устроить нас в разных номерах (все-таки Самсон мне не муж!), но потом махнула рукой — это было бы слишком большой роскошью для доставленных на машине «скорой помощи» необычных, почти голых клиентов.
В номере телефона не оказалось, и, поскольку я была «одета» более прилично, чем Самсон, я рискнула выйти из комнаты и связаться с нашим консульством.
Мне стоило большого труда разузнать номер. Наконец на том конце провода сняли трубку.
— Слушаю, — произнес женский голос.
— Попросите, пожалуйста, Ричарда Шмаковского.
— Ричард Шмаковский давно отдыхает. У вас что, нет часов?
Я чуть-чуть опустила трубку и взглянула на стенные электронные часы. Они показывали без двух минут двенадцать.
— Дайте мне, пожалуйста, номер его домашнего телефона.
— Я не имею права давать номера домашних телефонов сотрудников консульства. Ничем не могу вам помочь. До свиданья.
— Не кладите трубку! С кем я имею честь разговаривать?
— Я — дежурная.
— Самолет потерпел катастрофу.
— Какой самолет? — по голосу было видно, что это известие ничуть не озадачило ее.
— Мы — участники симпозиума акушеров. Сегодня улетали в Париж. Шмаковский проводил нас, но произошла авиационная катастрофа. Один член нашей делегации погиб. Осталось нас двое. Сейчас мы находимся в гостинице «Бонасера» без денег, без документов, без одежды. — Я чуть было не добавила: и без ужина, но посчитала это лишним.
— В какой вы гостинице?
— «Бонасера».
— Здесь сейчас никого нет. Можете позвонить через час?
— Имеете ли вы представление, что такое катастрофа?! — крикнула я не своим голосом.
— Успокойтесь, я все прекрасно понимаю. Я — дежурная, и только. Что я могу? Сообщу кому следует. Сможете позвонить через час.
— Немедленно дайте мне телефон квартиры Шмаковского!
— Мне кажется, я ясно сказала, у меня нет на это права…
Сотрудник консульства Ричард Шмаковский пришел на другой день в половине десятого утра.
Перевод Л. Татишвили.
БИРЖА
Биржи в том смысле, как понимают это слово на Трафальгарской площади, у нас не существует. «Биржевиком» в городе Куркантия называют бездельника и вертопраха. В Куркантии дозволена только биржа по купле-продаже стекла, и то полулегально. Поскольку в Куркантии всеми операциями между частными лицами и учреждениями занимается государство — и занимается с соблюдением законности и по-деловому, и, естественно, ему не по нраву это пульсирующее по частным каналам туманное собрание и оно всячески старается помешать его функционированию. Несмотря на это, часть не очень сознательных (к сожалению, они составляют большую часть общества) предпочитает решать свои дела через личные контакты, а не через государственный департамент. Они считают, что существуют проблемы, для решения которых нет необходимости обращаться к государству. И хотя число таких проблем день ото дня уменьшается, на полулегальных биржах все еще толпится народ.
С чего это я так часто повторяю слово «полулегальное»? Дело в тем, что власти Куркантии официально не запрещают биржу по купле-продаже. Более того, некоторые официальные лица считают ее даже полезной, «нам-то что, пусть люди встречаются, говорят, беседуют, затевают дела, все равно без нашей печати их беседы не имеют силы, и в конце концов они обратятся к нам».
Большинство же людей считают биржу чуждым, нездоровым явлением для нашего общества — небезосновательно, в чем вы убедитесь ниже.
На бирже крутятся люди всех мастей. Ходят бледнолицые, разбогатевшие за счет нетрудовых доходов уважаемые мертвецы, которые, почувствовав грозящую им опасность, пытаются спасти свой капитал и потому ищут новые квартиры, в которые могут вложить крупную сумму. Плотно сжав губы, твердые в своем решении, ходят убедившиеся в ничтожестве своих мужей жены, которые в большинстве случаев предлагают трехкомнатную квартиру за две однокомнатные. Родители водят за руку студентов-первокурсников или абитуриентов «со стажем» и ищут в центре недорогую комнату с не очень-то суровой хозяйкой. Кошачьим сторожким шагом ступают мужчины, имеющие любовниц, подыскивая квартиру с горячей водой и отдельным входом. Такую квартиру они называют «рабочей» и уверяют тех, кто сдает, что будут максимально экономить электроэнергию.
Совершенно естественно, что там, где собираются люди, встречается всевозможное жулье.
Многие печально закончившиеся для доверчивых девушек и наивных покупателей квартир эпизоды сдачи-найма и купли-продажи квартир стали позорным пятном в истории биржи Куркантии. Вот почему хозяевам города так не нравится биржа и почему они пытаются внушить желающим получше устроить свою жизнь, что единственная возможность урегулирования квартирного (да и не только квартирного) вопроса зависит от соответствующих отделов исполкома. Этим благородным желанием и руководствуется отделение внутренних дел городского Совета, когда заставляет пребывающую в экстазе биржу то и дело менять свое местонахождение. От центральных площадей и скверов, постепенно, угрозами и увещеваниями они вынудили биржу перемещаться к окраинам. И чем чаще меняет биржа места, тем сильнее сплачиваются биржевики. И самое удивительное — без помощи газет и телевидения все тотчас узнают о новом местонахождении биржи и по свидетельству энтузиастов весьма необходимое дело приобретения и размена квартир не прекращается ни на минуту.
28 августа 1986 года ровно в двенадцать часов, когда у поворота на Горакана, на маленькой площади в конце улицы Буджиашвили возобновила работу переместившаяся сюда биржа, когда дело вновь наладилось, как часы, в дышащей зноем тишине раздался четкий и громкий голос: «Товарищи! Митинг, посвященный пятидесятилетию международного дня младенца и инвалидов, объявляется открытым!»
Биржевики все как один подняли головы и взглянули туда, откуда доносился голос. В самом начале площади (с таким же успехом место это можно назвать концом площади) на наспех сколоченной трибуне перед микрофоном стоял с бумагой в руке низкий мужчина с короткой шеей, а за ним, замершие по стойке «смирно» — словно подобранные для контраста, — несколько рослых детин при галстуках и не менее рослая девушка в белой кофте. В другое время и в другом месте граждане Куркантии не раз наблюдали подобную картину, но удивление собравшихся на бирже людей на сей раз вызывали две вещи. Как, при таком скопище людей, никто не заметил, когда соорудили трибуну, установили микрофон и почему никто не попытался выйти из кольца телевизионных машин вокруг площади? И разве время митинговать, когда граждане Куркантии, как они думали, были заняты более серьезным и практическим делом?
Я заметил удивление жителей Куркантии, что же касается телевизионщиков или же журналистов, они даже словом не обмолвились об этом. Мужчина с короткой шеей произнес речь, затем стоящие за ним поочередно подошли к микрофону и внесли свою лепту в разрешение мировых проблем защиты младенцев и инвалидов. Во время митинга не раз раздавались аплодисменты и наметанный глаз журналистов не заметил, что после митинга люди не спешили разойтись, а спустя некоторое время как ни в чем не бывало включились в привычную биржевую сутолоку.
Референт профсоюза культработников Ташаурского района Куркантии Чино Кикнадзе сидел в своем небольшом кабинете и ждал телефонного звонка. «Если я не позвоню тебе от половины шестого до шести, то в шесть жди меня на улице», — предупредил его шурин еще утром. Было без пяти минут шесть, а шурин все не звонил. Чтоб читатель не подумал ничего зазорного, сразу же оговорюсь, что Чино и его шурин — арматурщик Джамбул Васадзе собирались пойти на стадион, чтоб поболеть за «Апапа» — единственного и постоянного кандидата во вторую лигу. Чино, двадцати восьми лет от роду, высокий, чернобровый, с озорными глазами и с надтреснутым голосом, был зоотехником по образованию. Три года он преподавал в школе труд, но неделю тому назад получил повышение — его перевели на работу в профсоюз. Стало быть, перед ним — чрезвычайно интересный, исполненный драматизма путь, так пожелаем ему удачи, если, конечно, уважаемый читатель не против.
Чино прибрал стол, положил в карман пачку сигарет и газовую зажигалку и собирался выйти, как зазвонил телефон. Если бы Чино на две минуты раньше вышел из своей комнаты, он не услышал бы звонка и продуктивное творчество автора этой новеллы не досчиталось бы этой одной новеллы (что, возможно, и на руку уставшему читателю).
— Иду! — крикнул в трубку Кикнадзе. Но звонил не Джамбул, и, естественно, слова «иду!» звонившему было непонятно.
— Вы Кикнадзе? — Голос оказался незнакомым. — Алло, я Гегучадзе, из управления! Плохо слышно, позвоните мне тридцать пять — ноль три — семнадцать.
Чино позвонил. Тем временем он вспомнил, что, когда неделю назад он пришел в управление на утверждение, ему пришлось долго ждать в коридоре. Тогда он и заметил на одной из дверей табличку с фамилиями «Геланития, Гегучадзе, Сванидзе».
— Я слушаю вас.
— Вы работаете вместо Цевадзе, если я не ошибаюсь?
— Да…
— Алло, Кикнадзе, слушай меня внимательно! Срочное задание — завтра в твоем районе необходимо провести митинг. Ты ответственен за проведение этого мероприятия.
— Что за митинг?
— По защите младенцев и инвалидов… А тебе не всё равно какой?! Начало в двенадцать часов.
— Мне надо будет выступить?
— Кикнадзе… — в телефоне послышался смешок. — В этом нет никакой необходимости. Выступающие уже предупреждены. На тебя возложена только организация митинга. Одним словом, надо собрать людей.
— Куда именно?
— Я думаю, лучше всего перед водоканалтрестом, там, где сворачивают автобусы… Ну, дело за тобой, смотри не тушуйся!.. Немедленно обзвони все учреждения и предупреди, кого надо.
— Постараюсь…
— Что ты сказал? — В трубке снова послышался смешок, но на сей раз несколько сдержанный. — «Постараюсь» — это не то слово, которое требуется на работе, неужто не уразумел этого. Не «постараюсь», а должен выполнить, чего бы это тебе не стоило. Позвони мне завтра утром. И не откладывай, начни немедленно, иначе не успеешь.
Чино, разумеется, не пошел на футбол. Он встретился с шурином, рассказал ему обо всем и вернулся в кабинет.
Скажи ему кто другой, что нелегко организовать митинг, он не поверил бы. Положив перед собой список учреждений, он стал звонить по всем номерам. Но люди уже разошлись, а те, кто оказался на месте, не изъявили желания присутствовать на митинге. «Нам не до митингов, я не могу отрывать людей от дела», — резко отвечал один из руководителей, другой умолял по-дружески сказать в управлении, что до него не дозвонились — у него вообще-то людей — кот наплакал, а из них — половина в отпуске…
Наутро все повторилось, и Чино впал в отчаяние — время приближалось к девяти, а он мог представить человек семнадцать, не более (да и те были под сомнением). О каком митинге может идти речь, кого будут снимать фоторепортеры? Чино ничего не оставалось, как прийти к Гегучадзе и признаться:
— Не могу собрать людей…
— Что? — возмутился Гегучадзе. — И ты говоришь об этом за два часа до митинга? Ты ведь знаешь, что будет нам за это?! Ты обязан обеспечить людей любой ценой, слышишь, любой ценой! Обойди всех самолично! Не погуби себя, да и меня тоже! — Приказ, угроза, мольба — все было в голосе Гегучадзе.
Чино вышел из управления, пересек улицу и сел в первое попавшееся такси. Когда он ехал по Сарецхельскому спуску, он думал о том, что на всем белом свете нет человека несчастнее него. «Надо же устраивать этот митинг именно сегодня и именно в двенадцать часов. Неужели нельзя было всех оповестить заблаговременно, хотя бы за три дня до митинга. Можно подумать, что от того, что проведем мы митинг или нет, зависит судьба младенцев и инвалидов. Вчера, к примеру, не было никакого митинга, так ведь мир не перевернулся от этого? Знаю, как все это делается… Взбрела идея кому-то в голову, кто повыше, потом пошли звонки — все ниже и ниже по инстанции и наконец добрели до меня. Что же мне делать теперь? Куда деваться?..» И тут он заметил у поворота в конце улицы Буджиашвили толпу людей и поинтересовался у водителя такси, что там происходит. «Позавчера сюда перенесли биржу. Гоняют несчастных с одного места в другое, уж прикрыли бы эту биржу, и дело с концом», — проворчал водитель.
Нет такого положения, из которого нельзя найти выход. Референту пришла в голову отчаянная идея. Он попросил остановить такси у первого же телефона-автомата и позвонил Гегучадзе: «Если вы не против, митинг устроим у поворота в Горкана, в конце улицы Буджиашвили…»
Недолго поколебавшись, Гегучадзе согласился.
Остальное читателю уже известно.
Перевод В. Зининой.
ИДУЩИЙ ВПЕРЕДИ…
— Почему я улыбнулся, как ты думаешь? А потому, братец ты мой, что не смог скрыть своей радости. Когда ты пришел, сел передо мной на табурет и умоляюще произнес: «Растерялся я, дядя Эпифанэ, помоги, научи, как жить», — я, признаться, испытал чувство гордости: хоть одному да понадобился мой жизненный опыт. Не скрою, с такой просьбой ко мне еще никто не обращался. Все так усердно, так уверенно обделывают свои дела, что убеждаешься: каждый знает, с какой стороны подступиться к колесу жизни и как крутить его.
Я разменял уже семьдесят весен и оставшиеся считанные дни, стало быть, должен беречь как зеницу ока. Жил я как мог, правда, особыми успехами не похвастаюсь, зато и плохого обо мне никто не скажет. Бездельником и лодырем не был и теперь не хочу бездействовать, лежать бездвижно, как шелкопряд в коконе. Пока что я сам зарабатываю себе на кусок хлеба и презираю нытиков. Пришло время моей старости, и никто в этом не виноват. Так что не имею я право ложиться бременем на плечи других. И уйду из жизни тихо, родных и близких я уже предупредил: не надо рыдать над моим гробом, не то вскочу и огрею всех палкой по одному месту. Все мы — гости на этой земле, свою пашню я уже пропахал, землей был и в землю обращусь. Посадят на моей могиле розовый куст или взойдут на ней плевелы — ничто не изменится в этом подлунном мире. Все, закончилось мое скитание, теперь — черед другого.
Скажи, разве это не чудо — сколько людей от сотворения мира до наших дней перебывало на земле, жизнь одного ничуть не походила на жизнь другого. Природа отвела каждому свою тропинку. И чья фантазия повыдумала столько разных вариантов жизней? Ты задумывался над этим? Вот ты спрашиваешь у меня совета, как жить, а я ведь знаю, что ты спрашиваешь так, без надобности, просто ради того, чтоб подбодрить меня, чтобы я думал, что я еще нужен кому-то… Ты ведь знаешь не хуже моего, что мои жизненные уроки тебе не пригодятся, тебе жить в другое время, средь других людей, идти по другому пути. Будь это не так, жизнь потеряла бы всякий интерес. На огромной шахматной доске планеты у каждого из нас — шахматных фигур — свой ход, у каждого — своя судьба.
Не дай бог испытать тебе то, что пришлось испытать мне, а хорошего пусть будет в обилии, как песка — в пустыне. Я сказал, что жить тебе в другое время, однако не думай, что тебя ждет розовый дождь и колесо судьбы будет крутиться так, как ему положено. Далеко, ох как далеко до этого! Люди все еще не научились жить. Ни раньше не умели, ни сейчас. Человек тридцатого столетия, я уверен, снисходительно улыбнется над тем, что нас волновало, печалило или же радовало. Странное было время, скажет он, как же у них были устроены мозги, если они могли вытворять такое? Не думаю, что человек будущего будет намного умнее нас, но хочу верить, что он не будет столь искусен в каверзах, в желании напакостить другому. Да, да, мы жили бы гораздо спокойнее и лучше (да будут продлены твои дни), если бы больше дорожили друг другом. Мне порой кажется, что это только наше время так безрассудно, а в другие эпохи люди отлично знали, почему они появились на свет и что им следует делать. Но нет, не было так — никогда не знали и сегодня не знают, хотя человек никогда не был так умен и опытен, как в наше время. Когда же окидываю мысленным взором свой жизненный путь, не вижу ничего, кроме обещаний и ожиданий. Много воды утекло, но я так и не дождался того, чего ждал все эти годы. Сегодня мне кажется (может, в этом и старость виновата), что мы пятимся вспять. Возможно, я требовал от жизни больше, чем мне положено, возможно, человек родился только для того, чтоб мучиться, ждать впустую, не знаю?.. Не дай тебе бог, когда доживешь до моих лет, подумать, что зря тянул свои дни, что должен был идти в жизни совсем другим путем.
Ты не можешь представить себе, как мы с друзьями начинали! Никто ни в чем не сомневался, не было на белом свете такого дела, которое не было бы нам под силу. Так мы, во всяком случае, думали. Наверное, так и должно быть, любой молодой человек, начинающий жизнь, должен думать именно так… Но вот гляжу я сегодня на вас — вы другие, поспокойнее, что ли? Может быть, это и к лучшему, а может, и нет, я ведь уже сказал, что вконец растерялся, не пойму, что к чему в этой жизни. Но одно уразумел я в жизненном водовороте — незачем всем восторгаться. Не раз мы что-то затевали, на копеечные дела мобилизовывали людей, а вскоре выяснялось, что действовали не совсем правильно. Для истории, как бы мы ни пыжились, все это — лишь одна строка, не более. Вот историк впоследствии и выносит нам приговор, как человеку, словно слепая курица кидающемуся во все стороны.
Что касается меня… Моя жизнь прошла, но стоя на краю могилы, я должен спросить кого-то — в чем я провинился, почему с самого детства моя жизнь пошла вкривь и вкось, как мне жить остатки дней, когда от зряшных ожиданий ноет душа? Кто мне что ответит?
Быть может, я никчемный человек, а к другим судьба была милостива? Не знаю, друг мой, не знаю, я ни с кем не говорил об этом. Всю свою сознательную жизнь я боялся кого-то, мне постоянно казалось, что кто-то следит за мной. Порой у меня буквально горела спина от чьего-то пристального взора, и я оглядывался в надежде увидеть глаза человека, глядящего мне вослед. Скорее всего, это был напрасный страх, ведь известное дело — обжегшись на молоке, дуешь на воду, и все-таки сегодня, с расстояния прожитых лет, мне кажется, что я спасся. Откуда у меня это ощущение, не могу сказать. От чего мне надо было спасаться, и сам не знаю, но уверяю тебя, я должен быть благодарен судьбе. Ведь было время, когда и не таких, как я, драли за уши. Может, я был мелкой сошкой или же у меня были маленькие уши? Вспоминая, что пришлось пережить кое-кому, я, признаться, не могу не испытывать чувства радости — ускользнул я все-таки из рук Немезиды.
Дай бог тебе прожить вдвое больше, чем прожил я, но должен похвастать — не могу не испытывать удовлетворения от того, что я уже прожил семьдесят лет. Моя песенка, как говорится, уже спета, вот почему сегодня я не стремлюсь быть в гуще событий, хотя и пассивным наблюдателем быть не хочется. Теперь уж меня не так легко сбить с толку, усыпить пышными фразами. Да… было время, когда я всему верил. Думаешь, я доволен тем, что и мне пришлось кое-что испытать и теперь мои ноги, словно кандалами, закованы жизненным опытом? Не верь, что существует мудрость старости, все это выдумки. Во-первых, всевышний, видать, надежно спрятал ключи от праведной жизни и мы понапрасну ищем их, во-вторых, кто знает, что хорошо, а что плохо на этой земле. Может то, что сегодня мне кажется истиной, помнишь, я тебе уже говорил, покажется смешным человеку тридцатого века. И знаешь, дружок, не нужен мне ум, который запретит мне жаворонком взлететь в небо, а будет учить лишь ползать по земле.
Но коли ты пришел ко мне за советом, я должен научить тебя уму-разуму по-своему, как умею. Сам я, разумеется, не жил так, как нужно. Сегодняшняя моя мудрость взращена на моих ошибках. Лишь когда жизнь щелкала меня по носу, я находил выход, но бывало уже поздно. И поскольку, как говорится, идущий впереди прокладывает дорогу идущим вослед, дам тебе несколько советов, дабы ты не совершал моих ошибок. Ты сделаешь еще немало своих, так что незачем тебе повторять мои.
Так вот, слушай.
На работе прикинься тихоней, туго соображающим, избегай выступлений — слишком активных недолюбливают. И как бы тебе ни хотелось высказаться, подави в себе это желание, умолчи, пусть говорят другие, а ты поперек батьки в пекло не лезь. Вот когда у всех будут отваливаться руки от хлопания, ты последуй их примеру.
Не стремись выдавать себя за хорошего работника. Стоит тебе отличиться, как даже закадычные друзья станут твоими врагами. Не спеши, не хватайся рьяно за дело. Знай, если энергично возьмешься за дело, одни назовут тебя карьеристом, а начальство, будь уверен, постарается законсервировать твое пребывание на должности, никто не подумает выдвинуть тебя — ни к чему это, ты ведь и на старой работаешь как надо. Если хочешь продвинуться по служебной лестнице, тяни резину, волынь, — и тебя непременно приметят.
Перед начальством прикидывайся дурачком. Знай, никто не любит того, кто умнее. Вообще, старайся не выделяться, запомни, если где-то во время застолья ты произнесешь самый лучший тост или споешь лучше других, то двум-трем девчонкам ты, может быть, и приглянешься, зато остальные тебя возненавидят — даже брат, бывает, завидует брату.
Кто бы ни спросил тебя, как ты живешь, не спеши ответить, что хорошо, если даже тебе и в самом деле живется лучше других. Скажи, что беспокоит тебя то или другое, на худой конец, ответь «так себе». Знай, что интересуются твоим здоровьем только ради приличия, и когда ты говоришь, что живешь хорошо, поверь мне, твоему собеседнику это не доставляет особой радости, ему куда приятнее, когда тебе трудно живется. Тогда ты такой же, как и другие, ведь всех на земле что-нибудь да беспокоит. Не спеши делиться с кем бы то ни было своей радостью или успехом. Даже тот, кто будет шумно радоваться вместе с тобой, в душе подумает: «Надо же, чтоб повезло ему, а не мне». А с тобой такого не бывает, ну-ка подумай?
Что касается твоих тайн, не дай бог, чтоб ты поведал о них кому-нибудь! Сегодня не найти человека, способного хранить тайну другого. Один из трех, даже самых близких тебе людей, непременно проговорится, притом, учти, не случайно, а намеренно.
Не умножай ни врагов, ни друзей, враги сожрут тебя, а многочисленным друзьям надо отдавать все тепло своего сердца. Даже кровному врагу не дай почувствовать, что знаешь, кто он, напротив, улыбайся, усыпи его бдительность, притворись, что ты все забыл и простил и в последнее время даже полюбил и зауважал его. Вообще-то к врагу и надо относиться как к врагу, но ударить надо тогда, когда ты твердо уверен, что добьешь его. Не стоит всю жизнь тратить на то, чтобы пощипывать, покусывать своего врага, это обойдется тебе слишком дорого, лучше действовать наверняка, покончить с ним раз и навсегда.
Никогда не чувствуй себя в безопасности. У людей руки длинные, доберутся до тебя и в старости. Если в молодости с тобой не справятся, схватят, когда станешь немощен, и заставят замаливать грехи. И мертвый не обретешь ты покоя, сам знаешь, скольких откапывали и пригвождали к позорному столбу, так что старайся в жизни никого не обижать, чтобы не наживать себе врагов.
Люди все видят. Даже в дремучем лесу и глубокой ночью — ты не один. Потому в темноте не делай ничего такого, отчего тебе будет стыдно днем. Не забывай — кто-то неусыпно следит за тобой — и днем и ночью. Слышал я в детстве притчу о двух братьях, косивших сено на вершине горы. Дело происходило в давние времена, при царе Николае. Вокруг, на расстоянии двадцати километров — ни души. Один брат возьми да спроси шепотом у другого: «Что говорят, когда же наконец скинут Николая?» Как ты думаешь, что последовало за этим? На другой день косил сено только один брат. Так-то вот…
Старайся лишний раз не попадаться на глаза соседям. Даже самый близкий сосед рано или поздно будет сводить с тобой счеты. Поэтому не стоит особенно привечать соседей, вводить их в курс твоих дел. Более того, покупая дорогую вещь, постарайся занести ее в дом ночью, чтоб соседи не видели. Хоть один из них да подумает: на какие деньги ты приобрел такую дорогую вещицу. Что касается зависти, даже самой светлой, если такая, конечно, существует, то будь уверен, все тебе будут завидовать. Нет на земле человека, способного подумать: как хорошо, что такой прекрасной вещи у меня нет, зато есть у моего соседа.
Разговаривая с кем-либо, притворись, что только с ним ты откровенен и искренен. В самом же деле не раскрывай душу ни перед кем, всегда оставляй пути для отступления. Откровенный человек сегодня кажется если не сумасшедшим, то во всяком случае наивным. На работе ни с кем не сближайся, бойся прослыть «его человеком». Во-первых, тебя возненавидят другие и будут стараться очернить, оклеветать тебя, обвинить во всевозможных грехах. Человек существо слабое, и в конце концов твой бывший покровитель отвернется от тебя. И окажешься ты в роли летучей мыши — в небе ты не птица, а на земле не мышь. Дружба с начальством чревата опасностью еще и потому, что как только он потеряет кресло, следом постараются избавиться и от тебя. Поверь, нет ничего лучше, чем прослыть нелюдимым, необщительным человеком.
Наверняка встретится тебе, в жизни женщина, к которой ты будешь неравнодушен. Никогда не афишируй свою связь с красивой женщиной. Это слабаки хвастают своей связью. Не забывай, что громкая связь всегда плохо кончается. Зависть погубит обоих. Учти, ни один из смертных не обрадуется твоему счастью. Разве что один из ста отнесется к вам доброжелательно, ведь и женщины, и мужчины одинаково завидуют влюбленным.
Помни, помни ежеминутно о дурном глазе!
В городе свирепствовал ноябрьский холодный ветер.
Лексо шел к троллейбусной остановке. Посмотрев вправо, он подумал, что если троллейбус виден невдалеке, он подождет, а если нет, то пойдет дальше пешком.
На улице всего две недели назад повесили знак, предупреждающий об одностороннем движении. Водители тормозят, оглядываясь на знак, недовольно ворчат и разворачиваются.
Настроение у Лексо, после назиданий Эпифанэ, вконец испортилось. «Зря только я навестил его… Надо же, как он напуган, а я считал его человеком… Наверное, он и в молодости был такой же, не думаю, чтоб жизнь его так пообломала. Что же ему пришлось претерпеть, если он способен учить только ползать — и ничему более…»
Перед институтом на асфальте копошились голуби. Когда к ним приближался человек, они, шумно взмахнув крыльями, взлетали и садились на парапет. Стоило человеку пройти, как голуби снова опускались на асфальт.
Прохожий, занятый своими мыслями и не замечающий голубей, вздрагивал, когда голуби взлетали, удивленно оглядывался и почему-то доставал руки из кармана.
Лексо замедлил шаг, прошел чуть-чуть правее, стараясь осторожно пройти по краю тротуара, — он не хотел пугать голубей. Когда он приблизился к ним на два-три шага, голуби все же взлетели. И только один не тронулся с места, лишь повернул голову, оглядел Лексо и как ни в чем не бывало занялся своим делом.
Никто не знает, подумал ли Лексо в эту минуту, что этот голубь самый умный из голубей. Но на душе у него потеплело. Если бы его спросили почему, он, вероятно, не смог бы ответить.
Перевод А. Златкина.
КОШМАР
Это был недобрый год, даже слишком недобрый. В городе участились взрывы и пожары. Они случались и в других местах, но не так часто. Люди выглядели оробевшими и встревоженными, и причин для страха у них было достаточно: по городу разгуливал какой-то богом проклятый злодей Чего ему надо, к чему он стремится, понять было невозможно. То он начинял аммоналом газетный киоск, то взрывал какой-нибудь стенд в парке, а однажды взлетел на воздух плетеный навес автобусной остановки. Людям, однако, зла не чинил. Взрывы происходили тогда (будь это библиотека или будка с газировкой), когда поблизости не было ни души. Когда ему надоедали взрывы, он принимался устраивать пожары. На протяжении трех весенних месяцев в городе восемь раз вспыхивали пожары. Усмотреть в них какой-либо смысл или последовательность не удавалось. Горела то нотариальная контора, то шахматный клуб. Было очевидно, что бандой злоумышленников движет не столько стремление причинить городу материальный ущерб, сколько ненависть и желание кого-то запугать. Неизвестно, удалось ли им запугать намеченную жертву, но бесспорно то, что мы, обычные горожане, погрузились в довольно неприятные раздумья. Такой панике мы не поддавались даже во время войны. И без того некрепкий, тревожный сон постоянно прерывается пожарными колоколами и воем милицейских сирен. Ты бессилен. Безоружный и ни в чем не виновный, ты живешь в постоянном страхе, что у тебя перед носом взорвут самодельную бомбу или сожгут тебя в собственном доме, словно мышь в амбаре. Наконец сгорел Дворец культуры, чем и закончился для меня тот несчастный год. Когда на рассвете мне позвонили и сказали, что горит Дворец культуры, у меня сначала сжалось сердце и перехватило дыхание, потом я внезапно почувствовал облегчение и, на бегу засовывая руки в рукава плаща, думал знаешь о чем? Свершилось. Свершилось то, чего я больше всего боялся, и теперь никакая бомба и никакой пожар не заставят меня и бровью повести. Зачем понадобилось этому мерзавцу сжигать дворец культуры — гордость нашего города, прекрасное, новенькое здание, или чего он хотел от нас, не понимаю до сих пор, хотя скоро уже тридцать лет, как случилась вся эта история.
Дворец культуры сгорел одиннадцатого июня, а нас арестовали шестнадцатого. Нас — это меня, директора Папуну Кипароидзе, ночного сторожа Баграта Кукулава и завхоза Дурмишхана Кипиани. Меня забрали на рассвете, а об их аресте я узнал на третий день.
Все мы отсидели по пять лет в тюрьме и давно уже вышли на свободу. Здоровье у нас, слава богу, крепкое, не по годам, и все мы работаем в разных местах. Я руковожу драмкружками в школах и чувствую себя отлично. На судьбу не жалуюсь. Весь город и тогда знал, что Дворец культуры не мы сожгли, и теперь знает. Время от времени мы встречаем друг друга и помираем со смеху. Сейчас, на расстоянии, все это действительно выглядит смешным. Куда уж смешнее: стоим мы, трое серьезных, семейных мужчин, и рассказываем суду, как мы спалили Дворец культуры. Как мы втроем задумали эту акцию, как проводили тайные совещания, как назначили поджог на одиннадцатое июня, как принесли во Дворец, через пожарный выход, бидоны с керосином и за полночь, когда закончились репетиции и работа кружков, и осуществили свой черный замысел. Помню, как мы втроем накинулись на адвоката, убедительно доказывавшего, что ни один из нас ни сном ни духом не причастен к пожару, как гневно клеймили мы беднягу провокатором и бездарью.
Каким образом следователю Гиги Маршания удалось уговорить нас взять вину на себя, я прекрасно помню и расскажу во всех подробностях. Меня в нашей истории интересует вот что: человек-то, оказывается, все еще не достиг совершенства. В числе прочих слабостей он обладает одной, именуемой слабоволием. Я ведь успел прожить немало, и жизнь потрепала меня изрядно. Но даже теперь я бы не рискнул с уверенностью утверждать, что в той или иной ситуации я поступлю так или иначе. Должно быть, лишь одному человеку из тысячи удается до конца не отступиться от своего. А у нас, простых смертных, такой силы не водится. Если бы мне раньше о ком-нибудь рассказали, что он сознался в том, чего не совершал, не выдержал давления и собственной рукой подписался в том, что состоял членом банды и собирался низвергнуть солнце с неба, как бы я возмущался! Еще бы! Чтобы нормальный человек собственноручно подписал такое идиотское «признание»! Сейчас я смотрю на это иначе Воистину, не говори «гоп», пока не перепрыгнешь.
Первые три дня я, само собой, доказывал свою невиновность настойчивость Гиги Маршания и его методы вырвать признание казались мне чуть ли не смешными. О чем он только меня ни спрашивал, с какого боку ни подъезжал, — мне и в голову не приходило «сознаться». А через три дня он уже запел по-другому. В полночь меня повели наверх. За столом, вместе со следователем, сидели Баграт Кукулава и Дурмишхан Кипиани.
Гиги встал, прошелся по кабинету и обратился к нам:
— Хотите откровенно? Все не так просто, как вам кажется. Я прекрасно знаю, что Дворец культуры сожгли не вы, думаете, не знаю? Я знал это еще тогда, когда мне принесли ордер на ваш арест.
— Но если так, почему мы здесь?! — не удержавшись, довольно громко воскликнул я.
— Выслушайте меня, и вы все узнаете. Если вы люди умные, вы должны понять. Нам сейчас необходима взаимная помощь. Нам — ваша, вам — наша. Необходимо договориться. Другого выхода нет. Нас здесь четверо. Этот разговор должен умереть между нами.
— Вы здесь хозяин, — приставил ладонь к уху Кукулава. Баграт и тогда был глуховат.
— Сначала я объясню, в чем наша проблема. Представьте себе наше положение. Что творится в городе, сами знаете. Я имею в виду пожары и взрывы.
— А при чем здесь мы? — возмутился Кипиани.
— Вы-то нет, а вот мы при чем. Застряли, как поросенок меж прутьями изгороди, и ни туда, ни сюда. Инасаридзе вызвал к себе нашего начальника как раз в тот день, когда сгорел Дворец культуры, и сказал: или вы в течение недели обнаружите банду, или все полетите с работы. Что же нам, по-вашему, делать?
— Банду искать, что же еще, — посоветовал Кукулава.
— Думаешь, не ищем? Животы к спине прилипли от беготни. Ребята так вымотались, что ни один уже на человека не похож. Такого у нас еще не бывало. Хоть к гадалкам обращайся за помощью! С ворами не связаны. Что орудуют несколько человек, это ясно. Один бы не справился. Все перепуганы. Чтобы вы знали, Инасаридзе попусту грозиться не станет, что сказал, то и сделает. Он и так уж на нас косо смотрит. Мы-то ладно; детишек жалко — с голоду помрут. Несчастнее нас нет людей на всем белом свете. Дело же не в том, чтобы ходить в форме, да с револьвером на боку.
Я попытался представить себе Маршания без револьвера и без формы. Это мне удалось, хотя и не сразу. Потом я попробовал его пожалеть — оставшегося без работы и средств к существованию, — но, хоть убейте, так и не смог.
— Это все понятно, но чем мы можем вам помочь? — спросил я как можно спокойнее.
— Погодите, объясню до конца, а не хотите — что ж, перебьюсь как-нибудь, — стал бить на жалость старший следователь. — В общем, как видите, мы арестовали вас.
— А по какому праву вы нас арестовали? — Кукулава любит упоминать о «праве». Меня до сих пор бесит его привычка вставлять «право» через каждые четыре слова.
— Между нами говоря, вас арестовали не так уж необоснованно. Дворец, правда, спалили не вы, но вы не дети малые и прекрасно знаете, что материальная ответственность за здание лежит на директоре, ночном стороже и завхозе. Так что повод привлечь вас к ответственности есть. С рук вам это все равно не сошло бы. Дотошный следователь на каждого из вас по три статьи отыщет. Как-никак целый дворец сгорел, не конура собачья.
— Так ведь не мы же его сожгли?! — в голосе Кипиани послышались слезы.
— Правильно, не вы — это я вам по-христиански говорю, но ваша вина тоже есть. По три года вам дадут или по пять, это уже не так существенно. Так что лучше вам с нами не ссориться. Вы же знаете, мы, сотрудники органов, — люди слова и добра не забываем. И потом, все равно вы у нас в руках, и вы, и все остальные. Мы сейчас в трудном положении, вот я вас и уговариваю, а вообще-то это, должен вам сказать, не наш стиль работы.
— И какого же добра вы от нас ждете, к примеру? — поддался искушению Кукулава. Вообще-то мы все уже прекрасно понимали, куда клонит Маршания.
— Вы должны взять на себя пожар.
— Как это — взять? — заерзал на стуле Кипиани.
— Это значит — сознаться. Другого выхода нет ни у вас, ни у нас. Я вам обещаю, что наш начальник сам поговорит с судьей, и даю вам слово, что вам присудят не больше, чем вам положено как ответственным административным работникам Дворца культуры. Вы люди сознательные и поймете, сколько добрых дел сделаете, если согласитесь на мою просьбу. Во-первых, избавите нас от гнева Инасаридзе, во-вторых, поднимете престиж милиции. Не такие уж мы плохие люди, можете мне поверить. И очень нужны обществу. Знаете, почему благоденствуют эти кустари-поджигатели? Потому что не боятся. Знай они, что от милиции никуда не денешься, — все было бы по-другому. Закрывая ваше дело, мы поднимем свой авторитет.
— Так это ради поднятия вашего авторитета мы, невиновные люди, должны сесть в тюрьму? — с трудом выдавил из пересохшей гортани Кипиани.
— Не только ради нас, но ради всего города, ради вашего же будущего, вы должны сесть. Во-первых, не в обиду вам будь сказано, вы уже сидите, — Маршания забарабанил пальцами по столу. — Вам в любом случае пришлось бы отвечать. А знаете, что будет, если вы сознаетесь в поджоге Дворца. Взрывы и пожары прекратятся. Вы что, не хотите, чтобы ваши семьи спали спокойно?
— Где гарантия, что они прекратятся? — спросил я.
— Я знаю психологию преступников. Прежде всего, народ убедится, что милиция на страже и преступники получат по заслугам. Город хоть немного успокоится. Что касается самих преступников, то они задумаются. Вместо них посадили невиновных. Вот они и уберутся отсюда. Ведь вам зла никто не желал, верно. Мы знаем, против кого направлены эти взрывы и пожары. Вы меня понимаете?
— Нет, — сказал Кукулава.
— Понимаете, только не доверяете мне. Вы видите, что трое суток предварительного заключения истекли. Если бы можно было отпустить вас, вас отпустили бы сегодня утром. Но у нас нет другого выхода, так что войдите в наше положение и помогите нам.
— Но почему непременно мы, неужели нет более подходящих людей? Тысячи мерзавцев ходят по улицам, поймайте их и посадите, — нашел выход Кипиани.
— Сколько раз объяснять, что вас все равно пришлось бы арестовать. Вы отвечаете за здание. А теперь, по прошествии трех суток, мы вынуждены обосновать ваш арест, неужели непонятно? Зла мы вам не желаем, а между тем ни один из вас не похож на невинного агнца, и если поднять ваши дела, еще не известно, кто кого будет упрашивать, но мы не хотим заходить далеко.
— Какие это дела, к примеру? — простодушно спросил Кукулава.
— Вы сами прекрасно знаете, о каких делах идет речь, батоно Баграт. Неужели кто-нибудь и впрямь полагает, что можно совершить преступление так, чтобы мы ничего не узнали, и что это сойдет с рук? Не верьте в это. Мы знаем все. Мы видим больше, чем вы думаете. Когда ваш брат воровал папиросные гильзы с табачной фабрики, набивал их дома вместе с вами и вы на другой день продавали их, разве не следовало наказать вас за это? Было так? Ведь было? Целых три года! — Гиги вытащил записную книжку и заглянул в нее. — С тысяча девятьсот пятьдесят первого по пятьдесят четвертый год вы занимались этим делом. По-вашему, это не преступление? Это первое. Хотите еще? — он снова заглянул в книжку. — Сказать, что совершили хотя бы только за последние семь лет, если уж оставить в покое грехи молодости?
— Не надо, можете не продолжать, — оперся щеками на кулаки Кипиани и уставился в стол.
— Каждый из вас замешан в четырех-пяти подобных делах, которые даже доказательств не требуют.
— А почему же вы до сих пор нас не трогали? — тихо спросил Баграт.
— Потому что мы не злодеи. В наши обязанности входит не только ловить преступников, но и тысяча других дел. Почему вас раньше не трогали? Кто его знает, может, как раз этого дня и ждали. Сейчас нам самим трудновато, да и вам не сладко. В общем, надо найти общий язык.
— Все равно в городе не поверят, что это мы подожгли Дворец, — сказал я.
— Пускай тебя это не волнует. Не поверят — и не надо. Главное, чтобы нашему начальнику удалось убедить Инасаридзе, будто дело о поджоге Дворца культуры раскрыто. Больше нам ничего не надо. А дальше уже наше дело.
— Допустим, мы договоримся и я дам показания, будто это я поджег Дворец. Как ты думаешь, из каких побуждений я мог его поджечь? — сделал я первый робкий шаг к отступлению.
— Это мы обсудим. А что касается города, то… если сегодня вас отпустить и объявить, что обвинение не подтвердилось и вы оказались ни при чем, большинство испытает разочарование. Городу требуются виновные, понятно? И потом, ваше освобождение, которое сейчас уже почти невозможно, нанесло бы нам окончательный удар. Скажут, что мы взяли деньги и замяли дело. Это нас совсем погубит в глазах Инасаридзе. Так неужели мы на это пойдем? Да ни за что!
— А если мы все-таки откажемся? Не возьмем на себя такое преступление? — подал голос Кипиани.
— Не понимаете? Неужели я так непонятно объясняю? Мы-то свое получим. Мир не перевернется от одного нераскрытого дела. Мы с начальством получим по выговору. А если даже нас и выгонят из органов, мы все равно успеем закончить следствие по вашему делу. Пришьем каждому по статье на девять лет и отправим на суд. Между прочим, ваше признание нам нужно для общественного мнения, потому что ваше обвинение в поджоге Дворца уже готово. И нам ничего не стоит подкрепить его такими фактами, что вы и сами поверите, будто подожгли Дворец культуры. Уж это мы умеем. И потом, на суде все признаются. Признание, чтобы вы знали, это смягчающее вину обстоятельство.
— И все же, как мне объяснить на суде, зачем я, директор, поджег свой Дворец культуры, который строил восемь лет? Если даже оставить любовь к искусству, неужели я не понимал, что вместе с Дворцом горит и мое директорское кресло? — ломая руки, дрожащим голосом выпытывал я у Маршания.
— Ваш довод не лишен оснований. Но мы и это уладим. Бывают же случаи, когда директора сами сжигают свои учреждения! Например, вы совершили растрату. Или другое — вы разозлились, потому что вам отказали в присвоении какого-нибудь звания, не оценили ваших заслуг Вот вы с досады и подожгли Дворец.
— А я-то, я, завхоз, зачем полез в это дело? — чуть не плача, сказал Кипиани.
— У тебя был свой интерес. Небось тоже погрел руки, и концы в воду. Вернее, в огонь. Но это уже детали. Прежде договоримся о главном. Могло же случиться так, что вы трое стали слепым орудием в руках кого-то четвертого. Этот четвертый мог подкупить вас деньгами или еще чем-нибудь и поручил вам поджечь Дворец.
— Зачем ему подкупать нас, людей, которым поручено беречь этот Дворец? Куда дешевле было подкупить кого-нибудь другого, — сказал я.
— Может, другие не смогли бы сделать это без вас.
— А зачем же подкупать троих? Разве можно доверять такое дело троим? Подкупил бы кого-то одного. Неужели один человек не сумеет спалить Дворец? — надо признаться, вопрос Кукулава был не лишен здравого смысла.
— Тут вы правы, — похоже, Маршания было нелегко ответить на этот вопрос — Я начальнику то же самое сказал, но теперь уже поздно говорить об этом. Если сейчас кого-то из вас выпустить, для него же будет хуже. Тут же назовут предателем.
— Ладно, допустим, мы сознались в этом преступлении, вы нас осудили и посадили на сколько положено. Допустим, вы окажетесь правы и в городе действительно прекратятся пожары и взрывы. Тогда все предыдущие взрывы и пожары вы сможете свалить на нас.
— Что вы! Даю вам честное слово и клянусь собой и своей семьей, что не только не будем шить вам других дел, но и за это заставим судью дать вам минимальный срок.
— Что будем делать? — после короткой паузы обратился я к Кипиани и Кукулава.
«Преступники» хранили молчание.
Тишину нарушил Гиги.
— Сегодня на этом закончим. Идите к себе и подумайте. По-моему, тут и думать нечего. Другого выхода нет. Отступать некуда, ни вам, ни нам. Продолжим наш разговор завтра.
Утром нас поместили в одну камеру, чтобы дать нам возможность посовещаться и обсудить положение. Вообще-то те, кто проходят по одному делу, никогда не сидят вместе, но Маршания знал, что делал.
Мы судили, рядили, взвешивали так и эдак, спорили, предлагали новые и новые варианты, уточняли с Маршания какие-то детали и две недели спустя все-таки сознались в своем «преступлении».
Мы взяли на себя поджог Дворца культуры, но главные наши с Маршания мучения начались потом.
Мы вчетвером (а кроме нас, как выяснилось, и другие) включились в большую творческую работу. Дело было не шуточное, мы должны были создать убедительный юридический документ, который не оставил бы ни у кого сомнений в нашей виновности. Первоначальные показания, составленные каждым в отдельности, были до смешного наивными и не вязались друг с другом. Не так-то все это легко. Самым трудным оказалось объяснить то, о чем я говорил с самого начала: для чего пожар во Дворце культуры понадобился именно нам, лицам, несущим ответственность за сохранность здания. Другая трудность заключалась в том, чтобы обосновать, как возник сговор трех людей, не имеющих между собой ничего общего ни по должности, ни по характеру, ни даже по внешнему виду. Какой интерес мог объединить нас для этого преступления? Поначалу решили, что я, директор, «вовлек своих подчиненных в преступную деятельность». На это я не согласился. Признай я себя организатором и вожаком, это отягчило бы мою вину, а я вовсе не желал сидеть в тюрьме хотя бы на неделю дольше, чем Кукулава и Кипиани. Наконец, так и не найдя психологических мотивов преступления, вышли на «четвертого». Нашли хотя и унизительное для нас, но чуть более убедительное средство. Будто бы приходил на наши тайные сборища какой-то злобный человек в черном плаще и темных очках, приносил в черном «дипломате» деньги и настойчиво требовал, чтобы мы за огромное вознаграждение подожгли Дворец культуры. Мы же, ослепленные жаждой наживы, после долгих колебаний согласились пойти на это преступление. Куда девались деньги? Мы и на это заготовили ответ: деньги мы должны были получить через три дня после поджога, но дядя в черных очках почему-то не принес вовремя свой «дипломат». Мы сочинили целый детективный роман, но так и не нашли ответа на два вопроса. Во-первых, кто был этот человек в черном плаще, которому мы так слепо доверились, знал ли кто-нибудь из членов банды, кто он такой и где живет? А во-вторых, неужели мы так ни разу и не спросили его, с какой целью он тратит столько денег на поджог Дворца культуры, не представляющего ни для кого никакой угрозы? Мы долго мучились, однако эти две проблемы так и остались неразрешенными. Маршания предложил нам довольно примитивный, с юридической точки зрения ход: мы не были знакомы с человеком в черном плаще, никогда не видели его раньше и вряд ли узнаем, если увидим, потому что он носил темные очки, а может быть, даже и парик. И мы никогда не интересовались, почему он все-таки решил уничтожить именно Дворец культуры, а не какое-либо другое, столь же авторитетное учреждение. Следствие таким ответом удовлетворилось и не стало расследовать линию «четвертого», судья (дай бог ему здоровья!) тоже не стал задавать лишних вопросов о человеке в черном плаще и темных очках.
И до суда, и после мы имели письменную связь с нашими семьями. Каким образом она осуществлялась, я объяснять не стану. Это тюремная тайна, и я вовсе не хочу причинить какой-нибудь вред почтенным людям, занятым этой благотворительностью.
Старший следователь оказался прав: после нашего ареста пожары и взрывы в городе прекратились.
Помню, как если бы это было вчера, день накануне суда, когда мы, сидя на нарах в своей камере, с усердием пятерочников зубрили текст наших окончательных показаний и Маршания разучивал с нами ответы на возможные вопросы.
Что правда, то правда: Гиги Маршания сдержал свое слово. Нам присудили по пять лет, отбывать которые нам предстояло в колонии общего режима.
Если кто-нибудь станет утверждать, будто условия жизни в колонии прекрасные, так знайте, что это ложь. Однако и там прожить можно.
Перевод А. Златкина.
ЗВИАДАУРИ
— Доброе утро!
Георгий Циклаури, сидя на корточках, трясет меня за плечо.
Я откидываю бурку в сторону и, потирая глаза, привстаю. В палатке темно, хоть глаз выколи.
— Что, уже пора?
— Шесть часов, скоро рассвет. Как спалось?
— Прекрасно, а тебе?
— Я и глаз не сомкнул, клянусь детьми.
— За что такое наказание?
— Не мог же я залезть в палатку раньше дорогих гостей, так что мне и спать было негде.
— Не вмешивайся, говорят, в чужие дела… А Турманаули?
— И он без места остался, но мы ничего не прогадали, ей-богу. Втроем в обнимку провели ночь у огня.
— Кто был третий?
— Брат наш — «жипитаури», разве мы выдержали бы без него! Ты не замерз?
— Видишь, я и сапоги не снял.
Я вылез из палатки. Еще темно. Звезды попрятались, и небо кажется пустынным. На вершинах гор угадывается светлый покров снега. Кое-где меж палаток догорают костры. У кого-то грохочет стартер. Когда на мгновение воцаряется тишина, снизу, из башен Шатили, доносятся слабые звуки пандури. Длинноногий, как журавль, Турманаули стоит у «виллиса» с зажженными задними фарами. Из-под неизменной войлочной шапки «старейшины» Магароскари выбиваются седые кудри, которые сейчас кажутся черными.
— Я же говорил, он — свой парень, упрашивать не придется. — Турманаули гладит меня по плечу и с упреком бросает председателю исполкома: — А ты: не надо, мол, гостя беспокоить… Такому гостю как раз сон и в беспокойство. Ведь я прав? — спрашивает он меня для проформы и продолжает: — Сейчас махнем в Муцо. Поздороваемся с солнцем из муцойских башен. Как, а?
— Кто знает, из каких сновидений мы его вырвали? — смеется Георгий.
— Это верно, — соглашается Турманаули, — утренний сон — самый сладкий.
— Эх, мои дорогие, я уже забыл, когда видел сладкие сны.
Мы трогаемся.
Оставив позади анаторийские усыпальницы, въезжаем в Муцойское ущелье. Сворачиваем с проезжей дороги вправо и долго трясемся в машине, пока она, преодолев каменистое лесное бездорожье, не останавливается на берегу Арагви. (Хевсуры любую реку — большую или малую — зовут Арагви.) Шофер выходит из машины, швыряет в воду камень, другой и возвращается.
— Не проехать.
— Это почему? — упрямится Турманаули.
— Вода по грудь будет, мотор заглохнет — застрянем. — Шофер смотрит на Георгия.
— Ничего не поделаешь, с водой шутки плохи. Поворачивай назад, остановимся в ольшанике.
…На большом плоском замшелом камне стоит кувшин с «жипитаури», вареное мясо, вчерашние хинкали, домашний хлеб — все наше богатство.
Все четверо стоим. Турманаули присел было на скользкий камень, но тут же подскочил как ужаленный: «Студеный, проклятый!»
По мере того как светлеет небо, становится все холоднее. Скалы вокруг как бы раздаются в стороны. К деревьям возвращается жизнь — они желтеют на глазах, и только иней на макушках отливает серебром. Занимается заря. Но солнце еще далеко. Пока первые его лучи достигнут этих гор, мороз проберет нас до костей.
Мы помянули обретших вечный покой в анаторийских усыпальницах, выпили за наших предков, за божество — покровителя пастухов и охотников, за возвратившихся в это ущелье горцев, за деревья, подобно огромным свечам, горящие желтым огнем, за благоденствие Грузии, за честную слезу, которую проливали над умершими.
— Хотите послушать стихи о слезе? — Турманаули смотрит на вершину горы, окрашенную золотом.
Постарел я, и слеза моя постарела, постарел я, и слово мое постарело. Передвигаюсь с помощью палок… Посмотрите на мои следы, они ведь слезами орошены, окиньте взглядом мои пути, они ведь слезами вымыты! Пламенем сердце объято, и слеза моя горит, горем убитый хожу. Будь проклята моя слеза, как камень, тяжела она! Это обо мне надо плакать, ибо я сама печаль, бродящая по свету!— Прекрасно, прекрасно! — воскликнул я и тут же почувствовал, что мои слова звучат фальшиво. Не знаю, замечали ли вы, но пшавы и хевсуры никогда не обсуждают достоинства или недостатки стихотворения. Они просто говорят стихи, живут ими и лишь в редких случаях задумываются над тем, как проста и гениальна фраза «постарел я, и слеза моя постарела» или «ибо я сама печаль, бродящая по свету».
Я опустил голову. Грустное стихотворение навеяло грустные мысли, и я ушел в них, забыв о своих друзьях. Вдруг легкий шум на вьющейся вверх тропинке вернул меня к действительности.
— Эгей, хевсур! Сворачивай с дороги! — Георгий махнул рукой путнику, поднимавшемуся в гору. Тот остановился, снял с плеча вилы и, поставив перед собой, оперся на них.
— Здравствуйте!
— Спускайся, выпьем по одной!
— Дай вам бог, спасибо! Негоже пить, когда идешь в горы. — Он вскинул вилы на плечо, собираясь продолжить путь.
— Ничего у тебя не выйдет, клянусь всеми святыми, слышишь, хевсур, что тебе говорят?! — крикнул Турманаули.
Путник снова остановился и обернулся.
— Все равно тебе не пройти, там, наверху, у нас люди в засаде, спускайся по доброй воле, так будет лучше! — Георгий едва сдерживал смех.
Гость поневоле спустился вниз по тропе, прислонил вилы к камню, снял с себя сумку и, пожелав нам доброго утра, остановился в отдалении.
Он никак не походил на сурового горца — был маленького роста, тщедушным, с тонкой шеей и кроличьими, без ресниц, глазами. Спускаясь, он с такой легкостью спрыгнул с камня, что поначалу показался мне совсем молодым, но теперь, глядя на его морщинистые лицо и шею, я подумал, что ему все пятьдесят, если не больше. На нем были неопределенного цвета куртка, резиновые сапоги и видавшая виды ватная ушанка, которую он поминутно то нахлобучивал на глаза, скрывая жидкие брови, то сдвигал на затылок, обнажая румяно-белый лоб над горбатым носом.
— Почему ты его зовешь хевсуром, может, он кистинец? — сказал Турманаули Георгию Циклаури так, чтобы гость слышал.
— До сих пор я был хевсуром, — нахмурился тот.
— Как твоя фамилия? Давай сюда поближе! — Георгий наполнил рог и протянул гостю.
— Хвтисо Звиадаури я. Ваше здоровье. Дай бог вам долгих лет жизни. Не обижайтесь, пить не буду. Мне предстоит долгий путь. В другой раз — пожалуйста. — Извинившись, Хвтисо пригубил рог и протянул его Турманаули. Но «старейшина» развел руками.
— Вот этот человек — писатель из Тбилиси, он обидится, если ты не выпьешь.
Звиадаури внимательно посмотрел на меня. Было совершенно очевидно, что он не поверил ни единому слову Турманаули.
— Да поможет вам бог. Мне пить никак нельзя. Дорога ждет дальняя. — Он сделал еще одну попытку настоять на своем.
— Пей, не ломайся, как барышня, это — «жипитаури», не повредит, — почти приказал Циклаури.
Хевсур устремлял умоляющий взгляд поочередно на всех нас троих, но, не встретив никакого сочувствия, махнул рукой и залпом осушил рог.
Георгий засмеялся.
— Чего смеешься? — повернулся к нему Звиадаури.
— Ты — молодец, умеешь пить.
— Куда ты так спешил? — поинтересовался Турманаули.
Хвтисо приложил руку козырьком ко лбу и посмотрел в небо.
— Видишь черное облако над Датвиджвари? Будет дождь.
— Ну и пусть будет, тебе-то что!
— Свежескошенная трава не должна мокнуть под дождем, иначе грош ей цена. Надо раскидать ее.
— Где вы косили? — вмешался в разговор и я.
Он протянул руку на запад, указывая на смежную вершину рядом с Шатили.
— Вон у подножия той горы, это не так далеко, как кажется, четыре часа пути.
— Дай бог вам здоровья!
— Сейчас все всему удивляются, а ведь раньше хевсуры пахали землю повыше тех скал.
— Где это? — Я смотрю вниз на склоны.
— Не туда смотрите, выше, выше, вон у снежной полосы, и сегодня видать, что земля там особенная.
— Как же вы быков туда поднимали и что сеяли?
— Ячмень.
В течение тысячи лет хевсуры цеплялись за эти крутые утесы, но в конце концов их сманили в равнину.
— Сколько у тебя детей, Звиадаури? — спросил вдруг Георгий.
— Шестеро.
— Молодец, хевсур, ты настоящий герой! Где живешь?
— В ущелье, против Муцо.
— Одни живете?
— Одни.
— Как это одни, а соседи? — удивился я.
— До сих пор не было. Весной еще одна семья собирается вернуться.
— Откуда?
— Из Гамарджвеба, село возле Тбилиси такое, там хевсуры живут.
— Хвтисо, а как зовут твоих детей? — Турманаули оперся о плечо малорослого хевсура.
— Как это как? Дети, и все.
— Я об именах спрашиваю.
Хвтисо переложил вилы в другую руку, посмотрел мне в глаза и начал перечислять:
— Тамар, Давид, Джаба, Этер, Саба… Саба, Этер, Джабу я называл, Давид, Тамар, Джаба, Сабу тоже на зывал… — Он отвел от меня взгляд и начал сначала: — Тамар, Давид, Этер, Джаба…
Турманаули и Циклаури покатывались со смеху.
— Не помнишь, как зовут твоих детей?!
— Запиши на бумажку и носи на груди!
— По утрам перечитывай, чтобы не забыть!
— Или жену спроси, уж она не скроет.
Чем больше подшучивали над Хвтисо, тем сильнее он смущался.
— Чего смеетесь? Я все хорошо помню, разве вы дадите сказать…
— Ничего, бывает, — успокоил я его.
— Бывает и не такое, — приободрился Хвтисо, — раз вы так весело настроены, расскажу-ка я вам одну историю. Деда моего звали Утург. Жил он в Лебаискари. Добрая шла о нем слава. По сей день встречаю людей, знавших моего деда. И сегодня угощают меня в память об Утурге.
— Почему в память об Утурге?
— Благодаря деду и приглашают, а я что собой представляю? Ровесники деда косятся на меня, «уродом» зовут, правда, любя.
У Утурга было девять детей. В живых никого не осталось. Все жили в селе за рекой. Так вот, отец мой последыш был, ему уже год от роду миновал, а дед все никак не собрался крестить его. Некрещеному, как известно, хевсуры имени не дают.
— Правильно, прямо так и зовут — «малыш» или «карапуз», — вмешался Турманаули.
— Пусть даст сказать, — Хвтисо посмотрел на Георгия.
— Дай ему сказать, а то забудет, — усмехаясь проговорил Циклаури.
— Посадил Утург моего отца на коня и отправился в Шатили крестить его. Мать не могла ехать с ними, потому что, простите, была беременна. Прибыли в Шатили, священник окрестил ребенка (то есть моего отца), намазал ему на нос елей, записал в свою книгу его имя и отправил вместе с отцом обратно в Лебаи. Но такой уж человек был Утург — везде ему были рады. Возле одной из башен ждал его побратим, который влил в него море «жипитаури».
Ранним утром, еще порядком и не рассвело, подъехал дед к дому. Навстречу ему жена. «Как назвал священник ребенка?» Молчит Утург. Тяжело слез с коня, не спеша расседлал его, вошел в дом, снял тулуп и лапти, сел у очага, задумался. «Как назвали ребенка?» — не отстает жена. Что делать Утургу, по пьянке забыл он имя мальчишки. «Что ты пристала, женщина? — вскричал он наконец. — Как могли его назвать? Джугуром окрестил священник твою малявку!» Кто посмел бы усомниться в словах деда? А заглянуть в книгу священника никто не мог. Так и осталось это имя за моим отцом, с ним и отошел в мир иной.
Пока Хвтисо рассказывал, я наблюдал за его руками, огрубевшими от работы, с корявыми узловатыми пальцами. Он так ритмично размахивал ими, казалось, косит невидимой косой. Говорил он громко, словно мы находились не рядом, а на другом берегу реки. Он подождал, пока мы вдоволь посмеялись над его рассказом, потом вдруг посерьезнел, наполнил рог и сказал:
— У меня есть тост, если позволите. Давайте выпьем за женщину. Пусть равнинники не обижаются на меня, но в горах лучше знают цену женщине. Не смейтесь, я прожил внизу семь лет и кое-что понимаю. Может, я и глупость говорю, но говорю то, что знаю. Пятнадцать лет назад спустили нас на равнину. Ну, думали мы, отдохнем от этих скал, хватит, накарабкались вдоволь. Клянусь детьми, так и думали. Три года все шло нормально, а на четвертый худо мне стало — пропало желание. Не хочу, жены, и все тут. Что со мной — не знаю. Тут ведь дело такое, никому не расскажешь — засмеют. Задумался я крепко. Вроде бы все у меня нормально: здоров как бык, сыт, одет, обут, в доме тепло, постель мягкая, телевизор и дела почти никакого! Что еще нужно человеку?! Так нет же, не лежит сердце к женщине! Отвык! Тогда у меня было двое детей, теперь шестеро. И кое-что мне стало ясно, только вы не смейтесь. Сидим вот мы с женой в теплой комнате, смотрим телевизор. Тепло — враг мужчины. Меня одолевает сон. Для виду все же говорю жене: «Пошли, жена, спать». А она: «Подожди немного, вот досмотрю кино…» Я не хочу кино, а она хочет. Кончается передача, я уже давно сплю. Жена ложится в свою постель, ей и без меня тепло. Утром просыпаемся и бежим каждый по своим придуманным делам. Вечером снова у телевизора собираемся. Так вот и неделя проходит. Так вот и отвык от женщины. А женщина — это благо. Женщина — лучшее творение божье. Женщина — жизнь. Вернулся я в горы. Последыш мой в прошлом году родился. Ожил я — вот что такое женщина! Холодной ночью она согреет тебе постель, да что там постель — сердце согреет, а если ты не очень устал, и огнем вспыхнуть заставит. Женщину у сердца надо держать. В другой комнате, у телевизора она угасает, стынет. Да здравствует женщина в нашей душе! Она — наше ребро, наш бок, нами и жива! Без нас, мужчин, женщина и не женщина вовсе! Женщина — это любовь, да здравствует любовь!
Он залпом осушил рог и передал его Турманаули. При этом чуть пошатнулся: «Одолел, проклятый «жипитаури»!» Сунул под мышку вилы и сумку и, подняв руку в знак прощания, не то пропел, не то прокричал:
Живы мы, чего еще нам надо, видим солнце! Наступает ночь, и снова рассветает! Горе же тому, к кому приходит ночь, а рассвет уже не рассветет!Он посмотрел на свою гору и побрел вверх по тропе. Сделав шагов десять, остановился, повернувшись, махнул нам рукой и пошел обратно, к дому.
Перевод Л. Татишвили.
СПАСЕНИЕ
Бачана Суладзе и его супруга Нора собрались на рынок. Им нужно было купить помидоры. Бачана не любил рынка, и жена еле уговорила его: коли сейчас не купим, помидоры опять вздорожают и останемся в этом году без томатной подливы. Посвященный читатель знает, а непосвященному я во всеуслышанье заявляю, что без острой томатной подливы имеретинский дом — не дом.
Последние дни августа. Воскресенье. Зной и пекло уже позади, но с утра на город жарко дохнуло с моря; горожане позакрывали ставни и шторы и твердо решили без крайней необходимости не покидать тенистых дворов.
— Нашла время: в такую жару — за помидорами! — ворчит Бачана, вяло помахивая корзиной. — Ну кто ходит на базар в такую жару!
— Шагай, шагай. Не бойся, не растаешь. Тоже мне — подвиг. Неужели мне самой тащить тридцать кило помидоров? — не остается в долгу жена.
Со стороны, однако, незаметно, что муж с женой переругиваются. Они идут степенно и даже гордо и так неторопливо и приветливо раскланиваются со знакомыми, словно в городе царит прохлада, как в пещерах Сатаплии, а для Бачаны нет большего удовольствия, как тащить на плече корзину, полную подкисших и даже чуть подгнивших помидоров.
На Белом мосту они заметили толпу народа. Бачана с надеждой подумал, что не все еще пропало. Супруги прибавили шагу.
Под мостом ревел и пенился стального цвета Риони. Против сада Цулукидзе в воде на большом белом валуне стояла собака и лаяла на людей, протягивающих к ней руки.
— Кто-нибудь прыгнул с моста? — с тревогой спросила Нора старика в парусиновом кителе.
— Пока еще нет, — бросил старик, даже не обернувшись.
— Собирается прыгать? — не отставала от него встревоженная женщина.
— Запретить-то некому. — Ответ старика был короток и невнятен.
— Неужели не видите, сударыня, собака на камне застряла, на берег выбраться не может, — объяснил из толпы какой-то разговорчивый зритель.
— Собака? Ой, точно, вон она… И столько народу на собаку глядит? Я-то думала — беда какая. — Нора сразу успокоилась.
— У нее кирпич на шее, вон, видите, между передних лап. Видно, хотели утопить, а она спаслась, — проговорил незнакомый голос.
— Кирпич? Где кирпич? — вмешался в разговор Бачана.
— Вон, спереди… Веревку на шее видишь? Проследи, куда она свисает, там и кирпич в ногах.
— А эти люди чего смотрят? — Суладзе показал на пятерых мужчин, сгрудившихся внизу у реки.
— А что им делать? В такую бешеную стремнину ради собаки не полезешь. Целый час зовут, подсвистывают, чмокают губами, но толку никакого. Один умник даже веревку ей бросал. А? Каков?
Мужчины, толпившиеся у перил моста, затряслись от смеха.
— С веревкой не то что собаке, человеку оттуда не выбраться. На такое проклятое место ее вынесло, беднягу.
— Может, вода спадет?
— Куда там! Или Риони не знаешь? Так и будет реветь недели две. Скажи спасибо, если больше не разольется.
Бачана постоял, подумал и вдруг протянул корзину своей благоверной.
— Ты иди, Нора. Иди на рынок. А назад возьми такси. Домой на такси отвезешь.
Бачана обернулся, полез в карманы, вытащил деньги и носовой платок. Платок запихал назад, а деньги протянул Норе.
— До стоянки такси носильщик поднесет, сама не поднимай, а то опять поясницу схватит. Ну я пошел!
— Бачана!
Когда муж скрылся там, где у аптеки к реке сбегает извилистая тропинка. Нора с несчастным видом, шепча что-то себе под нос, пересекла улицу и пошла по направлению к базару.
Собака была самая заурядная дворняга. Она не могла похвастать породой. Разве что торчащие кверху уши намекали на некую аристократическую примесь. Ее глинисто-коричневую шерсть облепили мох и тина. Собака испуганно озиралась и, вытянув заостренную морду в сторону берега, устало лаяла на столпившихся там мужчин. Почему она лаяла? Кто знает. Может быть, из-за короткой веревки на шее и кирпича она озлобилась на людей, а может быть, просила помощи — дескать, что вы стоите, придумайте что-нибудь; до каких пор я буду торчать на этом камне…
— Здесь нет ее хозяина? — спросил Бачана.
— На что тебе хозяин? — спросил парень в закатанных до колен штанах.
— Хочет кличку собаки спросить. Не может же окликать: «Эй, как тебя!» — не упустил случая сострить высокий рыжеватый мужчина в рубахе цвета хаки.
— Хозяин, сам видишь, что с ней сделал.
— Что?
— А как по-твоему, откуда на ней кирпич? Тот, что она на шее таскает.
— Неужели хозяин привязал?
— А то я! Утопить хотел, но не вышло. Молодец, псина! Вот я и торчу тут два часа. Переживаю за нее, сердце кровью обливается.
— Думаете, выплывет? — К отряду спасателей присоединился молодой мужчина среднего роста, в модных белых брюках. Бачана узнал его: это был лучший бегун города, ныне тренер по легкой атлетике Давид Чичиашвили.
— С кирпичом не выплывет, — ответили ему.
— Смотри, воды боится. Знает, что кирпич ко дну потянет.
— Если она такая догадливая, пусть перегрызет веревку и освободится, — высказался тренер.
— Это мы уже ей советовали, но она не послушалась, — невозмутимо вставил немолодой кутаисец с неводом за спиной; отвороты резиновых сапог доставали ему до груди.
— Может, вас послушается, — куснул тренера лысый мужчина с носовым платком на голове, держащимся при помощи четырех тугих узелков.
— Да ну тебя! — огрызнулся бывший бегун.
— А что, если невод закинуть? — серьезно спросил рыболова Бачана. — Отсюда и до камня.
— Туда не дотянуть. Дальше пяти метров не пойдет, веревка короткая. А до камня как минимум метров восемь будет.
— Это точно.
— Будет.
— Твой невод ее взбесил. Как его увидела, разлаялась. Убери, ради бога. Не нервируй собаку, и без того ей несладко приходится.
— Куда убрать?
— Положи вон хоть туда, на камень.
Рыболов послушался совета, снял сеть и положил поодаль на камень. Собака ненадолго смолкла.
— Надо из досок мосток навести, вот что, — бросил Бачана и, не дожидаясь ответа на свое предложение, взбежал по круче во двор школы.
Вскоре он показался с двумя большими досками в руках.
Их кое-как связали в одну и попытались дотянуться до камня. Но только собака увидела доску, опускающуюся на ее остров, как, волоча кирпич, попятилась на другой конец и опять злобно залаяла.
Стоило краю доски коснуться камня, мостик прогнулся в месте скрепления, стремнина подхватила его, и, не прояви Бачана ловкости и самоотверженности, Риони унесла бы его доски.
Их еще раз связали при помощи гвоздей и веревок — на этот раз попрочней, поосновательней. К дальнему концу с трудом привязали булыжник — чтобы не смыло с прежней легкостью. Сооружение поставили стоймя и, несмотря на энергичный протест собаки, медленно опустили на камень.
Со второй попытки операция «Мост» завершилась успешно.
По представлениям спасателей, теперь собаке оставалось поблагодарить их и перебежать по мостику на берег.
Но как ее ни звали, как ни заманивали — собака не сделала ни шага.
— Я перейду и выведу ее! — решительно объявил взъерошенный мальчишка лет двенадцати в мокрых до пояса штанах и, уперев руки в бока, встал на ближний край доски.
— Не смей! — Давид Чичиашвили мягко взял смельчака за ухо и отвел подальше от воды. — Доски на соплях держатся. Разве они выдержат такого осла!
Мальчишка пытался настоять на своем и с мольбой взглянул на рыболова.
— Дядя прав, — поддержал рыболов бывшего бегуна. — А сам утонешь, что потом?
— Джека! — позвал кто-то.
Собака смолкла и завиляла хвостом.
— Джекой зовут. Кличку выяснили, а это, считай, половина дела. Теперь смотрите, как я выманю ее на берег. И не таких выманивал. — Пока усатый толстяк в соломенной шляпе с заметным колхским акцентом произносил свою тираду, собака перестала вилять хвостом и опять залаяла.
— Курша! — позвал рыжеватый.
Собака опять смолкла и завиляла хвостом.
— Муриа!
Собака перевела взгляд на того, кто крикнул Муриа, и опять завиляла хвостом.
Установили, что собака благодушно реагирует на все клички, — она опускала голову и виляла хвостом. Затем, словно вспомнив что-то, пятилась назад и, скажем прямо, довольно бессмысленно облаивала людей, желавших ей добра.
— Смотрите! — Давид Чичиашвили первым заметил машину «скорой помощи» над обрывом и ее экипаж, спешащий к месту событий.
Впереди бежала полная женщина в белом халате. Санитары трусцой несли за ней носилки. Оказавшись перед развороченной бульдозером канавой, они положили носилки поперек рытвины, перевели врача, потом один из санитаров сложил носилки, зажал их под мышкой, отступил назад и прыгнул с разбега. Второй санитар и не думал прыгать. Он присел на камень и в задумчивости уставился на пенистые волны Риони.
— Где пострадавший? — Полная докторша едва переводила дыхание.
Несколько человек указали ей на собаку, угомонившуюся наконец и присевшую на своем камне.
— Нет, он где? — Докторша не настроена была шутить.
— О ком вы? — серьезно полюбопытствовал рыболов в высоких резиновых сапогах.
— Кто с моста бросился? Что за вопрос? — возмутилась докторша.
— Разве кто-нибудь бросился с моста? — простодушно спросил Бачана.
— Это Белый мост или нет? — вмешался в разговор долговязый санитар с носилками.
— Белый, точно, — ответили ему.
— Нам десять минут назад позвонили, сказали, что у Белого моста из реки вытащили человека, спешите, может, успеете спасти…
— Похоже на розыгрыш. — Давид Чичиашвили поскреб в затылке. — Человека не вытаскивали, но собака вон на валуне сидит, и, если ей не помочь, ее может смыть.
— Да, но как же так? А?! Как же так! Скажите на милость, есть совесть у того, кто нам звонил? — В голосе докторши зазвучали слезы, она огляделась, как бы ища среди мужчин виновника ложной тревоги. — Неужели не нашли других развлечений? А если и впрямь человеку станет худо, выходит, не надо нам к нему спешить!..
— Но почему вы нам это говорите? — Колх в соломенной шляпе выпятил грудь со значком отличника ДОСААФ.
— А потому я вам это говорю, что я в моем возрасте чуть не покатилась вон с той кручи и не свернула себе шею. Мы тоже люди, между прочим. Кто вам дал право издеваться над нами? Знаете ли вы, сколько достойнейших людей и прекрасных врачей работает у нас!
— Мы все знаем. Только одного не можем понять: за что вы нас честите?
— А за то, сударь мой, что вы срываете занятых людей с места и вызываете «скорую помощь» из-за какой-то шелудивой собаки. Как это понимать? Что я, ныряльщица, водолаз? Или у меня свой вертолет? Чтоб на могиле у его близких сдохла собака! Чтоб не дожил до пасхи тот, кто нас разыграл и обсмеял! Вот как я его прокляну!..
Полная докторша еще раз гневно оглядела вытянувшихся по стойке «смирно» мужчин, махнула рукой и пошла назад! Теперь она ступала по камням осторожно, но вся ее фигура выражала возмущение.
Часа через два после этого инцидента со стороны Висячего моста донесся лязг и рокот экскаватора. На площадке экскаватора рядом с водителем стоял бывший чемпион города в беге на сто метров Давид Чичиашвили; правая рука его была вытянута, как у Чапаева на афишах знаменитого кинофильма.
Когда стальная челюсть экскаватора опустилась на каменный остров, его единственная обитательница подняла ужасный лай. Шерсть у нее на шее встала дыбом. С пеной на морде собака бросилась на стальные зубья.
— Что, если подцепить ее ковшом? — спросил тренер экскаваторщика.
— Утонет. С перепугу бросится в воду и утонет, — ответил кто-то.
— Надо сбегать за колбасой, — предложил колх в соломенной шляпе. — Она наверняка голодная. Положим колбасу в ковш экскаватора и спокойненько поднимем. Так, чтобы ее не напугать.
Идея показалась заманчивой.
За колбасой сбегал взъерошенный мальчишка в мокрых штанах.
Но теперь заупрямился экскаваторщик.
— Нет у меня времени для баловства. Машина, будь она неладна, не моя, а государственная. Каждый ее час денег стоит, и вы это знаете не хуже меня.
Экскаваторщику попытались внушить, что речь идет о собаке исключительных качеств, чуть ли не единственной в мире. Когда же и эта ложь во спасение не подействовала, мужчины пошарили по карманам, скинулись и собрали сумму, с лихвой компенсирующую простой техники.
Толпа, собравшаяся на Белом мосту, долго наблюдала не совсем обычную для этого города картину: на берегу Риони, вытянув стрелу и упершись ковшом в белый валун, стоял экскаватор; на валуне, вытянув к экскаватору заостренную морду, стояла собака. А на берегу сидели мужчины и ждали.
Вечер посеребрил волны Риони.
Собака убедилась, что стальная корзина с вкусно пахнущей колбасой не опасна. Она привстала, волоча за собой кирпич, шагнула вперед, на всякий случай с укором гавкнула в сторону моста и потянулась к колбасе.
На высоте двух метров над водой она выглянула из ковша, но даже не пыталась выпрыгнуть, только жалобно заскулила, потом взвыла, задрав голову, и робко глянула на людей, весело хлопавших в ладоши. Она словно хотела сказать: пожалуйста, не делайте мне больше ничего худого.
* * *
«Вообще-то, между нами говоря, ты тоже хороша. Нельзя так… Я понимаю, что какая-то скотина тебя обидела, но при чем здесь мы. Даже близко никого не подпускаешь. Ты же видела, сколько мы мучились, чтобы спасти тебя. И это твоя благодарность? Никого не подпустила, чтобы хоть веревку перерезать. Ну и долго ты собираешься таскать за собой этот кирпич? Вот видишь, все тебя покинули, все разошлись, у каждого свои дела. Так уж устроен этот мир. Плохо быть упрямой.
В чем-то, конечно, ты права, люди порой жестоки. Но… Пока ты таскаешь за собой этот кирпич, плохи твои дела. Я не найду себе покоя, если уйду сейчас. А то ушел бы, ей-богу. Помнишь: только тебя перенесли на берег, все сразу взглянули на часы. Решили, что дело сделано. А помогать надо до конца. Разве я не прав? Я хотел сказать: из реки-то мы ее вытащили, но куда ей дальше идти? Что делать? Есть у нее куда пойти? Разве не следовало подумать об этом? Ты тоже виновата, поверь: не дала людям довести до конца доброе дело. Но я-то тебя не покину. Потому, что мне тебя жалко. К хозяину тебе пути нет, уж это точно. Не виси у тебя на шее кирпич, может, и постояла бы за себя, но с кирпичом ты далеко не уйдешь; зацепишься за что-нибудь, и бездомные уличные псы загрызут тебя, разорвут в клочья. Или помрешь с голоду. Хватит теперь, берись за ум и не упрямься. Ни к чему со мной упорствовать. Отведу тебя домой. Если такой хозяин, как я, придется тебе по душе, оставайся. А нет — ступай, мир велик, убежать всегда успеешь. Давай так и сделаем… Не упрямься, ну, пожалуйста…»
И случилось чудо. Словно угадав мысли сидящего на камне Бачаны, собака подошла к нему и положила морду ему на колени. Бачана ласково провел рукой между ее глаз, потом между ушей, потом по загривку и, скользнув по шее вниз, дотянулся до кирпича.
…По ночной улице, осиянной тихой луной, шли двое — человек и собака.
Перевод А. Эбаноидзе.
СВИНЬЯ В ГОРОДЕ
До каких, в конце концов, пор, — в газете черным по белому, — будем в руки деревне глядеть? Примем и сами меры кое-какие, чем-нибудь поспособствуем. Вырастим-выкормим хоть по одной свинке — чины небось от нас не уйдут.
Засело у меня в мозгу, не дает покоя.
Живу на первом этаже, загончик есть небольшой, размером с гараж. Машину хотел купить в позапрошлом году, да деньги все как сквозь пальцы ушли. Ну да ладно.
Разведу, думал, на месте гаража-то арбузы… посадил, а они хоть и дают побеги и листьев сколько угодно, а плодов — ни-ни. В чем тут дело, кто его знает? Вроде бы и навозу подкидывал, и поливал, сорняки вовремя вырывал, словом, холил делянку, а что толку-то?!
Ну, что дальше распространяться! Двадцать первого июля купил на рынке поросенка в черную крапинку да и пустил в загончик, под гараж отведенный когда-то.
Развязал мешок, отскочил назад, дверцу за собою прихлопнул, кабы, думаю, не убежал поросенок. А он — представьте — ни новому месту не удивился, ни визга не поднял. Потерся бочком о проволочную ограду и давай рыть землю. Ноль внимания на нас — на меня то есть, на семью мою, соседей да прочих заинтересованных лиц, так и прильнувших к проволоке. И я, мол, дает понять, свое дело знаю, и вы, мол, займитесь своими. А рыло у него подвижное, мощное, ловкое. Одно удовольствие глядеть, как умело работает, с какой энергией, прилежанием, терпением роет и роет себе землю. Услышит какой звук за спиной, замрет, как одеревенеет, потом поозирается по сторонам и снова за дело — роет неутомимо, только похрюкивает. Набредет ежели к полудню на лужицу, обрадуется, плюхнется и так и зажмурится от удовольствия. Надобно хорошенько его растолкать, чтобы вывести из блаженной истомы. Нет лужи — в свежевыкопанной рытвине устроится брюхом кверху к свежему воздуху, к солнышку. Полеживает да похрюкивает. Не совсем, мол, все так, как хотелось бы, да что поделаешь… Непретенциозный, что и говорить, зверь. Никаких жалоб ни на хозяина, ни на свинарник. А аппетит? Что хочешь съест… То есть что подкинешь, естественно. Хоть опилки в воде разводи, всю кадушку вылакает, аж самому страшно. И красивая! Ушки торчком, копытца звонкие, сильные! Рыльце чистое, розовенькое… Тонну земли переворошит, не охнет. А доверчивая какая, незлобивая! Не нападет никогда ни на кого, не потревожит. Отстегаешь прутом, и не думает обижаться, не таит злобы-ненависти.
А какое еще животное, скажите на милость, так отзывчиво на ласку? Стоит только коснуться брюшка, закатит глаза, привалится к стенке, если есть она поблизости, и похрюкивает-посапывает от блаженства. Или на спину повалится, хоть ножом проводи по горлу. А человек-то, впрочем… И теленка зарежет, и мясом голубя не погнушается, так разве свинью пощадит?
Чего там тянуть, сбили мы на скорую руку свинарник, и тем день и кончился. Соседи отнеслись к моему внезапному увлечению животноводством восторженно. Сурманидзе с третьего этажа, который только и знал, что изводил жалобами милицию, — и тот ничего, промолчал. Мало того, еще и — как-то раным-раненько поутру заприметил я — мелькнул у свинарника с ведром отбросов. Кто только чего не таскал питомцу! Весь подъезд работал на подкорм поросенка. В доме-то всегда что-то остается. Все питомцу несут. А ему все идет в пользу! Жиреет знай, хорошеет. Кому рассказать — засмеют, а ты, знаю, поймешь, привязались все мы к этой свинье. Только с работы приду, норовлю поскорее в свинарник. А она глянет искоса, хрюкнет и снова за дело. Не беспокойся, мол, все в порядке, о’кэй.
Ну, что бы там ни было, а свинья есть свинья. Конец, сами понимаете… К седьмому ноября, решили, заколем. Объявили сыновьям, завтра, мол… Два ведь парня у меня неженатых. Один в прошлом еще году окончил на инженера — все работу ему не подыщу, — другой сдавал на филологический, персидский язык вздумал учить — провалился. Поужинали они неохотно да скучно да и заперлись у себя изнутри. Я тем временем знакомых позвал по телефону.
Рассвело уже, лежу себе, газету просматриваю, слышу, в кухне возятся. Старуха дверь ко мне приоткрывает. «Пантуша, — говорит (меня Пантелеймоном зовут), — не будем сегодня закалывать, к зиме-то оно лучше… И ребята говорят то же». А что меня долго уговаривать, я и сам только того и жду! Короче, отложили мы это дело до первых холодов.
Пролетели ноябрь да декабрь так, что и не заметили. Две недели по командировкам мотался, потом грипп схватил, гонконгский или какой-то азиатский, девять дней не вставал с постели. А на работе к концу года, сам знаешь… Так что только по полчаса в день и мог уделять свинарнику да его обитательнице. Стою, а она знай себе хрустит да похрюкивает.
Точно на воскресенье рождество пришлось. В субботу обзвонил знакомых да родственников, валяйте, говорю, на свиную вырезку. Утром подкатывается ко мне старуха во всеоружии, с огромным ножом в руках. «Вставай, — говорит, — пока парни не пробудились! Авось выпотрошим до завтрака». Потянулся я, поднялся, что было делать! Подкрадываюсь с ножом, что твой пират, к свинарнику… Ты вот смеешься! Я и сам вижу, очень уж девичья, слезливая история получается. Да ведь так оно и было, хочешь верь, хочешь не верь! Бросилась ко мне свинка резво так, ласково. Стою как виноватый и гляжу остолбенело. А она, шельма, к острию ножа принюхивается, похрюкивает. Смотрит — я истукан истуканом, лакомства никакого не принес, повернулась и дала деру в свое укрытие. Нет, думаю, сестрица, я тебе не злодей! Отбросил нож, скинул халат — и на рынок. Рынок-то, благодарение богу, рядом. Взял я треть подсвинка и являюсь домой со свертком. Полакомились мы с гостями вечером свиным шашлычком, спели свою любимую и разошлись. Так и спаслась наша хрюшка.
Хоть на Новый год надо заколоть, делать-то нечего. Посовещались мы и решили — пусть старший сын мой заколет. Мужчины за пятьдесят, говорю, чуть не детьми становятся, вида крови не выдерживают — давление подскакивает.
Разбегаемся, стало быть, тридцать первого по службам, а старуха мне вслед: «Со свиньей-то, — говорит, — как?» — «Приду, — сын говорит, — пораньше, успеется!» (Мог ли я думать, что увильнет он, негодник!) Сам я нарочно на работе задержался, к вечеру только явился. Ну, иду — думаю, все уже… закололи, думаю, выпотрошили. И что же слышу?! Хрюкает моя свинка! Старуха на меня бросается: «Где вы все трое пропадаете? Что увиливаете? Даже свинью заколоть не можете! Свинья вон, — говорит, — какая вымахала! Теперь хоть режь, хоть не режь, за ночь уж не управиться!» Рванул я опять на рынок, в третий раз спаслась наша свинка.
Ну, думаю, старый Новый год свининой отметим. Заколем, решили твердо-натвердо, не выставим себя на посмешище всему околотку Пробило тринадцатого девять утра, оделся я потеплей, выхожу на балкон. Нервничаю, волнуюсь. Сигарета кажется горькой, как хина. «Черт знает, — думаю, — что такое, помирать из-за свиньи, что ли? Воды нагрей, — кричу в кухню старухе, — да парней ко мне подошли, пусть помогут». — «Не до того, — отвечает, — тесто мешу! Сам сбегай за ними!» Постоял, подождал я, терпения уже нету, и рявкнул им снизу. Что ж вы думаете? Прибрали постели и улизнули из дома. Только их и видели! «Ну, поглядите вы у меня!..» Разозлился я не на шутку и к свинарнику…
…Свел свинку, чтоб обратно дороги не нашла, вниз на улицу Канделаки. Отвязал, как троллейбус промчался, поводок и отпустил. Постояла она, поозиралась, юркнула в газон и помчалась стрелой вниз, к проспекту Важа Пшавела…
Перевод М. Бирюковой.
ВОРОНЫ
Зима была в самом разгаре.
Солнце только-только скрылось из глаз, и небо за горой окрасилось в зловеще-багровый цвет. Холодней земле, оттого что светило зашло, пожалуй, не стало. Целый день посылало оно слабенькие, косые лучи и ничего не могло поделать с морозом. Разве что светит да подает надежду, а против ветра да стужи куда там!.. У гусей ноги на ходу коченеют.
У опушки тускло сереющего голыми ветвями леса, на сухой, высящейся крестом ольхе сидят две вороны. Зимою воронье племя норовит собраться стаей, а тут сидят сиротливо только две, и никого рядом не видно. Не скажу, в чем тут дело… не знаю.
Удивительно, до чего все разнообразно в природе! Двух совсем одинаковых ворон не сыщешь. А эти так вовсе между собой не похожи. Можно догадаться, что друг дружке они ни больше, ни меньше, как муж и жена. Он, если как следует приглядеться, гораздо крупнее, нежели она. Сильные крылья дугой сложены на спине, а на лапах на целых две шпоры больше, чем у нахохлившейся, тощей, как деревенская старуха, спутницы жизни, у которой от каждого порыва ветра вскидывается вверх серый общипанный хвост, отчего она едва удерживается на ветке.
День прошел так, что, поглощенные раздумьями о повседневных заботах, не перебросились они друг с дружкой и словом. Да и о чем говорить? Вот уже двести семьдесят один год тянут они лямку вместе. Для него, что там скрывать, это уже третья супруга. Первые две распрощались с жизнью еще в первые годы восемнадцатого столетия. Хорошо знающий исторические вехи читатель вспомнит, конечно, какая страшная чума посетила Кутаиси, подпавший тогда под владычество турок. Напасть унесла, кроме турок, занесших к нам лихоманку, и немало ни в чем не повинных грузин и даже не имевших ни малейшего отношения ни к войне, ни к политике птиц.
Наша пара и сейчас продолжала бы хранить покой и безмолвие, если бы он, ворон, мирно почесывая крыло, не заметил вдруг метрах в ста от ольхи человека. На человеке болтался просторный козловый тулупчик, голова была непокрыта, и, что больше всего не понравилось птицам, в руках у него было ружье. Раздвигая руками ветви и нагибаясь, он крался, как кошка, и изо всех сил старался быть незамеченным.
— Ну, вот скажи, есть у этого дурака хоть капля мозгов? — не отрывая глаз от охотника, в сердцах сердито воскликнул ворон.
— У какого дурака? — откликнулась она и обратила взор туда, куда был направлен горбатый, выцветший от непогоды и превратностей времени клюв спутника жизни. — Вот еще не хватало!
— Странно, мяса нашего вроде не употребляют?! Что ж это за охотник, если не знает про это… — не мог скрыть тревоги он.
— Охотник! Будет тебе настоящий охотник лезть в паршивый подлесок. Гость чей-нибудь, наверно. Дорвался до ружья и балуется.
— Мы-то ему тогда вроде не на что?!
— Да кто его знает, может, и не на что. Может, дрозда всего-навсего подстерегает, — ухватилась за соломинку она.
— Верь ему! Пальнет и давай хвататься за голову: ворона! Ошибся! Ты гляди, как крадется-то!
— Точно. К нам подбирается! Похоже, дурень такой, что по чем попало будет палить…
— Как бы не так! И перышка с нас не сбросит! Нашел простака! Знал бы, что я чуть не триста лет на землю гляжу…
— Улетим, что ли? Кабы и в самом деле… — забеспокоилась она.
— Сиди, не бойся! Тулка-двустволка. С шестидесяти шагов и перышка не собьет…
— Что ты все храбришься да хорохоришься?! Не собьет, так оглушит! Какого калибра ружье? Не видно?
— Да не разберу! Зрение изменяет. Не молодой уже… — протянул с сожалением ворон.
Они разом, как по условленному знаку, взлетели — впереди он, крепко, будто топор — полено, рассекая крыльями воздух, позади она. Он вдруг резко, со всего маху, опустился на голую ветку ивы, так, что она пролетела несколько вперед и, вернувшись, пристроилась рядом.
— Ты думаешь, он не видел нас? — Она сегодня была настроена на полемический лад, в другое время соглашалась бы с супругом без возражений.
— Не приставай! Потому я и сел, что видел, — отмахнулся он и отодвинулся к самому краю ивовой ветки. Она не оскорбилась, потому что успела усвоить — за два с половиной века надоест не только ворона, но и самая пестрая пава.
Помолчали, пристально вглядываясь в старающегося подобраться поближе преследователя.
— Будет тебе хорохориться! Поддаться какому-то сопляку! Отлетим за реку, а когда уберется, вернемся, — ворчала она.
— Нет. Помучаю его весь вечер. Истреплю нервы… Протаскаю сквозь бурелом и кустарник! Пусть знает, что с вороной сладить не так уж легко. Поучится уму-разуму!
— Как бы тебе самому эта затея боком не вышла! Улетим на тот берег, от греха подальше!
— Еще чего! Я в этих местах родился! И задолго до этого молокососа. И улетать из-за него? — возмутился он.
Тем временем кудрявая голова охотника мелькнула из-за ольхи, и супруги, взлетев, отступили метров на сто в колючий кустарник.
У преследователя от досады посинели и искривились губы, но он не сдавался, перевязал носовым платком исцарапанную колючками руку и с еще большим упорством двинулся за воронами.
Старики раскачивались, как на качелях, на сухой кизиловой ветви.
— Ты почему летел с разинутым клювом? — нарушила молчание она.
— Да не знаю, не заметил! — огрызнулся он, впрочем, слукавив, потому что в последнее время не то что в полете, даже и на суку сама собой тянула вниз, как отваливалась, нижняя челюсть отяжелевшего клюва. Годы, что ли?!
— Я вот что скажу… — начала она.
Он не откликнулся, потому что не ждал от супруги ничего особенно умного.
— Вот будет потеха, если и за ним кто-то крадется? Вдруг и за ним следят чужие глаза?
— Что ты выдумываешь? — отмахнулся он, косясь на приближающегося чуть не ползком охотника.
— Выдумываю? А почему ты думаешь, что и у людей так не принято? За ними и самими крадутся да выслеживают.
— Ну ладно! Летим! Не то и впрямь, покуда его выследят, он успеет в нас выстрелить. Разбирайся тогда, кто прав, кто виноват…
Вороны лениво взлетели, потянувшись обратно к черному кресту старой ольхи.
Охотник не унывал. Весь в грязи, ползком, исцарапанный, но с горящими глазами крался он за воронами, время от времени прячась за стволами деревьев, чтобы перевести дыхание. Он был уверен, что библейские птицы не замечают его, и искренне удивлялся: «Чего это они взлетают как раз тогда, когда я приближаюсь на расстояние ружейного выстрела?!»
Перевод М. Бирюковой.
61-11-25
Телефон звонил уже давно.
Гела знал, что из-за такого пустяка его жена и девятнадцатилетняя дочь не оторвутся от телевизора. Сбросив одеяло, он спустил ноги и зашарил ими по полу в поисках домашних туфель. Одной не оказалось; Гела встал и, рассерженный, зашлепал к аппарату.
— Алло, алло! Простите, что беспокою вас так поздно! — раздался взволнованный женский голос. — Очень прошу вас, запишите мой номер!
— Подождите, сейчас. — Гела взял карандаш. — А кто вы будете?
— Вы меня не знаете. Мне очень плохо. Может быть, я не доживу до утра. Если вас не затруднит, позвоните мне утром — шестьдесят один… вы слушаете?
— Да-да…
— Шестьдесят один — одиннадцать — двадцать пять. Если я не отвечу вам… значит, я мертва, и вызывайте «скорую» — Вашлованская, пятнадцать, Нелли Квициани. Простите за беспокойство…
— Да… Но откуда вы знаете меня?
— Я попала к вам совершенно случайно.
— Может, вам бы прямо в «Скорую» и позвонить?
— Ничем она мне не поможет. Не хочу.
— А если мне сейчас к вам поехать?
— Нет-нет, не надо! Я не открою вам двери. Если можете, выполните мою просьбу, а если нет, то всего доброго.
Незнакомка повесила трубку.
Гела взглянул на настенные часы. Вот-вот должно было пробить двенадцать.
— Кто это был? — спросила свернувшаяся калачиком в кресле жена.
— Не знаю, не туда попали…
— Как это не туда? Вы десять минут разговаривали! — оторвалась от телевизора дочь.
— Не твое дело. И сядь как следует! Сколько раз можно смотреть «Мост Ватерлоо»! Прямо больны этим телевизором обе!
— Ложись и спи. Разве мы тебе мешаем? — ответила жена.
— А как телефон зазвонит, так мне подбегать? Два шага им сделать лень! Где мой второй шлепанец?
Жена и дочь покосились на стоявшего в футбольных трусах и майке босого на одну ногу Гелу.
— Наверное, под кроватью. Ну иди, папа, не мешай.
— Я-то выйду. А вот ты не видишь, до чего эту девицу сигареты довели? — обратился Гела к жене. — Каков голос стал, а?
— Ничего подобного, я больше не курю! Просто немного простудилась. Иди спать! Мама, скажи ему!
Дочь снова вытянула стройные ноги и водрузила их на голову игрушечного львенка.
Гела пошел в спальню и улегся. Несколько минут он смотрел в потолок, потом снова поднялся, набросил халат, отыскал под шкафом шлепанец, подошел к телефону, спрятал в карман халата адрес Нелли Квициани и вернулся в постель.
Не спалось ему долго.
«Вот встану и поеду. Кто знает, что там с ней. Очень тревожный был голос… Поди объясни сейчас Лили, что я в полночь одеваюсь и выскакиваю из дому потому, что мне позвонила незнакомая женщина: мне, мол, плохо, живу там-то и там-то и, если вы мужчина, помогите! Во-первых, засмеет, во-вторых, не поверит, в-третьих, что-то во всем этом есть от детектива. Неужели она ко мне и впрямь случайно попала? Небось кто-то дурака валяет… Вот только голос у нее такой взволнованный и искренний…»
Люди в большинстве своем предпочитают утешать себя, и диву даешься, как оправдания своим поступкам они находят всюду, в любых ситуациях.
«Если что-то смертельное, этой ночью я ей все равно не смогу помочь, а если нет, потерпит и до утра. Завтра позвоню. Врача приведу или еще что-нибудь придумаю».
И, решив так, Гела успокоился и заснул.
Утром он едва дождался, пока жена и дочь позавтракают и выйдут из дому.
Гела никак не мог выяснить, в котором часу у дочери начинались лекции. Иногда она выходила в полдевятого вместе с матерью, а иногда нежилась в постели до двенадцати, и сколько ни бился отец, сколько ни кричал, ни выходил из себя, так и не смог воспитать дочь, как хотел. Тем более поздно было это делать сейчас — у студентки третьего курса иняза уже была своя жизнь. Гела ощущал, что мало-помалу становится чужим в собственном доме. Уходили в прошлое радости совместного бытия, общности переживаний, чувств, интересов — всего того, что так сплачивает семью. Не только дочь, но и жена не заговаривала с ним, если в этом не было необходимости. Гела оставался наедине со своими мыслями и делами. Работал он инженером-механиком в трамвайно-троллейбусном управлении. Вечерами, когда жена и дочь усаживались перед телевизором, Гела читал в своей комнате и рано ложился спать. Телевизор он ненавидел, именно его считая виновником трещины в своем семействе.
…Оставшись один, Гела перенес телефон к себе и, стоя у окна, набрал номер.
— Алло?
— Слушаю.
Это был голос Нелли, и у него отлегло от сердца.
— Как вы, Нелли?
— Благодарю вас. А с кем это я?
— Это Гела. — Вспомнив, что женщина не знает его имени, он поспешно добавил: — Вы позвонили мне ночью. Голос у вас был встревоженный…
— Ох, простите, ради бога! Муж уехал в командировку, а сын пришел вчера так поздно! Уже большой мальчик, а я извожу себя… Все у них дни рождения или еще что-то, без конца, уж причину найдут… А я больна, вот сердце, видно, и ослабло. Я уж умирать собралась — не дай вам бог испытать такое! Сначала руки и ноги закоченели, потом холодный пот выступил. Еле-еле дотянулась до телефона, набрала первые пришедшие в голову цифры и… вот попала к вам. Думала — упаду в обморок и умру, так пусть хоть кто-нибудь знает…
— Рад слышать ваш голос… А сейчас вам ведь лучше?
— Более или менее… Явился мой недоросль во втором часу, и я немного успокоилась.
— А… что все-таки вас тревожит, если можно узнать?
— Не приведи господь… вас ведь Гелой звать, да?
— Да.
— Не приведи господь, Гела, вам и вашим близким. Вот уже три года я не встаю с постели…
— ?!
— Ноги у меня не двигаются. Отложение солей.
— Так вас соли так запугали? Подождите одну минутку. — Гела открыл окно и прокричал вниз: — Ну-ка марш оттуда! Живо, не заставляйте вниз спускаться? — Он вновь взял трубку: — Извините, ребятишек шугануть пришлось. Тут у нас площадка за домом, так, с ладонь величиной, вот мы, соседи, и разбили в позапрошлом году на ней садик. А детишек потеснить пришлось. Они и озорничают в отместку, негодники, ветки обламывают.
(Автор забыл сообщить тебе, дорогой читатель, что на дворе была весна…)
— Где вы живете, Гела?
— На улице Гурамишвили, последний дом в Ваке, знаете, у начала трассы Ваке — Сабуртало.
— Прекрасное место.
— Место неплохое, только слишком шумное.
— Да, шумно теперь везде…
— Я спросил вас о солях… — Геле показалось, что продолжить тему болезни будет лучше.
— И не говорите. Эти соли хуже чумы, поверьте. Три года, я прикована к кровати. Сначала ноги отнялись, и я оставила работу Я географ, была учительницей в школе. И вот уже год, как не могу двигать руками. Локти и запястья одеревенели, а сейчас и пальцами еле шевелю.
— А боли у вас есть?
— Страшные! Целыми днями только на успокоительных и держусь. Господи, до каких пор терпеть все это?!
— Нелли! Точно не знаю, но, кажется, отложение солей в последнее время очень эффективно лечат! У одного моего товарища… — хотел солгать Гела, но его прервали:
— Не говорите об этом, Гела, не надо, прошу вас! Нет средства, которого мы бы не испробовали. Я и своих уже измучила, и сама обессилена. Со мной уже все ясно. Смерть близка, и у меня остались считанные дни. Расскажите лучше что-нибудь о себе.
— Обо мне… Ничего интересного, Нелли… Инженер. Дочери уже девятнадцать, учится в институте иностранных языков.
— Дай ей бог счастья! А мой окончил в этом году школу и слоняется пока без дела, горюшко мое…
— Никуда не сдавал?
— Сдавал, да баллов не хватило. Вот муж ему сейчас работу по профилю ищет…
— А он кем работает?
— В исследовательском институте охраны труда.
— Вот как… — Гела не знал, что такой институт существует. — Что ж, еще ничего…
— Нет, дни мои сочтены. Все мне опостылело, я и говорить о себе не хочу. Смерть была бы для меня счастьем! Вам кажется, что я преувеличиваю, жалуюсь? Нет, я надоела сама себе!
— Ну что вы! Как можно так отчаиваться!
Геле показалось, что Нелли плачет.
— Простите меня, Гела. За последнее время я стала такой подозрительной, ревнивой… Кажется, что мужу и сыну я уже опостылела… Ну что у меня за жизнь?! Когда остаюсь одна, даже трубки телефонной не снимаю — не хочу слышать родственников и друзей! Доконало меня уже все это: «Как ты? Сегодня тебе лучше? Видишь, и голос бодрее! Скоро совсем поправишься, не бойся!» По-своему они правы, но я устала. Только я одна знаю, что лучше мне уже не будет никогда. Потому и не хочу, чтобы утешали! Кажется, смерть приходит тогда, когда теряешь надежду. А я не надежду — я веру в жизнь потеряла! Даже не помню, было ли мне когда-нибудь хорошо. Принес мне муж стул на колесиках, так раньше я, бывало, подкачу на нем к окну и смотрю, смотрю целый день на улицу — все ж развлечение… А теперь и этого не хочу. Слава богу, недолго ждать осталось, засыплют мне лицо землею, и все кончится, отдохну!..
— Прошу вас, не говорите так! Вот увидите, вы выздоровеете! Чего только люди не переносили!.. А вы…
Гела не находил слов, и в горле у него застрял ком.
— Все это я уже слышала… Спасибо вам большое… Прощайте, Гела.
— Подождите. Вы можете выполнить одну мою просьбу?
— Какую, Гела?
— Не кладите трубку — я буду вам звонить еще, хорошо?
— Не утруждайте себя.
— Очень вас прошу!
— Не нужно. Выбросьте бумажку с моим номером и забудьте его.
— Ну, тогда я сейчас же приеду к вам! — твердо пообещал Гела.
— Ни в коем случае! Уж не думаете ли вы, что я еще похожа на человека? Не то что вам — хоть бы мужу моему и сыну не видеть меня сейчас! Не смейте приезжать!
— Ну, тогда… Не вешайте трубку! Я позвоню вам, только один раз позвоню!
— Хорошо… Посмотрим… Всего хорошего вам.
Весь день на работе Гела не находил себе места. В ушах у него все звучал голос Нелли. Он подписывал какие-то бумаги, отдавал распоряжения, чувствуя, что делает все, как робот, и мысль о том, что где-то рядом беспомощная, отчаявшаяся, тихо умирающая женщина, не выходила из головы. Что он мог? Неужели так рано должны были настать в жизни Нелли Квициани дни, когда уже никто и ничего не мог сделать для ее спасения?..
В перерыве он позвонил ей.
— Это я.
— Я узнала вас, Гела.
Некоторое время они молчали. Оба держали у уха трубки, и Геле показалось, что он явственно слышит, как бьется сердце больной женщины.
Он не знал, с чего начать. Стандартный вопрос о самочувствии был уже ни к чему. Да и сказала ведь Нелли, что не любит, когда ее спрашивают об этом…
— Знаете, сегодня у меня в кабинете столько народу толкалось, что не то что позвонить — стакан воды выпить было некогда! — Гела сам удивился тому, что извиняется перед женщиной, которую никогда не видел. — Запчастей не хватает. Выпустишь на маршрут неисправный троллейбус — отвечать заставят. А чтобы он элементарным техническим нормам соответствовал, из кожи вон лезть приходится…
— Жарко на улице, Гела?
— Сейчас не знаю. Утром прохладно было. А потом и носа высунуть не успел. Скоро потеплеет, пора уже. Апрель кончается.
— Какое сегодня число по-старому?
— По-моему, тринадцатое.
— В прежние числа я больше верю… Гела… — Голос Нелли задрожал.
— Я вас слушаю!
— Очень вас прошу, не поймите меня неправильно… Мне знакомо это чувство… Я позвонила вам прошлой ночью случайно. Мне было очень плохо, иначе я бы не потревожила вас. Эти два часа, пока сын не вернулся, я надеялась на вас. Спасибо вам за эту ночь, за ваше внимание и тепло. Когда вы сказали, что сразу приедете, знаете, как это согрело мне сердце? Господи, шептала я себе, в этом холодном городе есть еще кто-то, сохранивший желание и способность помочь другому. Может быть, именно вы и спасли меня от смерти в эту ночь. Но сейчас положение изменилось. Я чувствую, вы — добрый человек, хотите помочь мне, вселить в меня надежду. Но это оказываемое мне внимание — это просто жалость. А мне жалость не нужна. Еще в прошлом году я сходила с ума, когда телефонный звонок запаздывал, заставляла мужа и сына, где бы они ни находились, звонить мне каждый час… Сейчас мне это внимание лишь досаждает. Я уже подвела итоговую черту в жизни. И вас я освобождаю от джентльменской обязанности быть внимательным ко мне.
— Но ведь мы договорились?.. — чужим голосом попросил Гела.
— Мы ни о чем не договаривались. Поймите, я давно перестала договариваться о чем-либо. Всех благ вам!
— Нелли, прошу вас, не кладите трубку! Я все равно позвоню вам!
— Гела, как-никак я замужняя женщина, хотя сейчас это не имеет никакого значения. Простите, пришел мой врач. Мне надо приготовиться.
«В самом деле, может, она не хочет слышать мой голос? Уж не докучаю ли я ей?» — с тоскою думал Гела, однако через несколько часов почувствовал, что не в силах не позвонить Нелли снова. Почему он это сделал, он объяснить бы не смог. Одно было ясно — эти звонки теперь были нужны скорее ему самому. Еще сильнее, чем жалость к больной женщине, было другое чувство, осознать которое он не мог.
На следующий день он позвонил ей. Во время разговора ему подумалось, что Нелли уже не была так категорична, как раньше, и даже, показалось, ждала его звонка. В течение недели он звонил ей по три раза в день. Говорили они недолго и всегда о чем-то новом. Вслед за радостным нетерпеливым: «Это я!» — Гела начинал торопливо пересказывать, что произошло у него за прошедшие часы, что в городе, какая стоит погода. Оба сами не заметили, как перешли в разговоре на «ты». Каждый день приносил теперь для них что-то новое, которым необходимо было поделиться друг с другом. Он звонил ей с работы, из телефонной будки, из дому, когда жена хозяйничала на кухне, а дочь, теребя ногами уши поролонового львенка, вновь устремляла глаза в телевизор. В последние дни знакомое «это я!» уже не требовалось Нелли. «Да», — тихо окликал ее Гела, и так же тихо, печально и певуче отвечала женщина: «Да-а…»
Близость, которой порою мы не достигаем, живя с человеком бок о бок на протяжении целой жизни, незаметно возникла между ними; они заботились друг о друге, и эта забота целиком захватила их существование.
…— Вот сейчас, через десять минут, ты должна выпить лекарство…
— Да, я знаю…
— Не забудь послать Зуру в четыре часа за «Саирме»! Ровно в четыре я принесу полный ящик. Оставлю в подъезде, под лифтом, как тогда.
— Спасибо…
— Слышишь, я поднимусь, загляну на одно мгновение из дверей, умоляю тебя! Ну какое имеет значение, какая ты?!
— Нет-нет, ни за что! Если ты это сделаешь, я убью себя! Когда настанет время, я поднимусь и сама увижу тебя…
— Хорошо…
— Слушай…
— Да…
— Оденься теплее и возьми зонтик, сегодня передавали, похолодает и будет дождь…
— Будет сделано!
— А на дворе весна?
— Вроде так!
— Ну, все, пока…
— Держись!..
…Когда он позвонил в субботу утром, трубку взял муж Нелли. Гела знал, что отвечать не надо. Муж поднимал трубку и в воскресенье в течение всего дня. В понедельник ее уже не снимал никто.
Вечером в понедельник Гела случайно развернул вечернюю газету. И так же случайно в глаза ему бросилась знакомая фамилия — ведь он никогда не читал траурных объявлений.
Когда все разошлись с кладбища, из бледной темноты весеннего вечера, словно из тела кипариса, возникла тень, к свежей могиле с несколькими брошенными сверху красными гвоздиками на ней шагнул мужчина…
Положив на холмик несколько вишневых веток, он постоял молча и, когда совсем рядом тревожно прошуршала крыльями сова, повернулся и медленно пошел по дорожке к выходу.
…Не мне тебя учить, дорогой читатель, — людское общение полно тайн…
Перевод Л. Бегизова.
ЦЕПЬ
У поворота остановилась старая «Волга». Водитель взглянул на подростка лет шестнадцати, сидевшего в позе «лотоса» возле бамбуковой изгороди. Глаза мальчика были закрыты, он вдохновенно стучал камнем по камню и с таким серьезным видом пел совершенно непристойную песню, что сидевший за рулем человек поспешил покинуть это место.
Он спросил о чем-то бородатого слепого еврея, прислонившегося к дверям базара. Еврей засмеялся и погладил бороду. Приезжий повторил вопрос. «Иди, мил человек, своей дорогой, найди кого-нибудь другого для своих шуток», — ответил слепой и повернулся спиной к приезжему.
Растерявшийся путешественник подошел к точильщику ножей. Когда мастер на мгновение прекратил душераздирающий визг своего станка, чтобы пощупать лезвие, приезжий в третий раз повторил свой вопрос. Приводящий холодное оружие в состояние боевой готовности прежде всего оглядел гостя и, лишь убедившись, что вопрос действительно обращен именно к нему, указал в сторону торчавшего на пригорке, единственного в поселке четырехэтажного здания:
— Вон она, гостиница!
Водитель почему-то принял точильщика за русского и, когда тот ответил ему по-грузински, был немало удивлен, однако виду не подал. Он взглянул на указанное строение и, садясь в машину, подогнул полы пальто.
Гостиница была не огорожена. Вероятно, причиной этому послужило то, что она возвышалась на отвесной скале. Кроме как по автомобильной дороге, добраться к ней было невозможно даже на лошади. Вместо ворот в земле торчали два рельса, связанных цепью, снабженною амбарным замком. Отсюда до гостиницы оставалось еще добрых метров сто. Администрация твердо решила, что приезжать в гости — дело добровольное, гость может не полениться и пройти этот путь пешком. Справа стояло штук пять легковых машин, по уши, если можно так выразиться, в грязи.
Наш путешественник довольно долго разглядывал цепь и озирался по сторонам; потеряв надежду, что во дворе кто-нибудь покажется, он пробормотал несколько слов. Что именно он пробормотал, я вам сказать не смогу, однако глубоко убежден, что в его словах не было и намека на теплоту. Он открыл багажник, извлек оттуда новенький, внушительных размеров треугольный напильник и принялся пилить висячий замок.
Это происходило морозным утром двадцать третьего декабря.
Укутанное в шелка облаков солнце удивительно походило на луну. Оно было таким же бледным, безжизненным и холодным.
Кругом, на прекраснейших Дзандзалетских горах, давно уже лежал снег. Над поселком носился морозный ветер и примешивал к редкому дождику маленькие снежинки.
Мужчина, пиливший замок, судя по всему, не имел достаточных навыков в этой области; скоро устал. Разок он даже провел напильником по большому пальцу собственной руки. Поначалу это не привлекло его внимания, однако, когда из-под ногтя начала сочиться кровь, он вытащил из кармана брюк платок, утер пот со своего почти безбрового лица, после чего замотал платком палец. Движение, напильника мужчина сопровождал ритмичным сопением; время от времени, он на мгновение останавливался, прислушивался к вою ветра и переворачивал напильник. Роста мужчина был высокого, а худобы — подозрительной. На его бесцветном лице выделялись широкие и густые, как ржаные колосья, усы и большие печальные глаза. Своей сутулостью и поникшим видом он напоминал библиотекаря. Двигался так, медленно и вяло, что, казалось, загорись у него дом, он и тогда не станет шевелиться быстрее. На нем был дешевый польский плащ; когда мужчина наклонялся, голубая вуаль, изящно повязанная между галстуком и пиджаком, падала, мешая своему владельцу орудовать напильником.
Завершив свое дело, мужчина далеко отшвырнул замок, заботливой рукою повесил цепь на рельс, спрятал напильник обратно в багажник и на первой скорости ввел машину во двор. На ступеньках лестницы его поджидал рослый кудрявый милиционер лет сорока в коротком, словно с чужого плеча, кителе.
Приезжий достал чемодан, стараясь не встречаться глазами с сержантом милиции, и только налег было на неподдающуюся дверь, как до него донеслось строгое и категоричное:
— Гражданин!
Приезжий обернулся.
— Будьте добры, подойдите сюда, — сотрудник государственных органов обладал голосом диктора радио — звучным и бархатистым.
Мужчина поставил чемодан и вернулся на четыре ступеньки вниз.
— Что вам угодно? — спросил милиционер.
— Я хочу, чтобы мою машину не угнали, если такое желание не покажется вам странным, — патетично улыбаясь, отвечал приезжий, собираясь следовать своей дорогой.
— Погодите, гражданин. Вам известно, для чего там была цепь?
— Какая цепь? — спросил приезжий с единственной целью выгадать время, ибо он прекрасно знал, о какой цепи шла речь.
— Которую вы перепилили.
— Но ведь иначе я не мог въехать во двор.
— Ну и что же?
— А то, что я долго думал и не обнаружил в действиях того, кто привязал эту цепь, и тени здравого смысла.
— И поэтому вы взяли и перепилили замок?
— Не стану от вас скрывать, перепилил.
— Знаешь, как называется то, что ты сделал? — почему-то перешел на «ты» милиционер, что, по всей вероятности, означало угасание последней искорки уважения к гостю.
— Это называется — перепилить замок. — Приезжий смотрел прямо в строгие голубые глаза милиционера и улыбался. Эта улыбка выводила блюстителя порядка из равновесия. Такого с ним никогда еще не случалось; как бы распален он ни был, он старался не выходить из себя. Он словно на сцене Дома культуры фальшиво и бездарно играл роль работника милиции.
— Ну а дальше? — Милиционер поглядел в сторону.
— Что дальше?
— Вы же взрослый человек, вы что, не понимаете, что я поставлен охранять эту цепь?
Приезжий приблизился к стражу порядка и почти шепотом произнес:
— Может, над вами подшутили? Зачем сторожить запертую цепь?
— Понадобилось, как видишь.
— Не понадобилось, а кому-то захотелось.
— Не морочь мне голову! Сейчас же выведите машину и повесьте замок на место, иначе кто-нибудь еще последует вашему примеру.
Приезжий прижал к груди обе руки и упал на колени перед милиционером:
— Не губи, как брата тебя прошу. Сейчас, вот только чемодан занесу в номер, вернусь и повешу новый замок. Дай мне десять минут сроку, не ссылай меня в Сибирь, не оставь мою семью без кормильца. Как же это я опростоволосился, в жизни себе не прощу. Разве ж я мог подумать, что совершаю антигосударственное дело? Я думал: простая цепь, кому она нужна. Разве я знал, что на эту цепь выделен целый штат?
Было ясно, что гость издевается. Наглость приезжего внушила милиционеру некоторые опасения. Он решил немного повременить: а вдруг приезжий какая-нибудь важная персона, не попасть бы впросак? В таких делах по сравнению с бедными милиционерами важные персоны всегда правы.
— Постойте, наш разговор еще не кончен. — Сержант вновь вернул подошедшего к двери путешественника.
Человек с чемоданом удивленно оглянулся: вроде бы все уже выяснили, что еще нужно этому достойному человеку?
Милиционер раскрыл кожаный планшет, достал бумагу и карандаш (судя по всему, химический), лизнул его кончиком языка и спросил:
— Ваша фамилия?
— Гоголашвили.
— Имя?
— Агатанг.
— Профессия?
— Лимонщик.
— Не понял?
— Я работаю в экспериментальном хозяйстве, вывожу морозостойкие сорта лимона.
— Должность?
— Рабочий-лаборант.
— Имеете высшее образование?
— Нет.
Представитель органов сложил бумагу и спрятал ее в планшет, затем поднес к виску правую ладонь и еще более категорично, чем прежде, заявил Агатангу:
— Сержант Хетагури. Вот что, гражданин Гоголашвили, вы нарушили внутренний распорядок гостиницы и, распилив замок (за чем последовал въезд машины во двор), помешали представителю власти исполнять свои обязанности. Это дело относится к гражданскому кодексу, но я обязан предупредить вас, что, если подобный случай повторится, вы будете строго наказаны.
Хетагури не стал дожидаться ответа и отправился на поиски нового замка.
Лимонщик Агатанг Гоголашвили взглянул на хмурое лицо администратора. Он даже не спросил, имеются ли свободные номера, поскольку знал, что на такой вопрос большинство администраторов отвечают отрицательно. Заполнив анкету, он вместе с паспортом протянул ее администратору и тоном, не допускающим возражений, попросил:
— Пожалуйста, чтобы окно выходило на эту сторону. Я люблю разглядывать панораму.
— Что? — Администратор поднял очки на лоб.
— Панораму, — чуть не по слогам повторил приезжий.
Этого слова оказалось достаточно, чтобы Агатанга Гоголашвили поместили в один из лучших номеров гостиницы.
Ночь эта для администратора прошла в размышлениях о мировых проблемах и заботах об общественно полезных делах.
Утром, пока не пришла смена, администратор перекинул через плечо полотенце и решил сходить к ручью умыться. На краны в гостинице он даже не глядел. Служба водоснабжения поселка раз и навсегда разбила его сердце, и произошло это в то самое утро, когда, к величайшему удивлению самих водопроводчиков, из всех кранов гостиницы, безнадежно оставленных открытыми две недели назад, с невиданным, аппетитным напором ринулась вода. Выйдя во двор, он внимательным взором окинул окрестности, быстро повернулся, размахивая полотенцем, словно знаменем, кенгуриными прыжками одолел лестницу и принялся будить погруженного в свои незатейливые сны Хетагури.
— Пилит!
— Кто? Кого? — захлопал ресницами блюститель закона, садясь на постель.
— Цепь!
Через две минуты хранитель цепи уже трусцой бежал к нарушителю, застегивая на ходу ремень.
Гоголашвили, обмотав руку платком, с достоинством орудовал напильником.
Администратор был охоч до развлечений, он позабыл о своем желании умыться, повесил полотенце на шею и прогуливался неподалеку, словно случайно оказавшись свидетелем печальной сцены.
Поблизости также находились двое граждан на своих «Жигулях». В руках у граждан были тряпки, которыми хозяева чистили свои утратившие естественный цвет машины, то и дело поглядывая в сторону Гоголашвили.
Сержант поначалу прибег к угрозам, когда же это оружие оказалось бессильным, он навалился на лимонщика, отобрал у него напильник и отбросил в сторону злополучный инструмент.
— Гражданин милиционер, — выпрямился Гоголашвили и громко, чтобы слышали двое с тряпками, начал: — Вы, как и все чиновники на земле, насколько мне известно, давно уже лишены права физической расправы. Ваши безотчетные действия причинили боль моему пальцу, но я не дам ходу этому делу. Если я совершаю нарушение, меня следует наказывать в административном порядке, а воспитывать меня вас никто не просит. Действуйте так, как предписывает вам закон. Что до меня, то я не испытываю ни малейшего желания брать у вас уроки дзюдо. Поэтому, если вы подойдете ко мне ближе, чем на метр, я позову людей, которые будут свидетелями, и заставлю вас отвечать за злоупотребление физической силой и служебным положением.
Приезжий произнес эти слова с полнейшей дипломатической невозмутимостью, затем нагнулся, отыскал в траве напильник и сунул замок с перепиленной дужкой себе в карман. Повесив цепь на рельс, он на парадной скорости вывел машину со двора и, проезжая мимо надувшегося от злости милиционера, ласково ему улыбнулся и, кажется, даже помахал рукой.
Даже не взглянув на администратора, всем своим видом выражавшего готовность служить закону, Хетагури взбежал в дежурку, схватил свою оперативную сумку и помчался в отделение милиции.
Начальник поселковой милиции Гиго Хубулури, которого вот уже три года собирались перевести в другое место и у которого в связи с этим было настроение, именуемое чемоданным, заставил своего подчиненного дважды повторять фамилию и род занятий «чокнутого» гражданина, после чего долго постукивал карандашом по столу, однако ничего утешительного для Хетагури сказать не смог, действительно, чем, собственно, мог помочь он? По словам Хубулури, если составить рапорт, то Хетагури окажется более виновным, чем этот чудак. Ведь ему поручена лишь одна-единственная гостиничная цепь и больше ничего, интересно, что бы он делал на месте Гиго Хубулури, где надо наблюдать за целым поселком, и вообще, он же не в санатории, надо быть настороже и не допускать, чтобы какие-то граждане пилили замки.
— Я из-за твоей цепи дело заводить и человека ловить не стану. Прокурор со смеху помрет. Он мне и так уже на этой неделе два дела вернул без санкции. Иди найди новый замок и будь повнимательнее. Этот Агатанг, или как его там, видать, кляузный тип, смотри не поддавайся на провокации.
По поселку скоро разнесся слух, что приехал человек, который с утра до ночи пилит цепь во дворе гостиницы. Эта цепь давно уже мозолила всем глаза, но, поскольку заявления и анонимки до сих пор ни к чему не привели, многие этому слуху не поверили и рассказ о «подвиге» Гоголашвили сочли сплетней. К кому только не обращались в разное время власти поселка и активисты молодежных клубов с петициями, в которых говорилось, что дела в поселке идут хорошо, но цепь эта все портит — от нее у гостей падает настроение. Все, кому принадлежало решающее слово в этом вопросе — начальник поселковой милиции, директор гостиницы, заведующий отделом благоустройства поселкового исполкома, и в личных заявлениях, и в публичных выступлениях, бия себя в грудь, доказывали, что цепь не нужна, но толку не было, никто не появлялся, чтобы снять ее.
Было уже за полдень. Сержант Хетагури замкнул цепь новым замком и, несмотря на холод, уселся там же под сосной, подобно пауку, поджидая жертву.
Человек десять шоферов, любителей зрелищ, остановились неподалеку, всем своим видом показывая, однако, что у них свои дела и судьба цепи их совершенно не волнует. Они равнодушно беседовали о погоде и прошлогоднем урожае.
Гоголашвили появился к вечеру.
Он, сопя, вылез из машины; судя по всему, устал за день. Немного постоял перед цепью, склонив голову, как человек, пришедший выразить соболезнование, затем покачал головой, натянул новенькие кожаные перчатки, вытащил из багажника напильник и тяжелым шагом направился к цепи.
Вокруг Агатанга словно из-под земли возник круг людей, взирающих на увлеченного своей идеей гостя с безмолвным сочувствием. И если не раздавалось возгласов одобрения и никто не попытался ему помочь, то лишь потому, что под сосной сидел распираемый злостью милиционер Хетагури с горящими, как у филина, глазами.
Сотрудник органов некоторое время наблюдал за нарушителем порядка, затем стремительно выскочил из своего укрытия, словно опасаясь, что рецидивист уйдет от него, схватил его за руку, державшую напильник, и громко возгласил:
— А сейчас? Сейчас ты тоже будешь отпираться?
Агатанг переложил напильник в другую руку, поднял голову и обратился к народу:
— Граждане, уберите отсюда этого человека, пока ничего худого не случилось! — В голосе Агатанга слышалась угроза, рука его напряглась, как у боксера; Хетагури почел за благо отпустить его и, подбоченившись, стал рядом.
— Нечего тут мне угрожать. Имей в виду, привлеку тебя к ответственности! — Коба Хетагури не собирался отступать.
Гоголашвили усмехнулся и снова повернулся к народу:
— Граждане, объясните этому почтенному человеку, что я не собираюсь убегать. Два дня он, как гиена, преследует меня. Пусть привлекает к ответственности когда угодно и где угодно. Меня надо было бы ловить, если бы я убегал, разве я не прав?
— Прав! — крикнул кто-то из толпы.
— Так вот, пусть он больше ко мне не прикасается, пусть не доводит до греха. Я уже устал предупреждать. А что до цепи, то я вам обещаю, двадцать раз в день будут вешать новый замок — двадцать раз я его сниму. Мне не надоест. Я сегодня купил еще три напильника и вот эти перчатки, что на мне.
— Что, так и будем здесь стоять и слушать эти гнусные разговоры? — обратился к народу Хетагури.
— Что же я такого гнусного сказал, гражданин милиционер? — Улыбка не сходила с лица Гоголашвили.
— Двадцать раз он распилит, как бы не так! Что здесь, трактир твоего папаши, что ли? Кто тебе даст!
— Чего ты мучаешься, принеси ордер и арестуй меня. Заодно и фамилии свидетелей запишешь.
Этот совет пришелся Хетагури по душе, он раскрыл планшет, достал чистый лист бумаги и подскочил к толстому человеку с рыжими бровями:
— Како?
— Что? — отвечал Како.
— Будешь свидетелем.
— Нечего тут свидетельствовать, спрячь свою бумагу, тоже мне писатель, — с недовольным видом отвернулся Како.
Остальные тоже отказались быть свидетелями.
— Ничего он плохого не делает!
— Иди своей дорогой, будто не знаешь, кто распилил!
— Лучше бы воров ловил, весь поселок стонет!
— Спать спокойно ночью невозможно!
Диалог милиционера с населением продолжался. Гоголашвили тем временем с присущим ему достоинством и усердием продолжал пилить замок.
— Так что же, из-за этого меня должны из органов выгнать? — В голосе Хетагури уже звучали слезы.
— Ты смотри, чтобы у тебя во всем остальном порядок был, а за это тебя никто не выгонит, — успокоил кто-то.
— Коба, между нами, ты же и сам знаешь, что эта цепь здесь не нужна? — спросил Како.
— Знаю, — согласился милиционер.
— Тогда в чем дело? Он же для нас пилит, надо ему помочь, — попросил Како.
— Мне, мне ему помогать?! Вы не знаете, что мне сегодня устроил Хубулури. Тебе, говорит, поручили одну-единственную цепь, и за той проследить не можешь? Сколько раз говорил вам: поставьте вопрос все вместе, коллективно, и я отдохну, и вы, — жаловался сержант.
— Мы уже ставили вопрос, никто внимания не обращает, — снова ответил Како.
— А мне-то что делать? Я человек маленький, что приказывают, то и должен выполнять.
Гоголашвили сунул перепиленный замок в карман, осторожно, как хирург, повесил на рельс конец цепи и обратился к милиционеру:
— Тут я тебя понимаю. Но у тебя на плечах имеется прекрасная голова. Как можно всю жизнь бездумно делать то, что приказывают. Не то нынче время. Твои начальники тоже могут ошибиться, это ты и без меня знаешь. Надо иногда не побояться встать и сказать: так не годится, так неправильно. Повесят тебя за это, что ли? По-моему, нет.
Затем Гоголашвили поблагодарил собравшихся за сочувствие, медленно въехал на машине во двор гостиницы, оставив поникшего сержанта во власти народа и горьких размышлений.
Поздно вечером кто-то без стука вошел в номер Агатанга Гоголашвили, однако, увидев, что тот уже лег, закрыл дверь и постучался.
— Войдите, — отозвался Гоголашвили.
В дверях стоял сержант Коба Хетагури.
— Будь человеком, не прогоняй меня. Не обижайся. Не вставай, не вставай, а то я уйду. — Он пододвинул себе стул. — Не беспокойся. Душа не стерпела… Путано говорю… — Он расстегнул верхнюю пуговицу на сорочке, глубоко вздохнул и, уставившись в потолок, посерьезнев, насколько было возможно, начал, словно исповедь: — Мой отец, уважаемый, говорил: иногда нужно самого себя обгонять. Он был человек неученый. Знаете, что он хотел этим сказать? Что надо уметь посмотреть на себя со стороны. Обогнать свои поступки. Теперь я понял, как прав был мой отец. Вот это я и хотел тебе сказать, больше ничего. Не обижайся, что среди ночи вломился к тебе. Я не хам. Но сегодня у меня бы сердце лопнуло, если бы не пришел. Не получается у нас, трудно, а так, конечно, вы правы. Так и должно быть. Иногда человек должен обогнать самого себя. Мы уже не дети. Дай бог тебе здоровья. Хорошие ребята у нас в поселке, у многих длинные языки, а разве кто-нибудь перепилил? Никто. Послушай, зачем здесь эта цепь? От кого мы запираемся? Пусть человек свободно входит. Зачем действуем людям на нервы?..
Милиционер и «нарушитель» долго еще беседовали в ту ночь.
Утром администратор объявил Гоголашвили, что в гостинице ожидают туристов из Германии и нужно до двенадцати часов освободить номер.
Агатанг спорить не стал.
— Я все равно собирался уезжать, — проговорил он, вернулся в номер и вскоре появился вновь со своим желтым потертым чемоданом.
На другой же день после отъезда Гоголашвили у въезда в гостиничный двор повесили цепь. На ней был новый замок, и сторож у нее тоже был новый. Сержанту же Хетагури поручили следить за порядком на рынке.
Необычное посещение Агатанга тем не менее не прошло бесследно.
Кто-то за месяц трижды снял замок. Правда, тайком, ночью, когда милиционер крепко спал.
Но все-таки снял.
Перевод А. Златкина.
ГОЛУБЫЕ РОГА
Переулок изрисован кружевной тенью от резных балконных перил. На краю журчащей по одну сторону переулка канавы рядком сидят утки, опустив в воду желтые клювики. Поднимут головки, прислушаются к доносящимся из подвала дома за зеленой калиткой стуку и визгу — и снова склоняются к затерянной среди камней воде. Сунут в канаву лопатообразные клювики, замутят в ней воду, потом гортанно переговорят о чем-то между собой, поправят крылья на время и усядутся. Зачем они все это делают — одному богу известно. Вода, текущая из неисправного крана, не несет с собой ничего съедобного, да и не жарко (стоит декабрь месяц), чтоб можно было предположить, что им захотелось прохладиться. Простодушный человек может подумать, будто утки просто развлекаются. А может, они и в самом деле развлекаются, кто их знает.
В освещенном самодельной неоновой лампой подвале сидят пятеро мужчин. Шестой стул, сплетенный из ремней, пустует. Все пятеро, не поднимая головы, словно дуясь друг на друга, молча сосредоточенно пилят лежащие на двухаршинном столе рога с локоть величиной. Рога эти по виду либо сайгачьи, либо турьи. Впрочем, это не имеет никакого значения. А чтобы превратить простой рог в винный, нужны немалая сноровка и усердие, особенно для таких новоявленных специалистов, как члены кооператива «Турий рог».
Низкий, приземистый бритоголовый мужчина прерывает работу, дотягивается до пристроенной на краю стола почти догоревшей сигареты, мизинцем стряхивает с нее пепел, хлопает себя обеими руками по карманам в поисках спичек, закуривает, делает одну затяжку, кладет сигарету на прежнее место, встает, подходит к окошку, отодвигает шелковую шторку и глухо произносит:
— А праздничная демонстрация? Как же теперь будет с праздничной демонстрацией?
В мастерской смолкает визг пилок. Все сначала смотрят на стоящего у окна, потом складывают на стол рога и пилки и недоуменно таращатся друг на друга.
— С какой демонстрацией?
— Да это я так, к примеру. Как мы будем на демонстрацию выходить? Вот так, впятером? К какой колонне пристраиваться будем? Спросят нас: кто такие, от кого отстали? А мы что скажем?
Кто-то смеется.
— Ты смейся, смейся, а нас могут вообще не пустить. Если хочешь знать, отдельные лица вообще на праздничную демонстрацию не допускаются.
Один из них, с обнаженными до локтей могучими волосатыми руками и с едва умещающимися на верхней губе толстыми усами мужчина, отзывается раскатистым басом:
— При чем здесь демонстрация? До нее ли нам сейчас, Бения?
— Да это я так, к примеру, — Бения скребет затылок и снова смотрит в окно на горную вершину, освещенную желтым светом упрямо вырывающегося из-за туч снопа солнечных лучей.
Совершенно прав уважаемый читатель, нахмуривший в эту минуту лоб и уже готовый отложить в сторону мою новеллу. То я от уток никак не мог оторвать глаз, то занялся группой неизвестных, занимающихся обработкой рогов в каком-то таинственном подвале, то вдруг заставил одного из них задать этот в высшей степени странный вопрос: в каком порядке должны будут строиться во время демонстрации члены кооператива (и вообще, должны ли они будут принимать участие в демонстрации). Читатель любит конкретный разговор, и он прав. Так что теперь совсем не время описывать опускающиеся на горную вершину золотистые облака. Поэтому немедленно перехожу к делу.
Элептер Шубладзе, около трех десятков лет проработавший на заводе, расположенном неподалеку от сорок седьмого почтового отделения (прошу у читателя прощения, но назвать более точный адрес завода я пока не могу из военно-патриотических соображений. — Р. М.), прочтя в газете о том, что отдельным гражданам или группе граждан предоставляется право открывать кооперативы, твердо решил создать кооператив. Не нарваться бы в поисках сотоварищей на жуликов, подумал он и первым делом отправился к своему двоюродному брату по отцовской линии Каки Чакалиди. Каки работал смотрителем зеленых насаждений в парке имени Третьего Интернационала. Благодаря постоянному пребыванию на свежем воздухе вид у него был очень здоровый, аппетит отменный, и единственное, на что он жаловался, так это на безденежье. Заманчивая идея создания кооператива воодушевила Каки, и он тут же согласился на предложение кузена, однако им пришлось изрядно поломать голову над выбором профиля будущего кооператива. Открывать хинкальную или шашлычную — неоригинально, да и конкурентов будет слишком много. Идею создания пошивочной мастерской братья тоже отвергли: дескать, когда еще мы научимся шить… Спорили, спорили и, наконец, сошлись на создании кооператива по выпуску винных рогов. Мол, если даже не достанем турьи, то уж бычьих, буйволиных и козьих рогов у нас пруд пруди. Кроме того, создание такой мастерской не требует особых затрат, да и клиентов будете сколько угодно. Винные рога, не говоря уж о местном населении, и у иностранцев пользуются спросом. Что там ни говори, а это все же особая, необычная разновидность посуды. Остальных трех членов кооператива кузены нашли, надо признаться, не без труда. И Каки, и Элептер мало что смыслили в технологии обработки рогов, хотя было бы неверным утверждать, что оба они (особенно Элептер) были в этом деле полными профанами. Оба с детства умели и кой-какую домашнюю утварь смастерить, и люльку со всеми ее принадлежностями выстрогать, и янтарные бусы нанизать. И все же было желательно, чтобы трое остальных членов кооператива были специалистами по обработке рогов. Многократная высадка десанта кузенов в конце рабочего дня возле третьей экспериментальной фабрики объединения «Кинжал»… и проведенная ими среди расходившихся по домам рабочих пропаганда преимуществ кооперативного труда дали в конце концов свои результаты. Недели через три фабрику по собственному желанию покинуло двое специалистов: Гизо Таригашвили и Бения Гибрадзе. Что же касается Кичии Квеквескири, пятого члена кооператива, то ему увольняться не пришлось, так как он временно был безработным. Он был мастером по холодной обработке точных деталей, работал на заводе по изготовлению торфяных сверл, и у него случился крупный разговор с председателем месткома из-за того, что он в свободное от работы время у себя дома делал винные рога и продавал их инженерно-техническому персоналу завода.
В райсовете членов будущего кооператива приняли очень радушно, однако утвердить их кооператив отказались. Во-первых, дескать, не сможем обеспечить вас помещением — помещений у нас нет. Во-вторых, бойня не будет снабжать вас материалом, так как у нее уже двадцать пять лет, как заключен договор с государственным учреждением — заводом «Вымпел». В-третьих, вообще не советуем вам ввязываться в это сомнительное дело: сегодня кооперативы разрешили, а завтра могут запретить, вот и останетесь на мели, как выброшенные на берег рыбы. «Значит, вы нам отказываете?» — не без апломба спросил Элептер. «Да что вы, кто вам отказывает, — как можно», — пропел заведующий кооперативным отделом. «Так что же это, если не отказ?» — повысил голос Каки. «Ну, — говорит заведующий, — раз вы такие упрямые, ищите себе помещение, доставайте рога, а мы, когда увидим, что вы люди деловые, конечно, утвердим ваш кооператив, куда мы денемся».
В тот день, когда они вышли из кабинета начальника, Гизо проворчал: «Если они ни помещением нас не обеспечивают и вообще ничем не помогают, так зачем оно нам нужно, их утверждение — будем сами по себе делать рога и продавать». Но друзья не поддержали это его предложение, да и сам Гизо, поразмыслив, испугался собственных слов: не могут существовать в нашей стране такие кооперативы, которые хоть где-нибудь не были бы утверждены и зарегистрированы.
Сотоварищи развили бурную деятельность. Сняли подвал на Саихвской улице (хозяину дома они обязались давать в месяц пятьдесят рублей и семь рогов), Кичия по дешевке раздобыл где-то рога и доставил их ночью в подвал на соседском «виллисе». В исполкоме их еще и после этого изрядно помучили, прежде чем утвердили кооператив. Однако они все же добились своего — и в описанном нами в начале этой новеллы переулке, за зеленой калиткой появилась созданная неопытной рукой самодеятельного художника вывеска с голубым винным рогом и косой надписью «Кооператив «Турий рог» № 7». Кооператив по изготовлению винных рогов в городе был пока один, так что откуда взялся этот № 7 — сказать не берусь.
Видели бы вы, с каким рвением принялись они за работу. Оказывается, не нужны никакие табеля, никакие горны, чтобы заставлять людей вовремя являться на работу. Утром прибегали, опережая друг друга. Ни минуты не теряли зря. Друг к другу относились с добротой и уважением. И за месяц эти пять человек изготовили столько рогов, сколько директору завода «Кинжал» не давалось выпустить и за квартал. Куча красивых голубых рогов у стены в подвале выросла почти до потолка, и Элептер уже занялся поисками фирмы для их сбыта, дабы вовремя вывезти первую продукцию для ее, как писали в газетах, реализации.
Первый месяц существования кооператива был уже на исходе, и членов «Турьего рога» постепенно стала охватывать странная тоска по тому, что осталось для них в прошлом, по тому, с чем они, по их мнению, навсегда распростились. Первые искры сомнения в и без того смятенные души кооперативщиков заронил Бения.
— А как, к примеру, будет у нас с пенсией? — спросил он в позапрошлый вторник.
— Да что нам о пенсии думать, — безответственно отозвался Элептер, хотя в сердце его все же кольнуло: «А и вправду, кто нам назначит пенсию, ведь мы практически уже отделились от государства, кто же позаботится о нас в старости?»
— Не думать, говоришь? Не знаю, как вам, а лично мне до пенсии рукой подать. На что потратил силы и молодость — неизвестно, эх, пропади все пропадом. — Гизо покрутил колесо и подравнял край рога.
— Но и так тоже не годится. Я вот стоял в очереди на квартиру, на телефон… — продолжал Бения с очень огорченным видом.
— Ну и что, что стоял в очереди? И всю жизнь простоял бы. Ведь зря ж стоял, ну, признайся.
— Все же была какая-то надежда. Иногда человека и ложь поддерживает. Чего мне стоило только на учет стать!
— Ну да, конечно. На учет стать — целая проблема. Как будто этот их учет что-то дает. Ну и стой на учете. Наклей себе свой номер на одно место и ходи с ним.
— А ведь в скольких местах мы были занумерованы — страшно вспомнить. Номер этого, номер того, и тут номер, и там номер. Попробуй все упомнить! Словно ушами нас к тем номерам приклеивали.
Кичия редко вступал в подобные разговоры, и теперь все удивились, чего это он о номерах вспомнил.
— И все же, если по правде, там было лучше. Совсем одичали мы тут за один месяц. Как это можно, чтоб тебя на собрания не звали, на митинги не приглашали, не объявляли выговор с занесением в личное дело и не снимали его через три дня? В этом снятии ведь тоже своя прелесть была. Ты его ждал… А теперь мы словно в игорном доме находимся и только и ждем, что за нами не сегодня завтра придут и заберут нас, — твердил свое Бения.
— Не бойся, тоска по собраниям и митингам скоро пройдет. Я тебя, конечно, понимаю, но, по-моему, все же лучше, когда ты утром встаешь и знаешь, что тебе нужно за день сделать, для кого стараешься и что будешь с этого иметь. Разве это мало? — был уже наготове ответ у Элептера.
— Да, но если мы все здесь перессоримся, кто нас рассудит? Нет, все то многочисленное начальство — оно все-таки было нужно.
— Для чего они нужны, объясни, будь другом, все эти начальники, что сидели на наших шеях? Чего нам ссориться? Что нам делать? А то ведь ничего невозможно было оставить при себе — все должны были всё про тебя знать! — вскипел Каки.
— Говорю вам, они были нужны. В учреждении обязательно должен быть и свой интриган, и свой нахлебник. Скажем, взять даже того же доносчика — так и у него есть свое место в коллективе. — Бения стоял в центре мастерской, под лампой.
— Вообще-то, между нами говоря, всегда надо сначала все хорошенько обдумать. По-моему, мы немного поторопились, — это был голос Каки. — И никакого поощрения у нас здесь не будет. А там, бывало, придет к тебе корреспондент, щелкнет фотоаппаратом — все же какой-то стимул.
— Какое тебе нужно поощрение, Какия, с ума меня не сведи, ты что, ребенок малый, тебе ж уже пятьдесят лет! Принесешь домой деньги, не будешь думать о том, чем завтра семью кормить, — какое еще тебе нужно поощрение? — с обидой в голосе произнес Элептер.
— Деньги да, конечно, но у нас деньги — это еще не все. Не так у нас жизнь устроена. К примеру, есть у тебя деньги и ты хочешь купить путевку. Кто тебе ее продаст, если ее тебе местком не выделит? — сказал Кичия. — Да что там путевки, а талоны, которые нам выдавало государство?
— Какие талоны?
— Как какие? На мясо, на сыр, на масло.
— Да, наверно, дадут и нам эти талоны. Не оставят же так. Мы ведь за кооператив плату вносим, а это что-нибудь да значит. Думаю, все будет в порядке, все постепенно выяснится, нам надо только свое дело делать, — Элептер и сам почувствовал, что в эту минуту его устами говорил разочаровавшийся в кооперативе, мучимый сомнениями человек.
Вскоре все и вправду выяснилось.
Первый гость явился как раз в тот день, когда Бения завел разговор о демонстрации.
Это был высокий, похожий на сову мужчина. Лицо, словно просом, усыпано оспинками. Вошел и тут же радостно объявил членам кооператива, что он явился с проверкой из ревизионной группы. Ему предложили стул, он сел, раскрыл кожаную папку, снял очки и, словно сделав открытие, громко и несколько даже гордо спросил:
— Это седьмая мастерская, да?
— Седьмая, уважаемый, — отвечал Элептер.
— А другого стула нет?
Кичия встал и придвинул ревизору свой табурет.
— Ну, как рога?
— Вроде неплохо, — опередил всех с ответом Гизо.
— Идут?
— Простите?
— Клиенты, говорю, есть?
— Да пока еще ни одного не продали.
— Чего же вы ждете? — ревизор обвел взглядом подвал и уставился на сложенные у стены рога.
— Да мы, осмелюсь напомнить, только недавно открылись. Хотим с кем-нибудь договориться, чтоб брали у нас оптом. Им так тоже будет выгодно. А у нас где время продавать в розницу?
Гость ничего на это не сказал. Он встал и, прижав к груди папку, деловито приступил к исполнению своих обязанностей. Его интересовало все: где они достали рога, кому принадлежит подвал, сколько рогов в день они делают… Потом инспектор заставил кооперативщиков переложить готовую продукцию к другой стене, дабы убедиться, что у мастерской нет потайного хода. Потом заинтересовался квалификацией Бении. Закончил ли, мол, ты какое-нибудь специализированное учебное заведение по обработке рогов? Есть ли, мол, у вас упаковочный материал, ведете ли учет готовой продукции, завели ли для этой цели специальный журнал? На туманные ответы Элептера ревизор недовольно покачивал головой и делал какие-то пометки в своем журнале.
Окончив ревизию, вымыл руки, уселся на табурет, который ему уступил Кичия, придвинул к себе второй стул, потом, сообразив, что на ременном стуле писать будет неудобно, догадался поменять стулья местами.
Долго писал, бормоча что-то себе под нос и посасывая усы. Кончив писать, попросил Элептера расписаться на акте в двух местах и только после этого заявил: всё, дескать, ничего, но меня беспокоит отсутствие у вас квитанций на приобретение рогов.
— Но в исполкоме нам сказали, чтоб мы их сами доставали, — простодушно оправдывался Элептер.
— Да, конечно, вам так сказали, но смотря как доставать. Те, кто вам их продал, должны ведь были выписать вам какую-то бумажку.
— Если честно, то мы их вовсе и не покупали, а сами собрали. Обошли родственников и собрали. Такие рога, знаете ли, у многих без нужды валяются, — Затараторил с просиявшим от собственной находчивости лицом Каки.
Ревизор захлопнул папку, долго смотрел на Каки укоризненным взглядом, потом спокойно сказал:
— Эти сказки, уважаемый, можешь внукам перед сном рассказывать, если они у тебя есть.
Он вышел и сначала направился было по переулку вправо, но, сделав несколько шагов, повернулся и пошел в обратном направлении. В той стороне, куда он направился, автобусной остановки поблизости не было. Может, он вспомнил о старой трамвайной остановке, которая действительно была тут, за поворотом, до того как ликвидировали трамваи?
Словно узнав, наконец, дорогу к «Турьему рогу», с этого дня повадились в кооператив многочисленные ревизоры и проверяющие. Шли и шли агенты пожарной дружины, службы безопасности производства, общества охраны труда, санитарной инспекции, городской электросети, — эти, правда, долго не задерживались и довольствовались составлением коротеньких актов. Зато часами сидели в мастерской представители народного контроля, исполкомовских рейдов, инспекторской группы и милиции. Если сначала члены кооператива встречали проявляемые к ним со стороны государства знаки внимания спокойно, а Бения в душе, возможно, даже радовался, то постепенно, когда, не говоря уже о невозможности работать, Они просто-напросто устали от всех этих проверок, члены созданного Элептером братства стали отвечать на контрольно-ревизионные вопросы все более кратко и, можно сказать, хмуро.
Каки же однажды так осмелел, что атаковал склонившегося над актом очередного инспектора следующим вопросом:
— А можно и мне у вас спросить?
Ревизор снял очки:
— Слушаю вас.
— Скажите, если это не секрет, почему вы нас проверяете? В чем мы провинились?
— Кто же вам говорит, что вы провинились?
— Так чего же вы от нас хотите? Рога наши, напильники наши, руки вот эти, будь они неладны, тоже наши. Не будем же мы у самих себя воровать!
Если я скажу, что гость сразу нашелся что ответить, то буду не прав. Представитель власти подумал, подумал и придумал следующий ответ:
— И почему у вас, у кооперативщиков, у всех такие длинные языки? При чем тут воровство? Мы вам помочь стараемся, оказать содействие.
— За содействие мы вам, конечно, благодарны, но если уж нам оказали доверие, дали разрешение, то, может, дали бы нам и время для разгона? Ведь за неделю к нам по девять таких помощников является. Мы еще ни одного рога не продали. И не знаем, продадим ли. Может, эти наши рога вовсе и не нужны людям и мы напрасно гнем спины здесь, в этом подвале, — несмело, словно пугаясь собственного голоса, проговорил Элептер.
Представитель содействующей организации вывернул нижнюю губу в ее естественное положение. Просьба Элептера пришлась ему явно не по вкусу, но, как и все его коллеги, он тоже с удовольствием унес с собой «на память» подаренные кооперативом завернутые в газету «Цинсила» два голубых рога.
* * *
Кооперативу «Турий рог» нет еще и трех месяцев, а Элептер уже больше недели назад отнес в райисполком подписанное всеми пятью его членами заявление о ликвидации кооператива. Просьбу свою они могли бы обосновать и получше, но и того, что писали в заявлении собратья-кооперативщики, было вполне достаточно, чтобы закрыть «Турий рог».
Им отказали. Пока, дескать, не можем ликвидировать. У нас пока есть инструкция только по открытию кооперативов. О закрытии в ней ничего не говорится. И вообще у нас еще не было случаев ликвидации кооперативов.
Перевод Л. Кравченко.
МОНОЛОГ УСТАВШЕГО ЧЕЛОВЕКА
МОНОЛОГ УСТАВШЕГО ЧЕЛОВЕКА
Уважаемые члены пенсионной комиссии!
Сорок лет назад, будучи девятилетним мальчиком, я потерял в очереди хлебные карточки. Я о том времени, когда у нас карточная система была. За хлебом такое творилось, такая давка и толкотня — не то что без карточек, без головы легко можно было остаться. Когда наконец-то я пробился к прилавку и не обнаружил в кармане карточек, надо было слышать мой рев. Кто-то оттяпал у меня всю дневную норму хлеба нашей семьи — шести человек. Большего несчастья нельзя было представить, мне казалось, небо обрушилось. Из-за меня, раззявы, семья осталась без хлеба. «Ничего не поделаешь, все бывает», — на сей раз бабушка не последовала этому гуманному педагогическому принципу. Меня побили. Я и сейчас, входя в хлебный магазин, вспоминаю тот день и чувствую легкую дрожь. Почему я заговорил об этом, нет уже в помине хлебных карточек, да и дома никто, кто бы мог наказать меня, не дожидается, и все же не идет тот день из головы. В моей жизни было немало передряг, но о той первой беде забыть не могу.
Когда мне исполнилось двенадцать, умер Сталин. Учитель английского Михаил Якобашвили, высокий, представительный мужчина с усталым лицом, вошел в класс и объявил: скончался вождь. Про вождя мы, конечно, знали, но почему его смерть должна была стать для нас трагедией, не понимали. Весь класс тем не менее по приказу учителя встал. Пока мы стояли в полной тишине, какие только шкодливые мысли не забавляли нас. И все-таки какое отношение имела смерть вождя к нам, мы так и не уяснили. Но учителя своего любили и ради него сколько угодно стояли бы в полной тишине, а при необходимости еще и поплакали бы.
Вернувшись домой, я увидел слезы на глазах отца и понял, умер человек, которого мы все вместе должны оплакать.
Однажды вечером, спустя некоторое время после этих событий, к нам постучалась библиотекарша Шорена и попросила мою бабушку отпустить меня с ней в библиотеку по неотложному делу. Бабушка пригласила ее в дом, и Шорена бросилась к маме, которая сидела за швейной машиной, и стала что-то шептать ей на ухо. «Подожди, спрошу у отца», — ответила мама и спустилась в подвал, где возился отец. Через некоторое время она вернулась и сказала мне: «Пойдешь с Шореной, только потеплее оденься, может быть, придется остаться там до утра».
Это была моя первая бессонная ночь. В библиотеке собралось человек пятнадцать с нашей улицы — «самые активные читатели», сказала Шорена. Я обрадовался, что меня причислили к самым активным. Всю ночь мы перелистывали книги и, когда нам встречалось слово «Берия», либо вырывали лист, либо старательно зачеркивали его имя.
Очень много книг, рассказывавших о героических делах Берии, мы сложили отдельно, а утром развели из них костер во дворе библиотеки. Из остальных книг с превеликим усердием вымарывали любое упоминание о предателе: вырывали его портреты, вырезали стихи, которые известные поэты посвящали ему.
Утром, уставший, измученный бессонной ночью, но довольный и уверенный в себе, шел я домой. Сердце пело от сознания того, что и меня привлекли к общему делу. Я исполнил свой долг перед страной. Одно только удивляло: сколько умных людей, известных писателей встречались с Берией, как они не заметили, что это волк в овечьей шкуре. Пришел я домой. Важно прошествовал через галерею, где собралась вся семья. Подошел к своему столу. Над ним висел небольшой портрет Берии. Я взял ручку и выколол ему глаза. Бабушка простонала, а отец совершенно неожиданно отчитал меня, и, не спрячь я голову в ладонях, моему уху не поздоровилось бы. «Откуда эта жестокость, сукин сын! — гневно выговаривал он мне. — Ну снял бы этот чертов портрет и бросил бы в камин. Разве это по-мужски — выкалывать глаза? И это ведь не последний портрет, который вам придется вырывать из книг — они же скоро все перегрызутся».
Эти слова отца запомнились мне на всю жизнь.
Я никогда не имел ничего общего с большой политикой. Закончив факультет холодной обработки металлов, поступил в аспирантуру политехнического института, в 1966 году защитил кандидатскую диссертацию и по сей день работаю в институте старшим научным сотрудником. В партию не вступил. Если скажу, что меня просили вступить, а я отказался, будет неправдой. В молодости хотел стать членом партии, но, помню, мне отказали под предлогом, что нет анкеты. Тогда, когда хотели отказать, говорили: нет анкеты. А потом уже и у меня прошло желание. Не знаю, как-то перестал думать об этом, и все.
Когда я говорю, что ничего общего с большой политикой не имел, знаете, что я имею в виду? То, что меня никуда не выбирали и высокой должности я не занимал, а так без политики кто бы тебе дал жить. Все «бастилии» Кремля выстраданы мной.
Сперва Сталин измочалил нас, вымотал душу. За те тридцать пять лет, что его нет, никак в себя прийти не можем, никак не переварим, никак не оценим его по достоинству. Иные не прочь вовсе не вспоминать о нем, другие же навечно зачислили его в лагерь убийц и кровопийц, третьи связывают с его именем наши победы. И вправду был недюжинный человек: по сей день столько хлопот нам доставляет, да и волю свою подчас навязывает.
Слова отца — «они все перегрызутся» — преследовали меня всю жизнь. Чего уж скрывать, я заранее знал, чем все это кончится, но ничем не выдавал себя. Вместе со всеми хлопал на собраниях, носил на парадах портреты, как все, ликовал по поводу того, что мы наконец вернулись к коллективному руководству и вышли на верный путь, но оставшись наедине с собой, иронически улыбался — дьявол недоверия нашептывал мне на ухо: «Погоди немного, будет потеха, это что еще за фрукт, Сталину и тому не спустили».
Передо мной пронеслись воздержавшиеся молотовы и «примкнувшие к ним» шепиловы. Увидев Маленкова в сталинском кителе, я уже знал, что в скором времени на него навесят ярлык близорукого политика и с позором выставят из столицы куда-то за Свердловск, где ему доверят небольшое предприятие. Когда Булганин и Хрущев верхом на слонах путешествовали по Индии, у меня сжималось сердце от предчувствия, что вот-вот один из них возложит себе на голову венец, а второго объявят некомпетентным в экономике амбициозным снобом.
Я встречал в метро едущего на Новодевичье кладбище Молотова, бывшего некогда главой внешней политики и правой рукой Сталина, видел, как «побитой собакой» ходил в кулуарах съезда Ворошилов… Так молча, бесшумно, забившись в свои норы, один за другим умирали буденные и микояны — представители старой революционной гвардии.
А когда в один ветреный день в Тбилиси на стадионе «Буревестник» Хрущев размахивал перед нами кулаком, грозно поглядывая на громадное собственное изображение, сорванное ветром, я сказал себе: «И тебе недолго осталось».
Мы стали свидетелями, как Хрущева обвинили в волюнтаризме, зазнайстве и своеволии и история вмиг покрыла его имя пеплом забвения.
А потом нас гнал в болото застоя и безрассудства политический авантюрист не меньшего ранга — Брежнев. И так долго и неотвязно гнал, что мы едва переводили дух, и, не призови его Микел Габриэл, кто знает, как глубоко мы увязли бы в этой трясине, из которой теперь пытаемся выбраться.
Вы можете спросить, чего это я тут расхныкался, ведь жил я в свое удовольствие, в политику не влезал, карьеры не делал, так что горечь падения мне неизвестна.
Не так обстоят дела, мои дорогие, если бы мы действительно жили сами по себе, а властелины властвовали сами по себе, какой дурак поднял бы голос.
Все эти перемещения наверху на моем горбу отзывались. Почему? А вот почему: очереди за черным хлебом, репрессии в отношении тех, кто говорил правду, выбрасывание на ветер миллионов под предлогом «помощи», дурацкие хозяйственные эксперименты, изгнание с Родины, уничтожение наших невинных детей, страх брякнуть лишнее и очутиться на Колыме, изуродованные книги с вырванными страницами, зачеркнутыми цитатами, подорванная вера, утраченные надежды…
Прежде чем вы мне скажете, что сейчас другое время, что сейчас мы на верном пути, я заявляю: да, иные нынче времена. Я буду считать себя счастливым человеком и потерплю какие угодно лишения, если нынешняя политика не вызовет недоверия и сомнений. Но злое предчувствие лишает меня сна. Уже подняли головы скептики: «Вот видите, не надо мучить умирающего. Его не воскресить, сколько ни старайся. Больной организм уже не в силах сопротивляться. Дадим ему умереть и начнем строить заново».
Если я лишусь и последней своей надежды, мне с вами не по пути. За плечами у меня полвека. Все это время я строил с вами, содействовал, помогал. Я устал от обещаний, может ведь человек устать, в самом деле? Если мне полагается что-то вроде пенсии, дайте ее мне и отпустите с Богом.
Перевод Л. Татишвили.
НА РОСИСТОЙ ТРАВЕ…
Этот камин, дорогой мой Павлуша, я сложил сам. Не потому, что поскупился, просто печника не нашел, нет печников. Может, они и есть где-то, сидят себе, ждут клиентов, но я не знаю, где их искать, и махнул рукой. Стены дома были уже возведены и крыша перекрыта, когда я решил построить камин. А в нашей деревне, оказывается, сначала складывали камин, а уж потом возводили стены, сам я этого не помню, разумеется, отец рассказывал. Когда раздали нам эти участки, кто думал о каминах, все бросились заливать раствор в фундамент. Кто был предусмотрительнее, заложил дымоход, а у меня не было никакого опыта, вот и пришлось потом выламывать бетон на две пяди. Положил перед собой брошюру «Камин», выпущенную в серии «Садовое хозяйство», и приступил к делу. Между прочим, с виду камин получился прекрасный, но дымит. Я и дымоход удлинил, и площадь камина уменьшил на один кирпич, но никакого результата — нет тяги. Хотя не только у меня камин дымит, но и те, которые сложили мастера, не знаю, в чем дело, может, место такое?.. Пошли во двор? Видишь саженцы? Посадил четыре года назад, представь себе, мне кажется, тогда они были выше. И поливаю их, и удобряю навозом, все одно — не хотят расти, будто заговорил их кто-то. Не знаю, может, место такое?.. А это огород. Хорошо растут только киндза и морковь. Как ни ухаживаю за помидорами, получаю плоды, пригодные только для соленья, они так и не созревают, остаются светло-зелеными. Воду привозят в цистернах, а у меня маленький бассейн, на полторы тонны. Привозить так мало воды шеститонными машинами шоферам не выгодно, они хотят получить свои двадцать пять рублей, уверяют, что с них сдирает много автоинспектор. Может, и врут, кто их поймет, шоферов-то. Но я, как видишь, нашел выход: подвесил к желобу пластмассовую воронку, которую соединил с пол-дюймовой трубой, ведущей в бассейн. Стоит пойти дождю, как мой бассейн наполняется. А вот в засушливые периоды приходится туго, но и здесь я не сдался, поднимаю воду алюминиевыми бидонами с родника, он недалеко отсюда, километрах в пяти, если останется время, сходим.
Второй год пошел, как построил этот домик, и клянусь Эммануилом, не променяю его даже на караван-сарай. На субботу-воскресенье непременно приезжаю сюда, работа всегда найдется. Воровства здесь меньше, чем в других местах. Как-то взломали мою дверь и украли гитару. Негодная была гитара, семирублевая, через каждые десять минут приходилось ее настраивать. Были в доме и другие вещи — старые рубашки, книги, но вор забрал почему-то только гитару. Раньше я запирал ворота на замок и воры перелезали через ограду. Она проволочная, как видишь, и мне жалко больше ограду, чем мотыгу и кирку, которую выносили из этой хибарки. Вот я и прибил к воротам кусок фанеры с надписью: «Вниманию воров! Прошу ограду не ломать, ворота не заперты, входите смело». С тех пор как повесил эту табличку, ни один вор ко мне не заглядывал. А недавно кто-то украл и табличку, и замок, непонятно только, для чего вору замок без ключей или на что ему эта табличка? Наверное, какая-нибудь скотина это сделала… Порой бессмысленное, нелогичное воровство раздражает больше. Существуют ведь злые и вредные по природе люди, они только и думают о том, что бы и где испортить. Просто у человека чешутся руки. Будь у вора хоть какое-нибудь чувство юмора (одно из качеств, отличающих человека от животного), совершил бы он этот поступок? Я не запираю ворота, запросто приглашаю к себе вора — улыбнись же и иди своей дорогой… Вот такие и разрезают кожаные кресла в театрах и гадят в лифте. Была бы моя воля, я бы судил их самым строгим образом, как особо опасных преступников.
В прошлом году я впервые провел лето на этой даче. Пусть слово дача тебя не пугает. Когда меня спрашивают, где я отдыхал, я решительно отвечаю: «На своей даче». В действительности же она записана как садово-огородный участок, а мой домик предназначен для того, чтобы в нем можно было укрыться в непогоду и хранить сельскохозяйственный инвентарь. Слово дача ассоциируется с каким-то комфортом, наслаждением и уж больно режет ухо. Дачи раздают другим, а мы довольствуемся садово-огородным участком.
Оказывается, если очень захотеть, можно построить не только такую конуру, как моя, но даже раздобыть лестницу до самого неба. Ты-то знаешь мои возможности, какой я мастак доставать материалы и договариваться с мастерами, но я пожертвовал на это дело с таким трудом накопленные на «Жигули» копейки — и сунул голову в пасть льву. Да и друзья и родственники подсобили, одни подарили старые двери, другие подбросили оконные рамы. Повертелся я возле старых, подлежащих сносу домов и почти даром раздобыл кое-какой материал. Хоть и работали у меня мастера, самая тяжелая, черновая работа выпадала на долю моей семьи. Наконец перекрыли крышу и в прошлом году, в начале июня, даже оштукатурили две верхние комнатки. Я не мог дождаться дня, когда наконец смогу жить на своей каравелле.
Не долго думая, я объявил семье: это лето мы проведем на нашей даче. Жена возразила: строительство дома не закончено, нет воды, света, соседей, как можно там жить!
Но я был непреклонен, надоело из года в год унижаться из-за путевок, беспокоить знакомых. В конце концов есть своя дача, где можно прекрасно отдохнуть от городской суеты. Третьего июля мы уложили на крышу моего «Запорожца» шезлонги и другой скарб, заехали на рынок, купили продуктов на неделю и двинулись в путь.
Не поверишь, Павлуша, такого приятного лета, как прошлогоднее, я не помню. Думаешь, мы замучились без воды и электричества? Ничуть! Разве можно сравнить незначительные бытовые неудобства с тем удовольствием, какое мы испытали?! Все лето я не мог избавиться от ощущения, что наконец после долгой разлуки мы нашли друг друга. Чувствую, что выражаюсь высокопарно, но в самом деле это было так. В городе каждый из нас жил своей жизнью, все вечера были похожи один на другой: просмотр газет, телевизор, разговоры по телефону, постель, до которой с трудом доползаешь с распухшей от дневных забот головой. А утром — тревожная трель будильника и рассерженный голос жены из кухни: «Ачико, не забудь учебник географии… Ачико, сегодня у тебя контрольная… Ачико, что ты так долго возишься… Ачико, говорила же я тебе вчера, чтобы ты вовремя лег… Ачико, чай остыл!» Так засосал нас конвейер времени, что мы даже не заметили, как потеряли друг друга. И только здесь, на даче, почувствовали, что мы самые близкие люди, а ведь в городе мы уже давно не разговаривали друг с другом тихо и спокойно, крутимся словно белка в колесе и время от времени говорим друг другу скупые, необходимые в данный момент слова. И каждый погружается в свои заботы.
А здесь все лето мы были вместе. Правда, мы и раньше отдыхали втроем, но твое пребывание в санатории или в доме отдыха превращается в нечто утомительное, тебе не удается побыть с семьей или же наедине с самим собой, со своими мыслями. Там каждый находит себе подходящую компанию: дети носятся со своими сверстниками, жены сплетничают с кумушками, а глава семьи, разодетый, сидит в тени, играет в нарды или ведет умные разговоры о политике. Не знаю, как другие, но такой отдых меня скорее утомляет. Все время находишься в напряжении, словно на старте: как бы не опоздать к обеду, как бы дети чего не натворили… И разговариваешь с людьми, подыскивая нужные слова, ведь надо уметь поддержать разговор с человеком, с которым только познакомился. То и дело посматриваешь на часы, словно ждешь кого-то, будто кто-то должен прийти и забрать тебя с собой. Медленно тянется время от завтрака до обеда, от обеда до ужина. После ужина пристроишься у хриплого телевизора на вынесенном из собственной комнаты стуле или в душном зале посмотришь напичканный нескончаемыми глупостями фильм, возвращаешься поздно ночью усталый и расстроенный, а утром тебя будит орущий под окнами аккордеон, приглашая на зарядку.
А теперь представь себе, Павлуша, что утром тебя осторожно будит пробивающийся через окно робкий луч солнца и вокруг тихо, как в храме. Далеко в лесу, если прислушаться, чирикает одинокая птица. Тишина, самая большая ценность нашего века, разлита здесь повсюду. Выходишь на веранду и, прислонившись к столбу, смотришь на задыхающийся далеко внизу в сером мареве город. Стоишь долго-долго и вдыхаешь прохладный, свежий, напоенный ароматом воздух.
Мягкой кошачьей походкой подходит к тебе жена и становится рядом. Она задвигает занавеси на балконе, чтобы солнце не разбудило сына. «Спит?» — спрашиваешь ты. «Даже не шелохнулся ночью», — тихо отвечает жена. «Видишь, он все время недосыпает. Телевизор — это самый страшный враг детей». — «Здрасте, когда я велела Ачико спать, он бросался к тебе на шею, ты млел от счастья и все ему разрешал». — «Да, когда показывали «Иллюзион», а бывает раз в неделю. Это вы каждый день торчали перед телевизором до двенадцати часов!» — «Все, отныне — никакой поблажки, с сентября в десять вечера он будет уже в постели». — «Посмотрим». Крик сойки стрелой пронзает наш идиллический дуэт. «Явилась», — улыбается жена. Птица так привыкла к нам, что готова поселиться в доме. Она постоянно ошивается вокруг нашей единственной курочки, привязанной в конце двора (мы твердо решили ее не резать), питается с ее стола и даже воду пьет из ее стеклянной банки. Когда я приближаюсь, она на всякий случай взлетает на ветку сухого дерева и кричит. На крик сойки на веранду босиком выбегает Ачико и спрашивает, протирая глаза: «Одна? Вчера с ней была еще сойка». Увидев, что лесная гостья сегодня навестила нас одна, он говорит: «Скоро прилетит и вторая», набирает в кулачок пшено и идет к птице.
После завтрака мы идем к роднику. У нас полно вчерашней воды, но мы все одно идем, чтоб размять кости, прогуляться по лесу. Тропинка вьется среди молодых дубков и кленов, местами теряется и появляется вновь. Я иду впереди, опершись на палку, и оглядываюсь, когда в дуэте голосов жены и сына мне слышатся тревожные ноты: «Отпусти руку, я сам спущусь» или «Ачико! Свалишься, не видишь, ветка совсем сухая!». Случается, мы втроем рассматриваем стебель незнакомой травинки и старательно вспоминаем, на какой странице краткой биологической энциклопедии она изображена и как она называется.
День кажется долгим и безмятежным, все успеваешь сделать, а впереди — уйма времени. Изредка мы соревнуемся в стрельбе из пневматического ружья. Выстрелы не по душе нашей сойке, она криком выражает свой протест и улетает. Вскоре она возвращается и устраивается рядом со своей приятельницей — нашей курочкой. Раньше курочка пугалась лесной гостьи, вскакивала и отбегала в сторону — насколько позволяла ей длина веревки — и беспокойно поглядывала на завладевшую кормом гостью. А потом она так привыкла к сойке, что не обращала внимания даже на ее крик, только взглянет одним глазом на нее и продолжает деловито клевать.
С сумерками мы устраивались на веранде; когда небо темнело и зажигались звезды, мы пытались найти «вторую Большую медведицу», следили за блуждающей звездой до тех пор, пока след ее не терялся в Млечном Пути.
В дождь мы устраиваемся возле камина. В городе на тебя вдруг проливается невесть откуда взявшаяся грязная вода, а здесь, в горах, все иначе. Сначала природа подозрительно замирает, и по склонам гор пробегает тень. Потом поднимается ветер, и все приходит в движение — деревья, кусты, белье на веревке. Ветер волной пробежит по траве и затихнет на секунду. Робко, словно предупреждая, иду, мол, ищи себе укрытие, закапает дождь, а потом вдруг обрушится в бешеной пляске на крышу дома.
Мы сидим перед камином и любуемся огнем. Ты никуда не спешишь, никто никуда тебя не зовет. За окном шумит дождь, в комнате потрескивают поленья в камине, и кажется тебе, что ты на земле обетованной и когда-нибудь вновь вернешься в суматошный город к своим делам, к телефону и телевизору.
Это говорю тебе я, дорогой Павлуша, человек, который позавчера подписался под коллективной жалобой нашего садового кооператива: «Сколько можно терпеть, — возмущались владельцы участка. — До сих пор к нам не провели электричество. Отдыхающие садоводы лишены элементарного комфорта. В каком веке мы живем!..»
Я попытался осторожно возразить человеку, который собирал подписи под жалобой: «Может, не стоит торопиться с электричеством. Я в прошлом году отдыхал без света и чувствовал себя счастливейшим человеком». Он бросил на меня подозрительный взгляд, не сумасшедший ли перед ним. «Электричество, между прочим, это не только свет. Допускаю, что без света можно как-нибудь прожить, но как можно жить без телевизора, без магнитофона!..»
Спорить не имело смысла, и я поставил свою подпись под длинным списком жалобщиков, которые настоятельно требовали: поскорее окуните нас в шум, суету, фальшивые улыбки, несбыточные мечты и бессонные ночи, во все то, без чего мы уже не можем жить.
Перевод Д. Кондахсазовой.
ЗЛОЙ ДЫМ
День и ночь пыхтела горно-обогатительная фабрика. Из четырех огромных труб непрерывно валил серо-желтый дым. Ядовитая пыль, оседая книзу плотным оранжевым туманом, окутывала раскинувшийся на берегу Риони маленький городок Дабазони. В радиусе девяти километров от фабрики кукуруза не давала початка, не успевали созревать огурцы, скрюченные, сморщенные, висели они среди жестких от пыли листьев, а пупырчатые ягоды бледно-зеленого тутовника по вкусу очень напоминали мыло. Много лет отравлялось все окрест, но никому и в голову не приходило объявить прилегающую к фабрике территорию зоной, опасной для жизни. Чахлые деревья стояли немыми памятниками, но люди не жаловались. Не жаловались по той простой причине, что большинство из них смирилось с медленным отравлением и в глубине души даже благодарило небо за то, что возле Дабазони не работает более эффективная машина смерти. Коровы, жующие ядовитую траву, не давали приплода, душа болела, глядя на них… Но… люди не жаловались, раз и навсегда осознав тот факт, что гиганту индустрии, украшению пятилетки, Дабазонской горно-обогатительной фабрике никто не подрежет крылья. Фабрика имела столь большое значение, что в одном из анекдотов ее объявили причиной второй мировой войны.
Дабазонские граждане покорно и дружно глотали фабричный дым. Но порой даже в их без особых претензий сознании мелькала крамольная мысль — так уж ли необходимо руду эту обогащать именно здесь, в Дабазони, в тридцати километрах от места ее добычи.
Однажды приехал отдыхать на море один очень большой человек. Вскоре наскучило ему глядеть на бесконечно синие волны, и он выразил желание прогуляться в соседние районы. Поднялась суматоха. Покуда гостеприимные хозяева утверждали маршрут прогулки, на всякий случай перекрыты были все дороги. Райская тишина воцарилась на трассах. Срочно латали асфальтовое покрытие, покосившиеся от ветхости здания по маршруту следования были выкрашены в фиолетовый цвет, а там, где краска уже не брала, стены были увешаны плакатами. Плакаты, честно говоря, были прекрасны. Читать их правда, было некому, но каждый второй обещал невиданный, неслыханный доселе расцвет жизни до удивления привыкшим ко лжи, не потерявшим в нее веру гражданам.
Во вторник утром из скромного дворца отдыха тронулась в путь прогулочная процессия. Это было очень ответственным делом, можно сказать, даже экзаменом для сопровождающей свиты. Непростым делом это было и для большого человека. В общем-то, хотя прогулка и носила характер неофициальный, но нужно же было хоть раз-другой помахать рукой людям, пригнанным на обочины дороги для приветственных криков. Дивился гость столь великой любви к нему народа. В нестерпимый зной покинуть спасительную тень эвкалиптов и выйти, чтоб приветствовать его, — на это можно было решиться только из великой любви. Разве мог себе представить высокий гость, что эти бурные восторги — результат самоотверженного труда инструкторов и всевозможных организаторов. А озабоченных своими делами горожан раздражала даже такая простая вещь, как перекрытые автоинспекцией улицы, на которых движение не возобновлялось до тех пор, пока не проедет последняя, тринадцатая по счету машина процессии.
Большой человек, предпринявший эту прогулку, был, в общем, доволен. Правда, на отдыхе он не обязан был вершить государственные дела, но время от времени по поводу увиденного из окон машины он ронял мудрые замечания, которые тут же подхватывались его семью помощниками с портфелями. К примеру, проезжая село Верашенда, он проговорил: «Какое маленькое кладбище». А оглядев сверху поселок Грмулети, отметил, что на его месте можно было бы построить прекрасное водохранилище с форелевым хозяйством.
Когда головной отряд эскорта напоминавших канареек мотоциклистов вплыл в оранжевый туман, вольно исторгаемый трубами Дабазонской горно-обогатительной фабрики, приложив к носу белоснежный платок, он поинтересовался, неужели этот дым не вредит посевам. Приближенные, кому вменялось в обязанность фиксировать в памятных книжках его изречения, аккуратно делали это. Что же касается дыма, валившего из труб обогатительной фабрики, то один из хозяев пытался объяснить, что дым этот для жизни не опасен. Услышав это — не опасно для жизни — гость пожелал видеть пожелтевших и высохших от дыма местных жителей и проговорил: «Я думаю, в Японии уже изобрели фильтровальные установки для ядовитых дымов. Узнайте это, и поможем местному населению». И тут у гостя начался приступ кашля, он рукой показал водителю, быстрей, мол, уедем отсюда подальше. Когда кашель унялся, гость весьма и весьма сердито посмотрел на представителя местной власти, который пытался логически доказать, что дым не опасен для жизни.
Были изысканы средства, найдены каналы связи, и через несколько месяцев во дворе Дабазонской фабрики появились роскошно упакованные четыре японские фильтровальные установки. Срочно вызваны были дипломированные специалисты, обучавшиеся в разных вузах великой страны. С тщательной предосторожностью, словно при обезвреживании мины, были вскрыты контейнеры, и начались работы по монтажу установок. Но прежде чем мы перейдем к монтажу, я хочу отметить, что заводской сторож погрел руки на упаковочных материалах — японскую фанеру продал горожанам на кухни, капроновой стружкой законопатил щели в смотровой башне, а местные детишки целый месяц таскали пенопласт, меняя его на конфеты и фрукты.
Не скрою, очень трудной для наших инженеров оказалась эта задача — установить фильтры на дымящихся трубах. Правда, добросовестные японцы учли даже и то, что дабазонские инженеры могут не слишком хорошо знать японский язык, и инструкции и чертежи составили с чрезвычайной точностью. Я не инженер и ничего в этом не понимаю, но, заглянув в чертежи, увидел, что на каждой детали стояли номер и стрелка, которая указывала, куда ее надо установить. Часть инженеров утверждала, что эти фильтры изготовлены для труб совершенно другой конструкции и для их установки нужны новые трубы, а также основательная реконструкция всей фабрики. Другая часть, правда меньшая, утверждала, что ничего другого и нельзя было ожидать от капиталистов, что японские магнаты поставили нам просто брак, и все тут! Но этот аргумент не слишком убеждал. Потому что, как я недавно узнал из телепередачи, для того чтоб выпустить брак, японцам потребуется немало средств — нужно переделать налаженные как часы станки, заложить в компьютеры неправильную программу, и поэтому, несмотря даже на огромное желание, ради нас они не пошли бы на такие жертвы. По недолгом размышлении решили попросить японцев прислать специалистов по установке этих фильтров.
Не могу вам сказать, о чем там переговорили хозяева японской фирмы, когда до них дошла эта просьба, но знаю точно, что одиннадцатого мая вертолетом специального назначения в Дабазони прибыли три вечноулыбающихся японца и один переводчик, по совместительству работающий в неком учреждении. Тут же хочу отметить, что переводчик был вовсе неплохой человек, по всему было видно, что он сносно владел японским. Высокий, слегка сутулый, длиннорукий, он не любил разговоров во время еды и редко моргал голубоватыми глазками. На первых порах он ходил со скучающим лицом и пытался хотя бы приблизительно передать хозяевам то, что японцы дружно выкрикивали, категорически улыбаясь. Но это никак ему не удавалось, поскольку он и сам имел весьма туманное представление о сложнейших инженерных терминах. В принципе, две вещи интересовали переводчика более, чем установка фильтров. Первое: масштабы легальных и нелегальных взаимоотношений японцев и персонала фабрики и второе: обычаи и традиции местных жителей, в частности в связи с приемом гостей. Поскольку он сравнительно легко удовлетворил свой интерес к первому вопросу (передача секретных пакетов между дабазонцами и японцами не просматривалась даже в перспективе, а разговоры на шифрованном языке или с применением пароля и вовсе исключались, поскольку они абсолютно не понимали друг друга), переводчик со всем усердием отдался выяснению второго, не менее важного вопроса. Сколотив вокруг себя отряд из пяти любителей беспрерывных кутежей, он через неделю окончательно спился, едва не позабыв о своей почетной миссии.
Вероятно, вавилонская башня строилась более планомерно и согласованно, нежели монтировалась фильтровальная установка на этой фабрике. Утром японцы, вырядившись в халаты цвета медного купороса, подолгу ждали не имевших представления о пунктуальности своих дабазонских коллег. Поначалу они выражали беспокойство, а затем, убедившись, что для местных жителей время имеет абсолютно другое измерение, стали даже симпатизировать лишенным педантизма, борющимся со всякого рода временными рамками дабазонцам. Затем по приходе дабазонцев начинался диалог на языке мимики и жеста, что конкретно делать. Диалог, если не принимать во внимание изредка раздающийся хохот и восклицания, напоминал спектакль театра пантомимы. Когда смеялись дабазонцы, японцы умолкали и переглядывались. Затем, переговорив между собой, мелко, по-японски начинали смеяться японцы. Дабазонцы удивленно замолкали и глядели на японцев, затем присоединялись и они, и тогда хохотали обе стороны. Дабазонцы смеялись над тем, как смеются японцы, но над чем смеялись японцы, мы никогда не узнаем, и может, оно и к лучшему.
Кончив переговоры, несколько смелых инженеров, засучив рукава, брались за дело. Перед началом непосредственно трудового процесса произносилась обычно одна и та же фраза: «Ну что же, начнем. Не будем же болтать так дотемна. Давай сделаем свое, а они пусть переделывают». Тем временем японцы, тесно сгрудившись в уголке, напряженно вытягивали шеи и полными ужаса глазами следили за тем, как загорелые дабазонцы, напевая, хлопотали возле установок. И только когда вошедшие в экстаз местные инженеры хватались за ножовку или напильник, чтоб «исправить» и подогнать деталь, из их угла раздавались энергичные протестующие возгласы. Взволнованные и обеспокоенные японцы подбегали к ретивцу, что-то объясняя на своем языке, а затем отбирали обреченную деталь.
Не оставалось сомнений в том, что японцы терпеть не могли ножовку и напильник. После обеда, когда в цеху было меньше людей (мало кто из дабазонцев работал после обеда, японцы приписывали это местным традициям), к работе приступали японцы. Под взглядами безмолвно стоявшего заинтересованного инженерно-технического персонала они разбирали собранные за утро местными умельцами узлы и, разобрав, заново приступали к их сборке.
Так проходили дни, не дни даже, а недели. Установка фильтров затянулась до бесконечности, а злой дым по-прежнему травил людей и всю окрестность. Тогда этот участок работ объявили ударным. Это означало, что каждую пятницу курирующий эту отрасль начальник приезжал в Дабазони и с благородной целью ускорить это дело устраивал совещание.
В первый же день, когда участок был объявлен ударным, Дабазонскую фабрику окружили черные «Волги». Японцы, как загнанные зайцы, прятались за спиной друг друга. Они думали, что степенные мужчины в черных костюмах при темно-красных галстуках приехали выговаривать им за то, что они каждый день заново делают работу, уже проделанную дабазонцами. Когда секретарь зоны и сопровождающие его лица, улыбаясь, пожали руки гостям и направились к наспех сооруженной трибуне, японцы облегченно вздохнули. Но в их глазах ясно можно было прочесть неуемное желание узнать о цели визита мужчин на черных «Волгах».
Не могу не отметить, что начальник отрасли и руководители зоны произносили прекрасные речи. Церемония выяснения причин, мешающих работе, а также изыскания возможностей ускорения работ продолжалась довольно долго. После трехчасового заседания местные руководители, заводская администрация, инженерно-технический состав (за исключением двоих) проводили мужчин в черных костюмах. Я не собирался этого говорить, но реалистический принцип повествования вынуждает меня сделать это: в тот день никто из провожавших не вернулся к месту работы.
Нас спецификой ударного участка не удивишь, но японцы удивлялись. Удивлялись черным «Волгам», появлявшимся каждую пятницу, и длинным монологам на непонятном языке. Именно монологам, поскольку каждый твердил свое, причем так пылко, словно бы истину знал именно он и никто больше. Поначалу японцы думали, что присутствуют на культовом обряде религиозной секты, затем их охватил страх, что это представители фирмы, которая предлагает более совершенную модель фильтров. Под конец, это было уже в пятую пятницу, японцы поняли, что инженерно-технический состав Дабазонской фабрики объявил забастовку. Они только сокрушались, как не додумались до этого раньше. Ведь то, что дабазонцы так редко и равнодушно ковырялись в деталях, должно было, по мнению японцев, тоже привлечь внимание администрации. И все-таки какие они милые и вежливые люди, штрейкбрехерам-японцам они ведь не сказали ни одного грубого слова. Однажды вечером гости отыскали-таки переводчика и пошли вместе с ним приносить свои извинения главному инженеру.
— Что вы, что вы, какие извинения?! — От удивления инженер бровями приподнял свою шляпу.
— Но мы не приняли участия в забастовке и даже мешали вам…
— Да что вы, какие у нас забастовки, — бился головой об стенку инженер.
— А почему же вы собираетесь каждую пятницу и болтаете…
Слово «болтаете» было явно придумано переводчиком, японцы выражались куда деликатнее.
— Это — совещания, — отводя взгляд от переводчика и устремляя его прямо в глаза японцам, твердо сказал главный инженер Дабазонской горно-обогатительной фабрики Чола Чуталадзе.
«Совесания, со-ве-са-ни-я, сове-сани-я», — на все лады повторяли японцы это удивительное слово, повторяли так, словно понимали его магический смысл.
Пятничные совещания имели тот результат, что корпевшим над установкой фильтров японцам добавили около сорока мешающих работе энтузиастов. Добровольцы инженеры-конструкторы высказывали собственные, неслыханные дотоле и не подлежащие обнародованию соображения. «Моси, моси, каи, каи» («Да, да, конечно». — японск.), — кивали японцы в ответ на оригинальнейшие идеи и продолжали делать свое дело.
Если бы не творческий огонь и новаторские предложения местных ученых-инженеров, японцы намного раньше закончили установку фильтров.
Убедившись, что и черную работу тут поручить никому нельзя, японцы работали чуть ли не в две смены. Они поминутно смотрели на часы, даже утереть пот со лба не хватало времени.
По вечерам, сидя на веранде дабазонской гостиницы, они смотрели на поселок, и лица их выражали серьезность, которой не было в день приезда. Может, я не так выразился, не совсем понятно, но я хотел сказать, что они не улыбались поминутно и беспричинно, как прежде. А при виде черной «Волги», указывая на нее пальцем, они выкрикивали: «Совесание, совесание», а затем долго, до колик в животе, хохотали.
На этом мы закончим. У меня уже есть опыт — если я вовремя не поставлю точку, простодушная мысль заводит меня так далеко, что, когда я вижу свою новеллу уже напечатанной, мне становится стыдно за какие-то слова, и я даже склонен соглашаться с теми, кто время от времени сердито шепчет мне: «Ну что тебе нужно, чего тебе не сидится спокойно, что ты постоянно кусаешься, чего тебе от нас надо, больше не о чем писать?!»
Но вас, читатель, верно, интересует судьба фильтровальных установок. Имею честь доложить, что японцы не ударили лицом в грязь. Не понадобилось ни переделки труб, ни основательной реконструкции фабрики. На всех четырех трубах были установлены фильтры. И как раз кончился срок пребывания японцев в СССР. Перед отъездом они наказали хозяевам в год раз менять масло в установках и прочищать трубы, и еще одно: они не успели замазать зазоры между трубами и фильтрами. Это все, сказали они, могут сделать за один день три любых дабазонских инженера.
Шестой год работают без помех фильтры. Со дня отъезда японцев к ним никто не прикасался, нет, все прекрасно помнят наказ японцев кое-что доделать, но не смеют, боятся, а вдруг да фильтры перестанут работать. Зазоры, конечно, тоже не замазали, даже в голову не пришло это сделать. В конце концов, ведь должен же помнить каждый, как дымила фабрика на протяжении всей славной пятилетки.
Уверенные в бесперебойной работе фильтров, дабазонцы чувствуют себя бодро и выглядят весело. Вот только в радиусе девяти километров от фабрики кукуруза по-прежнему не дает початка и тута стоит подозрительно бледно-зеленый.
Перевод Н. Двораковской.
ПРОСТОЕ РАСПРОСТРАНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На экзамен вошел худой однорукий молодой человек. Маленькие под сросшимися бровями глаза смотрят в сторону. Левой рукой он взял билет и сел в сторонку «для обдумывания». Пустой рукав правой заложен в карман. Вообще «афганцы» приходят на экзамен в форме, этот пришел без, может, и не служил вовсе.
— Фамилия? — спросил я, когда он взял с моего стола чистый лист бумаги.
— Геладзе.
— Демобилизованный?
— Да, из Афганистана.
У меня сжалось сердце. В такие моменты я считаю излишним спрашивать у бывшего солдата действительный залог или дату пострижения в монахи Сулхана Саба Орбелиани.
— Оставь этот билет и поди сюда. С рукой там случилось?
— Да.
— Сядь, пожалуйста, и расскажи, будь другом, как и почему это случилось, ведь правая же рука?
— Если бы только рука. У меня в живот три ранения, а в левом боку и по сей день осколок гранаты сидит.
— Скажи, сынок, как это произошло? Неужели нельзя было избежать этого? Куда ты лез, наверно, хотел отличиться, как мы, грузины, умеем?
— Да нет, что вы, какое отличиться! И говорить даже не хочу, как это произошло. Наша часть стояла в тридцати километрах от Кабула. Не обижайтесь, я не имею права называть село, где мы стояли, это военная тайна. На холме находилось наше укрепление, внизу был маленький поселок. Они боролись отчаянно, дрались по-настоящему, как в войну.
— Как в войну? Откуда у них оружие или опыт, чтоб воевать с регулярной армией?
— Все это спрашивают. Вооружены они не хуже нашего и в военных делах не новички. Одним словом, они оказывали нам отчаянное сопротивление.
— Что значит сопротивление?
— Мы хотели войти в село, а нас не пускали.
— Вы, наверно, помогали частям местной армии?
— Я не могу сказать, уважаемый. Я полтора года воевал в Афганистане, а местного солдата и в глаза не видел. Нет, в Афганистане армия, конечно, есть, но они, наверное, вели бои в других местах.
— А вам для чего нужно было село, зачем вы его брали?
— Был приказ. В некоторых селах закрепляются враги революции, мы должны были очистить их. Мы помогали афганскому народу в борьбе с контрреволюционерами, они называют их душманами.
— И что дальше?
— Отличить душмана от недушмана, уважаемый, там очень трудно. И стар и млад — все стреляют. Мужчина, женщина — там не различают. Такое отвращение, которое они к нам испытывают… я о таком даже не слышал. Если застанут у ручья пьющим воду, рискуешь камнем получить в спину, ночью подкрадывались к нашим палаткам и поджигали их.
— Душманы?
— Вроде бы, но мне кажется, это были не только душманы, все население.
— Да, но вы же им помогали?
— Это мы так думали, но там не все так думают. Темный народ. Они смотрели на нас как на врагов и завоевателей.
— А дальше, дальше, как было с рукой?
— Мы немного спустились к деревне. Это было семнадцатого августа: разве можно это забыть?! В двенадцать часов они молятся. Мы улучили момент и открыли стрельбу. Они бросили молиться и ответили нам. Но было ясно, что они не расположены к бою. Выстрелы одиночные, то там, то здесь. Мы приободрились и спустились еще приблизительно метров на триста. Вообразите, мы даже пересекли небольшой овраг. Вернее, укрепились в сухом овраге. Было уже время обеда, когда со стороны села появился старик в чалме с жидкой бородой. В обеих руках он высоко держал белые флаги и размахивал ими. В бинокль мы хорошо видели его морщинистое улыбающееся лицо, голые ноги. «Не стреляйте», — сказал взводный. Но разве тут нужен был приказ, мы и так не стреляли в идущего к нам с белыми флагами безоружного старца. Он приблизился, крича: «Рус, рус» — и как танцор размахивая флагом. Мы подпустили его ближе. «Капитан, капитан», — кричал он, спускаясь в овраг. Потом, подойдя поближе, попросил воды. Мы протянули ему фляжку. По правилам, перед тем как пустить к командиру, его надо было обыскать. У нас был сержант Панценко, бедный. Только он прикоснулся к его спине, как ужасный взрыв оглушил все вокруг. Он, оказывается, подвязал к спине несколько гранат. Самого его разорвало в клочья и унесло в небо, но с собой он прихватил семерых наших ребят, я стоял поодаль и получил только осколки.
— Да, тебе, конечно, повезло.
— Если это называется повезло. Мне будут делать еще одну операцию, четвертую. Ее не сделали потому, что я очень много крови потерял и ослаб.
— А когда ты приехал?
— Недавно, в мае, а из Афганистана в конце сентября. Но потом я лежал по госпиталям. Разбирать предложение, уважаемый?
— Не надо. Дай мне экзаменационный лист. Ты мне лучше скажи, как ты на все это смотришь теперь?
— Это грех на Брежневе. Что я потерял в Афганистане? Это мы называли себя «вошедшими туда по просьбе афганского народа и правительства Афганистана для выполнения интернационального долга». А весь остальной мир звал нас оккупантами и завоевателями. Правда, я не особенно разбираюсь в политике, но не такой уж я болван, чтоб ничего не понимать. Себя завоевывать никто не зовет. Так же нас приглашали и Вьетнам и Кампучия, Чехословакия, Венгрия и Польша. Сейчас нас называют интернационалистами и устраивают с нами встречи. Я знаю, пройдет время и мне будет стыдно за эту мою правую руку. Что мы потеряли в Афганистане? Зачем я должен был стать инвалидом? Мне стыдно смотреть на четверку, которую вы мне поставили. Я еще мужчина, уважаемый, и мне не к лицу выклянчивать отметку. Кое-что я знаю, мне кажется. Может, вы все-таки спросите? Сначала разобрать предложение?
Перевод Н. Двораковской.
ЗАВЕДУЮЩИЙ ФЕРМОЙ
Бывший эмигрант Карло Ломтадзе был назначен заведующим животноводческой фермой села Доберазени. Карло вернулся из Швейцарии. Читатель, верно, догадывается, что это все не так просто. Вначале мы расскажем, как попал Карло в Швейцарию и чем он там занимался, а затем поразмыслим над тем, какие мотивы в один прекрасный день привели Ломтадзе к дверям советского консульства с просьбой разрешить вернуться на родину. Не помешало бы выяснить и то, почему Ломтадзе назначили заведующим фермой, а не, скажем, нотариусом или начальником районного архива.
Существует шесть способов переехать на постоянное жительство за границу: попасть в плен во время войны, на рассвете крадучись выйти из туристической гостиницы и попросить политического убежища, угнать самолет, пересечь границу — морем вплавь, а по суше в войлочных тапочках, жениться на еврейке, родиться в семье эмигрантов. Карло избрал самый безболезненный из них (во всяком случае для него), он оказался там волею случая, от него не зависящего. Он появился на свет в селе неподалеку от Женевы в семье эмигрантов — Силибистро и Матроны Ломтадзе как следствие их законного брака. Пока у читателя, желающего немедленно узнать все обстоятельства этого дела, не возник вопрос, как очутились в самом сердце Европы родители Карло, опережу его и скажу. Молодежь, отправившуюся на учебу в Женеву, застигли там исторические события 1921, 22 и 24-го годов. Буржуазные газеты на все лады кричали, что всех бывавших за границей людей большевики сажают в тюрьму, а тех, кто получил там образование, вешают без суда и следствия.
Не скрою, что будущих родителей моего героя эта перспектива испугала. Ничего не придумав сразу, они решили пожениться (хоть вместе, думали, будем) и поселиться в окрестностях Женевы. Но отдадим им должное, они умерли, так и не приняв швейцарского подданства. Правда, в этом им помогли и местные власти. Как известно, Швейцария не дает эмигрантам подданства.
Карло осиротел еще до войны. Солдатскую шинель он так и не надел, и на то была серьезная причина — от рождения он был кривобоким и хромым. Ураган войны коснулся его так, как мог коснуться человека, не занимающегося политикой, живущего в окрестностях Женевы. Во всяком случае, он не продал душу сатане, иначе с него спросили бы. Семьей Карло не обзавелся, жил один. Когда стране было тяжело, и Карло приходилось несладко. Но затем наступил мир, и вот тут, когда Швейцария взяла курс на разумную политику невмешательства, тут и Карло крепче стал на ноги. Я говорю, разумеется, об экономической стороне дела, поскольку борьба идей и политические страсти были чужды ему с детства. Газеты он ненавидел, читал только коротенькие рассказы и занимался коровами. В войну у него было три коровы, потом семь. Коровы целый день жевали жвачку у него во дворе, или, как говорят на западе, на ферме. Если я скажу, что ферма Карло была оборудована по последнему слову техники, это будет сильным преувеличением. Скотина стояла в старых немецких яслях, доил он ее доильным аппаратом «Лейпциг-3» устаревшего образца, молоко держал в алюминиевых бидонах, мацони заквашивал в баночках, был у него еще прибор для проверки жирности молока, скребница и бочки для корма — вот и вся техника на ферме. Да, у него еще был грузовой «кадиллак» первого выпуска. Дважды в день ездил Карло в Женеву на своем старом разбитом «кадиллаке»: на рассвете вез туда мацони, вечером же молоко. Все это он сдавал в реализационную фирму «Жозефина». В конце месяца получал положенные ему марки и клал их в банк. Деньги на содержание фермы (да и на личные нужды) держал в незапиравшейся тумбочке возле кровати. Когда ему исполнилось сорок, у него появились другие интересы, он чувствовал: что-то должно измениться в его жизни, слишком все было неинтересным и бесцветным вокруг. Грузинский, естественно, он знал плохо. В детстве мать его учила писать и читать, но помнилось все это смутно. И вот внезапно в его жизни возникла грузинская тема, грузинские интересы. Он достал где-то самоучитель грузинского языка, нашел грузинские книги и вслух, запинаясь, читал их. Потом прочел все, что было написано о Грузии в немецких энциклопедиях, и, представьте себе, дошел до того, что стал читать газеты, а вдруг, думает, где-нибудь напорюсь на информацию о моей далекой родине. Что же это могло быть такое, от чего потерял покой безмятежно живущий швейцарский фермер?! Может, зов крови? Сам Карло не смог бы ответить на этот вопрос. Но факт остается фактом — чем больше узнавал он о своей родине, тем больше гордился тем, что он грузин. И вот, когда ему стукнуло шестьдесят, он понял, что должен вернуться к себе на родину и там тихо закончить свои дни.
Сначала его тщательно, как водится, проверили в Женеве. Затем уже в Грузии ему деликатно отсоветовали селиться в наполовину опустевшем селе Жвери, где жили его предки (село находилось в зоне лавин и оползней, нельзя же было подвергать опасности вернувшегося из-за границы человека). Два месяца он жил в районном центре в гостинице. Затем, убедившись, что Карло не проявляет никакого фотографического интереса к секретным объектам, а также в том, что в его чемодан не вмонтирован тайный передатчик, сочли возможным вовлечь Ломтадзе в общественно-полезный трудовой процесс. Приняв во внимание профессиональные интересы Ломтадзе — увлечение коровами в окрестностях Женевы, — предложили ему пост заведующего животноводческой фермой села Доберазени. Уставший от безделья Карло охотно согласился. Доберазенская ферма из двухсот шестидесяти семи коров, правда, не являлась образцово-показательной, не упоминалась в числе передовых, но и отстающей ее нельзя было назвать. Это была ферма из средних. Я должен вам открыть один секрет — поначалу его хотели послать на чарчмиетскую, наполовину пустующую ферму, но секретарь райкома воспротивился: «Все-таки он приезжий, послать его на эту паршивую ферму значит окончательно испортить впечатление о нас».
В тихий безветренный июньский вечер начальник райагропрома Кудигоридзе и Карло Ломтадзе приехали на ферму. Представив Карло собравшимся, Кудигоридзе сказал, что отныне он будет их заведующим. Не скрыл он и того, что у Ломтадзе — уроженца Швейцарии — большой опыт работы в животноводческой отрасли. Сотрудники фермы уже знали о Ломтадзе, и, естественно, знали о нем больше, чем могли уяснить из выступления Кудигоридзе. Как и положено, сообщение о назначении заведующего встретили аплодисментами и разошлись.
В тот день новый заведующий в белом халате, как экскурсант, обошел всю ферму и все осмотрел. На другой же день все узнали, что Ломтадзе вовсе не собирался оставаться в должности «почетного заведующего» — он собирался делать дело.
Утром, когда полные молока бидоны погружали в машину, в комнату Карло вошел мужчина в кожаной куртке и положил перед ним на стол бумагу.
— Простите?.. — поднял очки на лоб Карло.
— Экспедитор Тодадзе, — представился мужчина.
Карло подписал бумагу. Этому он научился еще в Швейцарии — раз дают подписать бумагу, значит, надо.
— Простите, но что такое экспедитор? — спросил заведующий фермой.
— Я сопровождаю машину с молоком.
— Вы шофер?
— Нет, шофер — другой. А я сопровождаю продукцию, в данном случае молоко, чтоб оно было в целости доставлено к месту.
— Вы — грузчик?
— Нет, грузчик встретит нас там.
— Да, но что же вы в таком случае делаете?
Тодадзе улыбнулся, посмотрел по сторонам и, понизив голос, сказал:
— Разве можно доверить молоко шоферу?! Это вам не Швейцария. Он может в дороге долить в бидоны воду.
Карло растерялся. Сначала он подумал, что Тодадзе шутит, и попробовал засмеяться, но, взглянув на экспедитора, умолк.
— Он что, больной?
— Кто, уважаемый?
— Шофер, кто же еще.
— Именно потому что не больной, он и сделает это. Из тридцати бидонов пять он продаст на базаре, а вместо молока дольет воду.
— То есть вы хотите сказать, что он вор? — Карло открыл окно и оглядел возившегося возле машины водителя, смотрел он так, как смотрят школьники на дядю, у которого, если верить маме, в кармане лежат ножницы, которыми он отстригает уши непослушным мальчикам.
Но заведующий фермой позволил себе усомниться в словах экспедитора. Если водитель был замечен в краже молока, почему его до сих пор не арестовали, если же тут вообще принято доливать в молоко воду, где гарантия, что они не сделают это темное дело вдвоем и с большим успехом.
Карло потерял покой. Встречая водителя или Тодадзе с бумагой в руках, он поеживался. Ему казалось, что шофер и экспедитор ненавидят друг друга, ведь один из них постоянно, как кошка — мышь, подстерегал другого.
Кроме всего прочего, Карло удивляло и еще одно: целый день на ферме крутилось множество людей (заведующий не успел со всеми перезнакомиться), а вот утром и вечером, когда острее всего была нужда в рабочих руках, большинство сотрудников фермы испарялось. Возле коров крутилось около пяти доярок — молодых девушек, а по утрам скот на пастбище гнали два пастуха — Шако и Меленти.
Ломтадзе страстно хотел узнать, что за народ такой толпится днем на ферме, но так и не смог. Когда он останавливал кого-нибудь из них и спрашивал: «Простите, какую должность вы тут занимаете?» — ему называли нечто непонятное, но заведующему становилось неловко переспрашивать своего подчиненного, какая такая миссия возложена на него. Причин для недовольства как будто бы не было. Все были заняты, вроде бы никто без дела не ходил. У всех были вдохновенные лица. Ветврач и фельдшер целыми днями писали что-то в конторские книги о здоровье коров. Председатель месткома Нодар Карцивадзе неустанно заботился о соблюдении трудового законодательства, председатель народного контроля Цотадзе целый день ходил по задам фермы со скрещенными на груди руками и что-то бормотал, заместитель заведующего фермой Шакро Глонти нескончаемо ругался, пропагандист Нора Абуладзе, если успевала выловить кого-нибудь вечером, тут же усаживалась читать ему газету, а днем сочиняла и рисовала плакаты. Культработник Нуну Мчададзе — застарелая дева, — взяв в руки пандури, в полнейшем одиночестве пела, глядя на луну с эстрады, принадлежащей ферме. А пять девушек-доярок и два пастуха смотрели за скотиной так, как могут смотреть пять доярок и два пастуха за стадом в 267 коров и почти таким же количеством телят.
Шло время. Кончилось лето. Дни бежали за днями, а швейцарский заведующий фермой так и не мог что-либо изменить в работе фермы. Тут все шло словно бы по раз и навсегда заведенному порядку. Карло, иногда загораясь, обращался с горячими призывами к своим сотрудникам: «Телятам не хватает корма, кругом антисанитария, интенсивность доения коров очень низкая, давайте с большей охотой делать свое дело, ведь это же в ваших интересах!» Сотрудники фермы молча выслушивали его, как будто даже соглашаясь, но призывы заведующего тут же предавались забвению.
Однажды он велел Глонти: «Предупреди людей, завтра — санитарный день, утром выгоним скот и начнем уборку коровника». Шакро, как видно, людей «предупредил» — на следующее утро на уборку коровника явились заведующий фермой и две девочки-доярки. Сам Шакро срочно уехал на совещание в район, а остальные, вздыхая, сетовали на то, что уборка коровника не предусмотрена спецификой их должности.
Заведующий фермой заглянул в красный уголок и попросил сидящую там статную девушку в голубой косынке, ушедшую в свои девичьи мысли, помочь им в уборке коровника. Девушка закивала головой, сейчас, мол, конечно, конечно, и вышла в другую дверь. Минут через пять вошел нарядный Нодар Карцивадзе и торопливо зашептал заведующему на ухо: «Эта девушка прибыла сюда по комсомольской путевке, работает из-за стажа. Через день о ней пишут газеты, потому что она сразу после школы пришла на производство. Она и депутат сельсовета. Ну прошу тебя, дорогой, оставь ты ее в покое, она не выносит запаха навоза, как бы не сбежала». — «А что она вообще делает на ферме?» — робко спросил председателя месткома Карло. «Вообще-то ничего. Она должна сидеть как доказательство того, что на ферме работает молодежь, должна отвечать на вопросы журналистов и улыбаться фоторепортерам на фоне коров. Теперь такие девушки есть не только у нас на ферме, а и в любом другом учреждении». Карцивадзе счел, что достаточно осветил этот вопрос, и, словно бы что-то вспомнив, стремительно вышел. Зайдя в свой кабинет, он закрылся и предался мыслям, которые соответствовали его высокому духовному интеллекту.
Бывший эмигрант же постепенно приходил к неприятной мысли о том, что на этой ферме сотрудникам вменяется в обязанность все, что угодно, только не уход за коровами. Эта мысль приводила его в скверное настроение, но он все же надеялся, что не сегодня, так завтра удастся преодолеть фальшивый, показной энтузиазм работников фермы и направить их энергию непосредственно на коров.
Как-то раз Нора Абуладзе, расстелив на траве куски красной бязи, неделю что-то рисовала на них. На одном из изготовленных лозунгов было написано: «Увеличим надои молока на 300 килограммов с каждой фуражной коровы», на другом — «Увеличим средний вес крупного рогатого скота до 370 килограммов», на третьем — «Достигнутое — вовсе не предел!». Долго ходил вокруг этих плакатов Карло, затем, улучив минутку, когда Нора осталась одна, спросил: «Вообще-то эти лозунги, конечно, хороши, но почему именно на 300 и 370 килограммов, ведь это же не совсем от нас зависит?»
— Усердием всего можно добиться, — отводя в сторону глаза, сказала Нора.
— Усердие — это прекрасно, но если не уродится трава? Кроме того, в этом месяце нам не завезли отрубей. И потом, есть ведь и другие обстоятельства.
Нора засмеялась.
— В том, что нам не завезли отруби, виноваты вы, уважаемый Карло. Послали бы Шакро Глонти, он бы быстренько уладил это дело. И вообще, если не заинтересовать работников склада, нам ничего не дадут. Разве у вас в Швейцарии не так?
Ломтадзе кивнул, да, мол, именно так. На самом же деле он никак не мог взять в толк, чем нужно заинтересовать заведующего складом, чтоб тот дал отруби.
— Что же касается этих плакатов, — продолжала Нора, — их уже давно надо было повесить. Мы опоздали — это плакаты соцсоревнования.
— Чего? — приложил руку к уху Карло.
— Соцсоревнования, — чуть ли не по слогам произнесла Абуладзе.
— А с кем мы соревнуемся?
— С животноводческой фермой села Чукчукия в Якутии.
— Как же мы с ними соревнуемся на таком расстоянии, и почему соревнуемся, что они нам сделали? — искренне и даже с некоторой долей наивности удивился Карло. Но Нора уклонилась от ответа на этот вопрос под предлогом того, что ей нужно принести стремянку. Идя за стремянкой, Нора невольно задумалась, действительно, а для чего соревноваться на таком расстоянии. Но возвращаясь, она уже думала о другом. И стремянку, по правде говоря, не принесла.
Ломтадзе одиноко бродил по доберазенской ферме и не переставал удивляться тому, что единожды созданная по божьей воле ферма все еще функционировала. Он не мог понять, каким чудом выполнялся план, когда во всей ферме не найти было человека, который не брезговал бы взять в руки скребок. Все сидели словно бы на иголках, словно бы случайно, на минутку заглянули на ферму передохнуть, а там вскоре продолжить службу каждый на своем высоком поприще. Так думала та девочка, которая сидела на ферме ради стажа, и, представьте себе, даже Шакро Глонти, заместитель заведующего, думал так, он был членом кружка соискателей степени и по ночам корпел над своей диссертационной темой.
Когда на ферме по случаю приезда высокого гостя зарезали второго за неделю теленка, свалив в документах все на волка, Карло собрал свои пожитки и уехал, не попрощавшись со своими бывшими сотрудниками. Это случилось через четыре месяца и семь дней после его назначения.
— Ведь вы говорили, что разбираетесь в животноводстве, что у вас была ферма в окрестностях Женевы? Неужели вам так быстро все наскучило? — спросил секретарь райкома бывшего эмигранта, внимательно ознакомившись с его заявлением.
— Не знаю… Я думал, что разбираюсь… Но у вас тут совсем другие фермы. Я растерялся, черт-те что… Вы уж простите меня… Видимо, старею… — бормотал Карло, глядя себе под ноги.
И получил новое назначение — заведующим районной библиотекой. Он и сейчас там работает.
Перевод Н. Двораковской.
ЛЕКАРЬ
Вначале раздался телефонный звонок. Юза тотчас же взял трубку: «Слушаю». Но никто ему не ответил. В трубке слышалось чье-то дыхание. Минут через двадцать раздался стук в дверь. Хозяин ждал его. После таинственного звонка обычно раздавался стук в дверь. То участковый заглянет, просто убить время, то рассеянные члены Народного фронта, то финагент, то сосед, заинтересованный «деятельностью» Юзы, мол, случаем я вчера тут шапку не оставлял?!
Юза открыл. За дверью стоял круглолицый, рыжий, длинноволосый мужчина средних лет в сером плаще.
— Простите, может, я некстати? — обе руки мужчина держал в карманах плаща.
— Вы ко мне? — слегка отступил Юза.
— Да, — ответил мужчина уже в комнате, — я бы хотел поговорить с вами, если вы не возражаете.
— Простите, а с кем имею честь? — уже с заметной долей иронии спросил Юза.
— Я сейчас все объясню, не бойтесь, я пришел с добрыми намерениями.
— Я уже давно отвык бояться. Я вас внимательно слушаю.
Незнакомец снял плащ, перекинул его через спинку стула, подсел к столу, положил руки на стол, сцепив пальцы между собой, и взглянул на Юзу.
— Я психиатр, работаю в психоневрологической клинике в переулке Труда.
— Очень приятно!
— Я по служебному делу. Это мой участок, и с профилактической целью все должны пройти психобследование. Хотя бы собеседование.
— Пожалуйста, пожалуйста. Это что-то новенькое?!
— Да, это недавнее указание. Что поделаешь, нервный век!
— Со мной, мне кажется, у вас не будет проблем. По вашей части я ничего…
— И слава богу. Но, между нами, поначалу все так говорят, — засмеялся незнакомец.
— Я вас слушаю.
Незнакомец достал из кармана линованную в клетку бумагу.
— Если вы не возражаете, уважаемый Юза, я задам вам несколько вопросов из бельгийского теста.
— Почему именно из бельгийского?
— Это короткий тест, и по нему почти безошибочно можно определить начальную стадию.
— Пожалуйста, я готов.
— Уважаемый Юза! Выходя утром из дому, вы случайно не спохватываетесь, что забыли выключить газ или закрыть дверь?
— Да, бывает.
— И часто это с вами случается?
— Очень часто.
— Вы возвращаетесь, и выясняется, что все в порядке: и газ выключен, и дверь закрыта, и кран закручен…
— Да…
Незнакомец поставил крестик в одной из клеток.
— Уважаемый Юза, будил ли вас ночью стук в дверь?
— И не только ночью.
— Вы понимаете, о каком стуке идет речь? Когда вы вскакиваете, подбегаете к дверям, открываете ее, а там никого, просто померещилось.
— Бывало и такое.
— Когда это было в последний раз?
— Не помню, может, два месяца назад.
— Так, хорошо.
Незнакомец пометил еще одну клеточку.
— Уважаемый Юза, а как вы спите?
— В зависимости от степени усталости.
— От чего?
— Если я очень устал, то быстро засыпаю.
— Напротив, при сильной усталости вы должны плохо спать.
— Бывает и так.
— А сны вы видите?
— Очень часто.
— Не видите ли вы во сне большой пожар, или сильное наводнение, или снежный обвал, который вы энергично пытаетесь опередить, чтоб он вас не накрыл?
— Бывает иногда.
— Вы видите цветные сны?
— Не присматривался.
— У вас есть такие знакомые, после встречи с которыми вы весь день в плохом настроении, взволнованы, не находите себе места. Если этот знакомый оказался в зале, быстрее хотите уйти оттуда?
— Да, у меня есть два-три таких знакомых.
Гость поставил крестики еще в две клеточки, сложил бумагу, положил ее в нагрудный карман и обратился к Юзе:
— Я не скажу, чтоб результаты теста были неожиданны для меня. Этого следовало ожидать от одинокого человека вашего темперамента и психического склада. Это бывает у троих из десяти.
— Что именно? — сложив руки на груди, Юза улыбнулся психиатру.
— У вас первая стадия неврастении. Болезнь на этой стадии нестрашна, но, если вовремя не взяться, возможны опасные рецидивы.
— Ага, — многозначительно выдохнул Юза, глядя в глаза психиатру. — Что же от меня требуется?
Врач достал из кармана листок и положил его на стол.
— Это бланк заявления, его надо заполнить. Вы пишете, что нуждаетесь в лечении и просите нашу психоневрологическую клинику поставить вас на учет, а если будет необходимость, уложить в стационар.
Юза отодвинул бумагу, встал и прошелся по комнате. Затем снова сел и грустно взглянул на гостя.
— Я сразу догадался, как только вы вошли, что вы пришли по весьма почетному делу. Прошу тебя, уходи подобру-поздорову. И скажи тому, кто тебя прислал, что у него ничего не выйдет.
Незнакомец закурил сигарету.
— Это легче всего сделать. Я уйду, но ты должен знать…
— Да…
— Мы наверняка еще не раз встретимся, и может, ты когда-нибудь поверишь, что я пришел сюда спасти тебя.
— Большое спасибо.
— В данном случае лечение у нас — для тебя наилучший выход.
— От чего я должен лечиться?
— А ты не лечись, будешь просто у нас на учете.
— Да, но зачем, для чего?
— Послушай меня внимательно, Юза. Ты сам прекрасно знаешь, каким опасным делом занимаешься. По-моему, ты и сам не сомневаешься, что тебе никто не простит подстрекательства молодежи и открытого выступления против правительства. Я простой врач, но я знаю, если ты сам по своей воле не изъявишь желания лечиться, могут принять другие меры.
— Ну, например?
— Зачем тебе, чтоб я обязательно все сказал. Тебе могут подстроить драку и, обвинив в дебоше, приписать статью, или подбросят наркотик в карман и пришьют распространение, или, упаси тебя господь, подстроят автомобильную катастрофу. По-дружески тебя прошу, нигде не говори того, что я тебе сказал, иначе я погиб. Не будешь же ты брать греха на душу, у меня дети.
— Но что я такого делаю, объясните?
— Это меня не касается. Я уже сказал, я маленький человек. Захотят, найдут свидетелей, которые подтвердят, что ты подстрекаешь их детей и посылаешь на верную смерть.
— А если я заполню этот бланк, они оставят меня в покое?
— Обязательно.
— Я больше не должен бояться аварии или дебоша?
— Даю честное слово. Тогда уже мы будем отвечать за тебя. Мы же тебя не будем трогать, пока ты не станешь бросаться камнями.
— А потом? Ведь кто-то потом когда-нибудь может принять это за правду?
— Что значит когда-нибудь? Мой милый, чем ты лучше Наполеона, Вольтера, Байрона, Микеланджело? Они все болели неврастенией. Но это им, как видишь, не помешало.
— Я о другом. Ведь можно эту бумагу завтра же использовать против меня. Напечатают в газете, что я неврастеник.
— Я даю тебе гарантию, что этого не случится. Мы строго соблюдаем врачебную тайну.
Долго беседовали в ту ночь врач и его «пациент».
К длинному списку больных психоневрологической клиники прибавился еще один больной.
Перевод Н. Двораковской.
МУЧЕНИЕ
Генеральный директор объединения «Ищидело» Арон Джаджанидзе допустил роковую ошибку. Если бы он закончил выступление словами «теперь дело за вами, действуйте согласно обстоятельствам», все было бы в порядке. Но, к сожалению, под конец своего туманного выступления он обратился к своей пастве со словами: «Надеюсь, все ясно?» И эти-то безобидные три слова и испортили все дело.
Для сидящих до той поры с невозмутимыми лицами ученых и инженерно-технического персонала почти все оказалось неясно.
Арона забросали вопросами:
— Они летят одним самолетом?
— Не знаю, как они смогут прилететь на одном самолете…
— А как узнаем мы, кто когда прилетает?
— Но вы же знаете, кто к какой стране прикреплен!
— Да, но…
— Ну вот и надо узнать… как-нибудь…
— Встречать будем на своих машинах?
— У кого есть, да…
— Из Хвипии приезжает двенадцать человек, как мне их разместить?
— Арендуй «Раф».
— А у кого нет машины?
— Ловите такси…
— Симпозиум начнется восемнадцатого, зачем мы позвали людей на четыре дня раньше?
— Для акклиматизации.
— Но как развлечь гостей эти четыре дня?
— Погуляйте с ними.
— Можно приглашать их в гости к себе?
— Да.
— Большое спасибо.
— Сколько раз в день кормить, три?
— По обстоятельствам. Когда проголодаются. Но все в меру, особенно не спаивать. Ночевать у себя не оставляйте, привозите в гостиницу.
— А если сами захотят?
— Ну в виде исключения…
Читатель, верно, уже догадался, что происходило в объединении. Но дабы пресечь могущие возникнуть нездоровые толки вокруг этих догадок, автору новеллы поручено сообщить вам, что проводится симпозиум, посвященный 125-летию со дня рождения академика Отебашвили. Симпозиум посвящен проблемам воспитания детей-сирот. По правде говоря, хозяев очень затруднил выбор гостей. В мире почти не оказалось ученых, работающих непосредственно над этой проблемой. Поэтому приглашали из смежных наук, тех, кого вспомнили, либо тех, кто уже имел опыт пребывания на симпозиумах в Чурчурии. Приглашения, разумеется, были посланы загодя, а именно за два года. Не стану брать греха на душу, приглашенные не замедлили откликнуться. Почти все они писали приблизительно следующее: «Мы очень соскучились по Чурчурии и с удовольствием примем участие в симпозиуме, но ничего не слышали об академике Отебашвили. Не поможете ли вы нам в поисках литературы». Выяснилось, что труды Отебашвили не переведены ни на один язык мира. Тем хуже для мира. Но для того чтоб гости имели представление о жизни большого специалиста в деле воспитания детей-сирот, объединение разослало всем биографию академика и список его работ. Для бо́льшей ясности в письмах разъяснялось, кто в их стране приблизительно мог бы служить аналогом Отебашвили. Должен сказать, что это последнее указание значительно облегчило задачу гостей.
Теперь же, как вы, наверное, поняли, все подготовительные работы к симпозиуму были позади. Организационный комитет проводит последнее заседание. Первый пункт порядка дня «Приезд и размещение гостей», на первый взгляд, казался самым простым. Но тот, кто принимал участие в такого рода кампаниях, знает, в какое полымя попали те простые люди объединения, кому поручена почетная миссия сопровождать и обслуживать зарубежные делегации.
Ответы на поставленные вопросы не внесли полной ясности в права и обязанности хозяев. Напротив, чем больше было вопросов, тем все более туманно отвечал Арон Джаджанидзе. Да и тот, кто задавал вопрос, не ждал ясного ответа на него. Мне даже кажется, что многие задавали вопросы просто так, чтоб про них не забывали. Что за ответа требует, например, вопрос: «Раздавать ли сувениры по приезде или перед отъездом?» или «Как сидеть на банкетах: со своими гостями или отдельно?».
Молодой ученый, сотрудник лаборатории по изучению египетских правил бальзамирования позвоночных, Бута Чкоидзе пребывал в большой растерянности. После заседания он бросался то за одним сотрудником, то за другим: «Ради бога, скажите, когда мне надо быть в аэропорту, у какого выхода я должен ждать своих гостей? А если они все прилетят из Москвы одним самолетом, как я узнаю среди них своих гостей? И вообще в первый день на ужин мы их должны пригласить или объединение устраивает общий для всех?» Из неясных ответов сбегавших по лестнице сотрудников Бута вынес заключение, что никто ничего толком не знает или, может, и знает, но почему-то не хочет делиться секретом с молодым ученым.
Целый день он провел в аэропорту. В Москву делегация из трех человек из развивающейся страны Апаапа прилетела вовремя. Но самолет в Чурчурию по погодным условиям опаздывал. Бута знал, что все делегации летят одним рейсом, и поэтому был удивлен, не увидев среди встречавших ни одного знакомого лица. «Неужели я ошибся, может, они приземлились в другом аэропорту?» — подумал было он, но тут же отбросил эту мысль как абсурдную — в столице Чурчурии не было другого аэропорта.
Шел сильный дождь. Из окна зала ожидания видны были огромные железные птицы, под крыльями которых как возле утки утята копошились желтые грузовые машины. У каждого самолета можно было наблюдать одну и ту же сцену: работали два носильщика, а неподалеку стояли человек пять-шесть в комбинезонах и внимательно следили за погрузкой. Недалеко от Буты в креслах сидели и беседовали гиды из Интуриста. Один из них рассказывал, как четыре дня водил двух иностранцев на симпозиум по геронтологии, где они читали доклады, а оказалось, что они приехали на симпозиум по средневековым фрескам. Бута рассмеялся, но тут же похолодел, как бы со мной то же самое не произошло, подумал он.
Самолет с участниками симпозиума на борту прибыл только на второй день к шести часам вечера. Обессилевший от двухдневного ожидания, Бута так обрадовался, что даже пытался выйти на бетонную площадку, чтоб встретить своих гостей у трапа. Разумеется, его не пустили, и, пока пассажиры выходили из самолета, будущий специалист по бальзамированию, стоя у решетки, сквозь которую он просунул голову, пытаясь высмотреть гостей, порядочно вымок. Шапку он держал в руке, потому что голова в шапке не пролезала сквозь прутья решетки, но, высунув голову, он не сообразил накрыть ее с той стороны шапкой.
Когда через ворота вышел последний пассажир, Буту охватил страх. «Какие у них у всех спокойные лица, надо же, знают, что не оставят их без внимания. Но как различить своих в этой пестрой толпе, ума не приложу. Не буду же я кричать? Но где же остальные сотрудники объединения? У Джаджанидзе они все были языкатые: не стыдно бросать на меня всю эту ораву?!» Не успел он это подумать, как увидел референта объединения Заладзе, и немного приободрился. Он подошел и дотронулся до плеча увлеченного чтением списка референта.
— Я прикреплен к Апаапа.
— Да, я знаю, — не поднимая глаз, ответил Заладзе.
— И что?
— Что и что?
— Где они, в какую сторону пошли, я их не смогу отличить от других…
— Здесь они все, не бойся, никуда не сбегут, знают свое дело…
— Тогда я возьму такси и подъеду. Они же должны еще багаж получить?
— Что получить?
— Багаж, ведь будут получать багаж?
— Да.
— Так я пойду за такси. Ты здесь будешь?
— Да.
Заладзе вернулся было к списку, но тут же недоуменно посмотрел вслед удалявшемуся к стоянке такси Чкоидзе. Мне кажется, он не совсем понял, что хотел от него молодой ученый, какая связь была между такси и багажом.
Долго, поистине с йоговским терпением стоял Бута в очереди за такси. Дождь не собирался переставать, и даже если бы он перестал, для Буты это уже не имело решающего значения. Пальто у него давно намокло, и, неудобно сказать, намокло даже нижнее белье.
Но наконец подошла и его очередь. Вскочив в такси, он велел водителю подъехать к багажному отделению. Увидев замерший транспортер и пустой зал, он слегка опешил, но все же спросил у дежурного с красной повязкой на рукаве, привезли ли багаж с девятьсот двадцать пятого рейса. И привезли, и получили, ответил дежурный, сейчас ждем багаж с иркутского самолета. О боже, я погиб, хлопнул себя по лбу Бута. Но дежурный остался невозмутим, мало ли он видел растерянных пассажиров.
Выскочив из зала, Бута бросился к такси, садясь в него, он случайно наступил ногой на пояс от собственного пальто и чуть не свернул себе шею. Водитель едва успел подхватить его, падающего лицом на сиденье. Надеюсь, все в порядке, спросил он, да, да, ничего, ответил Бута, этот проклятый пояс… Ради бога, гости уже уехали, отвези, будь другом, в гостиницу «Чурчурия».
В крутящейся двери гостиницы он столкнулся с Ароном Джаджанидзе. Он толкнул дверь, чтоб догнать директора и объяснить ему все, что случилось, но чем энергичнее он толкал дверь, тем сильнее она крутилась. И директор с подчиненным, как в известном фильме Чаплина, сделали как минимум пять кругов вокруг своей оси. Хотя в этот момент, я абсолютно точно знаю, ни один из них не думал о великом американском (или немецком, или швейцарском) актере.
Бута наконец догнал бегущего к телефонизированной машине Джаджанидзе и крикнул ему прямо в ухо:
— Я встретил самолет, батоно Арон!
Арон даже не остановился.
— Говори, дорогой, побыстрее, чего ты хочешь…
— Я с делегацией из Апаапа!
— Да, я знаю, мой дорогой, давай действуй, тебе поручено ответственное дело, смотри не подведи. Я хочу, чтоб все видели, ты понимаешь, что это имеет большое значение. Ну всего хорошего! — Джаджанидзе потянулся к ручке дверцы.
— Вы знаете, что со мной произошло?! — снял очки Бута, все равно ничего сквозь них он не видел, так запотели стекла.
— Да, я слушаю, — видно было, что Арон ужасно торопится, — говори быстрее, меня ждут в штабе.
— Пока я ловил такси, гости уже уехали.
— Куда уехали? — удивился руководитель объединения.
— Наверное, сюда.
— Куда сюда?!
— В гостиницу, куда же еще. С ними был и Заладзе.
— Ну и что я теперь должен делать, говори быстрее, — видно было, что терпение директора на пределе.
— Я говорю, гости… Я один приехал на такси… Они ждали багаж… Заладзе тоже был там… Когда я подошел, их уже не было…
— Да, это плохо… Что могли подумать гости, как можно их терять. Нет, это непростительно. Мы тебе поручили дело, конечно, нелегкое… Твои недруги говорили, что ты не справишься, молод очень. Но я сказал, что тебе можно довериться. К кому ты прикреплен?
— К делегации из Апаапа.
— Очень хорошо. Повидайся с ними, поговори. Они нужные люди, очень любят нас. Езжай! — сказал он водителю, садясь, и уже из машины спросил у ошарашенного Буты: — У тебя какое-нибудь дело ко мне?
— Нет, — сказал ему вслед Бута и вернулся в гостиницу.
Он попросил администратора гостиницы выписать ему фамилии и номера телефонов членов делегации Апаапа и смущаясь спросил, можно ли ему воспользоваться телефоном и позвонить им в номер. Я из объединения, путаясь, продолжал он, мне надо позаботиться об ужине для гостей и обговорить с ними ряд вопросов. Администратор внимательно выслушал его объяснения, но не нашел ни одного пункта, который давал бы этому молодому человеку в очках весьма скромной наружности преимущественное право воспользоваться гостиничным телефоном. Поэтому он ответил, как отвечают в таких случаях все администраторы:
— По этому телефону звонить нельзя, дорогой, позвоните по автомату.
Даже если бы у Буты были монетки для автомата, он бы не доверился ему, поскольку не был уверен в том, что он совершенно беззастенчиво не проглотит их одну за другой. Поэтому он решил собрать незнакомых своих гостей наиболее простым способом: постучать в дверь к каждому из них.
Через несколько минут перед Бутой в холле сидели трое малорослых мужчин, гости из Апаапы — господин Хамбо, господин Хаамбо и господин Хмбо. Они поминутно улыбались и после каждой Бутиной фразы выражали искреннюю благодарность.
После приветственного слова, ознакомления с программой и краткой характеристики деятельности академика Отебашвили Бута ласково спросил вежливых гостей, нет ли у них желания осмотреть что-либо, не предусмотренное программой, или вообще, может, просьба какая есть.
Выяснилось, что гости приехали со своей программой-минимумом и сфера их интересов ничего общего не имела с проблемой воспитания сирот. Если бы у Буты был опыт, он должен был бы воздержаться от такого вопроса, тем самым он значительно облегчил бы себе жизнь и избежал неприятностей. Но опыта у Буты не было, и неприятностей избежать ему не удалось.
Господин Хамбо выразил желание приобрести разноцветные черноморские ракушки, осмотреть Вардзию и достать чианури, изготовленные в прошлом веке мастерами народных инструментов Балтадзе.
Господин Хаамбо сказал, что его брат, будучи в гостях в Чурчурии, познакомился на улице с неким Омаром, фамилии и имени которого он не знал. И этот Омар подарил ему талисман из кабаньего клыка. И теперь брат господина Хаамбо прислал Омару письмо, которое надо передать.
Господин Хмбо выразил желание издать в Чурчурии свой труд о добыче соли из соленой морской воды, который он написал двадцать пять лет назад и который ему не удалось издать в Апаапа. Гонорар он хотел получить тут же, раз уж он приехал, чтоб не доставлять потом хлопот бухгалтерии переводом денег в Апаапа.
Бута выразил желание помочь гостям. В тот вечер они поужинали в ресторане. За время ужина Бута ознакомил гостей с традициями и обычаями Чурчурии и с такой искренностью и убедительностью доказал, что для чурчурийца гость — это посланец божий, что господа Хамбо, Хаамбо и Хмбо очень пожалели, что обратились к нему со столь скромными просьбами. Если бы мы знали, сокрушались они, что тут так убиваются ради гостей, мы бы более осмотрительно обдумали свои просьбы. Разве могли предположить милые апаапинцы, что даже их скромные просьбы вконец измотают сотрудника лаборатории по изучению египетских методов бальзамирования.
На следующий день он явился домой к Арону Джаджанидзе, прекрасно зная, что застанет он его разве что дома и рано утром. Директор собирался уже уходить и запирал дверь. Сказать, что он очень обрадовался появлению Буты, это значит сказать неправду.
— Ну говори быстрее, дорогой, — сказал Джаджанидзе, подхватывая Буту под руку и идя к машине. Открыв дверь машины и протянув водителю портфель, он приостановился, всячески давая понять Буте, что ему не до разговоров.
— Я видел их, говорил с ними, весьма порядочные люди.
— Напомни, пожалуйста, дорогой, с кем ты говорил? — ласково проворковал Джаджанидзе.
— Ну с теми, что опередили меня вчера и уехали, к кому я прикреплен… Апаапинские делегаты…
— Да, да, да, вчера нехорошо у тебя получилось, но ничего… Ты должен был проявить большую оперативность, мобилизацию. Нельзя допускать такие ошибки, дорогой. Не думай, очень многие косо смотрят на то, что мы приблизили тебя к себе. Я не думал, что у тебя так много врагов.
— Я поговорил с ними, ознакомил их с программой. Все очень понравилось, но у них есть небольшие просьбы.
— Между прочим, за такие ошибки другого я бы наказал, но тебя прощаю. Перед гостями мы не можем опозориться. Ты поставил нас в неудобное положение, дорогой.
— О чем это вы, уважаемый Арон?
— Да, что ты там говорил мне? Какую-то ошибку допустил с гостями?!
— Их всех Заладзе привез на автобусе.
— Заладзе. Ты думаешь, Заладзе мы по головке гладим?! Я и Заладзе иной раз ругаю. Ну ладно, на этот раз прощаю, смотри не делай так больше…
Джаджанидзе сел в машину.
— Уважаемый Арон, я побеспокоил вас потому, что у гостей есть проблемы, — вцепился рукой в дверцу машины Бута.
— Конечно, будут, дорогой, а как же без проблем! Но ты все-таки должен был сделать то, что было тебе поручено. Ну говори быстрее, что я должен делать?!
— Господин Хамбо хочет ракушки и Вардзию, и еще он хочет чианури, сделанный Балтадзе, а где сейчас этот чианури достанешь, днем с огнем не сыщешь! Господин Хаамбо хочет передать письмо Омару, ни фамилии, ни адреса его он не знает, господин Хмбо хочет издать книгу о морской соли, которую он написал… — как пулемет строчил Бута.
— Ты говоришь, написал? Думаешь, я не верю? — задумчиво протянул Джаджанидзе. — Конечно, я верю, но ты все-таки был обязан прийти вовремя, не надо было опаздывать. Гости, знаешь, как уедут и все там у себя расскажут. Ну всего, дорогой! Ты на замечания не обижайся, молод еще, и не возражай. Знаешь, сколько замечаний делали мне в свое время, да и сейчас?! Езжай, — бросил он водителю.
Машина тронулась, Бута, торопливо идя рядом с ней, кричал задумчиво смотрящему вперед директору: «Ракушки, разноцветные… Балтадзе! Чианури! Письмо, и о соли, о соли…»
— Прекрасно, прекрасно, — кивал Джаджанидзе и напоследок крикнул остановившемуся посреди улицы Буте: — Учти, на этот раз прощаю, но впредь, смотри, чтоб это не повторялось…
* * *
Симпозиум прошел великолепно. Гости выступили все. Кто на торжественном открытии, кто на пленарных заседаниях, кто на встречах с трудящимися. Некоторые удовлетворили свою страсть к красноречию на банкетах. Правда, приезжие, как правило, не помнили о Отебашвили. Но все равно каждое выступление приводило в неописуемый восторг хозяев, поскольку первые три слова речи гости произносили на чурчурийском языке. И это приводило в сильное умиление хозяев.
Гостей симпозиума на больших автобусах возили из одного города в другой. Из ученых, прикрепленных к делегациям, с гостями можно было увидеть только Буту Чкоидзе. Он суетился то возле делегации из развивающейся Апаапы, то искал Арона Джаджанидзе с непонятными для окружающих и для самого Арона возгласами:
— Спрашивают, до каких пор буду водить за нос? Ракушки… Вардзиа, письмо… Добыча соли!
Утомленный его приставаниями Арон Джаджанидзе, завидев Буту, как марафонец бежал к машине и кричал водителю:
— Езжай быстрее, не видишь, догоняет, быстрее!
…Делегаты из Апаапа, которые так и уехали со своими несбывшимися желаниями, а может, и вовсе не рассчитывали на то, что они сбудутся, не могли и представить себе, что на следующий после их отъезда день Бута Чкоидзе положил на стол директора заявление об уходе с работы.
Перевод Н. Двораковской.
ПАРАДНОЕ ДОБРО
Сорок седьмой завод не принадлежит к числу гигантских предприятий страны. Это небольшой заводик. Он выпускает мелкую деталь для какой-то огромной и ультрасовременной установки. Что это за установка и для чего она нужна, знают только директор завода и его главный инженер. Что касается сторожа Косты Гваладзе, то он не только не понимает сложного предназначения установки, но и понятия не имеет, куда, в какой город отправляют детали, изготовленные на маленьких заводиках, разбросанных по стране, из коих потом собирают установку, если собирают вообще. Косте кажется, правительство просто придумало дело для учреждения, которое он сторожит. Надо же что-то выпускать и сорок седьмому.
9 апреля. Нынешняя зима была снежной, лавиноопасной, и, хотя улицы города сухи, в тенистых местах и во дворах все еще лежит похожий на бурое месиво снег. Погода стоит ясная, солнечная, и Коста впервые после затянувшейся зимы вылез из своей будки. Вытащил стул и сел погреться на солнышке. Войлочная шуба, выпущенная артелью слепых специально для пастухов, наглухо застегнута, связанная дома шапка надвинута на самые очки. На правое ухо вместо сломанного ушка очков намотана нитка. Время от времени Коста старательно проводит рукой по лохматым белым усам и бороде, как будто хочет вытянуть подбородок. Коста не доверяет раннему апрельскому солнцу, и правильно делает. Вчера с утра тоже было солнечно, но в полдень небо почернело, поднялся ветер, и дождь с градом долго лупил по треснувшему от мороза асфальту.
Косту разморило на солнышке, он задремал и очнулся тогда, когда Тамаз Галогре, заведующий клубным складом, кашлянул ему в самое ухо в знак приветствия.
— Это ты? — Коста приоткрыл глаз.
— Проклятый автобус не остановил, провез дальше.
— Когда останавливает, когда нет.
— Я сидел сзади, вперед не протолкнешься — давка страшная. Крикнул шоферу, чтобы остановил, но, как видно, он меня не расслышал.
На этом взаимное приветствие закончилось. Тамаз вынес из будки табурет, с грохотом поставил его боком на асфальт и осторожно, как человек, которого замучили боли в пояснице, опустился на него.
— Возьми уж топор и доконай.
Галогре засмеялся.
— Чего смеешься? Не можешь поставить нормально? Хоть бы уж сломал и раз и навсегда успокоился бы.
— Эх, Коста, пусть это тебя не волнует, у меня табуреток на складе — навалом. Кто-нибудь спрашивал меня?
— Не то слово спрашивал — рвал и метал.
— Кто?
— Директор. Сегодня с утра начал: когда, наконец, склад освободят! Мне, говорит, из исполкома звонят поминутно, не сегодня завтра сносить будут.
— А в помощь мне никого не собирается давать? Как я один справлюсь?
— Обещал — надо исполнить. Если к полудню не освободишь — будет потеха. Почему не сказал, что одному тебе не управиться? Теперь выкручивайся как хочешь. А что у тебя там такого?
— Думаешь, я знаю? Сколько времени я туда не заглядывал. Знаю, что битком набит, а вот чем, не помню.
Читателю слова Галогре могут показаться странными и неискренними. Как это — заведующий складом не знает, чем набит склад? Сейчас все объясню. (Хотел бы я, чтобы так же легко можно было объяснить, что́ составляет соль этой новеллы, ради чего, собственно, я отнял драгоценное время у читателя, который мог потратить его на чтение действительно хороших новелл.)
Во-первых, Тамаз был неискренен, говоря, что не знает, чем набит склад. Это ему-то не знать?! Война еще не началась, когда ему поручили этот склад, и с тех пор он честно исполняет не столь уж сложные обязанности заведующего. Ибо заведовать клубным складом 47 завода было несложно потому, что клуба как такового не существовало.
Собрания проводились в физкультурном зале завода, а на складе хранились списанные за негодностью предметы и парадный инвентарь. Если не какое-либо непредвиденное событие, скажем, приезд в город высокого гостя или очередное празднование энной годовщины добровольного присоединения Грузии к России, железные врата склада открывались дважды в год — 7 Ноября и 1 Мая. Каждый раз дня за три до праздника на склад, запыхавшись, спускались секретарь парткома и председатель месткома и отбирали там портреты, лозунги и транспаранты. Одни вывешивали тут же у входа или занавешивали ими окна, другие складывали отдельно, чтобы в яркий праздничный день вручить их собравшимся в результате долгих просьб и уговоров трудящимся, прямо скажем, равнодушным к показательному проходу на параде, строго предупредив их при этом, что после прохода праздничный инвентарь непременно надо сдать на склад. То, что предупреждение это было необходимым, подтвердит читатель с многолетним опытом участия на парадах. Давно замечено: почти каждого участника парада, только что гордо прошедшего под рев марша с троекратным «ура!» мимо усеянной руководящими работниками трибуны, вдруг охватывает уныние. Да что там уныние! В его душе рождается сомнение в необходимости и целесообразности парадов подобного размаха. Портрет очередного ответственного лица или бодрящий лозунг-транспарант, который еще пять минут назад он нес, высоко подняв над головой, вдруг превращается в непосильную ношу, и естественно появляется соблазн оставить его между прутьями забора или у стеклянной витрины магазина. Ибо настолько естественным и торжественным выглядел он в рядах улыбающихся демонстрантов, настолько неуклюж и смешон в руках горожан, возвращающихся с площади, одолеваемых обычными безрадостными мыслями.
Вообразите, 23 % праздничных предметов, вынесенных из складов на парад, не возвращаются обратно. Но ввиду того что брошенный на произвол судьбы у витрин и заборов инвентарь не составляет дефицита, стараниями бдительных товарищей он не теряется. Под конец его собирают на большом складе исполкома, откуда энергичные работники последнего распределяют его между подчиненными им предприятиями и ведомствами.
Убедившись, что неотвратимого не избежать, Тамаз Галогре поднялся с табурета в том же темпе, что и опустился на него, занес его обратно в будку и вышел оттуда, вытянув вперед обе руки, в больших брезентовых рукавицах. Он внимательно осмотрел рукавицы, потом снял правую, сунул ее под мышку и, вынув из кармана платок, шумно высморкался. Затем старательно поправил жесткие белые усы, потерявшие было в результате сморкания привычное направление, и, обращаясь к приятелю, сказал:
— Спущусь, начну потихоньку.
— Помочь? — предложил Коста из вежливости, потому что, во-первых, не мог оставить свой пост, а во-вторых, ему явно не хотелось рыться в пыльных вещах.
Галогре понял друга.
— Какая от тебя помощь? Если понадобишься, крикну.
— Ну как знаешь.
Сколько лет минуло с 1944-го? Если не ошибаюсь, сорок четыре. Сорок четыре года знают друг друга Галогре и Гваладзе. Когда Тамаз оформлялся на работу, Коста уже два месяца работал здесь сторожем. Для него, как и для Тамаза, война в результате контузии и ранения кончилась раньше срока. С той поры они почти неразлучны. С годами их кудрявые чубы побелели, а сами они отяжелели. Вместе ходят на собрания ветеранов, вместе получают талоны в магазин для инвалидов войны. Гваладзе — не большой любитель показать себя. Галогре — напротив. С удовольствием надевает на рукав красную повязку и либо стоит в дверях ветеранского магазина, либо дежурит на улицах вместе с дружинниками. На этом расхождения во взглядах кончаются, в остальном они одинаково смотрят на вещи. При этом удивительно похожи друг на друга. Оба — не любители поговорить и часто без слов понимают друг друга. В день получки по традиции они отправляются в маленькую шашлычную в тупике имени Щорса, берут по бутылочке вина и проводят время за приятной немногословной беседой, после которой, воспрянувшие духом и слегка навеселе, расходятся по домам. В прошлом году, когда в шашлычных запретили торговать вином, ветераны и не подумали изменять своей традиции. Изменилась лишь форма дружеской трапезы. В день получки они по очереди покупают две бутылки белого (красное из-за давления избегают), жарят в будке на сковороде купаты из магазина полуфабрикатов, приготовленные по сомнительной технологии, и не расходятся до тех пор, пока не прикончат обе бутылки, наливая в маленькие, с наперсток, стаканчики и произнося обязательные тосты (и первый среди них — за тех, кто не вернулся).
Постарел 47 завод, постарели и прошедшие войну ребята. 47-й — одна из первых ласточек индустриализации этого края. Построен в 1927 году. В течение последующего времени он не раз менял свое название и назначение. Говорят, поначалу здесь изготовляли молочные бидоны и опрыскиватели для виноградников. Потом наладили производство цилиндров для буровых скважин. Во время войны делали гашетки для огнестрельного оружия. Когда Коста и Тамаз пришли сюда работать, это был роликовый завод. С 1957 года стали производить тележки для прохладительных напитков. С 1969-го — почему-то началось серийное производство противогазов. И вот пять лет, как завод носит название «47-й» и работает на какую-то уникальную установку.
Клубный склад находился тут же, в подвале, в метрах пяти от будки. Старое двухэтажное здание завода должны были снести в связи с реконструкцией улицы. Администрация временно перебралась в финский домик, наспех поставленный на территории завода, а куда должен был деться склад, широкая общественность оставалась в неведении. Во всяком случае, заведующему складом и сторожу (людям, материально ответственным за инвентарь и потому заинтересованным) директор весьма туманно ответил: давайте сперва освободим его, я думаю, исполкомовский склад временно приютит нас. Потом, когда нам выстроят новый клуб, мы найдем место для склада… Это было сказано три дня назад. Галогре, будучи невысокого мнения о темпах городского строительства, медлил с исполнением приказа: чего уж там спешить, рак на горе свистнет, пока они придут рушить. В течение этих трех дней он успокаивал директора: «Завтра начну, завтра все будет сделано», но после утреннего внушения Косты решил приступить к делу — а вдруг и впрямь придут сносить. Три дня назад он не проявил особого интереса к тому, что говорил директор. «Все равно мне не дождаться этого, — подумал он, — с нового года уйду на отдых. Устал, не могу больше мотаться в транспорте, на ходу спрыгивать с троллейбуса, старые раны ноют, да и ноги уже не те — как-никак 73 года».
Замок на двери склада заржавел, и пришлось пару раз стукнуть по нему камнем, чтобы открыть. Галогре убрал валявшиеся на ступеньках ржавые консервные банки и обрывки старых газет. В помещении склада стоял горький запах сырости, смешанный с запахом краски. Парадного инвентаря, небрежно сваленного в огромную кучу, оказалось гораздо больше, чем ожидал Галогре. «Да-а, работы здесь хватит на десятерых, попробуй разобрать этот завал», — была его первая мысль, когда он вошел вовнутрь.
Проход справа преграждал групповой портрет классиков марксизма-ленинизма. Поэтому первым делом Тамаз вынес на улицу это полотно и прислонил его к стене здания.
Коста глянул и удивился:
— Ого, все четверо вместе?
— Будто впервые видишь! — завскладом несколько раз хлопнул руками, так что от рукавиц пошла пыль, и снова спустился в подвал.
Давненько не видел Коста этот групповой портрет и сейчас внимательно разглядывал его. На переднем плане был изображен Сталин, за ним выстроились в ряд лики остальных бородатых и усатых. Коста вошел в будку, вынес оттуда влажную тряпку и вытер пыль с картины.
Галогре тем временем пыхтя вылез из подвала с бюстом Буденного и осторожно опустил его на тротуар. В следующий раз он вытащил портреты Жданова и Кагановича, которые поставил в ряд вдоль стены.
Поднять старые, изъеденные молью лозунги-транспаранты не составило для Галогре труда, ну а укрепленные на длинных палках портреты членов Политбюро различных эпох, выполненные на куске марли, натянутой на тонкую круглую проволоку, он выносил по пять-шесть штук сразу, складывая их у стены, за бюстами.
Над бюстами хлопотал Коста Гваладзе с влажной тряпкой в руке.
У административного корпуса 47 завода стал собираться народ. Прохожие задерживались у импровизированной выставки, разглядывали кто с грустью, кто весело (в зависимости от возраста) экспонаты, лежащие на тротуаре. И хотя их и нельзя было причислить к шедеврам искусства, совершенно очевидно, что на них была затрачена масса денег, энергии и энтузиазма поколений.
Галогре, понятно, не ожидал такого массового интереса к парадному реквизиту. Он взмок от усталости, но им овладел странный азарт: выставить напоказ как можно больше парадного добра.
Между тем толпа вокруг подвала росла. Стоящие впереди уходить не собирались, задние напирали. Все забыли о своих делах. Как будто кто-то пригласил их сюда для опознания героев отошедших парадов и оценки их заслуг перед страной. Стоял галдеж, слышался смех. Каждый выход Галогре ожидали с нетерпением.
С особым интересом встречали появление бюстов. Сперва на лестнице показывалась голова бюста, затем сморщенные, старческие руки Косты, вцепившиеся в плечи скульптуры, и, наконец, склоненная вниз его голова, повязанная полотенцем. Вспотев, он снял свою шапку-ушанку и повязал голову полотенцем сомнительной чистоты.
Бюст Хрущева показался ему достаточно тяжелым. Если бы не помощь со стороны, он наверняка бы выронил его и бюст разбился бы на куски. Но, к счастью, все закончилось благополучно.
Казалось, Галогре вкладывал какой-то смысл в то, как выносил парадное добро. Одни портреты и бюсты он нес с особым почтением, как бы смущаясь, что вынужден брать их за плечи или голову, другие тащил небрежно, как вязанку хвороста, заброшенную за плечи. Одни казались ему необыкновенно легкими, другие тяжелыми, как мельничные жернова.
Зрители, в свою очередь, встречали каждый бюст или портрет по заслугам лица, которое они изображали. Одних — аплодисментами, других — молчанием, третьих — свистом и смехом.
На тротуаре выстроилась чуть ли не панорама вчерашнего дня нашей жизни с ее политическими страстями, кровавыми драмами, бессмысленным или не лишенным смысла мужеством, коварством, дурацкими экспериментами, экономическими боями, дилетантскими прыжками в истории и безусловно своевременным возвратом и пробуждением.
Стояли, выстроившись в ряд, бюсты и портреты Сталина, Ворошилова, Буденного, Дзержинского, Жданова, Кагановича, Молотова, Микояна, Булганина, Маленкова, Хрущева, Брежнева, Суслова, Подгорного, Черненко, Андропова и многих других.
Присмотревшись к портретам повнимательнее, можно было обнаружить нечто гораздо большее, чем вложил в них автор, наспех выполнявший социальный заказ. Лица одних буквально светились мудростью, от них как бы исходило чувство торжества, другие выглядели скромнее, будто случайно попали в эту компанию, третьи смотрели смело, почти нагло, кривя губы в авантюристической улыбке.
…С кузова грузовой машины спрыгнули трое мужчин и, заложив руки за спину, сбежали вниз по лестнице в подвал, стуча каблуками. Что они сказали Галогре, неизвестно, но наверняка ничего хорошего, судя по его нахмуренным бровям и гневно поджатым губам.
Самый высокий из прибывших коротко и ясно объявил собравшимся:
— Прощу разойтись! Займитесь своими делами! Здесь вам не цирк и не кино!
Обращения в подобном категорическом тоне еще магически действуют на граждан. Они стали расходиться, правда, не спеша, с оглядками, улыбаясь и хихикая.
Троица с завидным проворством побросала в кузов парадное добро, покрыла его большим куском брезента. Причем большая часть времени ушла не на погрузку, а на натягивание брезента и его закрепление в четырех углах.
* * *
Когда «КамАЗ» с ревом умчался, Галогре, вытирая руки, вылез из подвала, еле волоча ноги, приплелся к будке, вынес табурет, осторожно поставил его боком на асфальт и, со стоном опустившись на него, сказал Косте:
— Чего они орут? Сказали освободи, я и освобождал. Или я что-то другое делал?
Коста ничего не ответил.
— Куда все это увезли, как ты думаешь? — снова нарушил молчание Тамаз.
— Ничего не сказали.
— Разве так можно? Я ведь отвечаю за инвентарь, а если завтра спросят с меня?
— Не спросят, не бойся.
— Ты думаешь?
— За что тебе отвечать… Допустим, недосчитаются одного бюста, так что — ты его прокутил, что ли? Можно подумать, кто-то купит его. Ничего не бойся, они знают, куда везти это добро.
Прогнившая дверь склада скрипела под порывами ветра. Солнце время от времени прорывалось сквозь взбитые облака, скучившиеся на западе.
И тогда огромная тень пробегала над городом.
Перевод Л. Татишвили.
ИЛЛЮЗИОНИСТ
Иллюзионист Карло Чио дважды прошелся под хрип магнитофона вокруг сцены дома культуры местечка Ахаваи, затем остановился, выжидая, пока замрет зал, и произнес:
— Здравствуйте, дорогие друзья, перед вами мастер индивидуального номера Карло Чио! Я впервые у вас в гостях. На этой сцене, вероятно, до меня выступало немало иллюзионистов, и вы не без основания можете полагать, что мы, фокусники, без обмана не обходимся. То, что делаем мы, кажется вам обычным делом, но покажи вам это кто-то другой, вы скажете: это чудо! Вы уверены, что мы, обученные разным хитростям и рассчитывающие на ловкость своих рук, непременно обманываем вас, белое выдаем за черное, правду смешиваем с ложью. Так ведь? Не скрою, и мне известны несколько фокусов, но сегодня я решил не показывать их. Можете быть уверены, сегодня впервые в моей жизни все будет без обмана. Я буду предельно правдив и покажу вам, моим добрым, благородным зрителям, то, чего достиг в результате врожденных, действительно чудотворных биотоков и титанического труда. Сегодня я отказываюсь даже от своего ассистента, который стоит сейчас за кулисами и нервничает: если так продолжится, можно и без работы остаться. Но пусть он не волнуется, работа для него всегда найдется — подготовка сцены, включение магнитофона и т. д. Итак, начнем! Сегодня, правда, очень жарко, но я покорнейше прошу вас быть предельно внимательными. Пусть мое одеяние не смущает вас. Мы, иллюзионисты, поклялись своему предку — факиру не выступать перед зрителями в иной одежде. Согласитесь, этот костюм требует соответствующей обстановки. Если мы начнем показывать фокусы в обычных местах — общественном транспорте или столовых, — мир сойдет с ума, но это еще ничего, мы немедленно будем дисквалифицированы Всемирной ассоциацией иллюзионистов.
Итак, договорились — сегодня на сцене царит правда! Прошу кого-нибудь из вас подняться ко мне сюда. Если я попытаюсь обмануть вас, ваш представитель тут же уличит меня в этом, и я признаю себя побежденным. Я — человек слова. Обещал, что не буду обманывать, и сдержу свое слово. Кто желает ассистировать мне сегодня? Смелее, смелее, ничего страшного тут нет!
В третьем ряду поднялся мужчина в соломенной шляпе. Всучив ее сидящему рядом, он вынул из кармана платок, провел им по кудрявым волосам и шее и направился к сцене.
В зале раздались жидкие хлопки.
— Представьтесь зрителям, — развел в стороны руки иллюзионист Чио.
— Вашакидзе, — глядя куда-то вбок, произнес «ассистент».
В зале было душно, и Вашакидзе подумал: «Черт меня дернул вылезти сюда в эту жару, еще подумают, меня наняли… Сидел себе спокойно, и сиди. Так нет, надо было выставить свое пузо напоказ». Но было уже поздно — отступать некуда.
Карло Чио вынул из сумки никелированные, диаметром в пядь кольца. Четыре или пять колец надел себе на руки, два протянул Вашакидзе и еще два зажал в руках.
— Проверьте, достаточно ли они прочные, — громко, так, чтобы слышал зал, сказал он «ассистенту». Тот с усердием проверил кольца и подтвердил: да, дескать, прочные. Тогда иллюзионист протянул ему те кольца, что держал в руках:
— Проверьте, пожалуйста, и эти, одинаковы ли, прочны ли? Нет ли здесь подвоха? А теперь вместе со мной сделайте вот так, — и он ударил кольцами друг о друга, — может быть, удастся сцепить их, одеть одно на другое. Начали — раз, два, три! Ну-ка взгляните, нет ли где насечки или следов запайки?
Вашакидзе осмотрел оба кольца, но ничего на них не обнаружил.
— Попробуем еще раз, давайте-ка вместе — раз, два, сильнее, три!
И случилось то, что так ждали и зал, и Вашакидзе, но как это случилось, никто не заметил. Иллюзионист прокрутил в воздухе два сцепленных кольца, «ассистент» еще раз попытался сцепить свои, но безуспешно.
Карло Чио тем временем, повесив кольца на руку, взял у Вашакидзе его непокорные кольца и объявил:
— А теперь проверим ваши, может быть, у моих все же было что-то не в порядке. Внимательно рассмотрим их. Да нет, как будто достаточно прочные. Прекрасно. Раз, два, три! — и в мгновение ока кольцо было вдето в кольцо.
Зал ответил овацией.
— Прошу вас откровенно ответить зрителю, был ли здесь обман? Хотите, попробуем еще раз?! — патетически вопрошал Карло Чио.
— Достаточно, все было в порядке, — запинаясь, отвечал Вашакидзе, вытирая платком шею. — Я могу сесть?
— Садитесь, пожалуйста. Большое вам спасибо, — иллюзионист протянул ему свою визитную карточку, — приглашаю вас на свой будущий концерт.
После этого Карло Чио удалось зазвать на сцену еще троих зрителей. Первому он предложил вынуть из новой колоды карту, запомнить ее, положить обратно и перетасовать.
— А теперь положите колоду на стол и скажите, какой по счету вы желаете видеть задуманную карту, я, как вы понимаете, не имею представления, что это за карта, во-первых, не видел, а если бы и видел, вы так здорово перетасовали колоду, что мне ее не найти!
— Девятой, — ответил «ассистент».
— Одиннадцатой! — крикнули из зала.
— Девятой или одиннадцатой? — спросил Чио.
— Ни девятой, ни одиннадцатой — пятнадцатой, — объявил после раздумья «ассистент».
— Пятнадцатой сверху или снизу?
— Сверху! — ответили из зала.
— Скажите зрителям, какую карту вы запомнили, — предложил Чио.
— Короля бубнового, — ответил «ассистент».
И действительно, пятнадцатой картой сверху оказался бубновый король.
Третьему помощнику Чио дал в руки волшебную палочку и сказал:
— Дотроньтесь палочкой до моего затылка, и во рту у меня появится алюминиевое яйцо.
И в самом деле, только палочка коснулась волос иллюзиониста, как у него надулись щеки и в полуоткрытом рту появился алюминиевый шарик. Он провел рукой по губам и продемонстрировал залу покачивающееся на ладони яичко.
Грянули аплодисменты.
— А может быть, оно было у меня во рту, — произнес Чио, подбрасывая яйцо, — попытаемся еще раз!
Еще одно прикосновение палочки, и между ярко накрашенными губами Карло Чио показалось еще одно яйцо.
— Еще раз!
— И еще!
— И еще раз!
На столике уже лежало семь яиц.
— Довольно, хватит, жалко его! — крикнул кто-то из зала, и «ассистент» опустил занесенную было палочку.
Этот номер даже слепых убедил в том, что Карло Чио действительно чудотворец.
Четвертой поднялась на сцену статная светловолосая женщина. Чио снял у нее с руки часы и велел завернуть их в платок. Потом он дунул на платок и предложил женщине раскрыть его, со словами:
— Возьмите свои часы, номер, кажется, не удался.
Блондинка раскрыла платок и замерла, пораженная: ее золотые часики превратились в маленькую щепочку.
— А где часы? — иллюзионист был как будто удивлен не меньше ее. — Вы же сами их положили сюда, сами завернули, никто, кроме вас, к ним не прикасался!
— Да… никто… не знаю… куда они могли деться… — женщина была готова расплакаться.
Искали часы, искали и обнаружили их в запасной чалме Чио, лежащей возле магнитофона.
Под конец иллюзионист пожонглировал тремя красными палочками, поблагодарил растроганного зрителя за сердечный прием, снял чалму, провел рукой по парику, едва не сняв его, щелкнул каблуками мокасин и, пожелав всем счастья, послал в зал воздушный поцелуй и покинул сцену.
Бурными овациями зрители несколько раз вызывали Карло Чио. Под конец, когда он жестами и мимикой дал им понять, что сердце его принадлежит им, а из-за жары силы его на исходе, аплодисменты стали стихать, и занавес тяжело опустился.
Жители Ахаваи разошлись по домам, чтобы вернуться к своим местечковым делам. А Карло Чио, пока его ассистент с глазами белого медведя складывал инвентарь в зеленый фанерный сундук, сидел перед зеркалом в маленькой гримерной и снимал вазелином с лица грим, дабы придать ему тот вид, который соответствовал Чио как полноправному гражданину Советского Союза.
В это время кто-то робко постучал в дверь.
— Войдите, открыто! — крикнул Чио.
Вашакидзе держал свою соломенную шляпу в безвольно повисших руках. Сделав шаг вперед и вправо, он замер у дверей.
— Я вас слушаю, — иллюзионист вытер лоснящееся от вазелина лицо белым полотенцем, застегнул верхнюю пуговицу рубахи и пододвинул гостю стул, — садитесь.
Карло был привычен к таким визитам. После концерта к нему почти всегда заходили два-три особенно любознательных зрителя, которые почти одинаковыми жестами и трепещущими от волнения голосами умоляли его:
— Мы здесь с вами одни, ради бога, расскажите, как вы делаете этот номер. Я так внимательно следил за вами, но ничего не понял.
Карло, естественно, всегда отвечал одно и то же.
— Никакого секрета здесь нет, а то кому бы я его открыл, как не вам. Я не фокусник, я вас не обманываю, все дело в моих особенных биофизических и анатомических (!) возможностях. С такими данными, как я, человек рождается один из миллиона. А если он к тому же интенсивно работает над собой, он достигает того, чего достиг я…
Но Вашакидзе не походил на тех наивно-восторженных зрителей, да и вопросы задавать не спешил.
— Вы любите цирк? — чтобы разрядить обстановку, Карло Чио взял инициативу в свои руки.
— Да… конечно… Я не помешал? Мне бы хотелось что-то сказать вам, — Вашакидзе, уставясь в пол, крутил в руках шляпу, как если бы перебирал четки.
— Я вас слушаю.
— У вас только эти номера или есть еще и другие?
— В основном я показываю эти. Есть еще несколько, но из-за жары я сократил программу. Не хотелось утомлять зрителя. А почему вы спрашиваете?
— Да так… Наше местечко, правда, глухое, но кое-что мы все-таки видели. Не такие уж мы серые…
— Вы о номерах? Я же сказал, все будет без обмана, сегодня я почему-то был в таком настроении. А вам что, не понравилось?
— Как же, понравилось! Вы свое дело знаете, конечно, и хорошо, что вначале же сказали: мне нравится зритель и я буду предельно правдив.
— Вы мне не поверили? Сомневаетесь в моей искренности?
— Насчет веры я много чему не верю на этом свете, но вы же видели, я поддержал вас. Даже похлопал и молча ушел со сцены. Знаете почему? Потому что вы делали свое дело и мне неловко было портить вам обедню.
— Вы о чем?
— Что касается других, не знаю, но я не хотел, чтобы вы уехали отсюда, думал, что все в зале поверили вам. У вас, простите, я повторяюсь, свой секрет, как заработать деньги, а то разве время заниматься фокусами или разве когда-нибудь я поверю в них.
— Благодарю вас за сочувствие, но мне все же интересно, что вы разгадали, а что нет.
— А то, что, когда вы якобы сцепляли кольца, они уже сцепленные висели у вас на руке; ударяя их друг о друга вместе со мной, вы переносили внимание зала на меня, а сами тем временем ловко меняли кольца так, что зритель ничего не видел.
— Но я же сцепил ваши кольца?
— Вот когда вы взяли мои, на третий удар, вы будто промахнулись и незаметно надели их на правую руку, спустив с левой уже сцепленные, так ведь?
Карло Чио молчал.
— Теперь насчет карт. У вас было две колоды, в одной — только бубновые короли. Сперва вы показали первую колоду, потом сунули ее в рукав и вынули вторую — с королями. Предложили «клиенту» запомнить карту, перетасовать колоду и положить на стол. Естественно, не имело никакого значения, какой будет карта по счету — седьмой сверху или тринадцатой снизу, — все одно: король бубен.
С яйцами тоже все просто, без философии. У вас во рту было одно алюминиевое яичко. Вы проводили рукой по губам, но не вынимали изо рта, а только глубже засовывали, а зрителю показывали другое, его-то вы и подбрасывали вверх. Так вы вынули из кармана семь яиц, а волшебная палочка была для отвода глаз.
Ну а с часами проще простого. Женщина отдала вам часы, а вы, будто прибирая свой стол, сунули их в чалму, и пока она старательно заворачивала в платок щепку, ваш ассистент унес чалму и положил ее рядом с магнитофоном. Так ведь было! Скажите по-честному, я ведь прав?
Карло Чио хранил молчание.
Вашакидзе, торжествуя, не без иронии смотрел на него. Но когда разоблаченный иллюзионист поднял на него глаза, он устыдился своего поступка. «Не надо было приходить, он ведь самый обыкновенный человек», — подумал Вашакидзе.
— Как вас зовут?
— Карло Чио, — ответил иллюзионист чужим голосом и отвернулся.
— Я спрашиваю вас о настоящем имени.
— Клименти, Клименти Гелеква.
— Меня, батоно Клименти, зовут Шанше. Прошу, не обижайтесь на меня. Это я так, чтобы вы не думали, что в нашем местечке живут темные люди.
— Я не обижаюсь, мир изменился, нет уже того зрителя, что был раньше.
— Вы совершенно правы. Нам ежедневно на протяжении десятилетий показывают столько разных фокусов, что ваши по сравнению с ними — сущая безделка. Порой мы их разгадываем, порой же, надо сказать, они такие головоломные, что мы только ушами хлопаем, но в обоих случаях молчим в тряпочку. Во всяком случае, так было до сих пор. Что будет потом — посмотрим.
— Да, вы, пожалуй, правы, — Карло Чио взглянул на часы.
— Батоно Клименти, только поймите меня правильно, вы наверняка не ужинали, разрешите пригласить вас к себе, я тут поблизости живу, в двух шагах. Выпьем по стаканчику, закусим, я вас не задержу, клянусь детьми.
— Благодарю вас, батоно, в другой раз. Сегодня не получится. К тому же я не один, со мной ассистент.
— Ну, конечно, возьмем его с собой! На часик, не более. Без ужина я вас в такую даль не отпущу: уважьте, прошу вас.
Весь вид Шанше Вашакидзе выражал такую искренность и почтение, что иллюзионист не смог отказаться.
Они затащили сундук в маленькую гримерную, закрыли клуб и вышли на освещенную луной улочку.
Во дворе клуба у колодца сидела собака и лаяла на луну.
Перевод Л. Татишвили.
БОГАТЫРИ ИЗ САЧИХЕ
Их было четверо, все как на подбор — богатыри. В прошлом году по весне они появились в местечке — то ли в начале апреля, то ли в начале мая, точно не помню. Держались вместе; заложив руки за спину, ходили от двора ко двору и, завидев за сложенным из камня забором хозяйку, робко спрашивали: «Мастеровые не требуются?» В прошлом году они оставались у нас до первого снега — перебивались случайными поделками, как говорят мастера. Чувствовалось, выдавать себя за чернорабочих им не с руки, но то, что они не владели никаким ремеслом, было совершенно очевидно. Приехали они и в этом году, подрядились достраивать усадьбу моего соседа Гиви Заалишвили и тут же расположились на жилье.
В грузинских селах дома, по известным причинам, ставят довольно близко друг от друга. Мое окно выходило во двор заалишвилевской усадьбы, и хотел я того или нет — с утра до вечера слушал беседы четырех богатырей из Сачихе.
— Зурия, ну-ка взгляни сюда!
— Что тебе?
— Взгляни, говорю, стена, кажись, куда-то драпануть хочет.
— Я же говорил, бери влево.
— А я что, вправо взял?
— Да нет же, влево, но слишком уж взял.
— Так что же мне делать?
— Говорю тебе, а ты не понимаешь, вот и отвечай сейчас перед хозяином.
— С ним ты договаривался, не я.
Зурия, оглянувшись по сторонам, мягко выговаривает приятелю:
— Займись делом, хватит трещать как сорока.
— Как кто?
Зурия не отвечает.
Про таких вот и говорят — шумные мастеровые. Они галдели, зубоскалили, шутили. Как будто именно это было главным для них, ну а делом занимались ради потехи. Движения их были ленивы, угловаты. Все четверо — коренастые, с крепкими шеями. Одно удовольствие было слушать, как они смеются. Все четверо, одновременно бросив свои лопаты, терки, уровни, валились на землю и корчились от смеха. Потом один из них переводил дух:
— Что ты ему сказал, что?
— Ну хватит, поднимайтесь, что сказал — то сказал, тебе что?
— В употреблении, говоришь, выпрямится?!
И снова взрыв истерического хохота. Не смеется только Капия — молодец с лапами как у медведя, и чем серьезнее его лицо, тем громче хохот его приятелей.
Надо было видеть, как они поднимали бревно или ставили каменную ступеньку на рельс.
— Ну взяли?
— Поди сюда, Зурия, не дай бог выроним — без ноги останешься.
— Не пойдет, здесь лом нужен.
— Не пойдет? А ну посмотрим!
— Ну как там дела?
— Подняли?
— Погоди, сосчитаю до трех, и дернем все вместе.
— Раз, два, три, хо-оп, хорошо!
— Что хорошо? Наклон в твою сторону!
— Поправим!
— Ничего не надо поправлять. Приставим второе, само выпрямится.
— Подошло?
— Подойти-то подошло, только чуть-чуть не хватает.
— В этом «чуть-чуть» и все дело.
К полудню разговор шел на убыль. Богатыри все чаще оглядывались на калитку. Поминутно справлялись друг у друга, который час, и Зурия уже хватался за кувшин с торчащим початком кукурузы в горле, который своими размерами мало походил на обыкновенный кувшин.
— Куда спешишь? Пусть он придет, потом сбегаешь за водой. Она нагреется на солнце, придется пить теплую, как в прошлый раз.
— А вдруг он не придет сегодня, так что ж, мне и воды не выпить?
Когда солнце начинало клониться к закату, появлялся Гиви с корзиной в руке. Гиви — человек щедрый, хлебосольный; он приносил своим рабочим обильные обеды. Зная «слабости» имеретин, не забывал горячие мчади, лук с чесноком, молодой сыр, лобио. И великаны с удовольствием уписывали все это за обе щеки. Насытившись, они вместе с Гиви ходили во двор, хвалясь перед любезным хозяином проделанной работой. Порой их деловые разговоры доносились до моих окон.
— Зачем вам другие мастера, мы сами управимся с этим!
— Штукатурить? Да мы всю жизнь этим занимаемся.
— Что, что?
— Он спрашивает, умеем ли мы штукатурить?
— Мы, батоно Гиви, не умеем разве что стихи слагать да диссертации писать, а все остальное — наше дело. Штукатурить? А что другое мы делаем в Сачихе?
— Вообще-то, если уж на то пошло, мы и стихи не хуже других сложить сумеем, — прихвастнул Капия, — Акакий Церетели, между прочим, родственником мне приходится. У моей бабушки мать была Церетели.
Потом, как бы сговорившись, все четверо переходили на другое место. И опять что-то негромко говорил хозяин, выдавливая из себя слова, и в ответ немедленно начинали грохотать великаны:
— Что, сварка? И из-за сварки вы из такой дали собираетесь привозить людей?
— Нет, это, конечно, ваше дело, но зачем выбрасывать деньги?
— Сварка, говорите? Да ведь я занимаюсь сваркой, как себя помню.
— Как скажете, так и приварим. Это ведь как ручку к горлышку приделать…
Потом они снова перемещаются на прежнее место под грабом.
— Откуда нам знать, сперва вы свою цену назовите, батоно Гиви, мы бежать никуда не собираемся, надеемся, наше знакомство не два дня продлится.
— Может быть, наша цена вам не подойдет, поэтому лучше скажите вы, сколько, по-вашему, стоит вся эта работа вместе со сваркой, конечно.
— Естественно, все будет сделано классно, плохая работа — разве работа?
— Об этом вы не беспокойтесь.
— Нам, батоно Гиви, это ведь не впервые. Ну кто берется за дело, не зная его?!
Господи, прости меня, но я с самого начала почувствовал недоверие к великанам. Во-первых, потому, что они соглашались на любую работу: когда рабочий человек утверждает, что он владеет семью ремеслами, он, как правило, не владеет толком ни одним из них. Эта мудрость Гиви уже не поможет, по крайней мере, ты, дорогой читатель, помни о ней. Во-вторых, мои великаны не походили на жадных до денег мастеровых — приехав издалека в наши края на заработки, они невысоко ценили свой труд. Соглашались на то, что предлагал хозяин. А если мастер запрашивает за свой труд дешево, это вызывает подозрение, тогда не жди работы высокого качества. Эта мудрость также уже не поможет Гиви, но, может быть, тебе, уважаемый читатель, она когда-нибудь пригодится.
Сложив в пустую корзину тарелки и покрыв их для красоты газетой, все четверо провожали Гиви до калитки и в ответ на его призыв, в котором слышалась просьба: «Ну, ребята, дело теперь за вами!» — дружно кивали головой. Хозяин уходил, а великаны устремлялись обратно под тень граба. После обеда надо ведь немного и отдохнуть.
— Как ты сказал? — с серьезным лицом спрашивает Капию черноусый Никуша, с трудом сдерживая рвущийся наружу смех.
— Начинаешь? Не заставляй меня вставать, не то отваляю так, что себя не узнаешь, — злится Капия.
— А ты чего, скажи ему, раз спрашивает, слово ведь ничего не стоит.
— Сколько раз можно говорить! Ничего другого для потехи не нашли? — продолжает злиться Капия.
— Как ты сказал, Капия, этому уважаемому человеку? «В употреблении стена постепенно выпрямится»?! — с трудом выговаривает фразу высокий, широкоплечий Роланд в имеретинской шапочке, и великаны, как по команде, начинают кататься по траве, как если бы у них были желудочные колики.
Зычный хохот и выкрики типа «Охохо, сейчас задохнусь!», «Дай бог тебе счастья!» — оглушили окрестности.
Словом, наблюдать за четырьмя великанами было одно удовольствие. Нет, они не вкалывали до седьмого пота, они ворковали, как голуби, соревнуясь друг с другом в остроумии и острословии. Они явно были рождены для другой жизни. Лопата, уровень и прочие орудия труда казались в их руках посторонними предметами, которые они выпросили ненадолго для того, чтобы сфотографироваться с ними. Для меня оставалось загадкой, кто они, каким ветром занесло по эту сторону Ципского тоннеля этих «сезонных рабочих» с аристократическими манерами.
На прошлой неделе, кажется в среду, ко мне вдруг заявился Гиви с побелевшими от волнения губами.
— Я погиб, — сказал он, подходя к окну и оглядывая свой двор, — не говоря уже о тратах, все придется делать заново. Я ведь прекрасно знаю, что шапку должен шить шапочник, но вот взял и доверился этим четверым и погубил дело. Я видел, работники они никудышные, но такие славные люди, что не решился на неприятный разговор.
— А что они сделали не так? — спросил я.
— Да, господи, что ни назови. Лестница раскачивается, как колодезное ведро, стены кривые, бассейн протекает, а в подвале не закрываются ни окна, ни двери.
— Мне приходилось наблюдать за ними, и должен сказать, работали они на славу. Да и к тебе с большой симпатией относятся, все время хвалят тебя, — я старался облегчить горе соседу. Но говоря это, понимал, что протекающему бассейну и раскачивающейся лестнице уже ничем не поможешь.
Под конец я посоветовал Гиви, и его доброе сердце не могло с этим не согласиться, привезти из города двух рабочих — мастеров своего дела. Будто бы для какой-то особой работы, на деле же для исправления того, что напортачили великаны. При этом он, конечно, не дал бы почувствовать им, ни словом не намекнул бы, что недоволен их работой. А в дальнейшем перевел бы постепенно великанов на не требующие особой квалификации дела — земляные работы и благоустройство двора.
С большим волнением (будто мне недостаточно собственных тревог) ждал я следующего дня, как встретят своих новых коллег великаны из Сачихе.
К одиннадцати часам Гиви Заалишвили привез из города двух греков — отца и сына. Греки обошли двор, переоделись в сатиновые халаты и приступили к работе. Их почти не было слышно. Парень с полуслова понимал отца — что надо было укрепить, что подать. В это время наши великаны, подменяя друг друга, строгали доски для пола, поминутно дуя на фуганок и постукивая молотком по рукоятке. Им явно не нравился фуганок. Порой один из них, заложив руки за спину, с деловым видом направлялся в тот угол двора, где работали отец с сыном, украдкой бросал на них взгляд и возвращался к приятелям, обступившим строгальный станок.
Со двора Заалишвили уже не доносилось смеха и тихого пения. День как будто стал намного длиннее. Печаль и уныние, воцарившиеся во дворе, передались и мне — не писалось. Я не мог подобрать нужного слова.
…Около десяти утра кто-то позвал меня со двора. Я спустился. У калитки стоял Зурия, одетый в выходной костюм. Чуть поодаль — три великана с узелками в руках, готовые в путь. Я пригласил Зурию войти.
Он отказался.
— Мы уезжаем, батоно Шио. Нам нельзя здесь больше оставаться. Мы не успели даже попрощаться с батоно Гиви, так что очень просим извиниться за нас и передать ему наше спасибо. Он почти расплатился с нами. Немного, правда, недодал, ну да бог с ним. Хороший он человек, и нам как-то стыдно, что мы уезжаем не попрощавшись.
Вы небось уже разобрались, что к чему, батоно Шио, но я все же свое скажу. Чего уж скрывать, никакие мы не мастера, а простые крестьяне, и будь мы немножко умнее, не взялись бы за строительно-ремонтные работы, но жизнь заставила нас. Нет, за горло нас никто не брал, но нам хотелось заработать какие-то копейки, вот мы, так сказать, и удрали из села.
Вы так устроили эту жизнь, и не нам учить вас, но все же хочу сказать: мы не лентяи и бросили свои семьи на такой долгий срок не потому, что они надоели нам. Дело в том, что нам очень трудно живется на селе. Целый год ковыряешься в земле, а прокормить семью, да еще чуток отложить (должен же человек хотя бы немного иметь про черный день) очень трудно.
Если так продолжится, а задарма и осел сегодня не работает, мы еще немного подождем, а потом вообще уедем из деревни. Другого выхода нет. Все, что можем, сделаем. Сегодня мы опозорились перед этим славным человеком, но это не наша вина. Постороннему глазу чужое дело всегда таким легким кажется, вот и мы обманулись, опростоволосились. Скажи ему, что мы, сачихцы, не такие уж плохие люди…
Говоря все это, Зурия прятал глаза, пристально разглядывая свою правую ладонь, изредка, правда, бросая на меня быстрый взгляд, чтобы удостовериться, понимаю ли я его. Я долго упрашивал его: зайдите в дом, выпьем на прощание по стаканчику. Но Зурия был непреклонен, и тогда я позвал тройку великанов. Но и они остались глухи к моей просьбе, поздно уже, сказали, не будем беспокоить вас, нам надо успеть к сачихскому поезду. Они подходили ко мне и жали руку с такой почтительностью, словно делали это впервые.
— Дай вам Бог всего хорошего, ни о чем не беспокойтесь, с Гиви я переговорю.
Вот все, что я им сказал. Они ко мне пришли прощаться, а не совета просить. А если бы и попросили, что бы я мог им сказать? Какой совет я им мог дать?
Перевод Л. Татишвили.
СОВЕТ НАЧИНАЮЩЕМУ ПИСАТЕЛЮ
Прочел я твои новеллы. Ради всего святого, объясни, откуда в них столько лжи? Человек ты даровитый, умеешь писать, но вот о чем писать — не имеешь представления. Кто тебе сказал, какая грешная душа надоумила, что литература — это невразумительный рассказ о чем-то непонятном. Где живут твои персонажи или где ты живешь, в какое время, что творится вокруг тебя — разве читатель ничего не должен вынести из твоих сочинений? Мужчина у тебя на мужчину не похож, женщина — на женщину. А как они скучно живут, какие они мягкотелые, бесхребетные, ну а их философствования вызвали у меня приступ мигрени. Скажи мне честно, встречал ли ты у настоящих писателей такие безликие персонажи? Литература, мой дорогой, это рассказ об интересном событии, больше ничего. Сидит перед тобой читатель, а ты с ним беседуешь. Рассказываешь: так, мол, и так, этот то сказал, а тот — это. Стоит только отвлечься от сути рассказа, читатель тут же начинает позевывать. Никогда не поверю, что ты со своими друзьями разговариваешь так, как говорят твои персонажи. Они ведь не стали бы тебя слушать! В чем же дело, что происходит с тобой, когда ты берешься за перо?! Помни, писатель просеивает сквозь сито собственного разума все, что творится вокруг него, все, что слышит его ухо, и только наиболее интересное, самое интересное переносит на бумагу. Причем переносит без всяких затей, будто рассказывает это своему приятелю, вот и все. Не надо ни приукрашивать рассказ, ни впадать в философствования. Ты же слышал не раз, как в разговоре один говорит другому: будь другом, не философствуй, давай о деле. Литература и есть разговор о деле, ничего больше. Хочешь верь, хочешь нет, твое дело.
Может быть, вокруг тебя ничего интересного не происходит и ты вынужден уповать на свою фантазию или литературные реминисценции? Ерунда! Жизнь предлагает нам ежедневно столько нового и интересного, что, если приглядеться к ней да и прислушаться, будет о чем рассказать, и, поверь, немало!
Возьми хотя бы вчерашний день. Коротко напомню, что было вчера, а ты сам рассуди, сгодится это для новеллы или нет. Впрочем, ты все знаешь не хуже меня, сам был там. Я дважды заметил тебя в толпе демонстрантов и возле университета видел, но потом потерял из виду. Хотя чему тут удивляться, я и сына, который рядом стоял, потерял в этом столпотворении.
Не было и одиннадцати, когда мы собрались возле Кашуэтской церкви. Здесь должны были отслужить молебен по невинным жертвам того рокового дня, когда со стороны Коджори в Тбилиси вступило войско. Мы хотели помянуть и имя героя, которого иные историки на протяжении шестидесяти восьми лет называли «бандитом», а все его преступление состояло в том, что он посвятил себя борьбе за освобождение народа. Вход в церковь оказался блокированным. Милиция объявила нам: церковь набита до отказа, все всё равно не уместитесь, да и служба началась. Ладно, подождем, раз другого выхода нет. Тем временем на проспекте Руставели стал собираться народ. Ка-ак? Народ собирается?! И перед Домом правительства выстроились в ряд солдаты в шлемах со щитами в руках. Ну точь-в-точь крестоносцы — я их видел в исторических кинокартинах. Зрелище, прямо сказать, не из приятных, но никто из нас не протестовал. У обороны свои законы, и бог с нею. В многотысячную толпу в самом деле ведь может затесаться какая-нибудь скотина и бросить камень в солдат.
Молебен закончился, из церкви потянулся народ. Майор милиции закричал в мегафон: «Немедленно освободите территорию!» Какую территорию надо было освобождать, мы, по правде говоря, не поняли и потому несколько растерялись. Потом кто-то в наших рядах поднял трехцветное знамя демократической Грузии и повел нас в сторону памятника Руставели.
Мы шли по тротуару — движению не мешали, газоны, на что любят жаловаться блюстители порядка по телевизору, не топтали. Возле оперного театра процессия переместилась на левую сторону проспекта, чтобы во избежание недоразумений не проходить мимо здания почты-телеграфа.
Пришли к площади Конституции (рано или поздно, я уверен, ее назовут площадью Давида Строителя). Здесь должен был состояться митинг, но его не санкционировали. Вдруг появились бронетранспортеры. Они окружили нас и предложили в пять минут очистить площадь, в противном случае, сказали нам, будут приняты крайние меры.
Кто помнит девятое марта 1956 года, тот знает, что значит «крайние меры», поэтому, не выясняя отношений с блюстителями порядка, мы без слов направились к университету.
Неподалеку от университета, ниже винзавода, путь оказался перекрытым. Почему-то я очутился в первых рядах, и вместе с еще несколькими демонстрантами мне пришлось вступить в разговор с офицером.
— Куда направляетесь? — спросил он нас.
— В университет, — ответили мы.
— По какому делу?
— Там митинг.
— Нельзя!
— Что нельзя?
— Проводить митинг нельзя!
— Ладно, не будем проводить, просто пойдем до ипподрома.
— Нельзя!
— Почему?
— К памятнику Орджоникидзе вас не пропустят.
— Что же нам делать — вернуться назад?
— Куда назад?
— На проспект Руставели.
— Ни в коем случае!
— А что, вот так тут стоять?
— Почему стоять? Расходитесь по домам!
— Простите, но разве вы не видите, что перед университетом идет митинг?
— Вижу!
— Мы хотим послушать, что там говорят.
— Нельзя!
— Пропустите нас, мы пойдем по улице Николадзе.
— Нельзя!
— Тогда по улице Петриашвили.
— Нельзя! Вы не понимаете, что значит — нельзя?!
Продолжать разговор не имело смысла. Так мы стояли друг против друга более трех часов. Движение остановилось, обстановка накалилась. Машины протяжно гудели. Кое-кто из наших рядов стал выкрикивать антисоветские лозунги.
Не знаю, был ли ты в той мышеловке? Ни вперед не пускают, ни назад. Вокруг по переулкам в боевой готовности — танки и бронетранспортеры. Не пойму, кому это нужно — создавать конфликтные ситуации. Была ли необходимость перекрывать движение на одной из важнейших магистралей города, обижать и без того в силу определенных причин обиженный народ? Запруженная вода всегда находит выход. Как песок не удержать в горсти, так и народ не остановить на одном месте. В восемь часов вечера около сотни работников органов, одетые в штатское, стояли на улице Ленина, а мы во дворе университета слушали ораторов.
По обыкновению, не были включены ни микрофоны, ни лампионы. Однако ораторы надрывались в темноте не зря, мы узнали, что сегодня в восемь часов утра арестовали 27 человек — лидеров национального движения.
Было объявлено о перманентной голодовке и стоячей манифестации до тех пор, пока не будут освобождены задержанные. Легко об этом писать, но меня бросило в холодный пот, когда я представил себе изможденных молодых людей, голодавших перед Домом правительства в 1988 году с 22 по 29 ноября.
«Боже, не дай повториться этому аду», — повторял я в душе как молитву.
Ораторы сменяли друг друга почти до одиннадцати вечера. Говорили о насилии, оккупации, самодурстве чиновников, ущемлении прав личности, недемократичных выборах.
До одиннадцати оставалось несколько минут, когда на лестницах, спускающихся к Варазисхеви, загремели аплодисменты, вскоре хлопали все участники митинга.
И тут же до наших ушей донесся натужный голос:
— Дорогие друзья! Грузины! Поздравляем вас с победой! Наконец-то добрая воля победила! Мы получили известие, что арестованных выпустили. На этом закончим митинг. Разойдемся, друзья! Спасибо за поддержку! Если мы будем все, как один, никто не посмеет нас притеснять, никто нас не одолеет! Да здравствует свободная Грузия!
От счастья у меня запрыгало сердце, закружилась голова, я чуть не упал. Повернувшись, я заключил в объятия стоявшего позади меня пожилого мужчину, да так, что чуть не свернул ему шею. «Поздравляю! Поздравляю!» — слышалось вокруг. Я плакал. Все обошлось.
Извини, я рассказал не ахти как, скомкал все, перескакивал с одной мысли на другую, но ведь ты сам выстрадал вчерашний день.
Не корчь из себя этакого ученика. Терпеть не могу писателей-учеников и писателей-выучеников.
Подумай, может, стоит написать о вчерашнем дне и сохранить его для потомков как память о нашем времени, как дневник героики национального движения.
Вот и пиши о том, что тебя волнует, оставь эти притянутые за уши сюжеты!
Перевод Л. Татишвили.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
Женщина? Удивительное создание! Да что я, сам Господь Бог ничего в ней не понял. Она в два счета обвела его вокруг пальца, и он чуть не проклял себя за то, что создал человека. Вон, поглядите, сидит точно ангел, можно подумать, лист и тот с дерева не сорвет, а может быть, она и впрямь ангел, мы ведь с вами ее не знаем… Но скорее всего она хитра, как черт, и способна на такое, что вмиг перевернет небо и землю.
Вы на какой остановке выходите? На Саихве? И я туда еду. Время у нас есть, так что могу рассказать одну историю. К слову пришлось, она связана с женщиной, а то рассказывать и не стоило бы. Такие истории на каждом шагу случаются.
В прошлом году от меня ушла жена. Мы проводили отпуск на «Зеленой поляне», в доме отдыха. Были женаты уже пять лет, и нельзя сказать, что не подходили друг другу. Все шло нормально. Оба работали. Построили двухкомнатную кооперативную квартиру. Я не пил, жена не гуляла, что еще нужно для семьи? Мне кажется, я был неплохим мужем. Пить, как я уже сказал, не любил, скупцом и нелюдимом не был. По возможности ни в чем не отказывал жене. Да и она, не буду брать греха на душу, была женщиной нетребовательной, без претензий. Куплю ей что-нибудь — спасибо, не куплю — и не надо.
Я не отношу себя к простодушным мужьям, слепо доверяющим своим женам, а потом глубоко раскаивающимся в своем простодушии. Женщина есть женщина, поэтому я всячески старался избегать таких ситуаций, которые могли ее поставить перед выбором. Отдыхать одну не пускал. Работу ей подыскал такую, где не надо было ездить в командировки. По утрам мы вместе выходили из дому, после работы почти одновременно возвращались. Она не любила опаздывать. Неохотно оставалась на собрания — общественная работа ее не привлекала. В массовых мероприятиях участия почти не принимала. Когда ее приглашали на празднование дня рождения, что случалось не так уж и часто, она неизменно брала меня с собой.
И все же я не был уверен в ней. Сам знаешь, с жены нельзя спускать подозрительного взгляда. А может быть, дело обстоит совсем не так, как мне кажется, думал я, не оплошать бы. Пару раз я проверил ее. Сказал как-то, что всем коллективом едем собирать картошку, а то будто в командировку на четыре дня посылают. Женщина, если она способна на дурное, тут же воспользуется твоим отсутствием. Приведет любовника домой или сама пойдет к нему. Мало ли было случаев, когда жена звонила мужу, находящемуся в командировке: как, мол, ты доехал, надеюсь, здоров, следи за собой, одевайся потеплее, не простудись — любовник же в это время лежал рядом с ней в постели и гладил ее пупочек. А рогатый осел, окрыленный ночным звонком жены, носился на другой день по магазинам в поисках пеньюара или бюстгальтера, одержимый желанием порадовать свою преданную супругу. Нет, я не был таким легковерным мужем. Вернулся как-то домой в такое время, когда она меня не ждала. И что же? Сидит моя женушка у печи и штопает мою рубаху. Поди не верь такой жене.
Именно такая и выкинула номер. В прошлом году сбежала с курорта. Оставалось три дня до окончания нашего отдыха. Были уже взяты обратные билеты. А она возьми и дай деру. Что произошло, не знаю. Сбежала с отдыхающим — недостойным, отвратительным типом, подлецом. Я дважды писал ей. Даже телеграмму послал. Ответ пришел через полтора месяца: «Забудь меня, я же тебе все объяснила. Я нашла свое счастье. Согласна на развод на любых условиях. Наше примирение невозможно».
Что она мне объяснила? Абсолютно ничего! После обеда я спустился поиграть в домино, а когда поднялся, ее уже не было. На столе лежало письмо: «Я уезжаю, если можешь, прости. Выхожу замуж за Киазо, так надо. Беру с собой двадцать шесть рублей. Билет сдай. Прощай». Вот ее объяснение. Разумеется, я на другой же день узнал у администратора адрес Киазо, но поехать не поехал. Зачем мне туда было ехать? И у меня есть самолюбие. Хотел написать туда, где он работает, — так, мол, и так, ваш сотрудник на глазах у всех разбойнически отнял у меня жену. Но у нас в месткоме посоветовали не поднимать шума: во-первых, тот тип не обманывал ее и не бросал, а женился на ней, во-вторых, моя жена давно уже совершеннолетняя и ее никто не заманивал в темную комнату конфетой в красивой обертке, оба знали, что делали, и лучше всего оставить их в покое. Я и оставил, другого выхода не было.
Через шесть месяцев нас развели. Изменнице жене, оказывается, дается шесть месяцев как следует обдумать свое решение. Может же она передумать! Моя, как видно, не передумала. На суд они приехали вдвоем. Я с ними не разговаривал. Дело, в конце концов, в самолюбии, да и что мог я им сказать? Между нами, она поделила имущество, приобретенное во время совместной жизни, но на квартиру не претендовала. Полностью уступила ее мне. Все-таки по совести поступила, а это ведь немало.
А теперь непосредственно о самом факте: мы попали с этим типом, он из Казани, в один заезд. Это был черноусый, с длинными, как у паромщика, руками худощавый мужчина приблизительно моего возраста, ну, может быть, года на два младше. Он постоянно находился в центре внимания, все время что-то рассказывал, наверное, какие-нибудь глупости, а все вокруг хихикали. Мне он сразу не понравился. Бывают же шумные наглые люди, вот он принадлежал к таким.
На третий или четвертый день после нашего приезда стоим мы с женой в очереди за билетами в кино. Впереди нас человек двадцать отдыхающих. Этот тип, ну, будущий муж моей жены, находится уже возле кассы. Вдруг он поворачивается и бросает на нас взгляд, мы, естественно, не знакомы с ним, и моя жена смотрит на него так, обыкновенно, но мне не понравился этот его взгляд в упор.
До начала сеанса, дав волю своей фантазии, я шепчу жене: этот долговязый осел, тот, что в очереди на нас смотрел, вчера играл со мной в бильярд, удивительный фрайер, я отдал ему четыре шара и все же выиграл… Безусловно, я врал, но мне хотелось заочно внушить жене презрение к нему. Тогда, насколько я могу судить, она не обратила внимания на мои слова, мой партнер по игре в бильярд явно не интересовал ее.
На другой день после обеда мы гуляли по аллее, вдруг видим, идет этот тип с какой-то женщиной под руку, держит ее так, будто боится, что она убежит, и снова смотрит на мою жену. Я не преминул воспользоваться удобным случаем: весь дом отдыха терпеть его не может, страшный ветрогон и донжуан, говорят. Стоит ему познакомиться с женщиной, как он тут же тащит ее в свою комнату… «Неужели? — поразилась жена. — Бывают же такие — ничего святого у них нет. И как их земля носит?..» Похоже, акции моего будущего соперника (почему я воспринял его как соперника, непонятно), не успев подняться, стали катастрофически падать.
Будто назло он то и дело встречался нам то у входа в столовую (приложив левую руку к груди, галантно уступал нам дорогу), то в кипарисовой аллее, то в очереди к лифту. Несмотря на то что нас никто не представлял друг другу, он, как видно, считал, что мы уже знакомы. При встрече, правда, не здоровался, но так откровенно улыбался, что в приветствии уже не было необходимости. Я тем временем не прекращал своей «работы». Фантазия моя не знала удержу — он стал у меня сексуальным маньяком: позавчера, нашептывал я жене, он заманил в свою комнату какую-то женщину, так ее с трудом вырвали у него из рук. Такие, как он, не умеют хранить тайны. Их постельные приключения становятся известны всем. Стоит ему остаться наедине с женщиной, он без всяких прелюдий приступает прямо к делу: лезет целоваться, обниматься и так далее…
Так я крутил карусель своей фантазии. Однажды во время прогулки жена, которая стала внимательно прислушиваться к моим словам, вдруг остановилась и со вздохом произнесла: «Боже мой, какой ужас!»
Я торжествовал. Мне казалось, я достиг цели. Я был уверен, моя жена никогда не взглянет с симпатией на этого наглого типа.
И что ты думаешь? Именно с ним она и убежала! Где они встретились, когда заговорили друг с другом, в какой момент решили пожениться? Я ведь не отходил от своей жены! Или почему она осталась равнодушна к моим профилактическим мерам? Что вообще произошло, ломаю над этим голову, но ничего уразуметь не могу.
Поди пойми женщину.
Перевод Л. Татишвили.
СЮЖЕТ ДЛЯ КИНОФИЛЬМА
Я хорошо помню Берия. В 37-м мне было восемь, а у восьмилетнего мальчишки память, как известно, цепкая. Мой отец работал председателем исполкома в городе Самачвиа. В две недели раз наезжал в Тбилиси, и Берия в те дни был частым гостем у нас. Небольшого роста, в пенсне, в сверкающих сапогах и кожаных галифе — таким я запомнил его. Между прочим, несмотря на крепко сбитую фигуру, он производил впечатление худого человека. Походка у него была быстрая, пружинистая. Мы с братом (брат был старше меня на полтора года) знали наизусть два или три стихотворения, так он в каждый свой приход заставлял нас декламировать их. Потом сажал нашу маленькую голенькую сестренку (ей было тогда десять месяцев от роду) на шею и бегал с ней по комнате.
Мы жили на улице Энгельса в трехкомнатной квартире. До рождения нашей сестренки мама жила с отцом в Самачвиа и нас растила бабушка. Позднее мама работала председателем районного женсовета.
Это случилось 19 мая 1937 года. Отец приехал днем раньше. Он очень любил серную баню и в тот же вечер отправился туда, захватив с собой меня с братом. После бани, помню, родители долго слушали радио.
На 19 мая был назначен Пленум — это я от бабушки знал. Отец вышел из дому в половине десятого. Без двух или трех минут десять позвонил Берия. «Лизико, — сказал он, — после Пленума жди нас обедать». Такое часто бывало — отец после Пленума или какого-нибудь другого крупного мероприятия приходил домой с Берия и еще несколькими людьми. Мама с бабушкой обычно хлопотали на кухне, нас после того, как мы продекламировали стихи, отправляли в спальню или отпускали во двор, что было для нас великим праздником. Никогда не видел, чтобы Берия и сопровождающие его приезжали на машине. Они приходили пешком и пешком же уходили, беседуя между собой. Отец провожал их до подъездных дверей и возвращался. Если он был навеселе, мы весь вечер «боролись», катались по полу, старались положить отца на лопатки и нам почти всегда удавалось это, потому что он подыгрывал нам: «Горе мне, какие сильные у меня ребята!» А мама, убирая, обходила нас и журила отца: «Осторожнее, медведь, еще сломаешь им что-нибудь, ты такого же ума, что и они! Не переворачивайте мне дом вверх дном!»
В то утро, положив трубку на рычаг, мама крикнула бабушке: «Скорее кастрюлю с водой на огонь, к обеду у нас будут гости! На рынок уже не поспеть, почему все же Теренти (Теренти — мой отец) не предупредил меня заранее?!» В кухне закипела работа, мама с бабушкой «поскребли по сусекам» — хорошая хозяйка, говорят, суп из ничего сварит. Нет ничего приятнее, чем приготовления к приходу гостей, особенно в доме гостеприимной хозяйки.
Пробило четыре. Пленумы тогда, оказывается, были непродолжительными. К двум часам обычно заканчивались. А гостей все нет. Когда и в шесть никто не появился, мама позвонила в комендатуру ЦК, и ей ответили, что Пленум закончил свою работу к половине второго. Тогда мама набрала номер телефона Берия: «Где вы до сих пор, все уже остыло, и почему Теренти запаздывает?» — «Теренти здесь, — несколько растерянно отвечает Берия, — нас задержали непредвиденные дела, кое в чем надо разобраться, просим прощения, придем позднее».
А приблизительно в восемь по радио объявили: «Сегодня на Пленуме ЦК партии был разоблачен и на месте арестован враг народа, агент империализма Теренти Чиорадзе». На мамин крик все выбежали в переднюю, но по радио уже передавали фамилии других «агентов».
Мама тут же бросилась к телефону. В течение двух часов она настойчиво требовала, чтобы ее соединили с Берия, но ничего не добилась.
Можешь себе представить такое? Должен же быть какой-то предел цинизму?! Когда он позвонил без трех минут десять и сказал: ждите к обеду, он уже знал, что арестует отца! А может, не знал и на Пленуме «разоблачил» отца кто-то другой?! Я ломаю голову над этим и ничего не могу понять. Он же как будто дружил с отцом, нередко обедал у нас, для чего понадобилась эта издевка — ждите к обеду! — над и без того несчастными людьми?
Что случилось потом? Мама оделась и куда-то ушла. Мы, конечно, не спали. Бабушка, плача и причитая, ходила из угла в угол. За полночь мама вернулась. «Никто ничего не говорит, и следа его не смогла найти».
На другой день заявился наш сосед — фининспектор Швиндадзе. Выразив сочувствие нашему горю, он отозвал маму в сторонку и доверительно прошептал: «Лизико, вас все равно выселят из этой квартиры, я предлагаю в обмен на нее свою однокомнатную и деньги, они вам будут очень нужны». — «Что значит выселят? — взорвалась мама. — Теренти задержан по недоразумению. Еще нет даже санкции на его арест! Моего мужа не могут арестовать. Завтра же его выпустят!»
Пусть врага твоего так отпустят, как отпустили моего отца. После 19 мая 1937 года мы его в глаза не видели. На третий день после ареста отца взяли маму. Мы спали и ничего не слышали — машина пришла на рассвете. «Как только она остановилась у нашего подъезда, — рассказывала бабушка, — я поняла, это за ней».
Не прошло и недели, как к дому снова подъехала машина, «полуторатонка», как называли ее мы, дети. Подъехала в шесть утра. Помню, как зашвыривали на нее все, что попадалось под руку. (О том, чтобы взять с собой мебель и другие тяжелые предметы, не могло быть и речи.) Потом усадили и нас — обезумевшая от горя бабушка чуть не выронила из рук сестренку. Исполнитель сжалился над ней и взял девочку с собой в кабину. Отвезли нас в конец Дидубе, высадили в поле, куда вывозился строительный и бытовой мусор, и бросили под открытым небом.
Этого только не хватало — ни крова, ни средств, да еще младенец на руках. Но сколько можно плакать и в отчаянии биться головой о стену? Мы огляделись, заметили в отдалении что-то похожее на палатку. Несколько семей, разгромленных вроде нашей, жили в этих открытых всем ветрам жилищах. Кто-то приютил нас. Покормил. После полудня снова пригрохотала «полуторатонка». Знакомый нам исполнитель вылез из нее и, упершись руками в бока, стал возле кузова. Шофер стащил с машины небрежно сложенный брезент и бросил прямо на землю. Исполнитель приблизился к палаткам.
— Передайте семье троцкиста Чиорадзе, что их квартира и имущество конфискованы. У городских властей для детей врага народа пока нет ничего, кроме палатки. До зимы пусть поживут в ней, а там увидим. Мы не можем обеспечить квартирами семьи честных тружеников, так что детям агентов империализма придется подождать.
С этими словами он направился к взревевшей машине, сел в нее и был таков.
К счастью, свет не без добрых людей. Нам помогли поставить палатку, кто-то притащил шезлонг, кто-то наскоро сработал тахту из досок — словом, мы устроились «по-царски». Еды, захваченной из дому, хватило на два дня, потом бабушка устроилась где-то уборщицей и таскала сестренку с собой. Мы с братом с утра до вечера играли на берегу Куры, было немножко голодно, а в остальном, говоря по правде, мы чувствовали себя неплохо.
Миновало лето, и в сентябре бабушка определила нас в ближайшую школу. Я уже и не помню ее номер. Он без конца менялся, потом школу разрушили и чуть подальше, на Черепаховой улице, построили новое здание. Сейчас, по-моему, она 187-я или 189-я. Этот год запомнился мне как какой-то кошмар. Брата приняли во второй класс, меня — в первый. Нашу фамилию внесли в списки только в конце ноября. К нам явно относились как к пасынкам, и мы вели себя соответствующим образом — старались не попадаться на глаза. Домой уходили вместе. То мой брат сидел на моих уроках, дожидаясь их окончания, то я — на его. Если мы опаздывали или пропускали уроки, никто с нас не спрашивал. Помню, в классах раздавали учебники, но нам, как детям троцкиста, они не достались.
В тот год зима выдалась ранней и суровой. В палатке нас ждала верная смерть. Бабушка с ног сбилась в поисках жилья и наконец нашла каморку под лестницей в каком-то ведомственном здании. Это означало, что мы спасены. Наша комнатушка легко обогревалась примусом — и слава Богу: ни печи, ни места для нее у нас не было.
О прелестях той зимы распространяться не буду. Многое ты сам можешь представить себе.
Скажу о главном: через год маму выпустили из тюрьмы. Она была осуждена тройкой на пять лет. Когда Берия перевели в Москву, дело ее почему-то пересмотрели, но не оправдали, однако срок наказания сократили до года, который она уже отсидела. У нее взяли подписку, что она не будет вести антигосударственной деятельности, и, лишив гражданских прав, выпустили. (Помню, в выборах ей разрешили участвовать только в пятьдесят девятом.) Мама вернулась постаревшая, опустошенная. Пришла домой, но в нашей квартире (ее поделили между двумя семьями) жили чужие люди. Швиндадзе к тому времени уже сидел. Мы из страха, естественно, в том районе не появлялись, с соседями не общались. Бабушка, правда, однажды наведалась в старый дом, повидала дворничиху-курдянку. «Никому о нас не говори, — попросила она ее, — а то, не дай Бог, у меня детей отнимут. Если Лизико или Теренти вернутся, скажи, что мы устроились в Дидубе, на Сакирской улице. Другим никому ни слова — кто знает, может, нас еще ищут». Вот что такое страх. Разве у нее, бедняжки, не было оснований скрывать свой адрес? Но мама, увы, не встретилась с дворничихой, ее в тот момент не оказалось дома. Если уж не везет, то не везет во всем. Мама без крова, без родных была в отчаянии. Каково ей было, несчастной, можешь себе представить!
На улице Белинского жила семья Како Чиорадзе, дальнего родственника моего отца. Самого Како к тому времени уже не было в живых. Его прикованная к постели жена и две незамужние дочери приютили маму. А она ни о работе не думает, ни за помощью никуда не обращается, бродит по городу, как одинокая волчица, ищет нас, своих детей.
Ты прав, надо было со школ начинать, но стояло лето и большинство из них оказались закрытыми. Ну а в тех, что не были закрыты, находились только сторожа и управделами, которые не обязаны знать, кто у них учится. И потом мама, оказывается, вела свои поиски на нашей стороне — в Сололаки, Ортачала и Авлабаре. Это потом, дней через десять — двенадцать, она начнет ходить по школам Дидубе, когда здесь ничего не добьется. Но и в дидубийских школах ей не удастся найти нас, и она решит, что ее дети стали бродягами, и будет искать нас на базарах. Однажды кто-то посоветовал ей пойти в дидубийский парк, где ночью собираются бродяги и воры со всего Тбилиси. «Там-то ты и найдешь своих сыновей, — сказали ей, — либо же, в худшем случае, бродяги подскажут, где их искать».
Потом мама рассказывала, как три ночи она провела в дидубийском парке среди бродяг и шлюх. От страха у нее заплетался язык, но она расспрашивала о нас всех подряд. Между прочим, многие из них оказались отзывчивыми людьми…
Я никогда не забуду 21 августа 1938 года. Ранним утром мы с братом спешили на вокзал — мы иногда подрабатывали там, помогая грузчикам разгружать вагоны и получая за работу то буханку хлеба, то немного денег.
Денег на проезд в трамвае у нас, конечно, не было. Все кондуктора знали нас в лицо и взашей гнали из вагона, но мы прекрасно обходились подножкой. Так вот в тот день 21 августа мой брат на ходу вскочил на подножку трамвая, я — за ним. Между прочим, этот подскок требует своего искусства. Надо вскакивать непременно той ногой, что возле вагона, другой опасно, потому что вагон, случается, дергается прежде, чем поставишь ногу на подножку, и тогда, промахнувшись, ты можешь угодить под трамвай. Я хорошо это знал, но водитель, увидев меня в зеркале, прибавил ходу, и я, ухватившись за поручни, не успел вскочить на подножку. А трамвай несся дальше, увлекая меня за собой. Брат безуспешно пытался втащить меня на ступеньку, но я не мог подтянуться на руках и продолжал висеть на поручнях. Все это происходило напротив дидубийского парка. И вдруг я услышал: «Остановите, остановите!»
Трамвай остановился, и я упал навзничь. Локти ободраны, колени горят, но я чувствую, что цел и даже не очень сильно ушибся.
Меня окружили, подняли, кто-то схватил за ухо, кто-то ласково выговаривал, кто-то ругал, и неожиданно все перекрыл женский крик:
— Держите его, не отпускайте! Умоляю вас! Держите!
«Держите»?! И я так рванул, что только пятки засверкали. Вижу, бросились за мной вдогонку. Если задержат как нарушителя порядка, колонии не избежать. И тут из переулка вынырнул милиционер и схватил меня за руку. Я в рев: «Отпустите, чего вы хотите, что я вам сделал, у меня правда нет денег…»
В это время кто-то сзади обхватил меня за плечи, вырвал из рук милиционера и прижал к груди.
— Это я, сынок, твоя мама, куда ты бежал от меня?
Оказывается, когда трамвай проезжал мимо парка, она выходила из него и, увидев меня, висевшего на поручнях, содрогнулась. «Несчастный мальчишка, из-за каких-то копеек рискует жизнью, глупец», — подумала она. Но приглядевшись, узнала в глупце сына и закричала: «Держите его, не отпускайте!»
«Не крикни я тогда, когда бы я нашла вас, — говорила она нам потом, — спасибо милиционеру, что задержал тебя. Ты ведь летел, а не бежал, разве мне за тобой угнаться!»
Представь себе нас троих, посреди улицы стоящих друг перед другом на коленях и плачущих от того, что мы снова вместе.
«Мама вернулась, мамочка с нами, теперь нам ничего не страшно!»
В течение двух лет мама писала жалобы в Кремль. Не дождавшись ответа, собрала какие-то гроши и съездила в Москву, дошла до Ворошилова. Прежнюю квартиру нам не вернули, но за неделю до начала войны мы получили однокомнатную квартиру в Нахаловке.
Вот ты кинорежиссер, не так ли? Делаешь неплохие картины. Но когда вы рассказываете зрителю о 37-м годе, почему-то выдумываете то, что никто не видел и не слышал.
Мой рассказ, к примеру, чем не сюжет для кинофильма? Вот возьми и используй его.
Перевод Л. Татишвили.
ТОЛЬКО БЫ НАС НЕ ПОКИНУЛИ ЯСТРЕБЫ
Шел дождь. Шел он местами, с передышками, дождинки прочерчивали полосы на стеклах автобуса. Дождь нагнал автобус где-то в дороге. В какой-то момент он совсем было прекратился, но после завтрака небо затянулось свинцовыми тучами и хлынул такой ливень, что включенные на последнюю скорость «дворники» едва успевали смахивать капли с ветрового стекла.
Вскоре выглянуло солнце, но тут же снова скрылось за тучами. Короче говоря, автобус то въезжал в дождь, то выезжал из него.
Вам ведь наверняка тоже доводилось попадать в такой дождь, когда кажется, будто он идет на всем белом свете.
Пассажирам надоело смотреть на мокрые леса, и они дремали. И если Гиди и перебрасывался время от времени с водителем парой слов, то, видимо, только потому, что ему не спалось. А так какие у него могли быть общие дела с этим словоохотливым пышноусым шофером.
Впереди Гиди сидел руководитель группы Тулавичович. В последние дни он, во вред собственному здоровью, был очень нервным и взвинченным. То и дело потирал подбородок и, словно в поисках сбритых усов, ощупывал верхнюю губу. На встречах активничал в полном одиночестве. Сам и вступительное слово произносил, и на вопросы отвечал, и прощальную речь строчил как из пулемета. Если кто-нибудь другой подавал голос, сразу хмурил лоб и было ясно, что ему это не нравится.
Желавшие показать себя члены группы тихо переговаривались, выражая недовольство, но прямо высказать ему это никто не осмеливался. Свои монолитные полуторачасовые выступления Тулавичович почему-то неизменно заканчивал цитатой из речи всесоюзного старосты Калинина. Ничего плохого он вроде не делал, но из-за чересчур серьезного выражения лица и патетических речей группа с самого начала невзлюбила его, окончательно же он потерял авторитет, когда во время встречи с представителями профсоюза задал профсоюзному лидеру такой вопрос: у нас, дескать, по телевидению иногда показывают проводимые вами митинги и демонстрации, так вот демонстранты ваши очень уж модно разодеты, все в куртках да «бананах» и больше похожи на манекенщиков. Почему среди демонстрантов не видно рабочих? Лидер сначала не понял вопроса, а когда ему объяснили, о чем его спрашивают, ответил, прямо скажем, несколько необдуманно: те, кого вы видите на экране телевизора, — это и есть современные рабочие, и почему вы считаете, что рабочий должен выходить на демонстрацию в перепачканном мазутом комбинезоне и с молотком в руке?
«Я этого не говорил», — попытался сохранить достоинство Тулавичович, но, оглянувшись на хихикающую группу, понял, что на этот раз выкрутиться ему не удастся. Сам он твердо решил не задавать больше хозяевам подобных вопросов и в тот же вечер провел собрание по вопросу о вопросах и произнес на нем длинную, вдохновенную речь: дескать, некоторые члены делегации задают на встречах необдуманные, предварительно не «взвешенные» вопросы. Вы, мол, себе не представляете, какую пищу даете своими вопросами враждебному лагерю и как они могут быть использованы против нас желтой буржуазной прессой.
Полутуристы (группа эта считалась наполовину делегацией) сидели и внимательно слушали. И хотя руководитель не говорил ничего смешного, то и дело переглядывались и многозначительно улыбались. И если я что-либо понимаю в людях, кажется, представляли себе вышедшего на демонстрацию рабочего в грязном комбинезоне, со вздувшимися на руках жилами, решительно шагающего впереди с серпом и молотом в руках (образ, рожденный вопросом Тулавичовича), и именно этому и улыбались. Что же касается того, действительно ли смешной была вся эта история, то тут я судить не берусь — от греха подальше.
Заседание это все же принесло пользу. На запланированных встречах, на которых, по расчетам организаторов, гости должны были демонстрировать свою монолитность и идейное (!) превосходство над хозяевами, члены делегации то и дело шептали друг другу: хочу задать такой-то вопрос, что ты об этом скажешь? И если замечали в соседе сомнение — мол, береженого бог бережет, — предпочитали промолчать. И сидели гости на встречах молча, не испытывая ни к чему ни малейшего интереса и то и дело поглядывая на часы. Один лишь руководитель без конца покрывался испариной: вопросы задавали исключительно хозяева, а отвечать на вопросы, как мы уже отмечали, Тулавичович не доверял никому.
В каждой туристической группе всегда находится один иронически настроенный человек. Он с самого начала, еще на собрании, посвященном ознакомлению туристов с правилами поездки, привлекает к себе всеобщее внимание примерно такими вопросами: «А петь в автобусе можно?» или же «А утром на завтрак какой нам джем будут давать, сливовый или клубничный?» — и поскольку все эти вопросы ироничный человек задает с абсолютно серьезным лицом, то одна часть группы (относительно здоровая) догадывается, с кем имеет дело, другая же принимает его за дурачка, но, как выясняется, мнение второй половины группы, господи, прости, не очень-то его интересует. В этой поездке таким человеком являлся эколог Хухия. Хухия беспрестанно шутит, чаще лишь для самого себя и для нескольких человек по соседству. Он умеет внезапно разрядить напряженную ситуацию, возникающую, например, во время раздачи денег или расселения туристов в трехместные номера. В глубине души его все любят, но сторонятся. Не хочется скромным членам группы слишком часто попадать в поле зрения ироничного Хухии, да это и понятно. Лишенные чувства юмора, они считают его наглецом и шутки его встречают с возмущением. Обладатели же чувства юмора, наоборот, так и вьются вокруг Хухии. В автобусе они непременно садятся рядом с ним или сзади и всю дорогу хохочут, закрыв лицо руками. С самого начала поездки Хухия без конца задавал один и тот же вопрос: когда светловолосая, белолицая, хорошенькая девушка-гид с возмущением сообщала в своем рассказе, что во время войны враги разбомбили то или иное историческое строение. Хухия обязательно уточнял: «Простите, во время которой войны?» Все смеялись, включая и гида. Смеялись и те, кто не знал, что в этом смешного — ведь всем и так было известно, когда и почему бомбили страну, принимавшую их теперь. Кончилось тем, что на четвертый или пятый день Тулавичович запретил Хухии задавать этот простодушный вопрос. Конечно, войну эта страна начала сама, но девушка-гид, увы, не принадлежала к поколению, не имевшему морального права возмущаться бомбежкой. Хухия перестал задавать этот вопрос, но вскоре у него появился другой: когда они проезжали мимо какого-либо красивого здания или исторического памятника, он громко спрашивал у гида: «Я извиняюсь, а этот район во время войны не бомбили?» — а когда гид с гордым и счастливым лицом отвечала «нет», Хухия тут же обдавал ее холодной водой: «А почему?» Одна часть группы безудержно хохотала, у другой гневно вспыхивали глаза, и она выжидала удобного случая, чтобы посоветовать и без того недовольному Тулавичовичу применить к Хухии более действенные воспитательные меры.
Один такой Хухия — обязательная принадлежность каждой туристической группы, уверяю вас, дорогой читатель. И это прекрасно. Во-первых, он своим юмором отрезвляет других и заставляет иных шкодливо настроенных туристов отказаться от дурных намерений, во-вторых, он, постоянно отвлекая на себя внимание, дает возможность другим беспрепятственно выполнять свои служебные обязанности, и, в-третьих, он все-таки создает в группе веселое настроение, а это для всех большой подарок. Например, после собрания, посвященного ограничению вопросов, Хухия объявил отправлявшейся на очередную встречу группе: «Имеются три уникальных вопроса. Если есть желающие — подходи, могу продать». Некоторые в его словах, повторяю, не видели ничего смешного, мне же было ужасно смешно, и слава богу, что подобное мое поведение не квалифицируется правовым кодексом как преступление.
Позади водителя у окна устроился альбинос Бгатарбгртай. Это был самый тихий член делегации. В автобусе он сидел один и либо дремал, либо тихонько мурлыкал себе под нос какую-нибудь степную песню-поэму. Он не только песнями, но и мыслями был все время там, на своей жаркой, ветреной, степной родине. Поэтому, когда автобус останавливался и туристы, обгоняя друг друга, спешили принять на возвышении картинные позы для очередного снимка (как будто через пять минут фотографирование на этом месте было бы уже невозможно), Бгатарбгртай спокойно, неторопливо выходил из автобуса, останавливался у железных перил, долго смотрел на раскинувшийся внизу вид, а вернувшись в автобус, принимался объяснять водителю на диалекте одного из аулов своей родины, что этот вид напомнил ему пейзажи его родного края. Водитель, разумеется, ничего не понимал, но на все кивал головой, и Бгатарбгртай, довольный своим открытием, возвращался на старое место у окна, чтобы подремать и помурлыкать. На второй же день по прибытии альбинос приобрел лет тридцать восемь назад окончательно вышедший из моды крупнокассетный магнитофон размером с чемодан. Приобрел он его, правда, в магазине уцененных товаров, но не настолько дешево, чтобы не истратить подчистую весь свой скудный туристический бюджет, так что в кармане у него, как говорится, не осталось ни копейки. Тем не менее он продолжал ходить вместе со всеми во все магазины, деловито устремляясь прежде всего к отделу радиоаппаратуры. Кто знает, возможно, он хотел выяснить, не поторопился ли он и не продается ли здесь такой магнитофон по более дешевой цене. Но не только такого (первого, экспериментального выпуска 1931 года) магнитофона, а даже похожего нигде не встретил, и, объезди он всю Сарпрутию, вряд ли нашел бы, так как посещение музея магнитофонов не было предусмотрено туристическо-делегационным генеральным планом. Надо сказать, что Бгатарбгртай производил впечатление очень прилежного человека. Настолько прилежного, что каждое слово гида или экскурсовода заносил в свой длинный блокнот в желтой обложке, и когда гид, чтобы выиграть время, начинал, бывало, строчить, как дрозд, альбинос, извиняясь, останавливал его: если можно, немного помедленнее, не успеваю записывать. Со скрупулезной добросовестностью записывал он даты рождения Маркса и Энгельса, хронологию подготовки и проведения Октябрьской революции, принципиальные различия между островом и полуостровом и т. п. Так старательно и заботливо заполнял листки блокнота, словно эти сведения невозможно было найти в библиотеках и университетах его бескрайней родины. Такие блокноты он, видно, привез с собой в большом количестве, так как, заполнив за день один, на другой день он уже бывал вооружен новым, точно таким же блокнотом. Однажды к горящему жаждой познания Бгатарбгртаю подошел Хухия и почтительно попросил: будь другом, одолжи мне на вечер свой блокнот — переписать. Альбинос глянул на него и ответил с таким наивным простодушием: знаете, я пишу очень быстро, вам будет трудно разобрать, но это ничего, я посижу с вами и все вам продиктую, — что окончательно отбил Хухии всякую охоту проявлять иронию по отношению к дикому сыну степей.
Позади Бгатарбгртай сидели Мамед с Василисой. Эти два безобидных члена делегации так горячо полюбили друг друга за время поездки, что почти не интересовались тем, что происходило вокруг них. На их окошке в автобусе даже шторка была задернута, они тихо шептались, нежно улыбались друг другу, пересмеивались и ворковали, как умеют пересмеиваться и ворковать лишь влюбленные. За обедом они тоже сидели вместе, а вечером, когда туристам разрешали часовую групповую прогулку, по очереди подходили к Тулавичовичу и застенчиво и почему-то вполголоса, так, чтоб не слышали другие, просили разрешения остаться дома по причине плохого самочувствия. Тулавичович, любивший иногда щегольнуть мантией демократичного руководителя, великодушно соглашался оставить «больных» в их номерах, но на следующий день изводил их обоих настойчивыми расспросами: «Как вы себя чувствуете? Как провели ночь? Как аппетит? Если надо, я могу позвонить в наше консульство и вызвать врача». Мамед и Василиса, смущенно улыбаясь, благодарили его за заботу об их здоровье, весь день чувствовали себя прекрасно, а к вечеру опять скисали: Василиса с другими женщинами, членами делегации, разговаривала, господи, прости, с несколько виноватым видом, тихо, опустив голову, с сожалением в голосе, у Мамеда же не сходила с лица всегдашняя самодовольная улыбка. Лишь на минуту смешивался он с толпой мужчин, хвастался своим особым способом заваривания чая, потом сразу скучнел, искал глазами Василису и пристраивался рядышком.
Через проход, напротив влюбленной пары, сидел бывший декан подготовительного факультета Губко. Рядом с Губко, даже при очень большом желании, сесть никто не мог. Набитый фотоаппаратами (и еще бог знает чем) портфель он ставил на соседнее сиденье. Делал он это явно для того, чтобы рядом с ним никто не садился, но почему он предпочитал сидеть один, этого я вам сказать не могу.
Вообще-то Губко не был таким уж нелюдимым и замкнутым человеком. Возможно, в своем кругу он даже производил впечатление человека веселого, но был у него один недостаток: прежде чем сказать что-либо действительно смешное, он сам заранее начинал хохотать и после каждой незаконченной фразы так безудержно веселился на глазах у изумленного слушателя, что тому становилось ясно: свою и без того запутанную историю он еще долго не сможет досказать. А где было взять отягченному тысячами разных забот собеседнику столько времени, чтобы целый час терпеливо взирать на его разинутый хохочущий рот? Вообще замечено, что чем серьезнее человек рассказывает смешную историю, тем скорее она достигает цели. И так как Губко в конце концов заметил, что его метод рассказа не пользовался большим успехом среди членов этой делегации (в последние дни его просто избегали), то решил завоевать звание интеллектуала. Если кто-нибудь, например, замечал, что такая-то улица находится в северной части города — точнее, в северо-западной, — обязательно уточнял Губко и в конце концов даже стал поправлять гида. Если гид кричал в микрофон, что высота храма достигает шестидесяти метров, — точнее, пятьдесят семь! — восклицал Губко и оглядывался по сторонам. Самым удивительным было то, что бывший декан в этих своих уточнениях чаще всего оказывался прав. В конце концов эта просветительская деятельность тоже наскучила Губко, и он перешел к такому простому и элементарному способу самоутверждения, как, скажем, произнесенный в момент, когда автобус трогается с места, вопрос «Ну что, поехали?» и, соответственно, «Приехали?» — после остановки автобуса. Единственное, чему Губко, надо отдать должное, оставался верен, так это вопросу, который он неизменно задавал слушателям университетов, колледжей и гимназий: бывают ли у них случаи отсева, и, чего там скрывать, ему никогда не удавалось растолковать хозяевам, что означает этот «отсев».
Возле самого выхода сидела мать-одиночка калбатони Раиса. Раиса любила подчеркнуть свое особое социальное положение: дескать, муж ее оставил и она в тяжких трудах одна воспитала единственного сына. Правда, сын, как она сама однажды проговорилась, уже успел отслужить армию и даже, кажется, оставить жену с ребенком, но, видимо, ее устраивало романтическое положение матери-одиночки и возможность сеять надежду в душах оторванных от семей мужчин. В отличие от Василисы Раиса сидела то с одним мужчиной-туристом, то с другим, но самоотверженное наступление Раисы не достигло желанных побед. У калбатони Раисы в течение дня бывали и такие часы, когда она вдруг отрекалась от лирического настроения и проникалась практическими заботами. Тогда она с деловым видом обходила членов делегации и настойчиво нашептывала: давайте, дескать, коллективно откажемся от ужина, все перейдем на двухразовое питание и потребуем от гида вернуть нам деньги за ужин. Внешне вроде бы все были согласны, но высказать это требование руководителю никто не решался. Раиса, с детства воспитывающаяся в духе ненависти к богачам, с каждым днем все большей симпатией проникалась к прекрасным виллам в некоторых районах Сарпрутии и к стоящим и сидящим на их белых террасах элегантным сарпрутийцам. Хорошо еще, что поездка, подходила к концу, не то неизвестно, как бы вернулась Раиса к длинным очередям в своем жаждущем безалкогольных напитков городе.
Иногда рядом с Раисой сидел крючконосый ночной сторож конного завода пышноусый горец Бербек. Бербек очень походил на водителя их автобуса и, возможно, именно поэтому, невзирая на энергичные протесты водителя, ежедневно вручал ему в качестве подарка «фотооткрытки» с изображением Кремля. За семь дней Бербек допустил две такие серьезные ошибки, исправить которые был не в состоянии не только за оставшиеся четыре дня, но, видимо, и за всю оставшуюся жизнь. Во-первых, он приобрел в городе Краахуухагене брюки, но два часа спустя вернул их назад: дескать, жмут в икрах. Гид пошла с ним в магазин-салон и с грехом пополам помогла вернуть покупку. На другой день Бербек, теперь уже в частном универмаге, приобрел бархатные зеленые брюки. Долго примерял их перед зеркалом, наконец решился, купил, а на следующее утро снова попросил гида: если можно, пойдемте со мной еще раз, хочу вернуть брюки, они мне не нравятся, у нас такие не носят. Гид, явно недовольная, но никак это не выражающая, пошла с Бербеком возвращать брюки. Третьи брюки наш горец купить не смог по той простой причине, что припрятанную для этой цели довольно несолидную сумму его вынудили полностью спустить в итальянском ресторане.
Вот как это произошло. За обедом им поднесли по стакану красного вина, и Бербек, большой любитель красного вина, горячо поблагодарил официанта, затем, не переводя дыхания, залпом выпил вино и подарил просиявшему итальянскому «гарсону» нагрудный значок отличника. Официант принес завернутую в белую салфетку бутылку и снова наполнил стакан Бербеку. Бербек снова ему улыбнулся, произнес на каком-то ломаном языке тост в честь бескорыстного итальянца, опрокинул с бульканьем стакан, а затем подарил иностранцу еще один нагрудный значок, на этот раз с изображением скалолазных крюков. Наглый официант стал у ближайшей стены и не сводил с Бербека глаз. Когда первое блюдо было съедено, ночной сторож указательным пальцем подозвал к себе итальянца и с трудом, но растолковал ему, чтобы он принес им пару бутылок красного вина — тут, мол, за этим столом, сидят порядочные люди. Доставив две бутылки красного вина, официант получил еще четыре нагрудных значка (в числе их один с изображением Царь-колокола). Обед прошел в теплой обстановке, но последние минуты Бербек помнил смутно. После горячего прощального церемониала итальянец подал советскому туристу счет. У простодушного клиента глаза вылезли из орбит и перекосилось лицо. Породнившийся с Бербеком ресторанный работник требовал с него за вино непомерно большую сумму. Кончилось тем, что у Бербека сразу опустел карман, а недовольному гиду пришлось доплатить из своего. Кто знает, каким образом надеялся расчетливый гид возместить эти деньги, пожертвованные на мотовство расточительного туриста.
После этого Бербек стал очень замкнутым, в купле-продаже участия больше не принимал и на работников ресторанов косился с недоверием. Во время посещения театра почему-то все время оглядывался и спрашивал у каждого встречного: «Скажите, а какова средняя зарплата служащего в вашем городе?» Что он хотел этим выяснить, одному богу известно.
Характеристиками остальных семи членов делегации я сейчас здесь заниматься не буду. За исключением некоторых незначительных особенностей, наши граждане за границей очень похожи друг на друга. Или, возможно, невольно становятся похожими. Во всяком случае, наших туристов никогда не спутаешь с приехавшими, скажем, из Лос-Анджелеса.
Автобус спешит к южно-сарпрутской винодельческой фирме «Сантавайне». Там члены делегации должны осмотреть подземный марани и отведать здешнее вино.
Неизвестно почему хозяева решили предоставить возможность отведать свое южное вино членам именно этой делегации. Возможно, их заинтересовало компетентное мнение гостей о продукции местных виноделов, возможно, это делалось в рекламных целях, а может, они преследовали более меркантильные цели и хотели убедиться совсем в ином? Разве у этих империалистов что-нибудь поймешь?
Автобус проехал сквозь еще одну полосу дождя и остановился возле встроенного в скалу здания с колоннами.
— Мне кажется, все мы здесь люди серьезные и призывать к порядку никого не придется. Помните, дегустация впервые внесена в программу и от нас зависит, будет ли это начинание продолжено или нет. Напомню вам принципы дегустации: из стакана надо отпить чуть-чуть, поднять голову вверх, подумать, потом еще раз смочить кончик языка и затем изложить не спускающим с вас глаз хозяевам ваше мнение о качестве вина. Особенное внимание следует обратить на букет вина, его сладость, спиртозаменитель, содержание танина и устойчивость при транспортировке, — категорическим шепотом предупреждал членов группы Тулавичович, стараясь, чтобы его не слышал гид. Бдительный экскурсовод, конечно, все прекрасно слышал и отлично понимал страх и волнение, охватившие руководителя делегации.
Гид, со своей стороны, счел нужным предупредить, что на дегустацию отведено сорок минут. Ровно в три часа они должны ехать на обед.
* * *
Дегустация продлилась раза в четыре дольше запланированного и закончилась плачевным для репутации дегустаторов результатом. В половине шестого в автобусе сидел один только Хухия и предавался горестным размышлениям. Он явно жалел о том, что просто от скуки согласился ехать в Сарпрутию. Никак не мог избавиться от все чаще накатывавшей на него в последнее время тоски, на определенном жизненном отрезке обычно посещающей неудовлетворенного, не достигшего поставленных целей человека.
Первым из дегустационного зала вывели бывшего декана Губко. Он повис на плече у синеблузого рабочего «Сантавайны» и, вскинув вверх правую руку, выкрикивал интернациональный лозунг. Из портфеля у него торчали обернутые серебром горлышки двух бутылок.
Мамеда и Василису вел Тулавичович. Руководитель шел в середине влюбленной пары. Обоих крепко держал под руки, и они так стремительно двигались к автобусу, как только могут двигаться трое крепко подвыпивших людей.
Больше всех досталось Бгатарбгртаю. У самых дверей автобуса он вырвался из рук сопровождающего и рванул назад к дегустационному залу, однако, не добежав до дверей, споткнулся обо что-то и растянулся на зеленой травке. В автобус его внесли на руках.
Бербек, придерживая на голове бутылку с вином и пританцовывая, вприпрыжку скакал к автобусу. Его поддерживали двое крепких сарпрутийцев. Время от времени Бербек застывал как вкопанный, снимая с головы бутылку, по очереди обнимая новообретенных друзей, лобызая их в губы, потом, прослезившись, снова водружал на голову бутылку и с криком «Хейо!» принимался подпрыгивать на носках.
Представитель фирмы «Сантавайна» о чем-то долго и хмуро беседовал с гидом. Потом вынул из кармана какую-то бумажку и разорвал ее пополам. Все это время Тулавичович шатаясь стоял в открытой двери автобуса и с трудом сдерживал туристов, жаждавших вернуться в дегустационный зал.
Когда глубоко задумавшийся гид вернулся в автобус, выяснилось, что Раисы нет на месте. Вскоре она показалась у парадного входа в дегустационный зал в сопровождении пузатого мужчины, на прощание долго целовавшего ей руку и что-то с чувством говорившего. Трезвых в автобусе было лишь трое: словоохотливый водитель, гид и Хухия.
Когда автобус тронулся, Хухия заметил парившего над лесом ястреба. Ему почему-то казалось, что здесь могли водиться какие угодно птицы, кроме ястребов. Ворон, голубей и воробьев он встречал тут на каждом шагу, ястреба же видел впервые. Высоко над лесом парила в небе рыжеватая птица.
«Только бы нас не покинули ястребы. Только бы не осерчали на нас… Иначе конец. Нам-то что, мы по земле ползаем, властелинами мира являются они. Ишь, как гордо и важно держится. Самые совершенные создания на этой земле — это все же птицы. Боже, как жалко выглядим мы все по сравнению с ними», — размышлял Хухия, время от времени оглядываясь по сторонам, как бы желая поделиться этой мыслью с кем-нибудь из членов делегации.
Перевод Л. Кравченко.
ОДИН РАБОЧИЙ ДЕНЬ
— Можно?
— Заходи, чего спрашиваешь.
— Я подумал: может, занят…
— Ты видел это заявление?
— Позволь… Да, видел.
— Чего ему надо?
— Они в позапрошлом году теплицу построили, им велели разрушить. Так он просит возместить расходы на строительство. Свои деньги хочет назад получить.
— Ну и откуда я ему деньги возьму?
— Переправь его к Саладзе. Саладзе умеет с такими разговаривать.
— Вот. «На рассмотрение — Саладзе». Пожалуйста.
— Этих пригласить?
— Кого?
— Из министерства. Трест волокон и проволоки.
— Они уже здесь? Мы когда их ждали?
— Когда я пришел, у двери сидели. Поездом приехали.
— Сколько их?
— Трое.
— Трое. Откуда они, как ты сказал?
— Волокна и проволока.
— Да, но почему так рано… На твоих сколько?
— Половина десятого.
— Хотя верно, поезд уже прибыл. А они, значит, поездом приехали. И где они сейчас?
— Сидят у меня.
— Куда завтракать поведем?
— Во второй.
— Уже звонил?
— Нет. Сейчас позвоню.
— Чего ждешь? Звони. Этот отключен. Вот с этого.
— Что сказать — когда будем?
— Скажи, через полчаса. Погоди, совещание ты на сколько назначил?
— На два. Разве не так?
— Может, их на совещание?
— Не думаю. После завтрака отвезем к Члаквадзе, он их займет какое-то время.
— Когда уезжают?
— Кажется, сегодня же.
— Позвони начальнику станции, чтобы не продал наши билеты, как в прошлый раз.
— Какой у него номер?
— Глянь, вот здесь записан.
— Три билета приберечь?
— Пусть все прибережет, в тот вагон.
— Если не забудет…
— Он последнее время что-то забывать стал, верно?
— Забудет и схлопочет. Значит, приглашаю.
— Погоди. Как к ним обращаться, что за люди?
— Высокого ты знаешь, дважды был здесь с министром — тощий, плохонький мужик, но с гонором — батоно Ипо, фамилию я забыл. Второго в рыжем пиджаке, без бровей, зовут Валико. С ними еще молодой, наверное, инструктор.
— И он оттуда же, как тебе показалось?
— Да, все трое. Волокна и проволока. Веду…
— Погоди. Мне самому начать про ихние волокна?
— Нет, они сами скажут, чего им надо. Новое управление, у них там планы всякие… Ты выслушаешь, и больше ничего…
В одиннадцать часов гостей отвезли к Члаквадзе. Всех троих одолевала зевота, и они без всякого интереса слушали горячую речь Члаквадзе о невиданном энтузиазме трудящихся района.
* * *
Одиннадцать часов десять минут.
— Можно?
— Отвыкай ты от этого «можно». Входи.
— Два человека из Сложтреста.
— Что нужно этому тресту?
— Хотели открыть у нас филиал, но им отказали.
— Ну… Так ведь это дело давно закрыли.
— Теперь они с поручением. Их Реетуправление направило вести переговоры как посредников.
— Реетуправление?
— Они теперь в него входят.
— С каких пор?
— Довольно-таки давно. После укрупнения.
— Сколько их, как ты сказал?
— Двое. Приглашаю?
— Погоди…
— Того, что постарше, зовут Иуза, он раньше на водоканале работал. Из-за женщины сняли.
— Какой женщины?
— Бросил жену с детьми и женился на уборщице. А второй из наших краев — Хискевадзе.
— Хискевадзе?
— Тот, что в Амазмстрое работал. В прошлом году перевели оттуда.
— Не припомню. Как зовут этого Хискевадзе?
— Таташ. Приглашаю?
— Погоди. Позвони во второй. Пусть все уберут и накроют заново. Скажи, что через двадцать минут там будем. Может, мацони буйволиное где-нибудь раздобудут.
— Да у них, верно, есть; чего его добывать.
— Что-то хачапури мне показались не очень…
— Не может эта русская настоящие хачапури печь, ничего не поделаешь.
— Откуда Мамиа ее привез?
— Разве узнаешь…
— А внешне она ничего.
— Иду.
— Погоди. Что мне им сказать про Сложтрест?
— Они сами скажут. Если опять заговорят о филиале, мы воздержимся. Потом кто-нибудь на этом деле нагреет руки, а на нас свалят. Но по-моему, они по другому делу.
— Позвони во второй. Каково сейчас опять завтракать. Как ты думаешь, пить будут?
— Хискевадзе не пьет вообще, а про Иузу не знаю, не скажу. В прошлый приезд на печень жаловался.
— Боюсь, что на этот раз нам не повезет. Ты на сколько совещание назначил?
— Как ты сказал — на два.
— Да, на два. Ладно, иди. Погоди: позавтракали — что потом?
— Отвезем их к Мелхиоридзе.
— У них есть место?
— Новый павильон соорудили. Пусть немного потеснятся. Я скажу, что у тебя совещание и освободимся не раньше, чем через час.
— А если…
— Нет, на совещании присутствовать им незачем. Оно их ни с какого боку не касается.
— Я тоже так думаю. Приглашай. Нет, погоди. Когда они уезжают?
— Не скажу, не знаю. Но думаю, надолго не останутся.
— Предупреди еще раз, чтобы этот разиня не продал наши билеты. Ни одного чтоб не отдавал. Не с того, вот с этого звони.
— От себя позвоню. А что с этим?
— Скоро наладят. Повреждение на линии — машина за провод зацепила. Иди.
* * *
Двенадцать часов пятнадцать минут.
— Можно?
— Да.
— Ты что, трубку не брал?
— Только что вошел. Что случилось?
— Муртаз позвонил: Чичахвадзе, говорит, вышел от них и в половине второго будет здесь.
— Не может быть!
— Точно.
— Но ведь он вчера уверял, что продержит его до послезавтра.
— Да этот Чичахвадзе такой неугомонный тип, покоя не знает. Муртаз говорит: сегодня утром объявил — я у вас все закончил. Еще три часа удалось продержать, а больше…
— Едет уже?
— В дороге.
— Я думаю, он с шофером.
— Да.
— Позвони в гостиницу, чтоб мою бронь не снимали.
— Зачем звонить, твой номер и так наверняка запертый стоит. Кто туда войдет?
— Пусть приберут хорошенько. Там кран не работал. Исправили? Чем, по-твоему, будет интересоваться Чичахвадзе?
— Муртаз сказал, что у них записал показатели и интересовался реакцией на письма трудящихся.
— У нас есть новые показатели?
— Спрошу у Сони.
— Пусть немножко накинут по каждому пункту и по всем хозяйствам. Только не надо раздувать, как в тот раз. Скажем, что планы выполняются, но отметим серьезные помехи в виде плохих погодных условий. Так будет лучше. Дутые показатели теперь уже и Чичахвадзе не скушает. В прошлый раз на совещании всех строго-настрого предупредил: бросьте валять дурака, сведения с мест далеки от реальных показателей, как небо от земли.
— Не хотят больше неправды. Никто не хочет. Кого мы так обманываем? Самих себя, больше никого.
— А что второе, ты сказал?
— Письма трудящихся.
— Это по твоей части, вот и будь добр, наведи порядок, чтобы, как говорится, все было в ажуре.
— Охотно, но когда?
— Никаких задержек с ответами на письма. Все, что надо выписать, выпиши. На контроле много дел?
— Дело Пахвадзе не закончено.
— Мы настаивали на продлении, верно?
— Климадзе слег, из дому не выходит, а что я могу в таких условиях.
— Попомни мое слово, из-за этого Пахвадзе мы когда-нибудь шеи себе сломаем.
— Если Чичахвадзе сам не спросит, попробую этого дела не касаться.
— Точно. Так будет лучше.
— Ну, я пошел.
— Мне его здесь встретить?
— Здесь не годится. Лучше поднимись в бригаду к Квахадзе. А здесь я его встречу и скажу, что ты с утра руководишь вторичной прополкой кукурузы.
— Туда его привезешь?
— Человека пришлю.
— Если человека пошлешь, я наверх не стану забираться, внизу подожду, под тутовыми деревьями, пусть там поищет.
— Договорились.
— Ну, я пошел.
— Лучше, если на «Колхознике» поедешь.
— Так и сделаю. Поеду на «Колхознике»! Скажи, что сам за рулем сижу. В тот день ты это ловко ввернул, помнишь? Корреспондент сразу в книжечку себе записал.
— Иди побыстрей, а то как бы он тебя здесь не застал.
— Где пообедаем?
— Во втором уже не то будет — третий раз за день. Повезем его наверх к «Липкам».
— Позвони Бичойе, чтоб накрыли наверху, между липами.
— На сколько человек?
— Я думаю, нас будет четверо. Но на всякий случай скажи, чтоб накрыли на шесть.
— Читаладзе предупредить?
— Не знаю, нужен он нам? Уж очень много болтает.
— Может, все-таки повеселит.
— Ладно, пусть. Чтобы в два все было готово. Я пошел. Погоди, на сколько ты совещание назначил?
— Мы же уговорились на два.
— Значит, придется и сегодня отложить.
— Ничего не поделаешь.
— Посади Потолу на телефон, пусть всех обзвонит.
— На какой день перенесем?
— На завтра. Больше откладывать нельзя. Завтра в два. Ну, я пошел.
— Ты помнишь, что в шесть «Общество» собирается?
— Что еще за общество?
— «Общество пропаганды чтения».
— Уже объявлено?
— Конечно. Проводится в Доме культуры.
— Пусть ими Пармен занимается.
— Ты должен открыть. Помнишь, в прошлом году мы попали в материалы совещания: дескать, руководство не приняло участия…
— Как же я открою? Почему ты раньше не сказал?
— Вступительное слово у меня написано, ближе к делу дам просмотреть.
— Ну, я пошел, не то он меня здесь застанет, точно…
— До шести обед с Чичахвадзе надо закончить.
— Это смотря по тому, в каком он будет настроении.
— Назначим тамадой Читаладзе, ему шепну, чтобы к половине шестого закруглялся.
— Я пошел. А ключи от машины?
— У твоего шофера. Он внизу сидит.
* * *
Восемнадцать (шесть) часов девять минут.
— Вовремя успели.
— Читаладзе молодцом, работал, как часы, даже чуть раньше закруглился.
— Ему и самому пить не хотелось.
— А вечером как?
— Думаю, захочет отдохнуть. После мероприятия проведаем его и пригласим на банкет.
— Теперь скажи мне толком, кто там будет?
— Вот вступительное слово. Джанелидзе назвал мне фамилии, но я не запомнил. В основном доценты.
— Сколько?
— Пять.
— Да ты что?! Пять докладов?
— Каждому по регламенту по пятнадцать минут, не больше. Так мне обещал Джанелидзе.
— Они уже здесь?
— Да, в четыре приехали.
— Где Джанелидзе обедал с ними?
— Во второй, я предупредил заранее. Этого Джанелидзе не нам учить, пока не заставил меня позвонить туда, не отвязался.
— Что ему остается делать… Сегодня же уедут?
— Не думаю. А вообще-то не знаю. От тебя, как от тамады, будет зависеть, когда разойдемся.
— Да я не то что тамадой — у меня голова раскалывается! Опять Читаладзе это дело поручим.
— Как хочешь, но как бы Чичахвадзе не обиделся, что оба раза при нем Читаладзе тамадой был.
— В этот раз он хорошо вел стол.
— Да, но когда ты сам тамада, тогда у застолья совсем другая цена, другой вес.
— Ладно, будет тебе. Брось… Прямо в Дом культуры поедем?
— Да. Джанелидзе сказал, что туда их привезет.
— А публика?
— По этому поводу я восемь звонков сделал. В исполкоме пообещали привезти сначала людей с одного хозяйства; потом снимут слушателей с шоферских курсов и выведут из библиотек всех читателей.
— По-твоему, этого хватит?
— Если будет мало, заготовщики подбросят нам весовщиков.
— Не стоит. Весовщиков на месте не удержать. В прошлый раз ты сам видел: как только началась встреча, они один за другим выбрались из зала.
— Я думаю, что до конца мероприятия нам и остальных не удастся удержать. Часть разойдется, а как же иначе? Главное, чтобы в начале были люди.
— Теперь слушай меня.
— Слушаю.
— Я, как только открою, потихоньку уйду, не то усну прямо на сцене и осрамлюсь. Ты продолжишь.
— На месте увидим.
— Я себя хорошо знаю. Стоит человеку подняться на трибуну, меня одолевает сон. И не только в таком состоянии, как сейчас, но даже когда я совсем свежий.
— Воля твоя, продолжу.
— И итоги подведи. А я извинюсь, сошлюсь на важное совещание и немного прилягу у себя в кабинете. Если не прилечь, ей-богу, не выдержу.
— Как только здесь закончится, я позвоню.
— Позвони. Хоть часа два продлится, как по-твоему?
— Нельзя сказать ему, чтобы он поменьше вопросов задавал?
— Думаешь, я не говорил? Не давал почувствовать? Но его ничего не берет. Этими вопросами жив человек.
— Хоть бы уж что-нибудь толковое спрашивал.
— Не скажи, некоторые вопросы на уровне.
— Смотри, Сехния уже перекрыл новый дом. Видишь?
— Да. Вроде только утром начали.
— Большой прохиндей…
— Что и говорить…
— Ты вот что мне скажи: после встречи банкет устраиваете; а поместимся там все?
— Свободно.
— Но как же так? Нас человек восемь, Чичахвадзе с шофером — десять, три человека из «Волокна и проволоки» — тринадцать, этих людей с лекции вместе с Джанелидзе шесть. А люди из Сложтреста.
— Их скорее всего не будет.
— А?
— Я думаю, Мелхиоридзе их на рыбалку повез. Не беспокойся, он свое дело знает.
— Ну, приехали. Дай-ка мне вступительное слово.
— Пожалуйста.
— После перепечатки просмотрел? Кто печатал?
— Венера. Я вычитал. Хорошо напечатано.
— Ну, с нами бог!.. А ты жди меня здесь. Поставь у лестницы. Немного назад подай, чтобы людям не мешать. Я минут через пятнадцать выйду, чтоб не загулял у меня, как в прошлый раз.
— Шапка!
— На что мне шапка?
— Ладно, пусть лежит в машине.
— Пошли.
* * *
Шла последняя неделя весны.
Вернувшаяся с чайных плантаций Марта увидела, что весь ее участок и двор истоптан и изрыт.
Теленок оборвал веревку и, задрав хвост, скакал по огороду. За теленком бегала собака, пугала его.
Кряканье уток, кудахтанье кур, лай собаки — можно было подумать, что настало светопреставление.
Привязав теленка, Марта погнала прутиком гусей. Гуси нехотя повернули назад, остановились неподалеку и опять загоготали.
Марта зашла на кухню, попила воды из кувшина, отломила кусок от завернутой в тряпку холодной кукурузной лепешки, сняла с глиняного кувшина крышку из вишневой коры, долго шарила рукой в едкой сыворотке, наконец выловила пожелтевший, щербатый остаток сыра, ополоснула его и стала есть.
Присесть ей было некогда — ела стоя, при этом ругая и проклиная бестолкового теленка.
Затем она полезла в погреб за сложенными в кадку с водой саженцами помидоров, вытащила их, перебралась на огород и принялась сажать.
Она изрядно запоздала с этим делом — помидоры следовало высадить пораньше. Время-то она еще могла выкроить, урвать от других дел, но погода стояла неподходящая; май прошел так, что с неба не упало ни капли дождя. Сегодня вот прошел небольшой дождь; если влага проникла в землю хоть на пядь, помидорам больше и не надо.
От громкого сигнала автомобиля теленок метнулся в сторону, но натянувшаяся веревка вывернула ему шею, и, подогнув передние ноги, он, как заарканенный, упал в кустах.
Марта проводила взглядом черную «Волгу», промчавшуюся мимо ее калитки, подошла к теленку, выпростала из-под него веревку и подняла теленка на ноги.
— Ну чего ты убиваешься? Что ты всего на свете боишься, глупый!
Теленок испуганно поводил блестящими красивыми глазами, задрав голову, пятился и часто-часто дышал.
Перевод А. Эбаноидзе.
ВИНОВНИК ПРОИСШЕСТВИЯ
В полночь к дежурному отделения милиции ворвался священник в рясе и бросил на ярко освещенный стол пучок рыжеватых волос.
Дежурный надел очки и первым делом посмотрел на волосы. Потом неторопливо поднялся, достал из сейфа бутылку боржоми, не открывая поставил ее перед священником и кивнул на волосы:
— Что это, батюшка?
— А сам не видишь? — грубо отрезал священник. — Волосы, вот что это! — И, видимо выражая негодование и гнев, как-то странно посмотрел в сторону.
— А на что мне эти волосы, батюшка? — все так же спокойно спросил дежурный.
— Что значит «на что»? Эти волосы я не у бешкенадзевского козла выдрал. Вот откуда они вырваны! — Священник приподнял прядь волос над ухом, обнажив заметно поредевшее и покрасневшее место. — Сам ничего не соображаешь?
— Позвольте? — дежурный потянулся к волосам.
— Пожалуйста, — разрешил священник.
Дежурный извлек из стола лупу, поднес вырванный пук волос к виску священника, долго и внимательно разглядывал, сравнивал и наконец заключил:
— Верно. Ваши волосы.
— Ну и что дальше? — не унимался священник.
— А что дальше! Я же говорю — ваши волосы.
— По-твоему, я для этого, пришел сюда? Что они мои, я и без тебя знаю!
Дежурный встал, опершись о барьер, поглядел на священника, потом заложил руки за спину и прошелся по своему закутку. Дежурный не торопился.
— Ты, батюшка, не в той ли церкви работаешь, что пониже Зеленого рынка?
— Что значит — работаю! — еще пуще взвился священник и опять странно поглядел в сторону и вверх.
— Да как же это ваше дело называется, — добродушно засмеялся дежурный. — Совсем вылетело из головы, будь оно неладно.
— Не работаю, а совершаю обряды.
— Вот, вот…
— Священнодействую.
— Ну да, детей крестишь, покойников отпеваешь… да все одно. Ведь это и есть ваша работа. Фамилия твоя как будет?
— Нуцубидзе.
— А имя?
— Кукури.
— Надо же — просто Кукури! — удивился дежурный. В его представлении священника непременно должно звать Саввой, или Амвросием, или еще как-то в этом роде. — Что привело к нам среди ночи, Кукури?
Такое обращение пришлось священнику не по душе.
— Я тебе покажу Кукури! Называй меня батюшкой, не то живо схлопочешь… Не думай, что, коли я в рясе, все тебе с рук сойдет.
— Да в чем дело? Что ты со мной ругаешься, чудак-человек?
— Я тебе прямо говорю — некогда мне лясы точить. У тебя язык чешется, а я вот-вот лопну от злости. Я явился в отделение милиции как официально пострадавший, и обращайся со мной соответственно. Не то, клянусь памятью папаши, живо распрощаешься с погонами.
Дежурный извлек из кармана складной перочинный ножик, раскрыл его и принялся чистить ногти.
— Есть тут кто-нибудь, кроме тебя, муха ты сонная?
— Не ругайся, батюшка.
— Один ты стоишь, убогий, у этих врат истины и справедливости?
— Не ругайся, я сказал.
— Что ты меня маринуешь, черт ленивый? Чем я тебе не потрафил? Отведи живей к дежурному следователю!
— Так бы сразу и сказал. Оттого, что ты священник и в рясе сюда пожаловал, думал, на голову тебя посадим. Нет, батюшка…
Дежурный покрутил ручку внутреннего телефона и взял трубку.
— Отар-начальник, тут священник пришел… Ничего не пойму. Если вы не спите, пришлю к вам. Есть, товарищ начальник! — Потом кивнул священнику на коридор: — Идите в четвертую комнату.
Священник тщательно собрал со стола свои волосы, подобрал рясу и направился в четвертую комнату.
Несколько минут спустя он рассказывал старшему следователю Очаскурского отделения милиции Отару Нанешвили ужасную историю о том, как был выдран у него клок волос.
Отар только что проснулся: его густая седеющая на висках шевелюра беспорядочно рассыпалась по лбу. Он то и дело протирал глаза и хмурился.
— Теперь это, конечно, запрещено, но скрывать не буду, иной раз не могу отказать новобрачным. Только, пока свидетельство из загса не покажут, я за дело не берусь. Тут я кремень… Разве я отказал бы им в венчании? Да никогда в жизни! Но не мог. Занят был, гость у меня сидел. И церковь к тому же давно запер. Есть же и у вас у всех свои рабочие часы. А что, священнику, по-вашему, отдых не нужен? Или мы не устаем? Вот постой денек на моем месте! От одного только паникадила рука отвалится. От запаха ладана одуреешь… К вечеру еле ноги таскаю.
— Сколько времени вы занимаетесь этим делом?
— Э-э, священником я пять лет. А до того на консервной фабрике работал. Да вы меня знаете, я сын Доментия Нуцубидзе.
— А-а, вот оно что. — Следователь поскреб пальцем в затылке. — В этих волосах тебя не узнать.
— Об этой консервной фабрике разговоров много, а толку там ни на грош. Не то, клянусь детьми, я бы оттуда не ушел. Здесь-то мне неплохо, ничего не скажешь, но волосы меня съели. Задыхаюсь. В жару хоть помирай… И то стерпел бы… Но есть такие, которые думают: раз я священник, значит, у меня язык одни молитвы бормочет, а руки связаны. Да не будь на мне этой рясы, разве позволил бы я Шакро Георгадзе избить меня?! А свяжешься с таким, и тебя за такого же посчитают. Кто поймет? Скажут — священник в драку полез, кулаки в ход пустил. И, между прочим, снимут с должности. А как же! У нас тоже свое начальство имеется и своя ревизия.
— Все-таки я что-то не пойму. Выходит так: ворвался к тебе Шакро Георгадзе, вырвал клок волос из бороды и убежал?
— Погоди. А я что рассказываю. Сначала другой пришел. Я, говорит, дружка жениха, или как его там… Словом, молодой. Не пошел я. Занят, говорю. Потом пожилой человек пожаловал, представился; вроде знакомый он мне, все знакомство напоминал, только я его не вспомнил. Я и ему говорю: «Не могу с вами пойти, видишь, гость у меня». Просил долго, но не выпросил ничего и закрыл за собой дверь.
— Далеко от церкви живешь?
— Да нет, рядом, четвертый дом. А за этим пожилым Шакро явился. Шакро — безбожник, дьявол во плоти. Уж кто-кто, а вы-то знаете, что он за сорвиголова.
— Да, но, насколько мне известно, последнее время за ним ничего такого не числилось. Работает, говорят, женился. Больше не дерется, не скандалит. Выходит, опять за старое?
— А я что говорю? Думаете, легко обратить Шакро Георгадзе? Да ни в жизнь! Остепенился? Поумнел? Как бы не так! Ворвался ко мне в дом. «Выйди, — говорит, — на минуту». Знал я, по какому он делу, но все-таки вышел. Он говорит: «Идем со мной, брат мой женится, и ты их повенчаешь». Я говорю: «Мне некогда». Я говорю: «Если я тем людям отказал, чем ты лучше? Что ты за пасхальное яичко», — я говорю. Пристал в одну душу. «Не знаю, — говорит, — что такое некогда! Сейчас же отопрешь церковь и повенчаешь молодых». Я говорю: «Если твой гость — гость, чем мой хуже?» Некогда мне было, ей-богу, детишками клянусь, не то деньги ведь лишними не бывают, разве я отказался бы заработать?! И тут, когда мы так разговаривали, он вдруг как схватит меня за бороду, как гуся чуть не общипал. Я еле вырвался. И еще пригрозил: «Не будь, — говорит, — я в твоем доме, не простил бы тебе такого, волоска бы на голове не оставил!..» Вот как мое дело было… Он сейчас на свадьбе кутит, а я тут злобой исхожу, сердце в глотку лезет. Разок мелькнуло в голове: «Схожу сбрею бороду, ворвусь к нему на свадьбу, влеплю ему пулю в лоб, сам отдохну и других от него избавлю». Но разве так годится? Неужели нам перестрелять друг друга остается? Вот мои волосы перед вами, а дальше сами знаете. Отари, добром прошу, не зажимай этого дела, дай ему ход, не то я куда и повыше обращусь и кто-то на этом деле погорит.
— Ладно, ладно. Что за разговор!.. Вот бумага и напиши все, что сейчас рассказал.
Священник писал долго, бормоча под нос и шевеля губами.
Следователь прочитал заявление, попросил священника подписаться в двух местах и сказал:
— Теперь, батюшка, можете идти. Я пошлю за ним милиционера, допрошу, а завтра придется еще раз вас потревожить.
— Меня? Зачем?
— Для очной ставки.
— Нет, ради бога! Не надо меня напоказ выставлять. И мою жалобу ему не показывайте! Как будто от других про это узнали. Зачем по городу слухи распускать? Сам знаешь, что такое сплетня в нашем городе: священнику бороду общипали, а он в милицию помчался… Приведите этого кота бешеного, он во всем признается. Не станет же он запираться.
— Ну хорошо, хорошо, так и сделаем, ступай.
Перед выходом священник посмотрел на пучок своих волос на столе.
— Эти волосы оставить или унести?
Отар достал из стола конверт.
— Своей рукой положите в этот конверт и подпишите.
Священник долго стоял в раздумье. Не знал, как написать. Сперва хотел написать: «Волосы священника Кукури Нуцубидзе». Потом решил: «Волосы священника Кукури Нуцубидзе, вырванные Шакро Георгадзе». В конце концов решительно вывел: «К. Нуцубидзе», смочил конверт языком, тщательно заклеил и попрощался со следователем.
Священник Кукури Нуцубидзе прошел мимо дежурного милиционера, даже не взглянув в его сторону: дескать, до тебя мне теперь и дела нет, мои дела теперь повыше разбирают.
* * *
Близился рассвет, и вот-вот должны были прокричать первые петухи, когда в кабинет к Отару Нанешвили вошел участковый уполномоченный. Следователь спокойно спал. Уполномоченный раза два кашлянул (он не смел трясти начальника за плечо), потом взял со стола авторучку и постучал по стеклу окна. Отар сразу сел, зевнул, надел фуражку и взглянул на вошедшего.
— Ну что?
— Привел.
Следователь стремительно поднялся с дивана, пересел к письменному столу.
— Где он?
— Здесь, в дежурке.
— Сопротивления не оказывал?
— Нет, я его со свадьбы взял.
— В дом заходил?
— Нет, ребенка послал, вызвал во двор. Когда сказал, чтоб в участок собирался, он рассмеялся: «Чего, — говорит, — им еще от меня?» Жене крикнул: «За холодным боржоми в погреб схожу и скоро вернусь». Так что никто ничего не знает.
— Ладно. Введи. Он не пьян?
— Нет. Там некому напоить Шакро Георгадзе.
— Введи его, а сам на всякий случай будь начеку.
— Слушаюсь.
— Нет ли у него чего-нибудь в карманах?
— Не знаю. Обыскивать я не посмел, но не думаю. Зачем на свадьбе с ножом в кармане сидеть?
Только дежурный вышел из кабинета следователя, как в дверях под самой притолокой оказалась черноволосая, тщательно причесанная голова.
— Это ты? Входи.
Отар не встал и не пожал вошедшему руки. Это означало, что разговор предстоит строгий и сугубо официальный.
Шакро Георгадзе, ширококостный, плечистый красавец двухметрового роста, с гладко выбритым лицом, вошел в кабинет так скромно и вместе с тем галантно, с такими реверансами и поклонами сел на предложенный ему стул, что посторонний наблюдатель непременно решил бы — этот человек всю жизнь провел в консульствах и посольствах. Но следователь прекрасно знал, с кем имеет дело. Несколько лет, как угомонился Шакро, а раньше у органов охраны общественного порядка кровь в жилах сохла от его бесконечных проделок. Сын Алмасхана Георгадзе был первым драчуном и бузотером в городе. За невежливое слово в перепалке он мог любому свернуть скулу. Заступник многочисленных друзей и неподкупный судья, разбиравший самые запутанные дела городских «драчунов», добровольный советчик и законодатель мод на хулиганских «биржах», несколько раз он отсиживал различные сроки.
— Что это такое, в конце концов! Должен ты когда-нибудь научиться уму-разуму?
— О чем вы, батоно Отар?
— Ради бога, не начинай: «батоно Отар», «уважаемый Отар», «спасибо». Лучше б тебе не браться за старое. Не те нынче времена, чтобы первым парнем в городе себя утверждать. Да и ты уже не мальчишка.
— Что и говорить. Я слово в слово то же самое твоему сыну говорю, когда на улице его встречаю. Ты уж не перебарщивай. Слава богу, оба мы не дети и знаем друг друга.
— Если от меня услышишь — обозлишься. Так вот тебе конверт, мой дорогой, а вот жалоба. Ты не хуже меня в законах разбираешься и сам поймешь, что дело этого священника пятью годами пахнет.
— Какого священника?
— А того самого, у которого ты этот клок волос из бороды вырвал. Кукури Нуцубидзе.
Шакро засмеялся. Потер правой рукой шею, раскрыл жалобу, но не стал читать, снова сложил ее и протянул следователю.
— Выходит, прибежал-таки к вам прохиндей Кукури! Ишь, как от рук отбились, совесть потеряли!
— Но, но! Что же он, по-твоему, молчать должен был, когда ему волосы вырвали? По-твоему, бежать в милицию не мужское дело…
— Смотря за что вырвали, дорогой мой Отар.
— А хоть за что. Если б тебе за каждую обиду и пустяк волосы выдирали, ходить бы тебе сейчас гладеньким, как свинья у тетки Ефросиньи.
— Когда заслуживал, и со мной не лучше обходились, не беспокойся.
— Что же все-таки там произошло? Что он тебе сделал? Чем не угодил?
— Не мне он сделал, а себе. Мне что он может сделать? Сам себе надавал. Язык мой, враг мой. Слыхал? Он меня хорошо знает, на нашей улице вырос. Я ведь как-никак лет на восемь его старше. Мозгляк был мальчишка, жалкий, когда меня на улице встречал, плакать начинал. От страха, что ли… Мы и на «бирже» его возле себя не терпели, чтобы пакости какой не сделал. Но когда таким, как он, деньжата в руки попадут, все забывают. Что мне сегодня от него нужно было? О чем попросил? Да что он может, Кукури этот? Говоря по правде, не хотел я к нему идти. Думаю, если я пойду, а он откажет, обидно мне будет, больно. Двух людей к нему послали, но куда там! «Я, — говорит, — в нарды[15] играю, занят очень». Мой братишка младший женился, девчонку взял такую же, как он, худенькую, ладненькую, как по теперешней моде полагается. Неужели я им не старший брат, скажи? Да я за них голову сложу… Расписались они честь честью, а теперь говорят: «Давай обвенчаемся». Ну, уговорили Доментия Хабурзания запрячь его заплесневевший фаэтон и подкатили к церкви. Дети они еще, сам понимаешь, все им в радость. Для них все дело. Когда дружка вернулся с отказом, вскочил какой-то пожилой дядька со стороны невесты. Я, говорит, его упрошу. Пошел. Но и он тем же порядком ни с чем вернулся. Стоим мы перед запертой церковью, как нищие на паперти. Сник мой братишка, погрустнел, а невеста и вовсе разнюнилась, всхлипывает: видно, не будет нам счастья. Я и подумал: неужели человек не должен войти в твое положение? Кто тогда мы друг для друга? Все на меня уставились, ждут. Сам понимаешь, как и те и другие на меня смотрят: Шакро Георгадзе я или нет? Ничего не оставалось — пошел. И что? Он и говорить со мной не пожелал. «Приходите, — говорит, — завтра, обвенчаю». — «Да, но как же так, — я говорю, — почему завтра? Свадьба нынче ночью, кому же завтра нужны твои бормотания?» Он и слышать не хочет, отвернулся. «Видишь, — говорит, — я в нарды играю». (Тут Шакро засмеялся.) Взял я его за руку. Поди, говорю, сюда, я, говорю, завтра все нарды тебе куплю, какие только в городе имеются, только сейчас не позорь меня, не отказывай. Для тебя, говорю, десять минут пустячное дело. Он мне: иди, говорит, своим делом займись. Не удержался я, и остался у меня в руках клок его бороды.
— Когда это случилось?
— Вечерело только. Да если б он хоть далеко жил от церкви, а то ведь рядом, в двух шагах. И поленился.
— А потом что было?
— Вернулся я назад, кое-как успокоил жениха и невесту. От такого, говорю, священника ни венца вам не надо, ни иконы.
— Все-верно говоришь? Ну-ка, вспомни…
— Разве я когда-нибудь врал, уважаемый Отар?
— У него вроде гости были. Ты не видел кто?
— Да кто-нибудь в рясе, вроде него. Не знаю.
— Вашу драку видели? Или слышал кто-нибудь?
— Не думаю. Кукури очень самолюбивый, он бы не признался. Меня удивляет, что он сюда явился.
— Что «явился»! «Если, — говорит, — мер не примете, я и выше пойду».
— Да ладно, будет… Я завтра на него гляну построже, он сам за своим заявлением прибежит. Знаю я таких.
— А вообще-то ты тоже не прав.
— Разве я говорю, что прав? Сколько раз клятву себе давал, ни за чем к скверному человеку не обращаться. Но не получается. Эта жизнь, будь она неладна, так устроена, что сама тебя вымарает. Не удержался, нервишки подвели. Возвращайся к свадьбе и доложи: «Уважаемый Кукури не пожелал вас венчать, он в нарды играете» Каково!
— Ты прав. Нелегко. Некоторое время оба молчали.
— Который брат женился, как ты сказал?
— Младший. Тот, что зубной техникум окончил. У Джумбера Вачиберидзе работает. Невеста Мардалешвили из Маглаки. Семья хорошая, порядочная, родители — учителя.
— Кто у вас тамада за столом?
— Гоги Тодуа, зять Карпе, профессор. Пока ничего ведет стол, если без меня не запутался.
— Слушай, Шакро, неужели я не должен быть на свадьбе твоего брата?
Шакро опустил голову.
— Свадьба-то маленькая, клянусь детьми, человек пятьдесят всего гостей. Никого не приглашали. Только близкие соседи и родственники. Не могли большую свадьбу устроить.
— Теперь и не стоит большую устраивать. Всех все равно не пригласишь, а неприглашенные обидятся.
Опять наступило молчание. Прокричали петухи. Немного погодя, Шакро глухо проговорил:
— Как со мной-то будет: сейчас посадите или на свадьбу вернуться, а уж завтра прийти?
Отар встал. Достал из кармана связку ключей, тщательно запер ящики стола, сейф, причесал волосы, заправил густой седеющий чуб под фуражку и обернулся к обвиняемому:
— Теперь иди. Я пока делу хода не дам, а завтра ты сам как-нибудь образумь этого Кукури… А между нами говоря, надо было побольше волос у него вырвать, заслужил.
Шакро вытащил из кармана платок, вытер свои огромные ладони и посмотрел следователю в глаза:
— Отар, дорогой, ненадолго… извини меня, конечно… но мы отдельно от всех сядем… только пару стаканов, два-три тоста… Если ты за моих молодоженов выпьешь, жизнь за тебя отдам… Ты же знаешь — Шакро я, Георгадзе.
— Слава богу, наконец догадался, — улыбнулся Отар и пропустил гостя вперед.
Дежурный милиционер увидел, как следователь с обвиняемым, весело беседуя, сбежали по лестнице.
Он разинул рот от удивления, но так ничего и не понял и вернулся к переписыванию рапорта. Этот дежурный всегда списывал рапорт у предыдущего дежурного, и потому текст звучал стандартно: «Во время нашего дежурства никаких происшествий не случилось».
Перевод А. Эбаноидзе.
РАДУГА
В пестрой и шумной толпе детей Чито Размадзе еще издали приметил огромного носатого мужчину в белой имеретинской шапке, пробивавшегося в его сторону. Чито вспрыгнул на дощатый помост и поднес ко рту рупор, смахивающий на большую лейку, но, прежде чем он произнес что-то, великан с пионерским галстуком на шее уже стоял перед ним.
— Вы будете Размадзе?
— Слушаю вас. — Чито придал лицу выражение, какое появляется у человека, оторванного от важного дела; наигранным вниманием он как хлыстом огрел докучного просителя.
— Я — пятнадцатая школа. — У представителя пятнадцатой школы были львиные лапы и хриплый голос.
— Ну?
— Куда нам встать? Что делать? Где раздеться детям?
Размадзе левой рукой уперся в бедро и, не отрывая рупора ото рта, строго отчитал великана:
— Понятно. Вас кто-нибудь звал? Если все представители припрутся сюда, это, по-вашему, поможет делу? Ступайте туда, где вы стоите, и ждите. В свое время всех позовут. Ясно? Или не ясно?
— Так бы и сказал. А кричать-то зачем? — Дэв с красным галстуком на шее повернулся и, разгребая мощными «веслами» толпу, двинулся к восточной трибуне стадиона, где его дожидалась немалая ватага школьников.
В городе Огаскури май обычно жаркий.
Как только прошествует апрель со своим зеленым и прохладным веером, начнет созревать алыча и зарумянится ранняя черешня, в один прекрасный вечер вдруг угомонится и замрет шелковистый ветерок, стекающий с горы Сатаплиа, и сразу станет жарко.
Жара охватывает все. Высыхают и осыпаются цветы с акаций, жухнет на огородах кукуруза, грубеют нежные по весне листья чинар в саду Церетели; люди начинают ценить тень и воду.
Два года назад Чито Размадзе окончил историко-филологический факультет педагогического института. Его распределили в четвертую огаскурскую школу заместителем директора по идейно-воспитательной работе. Поначалу он отличился тем, что четвертая школа хорошо прошла на первомайской демонстрации. На этой демонстрации Чито осуществил следующую идею: мальчики и девочки в белых майках почти до самой трибуны шли пятясь, задом наперед, выдерживая при этом завидное равнение, затем они одновременно повернулись и выпустили из рук спрятанных за пазухой голубей. Хлопанье крыльев библейских птиц заглушило даже праздничную медь оркестра. Успех был полный.
Позавчера Чито вызвали в соответствующие инстанции и поручили подготовку приветствия учащихся города… До сих пор многотрудным делом подготовки праздничных представлений руководил главный режиссер городского театра Гоги Кобешавидзе. Гоги обладал соответствующим опытом и вообще отличался энергией и мобильностью. Но на этот раз главного режиссера обошли. События развивались так стремительно, что у Чито не осталось даже времени подумать, почему руководство отдела просвещения предпочло его кандидатуру. В глубине души он даже обрадовался такому большому и ответственному поручению. Но постепенно ему сделалось не по себе, стало страшно. Ситуация складывалась нешуточная: в Огаскуре ждали — проездом — большого гостя, на Театральной площади против постоянной трибуны начали сколачивать трибуну амфитеатром, издали смахивающую на корабль. Предполагалось, что дети сперва разыграют на площади праздничное представление, потом взбегут на трибуну и поприветствуют гостя песней и транспарантами. «Смотри не провали мероприятие, не то придется нам всем на следующий же день расстаться с должностями», — предупредили Чито в отделе просвещения.
А до четырнадцатого — времени осталось совсем ничего. Сегодня уже шестое мая; нынче утром наконец утвердили проект приветствия. Три дня продолжались горячие споры и дебаты. Одни предлагали вырыть на площади ямы, накрыть их досками, и «пусть при звуках оркестра из-под земли вылезут дети, как ромашки». Это предложение было сразу же отвергнуто из-за технических трудностей. Тогда главный методист школы-интерната для глухонемых выдвинул такую идею: в разгар праздника над площадью появляются вертолеты и дети спускаются с неба по веревочным лестницам. Однако и это предложение отклонили по причине технических сложностей и риска. В конце концов остановились на предложении Чито Размадзе. Вот какой проект приветствия предложил Чито: на Театральную площадь со всех концов с веселым гомоном сбегаются подростки десяти — двенадцати лет. В одной руке у них букеты цветов, в другой длинные красные ленты. Они исполняют ряд гимнастических упражнений, затем разделяются на группы, все вместе машут красными лентами, и тут из каждой группы выступает ученик или ученица, с ног до головы разубранный цветами, с ворохом роз, гвоздик и тюльпанов в руках. Пока дети-букеты вбегают на трибуну и одаривают гостя и всех присутствующих цветами, оставшиеся внизу машут лентами и кричат: «Ура! Ура! Ура!» Затем над площадью встает гигантская радуга; на семицветную радугу взбираются семь мальчиков и на семь голосов поют приветственную песню. Финал песни подхватывает вся площадь, дети строем проходят под радугой, повернувшись лицом к трибуне, со счастливыми улыбками, размахивая алыми лентами. Под конец они занимают места на новой трибуне-амфитеатре, снимают повязанные на головах и на поясах разноцветные косынки и, размахивая ими, в сопровождении оркестра, все поют. На этом приветствие заканчивается.
К вышке, на которую взобрался Чито Размадзе, ведет десять узких ступенек, и его хорошо видно с любой точки стадиона. Вам случалось наблюдать соревнования по прыжкам с шестом? Помните похожую на трап стремянку, которую судьи выкатывают, чтобы установить или поправить сброшенную планку? Вот эту-то стремянку администрация стадиона и уступила на время. На верхней ступеньке стремянки, представляющей крошечную площадку, в случае крайней необходимости можно уместиться вдвоем, но это дело опасное. Вот и сейчас: стоит Чито сопроводить свои команды энергичным жестом, стремянка-трап начинает подозрительно подрагивать, покачиваться. В такие минуты вдохновитель приветственного представления умолкает, сует свой рупор между колен и обеими руками хватается за перила площадки.
Заместитель директора четвертой школы по идейно-воспитательной работе — очень худой мужчина, чуть выше среднего роста. Кажется, дунь на него посильней — и он не устоит на ногах, но дело обстоит не совсем так. Голова его покрыта носовым платком, стянутым завязанными по углам узелками. На худом лице как насмешка создателя выделяется большой мясистый нос. Носом он похож на замечательного актера Фрунзе Мкртчяна. Разница лишь в том, что Фрунзе Мкртчяну идет его нос, а Чито — нет. Как я уже сказал, потому что он не пропорционален другим чертам лица. Вам доводилось видеть испуганные глаза? Когда веки распахиваются и зрачки панически бегают, ища спасения от опасности. Впрочем, в нашей мирно текущей жизни глаза от страха расширяются достаточно редко — а у Чито они все время расширены, и жалостливые брови угольничком, не зная покоя, мечутся по лбу. Мне не доводилось видеть Чито Размадзе сильно напуганным, поэтому не знаю, какие у него глаза, когда по-настоящему прижмет, боже избави его от этого. Худыми и тонкими пальцами он нервно теребит пуговицу своей белой рубашки и перекладывает рупор из руки в руку.
Вступительное слово, которое призвано было разъяснить цели и дать необходимые указания учащимся и их родителям, подходило к концу: «Выступление назначено на двенадцать часов четырнадцатого мая. Сейчас же немедленно приступите к добыванию формы — на всех должны быть сиреневые майки и синие трусы. Сиреневая материя продается в магазине у поворота на Хони, и, пока она не кончилась, скажите родителям, чтобы немедленно купили. Красные ленты будут вам розданы. Что же касается цветов, то на репетициях можно обойтись зелеными веточками, а четырнадцатого всем придется раскошелиться на один букет средних размеров. В приветствии, как вы знаете, участвуют только третьи и четвертые классы, остальные не допускаются. В мероприятии задействованы все пятнадцать школ города, и каждая должна выделить по пятьдесят учеников, ни больше ни меньше. Объявляю к сведению представителей: дети до пятнадцатого мая освобождаются от занятий, так и передайте их классным руководителям. Присутствие родителей на репетициях не обязательно, если же они все-таки пожалуют, так и быть, пусть присутствуют, но только спокойно сидят на трибунах. И чтобы ни одного из них я не видел четырнадцатого на площади! Сейчас, если кому что непонятно, не надо сломя голову бежать ко мне: по ходу дела я дам необходимые объяснения».
Закончив речь, Чито прислушался к своей разом зашумевшей рати. Решительно стянул с головы платок, тщательно вытер взмокшее лицо и опять натянул было платок на голову, но сделать это одной рукой оказалось не так-то просто. Он зажал рупор между колен и помог себе другой рукой. Между делом гаркнул на кого-то внизу: «Не прислоняйся к лестнице — и так она еле стоит!» Потом поднял голову, откашлялся и начал: «Внимание! Слушайте все! Видите направо от меня ворота? Я имею в виду футбольные ворота. Отсюда и начнем.
Первая школа идет вперед и становится в створе ворот. Колонну возглавляет представитель школы, так, живее… Встаньте друг за другом, в затылочек, в затылочек, по пять человек. Та-ак… Первая школа встала? Теперь вторая школа. Где вторая школа? Так! Один возглавляет. Не три и не десять, а один. Кто представитель? Ведите, ведите! Откуда родители? Я же сказал — чтобы родителей на поле не видел! Ни одного! Третья школа, четвертая… Так… та-ак… Идете друг за другом, не растягиваться. А это какая школа? Почему так мало детей? Завтра у меня будет пятьдесят человек и ни на одного меньше. Ясно? Куда вы с сумками? Не могли сумки положить на трибуне? Не бойтесь, никто их не утащит. Если у вас в них такое уж бесценное сокровище, посадите одного ученика рядом и пусть караулит. Все вместе не возвращайтесь из-за этого. Ну, ладно, положите и бегом назад. Где представитель от пятнадцатой? Он же только что был здесь… Иди, уважаемый, ступай и возглавь свою школу. Так… Всем подравняться! Выпрямиться, и слушайте меня внимательно!..»
Лестница вдруг пошатнулась — и Чито выронил рупор. Рупор упал на траву. Ухватившись за перила и расставив ноги, режиссер крикнул вниз: «Не прислоняйтесь вы к ней, черт бы ее побрал совсем! Она и так вот-вот повалится. Назло мне шатаете, да? Подай-ка его сюда! Что, помялся? Давай, сам поправлю. Ты не поднимайся, не надо. Погоди, говорю, ради бога, не валяй дурака, не до шуток мне!»
Внизу под вышкой-стремянкой стояли пионервожатые и инструкторы отдела просвещения. Некоторых из них репетиция почему-то привела в игривое, дурашливое настроение; заметив, что Размадзе боится свалиться с вышки, они как раз тогда толкали ее, когда режиссер входил в азарт и всей душой втягивался в работу.
Получив назад рупор, Чито довольно долго постукивал им по перилам. Потом попросил подыскать камень и забросить ему наверх. Кто-то притащил здоровенный булыжник. Размадзе рассердился: «Такой не бросай, ты что, спятил? На что мне такой валунище? Вон у ног твоих валяется, тот, давай!» Неуклюжий инструктор подобрал камень и так бросил его наверх, что, если б режиссер не увернулся, в лучшем случае остался бы с шишкой на лбу. «Камня толком не могут подать! Разве это люди?» — подумал Размадзе. Он выправил рупор и окинул взглядом свою рать.
«Теперь слушайте меня внимательно! Все видите проходы между трибунами? Там и укроетесь… Стойте, куда побежали? Я еще ничего не сказал. Пока я не дам команду: раз, два и три — все стойте на местах. Первая школа идет в угол между северной и восточной трибуной, вторая и третья идут следом, и так распределяетесь по всему стадиону. После этого вы стоите там и ждете мою команду. Итак: раз, два и три!.. Что там за свалка? Какая это школа пытается втиснуться не на свое место? У каждой свой участок. Что? Не умеете до пятнадцати считать? Первая между северной и восточной трибуной, вторая и третья рядом. А там должна стоять седьмая. За ней, стало быть, восьмая, в следующем проходе. Займите свои места. Ясно? Значит, в начале представления мы вот так и располагаемся. Когда проведем репетицию на площади, каждой школе будет отведено ее место. Сейчас, как только я крикну — три, все, подняв руки, — а в руках у вас как будто цветы и ленты, не забывайте, — выбегаете на поле и сбегаетесь в центре. Стой! Стой! Погодите! Всем стоять! Пятая школа, надерите уши этим трем безобразникам. Дадите вы мне договорить или нет?.. Все сбегаетесь в одну кучу. Потом я считаю до пяти — и вы, опять разделившись на школы, разбегаетесь по всему стадиону вокруг поля…
Итак, начинаем! Раз, два и три!.. Не годится! Плохо! Все — назад! Все возвращаются назад. Выбегаете, размахивая высоко поднятыми руками, веселые, с довольными, счастливыми лицами. Все смеетесь! На лицах написана радость! Друг друга не обгонять, в спину не толкать и подножек не ставить. Итак, еще раз. Внимание: раз, два и три! Радуетесь, смеетесь, машете руками! Все вместе. Стой! Не толкайте передних, не то начнется куча мала и перетопчете друг друга! Раз, два, три, четыре — и пя-ть! Разбегаетесь по кругу! Так, хорошо, каждый находит свою школу. Ну, разве это круг? Возьмите друг друга за руки, вон как те сделали, седьмая, кажется? Все берутся за руки и стоят. Постойте немного, отдышитесь. Ну, так, повторим еще раз: все возвращаются в исходное положение…»
По трапу-стремянке кто-то постучал. Чито глянул вниз и увидел пожилого мужчину в соломенной шляпе. Ему показалось, что он встречал и раньше этого голубоглазого, гладко выбритого старика в очках.
— Уважаемый!
— Слушаю.
— Мне подняться? У меня вопрос.
— Подниматься не надо, я слышу отсюда.
— Видите ли, дело в том, что я врач.
— Ну и что?
— Привел внука на репетицию. Но я не об этом. Сейчас очень жарко, на солнце больше тридцати. Если дети получат солнечный удар, кто будет отвечать?
— Что же вы, товарищ доктор, не могли надеть шапку на своего внука?
— Я-то на него надел, но он снимает, потому что все остальные без шапок. Вы должны как-то объявить всем. Нельзя так, в такую жару у детей мозги могут закипеть.
— Спасибо за совет. Больше ничего не надо?
— Нет, больше ничего.
Пожилой мужчина оторвал от лба ладонь, которой, словно отдавая честь, загораживал от солнца глаза, и отошел в сторону. Размадзе поднес рупор ко рту:
— Внимание! У кого есть шапки, наденьте. У кого нет, завтра принесете. Понятно?
Дети загалдели, тем самым давая знать Чито Размадзе, что в его объявлении не было ничего непонятного.
…К делу привыкаешь быстро. Через несколько дней Чито уже не представлял себя без рупора и стадиона. Единственное, к чему он не мог привыкнуть, это неустойчивый трап, высокая стремянка на колесах, во всем же остальном дело пошло на лад. Чито нравилось, что, стоило ему появиться, инструкторы и представители школ окружали его, как цыплята, и беспомощно сыпали вопросами. Нравилось, что все ждали его указаний, что почти тысяча детей сбегалась и разбегалась по взмаху его руки; даже было жаль, что время бежит так жестоко и быстро, — до четырнадцатого оставалось всего четыре дня, что он станет делать потом? Хоть бы затеяли еще какой-нибудь праздник, он с удовольствием возглавил бы подготовку выступлений.
На стадион он приходил к двенадцати часам. А до двенадцати крутился как белка в колесе, высунув язык, бегал из горсовета по разным инстанциям, учреждениям и предприятиям. С утра перво-наперво он докладывал начальнику отдела о ходе подготовки, потом надо было бежать добывать красные ленты. Он окончательно убедился, что в этом городе по телефону (даже если чудом удавалось дозвониться) ни о чем нельзя было договориться. Четыре дня его водил за нос директор швейной фабрики. Наконец ценой огромных усилий Чито выбил у него красный шелк и операция «ленты» благополучно завершилась.
Вчера Чито Размадзе узнал, что мебельная фабрика не очень-то озабочена изготовлением радуги. Не долго думая и не теряя времени на пустопорожние телефонные переговоры, он явился к директору фабрики и напомнил ему о гражданском долге и престиже родного города.
Директор фабрики, смуглый, чернявый мужчина в кителе цвета хаки, сшитом на китайский манер и украшенном единственной медалью, взмахнул газетой перед носом Размадзе:
— А это читали?
— Что?
— Вчерашний номер «Кутаиси».
Чито сообщил директору, что пришел по делу государственной важности и ему некогда читать газету.
— Сперва прочитай, потом поговорим. Это, мой милый, фабрика, а не духан моего папаши. Вы будете ругать меня в газете за невыполнение плана, а я буду для вас сооружать ра-ду-гу! — последнее слово он произнес по слогам. — Как же, как же!
— Но ведь вам звонили!
— Да, звонили, мне заместитель передал. Звонить все горазды. А вот корреспондент Бухаидзе не станет звонить. Он заявится и напишет второй фельетон: про то, как вместо стульев мы сколачиваем из дефицитной фанеры ра-ду-гу, — он опять насмешливо растянул это слово.
— Кто такой этот Бухаидзе? Видно, он не знает, на каком уровне принято решение об организации приветствия?
— Для меня, мой дорогой, все уровни одинаковы. Мне каждый может уши надрать. Сперва поручат какую-нибудь чушь, а потом сами же требуют выполнения плана. И к ответу призовут. И знаешь, что скажут? «Наше дело поручить, твое дело отказаться».
— Через четыре дня у нас выступление. Самое позднее через два радуга должна быть готова, чтобы дети успели к ней привыкнуть.
— Толкачи вроде тебя погубят этот мир. Придет в чью-нибудь разгоряченную голову соорудить радугу, он пробьет свою идею, и вот уже звонят, приказывают… Ну, а маленькому человеку, директору, остается одно — ломать голову: что за радуга, какие ее размеры, из какого материала, на чем будет крепиться, чем красить, за счет чего списать всю фанеру и рейки, что пойдут на ее сооружение. Кто об этом думает? Никто. Одну поговорку любил мой дед: «Что для кошки игра, то для мышки смерть». Вам поиграть захотелось, а спросите меня, в игривом ли я настроении. Думаешь, этот Бухаидзе простит мне сооружение ра-ду-ги (и опять он произнес это слово по слогам). Вот, почитай, как он разделал меня в газете. С его слов получается, что только моя фабрика снижает общегородские показатели. Вроде на остальных предприятиях у них все идет как по маслу. Как бы не так!
Чито понял, что директора не уговорить: уж больно его допек своим фельетоном журналист Бухаидзе. Но он сделал еще один заход:
— Поверь — вас все равно заставят сколотить эту радугу. Так что лучше нам расстаться по-хорошему. Я человек новый, молодой. Даже если б по своему, частному делу сюда явился, и то не следовало бы мне отказывать, а тут дело большое, общественное. Чести нашего города касается.
— Не знаю я никакой чести, мой дорогой. Каждый делает свое дело. Кто-нибудь позаботился, чтобы этот Бухаидзе сюда не являлся? Никто. Ступай и скажи тем, кто тебя сюда направил: не делает он радугу, упрям больно, плетью обуха не перешибешь. Ответственность я беру на себя.
Чито Размадзе вернулся в горсовет и все подробно передал заведующему отделом просвещения. Заведующий спокойно выслушал его и под конец спросил: «Как тебе показалось, ему жизнь наскучила или должность надоела?» Чито пожал плечами, поскольку ничего такого за директором мебельной фабрики не заметил.
Неизвестно, какие меры принял заведующий отделом просвещения, но факт остается фактом: двенадцатого мая ровно в двенадцать часов на стадион вкатилась машина с подъемником, на стреле которого болталась радуга на колесах, пахнущая свежей масляной краской.
Солнце обошло гору Укимериони и озарило прощальными лучами руины храма Баграта, а Чито Размадзе и его подручные ни разу не присели с самого утра. Оставался единственный день, и режиссер спешил. Десятки раз заставил он повторить детей не столь уж трудные для подростков «мизансцены», но представлению все еще не хватало стройности. Только после того, как из рупора в третий или четвертый раз разносилось: «Плохо! Не годится!» — дети более или менее дружно кричали: «Ура! Ура! Ура!» Но и это не главное. После полудня у голодных, усталых детей лица сделались такие измученные, что все просьбы Чито глядеть порадостнее и повеселее ни к чему не привели — ему отвечали вымученными, деланными улыбками. Родители энергично выражали недовольство. Стремянка на колесах подозрительно поскрипывала. Возле нее обеспокоенно топтались пионервожатые и нервно потирали руки, понимая, что в случае срыва приветствия им тоже влетит. Среди вожатых затесалось два-три ко всему безразличных типа, вдруг обнаруживших в себе чувство юмора. Им не надоедало бросать камешки в Чито Размадзе, торчащего на верхотуре наподобие петуха на коньке, и задавать ему вопросы на немыслимом языке, используя набор иностранных слов. В ответ на растерянный взгляд Размадзе они помирали от смеха, едва удерживая друг друга на ногах.
«Сегодня еще потерпите немного, так надо, а завтра с утра перейдем на площадь. Вы, ребята, молодцы! Я верю — вам хватит сил и выносливости!» — каждые пятнадцать минут кричал в рупор Чито Размадзе и, чтобы придать своим словам убедительность, напоминал о подвигах героев пионеров. Но умученных жарой детей удавалось взбодрить лишь на несколько минут. Потом они опять клали головы друг другу на плечи и время от времени, подобно галчатам, разевая рты, кричали: «Ура! Ура! Ура!»
Однако самым трудным делом оказалась установка радуги. От таскания по асфальту одна из опор расшаталась, и радуга, некрасиво кренясь набок, стояла у восточной трибуны. Вызвали плотников с мебельной фабрики. Слоновьи ноги радуги выпрямили, но при порывах ветра она все-таки покачивалась.
Времени больше не оставалось — послали человека за учителем пения Гиглой Цирекидзе. Гигла на своей квартире репетировал с семью мальчиками, отобранными в семи школах, — они разучивали приветственную песню, специально по такому случаю созданную местными творческими силами. Гигла развел руками и сообщил, что мальчики еще не готовы, но его даже не стали слушать.
В семь часов вечера на стадион въехал грузовик. В кузове грузовика сидели дети, а руководитель ансамбля Гигла Цирекидзе помещался в кабине рядом с шофером. Согласно указаниям Чито Размадзе на радугу по устроенным в желобках ступенькам первым вскарабкался представитель четвертой школы и, присев на корточки, устроился за барьером, выкрашенным в зеленый цвет. Остальные мальчишки один за другим, согласно своей природе и темпераменту, кто лихо и шустро, а кто робко и медленно, взбирались по ступенькам. И когда над самой нижней желтой полосой показалась детская голова, Размадзе, гордо оглядевшись по сторонам, скомандовал:
— И — три-и!
Это значило, что мальчики должны запевать. Но только они, обхватив левой рукой крашеную ограду, а правую воздев вверх, разинули было рты, как радуга покачнулась, накренилась, жалобно скрипнула и рухнула.
Чито не помнил, как спрыгнул вниз и растолкал толпу. Мальчиков по одному вытаскивали из-под семицветного чудища. Пострадавшие плакали. Один вывихнул руку, другой — ногу, третий ободрал локоть. Слава богу, несчастья не случилось и даже не было ни одного перелома. Немного успокоившись, Чито Размадзе осмотрел радугу. Продукция фабрики выдержала падение; в ней ничего не сломалось и не отвалилось, кроме одной опоры с колесом.
Распорядитель приветствия вернулся на свое место и крикнул вслед разбредающейся толпе:
— Завтра к десяти собираемся на площади. Послезавтра выступление. Предупреждаю пионервожатых и родителей — чтобы все были на месте! Ни одного отсутствующего! Завтра решающий день. Так и запомните — завтра решающий день!
Потом, кряхтя и вздыхая, спустился вниз и тихо, без мегафона сказал дожидающемуся его Гигле Цирекидзе:
— Ничего не поделаешь, Гигла. От неожиданностей никто не застрахован. Не надо распространяться об этом случае. Директора мебельной фабрики, конечно, снимут. Его и без того каждый день в газете пропесочивают. С ребятами, слава богу, ничего страшного не случилось. Обойди всех вечером. Кто сможет, пусть завтра приходит, а кто нет — придется заменить. Ничего не поделаешь.
Гигла хотел возразить: ребята так напуганы, что не уверен, сумеют ли они петь, но не успел — «Наполеон» с рупором в руке важно шествовал к выходу от стадиона.
Выйдя из ворот, он свернул на Поточную улицу. Так он удлинял путь до дома, но день стоял жаркий, и ему хотелось охладить рионским ветерком разгоряченный лоб.
Когда Чито проходил мимо хинкальной, оттуда кто-то вышел и решительно направился к нему:
— Эй, приятель!
Чито не оглянулся. По голосу было слышно, что окликавший его изрядно навеселе.
— Приятель! Слышишь, что ли! Ты, с лейкой! — пьяный догнал его и схватил за локоть.
— Чего тебе? — оглянулся Чито.
— По дружбе: дай крикнуть в эту твою штуку пару слов.
— Каких еще пару слов?
— А каких захочу. Пару теплых слов — и все. Дай дунуть, а? По дружбе. Я знаю, что крикнуть, — гримасничая просил пьяный.
— Говори так, чего хочешь.
— Нет, через лейку совсем другой вкус. Так никто, кроме тебя, не услышит, а я хочу, чтобы весь город услыхал. Ничего плохого не скажу, не бойся.
— Иди, иди, делом займись. Отоспись, а завтра поговорим. — Чито вырвал руку из цепких пальцев пьяного, пропахшего водкой и хинкали, и продолжал путь.
А пьяный прислонился к тутовому дереву с обрубленными ветвями и, глядя вслед Чито, удаляющемуся скорым шагом, затараторил:
— Дай разок крикнуть, что хочу. Дай разок сказать, что на душе накипело, и пойду своей дорогой. Допусти хоть разок до этого рупора, будь человеком!.. Чего вы над малыми детьми измываетесь? Чего сами себя мучаете? Хоть детей пожалейте! Кто пьяный? Это я пьяный? Никакой я не пьяный. Просто ты струсил и дал деру. Правда глаза колет, это давно известно…
Последние слова он произнес сравнительно негромко, видимо успокоившись. Потом подогнул колени, медленно опустился на тротуар и тут же уснул.
* * *
Тринадцатого мая у него с утра ужасно болела голова. Пришлось принять две таблетки анальгина. Лекарство притупило боль, но так одурманило, что, выйдя из дома, он дважды вынужден был вернуться: в первый раз вместо портфеля захватил школьную сумку племянника, а во второй, — дотронувшись до подбородка, понял, что забыл побриться.
При виде пустого, безлюдного стадиона у него сжалось сердце, но он тут же вспомнил, что в этот день репетиция назначена на центральной площади, и бегом бросился туда.
На площади было шумно и оживленно. Радуга, словно троянский конь, стояла перед театром. У ее мастодонтских ног сидели плотники с мебельной фабрики и ждали вдохновителя мероприятия.
Дети, воспользовавшись паузой, разыгрались, разбегались. Они атаковали будку с мороженым, гонялись друг за другом в горелки, скакали и ходили колесом.
Несколько смышленых пионервожатых отвели своих подопечных подальше от общей толчеи и вместе с пионерами играли в старую, традиционную на гуляньях игру «Мое золото — мне!» (раньше эта игра называлась «Чью душу желаете?»).
Прохожие останавливались, загородив рукой глаза от солнца, молча взирали на радугу, пожимали плечами и шли дальше по своим, как им казалось, более важным делам.
— Вы хоть укрепили ее как следует? — Чито первым делом подошел к плотникам.
— Еще не приступали, — рабочие встали.
— А чего ждете? И так опаздываем. Полдень уже, неужели не видите?
— Мы не знали, где ее ставить. А то поставим, укрепим, а потом придется туда-сюда перетаскивать.
— От перетаскиваний она вчера и завалилась, — молодой чернобородый плотник заглянул режиссеру в глаза и со значением подмигнул.
Чито Размадзе дал указание поставить радугу у входа в сад Акакия Церетели, перед колоннадой. Затем взял в руки рупор и поднялся на трибуну. Прекрасная трибуна была сколочена для торжеств, просторная, красивая и, что самое главное, не скрипучая.
Репетиция началась ровно в двенадцать.
Когда певцы Гиглы Цирекидзе в третий раз вскарабкались на радугу (каждый раз при этом вся площадь испуганно обмирала), на трибуне появился заведующий отделом просвещения и дотронулся до плеча взмокшего от трудов Чито Размадзе.
Чито оглянулся, широко улыбнулся.
— Надо тебя на два слова, — выражение лица у заведующего было несколько смущенное.
— Минутку. Еще разочек прогоню общий выход — и я в вашем распоряжении, — пообещал Чито Размадзе.
— Не нужно репетировать. Выслушай меня.
Чито опустил рупор и уставился на начальство.
— Из исполкома позвонили, сказали — не надо.
— Что?! — На лице у Чито появилось неожиданное зверское выражение; он почувствовал, как кровь загудела в ушах.
— Не надо приветствия. Гость к нам не заедет. Программа изменена. В наши края вообще не едут.
— Да, но как же так?..
— Я им то же самое сказал. Людей, говорю, загнали, расходы расходами, а нервы-то не восстанавливаются. Неужели вы раньше этого не знали? А Абесадзе говорит: «Откуда мы могли знать? Нам приказывали, мы и исполняли».
— Что же мне теперь делать?
— Что делать? Объяви людям и ступай домой, — заведующий отделом просвещения повернулся и поспешно ретировался с трибуны.
Минуты через две Чито Размадзе надтреснутым тенорком, со слезой в голосе объявлял:
— Слушайте все! Сейчас вы расходитесь по домам. Форму берете с собой, ленты сдаете. Завтра выступление не состоится. Выступление отложили. Когда будет нужно, мы вас предупредим!
Он вытер со лба холодный пот, спустившись с трибуны, сунул кому-то рупор и побрел вверх по Чомскому подъему.
С чего его потянуло в Чоми? Кто знает… Он жил в Вакиджвари, и в Чоми у него не было никого, кто мог бы развеять горе.
Перевод А. Эбаноидзе.
ТЕЛЕГРАММА
Выходит, весь этот белый свет только для нас с Леваном оглох и онемел, сынок. Выходит, от всех этих пошт с телеграфом только мне никакого проку. Я говорю, когда вам припечет, вы аж с самых звезд людей на землю спускаете, со дна морского золотой рог извлекаете. А до беды тетушки Тамары вам и дела нету. Так и сказала, сынок. Может, и не следовало кипятиться, но не утерпела. Нет, и впрямь: неужто темно на белом свете, чтоб от Овреска и до Кожрети живой человек пропал и не сыскался… А бывает, что и засомневаюсь: что, если я от возраста головкой слабнуть стала? Клянусь моим Леваном, думаю, уж не свихнулась ли я на старости лет, таскаюсь по всем этим поштам-телеграфам ровно ненормальная. Ничего не поделаешь, мой хороший, старость она и богатырей одолела, что же ей со мной — воблой тощей — чикаться. Не приди ко мне та телеграмма, глядишь, и не сорвалась бы с места. Таких вдов, как я, вон сколько на свете, что я за пасхальное яичко такое, чтобы людей собой беспокоить.
Глянь вот, сынок, глянь, что мне сон-то отбило: «Прасим саабчит здоровие да местанахаждение Тамару Шавкурашвили». Василий Караваев запрашивает и подфамиливается. Из Овреска послана. А Тамара Шавкурашвили — это я и есть. Она самая. Наши в Кожрети из Арашенда переселились. Лет двести уж тому, а то и больше. Кто его знает, по какой такой надобе, мне никто не скажет! Я по-русски ни полслова, как говорится, ни бум-бум, но каждый божий день раз сто эту телеграмму повторяю. Что поделаешь, сынок, нужда — она всему научит: как говорится — ты пугни, а уж я побегу, дай бог ноги…
В прошлом году в декабре принесли мне эту телеграмму. На радостях заколола я барашка справного, чуть не с руки вскормленного, созвала соседей; жив, говорю, мой Леван оказался, по дороге домой в Овреске задержался, не знаю уж, по какому делу, теперь скоро приедет… Вот уже восьмой месяц с тех пор на исходе — больше никаких вестей. Заведующий поштой и военный комиссар точно сговорились против меня. Как испорченный граммофон, твердят одно и то же: что мы можем сделать, тетка Тамара, телеграмма-то из Овреска, это точно, но отправитель ни своей фамилии не раскрывает, ни «абратни адрес» не пишет (это они по-русски твердили «абратни адрес, абратни адрес…»). Я всюду запросы направила, и по поште, и через комиссариат. Овреск оказался дальше аж самой Сибири, маленький городишко, в году восемь месяцев земля под ним промерзшая, торф кругом и ничего, кроме мха, не растет. Слышь, что ли? Вот ведь какие места есть на свете!
На исходе месяца пришел одинаковый ответ, как по линии пошты, так и по линии комиссариата: никакой Василий Караваев в Овреске не проживает и не проживал. Да разве ж я сама не знала, что этот Караваев выдуманная фамилия. Я говорю, телеграмма-то моим Леваном послана. Взяла и сама направила запрос на Левана: «Прасим саабчит, значит, где праживает и чем занимаитца Леван Самадалашвили». Вот, сынок: и комиссариат, и пошта почти в один день получили ответ: человек под этим именем и фамилией не обнаружен не только в Овреске, но и во всей области, мы, мол, искали, да без толку.
«Так, выходит, ваша телеграмма не настоящая!» — привязалась я к начальнику пошты. С ним-то чего спорить, он-то при чем? Но зло меня взяло, чуть не задохнулась от возмущения. А он в ответ: «Да, мамаша, может, кто-то подшутил над тобой». Но к немилому слову ухо глухо — так я и поверила, что сидит где-то за тридевять земель в каком-то Овреске какой-то Караваев и только и думает, как бы ему посмеяться над Тамарой Шавкурашвили, как бы ее посмешней разыграть!.. Нет, сынок, если хочешь, перед иконой побожусь, что это проделки моего Левана.
А Лиза Цицликашвили возмутила меня в тот день, чуть до греха не довела: «Если это, — говорит, — твой Леван, почему он своим настоящим именем не подписывается?» Кто моего Левана знал, тот ничему не удивится. Он и здесь такой неугомонный был, прямо божье наказание. Разве мы знаем, что там с ним стряслось? Он же мужчина, а не ветерок залетный, чтобы без следа в винограднике истаять. Может, он совестится, что все давным-давно по домам повозвращались, а он в этом Овреске застрял. Может, он хочет постепенно к своему возвращению подготовить, чтобы его старуху от радости удар не хватил. А то как же, он мужик умный, дело свое знает.
Я шестнадцати лет за него пошла, сынок. Шестнадцатилетние и сейчас девчонки, а тогда подавно. Представь, как птаха, подрастала на краю села. Отец мой, освети его душу на том свете, господи, был строг, не то что нынешние; я у него одна была девка, из дому носу не давал высунуть: не женское, говорит, дело в винограднике листьями шуршать да за овцами бегать. Шестнадцать мне сравнялось, когда Леван мимо нашего двора прошел. В тушинской шапочке чуть набекрень погонял буйволов и напевал что-то для себя негромко. Глянул на меня и улыбнулся. А шестнадцатилетней девчонке чего еще надо: улыбнулся и точно пригвоздил к подоконнику, ей-богу! Сердце в груди прыгнуло, как пасхальный ягненок, и до самого вечера не могла его унять-успокоить. Назад Леван возвращался в сумерках. На плечи положил палку, на палку руки повесил, идет поет. Потом уж признался; знал, говорит, что ты на голос выглянешь. Заметь себе, какой смышленый — а ведь ему тогда только девятнадцать было, не больше… Как заколдованная ждала я его у калитки. Стою дрожу, что твой кролик, но ни с места. Подошел, разок несмело глянул за ограду и, не увидев нигде моего отца, расплылся до ушей: «Пойдешь за меня, девушка?» Думаешь, я растерялась? «Проваливай, — говорю, черт зубастый, не то все эти камни с ограды об тебя пересчитаю!» — «Раз так, значит, полный порядок, — говорит он, — остальное за мной». Оглянулся разок и так хорошо улыбнулся, будто я ему медовые сладости поднесла или ласковых слов наговорила.
К концу недели прислал сватов, а когда урожай собрали и на зиму расквартировали, повенчались мы с ним. Было это одиннадцатого октября, никогда не забуду. А через три дня призвали его в армию, сынок. Всего три-то дня и были мы мужем и женой, сынок, чтобы не прожил трех дней тот, кто затеял эту войну.
Вышли мы из дому на рассвете и до железнодорожной станции шли молча. Он ни слова не сказал, а что у него на душе было, сынок, не мне тебе рассказывать.
На станции народу была прорва. Среди этих слез и причитаний только мой Леван стоял молча, прямой, стройный. «Скажи хоть что-нибудь!» — «А что сказать? Разве ты без слов не чуешь?»
Когда вызвали Левана Самадалашвили — он мешок за плечо забросил и обернулся ко мне: «Не бойся, Тамара, со мной ничего не случится, я свою пулю проведу и вернусь к тебе живой и невредимый». — «Когда, — говорю, — тебя ждать?» Слышишь, — когда, говорю, ждать. Глупая девчонка! Человек на войну уходит, а я спрашиваю, когда вернется. Улыбнулся он той своей улыбкой и крикнул в ответ: «С этого дня каждую минуту жди!» Вот я и ждала. Сорок лет прошло в этом ожидании.
Иногда думала, будь он здесь, интересно, как бы тогда прошли эти годы. У каждого свое счастье, сынок. Разве не счастье — ждать любимого? Как сорок дней пробежали эти сорок лет — вся жизнь. Ни минуты я не верила в его гибель. Даже в тот день, когда пришла черная бумага и весь наш род оплакивал его и царапал щеки, я заходила в свою комнату, смотрелась в зеркало и говорила себе: ну чего ревешь, дура, неужели не видишь, что эта бумага нечистой силой подброшена. Может, приглянулась я кому, и, чтоб меня провести, придумал тот про гибель Левана… Вот ведь как было. Все эти годы я только так и думала, и выходит, не ошиблась, жив оказался мой Леван, сынок, чтобы так же были живы и все твои родные и близкие.
Решение мое такое: больше ждать их и слушать я не могу. Сердце не выдерживает этого хождения по поштам и комиссариатам. Пока есть еще в ногах сила, возьму в руку посох и отправлюсь в Овреск. Говорят, выспрашивая да расспрашивая, странники до Иерусалима добирались. Окажись этот Овреск даже на краю света, все равно пойду. Продам своих семь барашков с ягнятами, найду и для восьми пудов вина покупателя, соберу вырученные деньги и, как только малость потеплеет — в морозы, говорят, туда не добраться, — отправлюсь. Обойду весь тот Овреск вдоль и поперек, и, чует мое сердце, не может быть, чтобы не нашла я моего Левана. А то и вовсе на улице его встречу и узнаю… Вдруг он имя свое скрывает; может, что с ним приключилось, и стыдится настоящую фамилию назвать. А что? Все мы люди…
А Лиза Цицликашвили мне свое твердит: «Откуда такое легкомыслие! Вот всполошилась! Оставь свои старые кости в покое. У него, верно, и жена есть, и дети, да и внуков тоже хватает. Зачем ты ему? Если б ты хоть крепких парней родила ему и вырастила…»
Да пусть они будут, сынок: пусть будут — и жена и дети, пусть он хоть цепью к тому Овреску прикован, у меня своя забота и свой интерес. А как же!
Разве Лиза поймет меня, сынок. Девятнадцать ему было, мальчишка! — с тех пор не видела. Какой он? К лицу ли ему грузность — возмужал же ведь, потяжелел? Легла ли седина на его кудри? Красиво ли состарился? Гляну только и вернусь в свои Кожрети. Должна его увидеть, слышишь? Иначе сны меня с ума сведут. Как эту телеграмму получила, каждую ночь у окна стоит и зовет: «Тамара, что же ты уснула так крепко, что не откликаешься. Сил у меня больше нету звать…» Вскочу, а он улыбнется мне свой открытой прямодушной улыбкой, улыбкой девятнадцатилетнего парня, и, пока дотащусь до окна, уходит, с темнотой смешивается.
Нет, должна его увидеть. Отягощенного годами, обветренного жизнью, постаревшего — должна увидеть моего Левана — стыдно в мои годы любить девятнадцатилетнего парня.
Весна на носу. Теперь скоро потеплеет, листья на лозе окрепнут, пройдусь разок с садовыми ножницами по винограднику, прорежу его да и поеду.
Перевод А. Эбаноидзе.
НАБРОСОК ПОРТРЕТА И ПОПЫТКА АНАЛИЗА…
Мы познакомились давно, в начале вязких семидесятых. Группа грузинских писателей направлялась в Италию, разумеется, через Белокаменную, я же в очередной раз отмерял наезженный маршрут Дзирула — Москва. В разговорах коротали долгую дорогу, вспоминали забавные эпизоды, байки, анекдоты… Я припомнил случай из спортивного прошлого — как мой приятель угодил отскочившим молотом в тренера, в результате чего тренер — закоренелый холостяк — наконец-то женился на выходившей его медсестре… Посмеялись, поахали, подивились прихотям Амура. Один только Реваз свесился с верхней полки, взял записную книжку и, усмехаясь в усы, черкнул в нее несколько слов. (Через много лет эпизод всплыл в его рассказе «Молот».)
Надо сказать, что без него многочасовые посиделки под стук колес немало потеряли бы в своей привлекательности.
Он замечательный рассказчик — остроумный, артистичный, раскрепощенный, частенько и сам предстающий в своих рассказах объектом юмористических наблюдений и шаржирования. Дар имитации, воспроизведения лексического и даже мимического своеобразия чужой речи у него почти андрониковский; а за этой способностью, как мы узнали из опыта незабвенного Ираклия Луарсабовича, кроется острая наблюдательность, умение заглянуть в тайники человеческой души, увидеть ее силу и слабость. (Покамест я толкую не о рассказах, помещенных в книге избранного, оценка которых целиком в компетенции читателя, а об устном, так сказать, разговорном творчестве Реваза Мишвеладзе.)
Некоторые грани устного рассказчика несомненно отразились и на его писательской манере: прежде всего, интонационная живость и резко выраженная характерность диалогов. Речь мишвеладзевских персонажей настолько с л ы ш н а, что не нуждается в авторских ремарках и пространных характеристиках, так же, как и в популярном у некоторых писателей «оживляже» в виде повторяющихся оборотов, словечек и междометий; слышен не только музыкальный рисунок и ритм, но даже как бы тембр голоса его героев. Возможно, что в моем восприятии дополнительно срабатывает родственная, что ли, близость, поскольку чаще всего герои Мишвеладзе изъясняются на родном мне имеретинском диалекте. Впрочем, склонный к повествованию от первого лица, писатель с тем же успехом воспроизводит и другие диалекты грузинского, а также относительно нейтральную речь горожан-тбилисцев с ее разнообразными оттенками. К сожалению, речевая нюансировка почти не поддается переводу, и русскому читателю остается поверить мне на слово и попытаться собственным воображением восполнить пробел.
Первый сборник Р. Мишвеладзе вышел в Тбилиси лет двадцать назад. Дебютировать в тридцать с гаком по нынешним меркам не рано, но и не поздно — в самый раз. Однако для Реваза Мишвеладзе были оправдывающие задержку причины, так сказать, смягчающие вину обстоятельства: ко времени литературного дебюта он успел защитить докторскую диссертацию в области филологии и стать профессором тбилисского Университета. Солидная научная оснащенность не отяжелила и не притупила его пера — случается и такое. Он сохранил свежесть и непосредственность и выраженную творческую индивидуальность. В бескрайнем море литературы опорой и ориентиром он выбрал Чехова и Давида Клдиашвили. Из современников ему ближе других Василий Шукшин и Резо Чеишвили. С последним его сближает еще и общность исходного материала — неисчерпаемый Кутаиси, вскормивший также музы третьего Реваза — Габриадзе. Однако если Резо Чеишвили в своих раздумьях о несовершенстве человеческой природы напоминает мудрого и грустного врача-терапевта, не возлагающего особых надежд на снадобья, то Р. Мишвеладзе похож на решительного хирурга, верящего в свой скальпель…
Мастерство росло быстро, и скоро Реваз Мишвеладзе занял видное место в грузинской литературе, что, в частности, нашло отражение в присуждении писателю престижной премии в области новеллистики. Признание пришло на волне очевидного взлета грузинской прозы, а ведь завоевать читателя и утвердить себя в литературе, где работает целая плеяда первоклассных мастеров, задача не из легких. Реваз Мишвеладзе успешно решил ее.
Так что же обеспечило ему успех?
Я подчеркнул бы социальную остроту, смелость и целеустремленность писателя. Его ирония и сарказм оттачиваются и обретают новые краски. Склонность к гротеску мобилизовывается для высвечивания чудовищных нелепостей нашей жизни. Сборники его новелл — это целый театр абсурда времен застоя и перестройки!..
Наивно-простодушный пропагандист обращается с взволнованной речью по местному радиоузлу к работникам и работницам текстильного комбината и не знает, что микрофон отключен… (рассказ «Нет аэропорта»). Одинокий работник музея, пожертвовавший все свои сбережения многодетной семье, подпадает под подозрение и чуть не кончает жизнь самоубийством… («Благодетель»). По указанию сверху город готовится к встрече высокого гостя — целый месяц на стадион сгоняют на репетиции школьников со всего города, возводят трибуны, режут на ленты шелк и из дефицитного материала сколачивают гигантскую радугу, но в последнюю минуту сверху сообщают, что гость изменил маршрут поездки… («Радуга»). Ни в чем не повинный чиновник-трезвенник понемногу привыкает к своей койке в вытрезвителе и тягостному соседству, поскольку местная милиция недовыполняет план по борьбе с пьянством; писатель не забывает отметить, что у лейтенанта, везущего в ЛТП полный «воронок» алкашей, голова трещит со вчерашнего… («Выпивоха»).
Такого рода ситуаций в рассказах Мишвеладзе множество. Чего тут больше — цепкой писательской зоркости или фантазии? Скорее всего, срабатывают оба свойства: подмеченное в жизни художественно преображается и рождается новая реальность.
Читая Мишвеладзе, порою чувствуешь себя в паноптикуме: зрелище тягостное, даже страшное. Приметы деградации и нравственного распада увидены и выявлены писателем задолго до «дозволенной смелости», в пору самого махрового застоя. Далеко не все из написанного удавалось тогда напечатать, во всяком случае в Москве. Помню непреодолимые трудности, связанные с публикацией «Радуги». В высшей степени показательно, что коллизия этого рассказа повторилась в реальности вплоть до деталей. Попробуй разберись: рассказ ли воспроизвел абсурд и нелепость жизни, жизнь ли разыгрывалась по абсурдному сценарию…
Но в этой затхлой атмосфере, в ирреальном кошмаре среди алчных, тупых и чванливых рож тут и там мелькают человеческие лица. Обыкновенные. Живые. Прекрасные. Это старик из рассказа «Зима», ради чувства человеческого единения и солидарности разрушивший в снежную зиму свою крепкую еще кукурузницу; и молодой пастух Тома, привезший сыр на рынок и в ужасе бегущий от обнаглевших хапуг («Тома»); и инструктор верховой езды Арчил, отпускающий на волю заезженных ипподромных лошадей («Скачки»), и упрямый Гогиа, герой одноименного рассказа, с риском для служебной карьеры катающий в коляске милицейского мотоцикла мальчишек со всей округи… Слава Богу, их много — этих симпатичных человеческих лиц! Во всяком случае, не меньше, чем масок в паноптикуме.
Разнообразнейшая галерея характеров, типов и темпераментов в рассказах Мишвеладзе, все — от подонков до рыцарей, объединены одним родовым свойством, одним признаком — они грузины. Разумеется, речь не об анкетных данных. Национальное проявляется в них в разной степени и по-разному, но всегда отчетливо и внятно. Чтобы лучше понять меня и убедиться в справедливости моих слов, достаточно прочитать рассказы про красавицу Фатьмушу, так и не утолившую своего артистического призвания, вольнолюбивого Гуджу, взбунтовавшегося против режима секретности в родном городке, или чудака Хитию, совсем по-кутаисски прожившего туристическую неделю в Париже…
И еще одно характерное свойство новеллистики Р. Мишвеладзе — ее злободневность. Писателю случалось в запальчивости срываться на фельетоны, но в лучших вещах он глубок и художественно убедителен.
Так в рассказе «Пинок» писатель с подлинным блеском описывает явление, характерное для современных провинциальных городов: процесс урбанизации в них так стремителен, что человеческая психология не поспевает за каждодневными переменами. Бедняга Ваня — герой рассказа — еще чувствует себя жителем старого доброго Кутаиси, где каждый знал каждого и всегда был готов удружить, в особенности в таком деле, как прием тбилисского гостя — перед тбилисцем нельзя ударить лицом в грязь… Но теперь город живет по иным законам, в нем все переменилось и трудно, болезненно вырабатывается иной уклад, чуждый кутаисскому характеру. «Ножницы» между старой психологией героя новеллы и новой психологией города не только на каждом шагу порождают смешные коллизии, но и наводят на грустные размышления. У этого юмора горьковатый привкус.
Критика верно заметила, что персонажи Реваза Мишвеладзе проявляют себя в острой парадоксальной фабуле, опирающейся на необычный человеческий тип — чудака, простака, «святого». Я бы добавил сюда пройдоху.
Необычных, острых ситуаций и чудаков в рассказах Мишвеладзе много. Было время, когда мне казалось, что он начнет повторяться. Теперь мне так не кажется. Я понял, что он неистощим.
Но, как ни парадоксально, такое разнообразие грозит обернуться своей противоположностью. Видимо, писатель сознает это и тематическое расширение «по горизонтали» время от времени сменяет на движение вглубь — ищет новую форму рассказа, способствующую более глубокому проникновению в психологию персонажей, новую — для себя — интонацию.
Позволю себе короткое отступление и напомню притчу великого Леонардо: «Кедр пожелал вырастить прекрасный и большой плод на самой своей верхушке и всеми силами своих соков осуществил это. Но когда плод вырос, то стал причиной того, что стала гнуться высокая и прямая макушка кедра». У каждого художника свое призвание и предназначение, своя горница в доме Господа. Бунин вряд ли преуспел бы в сатире, а Зощенко в лирике. Поучительно, что Чехов не писал романов, а Беранже — романтических баллад.
Однако психология творчества остается загадкой. Что это так, подтвердила «Телеграмма» Реваза Мишвеладзе — рассказ, исполненный поэзии и сдержанной патетики, согретый нежностью и чистым нравственным чувством. В нем всего несколько машинописных страниц, но, как говорится, мал золотник, да дорог…
Рассказ написан как монолог стареющей кахетинки Тамары Шавкурашвили: восемь месяцев назад ей принесли телеграмму из какого-то Овреска — некто Василий Караваев запрашивал, как она живет и чем занимается. Тамара уверена, что за этим незнакомым именем скрывается ее Леван — муж, который через три дня после свадьбы девятнадцатилетним парнем ушел на войну, а ей — шестнадцатилетней солдатке — велел ждать. И вот она прождала сорок лет и не жалуется на судьбу. «Разве ж это не счастье, сынок — ждать любимого? Сорок лет прошло, как сорок дней». Она поставила на ноги всю почту и военный комиссариат, требуя выяснить, кто послал телеграмму; в конце концов, не получив ответа, Тамара решает продать своих овец и запас крестьянского вина и на вырученные деньги отправиться на поиски. Ее отговаривает молоденькая соседка, которую она сумела убедить в том, что телеграмма от Левана: «Да у него там верно и дети, и внуки. Зачем ты ему?» «Лизе меня не понять, — думает Тамара. — Пусть у него и жена, и дети, пусть он хоть цепями к тому Овреску прикован — у меня свой интерес. Должна его увидеть. К лицу ли ему грузность, потяжелел ведь, небось — сколько лет прошло. Примешалась ли седина в его густую шевелюру. Красиво ли состарился… Стыдно мне в мои годы девятнадцатилетнего парня любить». Это — преданность грузинки. Ее верность семье, супружеству, роду.
После трагических событий 9 апреля мне не раз доводилось слышать: «Почему на площади среди митингующих оказалось так много женщин, в том числе пожилых?»
Маленький рассказ Мишвеладзе исчерпывающе отвечает на этот вопрос.
Время летит быстро, в особенности за перевалом, под гору. Вот и наше поколение отметило первые юбилеи, подвело первые итоги. К их числу относится этот том избранного в переводе на русский. Рассказы Реваза Мишвеладзе опубликованы на многих языках далеко за пределами родины, их своеобразие привлекает редакторов и издателей. При встречах в Москве мне часто доводилось слышать от них заинтересованный, с оттенком нетерпения вопрос:
— Что нового у Мишвеладзе?
— У Мишвеладзе много нового, — успокаивал их я и, как правило, не ошибался.
Думаю, что так будет и впредь.
АЛЕКСАНДР ЭБАНОИДЗЕ
Примечания
1
Мчади — род кукурузной лепешки.
(обратно)2
Чури — глиняный сосуд для хранения вина, зарываемый в землю.
(обратно)3
Годори — большая, плетенная из прутьев корзина.
(обратно)4
Пригород Кутаиси.
(обратно)5
Отарова вдова — персонаж известной повести классика грузинской литературы Ильи Чавчавадзе.
(обратно)6
Гоми — блюдо из кукурузной муки.
(обратно)7
Калбатоно — уважительное обращение к женщине.
(обратно)8
Илья Чавчавадзе — грузинский поэт, писатель, общественный деятель (1837—1907).
(обратно)9
Доли — грузинский национальный инструмент, род барабана.
(обратно)10
Кукурузная лепешка.
(обратно)11
Столовая зелень (кресс-салат).
(обратно)12
Столовая приправа из растения того же названия (сассапариль).
(обратно)13
Ода — крестьянский дом в Западной Грузии.
(обратно)14
Мера веса, равная приблизительно 20 фунтам.
(обратно)15
Нарды — восточная игра в кости.
(обратно)


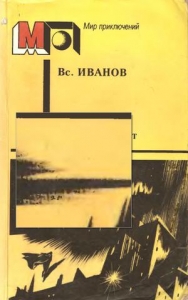
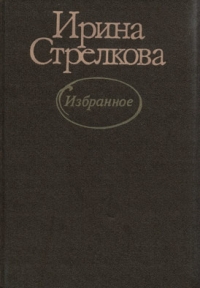
Комментарии к книге «Избранное», Реваз Авксентьевич Мишвеладзе
Всего 0 комментариев