Вячеслав Шугаев СТРАННИКИ У КОСТРА повести и рассказы
«Современник»
Москва. 1986
Рецензент
Н. ВЕРЕЩАГИН
© Издательство «Современник», 1986.
Очертания родных холмов Повесть
I
Двадцать пять лет не был на родине. Говорю не с элегическим вздохом: ах, как годы летят, — а с трезвостью, не ищущей оправданий: ничто не принуждало меня придавать свиданию с Мензелинском черты юбилея. Приезжал из Иркутска в Москву, проматывал дни (увы, и не только их), дожидаясь издательских и журнальных приговоров, и порой в столичной мороке проклевывалось слабо и невзрачно: а может, слетать, может, пока суть да дело, приземлиться в Набережных Челнах, а от них до Мензелинска всего пятьдесят верст? Но этот робкий и участливый голосок легко глушился многоголосьем суеты. Как-нибудь потом, успею, нужно быть здесь — наши жизненные движения полны небрежения к ближним своим, приводящего впоследствии к некой неутешимости: и рад бы замолить былую черствость, да никому уже твои молитвы не нужны.
Мензелинск с отчим великодушием сам разыскал меня — написал товарищ детства: «Сколько же можно пропадать?» — и, скоро ли, долго ли, письмо заставило собраться, сесть в самолет, приникнуть к окошку, чтобы не проглядеть октябрьское, желтеющее пространство родины. О тучах и тумане даже не подумал — детство покоилось в солнечных днях с короткими слепыми дождями и, казалось, имело власть и над теперешним неустойчивым небом.
В самом деле, не вижу в детстве ненастья — лишь тихие солнечные вечера, летнюю дремотную необъятную благодать с муравчатым берегом Мензелы и парной водой Кучканки, розово-синий снег под заборами да курящиеся конские кругляши на слепящих, раскатанных санями дорогах. Памятна, верно, одна гроза, да и то своим мрачным, грохочущим гнетом: ходили мы за дамбу, в орешник, возвращались пшеничным полем, где и настиг нас ливень с молниями и прижимающим к земле громом, и вот под «раскаты молодые» вдруг закричал Колёля Попов: «Ребя, выкидывай все железки! Железки молнии притягивают!» Полетели в потемневшую, приникшую пшеницу гайки, гвозди, перочинники и медные солдатские пуговицы, на которых держались наши послевоенные штаны. Путаясь в них, судорожно подтягивая, добрались до Мензелы, спрятались под мостом, а прозрев и опомнившись, увидели, что на Колелиных штанах пуговицы целы, и сам он умирает со смеху. Мы шли по дамбе, подпоясавшись кто проволокой, кто соломенным жгутом; солнце уже сушило тесовые крыши Мензелинска, и окутан он был праздничным, дрожащим парком — вовсе не хочу надоедать многозначительной темой о безоблачном детстве, просто вёдро тогда еще, видимо, не зависело так от окружающей среды и непогода не запоминалась так, как нынче.
В Набережных Челнах увижусь с Колёлей, Николаем Андреевичем Поповым, прокурором Мензелинска, отцом взрослого сына и дочери-школьницы (знаю об этом из писем), и тогда в полную меру пойму, что делают с нами годы; пока же у самолетного оконца тасую незатейливые и немногочисленные видения: мы за Мензелой в Дубовом колке, спрятавшись за кустами, смотрим, как учатся стрелять допризывники, — показаться или приблизиться к ним нельзя, суровый военрук немедленно прогонит. Колёля с испуганно вытаращенными глазами ползет от соседнего куста: «Смотри, пуля как чиркнула!» В золотисто-льняном ежике промята темная дорожка. «Отползать надо, сматываться!» Мы по-рачьи пятимся, потом бежим до седьмого пота и, лишь отдышавшись, вспоминаем, что допризывники стреляли в другую сторону и пуля могла задеть Колёлины волосы, разве что совершив кругосветное путешествие… Идем в Байляры на речку Ик, по лесной тропе, и вдруг Колёля целится из рогатки в верхушку сосны, целится долго, тщательно, мы головы устали задирать. Колёля медленно опускает рогатку: «Эх, блин, улетел!» — «Кто, кто!» — «Да комару в глаз целился!» Почему мы его звали Колёлей? Может быть, озорной суффикс «ёл» передавал сущность его натуры, хотя о суффиксах тогда мы и понятия не имели.
У аэродромной ограды на морозном, солнечном октябрьском ветру шагнул навстречу матерый мужчина со строгим, резким подбородком и холодновато-голубыми глазами.
— Здравствуй, Коля! — Мы обнялись, детство проплыло над нами далеким-далеким эхом.
И совсем оно умолкло, когда руку протянул лысеющий, полнеющий мужчина — только по ярко-синим кротким глазам узнал Валерия Петрова, племянника Николая, однажды приехавшего в Мензелинск нежным, прелестно картавившим мальчиком, — мы, уличная жестокая безотцовщина, с неожиданным единодушием приветили его, как могли, оберегали от синяков и шишек, а пуще всего от обиходного уличного мата, который так не соединялся с кроткими синими глазищами Валеры. Если все же он, не удержавшись от соблазна быть как все, выговаривал нечто непристойное розовыми, парными устами, мы отводили его на расправу к дяде, и Колёля грозно приказывал, складывая пальцы для щелчка: «Ну-ка, повтори, что сказал!» Теперь Валерий живет в Нижнекамске, стерлись черты ангельской безгрешности, так смягчавшие и умилявшие нас, но, как потом я узнал, осталось доброе сердце, сделавшее его хорошим врачом и человеком.
В стороне от наших объятий стоял человек со смуглым невозмутимым лицом; высокая покатость лба в каштановых кудрях, тень Азии на припухших скулах и темных губах. Видел его, помню, но кто он?..
— Не узнаешь? Гена Ащеулов.
Да, да, Гена Ащеулов, жил на Советской, наискосок от нас, когда мы квартировали у Сумзиных. Помню, во время какого-то уличного раздора он погнался за мной, запнулся, ахнулся в лужу и, приподнявшись в грязи, с неукротимой обидой и страстью кричал что-то вслед… Оказалось, он тоже живет в Нижнекамске. Я спросил, почему он уехал из Мензелинска.
— Из армии вернулся, решили с Галиной расписаться. А она уже институт закончила, невеста с высшим образованием. Я вроде как не пара ей — было такое настроение у ее родителей. Ну, мы, чтоб ничьи нервы не испытывать, взяли да уехали в Тольятти. И чуть было не вернулись. Ходим, ходим — никто на квартиру не пускает. На лавочке посидим, передохнем — и дальше в поход. Вижу, Галина еле держится, вот-вот и в слезы. Ладно, говорю, еще в этот дом постучимся, если не пустят, — назад. Стучусь, открывает старушка, впрочем, не такая уж и старушка была. И так сошлось, что сын ее тоже в чужих краях, у чужих людей живет. Пустила она нас. Пять лет в Тольятти прожили: днем я у станка, вечером высшее образование получаю. Получил диплом инженера, и засобирались с Галиной домой, да вот осели в Нижнекамске. Но в Мензелинске я каждую субботу бываю. Мать там, тесть с тещей. Вообще тянет.
Вот встретились и замешкались на ветру, не находя пока нужного тона, не зная, как это новое знакомство превратить в старое.
— Ладно, поехали. В Мензелинске баня топится.
Поехали. Засвистело, завыло за окнами, с неуютной силой и старательностью продувалось прикамское поле. Левее по берегу тянулись и никак не кончались Набережные Челны — складские постройки, заводики, трубы, какие-то резервуары.
Облик города сквозь них почти не проступал.
— Может, заглянем, — Николай махнул в сторону невидимых улиц и проспектов. — Замечательный город вырос. Проедемся, посмотришь.
— Чем же он замечателен?
— Новый, просторный, глаз не оторвешь.
— Так уж не оторвешь?
— Серьезно, чудесный город. Современный — бетон, стекло, мозаика…
С забавной, сиюминутной отстраненностью показалось, что начавшийся разговор повторяет расхожую ситуацию из какого-то расхожего романа: патриот своего края расхваливает свое болото, а заезжий скептик убеждает его, что это болото не самое лучшее.
— Согласен, Коля. Только не сегодня. Не терпится на Мензелинск взглянуть.
— Насмотришься еще. Там особых перемен нет. — И мы вздохнули: Николай, должно быть, с сожалением, а я, каюсь, с облегчением: не дай бог приехать на родину, а на ее месте — новый город, ставший родиной для кого-то.
Дня через три побывали в Набережных Челнах, действительно просторном и современном городе, то есть построенном из бетона, стекла, панелей, блоков, кирпича. Широкие улицы, обилие газонов и цветников, обилие многоэтажных жилищ, дружно отражающих промытыми перед зимой окнами невеселое октябрьское солнце.
— Здорово, да?! — все приглашал Николай разделить его восторг новыми Челнами и звал еще посмотреть само строительство, а я все неопределенно гмыкал, молча ежился от камского сквозняка, не решаясь остудить гостеприимный пыл скучным вопросом: «А что здорово-то?» — но и вовсе не откликнуться не мог:
— Примерно как в Братске. Или — в Тольятти. Или — в Усть-Илимске.
— Значит, не нравится. — Николай еще раз огляделся, вновь удовлетворился современным очертанием Челнов. — А зря. Законный город. — В устах прокурора эпитет этот звучал убедительно, и я согласился:
— Город как город.
— Залезай в машину. На экскурсии летом надо приезжать…
— А я, Коля, в Мензелинск приехал. В старый, маленький, тесный городишко…
— Ясно, ясно. Но который тебе дороже всяких Челнов. Или как вы там пишете?
— Можем и так. А ты лучше скажи: что за ягода росла по огородам? У плетней, в лебеде, то прозрачно-медовая, то черная, как смородина, — слаще не встречал и нигде, кроме мензелинских огородов, не видел.
— Броняшка. Пропала куда-то. Вроде для того только и появилась, чтоб жизнь подсластить. И пропала.
— Да, правильно, броняшка. Сколько мучился, никак не мог вспомнить.
И мы охотно вернулись в послевоенный Мензелинск, к балаганам в осенних огородах, к сабантуям в Буранском лесу, к Пугачевскому валу с возбуждающими мальчишескую душу находками: ржавый обломок сабли, ядро, ржавая же рукоять пистолета…
Вот так и рассеялось сгустившееся было желание поговорить об унынии, исходящем от наших городов, построенных с младенческой, полорукой старательностью из одинаковых кубиков и параллелепипедов. Хотя вряд ли бы у меня хватило жара (Николай-то приемлет новый город всей душой) ломиться в открытую дверь. Лет десять уже, а то и более слышатся укоряющие и обличающие голоса: остановись, сгинь, архитектурная безликость, ты уродуешь не только землю, но и душу человека, живущего на ней, — однако, сколь ни справедлив гнев и сколь ни гласен, безликость затопляет все новые и новые пространства, и, однажды перелетев из Братска в Набережные Челны и найдя, что проспект Мусы Джалиля продолжает какой-нибудь проспект Энергетиков, только расхохочешься этак растерянно-нервически: «Ну молодцы! Ну молодцы! Их гвоздят, а им все хоть бы хны!» — подразумевая под «молодцами» работников мастерских энского гипрогора. Теперешние города возникают, так сказать, не под дланью новоявленных казаковых и федоров коней, а под номером той или иной мастерской: не с кого спрашивать и некого ругать. Предположим, на какой-то миг стал бы я обладателем дьяконского баса, чтобы, опечалившись унылой застройкой Челнов, мог выйти на камскую кручу и гневно пророкотать: «Предаю анафеме за немощь творческую коллектив архитектурной мастерской…» — но тут бы я наверняка споткнулся и умолк: нелепо браниться вообще, не имея под прицелом грешного и упрямо внимающего «раба божия».
Впрочем, безвестные архитекторы могут осадить меня встречной анафемой за экономическое невежество: чем проще, незамысловатей архитектурный замысел, тем быстрее и дешевле воплотить его в дом, в квартал, в город, тем больше будет новоселов, тем больше радости и веселья — этой хоровой анафемой меня просто-таки снесет, сдует с воображаемой кручи, только и успею выкрикнуть в оправдание: «Я тоже за простоту и незамысловатость, лишь бы выражали они радостную душу соотечественника! Не кубическая же она у него, не параллелепипедная!»
Говорят, в Грузии, Узбекистане, в Прибалтике архитекторы настойчиво придают облику новых городов черты национальных характеров, как он веками отражался в камне и дереве, то есть социалистическому содержанию нашей жизни (разумеется, в него входят и понятия дешевизны, технологической простоты строительства) сообщают национальную форму. А вот на российских просторах национальный характер архитектуры почему-то не всегда проглядывает сквозь геометрию.
А славно бы однажды подплыть или подъехать к какому-нибудь современному Великому Устюгу или Суздалю, и открылись бы на высоком берегу или на холмах средь чиста поля некие белокаменные строения: библиотеки ли, театры ли, музеи, перенявшие от прежних храмов вознесенность и волшебную, праздничную отрешенность от житейщины, чтобы путник или гость еще издали поразился духовной щедрости города и заранее готовился бы, говоря старомодно, вкусить от щедрот сих.
И, погостив день-другой, приглядевшись к жителям, наверняка бы обнаружил, что у города свой норов, норов этот, возможно, когда-нибудь отличит поговорка или присказка, на манер тех, какие мы еще нет-нет да и вспоминаем: «Кострома — веселая сторона»; «Город Архангельский, а народ в нем диавольский»; «Тверские вприглядку с сахаром чай пьют»; «Кадуй — бока надуй»; «Во Владимире и лапшу топором крошат…»
Покамест мы ехали полем — черная, комкастая зябь заняла и придорожные полосы, плотно сжав асфальт, вроде бы он временно и незаконно лег здесь на пашню. Нет-нет да и подталкивало, как выбоина на асфальте, дикое соображение: дорога без обочин все равно что речка без берегов… Остановились у беленого бетонного столба — за ним (простительна некоторая торжественность) простиралась мензелинская земля. Ветер над ней и низкое холодное солнце; желто-черные просторы полей, занесенных, казалось, стылым, сумеречным посвистом, вырывавшимся из березовых колков и перелесков. Товарищи мои отошли за машину, прячась от ветра и, должно быть, давая мне возможность почувствовать встречу, пристально вглядеться в эти полузабытые поля.
И душа моя — скажем так — странным образом занемогла. Соединяясь с октябрьскими пустынными далями, видя с особою ясностью каждую ложбину, промоину, каждый опахальный куст шиповника, она не размягчалась от радости узнавания, от должной бы проснуться родственной приязни к той вон одиноко желтеющей тропе, а заклекла в каком-то растерянном напряжении. То ли была не готова к встрече, то ли не отыскала пока той единственной, растопившей бы будничность ее состояния картины: дерева, ручья, серого валуна с застывшей на нем вороной, некого движения воздуха, облака, переместившего бы и ее в давнее и дорогое? То ли не знала, для чего ей эта встреча, что от нее ждать: боли, ностальгической эйфории, утешающего, покойного отстранения от теперешних дней?
А может быть, смутность встречи, неяркость ее и какая-то дробящаяся суть означали лишь пасмурную настороженность — при моем появлении — денно и нощно работающей земли: что скажешь? зачем пришел? с чем пришел? Может, в самом деле эта пашня, эта стерня, этот боярышник с последними лиловыми листьями требовательно вопрошали: как жил? Или: как живешь? — а я не понял, не расслышал в самонадеянных усилиях собрать воедино кустики и ложбинки и возликовать, отпраздновать встречу с родиной — тут уж совсем недалеко до умилительной транзитной слезы, но оставим ее для других страниц.
…В июльский полдень — вспомнилось — подъезжали мы к Куликову полю. Сквозь многоверстую полуденную прозрачность заискрились перед нами кресты храма, и началось жадное запоминание окрестных холмов и дубрав. Началось томительное гадание: для чего запоминаешь? что тебе здесь надо?
Да, реяли над этим пространством давние княжеские стяги, бурела от крови Непрядва, черная пыль застилала сечу. Иные хрестоматийные видения могли бы, наверное, усыпить мою растерянность, но ненадолго: что сделать для этого полдня, что оставить в нем, как не затеряться в Поле — ходил и ходил я вокруг храма, держался за теплую цепь, опоясавшую памятник, увязал в илистом дне Непрядвы, и нарастало чувство странной вины. Что-то ведь ждало Поле именно от меня и от каждого приходящего что-то ждет, а мы не знаем, как осуществить этот личный долг. И неловко от щедрости его: на, смотри, запоминай, касайся моих камней, лежи на моей траве, мне от тебя ничего не надо, — одолевает суетное желание немедленно рассчитаться за эту щедрость, и уезжаешь большим должником, чем был, не видя Поля.
А скорее всего, смысл этого июльского приближения к Полю был в том, чтобы когда-нибудь и где-нибудь вспомнить о его бескорыстии и попытаться распространить его и на собственную жизнь.
Впрочем, я все ищу смысл, доступный выражению, а должно быть, напрасно: и Куликово поле и теперь вот это — Мензелинское — напоминают, возможно, о такой необозначимой связи с ними, что мои старания указать на нее, душевно «вычислить» весьма неуклюжи.
В Мензелинск въезжали под мелким, неторопливым дождем, добавившим сумеречности (или призрачности) нашему свиданию. Я вглядывался в мокрые, темные дома; конечно, ни одно бревно в них не помнило меня, прочитывал вывески и плакаты, при слове «Мензелинск» еще и еще раз убеждаясь, что я в родном городе, в каждом прохожем искал и, казалось, видел знакомого, но не мог вспомнить ни имени, ни фамилии. А Николай не сомневался в моей памяти:
— А вон тот самый овраг.
— Какой тот самый?
— Где пещеры рыли.
— Что-то неглубокий стал.
— А тот дом узнаешь?
— Да-да, припоминаю… А вот и Нардом, — обрадовался я, узнав здание из красного кирпича и сразу вспомнив праздничное чувство, с каким мы кружили здесь в дни гастролей фокусника Абдулы или женщины-змеи.
— Теперь тут Татарский театр драмы. Между прочим, знаменитый — по всей стране ездит. Ну, приготовься, сворачиваем на Советскую.
На этой улице мы с матерью квартировали у Сумзиных. С Володей, их сыном, строили на задах: огорода балаган, так сказать, для уединения и вечерних, мальчишников — всласть поговорить, побаловаться табаком, печеной картошкой; напротив жили Елховы — большая, веселая, гостеприимная семья, в их дворе я пропадал и зимой и летом — витал там особый дух ребячьей вольности и выдумки; на этой улице старший брат выбрал себе жену; здесь, ближе к Лесной площади, у заборов всегда лежали сосновые бревна, на них мы и просиживали долгие летние вечера. На них я и запомнил на всю жизнь, как пахнет летний вечер в провинциальном городке: горячей смолой, остывшей пылью на лопухах у забора, парным молоком, медвяностью раскрывшихся табаков в палисадниках и свежим, полевым, розовым от заката покоем, нисходившим на нас вместе с вечером. По этой улице почему-то очень любили прогуливаться парочки (так и говорили тогда; он гуляет с такой-то, она гуляет с таким-то, — подчеркивая этим глаголом невинность и начальность романов — всего лишь гуляют по улице), мы пугали застенчивых, деревянно идущих кавалеров внезапным хоровым мяуканьем и лаем, а порой и спасали от позора чересчур нагулявшегося — он устремлялся с дороги к нашим бревнам с каким-нибудь пустым вопросом: «Сеньки здесь нет?» — хотя Сенек на Советской не жило, — и тотчас же нырял в лебеду за бревнами, успев попросить сквозь сжатые зубы: «Пошуми, братва, погромче». Мы дружным хохотом заслоняли звучное журчание.
Теперь по улице бежали унылые октябрьские ручьи, дом Сумзиных принадлежал другим хозяевам. Юрка Елхов, наш румяный и рассудительный коновод, строил где-то железную дорогу, не было бревен у заборов — поредели мензелинские леса, — я узнавал и не узнавал Советскую, и это состояние «узнаванья-неузнаванья» будет преследовать меня в Мензелинске, будет являть неожиданно забытые лица, события, случаи и будет настойчиво приобщать к простой истине: прошлое всегда с нами, но черты его сквозь сегодняшний октябрь или, допустим, август утратили свежую, праздничную резкость, смягчились печально и буднично или, точнее, приобрели выражение устойчивой, неулыбчивой трезвости.
А вот и дом Николая, и над занавеской старчески внимательное, неузнающее лицо его матери — Марьи Николаевны.
Позже нам захочется пройтись по ночным улицам под редким, каким-то усталым дождем мимо монастырских стен, конного двора, мимо школы, где все мы учились, мимо пожарной каланчи на улице Розы Люксембург, где я жил последний мензелинский год, и выйти наконец под вспышки: «а помнишь? а помнишь?» — на окраину города, к дамбе, к удивительному стальному мосту через Мензелу. Постоим, приятельски похлопаем по мокрым заклепкам мостовых дуг и отправимся назад. У одного окраинного домишки Николай замедлит шаг. «В такую же ночь меня сюда вызвали. Тягчайшее преступление». Николай рассказал одну из своих прокурорских историй, где было много жестокости и запредельного, дьявольского расчета.
Я почувствовал, что детство, так пылко и нежно разросшееся нынче в душе, сжимается, съеживается, занимает область, несовместимую с теперешними областями.
Утром пошли с Николаем на кладбище — я надеялся разыскать могилу отца по приметам, сказанным матерью: «Сразу за церковью, под тремя березами». Дождя не было — так, туманная морось без ветра, похожая на апрельскую, предпасхальную. Мы когда-то квартировали с матерью у сестер-монашек, наверное последних в Мензелинске, этаких маленьких, чистеньких старушек, доживавших век без монастыря, в своем доме, и они таскали меня каждый день в церковь (запомнилось: весна, ветки вербы набухают серебряно на подоконниках) по такой же вот жидкой грязи, а чтобы не скучал и не канючил, набивали мои карманы просфорами, которые сами и пекли.
— Коля, мы с тобой за сиренью на кладбище ходили? Помнишь, ночью, на спор, без фонарика?
— Нет. Может, с Юркой Елховым или с Вадькой Барышниковым.
— С каким Вадькой?
— Эвакуированный был из Ленинграда. Вы еще с ним путешествовать собирались. Сушеной моркови тогда набрали — и на трехколесном велосипеде. Один в седле, другой на запятках. До дамбы вроде докатили. Неужели не помнишь?
— Помню, помню… — неуверенно начал я. — Да, да, вспомнил!
Мать честная, конечно, я не забыл Вадьку Барышникова, но годы так странно и далеко отодвинули его, что вроде бы и забыл. В пятьдесят девятом я оказался в Ленинграде и разыскивал Вадьку. Заполнил у справочного киоска листок, где примерно называл Вадькин возраст, не мог назвать отчества, не помнил, как звали-величали его мать, но зато точно указал место эвакуации. Мне дали адрес, теперь уже тоже забытый; помню двор колодцем, ржавый фонтанчик во дворе, темную широкую лестницу, старуху со смутным лицом, открывшую дверь и сказавшую, что он где-то в Сибири, при геологах, так и сказала — при геологах.
Отчаянный, без оглядки лезший в любую драку, он в то же время резко выделялся среди нас какой-то взрослой сметливостью и самостоятельностью (блокада проглядывала в нем вдруг старичком, но он никогда не говорил о ней), мы были с Вадькой не разлей вода. Как глубоко упрятала его память!
Наверное, с ним мы ходили ночью на кладбище. А подбил нас на этот поход Роберт, сын очередной квартирной хозяйки, красивый, гибкий, с персиковыми щеками подросток. Неприятны в нем были черные узкие усики, с какою-то порочной наглостью и резкостью охватившие свежую, пухлую губу. Роберт сидел на крыльце, томился скукой, бездельем, ожиданием золотых своих часов — вечернего гуляния в городском саду, где усики его сводили с ума девочек из фельдшерско-акушерской школы. Мы появились кстати.
«Эй, шкеты! А вот слабо вам на кладбище залезть? В двенадцать ночи. — Слово „полночь“, видимо, показалось ему невыразительным. — На что хочешь спорим, не пойдете». — «А вот не слабо! А вот не слабо!»
Был майский жаркий день, куры дремали в пыли у амбара, и мы ничего не боялись в эту минуту.
«На что хочешь спорим, — повторил Роберт и лениво, презрительно ухмыльнулся — усики чуть перекосились. — Сходите, неделю в кино буду проводить. Нет — по двенадцать коконек каждому».
Роберт показал выдвинутую из кулака загогулинку среднего пальца, им он будет бить по нашим лбам «коконьки», этакие усиленные, с потягом, щелчки. — «А как ты проверишь?» — «Принесете ветку сирени». — «Хоть две!»
До заката мы хорохорились: «Ну, Роба. Всю мелочь из копилки повытаскаешь! Девочкам на мороженое не останется». Мы знали, что у Роберта есть копилка, некая гипсовая фигурка с прорезью на темени, в нее он проталкивал личные, выигранные в орлянку (а он почему-то всегда выигрывал) и заработанные у матери — даром ведра воды в дом не приносил.
Стих закат за пожарной каланчой, небо заглохло до первой звезды, а мы вдруг припомнили: говорят, какие-то бродяги ночуют на кладбище — на днях там костер видели; говорят, вокруг костра и скелеты посиживают; говорят, кто-то бродит в полночь меж могил, стонет, плачет, а то заходится в дурном крике: «Живой крови хочу», — и вроде бы ноги от этого крика отнимаются. Мы, нервно посмеиваясь, храбрились друг перед другом: «Нас на крик не возьмешь».
На каланче пробило одиннадцать. По глухим улочкам, по остывшей ласковой пыли потащились мы к кладбищу, и хоть никто не кричал, не хохотал, не плакал, ноги наши уже отнимались. На выгоне перед кладбищем мы сели в траву, вглядываясь в тихую, вздыбившуюся тьму. «А там вовсе глаз выколи». — «Да это же деревья…»
На каланче ударило полночь.
Если за оградой кто-то есть, он уже слышит, как угодливо перед страхом колотятся наши сердца. Как собачьи хвосты по полу. За оградой — шепоты, шелесты, кто-то покашливает. «Смотри, что-то белое шевелится!» Мы замерли, как бы растаяли в легком туманце над выгоном — души наши без оглядки мчались к городским огонькам.
«Наверно, памятник…» — «Наверно…» — «Пошли?» — «Пошли».
Бесчувственные, с колокольным звоном в ушах перелезли через забор — я неловко спрыгнул, попятился, ткнулся в деревянный крест, ухитрился не вскрикнуть, поднялся с мокрой, липкой травы. Нарочно громко спросил, вдруг до ломоты в теле устав бояться и чувствуя, как от громкого голоса становится легче: «А как же мы сирень-то найдем?» — «На ощупь. Или по запаху». Вытянув руки, задрав головы, брели мы меж могил. Хватались за кусты и, пригибая, шумно, с присвистом внюхивались. «Кажется, вот. Точно, вот».
Прохладные, устало пахнущие кисти коснулись щеки.
На бесшумных радостных крыльях перемахнули выгон, нырнули в теплую, безопасную уличную тьму и вынырнули под окнами Роберта. Осторожно, но все же не скрывая нетерпеливого торжества, побарабанили в раму — молчок. Еще раз, но уже по стеклу — дрогнули занавески, приникло чье-то лицо. «Роба, проспорил, выходи! Держи сирень!» И мы потыкали ветками в окно.
«Я вам постучу! Ну-ка пошли отсюда! Шпана сапожная!» — кричала мать Роберта, не открывая окна, но хорошо было слышно. Мы сползли с завалинки, посидели на лавочке у ворот — интересно, почему мы сапожная шпана? Может, спутала с братьями Харитоновыми, жившими от нас через три улицы, — у них в самом деле отец был сапожник.
«К тебе пойдем? Или ко мне?» Летом мы все спали в сараях, на сеновалах, в чуланах, а чтобы уже вовсе выбиться из-под материнского догляда, каждый вечер отпрашивались друг к другу ночевать — для приключений и похождений были всегда готовы.
Роберт вышел к нам утром заспанный, злой, видимо, вернулся позже нас. Только усики чернели свежо и бодро. Повертел привядшие ветки сирени.
«Чем докажете, что они с кладбища?» — «Так мы ж договорились. Оттуда принести». — «А может, вы у школы наломали?» — «Ну правда, мы на кладбище были! На каланче пробило, и мы полезли». — «Вранье! У школы наломали, — Роберт оживился, приласкал пальцем усики, подбоченился — во всем своем праве и наглости. — Думать надо, когда спорите. — Он отбросил наши ветки. — Подставляйте лоб. Кто первый?» — «Роба, но мы же были!» Я уже понял, что ничего мы ему не докажем, он и спорил-то, предвкушая вот этот кураж. «Ага. Ты сегодня первый. Ну, где наш лобик?»
Я хотел ударить его головой в живот, но Роберт откачнулся в сторону, ухватил меня за шею, пригнул и швырнул с крыльца: «Большой стал, да?» Я схватился за камень, но Роберт снова опередил меня, выбил камень, больно крутнул уши — в бессильной ярости я хоть как-нибудь хотел достать его: ногами, зубами — он, хладнокровно посмеиваясь, не подпускал меня…
— Коля, а ты помнишь этого Роберта?
— И про сирень не помню.
Николай слушал невнимательно, отвлекаясь на частые утренние «здравствуйте», с непременными здесь именем-отчеством и замедлением шага.
— Скоро придем?
— Скоро. В любой конец ходу пятнадцать минут.
Да, конечно, скоро — узнаю́ бревенчатый дом на высоком фундаменте, и тополя у дома узнаю́, и так радуюсь их непропавшей величавости, что чуть не бормочу нечто приветственно-сбивчивое, как при редких встречах с однокашниками. В доме этом жила Света Ибатуллина, девочка со скудными косичками, челочкой, потаенными веснушками, нежно проступавшими лишь в минуты волнения, и серо-зелеными, очень серьезными глазами. Серый, зеленый, голубой цвет глаз вовсе не мой излюбленный, как можно вывести из этих страниц, а устойчивое проявление мензелинских кровей, так что и впредь от синевы в глазах земляков никуда не деться. В третьем или в четвертом классе нас посадили за одну парту, и, когда зазвенел неизбежный ехидный дискант: «Жених и невеста…» — Света, побледнев и враз опушившись веснушками, серьезно сказала: «Не обращай внимания на этого дурака». Я согласно покивал, потирая затылок, — кто-то влепил из резинки туго скатанной бумажной пулькой.
Матери наши были хорошо знакомы, и мы со Светой часто виделись после школы. Порой среди чаепития или веселой болтовни мы вдруг затихали, поддаваясь странной стеснительности и какой-то радостной неловкости, должно быть, вмешивались в эти миги — уже без дневных ухмылок — «жених и невеста», а мы догадывались, смутно примерялись к избирающей, тревожной силе союза «и».
Давним июльским утром шел я к Свете в гости и у монастырской стены встретил двух незнакомых девчонок, тощеньких, с сияющими летними бликами на чистеньких лбах; запомнились взгляды девчонок, этакие холодно пытливые, оценивающие. Услышал, разминувшись, как они заговорили с непривычной уху взрослой, бойкой деловитостью: «Знаешь его?» — «Да это один к Светке ходит». — «Дружат, что ли?» — «Да так пока ходит».
Шел я в тени стены, остывший за ночь кирпич добавлял сырой прохлады, в прорези сандалий заплескивалась холодная роса, но звонкий девчоночий голосок: «Так пока ходит» — тотчас превратил росу в кипяток, утреннюю прохладу в полуденную жару, проломил невыговариваемую тайну — оказывается, она может обернуться прогулочным пересудом. Я пылающим шепотом повторял и повторял: «Ну началось, ну началось», — хотя решительно не представлял: что же началось?
Помнил, за Светиным домом возносился Горбушинский сад, все годы видел его зеленое облако над длинным тальниковым плетнем, а за плетнем — Ивана Борисовича Сумзина, неутомимого мензелинского садовода. Необычайно курносый, веселый, в выгоревшей бессрочной телогрейке, он бесшумно возникал перед тобой, хотя перелезал ты и спрыгивал вкрадчивее кошки. Поднимешься из подзаборной полыни, а Иван Борисович уже беззвучно хохочет, словно заодно с тобой, и манит пальцем. Подойдешь, шепотом спросит: «Чем потчевать прикажешь?» Изнеможешь от навалившейся бессловесности, уставясь в рыжие сапоги Ивана Борисовича, а он тем временем быстрыми и легкими руками обрывает вишню, и только радужки змеятся на пальцах, на сизой окалине загара. И вот обе твои пригоршни полны теплой, пунцово-черной вишни, и внутри каждой ягоды чуть пульсирует, токает продолжающий движение сок. Спасибо не успеешь буркнуть сдавленным от стыда горлом, а Ивана Борисовича уже нет, растворился в вишеннике. Наверное, в саду росли и яблони, и груши, и сливы — не помню. Помню вишню, нежное ее, тихое, бело-розовое цветение, первый румянец на зеленых юных щечках, ее налившуюся покойную упругость, и всегда проходит под ее тугою листвой Иван Борисович в бессрочной телогрейке.
А сторожа в Горбушинском саду были, как на подбор, злые, сухонькие старички, наделенные удивительной прытью: они азартно, без устали гонялись за нами, только мелькали меж деревьев их сморщенные личики, и, как выразился бы писатель романтического направления, читалась на них одна лишь страсть: догнать, поймать, наказать. Караулили они с ружьями, заряженными солью, под рукой у них всегда были заросли особой жалящей до костей крапивы. Не раз и не два отмачивали мы горящие задницы в вонючем пруду у салотопки…
— Коля, а где же Горбушинский сад?
— Вымерз. А вообще-то мимо идем. — Мы шли мимо каких-то строений. — Да, вымерз, а новый вырастить не собрались.
— А Иван Борисович как?
— Умер. Сразу после тех морозов. Считай, вместе с садом. Ничего этого не видел. — Николай покосился на строения.
Но вот и кладбище, под шапкой мокрой желтизны. На тополях еще держались там-сям жесткие зеленые листья, вроде бы перенесенные с металлических венков. А березы желтели без изъянов, с ровною, утешительною скукой. Вот и церквушка — деревянная, недавно крашенная, сине-охристая, с белыми наличниками. Она скромна, проста, без архитектурных затей, цепляющих взгляд, пожалуй, одна на несколько районов — по приходу и расходы: новая краска хоть и сообщала ей аккуратность, но аккуратность бедной, чистоплотной старушки — побираться не побирается, но и в скоромные дни постится.
Миновали ее — где же три березы, о которых говорила мать? Тучная кладбищенская почва подняла такие березищи, что за каждой может спрятаться церквушка. Считаю: пять, шесть, семь — мать, должно быть, не рассмотрела в тот день, что у могилы начинался березняк.
Ходим с Николаем меж берез, ворошим, разгребаем космы жухлой травы, выцветшие добела траурные ленты, рыжую поминальную хвою, накопившуюся, точно в ельнике, угадываем по земляничным куртинам: тут была могила и тут, но неизвестно чья, может быть, и Максима Романовича Шугаева.
Николай говорит:
— Сорок лет все-таки. Никто не следил — как теперь разыщешь?
— Может, в конторе регистрируют? Помечают: когда, кто, на каком месте.
Возвращаемся к кладбищенским воротам, где в привратной избушке размещается печальная канцелярия. На двери замок, хотя, судя по вывеске, заведение должно быть открыто. Впрочем, могильное начальство может и опаздывать и задерживаться — служба такова, что невольно приучает к мысли: торопиться некуда. Дожидаясь конторских, сходили на могилу Николаева отца: серебристая оградка, серебристая пирамидка, ухоженный бугорок со съежившимися астрами — клочок земли, материализующий память, единственный в нашем полном владении, и сколь усерден каждый из нас в этом землевладении, столь и богат.
— Как бы не забыть… Закажи в Москве керамический портрет. — Николай рукавом протирает стекло фотографии. — А то выгорает быстро. Бумага все-таки, ненадежно.
— Закажу.
Отец мой умер в феврале сорок первого: возвращался в метель из деревни, в санях его безжалостно просквозило, и началось, как тогда говорили, крупозное воспаление легких. Фельдшер поставил ему банки, а делать этого — так утверждали вспоминавшие — ни в коем случае было нельзя. Банки-то, а точнее, невежество фельдшера и погубили отца. Вот если бы знать да вовремя отвести руку… Смерть же, как бы ни останавливали ее в своих мечтаниях, задолго до наших рыданий караулила отцовские сани и впрыгнула в них с ледяным посвистом.
Говорят, незадолго до его смерти я от кого-то услышал загадку про календарь: помер, оставил номер, — мне было три года, и я замучил ею всех домашних, восторженно проверяя: так же они догадливы, как и я? На меня шикали, замахивались: «Не каркай» — тогда я бежал к отцовской постели и неутомимо звенел: «Ну, угадай! Только ты не угадал! Помер, оставил номер!» — а отец уже не мог говорить.
Не помню этого дня и отца совершенно не помню. Порою, правда, брезжит видение: я сижу у отца на коленях, мы смотрим в окно на улицу, там скачут всадники с красными флагами — какой-то праздник, — за ними бегут мальчишки в новых рубашках… Пожалуй, видение это все же из какой-то чужой, книжной жизни, слишком оно отстранено от меня, лишено личных, что ли, красок — некий мальчик на коленях некого мужчины…
Знаю, он был высок, любил удить рыбу, любил граммофонную песенку «У самовара я и моя Маша», у него была доха из оленьего меха и рубашка с узким воротником, в круглых концах которого блестели запонки, — в этой рубашке отец существует на единственной фотографии, сделанной вскоре после свадьбы. И он и мать удерживают на лицах старательную парадность, какую-то напряженную безликость. Впрочем, глядя на взбугрившиеся надбровья, можно предположить, что отец был упрямым человеком, а глядя на большие, сильные губы, — что у него неровный, подверженный минуте норов. Но из моих, как когда-то говаривали, физиогномических догадок не выведешь живого представления об отцовском характере, о его причудах и странностях.
Помню старого товарища отца — я прозвал его дядей Мимо. Он всегда приходил с конфетами или пряниками в кармане пиджака и всегда подставлял мне карман: «Ну-ка, ищи глубже». Однажды я попал рукой за отпоровшуюся подкладку и, нащупав конфеты, никак не мог их достать. Сколько ни совал руку — все мимо и мимо. Вот этот отцов товарищ сказал как-то, привычно хохотнув на мое «дядя Мимо пришел» (прозвище его очень смешило): «Максим Романыч, царство ему небесное, много чего мимо пропустил». Наверное, рассуждал я впоследствии, отец мог добиться большего, чем должность провинциального счетовода, наверное, сознавал возможность этого большего, но почему-то не стремился к нему или не мог пересилить каких-то обстоятельств, наверное, из-за неосуществленности испортился характер, стал рабом захолустья, этаким мрачным уездным рыболовом, преферансистом, любителем горькой. Дядя Мимо охотно бы перекроил отцову судьбу на своем поминально-товарищеском суду, но и дяди Мимо давно нет.
Занятые жизнью, мать и брат не рассказывали об отце, а я не расспрашивал. Не помнить и не иметь отца — почти непременное и как бы естественное условие детства моего поколения. Обод судьбы, так сказать, мы покатили по травянистым улочкам, уличное товарищество вытравляло из нас трусов, воображал, ябед, то есть мы воспитывали сами себя, не мучаясь безотцовщиной (чтобы мучиться, надо сравнить жизнь с отцом и без него), не ощущая сиротства (есть мать, она всегда на работе, есть товарищи, они всегда рядом — жизнь устроена ясно и просто: «Айда на речку, у мельницы язь пошел»), не горюя из-за нехваток (мать одна работает, денег в обрез — это мы знали тверже, чем дважды два), не завидуя более сытым и обутым. Ценились лихость, ловкость, смелость: вот бы научиться, как Комарик, уличный товарищ, по деревьям лазить.
В отрочестве и юности, когда, казалось бы, безотцовщина должна уязвлять взрослее и больнее, она превратилась в некую анкетную данность вроде года рождения, — это отстранение от живой боли произошло долею из привычки писать в соответствующей графе: «Убит, умер», а долею из привычки обходиться без мужского присмотра, из раннего сознания, что мы сами с усами, сами себе отцы. И мы старательно защищали свою, так сказать, сиротскую независимость, если вдруг возникала опасность новой мужской власти.
У меня ненадолго — на одну зиму — появился отчим, неприметный мужчина в синем диагоналевом кителе, в пальто из шинельного сукна, подбитом ватой, в ботах «прощай, молодость». Ходил медленно, пришаркивающе — казалось, боязливо; говорил тихо, мало — казалось, осторожничает, чего-то недоговаривает; смеялся в белую большую ладонь — казалось, не смеется, прикашливает, потому и загораживается. Только нос его имел смелость быть определенным, непрячущимся — большой, сизый, пористый. Отчим скорее всего был мягким и добрым человеком — помню, как он неловко и виновато сутулился за столом, смущенно взглядывая на меня и погмыкивая, когда мы оставались одни. Пытался разговорить меня, взять этакую доверительно-семейную ноту, но натыкался на упорное и угрюмое молчание, на уставившиеся в клеенку глаза — я не хотел с ним общаться, не хотел его знать, не хотел даже замечать его появление в своей жизни. Он спрашивал, что я читаю, я молча показывал обложку, он совал трешницу на кино, я уворачивался от дающей руки, он звал в баню, я бурчал, что схожу с ребятами, — не нужен мне был отчим, не мог я пересилить чуждости к нему и отчаянного удивления: ну чего он ко мне пристал?!
Он был на войне артиллеристом, по его словам работал на «катюше» и, когда выпивал, умещал свои фронтовые воспоминания в детски восторженный возглас: «А мы ему как дадим! Как дадим!» — с внезапной, мучительной слезой тянулся ко мне, желая, видимо, приласкать от полноты воспоминаний. Я, конечно, отодвигался, каменел, а он, промокая слезу согнутым указательным пальцем, вздыхал: «Эх ты! Эх ты!» Выпивал он часто, порой до тихого, беспомощного беспамятства. В одно хрусткое мартовское утро (я собирался в школу) он обнаружил, что потерял партбилет, — с таким позором он жить не мог и не стал жить…
Но вот и я достиг отцовых лет, и непамять о нем, незнание его обернулись душевным смущением, устойчивым ощущением вины перед прахом, перед утерянным клочком земли, до которого я так долго добирался.
Поехал однажды в заставленную декабрьскими сугробами деревню Новую Александровку, бывшую Арестовку, где родился отец и где я надеялся встретить родственников, помнивших его. Последняя родня, то ли двоюродная, то ли троюродная сестра отца давно перебралась в Краснодарский край, и дом ее занимал чужой человек. Походил по деревне, поспрашивал — никто не помнил отца: сверстники его погибли на войне или умерли от старости и болезней. Вернулся в бывший дом двоюродной своей или троюродной тетки, посидели немного с новой хозяйкой за пустым столом и холодным самоваром. Она сказала, разглаживая клеенку маленькой, сморщенной ладонью: «Вовремя не узнал, теперь не узнаешь». — «А когда вовремя-то было?»— «Как сердце укололо, так и примчался бы». — «Сейчас вот и закололо». — «Теперь не ради отца, ради себя хлопочешь». — «То есть?» — «То есть стареешь, боишься, как бы и самому не затеряться. Так же вот забудут, да и вообще не спохватятся». — «Ну, я об этом не узнаю». — «А вина перед отцом останется. И все равно кому-то перейдет, кому-то нехорошо будет, что ты вовремя не спохватился». — «Что же выходит, и отец вовремя не спохватился и перед кем-то виноват? Может, тоже перед отцом своим или дедом?» — «Еще как может быть».
Быстро и густо наваливались декабрьские сумерки, света хозяйка не зажигала, и я попрощался.
Появилось кладбищенское начальство — белощекий человек с черными суровыми бровями, в черном клеенчатом плаще. Пока он снимал замок, я спрашивал:
— Вы регистрируете, кто где похоронен?
— Смерть регистрируют в загсе, а мы обеспечиваем могилу, ограду, надгробие.
— И никаких записей не ведете? Номер участка, дата, фамилия?
— Мы не бюрократы.
— Значит, никто мне не скажет, где лежит человек, умерший в феврале сорок первого?
— У-у! Сорок с лишком. Даже думать нечего.
Ясно. Даже номера не оставил.
В Мензелинске живут две тетки по матери, Нина Ильинична и Ольга Ильинична. Зашел к тете Нине, в дом рядом с почтой, где она проработала лет тридцать.
Дверь отворила седая, сухая старушка, и, если бы не живо блестевшие, насмешливые глаза, я не узнал бы тетю Нину, которую помнил черноволосой, вспыльчивой, резкой и, казалось, неугасимо красивой женщиной.
— Заходи, заходи. Я уж слышала, что ты приехал. Думаю, не обойдет тетку, вот кое-что припасла. Чайник сейчас включу.
— Я ведь тоже с книгами связалась. В кинотеатре перед сеансами торгую. Все не так скучно. Вот Жуковского три тома. Хочешь, бери.
— Костя на Алтае, Милка в Челнах медсестрой. Квартира есть, неплохо живет. Да, вдвоем с дочкой. Большая уже. Валерка со мной. У нефтяников работает. Их на две недели самолетом в Тюмень возят, а две недели дома. На вахте сейчас, — так коротко очерчивает тетя Нина судьбы своих детей, моих двоюродных братьев и сестры, с которыми прошло столько золотых летних дней на чердаке этого дома, где мы устраивали то палубу, то дом, свободный от житейских забот. Дни эти в моей памяти так обширны, что другая часть жизни моих братьев и сестры, вместившая Алтай, нефтепромыслы, будни больницы в Челнах, кажется неправдоподобно сжатой и кургузой по сравнению со счастливой просторностью детских фантазий.
— Смотришь, что кроватей много? А я студенток пускаю, когда Валерка на вахте. — В Мензелинске большое педучилище и сельскохозяйственный техникум. — Да нет, не чтоб веселее было, лишних рублей не бывает.
— Отца твоего я не хоронила, не жили мы тогда в Мензелинске… Вот что. Сколько ты здесь пробудешь? Ладно, завтра-послезавтра сбегаю к одному человеку — сколько его знаю, он все в могильщиках. Может, вспомнит, поможет. Зайди через два дня.
В темном коммунальном коридоре, куда выходит дверь тети Олиной комнаты, я сжег полкоробка спичек, прежде чем отыскал нужную. Подергал — закрыто. А за дверью чувствуется свет, слышится бодрое благогласие телевизора — может, дремлет тетя Оля. Постучал настойчивее. Услышал скорый топоток и певучий, нежный детский голосок:
— Бабушка меня закрыла. Она в магазин ушла. А вы мой дядя? А я Володечка. Ой, пожалуйста, не уходите. Бабушка, наверное, во дворе. Она просила не уходить. И я вас еще не видел.
Вспомнил, что тетя Оля живет с внуком, водит его во вспомогательную школу — Володечке трудно дается грамота, да и жизнь вообще трудно дается.
— Подожду, подожду, — успокоил я Володечку. — Сейчас увидимся.
Пришла тетя Оля, тоже принялась потчевать, тоже быстро расставила точки, так сказать, на карте своей жизни: Люба здесь, в Татарии, Олег в Якутии, Дима в Челнах, Люся в Бирске. Не забывают, навещают, а мы вот с Володечкой учимся.
Володечка, трогательно хрупкий и ласковый мальчик, все жался ко мне, напевал нежным голоском: «Я не боюсь в школу ходить и один оставаться не боюсь».
— Сразу наш дом нашел? Да-а, столько воды утекло, а я ни с места. Стою в военкомате на очереди. Как жене погибшего положена благоустроенная квартира. Строят только медленно.
— И я ведь на кладбище-то не была. Стряпала, столы для поминок накрывала. Что и помню о том дне, так то, что морозило очень сильно. С кладбища все окоченевшие вернулись… Зайди перед отъездом, я тебе меду налью. Может, состряпаю что. Без подорожников какая дорога!
Володечка замер сусликом на пороге, серьезно смотрел, как я одеваюсь, серьезно протянул бледную горячую ладошку.
Утром по лужам перекатывался плотный, ветреный холод, срывавшийся вместо дождя с низких белесо-серых туч. На бывалом, лихо обшарпанном «уазике» приехал Анатолий Гудошников.
— Ну что, охотнички? Тулупами запаслись? — Сам он был в толстой суконной куртке, болотных сапогах, с непокрытым, обильно поседевшим ежиком. — Утки, по радио передавали, зубом на зуб не попадают.
Анатолий невысок, сутул, худ, с глазами яркой, этакой нестерпимой синевы — я предупреждал, что никуда от нее в Мензелинске не денешься. Может быть, гудошниковскую синеву уместно даже назвать жестокой или неукротимой — так соединяется с его характером эта горящая неистовость. Мальчишкой он был, по тогдашнему определению, большим выделялой, но выделялой рисковым и отчаянным. Положим, прыгаем мы с моста в Мензелу, прыгаем «солдатиком» — ногами вниз. Гудошников обязательно забирается повыше и обязательно махнет вниз головой и, если махнет неудачно (живот отобьет или ноги), тут же лезет еще выше — и снова головой вперед. Какой-нибудь мальчишка поднимется на его высоту: страшно, нет потягаться с Гудком? Примерится, потопчется на шершавой от ржавчины стальной пластине, поймет, что в коленках пока слабоват. Только попятится, скрючившись, удерживаясь руками за бортики арки, как слышит снизу: «Лучше прыгай, а то хуже будет». Гудок уже поднимается к мальчишке, и, если тот все же не соберется с духом, не прыгнет сам, Гудок обязательно столкнет его с высоты, как бы мальчишка ни визжал и как бы тесно ни прижимался к теплому животу арки. Но если мальчишка прыгал, Гудок на миг застывал на новой высоте и снова летел — казалось, очень долго, и очень хотелось зажмуриться.
Любую детскую забаву — нырянье, рыбалку, катанье на лыжах — Анатолий превращал в состязание самолюбий; сколько синяков, ссадин, шишек набили мы, не в силах достичь его готовности к риску, сколько слез по щекам размазали, покорно злясь на его умение во что бы то ни стало возвыситься над нами… Густым раздражающим холодом насыщенная синева вдруг ударит тебя, и ты оттеснен, отодвинут, сброшен с лыжни, с тропы, с горы…
Он несколько лет жил в Сибири, и я думал при встрече: как многие, хлебнувшие ее просторов, Анатолий ударится в воспоминания, отмечая пунктирами ностальгических вздохов селения, берега, леса, где задерживала и радовала работа. Но он сказал:
— Про Сибирь давай не будем. Вот она у меня где. — Анатолий провел ладонью по густой седине ежика. — До нее сединки не было. Наломался я там, намыкался — вспоминать не хочу.
— Не хочешь, не надо. — Хоть Сибирь и населяют в основном люди с норовом, но свой норов приходится придерживать, приводить в согласие с ее крутою волею, а Анатолий, видимо, все с моста прыгал, но в Сибири крутизны не выберешь, и, хоть сто раз на рожон лезь, в сто первый она заставит отступить…
Едем на Ик в ледяной, с тучами, припавшими к раскисшим полям, октябрьский день, а я вижу Ик в полуденном зное, с серебристо млеющим по берегам тальником; прозрачная тяжесть пчелиного гуда, пригибающего высокие травы на лугах; ежевичники и малинники на глинистых обрывах, а под ними — налимьи заводи, жилища сонных, замшелых сомов и хватки раков. Вернее, едем на берег бывшего Ика — русла его уже не увидеть, луговых пространств больше нет, — накапливаются на них, застаиваются воды будущего Камского водохранилища, или, говоря романтическим языком, волны Камского рукотворного моря. Представляю, какою свинцовой зябкостью отдает от воды, какою печалью светятся поникшие, полузатопленные тальники.
В третьем или четвертом классе я читал «Детские годы Багрова-внука» и радостно растерялся, когда дошел до сцены, где Сережа Багров с маменькой и отцом останавливаются на берегу Ика: «Вот это да! Про наш Ик в книжке написано! И давно уже написано!» С изумлением и некоторой ревностью я понял, что Ик мой, вроде бы как собственный Ик, при помощи этих страниц превратился в речку, принадлежащую многим, а потому речку удивительную, уж, конечно, не случайно замеченную, ведь не про каждую в книжке напечатано.
Я приносил «Детские годы» в школу, брал с собой в гости, читал соседям. Иван Михайлович Красильников, человек недоверчивый и насмешливый, достал очки, потянул книгу к себе: «Ну-ка, где здесь буквами-то Ик показан?» Прочитал не только сцену привала, но и дальше заглянул. «Был Ик да Ик, а тут, смотри, как все красиво. И про деревья в тумане сущую правду написал. Ты выучи-ка это до буковки да как стихи на вечерах читай. Ну, на утренниках, если вечеров нету».
Давно выучил, да давно не вспоминал, а теперь вот кстати. «При блеске как будто пылающей зари подъехали мы к первому мосту через Ик; вся урема и особенно река точно дымилась. Я не смел опустить стекла, которое поднял отец, шепотом сказав мне, что сырость вредна для матери; но и сквозь стекло я видел, что все деревья и оба моста были совершенно мокры, как будто от сильного дождя. Но как хорош был Ик! Легкий пар подымался от быстро текущих и местами завертывающихся струй его. Высокие деревья были до половины закутаны в туман. Как только поднялись мы на изволок, туман исчез и первый луч солнца проник почти сзади в карету…»
Спускаемся с Икской горы, приводившей раньше на весело скрипевший деревянный мост, а теперь тормозим у насосной станции в виду затонувшего парохода (труба торчит да капитанский мостик) и вот этого вечного отныне осеннего половодья с редкими стогами на последних, не залитых пока луговых пригорках.
Потом плывем на лодке — утки поднимаются из-за каждого куста, но мы не стреляем: в лодке тесно, она утла и ненадежна, но от стесненного, рвущегося из нас азарта старенький мотор, кажется, стучит бойчее. Холодно, зябнут руки и уши, мы ежимся, опускаемся в воротники и постепенно застываем от ломотно студеного ветра. Николай вдруг протягивает ружье своему сыну Вадику:
— Ну-ка, берись за приклад покрепче. Гнуть сейчас будем.
— Чего гнуть? — не понимает Вадик.
— Стволы. Чтоб из-за кустов стрелять.
Пытаемся улыбнуться, но губы свело, и странно видеть и чувствовать, что вместо улыбок на лицах у нас синие кривые гримасы.
Пристаем к желтой гряде временного острова и расходимся, сразу согревшись в предвкушении вольного поиска и разящего взлета стволов.
Бреду вдоль стены луговой осоки, по щиколотку в воде, ружье закинул за спину — что-то не взлетают мои утки. День расходится: до солнца ветер еще не добрался, но самые тяжелые, жирные тучи разогнал, и день осветился предвестием солнца. Повеселели, позеленели бесконечные воды окрест меня, дальние ивы откликнулись тихо зажегшейся позолотой — соединялись на моих глазах не совсем исчезнувшие аксаковские картины с новым, затеянным его потомками пейзажем, нагоняя уныние неестественностью зрелища, невозможностью как-либо исправить его и жалким желанием спрятаться, уберечься от раздражительных размышлений, не оставляющих, так сказать, и на дне будущего моря.
Таким же мелководьем с равнодушным и неуместным плеском среди жаждущих цвести и плодоносить полей начинались Братское, Иркутское, Усть-Илимское водохранилища — я ходил по их дну, запоминая брошенные лиственничные боры, лесосеки, непомерные сосновые плоты, потом так и не всплывшие, черные многоверстные лужи на тучной илимской пашне, самой плодородной в Восточной Сибири…
Запоминал не для будущей горькой строки, не из склонности к праведнической риторике («Разве можно так с землей обходиться?!»), а из желания понять и совместить в себе молодой, удалой, с испариной азарта лик котлована, скажем, Братской ГЭС, сияние артельной праздничной истовости в глазах, когда каждый наперегонки норовил подсунуть свое плечо под любую тяжесть (то ощущение, может быть, самое дорогое из ощущений молодости), и сиротливые пространства, как будто никогда не растившие, не согревавшие, не утешавшие людей. Хотелось рассказывать о пьянящем трудолюбии котлована и с мимолетной стыдливостью хотелось отвернуться от илимской пашни: извини, по-другому ГЭС пока не научились строить, так надо — страдай не страдай. Пашни исчезли вроде бы бесследно и покорно: работайте, покоряйте, если так надо, — но постепенно выяснилось, что невозможно строить и разрушать одновременно, затопленные земли живут в нас; боль, причиненная им, воскресает в нас стыдом и растерянностью: как легко и бездумно мы с нижи расстались, не попытались спасти их, выгородив дамбами и плотинами, не подозревая, что дешевизна строительства обернется неокупаемыми нравственными затратами.
Мы утешались неотвратимостью «надо» — оно как бы освобождало нас от раздумий и личной ответственности: действительно, надо перекрыть реку, пусть крутит турбины, без энергии не обживешь и не обустроишь тайгу; мы надеялись, что земля, подчинившись нашему «надо», не будет уже досаждать нашей совести, но по прошествии времени мы обнаруживаем, что Байкальский целлюлозный завод можно было не затевать. И в то же время мы выясняем, что Чебоксарское водохранилище разгородили дамбами и плотинами, сохранив пастбища, луга и пашни.
Надо, согласен, надо. Но почему каждое «надо» отзывается такой резкой болью, почему осуществленность, воплощенность этого «надо» не заслоняет, не примиряет меня с потерями — озерами, пашнями, лесами, определенными в жертву «надо»? Потому, видимо, что, чем больше годовых колец я набираю, тем яснее: не спрятаться за всевозможные «нас не спрашивали», «меня не слышали», «а что я мог», не оправдаться никакими «надо», если плата за них окорачивает мое гражданское достоинство. Если даже меня не спрашивали, меня не слышали, все равно не отменяется мое огрузшее от сомнений, несогласий, предположений сердце — в историческом протяжении, в сущности, и не бившееся, — и я отвечаю за каждое «надо», за каждую его трещину и кривизну. Пусть моя ответственность не учтена, пусть о ней никто не знает, но она существует параллельно с «надо», заставляет душу напрягаться и болеть…
Вот иду я, рядовой гражданин, по новорожденным волнам и изнываю от нелепого желания: набраться бы такого голоса, такой громкости и силы, что при крике «Не надо так!» воды бы непременно отступили. Понимаю, мое желание, мое «нет» легко глушится командорскими шагами экономики, которая, наверное, не может и не должна слышать отдельного чувства, отдельного голоса, сколь бы горек и трезв он ни был, тих и слаб, как шепот несчастного влюбленного, этот голос и, конечно же, пропадает в многоголосье державных забот и тревог — тем не менее тешишься надеждой: вдруг да услышат. Надежда эта неискоренима: в течение жизни много раз смиряешься с недолговечностью слова, с его какою-то призрачной судьбой: писалось, было, на чем-то настаивало — и постепенно сходило на нет, тонуло в житейском море, вроде бы никого не защитив и ни на чем не настояв. Но не могло же оно исчезнуть совсем, без следа и без шороха? Где-то остановилось, передыхает, набирается на привале свежести и полногласия — надежда быть услышанным вновь расправляет крылья, и легкий ветерок обдает тебя.
Когда-то я жил в лесничестве под Иркутском и рассказывал, как тяжел, не устроен, малооплачиваем труд таежных лесников; когда-то я часто бывал на Нижней Тунгуске и рассказывал, сколь несовершенно устройство нашего охотничьего дела. Рассказы эти и очерки ничего не изменили ни в жизни лесников, ни в жизни профессиональных охотников. Исчезли, растворились слова, которыми так хотел помочь, и, разумеется, я смирился с их исчезновением: я свое сказал, да и вообще, скоро только сказка сказывается… Но порой кажется, что и те, исчезнувшие, и эти, возникшие на дне моря, материализуются, объединяются в некую слитность, в некую самостоятельно существующую словесную реальность, предназначенную, может быть, всего для одного человека, который-то и поймет, услышит мои слова.
Часто вижу мальчика, худого, нескладного, неловкого. Веснушкам тесно на его вяло вздернутом носу. У мальчика большие темные глаза, неторопливо и сосредоточенно рассматривающие мир. Сизый дымок тревоги, ртутные блики недоумения, бархатная пыльца страха нет-нет да попадают в них. Тогда я спрашиваю, что с ним. «Почему люди так любят жаловаться?», «Почему говорят: на сердитых воду возят?», «Что такое судьба?» Старательно отвечаю ему, пускаясь в долгие рассуждения о слабостях человеческой натуры, о неизбежности ошибок, и неожиданно вижу в его глазах откровенную, жалеюще-покровительственную усмешку — так обычно усмехается усталый экзаменатор, слушая запутавшегося, заговорившегося ученика. Поперхнувшись, спрашиваю: «Что-то не так? Не веришь?» — «Верю. Но непонятно как-то». — «Что непонятно?» Опять смущающая меня покровительственная усмешка: «Пока непонятно. Вырасту, пойму».
Понятно: пока он хочет спрашивать, но не хочет или не умеет отвечать.
Представил, что мальчик идет сейчас со мной по дну Камского моря, и, если бы думать при нем вслух, если бы при нем сопрягать экономику с нравственностью, он, уверен, засыпал бы вопросами: почему же не спасли луга при здравом рассуждении? Почему же я все-таки не кричу, если мне так больно от этих волн? Почему жизнь учит смиряться и почему здравый смысл — понятие не экономическое? И наверное, опять бы усмехался, слушая мои степенные, исполненные благонамеренных надежд ответы.
Представил также, что отделившееся от меня, материализовавшееся в некую самостоятельную величину слово лет через двадцать встретится с мальчиком, ставшим мужчиной, ответственным жизнеустроителем, поправляющим наши ошибки и грехи со снисходительной жалеющей усмешкой. Вглядится он в нашедшую его страницу, прищурит темные, пристальные глаза — жаркий озноб ударит в затылок, когда я представлю это…
Почти из-под ног взметнулся селезень — задумался, видимо, тоже, не слышал моих шагов. Рванул ружье с плеча, ремень зацепился за пуговицу. Повел наконец стволом, селезень набирал уже лет — уйдет! уйдет! не торопись! — все-таки достал. Споткнулся мой селезень и упал в осоку. Бросился к нему: как бы не забился куда-нибудь в кочки — вот, вот он, прощально спрятал голову в воду, раскинул прихваченные изумрудно-малахитовым огнем крылья.
Выбрался на поляну, у почерневшей брошенной копны развел костерок — привалом надо было отметить трофей. Грел у огня руки и все поглядывал на зеленое перо, торчавшее из травы: может быть, мой селезень первым прилетел испробовать новую воду: глубока ли, сытна ли?
Костерок потрескивал так утешающе — вставать не хотелось, и я решил подождать лодку здесь. А чтобы отвлечься от окрестной воды, холодного октября и охотничьего самодовольства, придумал забаву: буду сочинять роман; прикину сюжет, героев, примерю драматическую пружину — да не просто роман, а желательно модный, соблазнительно модный, с НТР, чертями, демоническими страстями, — впрочем, нет, с чертями не буду — лучше в жанре утопии, в жанре преувеличения. Пожалуй, сначала надо придумать подзаголовок. Нечто вроде: роман с преувеличениями и утопическими картинами — н-да, что-то очень корявое… Роман-утопия с злободневными преувеличениями… Впрочем, подзаголовок придумаю потом, не надо отвлекаться.
Итак… В некой российской области, может быть Иркутской (хотя, угождая НТР, следует написать: в неком территориально-производственном комплексе), жил молодой физик Мотовцев, изобретший в один прекрасный день странный прибор, который хотел сначала окрестить в свою честь «мотовмером», но застеснялся и назвал — «чувствомер». Прибор этот, спрятанный в карман или сумочку (как авторучка, губная помада), отмечает уровень, силу общественного темперамента и помогает человеку проявить его. Предположим, человека мучает врожденная или благоприобретенная робость, заставляющая его поддакивать там, где надо говорить «нет», искательно улыбаться тому, кого надо брать за шиворот, и человек, ненавидя свою робость, не может тем не менее с ней расстаться. Но вот, снабженный «чувствомером», он начинает вести себя как должно: решительное «нет» — демагогу, отпор — хаму, не подавать руки приспособленцу, — разумеется, человек, слывший завидно смирным, ходит теперь в синяках и шишках, и «чувствомер» не дает ему вернуться к былой робости.
Одним словом, после долгих, порою драматических испытаний «чувствомер», а с ним и Мотовцев получат в Иркутской области широкую, с долей скандальности, известность, и часть заводов и строек будет бороться за повсеместное применение «чувствомера», чтобы каждый знал наполнение своего гражданского пульса — от вахтера до директора. Конечно же, будут у прибора и враги, тайные и явные, но все как на подбор умные и решительные. И вот однажды соперник Мотовцева в научной и личной жизни, некто Тупарев, начинает злобную интригу…
— Так и знал, что спит! — Лодка уже раздвигала осоку, Анатолий спрыгнул на берег, залил из черпака костерок. — Залезай быстрей. Сейчас стрелков ловить будем.
— Какой тут сон в такой ветер? Разве что наяву. — Я неловко шагнул в лодку, поскользнулся на мокрой доске, чуть не ухнул в осоку. (Это Мотовцев меня не отпускал: «Что же ты? Только придумал и уже бросаешь?!») На прощание подумал: можно было назвать «Опыты Мотовцева», хотя… поиграли — и будет. Еще один ненаписанный роман остался за плечами. — Постой, постой! Кого мы будем ловить?
— Стрелков. Ты спал и не слышал, какую пальбу они открыли.
— Ну и что? Охота.
— По выстрелам слышу — браконьеры. Бестолково палили.
— Да уж. Будут браконьеры бестолково палить.
— Хорошо, уточняю: начинающие браконьеры.
Сквозь осоку, тальники, по бесчисленным протокам заспешила наша лодочка — старый мотор вроде бы заработал чище и мощнее, возможно, передалось ему нетерпеливое напряжение Анатолия, сурово сжавшегося на носу.
Увидели на крутой длинной гряде двоих в одинаковых зеленых телогрейках, в кожаных зимних шапках, сдвинутых на затылок, — должно быть, на одном складе одевались. Парни были ражие, румяные — приятно посмотреть. Анатолий, щуплый, дохлый, взлетел на бугор, сунул под потные, весело блестевшие носы книжечку общественного инспектора.
— Билеты. Путевки… Как нет?! — Резко, цепко ухватился за стволы новеньких тулок, скомандовал: — Ружья сдать!
Парни действительно были новичками — с растерянными, глупыми улыбками выпустили ружья из красных кувалдистых кулаков. Анатолий передал ружья нам, вытащил из старой пилотской планшетки (по-моему, в школу еще с ней ходил) лист бумаги для протокола. Лихо он развернулся. Молодец. И планшетку сохранил, и порох, так сказать, детства не отсырел, и на рожон не разучился лезть — стрелки могли оказаться и не такими покладистыми…
Собрались с Николаем в Елабугу. До нее, если царственно соединять ее на карте с Мензелинском, шестьдесят с гаком, час-полтора езды.
— Точно. За два доедем, — пообещал Николай. Поехали на его прокурорском «Москвиче».
Был опять белесый ветреный день, а когда вырывалось солнце, в полях и березовых колках прибывало нежной, доверчивой желтизны. По нижней эстакаде Камской ГЭС, еще заваленной строительным мусором, переехали на правый берег Камы и попали в просторный сосновый бор.
— Пройдемся, — предложил Николай.
Пошли по песчаной дороге, на обочинах в редкой траве было много засохшей земляники. Ветер отстал еще на берегу, не смея нарушить тишину, установленную в бору от века: в ней должна храниться хвойная, целительная, смолистая сила сосны.
— Скоро в доме Шишкина будем, — говорил Николай. — Помнишь, как посмеивались над ним? «Утро в сосновом лесу», «Корабельная роща» — в каждой, мол, чайной висят, в каждой захолустной гостинице. Дурной, мол, вкус, вроде базарных лебедей на клеенке…
Иван Иванович Шишкин родился в Елабуге, здешним борам обязан настойчивой, пылкой любовью к сосне: он без устали писал ее, без устали восхищался ее каким-то живительно домашним совершенством — как иные живописцы всю жизнь завидно верны женской красоте, так Шишкин был верен красоте сосны, в сущности, превратил сосну в символ русского леса, его свежей вечнозеленой мощи.
Николай сорвал сухую земляничину, растер в пальцах, понюхал.
— Гостиничные копии, может, и бездарны, но какая в нем все-таки сила, если вся Россия хотела его в красный угол поместить. Хоть плохонькую копию, но в красный угол. Вообще, современнейший художник… Вон, смотри, как химия дышит. — Ветви, обращенные в сторону Нижнекамского нефтехимического комбината, заметно пожелтели. — Если так дело дальше пойдет, корабельные рощи и сосновые полдни только у Шишкина и останутся.
Чисто, тихо, уютно в доме Шишкина. Поскрипывают некрашеные выскобленные половицы; конторки, комоды, сундуки приобщают к незатейливому быту Ивана Ивановича; сосны, пруды, глухие российские мостики, написанные маслом, карандашом, — к непомерному живописному его усердию.
— У вас всегда так тихо? — спросил я у смотрительницы, этакой елабужской юницы, длиннокосой, сероглазой, задумчиво-серьезной.
— Летом с утра до вечера народ. Полы не успеваем мыть. — Смотрительница скучала и потому предложила: — Хотите, покажу любимый вид Ивана Ивановича? — Она подвела нас к окну. — Вот здесь он подолгу сиживал.
На многие версты простиралась камская пойма во вспененном багрянце тальников, в ясной зелени сосновых боров. Разумеется, при Иван Ивановиче не было на горизонте высоких черных труб с жадно струящимся пламенем — этакие свечи цивилизации над шишкинской далью.
Неожиданно то ли во дворе, то ли на улице взялся за марш духовой оркестр — мы вздрогнули, отодвинулись от любимого окна Ивана Ивановича. Смотрительница объяснила:
— Это в школе милиции. И вальсы будут играть. — Она быстро и горячо покраснела, забыв о нас, побежала на другую половину дома, видимо, к своему любимому окну, откуда открывается вид на милицейскую школу. — «О, эти марши полковые!»
Под их бодрую грусть поднимались мы в гору к городскому кладбищу.
Могила Марины Ивановны Цветаевой устроена под тремя соснами, у самого склона — купола церквей, зеленые крыши бывших купеческих особняков о два и три этажа, россыпь деревянных улочек и переулков, выходящих в луга к Каме, — такая немереная воля, с ветром и птицами, начинается за могильной цепью! Должно быть, ей покойно здесь, по соседству с этой волей, — быть только рядом с ней и могла согласиться ее неистовая душа.
Позже нашли дом на кривой горбатой улочке, постояли напротив его опрятных, недавно вымытых окон. Никто не выглянул, не вышел, но жизнь в доме слышалась: вот отодвинули стул, вот звякнула крышка чайника, вот заговорил телевизор. Бревенчатый, крепкий, до странности обыкновенный дом. На этой вот лужайке, под этими вот тополями и ветлами, она, возможно, выкурила прощальную самокрутку из махорочной пыли, нервными щепотями собранной по карманам. Старая, высохшая, с желтым костистым лицом, в нелепом длинном платье из крашеной мешковины, она смотрела на августовский день и устало, привычно мучилась пустотой: в ней не было больше слов, они не принуждали ее жить дальше… Слова ушли, и надо было уходить ей. Да и никому не нужны ее слова. Человек, называвшийся другом, собрат, чей дар так близок ей, отвернулся от ее горького, нищенского взгляда; коллеги, укрепившиеся в Чистополе, не пустили ее даже на порог — она приехала в Елабугу, все более смущаясь своей ненужностью. А сын ее, красивый, талантливый, самовлюбленный мальчик, не смог простить ей этого отвержения, этой поникшей седой головы, так гордо, непобедимо вскинутой в былых их несчастьях. Замолчал, заледенел, с презрительной вежливостью отстранил протянутую руку…
Я не судья ни другу, ни коллегам, ни сыну, но почему и через сорок с лишком лет над глухой елабужской улицей висит тяжелая, плотная тень той вины и обиды? Она давит и на мои плечи, и сколько ни пытаюсь выпрямиться, освободиться от нее, не получается. Проклятая, не моя, но вряд ли отпустит. Неси, стыдись, казнись, ибо такова твоя роль в давнем сражении возвышенного с низким.
В минувшее воскресенье был День учителя, и могила засыпана астрами, хризантемами, георгинами, гроздьями рябины — судя по запискам, приложенным к букетам, приходили девочки из педучилища. «Мы тебя любим, Марина. Оля и Таня», «Примите наш поклон, Марина. 3-й курс», «Мы всегда с тобой. К. Н.». Девочек, этих праздничных легкокрылых бабочек, потянуло к пламени костра, оставленного Цветаевой. Обжечь, опалить душу в огненном всплеске страсти, проникнуться ненавистью ее к многоликой пошлости, склонить голову перед волшебной прихотливостью ее голоса и грозной озонной свежестью слова… День учителя, день Цветаевой, дань мятежному духу ее.
Перед отъездом зашел к тете Нине.
— Что, нашла своего знакомого?
— Не помнит. Я, говорит, гору перекопал, одна лопата в глазах мелькает. Странный он стал какой-то.
— Неужели никакой зацепки больше?
— Ты когда уезжаешь?
— Сегодня.
— Попробую поспрашиваю у бывших соседей. Что узнаю, напишу. Когда теперь увидимся?
— Весной. Земля обсохнет, травы не будет. Вдруг да найду.
— Приедешь, не забывай старуху.
— Ну что ты, право…
II
Крупный и мокрый московский снег, съежившееся, слабое тельце декабрьского дня в ладонях сумерек (утренняя ладонь совсем уже сомкнулась с вечерней, и вот они баюкают, усыпляют толком не проснувшегося младенца), подолгу стоишь у окна, поддавшись краткости, серости, скуке, и вдруг — телефон, зычный, настойчивый звонок, отогнавший сонную хмурь и наполнивший сумерки тревогой.
— Здравствуй! Вадим Аксенов говорит. Помнишь? Да, я значительно старше, да, редко виделись. Давно ли я в Москве? Да лет тридцать. Как разыскал? Добрые люди помогли. Да, мать со мной живет. Приезжай, повидаемся. Когда? Сегодня и приезжай. Все. Жду.
Тридцать пять лет тому назад мы квартировали с матерью у Гараповых, по улице Розы Люксембург, уставленной старыми тополями и липами, а рядом, в собственном доме, жила моя первая учительница Софья Дмитриевна Аксенова. И было у нее четыре сына, четыре добра молодца — широкоплечие, русоволосые, голубоглазые, с белозубыми, неторопливо добрыми улыбками. Старший — Вячеслав — в младенчестве оглох и онемел, но беззвучная жизнь обострила его зрение — он не выпускал из рук карандаша: рисовал братьев, мать, соседей, нас, уличную мелюзгу, и тут же раздаривал эти рисунки. Он был страстный рыбак — возможно, на берегах Ика зрение отчасти возвращало ему слух: когда видишь (скажем, через окно), как гнется под ветром ивовый куст или как тихо завивается вода в омуте, кажется, слышишь прерывистое дыхание листьев и лопотание осторожных струй. Однажды мы — мальчишки с нашей улицы и с дружественной нам Конной площади — купались в полуденный зной на Ике. Посинев от ныряния и догонялок, счастливо лежали мы на горячем песке, и большие зеленые стрекозы замирали над нами, неутомимо трепещущими крыльями добавляя покоя и сладкой дремы. И тут затрещали, застреляли в тальнике сухие ветки — на берег выскочил распаренный, в изодранной рубахе, с дикими глазами Слава Аксенов, размахивая огромным, как секира, топором. Мы поползли к воде. Слава опередил нас и на мокром песке вырубил топором. «Украли лодку. Найду — убью…» Лодку Слава нашел в дальних камышах, убивать, к счастью, никого не пришлось. А потом он уехал в Ленинград, как говорила Софья Дмитриевна, учиться на художника.
Вадима помню в драном синем свитере, кепке-восьмиклинке с длинным козырьком и в причудливых кожаных перчатках, с огромными, жесткими, словно голенища сапог, раструбами — Вадим защищал, так сказать, честь мензелинского футбола на пыльном поле возле городского сада. Особой неукротимостью и азартом отличались игры с Елабугой — игроки пропадали в тучах пыли, и мяч летал над ними как бы сам по себе. Пыльный смерч, взвинченный яростными воплями, налетал на ворота Вадима, он широко раскидывал руки в уродливых перчатках-самоделках, принимал смерч в объятия и тоже пропадал в нем. Из сопящего, вопящего, клубящегося шара вырывалась сначала, проступала Вадимова улыбка (на чеширскую, разумеется, непохожая), белозубая, неторопливо добрая, а потом уж и сам Вадим — с мячом под мышкой. Мы кувыркались в траве за воротами, тузили друг друга от восторженной невозможности быть на месте Вадима или хотя бы быть замеченными им.
Младшие Аксеновы, близнецы Борис и Лев, учились в фельдшерско-акушерской школе, среди девчонок, и так изнемогали от их коварства, так за день отравлялись ядом ласковой, улыбчивой пристальности, что потом охотно гоняли с нами мяч и нет-нет да и атаманили в наших набегах на сады-огороды.
Пока добираюсь до Дубнинской, завязываю первый узелок: не забыть бы спросить у Софьи Дмитриевны о песне «Силуэт». А может, совсем другое у нее было имя? Ну да, Софья Дмитриевна напомнит, поправит, если путаю.
…Вижу ясный июльский вечер, трава уже потемнела — выдохнула влажный холодок, и он поплыл над улицей, над дворами, зябко прикасаясь к голым ногам и рукам, но идти в дом за рубашкой и брюками опасно — мать может больше не выпустить, ужаснувшись цыпкам, общей чумазости, — и мгновенно, до сердечной боли, укорить себя: «Запустила мальчишку, без отца совсем уличным стал». Тепло лишь на лавочке у ворот (греют плиты тротуара) и на крыльце — оно на южной стороне, и старые доски прогреваются так, что выжимают редкие смоляные капли, их интересно почему-то отколупывать и пришлепывать на колено. По соседскому двору ходят Лева и Борис, в тельняшках и самодельных клешах на широких ремнях с самодельными же пряжками-бляхами, утяжеленными якорями, сердцами, кинжалами до пудовой значительности. Одетые в соответствии с прихотливой мензелинской модой, братья гадали, где просверкать этими бляхами: в горсаду ли, на главной ли улице, именуемой в просторечии Невским? Кого ослепить? Пока братья гадали, однокурсницы их не мешкали: с розовыми, голубыми, изумрудными лентами в косах, с белыми квадратиками платков в жарких кулачках по двое и по трое приходили сдаваться к аксеновскому дому — фельдшерско-акушерская школа стояла почти напротив него. Борис, слабея сердцем, выходил за ворота и вскоре исчезал в зыбком жасминном июльском вечере. А Лева вдруг разувался и долго ходил босым по мокрой траве, словно остужал ноги, рвущиеся в горсад или на Невский. Потом поднимался на крыльцо, бормоча: «Нет уж. Спасибо. Никто мне не нужен», — и тут замечал меня у раздвинутых досок забора: «Все подсматриваешь? Нехорошо, тезка, — спохватывался, тряс головой: — Ты не мне тезка, экую ахинею несу. Ты нашему Славчику тезка. А кто же мне может быть тезкой? Не знаешь? Может быть, Тигран? Или Жираф Зебрович Бегемотов?» Лева улыбался, как все Аксеновы, добросовестной, неторопливой улыбкой. Она ничего не таила, не скрывала, не лукавила, не была мимолетной, сдержанной, а была широкой — во все зубы — и подтверждала, что жизнь — большая радость. «Ну, перелазь. Читать будем». И мы по очереди вслух читали удивительные книги: «Пещера капитана Немо» — о мальчишках, спасавших раненых партизан; «Зеленая цепочка» — о мальчишках, ловивших шпионов в блокадном Ленинграде; «Тайна профессора Бураго» — имевшая громоздкое, не поддающееся пересказу действие, воспалявшее головы, как сон с кошмарами и неживью, — где брал эти книги Лева, не знаю, но мне они более не попадались.
Но вот уже так темно, что строчек не видно, а видны Левины зубы, полоски на тельняшке, босую ступню, о которую трется кошка (сама ночь), и шерсть ее стреляет крупными, голубыми искрами. Лева раздобрился, не гонит спать, из сеней принес телогрейку, чтоб я согрелся и не икал.
«Про Робин Гуда рассказать?»
Замираю, предвкушаю — щеки немеют от мурашек. Но с моего крыльца зовет мать, велит идти домой, не полуночничать и волю не брать. Лева утешает: «Завтра расскажу. И лук сделаем, и стрелять научу».
Лук он, в самом деле, согнул из свежей ореховой ветки и две стрелы к нему выстрогал, но в тот же день я сломал лук, отнимая его у Генки Рылова, очень любившего чужие луки, рогатки, самокаты.
Софья Дмитриевна до плеча не доставала сыновьям, была почти девчоночьей стати, с молодым, ясным голосом, часто смеялась — даже сквозь стены дома пробивались заливистые колокольцы, и, казалось, за своей богатырской заставой она жила беззаботно и весело. Но в некий летний вечер она приходила к матери — покалякать, по выражению Софьи Дмитриевны, — на крыльце посидеть, как когда-то сиживали, до войны, и упереться вдруг замеревшим взглядом в небо над пожарной каланчой, где уже начиналась ночь — сгустилась до темно-синего, с перламутром по краям, недавно прозрачно-розовая плоть вечера.
Они пели, наверное, и шульженковские, и юрьевские, и «Рябину», но осталась у меня от того времени одна строка: «Вот и скрылся родной силуэт», а другие строки этой песни не помню. А строку с «силуэтом» не то чтобы слышу до сих пор, но вижу, как мать и Софья Дмитриевна с негромкою растерянностью вздыхали, прежде чем произнести ее, и тоже негромко, с певучим покорством повторяли ее и смолкали — силуэт растворился в этом полном покоя и ясности вечере. Поднималась с маленького — в три доски — крыльца такая просторная вдовья тоска, что только-только хватало ей места в небе над пожарной каланчой, над крепкой стеной бывшего женского монастыря, где теперь была станция юннатов, над богатырскими плечами сыновей. Долго еще я считал слово «силуэт» самым грустным словом.
Второй узелок пора завязывать: помнит ли Софья Дмитриевна двух старушек, бывших монашек, домовничавших со мной? Как их звали? Что за знаменитый клей варили, что весь город и окрестные деревни приносили к ним склеивать посуду, тарелки, вазы, старинные сахарницы и печенницы?
В третье или четвертое послевоенное лето мы плыли с матерью из Перми в Горький на пароходе. Отдыхали, хотя мне отдыхать было рановато. Пароход был населен одними вдовами и ребятишками, как будто выполнял специальный рейс… Много было мальчишек, лихих, быстроглазых, быстроруких. Мы умели плавать, нырять, прыгать с высоких заборов и обрывов, когда тебя вот-вот схватит караульная, злая до исступления собака. Мы могли срезать супонь с лошади, пока хозяин обмывал обновы в Доме колхозника — нам, видите ли, нравилось прикручивать сыромятными ремнями коньки к пестрым татарским валенкам. Мы могли… — впрочем, базарный люд на пристанях сразу понимал, что мы можем многое, нас гнали от рядов и прилавков, но мы с цыганской невозмутимостью приценялись-торговались, горстями ухватывая на пробу семечки и орехи.
И плыла с нами девушка Лара, белолицая, чернобровая, со склонностью к дородности — проглядывала уже большая, цветущая и пышная женщина в тогдашних бутонных упругих округлостях. Вдовы, не старые, в общем, женщины, с изможденными за войну чувствами, с усталыми лицами, переговаривались: «Скажите, как быстро раны затягиваются. Три года не воюем, а уже какие невесты появились. Восстанавливаемся, слава богу». Мы же, мальчишки, конечно, все (от шестилетнего золотушного Костика до усатого, угрюмого, сутулого подростка Вити) влюбились в Лару и в изъявлениях любви настойчивы и не очень изобретательны. Костик просто не отходил от нее, позволял Ларе вытирать нос, без обычного рева глотал из Лариных рук рыбий жир; Витя пробирался на капитанский мостик и летел оттуда неуклюжей, несуразной «ласточкой», шмякаясь о камскую волну животом — потом его ругал капитан, мать влепляла затрещину, а Лара говорила, равнодушно улыбаясь: «Ты очень смелый, Витя. Молодец». Одним словом, мы лезли туда, куда нас не просили, хохотали тогда, когда все хмурились, тупо и натужно боролись друг с другом, орали, визжали — Лара улыбалась с вежливым безразличием, но мы принимали его за поощрительное внимание.
Она прогуливалась по палубе, подолгу стояла на носу, с долею картинности опершись на перила: подбородок поддерживала жеманно сложенной щепотью, а безымянный с мизинцем были при этом чуть на отлете; каштановые волосы разделял ровный пробор, косы сплетались на затылке в отливающую орехом корзину — милая была головка, и профиль — чистый — украшение, радость и смысл этого ветреного, скучного простора. Лара, говоря с нами, улыбаясь нам, никогда на нас не смотрела. Ее карие, со смородинно-вишневым туманцем глаза все кого-то искали на камских берегах, среди сосновых боров — сквозняки из них добирались до палубы, принося знойный дух разомлевшей земляники. Лара так пристально вглядывалась в пристанские толпы, что усталой, томительной влагой подергивались глаза.
И Лара дождалась, высмотрела, вызвала силой томления из лесных глубин молодого человека по имени Миша — он сел на наш пароход то ли в Дербешке, то ли в Красном бору. Миша был рыж, неказист, тщедушен, но зато молод, очень серьезен и ехал на Горьковский автозавод с дипломом инженера, отгостив у родителей положенные дни.
Лара отказалась от своих лунатически рассеянных прогулок, сердечнее стала с матерью (то шаль принесет: «Мама, на палубе очень свежо», то с грустной улыбкой спросит: «Ты не устала?»), переменилась и к нам — мы вдруг обрели заботливую старшую сестру, все видевшую («Витя, не сутулься, пожалуйста. Хочешь, чтоб вся жизнь сутулая была?»), все помнившую («Коля, пора. Неси задачник. Неси, неси, не замирай. Второгодником захотел стать?»).
Вскоре Миша — вроде золотушного Костика — ни на шаг не отходил от Лары, увлеченный вихрем ее добродетелей. Она же с какой-то изощренною изобретательностью, на дню по сто раз, находила в Мише видимые, а чаше всего невидимые достоинства и оплетала его, кутала в старинную, сказочной прочности, прельстительную сеть. «Миша, вы утром насмешничали над чувствами. Я по-прежнему не согласна с вами, но вот подумала и оценила ваше остроумие», «Миша, вы редкий человек. Вы о сложном умеете говорить просто».
А наши матери превратились с появлением Миши в добровольных свах, своден, в этакую заблаговременную, коллективную тещу, с горькой бесцеремонностью и страстью взявшуюся устраивать счастье единственной дочери. Теперь пароходная жизнь подчинилась новому уставу: пригожа ли сегодня Ларочка и хорош ли с ней Мишенька, внимателен ли, заботлив, не переступает ли он черту, за которой жених становится хамом, не слишком ли доверчиво и опрометчиво ведет себя Ларочка, надевая такое открытое платье, не рано ли позволяет брать ее под руку — кто знает, что у этого Миши на уме? Вдовы, матери наши, теперь не замечали прекрасных июльских берегов, лениво-сонно дышащей Камы, устланной медными отсветами сосен и зеленой тенью лугов, налившихся пчелиным гулом. Теперь они, со сладким неслышным стоном припомнив свое предсвадебье, свое предвыданье, свою знобящую, праздничную растерянность перед днями вдвоем, когда испуганным шепотом признавались подруге: «Я просто ненормальная стала», они теперь говорили друг другу: «Конечно, Ларочка, останется в Горьком. Подыщут комнату, Васса Тимофеевна ее подождет. Потом поедет за приданым. Ну, какое-то же есть. Постель, ложки-чашки. Васса Тимофеевна — бережливая женщина. А и нет, так — хорошо». Или: «Все-таки бессовестный этот Миша. Ларочка сердце не жалеет — то бледнеет, то краснеет. Скоро в обморок будет падать. Глубоко чувствует. А ему все хиханьки, шуточки — сойдет в Горьком и вдруг только ручкой помашет?»
Мы, включая шестилетнего, золотушного Костика, ненавидели Мишу. Он развеял волшебный воздух, окружавший Лару, а точнее, разбил нечто прозрачное, сияющее, порою переходящее в радушно-дымчатое, и в этом нечто жила Лара, холодно, может быть презрительно улыбавшаяся нам, и от этой улыбки было так мучительно, так больно, что, в самом деле, хотелось нырнуть в Каму с капитанского мостика.
Правда, с появлением Миши нам стало почему-то интересно и смешно смотреть, как он брал Лару под руку и они отправлялись в бесконечное кружение по пароходу, как неудобно, тесно и жарко так ходить, думали мы, как смешно и глупо. А когда мы подсмотрели, как под белой лестницей Миша соединяет свои толстые веснушчатые губы с розовыми лепестками Лариных губ, мы дико и как-то кашляюще захохотали и хохотали потом до икоты, убежав на корму. Миша не нырял, не плавал, он заменил возле Лары безотлучного прежде Костика, которому никто теперь не вытирал носа, и Костик с развешенными «проводами» следил за движениями Лары и Миши из какого-нибудь укромного угла. Все, все разрушил Миша и отравил. И мы придумали ему месть.
Завязываю третий узелок: помнит ли Софья Дмитриевна колоски? Помнит ли осень сорок пятого? Почему у нее так плохо держались очки? Можно же было веревочкой укрепить.
В Курье, маленькой деревушке, заросшей по берегу малиной и ежевикой, дебаркадера не было, трап — толстую, широкую доску — перекинули чуть ли не к ногам старух, торговавших горячей картошкой, огурцами и ежевикой разного колера, от сизо-синей до красновато-коричневой. Почему-то на всех пристанях ягоду насыпали в плотные, бумажные фунтики, свернутые из страниц «Географии» и «Родной речи» — казалось, по всей Каме отказались от этих книг.
Миша шел по трапу с фунтиком в вытянутой руке — нес Ларочке приз, награду за намечающиеся успехи в личной жизни, а она с тихой, ждущей улыбкой прислонилась к борту. И тут на трап влетели мы. С разгону, будто бы не в силах притормозить, налетели на Мишу и с визгом, ором, мяуканьем врезались в желтый омут у курьинского берега. Миша врезался вместе с нами, но не вынырнул — он не умел плавать, и сизые ежевичины, и пустой фунтик грустно закачались над его головой. Лара закричала так трубно и мощно, что могла потягаться с пароходным гудком, капитан швырнул спасательный круг, два перепуганных матроса-мальчишки торопливо раздевались в проеме на нижней палубе — жалко было окунать новую робу. Мы дружно нырнули за Мишей.
Вскоре его вытащили на берег, откачали, и он, ошалев, сел и слегка проехался на мокрой глине, рыже-зеленый, с дикой бездумью в глазах. Окрепнув разумом, слабо поднял руку и помахал Ларе — она опять закричала, затопала ногами, ее увели в каюту.
Вечером на пароходе была свадьба — Лара и Миша решили, что искушать судьбу поодиночке больше не стоит. Наши матери так старательно наряжались на эту свадьбу, так тщательно пудрились и подкрашивались, что могли показаться невестами. Как в войну пили пустой чай «вприглядку» (поглядывая на крошки сахара), так и сейчас собирались всласть насмотреться на чужое счастье.
Нас же они закрыли по каютам, чтобы, так сказать, не путались под ногами и отдохнули бы несколько от озорства и дури.
Вот и дом на Дубнинской, где живет моя первая учительница. С каким-то гулким стеснением работает вспомнившее сердце.
В начальных школьных днях вижу Софью Дмитриевну, окруженную нашим восторженным подчинением, этакою полною радостной безропотностью, — удивительно было впервые испытывать власть знания, каждый школьный час незамедлительно подтверждал: ты стал грамотнее, умнее, впервые твоя буква вышла похожей на букву, написанную рукой Софьи Дмитриевны, впервые ты сам прочитал и понял: «Буря мглою небо кроет…» — и вспомнил, что видел такую бурю в тот день, когда мать уезжала в командировку в Казань, и впервые, еще смутно, соотнес прочитанную строку со своими переживаниями… И ко всему этому приучила, приобщила, притягивала маленькой рукой Софья Дмитриевна. Какие у нее получались красивые и ясные буквы, как она неторопливо и понятно говорила — мы верили тогда, что Софья Дмитриевна знает все, и эта языческая, безоговорочная вера, должно быть, проявлялась забавно и даже смешно. Я видел однажды, как на перемене, отвернувшись к окну, Софья Дмитриевна смеялась — беспечно, взахлеб, думая, что ее никто не видит. Наверное, так насмешили ее наши бесконечные вопросы, а может быть, и наши ответы.
В сентябре сорок пятого наш первый класс собирал колоски на колхозном поле. Через плечо каждого из нас была надета холщовая сума, в нее мы и собирали редкие, вбитые дождями в землю колоски. Набрав суму, шли в центр поля и высыпали колоски на выгоревший брезент. Софья Дмитриевна была очень близорука и, стоя на коленях, низко наклонялась к земле, высматривая, выискивая щупленький, желтый хвостик, и от низкого наклона очки падали в стерню. Софья Дмитриевна нашаривала их, нацепляла на нос, некоторое время придерживала левой рукой, но, забывшись, снова роняла в стерню и тем не менее свою суму наполняла первой.
Через много лет в Хакасской степи, ночью, я вспомню Софью Дмитриевну, на коленях собирающую колоски. В ту целинную осень я стоял на копнителе, ночи были глухие, теплые, комбайн, бессонно вытаращив фары, полз и полз, укачивая до летучих — сладкими вспышками — снов. И вдруг остановился. Комбайнер Иван Алексеевич, жилистый, немногословный мужик, приказал:
— Давай, студент, с вилами вперед. Валок неправильно уложен — колосьями встречь нам. Иди и разворачивай, а мы потихоньку за тобой.
Начал я хватко, но быстро выдохся, вилы показались чугунными — забросил их в копнитель. Прохладные, с дымком соломенной дневной пыли, охапки колосьев были так легки и послушны, что я пожалел, что раньше не бросил вилы. Но я все труднее и труднее разгибался, все чаще окунал потное лицо в прохладную солому, все жестче и больней кололись колоски, и было похоже, что валок никогда не кончится, и я упаду в него, действительно подстелив соломки.
И вспомнил Софью Дмитриевну, как приговаривала она, ища очки: «Ах ты, батюшки, озорники какие», а высыпая из сумы на брезент, обязательно присоединяла поговорку: «У кого колос, у того и голос…» Пока вспоминал Софью Дмитриевну, тут и до последней охапки добрался.
Дверь открыл Вадим — узнать его можно было; слава богу, и улыбался своими зубами, и печать аксеновской доброты и открытости сохранилась на пожившем лице.
— Как раз к пельменям угодил. Проходи. Я тебя тоже узнал. Ну, как?.. Как мензелинец мензелинца? Матери я сказал, что ты придешь. Может, вспомнит. Все-таки жизнь назад ты у нее учился.
В комнате я подошел к старушке в черном. У нее было отстраненное, застывшее лицо, как у человека, погруженного в некое печальное и настойчивое самопрослушивание. Блеклая седина с коричневатой тусклостью.
— Здравствуйте, Софья Дмитриевна, — поклонился я.
— Здравствуйте, — сухо, не узнающе ответила она.
За столом мы сидели рядом. Софья Дмитриевна ела неохотно и мало, и, если бы не уговоры невестки Алевтины, жены Вадима, она бы не попробовала замечательных «тройных» пельменей и курника — мензелинского сдобного пирога, набитого разным мясом.
Неожиданно спросила:
— Как здоровье вашей мамы? — выслушала, опять замкнулась, как-то важно выпрямившись, принялась за чай — показалось, она плохо слышала меня, слова, по-моему, уже не задевали ее, а покружив вокруг головы, растворялись в ее значительном молчании. Она уже научилась останавливать слова на расстоянии, пока они не остынут от горечи, тревоги, раздражения. Но Софья Дмитриевна слышала.
— Мне восемьдесят четыре. Тяжело, нехорошо, — и опять важно замолчала.
Вадим рассказывал, как он жил. Вот Алевтина. Приехала учительствовать в Мензелинск после института, через три года собралась домой, в Москву.
— А у нас чувство в разгаре. Решили свадьбу сыграть в Москве. Прибыл на Казанский вокзал — никто меня не встречает. Дождался пустого перрона, уселся на чемодан, огляделся — странное, скажу тебе, чувство появилось. Вроде бы все это снится, вроде бы все это не всерьез, и тем не менее так называемый червяк сомнения очень больно и тоскливо вгрызся в сердце. Погрыз он меня, погрыз, смотрю, Алевтина идет. То ли что-то перепутала, то ли последние колебания отбрасывала. С тех пор и москвич. Учителем рисования, в профессионально-техническом училище. Столяры-краснодеревщики от нас выходят. Борис в Нефтекамске живет. Уже на пенсии — он рентгенологом был. Слава в Ленинграде. Художник. А Левы нет. Умер.
Так захотелось ахнуть, поскорбеть в голос с жалкими, невзрачными междометиями — еле удержался. Как он звонко читал на далеком крыльце, какую честную компанию собирал вокруг: отважные, нежные, милые люди населяли книги, читанные им. И я там был, на том крыльце, и помню, к несчастью, Леву живого.
Софья Дмитриевна строго покашляла-погмыкала, привлекая мое внимание.
— Серазитдинов очень шалил. Просто хулиган был. — Смутно припомнил Серазитдинова. Софья Дмитриевна пристально рассматривала меня выцветшими голубыми глазами, точнее сказать, льдисто усталыми. У нее не накопилось новых воспоминаний, и она повторила:
— Как чувствует себя ваша мама?
— Не говорите мне «вы», Софья Дмитриевна!
— Да? Странно. Почему? — И она отвернулась.
Вадим показывал свои рисунки, акварели, пейзажи, собранные из разных пород дерева, показывал давние портреты, писанные Славой.
— Узнаешь?
На портрете была молодая Софья Дмитриевна, с яркими голубыми глазами, с мягкой и грустной улыбкой, с льняными, шелково стекающими волосами.
— Он висел у вас в зале, над круглым столом?
— Правильно.
— А у Софьи Дмитриевны была балалайка, и она плясала и пела, когда приводили гости.
— Правильно! И сейчас балалайка есть. — Вадим оживился, чуть ли не побежал в другую комнату, вынес балалайку, протянул Софье Дмитриевне:
— Пожалуйста, сыграй.
Она без улыбки взяла балалайку, привычно устроила на коленях:
— «Светит месяц, светит ясный…» — пела Софья Дмитриевна дребезжаще, негромко, вероятно, с трудом слыша себя, но как пронзительно и грустно было ее пение. Положила балалайку на стол:
— Устала. Хватит.
Невестка Алевтина отвела ее на диван.
Вадим раскрыл очередную папку с рисунками и акварелями:
— А это узнаешь?
Акварель изображала Крестовоздвиженскую церковь в Иркутске. Белая, строгая, высоко вознесенная над Ангарой, как бы очищаемая постоянно легким ветерком, взбегающим от берега — сколько слов, сколько лиц, сколько прозрачных дней запомнил я, многие годы кружа у Крестовоздвиженского холма.
— Когда ты там был?!
— Лет пять тому. Искал тебя в Иркутске, но поздно было. Хорошо я там порисовал.
Первая моя учительница, в черном платье, трогательно нахохлившись, закрыв глаза, дремала на диване; Крестовоздвиженская церковь в Иркутске нежно и робко проступала на акварели, напоминая о лучших годах; Вадим смотрел дружелюбно и даже родственно, так сказать, голубыми глазами детства — удивительно, как Москва разъединяет, сводит, переплетает наши судьбы, как ведет нас по той или иной улице в благосклонный к нам вечер.
Странники у костра Повесть
I
Крытов жил в Древлеве, городке, украшенном заповедными церквами, монастырями, деревянными резными улочками, хранившими русский дух. Слыл чудаком, был немолод и некрасив. Белесо-рыжие, сношенные почти в пух волосы на веснушчатом черепе, вздернутый нос со сходящей на нет переносицей, круглые синие глазки под рыжими ершиками. Однажды Крытов (в приступе отчаянного желания хоть как-то облагородить лицо) покрасился, вытеснил рыжину каштановостью. Вытеснить вытеснил, но тут же раскаялся: «На храмах маковки покачнутся от такой рожи». А жена, онемев и обессилев ногами, тяжело опустилась на стул перед новоявленным шатеном.
— Бес попутал, Марья Ивановна! — не отрываясь от зеркала, объяснил Крытов. — И в Древлеве бесы водятся.
Но смывать краску, а тем более исчезать куда-нибудь из городка до принятия естественного вида наотрез отказался:
— Пусть посмотрят на дурь человеческую. То есть на мою. Может, кто и поймет, что природу исправлять вредно.
Он рыжел медленно, стойко, не потупляясь и не конфузясь при встречах со знакомыми — а знаком он был со всем Древлевом, — напротив, Крытов строго хмурил свои черные молодые брови, точно требовал от каждого встречного: «Ну, где твоя ухмылка-улыбка, где твой веселый законный кураж?»
Но горожане не задерживались на его косметической промашке, разве кто-нибудь торопливо отмечал: «Вот дает!» — и бежал дальше: в Древлеве привыкли к иным, не столь невинным крытовским странностям.
Был там городской сад — с липами, кленами, песчаными дорожками, низенькими уютными лавочками, привечал входящих старинной тишиной, под сенью которой всласть думалось о временах, прошедших под здешними куполами и колокольнями. Но провинциальная скромность сада раздражала «городского голову», и задумал он соорудить в саду колесо обозрения, чтобы появился на строгом золотом лике Древлева густой мазок новейшего письма и чтобы могло, вознесясь на колесе, любопытствующее око охватить весь Древлев, от Московской заставы до Ивановской, и удивиться на миг легкости вознесения.
Задумано — сделано. Привезли колесо, расчистили площадку, врыли мачты-столбы ввиду церкви Бориса и Глеба. Теперь «городской голова» часто и с удовольствием размышлял, как он откроет колесо: ребята из ансамбля «Скоморох» грянут туш. Маша из райпотребсоюза, голубоглазая, в сарафане, кокошнике, этакая княгиня древлевская, усядется в первую люльку, к ней подсядет Ваня-гармонист в лазоревой косоворотке… Нет, его надо отдельно… Потом…
Но тут появился Крытов с гневно встопорщенными, снова рыжими бровями.
— Не срами Древлев, Иван Захарыч. И сам не срамись! — Крытов сунул каменной тяжести портфель под стол, Ивану Захаровичу показалось: прогнулась половица. В портфеле Крытов носил пудовую железку, как он говорил, для укрепления мышц спины и рук.
— Что такое? — Иван Захарыч не поднимал глаз от прогнувшейся половицы, не хотел видеть Крытова, бывшего своего одноклассника, нарочно не замечавшего, как изменили годы Ивана Захаровича, как серьезно прибавили ему лба, как значительно утяжелили подбородок.
— Ты видел Георгия Победоносца, копьем поражающего змия? — Крытов уселся в начальственное кресло, свойски поворошил листки с планом открытия колеса.
— Ну? — Иван Захарыч побагровел от новой бесцеремонности Крытова и вспомнил, что в школе у него было прозвище — Корыто.
— Если Георгию Победоносцу вместо копья всучить автомат, это будет то же самое, что твое колесо в центре Древлева. — Крытов опять взялся за листки, собрал их аккуратной стопочкой, отложил в сторону.
Иван Захарыч чувствовал, что дальше багроветь некуда, сейчас взорвется, и он мысленно обругал Крытова: «Корытом ты был, корытом и остался»; стало легче.
— Люди должны отдыхать современно, а не только на наши маковки глазеть.
— Отмени колесо, Иван Захарыч. Экое бельмо Древлеву приляпаешь. Неужели не жалко? — Крытов вовсе разволновался, схватил бумагу, свернул в трубочку и, как в подзорную трубу, посмотрел на Ивана Захаровича.
— Не трогай бумагу! — со сладостным всхлипом крикнул Иван Захарыч, но тут же взял себя в руки. — Не могу отменить. Назад не отвезешь, надо ставить.
— Ну давай я его ночами распиливать буду, а куски закапывать.
— Посажу.
— Не отменишь?
— Нет.
— Был ты Ванька-пуп, им и остался. — В школе Ивана Захарыча дразнили «Ваня-пуп» из-за любимого его присловья в те годы: «Пуп надорви, а сделай; пуп надорву, а своего добьюсь». — Грыжу все равно наживешь.
— Тут Ва́нек нету! — Иван Захарыч тоже вспомнил полное крытовское прозвище: «Корыто — рожа неумыта» и, наслаждаясь своей выдержкой, кротко сказал: — Ступай с миром, Никодим Власыч.
Крытов вышел, сел на велосипед и покатил во Владимир: отменять колесо. Там так щедро и многословно обещали разобраться, рассудить-рассмотреть, что Крытов не мешкая покатил в Москву. Спохватился, что забыл под столом Ивана Захарыча портфель, где помимо пудовой железяки были батон и плавленые сырки. «Ну ничего, у свояка в Москве поужинаю», — и Крытов приналег на педали.
Близкая ли, далекая ли выпадала дорога, он предпочитал одолевать ее на велосипеде, и не потому даже, что это хорошо для здоровья, а потому, что Крытову было душно и скучно ездить в поездах и автобусах; по его словам, голова сразу пустела и уже не человеком себя понимал, а сплошной зевотой. Вот на велосипеде одна радость, будто на лошади едешь: просторы вокруг, птицы, и голова без устали работает, что да как на этом свете согласуется и приходит в противоположность.
Крытов, по давнему древлевскому выражению, собрал под свою руку юнцов, насупленных, шкодливых, басистописклявых. А собирал так: увидит, скажем, на берегу Песчанки тупеющих от игры в «кто дальше плюнет» или на пустыре за садом с жестокой резвостью гоняющих собак, подкатит на своем «Туристе», в звонок потилинькает: мол, прошу внимания.
— Мальчишки, кто из вас не умеет в седле держаться? Та-ак. Все умеют. Посмотрим. Вот ты начинай. До той вербы — и назад. Да побыстрей, я засекать буду. — Крытов доставал карманные часы с большой секундной стрелкой, зажимал в руке велосипедную кепочку с красным козырьком, как флажком, махал: пошел! И каждому находил похвальные слова:
— Хорошо руль держишь! Ногами замечательно работаешь! Сидишь прямо как чемпион.
Потом они, возбужденные, жарко дышащие, соединенные крытовским одобрением, ждали, что же он скажет дальше. Крытов неожиданно командовал:
— Согнуть всем правую руку! Вот так. — Обходил строй, веснушчатой цепкой горстью проверял твердость мальчишеских мускулов, удивленно приговаривая: — Булыжник, да и только! А ты тут не утюг ли прячешь? Молодец! Так. — Крытов снова тилинькал в звонок. — Мальчишки вы все быстрые и сильные. Пожалуй, можно взять. — Крытов с сомнительной хмурью вглядывался в горящие лица. — Путь, правда, неблизкий, три дня в седле… С непривычки можно расписаться.
— Не распишемся! — хором вскрикивали мальчишки.
— Что же, у всех по русскому двойки? — Крытов обескураженно хватался за голову. — А я-то как к людям. А они все на осень оставлены.
— Да не-ет, — вразнобой уже, остывая, тянули мальчишки. — А куда ехать-то?
— По Владимиро-Суздальскому княжеству. Проходили по истории? Поедем к одному знаменитому древлевцу. Навестим, а то давно он у нас не показывался. Велосипеды у всех есть? Та-ак. Двое безлошадных. Подумаем. Теперь: кто где живет? Заеду к отцу, к матери, побеседую…
Знаменитых древлевцев живет на свете много, и кого можно достичь на велосипеде, того Крытов достиг: бывал у писателя, пасечника, космонавта, верхолаза, капитана дальнего плавания, — сначала один, потом со своей ватагой; и от мальчишек Древлев узнал, что каждого знаменитого земляка Крытов вгонял в пот, в бледность изнеможения расспросами о жизни и своими попутными суждениями о ней. В котором часу встает знаменитый человек, помнит ли время, когда был обыкновенным гражданином, в какой миг почувствовал, что вот-вот станет знаменитым, умеет ли одновременно читать, слушать и писать, часто ли недоволен собой, боится ли спорить с начальством, что ест, что пьет, бегает ли трусцой, бывают ли домашние споры-свары… Знаменитый писатель однажды не выдержал и, утирая взмокшие рыхлые щеки рукавом джинсовой косоворотки (как выяснил Крытов, сшитой руками венесуэльских почитателей древлевского таланта), укорил Крытова:
— Ты почище следователя, Никодим Власыч. Просто-таки владыко Никодим. А я у тебя на исповеди. Чистосердечно говорю: грешен, батюшко. Ссорюсь дома. Каторга для домашних мои писания.
— Так, так, так, — согласно «затакал» Крытов. — Не мед у тебя жизнь. Не мед.
— Что ты к людям пристаешь? — ругала его жена Марья Ивановна. — Все при деле, при почете, по минутам жизнь рассчитывают, а тут ты со своим велосипедом. Тары-бары, скоро на порог перестанут пускать.
— Ну как же? — горячо нажал на «а» Крытов; всю жизнь Марья Ивановна одергивала его, а он никак не смирялся, всегда отвечал возмущением. — К ним одни начальники да корреспонденты ходят, значит, они застегиваются на все пуговки. А я любопытствую для себя. Понимаешь, мне интересна их жизнь, Крытову из Древлева, и они чувствуют мой интерес. В холодке, на лавочке, в кои веки поговорят без чинов и лычек. Эх, Марья Ивановна! Разве не интересно понять, чем знаменитый человек отличается от обыкновенного!
— И ты, скажешь, понял?
— Да. Живут гуще и думают чаще. Мы по сравнению с ними — вода с киселем. Все под ноги смотрим, будто потеряли что. А они на купола смотрят, то есть на небеса. Это я тебе не про религию говорю, а про смысл жизни. Он не под ногами, а в небесах.
Марья Ивановна жалела Крытова, когда его относило к смыслу жизни: вроде не хворает, ни на что не жалуется, а проглядывало в эти минуты, как ей казалось, что-то совсем стариковское, безнадежное: «Вон и шея сразу вся в гусиной коже».
— В небесах так в небесах. Не знаю, спорить не буду.
…В Москву прикатил к шапошному разбору — Министерство культуры (там, считал Крытов, могут отменить колесо) разошлось на советы, просмотры, и говорить пришлось с невзрачным молодым человеком, случайно задержавшемся на месте.
— Никто у нас такой мелочью и заниматься не будет, — уверенно говорил молодой человек, покровительственно рассматривая запыленного, совсем поблекшего Крытова и, возможно, думая, что Крытов еще невзрачней его. — Потом, что дурного в этом колесе? Представьте, как детишки ваши будут радоваться.
— Чему бы это? — Крытов понял уже, что попусту теряет время, сразу ощутил угрюмые толчки голода и усталости. — Как тысячелетнюю красоту нашу разом опоганят?
— Тысячу лет красота выстояла, и чтобы… м-м… в одночасье исчезнуть от невинной веселой забавы — очень уж вы мрачны, товарищ Крытов. — Молодой человек оживился, сонная скука пропала из глаз: «Как я к месту это „одночасье“ вспомнил!» — И красота уцелеет, и Древлев приобщится к современным развлечениям.
— На пустырях надо развлекаться, в чистом поле, а не возле заповедных храмов. Так и приучим детишек, — Крытов выделил «детишек» сладеньким голоском, не удержался, передразнил молодого человека, — что в любом заповедном месте можно снять штаны и навалить. — Крытов привычно поискал портфель под столом, вспомнил, что забыл в комнате Ивана Захарыча, чертыхнулся и вышел вон.
Постоял на углу Неглинной и Кузнецкого, сжевал полдюжины пирожков с ливером, запил газированной водой, потом позвонил свояку, сказал, что хоть и в Москве, но зайти не сможет — ответственный велопробег. Свояк спросил, что же это за пробег на ночь глядя, Крытов уточнил: повышенной трудности, в ночных условиях, и вообще он готовится к большому путешествию, при встрече расскажет. «Ну, если неймется, езди по ночам», — свояк зло хлопнул трубкой. А разозлился потому, что проезжала мимо верная, не проклятая женой выпивка — Крытов без гостинца в его доме не появлялся.
А Крытов потихоньку возвращался в Древлев, прямо-таки до душевных спазм жалея проезженный день: «Иван Захарыч — без спору — не мешкал. Школьную кличку оправдывал. Надорвется, а на своем поставит. Неужели все-таки завертится?!» Крытов пробовал принажать, но сил осталось лишь на медленную, занудную езду.
Иван Захарыч действительно не мешкал. У церкви Бориса и Глеба стоял кран, приезжие люди в оранжевых касках и жилетках ходили вокруг колеса. Крытовское сердце зашлось в нетерпении спасти древлевскую землю от этого лиха, от этого железного чудища.
…Свежим майским утром Иван Захарыч неспешно и заблаговременно шел на работу. И вдруг с небес раздался трубный глас:
— Остановись, Иван Захарыч! Остановись!
Иван Захарыч споткнулся, присел, делая вид, что у него развязался шнурок на ботинке, и осторожно огляделся — слышал ли кто еще этот властный, громоподобный голос или он гремел только для него, убежденного атеиста. Городская площадь была пуста.
— Распрямись и слушай! — снова громыхнули небеса.
Иван Захарыч поежился, покорно прислонился к телеграфному столбу: как жаль! Столько у него еще сил, столько планов, и вдруг такая напасть — теперь пойдут врачи, больницы, скорбные глаза родни и сослуживцев: «бедняга, доработался до слуховых обманов».
— Подними голову! — приказали небеса. — Хватит в землю вперяться!
Иван Захарыч послушно поднял голову. На телеграфном столбе сидел Крытов, то есть не сидел, конечно, а стоял на монтерских когтях, одной рукой обхватив верхушку с изоляторами, а другой — сжимая жестяной рупор, которым он пользовался на службе, в Обществе спасения на водах.
— Здравствуй, Никодим Власыч! — с облегченным, радостным вздохом сказал Иван Захарыч: слава богу, снова его душу опалил огонь материализма. — Высоконько ты что-то забрался, что высматриваешь?
— Иван Захарыч, опомнись. — Крытов надел рупор на изолятор и обеими руками обнял столб. — Отмени колесо. Не отменишь — я навечно останусь здесь.
— Не могу, Никодим Власыч. Видишь: техника здесь, деньги потрачены, из области звонили, что аттракцион уже включили в туристический маршрут. Слезай, Никодим Власыч.
— Всему народу расскажу. Зловредное твое упрямство, Иван Захарыч. Пока силы не оставят, не слезу. Я тебя разоблачу.
— Сиди, Никодим Власыч. Спорь, разоблачай — только спасибо скажу.
Иван Захарыч заторопился на службу: «Надо в милицию позвонить. И пожарным. Чтобы ни в коем случае не вмешивались. Пусть покричит, раскачает Древлев. Как солнышка, колеса будут ждать. В очередь встанут».
Крытов трубил вслед:
— Один будешь на нем вертеться. Кресло отнимут — в люльку пересядешь. Чтоб отдыхалось тебе культурно.
— Никодим Власыч! Далеко ли видать? — Внизу драл бритую голову Лесуков, литой, как желудь, мужчина, знаменитый в Древлеве огородник.
— Вижу, в твоих парниках тимуровцы из ПТУ пробу снимают. Пупырчатые у тебя огурцы, хрусткие.
— Пупырышки он разглядел. Дуришь все, Никодим Власыч, — Лесуков недавно был в парниках, крытовскую издевку расслышал, но все равно прохватило опасливым беспокойством. — Да и старуха дома.
— Ага! Екнуло нутро-то! Мелкота ты все-таки, Лесуков, сверху особенно заметно.
— Мы, Никодим Власыч, в поднебесье не парим. Мы в земле ковыряемся — как нас разглядишь?
— Зачем ты появился, Лесуков? Скулить? Или изнурять меня своим видом?
— Слышу, кричишь со столба — ну, я и побежал. Что-то не то, думаю, с Никодимом Власычем.
— Неужели иногда думаешь? Какой же ты бессмысленный человек Лесуков.
Он давно и настойчиво преследовал Лесукова за ничтожность, говоря крытовскими словами, его жизненного портрета. Заглядывал к Лесукову в парники, останавливал на улице, заходил в дом — и все для обличительного душеспасения Лесукова. «Хорошо, Лесуков. Давай обсудим еще раз, — начинал Крытов. — Трудолюбец ты — поискать, не разгибаешься с утра до вечера. Огурцов выращиваешь прорву, как колхозная бригада. Молодец. Дерешь ты за них втридорога, но это я могу не осуждать. Свежие, ранние людям полезны. Дорого, но полезно. А дальше все в твоей жизни бессмысленно. Денег тыщи, а ходишь в телогрейке. У старухи твоей сапог нет, все в одних опорках сквозит. Машины нет, детей нет, кроме парников, ничего не видишь. Где же смысл, Лесуков? Горбатишься, горбатишься, тыщам счет потерял — для чего?» Лесуков, вежливо покашливая, перебивал: «Ошибаешься, Никодим Власыч. Каждую копеечку, политую трудовым потом, помню». — «Толку-то в твоей памяти! Если бы ты ночами, скажем, в подполе пересчитывал свои ассигнации, перекладывал их из наволочки в матрасовку — я бы и то тебя понял. Скупой рыцарь из Древлева. Любимое занятие — считать ассигнации. Но ты ведь их все в сберкассе держишь. Весь город про твой капитал знает. Куда ты его копишь? На гробницу из мрамора?» — «Вот иду я в телогреечке, Никодим Власыч, по городу, а за спиной шепоток: Лесуков идет, сто тысяч, а может, уже двести на книжке лежит. И мне приятно, Никодим Власыч, что я — живой пример трудолюбия и бережливости». — «О, приятно ему. За спиной у тебя все пальцами у виска крутят: чокнулся, мол, на наживе». — «Ничего, я не обижаюсь, Никодим Власыч. Со временем поймут, что и Лесуков украшал древлевские улицы». — «Бессмысленная жизнь, Лесуков. Хоть бы одному сироте помог, в Фонд мира рублевку бы перечислил, городу бы завещал! Глаза закрыть — всего два пятака уйдет, жлоб ты этакий!» — распалившись, кричал Крытов. «Капитал сам себя показывает, — темно и строго отвечал Лесуков и тут же вворачивал свою слабенькую, покорно-ехидную улыбочку. — О сирых да обездоленных ты у нас все хлопочешь, Никодим Власыч. Нам еще далеко до твоего сердоболия. Ох, далеко». — «Пропадай в своем навозе, Лесуков. И шило свое для других побереги, меня не достанешь».
— На высоте-то, наверное, зябко, Никодим Власыч? Хочешь, прямо на шесте подам? И за малосольным сбегаю?
— От тебя дождешься. Две тысячи лет Древлев стоит, а такого жмота не видывал. — Крытов устал сидеть на столбе, ноги, руки занемели. Того и гляди рупор выпадет.
— Ты зачем появился, Лесуков?
— Боязно, Никодим Власыч. Вдруг в трубу эту начнешь меня крыть. «Такой-сякой», «кулацкое отродье»… Ты на слово больно горяч.
— Врешь, Лесуков. Похихикать пришел. Совсем, мол, Крытов тронулся. Ты бы меня шестом сшиб: «Не баламуть народ, не мешай землю копать, не лезь поперек батьки!»
— Что ты несешь, Никодим Власыч?! Вон как сердце у тебя зашлось — на столб полез. Отвлечь тебя хочу. Все-таки крой лучше меня, я привык. А против власти зачем шуметь? Добром хочу за беседы твои отплатить — какую-никакую, а прибыль и от них имею. На досуге задумаюсь над твоими словами и утешаюсь: хоть одному человеку да нужен. Тебе нужен, Никодим Власыч. Сколько пылу на меня изводишь. Значит, и во мне смысл есть?
Крытов, как многие люди с прихотливым, горячим характером, был простодушен: забыв, зачем он на столбе, увлекся лесуковской речью.
— Да не мне ты нужен! Не мне! Подумай, зачем в мире живешь. Здесь смысл ищи. Пойми, Лесуков, твой смысл не в сберкассе и не в моих беседах. Весь смысл, как друг для друга стараемся.
— Вот и послушай меня, Никодим Власыч. Не шуми на власть, она для всех старается. Ты можешь ошибаться, а она разве нет? Слезай, Никодим Власыч. Колесо-то не для власти, для людей — какой тебе еще смысл нужен?
— Тебя кто, Иван Захарыч послал? Ты с чего там елеем брызгаешься? Открытия сберкассы ждешь — серебрениками своими звенишь?
— Хорошо, Никодим Власыч, славно. Сыпь, дроби Лесукова. За громоотвод возьмись, разряжайся. Твоя правда, Никодим Власыч. Вдовам не помогаю, ни одной сироте пряника не купил, ни одной матери-одиночке жизни не скрасил. Все помяни, Никодим Власыч. От тебя и гнев приму, только слезай.
— Так я и знал. Позлить пришел. Выбрал минуту. — Крытов выговорил это тихо, с печальным стоном. И тут же приложился к трубе, рявкнул: — Червяк! Ползи отсюда, пока колесом не переехали!
Не только Лесуков, но и добросердечные древлевцы нет-нет да укалывали Крытова конфузом, вышедшим с его письмом в Министерство финансов.
Как услышал Крытов, что готовится государственная помощь матерям-одиночкам, так и засел за письмо — были у него нетерпеливые соображения о предстоящем законопринятии. Он писал, что матери-одиночки, по его душевному разумению, горестнее вдов. Вдовство — отметина злой судьбы. А вот матери-одиночки сами выбирают вдовью долю, лишь бы продлялась жизнь, лишь бы оттесняла она и заглушала одиночество. Здесь Крытов споткнулся: вряд ли в Министерстве финансов определяют, чье горе тяжелее, — споткнулся, извинился за длинную присказку, сама сказка вышла короче: он, Крытов, фронтовик и знает, отчего на русских весах так тяжело занемело женское плечо и так скорбно утоньшилось мужское. Как оставшийся жить, он, Крытов, обязан помогать матерям-одиночкам и потому к письму прилагает десять рублей и готов каждый месяц посылать десятку той матери-одиночке, на которую ему укажет Министерство финансов. А если министерство обратится к другим фронтовикам, они тоже не откажут государству, вместе вытянут безотцовщину, без которой, получается, нам не обойтись.
Крытова дома не было, когда почтальон принес перевод на десять рублей и тощий казенный пакет — Марья Ивановна тотчас вскрыла его. Министерство финансов уведомляло Крытова, что оно не уполномочено присовокуплять к государственным пособиям частные вспомоществования, поэтому возвращает товарищу Крытову письмо его и одновременно переводом высылает десять рублей, ибо денежные вложения в конверты запрещены.
Марья Ивановна вскоре знала крытовское письмо наизусть, и ей не терпелось спросить: с чего он на старости лет так встревожился судьбой матерей-одиночек? Крытов же не шел, и Марья Ивановна, истомившись в нетерпении, постучала к соседке:
— Посмотри-ка, Дуся, как Никодим Власыч отличился.
Соседка вроде бы нехотя, только уступая волнению Марьи Ивановны, пробежала крытовские строки, далеко и небрежно отставив листок, а вот казенный ответ прочла внимательно, почтительно нахмурившись.
— Видишь, дают понять: ты, мол, товарищ Крытов, сам по себе, а государство само по себе. Если, мол, хочешь, частным образом помогай, а государство в свои темные делишки не впутывай. И без вас, мол, ходоков и заботников, дел невпроворот.
— Да что ты! — испугалась Марья Ивановна. — Как это ты читаешь? Где это ты увидела про темные делишки?
— Догадалась. Читай: не уполномочено присовокуплять частные вспомоществования. То есть сам помогай, если такое желание появилось. Это-то тебе ясно?
— Вроде… — Марья Ивановна еще раз заглянула в казенный листок. — Где вот его черт носит? Ты всегда, Дуська, сердце в пятки загонишь.
— А ты за радостью приходила? За приятством? Так я на картах не гадаю. Ты документ принесла, я растолковала. Я с фактом дело имею. Не нравится правду слушать — не ходи.
— Уж больно все по кочкам норовишь. Какая такая правда? Так, одни догадки.
— Тогда иди. Другого ничего не высидишь. Встречай своего одиночку.
— Ладно, Дуся, ладно. Извини. На тебя, что ли, дурь не находит?
— Свою дурь при себе держу.
— Ох, какая ты! — Много раз зарекалась Марья Ивановна в советчицы да сочувственницы соседку брать, вот и сейчас, уходя, говорила: — Чтоб еще раз к тебе постучалась?.. Глянула в твою сторону?! Да никогда!
— Иди, иди, благоверная. — Дуся широко распахнула дверь, подождала, пока Марьи-Ивановнин след простынет, и постучала к своей соседке.
Только Крытов на порог, только сунул под вешалку портфель с пудовой железякой и, погружаясь в неторопливое домашнее течение, досуже обмяк плечами, как натолкнулся на дрожащий, бессильный голос Марьи Ивановны:
— Откуда ты знаешь, Никодим Власыч… Вот ты пишешь: «Суровая жизнь матери-одиночки» — откуда ты это знаешь?
Крытов вздохнул, вновь подобрался, пиджак одернул, грудью пошел на жалобный голос жены. Она, пригорюнившись, сидела на кухне и поглаживала, вроде бы успокаивала синий казенный конверт. Крытов понял: в нем — отказ, канцелярское нежелание услышать, как стучит, заходится в беспамятстве крытовское сердце; зато вот у Марьи Ивановны хороший слух, даже чего не было, слышит, и никому, кроме Крытова, ее не успокоить. Он сел напротив Марьи Ивановны, голову кулаком подпер, тоже пригорюнился:
— Только представь, Марья Ивановна. Берет эта женщина из садика своего иждивенца, приводит домой. И никто ее не встречает. И надо без передышки на вторую смену заступать, варить, шить, штопать, ласкать-скандалить со своим сыном-дочкой. И не на кого ей рассчитывать. И долго, долго ей хлопотать. Разве не суровая жизнь. Разве сочувствия не требует? А, Марья Ивановна?
— Сама такую выбрала, никто не заставлял. Не больная ведь, не полоумная, за что жалеть-то?
— За общий смысл, Марья Ивановна. За судьбу добровольную. Материнство приняла, а силы могла не рассчитать. И как заскользит, как завертится, не сразу поймешь, сама такую выбрала или наказание ей такое выпало. Вот и остановимся на сочувствии, Марья Ивановна.
— И деньги — сочувствие?
— А как же! От ахов да охов еще никому легче не было.
— Боязно за тебя, Никодим Власыч. Что-то очень ты чувствительный стал. Будто хворь в тебе какая-то скопилась, а проявиться не может.
— Это правда, Марья Ивановна. Сердце ослабело. Кардиограмма, как у молодого, давление, как у космонавта, а чувствую — ослабело. Все так близко принимаю, ни от чего удалиться не могу — сразу дребезжит и мается.
Марья Ивановна вдруг жарко разрумянилась, даже увлажнилась, потемнела верхняя губа. Это проявлялось в ней чувство спохватки, какого-то преждевременного раскаяния, досаждавшее всю жизнь: не успеет согрешить, а уже кается, не успеет рассердиться, а уже окорачивает свой было вспыхнувший гнев, только взревнует сердце, рванется к мстительной тоске, но тут же неловко сделается: что это я, с ума схожу? Вот и сейчас застыдилась хождения к соседке, своего ревнивого зуда, и в согласии с румянцем, с его пламенной силой была жалость к Никодиму Власычу, признавшемуся, что у него неладно с сердцем.
Ослабело оно и отчасти опустело прошлым летом, когда появился в Древлеве Григорий Зотов. В молодости он был закадычным другом Крытова, но война развела их при обстоятельствах, оставивших Крытову уверенность, что Григорий не выжил.
В июльский полдень, в разгар осводовской вахты на берегу Песчанки Никодима Власыча окликнули:
— Кодя! Здорово живешь!
Никто и никогда, кроме Григория Зотова, не звал так Крытова; он подумал, что перегрелся, сдернул с головы носовой платок, рогатый от узлов, намочил его и снова натянул.
— Кодя! Здравствуй, говорю!
Никодим Власыч обернулся — курносый мужичок в соломенной шляпе, белых брючках и белой дырчатой рубашке ослепительно улыбался — с каждого зуба прямо-таки по солнцу соскочило.
— Гришка! Мать честная! — У Крытова заломило в висках, вспотели нос и подглазья. Он шел к Зотову и утирался влажным платком. — Ты где пропадал? Где тебя черти носили?! — И примерялся душой к чуду, возвратившему старого товарища, нащупывал заметавшимся сердцем давние, совсем износившиеся скрепы, соединявшие их: страсть к ужению, гонявшая по ближним и дальним речкам и озерам (к утреннему клеву надо поспеть на Деснянку, а к вечернему — на Выдрину кладь); розовые парные росы, молодые, спешащие за чувствами голоса над лесными и луговыми тропами («Кодя, едем во Владивосток, в мореходку! Капитаны, древлевцы в океане — едем, Кодя!» — «Нет, Гриха, хоть и хорошо бы. Мать на меня надеется, и Машу обнадежил. Давай лучше во Владимир, на агрономов. После армии, конечно»). Вот когда «после армии» настало. Крытов этой мгновенной оглядкой в молодость разогнал, разгорячил кровь, шел уже к Зотову с влагой приветной в глазах и с распростертым сердцем. — Ну, Гриха! Иногда и нас судьба балует. Как же мы это не находились-то? Как же можно было?!
Григорий Зотов снял шляпу — обнажилась странная лысина, этакое мшисто-серое болотце с редкими черными пучками кочек. Снятой и опущенной к поясу шляпой он вдруг начал резко и энергично помахивать, будто забивал ею невидимые колышки в невидимую городьбу:
— Стой, Кодя, стой.
Но Крытов в волнении не расслышал и вот уже горячо приблизился; Григорий Зотов вскинул шляпу, испуганно вытянул руку с нею, останавливая беспамятно помолодевшего Никодима Власыча:
— Кодя, погоди! — Крытов растерянно вздернулся, нелепо уронив руки. — Я ведь американский гражданин. Может, во вред обнимки-то тебе пойдут?!
Сбился Никодим Власыч с высокого и самозабвенного мига на какое-то глупое, неуместное недоумение, сердечная распростертость вытеснилась заурядным раздражением.
— Что ты лезешь со своим гражданином! А? Будто с разбега на столб налетел. Тьфу! — Крытов действительно с гневной истовостью плюнул. — Что же ты сбил все, не дал душой на молодые дни нахлынуть? Ну чего ты сунулся?! «Гражданин»!
Григорий Зотов, уже в шляпе, с давешней полнозубой, холодно сверкающей улыбкой, объяснил Крытову:
— Я на день приехал.
— Гриха! Мать честная! Неужели в те дни даже заглянуть не тянет?
— Привык, Кодя, хлопот не доставлять ближним своим.
— То ли дурь, то ли блажь тебя распирает. Прямо как сероводород. Ты зачем приехал, Гриха? Как ты жил — другое дело и темный вопрос, но молодость-то у нас с тобой общая была. Что ты искать приехал? Древлевские улицы?
— Подчеркиваю твердо: не собирался я сюда. Древлевские улицы не снились и не звали. Да вот миссища затащила. Хочу да хочу видеть, где ты появился.
— Какая миссища.
— Жена. Миссис. Вон стоит.
Оказывается, на берегу Григорий Зотов появился с женой и Марьей Ивановной («Ну да, — сообразил Крытов, — сначала по адресу отыскали, а Марья Ивановна их привела»). Жена Григория была маленькая, толстая, нос картошкой на морщинистом добром лице. Как и Григорий, в белых брюках, в дырчатой блузке; брюки с матрешистой, цирковой нелепостью обозначали нескладность женщины; Крытова растрогала эта нелепость: «Вон опары сколько. Ходить тяжело, жить тяжело, а — веселая! и живая!» Жена Григория Зотова не уставая помахивала приветственно маленькой ладонью Крытову и попутно улыбалась Марье Ивановне, любопытствующим и ротозейничающим древлевцам. Главную улыбку, тревожно-нерешительную, направляла Никодиму Власычу, тревожась, должно быть, за зотовское бесчувствие к родному берегу и призывая Крытова потерпеть это бесчувствие, попусту сердца не тратить; показалось ему — именно об этом ее улыбка и растопыренная маленькая ладонь.
— Жену как звать? — Крытов помахал ей платочком, выставлявшимся из кулака, как лепесток огромного белого цветка; по представлению Крытова, это был жест опытного парламентера, дающий понять женщине, что он, Крытов, удержит неприязнь к Зотову, не прорежется она в крике или гневе, ибо он, Крытов, понимает, как нерадостно жить с человеком, не желающим видеть родину, не сохранившим радушия для Древлева.
— Кэт, а по-вашему Катерина, — с готовностью объяснил Григорий Зотов. Крытов покосился: дурака валяет или всерьез объясняет? Скорее, всерьез — дряблые румяные щечки Зотова не дрогнули от замеревшей, затаившейся до поры шутки, розыгрыша, спрятанных на манер леденцов за щеку. Розовели ровно, сыто, безмятежно.
— Нет, по-древлевски не так. Приятнее сказать: Катенька, Сусанночка, Причардочка.
— Все злишься, Кодя. А я отвык. И сам не злюсь, и не люблю, когда вокруг злятся.
— Что же, тишь да гладь вокруг тебя? И за душу ничто не цепляет?
— Когда кричат, когда указывают, когда принуждают — этого моя душа не выносит.
— Замороженный ты стал, Гриша. И белесый какой-то. Размытый.
— Я спокойный, Кодя, стал. Все в моей жизни устроено разумно и правильно.
— Бормочешь, бормочешь — какая тоска. Мог бы соврать, Гриха, что меня повидать приехал. А то — равновесие, спокой. — Крытов вдруг сник, сгорбился, потемнело, остыло его веселое, горячее лицо.
…Их контузило одним снарядом под Смоленском, и очнулись они друг подле друга на амбарных воротах, волочившихся за немецким танком. Танк полз по июльской пшенице, мотор работал с мягкой, сытой ворчливостью, и Крытов сквозь боль, сквозь мирно урчащую хлебную тишину, сквозь очнувшуюся душевную невозможность ощутил некий озноб, странным образом пришедшую догадку, словно свалившуюся с июльских небес: он выживет, сбежит, отмается за эту волокушу и будет еще счастливо драть голову к древлевским куполам. «Вон и Гриха стонет. Выживем». За волокушей шел фашист с распаренным полуденной жарой лицом. Поймав крытовский взгляд, фашист подмигнул и вроде бы улыбнулся. Крытов закрыл глаза: «Карауль, карауль. Дай только очухаться как следует».
Угодили в работники к хуторянину, одноглазому старику, щуплому, писклявому, суетливо-аккуратному: он все обирал с рукавов и лацканов невидимые паутинки и ниточки, беспрерывно проверял бледными и быстрыми пальцами, не сбился ли узел галстука. Пустую глазницу закрывал подушечкой на резинке, но, раздражаясь, срывал ее, мял, вертел на пальце — открывалось желтоватое, вроде бы ороговевшее веко, появлялось в старике что-то жалкое, беспомощно-птичье.
Старик раздражался и злился часто: не так лошадь вычистили, не туда гвоздь вбили, не там зерно ссыпали — не умолкая, поскрипывал его голос в доме и во дворе. Скрип этот въедливый обеззвучивал жизнь; шум дождя, свист ветра, шорохи, шелесты, звеньканье, мычанье, храп, ржанье — все отменял и заглушал скрип, негромко и даже жалобно ввинчивающийся в уши: «Варум? Варум? Варум?» — старик терзал черную подушечку, а птичье веко отвлекало от гнева, казалось, старик сердится невсамделишно, нарочно, старательно играет в придирчивого хозяина, но бояться его не надо, он беззлобен, этот постаревший, не освободившийся от птенячьей щуплости ребенок.
В хозяйских придирчивых прогулках старика всегда провожали две упитанные, розовощекие барышни, то ли племянницы, то ли охранницы, то ли приказчицы, то ли еще кто. В одинаковых темно-синих платьях из тонкого сукна, в черных коротких пиджачках, в легких и прочных ботинках с высокой шнуровкой, барышни шли пристяжными у старика. Он вышаривал причину для скрипа перед собой, а барышни — по сторонам. Одна всегда ходила с блокнотом и карандашом, другая — с расстегнутой тяжелой кобурой на бедре. Барышни почтительно выслушивали старика, писклявые всплески его причитаний, и та, что с блокнотиком, спрашивала: «Продиктуешь?» — то есть, что ждет провинившегося. Старик бешено вращал на пальце подушечку: «Запиши. Пусть останется нагишом и идет чистить свинарник». Та, что была с кобурой, неслышно хлопала в ладоши: «Ты неистощим, Курт».
Настиг хозяйский гнев и их с Грихой. Они копали сахарную свеклу в тихом пасмурном поле, обсаженном рябинами. Так далеко от них до древлевских рябинников, так пусто, тошно и нелепо было Крытову в тот день, что он вдруг швырнул свеклой в неторопливых, независимых ворон и закричал:
— Ну что мы тут забыли?! Что нам тут надо?!
Зотов жадно, громко завздыхал и, повалившись на ботву, начал плакать.
— Не реви, никто не услышит! — Крытов понимал, что слезливым Гриху сделала контузия, но все равно разозлился. — «Мамочка! Возьми меня отсюда!» Тьфу!
— Вот попали, Кодя, вот попали! — Зотов утирал слезы ладонью. — Дома-то что скажем? Не-ет, не оправдаться. Думать нечего.
— Скажем, в чистом поле всю войну провыли. Как домой попадать будем. Может, оправдаемся.
— Мы нынче, понимаешь, Кодя, нынче в мае на Дальнем озере рыбачили. А теперь вот где. Как же так? Не могу. Пошевелиться боюсь, думать боюсь, ничего неохота. Кодя-я! — Зотов опять повалился в ботву.
— Гриха! Не тужи, живы ведь. При ногах, при руках. Гриха, корешок ты мой древлевский… — Как этот «корешок» на язык попал, Крытов не знал, не любил он этих лукавых жалостливых слов, но жалко было Зотова: в самом деле; вот только что была румяная и свежая заря на Дальнем озере — и нет ее. Как с этим смиришься?!
Так нестерпимо стало Крытову, так немедленно надо было воспротивиться плену, этому июлю, этим рябинам, что он схватил лопату и, обрубая ботву, закапывал свекольные головы в борозду.
— Долой одну! Долой другую! Гриха! — весело, с дурашливым пылом, так легко заслоняющим в юности от черных ветров, налегал на лопату Крытов. — Всю их дойчланд без свеклы оставим! Вставай, Гриха! Вперед!
Зотов вскочил, поддавшись крытовской нервности, хватанул шапкой о землю — полетели из-под его лопаты свекольные головы.
Тут-то и настиг их одноглазый старик с компаньонками. Он выхватил у Крытова лопату, выкопал одну свеклу, другую и потрясенно, тоненько пропел: «Ва-а-арум?»
Крытов пробурчал:
— Ну, завяньгал.
Старик подпрыгнул к нему, замахнулся бледным кулачком, но не ударил. Запищал, захлебываясь словами, казалось, вот-вот изойдет желтой пеной, так неутомимо взбивал его язык слюну.
— Сейчас приговорит, — опять пробурчал Крытов. — Вон как расплевался.
— Не зли ты его, Кодя. От твоего голоса он из себя выскакивает. — Гриха и прежде, при мире, любил увещевательные, осторожные движения: не спорь с классной руководительницей, а то на заметку возьмет; не связывайся со шпаной из Заречья, приставшей к девчонкам из их класса, а то потом эти пакостники проходу не дадут; Крытов привык к Грихиной опаске и оглядке, как привыкают к иным изъянам ближних, к заиканию, например, или косолапости. Но теперь Крытов в неостывшем нетерпении хоть на миг пересилить плен не спустил Зотову:
— Цыц, Гриха. Надо взбрыкивать, чтоб заметно было, что мы еще тут.
— На силу огрызайся не огрызайся, — рассудительно и негромко, но с уловимым шелестом благонамеренности заговорил Гриха, — но голову она открутит. Вон кобура-то как жадно ощерилась!
Одноглазый подскочил к Грихе, ткнул кулачком в зубы — небольно вышло, как-то несерьезно, будто в сценке любительской, да еще эта черная подушечка в кулаке зажата. Крытов отходчиво подумал: «Зуботычина за кротость», — но старик, должно быть ощутив физическую нелепость своего рукоприкладства, зашелся в крике, затопал, поскользнулся на сырой глине и компаньонками под локотки был поддержан. Подушечку он швырнул в Гриху, тот с готовностью ее поднял и протянул старику.
— Э-эх, — Крытов опять зло напрягся. — До чего же ты гибкий, Гриха.
И наказание им старик назначил вроде бы несерьезное и вялое, как этот тычок в зубы. Их привели утром в столовую, где старик завтракал, усадили перед его блекло-воспаленным оком. Он пил кофе мелкими быстрыми глотками, прицеливаясь, вперяясь то в Крытова, то в Гриху, казалось, старику не терпится выбить бессмысленный задор из этих молодых пакостников. Но, отставив чашку и еще несколько потыкав их глазом, старик перешел в кабинет, где принялся что-то записывать в амбарные книги, а Крытов с Грихой опять сидели перед ним, переведенные в кабинет компаньонкой с наганом. Старик стих, успокоился за бумагами, глаз очищался от свирепой красноватой мути.
— Скорей бы уж мучил, что ли, — шевельнулся Зотов. Он вспотел и указательным пальцем сгонял пот со лба к вискам.
— Ему торопиться некуда. Уморит потихоньку. — Крытов приготовился к долгому сидению под сверлящим оком. — Пока придумает как, пока распорядится… Нам тоже не к спеху.
— Страшно, Кодя. Что-нибудь такое придумает. А может, уже придумал.
— Да уж поиздевается. Усы твои по волоску выщиплет. — Зотов отпустил усы, выросли редкие черные кустики, настолько противные и несуразные, что Крытов и потешаться над ними не мог, а лишь плевался и упрашивал сбрить этот срам, на что Зотов отвечал: «Теперь добра не жди, пусть растут».
Старик, оторвавшись от бумаг, опять прицелился, неторопливо и пристально, так сказать, установил мушку под самое яблочко — компаньонки поняли этот взгляд как неодобрительный и зашикали, замахали на Крытова: «Молчать, стоять смирно», — но старик остановил их, пожелал, видимо, слушать чужую речь, возбудиться ее звучанием и что-нибудь этакое прописать невиданным уборщикам свеклы.
— Ишь, высверливает! Титюк нашелся! — сказал Крытов. — Гриха, похож одноглазый на титюка?
— А что это?
— А это вроде, — Крытов выбрал словцо поувесистее, где «д» так крепко соединялось с «з», что в ушах ударяло, — вот такой «юк».
Зотов неожиданно развеселился, прибавил к крытовскому два своих «юка», то ли вспомненных, то ли образованных тут же.
— Пусть подавится. Пусть глотку-то обдерет, — и Зотов с замирающей, мстительной сладостью в голосе, прижмуриваясь, повторил — и раз, и другой — свои «юки».
Они перемещались за стариком по дому, по двору, прошагали за ним в поле и снова вернулись в дом, эти перемещения свершались под напором стариковского выцветшего глаза, не утратившего тем не менее некой гипнотической тяжести. Погоняющее око, ощупывающее и неустающее. Старик вспархивал перед ними на высокие табуреты и кресла и с удовольствием болтал ногами, въедался оком в чужие лица, в несмеющие подняться веки, в молодые, гладкие лбы — что за странные мозги за этими лбами, заставляющие выкопанную свеклу снова прятать в землю? Может быть, старик, всматриваясь так, искал в них дополнительные признаки помешательства, потому что нормальные люди не закапывают свеклу? Может быть, новые работники вообще не знают, что такое нормальная жизнь?
После обеда — с сигарой в оттопыренных ревматических пальцах — старик проследовал в сортир и не закрыл дверь. Компаньонки на заранее принесенные стулья усадили Крытова с Зотовым, и они могли видеть, как долго и неловко старик расстегивал и спускал одной рукой штаны (в другой дымилась сигара), как громоздился на толчок, чтобы, искожилившись до вспухших на лбу вен, снова уставиться на Крытова и Гриху сквозь вонь и сигарный дым..
— Вон он что с нами делает! Дристюк одноглазый! — Крытов зло двинул товарища в бок. — Догадался?! Не бьют и веревки не вьют. Сиди да посматривай.
Гриха молчал, потел так обильно, что волосы закурились банным парком и мокрыми стали щеки и подбородок. Компаньонки, обрамившие проем сортирной двери, не спускали с пленников глаз, сопровождали, так сказать, изучающий стариковский взгляд россыпью мелких настороженно-подозрительных взглядов. Вонь, конечно, шибала и в носы компаньонкам, но возможные гримасы и движения брезгливости, естественной дурноты они перевели в устало-снисходительные улыбочки, обозначавшие, должно быть: «С нашим Куртом не соскучишься».
Крытов разглядывал ссадины и царапины на своих крепких тяжелых башмаках и с терпеливой, томительно копящейся ненавистью думал, как бы хорошо вот этим окованным носком вбить старикашку в унитаз, чтобы глаз его зорко выглядывал из канализационной трубы.
Старик зашуршал бумагой, и компаньонки все-таки не выдержали этого завершающего звука и прикрыли дверь — старик молча распахнул ее башмаком, унырнувшим в спущенную штанину. Крытов с Зотовым сидели, сложив руки, в подневольном столбняке.
Перед сном, в черном стеганом халате, в белом шерстяном колпаке, старик старательно писал в амбарной книге — в ней были такие белые, большие листы, что зябко сделалось, пальцы вдруг гладким холодком облило. Крытов с Зотовым, голодные, отупевшие созерцатели, сонно поглядывали на компаньонок — на одной было что-то просторно-розовое, на другой — просторно-голубое. Компаньонки выстраивали на обширном стариковском ложе баррикады из подушек и подушечек.
— Не хотите ли прилечь, герр Зотов? Отдохнуть на той думке с той вон кралей? — Крытов тяжело заскрипел стулом, перехватил удивленный взгляд старика, подмигнул ему. — Что, Кащеюшко? Никак угомон не возьмет?
Старик недовольно нахмурился, махнул прекращающе ручкой — молчать, мол, не вольничать — и опять уткнулся в амбарную книгу, с привычным удовольствием выставляя быстрые, четкие буковки. Он писал, что наказание, определенное русским работникам, следует назвать Открытым уроком — этот урок, по его мнению, позволил показать молодым, но уже злобным дурням, как должен вести себя порядочный человек, из чего складывается его неутомимое трудолюбие от рассвета до заката. Манеры, правила, цивилизованные привычки — все поучительно в поведении порядочного человека… Старик часто прерывался, откладывал перо, длил чувство покойного, ясного самоудовлетворения, возникающего при писании, — сладость непрерываемой, устойчивой правильности проскользнула в грудь. Его отец, его дед еще придумали эту книгу наказаний, этот свод разумных и порядочных действий, побеждающих лень, глупость и зловредность рабов. Уже тысяча триста страниц только в его томе (одно наказание занимало одну страницу), тщательно исполненная летопись моральных уроков. Открытый урок и среди них выделялся своим трезвым и высокопоучительным остроумием. Старик со вздохом взглянул на компаньонок, с чьей помощью в последнее время утверждал порядочность и честность, — увы, Открытый урок не удастся завершить с той задуманной утром истинно мужской здравостью, поэтому русских пора отправлять на нары. Старик еще раз вздохнул, наблюдая за ожидающими мельканиями голубого и розового. Если бы он знал по-русски, то, наверное, сказал бы себе: «Видит око, да зуб неймет».
За два дня до покрова Крытов с Зотовым бежали. Уложили в котомки тайные, выгаданные сухари, соль в пузырьках, вареную картошку, по чистому мешку — укрываться от дождя и снега, запасные носки и отправились по чужой земле, разбухшей от октябрьской ночной сырости. Были у них еще самодельные, любовно точенные ножи, батоги с острыми наконечниками, были трут и кресало в клеенчатом кисете. Пошли без карты, без дорожного плана: как ни старались, не разжились; но надеялись восток с западом не спутать, с великой оглядкой добраться, не споткнуться спешащими к родным местам ногами.
Немилостива к беглым ночная дорога: предостерегающе звенел при каждом шаге булыжник; смутен и опасен был каждый придорожный куст; вязка и скользка земля, по которой обходили они каждую деревню. Одна была радость — глубокая, немеренная тьма, до рассвета спасавшая и защищавшая. Споро шагали Крытов с Зотовым, с жарким напором, только искры летели из-под батогов да посвистывала морось меж рогов накинутых на головы мешков.
Рассвет догнал их в дубовом лесу. Натаскали в яму, вырытую кабанами, толстых влажных листьев, зарылись в них, прикрылись мешками и быстро, каменно заснули. Пока спали, пошел мокрый густой снег, и так бело, пусто, безнадежно стало вокруг, что Крытов еле удержался от вздохов и жалостливых сокрушений. Зотов же, ежась, не попадая зубом на зуб, выговаривал с простудной гулкостью:
— Промерз до печенок. Корежит, ломает, смотреть больно.
— Кипятку сейчас примешь и оттаешь. — Крытов собирал костерок из сучков, хворостин, сухих веточек, мало их было в просторной дубраве. — А там разгонимся — пар повалит.
Но кипяток не согрел Гриху, и ходьба не согрела — нога за ногу у него заплеталась; при таком шаге скоро и Крытов закоченел, все останавливался, поджидал Гриху. Тот, навалившись на батожок, хрипло, часто дышал. Вот, покачиваясь, наклонился, зачерпнул снега, утерся им.
— А теперь жарко, Кодя. Не могу! — Он сел. — Все, Кодя. Не подымусь. — Гриха стянул шапку, опять утерся снегом.
— Не дури, — Крытов, натягивая на него шапку, почувствовал, как он горит, просто-таки полыхает. — Побредем потихоньку. С двумя батогами.
— Все, все! Больше не смогу!
— Ну! давай в обнимку, Гриха. — Крытов поднял его, подсунул шею под его вялую руку. — Потопали!
Как ни старался, шагать Гриха не мог — жаркая лихота отняла все силы. Крытов несколько проволок огрузшего, плаксиво стонущего друга, прислонил к дереву.
— Стой, стой. Счас на закорки возьму. Счас отдышусь.
— Кодя, не бросай! — Гриха заплакал. — Пропадать неохота-а-а… Не бросай.
— Эх, как тебя! Помнишь Жилина с Костылиным? Правильно, твоя бабушка вслух читала. Правильно, зимой, в морозы. Мы с тобой на печи сидели. Ну, не реви. Давай, Костылин. Та-ак. Только шею не дави. За плечи держись…
Зотов тыкался ему в шею горячей бессильной головой, Крытову это очень мешало, и он прикрикнул:
— Держи голову, черт тебя!..
Зотов подержался немного и снова тюкнул в шею: то ли в дрему впадал, то ли в беспамятство. Когда ссаживал его, Крытов и сам, запаленный, валился рядом, Зотов глаз не открывал, сидел обмякнув и облизывал запекшиеся губы. Крытов тоже говорить не мог, тяжел был Гриха, спина под ним трещала, и горло забивал надсадный хрип.
К утру наткнулись на будку дорожных рабочих, оставленную, видимо, до лета: двери были заколочены и оконце аккуратно затянуто фанерой. Уложил Гриху на лавку, посидел у него в ногах, отдышался, затопил чугунную печурку — угольные брикеты были тут же, в ящике.
Гриха бредил, собирал посылку в Древлев, собирал торопливо, с оказией, просительно приговаривая:
— Мигом я, мигом. Я не задержу. Сахар вот, чай — ох, бабушка у меня чаевница. Шелку вот парашютного лоскуток — пригодится ей.
Гриха привстал, и осмысленная, мечтательная улыбка раздвинула воспаленные небритые щеки.
— Запоминай. Вдруг бумажку потеряешь. Посадская, семь. Меланья Гавриловна Зотова. Ну, скажешь, что все хорошо у меня. Воюю. Что кланяюсь ей низко.
Крытов, успокаивая, легонько прижал его к лавке.
— Поклонюсь, запомню. Счас тряпицу намочим да на лоб тебе.
Зотов стих ненадолго от свежего влажного холодка, а Крытов, все придерживая его, быстро прошелся, пролетел по Древлеву, от церкви Бориса и Глеба, от Заречной то есть стороны, до старых берез Посадской, до грачиных шапок, подброшенных над каждым домом да так и не упавших. И помахала ему с крыльца Меланья Гавриловна, Грихина бабушка, насмешливая костлявая добрая старуха. И мелькнул на крыльце за плечом Меланьи Гавриловны давний зимний день: они с Грихой, вырвавшись из древлевских сугробов, сидят на печи. Забывчиво пошмыгивая, жуют пироги «с молитвой», а бабушка по складам читает им «Кавказского пленника».
Из беспамятства Гриха так и не выбрался. Слова он уже не выговаривал, а источал слабое, состоящее из гласных бормотание, еле теплящиеся звуки. Тени слов, чуть отсвечивающие синевой, обметывали черные распухшие губы. Напоив его, напитав тряпицу новым холодком, Крытов тупо думал об одном и том же: никуда теперь не убежать, надо сдаваться, иначе Гриха пропадет, надо, понурившись, идти в ближайшую деревню или городок и привести сюда немцев — этакая дичь и чушь одолевали Крытова, что встать не мог, отмахивался вяло от здравого смысла, ну, еще ночь, а завтра пойду. Ночью докатывался до него по свежему снегу, зябко пропитывал обширную тишину кошачий вой, переходящий то в леденяще-младенческие вскрики, то в мерзкие, тягучие стоны — недалеко было селение, и идти туда было, значит, недалеко. «Сами заметят. И ходить не надо, — приободрялся несколько Крытов. — Конечно, заметят. Так что потерпи, Гриха… Пусть заберут, но сдаваться не будем. Что же это за кошки у них? Разорались раньше времени. Марта подождать не могут».
Проехала утром мимо их будки подвода, Крытов выскочил, замахал возчику, закричал, но тот не услышал, укатил, причмокивая и подергивая вожжами — и причмокиванье, и хлопок ремня о сытую, гладкую ляжку коня вроде сами по себе отстали от подводы и потихоньку опустились в снег.
Но возчик заметил и следы вокруг будки, и крытовский крик услышал — через час-другой приехала машина с солдатами. Запомнил, как лежал Гриха на дне кузова, как шапка сбилась и закрыла ему лоб и глаза, как медленно, старательно шевелились его губы — Крытову показалось, что он очнулся и что-то говорит ему, но гудел мотор и громко хохотали солдаты, не расслышал Крытов Грихиных слов и потом не мог пересказать их Меланье Гавриловне.
— На Посадской-то был? — спрашивает он неожиданно ожившего Григория Зотова и явившегося на берег Песчанки из Америки.
— А зачем? — Гриха нахлобучил дырчатую шляпу на глаза, и Крытов заметил, какие бледные, тонкие губы стали у Грихи. — Бабушка умерла — знаю. Я запрашивал.
— Дом стоит, ладный еще. И липы стоят. Катерине своей покажи.
— Ее церкви интересуют, иконы в монастыре посмотрели. Время останется, свожу на Посадскую.
— Ты же говорил, ей дом твой интересно посмотреть. А ты — иконы.
— Про дом не говорил, дом у меня там, — Зотов махнул в сторону Владимира и Москвы. — По-вашему, за океаном. А родился я в Древлеве.
— В монастыре, да? Под иконами?
— Ах, Кодя, Кодя. Положа руку на сердце: я просто забыл про Посадскую. Выветрилось.
— Совсем, значит, отрекся?
— Не отрекся, а остыл. Отвык. Чужим все стало.
— А за океаном, значит, все родное!
— Главное, где сердце успокоится. Помнишь, цыганки гадали? Там у меня сердце успокоилось.
— Марья Ивановна! — окликая жену, Никодим Власыч хотел отвлечься от постных, бескровных губ Зотова, выговаривающих постные, бесцветные слова. — Бери с собой Катерину и иди чай ставь. А мы следом за вами.
— Ты что, Кодя! Какой чай?! Долго расхлебывать будешь!
— Уж как-нибудь. Зачем тогда разыскивал, тень наводил?
— Бог с тобой. Мне бы и в голову не пришло — разыскивать. Случайно вышло.
— Как это?
— Вышли с Кэт из монастыря, и вдруг я вспомнил: раньше в Древлеве все друг друга знали. Вижу, какой-то юнец на лужайке с велосипедом возится. Я его и спросил: где Никодим Власыч Крытов живет? Он и показал…
— Вспомнил все-таки…
Они шли мимо церкви Бориса и Глеба, мимо древних тополей, шли в горку, к Ивановской заставе, вот показались ее беленые бокастые кирпичные ворота и за ними клеверное поле с пробными прокосами. Принес ветерок с Ивановского поля запахи подсыхающей земляники и вялого клеверного листа, так ненавязчиво, так деликатно напоминая о давних днях.
— Как ты выжил, Гриха?
— Вылечили. Потом снова в работники попал. Потом — к американцам. Так и прижился. Воистину вылечился.
— Ну и на кого же ты вылечился?
— Фотограф, мастерскую держу. Свадьбы, поминки, семейные торжества — работы хватает. Кэт в помощниках. И подкалывать меня не надо, Кодя. В свою жизнь я тебя не замешиваю. А ты как перемогся?
— Три раза еще бегал и все-таки убежал. Во Францию попал, в партизаны.
— В Древлев, значит, из Парижа прибыл?
— В сорок пятом, осенью.
— И всё?
— Что — «всё»?
— Стал жить-поживать и добра наживать?
— Сейчас посмотришь мои палаты.
— Значит, без последствий вернулся?
— К ненастью голова болит. Все-таки шарахнуло нас здорово. Ты как?
— Ясно, Кодя. Не хочешь правду говорить.
— Я уже и чаевничать с тобой расхотел. Катерину твою попотчуем, чтоб по-людски все было. А ты на лавочке посиди. Что ты все в душу лезешь?! Какое твое дело?! Последствия, последствия! Ты вот тоже — последствие!
— Видел я, Кодя, странную картину. Как фотографу покоя она мне не дает. Сюда мы ехали через Австрию. И обратил я внимание на одного слепого старика. Сидит на тротуаре перед домом и траву из булыжников выковыривает ножом. А сегодня утром под Владимиром другого слепого старика увидел. В канаве траву режет ножом и в корзинку складывает. То ли для козы, то ли для кроликов. Для кого, по-твоему?
— Для себя. Придет домой и с хлебом есть будет. Слепой ветеран на прокорм траву рвет. Сфотографировал, что ли, его?
— Да я без фотоаппарата. А что? Австрийский старик цивилизацию поддерживает. Мостовую бережет. А ваш действительно — для прокорма.
— Ну и для прокорма, а что тебе? Стыдишь меня или жалеешь?
— Странно это, Кодя.
— Чужому, конечно, не понять, что и прокорм у нас нелегкий, и мостовые не везде, и слепые старики коз держат. Ты без сердца сравниваешь. Одним умом да глазами. Русский человек так не может. У тебя одна усмешка, гражданин из Америки, а у меня сердце болит и за старика, и за прокорм, и за древлевские мостовые. Благоденствуй, Гриха. Я тебе не завидую.
Пили чай со свежим земляничным вареньем, Марья Ивановна собрала первую ягоду по заветным полянам в Спасском бору. Доброе, толстое лицо Кэт разрумянилось, она пододвигала чашку к самовару, смеясь говорила «ишо» и все расспрашивала Марью Ивановну: где живут дети, часто ли видят внуков, повезло ли с зятьями и невестками? Зотов старательно переводил, строго сдвинув брови, гордо выпрямившись на стуле и с некоторой презрительностью подергивая шеей: смотрите-ка, мол, как Гриха Зотов быстро выучился по-чужеземному говорить.
«Хвальба был, хвальбой остался». Крытов вспомнил, каким гонористым, хвастливым парнем был Гриха, как они ходили однажды на престольный праздник в Михали и так там Гриха разгоношился, что еле ноги унесли…
— Помнишь, Гриха, Выдрину кладь? Где карасей ловили? И мостки там подновляются, и караси есть. А березнячок помнишь, там, на краю болота? Целая роща теперь.
Но Зотов уже со страстью исполнял роль чужеземца. С горделиво-презрительным подергиванием шеи ответил:
— Мне это неинтересно, Кодя. Все эти березки, Выдрины клади, утренний клев, караси — одна ботаника с географией. Еще раз говорю: этим сердца не успокоишь. Тебе и не снилось, Кодя, как я живу! Знал бы, так и не заикнулся о Выдриной клади.
— Нэт, нэт, — вдруг закричала Кэт. — Нэ так! Нэ так! — И стукнула ладошкой по столу. — Нэт ботаники!
— Молчи, миссища. Ты еще встревать будешь.
Крытов устал, рассыпались в висках мелкие чугунные горошины, вдруг соединились в большие тяжелые шары и тупо, настойчиво рвались наружу.
— Это правда, Гриха. Даже и не снилось. Да и не приснится.
В марте Никодим Власыч объявил жене:
— Снег сойдет, во Владивосток покачу.
— Как покатишь?!
— На велосипеде.
— Ку-уда?!
— Во Владивосток.
— С мальчишками?
— Один. Месяцев пять проезжу.
— Пя-ать?! А огород? А я? Никодим Власыч, ты же на сердце жаловался.
— Движение укрепляет сердце. Прокачусь по России — окрепнет.
— А я-то, Никодим Власыч? Столько времени одна. Боязно. Что за нужда на старости лет.
— С огородом ребята помогут. Что ж, что одна. Ждать будешь. Вот и занятие. Я тоже не на гулянку еду.
— Ну и нужды особой нет.
— Есть нужда. Сердце болит — тебе мало? На каждый чих отзывается.
— Может, еще сильнее разболится.
— Некогда будет. Во-первых, ногами надо крутить. Во-вторых, увидел, что не так, — слез, помог. Сердцу сразу легче.
— Хорошо, если по-твоему выйдет.
— Выйдет, никуда не денется.
Потихоньку принялся Никодим Власыч собирать рюкзак, подгонять и тщательно обдумывать всю дорожную справу. И бегом, бегом по городу, утром и вечером, набирал ногами сил от древлевской земли. От Ивановской заставы к Московской и обратно. По два раза на дню пробегал мимо церкви Бориса и Глеба, мимо неподвижного колеса обозрения. Никто не крутился на нем, ничего не обозревал — простаивало колесо без дела. Редко-редко какой-нибудь заезжий отчаюга, выскочив из ресторана «Трактир», взбирался вровень с куполами, но, ошеломленный угрюмством своего одинокого веселья, снова нырял в ресторан. Крытов у колеса всегда ощущал, как ему глубоко и радостно дышится: «Не зря я все-таки на столбе сидел. Хоть и поставили этот срам, а не вертится он. Не крутится, дорогой Иван Захарыч». Крытов плыл по Древлеву легкой, упругой трусцой и думал, что история с колесом обозрения пригодится ему в дальней дороге.
Снег сошел в конце апреля, а на исходе мая, молодым, розовым вечером, Крытов подъезжал к пограничному столбу между Европой и Азией, возле Каменска-Уральского. Спешился Никодим Власыч на уютной полянке среди сосен и стал приготовляться к ночлегу.
II
В последний февральский день, когда Крытов еще не объявил Марье Ивановне своего стремления во Владивосток, по улицам Братска, продутым и вылизанным утренней метелью, шел с внезапными замедлениями и остановками высокий статный мужчина с гордо вскинутой головой, с браво развернутыми плечами — само всплывало слово «мо́лодец» и было в полном согласии с этим размашисто-убедительным движением. Мужчина носил аккуратно курчавящуюся русую бородку, тяжелую золотистую подкову усов, имел светло-карие кроткие глаза и чистый, высокий, нежный лоб. Мужчина утром прошел по проспекту Энергетиков, долго стоял в одном дворике у трех старых сосен и вздыхал, и поглаживал взбугрившуюся морщинистую кору; потом сел в автобус и укатил на правый берег, на улицу Амурскую, где тоже долго рассматривал двухквартирный дом из бруса, покачал, подергал штакетник, на который опирался, — прочен ли, постоит ли еще?
Во время этих смотрин и стояний глаза мужчины часто взблескивали мимолетной влагой — можно было предположить, что сердце у него чувствительное.
В призрачной тьме февральского дня мужчина приехал в Постоянный, в деревянный, двухэтажный, поглядывающий через сосны на залив, столько сердца потративший на старый и новый Братск. На пустынных уютных улицах Постоянного на мужчину, на нашего мо́лодца, нахлынула горячая, неудержимо слезливая ностальгическая дурь — он сдернул шапку, промакнул ею слезы и потряс головой, остудил былые видения.
Мужчину звали Алексеем Даниловичем Пермяковым, он прощался с Братском и завтра рано утром уходил из него. Братск помнил Алексея Даниловича двадцатилетним тощим солдатиком, поселившимся после армии в палатке, за худобу и долговязость прозванным Лехой Длинным. Глыба лет, незримым рюкзаком приспособившаяся между лопаток Алексея Даниловича, утратила свою тяжесть, расплавилась во вспышке прощальной энергии, выделенной при встрече Лехи Длинного с Алексеем Даниловичем Пермяковым.
Вот Леха, с влажным пламенем на щеках, с потным чубом, с приклеившимся к губам словечком «благородно» («Вчера благородно порыбачил», «Встретил благородную девушку», «Ну-у, это благородный работник», потом любимым словечком станет эпитет «железный», потом возьмутся за глаголы «не стони», «не возникай»), переходит из одного романтического положения в другое: то среди хлада и мрака ползет на тракторе в Вихоревку, где под дождь сгружены книги для первой жилстроевской библиотеки; то по две смены не выпускает из рук вибратора — к ноябрьским обещали первый фундамент нового Братска; то стоит среди весеннего уличного разлива этаким улыбчивым белокурым богатырем возле первой деревянной школы и подхватывает на руки мальчишек и девчонок, переносит с одного сухого бугорка на другой, переносит и молоденьких, весело повизгивающих учительниц, и старую грузную директрису Анну Ивановну — она долго не решается: «Такую колоду, как я, разве перетащишь?». Когда же он наконец отрывает Анну Ивановну от земли, она гулко, басисто всхохатывает: «Ну и лешак же! Ну и лешак!»
А вот и Алексей Данилович со снисходительной нежностью приближает весеннего Леху: «Какой ты был уверенный! Как богатырствовал, как публику мог потешать!» — и слышит уже тот апрельский день, жмурится от него, жадно ловит горечь вытаявшей полыни и едва начавшихся бледных листьев на красной вербе.
Леху Длинного в Братске знали все: на правом берегу, в Постоянном, и, само собой, в палаточном городке нового Братска. Знали его силу: двухпудовкой перекрестится, стальной прут узлом завяжет, любую руку к столу пригнет, — сколько пива он помог выиграть своим приятелям и почитателям. Знали его молчаливую безотказность: и рубль последний отдаст, и последним сухарем поделится. Любили его нехитрую гитару: побренчит, подыграет, если частушки охота покричать и если взгрустнуть под басовую струну. Пол-Братска пело песенку, сочиненную Лехой: «Тучи мчатся, и ветер поет все о том, что по воле народа на бескрайних просторах идет без конца то гульба, то работа». Пока Леха был холост, женские общежития Братска чудом только не взлетали в поднебесье под напором любовного недуга, так сказать, всеженского томления по ясну соколу Лешеньке: объяснялись при помощи записочек нормировщицы, конторщицы, подсобницы, вчерашние десятиклассницы; приглашали, смутно улыбаясь, на свидания библиотекарши, чертежницы, массовички-затейницы; молча вздыхали учительницы, проектантки, дипломницы из политехнического. Леха же в те годы, как многие его приятели, зачитывался стихами и, равняясь на любимого поэта, «учителку полюбил».
Алексея Даниловича в Братске знали лишь редкие теперь старожилы да подчиненные в небольшом монтажном управлении, где он был последние годы начальником. Затонула молодость в Братском море, гитара треснула от нагрузок, приравненных к крайнесеверным, и песенку о тучах никто, кроме Алексея Даниловича, не помнил и не пел.
В подъезде старого деревянного дома, куда зашел Алексей, Данилович, была светло, чисто, тепло, возле квартирных дверей стояли лыжи, на гвоздях висели санки и разувались жители перед дверьми — все так давно соседствовали, наверное, с начала шестидесятых, что подъезд превратился не столько в подсобную площадь, сколько в место досужих соседских бесед за табаком, а по субботним вечерам — и за чашкой чая, которая сообщала беседе оттенок некоего сокровенного товарищества.
Увидел знакомый почтовый ящик: на бледно-голубом белилами намазаны крупные буквы: «Пермяковы», — буква «ы» вышла маленькой, места не хватило. Это он когда-то изображал, да чересчур широкую кисть взял. «Здравствуй, милый, — Алексей Данилович усмехнулся. — Свидетель юности скупой». Галина нашла ящик чуть ли не на свалке, заставила Алексея Даниловича отчистить, покрасить, повесить на двери их комнаты в семейном общежитии, а когда разошлись и когда, наконец, она получила квартиру, ящик взяла с собой. И фамилия у Галины теперь другая, и ящики в любом хозяйственном есть, но с этим не сравнишь — Очень хорошая краска тогда попалась. И белила словно вчерашние — свежие, ясные, не признающие жизненных перемен.
Дверь открыла Галина.
— О! Пермяков! Здравствуй. — Он давно не видел ее: лицо, ее раздобрело, стало округло-белым и казалось недовольным. — По глазам вижу, Пермяков, опять ты что-то натворил.
— Я ненадолго. Повидаться на прощание. — Алексей Данилович сразу устал и от «Пермякова», и от учительского, натренированного бодрогласия.
— Папа, привет. — Из комнаты выскочила Тоня, дочь, долговязое, мосластое, нелепое дитя. — На какое прощанье? — Она взяла его пальто, повесила, протянула руку, огладила легонько бороду. — А у меня сегодня двойка по химии.
— Не знала или что?
— Химичка противная. Учить неохота. Уж так воркует, такая голубка, сю-сю-сю, а кто плохо одет, обязательно до слез доведет.
— Ясно. Ты, конечно, восстала?
— Светка заплакала, я сказала химичке, что она — садистка. Она сказала: «За дерзость — „два“» — и разулыбалась.
— Антонина! Ты в самом деле дерзкая девчонка. Я готова тебе и дома двойки ставить.
— Папа! Не слушай нас. — Тоня взяла его под руку. — Пойдем в комнату и будем ждать чай. Две женщины соберутся — обязательно гадостей наговорят.
Алексей Данилович виновато взглянул на бывшую жену, пожал плечами: не знаю, мол, что говорить дочери, как усовещать, воспитывать и поучать. Галина презрительно и этак освобождающе повела рукой: что, мол, с тебя возьмешь, — и опять включила свое размеренное, вроде бы насмешливое бодрогласие:
— Муж Федор. Ты где? Пришел Пермяков. Он опять что-то натворил.
Появился муж Федор — большеголовый заспанный человек в махровом халате, сунул горячую, мягкую ладонь:
— Здорово, Алексей. Куда ты собрался? Впрочем, что мне. Давай на посошок. Я сейчас сбегаю.
— Бегать не надо, муж Федор. Тебе сегодня хватит.
— Спасибо, Федя. Я на несколько минут. Мне еще собраться. И чаю не надо.
— Значит, посидим на дорожку. — Тоня ухватила за рукав «мужа Федора», собравшегося снова на диван. — Дядя Федя, не уходи, потом выспишься. Посиди с нами.
— Хорошо, хорошо, Тонюшка. Алексей, может, все-таки сбегать?
— Так, Пермяков, — спросила Галина, когда они уселись в комнате, — что ты натворил?
— Я уволился. Завтра ухожу из Братска.
— Как уходишь, папа?!
— Пешком, Тоня. — Алексей Данилович смущенно улыбнулся. — Вот, решил в странники записаться.
— Я-асно, Пермяков, — Галина скрестила на груди тоже раздобревшие белые и круглые руки, — опять за свое. Опять неймется. Давай опять мир удивлять.
— Пешком-пешком?! Папа, и ночевать будешь проситься? И с посохом по тропинке? Папочка, возьми! Так интересно!
— Сначала двойки исправь, Антонина.
— И далеко собрался, Алексей? — Федор замерз, хватался руками за полные плечи, унимая дрожь.
— На Средне-Русскую возвышенность. — Алексей Данилович уже каялся, что зашел, надо было Тоню у школы встретить, поболтали бы, посмеялись — внезапная смешливость настигала их, когда они ходили вдвоем, все им казалось милым, смешным: школьные Тонины незначительности, его юмористические отчеты о житье-бытье монтажников. Галине мог бы позвонить, поставить в известность — пошел да пошел, послушал бы ее напор, не видя этого раздобревшего тела, этой какой-то торжествующей упитанности, не видя черных, недоброжелательно округленных глаз. Он нервничал, видя ее, возникали в нем тихие, печально сосущие сердце робость и виноватость, хотя вроде а не проказил, стекол в актовом зале не бил и непристойностей на школьном заборе не писал.
— Завидую, Алексей. — Федор все мерз и мерз. — По весне пойдешь. Ледоходы, трава на буграх зеленеет, жаворонки… Как хочешь, Алексей, а я сбегаю.
— У тебя похмелье, муж Федор. Не надо в него втягивать других.
— Что ты его все обрываешь? — Тоня покраснела, выпрямилась на стуле. — Дядя Федя добрый, умный, мягкий человек. Слышишь, папа?
— Слышу, — как и Федор, Алексей Данилович склонил голову, с усилием тер лоб: «Ну, я напрощаюсь сегодня до бессонницы».
— Что же ты забыл, Пермяков, на этой возвышенности?
— Встряхнуться хочу. Ритм сменить. Может, жизнь интереснее станет.
— И обязательно надо уволиться?
— Я долго прохожу. Ждать никто не будет.
— Уж не от алиментов ли бежишь, Пермяков? — она засмеялась, но глаза остались настороженно-круглыми.
— Кстати вспомнила. За полгода я перевел. А там ясность, надеюсь, появится.
— Когда появится, позови в гости, папа.
— Может, я еще вернусь.
— А если там останешься — позовешь? Вместе с дядей Федей?
— Конечно!
— Спасибо, Алексей, от души спасибо! — Федор неожиданно воодушевился, румянец появился на рыхлых добрых щеках. — Позволь руку, Алексей. От души?
— В молодости, Федя, мы бы сказали: позволь твою благородную руку.
— Не одобряю, Пермяков, твоего поступка. Не понимаю его и не хочу понять, — Галина холодно, наказующе смотрела на него. — Надеюсь, эта блажь никому не принесет боли.
— Мама, ты можешь хоть иногда не быть отличницей народного образования?
— Молчи. Только на моем характере и держитесь. И он, — Галина ткнула в обмякшего снова Федора. — И ты, двоечница. Если ты хочешь доказать что-то свое, ты должна быть безупречна в главном — в учении.
— Я ничего не буду доказывать. Это ты везде со своей математикой. Я буду жить естественно.
— Мне пора, — поднялся Алексей Данилович.
Давным-давно, в общежитии для семейных, Галина гневалась этими же словами: «Не одобряю тебя, Пермяков», когда он передал свой ордер на однокомнатную квартиру сердечнику Гиндину. Галина была тогда гибка, тонка; молодые темно-вишневые глаза круглились некой неукротимой истовостью — Алексей Данилыч называл обычно этот блеск проявлением педагогического темперамента; но в тот миг он захотел горячо и полно утешить жену, повиниться перед гневно вздымающейся грудью — он набросил крючок на дверь и потянулся к Галине. И как же долго она сдавалась, обжигая шепотом шею: «Хоть и не одобряю, но все равно». Потом — уже Антонина топала по общежитскому полу — сцена почти повторилась: Алексей Данилыч опять отдал свой ордер многодетному экскаваторщику Тучину. Галина в затрапезном, оставшемся с девичества платье, являвшем теперь ее упругое и округлое совершенство, говорила: «Я разведусь с тобой, Пермяков. В этом же месяце». И не сдалась на этот раз, не позволила себя утешить. И действительно, через месяц их развели.
— Папа, писать будешь? — Антонина расцеловала его в бороду.
— Звонить буду. Выберу время, когда ты дома, и позвоню.
— Алексей, ни пуха тебе, — Федор троекратно приложился щекой.
— Пока, Пермяков. — Галина обвила его шею сильной мягкой рукой, пригнула и крепко, смачно поцеловала в губы.
Метель стихла, снег скрипел с какою-то вязкою, глуховатою скрипотцой, без той январской рассыпчатой звонкой свежести. Сквозь сосны помигивали огоньки на льду Братского моря — то ли шли машины, то ли и зимой там была метеостанция.
Алексей Данилович шел теперь к Ободову Петру Андреевичу, бывшему своему начальнику, так сказать, к начальнику своей молодости. При нем он из работяг, из Лехи Длинного превратился сначала в прораба Пермякова, а потом — в начальника участка Алексея Даниловича. Ободов заставлял учиться, растолковывал сопромат и в прорабской же диктовал решения контрольных работ. Ободов давно вышел на пенсию, но не поехал жить ни в Москву к жене, ни к сыну в Киев, остался в Братске, видимо, не представляя завершения жизни без его красной земли. На пенсии он как-то сразу скрючился, поддался ревматизму, ходил теперь с палочкой, из седовласого, голубоглазого, осанистого человека ссохся до сморщенного желтолицего старичка-паучка.
Когда позвонил в дверь, услышал сохранившийся бас: «Открыто!» и вспомнил, что Петр Андреевич никогда не закрывается.
Ободов сидел в просторном кресле напротив двери, покуривал, батожок висел на кресельном шишаке.
— Здравствуй, здравствуй, Леша. Рад, — голос его вдруг дрогнул, бессильно отсырел, — Прости, ради бога, не могу без слез смотреть на красивых, статных людей. Я не завидую, но так остро ощущаю себя развалиной при этом, физической ненужностью. Ужасно: нецелесообразное, некрасивое, крючкообразное существо — бр-р-р…
— А я к вам проститься зашел. Как встарь говорили, за последним напутствием.
— В отпуск? Переводят? Командируют за границу? Садись, садись, Леша. Вот сюда. Попереглядываемся немного.
— Ухожу, Петр Андреич. Пешком. До России хочу не торопясь, с оглядкой дойти.
— Что же ты, уволился?
— Да.
— И как же тебя увольняли?
— С трудом. С угрозами, с уговорами, с большими и малыми торможениями.
— Та-ак… Подвинь-ка мне вон те таблетки. Эти, эти, спасибо. — Петр Андреевич запил таблетку, снова взялся за трубочку. — Теперь скажи, Леша, зачем идешь?
— Для себя. Я один, в сущности, ничто меня не держит. Вдруг получится со стороны на себя глянуть.
— Не хочешь, Леша, сказать.
— Я и сам в точности не знаю, Петр Андреевич. Просто приспичило.
— Ну-ну.
Петр Андреевич задумался, да и Алексею Даниловичу хорошо было помолчать — устал он от увольнения, от объяснений, сборов, прощаний так, что в глухие, бездумные минуты и самому казалось неясным: зачем идет, что искать будет?
— Леша, какие-то слухи осенью были. Будто народный контроль тебя пытал. Будто бетон ты увез? Или железобетон?
— Был народный контроль. Но выяснил: я перед ним чист.
— Все-таки был? Тебя не казенная обида гонит?
— Абсолютно добровольное желание.
— А колокол твой звонит?
— Да. Я давно там не был.
— С колоколом ты молодец.
— Не знаю, не уверен.
— Скромничаешь?
— Уж очень много обо мне звону было. А это нехорошо.
— Главное, колокол останется.
— На прощание позвольте вопрос, Петр Андреич. Давно мучает. Помните, наклонную галерею вели? Я был начальником участка. И хорошо работал. Помните? И тогда начались общественные страсти с отстающими подразделениями. Почему вы так легко отправили меня в Усть-Илим?
— Ты же сам попросился, в отстающее СМУ.
— Правильно. Но вы могли бы отговорить. Вы столько души в меня вбухали. И вдруг ни слова не возразили. По-моему, даже презрение было. Поезжай, мол, скатертью тебе дорога. И косились вы на меня долго. Я чувствовал.
— Эх, Леша. Какая полная жизнь была! А теперь по порядку. С презрением ты чересчур хватил. Презрения не было. Было сомнение в твоей инженерной трезвости и чести. Ты вот-вот стал бы у меня главным инженером. Я радовался, как ты цепко и с полетом строишь. И вдруг оказывается: тебя легко сбить. Кампания эта с отстающими была временной и несерьезной. Грехи министерского планирования мы покрывали лучшими людьми, стоящими на нужнейших для стройки местах. Чушь! А ты в нее бросился очертя голову.
— Почему же вы не остановили?
— Я был очень зол: раз, думаю, ему романтика важнее дела, пусть идет к отстающим. Потом я простил тебя, понял, что ты — азартный человек и любишь в работе сопротивление. Причем искусственно усложненное сопротивление. Ты, похоже, жалеешь, что героем почина стал?
— Жалею. Пустой был номер. Не было простого порядка, элементарной дисциплины — любой толковый прораб справился бы с этим отставанием. Но стыдно было возвращаться и каяться.
— Зато сегодня легко каяться. Вряд ли, наверное, думаешь, увижу этого старикашку.
— Простите, Петр Андреевич, за излишества, но сердце буду отогревать, вспоминая вас.
— Ну, оставим. Если бы ты знал… Если бы не этот ревматизм, я бы тоже странствовать отправился. Все мечтал, пока сила была: уйду от дел, возьму посох и пойду каяться перед обиженными. Леша! Сколько я обидел на всех своих стройках! Чаще без дела. От дурного настроения, от избытка власти, от чиновничьей дури — как поздно умнеет сердце! Но не судьба. Посох она вручила, да не страннический, а инвалидный. Леша, смотри! — Петр Андреевич выхватил из шкафчика пачку писем. — Вот этого человека я особенно обидел. Можно сказать, жизнь сломал. Потом разыскал, где живет. Пишу ему, слезно прошу простить — он, даже не распечатывая, возвращает. Я просил тамошнюю милицию, городские власти, чтобы поговорили с ним. Имени моего слышать не хочет. В газетку их покаянное письмо послал, но постеснялись напечатать. Я его обидел действительно до смерти. Может, меня и скрючило так в наказание. Леша, ты пойдешь через Древлев?
— Могу зайти.
— Зайди к нему Христа ради. Отдай ему эти письма. Сейчас я их упакую.
— А если он и на крыльцо не пустит?
— Скажи, что никакой жизни у меня нет. Одна маета. Пусть его это утешит.
— А вдруг не утешит?
— Может быть. Ты телеграмму мне дай. Был у такого-то. Письма не взял, слушать не стал. При имени вашем плевался.
— Вы уж не распаляйтесь так-то, Петр Андреевич. Что уж за вина такая?
— Немеренная. Когда вот так в креслице посидишь год-другой, поймешь всю тяжесть чужого горя. А я ему горе принес. Пришлешь телеграмму?
— Пришлю.
— Я все равно умирать к нему поеду, чтоб он видел мои последние судороги и чтоб напоследок проклял меня.
— Не надо, не надо так, Петр Андреевич. Вот ваши таблетки, вот вода… Сейчас врача вызову!
Дождался «скорую», посидел у постели Петра Андреевича, пока он не заснул после укола и пока не пришла Марфа Григорьевна, тихая двужильная старушка, приходящая ободовская домоправительница, экономка и сиделка.
К Борису Тучину, которому когда-то Алексей Данилович уступил квартиру, попал почти в полночь, звонить в дверь не стал, а легонько постучал, зная, что Борис ждет его. Когда раздевался, проем детской заполнила белая колышущаяся масса и сонно, ласково пробормотала: «Счастливо тебе, Лешенька»; это восстала с материнского ложа, чтобы проститься с ним, Фрося, жена Бориса, прозванная Алексеем Даниловичем за обширное телесное пространство Ефросиньей Великой. Она рожала и рожала Тучину мальчиков и девочек — кто-то из них вырос уже, служил в армии, кто-то вышел замуж, но Алексей Данилович успел заметить в щель между косяком и Фросиным боком несколько белых и черных головенок на широкой и длинной лежанке, облитых слабой желтизной ночника. Сама Фрося, должно быть, спала с новорожденным, ибо за долгие годы рожанья она полностью переняла режим новорожденных — вовремя есть, в основном спать и иногда с ленивой лаской в голосе жаловаться соседке на Бориса: «Этому черному жуку все неймется. Ни одной промашки. Опять расстарался. Девка, наверное, будет». Фрося, пятясь, уплыла в детскую и отгородилась от ночи жаркими детскими всхлипами и причмокиваниями.
Пили чай на кухне и молчали. Борис Тучин, невысокий, плотный, со сросшимися бровями, с вороненым крылом над морщинистым лбом, только заварку менял. Они в одно время появились в Братске, оба были из Усолья и в первую совместную охоту заблудились в тайге. Неделю кружили и петляли, но чересчур испугаться не успели: были харчи и сухой сентябрь шелестел на тропах. Все же потянуло их друг к другу, в молчаливом согласии размотали и одолели они эту неделю. Со временем, в других охотах и походах, укоренилось их товарищество и сделалось навсегда необходимым им, как незаметное, неказистое, но такое теплое и надежное зимовье в глухой и ветреной тайге.
В молодости еще Алексей Данилович, расчувствовавшись, предлагал Борису:
— Давай объявим День друга. Скажем, в сентябре. Будем в этот день вспоминать наши хождения. Или двинем в лес, у костерка посидим. Отдадим должное нашим путям-дорогам. Давай?
Борис смущенно потупил глаза, прикрыл козырьком бровей.
— Да брось… Что его объявлять? И так… — И замолчал прочно и густо.
— Твоя правда: и так, — вздохнул Алексей Данилович. — Увлекаться что-то я стал.
Но и великого молчальника Бориса настигало вдруг наваждение гласности, словно он копил, копил слова и наконец мог освободиться от них, исторгнуть, устроить если не пир, то пирушку гласности, вечер произнесения слов. Он приходил к Алексею Даниловичу и сообщал, хмурясь и каменея на табурете:
— Стихи накатал.
— Давай посмеши.
Борис, не слыша этого «посмеши», вставал посреди комнаты, подбоченивался, руку с тетрадкой заносил над головой и — начинал бухать, громыхать холодными, жестяными словами, взятыми то ли из многотиражки, то ли из брошюры по технике безопасности, то ли из молодежных журналов; Борис читал с выражением, то есть восклицал, вскрикивал, завывающе восторгался. В груди у него при этом стояло ровное, шмелиное гудение. Алексей Данилович наслаждался декламацией, кричал «браво», вытягивая шею, изображая внимание, со слезами сдерживаемого смеха кричал: «Дай обниму!» — пока Борис не осаживал его трезвым обиходным басом: «Хватит ломаться-то!»
— А тебе не хватит? Что за дурь на тебя накатывает? Ты пишешь: «И в ковше экскаватора подниму свое сердце», — как ты его в ковше разглядишь-то?
— Зато складно все.
— Да уж. Уши вянут. А мне больше своих железяк не посвящай. Лучше ударь гаечным ключом. И, главное, все врешь.
— Как это вру?!
— Когда мы с тобой пожар тушили?
— Зато могли.
— А из-подо льда когда я тебя вытаскивал?
— Никогда. Зато красиво. — Борис улыбался, и Алексея Даниловича ударяло: «Конечно, дурака валяет». — Это не мы с тобой, это другие хорошие люди.
— Всласть наврался?
— Теперь терпеть можно. — Борис хмыкал, скручивал тетрадь трубочкой, засовывал за батарею. — Скучно станет, почитай…
…Алексей Данилович отодвинул стакан:
— Ну ладно. Чай попил… Ты чего, как мышь на крупу?
— Нет. Нормально.
— За берлогой моей присматривай. Ключ у тебя есть.
— Леха, когда теперь увидимся?
— Не знаю. Не скоро.
— Я и так и сяк… Зачем все-таки идешь?
— Решил и решил. А скажешь, и вроде сам себе не веришь и сам над собой усмехаешься.
— Смотри.
— Боря. Ты и так все понимаешь. Видишь же, как душу сжало. В дороге, может, отпустит.
— Я тебе сапоги запасные приготовил.
— Борька! Милый! Ну, давай тут. Будь здоров!
Они постояли обнявшись.
III
Потрескивал, похрумкивал, покрякивал жаркий прозрачный костерок, разложенный Крытовым. Зеленое, в розовом замирающем посвечивании небо наклонялось над сосновой поляной, где он устроил ночлег. Крытов уже нарубил еловых веток, бросил на них спальный мешок и прилег сверху, дожидаясь, когда закипит вода в котелке.
За пограничным столбом, в азиатской стороне, захрустели под широкими шагами ветки, валежины, испуганно закачались молоденькие гибкие сосны — на поляну выломился из лесной, плотной уже тьмы высокий человек в плаще, в сапогах, в шляпе. Он привычно сутулился под грузом большого пузатого рюкзака.
— Хорошо шагаешь, Азия. Далеко слыхать. — Крытов уже сидел на спальнике и, загораживаясь ладонью от яркого жара костра, всматривался в пришедшего.
— Перешел, значит, границу?
— Столб с табличкой у тебя за спиной.
— Так. Значит, в Европе я. Значит, ты Европа?
— Ну, какая я Европа — неизвестно, а сижу вот, как Ермак, объятый думой.
— Это ты-то Ермак? Совсем без витаминов здесь живете.
— Но и ты не Кучум. Жердь сухая, задень — переломишься.
— На такого Ермака хватит.
Алексей Данилович, а это был он, как простодушно писали в старинных повестях, снял рюкзак, опустил у костра, хотел и сам опуститься рядом, но подскочил Крытов.
— Стой! Я тебя к костру не приглашаю! Сначала будем бороться.
— Иди ты… Ноги гудят, спина отнимается… Бороться ему.
— А как ты думал! Приходит какая-то жердь и поплевывает на тебя через губу. Держись!
Алексей Данилович чуть прижал ладонями крытовские локти к ребрам и приподнял, как упрямого, настырного мальчишку:
— Есть какая-нибудь лужа в Европе? Сейчас я тебя остужу.
— Не-ет, Кучум-не-Кучум. Так не выйдет. — Крытов съежился как-то ловко, еще приузился и выскользнул из ладоней Алексея Даниловича. Выскользнул и сразу же — подножку, и головой в грудь: Алексей Данилович охнул, не удержался, стал рушиться, клонясь, Крытов подправил, ускорил падение и, завернув руку, уложил Алексея Даниловича лицом в траву.
— Живот или угощение?
— Как это?
— Ты меня пирогами кормишь, сказками потчуешь, костер поддерживаешь, а я, как сибирский хан, лежать буду.
— Нету пирогов. Завтрак туриста и морская капуста.
— Годится. А сказки?
— А костер?
— Поддержу.
— Тогда давай знакомиться.
Через час или полчаса (в огне время берестой скручивается, пых! — и вечность пролетела) миротворно оживленный Алексей Данилович смеялся.
— Сколько тебе лет, Крытов? Как ты меня ловко! Вспомню — одно наслаждение.
— Суперпенсионер, как говорит мой внук. Лукавством взял, опытом, а сила, конечно, твоя. Да вот, как видишь, и ум нужен.
— Вижу, да часто забываю. Ну, где твои сказки. Крытов?
— Здрасте. Кто пощады просил, того и сказки. Только про Кащея Бессмертного не надо. Давай про жизнь.
— Я таких сказок не знаю.
— Ну да. Может, никогда больше не встретимся, а будем — ла-ла-ла. Давай про жизнь. Про главное.
— Начинай ты, Крытов. Моя жизнь не отстоялась для сказок. Все кипит еще, клокочет — сам многого не пойму.
— Пока клокочет, и надо ею заниматься. Отстоится — поздно будет. Вчера вот качу я по Свердловску, свежий день начинается, просторно там, в центре-то. И вода, и зелень, народ такой сытый, веселый — понравился мне город. А за вином очередь. Ну я и покатил к властям. Показываю милиционеру на вахте ветеранское удостоверение, он козырнул мне, но дорогу загородил: «Удостоверение, папаша, у вас в порядке, но без штанов не пускаем». Я смотрю — батюшки, еду-то в шортах, так в шортах и закатился. Сейчас, говорю. Вышел в скверик, за акацией переоделся. Пустили.
— И председатель тебе навстречу, с хлебом-солью.
— До председателя не дошел. Не пробился. А к заму попал. Молодой человек, вроде тебя. Уселись мы с ним в кресла, беседуем. Спрашиваю, что же вы народ-то распустили? Белый день, а вином торгуют. Он нахмурился: живем, мол, по закону, никто никого не распускал, и торгуем по закону, так что не знаю, чем помочь вашему возмущению. Моему то есть. Я говорю, я же не в укор, а в печаль, что же делать-то теперь? Он отмяк. Стали мы с ним уже советоваться. Дело, говорит, очень непростое. Нужна длительная экономическая и моральная подготовка. Я ему: кто же говорит, что простое. Просто было бы, так я здесь не сидел бы. Закрыли бы торговлю выпивкой, да и делу конец. Я же, говорю, понимаю. Планы, производство, народ на этом производстве занят. Он мне: вот именно. Бюджет, сила инерции, общественность слабо борется. Я ему: все равно, мол, выход какой-то есть. Если бы говорю, вся нация дружно взялась, кончили бы мы с выпивкой.
— У меня, кстати, есть во фляжке. Хочешь? Ладно, ладно, Крытов, сдаюсь. Опять начнешь побеждать. Скажи лучше: так до Владивостока и будешь обличать? По облисполкомам ходить? Тут — червоточина, там — болячка, а там — вообще безобразие. Так?
— Не-ет, Алексей. Сказка моя была к тому, что не надо ждать, пока жизнь отстоится, пока болячки наружу вылезут. Надо быстрее умом шевелить, быстрей лекарства искать и перевязки делать.
— А если я так не могу? Может, мне на решительный шаг полжизни надо готовиться. Как быстро ни соображай, поступок раньше не созреет.
— Вокруг начнут шевелиться, и ты зашевелишься. Ускоришь поступок или откажешься от него. Как теперь говорят, атмосфера подскажет.
— Не знаю, вряд ли. Не люблю я на других оглядываться. Точнее — сейчас не люблю. До прошлой осени только и делал, что оглядывался. И дооглядывался. Вот у костра сижу. Впрочем, и не жалею об этом.
— Так-так, Алексей. Давай свою сказку. Чую, стучится.
— Прошлой весной был я на охоте и нашел в брошенной деревне колокол. На деревенские сходы раньше им созывали. Укутал его в свитер, упрятал в рюкзак и принес в Братск. И стал все время думать, что не случайно мне этот колокол в руки дался. Вдруг слова всплыли из детства: «Колокол на башне вечевой», — ага, думаю, не для того же, чтоб пылился у меня, нашелся он. То вдруг пластинки попались с ростовскими звонами, слушаю их и опять думаю: ну для чего он мне или я ему? А голос у него звучный, печальный, раскатистый…
— Извини, Алексей, потом забуду. Я ведь для общего взгляда во Владивосток качу. То есть для своего общего взгляда, для крытовского. От центра России до окраины охвачу все взглядом. Все сам пощупаю, проверю и свяжу воедино. Извини…
— И наконец я сообразил. Сам колокол мне это подсказал. Решил я поставить в чистом поле, на бугорке, который никогда не запахивают, бетонный столб, укрепить колокол на нем и алюминиевую доску. И вот что я на ней написал: «Ударь в колокол, прохожий. Вспомни о павших за Родину».
— Вот и я хочу написать. Нет-нет, я слушаю. Я понимаю. Колокол в чистом поле. Все хорошо, Алексей. И что характерно: у секретаря обкома свой общий взгляд, свой рисунок жизни, а у меня — свой. И уверен: очень я могу дополнить взгляд секретаря. В Новосибирске Обью займусь, в Иркутске — Байкалом, с людьми буду говорить, с властями и соединю все это на бумаге. А? Алексей? Меморандум Крытова. Какое слово серьезное — меморандум. Мы с тобой, как два глухаря, Алексей. Поем, а друг друга не слышим. Но я слышу. Все ведь нормально?
— Да что ты! Тишины не надо. Затею осуществил я быстро: доступ к технике у меня был. Автокран, списанный столб, два выходных яму копал для него. И хотел я, чтоб ни одна живая душа об этом не знала. Вроде бы как сам по себе этот колокол возник, накануне очередного Дня Победы. Из земли поднялся. Понимаешь, Крытов? Все дело было в безымянности поступка.
— Понимаю. Но я-то подпишусь. И — на самый верх свой меморандум. Соображения Крытова об улучшении жизни в государстве. Мечта всех странников…
— Но кто-то увидел, как я увозил списанный бетонный столб. Запомнил номер и — в народный контроль. Может, тоже странник был. А, Крытов?
— И правильно сделал. Все бы так номера запоминали, сколько бы добра сберегли.
— Меня нашли. Колокол персонифицировался. Районная газета с рыданием и восторгом описала этот случай. Я рвал и метал. Опять я разбудил этот базар благородства и бескорыстия. Это судьба наказывала меня.
— Представляешь, Алексей? Вот бы в программе «Время» начали объявлять теперь: ТАСС сообщает, ЦСУ сообщает, Крытов сообщает. О-хо-хо, Алексей, Алексей!
— В молодости мне так сладко было жить на виду. Однажды я уступил квартиру больному человеку — как я себя уважал, как собой гордился. Болезнь началась — страшнее алкоголизма. Так и подмывало меня еще, еще погрузиться в восторженное удивление окружающих, молча, с этакой скупой улыбкой слушать: вот мужик, у самого семья в общежитии, а все же взошел, пересилил себя, отдал слабому. И еще одну квартиру уступил. Знал, что Галина не стерпит. Но и остановиться не мог — такая зараза быть благородным. Но лишь для изумленной публики.
— Особо-то не страдай. Не убивал, не грабил, детей не обездоливал. Что уж ты напраслину-то гонишь.
— Этого не объяснишь. Как постепенно, год за годом, учился я обманывать по самому жуткому счету: всучаю свое благородство, а сам-то знаю: в утеху себе, в награду. Этот орден себе придумываешь за то, что больному помог, этот — за квартиру, еще один — отстающим монтажникам помог.
— Перестань, Алексей.
— Никому ничего от чистого сердца. А все — от расчета. Думал, колокол все заглушит. Честное слово, для себя делал! Хотя…
— Вот именно что «хотя»… С третьей скорости благородства хотел на четвертую переключиться. Как, есть у Крытова общий взгляд?
— Когда уж в газете напечатали, понял: где-то на самом донышке извивался червячок — авось кто-то узнает, восхитится, скажет: да, за такое дело многое тебе простится, Алексей Данилович. Вот когда, Крытов, край настал. Такой дрянью, такой мразью почувствовал…
— Каяться, что ли, идешь? Вериги тащишь? Опять выламываешься?
— Ни за что не скажу, Крытов. Иду и иду.
— И не говори. И не горюй. Потешились сказками, поскребли душу — и ладно.
— А я в твой Древлев зайду. Дело есть.
— У Марьи Ивановны остановишься. Уж как она расспросит тебя. Вот славно: и письма писать теперь не надо. Скажешь, нет, что за дело?
— Пакет передать некоему Лесукову.
— Да ты что! Первый древлевский жлоб. Зимой снега не выпросишь.
— А я ничего просить не буду. Передам — и дальше.
— Вот уж не к ночи будь помянут этот Лесуков. От кого пакет-то?
— Меня попросили, я передам.
— Ясно. Не мое дело. Сегодня сны будут — Марью Ивановну увижу.
— Какие сны, уже светает.
— Самые счастливые — на рассвете. Обязательно близких и дорогих увидишь…
Через некоторое время под крупным летним дождем Крытов катил по Западно-Сибирской низменности, тусклым серебром заливало колеса, и белые, тяжелые брызги срывались со спиц. Алексей же Данилович поднимался по песчаной, хорошо убитой тропе на Средне-Русскую возвышенность. Ему предстояло пройти березовую чащу, сосновый бор, пшеничное поле, и тогда увидятся на холме, откроются белые чудные стены Древлева.
Три женщины Рассказ
Три женщины поддерживали жизнь этого просторного, гулкого дома. Старшая — Татьяна Захаровна — была легкой, бестелесной старушкой, морщинистой, с седыми бородавками, с седым пухом на голове, но из этих морщин, из этих седин с удивительной живостью выступали пристальные, молодые, темные глаза У нее осталась и цепкая, пристальная память. Вдруг говорила внучке, Елене Сергеевне:
— Это мы сейчас стали череповчане. А раньше говорилось: черепане. Даже поговорка была: «Черепане — ежики, а в карманах — ножики».
— Разбойничий, значит, город был? — спрашивала Елена Сергеевна.
— Не-ет. В основном смирно жили. Скорее, коварный. Ежи — удивительно коварные, мстительные существа.
— Не может быть!
— Сколько раз я тебя учила: не верь сказкам, а верь жизни. Не фантазиям, а научным данным.
— И правда коварный?
— Любили в конфуз ввести… Впрочем, не чаще, наверное, чем в любом другом. Все поговорки — либо от самомнения, либо от сознания ущербности.
Когда-то Татьяна Захаровна была учительницей, вела ботанику и географию, хорошо говорила по-немецки, пела в благотворительных концертах (однажды она вспомнила при Елене Сергеевне, что девушкой пела в пользу русских воинов, отравленных газами в пятнадцатом году, у Елены Сергеевны колко ознобило виски от стремительного погружения в такую давность), но эти проявления личности Татьяны Захаровны прочно заслонились долгой старостью, ветерком в полах фланелевого халата, в котором летала по дому Татьяна Захаровна, стирая, подметая, готовя завтраки и обеды, настойчивым шипением слова «баушка», оно ползло от дисканта к басу, от внучки к дочери и зятю.
По вторникам Татьяна Захаровна надевала черное платье из тонкого сукна, отделанное тускло-золотистыми вологодскими кружевами, черную велюровую шляпку с темно-синей лентой и, смотря, что было за порогом — зима или лето, — надевала повыбитую котиковую шубу или пальто из коричневого плюша и со смущенно потупленной головой шла на спевку в церковь Воскресения, где пела в хоре. Смущенно потуплялась Татьяна Захаровна не потому, что верила из-под полы или не всерьез, а потому, что долгие годы боялась скомпрометировать своею религиозностью зятя, строительного начальника и человека партийного, хотя он никогда ни словом, ни взглядом не высказал Татьяне Захаровне недовольства. Зять давно умер, а смущение при сборах в церковь осталось. И Елена Сергеевна порой шутила, обнимая Татьяну Захаровну и нарочно перевирая Блока: «Бабушка пела в церковном хоре о всех ушедших в чужие края. Как ты на воробья походишь, милая бабушка! Как я тебя люблю!»
Дочь ее Людмила Глебовна, из хрупкой, изящной блондинки превратилась в рыхлую, болезненную женщину, в сущности, в старуху, но жизнь в соседстве с матерью позволила ей сохранить две-три капризные нотки в голосе и некоторую (неуместную, конечно) девическую избалованность в жестах и манерах. Порой она морщила дряблые губы этаким увядшим бантиком и говорила матери: «Ну, пожалуйста, не корми меня этой противной овсянкой! Придумай что-нибудь съедобное!» Вдруг, забыв о возрасте и весе, этак порхающе передвигалась по дому, напевая, округло, плавно возносила руки, но недолго — ни дыхания, ни сердечной силы уже не было. Впрочем, склонность к девическому поведению поощрялась в большей степени не соседством с матерью, а поздним замужеством.
Ей было за тридцать, когда она вышла замуж, вышла за старого холостяка, но не из законченных эгоистов и деспотов, а из стеснительных, добрых, снисходительных. Он плохо и мало знал женщин, поэтому запоздалое сюсюканье Людмилы Глебовны, ее романтические преувеличения при виде какой-нибудь лужайки во время загородной прогулки, ее восторженная, житейская непрактичность (пошла покупать себе туфли, подходящих не нашла, тогда купила в комиссионном обшарпанную китайскую ширму и долго умилялась ею, не зная, куда приспособить) — в муже ее любые девические улыбки, умильности вызывали если и не всегда радость, то сочувственное внимание всегда, равно как и молчаливое, ласковое согласие.
Муж ее был молчаливым, работящим (его домами в Череповце заставлена не одна улица, да и их родовой дом он снабдил современным комфортом), а потому очень занятым человеком и в течение семейной жизни не входил, полагаясь на Людмилу Глебовну. И ей так нравилось пребывать в затянувшемся медовом мороке, что лишь через семь лет после свадьбы она надумала рожать.
Но несправедливо выставлять Людмилу Глебовну только сюсюкающей, восторженной старой девой, удачно вышедшей замуж, — нет и нет. Она была добра, искренна, жалостлива, ее дружно любили, с долею, верно, снисходительного юмора, мальчики и девочки из старших классов, где она вела литературу. Людмила Глебовна не утеряла свежести восприятия многажды читанных книг и страниц. Скажем, судьба Лизы Калитиной каждый раз отзывалась в ней искренним изумлением и воодушевлением, а заключительные строки «Дамы с собачкой» она не могла читать без слез печального восторга. Чувствами своими, рожденными чтением, она охотно и горячо делилась с учениками, за что и была ими любима.
До замужества она подумывала о заочной аспирантуре, где занялась бы жизнью и творчеством писателей-народников, связанных с Вологодчиной. Она восхищалась их самозабвенным заступничеством за маленького человека, которому, как говаривала Людмила Глебовна, жилось на белом свете не веселее, чем на вечной каторге. Кроме того, и неказистая личная жизнь писателей-народников занимала ее чувствительное сердце. Но замужество, безоблачное семейное небо, рождение Лены отвлекли от аспирантуры, да и от горьких судеб писателей-народников. Лишь иногда Людмила Глебовна рассказывала о них, если просило общество «Знание».
Леночка стала учительницей музыки, Еленой Сергеевной, юной женщиной с насмешливыми черными глазами, живым блеском и пристальностью напоминавшими бабушкины, чуть картавящей, чуть заикающейся, — скорее даже, запинающейся на начальных слогах, что придавало особую, пожалуй, раздражающую выразительность ее речи. Была в Елене Сергеевне незначительная пока, произошедшая от безмятежно устроенной жизни полнота, этакая уютная домашняя полнота.
Жизнь Елены Сергеевны проходила в холе и неге, среди романтического — сквозь слезу и восторг — обожания матери и сердечного потакания отца всем ее прихотям, поползновениям и причудам — легко было превратиться в избалованную, чрезмерно сытую и чрезмерно довольную собой женщину, но, к счастью, возобладало влияние бабушки, и Елене Сергеевне передались ее житейская трезвость, способность посмеиваться не только над окружающими, но и над собой, склонность к строгим нравственным оценкам и боязнь пустых разговоров, громкогласных изъявлений чувств, когда слышится больше междометий, чем проявления сердца.
После смерти отца Елена Сергеевна превратилась в главную женщину дома, Татьяна Захаровна стала еще беспомощнее, хлопотливее и легче, ее, как пушинку, как голубиное перо, парящее в воздухе, вдруг прикрепляло к стулу или дивану, и сморщенными ручками, как лапками, она отгоняла Елену Сергеевну:
— Пустяки, иди к матери. Я просто завихряюсь, перехожу в другое измерение. Но удается вернуться. Так что овсянку в ближайшие дни буду варить тебе я. Иди к матери.
В черном костюме, в черном газовом шарфе, тщательно причесанная, Людмила Глебовна без устали мерила комнату, словно готовилась принимать соболезнования сослуживцев и знакомых покойного мужа. Она протоптала тропинку на ковре от пианино к тахте: на пианино стояла большая фотография мужа, на тахте раскиданы номера городской газеты с некрологом и портретом. Сцепив руки на груди, с сухими, невидящими глазами, с безумным румянцем на щеках, Людмила Глебовна бормотала: «Какой человек был, кого мы лишились! Сережа, Сереженька, какой же ты у меня красивый», — и припадала скорбящими руками к фотографическому портрету на пианино. Елена Сергеевна обнимала мать, останавливала, пыталась уложить ее, а сама думала: «Неужели она не чувствует, как пошлость убивает горе. Как разменивает его на какие-то сценки. Так пусто стало, так страшно, и вдруг это пошлое безумие с портретами».
— Мамочка, давай посидим, моя хорошая. Хочешь, я поиграю. Мамочка, прошу тебя…
Прошли черные дни, но тень от них осталась, и никогда уже Людмила Глебовна не выберется из-под этой вялой, но лунатически цепкой руки. Людмила Глебовна теперь начинала любой частный разговор странной хвастливой горечью: «Не знаю, как мы смогли пережить. Вы не представляете, как меня скрутило! Света белого не хотела. О, это не пересказать!»
Отрезанная горем от недавнего счастья, от недавней сердечной беззаботности, Людмила Глебовна обнаружила в себе расчетливость и умение холодно прогнозировать ближайшие семейные хлопоты. Она сказала дочери:
— Ты теперь — главная в доме. Чтобы в нем была жизнь, зависит только от тебя. Все надежды этого дома только на тебя. И наши с бабушкой — тоже. Ты должна выйти замуж.
— Как интересно-о! Наверное, ты прочишь меня за контрабас. Роман с контрабасом. Других мужчин в школе нет.
— Леночка, милая. Надо искать. Тебе скоро тридцать, а ты нигде не хочешь бывать. Дом без мужских рук угаснет. Неужели ты хочешь этого?
Елена Сергеевна любила свой дом, его гулкие сосновые стены — летом они нежно, томно, как бы нехотя сквозь размягчившуюся, разомлевшую смолу принимали голоса Шексны, заречных лугов, ропот берез на близкой Соборной горке, и тогда Елену Сергеевну тянуло к Скрябину, зимой — скрипы, гулы больших снегов и морозов, посвисты хохлатых, розовых свиристелей — Елена Сергеевна удивлялась, как она могла так долго не садиться за Грига, и она, конечно же, всей душой хотела, чтобы дом жил, так же жадно воспринимал звуки.
— Где же мне бывать? На хоккее? По воскресеньям пиво пить? С табличкой по Советской пройтись — «ищу мужа»?
— Не сердись, умница моя. И не груби. Существуют всевозможные вечера, лыжные прогулки, походы — надо общаться.
— И авось подцеплю суженого, ненаглядного.
— Твои замужние подруги уже смотрят на тебя, как на старую деву. Впрочем… Может быть, ты хочешь подцепить чужого мужа?
— Мои замужние подруги завидуют мне. Слышала бы ты, как они клянут свою семейную жизнь! Бесконечные жалобы: скучно, тошно. Кухня да постель — вот радости-то!
— Жалуются, потому что есть на кого. А ты хватишься — одна во всем доме.
— Ну времена! Одни совмещения: ты и невеста, ты и сваха, ты и надежда дома сего. Бабушка, а ты что молчишь? Тоже за женихом погонишь?
Татьяна Захаровна потрясла сухим кулачком возле уха, словно хотела послушать, как звенят, перекатываются еще не сказанные слова, но вот разжала кулачок, ладошкой махнула на Елену Сергеевну.
— Обещаю тебе пережить всех кавказских старух. Поэтому с женихом я могу подождать. Бог с ним. О тебе скажу. Тебе пора замуж. Иначе ты будешь жить с двумя старухами. Экий ледяной вариант. Я бы сразу застрелилась. Старушечьи платья, старушечьи ужимки, старушечья болтовня… Елена, на что ты себя обрекаешь?!
— Мама! Не городи оскорбительной ерунды! — Людмила Глебовна рассердилась. Нахмуренная, с поджатыми губами, со съежившимся подбородком, она очень походила сейчас на Татьяну Захаровну, плоти, правда, было побольше, морщины были еще не столь часты и мелки, и не согревали их живым блеском глаза — у Людмилы Глебовны голубизна глаз переходила теперь в белесость. «И я в моих старушек пойду, и у меня так же щеки затрясутся», — вроде бы снисходительно и шутливо подумала Елена Сергеевна и тут же испугалась очевидной неприглядности, может быть, и далеких, но предстоящих дней.
Ночью Елена Сергеевна не спала, слушала, как за стенами налаживаются, гнездятся ноябрьские холода, бесснежные, с закаменевшей серой землей, с тусклым острозубым льдом в канавах и черными, пыльными воронками по берегу Шексны. Сосновые бревна отзывались на ноябрьскую стужу дружным звоном — набирали в грудь отваги и согласия защищать трех женщин от зимних ветров. Елена Сергеевна представила затерянность, малость своего дома среди ноябрьского ночного пространства и поняла, как тяжело его стенам хранить тепло, как долго служил он хозяевам без единой червоточинки и как легко ему стать щелястым, негостеприимным, с подслеповатыми, стылыми окнами. Елена Сергеевна села в постели от прилива любви к дому, вины перед ним за свое иждивенчество, и добавлялась еще в этот ночной час горечь, что она — старая дева, надо искать мужа — ненужность и унизительность этого занятия так не соединялись с добротой стен, с привычностью уюта и покоя, что Елена Сергеевна впервые ощутила сухую колкость и бессильную бодрость бессонницы.
Вскоре в городе был День лектора, и по его расписанию Людмила Глебовна попала к строителям пятой домны. Домой вернулась в волнении, с неостывшими пятнами на щеках, с красной монтажной каской в руке — сначала устроила ее на подзеркальный столик, не понравилось; сунула на шкаф, показалось неуважительно, остановилась на оленьих рогах, хоть доля нелепости и была в этом распоряжении Людмилы Глебовны, но и почета для каски было много, и необычности — красная пластмасса на оленьих рогах — всегда заметишь и всегда вспомнишь о внимательных к лектору строителях. Елене Сергеевне показалось, что мать нарочно так долго и так привередливо устраивает каску, чтобы не так выпукло воспринимались при этом слова Людмилы Глебовны, не так нервно и не с тою безусловностью, с какою бы они звучали, вывали она их грудой, без пауз и разряжения.
— Очень боялась, что мои народники никому не будут интересны. Рассказываю с некоторой пустотой в груди — думаю, вот сейчас перешептываться начнут, отвлекутся. Но, смотрю, слушают, и слушают внимательно. А я рассказываю, какие неподкупные, какие принципиальные были народники, как ради идеи могли погрешить против художественной правды… И думаете, какой вопрос был мне задан? Ни за что не угадаете! Почему начальник цеха служебную машину использует как личную. Видите, как они трансформируют честность народников, как продляют ее и в наш день?
— И что ты ответила? — спросила Елена Сергеевна.
— Потому, говорю, что вы позволяете ему это делать. — Людмила Глебовна горделиво подбоченилась. — Впрочем, говорю, если он здесь, давайте ему все и выскажем.
— А они что?
— Нет его, говорят. На машине куда-то укатил.
— А ты?
— Руками развела. Они мне похлопали и каску подарили.
— И ты, конечно, ее примерила, и опять раздались аплодисменты.
— Перестань. И тут ко мне подходит молодой человек и спрашивает…
— Позвольте вас проводить.
— Как не стыдно, Лена! Все, кстати, очень серьезно. И спрашивает: вам что-нибудь говорит фамилия Хрустов? Я — ему: Петя! Он засмеялся: как вы сразу узнали. Он очень похож на мать. Я с ней дружила, они здешние, коренные. Потом уехали, он вернулся один, к бабушке. Мастером теперь устроился. Видел тебя на улице, но, говорит, постеснялся подойти. Вы с ним в садик вместе ходили…
— Не помню никакого Петю Хрустова. По-моему, ты его на улице встретила, а День лектора в его честь устроила.
— У тебя очень игривое настроение. Думай как хочешь. Но я его пригласила. Между прочим, он знает, что ты преподаешь музыку. Я бы, говорит, с удовольствием брал уроки.
— Слышала американский анекдот про ковбоя, который слишком много знал?..
Пришел Петр Хрустов и протянул Елене Сергеевне зеленый куст, похожий на куст крапивы.
— Что за зелень, детсадовский приятель? — Елена Сергеевна ни одной знакомой черты не видела в этом резком лице: кустистые, широкие брови, крупный, тяжелый нос, большой лоб с серьезными залысинами, — и… как называть этого угрюмого человека? — Добрый вечер.
— Бабушкина герань. Незаметно отчекрыжил, пока бабушки дома не было. — Улыбка у него нерешительная, приятно освещающая тяжелое лицо.
— Бедная бабушка. Старалась, растила, поливала каждый день.
— Простит. Не мог я без цветов прийти. А ты меня совсем не узнаешь?
— Как ни всматриваюсь.
У нас с тобой шкафчики рядом были. У тебя — морковка нарисована, у меня — томат.
— Морковку помню… Кстати, почему «томат»?
— А как надо?
— Помидорина. Помидорка. Помидор.
— Ты поправляй. Я часто заговариваюсь. Да! Ты любила спорить. Всем предлагала: давай спорить! Я однажды спросил: как это спорить? А ты: говори, что трава красная, а я буду говорить, что она синяя. Выйдет спор.
— Я и сейчас люблю спорить. Кажется, вспомнила… Во всяком случае, мне приятно, что ты это помнишь. Здравствуй, Петя.
Потом появились мать и бабушка, конечно же сгоравшие от нетерпения узнать: где и что Хрустов-отец, Хрустова-мать, как они все трогательно дружили домами, вместе пельмени стряпали на всю зиму, вместе на масленицу катались, такие балы-маскарады устраивали! А теперь город большой стал — старожилы потерялись среди приезжих, старинные знакомства сами по себе рухнули, и как хорошо, что объявился Петр Хрустов, свой, коренной, из хорошей череповецкой фамилии, может быть, хоть как-то воспрянут былые времена!
— В лото играть не будем. И пельмени на всю зиму стряпать тоже не будем. — Елена Сергеевна заявляла это в прихожей, где все они собрались проводить Петра Хрустова. — Не из черствости так говорю, а потому что с мясом плохо.
— Спасибо за гостеприимство. Спасибо вашему дому. — Петр мял шапку, сонно таращился на женщин — без вина опьянел от непривычных разговоров, от насмешливых, прекрасных глаз Елены Сергеевны. — Я так рад, что он на месте. Никуда не делся.
— Что-то мама говорила про уроки музыки? — Елена Сергеевна, прощаясь уже, протягивала руку.
— Это я так сболтнул. Для значительности. — Петр нерешительно улыбнулся: — Чтоб тебя заинтересовать. А на самом деле — тугое у меня ухо. Не для музыки.
Мать и бабушка тоже улыбнулись.
— Просто так приходи, Петя, без музыки.
— Спасибо. А я как раз хотел спросить: можно — нет еще-то зайти?
— Можно, можно.
Позже Елена Сергеевна по вечерней, учительской привычке подводила черту под прошедшим днем — поморщилась, глядя на куст герани — что-то хамское было в его появлении, рос, рос, живой, большой, красивый, и вдруг грубый человек, желая сверкнуть широтой натуры, срезал его, оставил пустой горшок с сиротским маленьким пенечком. Но, признавала в то же время Елена Сергеевна, есть в Петре и приятное простодушие, есть неуклюжая цельность, и — позволяющая принимать его — естественность.
Впечатления Петра Хрустова были много короче: «Девонька славная. Кусачая».
Он опять пришел. Чуть не с порога Елена Сергеевна предложила:
— Давай спорить.
— О чем?
— О жизни.
— Из меня, наверное, плохой спорщик получится. Я к вечеру квелый становлюсь. Накричусь за день, набегаюсь, в основном молчать охота.
— Значит, работали у тебя ноги и горло. Голова не устала. Давай спорить.
— Хорошо, давай. Ставь условия, как в детсаде.
— У нас есть Соборная горка. На ней церковь Воскресения, памятник павшим за Советскую власть и березовая роща с видом на Шексну. Таким образом, на Соборной горке живут: Вера (пусть не наша, пусть не нужная, пусть всего лишь олицетворяет свободу совести, но все равно — Вера). Память и Красота. Согласен? Хорошо. Ты строишь домну. Назовем ее Железной горкой. Много металла, много разных судеб вокруг него. Железная горка олицетворяет необходимость, производственную нужду, а потому не несет с собой ни красоты, ни памяти. И никаких духовных ценностей. Спорим, что Железная горка по всем статьям уступает Соборной?
— Спорим. Вокруг Железной горки вырос целый город, благоустроенный, уютный. Люди, живущие в нем, не тратят времени на дрова, на колодцы, то есть на сопротивление житейским неудобствам. И у них появляется больше времени, чтобы ходить на ту же Соборную горку. Присоединяться к памяти и красоте.
— Ага! Попался. Правильно — у Железной горки подсобная роль. Чтобы обслужить Соборную. Создать нормальные условия для жизни. Благоустроить ее. Хотя… Как ни странно, житейский комфорт — противник Соборной горки. Комфорт сам становится каким-то центром, идолом, вокруг которого суетится человек, начисто забывая о Соборной горке.
— Подожди, Леночка. Отвлечемся пока от житейской пользы, приносимой Железной горкой. Мы построили Дворец металлургов, где, говоря твоими словами, будет торжествовать дух. Всевозможные кружки, секции, и как там: твори, выдумывай, пробуй.
— Помилуй. Какой дух? Это всего-навсего будут занятия в часы досуга. Человеку некуда время девать, вот он идет в кружки кройки и шитья, в танцкласс, в инструментальный ансамбль. Опять-таки одна польза и никакой красоты.
— А вдруг в кружке пения или в литературном кружке со временем обнаружится гений. Часы досуга превратятся в красоту.
— Это будет прекрасным исключением. Железная горка — средство для прокорма, для нормального быта и досуга. Ты знаешь, как ее превратить в духовную ценность?
— Не знаю. Но послушай. Железную горку строят пять тысяч человек. Она соединяет их в такое сообщество, в такое товарищество, о котором многие будут вспоминать и на старости лет с нежностью. Разве это не духовная ценность?
— Допустим. И сообщество, и товарищество существуют. Вы помогаете друг другу, оставаясь на вторые и третьи смены, выручаете друг друга из разных авралов и досрочных сдач. И это говорит, что вы — хорошие, нормальные люди, с товарищескими отношениями внутри работы. Но почему я не ощущаю созданную вами духовную ценность? Не чувствую токов вашего товарищества и вашего рабочего бескорыстия? Эта ценность внутри вас, внутри вашего сообщества! А Соборная горка — бесспорная ценность для всех. Я вхожу под ее березы и, уверяю тебя, думаю не о сверхплановых процентах. Я думаю о своей судьбе, и как она не согласуется с этим покоем над горкой. Почему?
— Лена, сдаюсь. Ты — спорщица со стажем, с опытом. Напряжение не для меня. Уже в глазах двоится.
— Как некрасиво, Петр Хрустов, признаваться, что устал думать.
— Что поделаешь, Леночка…
Елена Сергеевна подвела черту и под этим днем: не умеет, а может быть, не любит Петр Хрустов думать, заслоняется от этого занятия усталостью, расхожей житейской мудростью: главное — о деле думать, а о жизни — необязательно. И спорить совсем не может, а мог бы ее урезонить: кое в чем были, были у нее уязвимые построения. Про товарищество он здраво говорил и с сердцем. Молодец.
Петр Хрустов подумал перед тем, как провалиться в сон: «Времени у нее свободного много. Вот и раздумывает. Дети ей нужны, заботы».
Ходили в кино, подолгу гуляли, но чаще сидели в ее комнате, сумерничали под пианино и негромкие разговоры.
— Правда, что ваша домна — самая большая в мире?
— Правда.
— А правда, что самая последняя в мире? И, еще не построенная, уже устарела?
— Почти правда. Вон ветряки. Казалось бы, для фильмов о Дон-Кихоте остались. А сейчас к ветрякам, к принципу, точнее, ветряков во всем мире возвращаются. Домна устарела, но много пользы и выгоды, так тобой ненавидимых, сопутствуют ее существованию.
— Какое у тебя главное желание?
— В жизни?
— Разумеется.
— Много работать, вырастить кучу детей, по воскресеньям ездить на подледный лов. А потом — в баньку, под веник. И после баньки — четвертинку.
— Шутишь, Петр Хрустов?
— Торопливо рассказываю. Сидишь над лункой, а так радостно присутствовать в мире. Вряд ли это объяснишь.
— Все же попробуй.
— Лен, а ты вот все с духом носишься. Надо жить духом, надо думать о духе… Как это?
— Всегда быть недовольным собой. И сомневающимся. Сделал, сказал, чего-то достиг — немедленно усомнись. Так ли сделал, так ли сказал.
— Н-да-а… А я почти всегда собой доволен. Работаю старательно, устаю, ближнему зла не желаю. В чем тут сомневаться?
— Если не думать, то ни в чем. Все и так хорошо.
— Лен, может, нам соединить Соборную горку с Железной.
— Подождем немного. Вдруг нельзя соединить. А мы начнем крушить, ломать, так сказать, изо всех сил соединяя.
— Лен, можно я тебя поцелую?
— Рано. Как говорит моя подруга, мало гуляем.
— Врет твоя подруга. С детского сада гуляем.
— Морковка с томатом не в счет, Петр Хрустов.
— А сколько надо гулять, чтобы поцеловаться?
— Не меньше трех недель.
— Значит, к Новому году?
— Примерно.
Опять была подведена черта: «Как он ужасно сопит, будто все время спит. Говоришь ему, а он все время спит. И, похоже, считает меня старой девой, которая стерпит, так сказать, от ухажера все. Поэтому говорит одни глупости».
Петр Хрустов решительно приказал себе: «Пора на штурм».
Сидели перед Новым годом, клеили елочные цепи и фонарики — выдумка Людмилы Глебовны, долженствующая, по ее мнению, сблизить по-домашнему Петю и Леночку. Выглянула с кухни Татьяна Захаровна, позвала ужинать:
— Милости прошу. Рыба такая золотистая получилась…
Петр, не отрываясь от фонарика, вздохнул:
— А я не люблю рыбу. И никогда не ем.
Татьяна Захаровна и Людмила Глебовна растерянно переглянулись, нервно всхохотнула Елена Сергеевна:
— Вот и я всегда говорю: отстаньте со своей рыбой. Мойва какая-нибудь.
Петр Хрустов тряхнул головой:
— Что-нибудь сморозил, да? Это у меня очень просто выходит.
— Скажи, пожалуйста, могу я тебя называть — Петруша? — Голос у Елены Сергеевны язвительно зазвенел. — Давно уже хочется, но все не осмеливалась.
— Пожалуйста. Очень приятно даже.
— Петруша, уже поздний вечер, ты устал.
— Засиделся, даже не замечаю ничего. Извините.
В дверях Елена Сергеевна сказала ему:
— Давай отдохнем друг от друга. Извини, но я пока не хочу тебя видеть.
— Лен, что я такого ляпнул? Что случилось?
— Петруша, прощай. Запомни: умные люди не выясняют отношений. Давай пока не видеться. Хорошо?
Она зашла на кухню, где подавленно молчали мать и бабушка.
— Не надо меня больше сватать. И дело не в том, что он не пара мне. Может, такие только на роду и написаны. Но я не хочу получать кусты герани! Я не хочу, чтобы рядом со мной сопели!
Она подождала, не возразит ли мать или бабушка. Мать молчала, у бабушки насмешливо заблестели глаза, но она удержалась, опустила покорно голову.
— Хочу, чтоб голова кружилась, чтоб сердце замирало от его голоса, чтоб тайна была, а не расчет. Нежности, счастья, роз, а не танцев для тех, кому за тридцать! Красоты хочу! А не пользы! Вы слышите! Кра-со-ты!..
Новый год Елена Сергеевна встречала в пригородной деревне, у замужней подруги. Ночью они катались в санях, и Елена Сергеевна рассказывала потом, смеясь, как на дорожном раскате ее выкинуло в сугроб — «это было замечательно».
В зимние каникулы она часто ходила на Соборную горку и возвращалась опушенная инеем, в ярком, счастливом румянце, — встречные замедляли шаги и улыбались: все же не убывает радости, свежих, веселых скрипов, волнующих заиндевевших ресниц в нашей долгой, милой русской зиме.
Дмитровская суббота Киноповесть
Пристальные звезды, голубовато-мохнатые, крупные, висят над южным морем, над ночными пляжами, над сгустками пальм и смутно белеющими зданиями санаториев, домов отдыха, пансионатов. Из щелей деревянного летнего театра, подъездом упирающегося в гору, а задней стеной глядящего в море, вырывается свет и музыка. Часть театра со сценой и оркестровой ямой держится на бетонных сваях. Между сваями, во время концерта, движутся какие-то тени — кажется, что совершается здесь странная, особенная жизнь…
На сцене эстрадный ансамбль в лакированных касках монтажников и в серебристо-ладных облегающих комбинезонах. Улыбаясь, ритмически притопывая и пришаркивая, ансамбль выкрикивает некий современный шлягер — автоматическая слаженность выкриков и движений отдает бесовским холодом.
В зале сидят Иван Митюшкин и Зина. Она жмется к его плечу — из щелей сквозит хоть и южным, но сырым неуютом. Иван тянет шею, выглядывая что-то на сцене.
— Ваня, ты что? — Зина теснее прижимается, стараясь приклонить голову к его отвердевшему, приподнявшемуся плечу. — Еще насмотришься. Проводишь меня завтра и-и… Вань, ведь распоследний вечерок. — Шепот Зины скорее веселый, она не тяготится предстоящей разлукой, а «распоследний вечерок» вставила лишь потому, что так принято говорить при расставаниях.
Иван молчит, тянет по-прежнему шею: на сцене, под упругими неутомимыми ногами артистов гнется, ходуном ходит, на честном слове держится одна доска, кажется, вот-вот переломится. Иван трясет головой, обмякает в кресле, обнимает Зину за плечи.
— Не тоскуй, Зинуля. Какой ты там вечерок выдумала. И утро еще не скоро, и завтра будет, и послезавтра…
После концерта Иван и Зина спускаются к морю, мимо свай, поддерживающих театр, — под сваями шорохи, поцелуи, смех и странное микрозатишье, тогда как на берегу ветер, гремят волны и устало помаргивают звезды. Иван и Зина останавливаются у фанерной пляжной будки, за подветренной стенкой. Жидкий свет берегового фонаря обливает их.
— Зинуль, вот пришло время сказать… Не надо нам расставаться. — Иван обнимает ее и не видит, что лицо у Зины стало удивленно-растерянным. — Я с тобой поеду!
— Как это со мной?
— Вместе будем. Зинуль, не для того же мы встретились, чтоб пропасть друг для друга… Зинуль…
— Золотой ты мой, — Зина отстраняется от него, голос трезв и скучен. — Как же мы будем вместе? Где, с какой стати? У меня муж, сын. Ты теперь все знаешь, Ванечка.
— Но так не бывает: сначала всерьез, а потом вроде бы в шутку.
— Бывает, Ванечка. В жизни все всерьез. И здесь, и там. Сколько нам выпало, столько и всерьез.
— Значит, и с мужем всерьез, и со мной всерьез?
— Домой мне надо, Ванечка. И у тебя дом будет — тогда и поймешь, что такое всерьез. Проводи лучше меня… напоследок. Золотой ты мой. — Зина хочет обнять его, но Иван пятится. — Как хочешь, Ванечка. Ну-у. Ну-у. Совсем испереживался. Ванечка!
Идут вдоль берега.
Иван останавливается возле длинного полотняного навеса, под которым тускло белеет ряд лежаков. Зина понимает эту остановку как примирение и с готовностью садится на лежак, ждуще поднимает лицо к Ивану, берет его руку, тянет к себе. По берегу требовательно, жестко шарит луч пограничного прожектора, выхватывая из тьмы целующиеся и более раскованные пары; компании молодых людей с гитарами; готовящихся ко сну «дикарей» — разворачивают спальные мешки, укладывают одежду в сумки, позевывают, мостятся на лежаках и прямо на песке. Иван отбирает свою руку у Зины, и разговор у них идет под вспышки пограничного прожектора, среди фигур, выхватываемых из ночной причудливой жизни.
— Похоже, ты не поняла меня. Приняла за телка чувствительного. Извини, Зина. По-другому скажу: будь моей женой.
— Опять ты за свое, Ванечка…
— Зина, неужели непонятно? Я не время проводил, не курортный роман раскручивал, а на тебя надеялся.
— Как это?
— Думал и ты меня полюбила. И все будет у нас без обмана. Думал, кончится этот юг, и мы с тобой приступим, всерьез начнем жизнь.
— Ишь ты. — Зина встает с лежака, обнимает себя за плечи, нетерпеливо покачивается. — У меня семья, дом, место насиженное… мое место — это куда девать?
— Поедем в твой город, объяснимся с твоим мужем, возьмем мальчишку и — в хорошие края, где от нас польза будет. Мне хочется, Зина, отвечать за тебя!
— Смотри, какой ответственный. Ты что, каждую встречную замуж зовешь?
— Не надо. Не надо из меня блаженного делать. Я каждую встречную в серьезную надежду превращаю. А зову тебя в Кару, там большая дорога строится.
— Меня не превращай, Ванечка. И не зови. Я вернусь под свою, надежную крышу. Какой ты непонятливый, Ванечка! Увезешь меня ты в тундру, а я непривычная.
— Да-а. Мелкий ты человек, Зинаида.
— Какая есть.
— Блудливая кошка домой возвращается. Знать тебя не хочу.
— Ах, ах… Скажите, пожалуйста. — Зина отходит от Ивана и останавливается, считая видимо, что вся эта раздраженная болтовня лишь предисловие к настоящему прощанию, но Иван уже не замечает ее. Идет к морю, садится на берег. Зина, постояв, передергивает презрительно плечами и быстро, безоглядно идет по дорожке среди зарослей тростника.
Утром, у подъезда дома отдыха, стоит автобус с работающим мотором. Ветерок, оставшийся от ночи, тянет по дорожкам, легонько крутя песок, листву, бумажки. Сквозь стекло дверей главного корпуса видны смутные, мечущиеся фигуры отъезжающих.
На скамейке у подъезда разложил свой скарб курортный фотограф, разбитной, юркий старичок. На спинку брошены ветхая черкеска, бурка, под стеклом набор, так сказать, фотографий-образцов, на скамейке же сидит облезлое чучело медведя, желто-бурого пестуна. Старичок склонился над папкой, перебирает фотографии. Тут же прохаживается Иван. Старичок, выбрав одну фотографию, приглядывается к Ивану, видимо, сличает снимок с оригиналом.
— Мужчина, а мужчина, — окликает Ивана старичок. — Полюбуйтесь-ка на свои лучшие дни.
Иван подходит — на фотографии видит себя, обнимающего Зину. Они счастливо смеются.
— Давай, дед, вместе с негативом.
Фотограф достает из конверта негатив и со снимками протягивает Ивану. Тот рвет их на клочки, бросает в урну и с какою-то излишней картинностью отряхивает руки.
— С вашей пятеркой я поступлю совсем по-другому, — говорит фотограф, получив деньги, сворачивает купюру, укладывает в объемистый бумажник. — Здесь курорт, здесь вечно пляшут и поют. Для этого берега вы чересчур впечатлительный мужчина. Извините… — Фотограф отворачивается от Ивана, перекладывает, поправляет на скамейке фотографии.
Ивану кажется, что чучело медведя оживает и укоризненно покачивает головой.
С чемоданами, баулами, сумками, вроде как по команде, вываливаются из стеклянных дверей отдыхающие и в потной, натужной нервозности устремляются к автобусу — быстрей, быстрей занять места. Появляется неприступная Зина, прогнавшая за ночь и утро остатки южной праздности и легкомыслия. Иван, увидев ее, идет прочь от автобуса по дорожке, продуваемой ветерком. Зина несколько замедляется, смотрит ему вслед с проснувшейся в преддверии дома праведностью и строгостью.
У подъезда летнего театра возится с афишными витринами курортный столяр — то ли разбирает их, то ли ремонтирует. Иван останавливается возле, с тупой задумчивостью рассматривает афиши, лица вчерашних артистов. Двери театра распахнуты настежь, с какою-то брошенностью поскрипывают петли. Иван спрашивает у столяра:
— Пару гвоздей не одолжишь?
— Каких тебе?
— Сотку. И молоток на минуту — я сейчас.
Столяр кивает.
Иван проходит в театр, взбирается на сцену и вгоняет гвозди во вчерашнюю, ходуном ходившую доску. Попрыгал на ней — доска не гнется. Иван, чтобы развеселить себя, пробует повторить некоторые движения вчерашних артистов.
— Э-ха-ха. Ладно, Ваня. Пора в Кару… Пора котомку собирать.
* * *
Самолет греет моторы. Иван в салоне почти не присаживается: устраивает на полках чьи-то сумки и пакеты, подхватывает ревущего мальчонку, пока его грузная мать втискивается в сиденье, помогает какой-то бабушке освободиться от плисовой жакетки и платка — старуха так взволнована предстоящим полетом, что не может сама пуговицы расстегнуть на жакетке.
Стюардесса с ярко-белыми волосами останавливает взгляд на Иване, замечает его доброхотство.
Взлетают. Иван усаживается, видит, что рядом давится слезами испуганно молчаливая девчонка.
— Ты чего? — спрашивает Иван.
Она не может говорить, слабо отмахивается — не приставай.
— Далеко едешь?
— В Тайшет.
— Работать, в гости? Подожди, подожди? Как тебя — Нина, Галя?
— Та-а-мара. Педучилище кончила.
— Ну-у! Здорово! Учителка — большая специальность. Страшно, что ли, ревешь-то?
— Да! Никого не знаю, папу с мамой жалко.
— Ночью всегда реветь охота. Был я в Тайшете, учителей там не хватает. Приедешь — на руках будут носить. В школу — на руках и из школы — на руках. Кормить с ложечки будут. Ну, ну… Сейчас воды принесу.
Иван идет к стюардессам, в их закуток, отделенный от салонов глухими портьерами. Проводницы стоят друг против друга, пользуются передышкой, сосредоточенно уставившись в пол, грызут кедровые орехи. У одной волосы — нестерпимо белые, у другой — нестерпимо рыжие; щедро чернеют ресницы и веки, губы отливают перламутром — ни дать ни взять родные сестры, вышедшие из утробы одной парикмахерской.
— Привет, девчата, — Иван кладет на маленький стол полиэтиленовый пакет с яблоками. — Угощайтесь, будем знакомы, девчата.
Стюардессы выплывают из дремотной пустоты:
— Спасибо, мальчата. — Они так дружно всхохатывают, что Иван вздрагивает.
Рыжая спрашивает:
— Тебя как понимать?
— В женихи набиваюсь, не видно, что ли?
— Ага, жених! Насмотрелись на таких. В три места алименты платишь — и опять жених!
— Ну ты даешь! — Иван хмурится. — И по паспорту, и по совести холостой я. Я всегда без тумана, учтите.
— Правда что жених. На, погрызи, — рыжая протягивает Ивану горсть орехов. — Зой, может, все-таки глянем в паспорт?
— Поверим. Раз с гостинцами, значит, жених. Алиментщики так норовят, насухую.
— Ну, жених, скорей угощай да невесту выбирай. — Рыжая оставляет орехи, обмахивает губы. — Ох ты! Как складно заговорила. К чему бы это?
— Не могу, девчата. Глаза разбегаются. — Вздохнув протяжно и громко, Иван приваливается к пластиковому шкафчику.
— Зойк, поможем доброму человеку? Ты его хвали, а я ругать буду. Перехвалишь — твой, я переругаю — мой. Как понимаешь?
— Давай.
Рыжая, прищурившись, приценивается к Ивану.
— Да-а, хорошего мало. Нос кочерыжкой, бровь жидкая — поросячья, волос как у чучела соломенного, уши торчком.
— Не скажи, товарка. Женишок что надо. Лицом белый, брови шелковы, волосы орехом светятся. Сам статный да ладный, обнимет — сладко будет!
— Вот девки! Ну девки! — восхищается Иван. — Ну, братва! А я к вам за водой. Во-он девчонка. Слезы такие горькие, такие соленые. Изревелась.
Иван уносит воду, поит девчонку. Из-за суконной занавески следит за ними стюардесса Зоя. Девчонка вскоре успокоилась, задремала под гудение моторов и спальный полусвет.
Ивану не дремлется, вертит головой, тянет шею, ищет возможных собеседников, чтобы скоротать время. Все спят. Потом замечает призывные жесты стюардессы Зои. Она, откинув занавесь, машет и машет ему.
— Заходи, — Зоя пошире отодвигает занавесь. — Только потихоньку.
Товарка Зои, рыжая стюардесса, спит на откидном сиденьице, полуоткрыв рот.
— Что такое, Зоенька?
— Давай чаю попьем. А то скучно. Тебя как звать-то?
— Иваном. Да я вроде не хочу. Спасибо.
— Как не хочешь! Ты какой-то дерганый, нервный. От чая утихнешь. Что случилось, Ваня?
— Мало ли что. Всех чаем, что ли, поишь?
— Только тебя, Ваня. Ну, что у тебя случилось?
— Разбитое сердце — и никаких надежд.
— Ну, это мы сейчас поправим.
Зоя ставит перед Иваном столик-тележку, достает из шкафчика термос с чаем. Иван смотрит на ее спорые руки, на зарумянившееся лицо.
— Тебя, Зоенька, хлебом не корми, дай поугощать да поутешать.
— А что, заметно?
— Хорошей женой будешь.
— Как это ты догадался?
— А ты не замужем?
— Не берет никто. Ваня, дак ты скажи: что случилось-то?
— Отдыхал я тут. А у нее муж, ребенок.
— От ворот поворот дала?
— Уехала. Говорит, не сходи с ума.
— Хорошая женщина. Отдохнула — и никаких глупостей.
— Вот на тебя гляжу и понимаю: в самом деле, ничего такого не случилось.
— Конечно, Ваня. — Зоя наливает ему еще чаю. — Просто у тебя впечатления тяжелые были.
Иван ловит ее руку, прижимается лбом. Зоя косится на спящую товарку и запускает пальцы в Ивановы волосы. Товарка приоткрывает глаз и снова спит, только веки подрагивают.
— Хорошо мне стало. Зоенька, можно я тебя от чистого сердца поцелую?
— Так уж и от чистого?
Иван привстает, они целуются.
Товарка опять приоткрывает глаз.
— От чистого и от горячего, Зоенька.
Опять целуются.
— Прилетай ко мне в Кару, Зоенька.
— Зачем?
— Любить тебя буду, жалеть.
— Сразу уж и любить.
— Я человек решительный. Прилетай.
— Посмотрим на твое поведение.
Над дверью вспыхивает лампочка.
— Ой, командир зовет. Пока, Ваня.
Вскоре из динамика над головой слышится голос Зои:
«Уважаемые пассажиры, аэропорт прибытия закрыт по метеоусловиям. Через сорок минут приземлимся в аэропорту города Новосибирска. Личные веши не забудьте захватить с собой».
— Слышала? — обращается Иван к девчонке, сидящей рядом. — Вот когда реветь-то надо. А ты уж, наверно, все слезы истратила.
* * *
Рассветный аэропорт, холодный дождь и ветер. В залах не протолкнуться. Спят сидя, стоя, на подоконниках, под лестничными маршами.
У подъезда вокзала, под козырьком крыльца, Иван и Тамара. У нее влажно блестят глаза. Иван, взъерошенный — следы буфетной давки, протягивает пирожки в кульке.
— Пожуй, совсем хорошо будет.
Девчонка пальчиками берет пирожок.
Мимо пробегает Зоя. Видит Ивана, останавливается:
— Эй, жених, А ты в самом деле разворотливый. Наш пострел — как там дальше-то?
Иван как-то неуклюже разводит руками: мол, видишь, человеку помочь надо.
Зоя зло хохочет:
— Тоже, поди, паспорт показывал. А, жених?
Иван бросается к ней:
— Зоенька, она ревет и ревет.
— Держи, — Зоя протягивает ему платок. — Иди вытирай. Сами доведут, а потом жалеют.
— Ты сама говорила: жалеть надо.
— Я так не говорила.
— Зоя, ну, давай по-хорошему. Зоя? — Иван пытается чмокнуть ее в щеку.
Зоя уворачивается:
— Не лезь. Расцеловался тут.
— Прилетай в Кару, Зоя.
— Да, сейчас вот, разлетелась.
— Ты же обещала. — Иван обнимает ее за плечи. — Честное слово, ждать буду.
— Ненадежный ты, Ваня. Раз-два — и опять кому-нибудь слезы промакнешь.
— Да ты что! Только тебе. А ты же плакать не собираешься?
— Еще чего.
Иван целует Зою.
— Буду ждать, Зоенька.
— Ну тебя к черту, Ваня. — Теперь Зоя целует его и убегает. — Скоро на вылет!
* * *
Вертолет летит к Каре — маленькая стрекоза в зеленовато-прозрачном небе над зелеными, бесконечными просторами. Иван приник к иллюминатору, видит ясные, чистые поляны со стогами свежего сена, огороженного свеже-ошкуренными жердями. Тень вертолета вспугивает лося, и он идет внизу махом, сквозь осинники и сосняки, светло-рыжие ляжки его вскоре темнеют от пота. Вспыхивают солнечные зайцы на зеркалах озер и озерков, по берегам их, то там то сям лепятся маленькие избушки с дерновыми крышами — зимовьюхи.
Рядом с Иваном — попутчики и новые знакомые Сеня, Петро и Виктор. Они при галстуках и в новых костюмах, но видно (по какой-то встопорщенности пиджаков и тесноте воротничков), что привычны эти люди к простым робам и уютным разношенным сапогам, а не к узконосым лакированным штиблетам. Возвращаются они из областного города, с совещания передовиков дорожного строительства — сидят, прижимая к животам нарядные папки, на которых крупными буквами обозначено «Участнику областного слета передовиков дорожного строительства». Папки, видимо, можно было убрать в чемоданчики или портфели, но ни Петро, ни Виктор, ни Сеня не догадались этого сделать и потому летят в торжественном неудобстве, с папками у животов.
Сеня — рыжий парень, с туповато-простодушным лицом, у Петро — тяжелый подбородок, масляно-нахальные голубые глаза и темные вьющиеся волосы. Виктор — курнос, с русым чубом, с уст его не сходит улыбка, этакая подначивающе-лукавая. Вот он подмигивает Петру:
— Вчера подхожу к одной знатной строительнице. Куда, говорю, деваете часы досуга? Со жгучим интересом на меня посмотрела, но промолчала. Предлагаю, говорю, развлечься и закусить. Опять молчит. Но с большим значением.
— Ошалела. На тебя посмотришь и сразу шалеешь.
— Пойдемте, говорю, провожу. По дороге и разговоримся. Проводи, проводи, а у самой улыбочка — с ног сшибает. Один, говорит, проводил, выпросил. Я в удивлении… Бюллетень, говорит, выпросил. Какие, говорю, шутки у вас старые.
— Так, так. — Петро ерзает на сиденье. — Старые, значит, говоришь? А она?
— Для старых, говорит, петухов зачем новые придумывать? Спрашиваю, а как муж к вашим шуткам относится? Он, говорит, тоже выпросил, теперь в бегах. То ли ГЭС строит, то ли ЛЭП. А я, говорит, соломенная вдова. Ну, я заоглядывался. У нас, говорю, Сеня — передовик по соломенным вдовам. Зову Сеню…
Неожиданно серьезным, каким-то отсыревшим, простуженным баском проговорил Сеня:
— Кончай, Витька. Верещишь, как кедровка, в ушах щекотно. И баб — сколько раз тебе говорил — не трогай, ни уха ни рыла ты в них не смыслишь. Неужели по-человечески нельзя, без кобелиного зуда? При мне чтоб этого не было, да и без меня — тоже. А меня Нина Федоровна ждет, пацанка ждет, мне им еще в глаза смотреть. Так что кончай.
Виктор, изображая притворное смущение, ежится, корчит умильно-благостную рожу. Петро, вроде бы с сочувствием, вставляет:
— Совершенно правильно, Сеня, все должно быть по-человечески. Вот еще бы знать, как она там ждет, как память хранит…
Сеня с ленивой серьезностью грозит:
— Шею сверну, узнаешь.
Петро спрашивает:
— Ваня, а ты как к нам собрался?
— Услышал, поехал.
— А что услышал-то?
— Погода у вас все время хорошая.
— А где раньше был?
— Там уж нет. Вот в передовики лечу определяться.
— Ваня, я обидчивый. С открытой душой спрашиваю, а ты темнишь.
Возникает ленивый Сенин бас:
— Это у тебя душа открытая? Амбарный замок на ней, и ключ заржавел. Что пристал к человеку?
— Свои теперь люди, Сеня. Темнить вроде ни к чему.
— Ну, конечно, свои. Мы с тобой год как вместе, а я до сих пор не знаю: женат ты, нет?
— А зачем тебе, Сеня? О твоей Нине Федоровне вся трасса слышала, а моя личная жизнь во мраке. Женат не женат, а человек скромный.
— Вот и выходит, что темнила — ты, а не он.
Петро всегда злится на Сеню, всегда они начинают ругаться, все уже к этому привыкли, но Иван — новенький и не хочет, чтобы из-за него горел сыр-бор.
— Да я, ребята, как отслужил, так все еду и еду. Вечный дембиль теперь.
Сеня наклоняется к иллюминатору:
— А вот и наша Кара. Добро пожаловать. Слышь, Ваня?
Вертолет приближается к большому таежному селу: дома из лиственничных бревен, тротуары из плах, выделяются двухэтажные, тоже из бревен, больница и школа, за селом просматривается база строителей дороги. За стареньким, буквой «П», клубом высится огромная скала, на ее фоне гигантские буквы: «ПЬИВЕТ ПЕРВОПРОХОДЦАМ!» — буква «Р» в слове «привет» упала, превратившись в мягкий знак. Иван повторяет:
— Пьивет, пьивет. Сдуло ее, что ли?
Отвечает со вздохом Сеня:
— Сдует. Тут ветры с таким напором — не разогнешься.
— А что, поправить некому?
— Поправлял один… Сорвался оттуда — и с концом.
— Кран бы подогнали. С подвеской.
— Все краны давно вперед ушли, на главный ход.
* * *
Бревенчатая изба с шестами антенн, в ней аэродромные службы и аэровокзал. У билетной стойки Татьяна и старуха эвенка в национальном халате и расшитых бисером гурумах, сапогах из оленьей шкуры. Старуха, видимо, прилетела на АН-2, стоящем возле аэровокзала. Татьяна читает бумажку, протянутую старухой, что-то отвечает. Старуха оттягивает платок от уха, тычет в него: говори, мол, громче. Татьяна кричит:
— Завтра ваш самолет!.. Как, где спать? Сейчас, что ли?.. Ах, устала. Хорошо, бабушка, сейчас устрою!
Татьяна берет старуху под руку, ведет ее за служебную перегородку. Старуха вдруг вывертывается из рук Татьяны. Семенит к выходу на поле. Татьяна задерживает ее, опять кричит:
— Принесем ваш мешок! Никуда не денется!
Уводит старуху.
Иван с новыми товарищами проходили мимо, когда Татьяна вела старуху. Сеня, Виктор, Петро приветственно подняли руки, Татьяна сдержанно ответила улыбкой и чуть приподнятой рукой.
Иван, за компанию, тоже помахал Татьяне, этак машинально-невнимательно.
* * *
Звучный, прозрачный августовский день; как бы порознь отдельные слышны голоса, шаги, урчанье моторов. Иван потихоньку идет по Каре, вертит головой, рассматривая село, запоминая его, приостанавливается под молодым кедром и дружески похлопывает по стволу — тоже знакомится.
Иван о чем-то спрашивает встречных, все машут в сторону путеукладчика, поднявшего звено рельсов со шпалами за околицей Кары. Иван по шпалам идет к путеукладчику. Таборов проверяет, хорошо ли уложен путь — тяжело подпрыгивает на шпалах, пробует, не прогибаются ли рельсы.
Сует Ивану короткопалую, жесткую ладонь.
— Таборов, Афанасий. — Берет бумагу из отдела кадров, не читая, прячет в карман. — Где бывал, что видел?
— Нефтепромысел, ГЭСы, три полевых сезона в Забайкалье.
— Сейчас откуда?
— С курорта.
— Кантуешься, значит.
— Заслуженно отдыхал.
— Топор держал?
— Было.
— На тракторе можешь?
— Приходилось.
— Так что же ты? Что стоишь?! Лясы точишь. Иди и работай. Время-то, время — ни секунды не вернешь! — Таборов тихо кричит, с болью и дрожью в голосе, тычет рукавицей в сторону близкой тайги, откуда слышны бензопилы и рев трелевщика.
— С тобой что? Ты чего со мной, как в кино? Артист, что ли?
— Со мной — в норме. Но ты меня должен с одного раза запомнить.
— Ясно. Значит, у тебя прием такой? Чтоб человек разбирался, кто же такой Афанасий Таборов?
— Примерно.
— Тогда учти: я работать приехал, а не о тебе думать.
Иван спускается с насыпи, оглядывается, вступая на просеку: изувеченная тракторами земля, обширная поляна в торосах пней. С двух сторон поляну ограничивают ели да рябины, с третьей — шпалы, свежая насыпь, туша путеукладчика.
* * *
Лесное болотце, выползшее краем своим на просеку.
Иван, Сеня, Петро, Виктор, Николай Филиппович гатят болотце, кладут лежневку. Валят бензопилой лиственницы, сосны, ели, трактором подтягивают деревья к болотцу и сталкивают их в жижу: сначала деревья кладут, что называется, навалом, кое-где скрепляя стальными скобами, и уже потом на это основание настелют продольные бревна, а на них — бревнышки поперек — получится лежневка, этакий бревенчатый мосток через болотце.
За бригадира в этой временной артели — старший по возрасту Николай Филиппович. Он показывает Сене, куда подтаскивать бревна трактором; он лезет в болотце, когда остальные мужики кантуют бревна; то подменяет Петра на бензопиле, то берется за топор.
Работают споро, воистину артельно: редко перекуривают и подолгу спин не разгибают. Но можно заметить, что Иван старается больше всех — он недавний здесь, и надо показать, что появился работник, а не какой-нибудь приживала.
Иван чуть раньше Николая Филипповича лезет в болотце, чуть дольше остальных не выпускает топора, не то чтобы из кожи вон лезет, но выказывает старожилам уважение рабочей неутомимостью и тщательностью.
Николай Филиппович — после третьего или пятого пота — командует с протяжной шутливостью:
— Весла суши-и!
На сухом взгорочке у елового пня стоит фляга с ключевой водой, на фляге черпачок из бересты — кто-то не поленился, согнул на скорую руку ковшичек. Сюда и собирается бригада. Мужики с блаженными вздохами опускаются в рыжеющий земляничник возле пня, снимают каски, утирают лбы. Петро на коленях тянется к фляге, зачерпывает, истово пьет, потом, оттопыривая, тряся влажными губами, выдыхает: «С-сладка!» Снова зачерпывает, передает ковшик Семену. Спрашивает у Николая Филиппыча:
— Ты когда-нибудь боцманом был?
— Кем я только не был! Вспоминать не берусь.
— Не помнишь, не надо. — Петр превратился в этакого водочерпия. Теперь протягивает ковшичек Николаю Филипповичу. — Тогда другое объясни: что это Ваня-новенький, как наскипидаренный, остановиться не может.
Иван, оставшийся на лежневке, вырубает в это время осиновые жерди, ошкуривает их, забивает вдоль лежневки колья, приколачивает к ним жерди — выходят ладные, сияющие влажной белизной перильца. Николай Филиппович пристально молчит, потом отвечает Петру:
— Старается.
Виктор вскакивает, нетерпеливо бежит к Ивану. Возле перилец долго, чтоб все обратили внимание, трет ладонь о штанину:
— Кабы не захватать. Хороши. Ухватисты. — Виктор пробует перильца на прочность. — Ваня, для кого постарался?
— Для тебя. А для других — на память.
— Что же я, поскальзываюсь часто?
— Туда пойдешь, — Иван кивает в сторону поляны, — там клуб будет, ресторан. Назад пойдешь, — Иван кивает в сторону Кары, — там тебя будет жена ждать. Семеро по лавкам. Возвращаться легче с перильцами-то.
— Ваня, я так не люблю. Чтоб тут клуб, а тут жена. Я у Тихого океана собираюсь остановиться.
— Извини, туда перильца тянуть — жердей не хватит.
— Ваня, замысел одобряю. Исполнение тоже. — Виктор, придерживаясь за перильца, изображает манерно идущую женщину. — Будем тут свиданья назначать.
— Стрелочники тут будут ходить, — говорит Семен. — Да и другим прохожим на радость.
— Что-то шибко разговорились. — Николай Филиппович поглядывает на часы. — Мой дед говаривал: брехня силу отнимает… Ты б, Митюшкин, топоры пока поправил. Раз не сидится.
Иван подчищает, поправляет завершающе перильца. Усмехается:
— Я тоже деда своего вспомнил. Дрова, бывало, пилим, дед фуражку козырьком назад повернет, скажет: «Давай, Ванька, передохнем, малость поколем». Колем, колем — аж в глазах рябит, а дед опять: «Давай, Ванька, передохнем, малость потаскаем!» Так с тех пор и не жалуюсь, что делать нечего.
Николай Филиппович смеется первым, этак тихонько, покашливающе.
Иван между тем достает из ящичка в Сенином тракторе напильник, садится на пенек, подложив рукавицы, правит первый топор.
Николай Филиппович вдруг поднимается с травы и, нагибаясь к Виктору, тревожно спрашивает:
— Витька! Да на тебе лица нет! И точечки, точечки!
Виктор отодвигается, тоже с тревогой глядит на Николая Филипповича:
— Какие точечки?
Тот безнадежно качает головой, не отвечает.
— Ну-ка, язык покажи!
Виктор с перепугу вываливает красный, широкий язычище.
— Точно. Так я и думал. Опух от молчанки. Если сейчас не отстрекочешь, точно, подавишься.
Виктор с досадой плюет и тут же хохочет:
— Это что! Вот я на Севере был. Вот где меня купили…
* * *
Таборов останавливает Ивана на улице. Кругом желтая листва, желтые лиственничные иголки, среди кустов таволжника, боярышника и шиповника летает паутина. Бабье лето.
— Дело, Митюшкин, есть. Сейчас картошку копают, а мы тут вдове одной помогаем. Завтра суббота. Может, сходишь, поможешь.
— А чего. Все веселей, чем в общаге.
* * *
Просторный двор. На качелях, привязанных меж двух берез, сидит мальчишка лет шести. Носишко его мокро блестит.
— Здорово, — Иван протягивает мальчишке руку, тот сует свою маленькую ладошку и быстро отдергивает, прячет в карман телогрейки:
— Шефствовать пришел?
— Да не знаю. Как получится. Тебя, может, качнуть? Чтобы ноги выше головы?
— Давай, пока матери нет. А то качель снимет. «Вовка, нельзя, Вовка, не смей» — слов других не знает.
— Значит, ты Вовка? Вовка-морковка.
— Не. Вовкин-суровкин — вот как.
— Ты суровый, что ли?
— Нет, строгий. А тебя как звать?
— Ванька.
Мальчишка смеется.
— Ты почему так говоришь?
— Ваньку валяю.
— Валяют дурака — я знаю.
— Нет, и Ваньку тоже валяют, — весело вздыхает Иван. — А где мать-то?
— На дежурстве. Давай я тебя буду звать Ваней. Без дядей.
— Договорились. Никакой я тебе не дядя.
— Матери скажешь, что разрешил так звать?
— Скажу.
— Тогда качай, Ваня.
Иван раскачивает его. Не удержав сладкого ужаса, Вовка звонко и тонко ойкает.
* * *
Иван с Вовкой идут в город. По пути у сарая Иван видит стопкой сложенные дощечки, говорит Вовке:
— Принесешь пилу, молоток, гвозди — кормушку для синиц соорудим.
— А лодку можешь?
— Кораблик, что ли?
— Да ну! Мать три штуки уже покупала — все унесло. Лодку. Чтоб сам я поплыл.
— Доски другие надо, смолу, инструмент хороший.
— Инструмента сколько хочешь.
— Так что, картошку будем копать или корабль строить?
— Огород. И корабль. И кормушку. — Вовка шмыгает носом и припрыгивает впереди Ивана, мешая идти, заглядывает ему в лицо.
Иван качает головой:
— Хороший ты, Вовка, мужик, но сопляк.
Вовка обмахивается рукавом.
Иван копает. Говорит Вовке:
— Ты пока собирай все щепки, хворостины. Костер запалим, картошку будем печь.
Вовка резво носится по огороду, собирает костер. Иван, между делом, из валяющихся досок и жердей собирает балаган.
* * *
Горит костер возле балагана. Вовка палкой выкатывает из огня картошины.
— Готовая… Спеклась… Вот бы здесь спать! А?
— Забоишься. — Иван стоит рядом, отдыхает, опершись на лопату.
— А чего мне бояться? Ружье принесу. Фонарик есть. Чуть чего — включу.
— Включишь, а к тебе медведь лезет. — Распахнув руки, угрожающе зарычав, Иван пошел на Вовку.
Тот восхищенно укувыркивается в глубь балагана. Тут же выскакивает:
— Ваня, ты где раньше был? Нет бы зимой появиться — клюшку бы мне сделал.
— А у тебя что? Языка нет? Взял бы позвал. Я бы мигом!
Сидят, едят обугленную, хрусткую картошку — губы облепляет черная окалина.
Через жердевую изгородь перелезает Костя. Он в резиновых сапогах, в телогрейке, космы до плеч, в руке транзистор. Оглядывает огород, присвистывает.
— Хорошо пашете — тимуровцев не надо. А я вот прособирался. Вовка, привет, — подходит к балагану, протягивает Ивану руку: — Костя.
— Иван.
Вовка молчит. Костя и ему протягивает руку. Тот отводит свою за спину.
— Ты чего? Во дает племянничек! — Костя смущенно всхохатывает.
— Мать тебя ждала-ждала вчера. Лучше бы, говорит, не обещал, — Вовка вскакивает от костра и передразнивает Костю: — Ты, Тань к картошке и не прикасайся. Сказал, сделаю, значит, глухо. — Вовка пытается презрительно скривить губы. — Деверь называется.
Иван с Костей смеются. Костя говорит:
— Вовка, уймись и забудь. Угости лучше картошкой бедного своего дядю.
Вовка дует губы.
— Бери. Жалко, что ли.
Костя присаживается к костру, перекидывает в ладонях картошку. Иван спрашивает:
— Работаешь, учишься?
— В десятом. — Костя обжигается картошкой. — А я тебя видел. Ты у Таборова, да?
— Где видел?
— Мы, карские, приметливые. Это вы приезжие вроде с глазами, а все поверх людей пялитесь.
— Куда после школы собираешься?
— Забирают.
— Сразу, что ли?
— Может, и не сразу. Таборов вообще-то обещал с работой. А поступать не буду, не-е…
— Интереса нет?
— Не хочу.
— Куда вынесет, значит?
— Пусть все само созревает. А то куда-то все торопятся: время, мол, уходит. Никуда оно не уходит, все при мне.
— Про время-то от Таборова наслышался?
— И от него. Не торопите меня. Я шагом хочу, а не бегом.
Костя включает транзистор — ор и крик повисают над огородом. Иван морщится, Вовка, задумавшись, смотрит в костер. Костя торопливо проходит картофельный рядок. Так торопится, что черенок лопаты гнется.
Иван спрашивает:
— Ты куда это, как на пожар?
— На рыбалку с другом собрался. Ждет меня. Тут неподалеку такое улово есть!
— Завидую. Может, как-нибудь возьмешь? Пока я не осмотрелся?
— О чем речь.
Костя перелезает через изгородь — удаляются транзисторные ритмы.
Иван убирает под навес лопаты, таскает в сарай мешки с картошкой, потом встряхивает телогрейку, моет у бочки сапоги. Вовка помогает ему почиститься, бьет ладошками по спине, по полам ватника.
Прощаются.
— Ваня, Ваня, придешь? Приходи, кормушку для синиц сделаем. А? — Вовка как-то покинуто и одиноко топчется возле него. — Ваня, может, сыграем во что?
— Москву показать?
— Больно, Ваня… Ну так и быть, покажи.
— Шучу, Вовка. Пока. И мать слушайся. А то никаких кормушек. Приду. Приду, Вовка. Слово-олово. Или золото?
— Золото, Ваня.
— Значит, золото. Жди.
* * *
Татьяна и Таборов прогуливаются возле клуба — только, только встретились. Желтые тополя и костры рябины. За клубом высится в удалении знаменитая скала с лозунгом на груди: «Пьивет первопроходцам!»
— Рядом живем, да редко видимся, — говорит Таборов. — Почему так?
— Тебе ли спрашивать, Афанасий? Летим, бежим и не оглядываемся.
— А в самом деле, Таня, как живешь?
— Справляюсь понемногу. Даже свахи заглядывают. Тут, мол, вдовец один на примете. Нельзя же одной жить.
— А ты? — Таборов морщится от неловкости. — Извини, Таня, спрашиваю, как… Не чужие же, ладно?
— Я недавно на кладбище была. Мне ясно так стало: никто Сашку скоро помнить не будет. И меня от памяти жизнь будет оттаскивать: Вовка растет, сама еще не старая.
Таборов смотрит в землю.
— Конечно, не старая. О чем ты?
— А я должна помнить, если не хочу быть хуже… нищей старухи. Афанасий, ты что в глаза не смотришь? Думаешь, причитаю? Я трезво говорю…
— Тебе, может, помощь какая нужна? Таня?
— Батюшки! Опять ты про помощь! На днях же какой-то был. Очень прошу, ну не нужно больше шефства. Хватит этих тимуровских милостей.
— Перестань, Таня. С чистым сердцем все делается.
— Правильно! Но вы посочувствовали, помогли, тоску мою благородно подчеркнули — и хоть белугой вой. Лучше не надо. Очень прошу… Как в спектакле каком участвуешь. Шефы — главные герои, а ты — неизвестно кто, но тебя все жалеют. Не нравится мне это.
— Таня, но ты представь. Появляется в моей конторе человек и думает только о себе. А мы ему наглядно объясняем: ты неправ…
— Ох, Афанасий. Какой ты упрямый… Ладно. Иногда присылай. Но только в воспитательных целях.
— А других у меня нет.
— Да, да, рассказывай. Хлебом тебя не корми, но дай побыть благодетелем…
— Ну вот. Оттаяла — и хорошо.
* * *
Пасмурное воскресное утро. Тучи так тесно припали к Каре, что, кажется, хотят укутать село своей сизой, холодной ватой.
Иван шатается по общежитию, не зная, куда себя деть. Виктор валяется на койке, слушает радио. Спрашивает:
— Ты чего дома?
— Никуда неохота.
— А мне хорошо, — Виктор закидывает руки за голову. — Лежу и умнее всех себя чувствую. А ты как?
— Дурак дураком. Хожу, маюсь, и никакого толку.
— Вспоминай. Ляг на койку и потихоньку прокручивай: там был, то говорил, туда-то пошел, пиво холоднее было, девушка под сиренью ждала, а ты не торопился…
— Нет уж, если вспоминать, из-за всего совестно: не то говорил, не то делал, не туда торопился.
— Ты фокусы любишь? Садись, покажу. — Виктор оживляется, садится на кровати, достает из-под подушки колоду карт.
— Загадай любую.
— Знаю, знаю я этот фокус! — Иван идет к двери.
— Ваня! Ну давай на балалайке будем учиться. У меня самоучитель есть.
— А у меня слуха нет!
* * *
Знакомый двор — Вовка потерянно бродит, тычется то в один угол, то в другой. Совсем он озяб, но в дом не идет. Присаживается на любимые качели.
В проеме калитки Иван. Вовка его не видит.
— Эй, Вовкин-суровкин. Здорово живешь, — негромко говорит Иван.
— Ваня… — тихо, неверяще шелестит Вовкин голос. Но вот толком разглядел Ивана, вскочил, рукавом обмел нос и звонко, радостно запел: — Ваня пришел!
На крыльцо выскакивает Татьяна, простоволосая, в затрапезном платье, в калошах на босу ногу. В руках мокрая тряпка — видимо, мыла пол.
— Что такое?! Вовка?! Осатанел, да? Что за крик?! — она укоряет Вовку, но без визгливых нот.
Иван, улыбаясь, загораживает его.
— Это я осатанел. Здрасьте. Иван Митюшкин. Зашел к старому другу.
— Извините. Перепугалась — поздороваться позабыла. — Татьяна задерживает темные неподвижные глаза на Иване. — Татьяна я. Спасибо за картошку.
— Вы не остыньте так-то?
— Ничего. Заходите в дом, сейчас чай поставлю.
— Чай еще заработать надо. Есть, нет работа-то?
— Есть, есть, Ваня! Дополна работы, пошли! — Вовка тянет Ивана. — Сама говорила, в сарае у нас черт ногу сломит!
— Все, Вовка, конец! — Она беспомощно всплескивает руками. — Опять тыкаешь, ровню нашел? Сколько говорить, нельзя так со взрослыми!
— Ваня, скажи.
— Мы с ним решили на «ты», чтоб головы не морочить.
— Ну и сын у меня! Стоять бы тебе сейчас в углу, ну да к вечеру заработаешь.
В сарае не только человек — действительно, черт сломит ногу. Доски, ящики, узловатые, витые чурбаки, которые не возьмешь ни одним колуном, рваные сапоги, туфли, телогрейки, гора пыльных банок и бутылок — вся эта дребедень с какою-то мелочной, незначительной настойчивостью напоминает: в доме давно нет хозяина. Иван заставляет Вовку перетащить на огород рванье и тряпье.
— Снова костер запалим.
Между делом, по пути, мастерит Вовке хоккейную клюшку: тешет из доски рукоятку, один конец запиливает и вставляет в него дощечку от ящика. Пара гвоздей, подвернувшийся кусок изоленты, — и Вовка, сдерживая восхищение, опять развесил под носом провода.
Иван молча вытирает Вовке нос и треплет шутя за синюю, смерзшуюся морковку.
На крыльцо выходит Татьяна:
— Эй, работнички. Пора и ложками поработать.
На Татьяне другое платье — оно туго очерчивает стан и грудь. Волосы собраны в тяжелый узел.
* * *
Иван, желая показать, что человек он с пониманием, говорит, усаживаясь за стол:
— К лицу вам платье. Хоть на вечер сейчас, хоть в театр — все оглядываться будут.
Откликается Вовка:
— Бабушка Тася уж ругает ее, ругает. Как, мол, не жалко обнову на дом тратить. А устанет ругать и запоет: «Ох, Танька, хоть под венец тебя сейчас».
Татьяна замахивается, Вовка отпрыгивает. Иван тоже невольно откидывается:
— Думал, и мне по пути попадет.
Татьяна грозит Вовке:
— Теперь от угла не отвертишься!
— А где эта бабушка Тася? — спрашивает Иван.
— С Вовкой иногда домовничает.
— Ну да! Домовничает! Чай все время пьет. С моими конфетами!
— Молчи. С тобой сидеть — золотом платить надо.
Иван во все глаза смотрит на Татьяну. Спохватывается:
— С твоим хозяйством, Таня, замаешься. — Иван запинается, таращит глаза. — Ой, извините!
— Да чего там «извините». «Вы» да «вы», мне даже как-то неловко.
— Вот и хорошо. Я тоже хотел без всяких «вы», да вдруг, думаю, не понравится.
— Понравится, понравится.
— Так я о чем, Таня. Замаешься, говорю, с таким хозяйством. К Новому году, говорят, дом сдадут. Просись в благоустроенную.
— Да нет, мне здесь неплохо. Жила и живу. — Татьяна говорит спокойно, но лицо при этом как бы каменеет.
Иван опять всматривается в нее и отводит глаза.
— И то правда. Я ведь так, случайно сказал. — Он поднимается. — Ну ладно, нагостился. Спасибо, как говорится, за хлеб-соль.
— Как не стыдно, Иван! Уж кому благодарить, так мне.
* * *
Таборов идет по лежневке. Ноги легонько оскальзываются на бревнышках, и Таборов, не замечая, вроде бы так и должно быть, хватается за Ивановы перильца. Впереди, на поляне, корчуют пни, жгут сучья, собрав их сначала в большие кучи. Иван ходит за Сениным трактором, накидывает толстый, витой трос на пень. Трактор чуть не на дыбы встает, силясь одолеть сопротивление корней, Семен вывернулся из кабины, открыв дверцу, переживает, что трактор — Семенова гордость, продолжение мощного Семенова тела — никак не вывернет этот пень.
Иван, стоящий сзади и сбоку, тоже напрягся, то ли шутя, то ли всерьез подбегает к пню, приваливается, подталкивает пень плечом, помогая трактору. Потом выхватывает из-за пояса топор и яростно рубит вздувшийся над землей корень. Пень, содрогаясь, громко хрустя корнями, полез из земли.
* * *
Иван вечером следующего дня на крыльце Татьяниного дома. Стучится.
Татьяна удивленно отступает, открыв дверь. Она во вчерашнем, туго облегающем платье.
— Таня, здравствуй!
— Забыл чего?
В сени врывается Вовка:
— Ваня! Кормушку или что будем делать?
— Вовке вот птичью кормушку обещал.
— Поздоровался бы сначала.
— Здравствуй, Ваня!
Таня с равнодушной приветливостью рассматривает Ивана.
Он смущенно мнется у порога, как великовозрастный Вовкин приятель. Из-за смущения спрашивает резко:
— Что, Таня, помешал? Так я с Вовкой буду, а ты, пожалуйста, на все четыре стороны.
Она чуть хмурится.
— Не в этом дело. Не обязательно на нас и вечера тратить.
— Не бойся, не на вас. Себя не знаю куда деть.
— Смотри. Если уж так работу ищешь, работай.
Иван с Вовкой у сарая мастерят кормушку.
— Построим мы с тобой кормушку, налетят какие-нибудь птахи, будут с утра до вечера кричать: «Вовка, ты где?»
— Почему птахи, Ваня? Синицы.
— Может, воробьи?
— И воробьи.
Иван вгоняет последний гвоздь, прибивает кормушку к стене сарая.
— Ну вот. Хоть и не гнездо, — Иван насыпает в кормушку семечек, — а птицам на радость. Будут жить и чирикать.
Иван собирается уходить.
— Ваня, так я тебя ждать буду.
— Договорились.
На крыльцо выходит Татьяна, проверяет почтовый ящик.
— Уже пошел?
— Уже.
— Таборову привет.
Иван идет к калитке, оглядывается, хочет что-то сказать, но Татьяны уже нет. Вовка кричит:
— Ваня! Ты завтра придешь, а я живу и чирикаю! — Вовка хохочет.
* * *
Таборов и Иван. Таборов спрашивает:
— Был у Татьяны?
— Кланяется тебе.
— Как она там?
— Не посылай больше к ней никого. Мне нетрудно, и время у меня всегда есть.
— Даже вон как!
— Ты против, что ли?
— А ты почему такой шустрый?
— Ты запомни, мне нетрудно туда ходить.
— Запомнил. Она тебя просила?
— Нет. Сам так решил.
— И что из этого выйдет?
— Не знаю.
— Как мужик мужику. Ходи, конечно, тут не запретишь. Но крепко подумай.
— Подумаю.
— Вопросов нет. Разве что последний: время, значит, пришло?
— Иди-ка ты.
* * *
Вечером Иван опять стучит в Татьянину дверь. Открывает Вовка:
— Ой, Ваня! Ура! — Вовка кидается было на шею, но спохватывается и протягивает руку.
— А я один. Мать ушла, бабушка Тася хворает.
— Понятно. Живешь и чирикаешь. Еще чем занимаешься?
— У окошка сидел, а тебя не видел. На турнике три раза подтянулся — больше расхотелось.
— А мог бы больше-то?
— Запросто.
На столе груда фотографий.
— А это что? — удивился Иван.
— Хотел альбом посмотреть, да рассыпал.
Иван поднимает одну и рассматривает. На фотографии Татьяна снята летом, сидящей в развилке старой березы, и тень живой листвы мешается с листьями сарафанного узора. Татьяна сидит, удерживаясь руками за ветви. Она Смеется. Глаза горячо и счастливо выплескивают, отдают смех тому, кого не видно на фотокарточке.
— Вот это рада человеку.
— Что, Ваня?
— Хорошо как смеется.
Вовка вдруг с гордостью говорит:
— А я из-за тебя с матерью разругался.
— Как?
— Я ее спросил: «Не знаешь, Ваня придет сегодня?» А она: «Передохне́т, а то и так зарядил». А я ей: «А тебе что, жалко, что ли?»
— А она?
— В угол меня — и ушла…
— Что же ты не в углу?
— Ну да. Никого нет, а я — стой.
— Пойдем! Айда проветримся. Мать навестим, посмотрим, как ей дежурится.
* * *
Идут по улице, ведущей к аэропорту. В зале ожидания старик охотник с двумя лайками, мать с младенцем на руках, две-три фигуры, спящих с ногами на лавках.
Татьяна за стойкой с надписью: «Диспетчер отдела перевозок». За стойкой же, рядом с Татьяной, долговязый веснушчатый летчик, дожидаясь загрузочной ведомости, балагурит:
— Все жду, Таня, когда на свадьбу пригласишь. Говори, когда свадьба, чтоб приземлиться вовремя.
— Женихов не вижу. Ты сулил сосватать, да, видно, все некогда: ты — в небе, я — на земле.
— Пол-эскадрильи вокруг тебя вьется. Какие тебе женихи нужны?
— Как ты, Васенька. Только пониже и без конопатин.
— Да выведу я конопатины! Таня! Только скажи. И приседать буду, чтоб пониже казаться. — Он помахивает ведомостью, чтоб просохли чернила.
— Любочку свою куда денешь? Тоже выведешь?
— Да, — вздыхает летчик. — Любочки нет рядом, и меня заносит. А как увижу, так понимаю: вот она — законная супруга и будущая мать-героиня.
— То-то.
Татьяна видит Вовку с Иваном, зашедших в зал.
— Счастливо, Васенька. Крестников поцелуй.
Выходит из-за стойки навстречу Вовке и Ивану:
— Так, так, так. Привел своего Ваню. За семью замками оставляла, а теперь мне как с тобой быть?
Иван звенящим голосом спрашивает:
— Говоришь, зарядил? А что делать?
— Наябедничал все-таки. А зачем ты ходишь, Ваня?
— Тянет.
— А мне с твоим «тянет» что делать?
— Как скажешь, так и будет.
— А если скажу — не ходи?
Встревает Вовка:
— Ко мне он ходит, ясно? Тебе жалко, что ли?
Вовка, не глядя на мать, набычившись, уходит на улицу.
— Видишь, что из твоей ходьбы выходит? Не ходи больше, Ваня. Я жила и жила, и такой жизни мне пока хватает.
— И к Вовке нельзя?
— Что ты, маленький, что ли? Все ведь понимаешь.
— Так мне, дураку, и надо! Пока.
— Пока.
— Проводить-то можно его?!
— Можно.
* * *
Иван сидит у Вовкиной постели.
— Спи, Вовка. И мне пора, и тебе пора. Мы же договорились.
— Сейчас, сейчас. Ваня. Помнишь, на вездеходе обещал покатать?
— Если мать отпустит. Спи.
— Ваня! Подъезжай — и покатаешь.
— Ладно. Спи.
* * *
На другой день, как бы мимоходом, Иван задерживает Таборова:
— Слушай, а что за парень был этот Сашка?
После затяжного, пристального раздумья Таборов отвечает:
— С большим азартом жил.
— Как это?
— Нас часто инерция за руку хватает: то скучно, то неохота, то замрешь в каком-нибудь столбняке. А Сашка в каждую минуту страсть вкладывал. С каким-то азартом, вкусом, красотой вкладывал. Что гайку закрутить, что доску отстругать…
* * *
У палисадника Татьяниного дома останавливается вездеход. За рулем Иван. Сигналит. Выскакивает Вовка:
— Ваня, за мной?!
Иван кивает, он не выходит из кабины.
— Сейчас обуюсь. Видишь, — Вовка задирает ногу, показывая, что он в носках.
На крыльце появляется Татьяна, она в том же платье, что и на виденной Иваном фотографии.
— Таня, я все помню, но я давно Вовке обещал.
— Как это давно?
— Ну, когда ты еще не отправила меня ко всем чертям. — Иван выпрыгивает из кабины, подходит к палисаднику. — Я и не знал, что ты дома.
— Не обязательно знать, Ваня. Вовку не надо мучить. Привяжется — как потом отрывать? Может, надеешься через него и меня достать?
— Ни на что я не надеюсь. Вот приехал — не поворачивать же. Покатаю, и все.
Появляется Вовка в сапогах, с игрушечным автоматом на плече. От нетерпения Вовка спотыкается на крыльце, Татьяна еле успевает подхватить его. Он вырывается из ее рук:
— Ваня, на речку, да?
— Куда скажешь.
— Сначала по поселку, потом — на речку.
— Поехали.
Татьяна окликает Ивана, идущего к вездеходу:
— Ваня, можно и я с вами?
— Не бойся, на Вовке и царапинки не будет.
— Я не боюсь… Хорошо бы в Филатову пустынь попасть. Давно там не была… Слыхал про такую?
— Это где голоса живут?
— Да. Тут километров пять — не больше. Я покажу.
— Поехали.
— Напоследок, да, Ваня? Правильно я тебя поняла?
— Правильно, все правильно, правильнее не бывает!
Таежная дорога через ручьи, речушки, поваленные деревья. Вовка вертит головой, на одной из лесин замечает бурундука.
— Ваня, видишь кто?! — голос его так оглушительно звонок, что Татьяна морщится и трясет головой.
— Местный житель. Полосатый свистун.
— Бурундук это. А местный житель — это я.
— Значит, и ты бурундук.
— Выходит, и я полосатый свистун?
— Выходит.
— Ну уж, я и свистеть-то не умею.
Добираются до Филатовой пустыни, песчаного, чуть затравеневшего пространства — то ли дна бывшего озера, то ли берега бывшей реки, — неожиданно среди таежных хребтов и увалов. Филатова пустынь обладает странным акустическим свойством: люди, разделенные песчаным пространством, могут говорить почти шепотом и все же слышать друг друга.
Татьяна предлагает:
— Я пойду в тот конец. Вовка останется здесь, а Ваня — вон к тем кустам. И будем перекликаться. Только, чур, Вовка, не кричать.
Татьяна идет в одну сторону, Иван в другую, Вовка взбирается на гусеницу вездехода, чтобы лучше видеть.
Вовка первым пробует голос:
— Ваня, ты меня видишь?
— Вижу.
— А что я делаю?
— Вездеход ломаешь.
Вовка спрыгивает с гусеницы, прячется в траве.
— А сейчас что?
— На животе лежишь и ногами дрыгаешь.
Вовка снова шепчет.
— Мам, мам! Ты где?
— На бревнышке сижу.
— А вокруг что?
— Муравьи бегают, дом строят.
— А ты меня в этой пустыне нашла или какой? Помнишь, говорила?
— Помню.
— Мне надоело шептаться, я в кабину полез.
— Только ничего там не трогай.
— Вань, не трогать? — закричал неожиданно Вовка.
— Мать надо слушаться, Вовка.
— Ладно. — Вовка забирается в кабину.
Иван сидит на песке, потом ложится и шепотом спрашивает:
— Таня! Ты хорошо меня слышишь?
— Здесь всегда хорошо было слышно. — Татьяна на бревнышке, чуть наклонилась вперед, обняв себя за плечи, пристально смотрит на чешуйчатый белый песок.
— Таня! Может, ты передумаешь?
— О чем ты?
— Как же мне не ходить к вам?
— Не по пути тебе, Ваня. Неужели не понимаешь?
— Таня! Очень прошу: не руби так сразу.
Таня молчит, пристально смотрит перед собой.
— Таня, слышишь? По пути, не по пути — не в этом же дело! Таня?
Она молчит.
Иван, обеспокоившись, встает и видит Таню — словно на фотографии смеющуюся, милую… Лицо Тани мрачнеет…
Таня говорит сухо и холодно:
— Хватит, Ваня. Прогулялись, пора возвращаться. Не стучись, никто гнать не будет.
* * *
Сеня и Таборов возле общежития. Сеня волнуется, потеет.
— Что делать, Афанасий Кузьмич? Нина Федоровна приехала.
— Какая Нина Федоровна?
— Супруга моя. Вон стоит.
Под сосной, невдалеке от общежития, среди авосек, баулов, мешков, стоит Нина Федоровна.
— И что она там делает?
— Она в сторонке привыкла, Афанасий Кузьмич. Вот приехала, ждет.
— Подожди, подожди. Как приехала?! Сеня, ты дурака не валяй. Я тебе раздельно повторяю, если не помнишь: женам приезжать пока некуда.
— Без спроса, Афанасий Кузьмич. Говорит, извелась и больше терпеть не могла.
— Смотри, какая чувствительная. А ты ей говорил мужское «нельзя»? То есть, когда женщина ни с места, если ей не велят?
— Говорит, таких писем не было. Говорит, что это за порядок: муж здесь, жена там.
— Та-ак, Сеня. Молодец. Хорошо пересказываешь. Теперь запоминай. Первое: не вздумай Нину Федоровну натравлять на меня — руки не подам и из всех списков вычеркну. Второе: завтра первым же рейсом отправишь домой — повадки никому не дам, иначе за три пятилетки не построим. Иди, Сеня, и скажи ей «нельзя», да свое «нельзя» скажи, а не мое.
* * *
Избушка, наподобие бани, стоит на берегу ручья, в избушке — дизельная, дающая свет поселку строителей. На завалинке дизельной Николай Филиппович читает газету. На берегу ручья появляется Сеня.
— Светильщику привет!
Николай Филиппович, не отрываясь от газеты, кивает.
— Филиппыч, у тебя солярки много? — Сеня садится рядом с ним.
— Хоть залейся, хоть утопись. Ты случайно не для своей Нины Федоровны местечко приглядываешь? Может, омуток для нее подыскиваешь?
— Нина Федоровна завтра улетит, но этой встречи век мне не забудет.
— Утешь. Ей, может, жить тут необязательно, а утешение требуется.
— Да вот просить тебя пришел. — Сеня ерзает на завалинке, с мукой смотрит на Николая Филипповича. — Может, движок пораньше вырубишь. Мол, солярка кончилась. А? Филиппыч?
— Все в наших руках. Сеня. Ты только силы свои рассчитай. Хватит ли сил, если я рано выключу?
— Спасибо, Филиппыч.
В комнате общежития за столом сидят Виктор, Иван, Петро, Сеня. Угол у окна непривычно завешен простыней — за ней кровать Сени. Сидящие нет-нет да и покосятся на простыню. Нина Федоровна в просторном домашнем сарафане. Она молча, с некоторой хмурью на щекастом сияющем лице, — являет из сумки привезенные гостинцы. Режет сало, пироги, выкладывает ватрушки, шаньки, всевозможные крендельки. Мужчины терпеливо ждут приглашения к столу.
Виктор разливается соловьем:
— Ну теперь я все понимаю. Сеня тут хвалил-расхваливал тебя, Нина Федоровна, на всем свете лучше нет. Теперь верю. Если б меня так кормили, если б обо мне так думали!
Нина Федоровна будто не слышит Виктора, ни на кого не глядит, а особенно старательно обходит взглядом Сеню. Он, расчувствовавшись на слова Виктора, норовит погладить Нину Федоровну.
— Нинок у меня — золото. Всегда душа в душу жили. Скажи, Нинок.
Нина Федоровна замирает и с презрительным удивлением косится на Сенину руку, обнявшую ее мощный стан. Сеня неохотно, с виноватым вздохом убирает руку.
Тут как тут Петро — со своей резонерски-бестактной манерой вмешивается в чужие дела:
— Конечно, Таборов перехватил. Что, нельзя вам какой-нибудь балок под жилье приспособить? Сеня у нас за троих пашет, мог бы уважить его по работе.
Мужчины неловко молчат. Нина Федоровна обращает наконец внимание на Сеню: подвигает к нему большое блюдо с домашней ветчиной.
— Семен Иваныч, угощай. Давай приглашай товарищей за стол.
Сеня, радостно вспыхнув, берет вилку, но в это время медленно гаснет лампочка.
— Вот те на-а… — протянул разочарованно Виктор.
— Пора перекурить, — поднимается Иван. — Самое время посумерничать.
За ним поднимается Виктор.
— Извините, конечно, пирожок вот этот я про запас прихвачу.
За ним идет Петр, в дверях мешкает:
— Ну, мы пошли, Сеня, не торопясь покурим, подышим. Так что счастливо оставаться.
Под сосною у общежития на лавочке сидят Виктор, Петро, Иван.
— Вот представьте, — говорит Виктор, — ко мне приезжает женщина. Я в ней души не чаю. Да я бы за ночь землянку вырыл. Таборова бы подальше послал и знать ничего не знаю.
— Землянку рыть ты сейчас прямо и начинай. Таборова тоже сейчас можешь. — Петро смеется. — А вот где женщину возьмешь? Есть такая в каком-нибудь краю?
— Нету. — Виктор встает. — Но, Петя, душа моя готова встретить такую. Только такую.
— Жало у нашего Пети всегда наготове. — Иван толкает Петра в бок и пытается вытеснить со скамейки.
— А что я такого сказал? — Петро удерживается на скамейке, ответно толкает Ивана. — Где такие женщины, чтоб ради них землянки рыть? Неоткуда им взяться. А какие есть, те хотят получше устроиться, при горячей воде жить и при теплом клозете. В землянку не заманишь.
— Петю, видно, однажды так скрутили, что на край света сбежал и все оглядывается. — Виктор всматривается в темень.
— Никто меня не скручивал. Но кое-что я повидал и в свеженькие лопухи не гожусь. Вот ты, Ваня, готов землянку рыть?
— А что? Что бы сказала, то бы и делал…
Из темноты, чертыхаясь, выходит Николай Филиппович, потирает лоб.
— Светлее, нет, стало? Сейчас такую шишку набил, думал, сосна от искр вспыхнет.
— Что с движком-то? — спрашивает Виктор.
— Трубки засорились, утром посмотрю. Пятака ни у кого нет? Может, сведу до утра?
* * *
Сумерки сгущаются над Карской падью. Фиолетовая осенняя прозрачность возникает из глубины этих сумерек. Костя встречает Татьяну у дверей аэровокзала. Она в аэрофлотской форме, в синей пилотке, с сумкой через плечо. Кажется, вокруг нее все время образуется некое нравственное поле, некий фон вечерней чистоты и ясной грустя.
Костя в брезентовых самодельных джинсах, в красном свитере, в штиблетах с самодельно наращенными каблуками.
— Тань, я все сделал. Зайдем покажу.
— Спасибо, Костя.
— Оградку покрасил, скамейку подправил, подчистил все.
— Спасибо.
Идут к Каре, дома которой уже светятся кое-где окнами сквозь шапку деревьев над сельским погостом. Вечер густеет и густеет.
— Ну что, Костя? Взял тебя в оборот десятый?
— Обыкновенно. Дотянем последнюю милю.
— Видела Галочку твою сегодня. Стройная, ловкая — приятно смотреть.
— Галке сейчас не до меня. В институт собирается, обновы шьет…
Татьяна с грустной шутливостью ерошит Косте волосы.
— Не горюй. Увидит — сердце у тебя понятливое, сама к тебе потянется.
— Хорошо бы так…
— Разберется твоя Галочка, что к чему…
Под деревьями погоста уже тяжелые тени. Над воротами погоста прибита проржавевшая жестяная вывеска, в углах которой нарисованы кресты, а посередине написано славянской вязью: «Место вечного успокоения живущих». Костя останавливается.
— Не рассчитал. Уж совсем темно.
— Все равно зайдем.
Костя зажигает спичку — пламя выхватывает из кладбищенской мглы фото: лицо Александра, строгое, напряженно-серьезное. Костя держит спичку, пока огонь не хватает за пальцы. Хочет зажечь новую, но Татьяна говорит:
— Не надо.
Садится на лавочку в ограде.
Костя присаживается с краю, упирает руки в колени, сидит, готовый встать вместе с Татьяной, готовый откликнуться на любой ее знак и вздох.
Татьяна говорит:
— Вечером первый раз здесь. Днем я обязательно реву. Вижу и реву. А так легче… Сколько уже его нет!.. Пропадает память о нем, а ведь он был хорошим человеком. Как этого мало, чтобы люди не забыли. Понимаешь?! Только я и буду помнить.
— Как ты, наверное, никто не запомнит. Я — по-своему, мать — по-своему… Еще какая родня.
— Даже Вовка его не запомнит. Пойми, Костя! Пусть по-своему, пусть родня! Но что же будет, если и я забуду. Должен же он в ком-то жить. Имеет право хоть в одном человеке жить и жить!
* * *
Зеленый вагончик, поставленный на брусья-полозья, с торцов прислонены лесенки с перильцами, по карнизу идет надпись: «Чародейка — мужской и дамский салон». В так называемом дамском салоне — маленькой комнатке — сидит Татьяна. Две парикмахерши, этакие спортивно ухоженные девочки, хлопочут возле нее.
— Танюш! Ну теперь ты вообще! Только мигнешь — любой у твоих ног.
— Танюш! У тебя — свадьба, развод?
— Почему развод?
— Знаешь, перед разводом как некоторые стараются. По три часа в кресле сидят. Чтоб на прощанье сердце пронзить: вот, мол, какую королеву теряешь.
— Да нет, работа у меня на людях. А живу я сама по себе.
— Танюш! Свобода — самое то! Тебе никто не нужен, а если…
В мужской салон заходит Иван. Садится в кресло, стучит по фаянсовому подзеркальнику. Выпархивает из соседней половины парикмахерша.
— Здрасте.
— Привет. Что-то я тебя здесь не видел?
— А мы из Львова. Победили на республиканском конкурсе, а нам — путевку на вашу стройку.
— Значит, лучшие в республике? — Иван привстает. — Иван Митюшкин — стригусь ежемесячно.
— А я — Фаина.
Рядом с зеркалом — большая синяя папка. Фаина распахивает ее — фотографии с моделями стрижек перемежаются фотографиями киноартистов, воспринимающихся тоже как парикмахерская реклама.
— Как будем стричься? Выбирайте.
Иван тычет пальцем в фотографию киноартиста.
— Давай так.
Фаина хлопает в ладоши, весело кричит:
— Верочка, Верочка! Еще один!
Влетает Верочка.
— Вот эту выбрал, я же говорила.
Иван ничего не понимает, таращит глаза то на одну, то на другую.
Фаина смеется.
— Мы поспорили. Я перемешала артистов с манекенщиками и сказала, что будут выбирать артистов. Вы уже девятый!
— Совершенно правильно. — Иван вглядывается в фотографию. — Я подумал, где-то этого парня видел.
— Вот именно! Раз знакомый, давай под знакомого. Никакого выбора. Верочка, дальше спорим? Или хватит?
— Конечно, дальше. Кто-то же придет со своей головой.
Иван разводит руками:
— Ну, а меня давай под артиста.
Под щелканье ножниц, под жужжание машинки Иван и Фаина разговаривают.
— Значит, вы часто в кино ходите?
— Бываю. Раньше часто ходил, а здесь клуб маленький — когда билет достанется.
— Мы с Верочкой ни одной картины не пропускали и здесь постараемся.
— Я больше индийские люблю. Так у них сначала все жалостливо, а потом пляшут, песни поют. Добрый народ.
— А каких артистов вы знаете?
— Да никаких. На фамилии совсем памяти нет. Я вот книжки читаю — писателей не запоминаю. Читать читал, а спроси, кто написал, — не помню.
— Да-а?.. — У Фаины искреннее разочарование на лице. — А мы с Верочкой и биографии, и все роли запоминаем. Конечно, кто нравится.
Иван смотрит на нее в зеркало, хитро щурится:
— С одной актрисой я даже знаком был. На курорте познакомился. Ох и пела она!
— И ее фамилию не помните?
— Помню. Как скажет, бывало, Митюшкин, ты — прелесть, ты — чудо, я и язык проглочу.
Татьяна выходит из дамской половины, Иван видит ее в зеркале и, похоже, действительно проглатывает язык. Татьяна прощается с парикмахершами, улыбается Ивану:
— Митюшкин, ты — чудо, — и выходит из вагончика.
Иван останавливает руку с ножницами, срывает салфетку, выскакивает следом за Татьяной.
— Таня! Болтовня же все это! Для интереса вру, а интереса никакого.
— Что это ты так разволновался? — Татьяна спокойно улыбается. — Смотри-ка. И не достригся. Ты, Ваня, пошутил, я пошутила. Вот и все.
— Ты же знаешь, что не все.
— Не знаю. Иди. Девчонки видишь какие славные! Самая тебе пара.
Иван понуро идет к парикмахерской.
Иван и Костя на берегу реки. В руках у них спиннинги, но они забыты. Костя рассказывает:
— В восьмом я задурил. Не хочу учиться — и все. Пойду в вечернюю, буду работать, надоело дармоедом быть. Сашка мог бы морду мне начистить, ремнем ум-разум вколотить. А он берет три дня отгула и говорит: «Костя, айда в тайгу». Три дня он мне в глаза заглядывал, как больному. Ох и потаскал он меня по тайге… Три дня Сашка кашеварил, уху варил… У костра сядем, а он: «Кось, ну давай еще покумекаем. Прикинем». Прикидывали, прикидывали, и понял я — дурить хватит.
Иван:
— Может, жив бы был, уговорил тебя, куда определяться. В институт бы направил.
— Мы говорили. Отслужи, говорит, потом разберешься. Вообще он… Теперь мне и посоветоваться не с кем… Увидит, пацан на улице ревет — обязательно подойдет. Что с тобой, да кто тебя. Не мог он пройти, когда рядом не в норме что-то.
Речушка прижимается к скале, на которой укреплено злополучное приветствие. Далеко слышно, как дребезжат, звенят металлические буквы. Иван с Костей стоят почти под «пьиветом».
Иван задирает голову:
— Ты видел, как это было?
— Видел. Мы с ним рыбачить шли. В прошлый День строителя. Ветер поднялся, буква кувырнулась.
— Таборов послал?
— Не-ет. Таборов метался, правда. Засмеют, говорил, с этим «пьиветом». Да еще в праздник. Сашка смотрел, смотрел. Уважу, говорит, Таборова. Послал меня за веревкой.
— Веревка-то зачем?
— Он решил не по тросу идти, а со скалы спуститься, веревкой зацепить и выправить. Не успел спуститься. Он близко к краю подошел. Булыга из-под ноги вывернулась. И — все.
Иван снова задирает голову, рассматривает перевернутую букву.
* * *
Просека, готовые рельсы упираются в путеукладчик. Николай Филиппович в кабинете. Сеня, Петро, Иван на полотне. Укладывают очередную плеть.
По шпалам идет Виктор, изрядно еще не дойдя до путеукладчика, машет рукой:
— Ваня! Шабаш!
Мужики разгибаются над рельсами, ждут Виктора.
— Ваня! Ну, ты даешь! — Виктор запыхался, вспотел. — Уф! Думал, не дойду. Невеста к тебе приехала.
— Какая невеста?
— Темни, темни. Как говорили в моей деревне, невеста шибко видная. Как ходит! Чуть не плачет там: куда мово Ванечку дели?
Иван подступает к Виктору.
— Все хахоньки, Витя. — Иван хочет взять Виктора за воротник, но Виктор отскакивает.
— Да что ты, Ваня! Клянусь ее красотой! Я только из конторы вышел, она навстречу: «Вы Митюшкина знаете?» — «Кто же, — говорю, — Митюшкина не знает». — «А что же, — говорит, — он не чешется и в ус не дует? Невеста прилетела, а его нет».
— Прилетела? — Иван подхватывается и бежит по шпалам к поселку.
— Ваня! — кричит вслед Петро. — Землянку рыть начнешь, поможем.
* * *
Под сосной возле общежития прохаживается стюардесса Зоя. Увидев спешащего Ивана, она поправляет волосы, мимолетно оглаживает щеки и лоб. Облизав губы, старательно улыбается — есть в этой улыбке какая-то виноватая смущенная развязность.
— Аэрофлот гарантирует, Ваня. Думала, у трапа встретишь, а ты, оказывается, и не ждал.
— Долго ты летела. Думал, пошутила Зоенька, некогда ей по гостям разлетывать.
— Давала время подготовиться. А позавчера решила: беру отгул и лечу к Ване. А то вся жизнь в разлуке пройдет.
— Молодец, Зоенька! Люблю легких на подъем. — Иван говорит с притворной веселостью, но тут же ему становится неловко за свое притворство, и он добавляет сердечно: — Спасибо, что не забыла.
— А вот ты меня забыл. Вон как ты маешься, не знаешь, что делать. Я тебе помешала?
— Перестань. Немного растерялся — это есть. Но не думай, Иван Митюшкин умеет встречать гостей. Сначала, значит, будет экскурсия. Показываю достопримечательности Кары. Согласна?
— Хорошо, Ваня, — тихо и покорно говорит Зоя. — Если и помешала, не сердись. Как-нибудь сутки вытерпи. — Зоя наклоняется, поднимает прислоненную к сосне сумку. Иван отбирает ее.
— Что ты, в самом деле, Зоенька! Прилетела — и хорошо. Пошли, на Кару посмотришь.
Они идут несколько отстраненно, Иван одновременно хочет быть и радушным хозяином, и случайным попутчиком Зои, чтобы знакомые что не подумали. Он показывает Зое и просеку с рельсами, и клуб, и дизельную, потом выходят на берег Кары. Зоя сбрасывает туфли, идет по гальке босиком. Расстегивает синий аэрофлотский китель.
— Все, Ваня. Насмотрелась, хочу окунуться. У вас жарит, как летом.
— Давай.
Они торопливо, не глядя друг на друга, раздеваются, бегут к воде. Зоя весело, пронзительно визжит:
— У-ю-юй! Чур не я, чур не я! Ваня, спасай! — падает и испуганно, беспамятно молотит руками и ногами.
Зоя выскакивает из воды, и сразу накатывает тишина. Зоя спрашивает ясным, промытым голосом:
— Ваня, а что это ты, как на поводке, меня таскал? Будто отделаться быстрей хотел? Ваня, кто тебя гнал, скажи?
— Да кто… Дурная голова.
Зоя открывает сумку.
— Сначала я тебя угощать буду. Без гостинцев я ни шагу. Помнишь, как тогда ты в самолете говорил.
Зоя расстилает белый платочек, выкладывает пучки редиски, луковицы, колбасу, хлеб.
— Зоенька, я — дармоед. Ты вон какую торбу тащила, а я хоть бы пряников купил.
— Всю дорогу думала, как тебя угощать буду. — Зоя хлопотливо раскладывает, перекладывает все на платке.
— Чем смотреть, лучше помоги.
Солнце сушит сверкающие капли на плечах, золотит их пыльцой.
— Ох, господи! Вот это — бабье лето! — Зоя отодвигается в тень шиповника, жмурится, устраивает голову на закинутых руках.
— Ванечка, хочешь настроение испорчу?
— Не хочу. Совсем не хочу.
— Ну, пожалуйста, Ванечка, разреши. — Она открывает глаза, округляет их обиженно. — Я тебе еще ни разу не портила. Стерпи уж.
— Кто бы спорил.
— А ведь тебе стыдно было со мной идти — я видела. Ты женился, Ваня? Или кого завел?
— Не собирай что попало! Разве я похож на женатика?
Зоя смеется:
— Очень похож. Они знаешь, как маются! Им и перед женой совестно, и перед девицей — разрываются, бедняги! Вот и ты все топтался-боялся. Вроде как жену не хочешь позорить и меня жалко. Нет, вел себя ты как настоящий женатик.
— Смотри-ка ты. Живешь и не знаешь, какой ты есть. — Иван растягивается на траве и затихает.
В кустах крадется Вовка. Зовет громким шепотом:
— Ваня, Ваня!
Иван ошалело вскакивает, затихшая рядом Зоя тоже вздрагивает, приподнимает голову.
— Кто-то зовет, да?
— Я сейчас, Зоенька, на минуту.
Иван идет к Вовке.
— Это невеста, что ли, твоя? — шепотом спрашивает Вовка.
— Просто знакомая. В гости приехала. А ты как сюда попал?
— Вань, она, что ли, тоже диспетчер?
Зоя прислушивается к их разговору.
— Ты пока беги. Я тебя завтра найду.
Вовка забывает про шепот, радуется во весь голос:
— Ваня! Точно?
— Беги.
Иван возвращается к Зое, садится под куст шиповника.
— Кто это, Ваня?
— Мальчишка знакомый.
Зоя тянется к нему, гладит по плечу:
— Что-то встревожился, Ваня?
— Да что ты. Перегрелся — вон как печет.
Зоя садится, подвигается к нему. Опять гладит по плечу:
— Ваня, хочу все сразу знать. Я ведь всерьез летела. Я думала, думала о тебе. Просто так, да еще в воздухе, люди не встречаются. И сказала себе: не дури, Зойка. Раз думаешь о человеке, повидай его, вдруг что-то между вами есть. Ваня, я к тебе летела… Если что, я не обижусь и реветь не буду.
— Зоя, я тебе рад. Но и вертеться, как уж, не могу… Другая у меня, Зоенька, судьба. Совсем другая.
— Все, все, Ваня. — Зоя было притянула к себе ворох одежды, но опять замерла: — Я сразу поняла и не хотела ничего говорить. Гостья да гостья. А в душе подмывает: а вдруг, а вдруг! Какие мы все-таки дуры!
Она встает, начинает одеваться.
— Не торопись, Зоенька. Давай погуляем еще. Вечером с ребятами познакомлю. Посидим.
— Нет, нет. Ни за что. И не вздумай меня провожать. Ни к чему. Повидались — и хорошо. Я, может, сегодня же и улечу. — Пытается улыбнуться. — Помашу тебе из окошечка.
Иван поспешно одевается.
— Да что же я за хозяин буду? Так нельзя, Зоя. Не по-людски.
— Можно, Ваня, можно. Только так и можно. Слышишь? Не провожай.
Иван, полуодетый, растерянный, стоит в кустах шиповника, а Зоя уходит, выбирается на дорогу, идет в сторону аэропорта.
* * *
Иван ждет Татьяну в палисаднике аэровокзала, ходит и ходит около скамейки. Татьяна, увидав его, хочет повернуть, скрыться в помещении, но Иван замечает ее, окликает:
— Таня, добрый вечер!
Она останавливается.
— Подожди, не убегай. Все равно догоню.
— Я не прячусь. Думала, кого-нибудь еще ждешь.
— Таня! Так что же делать?! — Иван спрашивает звонким, напрягшимся голосом. — Люблю я тебя.
Она слабо, неуловимо то ли вздрагивает, то ли отшатывается, потупляется, теребит ремешок сумки.
— Слышишь, Таня?
— Да.
У Ивана перехватывает, горит горло.
— Недавно знакомая приезжала… Одинокий человек. И я одинокий человек. Почему-то одинокость к одинокости не прилепляется… Я только тебя вижу, Таня, только тебя слышу… Что скажешь?
— Не знаю, Ваня. Может, не там свое счастье ищешь? Ведь жизнь-то у всех одна. Ты подумай…
— Да думал я, передумал! И вчера, и позавчера! Ты мне скажи: ты-то согласна, что я тебя люблю? Согласна?
— Да.
Неожиданно для себя они садятся на скамейку и молча сидят друг подле друга и никак не могут остановить это молчание.
Иван наконец смотрит на Татьяну.
— Почему-то шевельнуться боюсь. Таня, ты знай: каждая твоя жилочка мне драгоценна, каждая…
— Не надо, Ваня. — В глазах у нее слезы. — Все ясно, Ваня. Спасибо. — Она берет его руку и поглаживает, покачивает в своих ладонях, потом осторожно выпускает ее.
Он встает, топчется на месте и, совсем уж потеряв голову, тычется губами Татьяне в руку и быстро уходит, почти убегает.
* * *
Вовка с Иваном разговаривают во дворе Татьяниного дома, у верстака, где мастерят лодку: лежат отфугованные доски. Иван строгает бруски для каркаса.
— Ваня, а все же лучше шлюпку делать. На плоскодонке — раз! — и перевернулся.
— Шлюпку я не умею. Хватит нам и плоскодонки.
— А вдруг шторм?
— А мы к берегу.
— А если не успеем?
— Сядешь ко мне на спину и тоже — к берегу.
— Да я сам уплыву!
— Тогда я к тебе на плечи.
— А если мать с нами будет?
— У нее спасательный круг будет.
— Ваня, мать говорит, ты с нами будешь жить?
— Ты против, что ли?
— Не. А как тогда мне тебя звать-то?
— Да ладно, Вовка! Хоть под землю с тобой провались!
— Просто «папа» я не смогу. Давай я тебя папа Ваня буду звать? И по-старому, и по-новому. Давай?
— Договорились!
* * *
Иван, в темном парадном костюме, в белой сорочке, при галстуке, приходит к Таборову. Тот снимает комнату в деревенском доме, в комнате — голые стены, железная узкая кровать, стол, застеленный газетами, два табурета. Таборов бреется опасной бритвой перед складным зеркальцем.
— Заходи, Митюшкин.
— Извини, Афанасий Кузьмич. — Иван с некоторым изумлением оглядывает голые стены, убогое жилище Таборова. — Между прочим, только перед дверью вспомнил, что ни разу у тебя не бывал.
— Не приглашал, вот и не бывал. — Таборов обмакивает полотенце в кастрюлю с горячей водой и прикладывает его к щекам. — Ну, я к застолью готов. А ты — настоящий жених. Цветка в петлице не хватает.
— Не дашь пару сотен? Хочу в магазин забежать. Боюсь, не хватит.
— Не дам. Нет у меня денег.
— Нет так нет. — Иван обиженно пятится. — Еще раз извини.
— Подожди. Садись. — Таборов придвигает Ивану табурет. — Сегодня я не хочу выглядеть в твоих глазах жлобом и жмотом.
— Брось, Афанасий Кузьмич, — Иван еще не пережил отказа, говорит глухо, подрагивая голосом. — Не маленький. Нет так нет. И никаких обид.
— Подожди. К тебе на свадьбу я пойду в этой робе — у меня нет костюма. Три года назад я подписал вертолетчикам бумагу, белый лист, куда они могли внести любой объем работ. Ребята казались хорошими, но они пожадничали, и я третий год плачу. История, как видишь, проста: им не надо было жадничать, мне — не надо подписывать.
— И много платить?
— Много и долго.
— Дак что ж ты, Афанасий Кузьмич. Все молчком, молчком. Люди же кругом.
— Помолчи, Митюшкин. О людях помню — пусть вкалывают до седьмого пота и тоже не жалуются.
Иван встает.
— Еще подожди. — Таборов выдвигает из-под кровати фанерный чемодан, шарит в нем, достает какой-то узелок.
— Про время я тебе как сказал? Ни одной секунды не вернуть — вот как! Со свистом мимо летит, быстрее звука! У меня дед был, так он за целую жизнь не научился время узнавать. Ему братан с войны часы швейцарские привез, носить их дед носил, но без завода. Спросишь: «Дед, который час?» — он «Швейцарию» эту достанет, пощурится на нее и изрекает: «Идет времечко-то, идет». А! Что скажешь, Митюшкин?! Чувствовать время надо, чувствовать! Эти часы вот, здесь. — Таборов развязывает узелок. — Когда я женился, дед их мне подарил. Афоня, говорит, в жизни все надо делать хорошо. Возьми эту штуковину и храни. Как глянешь, так вспомнишь, что тебе дед наказывал.
Таборов покачивает на ладони красивые карманные часы.
— Как деда-то звали?
— Леонтий. Леонтий Кузьмич. А отца Кузьма Леонтьич. Так вот, Митюшкин, теперь твоя очередь часы хранить. Делай все хорошо сегодня. И тогда никогда не скажешь, что завтра сделаешь лучше.
— У тебя ж дети есть, Афанасий Кузьмич. Складнее им передать.
— Не твоя забота, Митюшкин… С Татьяной жизнь сделай хорошей. Она прислоняться не любит, сама на ногах крепко стоит. Так что держись. И иногда вспоминай, что тебе Таборов наказывал.
Иван прячет часы во внутренний карман.
— Постараюсь, если получится. У меня должно получиться.
— Смотри.
* * *
Свадебное застолье. Пламенеют женские лица свежим юным румянцем, и кто-то из женщин с призывною звонкостью заводит:
— Ох, девки, и горька у хозяев бражка!
И сразу же застолье подхватывает, почти поет:
— Горько! Горько!
Иван целует Татьяну в твердо сжатые губы, она пытается улыбнуться после поцелуя, но вдруг прячет лицо в ладони, вскакивает и убегает. Иван, виновато, растерянно приподняв плечи, идет за ней.
Костя сидит рядом с Вовкой и, когда Татьяна убегает, наклоняется к Вовке, что-то шепчет ему, потом пододвигает вазу с конфетами. А еще раньше, во время «Горько!», — Вовка, смеясь, таращился на мать и Ивана, а Костя смущенным, горячим взглядом упирался в стол.
Трезвый, веселый голос Таборова прекращает тишину за столом:
— А ну-ка, братцы! Три-четыре: «Когда б имел златые горы…».
Татьяна стоит в кухне у окна, все еще пряча лицо в ладони. Иван отводит их: сухие горячие глаза смотрят на него. Татьяна лбом прижимается к его плечу:
— Ох, Ваня, Ваня. Натерпишься ты со мной! Намучишься.
— Ну и пусть.
* * *
За окном полная осенняя луна ярко и печально освещает пустырь с пожухлой травой и голубовато-черную гряду ельника в конце пустыря.
И ночью серебристый волнующий холод луны затопляет комнату, окружает брачную постель.
— Таня, Таня, Таня… — Иван ласкает Татьяну, она сдержанно и как-то пугливо касается пальцами его щек, лба, плеч. — Таня, так охота хорошо жить! Скажи, мы хорошо будем жить?
— Постараемся.
— Что ты меня пугала сегодня? Что намаюсь? Не верю я этому. Мне кажется, нам долго-долго жить. Вроде как никогда никуда не денемся.
Татьяна опять с какою-то пугливою щедростью тянется к Ивану:
— Ваня, Ваня, какой же ты все-таки.
* * *
На хребтах полыхают лиственницы, просторно и прозрачно в природе. Иван приносит домой ветку кедра, протягивает Татьяне.
— Веришь, нет, подходит сейчас какой-то бородатый дедок и говорит: передай своей суженой-ряженой. От всего сердца.
— Дедок, по-моему, без бороды был…
Иван гладит ее по плечу, по щеке.
— Сам не свой я, все какие-то безоглядности одолевают. То вот ветку охота тебе принести. То закат с речного обрыва показать. Не знаешь, к чему все это?
— К удаче, Ваня. Или к радости. У тети Дуси спрошу. Она мастерица приметы разгадывать.
— Таня, Таня…
* * *
Поздним вечером Татьяна еще в форме торопливо снимает белье во дворе, через забор окликает ее соседка тетя Дуся рыхлая старуха с папироской в зубах:
— Татьяна, померещилось, нет мне, Иван вроде белье-то развешивал?
— Он.
— Не стыдно тебе? Мужика бабой делать?
— Я и не видела, когда он успел.
— Гляди, как бы потом не припомнил. Мол, в прачки не записывался.
* * *
В комнате Иван с Вовкой играют в жмурки. Иван с платком на глазах, растопырив руки, ходит, ищет Вовку. Тот и на диван запрыгнет, и на корточках, по-заячьи, проскачет сзади Ивана, и из одного угла ойкнет, а сам порскнет в другой.
Татьяна с ворохом белья останавливается на пороге. Иван, слышавший скрип двери, ловит ее, обнимает:
— Надо же, Вовка-то как подрос. И мягонький какой стал.
Вовка заливается-кричит;
— Да здесь я, здесь.
Татьяна высвобождается, снимает платок с Ивановых глаз, выговаривает с ласковой усмешливостью:
— Ты что же барыню из меня делаешь!
— Как это?
— Зачем белье стирал? Не стирай больше — соседи смеются.
— Да я же по пути, не заметил как.
— Ага, так один не замечал, не замечал. Заметил, когда шея заболела.
— У меня — крепкая. Хочешь, верхом покатаю?
Иван подхватывает Татьяну, кружит ее.
— Ваня, не надо! Можешь, можешь… Да совестно же!
* * *
Иван за сварочным столом приставляет, примеряет друг к другу швеллеры, опускает на глаза щиток, рассыпает вихрь искр. За спиной его, в удалении, видна знакомая поляна с выкорчеванными пнями. Появляется Вовка. Иван сразу же откладывает держак с электродом и, не поднимая щитка, идет на Вовку. Тот удерживает рвущийся смех и сначала грозит пальцем Ивану, потом солидно протягивает руку. Иван подхватывает его, обнимает. Вовка наконец хохочет. Потом берет Иванов щиток, смотрит сквозь синее стекло на Ивана, на траву, на солнце. Иван достает со стеллажа еще один щиток, подзывает Вовку, тот двумя руками прижимает щиток к лицу. Иван варит, удлиняется и удлиняется раскаленный шов.
* * *
Сидят за столом, Татьяна кормит Ивана. Взгляд ее пустеет, как бы погружается в какие-то видения.
— Проглядишь глаза-то. Ну-ка, ну-ка, расскажи, где что увидела?
Татьяна с коротким вздохом отвечает:
— Да я просто так задумалась.
— О чем?
— О жизни. Так, вообще.
* * *
Иван на просеке, с бензопилой на плече. Заводит ее — падает одно дерево, другое, третье. Не передыхая, не вытирая пота, Иван пилит и пилит, с какою-то ожесточенною, хмурою одержимостью. Пила глохнет, он с некоторой судорожностью вертит ее, крутит, находит поломку, причину отказа. С досадливо сморщенным лицом оставляет пилу, выхватывает топор и набрасывается на толстую сосну с напористым азартом, нагоняющим забывчивость.
* * *
— Ты пропадаешь куда-то, как отгораживаешься.
Иван сидит на кровати, поверх одеяла, Татьяна, сжавшаяся, — в углу у стены.
Татьяна смотрит на него с глубоко упрятанной грустью, но голос спокоен и, пожалуй, раздражительно ласков.
— Вся я тут, Ваня, вся.
— Тут, да еще где-то. Все время при себе что-то удерживаешь. А у меня сердце рвется, понять не могу — что? Что делать, Таня?!
Татьяна тянется к нему, гладит по голове, как Вовку.
* * *
Иван, в брезентовой робе, в монтажной каске и подпоясанный монтажным поясом, пробирается по стальным тросам к перевернутой букве. Страховочная цепь прищелкнута к верхнему тросу. Пробирается Иван довольно споро и уверенно — чувствуется, что он был лэповцем. На вершине скалы, под сосной, стоит Виктор, которого Иван взял в помощники. У Виктора на плече моток тонкого, гибкого троса. Он тоже в монтажном поясе. Вбивает в сосну кованое кольцо, к нему можно будет цепляться страховочным карабином.
Иван, осторожно перекидывая цепь, обходит букву «П». Виктор, прикрепившись к сосне, заглядывает в пропасть — не терпится поговорить с Иваном.
— Ни к чему ты все это затеял.
— Так что, мне возвращаться или маленько подождешь? — Иван проверяет прочность крепежных хомутов, на которых висит перевернутая буква.
— Вань, ты ведь врал, что с Таборовым на спор. Я сейчас только понял, что врешь.
— Какой догадливый! — Иван достает из кармана новые хомутики, еще и ими сцепляет букву с тросом. — Как это ты дошел? — Иван перебрасывает страховочный карабин на нижний трос, подводит тросик с магнитным крючком под нижнюю округлость перевернутой буквы.
— Афоня не такой дурак, чтоб чужой жизнью рисковать. Это я понял, когда ты паучком по проволоке полз.
Иван дергает тросик, понимает, что крюк, хоть и магнитный, сорвется.
Мешкает, размышляя.
— Значит, тебе правду подавай? — спрашивает у Виктора.
— Но! И без прикрас! Иначе драпану от греха подальше.
Иван примеряется, сможет ли он дотянуться до нижней округлости. Страховочная цепь коротка, не пускает. Виктор предупреждает:
— Вань, не вздумай без цепи лезть! Пожалей мое слабое сердце.
— Ладно, ладно. — Иван опять мешкает, привязывает к тросику веревку с болтом. — Держи! — бросает конец с болтом Виктору.
Тот хватает веревку и выбирает тросик.
— Витя, поверь. Не мог смотреть на эту букву. Как гляну, так что-то по сердцу скребет. Непорядок. И вот мы здесь.
— Врешь! — Виктор выбрал слабину, подергивает туго натянутый тросик, но поднимать букву не торопится. — Я догадливый. — Он пробует насвистывать мотив давнего танго: «Татьяна, помнишь дни золотые…», но мотив не поддается. Тогда Виктор орет, перевирая слова: — «Видишь ли меня, моя Татьяна!..».
Иван показывает кулак.
— Тяни, зараза! Я тебе это танго потом напою. — Виктор тянет букву — крюк срывается, надо наглухо крепить тросик к букве.
Иван отстегивает карабин и спускается — медленно, медленно, по ноге перевернутой буквы.
Виктор оцепенело молчит.
Буква начинает качаться: к скале — от скалы, к скале — от скалы.
Иван добирается до первой перекладины, зажав ее ногами, пытается привязать тросик и круто кренится с буквы. Виктор бессильно жмурится. Но Иван чудом удерживается, закрепляет тросик и лезет к крепежным канатам.
Виктор шипит:
— Что ж ты, дурак, вокруг буквы-то цепью не охлестнулся.
— Не хватило бы, — у Ивана тоже перехвачено горло, и он тоже сипит. — Тяни!
Виктор тянет за тросик, буква встает на место. Иван прочно прихватывает ее хомутиками.
* * *
Лозунг этот «Привет первопроходцам!» в Каре виден из любого двора и проулка. Поэтому жители давно уже заметили людей на скале, поправляющих букву. Кто-то из жителей, засмотревшись, ткнул сигарету горящим концом в рот, кто-то оступился с крыльца, кто-то замер посреди двора, открыв рот.
* * *
— Ты зачем туда лез? — спрашивает Татьяна еще запаленного, тяжело дышащего Ивана. — Кто тебя просил?
— Сам догадался. — У Ивана мокрые волосы, черная, внезапно вылезшая щетина на щеках, придающая ему излишнюю измученность. — Успокойся. Не так уж это опасно.
— Думаешь, букву перевернул и все на место встанет? — Глаза у Татьяны дымчато сухи и непривычно жестки. — Ошибаешься.
— Тяжело мне было на эту букву смотреть. Так сердце корябало…
— Ты что, лучше его хочешь быть? С мертвым соревнуешься?
— Извини. Я же как лучше.
— Нет. Не «в извини» дело. Ты что хочешь? Смерть вычеркнуть? Память? Судьбу переиначить?
— Хочу, чтоб нам с тобой хорошо было.
— Эх ты!..
* * *
Ветреный, с мелким ледяным дождем день в конце октября. Тоскливая трава на обочинах, жидкая грязь на дорогах и в полях. Дождь временами приостанавливается, и тогда с особою отчетливостью ощущается, как тяжелы и неторопливы тучи над Карской падью.
К сельскому погосту тянутся одинокие фигуры стариков и старух с батогами, в старых шубейках, идут люди помоложе, с зонтами, в клеенчатых плащах, — все либо с бумажными цветами, либо с пихтовыми ветками.
У могил, хоть и слякотно, сгребают листву, кое-где у подножия крестов и пирамидок в полиэтиленовых пакетах лежат яйца, пироги, кое-где устроены кратковременные шатры из зонтов, накидок и плащей.
Сидит за оградой старуха, с тихой улыбкой кормит воробьев, слетевшихся на могилы. Сидит семья: муж, жена, трое детей в пионерских галстуках — поминают деда, солдата Отечественной. Много слез здесь и много значительной душевной собранности.
* * *
У окна стоят Иван и Вовка. Иван поглядывает на небо и зябко ежится.
— Тяжелый день. Дмитровская суббота.
— А что такое дмитровская суббота?
— Родительский день, Вовка. Приходят на кладбище и поминают тех, кто в земле лежит.
— Как это — поминают?
— Приходят и говорят: «Мы вас не забыли, лежите спокойно».
— Кого не забыли?
— Уходят люди. Умирают от ран, от болезней. Там много солдат лежит, фронтовиков. Их и поминают.
— И мать будет поминать?
— Наверное. — Иван хмурится.
Вовка отходит от окна.
— Что-то скучно, Ваня, стало.
* * *
Татьяна открывает калитку у Александровой могилы, кладет на нее пихтовые ветки, протирает портретное стекло на пирамидке. Садится на лавочку в головах, смотрит на портрет. Кто-то до нее уже был здесь — на пирамидке укреплен новенький бумажный венок.
Мимо тащится соседка тетя Дуся. Она тяжело приваливается к ограде, тяжело дыша, спрашивает:
— Татьяна, ты чего одна-то?
— А с кем мне здесь быть?
— У Сашки родова большая.
— Они с утра были. — Татьяна кивает на венок. — Да и не зовут они теперь. Думают, раз муж новый… мне теперь не надо.
— А Вовка где?
— С Иваном.
— Ну и хорошо. Заморозила бы парня.
Татьяна молчит, тетя Дуся раскуривает новую папиросу.
— Да и по-другому скажу, Татьяна. Не обижайся. Нечего мальчишку могилами пугать — он к живому человеку тянется.
— Я не обижаюсь.
— Иван-то как? Отпустил безо всякого?
— То есть?
— Мужики памятливых не любят. Им как в первый раз все подавай. Не признают, что и до них жизнь была.
— Не знаю, тетя Дусь. Мне надо, вот я и пришла.
— Я своего в сорок восьмом похоронила. Еле живой с войны пришел. Не выходила. Может, любила мало? Так я мучилась потом, что не всю ему душу отдавала. Все приберегала для какой-то оказии, для какого-то случая. А ни оказии, ни случая.
— Мне Ивана жалко. Чувствует, что я тоже приберегаю. А как быть, тетя Дуся?!
— Да уж, западет в сердце, не вынешь. Ко мне один сватался. Чистенький, хороший и дело в руках знал. Смотрю на него, а представить не могу, как обнимет. Сразу чужесть подкатывала. Может, дурость была? Счас-то бы наверняка стерпелось…
Татьяна молча плачет.
— Ладно, поминай. Мешать не буду…
Тетя Дуся, тяжело переваливаясь, уходит прочь. Татьяна остается на кладбищенской скамейке.
* * *
Вовка с книжкой на коленях сидит на диване, без устали зевает, потягивается.
— Нету и нету, где ж она?
— Скоро придет, — Иван собирает ужинать. — Ты покемарь пока, а появится, я разбужу.
— Спать совсем неохота, — Вовка вытягивается на диване и моментально засыпает.
Иван уносит его в другую комнату, возвращается, присаживается к столу.
Тихая, измученная входит Татьяна. Иван бросается к ней; помогает раздеться, обнимает, гладит плечи:
— Заледенела…
Татьяна берет с вешалки шаль и, кутаясь в нее, проходит в комнату.
— Таня, давай я тебе чаю налью.
— Хорошо. — Она молча пьет чай. Иван садится напротив, с терпеливой тревогой смотрит на нее.
— На кладбище столько народу. Будто ни дождя, ни ветра… Плачут и все помнят…
— Что помнят, Таня?..
— Как было хорошо…
— Со мной тебе плохо?
— Я не без сердца, Ваня. Отняла у тебя самую сладкую пору и ничего взамен не даю.
— А ты не любишь меня? Совсем?
— Мучить тебя устала. Ты мне руки целуешь, сердце рвешь, стараешься для нас, а мне стыдно — не могу тем же ответить.
— Так и дитенка никогда не дождемся. Ни сына, ни дочки. Пополам сердце делишь… Может, мне и того меньше достается.
— Ваня! Ведь я не дворняга захудалая — нашла теплый угол, хозяина доброго — и лапки кверху!
— И мне половинок не надо. Я тебя так люблю, Таня, что никаких половинок, долек, кусочков мне не надо.
— Иногда я совсем успокаиваюсь. И тебе, Ваня, бываю рада, и жизни… А потом вмиг душу скрутит, и пойму: не забыть мне.
— Ничего у нас не выйдет, Таня. Не вытерплю я.
— Знаю я это, Ваня, знаю…
— Вовке скажешь, на Дальний участок срочно отправили… Я у Таборова выпрошусь.
Иван вышел из комнаты.
Татьяна, оставшись одна, бурно, как-то жадно рыдает, точно торопится выплакаться до Иванова возвращения.
Иван наклоняется над спящим Вовкой.
Когда Иван появляется с рюкзаком, Татьяна уже не всхлипывает, лишь глаза припухшие и горячие.
Иван топчется на пороге, собирает последние силы, чтобы уйти. Оборачивается, открыв дверь.
— Таня, прощай.
Его шаги уже в сенях, и Татьяна, спохватившись, откликается:
— Ох, Ваня, Ваня…
* * *
Он стучит к Таборову, дверь не закрыта. Таборов, расстелив на столе ватман и прижав его по углам гайками, что-то чертит.
— Опять незваным гостем, Митюшкин?
— Я постучал.
Иван снимает рюкзак, ставит у порога.
— С рыбалки, что ли, такой заморенный?
— Афанасий Кузьмич, командируй на Дальний участок.
— Там все на месте, без тебя обойдутся.
— Надо мне.
— Расшифруй «надо», я посмотрю.
— Я от Татьяны ушел…
— От нее ушел, от меня вылетишь! — Таборов выпрямляется над столом, скулы его каменеют. — Когда ушел?
— Я и от тебя могу уйти, если глотку не придержишь.
— Ну, Митюшкин, ну, огарок ты, ну… — Таборов не находит слов, в полном душевном недоумении присаживается на табурет. — Как же мог от нее уйти?!
— Долго объяснять.
Таборов не слышит его.
— Я ему поверил как самому себе! А оказалось — фуфло, хахаль из приезжих!
— Не причитай. И не лезь, куда не просят. Ты можешь командировать на Дальний?
— Митюшкин, я тебе говорил? Держись, будет трудно.
— Мне.
Таборов прохаживается по комнатенке.
— И хочешь, чтоб я тебя понял?
— Понимай не понимай — твое дело. Отправь меня на Дальний.
— Митюшкин, все-таки я хочу понять.
— Все просто, Афанасий Кузьмич. Насильно мил не будешь.
— А тебе что важно: самому любить или чтоб тебя любили?
— Чтоб не выпрашивать любовь.
— Как может, так и отзывается!
— Не хочу тягаться с тенью. Сердца не хватает.
— Да за это никакой души не жалко. Я бы за такую женщину… — Таборов молчит, покачивается на табурете. — Ты человека встретил, а не бабу с горшками. И бежишь. Знать тебя, Митюшкин, не хочу.
— Мне пацана надо, а с такой оглядкой никого не будет.
Таборов морщится:
— Ты мог бы понять: у человека сердце разрывается, и ему очень больно.
— Я ушел оттуда, Афанасий Кузьмич.
— И можешь идти на все четыре стороны!
— Что ты говоришь, Афанасий Кузьмич?! Я от работы не бегу и от женщины не бегу. А чтоб ты понял: я ее освобождаю…
— Жидкий ты оказался, Митюшкин. Кисель. Тебе, может, главное счастье выпало: сердце потратить на настоящего человека. А ты? На Дальний собрался. Катись-ка с глаз долой. А то смотрю на тебя — и изжога начинается.
— Не нужен я ей. Одному Вовке разве…
— Может быть, и не нужен. Она тебе нужна — так я тебя понимал. А выяснилось: собственное козлиное нутро тебе дорого.
— Придержи глотку, говорю…
— Запомни, Митюшкин, последнее. Слаб ты против Сашки. И не тебе его заслонять. Человек был — совесть впереди себя пускал. А ты — мужичок с ноготок. С тоской во взоре, и коленки трясутся.
— Кто ты такой, чтоб судить и приговаривать?
— Ничего у нас не выйдет, Митюшкин. Строго говорю: уезжай, без толку права качать.
Иван хлопает дверью.
* * *
Иван сидит в самолете, в маленьком АН-2. Заводят мотор. Иван видит, как у изгороди аэровокзала появляется Вовка. Стоит, маленький, настырный, одинокий, и смотрит на самолет. Иван отворачивается. Татьяна сидит за стойкой диспетчера грузовых перевозок.
Самолет выруливает на взлетную дорожку. Ревет мотор. Иван опять видит Вовку у палисадника аэровокзала. Теперь уже Иван не отворачивается, а смотрит и смотрит.
Вовка машет самолету.
Татьяна стоит у окна, из которого виден самолет. Прижимается лбом к дребезжащему от моторного рева стеклу.
В кабине АН-2 — рыжий, долговязый Вася. Рядом — щуплый, вертлявый юноша, второй пилот. Вася видит Вовку, видит Татьяну. Хмурится. Приникает к окошку, смотрит и смотрит на Вовку с Татьяной. Потом вызывает по радио диспетчера.
— Ввиду сложившихся обстоятельств прошу перенести вылет.
Второй пилот онемело открывает рот. Сглотнув слюну удивления, спрашивает:
— Вася, ты угорел!
Вася показывает кулак и говорит в микрофон:
— Я, борт 0245. После посадки пассажиров обнаружен прокол левого пневматика. Прошу обеспечить замену.
Выходит из кабины.
— Перекур, ребята. Трасса закрылась до семнадцати ноль-ноль.
Пассажиры выходят. В самолете один Иван. Ему некуда идти, он сидит, замерев и нахохлившись
И вдруг — Мадагаскар Рассказ
Петухи кричали в Антананариву так голосисто, так подмосковно, что я поразился, какой мне снится радостный, деревенский сон, какое отечественное пение настигло меня в чужих краях. Но петухи голосили, присутствовали за темным окном, я раздвинул рамы и вгляделся в серые сумерки меж холмов — сумерки эти должны были скоро превратиться в райскую голубизну.
Не утихало во мне, не смирялось пространство, вроде бы так просто и быстро промелькнувшее под крылом. Тысячеверстное, соединившее племена и народы, неспешно пролегшее меж московских сугробов и женственных, округло нежных холмов Мадагаскара, оно требовало равного себе времени, соразмерного миллионам судеб, промелькнувших внизу, соразмерного, так сказать, сумме личных времен, составляющих эти судьбы. Не умещалось во мне пространство, не признавало унижения скоростью и разрывало душу на мелкие осколки — говорю не преувеличивая, именно так и было в первый рассвет на Мадагаскаре, когда я с опустошительной тревогой почувствовал, что человек может не то чтобы раздвоиться, а расслоиться на несколько одновременно существующих жизней, на несколько, позволительно сказать, жизненных горизонтов: быть в Москве, среди литературных игр и трудов, и в тот же миг — на одиннадцатом этаже отеля «Хилтон» и вместе с пестрой толпой продавцов и покупателей стекать с окрестных холмов к городским базарам; не остыв от московских споров, как, с какой мерой художественной и гражданской трезвости литература должна отражать жизнь, вдруг прикоснуться к спору наших геологов в зале ожидания Аденского аэропорта.
В Адене попали в душные объятия жаркого утра, прошли в зал ожидания, где на заплеванном, в окурках, полу сидели мужчины-арабы в белоснежных одеждах и играли в карты. Мелькали фиолетово-смуглые руки, кто-то безмятежно смеялся, с жирным причмокиванием бились карты о грязный пол. За спинами мужчин, в углу, на деревянной скамеечке, сидела женщина в черной чадре — из прорези вас ударял тяжелый, какой-то маслянисто-неистовый взгляд. Она сидела неподвижно, мрачно, и, казалось, охватывают ее фигуру сумерки, особо неприютная тень. Один из картежников, пожалуй самый веселый, самый белозубый и молодой, встал, принес две чашечки кофе: одну поставил на пол, другую предложил женщине в чадре. Неожиданно белой рукой потянулась за чашечкой и что-то сказала арабу, видимо мужу, низким тяжелым голосом — араб сник, угодливо и трусливо обмяк, заюлил под огнем, строчившим из прорези, оглядываясь на мужчин, стал выбрасывать жалкие, юлящие слова, облизывающие черное изваяние. Я поскорее отошел от этой сцены, от ее чересчур выразительного, так сказать, черно-белого колорита и услышал ясную, освежающую, примиряющую с жарой и чужим воздухом речь:
— В эту скважину, Вася, и лезть не надо было. С такими-то головками. — Сидели, сгрудившись на фанерных стульчиках, наши геологи, в энцефалитках, надетых прямо на тело, в ковбойках, с закатанными рукавами, в соломенных шляпах, тюбетейках, полотняных картузах. Они ждали то ли вертолет, то ли рейсовый самолет в глубь страны. Я послушал озабоченные слова, что ту скважину надо пробурить к такому-то дню, что там-то придется закладывать дополнительные шурфы, а в третьем месте встал трактор, и надо посылать туда ремонтную мастерскую — привычная нетерпеливость взяться за дело, привычная озабоченность русского человека: что-то недоделано, недобурено, недоисследовано — скорей, скорей к станку, к шурфу, к дизелю. Так остро увиделись бородатые милые лица у костра где-нибудь на Нижней Тунгуске, так живо пахнуло золотыми днями юности, что среди аденской духоты я ощутил тугой ток сухого, июньского ветерка, дующего из прииркутских степей.
Столицу Мадагаскара показывал мне Борис Пильников, корреспондент ТАСС, полный же титул его звучит с недосягаемой пышностью: шеф бюро ТАСС по Мадагаскару, Маврикию и Коморским островам. Познакомились мы в самолете, Пильников возвращался из отпуска. Когда за окном Ту выросла снежная голова Килиманджаро и мы этаким механическим жаворонком зависли рядом с ней, Борис задумчиво и вроде для себя сказал:
— Снега Килиманджаро…
Я откликнулся с тою же многозначительной задумчивостью:
— Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера…
Мы протянули друг другу руки — познакомились. Попутно выяснилось, что мы оба живем в Сокольниках, почти в соседях. И более чем читанный в юности Хемингуэй, нас сблизил этот, проложенный впервые мост: Сокольники — Килиманджаро.
Поднимались на холмы, к дворцу королей и королев, к их усыпальницам, к уютно гнездившимся католическим храмам, к тенистым беседкам и обзорным площадкам, мимо гигантских кактусов, эвкалиптов, акаций, мимо буйной роскоши цветения и плодоношения, к нестихающей лазури, развешенной над холмами. Спускались в городские низины по узким улочкам мимо мясных и зеленых лавочек, мимо лотков, ларьков, киосков, соломенных подстилок с горками риса и поленьями каких-то копченостей — эта малая, уличная торговлишка в низинах превращалась в полноводное торжище, в необъятный базар, — казалось, торгует весь город, редкие покупатели тонут в толпах продавцов. Праздничное, базарное лукавство — бесспорно, одно из главных физиономических проявлений Антананариву. Запомнился тихий сад Академии наук, с лениво стекленеющими прудами, лодочка сторожа, причаленная к зеленому островку, а под кустами островка — весело, бодро жующие лемуры с полосатыми длинными хвостами. Зверьки, напомнившие мне мордочками соболей, дружно резвились, беспечально жили в уникальном мадагаскарском климате. Говорят, здесь нет ядовитых змей и насекомых, нет хищных зверей, нет заразных болезней, земля тучна, стоит вечное плодоносное лето, но если долго и пристально вглядываться в синеющую даль, мироносную зелень холмов, грудь постепенно заполнит безотчетная тревога, неизъяснимая печаль, проистекающая то ли от безоблачного совершенства здешней земли, то ли от недостижимости совершенства во взаимоотношениях между людьми — недостижимость эта, казалось мне, реяла между холмами.
Ехали с Пильниковым по тоннелю, соединявшему две улицы под насыпью железной дороги. Сыро поблескивали гранитные стены, вихри из пыли и бумажек показывали, что по тоннелю гуляют сквозняки, плиты тротуаров были в подземной осклизлости. На плитах этих сидели крохотные, тощие до прозрачности девочки двух, может быть, трех лет. Прохожие наклонялись к ним, бросали милостыню в грязные панамки. Девочки, должно быть, не умели говорить; неподвижные, с тусклой полудремой в глазах, они были кошмарными грибами этого сырого и длинного тоннеля.
— Где-нибудь прячутся взрослые, — объяснил Пильников. — Братья этих девочек, отцы, зарабатывающие таким вот чудовищным образом. А может, и чужие посадили их здесь. Украли в деревне, да и здесь могли, на улице. Вообще, детское нищенство очень распространено.
Пропала охота колесить по городу, показалось кощунственным предаваться забавам путешественника, ахать при виде экзотических лемуров с полосатыми хвостами. Мы остановились у школы, где была большая перемена, и долго смотрели на орущих, хохочущих мальчишек и девчонок, играющих в мяч — только видом их неутомимой живости и веселья можно было заслонить видение в тоннеле. Забот, бед, хлопот, проблем у демократического Мадагаскара много. Останется, наверное, и на долю этих вот мальчишек и девчонок, когда они подрастут. Надо строить дороги, надо развивать и создавать свою промышленность, надо восстанавливать рощи палисандра и розового дерева, надо искоренить безработицу, надо долго стараться, чтобы в стране не осталось ни одного нищего, надо, коротко говоря, в полной мере осознать себя хозяевами своей страны и упорным трудом преодолеть даже слабое воспоминание о колонизаторских временах.
Настигало опять у рассветного окна ощущение многослойности жизни, точнее, одновременно вершащихся жизней. Я даже подсчитал, сколько же во мне их сидит. А в основу подсчета положил сознание особой завершенности, какой-то полной осуществленности своих взаимоотношений с тем или иным краем. Так, некая законченная уложенность в душе присуща воспоминаниям о Нижней Тунгуске, о фарфоровом заводе в Мишелевке под Усольем-Сибирским, о лесном кордоне Добролет под Иркутском — работающая во мне приязнь к этим берегам наполняет каждый миг, даже удаленный от дорогих голосов и троп, позволительно сказать, единосущим многообразием жизни. Состояние это, пожалуй, можно передать так: вот я еду встречаться с мэром Антананариву, а в это время в Добролете вышел на крыльцо лесник Вячеслав Федорович Седловский, посмотрел, как сияет мартовский наст в огороде.
В посольстве попросили провести то ли беседу, то ли лекцию — не в названии дело — о современной русской прозе, и подготовительные мои мысли теперь настойчиво вклинивались в мадагаскарские встречи и визиты, и книги, о которых я потом рассказывал соотечественникам в посольстве, тоже, следовательно, были на Мадагаскаре, и авторы их хоть тенью, да прошлись по зеленым холмам.
Встречался с Кларисс Рацифандрихамананой, возглавляющей Ассоциацию писателей, художников, артистов в поддержку революции (ФИМАМИРЕ), женщиной властной, как мне показалось, вспыльчивой, встретившей меня радушно, гостеприимно, но с долею настороженного холодка. Потом смутно выяснилось (переводчицей в этот вечер была прелестная, юная женщина, учившаяся у нас, но кроме эффектных пауз, переводившая плохо), что мадам Кларисс сердита на наш Союз писателей, который будто бы не пригласил ее на какое-то заседание… или пленум… или конференцию — понять было трудно, но я сказал, что она напрасно сердится, что поэзия выше совещаний и поговорим лучше о ней. Мадам милостливо улыбнулась — видимо, в ее сторону переводчице было передавать легче.
Встречались мы в доме мадам Кларисс, громадном, двухэтажном особняке с несколькими верандами, утопающими в листве, со стенами, обшитыми палисандром. Красивой и удивительно тяжелой мебелью была обставлена комната — я до синяка зашиб колено, привыкшее к легкости прессованной фанеры. Стулья и кресла мадам Кларисс требовали неторопливого почтения к себе, уважительного внимания — такие кресла будто созданы для людей, понимающих толк в устойчивости и незыблемости. Комната, где меня принимали, была особенно просторной, с закоулками, рукавами, закуточками, так сказать, с площадками для мизансцен: здесь вот удобно ссориться, а здесь — мириться, а здесь — вести неторопливые беседы.
Мы сидели с мадам Кларисс на самых тяжелых, на самых высоких креслах и разговаривали с этакой тронной медлительностью. Наш Союз писателей в свое время заключил с ФИМАМИРЕ соглашение о сотрудничестве, и я оказался на Мадагаскаре по воле этого соглашения. Мы говорили: как хорошо бы было издать совместный сборник «Москва — Антананариву», но мадам Кларисс тут же добавляла, что у ФИМАМИРЕ совершенно нет денег для командировок, нет издательства, нет журнала; как хорошо бы, рассуждали мы, обменяться студентами для подготовки литературных переводчиков, но мадам Кларисс опять сокрушалась, что ФИМАМИРЕ такой акции не осилить — нет денег, кто будет здесь заниматься нашими студентами — мадам печальными глазами посматривала на меня. На чужую нужду естественно ответить сочувствием. И, как писали в старых романах, оно бродило в моей груди, но я все же удержал его, не высказал…
Мадам Кларисс исчезла в глубине дома, так и хочется написать — в палисандровом сумраке, и вернулась с двумя книгами. Похлопала по одной, сказала: «Камрад Чоугаев», то есть книга предназначалась мне; похлопала по второй сказала: «Лудмила Карташов».
Людмила Алексеевна Карташова работает в Институте Азии и Африки, перед отъездом я дождался ее в пыльном и тесном коридорчике института и признался, что, кроме киплинговского уверения, что Мадагаскар — таинственная страна, об острове ничего не знаю. Вышел из института, снабженный многими полезными сведениями и советами. Карташова не только бывала на Мадагаскаре, но и живала, стажировалась в здешнем университете, и многое сделала, чтобы мы познакомились с мадагаскарской литературой и культурой. Часто слышал я на Мадагаскаре от писателей, художников, артистов возглас: «О, Карташов!» — что в переводе означало: хорошо, знаем, спасибо. Потом, в Москве, я передал книгу, посланную Кларисс, тоже с этим возгласом. Кстати, Людмила Алексеевна поддержала мое наблюдение, что зеленые холмы Мадагаскара рождают неизъяснимую печаль («Насмотрюсь за день на эти холмы, а вечером плакать хочется»).
Не знаю, как это объяснить, но я теперь часто листаю книгу, подаренную Кларисс, книгу ее рассказов. Не зная языка, пытаюсь читать (малагасийцы пользуются латинским алфавитом), поражаюсь обилию «а», «о», «н», «ф» — так звучно, так загадочно! Листаю, разглядываю картинки, портреты скорбных, обиженных, грустных женщин — Карташова говорила, что Кларисс пишет о судьбе женщин, о нелегкой, даже тяжкой судьбе. И пишет будто бы неплохо.
В тот вечер у Кларисс познакомился с поэтом Энером Лаланди, он же Ренэ Рандриарималала — генеральный секретарь ФИМАМИРЕ. Кларисс — президент, а он — генеральный секретарь. Пожилой человек с грустными, добрыми глазами, с какими-то покорно опущенными, добрыми плечами. Он сказал, что псевдоним его родился просто. Для начала перевернул имя, чтоб злые духи не мешали ему быть хорошим поэтом. Потом взял окончание фамилии и вот пишет стихи, никто не мешает, а писать трудно. Познакомился и с его женой Аделью, казначеем ФИМАМИРЕ. Ее серебряные, мягко сияющие волосы плотно обнимали маленькую голову, насыщенно смуглое, прекрасной лепки лицо, живые, веселые, огромные глаза, и все это оттенено розовым шарфом, бирюзовой накидкой — невозможно было удержать восхищение перед этой живописью, перед этой звучностью тонов. Я и ахнул восторженно — Адель засмеялась с привычной победительной радостью, Ренэ — Энер улыбнулся с привычной грустной снисходительностью.
Потом меня учили танцевать национальный малагасийский танец, движениями и ритмами напомнивший нашу польку. Анри Рабариндзака пел народную песню торжественно-печальным баритоном. Подпевали ему дружно и с большой душой. Мой очень несовершенный слух искал, конечно же, родных мотивов, и нашел, сколь это ни странно звучит, что песня напоминает враз и «Сулико», и «Раскинулось море широко». Я спросил, о чем эта песня. Анри ответил:
— На небо взошла звезда, увидела луну и пригласила погулять ее по небу.
— И все?
— Разве этого мало? — удивился Анри.
Как раз над Мадагаскаром стояла луна, огромная, с опаловыми, тугими боками, ее окружали крупные, мохнатые звезды, легкий туман вился над холмами. Возвращаясь в гостиницу, долго разглядывал небо и луну — действительно, немало, когда луну окружают звезды.
На встрече с читателями в посольстве, разумеется, расспрашивали об «Игре» Бондарева и о повести Сергея Есина «Имитатор», представляющей монолог посредственного художника, выбившегося благодаря ловкому ремесленничеству и приспособленчеству в большие чиновники от искусства и вознамерившегося доказать, что большой чиновник есть и большой художник.
Говорил также о рассказчике Борисе Екимове, живущем в Калаче-на-Дону, о социальных и нравственных парадоксах, изображенных в его прозе с большой сердечной болью.
И вот когда говорил о больших гражданских проблемах, поднимаемых нашими писателями, вдруг остро почувствовал, как далеко я залетел, и пора, пора возвращаться домой.
Был в гостях у Анри Рабариндзаки, актера, вице-президента ФИМАМИРЕ, одного из переводчиков на малагасийский язык «Ревизора». В комнате, опять завидно просторной, стояли громадные барабаны, по стенам висели всевозможные рожки и дудочки, наособицу светлела наша балалайка — Анри погладил ее, сказал:
— Вы сорок третий русский, который приходит ко мне в дом. — Через минуту уточнил: — В это число входят два музыкальных ансамбля. Я стараюсь приглашать всех ваших артистов.
Меня усадили на диван под настенным макетом Мадагаскара, выпиленным из толстого синего плексигласа. Анри щелкнул выключателем — синие, красные, зеленые лампочки украсили пространство острова.
— Иногда бывает скучно. Вот я и занялся, — объяснил Анри происхождение макета.
Спросил у него, как принимали «Ревизора» на Мадагаскаре, понимали ли всю силу горького смеха, которым кровоточит комедия.
— Это пьеса про нас. Или по-другому: и про нас тоже. Такие характеры и в таком сближении есть и у нас. Пришлось, правда, ревизора сделать инспектором рынка. Это у нас очень корыстолюбивая и всем знакомая фигура. Ревизор — это…
— Не в бровь, а в глаз, — по-русски добавила жена Анри, Элин, игравшая Анну Андреевну. Она учит русский в доме советско-малагасийской дружбы, слов знает немного, но произносит их чисто, без акцента.
Пока мы беседовали, в сторонке наигрывал национальные мелодии на электропианоле молчаливый и мрачноватый родственник Анри, так сказать, услаждал беседу.
Я попросил Анри прочесть последний монолог городничего. Он подобрался на стуле, пригладил седой ежик, этак театрально устроил руки на груди, и заклокотал Антон Антонович по-малагасийски. «Обручился! Кукиш с маслом — вот тебе обручился! Лезет мне в глаза с обручением!..» Мне показалось, что ритм монолога выдерживался. Элин переживала за мужа, как бы он не забыл слова, готова была подсказать ежесекундно. Переживал за отца Анри-младший, студент университета, высокий, тонкий юноша с горячими, темными глазами на худом, каком-то неистовом лице. Он играл Ивана Кузьмича Шпекина, почтмейстера, но наизусть знал всю пьесу и сейчас, не замечая, шевелил губами, повторяя за отцом слова. Смотрел на нас со стены Гоголь — белел треугольник лба в охвате темных длинных волос, и намечалась улыбка на молодых еще, нескорбных губах.
Вечером, накануне отъезда, пришли ко мне в гостиницу Ирина и Анатолий Зубаревы, проститься и передать дочери и матери гостинцы. Анатолий преподает в здешнем университете, но разговор пошел, конечно же, о родном московском НИИ, откуда командировали Анатолия на Мадагаскар. Что да как там, да какие страсти там кипят, да цела ли его лаборатория — я, никогда не слыхавший о Толином НИИ, тем не менее через минуту уже втянулся в этот разговор — поддались мы с Анатолием старинному русскому наваждению — при малейшей возможности поговорить о работе. Ирина все переживала, как там дочь, слушается ли, помогает ли бабушке, хорошо ли учится — у Зубаревых, в здешней квартире, видел нервный, энергичный рисунок дочери — она, по словам Ирины, учится на художника. Слушал я Ирину и Анатолия, собирал по пути блокноты и безделушки, укладывал в чемодан. Потом присел на дорожку, и показалось вдруг, что сижу в большой комнате русских людей, собравшихся в «Хилтоне», чтобы проводить меня с Мадагаскара — в видениях мы все очень самонадеянны. Во главе компании сидит Николай Васильевич Гоголь, смотрит печальными глазами. Тут и Бондарев с Есиным, и Пильников, и Карташова, и Борис Екимов из Калача-на-Дону — полон, полон миражами воздух вечного лета! К компании надо присоединить ребят-кукольников, которые тоже сейчас собираются на завтрашний самолет: Ларису Аносову, консультанта советского центра Международного союза деятелей театра кукол (УНИМА), о котором бы я, наверное, так и не узнал, не соберись на Мадагаскар, Елену Луценко, главного художника Челябинского театра кукол, и Валерия Левченко, главного режиссера Одесского кукольного театра. Они второй раз на Мадагаскаре, у них уже есть стажеры, они поставили здесь несколько спектаклей, вызвавших у мадагаскарцев, впервые приобщенных к искусству кукольников, непреходящий восторг. Веселые, остроумные, работящие ребята. За два вечера я узнал о кукольном деле от них больше, чем за всю жизнь, и благодарен за это знание.
Звезд и луны в последний вечер не было, собирались тучи, и ночью ударил дождь, сильный, тяжелый, с прощальным грохотом и воем. По русской примете, предстояла хорошая, без тягот, дорога. Такой она и вышла: через Аден, Каир, точно по расписанию приземлились в Шереметьеве, что было бы удивительно, если бы не прощальный дождь на Мадагаскаре.
Ситцевые занавески Рассказ
— О-хо-хо да о-ха-ха, далеко ли до греха, — приговаривал Коля давние бабушкины слова, потягивался, позевывал, но вполголоса — боялся разбудить хозяйку за стеной. — Возьму вот и снова завалюсь. Еще минут на триста — пропадай эти экзамены и стипендия вместе с ними! Спать хочу, есть хочу, больше ничего не хочу! — Так вроде бы безвольно расслабляясь, он тем не менее трезво уже посматривал на развалы учебников и тетрадей, ждавших его на столе, на подоконнике и табуретке, на гимнастическую резину, клубочком свернувшуюся у порога, на черные, холодные лбы гантелей, высунувшихся из-за печки. Надо было начинать день, и Коля встал, распахнул окно, раздвинул пестренькие занавески, чтобы не замедляли хода утренних свежих волн. Передвигаясь потом по комнате, выжимая гантели, растягивая резину, приседая, он продолжал ворчливо насмешничать:
— Сдался мне этот режим, плевал я на всякие распорядки и беспорядки, я вольно жить хочу, отдыхать и веселиться. Лениться хочу, дурака валять, наследство хочу получить.
Эта Колина склонность оговаривать себя, переиначивать на словах каждый свой вдох и выдох проявлялась на только в дремотно-брезжущие утра, но, пожалуй, более всего в прочие, ничем не замутненные минуты.
К примеру, какой-нибудь институтский приятель, напуганный накануне сессии собственной ленью и праздностью, приставал к Коле:
— Колька, вывернемся, нет? Нет, ты почему такой спокойный?! С профессурой домами дружишь? О, о! Весело ему. Выгонят же, в стройбат забреют.
Коля похохатывал, приобнимал приятеля за плечи:
— Не дергайся. И будешь долгожителем. У меня вон дед к сотне подкрадывается. А почему? За жизнь ни одной нервной клетки не потерял. Вот как-то пошли с ним за черникой. Ходили, ходили — я уж язык высунул, норовил присесть на обочинку. А дед меня учит: не думай, не думай, паря, что устал. На ходу и отдохнешь…
— Колька! Пошлю ведь. И очень далеко.
— Я, знаешь, как делаю? Учебники, конспекты под подушку — и сплю. Обучение во сне. С утра умны-ый, аж голова трещит.
Приятель, ругаясь, отмахивался, убегал, а Коля весело кричал вслед:
— Не дергайся, па-ря! Отметок на всех хватит! Не обойду-ут! — И круто поворачивал, торопился домой: конспектировал, чертил, читал, запоминал, а где туго давалось, зазубривал — беспечность беспечностью, а прилежание прилежанием.
Когда другой приятель попробовал однажды занять у Коли после стипендии, тот виновато, но и с долею гусарской гордости вздохнул:.
— Прокутил. До копеечки, до ниточки. Загулял вчера, парень, как с цепи сорвался. Ну, да и не жалко. Зато смеху, дури — покуролесили, всласть.
На самом деле Коля не выпивал и по красным дням, табаком не баловался, а всегда на что-нибудь копил: на зимние сапоги, на свитер, на плащ.
Вот и в нынешнее утро, размявшись, умывшись, он вспомнил, что собирает на летний костюм и всю стипендию отнес в сберкассу. В тумбочке у него шаром покати — ни крошки хлеба, ни щепотки чая, ни кусочка сахара.
Коля натощак полистал учебник, но в голову ничего не шло. Замер бездумно, но вдруг встрепенулся, прижал ухо к стене: вроде бы завздыхала, закашляла хозяйка. «Нет, глухо. Показалось. И пусть, родимая, поспит на здоровье. Никаких завтраков квартиранту не надо. Все он уже вылизал в доме, все гвозди заколотил, все щепки собрал — может и не евши теперь жить. В старости-то только и отоспаться. Пусть отдыхает. Пусть хлеб в буфете черствеет, пусть из яиц птенцы вылупляются — нам торопиться некуда».
Он вышел в прихожую, приложил ухо к соседней двери, за которой жили девушки-квартирантки, работницы слюдяной фабрики. «Надежда на смене, а Евдокия, конечно, спит. И пусть спит. В молодости тоже поспать не вредно. Сил надо перед сменой набраться. А сыр ее в чулане пусть заплесневеет. Пусть его мыши съедят. Завтракать всем охота. А мне этого костюма и даром не надо. Эка невидаль: бежевый, с шоколадной полосочкой. Пусть пижоны носят. А мне и так хорошо».
Осторожно не постучал — поскребся в хозяйкину дверь:
— Милитина Фоминишна-а… Спите, нет? Милитина…
Хозяйка гулко, с надрывом закашляла, зазвякала стаканом, причмокивая, попила, забренчала спичками, закурила. Наконец пробасила:
— Здорово, Кольча. — Она родом была из Колиных мест и звала его по-тамошнему. — Спасибо, разбудил. Черт знает что за сны повадились!
— Ничего, Милитина Фоминишна. Все равно утро доброе. — Коля уже говорил погромче, понапористее, но дверь не открывал: шибануло бы сейчас прокуренно-кислым духом.
— Ну, доброе. Понятно. Еще что за новости?
— Да вот на утреннюю разнарядку пришел. Может, сделать что, сбегать куда?
Хозяйка долго не откликалась.
— Кольча. Такой пока план. Возьми тележку и двигай на лесозавод. Нагреби там опилок и посыпь лед в погребе. Что-то сильно таять начал. Ну уж а магарыч, когда встану.
Привез опилки, перетаскал деревянной бадейкой в погреб, просеял сквозь пальцы, облепил желтой, влажно-теплой крупой оплывшие бока ледяных валунов — смолистой свежестью сразу же забило погреб и вроде бы потеплело. От этого соснового летнего вея дрожью в лопатках проступил скопившийся в Коле холод. И нос каменно, как-то отдельно от лица затвердел, и руки опалило ломотой. Он выскочил из погреба — густое, прошитое воробьиным чириканьем тепло крепко обняло его. Зажмурился, постоял, не вырываясь из объятий, посопел блаженно в полынную, просторную, мерно вздымающуюся грудь июньского дня. Потом открыл глаза и снова зажмурился: на веранде сиял медными боками самовар.
Милитина Фоминишна, согнутая, сухонькая, остролицая, с тяжелой кружевной шалью на плечах, не выпуская папироски изо рта, сновала вокруг самовара, выставляла «магарыч»: сметану, вчерашнюю холодную рыбу, яйца, светло-зеленый пучок ботуна, масло, хлеб. Освободились наконец руки — вытянула папироску, затянулась еще напоследок и отошла, оглядывая стол:
— Н-да, дела на полтинник, а магарыча на целый рубль. Садись, Кольча. Налегай. — От ее хриплого баса, видимо, с годами так высушившего Милитину Фоминишну, вытянувшего из нее все силы, легонько задребезжали ложки в стаканах.
Коля хотел промолчать, хотел лишь согласно кивнуть головой, но затянувшийся утренний голод да недавний погребной холод вновь живо столкнулись в нем. Он разозлился:
— Жалко, что ли? Тогда и не буду. А то подавлюсь еще.
Хозяйка подумала, глядя на стол, вытащила откуда-то из-под свисающего конца шали папироску, закурила.
— Вообще-то, нет. Не жалко. Одной все одно не съесть. Пропадет. По привычке, Кольча, считаю. За жизнь насчиталась — остановиться не могу. Да садись ты, садись! На голодное брюхо все мы обидчивые.
Коля сел.
— Я тоже, Милитина Фоминишна, считать умею. Хоть и не люблю.
— А кто любит? Нужды не было бы, разве считали? А по правде-то, так, замечаю, отвыкают считать. Не от богатства, от безалаберности… Давай подвигай стакан-то.
Пока пили чай, встала Дуся — слышно было, как бренчит она на кухне умывальником. Вскоре вышла, розовенькая, гладенькая, в тесном, коротком халатике. Еще и ладони ухитрилась затолкать в маленькие, узкие кармашки — халатик сшит был без запаха и теперь расходился у пуговиц, приоткрывая белое, сытое тело.
— Лучше бы нагишом вышла! — плюнула Милитина Фоминишна. — Дуська! Марш отсюда! Добро бы одна была. Парень же в доме!
Коля прикрыл глаза, вроде бы задремав от чаепития.
— Ну уж и парень. — Дуся прошла, села бочком к столу, не вынимая рук из карманов. — Какой это парень, Фоминишна! Хилый студент, а никакой не парень. Правда, Коленька? — Сладенький, веселый голосок был у Дуси.
— Угу, — не открывая глаз, кивнул Коля.
— Вот пожалуйста. А ты, Фоминишна, прямо напугала меня. Парень да парень. Где, думаю, дай посмотрю. — Дуся встала, прошлась перед столом. — А одета я очень прилично. Правда, Коленька?
— Еще как, — опять, не открывая глаз, кивнул Коля.
— Садись, чаю попей. — Милитина Фоминишна зябко куталась в шаль. — Ох, Дуська, скорей бы ты замуж вышла. От греха подальше.
— Ой, не смеши, Фоминишна. Тебе-то какой грех?
— Вьешься уж больно сильно. И присмотреть за тобой некому. А мне жалко будет, если что случится.
— Ничего не случится. Я — девушка смелая и ничего не боюсь. Правда, Коленька?
Он, уже не отвечая, опять кивнул: «Заманивай, заманивай, я — юноша влюбчивый, мечтаю пеленки стирать, на молочную кухню бегать. Очень хочу грузчиком стать и на заочном поучиться. Всегда готов, как пионер».
По субботам и воскресеньям Коля отдыхал. Милитина Фоминишна поила чаем без отработки.
— Грех, Кольча, всю неделю горб набивать.
Днем его зазывали к самовару Дуся с Надей, чтоб не скучать, а к вечеру они дружно уговаривали Милитину Фоминишну:
— Давайте вместе посидим, почаевничаем. По-людски, за одним столом, — и снова приглашали к столу Колю.
Сидели долго, до холодного самовара, до синей мглы в дверном проеме веранды. Света не зажигали. И тогда Милитина Фоминишна просила:
— Давайте мою, девки. И ты, Кольча, поддерживай.
Запевали:
Ах, да со вечера Делать нечего, Идти некуда, Любить некого…Милитина Фоминишна сморкалась, всхлипывала, уходила в комнату, говоря тихим басом:
— Приберусь малость…
После Коля все хотел включить свет, но Дуся с Надей хватали его за руки, усаживали, давясь смехом, колотили по гулкой, костлявой спине.
— Как это любить некого?! А?
Коля вырывался, отталкивал их, наконец сдавался:
— Понял. Есть кого. Есть.
Ветреная синяя жара перетекла из воскресенья в понедельник, Коля глаз еще не открыл, а уже понял: проспал! Солнце горячо, нетерпеливо лизало ухо, влетев наконец в комнату, вырвавшись из тесной листвы черемухи под окном.
Вскочил, дорожа временем, слегка только, для полноты режима, помахал руками, ногами, натянул трико, решительно вышел в прихожую. На двери Милитины Фоминишны блестел маленький, с монетку замочек — значит, ушла, надолго, не в огород и не к соседке, иначе бы не навесила. С пятерней в затылке поплелся к умывальнику, потом медленно, со вздохами выпил ковш воды, вернулся в прихожую. Увидел: дверь в комнату Нади и Дуси распахнута. «Евдокия летела. Как же это Фоминишна шла, не заметила? А-а… Еще и окно настежь. Ух ты, как тянет!»
С трепещущим присвистом реяли, летели в комнату ситцевые занавески, дрожала, перекатывалась упругая рябь по их розовым цветкам. По стене, по потолку бесшумно переливалась тенисто-солнечная волна, и ее бегущие отсветы-блики, сталкиваясь, казалось, тоже посвистывают, позванивают, тоненько шепотят — так слагался волнующе-свежий, счастливый голос июньского дня.
Под его вольный чистый трезвон Надя спала крепко и сладко. Сбилось розовое пикейное одеяло, обнажив смуглые плечи и тугие колени.
Все это Коля вобрал в один миг, замер, покраснел, быстро захлопнул дверь и метнулся к себе. «Ну, Евдокия! Ну, мать честная! Ходи тут за ней, закрывай. Прямо в стыд ввела. — Почти вслух бормоча, Коля тыкался из угла в угол, не замечая ни раскрытых учебников, ни конспектов. — И окно так бросила. Сдует еще чего, разобьет. Да мало ли что может быть. — Коля метался, кружил по комнате. — А что там случится? Да ничего. Не выдумывай… И все ж нехорошо с распахнутым-то».
Он на цыпочках подошел к Наде.
— Надежда-а, — позвал шепотом. — Надя, окно-то закрыть? Ну и спишь ты. Слышишь? — Голос срывался. — Закрыть, нет, окно-то? — Коля присел на краешек кровати.
Надя вздохнула, не просыпаясь, выпростала руку.
Коля отвернулся, поглядел в окно.
— Надя, хватит спать-то!
Очнулась, с резким, еще немым испугом отпрянула к стене, судорожно потянула, не расправляя, на себя покрывало.
— Ты что, Колька? Ты что? — на просящей, жалобной нотке прорезался голос, но тут же окреп: — Ну-ка уматывай сейчас же! Подкрался! Кот ободранный! — Она толкнула его, но Коля удержался, неожиданно для себя пересел поглубже, перехватил Надины руки.
— Пожалей! Кого гонишь?
Попробовал поцеловать в шею, в щеку — куда удастся. Надя вырвала руки, уперла кулаки в Колину грудь.
— Уйди, паразит! Я кому сказала!
Надя наконец изловчилась и так двинула, что Коля слетел с кровати, почти сел на пол, но успел выставить назад руки.
— Надежда, ты не знаешь Колю Щепкина! — Он поднырнул под ее молотящие кулаки и обнял. — Ты не знаешь, как он к тебе относится. Ты снишься ему по ночам. На лекциях снишься. — Удалось, поцеловал в щеку, сквозь пахнущую хвоей прядь.
— Колька! Кричать буду. Лучше отстань. Глаза выцарапаю!
Но не закричала, яростное ее сопротивление стало спадать. Упругий ветерок бился в ситцевых занавесках.
— Ох и паразит же ты. Ох и паразит…
Молча полежав, она локтем опять так двинула Колю, что он, обидевшись, встал и перешел на табуретку.
— Теперь-то зачем дерешься?
Не ответила. Полежала, помолчала, опять сказала недовольно и зло:
— Ну чего расселся? Обрадовался… Отвернись! Собираться буду…
Коля уставился в угол, устало сгорбился.
— Надежда, можно вот что придумать… — Голос его был печален и тих. — Давай в субботу в парк пойдем. Сначала на пароходике покатаемся. — Он подумал и дрогнувшим голосом добавил: — В ресторане посидим. Приглашаю. Потом, если захочешь, в кино можно или на танцы…
Она ходила мимо, уже причесанная, в пестром сарафане — и молчала. Взяла с подоконника зеленое колечко, пудреницу.
— Если на Дуську хоть раз еще посмотришь, берегись. Уж тогда точно глаза выцарапаю. Учти!
— При чем тут глаза? Я приглашаю тебя в субботу…
— Слышала. Посмотрим.
Собрала сумку, остановилась за спиной.
— Как молния, время-то. Вот уж и на смену пора. Ты, если хочешь, у нас тут занимайся. Просторнее будет, а может, и веселей. — На прощанье стукнула несильно по спине. Пожалуй, даже ласково. — Вечером выйди к причалу, проветрись. Я с последним приплываю.
Оставшись один, придвинулся к окну. Поймал в кулак занавески — они забились, запарусили. Неожиданно прикоснулся к ним щекой — чистым солнышком и черемуховой горчинкой отдавал их мягкий холодок…
Мальчики из Майска Повесть
Серега
Ранний вечер в июле. Просторную тень роняет правый берег, и в ней копится дрожащая, сизо-влажная тишина. А на этой стороне все еще жарко; быстрая вода; разомлевший шиповник, по сию пору не очнувшийся от полуденного сна.
К отходящему дню поспевает пол-Майска. И начинаются там досужие летние часы, с их бесцельно-приятным кружением по сосняку, с бездумными разговорами, с непременными неожиданностями в области личных чувств.
В прибрежной толпе этим ранним вечером прогуливаются двое скучающих молодых людей. У Сереги Захарова жесткие и настолько черные волосы, что они даже не воронятся, а как-то глухо, сумеречно светятся. Под гладким покатым лбом и тугими черными бровями плавятся, обугливаются в белом сизо-коричневые зрачки. Нос прямой, крупный, довольно неуклюже срезанный, так, что излишне видны дырочки ноздрей; щеки, ближе к носу, в младенчески-пуховом румянце, а в удалении к скулам обросли небогатыми, но упрямыми бакенбардами.
Его приятель менее приметен, и запоминаются лишь маленькие толстые губы, обметанные крупными рыжими веснушками.
Меланхолически привалившись к сосне, Серега со вздохом говорит:
— Что же делать, Санек?
— Моя бабка всегда советует: снять штаны и бегать.
— Саня, Саня! Не целый же вечер здесь маячить. Надо что-то придумывать!
— До танцев проболтаемся, а там Васек притопает. У него вроде кассовый день.
— Озвереть — до танцев ждать! Нет, я так не могу, Санек. — Серега отрывается от сосны и, заострив плечи, сунув ладони в задние карманы джинсов, плывет по дорожке.
В эту пору на ней появляется пожилой, чуть выпивший человек в отутюженном, с желтцой, чесучовом пиджаке; строгий, седой ежик; черный галстук, брюки цвета маренго, — видимо, итээровец или работник главной бухгалтерии. Серега пристраивается к прохожему и, мечтательно рассматривает закат, без должной искательности предлагает:
— Закурим?
— Некурящий.
— А почему?
— Что — почему?
— Почему не курите?
— Не приставай, сопляк! Вот распустились! — занервничав, прохожий шагает энергичнее.
— Вот и замечательно, — томно прикрыв веки, сквозь бантик губ сюсюкает Серега. — Наконец встретил некурящего грубияна. — Серега неожиданно резво подпрыгивает и коленкой поддает прохожему под зад.
— Ах ты, негодяй! Ах ты, сволочь!
Взъерившись, прохожий пытается достать кулаком Серегино ухо, но сию же минуту ощущает новый, более сильный толчок — это Серегин приятель поддерживает развлечение. Пожилой человек кидается к нему, но тот ускользает, Серега опять поддает — и вот так подгоняют прохожего к зеленой гряде боярышника и опрокидывают в колючую гущу: трещат кусты, трещит чесучовый пиджак, клочья цвета маренго застревают на острых коричневых шипах. Пострадавший молча, не взывая о помощи, продирается сквозь кусты и, зажимая лицо, бежит к реке.
Серега с приятелем, счастливо пристанывая, хохочут, но непродолжительно, потому что происшествие не позабавило их в полную меру.
— Пашка-то, кретин — слышал? — вчера «Спидолу» проиграл.
— Брось!..
— Нашел кому проигрывать — Димке с правого берега!
— Кстати, у речников там кафе открывается. Может, сходим, почудим?
— Нет. Завтра у меня прогулка. С невестой, на велосипедах, за город. Как?
— Кто такая?
— Дочь состоятельных родителей, курит сигареты с фильтром — все равно не знаешь, губы не распускай!
Пока приятели предаются беспечной беседе, из-за пивного ларька надвигается возмездие: пострадавший ведет за руку участкового Федю Пермякова, худого, остролицего, с длинной розовой шеей, и эта розовость как бы бросает отсвет на туго втянутые щеки, на сдвинутые соломенно-невидимые бровки, на тонкий наконечник носа, отчего Федя кажется прозрачно-светящимся, аскетическим мужчиной. В милиции он человек недавний и стремится взглядом и видом олицетворить неумолимость закона.
Пострадавший слабым взмахом указывает:
— Вон те.
Федя, поправляя на каждом шагу кобуру и фуражку, приближается к молодым людям и пробует ухватить литую бронзовую руку Сереги. Федя с волнением говорит:
— Гражданин, вы надругались вон над тем товарищем.
Вздрогнувший Серега сосредоточенно вглядывается в пострадавшего.
— Что вы, товарищ старшина, — хотя и слепой бы увидел рядовое положение Феди, — мы вот-вот появились.
— Они, они, — опять подает слабый знак пострадавший.
Федя держится за Серегин локоть, с грустью думая, что тут бы в пору какие-нибудь наручники, а живой силой разве уведешь такого молодца.
— Гражданин, посмотрите, что вы наделали. Придется увести вас.
— А вы не хватайтесь, не хватайтесь, — вырывается Серега, ненатурально возмущаясь. — Можно и ответить за это.
Серегин приятель тем временем пятится, отодвигается за кусты и вот уже мелькает меж соснами.
Федя опять держит Серегу за локоть.
— Без шума, гражданин. Вы задержаны.
Серега плечом резко толкает его, ставит подножку, и Федя проваливается в тот же боярышник. При этом он испытывает не возмущение, не ярость, а какой-то странно отвлеченный ужас за молодого человека: что он наделал? Оскорбил действием во время исполнения обязанностей, придется отвечать по всей строгости — надо же!
Федя выкарабкивается из кустов при помощи первого пострадавшего и вытаскивает пистолет, потому что нарушитель мчится во всю прыть.
— Стой, стой, стой! — Федя не замечает, что кричит трагическим шепотом, и три раза стреляет в воздух.
Массовое гулянье прервано, все устремляются на выстрелы, в бегущей толпе нервная неясность.
Серега несется, не чуя ног. Вокруг свистят пули, прокурор требует высшей меры наказания, знакомые девушки в слезах, со сладким ужасом смотрят на удальца, променявшего постылую волю на тюремные решетки и мрак одиночки.
Избегая враждебно настроенных улиц, где живут его участковые, дружинники, конная милиция и, возможно, весь личный состав Майского угрозыска, Серега кружит, петляет, срезает углы, приближаясь не к собственному дому, а к дому Женечки Смирновой. О предполагаемом свидании Серега размышляет с нетерпеливой надеждой: «Если куда подалась — до ночи здесь торчать. Лучше бы уж дома сидела! Мать не отпустит, хоть так поболтаем. А то совсем с тоски сдохну».
Нетерпение это проистекает не из страха, долю которого Серега желал бы растворить в общении с Женечкой, — нет, нет! — бояться ему некогда, у него просто недостает воображения мучиться и страдать из-за недавнего происшествия, а к Женечке его толкает внезапный приступ смутной, беспокоящей пустоты.
Над Женечкиным домом линяло-красные полосы — следы пропадающего солнца, они дрожат, трепещут — скорее всего, по причине страшного грохота, колеблющего землю и небо, — это Женечка наслаждается магнитофоном, недавним отцовым подарком. Серега радешенек: «Одна, одна!..» — и, не пользуясь условным свистом, изо всех сил жмет кнопку звонка, приплясывает, подмигивает неизвестно кому, на лице — беспечная улыбка, а все его длинное, крепкое тело словно погружается в какой-то размягчающий раствор. Прямые плечи никнут, поясница преломляется, образовав острый уступ, с неловкой развязностью ведет себя левая рука, то проверяя наличие застегнутых пуговиц, то залезая в карман, то расслабленно умещаясь на выпяченном бедре.
Женечка выпрыгивает на веранду: рыжий мальчишеский чубчик, босая, в кокетливо перешитой тельняшке, брючки до колен — сорванец, юнга, этакая бестия, черт возьми!
— Ой, Сережка! Привет! Слышишь?! — кричит она. — Дома никого. Вот жизнь, да?!
— Здорово, невеста! — во всю глотку отвечает Серега и, заметно подергиваясь, наступает на Женечку.
Она тотчас выбрасывает вперед руки, кисти напряженно заострены, маленькие полные губы образуют вымученную, отрешенную улыбку; в несоответствии с ней — тревожные дымчатые глаза и побелевший хрупко-остренький носик. Серега воет: «Да-ру-ру-ра! Да-ру-ру-ра!» Женечка преданно оседает перед ним — твист набирает силу. Кавалер и барышня наперегонки торопятся локтями; иногда бешеная работа эта прерывается Серегой: выпрямляясь и с ленцой откидывая спину, он плавно, как в «Барыне», машет на Женечку, жмурясь, блаженно сияя ртом, вот-вот пропоет простуженно-частушечным говорком: «Фу-ты, да ну-ты!» Пляшут и пляшут, нерасчетливо, до пота, пляшут очень добросовестно и очень некрасиво, потому что в Майске путного твиста-то и не видели, а обучались понаслышке. Верно, однажды Женечка танцевала в клубе «Энергетик» с иностранным туристом, и с тех пор считается лучшей в городе исполнительницей этого танца и посему даже выработала брезгливо-снисходительную гримаску, с которою покрикивает на кавалеров: «Спортивней! Изящней! Ну же!..» — покрикивает на всех, кроме Сереги, потому что он — замечательный, она от него без ума, без памяти. («Ой, девочки, у него глаза, глаза!.. Прямо как у цыганчика. Девочки, девочки — смешно, правда? — он мне сказал: теперь, говорит, ты — боевая подруга…»)
Затем, притомившись, смолкает магнитофон, и Женечка приглашает Серегу к столу, с удовольствием, со смешной серьезностью превращаясь в хлопотливую, ласково-строгую женщину, встречающую мужа. Она щепотью трогает лоб: «Ах, соль забыла»; грозно спрашивает: «Руки вымыл?»; в веселом ужасе хватается за сердце: «Господи, кто же так вилку держит!» Она хозяйка, старшая сестра, мать, девочка, с нетерпением репетирующая сцены из предполагаемого будущего.
Подобное Женечкино поведение да еще вволю распробованное вино из родительского буфета побуждают к родственно-откровенной беседе, к этакому легкодумному вечернему разговору за семейным столом.
— Представляешь, Сережка! Нинка оказалась абсолютной дурой. Спрашивает: «Что это за мальчик вчера с тобой был? Какой у него неприятный взгляд», — говорит. Ну, скажи, какая дура, да?
— Ага. Это с ремнем-то которая, с широким?
— Ну да! Тоже ремень этот нацепила — безвкусно, правда?
— Под кубинку работает. А я сегодня милиционера отлупил. Пристал, гад…
— Сумасшедший! Вдруг узнают? Тогда знаешь как влетит!.. — И смотрит с влюбленною укоризной.
— А!.. Кому охота! Он ведь не дурак — болтать об этом, ему же и попадет. Скажут, с пацаном не справился. Не бойся, Женька! Ты не плачь, не плачь, невеста, — побледневший Серега с виновато-напряженной улыбкой обнимает Женечку.
Она шепчет громко, не очень-то отталкивая его:
— Ой, идиот! Скоро же мои придут. Балда ты такая, Сережка. — Они целуются. — Что, доволен, доволен, да? Ах, ах! Как мы довольны, вы не представляете! — Женечкины плечи то ускользают, то вновь возвращаются в большие белые Серегины ладони.
— Женька, так завтра едем? Едем? Учти: жениху не отказывают. — Голос у Сереги дрожит, и потому он старается говорить с усмешкой: — Ах, жених! Какой жених! Ах, невеста! Какая невеста! — А в глазах счастливое сияние, настолько нестерпимое, что Женечка отваживается на старомодный вопрос:
— Сережка, а ты меня очень любишь?
— Не заметно, что ли? — с деревянной смущенностью говорит Серега, но тут же поправляется: — На сто с прицепом. Чего-то забываешься, невеста. Давай-ка выпьем.
Продолжается безмятежный вечер.
И только милиционер Федя Пермяков трудится не покладая рук — Серегин отзыв о нем несправедлив. Уже опознан бежавший преступник при помощи завсегдатаев публичных скандалов, собраны свидетельские показания, составлен акт об использованных патронах, а сейчас Федя спешит в медицинскую экспертизу за справкой. Федя спешит, переполненный задумчивой решимостью: «Что ж, будем судить. Конечно, для родителей это душевная травма, да и мне, конечно, нелегко. Но простить я не могу. Общество тоже не простит». Федя хмурится и краснеет от удовольствия, что такой вот он серьезный, и мысли у него серьезные, и все-то он понимает, хоть и является начинающим милиционером.
А наши влюбленные тем временем прощаются.
— Сережка, ну, хватит! Слышишь? Не веди себя кое-как! — И, оберегаясь от чересчур разгорячившегося Сереги, Женечка скачет по комнате. Он же, поначалу молча, с упрямой, бессмысленной улыбкой, все хочет настичь ее, но никак не может и потому вскоре забывает о взрослых своих намерениях, с легкостью согласившись поиграть в «догонялки». Грохочут стулья, дребезжит посуда, трещат половицы. «А-а-а!..» — бьется, булькает где-то на самых верхах Женечкин смех. «Хо-хо-хо!..» — размерен и гулок Серегин хохот. Вот они устают, обессиленно посмеиваются друг перед другом, отдуваются, слабо покачивают руками и, остывая, источают острый, жаркий, соленый запах молодого пота.
— Ну, привет жениху!
— Гудбаиньки, невеста!
— Гуд байт! Гуд бай! Как они любили, как они любили!..
— Значит, завтра едем?
Поздний вечер вырос между небом и землей, у основания темно-фиолетовый, а к вершине посветлевший до бледно-зеленого. И эта зеленая светлынь хлещет, заливает облака, скатываясь в них по наклонному своду уже совсем прозрачными неторопливыми потоками.
Течения вечера Серега, конечно, не замечает, потому что весьма озабочен встречей с матерью — он сосредоточенно жует взятый у Женечки лавровый лист, для верности проглатывает горькую кашицу — лишь бы мать не учуяла выпитого вина. За курево она уже не ругает, а вот насчет выпивки — страх один: крик, слезы, валидол, да к тому же влепить может — хоть и женщина, а кулак острый, тяжелый.
У попутной колонки Серега долго полощет рот ледяной водой, умывается, причесывается, затем, заложив руки за спину, неспешно отправляется дальше — просто прогуливается человек перед сном. А чтоб уж наверняка вызвать материно благорасположение и в дальнейшем выпросить рублевку, Серега пристраивает на лице этакую покорную утомленность, для чего слегка втягивает щеки и таращит глаза, про себя между тем сочиняя: «Уф! Весь день как проклятый алгебру зубрил. Видишь, череп сдвинулся? Прямо как у леопарда». И мать рассмеется, довольная, что ее Серега наконец взялся за ум и, дай-то бог, поступит в этот самый техникум. Затем состоится обильное чаепитие. Сама постелит ему, и он заснет с блаженной мыслью, что уж очень здорово получается с этими «приемными экзаменами» — благодаря им месяц назад он без лишних разговоров исчез из комбината бытового обслуживания, где одни только женщины, и все — знакомые матери, а кроме того, в запасе еще месяц: валяй себе дурака — и хоть бы хны!
Дверь открывает квартирант Толя, рыжий, громадный мужчина:
— А-а! Штурмовичок явился! — гремит он, настроенный всегда насмешливо, и со шлепком ухватывает Серегу за шею, гнет к полу. — Жидок, жидок, приятель! Хочешь, салазки загну?
Обычно Серега отбивается, но сегодня ему неохота.
— Брось ты, Толя! Надоело!
Но тот не унимается и еще сильнее давит на шею.
— Давай, давай! Учись спину гнуть. Это тебе не за девочками бегать.
Серега злится и целит Толе в поддых, но кулак отскакивает, и колющая ломота прокатывается до плеча, точно бил не по животу, а по булыжникам. Толя, похохатывая, оборачивается к матери:
— Кишка тонка у наследника-то, Татьяна Васильевна! В грузчики его надо, этакую дылду!
Мать слабо, невнимательно улыбается Толиным словам, а сама с нервической пристальностью вглядывается в Серегу.
— Где был? — хрипловато и быстро спрашивает она.
— Да тут, у пацана одного. Со мной поступает. Занимались целый день.
Татьяна Васильевна грузно, неловко приближается:
— Что это у тебя на щеке? — Она втягивает воздух, даже ноздри подрагивают, но лавровый лист изжеван не зря. — Уф! Да мне уж мерещиться начинает. — Татьяна Васильевна довольна, что можно не расстраиваться, тотчас возвращается к нормальному, ворчливо-ласковому состоянию, со значительностью смотрит на Толю («Вот вы не верили, а напрасно. Сергей не безнадежный ребенок»), забывая о частых и неистовых ссорах с сыном, гордясь даже призрачным его успехом — трезвостью и непоздним возвращением. Развевается, колышется халат на крупном, тяжелом материнском теле, весело дымит папироса, вместе с дымом тоненько возникает какой-то мотивчик — все прекрасно, Татьяна Васильевна устремляется на кухню.
— Айда, сын, щи хлебать да чаи гонять!
Она кормит Серегу, наслаждаясь его аппетитом и вновь посетившей ее настойчиво-слепою радостью: вот ведь парень какой вымахал, без отца растила, одна, а все как у людей: обут, одет, здоров и красив-то как, красив! Ах, сын, сынуля, негодник ты мой! Мужик уж, совсем мужик! Сидит, прямо как Петя после работы.
Вознесшись к вершинам своей жизни, Татьяна Васильевна шумно вздыхает, без толку громыхает посудой, ни с того ни с сего легонько посмеивается, не зная, как еще-то и утихомирить сладко трепещущее сердце. Спрашивает, приступая к чаепитию:
— Тебе длинного или короткого?
— Длинного, мама, длинного, — смеется Серега, не столь угождая хорошему настроению матери, сколь почувствовав и в себе неизъяснимо-приятную легкость и умиротворенность от пребывания за этим столом, от старинной шутки матери, возвращающей его к той поре, когда он еще не беспокоился насчет ежедневной занятости собственного ума, а просто читал книжки, бегал на каток и даже не помышлял лгать матери.
Мать неловко держит чайник у плеча и так вот спускает коричневую струю в стакан: льется «длинный чай».
— Много еще учить-то осталось?
— Тьма! Завтра опять с утра засядем.
— У пацана этого?
— Ну да. Как-то удобнее вместе.
— Голодные, поди, сидите целый день?
— Прямо! Только и знаем, что жуем.
— А чего же, как волк, на щи-то набросился?
— Как работаю, так и ем.
— Ладно, ладно. Помалкивай, Болтухан Болтуханович!
Приходит Толя с газетой, тоже принимается за чай. Несколько набычив голову, он морщит лоб и смотрит поверх газеты своими голубовато-рыжими глазами.
— Горазд же ты жрать! (У Сереги от сытости влажно-порозовевшие щеки.) Вот я все удивляюсь, Татьяна Васильевна. Человек не работает, а ест. Да еще как!..
Но мать сегодня на стороне Сереги:
— Да будет, Анатолий Тимофеевич! Растет же. Да и не чужое ест…
— Вот-вот. В едоков и вырастают. А ведь, кроме живота, еще голова есть.
— Хватит, Анатолий Тимофеевич, хватит. Сейчас-то он делом занят. — Татьяна Васильевна поджимает губы, строжают морщины возле глаз, и вроде бы увеличивается от недовольства и без того крупный нос.
— Ну-ну. — Толя скрывается за газетой, а у спасенного Сереги слипаются глаза: все-таки замечательно ложиться спать без скандала.
Серега с задумчивою неспешностью расстегивает рубашку. Татьяна Васильевна с силою затягивается, даже табак потрескивает, все еще рассерженная Толиным неверием в мгновенное исправление сына, а квартирант с тихим пофыркиванием пьет чай. Сонно поскрипывает маятник — у обессилевших за день ходиков гирька вот-вот приляжет на пол.
Кто-то, с уважением отнесясь к позднему часу, негромко стучит. Татьяна Васильевна морщится: «Кого это еще черти несут?» — и решительно-недовольная плывет открывать. Щелкает замок. Она испуганно вскрикивает:
— А! Вам кого?!
Толя и Серега выскакивают в коридор. На пороге Федя Пермяков в лихо сдвинутой на затылок фуражке, потому что на лбу его широкий пластырь. Федя бледен, на костлявом подбородке от напряжения возникают полукругом швы морщинок, точно приклеенные обрывки суровых ниток.
— Гражданин Захаров здесь живет? — лишь для порядка спрашивает Федя, потому что вот он, этот гражданин, рядом, с отвисшей нижней губой и выпученными глазами.
«Продали, продали… Кто же это? Гады!» — долдонит в Серегиной голове беззвучным шепотом.
— Что он наделал? Украл, да? — Опасаясь собственной слезливости, Татьяна Васильевна спрашивает безнадежно-спокойным, тихим голосом, но все равно заметно, как у нее синеют губы и как резко, волнами, окатывает ее дрожь.
— Гражданка, мамаша, успокойтесь. Кражи не было. Было сильное хулиганство и оскорбление.
Татьяна Васильевна не дослушивает, а, схватившись за сердце, кричит:
— Занимались, да? Устал, да? Остолоп, паскудник, сукин сын! — И по щекам Серегу, по щекам: раз, раз, справа, слева!
— Что ты! Что ты! Узнай сначала! — пятится Серега и плаксиво бубнит.
— Мамаша. Гражданка Захарова. Подождите. — Татьяна Васильевна тянет руку к сердцу. — Значит, избит один гражданин, и вот я травмирован… Пришел сказать, что надо ожидать повестку в суд… Спокойной ночи!
— Товарищ милиционер, минутку! Не уходите, товарищ милиционер! — Татьяна Васильевна плачет. — Мальчишка же еще! Не надо бы суд-то, не знаю, как вас по имени-отчеству. Одна я. — Она вдруг хватает Серегу за черные космы и толкает к порогу. — Сейчас же извиняйся, паршивец! Кому говорю? Сию минуту извинись!
— А чо, обязан, да? Отпусти, — вырывает голову Серега.
— Не в «извиняйся» дело, мамаша. — В Фединых глазах скорбная непреклонность. — Я ничего, зла у меня нет. Но разве же дело во мне, мамаша? Так всю милицию травмируют, кто же борьбу осуществлять будет? Сами подумайте, — вздыхает Федя и прощается.
Потом матери совсем плохо. Со стоном она рушится на диван. Толя бегает на кухню за водой, за лекарством, потому что Серега безучастно хохлится на ящике с обувью, постепенно освобождаясь от неприятных ощущений, и не желает размышлять о случившемся. Толя пробегает мимо, со всего маху плещет ему в лицо из стакана.
— Только засни, только засни! Ох и дождешься!.. — со свистом шепчет Толя, безмерно пораженный теперешним Серегиным спокойствием, хотя и всякие уже бывали скандалы.
Серега идет в ванную, утирается и снова застывает, в самом деле не зная, что же ему надо делать.
Через некоторое время мать зовет его:
— Сергей, иди сюда. — Она лежит на спине и смотрит в потолок широко открытыми горячими глазами. Лицо в пятнах, точно закоптившееся у костра. — Какой ты все-таки, Сергей… Души, что ли, у тебя нет?.. Иди ложись.
Серега на цыпочках, быстро пробирается к постели.
Серегино пробуждение быстротечно и легко, как у глупого-преглупого котенка: вот уже вовсю таращатся фиолетово-синие глаза; прыг-скок! — живенько умываться, припасть к молоку — готов красавец!
Солнце плавит стекла, в комнате сухая, пыльная жара, которая, однако, не угнетает, а будит неясные веселые ощущения: то ли повезет в чем-то, то ли приятную новость услышишь, то ли вообще случится что-то славное, летнее, безмятежное.
Под влиянием этого утреннего веселого угара Серега прежде всего вспоминает, что он поедет с Женечкой за город.
Правда, на кухонном столе лежит записка: «Я в больнице! Скоро вернусь, работаю со второй. Ешь и занимайся. Никуда не исчезай». Толя, уходящий на смену позже, оставил свою отметку: «Если что-нибудь выкинешь, шею сверну». Но окажись хоть сто записок, Серега все равно поедет. «Там видно будет, выкручусь. Может, последние дни догуливаю», — вызванной на мгновение жалостью Серега оправдывает себя за все предстоящие истории. Самое главное сейчас — достать денег хотя бы на бутылку вина и пачку сигарет, а то что за пикник получится?
Сначала Серега шарит в нише: проверяет карманы старых пиджаков, халатов, телогреек, выворачивает даже пыльный, дырявый рюкзак — ни одной забытой копейки, потому что каждая на пристальном счету. В Толиной комнате везет больше: в зимнем полупальто Серега находит двадцать четыре копейки — как раз на пачку сигарет. Затем в кухне видит трехлитровые банки, которые мать хранит для варенья. Пять штук по сорок копеек — привет! — это вам целых два рубля, и бутылка в кармане! Серега обтирает банки, размещает их в две сетки, радуясь, что так просто обходится и что больше не к чему ломать голову.
Но тут, к Серегиной досаде, отворяется дверь и входит пенсионер из соседнего подъезда, дядя Гриша, в прошлом — красный партизан. Дядя Гриша сухонький, крепенький, со спины — подросток, да и только, белая щетина, белые, толстые, в палец, брови, примятый к губе широкий пористый нос, белые же, с желтоватым подпалом у корней, волосы; голова с тяжелым треугольным затылком, из-за которого она и задрана чуть выше обыкновенного — так что дядю Гришу легко принять за несносного гордеца и упрямца.
— Здорово, паря, — говорит он. — Уже пятки смазываешь? А я к тебе пришел. Малость посиди, послушай деда. — Дядя Гриша усаживается на табуретку, достает очки и снизу вверх глядит на Серегу, как на удивительное какое-то, неожиданно появившееся существо.
А тот стоит с пузатыми сетками в руках, и сесть ему некуда, потому что остальные табуретки в комнатах.
— Туто-ка забегаю в милицию — дела были, а мне начальник и говорит: «У тя под окном хулиган живет и вечерком может замечательно отлупить. Пока он этого не сделал, повидайся с ним да потолкуй. Может, и пощадит». Я ноги в горсть — и сюда! Дак ты счас меня колотить будешь или погодя?
— Бросьте, дядя Гриша! Кто вас тронет? — нарочно потупляет голову Серега: «Делать нечего, по квартирам уже ходит».
— Мне, паря, бросать нельзя, хоть милицию за грудки не беру. Это ты давай шпанить-то бросай. Мать пожалей да и о себе подумай. Без всяких дураков посадят, что тогда запоешь? «Сижу я, цельный день тоскую»? Да? Эх, Сергей, Сергей!.. В башке — мякина, с носу капает, а думать лень.
— Вы и думайте, я не мешаю.
— Ты со мной, паря, остерегайся. Я чалдон старый, в ухо двину — в окно вылетишь. Поговоришь со мной так. Мешаешь, паря, еще как мешаешь!.. Тебе уже семнадцать, а толку пока нет. Я в твои годы беляков бил, а ты, вишь, свою власть, милицию, норовишь. Как же мешать не будешь?
— Я бы беляков тоже бил.
— Но?! Смотри-ка!.. В самом деле храброй; эк вы, вдвоем-то одного отмутузили! Молодцы, бойцы справные. Я вот, давно дело было, хлеб у кулаков отбирал. Поймали меня раз — полчелюсти вынесли да земли в глотку напихали. Что ж, думаешь, из-за таких сопляков, как ты, землей плевался? Не-ет… Ты давай, паря, за ум берись, я с тя не слезу.
— Вы пионеров пропагандируйте. Я все это слышал. — Банки уже оттягивают Сереге руки, а шея неприятно, колко потеет.
— Ну и дерьмо ты, паря! Ты пошто не понимаешь-то ничего? Давай-ка ты «малину» эту прикрывай да на работу иди, учись. А мы те поможем. Ведь вся жизнь впереди, а раз плюнуть — сгубить-то ее. Ты подумай, паря. Понял?
— Понял, — говорит Серега. «Давай, дед, отваливай быстренько. Сколько можно?»
— Слава богу, — дядя Гриша поднимается. — Я тя вот о чем попрошу. Пока не на службе, пособил бы малость. Пацанятам качели вот поставить надо да песку навозить. Пособишь?
— Ладно. — У Сереги вспотевшее, измученное лицо.
Дядя Гриша по-свойски так подмигивает и улыбается, думая, что окончательно пронял парня.
— Ну, паря, пока. Тащи теперь стеклотару.
— Дядя Гриша, пару рублей не займете до получки, а? Сразу же занесу. — Серега с печальной преданностью смотрит на него: помучил, мол, теперь награди.
— Не ври, паря, не ври. Какая у тебя получка! Вот работать начнешь, займу. Хитрой же ты, однако. Ох, хитрой!..
Серега слышит, как бухает внизу дверь, перехватывает поудобнее сетки и с тихим звоном удаляется. На третьем этаже он, дернувшись, замирает: кто-то с сопением, с частыми охами-вздохами, медленно, тяжелыми шагами поднимается навстречу. Неужто мать? Серега льнет к перилам, высматривает: «Анна Прокофьевна! Она-то еще чего прется? С банками лучше не попадаться, на корню продаст». Он бесшумно возвращается в кухню, заталкивает сетки под стол, плавными прыжками переносится в комнату, хватает «Алгебру» и с нею перед глазами вдумчиво прогуливается.
Анна Прокофьевна, старинная приятельница матери, — бухгалтер того самого комбината бытового обслуживания, где еще месяц назад Серега проходил по различным ведомостям как маляр второго разряда. Она налита той болезненной сырой полнотой, при которой человек похож на движущуюся бочку, на сопряженное из нескольких шаров геометрическое тело, и после бесконечного восхождения по лестнице ноги-тумбы уже не держат ее. Растекшись телом по всему дивану, Анна Прокофьевна говорит:
— Как это Татьяна каждый день сюда лазит? Самоубийство. Надо меняться вам квартирами-то… Что это у тебя за книжка, Сереженька?
— Да «Алгебра», тетя Аня, — рассеянно отвечает Серега, продолжая разгуливать по комнате.
— Наши девчонки и то каждый день пристают ко мне: «Тетя Аня, сходи посмотри, не заучился ли».
— Какие девчонки?
— Так из твоей бригады. Тося Пшеничникова, Валя Печерская…
— А-а… Сами бы и шли. Вас-то чего гоняют?
Девчонкам этим давно за тридцать, Серегу они поучали до тошноты, и сейчас он весьма смущен их заботою: «Еще шефствовать догадаются, дуры».
— Некогда им, Сереженька. Самая пора для ремонтов. Я вот и пришлепала, по дружбе да нагрузку уважая.
Анну Прокофьевну немыслимо представить без какой-нибудь нагрузки: то она страхделегат, то казначей кассы взаимопомощи, то сектор культбыта, а нынче вот на вершине общественного доверия — председатель месткома.
— К нам-то чего не заглядываешь? Привыкли к тебе все. Молодых-то у нас не больно много.
— Времени нет, тетя Аня. Вот зубрю и зубрю…
— Ах, вон как! — Анна Прокофьевна вроде бы сочувствует столь нелегкому времяпрепровождению. — Дай-то бог, Сереженька! Но все-таки заглядывай — не круглые же дни сидишь.
— Спасибо, тетя Аня, обязательно забегу.
— А надежда-то у тебя есть? Что попадешь-то?
— Куда же без надежды, тетя Аня? — Такой он солидный, разумный, усидчивый, маменькин сынок, тихоня, воспитанный мальчик — очень весело Сереге быть таким.
— Я к чему спрашиваю, Сереженька. Правильно, без надежды нельзя. Но по-всякому может случиться: вдруг да не повезет? Если хочешь, я поговорю, чтоб тебя в столярный цех перевели. Все-таки с женщинами действительно трудно работать.
— Да пока не беспокойтесь, тетя Аня. Спасибо, пока не нужно.
— Нет, я просто, чтоб ты в случае чего не падал духом. Мы тебя ждем, приветы тебе все наши передают. В общем, имей в виду. Мы тебя не бросим.
— Большое спасибо, тетя Аня. На работе тоже всем спасибо передавайте.
Анне Прокофьевне приятно до слез: длительный, многотрудный поход затеян не зря. Ведь мальчишка еще, а с какой благодарностью отнесся и к ее чуткости, и к чуткости месткома и всего комбината в целом. А благодарный человек горы свернет, ничего для людей не пожалеет. Анна Прокофьевна растроганно вздыхает:
— Счастливо тебе, Сереженька. Учись давай на здоровье.
«Сейчас год тащиться будет», — думает Серега и от нечего делать подходит к окну. «Ой-е-ей,» — взвизгивает кто-то в Серегиной душе. — «Вот это попух. Вот попух!»
Во дворе на лавочке сидит мать, рядом дядя Гриша плюется и размахивает руками, растопыренной ладошкой приналег на тополь парень в черном костюме с выпущенным на пиджак воротником красной тенниски. «Ага, и Генка Савин здесь», — узнает его Серега. Савин — инструктор райкома комсомола, вот уже который год единолично решающий проблемы детской безнадзорности и ведущий совместно с милицией профилактику детской преступности.
В самом деле, никто, наверное, так сильно не желает, как Савин, полного и скорейшего исчезновения этих проблем: в райкоме его не застать — он или в детской комнате, где часами расспрашивает и разглядывает «новобранцев», или в директорских кабинетах заводов, фабрик, мастерских, управлений, где тоже не за пять минут уговаривает взять на работу несовершеннолетнего бездельника, кратко поясняя его биографию («Оступился», «Надо верить», «А куда ему деваться?»). А если уговоры бесполезны («А у меня что — детская колония?», «А он мне — аварию; мне в тюрьму пока неохота», «Откровенно признаюсь — связываться не хочу»), едет в другое место — слава богу, в Майске есть куда ехать. Савин бывает также в квартирах, где живут родители, не желающие должным образом растить сына или дочь, в школах, где воспитательный процесс на недостаточно высоком уровне, в районо — с нижайшей просьбой пристроить в интернат детей, изъятых у отцов и матерей. Еще Савин участник всех облав по ночным подвалам, без промедления ввязывается в любую, самую ярую поножовщину, каждый год выколачивает где-то палатки, деньги и с кучей пятнадцатилетних оболтусов уезжает в тайгу, основывая там самоуправляющийся город, а Майск в это время отдыхает от различных происшествий.
В общем, Савин работает очень серьезно, и нельзя сказать, что пропадает среди безыменных подвижников. Нет, его отмечают и хвалят: в День милиции он всегда получает грамоту или подарок, обязательно ценный, на комсомольских конференциях его имя произносится только в сопровождении таких слов, как «самоотверженно», «не щадя сил», «заслуживает всяческого поощрения». Кроме того, Савина непременно ставят в пример — правда, неясно кому, то ли сидящим в зале, то ли его коллегам в других районах, то ли вообще всем гражданам, имеющим дело с детьми.
Лишь одна районная статистика со странным упрямством не признает савинских трудов: хулиганов не убывает.
«Тоже мне: „Я в больнице“. Целый штаб собрала. Помочь, перевоспитать, удержать. Как не надоест!» Серега раздражен материной затеей и сожалеет, что из дома нет другого выхода, а то бы он сейчас быстренько «перековался».
Из подъезда выдвигается масса Анны Прокофьевны, перемещается к скамейке и что-то говорит. Мать с несмелою надеждой улыбается, но тут же хмурится, оборачиваясь к дяде Грише. Тот сразу утихомиривает руки на коленях, смотрит в землю, переходя от запальчивости к раздумью, потом чешет затылок: «А черт его знает!»
«Понятно. Тетя Аня делает рекламу. С учебником, мол, такой серьезный, тихий. И видно, что пригорюнился». Серега уже знает, как встречать Гену Савина: мать растает после его рассказа. Снова «Алгебру» в руки и долго тяжело смотреть в угол — до слезной рези — и не вставать, когда Савин войдет, а так и сидеть — согнутым, несчастным, беззащитным.
— Здравствуй, Сергей. Я по пути, на минуту. Надо поговорить.
— Привет, Гена. — Ровный, слабый голос, влажные, грустные глаза.
Гена возвышается над Серегой, заложив руки в карманы пиджака. Несколько скошенный слева — из-за шрама на скуле — подбородок — твердый, гладкий булыжничек; волосы странного колера: от темно-серого, серебристого до густо-желтого на макушке; строго прозрачные глаза, разве чуть смягчаемые легкой зеленцой. Тени какого-то беспокойства и нетерпения беспрестанно возникают то над дрогнувшими бровями, то на сухих, тонких губах, то перекатываются вместе с желваками к ушам и тотчас же перескакивают на токающие виски — и странно: Гена стоит неподвижно, а представляется беспрерывно шагающим по комнате.
— Послушай, Сергей. Даром тебе, конечно, эта история не пройдет. Ты знаешь, о чем я. Колонии может не быть — это зависит от тебя. Я так говорю потому, что ты уже взрослый. Не четырнадцать лет. Если ты сейчас все поймешь, все еще можно поправить. Зачем тебе эта хреновина? Что, ты занятия не можешь придумать?
— Гена, мне самому плохо, что так вышло. Занесло, что ли? И ведь не пьяный я был.
— Знаю. Очень хорошо, что плохо. Если ты дашь мне слово, я поговорю с этим милиционером. Ничего не обещаю, но поговорить поговорю. Ты обещаешь, только твердо, завязать с ханыжеством?
— Гена, честно.
— Ну, все. По рукам. Я побежал. Да, вот еще что: я тут при детской комнате отряд создаю. Специального назначения. С разными шпендриками возиться. Людей делать буду. Дисциплина, форма, самбо, в любое время суток — тревога. Будет свой клуб, машину достанем. Интересно? Приходи. Придешь? Отлично! До свидания, Сергей!
Серега опять кидается к окну. Вот Савин подбегает к матери, склоняется над ней: она слушает и смеется, потому что наверняка он говорит серьезные и обнадеживающие слова, которым сразу веришь, веришь до такого вот освобождающего, снимающего боль смеха. Мать долго трясет Савину руку и, все еще посмеиваясь, идет к подъезду.
— Давно встал? — спрашивает она, поднявшись.
— Давно. — Серега по уши погружен в «Алгебру» и даже губами шевелит, чтобы лучше запомнить.
— Никто не мешал? — с удовольствием, строгим голосом хитрит Татьяна Васильевна.
— Перед тобой вот Генка Савин заскакивал. Приглашал там в какой-то отряд — он организует. — О дяде Грише и Анне Прокофьевне Серега молчит. — А так никто больше.
— Правда что! Навстречу ведь попался — склероз просто. Хороший он парень, этот Савин. Ты к нему сходи, сходи.
— Я и так пообещал.
— Проветриться не хочешь? Совсем забыла сахару да чаю купить. Слетай-ка быстренько, а то мне на работу скоро.
— Тогда я на велосипеде, чтоб скорей.
— Как хочешь.
В уши толкает теплый ветер, в кармане шелестит трешка. Серега мчится под беззвучный, дикий мотив, и в груди необычайно просторно от предчувствия недалекого леса, скорого свидания с Женечкой, а расплата затерялась — не видать — где-то в темноте, под горой дня…
Возмущенная пыль вскидывается в погоню, длинными, белыми, горячими языками норовит обвить седоков и сбросить, но на ровном пространстве перед падью быстро устает, угнетаемая солнцем и густой хвойной тяжестью воздуха. Серега и Женечка въезжают в Курмихину падь по желто-красной дороге, пробитой в аргиллитовой почве бесчисленными рыбацкими нашествиями. Въезжают в жаркую, зеленую, веселую пасть каменного зверя, распластавшего свое диабазовое сытое тело верст на семь в длину, предавшегося послеполуденной истоме, — на каменной морде ленивая сияющая жмурь — проблескивают слюдяные брызги, — и от сытости, дремы и благодушия высунут желто-красный извилистый язык — дорога.
По ней катят и катят Серега с Женечкой мимо темно-зеленых, с вызревающим ягодным румянцем, куртин боярышника, сумрачно-белой грядой ольшаника, редкого влажного проблеска волчьей ягоды, полян с анис-травой, багровых зарослей кровохлебки, катят и катят, не зная в точности куда — куда-нибудь в тридевятое царство, в свои далекие владения.
У Тушам-ключа они останавливаются. Под мерцающим мохнатым брюхом обвальной глыбы легко живет, однажды прорвав землю, черно-прозрачная холодная вода. Когда случается ей послужить прохожему, вода белеет, напрягается и, щекоча, облепляет щеки, нос, лоб, сначала не выказывая всего холода, а лишь, помедлив, морозит губы, в глубь десен пускает ломоту и через занемевшую гортань проталкивается к внутреннему жару.
Женечку смущает тишина и черно-зеленое явление ключа. Она отнимает у воды густо-темнеющий пыл лица, и на пухлых прелестных губах, на белом подбородке медленно угасает арбузная, пахучая, сахарная пена.
— Сережка, Сережка, — шепчет она, — хватит ехать, ладно?
Он, зажмурившись, оттопырив губы воронкой, пьет и пьет, наполняя тело серебряным гулом, а услышав Женечку, косит на нее фиолетово-синим глазом, как жеребенок на водопое на пастуха, но не отрывается, а прямо в воду выдыхает: «Ага-мба, угум!»
За недалеким островком черемушника светит, струит желтовато-зеленым паром теплый заливчик — поляна, в обилии вырастившая горчицу, а также безъягодную крупнолистную клубнику, сизый выводок полыни и мягкую, густую, необычайно зеленую лесную осоку.
И вот примят смородиновый куст, подле него соединены и оставлены велосипеды — его, синий с красными стрелками, с низко опущенным рулем «Турист», ее, никелированная, сверкающая, с глубоким треугольным вырезом «Омега», рука об руку, уста к устам стынут в припадке металлической нежности.
Женечка, нарядившаяся в прежнюю тельняшку и прежние брючки, стоит среди горчичных цветов, поглаживая и теребя их желтые волосы, и, чуть приклонив к плечу голову, с нерешительной, грустной улыбкой поглядывает на Серегу; он — в своих брезентовых джинсах и легкой выгоревшей голубой распашонке, на сильной, прямой, лоснящейся от загара шее косыночка, вся в пальмах и яхтах, руки на широком офицерском ремне.
Серега думает: «Вот подойду сейчас, обниму. Женька, ведь ты навовсе? Раз невеста — значит, никуда не денешься? Правда ведь? Слышишь, невеста, невеста…» Но не находит сил, чтобы преодолеть это пространство в пять шагов, эту преграду, созданную томящим жарко-душистым воздухом и нестерпимым, быстротекущим молчанием. Женечка про себя шепчет, приговаривает, испуганно и радостно: «Ну вот, ну вот. Просто ужас какой-то! Молчим и молчим. Сережка, Сережка, Сережка! Ой, как далеко-далеко мы!»
— Позагораем, что ли? — говорит наконец Серега.
— Ой, конечно, Сережка! Сейчас, знаешь, солнце очень хорошее. Очень мягкое такое.
Женечка с излишней поспешностью опрастывает сумку — из нее вылетают старенькое клетчатое одеяло, пакет с бутербродами, польский журнал «Экран», темные очки, пластмассовая нашлепка на нос.
Куда-то исчезает натуральная пляжная бесцеремонность при раздевании, а вместо нее неловкое старание не смотреть друг на друга, из которого ничегошеньки не выходит: невероятно бессовестны глаза, не желающие остановиться на каком-нибудь цветке или травинке, а с незнакомой доныне пристальностью, против хозяйской воли убегающие к белому следу на налитом янтарном плече, к влажной тени грудного желобка, к блестяще-коричневым, неизъяснимо волнующим припухлостям над коленями; к теплому, рыжему, мохнатому излучению на его ровной, широкой, вполне мужской груди, к маленькому, трогательному, ранее не замеченному шраму на твердом ореховом шаре бицепса.
При потворстве июльского солнца ослепительно и неповторимо то, что должно случиться…
Потом, после виноватых, чужих минут, они разговаривают.
— Сережка, а может, тебе правда куда-нибудь поступить? Хоть на вечерний. У меня отец там преподает.
— Это называется: заглянем в будущее, да? Обсудим и горячо помечтаем.
— Не надо, — просит Женечка.
— У-у! Женька! Я же совсем забыл: милиционер-то меня вчера разыскал.
Тихий, тонкий Женечкин вскрик:
— Ну и что он?
— Говорит, судить будут. Повестку, говорит, жди. Посадят, наверное. Сухари сушить буду. — Серега спокойнехонек, более того равнодушен; он улыбается собственным словам; так они неправдоподобны сейчас: что с ним случится?
— Сережка, как же так? Как же так, скажи?.. — Женечка плачет бесшумно и горько. — Мы-то как же, Сережка?
— Не хнычь, Женька. Перезимуем… Ну, Жень, Жень, не реви. Прошу.
Но слезы все обильнее и обильнее, она вздрагивает, уже не сдерживает сухих, коротких стонов. Серега хочет успокоить слезы, стереть их, гладит ладонями мокрые щеки, испуганно и быстро шепча:
— Женька, все, все! Ладно, Женька, я же здесь.
А она плачет и плачет. Он обнимает ее, и ее слезы горчат, горчат соленым жаром на его губах. Он крепко-крепко обнимает ее, и молчит, и гладит, гладит рыжий веселый Женечкин чубчик. Потихоньку она освобождается от слез, смешно, кулачками вытирая глаза, и, протяжно всхлипывая, вздыхает.
Серега встает, на щеках высыхают Женечкины слезы, и с какою-то острою, щемящей спазмой в груди оглядывается. Спазма эта оборачивается колкой, глухой болью. Серега не знает, что впервые получено предостережение от судьбы: «Подумай же обо мне, подумай!» Он не знает этого, но скорее возвращается к Женечке и прижимается к ней, чтобы возле ее тепла спастись от непонятных и таких неприятных ощущений.
Через некоторое время они забываются, и Серега говорит:
— Хорошо бы транзистор сюда, ага? Интересней бы стало, шумней.
— Да, — соглашается Женечка.
Испаряется день, отправляя все больше света к облакам, а на земле замещают его тени, сизые и прохладные, из которых впоследствии образуется вечер. На далекой зеленой поляне ждут его Женечка и Серега, ждут молча, обнявшись; и кажется им, что мир за Курмихиной падью отталкивает их с враждебной и холодной усмешкой. И теснее, теснее друг к другу. Ау-у!..
В городе же Татьяна Васильевна в совершенном смятении: в девятом часу воротясь с работы, она не застает Серегу и сейчас тяжело, мрачно ходит по коридору, иногда заглядывая в кухню и пытаясь чем-нибудь заняться, но все валится из рук. Она громко, с беспощадной силой кашляет — до слез, и крупное тело сотрясается от внутренних толчков, но папиросу Татьяна Васильевна все равно не бросает — вьется и вьется дымок, как над суточным дымокуром.
«Ах, дрянь паршивая! Только бы мучить мать. Опять закатился куда-нибудь куролесить. Господи, хоть уж свернул бы башку!.. Зря я, наверное, делегацию-то сегодня снаряжала. Мальчишка расстроился, перепугался, еще с собой бы чего не сделал. Ох, беда!» — мечется по коридору Татьяна Васильевна.
В десять появляется Толя.
— Татьяна Васильевна, не видели рюкзак? В пять утра — на трассу, недельки на две.
— Анатолий Тимофеевич, вы Сергея не встречали?
— Фью-ить! Опять смылся? Дела-а… Эх, Татьяна Васильевна! Чего вы с ним нянчитесь? Я бы кормить не стал за такие фортели — быстренько бы воспитал.
— Слова легко говорить, Анатолий Тимофеевич. Без куска хлеба и в тюрьме не живут — матушка бы ваша слыхала.
— А я дурака не валял — некогда было. Школа, институт, спорт. Теперь вот работа…
— Анатолий Тимофеевич… — Татьяна Васильевна, мгновенно раскрасневшись, что-то соображает. — Вы… не взяли бы его с собой? Пристроили бы в бригаду, а?
— В бригаду, в бригаду… Право, не знаю… И милицию куда денешь?
— Нет, вы возьмите, возьмите его, — голос у Татьяны Васильевны становится приторно-сладким, — пусть там с ребятами делом займется. А повестка будет, отзовем, Анатолий Тимофеевич. Вдруг он придется там. Может, ну… на поруки возьмут, не откажут.
Толя отводит глаза, а потом и сам отворачивается, долго колеблется и наконец нехотя говорит:
— Ладно, я возьму его, попробуем.
— Спасибо, большущее спасибо, Анатолий Тимофеевич!
— Только ради вас, Татьяна Васильевна.
Толя вскоре укладывается спать, а Татьяна Васильевна на табуреточке в кухне коротает время за табаком и чаем: все бледнее ее лицо, заметнее синь под глазами. Когда приходит Серега, Татьяна Васильевна дрожащим, измученным голосом говорит:
— Ешь здесь. В пять утра поедешь с Анатолием Тимофеевичем на трассу. Будешь работать там, а на суд приедешь.
— Хорошо, — растерянно и обрадованно отвечает Серега: никаких тебе объяснений и скандалов. А съездить можно, почему бы нет?
Володя
Вышла ссора, и Володя Зарукин очень мучился. «Теперь как же мы встретимся? — думал он. — Глаза в сторону и мимо? Боком, боком или все-таки поздороваемся? Ой, стыд, стыд, ужасный стыд!» Володя жмурился, краснел, отчаянно тряс головой, прогонял ораву быстрых, жарко дышавших видений, настигавших его чуть ли не каждую минуту после ссоры. Он прислонялся к оконному косяку, не раздвигая занавесок, подолгу ждал: Кеха жил по соседству и обязательно, хоть раз в день, появлялся под Володиным окном, направляясь в булочную, на почту или в зеленную лавку. Тогда Володя, стесняя дыхание, с силой прижимался к косяку — под щекой сразу же горячела известка — и смотрел, смотрел сквозь тюлевые прорези, как шел Кеха. Пригнув крупную чернокудрявую голову, упершись глазами в землю, Кеха неторопливо, даже лениво пришаркивал подошвами, — казалось, окружающее вовсе не занимает его, — но поравнявшись со знакомым окном, вскидывал голову и пристально, напряженно вглядывался — Володя бросался от окна в комнату: «Видел, видел! А я подсматриваю, за шторой — ужасно!»
И все же Володя снова ждал, верно, не у самого окна, Кехиного возвращения, тяготясь этими прятками и боясь отказаться от них. «Что он думает, что? — Володя тянул шею, взглядом провожая Кеху. — Вот удивятся все, когда узнают. Эх! Лучше бы уехать мне на все лето».
А лето начиналось славное. Каменная сопка весь май копила тепло, пряча его в трещины и расщелины, а в ночь перед рождением нового месяца, долго и трудно вздохнув, отдала накопленное промерзшим корням — заплескался наутро, завеял малиновый багуловый цвет. В другую ночь, уже при свете тоненького слабого месяца, на школьном дворе затеплились первые неяркие жарки.
Володя, увидев их, сказал:
— Теперь ничего не сделаешь, Кеха. Жара будет, надо к воде поближе. Ох, позубрим же, под солнышком-то, — и рассмеялся.
Но Володя ошибся: кто-то нечаянно перевернул в небе молоденькое коромыслице и хлынуло в город с окрестных гольцов холодное июньское ненастье.
Володя расстроился: «Тут учи как проклятый, да еще дождь. Тоска». На что Кеха рассудительно заметил: «Может, к лучшему. Хоть почитаем малость. А то бы прозагорали».
Дождь не подвел: с ледяным упрямством не отставал он от города, давая лишь короткие пасмурные передышки, и в самом деле усадил за книжки даже завзятых лодырей и двоечников, совершенно утомив их скукой.
Володя и Кеха готовились вместе. Володе быстро надоедало, он бросал книжки и подходил к окну, бездумно смотрел на серый, поникший день, со сладкими стонами позевывал и потягивался. Кеха же, старательно сгорбившись, оттопырив толстые губы, крохотными буковками заполнял длинные полоски бумаги — писал шпаргалки. К занятию этому относился он очень добросовестно — строчил и строчил, пока пот на бровях не выступал. Поскучав и решив поболтать — от молчанки язык прямо-таки чесался, — Володя спрашивал:
— Ну, зачем тебе они?
— Запоминаю лучше.
— Да скучно же — спины не разогнешь!
— Спокойней зато, ерзать не буду. Не мешай.
— О-хо-хо! — опять вздыхал и потягивался Володя.
С забытою силой и яркостью вспыхнуло солнце в день последнего урока, оно нагнало приятелей по пути в школу, обхватило, обняло, обдало веселым теплом. «Ну, надо же, а?! С ума сойти! Как по заказу — бывает же, а?» — и Володя помчался, на ходу слепив из случайной газеты черно-белый ком, швырнул его под ноги и погнал с дикими криками; Кеха, с редкой для него несдержанностью, стриганул за Володей, отобрал самодельный мяч, но удерживал недолго — так бегали они, играли, кричали, пока в клочки не изодрали газету и не упали во влажно-теплую, густую траву придорожного садика.
— Еще год, Вовка. — Кеха от удовольствия зажмурился и сморщил нос. — Еще год — и с приветом! Куда глаза глядят. В дворники пойду — никакой науки. Слышишь, ты! — Кеха повернул к Володе лицо, ставшее в скулах еще шире от улыбки. — Ученик последнего класса! Кого делать будем?
— Дак кого, — Володя засмеялся. — Историю будем заваливать. Второгодниками будем.
— Но! Скажешь тоже. — Кеха встал, привычно пригнул голову под грузом обильных, крупных кудрей. — Историю захочешь не завалишь. Сударь не даст. Сударь двоек не потерпит. Сам расскажет за тебя, а двойку не вынесет.
— Ладно, — Володя тоже встал, — Так тому и быть. Засекай время — последний год пошел.
Учителя истории Тимофея Фокича Кузина, сухого беленького, легонького старичка, прозвали Сударем — ко всем, от мала до велика, обращался он одинаково: «Что вы помните о Полтавской битве, сударь, сударыня?» Тонким, дребезжащим голоском говаривал он, открывая осенью курс отечественной истории: «Итак, милостивые государыни и государи. С моей помощью вы собираетесь познакомиться с прошлым нашего Отечества. Чтобы не омрачать этого знакомства, предостерегаю вас: история — особый предмет, и его нельзя выучить на тройку или пятерку. История есть чувство, страсть, сердечное волнение. Да, да! Чувство Родины врожденно, как любовь к матери. А какое чувство, спрошу я вас, и когда оценивалось по пятибалльной системе?»
Тем не менее отметки Тимофей Фокич ставил, но, верно, с какою-то капризной непоследовательностью. «Нет, сударь мой! Вы слишком хорошо запомнили учебник. Воображения нет, полета! Вы же не видите того, что говорите! Садитесь, посредственно», — и голосок его при этом чуть не рвался от обиды и возмущения. Или же, напротив, он размягчался, довольно, ласково оглаживал пальцем усы и, мечтательно прикрыв глаза, говорил: «Ничего, ничего, даты потерпят. Это же механическая память, не волнуйтесь, сударыня. Главное — почувствовать время, отдаленное, невозвратимое! Вы чувствуете, вы порадовали меня. Прошу садиться, отлично!»
Но странности эти проистекали вовсе не из старческой раздражительности Тимофея Фокича — его ревниво-страстное чувство к истории помогло ему и на склоне дней сохранить юношескую пылкость, благодаря которой и прослыл Тимофей Фокич невозможным, неисправимым чудаком. Если на уроках он еще несколько сдерживался в этом чувстве, то на собраниях краеведческого кружка или у витрин школьного краеведческого музея он прямо-таки притеснял их, слова не давал сказать, о времени забывал, мучаясь неутолимым желанием сообщить все, что он знает и думает. «Ах, если бы вы только представили, что таит в себе этот полуистлевший колчан! Когда-то на рассвете, в степи, кочевник, злой и беспощадный, вырвал из него стрелу. Она запела, засвистела в густом полынном воздухе и пробила грудь молодому, русому, румяному юноше!.. Простите, я отвлекусь… Мы, к глубокому сожалению, прямых предков своих знаем в лучшем случае до третьего колена, а для большинства эта связь времен кончается на деде… Поэтому легко представить, и я, например, только так и представляю: та давняя, беспощадная стрела пробила грудь моего, именно моего предка… А может быть, вашего… Нет, вы представьте, и как оживет эта боль!..»
Тимофей Фокич разгорался, нервной пятерней ерошил волосы, сбивая ровную строчку пробора, и долго не угасал.
Иногда во внеурочное время он выпивал, но не чрезмерно, а до легкой испарины на седеньких усах, до яблочного, свежего румянца на маленьких щечках. Он отыскивал тогда в своем дворе компанию молодых людей и, обмахиваясь шляпой, тонким голоском требовательно спрашивал:
— А знаете ли, судари вы мои, что такое честь? Что такое благородство? Клянусь, не знаете! Честь — это защита своего имени, это дуэль за первый косой взгляд на вас или на вашу подругу! Благородство — это умение не помнить себя ради другого. Не пресмыкаться, не угодничать, да-с!
К изречениям Тимофея Фокича вскоре привыкли, и в известный день, когда он входил во двор и обмахивался шляпой, ему уже кричали:
— Знаем, Тимофей Фокич, знаем. Мы за дуэль, — и молодые люди принимались бороться, боксировать, задыхаясь от смеха. — Сударь, я требую удовлетворения!
Тимофей Фокич качал головой и с горечью говорил себе:
— Да! Самые святые слова кажутся смешными, — потом поднимался на пятый этаж в свою одинокую комнату.
На урок к нему и торопились Володя с Кехой. Уроком этим завершался годовой, утомительно-долгий переход — по остальным предметам девятый «б» был аттестован. «Что сегодня Сударь учудит? — гадал девятый „б“. — Неужели спрашивать будет? Неужели не помилует?!»
Через открытые окна затопила классную комнату праздничная, солнечная прохлада, сквозь нее пробивался, струился горьковато-сладкий синий дымок — запах высыхающей травы и молодой березовой листвы: настаивалась на этой прохладе, на этом дымке надежда, что Тимофей Фокич помилует, даст волю, отпустит на все четыре стороны, и в какую ни пойдешь — везде каникулы!
Вошел Тимофей Фокич. Свежеподстриженные и подбритые усы, светленькая, из льняной холстины блуза, перехваченная черным витым шнурочком, улыбчивые морщины у глаз, — несомненно, он находился в превосходном, тоже праздничном расположении духа.
— А что, милостивые государыни и государи, кто-нибудь заметил нынче, как всходило солнце?
Девятый «б» гулко, облегченно вздохнул: наверняка спрашивать не будет!
А Тимофей Фокич, весело потирая руки, говорил:
— Солнце, друзья мои, всходило замечательно! В гольцах дождевой туман, и оно, красное, прыткое, веселое, прямо-таки выпрыгнуло из тумана, только белая пена с боков летела! А что это значит? Это значит — будет вёдро, и не на день-два, а надолго. Итак, поздравляю вас с летом, и позвольте сделать одно заманчивое предложение… Что?! Я вижу недоуменные взгляды — вы хотите поделиться своими знаниями? Нет? Странно. Ах, да, да! «Сударь не выдаст. Сударь двоек не потерпит» — так, по-моему, вы обо мне, грешном, судите. — И Тимофей Фокич рассмеялся тоненько, звонко, весело — голубенькие глаза сощурились, увлажнились от удовольствия: «Вот как я вас! Все вижу, все слышу — каково вам теперь? Прозвища-то за спиной давать?»
Володя покосился направо: как там Настя? Она сидела на соседней парте и обычно, когда Володя вот так косился на нее, забавно морщила нос или быстро, не отрывая глаз от тетради, показывала язык, и тогда Володя пропадал за такой длительной и широкой улыбкой, что обязательно получал замечание: «Чему это вы радуетесь, Зарукин? Расскажите нам». Но сегодня Настя и не подумала шутить, а, напротив, нахмурилась, окаменела, с необычной серьезностью внимая Тимофею Фокичу.
— Эх, сударыни! И вы, судари! Вы бы так о знаниях заботились, как об оценках. Что вы этих цифр боитесь? Не волнуйтесь. Посредственно я могу поставить даже самым нерадивым — что-то и они знают — так, по-моему, гласит старинный анекдот. Сегодня такое утро, такое солнце, и я хотел изложить вам замечательную программу летней деятельности. Я и мои коллеги по краеведческому кружку задумали следующие походы к стоянке древнего человека, открытой под Шадринском прошлым летом, в Ушканьи пещеры, где сохранились наскальные рисунки, в семейскую деревню, к старообрядцам, — оттуда, говорят, можно привезти бездну старинных предметов музейной ценности. Да. А вас занимает табель… — Тимофей Фокич помрачнел, словно и не смеялся недавно, отошел к окну и, повернувшись спиной к классу, облокотился на подоконник.
«Будто не видит, не замечает даже, — думал Володя о Насте. — Ведь пустяки сущие, а вот и не помню. Во всяком случае, хочу помириться». И оттого, что Настя рядом и по-прежнему задиристы, веселы ее крохотные косички-загогулинки с огромными белыми бантами на концах, а лицо — чужое, нахмуренное, не для него, Володе стало нехорошо и грустно.
Вчера они повздорили. Он часа два слонялся под ее окнами, насвистывал, напевал, бросал камушки и никак не мог уйти, надеясь, что Настя вот-вот выскочит на крыльцо, обрадуется ему, удивится — они же не договаривались о встрече, а он пришел, не выдержал, ему надо видеть ее, слышать, и вообще, без нее плохо и пусто.
На крыльцо она вышла и сказала злым, громким шепотом:
— Ну что ты ходишь?! Ведь договорились же, что завтра. Меня отец уже послал: иди, говорит, пока кавалер стекла не выбил. Как тебе не стыдно?!
— Но я же соскучился, Настя!
— А я нет! И не мешай мне! Я занижаюсь!
— Я думал, ты обрадуешься…
— Ужасно! Весь день ждала!
— Как ты можешь так?! Настя, я без тебя…
— Все ясно. До завтра.
— Хорошо. — Голос у Володи задрожал. — Будь здорова. Учи, учи, никогда больше не приду! — И он убежал, а сегодня вот очень сожалел о своем крике, а более всего о том, что не хватило характера и потянуло под Настины окна.
Тимофей Фокич вернулся к столу.
— Впрочем, долой упреки. Сегодня день не для упреков, я совершенно забыл. Вас ждут беззаботные, славные дни, боже, я вспоминаю, как они были хороши! Да… Так я вам говорил о походах по родному краю. Милости прошу желающих записываться у старосты краеведческого кружка. А завтра я приглашаю совершить небольшое путешествие, о котором я много говорил и которое будет лучшим открытием краеведческого сезона. Мы пойдем в Юрьево, вернее, по направлению к нему. Мы пойдем к партизанским могилам. Подновим ограду, покрасим памятник, заменим дерн…
— А на оценки это повлияет? — изменив голос, басовито прогудел кто-то с задних парт.
Тимофей Фокич грустно улыбнулся:
— Господи, какие же вы все-таки смешные, простите меня. Нет, не повлияет. Тем более что весь класс я не приглашаю — было бы слишком шумно. Достаточно нескольких желающих. Итак, прошу поднять руки.
Первым вызвался Коля Сафьянников, староста краеведческого кружка, затем его закадычный друг Валера Медведев, и вдруг Володя увидел, что руку подняла Настя. Он, не задумываясь, вскинул свою и тотчас же толкнул в бок Кеху. Тот потряс черными кудрями, выплывая из своего обычного рассеянно-задумчивого состояния, глянул на Володю и тоже поднял руку.
— Вот и довольно, вот и прекрасно, — сказал Тимофей Фокич. — Завтра в семь ноль-ноль собираемся у школы. И помните золотое правило: идешь на день, хлеба бери на три… Засим желаю приятных каникул, надеюсь, многие из вас еще станут моими спутниками. До свидания.
Кеха спросил:
— Ты, конечно, Настю подождешь?
— Да.
— Тогда до завтра.
— Смотри не проспи.
Он подождал Настю на школьном крыльце, но она, не замедлив шага, не взглянув на него, прошла мимо.
— Настя! Я глуп, влюблен и очень хочу помириться.
— Отстань!
— Помиримся и отстану. Ей-богу, сквозь землю провалюсь, сгину, пропаду.
— Ты же подходить даже не собирался.
— Ошибка, расшатанные нервы, не обращай внимания.
— И оставь этот тон. Шути с кем хочешь, только не со мной. И не подходи, не иди за мной — надоело!
— Пожалуйста!
Володя обиженно дернул плечами, спрятал руки в карманы, и они пошли по разные стороны невидимого, глухого забора. Верно, обижался Володя недолго, ощутив вскоре виноватое беспокойство, которым всегда горчило его чувство к Насте. «Вот ведь какая! Только о себе думает! А я вроде так, сбоку припека. Могла бы догадаться: из-за нее все нервы!»
Володя никогда не знал, как исправить Настино настроение, как показать, что он разделяет даже самое пустяковое ее горе, как напомнить ей и не рассердить, что вот он же рядом и все одинаково чувствует и что неужели Насте не нужно его участие, — он терялся в странном беспокойстве и нетерпеливом желании развлечь Настю, из которого выходили одни неловкости и глупости.
Он, к примеру, прятался за углом дома и, дождавшись Настю, выскакивал с криком: «Девушка! Несчастье! Там! Там! С сердцем!» Или, пятясь перед Настей, испуганно таращил глаза: «Убьюсь же, убьюсь! Лучше улыбнись, а то так и буду задом наперед ходить», — и нарочно падал, в последнюю секунду успевая выставить ладони. Настя только подергивала головой, отгоняя, не принимая эти шуточки, и кривила полные губы, потемневшие от капризного напряжения.
Влажное пламя лизало щеки, Володя краснел, совестясь своего кривлянья, и вновь, ссутулившись, сунув руки в карманы, плелся рядом, угадывая, когда же Настя отойдет, и освободятся, запрыгают в черно-синих зрачках веселые ртутные столбики, и он сможет с облегчением сказать: «Ну, привет. Температура нормальная?»
После серого и теплого вечера в марте, когда Володя собрал наконец силы и объяснился, ему все казалось, что он должен неустанно сохранять тот пылкий самоотверженный, душевный настрой, с которым только и можно служить чувству.
Каждую внеурочную минуту Володя проводил возле Насти. Он занимал своим молчаливым присутствием все Настины перемены, провожал ее до дому, бросил завтракать, чтобы чаще приглашать в кино, перестал заниматься, чтобы дежурить напротив ее окон и чтобы со смешною, горячечною серьезностью спрашивать себя перед сном: «Что, что я еще могу для нее сделать? Неужели нечего больше? Нечего, нечего… Есть! Буду пораньше вставать и встречать перед школой».
Насте его настойчивое чувство временами надоедало, она зло капризничала, говорила ему: «Не приставай, устала, девчонок стыдно», — обманывала, что болеет, а сама убегала в кино или на танцы, выходила из дома по черной лестнице — Володя, узнав об этом, плохо спал, принимался сочинять прощальные письма, подолгу сиживал у зеркала, стараясь заметить, как неумолимо сушит и уничтожает его горе — вволю помаявшись, он кричал, конечно, молча, чтобы не разбудить мать: «Как она смеет! Ведь я все, все для нее! Уже пять двоек схватил, живу впроголодь, Кешке трешку задолжал!» — а утром тихо, неуверенно подходил к Насте:
— Я измучился, доброе утро, Настя. Как хочешь, а еле дождался тебя. Учти, написал министру просвещения: в городе Майске, мол, есть одна ученица — с ума сойти! — вот и спрашиваю, что теперь мне, идиоту, делать?
Настя смеялась:
— Вовка, дурачок, давай мизинец, будем мириться, — и сизые ртутные блики прыгали в ее зрачках — от их веселого, живого блеска возникала и в Володе беспричинная бурная веселость.
Вновь затягивала их дни этакая счастливая, легкая дымка — вдвоем, везде вдвоем, ранняя весна, просторно, солнечно и с теплой силой дрожал воздух. Выскальзывала ладонь из ладони, неловко, робко сближались лица, тревожно бился комочек на ее горле, встречались твердые, сухие губы: «Ох, Вовка, что мы делаем!»
И разговоры, разговоры с тою безоглядной доверительностью, с какою говорится только в эту пору жизни. О школе ни слова, школа — детство, поучения, зависимость от родительского кармана, — нет, нет, надо вспомнить пережитое и с воодушевлением рассказать его единственному понимающему тебя человеку; верно, пережитое — тоже детство, но не в том жалком смысле: «Вот я был маленьким», а в значительном, суровом, страдательном: «Знаешь, как мне доставалось, а знаешь, как я переживала — мама думала, что я заболею» — и так интересно, так неизъяснимо хорошо понимать друг друга, что пощипывало, покалывало участливым жаром щеки и виски. Володя говорил: «Отца я не помню, совсем не помню. Смотрю на его фотографию и не могу представить живого человека. Как он смеялся? Как говорил? Какие жесты были характерными?» Настя поглаживала его руку, и черно-синие зрачки тускнели: «Вовочка, мне тебя очень, очень жалко!» У него затруднялось дыхание, счастливым ознобом отдавалось ее участие — никого, никого ближе Насти в эту минуту.
Но через мгновение влага испарялась из Настиных глаз, и она уже могла настойчиво-весело звать: «Быстрее, Вовка! Бежим! Ну, пожалуйста! Говорят, в „Гиганте“ фильм — во!» Резкая забывчивость больно задевала Володю: «Разве так можно? Жестоко же — раз-два — и столбики в глазах заплясали!» Больше всего он хотел, чтобы Настя надолго запечалилась над его судьбой, и тогда не отдалялось бы, не ускользало это хрупкое, редко возникающее единство. Он вяло, обиженно соглашался, нарочно молчал весь вечер — Настя не замечала его дурного настроения, хохотала, болтала, часто спрашивала: «Забавно ведь, правда? Нет, подумай — ужасно забавно!» И постепенно в Володе высвобождалось, верно, неприятное ему сознание излишней своей чувствительности, жалостливости: «Есть во мне нудность, есть. Чего обижаюсь. Порчу ей вечер, елки-палки». Он оживлялся, стараясь загладить недавнюю мрачность, тоже принимался хохотать и болтать, но получалось неискренне и неловко.
Впрочем, еще в тот мартовский вечер, когда Володя объяснился, он уже понял, что будет зависимым в этом чувстве, будет первым покоряться, соглашаться, ждать. Он долго и трудно собирался с объяснением — все мечтал сказать его в каком-то необыкновенном месте и необыкновенными словами — вышло по дороге из школы, вернее, не вышло, а вырвалось, иначе, наверное, не решился бы.
Настя убегала от него, скользила, разбрызгивала мокрый снег, запаленно, отрывисто смеялась — смех, взлетая, как бы приподнимал низкие, теплые сумерки. Володя догнал ее, схватил за руку, Настя вырвалась, обернулась: смугло-румяные щеки, глубокий, таинственно-веселый блеск глаз, полураскрытые тугие губы:
— Вовка, пусти! И снова догоняй.
Он, тяжело дыша, оглохнув от шума возбужденной крови, сказал:
— Подожди, Настя… Я тебя люблю…
Рука ее затихла. Настя зажмурилась, откинула лицо и — то ли не справившись с волнением бега и игры, то ли от неожиданных слов — прерывисто выдохнула:
— Ладно, Вовка. Потом.
Она взяла его под руку и, пока шла молча, все взглядывала на него — быстро, с любопытством, и вилась вокруг полных губ, не присаживалась, странная, легкая улыбочка. Почувствовав, что Володя хочет заговорить, она, торопясь, выдернула руку и обогнала его.
— Вовка, Вовка, мы же не доиграли. Бежим! Ну! Пожалуйста, прошу. — И он, оскорбленный, растерянный: «Как она может?! Я же серьезно», — все-таки побежал, думая, что так ему и надо: «Беги, беги, язык высуни, как собачонка, и потом никуда не денешься, побежишь, объяснился, называется!» — но, потихоньку подчиняясь бегу, Володя вскоре ровно и глубоко задышал…
Далеко-далеко тогда было и до ссоры с Кехой, и до теперешней душевной стесненности — тогда занимали и мучили Володю Настины капризы, поглощало безмятежное течение чувства — сейчас бы, сейчас переживать ему какую-нибудь Настину выходку, страдать бы из-за какого-нибудь милого, невинного вздора — легко, просто, весело — как он тогда этого не понимал?!
Напротив, он мучился, места не находил, когда с Насти сталось прогнать его из-под окон, и даже злился, что она не бережет чувства, тяготится им, и, испугавшись этой злости, он спрашивал тогда виновато, осторожно:
— Может, все, а Настя?
Она не отвечала, выпятив нижнюю губу, обдувала горевшие щеки.
— Давай по мизинцам ударим, Настя? И веселись — не ленись. Давай уж?
Наконец она отошла, улыбнулась:
— Думаешь, почему я руку подняла?
— В поход захотелось.
— Да, но я еще знала, что и ты обязательно поднимешь. Вот!
Володя рассмеялся, и Настя тоже.
А после примирения были глухие тропки в городском саду, влажно-зеленые своды над ними, нечаянный дождь с боярки, крупные, теплые капли на белом фартучке, на белых бантах, на пылающих золотистых щеках — куда же он делся, тот вечер, куда делось то сладкое головокружение, когда Настя коротко, быстро поцеловала его и сказала: «Всегда бы так было», — а он ответил: «Так и будет», — вовсе не зная, что так счастливо начавшиеся каникулы уже покатились, полетели навстречу тихому, августовскому дню, где ждала его, караулила ужасная ссора.
Утром на дворе парил теплый реденький туман. Низкое, но уже яркое солнце превратило его курящиеся космы в причудливые, розовато-золотистые ветви.
Володя сидел на лавке возле дома, ждал Кеху и тоже парил в этом теплом тихом утре; если бы настроение определялось тем или иным цветом, то, несомненно, у Володи оно оказалось бы розовато-золотистым, согласным со скользящими красками тумана. Предстоял долгий солнечный день, рядом с Настей, и через весь день пролегала лесная дорога под смолисто-жаркой тенью сосен. «Какой же молодец все-таки, Сударь! — чуть ли не вслух воскликнул Володя. — Придумал этот поход. И не когда-нибудь, а именно сегодня!»
Он удивился, увидев пасмурное, тяжелое лицо Кехи — неужели в такие минуты можно хмуриться?
— С тобой что?
— Сплю еще. Привет.
— Привет. Головой потряси — вся смурь вылетит.
— Обойдусь.
Володя не поверил Кехе: спросонья у человека не бывает таких ясных и строгих глаз — обычно темно-медовые, сейчас они пожелтели, погорячели. «Что-то он скрывает и волнуется», — подумал Володя, но допытываться не стал, не желая расставаться со своими золотисто-розовыми видениями.
Они недалеко ушли от дома, когда Кеха сказал:
— Я, Вовка, не пойду с вами.
— Вот так раз! Не выдумывай! — Володя говорил беспечно, звонко, а про себя между тем испугался: «Сейчас все рухнет! И утро, и день, и вообще…» — Потом доспишь! Ты чего, Кеха?
— Да брось ты! Доспишь! Понимаешь, я вечером отцу сказал, что мы идем в поход, под Юрьево, к партизанским могилам, а он вдруг занервничал, закурил, хотя курить год как бросил. Я спросил, конечно: «Батя, в чем дело?» Он говорит: «Дед твой где-то в тех местах похоронен». Я опять спросил, ну и что? Он долго не отвечал, ходил, ходил, другую папироску достал. «Его, — говорит, — Кешка, партизаны убили. Он же белый был. Белый офицер». Теперь понимаешь, Вовка! Теперь как мне идти?
Кеха остановился, из-под нависших перепутанных кудрей снова глянул на Володю строгими, погорячевшими глазами.
— Как? Очень просто. Пешком. — Володя улыбнулся: он-то думал, бог знает что случилось. — Это же давным-давно было, Кеха! Прости, я даже не понимаю, что тебя смущает.
— Ты, милый мой, не улыбайся! Ты подумай: мой дед — белогвардеец, а я к партизанским могилам иду. Тебе не кажется все это странным? Очень странным?!
— Да ты-то здесь при чем?! — Володя почувствовал раздражение: «Охота выламываться, тоже мне — голос крови». — Ах, какой несчастный! Трагедия: внук — комсомолец, дед — белый офицер! Будто ты этого раньше не знал. Сегодня спохватился: дай-ка попереживаю!
Кеха, сдерживаясь, пожевал, поморщил толстые темные губы:
— Я здесь при том, что он мой дед. Я не несчастный, я вдруг подумал, что мне интересно про него знать. Понял? Какой он был, почему белый, почему отец про него молчал. Представь, не знал, представь, впервые услышал! Сударь прав был — дальше третьего колена мы не заглядываем. Я, например, и до второго-то только вчера добрался. Был дед и был. Какой, откуда, что делал — и думать не думал! Вот и спохватился. А ты тут мелешь.
— Надо же! Какой поворот в судьбе! Дед нашелся, белогвардеец — у нас голова кругом! Брось ты придуривать, Кеха! Не знал ты его, не слышал о нем — и ладно. Как Сударь говорит, история распорядилась. Тебе просто покрасоваться захотелось: вот какая сложная биография!
— Я ведь и въехать могу.
— За что! — задохнулся Володя.
— За покрасоваться. Думаем мало, ничего не знаем, а ты — покрасоваться.
— Давай попробуй въедь! — у Володи слеза в голос ударила — до того он обиделся и разозлился.
— Успею. Надо будет — въеду.
Они подошли к школе. На широком цементном крыльце стояли рюкзаки, на одном из них сидела Настя. Белый платок туго очерчивал ее смуглые нежные щеки. В Володе возникло обычное восторженное удивление: «Она даже не знает, что она для меня! Никогда, никак не сумею передать этого — ну, почему, почему слов-то не хватает!» Настя улыбнулась ему — тихо, сладко сжалось Володино сердце, но тотчас же выровнялось, потрезвело — это Володя подумал, что из-за Кехиного признания теперь надо разрываться между ним и Настей: «Уж лучше бы не ходил он». И Володина досада на Кеху стала разрастаться быстрее прежнего.
Тимофей Фокич, в походном, замызганном пиджачке, в сапогах, в старенькой пикейной панаме, застучал, увидев их, палкой:
— Долго спите, господа хорошие! Я уже волнуюсь — ждать не ждать. Нехорошо, очень нехорошо!
— Извините, — буркнул Кеха, а Володя сказал:
— Зря волновались, Тимофей Фокич. Вон Валера с Колей тоже еще не готовы.
Валера Медведев, зажав в коленях лопату, ширкал по штыку напильником. Он поднял круглое, покрасневшее от стараний лицо и подмигнул Володе. А Коля Сафьянников, тяжелый, большой, медлительный, сопел, укрывая, увязывая ведерко с краской.
Неожиданно засмеялась Настя:
— Господи, Кешка! Ты в зеркало смотрелся? Ты ужасно смешной — сонный, сердитый, губы надул! Тебя что, пчелы во сне кусали? Ой, ой, не смотри так зверски!
Володя, надеясь, что Кеха одумался, поддержал Настин смех:
— Какие пчелы! Он надулся — сны за щеками несет. По дороге досмотрит, дожует…
Кеха молча взошел на крыльцо, встал рядом с Тимофеем Фокичем:
— Я не пойду с вами, Тимофей Фокич. Вчера я узнал, что мой дед — белогвардеец и убит под Юрьевом.
Настя, сидевшая за спиной Кехи, вскочила, споткнулась, сбегая по ступенькам, но не упала, удержалась. Со смешною неловкостью выправилась, повернулась к Кехе, чтобы лучше видеть его и слышать. Он добавил:
— Вот такая странная шутка. Сами видите.
Недоуменно приподнялись широкие шелковисто-угольные брови Коли Сафьянникова, губы выпятились этакой иронической гузкой: видимо, Коля подумал точно так же, как недавно Володя: «Надо ему трагедию представлять? Тоже мне — голос крови!» Валера Медведев, храня верность дружбе и в мелочах, тоже приподнял на Колин манер брови, светленькие, жиденькие, голубые глазки смешно вытаращились, отчего младенчески-румяное лицо Валеры враз поглупело. А Тимофей Фокич заволновался: снял панаму, обмахнулся ею и, забыв надеть, нацепил на палку, освободившуюся же руку прижал к сердцу:
— Вам невозможно не пойти, Иннокентий! — От волнения Тимофей Фокич не употребил излюбленного «сударя». — Не-воз-мож-но! Понимаете ли вы, какой важный сегодня выпал день?
— Нет, — сказал Кеха.
— Смею уверить: еще никогда история не задевала вас так остро и больно. Так разве можно теперь отстраняться, бежать ее власти?! Ради этого, сударь, стоит идти хоть на край света.
— Но, Тимофей Фокич, — Кеха отвел кудри со лба, с силой потер его, — я буду думать о белогвардейце, а сам пойду к партизанским могилам — странно же… А я буду думать.
Володя не вытерпел, возмутился:
— Да хватит тебе! Думай, сколько влезет! На здоровье! Хватит голову-то морочить, страдальца из себя строить!
Кеха сжал кулаки, дрогнул уже, качнулся, собираясь броситься на Володю, но Тимофей Фокич остановил легкой маленькой ладонью:
— Не горячитесь, милостивые государи. Прошу вас, Иннокентий, обязательно пойдем. Надеюсь, он решит именно так. — Тимофей Фокич повернулся к Володе и сухо, холодно заметил: — А вы напрасно не верите этому чувству. Оно заслуживает большей серьезности и большего воображения.
Володя раздраженно пожал плечами:
— Может быть. Только зачем его напоказ-то выставлять?
— Кто бы говорил! — Кеха намеревался что-то припомнить Володе, чем-то уличить его, но, не дав воли всплывшим запальчивым словам, замолчал. Потом сказал: — Хорошо. Я пойду, Тимофей Фокич.
Володя зло, возбужденно улыбнулся, найдя Настины глаза, и развел руками: «Вот, пожалуйста, целый спектакль!» — надеясь на ее сочувствие. Она, видимо, не поняла его улыбки, отвела глаза и заторопила:
— Ну, давайте же пойдем! Собираемся, собираемся!
Вскоре они шли влажным песчаным проселком, мимо загородных садовых товариществ, охваченных пышным яблоневым цветом. Сквозь редкую вязку плетней скользила темно-росистая утренняя зелень и наносила на путников дразнящую прохладу молодого укропа и огуречной рассады. Толстые межевые колья сияли золотыми консервными головами, радостно пока, неутомительно напоминая о предстоящей жаре. И прохлада молодой зелени, и резкие, слепящие вспышки солнца раздражали Володю своею безучастностью к его настроению: «Напрасно, совсем напрасно разозлился я на Кеху. Так хорошо кругом, а мне мешает что-то. Да не что-то, а весь этот дурацкий разговор! Сударю, конечно, одно подавай: историю, историю. И жареную и пареную. А как охота только про утро думать!»
Чтобы успокоить смущенную душу, очистить ее для этого утра, Володя спросил у Насти:
— Ну скажи, прав ведь я был? Ведь нельзя же так, как он?
— Наверное, — Настя ответила нехотя, с тусклыми, скучными глазами, но вдруг оживилась, прыгнули в глазах ртутные блики. — Ой, Вовочка, что я подумала-а! Тебе же просто завидно, что у Кешки все так интересно вышло. Сознайся уж, пожалуйста!
— Не выдумывай. Я же серьезно, Настя. Мне, правда, неприятно, что Кеха затеял все это.
— А если он серьезно? Если он на самом деле переживает?
— Ну уж. Скажешь. Столько времени прошло. Конечно, покрасоваться ему захотелось.
Настя рассмеялась:
— Вот как у тебя славно выходит. Что ты говоришь, то серьезно, что другой — покрасоваться. Ясно, Вовочка, ясно. Завидуешь Кешкиной истории — вот тебе бы такую. Ты бы бурю устроил, землетрясение, во всяком случае передо мной. Молчи, губы не дуй — все я про тебя знаю.
— Да ничего подобного, — дрожаще-спокойным голосом протянул Володя, но не нашелся, что возразить.
В сущности, Настя права. На Кехином месте он наверняка бы усердствовал в публичном изъявлении чувства. Он знал за собой эту слабость: слезу пустить принародно. Очень все-таки приятно, когда тебя жалеют и единодушно сочувствуют твоей тяжелой жизни. Правда, потом стыдно, противно, и этот сладкий миг всеобщего сочувствия потом режет тебя, полосует на куски, но проходит время, и опять подмывает сказать на каком-нибудь уроке, конечно, не приготовившись к нему: «Вы знаете, не успел выучить, по дому работы много, мы же вдвоем с матерью, отца нет».
Настя права, права: ему охота быть на Кехином месте и с романтической мрачностью недоумевать над своею странной судьбой. Но он не завидует ему, он просто сторонним умом понимает: сдержанность, сдержанность прежде всего! А Настя с какою-то взрослою жестокостью высмеивает его, унижает, и, наверное, надо обязательно обидеться. Но если обидеться, день вообще пропал, зачем тогда вставал в такую рань?
Володя попробовал улыбнуться — улыбка вышла деланной, деревянной. Настя опять рассмеялась, поняв по его лицу, как он мучительно проглатывает ее резкость и соглашается с нею. Она взяла Володю за руку:
— Вовочка, не поддавайся. Не обращай внимания. Я наговорю, наговорю — ужас сколько! Сама потом не разберусь… Бежим, наших догоним. Смотри, как отстали. Действительно, Тимофей Фокич и мальчики были уже далеко, хотя и шли вроде бы неторопливо, особенно если смотреть на Колю Сафьянникова: шаг тяжелый, широкий и валкий, а, оказывается, спорый. Через плечо он покосился на запыхавшихся Настю и Володю — резко мелькнула сердитая, угольно-вороная бровь. Видимо, был интересный разговор, некстати прерванный шумным дыханием бежавших. Коля говорил Кехе:
— Так, выходит, ты из уважения к памяти деда отказывался идти? Так, что ли?
Валера Медведев, всегда и во всем безоговорочно поддерживающий друга, задал этот же вопрос молча: презрительно прищурил синенькие глаза, презрительно поджал губы.
Кеха рассердился и потому, медленно выговаривая слова, ответил:
— Странный вопрос. Я не знал этого человека, а теперь хочу знать. И хочу над этим подумать.
Коля Сафьянников приостановился:
— Так о чем думать? Ты ненавидеть его должен!
Валера Медведев тоже замедлил шаг.
— Наверное, должен. Но ты пойми: я его не знаю, отец не вспоминал, и я о нем не думал. И по-моему, можно ненавидеть только живого человека, которого знаешь.
— То есть как только живого? То есть как наверное? Он же белый! Не важно: дед, брат, сват — ты должен его ненавидеть! Не так, что ли?
В Колин гудящий басок врезался тоненький голос Тимофея Фокича:
— Прямолинейно, весьма прямолинейно рассуждаете, сударь мой! Вы что же думаете, ненависть — врожденное чувство? Нет и нет. К ней идут через кровь или же через мучительные раздумья! Иннокентий прав: надо не слепо ненавидеть, а как следует подумав.
— Мало, что ли, отцы наши, деды думали? — еще более сгустив голос, возразил Коля. — Их ненависть — наша ненависть.
— Милостивый государь! То, что вы сейчас сказали, называется демагогией. Отцы и деды выстрадали ненависть — вы-стра-да-ли! — понимаете? А поскольку на вашу долю страданий они не оставили, то вы должны выносить ненависть — вы-но-сить! Вот здесь! — Тимофей Фокич постучал пальцем по лбу. — И ничего другого вам не остается!
— Позвольте, Тимофей Фокич, я объясню, — Кеха уже с минуту нетерпеливо подергивал плечом, поправлял лямки рюкзака, едва удерживаясь, чтобы не перебить Тимофея Фокича. — Конечно, я жалею, что он белый. Он ошибся — теперь это всем ясно. Так вот я хочу знать, почему он, именно он ошибся? Не вообще про ход истории, а про него. Можешь ты это понять?
— Могу, отчего же нет… Но вот что интересно: ты знаешь, что он ошибся, и знаешь, что он, значит, наш враг. Что сделало его врагом, какие причины — это неважно. А важно только, вот твой враг и вот твоя ненависть. Иначе не может быть. И рассуждать тут особенно не о чем. — Коля прибавил шагу, то ли не желая больше спорить, то ли давая понять, что не торопит с возражениями. Валера Медведев, не вникавший в разговор и погруженный в рассеянно-прогулочное состояние духа, встрепенулся и тотчас же догнал его.
Володя подумал: «Молодец, Сафьян. Четко мыслит. Не то что я. У Кехи, наверное, сразу охота пропала в несчастного внука играть. Да уж, Сафьян молчит-молчит, но и врежет так врежет. Молодец!» — еще раз похвалил он Колю. Как-то незаметно выправилось, полегчало настроение, утро продолжало свое ласковое и ясное движение — теперь Володя почувствовал его без всяких помех и потихоньку стал напевать:
«Ой, да ты, тайга моя густая…»Настя удивленно взглянула на него, он подмигнул ей и засмеялся:
— Все хорошо, как никогда!
— Что это ты развеселился?
— Характер идиотский. А хочешь знать, так я всегда веселый, только скрываю это.
— Вот и у тебя душевная сложность. А ты расстраивался.
— Ничего не расстраивался. Да Коля вдобавок порадовал: хорошо разговаривал.
— Ну-у, это же Коля. Он — человек прямой. Спросит — и ответить нечего. Без сложности спрашивает, а отвечать просто трудно.
— Не скажи…
Кто-кто, а Коля был большим любителем, по его словам, «мыслительных каверз», и любительство свое питал тщательно и обильно: прочитанное подолгу настаивал на молчании, может быть, несколько подчеркнутом — уединялся на переменах, не подпускал к себе даже Валеру Медведева, закрывался в краеведческом кабинете и часами сидел, уставившись в окно. Наконец «каверза» созревала, и Коля звонким баском преподносил ее классу.
Володя вспомнил, как месяц назад Коля, пользуясь опозданием учителя, вышел к доске и сказал: «Представьте двух закадычных друзей в горах, на краю пропасти. Один из них сорвался и повис на веревке, которую держит второй. Он не может вытащить сорвавшегося, сил не хватает. Помощи ждать неоткуда. Он, в лучшем случае, продержится с полчаса. У него, следовательно, два выхода: или вместе с другом рухнуть в пропасть, или обрезать веревку и остаться живым. Какой бы выход предпочли вы?»
На перемену девятый «б» не пошел, занятый непримиримо-гневным спором. Одни кричали: «Конечно, лучше разбиться вместе! О чем тут думать! Раз друзья, то и смерть на двоих!» Другие, тоже на крике, возражали: «Толку-то вместе разбиться! Так хоть один останется жив! И будет помнить о дружбе, помогать матери или жене погибшего. А так что!! Бессмысленная смерть!» Володя тогда тоже до крайности разгорелся и с пылающей головой спрашивал у Кехи: «Ясно, что вместе надо броситься, правда ведь, Кеха? Раз друзья, то везде вместе, скажи?» На что Кеха спокойно и холодно ответил: «Не знаю. Во-первых, надо попасть в это положение, чтобы знать, что делать, а во-вторых, настоящий друг не даст погибнуть просто так, за компанию». Володя закричал запальчиво: «Как ты можешь! Какая компания, если друга не будет! Его не будет — меня не будет!» Вообще тогда в классе многие перессорились и наконец потребовали от молчавшего Коли: «А ты-то как думаешь?» Он строго посмотрел на товарищей, дождался тишины и проговорил: «Надо бросаться. Неужели не понятно?» Девятый «б» примолк — так серьезно и решительно приговорил Коля к смерти друзей из своей «мыслительной каверзы», что спорить далее было неловко.
«Да, хорошо быть уверенным, решительным. Вообще независимым», — вздохнул Володя, вздох завершился неожиданным писклявым всхлипом. Володю это поначалу рассмешило, но вдруг с необычайной поспешностью настроение переменилось, он только удивленно ахнул: «Вот крутит меня! На полных оборотах!» Нелепо вырвавшийся всхлип отстранил его от нынешнего утра, от Кехиных размышлений, от Настиных ласково-покровительственных насмешек — Володя почувствовал себя совсем маленьким мальчиком, беззащитным, одиноким, идущим неизвестно куда и зачем, вокруг летняя благодать, зелень волнующе тепла и прохладна, а мальчик всхлипывает, обижаясь на кого-то, неизвестного и строгого, прогоняющего от травы и ручьев, от всех летних забав и заставляющего идти, узнавать про какую-то иную жизнь, в которой все непонятно, зябко, тревожно. Володя поежился, пошел быстрее, согреваясь после этого резкого перепада настроения. «Нет, что ни говори, а все-таки очень трудно жить», — опять вздохнул Володя, но уже без всхлипа.
Между тем Кеха спрашивал Тимофея Фокича:
— А как, по-вашему, дед мог быть хорошим человеком?
— Наверное, мог. Если рассматривать его отвлеченно от истории.
— Как это?
— Каждый из нас, думая или говоря «хороший человек», подразумевает под этим, видимо, того, кто любит людей, природу, добр, снисходителен к детям, женщинам, безусловно, честен до щепетильности. Правильно?
— Ну, примерно…
— Так вот. Этот хороший человек тем не менее может служить исторически порочной идее. Думаю, вы согласитесь, что белое движение было порочно, так сказать, и в философском смысле, и в практическом проявлении. Столько в нем было злобного, пьяного, самого низменного. Поэтому, простите меня, если ваш дед был хорошим человеком, тем печальнее и ужаснее его участь.
— Но он же мог искренно верить!
— Конечно, мог! Даже, скорее всего, так оно и было! Иначе трудно допустить, что он был хорошим человеком. Искренность — хорошая и много объясняющая в человеке черта. Но вы же понимаете, Иннокентий, что при историческом взгляде на вещи она, в сущности, ничего не оправдывает?
Кеха не ответил, задумавшись. Потом спросил:
— А вы, Тимофей Фокич, в те годы здесь были или где?
— Я ушел со второго курса Казанского университета, вернулся в Майск и с тех пор помогаю Советской власти учить детей.
— Значит, в гражданской вы не участвовали?
— Если вы, милостивый государь, — голосок Тимофея Фокича зазвенел, сам он выпрямился, чуть подал вперед маленькую тощую грудь, — считаете, что учить детей в нетопленном классе, под пушечными выстрелами, не зная, удержат ли город через полчаса и что будет с детьми, если вы не считаете это участием, то я придерживаюсь совершенно противного мнения.
— Да нет, извините, вы не так поняли, — смешался Кеха.
Тимофей Фокич утер панамой слегка вспотевший желтовато-смуглый лоб, снова ссутулился — обмякла на плечах, сморщилась холщовая блуза.
— Это вы, сударь, извините мою несдержанность и нескромность. Если вы сейчас в душе смеетесь над моим старческим пафосом, правильно делаете.
— Да что вы, Тимофей Фокич! — искренне возмутился Кеха.
— Ну хорошо, хорошо.
Утро достигло невидимого в синеве перевала, перехлестнуло через него теплым, прозрачным потоком, и вот задрожал, заструился жаркий воздух июньского дня.
Володя сначала прислушивался к разговору Кехи и Тимофея Фокича, и разговор этот навел было на размышления об отце: «Он ведь тоже из Юрьева, тоже мог бы партизанить. Интересно, что б я чувствовал, если бы и он в братской могиле лежал? Наверное, я по-другому бы шел сюда. Да нет, что же я! Я же знаю — он лежит на обыкновенном кладбище в Майске… В родительский день ходим туда с матерью. И я, в общем-то, нисколько не волнуюсь, я же его не помню. Мать только жалко — как начнет реветь, как начнет. Если бы он в братской могиле лежал, она бы так не ревела — все-таки не один бы лежал. Надо не забыть, узнать у деда Степана, когда отец в армию уходил… Как странно я думаю! Ведь лежи отец в братской могиле, меня бы не было — да, здорово в жизни все переплетено и связано!» Но пришедший зной отвлек Володю — пересохло горло, жажда и пот вытеснили все мысли, кроме одной: «Скорее бы к ручью, скорей бы!»
В полдень они вышли на прибрежный обрыв, где под кущей старых, седых берез лежала партизанская могила. Плоский холм, густо и дико заросший клевером; высоко поднятая на стальных прутьях звезда; просторная дощатая ограда, потемневшая от дождей — сюда давно никто не приходил: и от Юрьева путь неближний, а от Майска — тем более. Полуденный зной смирялся здесь, в тени берез, прохладой от вольного, речного ветерка, тихо и милостиво приникавшего к разгоряченным вискам.
Взгляд, брошенный с обрыва, ничто не останавливало на тальниковой, речной долине, он быстро пересекал ее и уже вдалеке, в сгустившемся, сизеющем воздухе, упирался в грудь другого обрыва, опоясанного серебристой излучиной. И над тем обрывом курился синий дым — кто-то сидел у Караульной заимки и держал костер. «Наверное, дед Степан, — подумал Володя, — с утреннего клева вернулся и уху настраивает…»
— Что ж, за дело, судари мои, за дело! — Тимофей Фокич снял блузу, бросил на траву, подвернул рукава рубахи. — Вы, Настя, и вы, Валерий, принимайтесь за ограду, Иннокентий с Николаем покрасят звезду, а мы с товарищем Зарукиным снимем траву с вершины.
«Вон даже как! — улыбнулся Володя. — Строго официально, товарищ Зарукин. Сударь все еще мне Кеху не прощает. Я же теперь для него человек без исторического воображения…»
Тугое, клеверное полотно могилы поддавалось плохо, пружинило, отталкивая лопату, и скоро Володя не замечал холодка с реки. Он разогнулся, оперся на лопату, огляделся: Настя и Валера Медведев по разные стороны ограды шли навстречу друг другу; Валера красил быстро, махом, чересчур полной кистью, и его румяное, потное лицо покрылось мелкими голубыми веснушками — кисть сильно брызгалась. Настя, напротив, оглаживала доски неспешно, аккуратно, не забыв обернуть кисть носовым платком — Володя увидел, как равномерно ходит под белой кофточкой ее округлая маленькая лопатка, и неизвестно почему умилился: «Вот ведь… красит… Настя, милая, — и тотчас же сказал себе: — Красит и красит. Что тут такого? Каждый бы так. Нет, все-таки она по-другому. Нежно как-то, и только я это вижу, и вот это мое „вижу“ мне и дорого… Да, да!»
Кеха стоял на плечах Коли Сафьянникова, тот поддерживал его за икры и медленно двигался вокруг пика со звездой. Кеха одной рукой вцепился в стальной прут, другой макал кисточкой в банку, свисавшую с шеи на ботиночном шнурке. «У Коли ничего, спокойная работа, — подумал было Володя и спохватился: — Сударь без передышки вкалывает, а я стою тут. Разгляделся!» Действительно, Тимофей Фокич слабенькими, но спорыми взмахами отковыривал и отковыривал пластики дерна с крыши могилы. На желтовато-смуглом лице Тимофея Фокича не было ни капли пота, жар костей не ломил, приятно бодря старую, неторопливую кровь. Володя, не смахивая пота, шумно дыша, принялся догонять.
Вскоре резко зачернел прямоугольник чистой земли, оттеняемый нежно-светлой зеленью откосов. Тимофей Фокич достал из кармана белый, туго набитый кисет, осторожно освободил ему горлышко от суровой нитки и высыпал на ладонь серовато-черную крупу.
— Что это? — спросил Володя.
— Мак. Редкий сорт, «пер-ла-шез». Обладает удивительно сочным алым цветом. Представляете, какой огонь здесь будет бушевать?
— Представляю.
Тимофей Фокич, плавно поводя рукой, посеял мак и осторожно, ладонями, стал прихлопывать землю, чтобы ни одно семечко редкого сорта «пер-ла-шез» не унес ветер. Володя тоже присел, тоже положил ладони на землю партизанской могилы и вздрогнул: земля была холодна и влажна, даже июньское солнце не брало ее. «Могильный холод, — внезапно озябнув, прошептал Володя. — Могильный холод, — он отдернул ладони и подышал на них. — Как страшно там, тяжело, холодно», — подумал он, вовсе забыв, что лежащие под этим веселым, зеленым холмом не знают ни страха, ни холода. Он представил, подобно всем живым, себя, теперешнего, лежащим там. Он никогда еще не думал о смерти, а сегодня, сейчас, ему на миг приоткрылось ее существование, безжалостное, черное, холодное. «Я тоже умру, но, конечно, не скоро. Меня не будет, и тогда только наступит этот холод… Да нет, лучше не думать, все равно не представить, хоть как представляй… Но почему раньше мне ничего такого в голову не приходило? Ведь бываю же каждый год у отца. Не замечал, не понимал, не думал, что бываю на могиле. Мать заревет — я за ограду, смотрю на родительский день. Как поют, как ревут. Мать сама даже прогоняет: „Иди погуляй“, — не хочет, чтоб слезы ее видел. Я его не знаю, не помню, как Кеха деда. А для матери был живым, о живом и слезы. Все дело в этом…» Володя, настигая столь простую и ясную мысль, заволновался: «Все дело в том, что надо понять: в могилах лежат живые, то есть они жили, вот как я, как Тимофей Фокич. И если это понять, тогда будут слезы, тогда будет память, и я уже не смогу спокойно проходить мимо этих холмиков. Я буду думать, как они жили. Как умирали…»
Тем временем Тимофей Фокич собрал в плоский стеклянный ящичек сырую черную землю, и сквозь стекло она масляно заблестела. Держа ящичек на вытянутых ладонях, Тимофей Фокич прошел к стальному пику со звездой и повернулся к Насте и мальчикам, стоявшим в изголовье могилы. Взъерошенный, растрепанный — подол косоворотки выбился из-под ремня, расстегнутый ворот измазан травяным соком, — он поднял землю над головой и заговорил:
— Друзья мои! Может быть, ради этой минуты стоило совершить нынешний поход. Вот она, удивительная в своей скромности реликвия, бесценная земля, политая кровью революции. Вот она, вечная почва, питающая дедов и внуков, вечная святыня для прошедших, нынешних и будущих русских людей! — Голос Тимофея Фокича поднимался все выше и выше, как бы заостряясь вместе с пиком и тонко звеня на лучике звезды. — Друзья мои! Сейчас — тишина и солнце. Нам никто не помешает. И я прошу вас, вглядитесь в эту землю и сосредоточьтесь на мысли: она, и только она возвращает нашу память к прошедшему. Так поклонимся ей! — Тимофей Фокич опустил руки и отдал поясной поклон могиле. И Настя, и мальчики, может быть, не успели сосредоточиться и сердцем внять неожиданной просьбе Тимофея Фокича, но, взволнованные его возвышенными словами, тоже поклонились. И верно, каждому из них запомнился этот поклон черному зеркалу братской могилы, в котором мелькнул суровый лик минувшего.
Володя спросил почти шепотом:
— Слушай, Кеха, а может, дед твой в отца моего стрелял?
И так получилось, что и Настя, и Коля с Валерой безотчетно отстранились от Кехи. Он усмехнулся, заметив это мгновенное отчуждение товарищей.
— Может. Вполне. Что ты хочешь этим сказать? Может, я тоже стрелял?
— Да нет… Просто так, спросилось… Не думай, — растерянно пробормотал Володя. «Господи! Я с ума сошел. Выходит, я про Кеху не как про советского подумал, а как про врага. Он же обиделся, еще как! Он-то при чем?! Я же сам говорил: давно было, не ломайся, а теперь вот обвиняю его». Володя покраснел, хотел что-то сказать, не нашелся, и так ему стало стыдно — в глазах защипало. И всем стало стыдно, что поддались этому враждебному чувству — отпрянули от Кехи, словно от преступника.
Тимофей Фокич, преодолевая неловкость, заговорил:
— Пора, судари мои, пора. В путь. К закату только и попадем на заимку. Хорошо, если Степан Еремеич там, к готовому костру угодим. А не то — дела хватит. Пора, пора пошевеливаться!
Кеха опять усмехнулся — выпятилась толстая губа, в углах рта напухли бугорки, кожа на маленьком подбородке выпукло напряглась, чуть сморщившись. Он первым взял рюкзак и вышел за ограду. У калитки, пропуская Настю, замешкался Коля Сафьянников, он, видимо, раздумывал над недавним происшествием, потому что часто скреб затылок и, держа черные, тяжелые брови недоуменно поднятыми, отсутствующе упирался взглядом в землю. Валера Медведев, стараясь понять душевное состояние друга, заглядывал сбоку Коле в лицо и, на всякий случай, хмурился и качал головой. И Настя вышла молчаливая, растирая в пальцах кружевные листочки молодой полыни.
Володя успокаивал себя: «Я же не хотел его обидеть. Действительно, как-то неожиданно спросилось. Не специально же я этот вопрос придумывал. Неужели непонятно?» — и, сделав вид, что ничего не случилось, громко заговорил:
— А у деда Степана сейчас уха, я вам скажу! Что, не верите? Я отсюда чую, как юшкой шибает, даже в голове мутится. Про живот я уж и не говорю!
Но никто не откликнулся, не поддержал бодрого, отвлекающего разговора. Тогда Володя, зная, что молча он изведется, исказнится, догнал Кеху и негромко, только для него, сказал:
— Ты пойми: все вышло случайно и нелепо — не придавай значения. Настроение такое было.
— Пытаюсь не придавать.
— Слава богу, — Володя подумал, помолчал и опять сказал: — Ты не сердись. — Непреодолимо захотелось спросить: — А вдруг он все-таки в отца стрелял! Ужасно ведь?
— Ужасно. Об этом и думаю…
Шли ходко. Мягкая луговая трава приятно пружинила, как бы подбрасывая, подталкивая вперед и вперед. Володя, чтобы отвлечься, думал о деде Степане, безвыездно живущем на заимке, вспоминал его байки за вечерним чаем и представил маленькое оконце над жердевыми нарами: в нем дрожит, мигает слабая, далекая звезда — сладким, печальным вздохом Володя погасит ее и унесется куда-то, воспарит над ночным миром: «Обязательно спрошу про отца, обязательно и поподробней».
Дед Степан и Володин отец были односельчанами, дружили в парнях, и дед Степан говаривал иногда:
— Эх, Волоха, Волоха. Я смотри сколько живу, никакой леший не берет. А он, парень, рано ушел, рано. Вот же несправедливо как: я его больно хорошо знал, а ты в тумане, во сне только можешь видеть. Уж лучше бы ты его знал, тебе без него хужее. А я, слава богу, своего батю сам хоронил, как и положено в жизни.
«Да, да, в тумане», — сказал Володя себе.
Серега
Езда нескорая, и каждая кочка норовит поддеть — покачивает, потряхивает МАЗ, шаркают по бортам измочаленные, голые сучья берез, он потихоньку ползет, точно старый, ослабший глазами и носом пес обнюхивая, ощупывая землю. Раньше этой дорогой попадали на покосы — для телеги места хватало, — а теперь стройка приспособила ее под машины, не расширяя, конечно: с треском, с писком, со скрипом, но продраться можно — все новую не пробивать.
Далеко впереди, на вырубке, давно уже свет и утро: оно чуть-чуть попыхивает неплотным, скользящим дымком — пропадает последний туман; и такое веселое, тихое тепло там, что поскорее бы в его желтые мягкие лучи, хотя и здесь тоже славно: прохладная, влажная тень проникает в кабину, от нее не зябнешь, не ежишься, а лишь усиливается безотчетное, грустное, приятное волнение с приближением солнечной границы.
Серега беспечально смотрит по сторонам и хоть не в полную меру, но тоже поддается влиянию утренней благодати: с присвистом, как чай с блюдца, втягивает он сладкую невидимую влагу и задерживает ее за посвежевшими зубами, чтобы она успела распространиться густо настоянным холодком по всей груди. Он выставляет из кабины руку ладонью вверх, ловит шершаво-мягкие березовые листы так, чтобы не рассыпать темно-зеленые капли. Но разве удержишь? Они щекочут запястье, а потом сразу же мокрые язычки лижут и лижут где-то у локтя; рука немеет, а от нее всему телу сообщается нетерпеливо-зудящий восторг: «Ой-ой! Что же это делается!» Посмеиваясь, Серега срывает горсть листьев, желая попробовать зеленой водицы, но губы с удивлением ощущают, что листья сухи и теплы и даже их горьковато-зрелый запах сух и шелестящ, словно предупреждает о дневной жаре.
Внезапная разлука с домом не пробуждает в Сереге ни робости, ни сколько-нибудь серьезных раздумий, для него все еще длится вчерашняя прогулка; и так красно ему в недавних воспоминаниях, что вовсе не остается времени поглядеть на себя, как на несчастного шалопая, с охотой едущего исправляться и взрослеть, мучительно казнящегося неправедной жизнью — нет, нет! — Серега лишен романтического воображения. Кроме того, нынче утром Серегой прожито, если задаться бесцельной точностью, семнадцать лет и тридцать девять дней, на которые невдомек оглянуться, как дереву невдомек пересчитывать свои годовые кольца, а впрочем, если бы Серега и захотел это сделать, то ему все равно не увидеть позади ни дурного, ни хорошего — бессвязная череда событий и поступков, незагустевшее прошлое…
Серега размышляет: «На трассе должны ничего получать. С полевыми, колесными да еще коэффициент — под две сотни могу прыгнуть. Вон Костя из Щитового поселка рейку за геологами прошлым летом таскал — и то за сотню выходило, всю осень гулял и маг вон какой шикарный купил. А здесь на разряд поставят, на трассе же ученических нет, надо только Толе подмигнуть, чтоб на подсобные не ставил. В первую очередь транзистор надо и унты летчицкие на зиму. Нет, может, мать уговорю — в рассрочку мотороллер возьмем, „Яву“ бы! Это да-а… В крайнем случае, моторчик для велосипеда обязательно и ружье. Да хотя бы одностволку».
У дерзких Серегиных мечтаний невероятная, сумасшедшая скорость — куда этому МАЗу! — и как им удается разминуться с видением суда и решетчатых окон — уму непостижимо, но они мчатся и мчатся, только легко и весело шумит кровь в голове. Увлекшись их бегом, Серега спрашивает бывало-небрежно, лишь некоторая хрипотца проявляет его заинтересованность:
— Толя, как здесь в среднем-то у ребят выходит?
Глаза у Толи закрыты — вроде бы дремлет, на щеках остренький прозрачно-розовый румянец, который у очень рыжих людей обычно наблюдается круглыми сутками. Серегу он не слышит, так, по крайней мере, кажется, а отвечает шофер, парень с сивым чубом, сивыми глазами и несходящей глуповатой улыбкой — она присутствует как бы непроизвольно, а не потому, что так уже весело.
— В среднем по способностям, но не хватает на потребности.
Серега улыбается и снова, уже локтем, тычет Толю:
— Толя! Эй! Гражданин начальник! Почем платить будешь?
Румянец на Толиных щеках неестественно сгущается, веки легонько подрагивают, но не разлепляются; конечно, Толя прекрасно слышит и вовсе не дремлет, тоскливый, пощипывающий жар возник и после первого Серегиного вопроса. «Вот, сопляк, пристал. И не осадишь никак, сам распустил. Можно подумать, с приятелем лясы точит — стыд, срам просто! Петька же по всей трассе раззвонит». Толя чувствует, как удивленно косится на него шофер. «Ну, Серега, ну, свинья, надо было дома предупредить. Неужели сам-то додуматься не может?»
Никогда и никому в Майске не позволял Толя «тыкать» себе, а поэтому и сам был отменно вежлив и ровен, и хотя память хранила всю обиходную матерщину, никогда ею не пользовался, даже в конце месяца, когда закрывают наряды и у других прорабов от надсадных криков и ругани кровенеют белки и до пискливого хрипа садятся голоса. «Не для того я учился, чтобы глотку драть, не для этого я ехал сюда. Совсем не для этого», — частенько говаривал себе Толя с тою туманною многозначительностью, с которой осторожные люди, опасаясь «сглазу», не сознаются в истинных своих намерениях не только постороннему человеку, но и себе.
Вся трасса постепенно стала величать его по имени и отчеству, но, конечно, Толя не заблуждался и не считал, что это проистекает лишь из его умения вежливо вести дело. Конечно, нет. По мере сил он старался быть и честным, и добрым: без крайней нужды никогда не склонялся к вольному восприятию расценок даже на таких трудно учитываемых работах, как лесоповал под просеку ЛЭП или земляных по усмотрению прорабства — бригадиры это твердо знали; но он мог за вырубку кустарника закрыть на полную катушку, как за деловой лес, и дешевые взрывы на Лысой горе — благодаря утаенному когда-то динамиту — мог, не совестясь, отдать землекопам, ничего не заработавшим на мягком грунте, потому что его рабочие должны получать деньги, а не копейки — это он тоже знал твердо.
Но чем он в полную меру гордился, так это своей способностью неукоснительно выполнять однажды обещанное. Толя как-то быстро понял, что требования, просьбы, жалобы его подчиненных, в общем-то, всегда легко удовлетворимы: нет брезентовых рукавиц — пожалуйста, он завтра выпишет, если на участковом складе не найдется, обменяет у соседа на дефицитный кабель. Плохо со свежими газетами? Ну, совсем просто — с каждой попуткой буду отправлять и сам всегда буду захватывать; нет бани — хорошо, давайте поставим, оформим за счет нестандартной вырубки.
В общем, он ни разу не пообещал вхолостую. Сверх того, если он слышал, даже мимоходом, что кому-то нужны кремни для зажигалки, лампочки для карманного фонаря или бритвенные лезвия, то и этого не забывал, а по доброй охоте, в душе любуясь своею пунктуальной отзывчивостью, присылал или привозил на трассу желаемое.
В общем, без ложной скромности Толя мог признаться себе: прорабство процветало исключительно его стараниям. И когда недавно в частной беседе начальник стройки Геннадий Илларионович, вдруг с пристальным благожелательством посмотрев на него, доверительно улыбнувшись, сказал: «А как вы отнесетесь, Анатолий Тимофеевич, к перспективе главного инженера управления? Ведь Мушин очень нездоров, еле тянет, вы знаете?» — Толя, потупившись, негромко, но все же твердо ответил: «Почту за честь», с завидной трезвостью отметив про себя: «Ну что ж. Так оно и должно было случиться. Для самоотвода причин нет. Вот уж поработаю, вот уж — да так да!» И предвкушение необычайной по размаху и инициативе деятельности разбудило в Толином сердце тихую, очень приятную, сладко посасывающую боль.
Между тем Толю иногда посещала душевная усталость, точно осложнение после бурной болезни — видимо, организм не выдерживал чрезмерной дозы усердия и намеренных перегрузок в жизненном продвижении. Не то чтобы он впадал в хандру или меланхолическую раздумчивость, нет, внешне он по-прежнему выглядел напористым, решительным мужчиной, но ежеминутно укреплялось и росло в нем требование разрядки, встряски, какой-то иной жизни, черт возьми! Поскольку ни выпивка, ни женщины не могли облегчить или совсем изгнать странную Толину прихоть, спасительным ему казалось обращение к противоположному образу действий: вместо размеренной вежливости — этакая анархическая грубоватость; вместо солидности и сдержанности — громогласная и простоватая веселость, где-то на грани со студенческим придуриванием; вместо постоянного сознания, что ты начальник, — состояние дурашливости, расплывчатой милой легкости, которая отвлекает тебя от остальных людей, как бы разрешая наедине с собой побыть чудаком, дураком, рыболовом, засоней, охотником, по-детски безрассудным озорником. Весь вопрос, где предаваться этому спланированному разгулу? На службе нельзя, там он — Анатолий Тимофеевич, друзей в Майске не приобрел, поэтому участие в каких-либо итээровских компаниях исключалось, оставалось только дома. И какая все-таки удача, что он снял квартиру у Татьяны Васильевны! Добродушно-ворчливый нрав ее, непритязательность ее бытия — из-за незначительной зарплаты и балбеса-сына — как нельзя более подходили к Толиным устремлениям встряхнуться, разрядиться в домашних условиях. Вот он с газетой, за вечерним чаем, мощный, рыжий, с грохотом перекатывает шуточки, этакий простак, рубаха-парень, с наивно-фамильярными манерами. «Ну что, матушка, Татьяна Васильевна? Дерябнем еще чайку по маленькой?» И здесь же, за чаем, приятная возможность поизмываться над Серегой: «Ага-га-га! Штурмовичок явился! Ишь шею-то расперло на материном иждивении! Мозоли надо зарабатывать, любезный, мозоли».
И вот теперь за это невинное удовольствие расплачивайся…
Толя открывает глаза и ровно, очень вежливо объясняет:
— Ты едешь со мной только потому, что я уважаю Татьяну Васильевну. Она попросила — и ты едешь. Ты будешь работать в бригаде Дрокова, а значит, и разряд твой и зарплату определит он. И еще, Сергей, раз ты едешь. Здесь нет ни яслей, ни детсада; здесь рабочие и работа, которая хохмочек твоих не потерпит. И я не потерплю, и никто не потерпит. Пора поумнеть. Будем считать, что ты поумнел. А потому запомни: здесь я не твой сосед, здесь я — твой начальник. Вывод: больше никогда не пытайся со мной так разговаривать. Все.
Серега обижен:
— Что я — первый раз на работу иду?..
Толя его не слушает и опять закрывает глаза. Тогда Серега подмигивает шоферу: «Смотри-ка, мол, начальничек нашелся», — но и шофер не отвечает, потому что не склонен, даже молча, подтрунивать над Анатолием Тимофеевичем.
МАЗ сворачивает в темно-зеленую брусничную протоку; справа и слева — гибкие стены из стеблей молодой ольхи; протока, незаметно расширяясь, растекается в медленную, почти неподвижную поляну, запрудой лежащую перед склоном неглубокого лесного овражка, на дне которого зябнет краснотал: вечно он укрывает либо ледяной ключ, либо ручей — вот и ежится, потряхивая остренькими, скрюченными, посиневшими пальцами.
На поляне — сколоченная из горбыля теплушка, поставленная на трубы-полозья, рядом — двухместная старенькая палатка, а ближе к устью протоки — грубый очаг из диабазовых обломков и легкий толевый навес над прочным неуклюжим столом из того же горбыля, но небрежно подчищенного рубанком.
Возле очага стоит, встречая машину, пожилая женщина, одетая в черные сатиновые шаровары и серенькую вигоневую кофту; белый платок повязан, по утреннему недосмотру, с забавной лихостью — наискось режет лоб, а концы выглядывают из-за головы, как заячьи уши. Запоминается обилие мелких, коротких морщинок на смугло-коричневом лице. Ими усыпаны и виски, и славные, подрумянившиеся бугорки, между которыми утопает маленький, с белой вмятиной на конце нос; они беспорядочно разбегаются и по скулам, оставляя в покое лишь желтовато-гладкий кружок подбородка, но, удивительное дело, морщины эти не усугубляют возраста женщины, а, напротив, благожелательно подчеркивают в ее лице выражение того очаровательного, тихого лукавства, приобретаемого некоторыми людьми в конце жизни. В глазах же ее, коричневых, светлеющих к зрачкам до темно-смуглого, — спокойное, приветливое любопытство: «Ну-ка, ну-ка, кто это там? Милости просим, коли в гости свернул». Вот такою при знакомстве бывает Прасковья Тихоновна Куропаткина, таборщица, живущая на трассе с первого пикета.
Толя протягивает руку:
— Приветствую вас, Прасковья Тихоновна.
— Ждравствуйте, ждравствуйте, Анатолий Тимофеевич, — радостно припевая, говорит она, по чалдонской привычке путая «з» и «ж», «с» и «ш». — Мы вчера вас ждали, а вы вон только.
— Не успел, не успел. Ну, как вы тут живы-здоровы?
— Да мы што, хорошо. Дня через два на базу подадимся. Мужики-то говорят, немного осталось, опоры, говорят, уже видать.
— Ну, очень хорошо. За другую отпайку возьмемся.
— Далеко?
— Нет, на пятнадцатом углу. Там километра два всего.
— А мы вас ждали, ждали. Мужики вон баню в палатке делали. Кушать будете? Гуляш еще пылкий, а то и жару подбавить недолго.
— Нет, Прасковья Тихоновна, тороплюсь. Надо сегодня до базы доехать. Вы вот лучше пополнение кормите, у него аппетит по высшему тарифу. — Толя косится на Серегу, опасаясь новой вспышки невежливости; но тот, раздвинув губы во влажную, бессознательную улыбку, с непонятной пристальностью смотрит в сторону овражка.
— У нас, што ли, останется?
— Да. Сегодня уж как гостя кормите, а завтра включайте в пай. К Дрокову я заеду, скажу.
Не прогоняя лунатической улыбки, Серега эдак молодцевато встряхивается, упирает руки в бока: из овражка, от краснотала, поднимается девушка с полными ведрами на коромысле — обструганной коряжине. Тренировочные, на штрипках, брюки плотно облегают ноги, подчеркивая их полноту и в то же время привлекательно удлиняя; желтенькая безрукавка с погончиками заправлена в брюки и перехвачена черным клеенчатым поясом — место перехвата тонко и гибко, это тем заметнее, чем сильнее девушка сопротивляется тяжести коромысла. Ненатурально белые, ломкие даже на вид волосы, спускающиеся неровными начесами почти до плеч, бледно-голубые глаза в окружении безжалостно начерненных ресниц, до мертвого оттенка напудренные щеки, полные, сочные, идеальным сердечком вырезанные губы — в общем, ничем не примечательное лицо, особенно часто встречаемое в рабочих общежитиях, потому что косметические преувеличения обязательны для тамошних модниц. Но что Сереге до подобных наблюдений? Улыбка его все растет: он очень рад появлению девушки с таким привычным лицом — будто снова он стоит на открытой веранде клуба «Энергетик» и ждет, когда грянет оркестр. До Женечки он любил танцевать именно с такими девушками, без обиды воспринимавшими и сигарету в углу рта, и излишнюю вольность рук. Они неизменно веселы, просты в знакомстве, бескорыстны в складчине, с легкостью расстаются с мятыми, потненькими рублевками.
— С приездом, Анатолий Тимофеевич! — Голос громок и резок, с тою натужной сипотцой, которая появляется у женщин-работниц, зиму и лето пропадающих на дворе.
— Привет, Петечка! — говорит она шоферу и опускает ведра. — И тебе привет, брюнетик! Вон как разлыбился!
— Привет! — почти кричит Серега, действительно разогнав губы до крайнего упора, и хочет добавить излюбленное «невеста», но удерживается, сам не зная почему, а может, вдруг неясно ощутив вину перед Женечкой, но все-таки недостаточно, чтобы помрачнеть, нахмуриться, заволноваться.
— Лида, почему вы здесь? — сухо и строго спрашивает Толя.
— От кавалеров сбежала, Анатолий Тимофеевич. Прямо проходу не давали!
— Я вполне серьезно. Кто вам разрешил уехать с базы?
— У-у, какие сердитые! Да я об вас скучала, Анатолий Тимофеевич. Вот поближе перебралась.
— Оставьте этот тон, Лида. Не путайте меня со своими кавалерами. Вы понимаете?
— Ах, неужели? Вы такие симпатичные, Анатолий Тимофеевич. — Сочное, яркое сердечко огорченно морщится, глаза медлительно тускнеют, заволакиваясь этакой томной дымкой.
— Лидка, жаража! Будет тебе! Прямо стыда нет! — Прасковья Тихоновна грозит поварешкой, строжают брови, а глаза все равно спокойно-усмешливы. — Бесстыдничает-то по дурости, Анатолий Тимофеевич. Не серчайте. Это я ее с базы выпросила. Там в столовке и так баб лишку. А мне в одни руки-то трудно управляться, ведро потяжельше — я и скисла.
Толя раздражен:
— Очень плохо, когда кто-нибудь что-нибудь забывает. Или забывается. Вы забываетесь, Лида, и совершенно преждевременно. У меня достаточно неприятностей, я не хочу иметь лишних. Не будем копаться в сегодняшнем случае, но вернетесь на базу и пойдете уже не в столовую, а в компрессорную, масленщицей.
— Ой! А может, мне не хотится?
— Вы же прекрасно знаете, что ваши желания ни при чем. Это не мое решение и, поверьте, мне неприятно каждый раз напоминать об этом… А вам, Прасковья Тихоновна, в свое время я предлагал остаться на базе, оформили бы комендантом в общежитие, но вы же сами настаивали вернуться к Дрокову. Странно, что теперь жалуетесь.
— Не рассчитала, Анатолий Тимофеевич, — почти шепчет Прасковья Тихоновна, глаза у нее наполняются дрожащей влагой, которая тотчас же проливается быстренькими блестящими ниточками.
— Ну хорошо. Потом вместе подумаем. Ну, ну, Прасковья Тихоновна, бодрее надо, бодрее. Вот, право, какая вы! Все, все, Прасковья Тихоновна. Прошу вас, не надо. — Толя идет к машине и приносит сумку с письмами, вытаскивает пачку. — А это вам, Прасковья Тихоновна. Помните, я вам обещал перец и лавровый лист? Так вот, в этом конверте.
— Спасибо. — Она вытирает снятым платком слезы. — Не знаю уж какое спасибо, Анатолий Тимофеевич.
— Пустяки. Ну, поехали, Петя. Салют!.. — Сереге он ничего не наказывает и вообще не замечает его.
Лида перебирает письма.
— Вам, тетя Паша, ничего, мне, понятно, тоже ничего, а остальные, считай, одному Геночке — это же ответить надо!.. Эй, брюнетик! А ты письма получать будешь? Девочки-то не забудут? Ишь мальчишечка какой — я бы каждый день писала.
— Так чо писать-то, вот он я, — радостно и лихо распахивает руки и шагает к Лиде.
— Но, но! Быстрый какой! — отступает Лида.
— Так что тянуть? — похохатывает Серега.
— Да уж повременим. Скорость переключи, брюнетик.
— Задний ход, что ли?
— Ну!
Серегино лицо отвердевает, глаза напряженно щурятся, в них как бы усиливается черно-фиолетовое гипнотическое свечение — этой маской Серега почти беспроигрышно пользуется и в парке, и на улице, — с доверительным жаром быстро и тихо говорит:
— Слушай! Ты — во-от такая девчонка! Давай на пару почудим? Точно — не соскучимся.
Обычно те девушки благосклонно соглашаются «почудить»: отплясывают с ним твист в запрещенных местах — то у горисполкома, где мощные репродукторы, то в магазине грампластинок, то на чинном вечере-встрече с ветеранами труда, так же развлекаются на лодочной станции, любят попадать к шампанскому в Доме бракосочетаний и замечательно выступать давними друзьями жениха и невесты, которым в счастливом ослеплении неловко кого-то не узнавать.
Серегу слышит Прасковья Тихоновна. Уже остывшая от мимолетной обиды, она смеется и машет на него:
— Ой, батюшки! Еще одного чудака не хватало! Явился! А то уж, верно, от скуки пропадали.
Следом смеется Лида:
— Почудим, мальчишечка! Еще как почудим! Я вприсядку, ты вприглядку, — может, что и вычудим.
Понимая, что номер провалился, смеется и сам Серега.
Прасковья Тихоновна говорит:
— Хватит дражниться-то, Лидка. Геночка узнает, даст тебе присядку…
— Ой, держите меня, боюсь!
— Забоишься, погоди еще. Тебя, парень, мамка-то как звала? Ты давай, Сергей, поешь да поможешь кой-чего.
Серега ест тепловатый гуляш — подбородок блестит от масла, за ушами в самом деле потрескивает, голова наливается сонной пустотой, живот тяжелеет, остро упираясь в ремень (на траву бы, в холодок, потомиться в сытости!). Но, превозмогая зевоту и каменную слабость в ногах, Серега постепенно расходится: до пота таскает воду от ручья, заполнив шестиведерную бочку летнего душа и трехведерный бак для питья, приносит громадную охапку смолья для быстрого жара в очаге, чистит песком алюминиевые тарелки и кружки.
А после они втроем садятся вокруг чугунного котла чистить картошку; и кажется, что котел бездонный — чистят, чистят, а в нем не прибывает.
— Неужели столько съедят? — удивляется Серега.
— Умнут все — и не оглянутся, — говорит Лида.
Прасковья Тихоновна поет-мурлычет с закрытым ртом; и тоненький, дрожащий звук живет будто не в ней, а где-то витает рядом, вокруг лоснящегося смуглого лица и над головой, робким, одиноким комариком.
Затем она расспрашивает Серегу:
— Ты здешний или чей?
— Здешний.
— Отец-мать с тобой?
— Одна мать.
— Работает?
— Ага. Бухгалтером.
— Братья остались? Сестры?
— Нет. Вот я только.
— Чего ж мать-то бросил?
— Как бросил? Поехал и поехал. Сама велела.
— «Велела, велела». Удержать, видно, не могла, вот и «велела». Как волки, в лес смотрите. Учишься?
— В вечерней теперь. Мать же мало получает, самому надо…
— Ври больше, паря! Знаю я вас, барахольщиков! В вечерней лениться сподручней, вот и бежите. А мать, хоть до какой доведись, жилы вытянет, чтоб учился. Получает мало! Хватало бы, если б сынки об ученье думали.
— А зачем жилы тянуть, когда я работать могу? Так же проще.
— Всегда все просто, если рассудить, да не больно просто в натуре-то получается. Мать всю жизнь старается возле детей жить, ей больше ничего не надо, а вы раз, раз и разбежались. Вы думаете, без матери проще, свободнее, сам себе голова. А мать на бобах одна живет и не живет, а мается — какая без детей жизнь?
— Так чо сделаешь?
— Ничего. Сердца у вас нет, совсем нет! А без сердца, конечно, ничего не сделаешь. — Прасковья Тихоновна перестает спрашивать, в глазах отстаивается привычная, повыцветшая хмурь, сообщающая взгляду холодное, пустое выражение — смотрит человек, а видеть не видит.
Прошлым летом трасса провожала Прасковью Тихоновну на пенсию. Управление припасло ей адрес в черной коже, золотые завитушки оттиснуты, с серебряной монограммой — говорят, в Иркутске заказывали; прорабство вручило пудовую бронзовую лошадь — другой столь дорогой и солидной вещи в майских магазинах не нашлось; а население базовой площадки, где, собственно, протекало торжество, подарило Прасковье Тихоновне шаль, всю в красных и синих розах, и импортные комнатные туфли, которые ребята достали «из-под земли». Особенно перед этим подарком Прасковья Тихоновна восторженно млела: мягонькие, на белом густом меху, с белой же опушкой. В жизни она не видывала таких прекрасных комнатных туфель, более того — никогда в жизни не носила их, даже в голову не приходило, что надо иметь комнатные туфли. Как овдовела, а это, считай, тридцать с лишним лет, все по тайге путешествовала: то к геологам нанималась, то к геодезистам, а потом вот Майск начался — ясно, какой обувью пользовалась: зимой — катанки, летом — кирзухи или бродни резиновые, ну уж в самую жару кеды наденешь. А тут тебе такие туфли — легко, мягко, тепло, — только по комнате, по полу то есть, и ходи — чудеса!
Гуляли на проводах долго, до самого утра, а под конец все стали целоваться с Прасковьей Тихоновной. Она, веселенькая, заплаканная, неестественно нарядная — в черном бостоновом костюме, еще с ватными плечами, в белой крепдешиновой кофточке и в новых комнатных туфлях, обнимала парней и с радостными всхлипами приговаривала: «Шпасибо… шпасибо… Век не жабуду…» И все-все испытывали радость с тихим пощипыванием в глазах за Прасковью Тихоновну — нет, радовались, конечно, не тому, что вот сколько лет человеку отбухало, пора на покой, а тому, что в дальнейшем у Прасковьи Тихоновны все так славно устраивается, по уму, если повторить трассовскую поговорку: женщина она крепкая, пожить еще хватит, пенсия нормальная — шестьдесят рублей для одной-то вполне хватит, а она тем более к сыну едет — какие уж там особенные траты! И просто замечательно, что квартира у сына в Минеральных Водах. Сибирь, тайга, конечно, хорошо, и воздух тут здоровый, но старому человеку все-таки лучше в тепле доживать, у фруктов.
Пожила она недельку в Майске и уже хотела сдать ключи от комнаты в домоуправление, но решила повременить: жалко стало. Здесь ее дожидались после полевого сезона бабушка с Витей, отсюда бабушку на кладбище проводила, отсюда Витя в Москву на учебу уехал — ее Витька, из этой комнаты, в саму Москву! — здесь каждая трещинка, каждая щель, как родня добрая. «Однако поеду пока так, в случае чего, письмо напишу, откажусь от комнаты, а пока пусть стоит». И уехала.
На трассу приходили посылки с яблоками и к ноябрьским и к Новому году, письма, в которых Прасковья Тихоновна все хвалила тамошнюю погоду, невестку хвалила и вообще свою жизнь. И вдруг в начале марта, перед самым женским днем, Прасковья Тихоновна вернулась в Майск и сразу же пошла в прорабство — проситься на старую службу. Там очень удивились ее появлению: «Тетя Паша, что случилось? Тетя Паша, да как вы это?» И она коротко объяснила: «Витя-то у меня хворает, помогать надо. Вот потружусь еще маленько». Анатолий Тимофеевич предлагал работу полегче — пойти в коменданты общежития, но Прасковья Тихоновна не согласилась, потому что где полегче, там и платят поменьше. На трассе сначала сильно сочувствовали ей, что пришлось оставить Минеральные Воды, и больного сына, и хваленую невестку, и приятную, без работы, жизнь. Но тут погнали новую просеку, заказчик — пятый участок — с шеи не слезал, да еще на болото вышли, просто все с ног валились… И постепенно вообще забыли, что Прасковью Тихоновну провожали на пенсию.
Но в апрельское полнолуние, когда особенно густ и свеж легкоморозный воздух, когда ночные костры затеваются не столько ради обогрева, сколько ради их горького талого запаха, поселяющего в сердце смутную, блаженную печаль, — вот тогда Прасковья Тихоновна и рассказала историю своей побывки у сына, живущего в южном городе Минеральные Воды.
— А места, мужики, там очень красивые, спокойные очень места. Горки такие зеленые, ровные, вроде нарочно кто подстригал да приглаживал, и вообще аккуратность там везде соблюдается: распоследняя халупа, вот как наш тепляк, а подмазана, подбелена, прямо как игрушечка. Я еще в поезде еду, в окошки смотрю, а из-за этого вида как-то совсем хорошо на душе стало. «Ну, — думаю, — Прасковья, жить тебе и радоваться каждый день», — настроилась, значит, душой-то на эти горки. И на вокзале меня встретили чин чином: и Витя, и невестка — Вера, значит, и Оленька — внучка. Уж так я по ней скучаю — без оглядки бы побежала! Цветы мне в обе руки, целуют, а потом садимся в такси — прямо как иностранцев у нас в Майске встречали, — я ведь в жизни на этом такси не ездила.
Приехали. Я, конечно, свои гостинцы достаю: Вите привезла сорочку трикотажную, по девятнадцать рублей брала в автолавке. Вере — розовый гарнитур за тридцатку, нарочно подороже искала, а то мало ли, скажет еще: свекровь, мол, скупущая, одного сына любит! Ну, и Оленьке беличье чучело — в «Промтоварах» около управления за девять с полтиной взяла, — достала и говорю: «Не знаю, мол, угодила ли?» — «Да что тут спрашивать, мать? Конечно». — «Спасибо, большущее спасибо, Прасковья Тихоновна». — «Сенк ю, бабушка» — это значит «спасибо» по-английски — Оленька говорит: в садике-то их с трех лет по-иностранному обучают. Сидим, чай пьем. Тихо все так, ласково; у меня опять слезы на глазах. «Лучше, — говорю, — ребятки, и не бывает человеку».
Правда, што мне сразу у них не понравилось — это вечером стелиться стали, смотрю я, а постелишка у них некудышняя: и матрас не матрас, а чистый блин. Я Вите потихонечку и говорю: «Как же, мол, вы на таком спите, столько времени завести не можете?» А он: «Да ладно, мать. Не ради же постели живем. Ночь же, — говорит, — самое бесполезное дело». Я промолчала, но про себя-то знаю: разве это дело, когда отдохнуть как следует не на чем? Только, конечно, не мужику об этом думать. «Ну, бог с ней, — думаю, — я не судья».
Вот зажили мы. Я перестирала все, перемыла, на базар хожу, в магазины, обеды варю — Витя-то дома сидит, он в этой, в аспирантуре занимается. Вечером с Верой раз, два куда-нибудь навострились, по гостям, в кино — насиделись взаперти из-за Оленьки, а мы с ней домовничаем: все в больницу играем, я, значит, хворой представлюсь, а она меня лечит — мать-то с отцом врачи. Надуримся, наиграемся, Оленьку уложу, давай чай греть ребятам.
Тут как раз подошла моя пенсия, принялась я ее тратить. Ну што, подумать, за деньги шестьдесят рублей, на прокорм еле-еле хватает, а положишь в карман — и прямо генеральшей себя чувствуешь: и то куплю, и это, конца-краю им не будет. Стыдно говорить, а даже к коврам приценяешься.
Получила я пенсию и решила порадовать ребят: купила три пододеяльника, четыре простыни, полдюжины наволочек, пару полотенец махровых, а то, право, хуже чем в каком общежитии живут. Оленьке платье бумазейное — славненькое очень, с желтыми цыплятами — еще взяла и являюсь домой. «Вот, мол, ребята, от меня вам сюрприз». Вера-то обрадовалась, разулыбалась — баба все-таки, понимает, что полезные вещи. «Ой, — говорит, — какая вы молодец, Прасковья Тихоновна! Спасибо!» — и чмок меня в щеку. Ну, мужики, я прямо растаяла вся, душой-то размякла. «Слава богу, угодила!» — думаю. Теперь у нас на лад с ней пойдет. Удовольствие-то свое спрятать не могу, охота еще чего-нибудь приятное посулить, я и говорю:
«Я вам налажу постель-то, а то ведь срам, на чем спите. Смены три белья сделаю, тогда ладно будет. Ох, а какие покрывала видела — прямо отойти не могла! Ты загляни, знаешь куда, а то я боялась, не посоветовавшись, брать…»
Гляжу, а у ней улыбка-то пропадает, так, уголок один остался, глаза сразу злые, и ровненьким голосом одергивает меня: «Ну, все, все, Прасковья Тихоновна. Спасибо вам, но хватит об этом говорить». Значит, как укор мои-то слова о постели поняла, а того, что я от всего сердца, как мать, с ней говорила, этого ей понять не захотелось.
Расстроилась я. Зря, мол, значит, бегала, обрадовать хотела тебя, да не вышло. Пойду, мол, завтра обратно сдам. А насчет слов моих — так я вообще могу молчать. Она мне тогда: «Как хотите, Прасковья Тихоновна. Что же мне теперь, лоб расшибить, если простого спасибо не хватает!»
Я ей тоже: да я, мол, вижу, что тебе слова лишнего для меня жалко, я и так в прислугу превратилась, грязь за вами чищу, дак еще и молчи, как чучело. То не скажи, другое, третье, я, слава богу, не на вашем иждивении живу.
Она в слезы: «Как вам не стыдно, Прасковья Тихоновна, такие глупости говорить!» Я тоже заревела: «Вот уж, Верочка, дожила, в глаза дурой называют!»
Через час, што ли, слышу, она на кухню проходит — утихомирилась, значит. Дверь-то неплотно закрыла, и мне весь ихний разговор до словечка слышен.
«Витя, разве можно так? Скажи?» — «Верочка, не придавай значения. Нельзя же так нервничать». — «Но я не могу. Я с ума сойду от этих разговоров: рубли, копейки, ужасное пристрастие к сплетням. Прости, может, тебе неприятно это выслушивать, но я не мо-гу! Понимаешь?» — «Думаешь, мне приятно? Больше, чем ты, я обескуражен этим открытием: моя мать — типичнейшая обывательница. Но ты знаешь — это от старости».
Ох, мужики! Я думала, сдохну, так у меня сердце сдавило. Это ему за мать, значит, стыдно, а? Господи, деться-то куда было?! Дожила старая дура: сын оправдывается перед кем-то, что мать всю жизнь на него извела, старухой стала. Обывательница, а?! Господи, господи!.. Схватилась я — да в ванну, заперлась там и давай реветь! Ревела, ревела, опухла вся. Душа горит, обида душит.
Иду к нему на кухню. «Спасибо, сынок, за все, спасибо. Узнала теперь, почем родительский хлеб-то. Вот не думала не гадала — сын хуже чужого. Чужой-то и то сердца больше имеет». — «Что с тобой, мать! Успокойся, прошу тебя», — испугался он здорово, аж губы посерели. «Я тебе не мать, а обывательница, сплетница базарная — откажись от меня, пока не поздно, ублажи свою принцессу-то!»
Ну кто кипятком ему в лицо плеснул — как морковь вареная стал, — понял, что я все слышала.
И так мне што-то жалко его стало — сама не знаю. Вся обида пропала. «Эх, Витюха! — думаю. — Под бабой ходишь, пропадешь».
И не дай бог если выпивши придет.
Один раз вечером его нет и нет: в десять нет, в двенадцать нет. Вера все книжку будто читает — ждет, потом — жжить! — страницу пополам: не может, значит, ждать, бесится, Поднялась, ушла, а я сижу, кому-то дожидать все одно надо. Является он часа в три — тепленький, двух слов связать не может. Я уж молчу, ну, переживаю, конечно. Вера утром как статуя смотрит — ни словечка. Потом спокойно-спокойно ему: «Ну? Когда ты намерен уйти?» — «Куда уйти?» — «Вообще. От нас». — «Не говори глупостей». — «Какие глупости, Витя? Ты думаешь, можно бесконечно нас мучить? Нет. Все! Уходи». — «Послушай, Вера. Это же анекдотично: из-за чепухи разводиться». — «Пусть анекдотично. Я устала верить тебе, выслушивать твои извинения. Устала. Больше не могу. Так когда ты уйдешь?»
Тут я не выдержала: прямо переворачивается все внутри. Выскакиваю на кухню, одышка откуда-то взялась: воздуху не хватает — и только!
«Вот што, ребята. Хоть раз мать послушайте. Я Виктора не защищаю, но и ты, Вера, не права. Да разве можно за здорово живешь вдовой оставаться? Так нельзя, нет, Вера». — «Мы сами разберемся, Прасковья Тихоновна. Идите спите».
Меня всю затрясло: «Как это уходите?! Родного сына из дому гонят, а я „уходите“? Очумела, што ли, ты?» — «Не хватало, вы еще кричать будете. Ой, мама, мамочка! За что они меня?!» — тонко так завопила, лицо искорежилось. «Што мы тебе делаем, што? Будем кричать». — «Уйдите, уйдите! Как я вас ненавижу!»
У меня што-то ухнуло в груди-то, тоже как заору, да к Вите на шею: «Витенька! Сынок! Мать-то за што мучаете? А-а-а? Витя, один же ты, один!» А вот вроде как напоказ страдаю: и стыдно орать-то так, и ничего с собой сделать не могу, оседаю у него в руках.
Он перепугался, ка-ак на нее заорет!
Вера замолчала, чашку с водой мне сует. Ну, кое-как угомонились, а потом Витя просит меня: «Мать, я в самом деле уйду. Надоело. Больше так невыносимо. Ты уезжай пока, хоть видеть ничего этого не будешь. И так натерпелась. Прошу тебя, уезжай. Квартиру мы разменяем, тогда уже вместе с тобой заживем. Как следует».
Я говорю: «Если решился, конешно, разводись. Только, в самом деле, не скандальте больше. Спокойно поговорите, что поделаешь — Оленьку жалко, но так тоже не жизнь. А то приезжай ко мне, заниматься у меня будешь». — «Ладно, мать. Сейчас не до занятий».
Денег у него не было, пенсия моя тоже далеко; он куда-то сбегал, занял, и в тот же вечер попрощались мы. На Оленьку как посмотрю — и мутится в глазах-то все; как она там, золотко мое?
До-олго от него письма не было. Потом прислал: «Извини, — пишет, — мать. Слабохарактерный я дурак, и не мне разводиться. Не могу я без них».
Не сразу возвращается Прасковья Тихоновна к сегодняшнему костру, а подобно пловцу, нырнувшему в тихую, зеленую глубину, слышит поначалу гулкое «бу-бу-бу» — эхо Серегиного разговора с Лидой — и, лишь вырвавшись из воспоминаний, слышит их ясные, пронзительно громкие голоса.
И снова вздыхает Прасковья Тихоновна:
— Эх, ребята!.. Живете же вы. Прямо как заведенные. Сердце-то где?
— Оно есть, тетя Паша, но не ощущается. Какие наши годы, правда, Сережечка? Нам бы весело прожить — вот интерес получится. Скажи.
— В десятку целишь, подруга.
— Во, тетя Паша!
— Поговори, поговори. Давай мешай похлебку-то.
— Да она готова, сколько еще мешать!
— Для увара мешай.
В осиннике, густо пробившемся по ту сторону овражка, нежданно взрывается дикий, истошный крик: «Ка-ра-у-ул! На помощь! А-а-а!» Серега подпрыгивает и с открытым ртом пятится поближе к Прасковье Тихоновне. А по осиннику уже гудит мрачный, тяжелый бас: «Зарежем, зажарим, сожрем!»
— Лидка, давай миски на стол! Мужики идут.
Серега ненатурально кашляет, сует руки в карманы и отворачивается от Лиды.
Первой в овражек скатывается белоухая, черногрудая лайка, за ней вываливаются пятеро парней — пока они в удалении, невозможно угадать, что обозначено на том или ином лице, но все равно живо представляются неровные улыбки запалившихся людей, обильный, раздражающий пот, не умаляющий, однако, артельного озорства, черно-красные пятна на кадыках — и так возбужден их усталой веселостью воздух, что и стороннему передается некое приятное, завистливое беспокойство.
— Тетя Паша-а! Берегись!..
— Ну да. Я вот поберегусь! — ворчит Прасковья Тихоновна, отбиваясь от визгливо хохочущей лайки.
Серега заранее начинает улыбаться широко и приветливо, как давним приятелям, потому что привык, не смущаясь, легко сходиться с разными компаниями.
Парни рядом — вот они, — и в это время Лида приваливается к Серегиному плечу чересчур тесно, затем с преувеличенной игривостью обнимает за шею.
— Геночка, смотри-ка, какого ухожерчика разыскала! Взаимность с первого взгляда!
Геночка, парень с пунцовыми щеками и большим, губастым ртом, с темно-синими, скорее даже черно-матовыми глазами навыкате, деревянной журавлиной походкой приближается к обнявшимся, сбрасывает Лидину руку, резко, ладонью, разъединяет плечи:
— Как ты можешь, Лидия? Я же запретил тебе безобразничать!
Геночка тою же деревянной походкой идет к тепляку, прямоугольный, длинный, как фанерная мишень.
— Ох, ох, падаю! Ты мне муж, что ли, запрещать! — кричит Лида, но Геночка не оборачивается.
Серега, вскинув плечи, коротко распахивает ладони, на губы садится этакая победительно-свойская улыбочка: «Помилуйте, братцы! Я-то при чем, сами же видели».
Серегу окликают:
— Захаров, ну, как ты тут, нормально? Обжился? — Перед ним крепенький, ладненький, с острым сухоньким лицом парень в аккуратной ковбойке и тюбетейке. — Я — Дроков, бригадир. Анатолий Тимофеевич мне говорил. Будем работать вместе. Как настроение?
— А чо, в порядке.
— Прекрасно! А то, Захаров, я терпеть не могу, кто киснет. Надо энергично жить, собранно. Работы у нас непочатый край, ей нужны люди неунывающие, бодрые. Согласен?
— Ага. Я знаю: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…»
— Грубо, Захаров, шутишь. Грубо! Я этого не люблю. А в общем, обживайся, отдыхай. Смотри не подводи ни Анатолия Тимофеевича, ни меня. Мы тебе верим.
Затем Серегу берет под локоток и осторожно увлекает в сторону тощий, лысеющий верзила с рассеянно-надменным взглядом. Он нежно склоняется над Серегой и легонько тычет ему в живот большим пальцем и мизинцем, образующим этакую символическую мерку:
— Случайно не захватил? Знакомься: перед тобой Олег Климко, романтик, первопроходец, вполне порядочный человек. Что?! Нет, нет, только не это! Ехать почти из Парижа и не захватить гостинцев? Ты знаешь, мы с тобой поссоримся.
— Сейчас сбегаю и исправлюсь.
— Да, да, будь добр. Ближайший магазин — за первым углом.
Серега смеется — какой парень свой попался! И шутит понятно и простой совсем: может, даже в Майске где-нибудь встречались. Более того, он уже привязан к этому долговязому лысому тою мимолетной, неразборчивой привязанностью, без которой часа не могут прожить пустые люди, оказавшиеся в незнакомом окружении. Серега не отстает от Олега: смотрит, как тот переодевается, провожает к ручью, помогая облиться, рядышком устраивается, когда пришла пора ужинать. К этому времени Сереге кажется, что он давным-давно здесь, и он даже испытывает смутное удовлетворение от этого житья на новом месте.
Садясь за стол, Олег говорит:
— А теперь, Серега, потрудись представиться обществу: кто ты, откуда, что ты о себе думаешь?
— Думаю исправляться. Был плохим — буду хорошим. А вы теперь меня перевоспитывайте.
— Ах, вон как! Значит, на перековку? Ну, это мы с удовольствием. Ваня, перекуем оступившегося?
Сидящий напротив Олега парень в выгоревшей тельняшке, с чугунеющим от сытости крупным пористым лицом вздрагивает:
— А?
— На буксир возьмешь? Учти: у человека трудная жизнь. Рецидивист, медвежатник, а к свету потянулся, к знаниям. Ваня, будь другом, возьми. А то что подумают: герой, из тайги, и никого не перевоспитал.
— Трепись больше! — И Ваня снова затуманенным взором упирается в миску.
— Захаров, а ты бойкий. Это твой плюс. Но посмотрим тебя завтра, на просеке, — говорит Дроков, сменивший ковбойку и сапоги на тренировочную пару, но не расставшийся с тюбетейкой.
— Нет, я же серьезно. — Серега преданно взглядывает на Дрокова и простодушно помаргивает.
— Хм, люблю арапов! — жестко улыбается Дроков, морщинки тугими кольцами охватывают рот, ровные белые зубы крепко стиснуты, взгляд холоден и отсутствующ, как у человека, занятого чем угодно, только не происходящим.
— Леня, у тебя странная манера пугать трудом, который из тебя сделал бригадира и который, конечно, прекрасен. Может, Серега любит труд и с этой стороны неуязвим? Может, у него душа расстроена, может, ему главное — ее успокоить? А, Серега? Есть у тебя душа?
— Да, и очень большая, — отвечает Серега.
— Вот видишь, Леня. А ты — просека, просека…
— Ладно, ладно, Климко. Я тоже умею шутить, когда надо. Не мешай пищеварительному процессу. — И Дроков снова улыбается, но уже мягче, несколько расслабив пружины вокруг рта.
— А насчет души, Серега, лучше всего обратись к Геночке. — Олег уже опростал миску и сейчас пьет коричневое сусло — чай особой заварки. — Он большой специалист. Все объяснит и научит управлять душевными порывами.
— Не лезь, Олег! Собака какая! — Геночка благодушен после еды, под выпуклыми глазами розовые запотевшие пятна, блестят тяжелые губы.
— Передаст убеждения, взгляды, принципы, или, как когда-то говорили, принсыпы…
— Перестань, трепло плешивое!
— И самое главное: заставит уважать женщину.
— Заткнись, дурак! — Геночка хватает миску, замахивается, но ее перехватывает Миша Потапов, парень с пепельными усиками и каменными необъятными скулами, хозяин белоухой Шайбы.
Олег улыбается:
— Пожалуйста. Это, Серега, называется: поговорить по душам.
После ужина Прасковья Тихоновна вдруг бочком, бочком отодвигается от стола и неожиданно резво трусит к овражку, все оглядываясь, точно ожидая преследования. И в самом деле, по знаку Дрокова парни вскакивают и в полном молчании широкими прыжками настигают ее, молча же окружают, бережно подхватывают и легонько качают. Потом шепотом кричат: «Спа-си-бо!» А Миша Потапов венчает торжественным рокотом: «До утра терпеть можно. Спаси тебя бог, Прасковья!»
С нарочитою укоризной, улыбаясь при нахмуренных бровях, она говорит:
— Э! Э! Однажды расшибете старуху-то: воду бы на вас возить…
Потом Серега сидит возле Олега на нарах в тепляке. Геночка за столом читает письма, строго собрав лоб и выпятив нижнюю губу; что-то вырезает из журнала в своем углу Миша Потапов, время от времени примеряясь к стенке, почти сплошь заклеенной пляжными портретами девиц и дам, листовками управления гострудсберкасс, простенькими черно-белыми афишами. Шайба всякий раз, как Миша привстает, вскакивает и, с хрустом прогибаясь, зевает.
Заглядывает Дроков:
— Климко, Потапов и ты, Захаров. Раскисли туг? Айда во двор, мячик покидаем. Давай, давай, не расслабляться! Главное — форму не терять. Жду!
Миша уходит, а Олег будто и не слышит, удобно разместившись на нарах: под затылок подоткнута подушка, колени чуть не протыкают потолок, на груди устроена желтая прохладная гитара. И дымятся, зеленеют глаза, доверившись вечерней мечтательности.
— Однажды в Кустанае, Серега, мы собрались на день рождения. И мы купили бочку пива. В подарок. Представляешь? Кустанай, Кустанай… Эх, Серега!..
И таким нежным молчанием провожает Олег скользнувшее в сумерках видение Кустаная, что иной человек и усомнится: а есть ли более прекрасное место на земле, чем этот ветреный, пыльный и неприютный город? Впрочем, Олегу все равно, кто и как думает о Кустанае, да, пожалуй, и сам он ничего определенного о нем не думает — просто под воздействием сумеречной, сладко тревожащей прохлады размякает душа, готовая к восприятию прошедшего, как милого, щемяще-неясного облика за освещенным окном.
А вы стоите в темноте, над вами дрожат, колеблются листы клена; горячими, влажными глазами вы все следите за тюлевой занавеской, где вот-вот возникнет, мелькнет ее необыкновенный, смутно очерченный профиль; ваш воспаленный мозг с силой сосредоточится, чтобы помочь вам прошептать нечто путаное, страстное, самое важное — и вдруг вы счастливо обнаружите: вы ничего не скажете, вы думаете о бессовестных пустяках, но не стыдитесь их, а, напротив, ликуете, что-то высокое и главное в вашей душе сохраняется даже от вас и, неразглашенное, заживет самостоятельной жизнью, оберегая вас от дурных поступков и низких чувств.
…Он уезжал на кустанайскую целину из Каменец-Подольска пять лет назад, и его провожал папа, аптекарь Климко, не отлучавшийся из дому дольше чем на три дня. Папа говорил: «Я понимаю, Олежек, понимаю. Поезжай. Что же поделаешь, если ты собрался. Право, я не то что-то говорю, ты извини, Олежек. Должно быть, уезжать замечательно. Или я ошибаюсь, Олежек? — И из папиных глаз сдержанно падали слезы — аккуратные, отмеренные невидимой пипеткой, будто папа по каплям отпускал редкое, дорогое лекарство. — Только учись, Олежек. Прошу тебя. Если не будет возможности, больше читай. Обязательно, Олежек. Пожалуйста, поверь: без книг легко стать скверным человеком».
В Кустанае после уборочной он пристал к бригаде шабашников и отправился в Хакассию, где они подрядились ставить кошары. Боже, как он хохотал, проснувшись однажды в абаканской гостинице и обнаружив, что новый костюм и окончательный расчет за кошары увезли с собой артельщики!
Он хохотал в номере абаканской гостиницы, приближаясь к истерике, а горничная, рыхлая, старая, добрая женщина, со всхлипами утешала: «Не в деньгах счастье, сынок, не убивайся ты так. Ладно хоть не тронули тебя. Жив-здоров — еще наживешь. Ну, ну… Потом сам радоваться будешь». И конечно, оказалась права.
Он завербовался на Камчатку и пять месяцев ловил камбалу, а сойдя на берег — пыльный, дымный, душный, — поразился: как он, оказывается, соскучился даже по пыли, какой у нее щекочущий, теплый запах!
Проезжая Хабаровский край, он решил познакомиться с ним и устроился линейным связистом с предоставлением жилплощади по месту работы, то есть у черта на куличках, в чистом поле, за тридевять земель от города и начальства — в маленьком типовом зимовье.
Но сейчас, удалившись в зрители собственной жизни, он с волнением и завистью следит за человеком, живущим среди сугробов: вьется тоненькая тропочка от столба к столбу, дымит пропарина в тихой и белой речушке, покачивается обросшая мохнатым куржаком антенна — сколько трепета и торжественности перед единственным в сутки радиосеансом! Скромные, короткие праздники в рейсовые дни: за аэросанями ровная поземка — мотор не выключен, торопливое рукопожатие, торопливая роспись в накладной, таинственная тяжесть мешка с продуктами, красивые буквы зелеными чернилами на отцовских письмах.
С одним из таких писем в кармане и телеграммой, посланной соседями, Олег прилетел в Каменец-Подольск хоронить отца.
В день похорон с утра прошел дождь: ноги вязли, скользили в мартовской грязи; папа лежал меж плечами провожающих и легонько покачивался. На дне могилы блестела вода, по стенкам все еще стекали слабые дождевые ручейки. Олег поцеловал папу в сухой, бледный лоб, с каменной неторопливостью помог устроить крышку и испуганно вздрогнул, когда за спиной дружно, разноголосо заревели девчонки из фармацевтического училища.
Лишь дома, найдя в аккуратной, новенькой папке-скоросшивателе свои письма, Олег заплакал. Он читал необязательные строчки на маленьких, случайных листках: «У меня новостей нет. Живу нормально. Привет» — и плакал долго, тихо.
Он уезжал и уезжал, а разлучаясь с новым перроном, говорил себе: «Ну вот. Ехали медведи на велосипеде. Пожалуй, останусь там, если не надоест».
Со всех значительных вокзалов, где стоянка не менее пятнадцати минут, отправлял телеграммы в города прибытия (или председателю горсовета, или секретарю горкома комсомола — в зависимости от настроения): «Омск позади. Нетерпением жду встречи. Ваш Клименко»; «Через сутки встретимся, заранее радуюсь. Сердечно ваш Клименко» — и иногда его встречали. Похохатывая, посмеиваясь, приглашали в гости: он дважды ночевал у председателей горсоветов и трижды — у секретарей горкомов, потому что даже они не могли выбить место в гостинице. Кроме того, при благожелательном восприятии телеграммы помогали устроиться в приличное, теплое общежитие, минуя палаточное чистилище.
И сейчас Олег думает: «Все, все! Вернемся на базу — пишу заявление. Сто лет сижу. Пора, черт возьми!»
Но хватит об этом, молчи, молчи, изустно пренебрегая прошедшим.
— Серега, друг, если бы ты видел, как мы плыли из Тикси! У меня была каюта «люкс». Мы устраивали приемы, смеялись и пели, как дети.
Серега позевывает, потому что личных воспоминаний у него немного, скажем, совсем нет, а долго слушать других недостает ума и терпения.
— А вообще, Олег, тут, наверное, здорово скучно?
— Возможно, Серега. Вполне возможно. — Олег оживляется и с любопытством рассматривает его, как бы отстранясь, чуть отпрянув при этом любопытствующем взгляде. — Будь добр, достань вон с полки отвертку, шурупы и ручку.
Он тотчас же забывает о Сереге, примеряя дверную ручку к гитаре, прикладывает ее и снизу, и сверху, наконец решает прикрутить сбоку, наподобие чемоданной.
— Ты что? По правде, что ли? — Серега безмерно удивлен. — Зачем?
— Носить удобнее будет.
— Никогда не видел!
— И не увидешь, — бормочет Олег, собираясь уже ввертывать шурупы. — Хотя… сделаем вот как. Держи, — один конец ручки он оставляет на гитаре, другой прикладывает к животу. — Крути!
— Ха-ха-ха!.. Купил, купил! — наслаждается Серега.
— Понял? Все очень просто: было скучно, стало весело, короче, как это пишут? «Мы сами хозяева своего настроения». Этот номер с ручкой я проделывал сотню раз — безотказно! С сожалением замечу, ты — тугодум, причем не лучшего толка. А вообще, Серега, с гордостью сообщаю: я разработал сорок способов не скучать. Ты познакомился с самым простейшим и, признаю, глуповатым. А сейчас я продемонстрирую наиболее безупречный изо всех открытых.
Володя
На Караульном бугре их встретил дед Степан. Сутулый, с огромным окатистым лбом, на который кое-где свисали языки желтовато-белых волос, он засмеялся, показывая младенческие розовые беззубые десны, захлопал широкими темными ладонями-лопатами по кожаным штанам:
— Ох, гости-то какие! Здорово, Фокич! Здорово, ребятишки! Счас кормиться будем.
Он обнял Володю, поцеловал:
— Волоха, ты куда пропал? Рыба и та соскучилась — все спрашивает, когда Волоха твой будет.
— Что, Фокич, наладимся на вечерний клев?
— Я же без снастей, Степан Еремеич. Право, не знаю, как я смогу, — Тимофей Фокич радостно-смущенно зарделся от приглашения — рыбацкая страсть бурно и быстро заполнила душу, и Тимофей Фокич с надеждой посмотрел на деда Степана.
— Какой разговор, Фокич! Снасть вон любую выбирай, — он махнул на стену заимки, где висели сети, самоловы, переметы, ивовые морды, прислонялись разнокалиберные стволы удилищ.
— Что ж, пожалуй. С удовольствием, — Тимофей Фокич виновато поглядел на мальчиков, потоптался и, пожав плечами, как бы удивляясь своему бессилию перед соблазном, скорым шажком приблизился к снастям.
А дед Степан весело и громко загудел:
— Ребятишки, садись! Кваском угощу — вроде как для вас ставил.
Коричневый, в хлопьях розовой пены, с желтыми разбухшими ягодами прошлогоднего шиповника, квас веселой кислой прохладой прокатился по горлу. Дед Степан поднял кружку:
— Ну, ребятишки, с летом вас! Пусть путем отдыхается. Давай, девка, и ты глотни!
Володя потянулся к нему:
— Поговорить, дед Степан, надо.
— Ну, так кто мешает. Говори.
— Потом дак потом. Будет суп с котом. Ладно, Волоха. Я маленько выпил сегодня — душа отдыхает. Но поговорить могу: и всурьез, и шутейно.
— Серьезно спросить хочу.
Несколько позже, когда Тимофей Фокич с мальчиками ушли к реке, а Настя за цветами, Володя спросил:
— Я вот о чем. Про отца. Давно собирался. Почему отец так поздно на матери женился? Она толком не объясняет, смеется: друг друга, говорит, долго искали. Если бы пораньше у них вышло, я бы застал, при нем еще пожил.
— А что тут объяснишь, Волоха? В самом деле, поздно встретились. Батя твой провоевал всю жизнь — вот и некогда было. Сначала гражданская — в твои годы ее начал, потом регулярная служба, потом финская, потом Отечественная. Не успевал семью-то завести…
— Да знаю я все это. А все-таки жалко. Мог бы он раньше обо мне подумать… Дед Степан, а какой он был?
— Здоровый мужик, рослый. На голову, однако, поболе меня…
— Нет, я не про это! Какой вот он в молодости был, ну, что делал тогда, думал про что?
— Что делал? Охотился, рыбалил, деда больного кормил — вдвоем они жили. На вечерках мы с ним куролесили… А думал что? Все мы одно думали: учиться поедем, раз хозяева стали, да вот воевать пришлось. Я так, паря, и не выучился, а батя твой, видишь, командиром стал.
— Дед Степан, ты мне не вообще рассказывай, ты мне про отца расскажи. Понимаешь, ты так попробуй, чтобы я увидел его. Вроде как живого…
— Вот я те и говорю: веселый, здоровый мужик был. А по-другому, Волоха, не умею. И случаев никаких уже не помню, башка уже не та…
Володя замолчал. Дед Степан поднялся от костра:
— Што поделаешь, Волоха. Хреновый из меня рассказчик. Байки охотницки — еще куда ни шло, а про жизнь — затрудняюсь. Извини, паря. Побегу Фокичу пособлю. Ты-то не пойдешь? Тогда присматривай тут за костром.
Легкое золотистое пламя своей неназойливой властью удалило Володю от прошедшего дня, сообщив мыслям сосредоточенно-медлительный ход. «Наверное, напрасно допытываюсь я про отца. Невозможно узнать его ни по каким рассказам. Все равно после них я представляю, пусть даже хорошо, какого-то незнакомого человека. Как из книги узнаю жизнь героя. А моего-то личного знания, личного участия в этой жизни нет, и я никогда не представлю: кем был для меня отец. Мне семнадцать лет, пятнадцать из них прошли без отца, и, в общем-то, я ни разу не чувствовал себя из-за этого несчастным. Не знаю, привык, а все-таки удивительно: вот сижу здесь, думаю о незнакомом отце, вдруг появилась охота увидеть его живым. Почему? Может быть, пора об этом думать, может быть, возраст такой подошел, когда обязательно задумываешься об отцах, живых или мертвых, — это уже не важно. Нет, важно, конечно. О живом думать легче, он — перед глазами, даже не думать, соглашаться с ним или нет, это о мертвом надо думать — с ним не поспоришь, он не возразит.
Да, прожить бы его жизнь, почувствовать бы ее, тогда бы ясно стало: вот отец делал так-то и так-то, а думал так, и ты участвуй в делах его и думах. А одному трудно и очень неясно…»
Вечер все сгущался и сгущался, переменив теплый, веселый запах горящего смолья на грустный и влажный тальника. Пришла Настя в венке из поздних фиолетовых подснежников, с охапкой жарков и каких-то белых цветов, с крупными редкими лепестками. Володя обрадованно поднялся навстречу: ему не терпелось сказать ей, что нынешний вечер очень значителен — так остро и глубоко думается, так полно чувствуется красота — вообще он, видимо, повзрослел, и жизнь теперь ему представляется необыкновенно сложной и стройной шуткой.
— Как хорошо, что это ты пришла! — Голос у него сделался хрипловато-писклявым от молчания и нервного озноба, возникающего обычно у впечатлительного человека, когда он торопится рассказать о своем чувстве или переживании. — Я здесь сидел, думал. Смешно, но никогда раньше не замечал, что интересно просто так вот сидеть и думать. И что от этого особенно полно чувствуешь жизнь…
— О чем ты думал? — Настя бесцельно перебирала цветы прямо в охапке и нет-нет да окунала в прохладную зелень лицо, громко, с наслаждением вздыхая при этом.
— Думал, что мы очень правильно сделали, что пошли в этот поход. Понимаешь, сидел я здесь один, и вечер так меня закружил, что стало казаться: тени, тени в круг меня ходят! Понимаешь, прошедшие тени! Как говорит Сударь, сработала историческая фантазия. Мне и страшно, и холодно, и восторг какой-то, что я чувствую!
— «Здесь чудеса, здесь тени бродят…»
— Нет уж, пожалуйста, Настя! Не шути! — Володя приблизился к ней и остановил ее руку, перебиравшую цветы. — По-моему, это важное чувство. Я хочу, чтобы ты поняла, что я думал. Чтобы у нас это общим было! — Володя неловко задел цветы.
— А ну тебя! — Настя нагнулась за ними.
— Настя, зачем ты так?
— Давай лучше помолчим. А то ты уже всхлипывать начал.
— Но почему, почему ты так?
— Успокойся. Я все поняла. Но давай помолчим.
— Ни за что не прощу тебе этого! Никогда! Ты… ты какая-то бесчувственная, вообще, я тебя не понимаю!
— Замолчи. Устала не знаю как, а тут еще выслушивай.
Послышались голоса возвращающихся рыбаков: басок Коли Сафьянникова, тоненькие, радостные восклицания Тимофея Фокича, гулкий бас деда Степана. Володя замолчал.
На другой день, воротившись из похода, Володя застал мать дома. Она собиралась на завод, во вторую смену, куда-то закатилась табельная бирка, мать обшарила все углы, отодвинула комод, заглянула под кровать — лицо у нее было красным и сердитым. Володя, наспех умывшись, не садясь за стол, принялся помогать матери. Бирка нашлась в газетнице, мать обрадованно и удивленно развела руками:
— Это надо же, где была! Хоть всю жизнь ищи — не найдешь. — Она сунула бирку в карман спецовки, вынесла в коридорчик завернутый бутерброд, старый кошелек из черной кожи, библиотечную книгу, сложила все это горкой на обувном ящике, чтобы перед уходом не забыть, и вернулась в комнату.
— Что, Вовка, ног не чуешь? Находились? Ничего, теперь казак вольный — отдохнешь.
— Мам, ты помнишь, как с отцом познакомилась?
— Вот те раз! С чего это ты?
— Просто так, интересно. Спросить, что ли, нельзя?
— Можно, кто ж говорит? Да неожиданно больно. Мне вспоминать — два десятка скостить надо. Вот ведь что.
— Ну расскажи, мам, расскажи, если помнишь!
— Особого я тебе ничего не расскажу. Обыкновенно все было, как у людей. — Мать присела за стол и, как бы помогая рассказу, начала собирать на скатерти темными пожившими руками, сгребать в кучу минувшие, видимые только ей дни. — Я в пятидесятом в Майск приехала, по вербовке, завод строить. По стройкам-то я уже намыкалась, попутешествовала, и вот предчувствие было, что здесь — моя последняя. Приехала, пришла в кадры, а начальником там твой отец. Тогда, конечно, я этого еще не знала. Представительный такой, седой, орденские планки на груди.
Последняя запись в «трудовой» у меня на Урале была сделана, в мостопоезде, вот отец-то полистал книжку, прочел эту запись и спрашивает: «Надолго к нам?» Что в таких случаях отвечают? «Как понравится», — говорю. «Что-то, — говорит, — во многих местах вам не нравилось». Ну, я бойкая тогда была, слова прямо прыгали с языка: «Судьбу, мол, все ищу, да пропала куда-то. Может, и здесь ее нет?» Он тоже пошутил: «Здесь обязательно найдете. Вся судьба здесь». — «Коли так, — говорю, — значит, никуда не денусь».
Поселили меня в общежитие, а половину его занимали одинокие специалисты. И отец твой в соседях оказался. Каждое утро и каждый вечер видимся. Он обязательно поздоровается и спросит: «От судьбы известия есть?» Я каждый раз отвечаю: «Нет, но скоро, будут». И хоть я знала, что он одинокий специалист, все-таки как-то поинтересовалась: квартиру, мол, видно, ждете, без семьи-то здесь. «Нет, — говорит, — на роду мне написано холостяком жить».
И так мне его жалко стало: в годах, такую войну прошел, а поди, сам носки себе под умывальником стирает, как парнишка демобилизованный.
И жалость эта день ото дня меня все больше и больше разъедала. Участок наш как-то на массовку собирался, я насмелела да и говорю отцу-то, когда он снова про судьбу спросил: надоело, мол, ждать. От жданья кровь портится. Можно, мол, вас на массовку пригласить? Он посмотрел так зорко, подумал, «спасибо» сказал и поехал с нами на массовку.
День жаркий был, веселый, саранка уже зацвела. И гуляли мы весело. Отец твой только вдруг пропал куда-то. Нет и нет. Я чуть не заревела. А он саранки искал, принес букетик и мне, принародно, подает: все замолчали даже — ясное, мол, дело. Яснее дня. Я покраснела, конечно, да что там покраснела — сгорела со стыда. Но букетик взяла и в лес убежала, — мать и сейчас, много лет спустя, зарумянилась, смущенно опустила голову, сняла косынку и обмахнулась ею.
— А тебе сколько лет было? — спросил Володя.
— Так сколько… Двадцать шестой шел. Ой, хватит болтать-то, опоздаю. И что это тебя на расспросы сегодня потянуло? Вовка? Мне даже жарко стало, — мать задрожавшими руками повязала косынку и, видимо все еще не освободившись от воспоминаний, смущенно улыбнулась.
— Почему сегодня? И раньше спрашивал, да ты все отшучивалась: «Долго не находили друг друга…» Видишь, как интересно все было.
— Да, хорошо было, — вздохнула мать. — Как у людей, а может, и получше. Отец уж больно душевный человек был. Спокойный, добрый, и не подумаешь, что всю жизнь провоевал. Учиться меня заставил. Какой бы техникум без него был! И перед смертью, прощаясь, мне все говорил: «Вовку учи. Из последних сил, но учи».
— Мам… Ты извини… Ведь одной трудно было. Почему ты снова замуж не вышла?
— Глупости-то не болтай. Разговорился. — Мать рассердилась, встала, взяла с комода папиросы. — Больно много понимать стал. Не вышла, значит, так надо было. Тебя вот вырастила. Мать вдруг часто заморгала, сморщилась, постарела и ушла в коридорчик. Закурила там, громко, тяжело затягиваясь. Не заходя больше в комнату, сказала:
— Ты давай не полуночничай сегодня. Вовремя приходи. Пол вымой, цветы полей. Каникулы длинные, успеешь нагуляться.
— Ладно, мам. Сделаю. Счастливо.
Оставшись один, Володя долго рассматривал фотографию, стоявшую на комоде: на плотном матовом картоне были мать и отец, а чуть впереди них на высоком стульчике сидел наряженный в матроску, кудрявый, трогательно-пухлый ребенок — он, Володя. Мать говорила, что сфотографировались они за месяц до смерти отца. «Это он и зазвал меня. Как чувствовал. Пойдем да пойдем, пусть Зарукиных в полном составе запечатлят. А через неделю простудился — организм-то немолодой, не выдержал».
Но на фотографии отец выглядел молодо, и молодила его, как ни странно, седина: ровная белизна закинутых назад волос проливала смягчающий свет на лицо пятидесятилетнего мужчины, скрадывая морщины на высоком лбу. Рядом с фотографией стояло зеркало, и Володя тщательно сравнивал свое лицо с лицом отца. «Лоб у меня поуже и надбровья не такие крутые. А вот брови вроде одинаковые — у переносицы широкие, а у висков загибаются тонко, как конец серпа. Нос не его: у него прямой, крупный, и ноздри сильные, вообще хороший нос, не то что мой — узкий, сплющенный, и кончик у меня квелый. И скулы у него помощнее, и подбородок. Нет, мало похожу, очень, — Володя вздохнул и отошел от комода. — Мать говорит, добрый был, душевный. А я? Если разобраться, то я и не знаю, что я за человек. Да и как узнаю? Вот внешне не похожу на него, а может, характером — вылитый он. Может, тоже добрый и душевный. А что? Вполне может. Никому зла не желаю, никого не хочу обидеть, ссориться не люблю. Мать мне жалко. Выходит, похожу».
Но тут Володя вспомнил, что вчера поссорился с Настей, обидел Кеху, и тот сегодня почти не разговаривал с ним, вспомнил, что чересчур болтлив, несдержан, не умеет с достоинством признавать свою неправоту, мелочно самолюбив, и, вспомнив все это, принужден был сказать самому себе: «Нет, лучше не разбираться, какой я. Какой есть, и ладно. И похожу ли я на отца — все равно не узнать. Если бы он жил, я наверняка был бы другим. А так что же? Вырос без него, конечно, походить не буду. Вообще, лучше не думать!»
Он вышел на улицу, не представляя, куда пойти. Можно бы к Кехе, но вчерашние разговоры несколько остудили их отношения, и пока появляться у него неловко. Можно и к Насте, но к ней он ни за что не пойдет. «Я перед ней душу выворачивал, а она опять свой каприз выставила. Пусть уезжает. Надо хоть раз характер выдержать. Может, поймет тогда — не все по ее выходит», — через силу распалялся Володя, потому что очень хотел увидеть Настю.
Она уезжала сегодня с отцом на юг. Володя помнил, что говорила Настя однажды про эту поездку: «Разлука, Вовка, разлука — чудаки мои ужасно бдительны. У отца сегодня отпуска распределяли, он матери сказал — я случайно слышала: „Настасью дождусь, на юг уедем, а то тут голову от безделья потеряет. Нынче у них это быстро“. Смешно, правда? Как мне жалко! Ты же один тут — скажи, будешь скучать, будешь?» А он видел, что вовсе ей не жалко, до смерти интересно съездить на юг, и тут ничего не поделаешь.
Чтобы ненароком не очутиться возле Настиного дома, Володя решил припомнить какую-нибудь особенно нелепую ссору с ней, и тогда, раздраженный старой обидой, он действительно выдержит характер.
Как-то она убежала без него в кино на дневной сеанс, а собирались вместе, вечером, он так готовился к этому, даже на кафе деньги были — всю неделю не позволял матери ходить в магазины и скопил на недовесах почти пять рублей. Он ждал Настю после сеанса и с ревнивой злостью ринулся в дверь, протолкнулся, протиснулся сквозь толпу, ворвался в зал — посмотреть, с кем Настя? Она была одна, обрадовалась ему и, прижимая ладошки к влажно-горевшим щекам, сказала:
— Ой, как хорошо, что ты не пошел, — фильм ужасный, духотища, жара! Спасибо, что встретил.
— Но мы же собирались вместе, — Володя не смотрел на нее, говорил обиженно-ледяным тоном. — Я, как чучело, проторчал тут.
— Вовочка, не сердись, не обращай внимания. Ну, так вышло, сама не знаю — захотелось одной. Ну-ка, ну-ка, посмотри на меня! — Ртутные столбики задрожали в ее зрачках, Володя чуть не улыбнулся, но выдержал, сурово заметил:
— Лишь бы самой хорошо, на меня наплевать. Как ты могла? Нарочно же.
— Это ты нарочно. Злился, злился — и фильм испортился. Я сбежала — ты наказал. Ну чего ты к пустякам цепляешься?
— Вот здорово! Я цепляюсь, говорю пустяки — ладно. У тебя, видишь ли, был каприз, прошел, я в дураках, да еще молчи! Ну, спасибо, объяснила, больше не буду!
— Ах, вы только посмотрите на эту сцену! Вы только послушайте этого ревнивого школьника! — Настины глаза заволоклись сизой, томной дымкой, голос приобрел восторженно-язвительную звонкость. — Сейчас он скажет, что растоптаны его лучшие чувства.
— Перестань, Настя! Я-то, дурак, думал, хоть немного неловко тебе будет! Не тут-то было!
— В самом деле, какой ты дурак! Зареви еще! — Она скривила тугие, полные губы.
Он вспомнил эту ссору подробно, горячечно, а когда устал обижаться, обнаружил, что стоит под Настиными окнами. Ему нестерпимо захотелось помириться, но он понимал, что для этого надо превратиться в совершенно другого человека: молчаливого, сдержанного, имеющего за плечами покоренный полюс или прошедшего Сахару без глотка воды. «Ах, ну как бы мне стать таким! Только быстрей бы, сию же минуту!» Володя маялся, места не находил, но не предоставлялось никакой возможности мгновенно совершить нечто героическое.
Настя заметила его и выбежала на крыльцо, в больших шлепанцах, в коротком халатике, с наспех закрученной косой, возбужденная дорожными сборами.
— Здравствуй, Вовочка! Очень хорошо, что пришел. Я рада! — Вчерашнее забыто, отступило под натиском праздничных, южных дум.
— Здравствуй, — растерянно сказал Володя. — И я рад.
— Я только на минутку, извини! Еще собираться и собираться. До поезда два часа, а папа копается и копается и меня заставляет. А так постоять с тобой хочется!
— Да-а, — протянул Володя, видя ее беспечно-отсутствующее лицо и понимая, что она уже уехала, уже на пляже и на мокром песке ее маленькие узкие следы. — Мне скучно будет, Настя.
— Я тебе напишу, обязательно напишу! Ну, ладно, Вовочка, до встречи. Подумаешь, какой-то месяц! — Настя прикоснулась к Володиной щеке губами и убежала.
После этого прощания его испугало обилие праздности, ждавшее летом. «Куда деваться? Умру со скуки! Так пусто стало. Пойду к Кехе, теперь что же… Объяснимся, но надо быть вместе. Вместе что-нибудь придумаем. Скажу: не дуйся, пожалуйста, пусть все по-прежнему станет…»
Дверь открыл Юрий Андреевич, отец Кехи, полный, лысеющий, с добродушно оттопырившимся брюшком. Кеха очень походил на отца: те же толстые тяжелые азиатские скулы — только у Юрия Андреевича черты эти смягчались возрастом, несколько оплыли и были нездорово-мучнистого цвета, что выдавало человека кабинетного, отвыкшего от свежего воздуха.
— А, Володя. Добрый вечер, — Юрий Андреевич посторонился, пропуская гостя. — Проходи, проходи. Ты весьма кстати.
Кеха стоял у окна, и лучи заходящего солнца разбивались о его плечи, и оседала на них золотистая пыльца. Лица его против света Володя не разглядел.
— Скажи, пожалуйста, Володя, — Юрий Андреевич придвинул ему стул. — Что у вас в походе случилось? Иннокентий сам не свой и меня замучил…
— Папа! Ну зачем ты? Сразу с порога начал. Разве можно… — Кеха замолчал, отошел от окна, сел напротив Володи, отводя пасмурные, недовольные глаза.
«Хотел сказать: „Разве можно при постороннем“. Ему страшно неприятен мой приход. Ничего, перетерпишь, мне тоже не сладко. А про „постороннего“ я еще спрошу». Володя пожал плечами:
— Ничего вроде не случилось. А что такое?
— Я полагаю, Володя — твой друг и может принять участие в разговоре. — Володя быстро и благодарно кивнул. — Позавчера я сказал Иннокентию, что его дед — белогвардейский офицер. Погиб под Юрьевом, в двадцатом году. Мне всегда было больно сознавать, что отец — враг нашего строя и, в сущности, был обречен на гибель. Время помогло забыть эту боль, и я не хотел бередить ее бесплодными воспоминаниями. Теперь Иннокентий не дает мне покоя: почему ты молчал, почему, видите ли, не посвятил его в эту семейную драму. Скажи, Володя, вы говорили об этом в походе?
Володя глянул на Кеху, смутился:
— Н-не помню…
— Так, так, — Юрий Андреевич прошелся перед мальчиками. — По всей видимости, говорили. И конечно же мысль о деде-белогвардейце у партизанской могилы произвела на вас тяжелое впечатление. Так, так.
— Папа! При чем здесь: говорили, не говорили! Важно только одно: ты мне не говорил столько лет! Боль не хотел бередить! А мне знаешь сейчас как больно?!
— Отчего же больно, дружок? Даже тень твоего деда не коснулась тебя. И слава богу! И потом, что бы изменилось, если бы я сказал тебе раньше?
— Не знаю. Может быть, я по-другому бы относился к жизни. Может быть, я по-другому относился к тебе. Во всяком случае, я понял одно: если отцы что-то не рискуют говорить детям, значит, они стыдятся чего-то в прошедшем, значит, боятся суда своих детей.
— Слова, дружок, слова. В свое время ты бы все узнал. А стыдиться мне нечего. Как говорили когда-то, дети за отцов не отвечают. Я за своего не отвечаю, и ты можешь сделать то же самое, размышляя о моей жизни.
— Неправда! Еще как отвечают! Дед — твой враг, и ты вражду эту не забывать должен, а и сыну, и внуку о ней рассказывать! Чтобы помнили, чтобы в крови это было! Вот как ты отвечаешь! И стыдиться есть чего: твой отец, а ты его забыл, нарочно не вспоминал. Пусть белый, пусть враг, но он — твой отец, а ты столько лет ни разу не заикнулся. Хорошо будет, если и я тебя потом даже словом не вспомню? Хорошо?
— Ты очень неожиданно рассуждаешь, Иннокентий. Во всяком случае, для меня. — Юрий Андреевич постоял, потрогал пальцем вспотевшую верхнюю губу. — Достаточно наивно, но и достаточно зло. Если бы ты знал, во что мне обошлась память о деде! Сколько анкет я заполнял, зажмурившись, с холодом в сердце, когда доходил до графы — «ваши родители»? Что ты обо всем этом знаешь? А берешься судить…
— Вот-вот. Ты просто боялся, а говоришь: боль, бесплодные воспоминания. А я теперь не знаю, что думать. Не думай, что если дед, так меня не касается. Еще как касается! Теперь-то я понял.
«Это он поход вспомнил, — подумал Володя. — Надо уходить. Я теперь лишний».
— Боялся, говоришь? Возможно, возможно. Зато ты теперь удивительно смелый. Тебе не кажется, что между такой вот боязнью и такой вот смелостью есть прочная связь? Об этом ты не подумал?
Володя встал:
— Извините, мне надо бежать.
— Пожалуйста, пожалуйста, — рассеянно отозвался Юрий Андреевич.
— Подожи, я провожу, — сказал Кеха.
— Надеюсь, ты недолго? — спросил Юрий Андреевич, расстегнув рубашку и потирая рукой слева под ней.
— Нет.
Они вышли на лестничную площадку. Кеха, насупившись, машинально приглаживал кудри. Володя сказал:
— Знаешь, ты не сердись за поход. Я же не думал, что все так не просто.
— Я не сержусь. Видишь, с отцом-то как круто пошло. Разругаемся сегодня — точно.
— Ты помолчи лучше.
— Не. Не смогу.
— Завтра что делать будешь?
— Завтра, завтра… Ах да! Работу искать пойду.
— Как?!
— В смысле, на лето. Я подумал, подумал: такие лбы здоровые, от чего мы отдыхать-то будем? И вообще, делать что-то надо.
У Володи дыхание перехватило: так просто и заманчиво было Кехино решение.
— Кеха, и я. И я хочу работать! Бери в артель, а?
— Да ради бога. Вдвоем веселее будет.
— Здорово! Повкалываем лето, к осенней охоте ружья заведем, амуницию — во!
Кеха поморщился:
— Сразу уж ружья. Просто делать что-то надо.
— Нет, я понимаю, — смешался Володя.
— Ну, до утра.
— До утра, Кеха. Держись!
Володя встал по будильнику ровно в шесть, потихоньку прошел на кухню, чайником старался не греметь, но мать все равно услышала и позвала:
— Вовка, не сходи с ума! Обязательно в такую рань, да?
— Мам, ты спи, спи. Кеха же ждет.
— Тут поспишь. Как же! — Мать тоже встала и, погладив темными морщинистыми руками неотдохнувшее лицо, привычно закружилась на кухне: заварила чай, смастерила бутерброды, вынула из кастрюльки с холодной водой бутылку молока, с тяжелым, сонным вздохом нагнулась, доставая из тумбочки сахарницу.
— Зря вы это, Вовка, затеяли. Недельку, другую надо было отдохнуть.
— А мы не устали. С чего отдыхать-то?
— Ну, все-таки. Считай, год взаперти над книжками просидели.
— Вот и проветримся, пропотеем. Мам, ну, ты иди, иди. Ложись. Не спала же совеем. — Мать вернулась с завода ночью.
— Да ладно. Успею.
— Смотри, начальству пожалуюсь.
Мать улыбнулась, улыбка на мгновение расправила темные, глубокие морщины у глаз и у крыльев носа, сразу помолодела, посветлела кожа — как бы высвобождались из морщин, вновь освещали лицо ушедшие годы. «Старенькая уж, какая же она старенькая!» — думал всегда Володя, и укалывало сердце жалостью и безотчетной тревогой.
— Я тебе пожалуюсь. Тоже волю взял, — сказала мать и снова улыбнулась.
«Пожалуюсь начальству», — давняя Володина шутка, которую он сочинил, прочитав как-то в принесенном матерью «Руководстве для контролеров» следующее правило: «Контролер электролизного цеха должен являться на смену бодрым, хорошо отдохнувшим, так как усталость приводит к невнимательности и опасным действиям», — прочитал, запомнил и при случае пошучивал над матерью, думая в то же время: «Хоть бы уж отдыхала как следует. В самом деле еще выйдет что — тьфу, тьфу, чтоб не сглазить!»
— Мам, серьезно, иди спи. Ну, чего встала!
— Тебя жалко. Ехал бы в лагерь, в цехе путевку хоть сейчас пожалуйста. Хуже людей, что ли?
— Ага! «Подъем», «отбой» — пусть пацаны едут.
— Хочешь, где туристы езжай. Хоть и не больно велик.
— Все, все, мам. Договорились же! Пока, помчался.
Неяркое теплое утро, и как бы отдельно от тепла и тишины над ними сквозил, переливался прохладный воздух. Володя, дождавшись Кеху, спросил:
— Ну, чем вчера кончилось?
— Ничем. Договорились, что проблемы отцов и детей не существует.
— Нет, правда?
— Он валидол сосал, я вот не выспался.
— Значит, поссорились?
— Вроде нет. Он ночью пришел ко мне, сказал: «Я не заметил, как ты повзрослел. Извини. И поэтому отныне предлагаю полную откровенность: я готов обсуждать с тобой любые вопросы. Надеюсь, и у тебя возникнет такое желание».
— А ты?
— Я согласился… Хватит об этом, а?
— Пожалуйста, — равнодушно-вежливым тоном ответил Володя.
Они пришли на речной причал проситься в грузчики. Грузчиков нанимал представитель орса, безбровый, рябой дядька, дневавший и ночевавший на причале. Он долго разглядывал Володю и Кеху голубовато-мутными от недосыпания глазами.
— Восемнадцать есть? — Голос у него оказался мягким, хрипловато-ласковым.
— Пока нет, — сказал Кеха.
— Но мы сможем, мы выносливые, — заторопился Володя, испугавшись, что не возьмут. Кеха сунул ему кулак в спину.
— Не имею права, ребята. Хребет сломаете, — дядька дернул красными надбровьями, захохотал: — А лечить кому? Карману моему? — Зубы у него были белые, крупные и рассажены поодиночке. «Ужасный врун», — подумал Володя.
— Чо же, мамки не кормят? Или силенку девать некуда? — Дядька снова захохотал.
— У нас тут план один есть. Мы накопить решили, — с искательной улыбочкой — самому было противно — заговорил Володя, но Кеха опять оборвал тычком в спину:
— Надо нам.
— Значит, и у вас головы от планов кружатся — о-хо-хо! Мне бы, ребята, ваши планы — одни бы премии получал. А с моими, глядишь, с работы снимут. Ладно, — дядька нахмурился, взял со стола полевую сумку, — подождите тут секунду. Договоримся.
Кеха сидел, опустив голову, толстые губы его подрагивали, потом нижняя вытянулась, чуть отвисла, сообщив лицу этакое брезгливо-снисходительное выражение.
— Да, Вовка, несет тебя без оглядки. И просить не надо — всю жизнь расскажешь. Зачем тебе это?
— Я же сочувствие у него вырывал. Чтоб наверняка было, — Володя покраснел, смешался и тотчас же разозлился, что Кеха пристыдил его, и пристыдил правильно. — Знаешь что! Говорю, как умею и как хочу!
— Пожалуйста, только не при мне.
— Ничего, перетерпишь.
Кеха замолчал.
Эту жалкую манеру — соваться с откровенностями к первому встречному — Володя знал за собой давно, но никогда не задумывался, откуда она берется: тянуло за язык, подмывало.
Он понимал иногда, что характер у него дурацкий, никудышный, вовсе никакого характера нет, а есть некое странное устройство, сделанное из случайных желаний, глупостей и неудержимого стремления кому-то подчиняться, кого-то любить, кому-то верить, — но понимал он все это не с тою холодною ясностью, которая требует переделок натуры, а смутно, наплывами, с долею истерического равнодушия: «Ну и пусть, пусть! Какой есть, и ладно!»
В ряду смутных и редких догадок о собственном душе-устройстве была одна, особенно неприятно действовавшая на Володю: «Конечно же, я никто. Никому не могу противиться. Раз — и за Настей бегаю, раз — и Кехе в рот заглядываю за каждым словом. Почему, почему мне никто не подчиняется? Никто не ищет моей дружбы? Всегда я первый! Слабый, значит, неинтересный! — выходило так уж горько, несчастно, что обязательно всплывало какое-нибудь утешение: — Нет, просто самому мне ничего не надо, лишь бы Настя или Кеха радовались мне, нуждались во мне — вот тогда я и рад, — и он незамедлительно умилялся этою самоотверженною мыслью: — Да, да, я их очень люблю! И больше ничего не хочу знать!»
Вернулся рябой дядька, хлопнул на стол две пары брезентовых рукавиц:
— Теперь так, ребятки. Беру я вас, но незаконно. Кто ни спросит, говорить, что полные граждане. Ясно?
Кеха спросил:
— А как платить будете? По закону или как?
Рябой рассмеялся:
— Хват какой. Сколько сделаете — столько получите. Аванс могу выдать, — он расстегнул полевую сумку.
— Не надо, мы уж враз. Но все-таки сколько получать-то будем?
— Не обижу, не бойся. Дам вам баржонку — помаленьку ковыряйтесь. Ну, пошли…
В трюме «баржонки» сыро, затхло, темно, лишь под люком ошметок света, да слабо белеют ряды мешков с сахаром и солью. Володя, разглядев их, ужаснулся:
— Елки-палки! Тут на год хватит. Тоже мне «баржонка» — линкор целый.
Кеха сдернул мешок:
— Слева — сладко, справа — солоно. Давай, Вовка, горб. Начали.
— Кеха, на год, говорю, хватит.
— На год так на год, по воздуху не перелетят. Горб подставляй.
Володя охнул под тяжестью мешка и, неверно покачиваясь, вступил на трюмный трап: мешок тянул назад, сползал со спины. Володя согнулся — чуть досок лбом не задевал — теперь мешок придавливал его, напирал на затылок — все трещины и сучки трапа разглядел Володя, пока не вылез на свет божий и бегом, бегом под безжалостными толчками груза к брезентовому навесу на берегу — «тух!» — с глухим стоном рухнул на землю мешок. Володя выпрямился, чувствуя, как тянущий хруст наполняет поясницу. Постоял, желая продлить передышку. Нехотя, с утренней ленцой покачивалась вода, ее слабое дыхание оставляло на песке полоску прозрачной, сахарной пены; у того берега, в отраженной тени сосен, насторожились лодки с рыбаками, их головы прикрывала, грела крыша из солнечных дранок — Володя вздохнул: «Клев сейчас должен бы-ыть! Елки-палки!»
Как вынес пятый мешок, он не помнил — память изошла горячими ручьями пота, спину скреб соленый наждак, вся слабость скопилась в горле, хотелось реветь — ох и сладок же был затхлый покой трюма, где он сменил Кеху, сладок и тревожен: «Хоть бы Кеха упрел, как я, подольше, подольше бы отдохнуть!»
Конечно, Кеха очень устал: запаленно, надсадно дыша, привалился к мешкам, долго вытирался подолом рубахи, и Володя уже подумал: «Сейчас скажет: давай плюнем, поищем чего-нибудь полегче», — но Кеха заправил рубаху, потряс кудрями, как бы окончательно освобождаясь от слабости:
— Пошли поедим.
К причалу сползлись катера, буксиры, самоходки, куцые безмоторные баржонки и присосались к его черно-смоляному брюху. Сухо трещали лебедки, звенели причальные краны, надрывался хор гудков — над всеми этими механическими звуками возносилось нервно-радостное, живое:
— Эй! Берегись, сторонись! Эй!
Володя едва увернулся: мимо проплыл смуглый потный человек с кулем цемента на плечах; он оттолкнул Володю злым, черным глазом, выдохнув: «Эть!»; следом надвинулась мощная рыжая грудь, громадный куль пропадал среди вспученных белых бугров. «Зашибу, пацаны!» — тонко и высоко пропел голос. Неумолимое движение блестевших напряженных тел рождало странный обман зрения: плетеные двужильные тросы кранов, лебедок вдруг зачернели тонко, ниточно — живая, древняя сила мышц заслонила могущество металла.
— Во дают, а! — сказал Володя. — Мы козявки, мухи, куда лезем, спрашивается?
Из-под взмокших, слипшихся кудрей Кеха глянул на него неприязненно и устало, покачал головой, думая видимо: «Не зуди, ради бога!» — но смолчал. Володя же, вспомнив соленую, глухую жару, нависшую над трюмом, бесконечные ступеньки трапа, вовсе сник и слабо, невнятно бормотал: «Ну влипли, елки-палки, вот влипли!» А после обеда, когда дурное настроение усилилось под гнетом сытости, он затих на травке и поклялся, что пальцем не шевельнет, хоть режь его, жги, он в конце концов не автопогрузчик. Кеха рассмеялся:
— Вовка, ты вчера ружье поминал. Говорят, в «Спорттовары» привезли. Штучные и почти бесплатно.
Володя только повел сонными, умирающими глазами.
— Вообще-то лежи. На рогатки мы уже заработали. Куда нам больше?
Володя не шевелился. Кеха встал, потянулся и пошел к конторе. Оттуда он принес два мешка, на живую нитку переделанных в капюшоны, и голубой листок, выдранный из амбарной книги, с аккуратным столбиком расценок. Кеха, приподняв Володину голову, быстро нахлобучил на нее капюшон:
— Ну ты, работничек, слушай. Тонну сахару, то есть двадцать пять мешков, на берег — и в кармане шесть рублей. Сто мешков — почти четвертная. Вовка, давай на баржу! Десять дней, и мы снова интеллигенты!
— Серьезно? — голос у Володи осел, охрип от жаркой послеполуденной дремы. — Нет, тогда другой разговор! Другое дело!
Володя в считанные минуты понял, что скоро только сказка сказывается — сотый мешок спрятался где-то в трюмном мраке, кровавый пот прольешь, пока доберешься. Тем не менее, кряхтя над каждой ступенькой трапа, Володя говорил:
— Ничего, ничего. Выползу, а вместе со мной двадцать четыре копейки — тяжеленные, елки, какие! Та-ак, помаленьку, копейку к копейке, — и от этих натужных подсчетов ему становилось легче.
И позже, когда бригадир грузчиков прокричал дневной смене: «Шабаш!», Володя держался молодцом, хотя желанную норму они так и не осилили. Он отошел от навеса, долго разглядывал серую гору мешков, наконец восхитился: «Все-таки здоровая груда, а, Кеха?» — и тотчас же ощутил, как упруго взбухли под рубахой мускулы — жаль, постороннему глазу незаметно.
— Ты знаешь, проветрюсь, пожалуй, — Володя быстренько стянул рубаху. — Ух, замечательно! — он согнул руки этакими кренделями, резко втянул живот и валко, мерно зашагал — удивительно, почему не прогибалась земля под грузом этого мощного здорового тела?
Володя с удовольствием рассуждал:
— Завтра, точно, легче будет. Втянуться, елки, главное, — давно известно. Завтра в два счета смечем — сноровка же появилась! Ох и ребята же мы! Загляденье, орлы! — неистовствовал он, вовсе, конечно, не представляя, что завтра железным обручем схватит, сдавит поясницу, плечи; ноги размякнут и со щекочущей слабостью будут подгибаться, подламываться — трети нынешнего не вынесут. Кеха этого тоже не представлял, но, по обыкновению, молчал, и молчание его несколько охладило Володю.
Однако за час, который они провели порознь, ужиная и собираясь на танцы, в Володе вновь успел настояться восторг перед столь мужественно проведенным днем, и он вышел на улицу с умильно сияющим лицом. Кеха торопливо сказал:
— На тебя посмотришь — жмуриться охота, закройся, — испугавшись, что на него опять обрушатся потоки милого, горячего вздора, от которого он устал. Поэтому Кеха предложил:
— Давай лучше на берег. Что-то толкаться сегодня лень. Пройдемся да спать.
— Нет уж, пожалуйста, пойдем на веранду. Настроение — вот!
— Вижу. — Кеха усмехнулся. — Тогда уж и ты, пожалуйста, забудь об этих мешках, баржах, ладно?
— Да я и не собирался. А тебе уж неловко, стыдно — растреплется, мол, да? Сделали мало — радости много, да? Что, тебе жалко, если я поговорю? Убудет? Что ты вечно меня стесняешься? Скажи, мы друзья или нет?
Кеха промолчал.
— Не нравится, что я тебя своим другом называю?
— Что, как теплую водичку, ничего не держишь!
— Мне не стыдно в любое время, в любом месте друга называть другом!
— Ну даешь ты!
— Нет, ты скажи, мы друзья или нет? Ну? Что ты, как девочка, стесняешься? Скажи.
— Замолчи лучше.
Совершенно помрачнев, Володя решил молчать весь вечер и первым свернул к берегу — какие уж танцы с теперешним-то видом. Они погуляли, повздыхали и разошлись, очень недовольные друг другом. На прощание Володя буркнул:
— Смотри не проспи завтра.
— Да уж как-нибудь.
В дальнейшем размолвка эта растаяла, расплавилась — в темном пекле трюма всяческие душевные тонкости и порывы придавила многотонная сахарная глыба, из-под которой вырывались порой голоса: Володин, унылый и отчаянный («Кеха, когда это кончится? На каторге мы, что ли?»), и Кехин, сумрачно-спокойный («Не бросать же теперь. Вон сколько сделали»), — в конце концов пришел день, когда Кеха вытащил из штанов замусоленный голубой листок с длинным столбиком цифр, отмахнул со лба кудри и улыбнулся:
— Все, Вовка. Наступает расплата.
Когда они появились на пороге конторской будки, рябой безбровый дядька, представитель орса, сказал хрипловато-ласковым голосом:
— Чую, чую, братцы, отработались, — он вытащил из полевой сумки черную тетрадь, — больше, значит, невмоготу? Ну-ка, ну-ка, что у вас получилось? — нашел нужную страницу и удивленно, ободряюще воскликнул, точно впервые видел эти цифры: — Ишь наворотили! За месяц по сто сорок рубчиков — другому мужику не заработать! Чо, больше-то не надо?
— Нам хватит, — сказал Кеха.
— Что ж, заработали — получите. — Дядька придвинул бланки нарядов, насадил очки на мясистый, тоже в оспинах нос, оправа плотно прилегла к надбровьям — показалось, что дядька нарисовал себе черные брови. — Честь по чести уж постараюсь. Закрою тютелька в тютельку. Да, трудовое воспитание — вещь очень полезная. Я — за. Правильно вы, ребята, придумали, — писал он медленно, старательно, то и дело поглядывая на Володю с Кехой, будто хотел рядом с фамилиями попутно набросать и их портреты. — Писанину я эту не люблю — ужас! Ковыряю, как бюрократ. Тяжело, братцы: я и кассир, и отдел кадров, и целое отделение Госбанка, — дядька со значением похлопал полевую сумку. — Денежки — горе двадцатого века. Передашь — посадят, недодашь — посадят. Вот и живи. Навигация, ребятки, навигация. Нанимай и плати. Ну, сбросим подоходный, бездетность. А может, аукают уже где? — оспины на его щеках съежились, побелели от смеха. — Ох, любит нынче молодежь это дело!
Наряды были готовы, но дядька забыл о них: снял очки и, покусывая дужку крупными редкими зубами, задумался:
— Да! — он встряхнулся. — Шабаш, ребята.
— Всегда пожалуйста! — весело, громко отозвался Володя.
— Шучу, шучу. С пацанами не пью — у меня это строго. И вообще не одобряю, кто ребятишек спаивает. Сам отец. Но, братцы, как на духу попрошу вас, — дядька вздохнул, сморщил надбровья, — давайте расставаться по-человечески, без обид, без криков. По десятке придется удержать с вас. Как грузчики говорят, в радикулитный фонд и нервный коэффициент.
— Как это? — спросил Кеха.
— Очень просто, ребята. Только до времени давайте на дыбы не вставать. У нас закон такой: пьешь — не пьешь, но, коли новичок — гони десятку на артель. А у грузчиков радикулит — у каждого второго. Вот вам и радикулитный фонд. Потом, вы же не маленькие, понимаете: раз продукты грузишь, ну, и где горстку риса прихватишь, где в кармане сахарок унесешь — у меня недостача, у меня нервы на взводе. Зарплата маленькая, а я под таким риском хожу. Чтоб подстраховаться — вдруг недостача, — я десятку-то загодя и прошу. Вы мужики умные, поймете, конечно: не крохоборствую я, нужда заставляет.
— Нет, я не согласен, — у Кехи сгустилось что-то горячее в медовых зрачках. — Мы ни грамма, ни крупинки не унесли.
— Да господи! — Дядька всколыхнулся за столом, постучал в грудь. — Разве я про вас говорю! Тут ни про кого в точности не скажешь! Но несут же, несут! Что ты сделаешь! Куда мне деться? Вот и выходит одна дорога: и с правого, и с виноватого брать.
— Мы ни при чем, — сказал Кеха. — Мы за других отвечать не будем.
— Не в ответе дело! — тонко, протяжно, не выговорил — пропел дядька. — Я тебя прошу человеком быть. Ты встань на мое место — каждый день, того и гляди, под суд пойду — немного и прошу. Ты что, парень? Ведь я по совести хочу: ты мне помоги, я тебе помогу. Вот я же вошел в ваше положение, взял вас, хотя никакого права не имел. Малолетки вы. Опять, видишь, рисковал, опять нервы тратил.
— Но работали-то мы сами, — кожа на Кехиных скулах натянулась, заблестела, желваки, казалось, вот-вот прорвутся. — Что же вы вымогаете-то?
— Вымогаете! — Дядька схватился за голову, зажмурился — так уж обидно, грустно стало ему.
А в Володиной груди в это время бушевала щедрость, вытеснившая всю усталость, смывшая весь пот, всю соль — вроде уж и не он кряхтел, отчаивался целый месяц на занозистом трапе.
— Ладно, Кеха, брось ты. Действительно, товарищ для нас столько сделал, — счастливым, полным голосом распорядился Володя.
— Ты! Дурак! Замолчи! — толстые темные губы Кехи обметал серовато-белый налет.
— Выбирай слова. Дурак, главное! — Володя выпрямился на лавке, холодно, как казалось ему, уничтожающе посмотрел на Кеху.
Дядька встал:
— Вы тут разбирайтесь, ребятки. Я сейчас. Новая баржа пришла, сбегаю посмотрю.
Кеха резко повернулся к Володе и возмущенно сказал:
— Думай хоть, когда лезешь! Нас обобрать хотят, а ты — товарищ, столько сделал!
— А что, не правда, что ли?
— Неправда! Он губошлепов видит, молокососов, вот и нагличает!
— А мне не нравится, что ты кричишь и обзываешься.
— Зато облапошат — успокоишься!
— Да мне не жалко — черт с ним. Если хочешь знать, он вообще возьмет и не заплатит или тянуть будет, пока не согласимся.
— А вот что скажу. — Кехин голос стал дрожаще спокоен. — Если ты заикнешься еще в его пользу, я тебя не знаю. Понял?
— Ты… Ты… Не стращай, — Володя запутался, разыскивая слова, которые отомстили бы Кехе за его упрямую злость, но вернулся рябой дядька, и пришлось замолчать.
— Как, братцы, договорились? Успокоились?
— Ни копейки ни в какой фонд мы не отдадим, — ответил Кеха.
— Ясно. Значит, добро за добро не получается? — Дядьке стало душно, он расстегнул воротник черного кителя, вздохнул: — Вот и старайся для людей — спасиба не дождешься.
— За что спасибо-то? — спросил Кеха. — Сами работали, сами получим. А не получим — знаем куда пойти.
— Получишь, не бойсь. — Дядька резко двинул наряды по столу. — Расписывайтесь! Раз совесть молчит, ничего не надо. Я же говорю: я не крохобор.
За стеной пустых ящиков, начинавшихся от конторской будки, Володю и Кеху остановили трое очень похожих друг на друга молодцов. У всех — крепкие, широкие лица, лениво прищуренные глаза, разбухшие от бешеного здоровья плечи и грудные клетки.
— Что, ребятки, говорят, плевали вы на артельный закон?
— Мы же не из артели, — сказал Володя, чувствуя, как от головы к ногам быстро прокатилась горячая волна слабости и освободила в груди и животе место для холодной сосущей пустоты.
— А! Вот народ пошел! — молодцы дружно, укоризненно вздохнули. — Уважения никакого! Не из артели, и все тут. Давайте назад, в контору, и уж не жмитесь там, нехорошо жмотами быть.
— Ни за что! — Кеха сжал кулаки и притеснился плечом к Володиному плечу.
— Да что вы, парни, как чайники? Долго объяснять не будем. — Молодцы переглянулись, перемигнулись, на ладони поплевали: — Как кутят — за шиворот и унесем.
— Попробуйте! — Кеха увернулся от толстой мощной руки и ударил головой молодца, норовя попасть в подбородок.
Володя же упал — нет, не в беспамятстве, никто его не сшиб, не толкнул — упал со страху, и самое главное, что, падая, он ясно сознавал свою трусость, даже успел мгновенно подумать: «Ну что же я делаю!» — но с необычайным проворством отполз в сторону, вскочил, жалко согнувшись и закрыв голову руками, побежал, получив для ускорения мягкий, презрительный пинок. Он бежал, приговаривая вслух: «И ладно, и ладно!» — про себя понимая, что нельзя, нельзя так убегать, позор, Кеху там бьют, но никакая сила не заставила бы его повернуть. Он увидел спускавшегося с причала мужика в форменной фуражке речника и бросился к нему.
— Товарищ шкипер! Помогите! Там человека бьют! Помогите!
— Где? — Мужик неторопливо осмотрел Володю, затоптал окурок.
— Пожалуйста, пойдемте! Быстрее!
Мужик неохотно пошел за Володей, поддергивая черные, в масляно-пыльных пятнах, штаны.
— За что бьют-то?
Володя не ответил: навстречу брел Кеха в распластанной до пояса рубахе, с разбитой бровью и взбухшими, кроваво-синими страшными губами, которые он то и дело осторожно промокал рукавом.
— Ты, паря, дуй в здравпункт. Бровь-то, поди, зашивать надо, — посоветовал шкипер и свернул к причалу. — Я теперь не нужен вроде?
Володя спросил:
— Говорить больно? А меня знаешь как шибанули? Думал, поясница напополам. Я сразу понял: позвать кого-нибудь надо. Три битюка таких, — он потихоньку покосился на Кеху: «Может, поверит, может, обойдется?»
Кеха еще раз промокнул губы и, еле ворочая ими, сказал:
— Ты подонок, свинья.
Колючий, жаркий воздух ударил Володе в горло, он задохнулся, заломило в носу — как после нерасчетливого долгого нырянья — и расправилось, заспешило съежившееся было сердце. Володя отстал, долго тер, до радужной рези, глаза, чтобы только не видеть, как неверными ногами уходил Кеха, с каждым шагом стирая с земли его, Володю.
Серега
Олег садится, вытянув ноги почти до двери, распрямляет спину и серьезным, ласковым голосом окликает:
— Геночка! Опять пишут?
— Прямо сплошные глупости. — Геночка окружен конвертами, листками, горящее лицо в широченных плоских ладонях, будто выструганных из сосновой доски, — с тыльной стороны они обильно покрыты белесо-желтоватой шерсткой. — Но они у меня попомнят!..
— Поучают, требуют? Или ругают?
— Хуже. Они меня стыдят. Понимаешь, я должен стыдиться! У нее больное сердце, так она считает, что из-за меня. Я должен учиться, я довел, потерял всякую человечность! Не-ет, они меня доведут!..
— Каковы, а? Жуткие люди, Геночка. Но ты не сдавайся. Это, Серега, родители его терзают.
— Вот точно, Олег. Именно терзают! Ведь знают, что не отступлю — все равно позлить надо. Ты же видишь, Олег, что я прав, и они, безусловно, видят — неглупые же люди! А все равно подняться над собой не могут.
— Кошмар, Геночка! Сущий кошмар! Отвечать будешь?
— Обязательно!
— Тогда, пожалуйста, поклонись от меня. Мол, кланяется мой товарищ Олег Климко, он мне сочувствует, но считает меня выдающимся идиотом.
— Ой, господи, Олег! Как ты можешь?! Ты же знаешь, как для меня это серьезно!
— Конечно, знаю, еще бы! Действительно, лучше сделаем по-другому. Напиши: от меня, мол, отрекитесь, пока не поздно, а усыновите его, Олега Климко. Он, мол, ничего не имеет против.
— Олег, не базарь! Противно!
— Геночка, помни: смех смехом, но место чокнутых должны занимать умные, положительные люди.
— У-у, собака какая! — Геночка трясет головой, волосы желтыми длинными сосульками нависают на уши, напрягаются, пучатся глаза, словно управляемые каким-то внутренним механизмом.
— Один-ноль, Геночка. Я даже не оскорблен. Слышишь, звенит — это у тебя что-то прокручивается в затылке.
Вжжик! Пах-тарарах! Олег едва увертывается: пластмассовая коробка из-под домино разлетается вдребезги.
— Видишь, Серега? Разве тут соскучишься? Ну ты, кретин, ковбой, пробросаешься такими кусками.
Серега смеется.
— А ты заткнись! — говорит ему Геночка. — Еще ты смеяться будешь!
— Что, нельзя, да?
— Можно, если по шее хочешь!
— Я таких до Москвы ставил, понял?
Геночка вскакивает, выпячивая грудь.
— Сейчас закувыркаешься. До Владивостока.
— Геночка! — Олег швыряет в него подушку. Ты ужасно негостеприимен. Новый человек, хлеб-соль, а ты с кулаками!
— Таких гостей в гробу видел!
— Ослепнешь! Меж глаз — и умывальник расколется.
— Серега, Серега! Верю в твой здравый ум. Прошу тебя, не связывайся. Пойдем-ка, в самом деле, мячик покидаем.
Не очень сопротивляясь, Серега позволяет увести себя, Геночка вслед кричит:
— Еще поговорим! Красавец нашелся!
Оставшись один, Геночка быстро успокаивается и садится за письма домой. Сначала он отвечает матери — это легче и менее интересно, а об ответе отцу Геночка думает с ядовитою ухмылкой, предвкушая собственное торжество в очередном споре.
«Мама, твое письмо сильно опоздало, и холодов у нас никаких нет. Но все равно разберем твой совет. Ты говоришь, чтобы я надевал теплое белье и обязательно двое шерстяных носков. Вроде бы не придерешься, правильный совет. Но если рассуждать принципиально, то он никуда не годен: в мороз любой человек одевается теплее — это естественно. Так зачем зря тратить слова? Но, допустим, что я не любой и в сорок градусов хожу без шапки и в штиблетах на бумажный носок — веду себя совершенно по-дурацки. А ты предлагаешь мне беречь здоровье и одеваться теплее, то есть предлагаешь прописную истину, а значит, хочешь, чтобы я пользовался удобными, готовыми формулами, а сам бы не думал. Вот так, начиная с малого, вы требуете, чтобы мы безоговорочно копировали ваши привычки, поступки, мысли. А если быть последовательным, то было бы лучше, если бы я перенес воспаление легких, но — сам, сам! — почувствовал прописную истину и поверил в нее. Затем твое предложение совершенно непедагогично: ты приучаешь меня быть неженкой, рохлей, вместо того чтобы призвать меня закаляться, обливаться ежедневно холодной водой. И заставляешь быть эгоистом: товарищи в мороз, в ветер пойдут работать, а я, если бы последовал твоему совету, должен был бы увильнуть и отсидеться в тепле. Как видишь, даже пустяковые советы надо давать, подумав. Не надо тратить безответственных слов». Геночка пишет и сожалительно причмокивает губами: мать расстроится, прочитав это, но, что поделаешь, правда всегда неприятна!..
Пока Геночке не минуло шестнадцать, в поведении его не было ничего примечательного. И детство и отрочество протекали в такой безликости, что всякий раз, составляя автобиографию или заполняя анкету, Геночка ужасно мучился ровностью своей жизни.
При Геночкином появлении родители его были очень юны, только-только завершили университетский курс и начинали учительствовать: отец повел историю в старших классах, мать — ботанику и зоологию в пятых и шестых, а поэтому они изо всех сил старались согласовать свою практическую деятельность с передовой педагогической теорией.
По ней выходило, что Геночка обязательно должен воспитываться в коллективе. Сначала он находился в круглосуточных яслях, затем в круглосуточном садике с летним выездом на дачу, первые два класса занимался в группе продленного дня, но Софья Матвеевна не удовольствовалась этим («Ни то ни се, ни в школе, ни дома. Ребенку — одно мучение. Очень неудачно, правда, Сеня?») и выхлопотала через районо место в интернате («Нет, нет, нам никакие льготы не нужны. Мы готовы платить любую сумму, лишь бы мальчик не болтался на улице. Вы же знаете, какая у нас в школе нагрузка?»), а летние каникулы Геночка полностью отбывал в пионерском лагере. Столь длительное пребывание на людях ничуть не угнетало Геночку, а, напротив, казалось все более и более привлекательным: веселый, массовый разбой перед сном; тайные прогулки к забору городского стадиона в дни футбольных матчей; сладкий миг законного послеобеденного безделья, когда можно покидать жестку или переброситься в «дурака» самодельными картишками; кисловато-резкий, горячий запах казеинового клея по вторникам и четвергам — можно поучиться переплетному делу; торжественные редкие выезды в театр, когда заблаговременно, примерно за месяц, между классами затевался спор: кому галерка, а кому партер — да мало ли иных прелестей, рассыпанных по общежитийским будням! Притом существовали суббота и воскресенье, когда исключительно ласково настроенные родители закармливали мороженым — только что иней на животе не выступал, задаривали самописками, наборами «Юного конструктора», переводными картинками, толстыми альбомами марок — одним словом, жизнь была хоть куда!
Но после седьмого класса Геночку из интерната забрали опять-таки благодаря решительным суждениям Софьи Матвеевны: «Я думаю, Сеня, последние три года мальчику надо пожить в семье. Во-первых, сейчас у него очень трудный возраст, а во-вторых, надо, чтобы он занимался с максимальной отдачей — пора позаботиться о будущем. Ты же знаешь, нынче в институтах повышенные требования, а дальше будет еще строже». — «Да, Сонечка, да…»
К пятнадцати годам Геночка изрос в нескладного, этакого сплющенно-угловатого отрока: что-то преждевременно созревало в нем, безжалостно опустошая плоть и оставляя лишь крепкие, широкие мослы, обтянутые тонкой кожей. С легкостью можно было представить, что Геночкино туловище — прочная дюймовая доска, к которой прикручены доски поуже и покороче: руки и ноги. От бурного роста возникал избыток тепла, частью уходящий в густой, пылко светящийся румянец, а частью в выпуклые темно-матовые глаза, сообщая им нетерпеливый, неистовый блеск.
С приближением паспортного возраста Геночка с непонятной настойчивостью, надоедая, расспрашивал отца:
— Скажи, ты меня из паспорта вычеркнешь, когда я свой получу?
— Нет, Генка. Придется тебе еще в иждивенцах походить. До восемнадцати.
— Но я ведь уже взрослым буду считаться? Раз гражданином стану?
— Ну, в общем-то, да. Хоть вернее вот как сказать: ты кандидат во взрослые. Ха-ха, Генка! Кандидат в гражданины.
— Как же так, папа? Почему? Раз паспорт — значит гражданин. И на всякое кино пускать будут, и вино, и папиросы без скрипа продадут, и напрокат что хочешь возьму. Ведь так?
— К сожалению, так. Но ты не обольщайся: где денег возьмешь на кино, на вино, на табак? Нигде, даже со скрипом. Запомни, Генка: иждивенец с паспортом или без паспорта — все равно иждивенец. Недаром же существует понятие: совершеннолетие. Понимаешь? Совершились лета! То есть все! Самостоятелен, кончилась опека!
— Нет. Раз паспорт — значит взрослый. Раз с ним меньше запретов — значит, меня не считают малолеткой. Иначе зачем его получать?
И приходит желанный час: узкая, длинная комната в милиции; на синем сукне стопка новеньких книжиц, чуть приоткрывших свежие зеленые листики. Над нею начальник паспортного стола — пожилой капитан; он куда-то торопится, потому что, скороговоркой поздравив новых граждан и пробубнив: «Читайте — завидуйте…», никого не вызывает к столу, а сам обходит комнату, сопровождая книжицы машинальным, вялым рукопожатием.
Геночка нарочно мешкает у дверей, пропускает всех и тогда спрашивает:
— Товарищ капитан, ведь правильно, что гражданин — это значит взрослый?
Капитан, уже натягивающий шинель, вздрагивает, приостанавливает рукава на согнутых локтях.
— Абсолютно правильно. Золотые слова. Теперь спросят — ответишь… абсолютно как взрослый товарищ. Понял?
— Спасибо.
Дома Геночка, выслушав поздравления родителей, делает руки по швам, как-то жалко напрягается нескладным, мосластым телом, глотает и никак не может проглотить воздух:
— Вот что!.. Я теперь буду курить. Все равно курю с шестого класса. Больше я не буду прятаться.
Софья Матвеевна замедленно опускается на стул, у нее часто подрагивают губы.
— Что же, вот так и закуришь? — растерянно, боязливо спрашивает отец.
— Да. — Геночка вытаскивает пачку «Примы», спешит, просыпает сигареты, неловко сгребает их, роняет спички; они густо, оглушительно бренчат.
Отец замахивается, но гневливость вытесняется ужасом перед рукоприкладством, поэтому он лишь легонько смазывает его пальцами по щеке.
Геночка отскакивает:
— Так я и знал! Ты не уважаешь во мне человека, ты думаешь, я — твоя собственность?!
Яростно-плаксивым шепотом распаляет скандал Софья Матвеевна:
— Сеня! Кого мы вырастили?! Сеня! Я сейчас умру, мне не хочется жить! Вон, вон, гадкий, отвратительный — нет, не сын, а бог знает что!
— И уйду, уйду! Думаешь, испугаюсь?! Чуть не по-вашему — и уже не сын, да? Эх вы, эгоисты!
— Сеня, что он говорит? В комоде, там, справа, валидол. Быстрее, Сенечка!
Отец, с неприятно расслабленным подбородком, суетится, машет на Геночку, трясет головой, еле успевая подхватить тяжело клонящуюся со стула Софью Матвеевну. Геночка наконец на кухне закуривает и торопливо курит в форточку. Приходит отец с несчастным чуть не плачущим лицом.
— Что ты наделал! Мама слегла. Брось, немедленно брось курить!
— Папа, я еще не успел сказать… Я перехожу в вечернюю школу. Буду работать.
Отец уже не может нервничать — и так сегодня изрядно поволновался.
— Оставь. Кошмар за кошмаром! Поговорим завтра. Да. Уж никак не думал, что в тебе столько черствости и какой-то бандитской наглости.
— Я хочу сам устраивать свою жизнь.
У Геночки наутро первые сизо-кровяные рубчики под глазами, такие странные рядом с нестихаюшим отроческим румянцем, — Геночка долго не спал, мучаясь начавшимся бунтом и невозможностью поступиться им.
Отец говорит обычным голосом:
— Геннадий, ты без меня не убегай. Вместе пойдем. Я сегодня с утра.
— Я не пойду в школу.
— Брось, Генка! Утро вечера мудренее, а ты опять ерундишь.
— Нет, я пойду искать работу.
— Очень мило с твоей стороны! Какую?
— Какую-нибудь, мне все равно. Просто надо работать.
— Вот, Соня, пожалуйста! Теперь нам можно перейти в иждивенцы. Сын прокормит.
Софья Матвеевна, пристанывая, пошатываясь, выходит из спальни. Бигуди улитками выглядывают из аккуратно накрученных волос. У нее печально-отсутствующий взгляд, она со страдальческим удовольствием находит, что совершенно разбита, а поэтому можно слабым-слабым голосом произнести:
— Что ты, Сенечка! Ты недооцениваешь нашего Геннадия. Он не только прокормит нас, он похлопочет — и в приют устроит, ну, знаешь, где ненужных родителей содержат. Он же нас завтра из дому выгонит, мы же мешаем, а ему надо жизнь устраивать. У нас ведь необыкновенный сын! Благодарный, чуткий, нежный!
— Зачем ты встала, Соня? Ты же очень нездорова, поди, поди в постель!
— Ничего, Сенечка. Хуже не будет. Как я могу лежать? Мне же очень интересно, как он будет издеваться над нами. Сгораю от любопытства.
— Почему издеваться, мама? Трудно, да, поговорить серьезно? В чем вы меня обвиняете? Украл, убил, поджег? А всего-то навсего я хочу быть самостоятельным. Нельзя, да?
— Ты хочешь бить баклуши, повесничать — вот чего ты хочешь!
— Я сказал: пойду работать.
— Кому ты нужен? Нужно что-то уметь, а ты? Твоя работа — ученье, неучем даже мостовую бить не пустят.
— Не кричи на меня! Успею, выучусь. Я жизни хочу учиться, а не «а» плюс «б».
— О боже, какой ты упрямый, грубый мальчишка! Пустой, тупой, поэтому и учиться не хочешь!
— Соня, извини. Одну минуту. Должен сказать, Геннадий, вряд ли ты куда-нибудь устроишься! Ты же невыгодный работник, тебя же обязаны занимать не больше шести часов. Очень неохотно берут таких, я знаю.
— Подожди, Сеня. Дело совсем не в этом. Это же распущенность, жажда легкой жизни. Ему же охота тротуары клешами чистить, а работа — так, чтобы на карманные расходы было. И ни о чем не думать, лишь бы небо коптить. Я наблюдаю, вижу, чего им хочется: приемник на шею, плясать с утра до вечера, пить вино, хулиганить. И он такой же, такой — вот в чем весь ужас!
— Нет, нет! Нет! — кричит Геночка. — Все неправда, вы даже выслушать не хотите. Вам все неинтересно — презираю! Почему только вы правы, почему вы все за меня знаете?!
— Не могу больше, Сеня, не могу! Гена, сынуля, за что ты нас?.. Мы тебе дали жизнь, все дали. У нас же ничего нет, кроме тебя, Гена, ну за что, за что ты так! — Софья Матвеевна вдруг рушится на колени, неторопливо-крупные слезы — по белому лицу, сутулятся, дрожат полные плечи, лунатически что-то ищут в воздухе протянутые руки.
— Мама, не надо! Мама!.. Это нечестно, пожалуйста, встань! Мама, я все равно не могу по-другому!
— Довел, довел, подонок! — исступленно бормочет отец, поднимая Софью Матвеевну. — Тунеядец, бандит! Даже хуже! Мать и для бандита священна. Выкормили, называется, вырастили!
— Не надо вашего дома, вашей еды! Ваших противных сцен! Не хочу-у! — не выдерживает взрослое Геночкино сердце, и он рыдает, рыдает — до икоты, хватает шапку, пальто и — в красный, яростный, соленый туман, на улицу.
А на дворе ранний апрель, неспешное утро, когда уже не темно, но и не светло — сине, дымчато, неясно; оплывшие тонким, пузырчатым ледком сугробы; черные, одиноко-веселые тополя; загустевший воздух с сытою, пахучею силою втискивается в горло и затопляет грудь, превращая ее в необычайный сосуд с прозрачною влагой — в ней трепещет, бьет крылами, плещется неистовое сердце.
Поначалу Геночка не слышит его, вообще ничего не слышит — слезы, бег, внезапные, странные слова: «Прокляну, прокляну!» — невыносимая боль в затылке, в висках, она оседает в душе холодной, мгновенной ясностью. «Ну что же я? Ведь правда, роднее нет! Мама, мамочка, прости, целую. Вы у меня тоже одни!» И здесь же, растворенные в этом клокочущем чувстве вины и раскаяния, его обида, его правота, его уже неутолимая гордыня, вечный грех: я сам, я сам, я есть!
Полдня он провел у щитов с объявлениями — одно предложение заманчивее другого: требуются бойцы в военизированную охрану (форма, общежитие, зарплата, винтовка на плече, ночь, проявленное мужество и — пожалуйста: ценный подарок, орден, известность, смущенные, виноватые лица родителей рядом с ним на всех фотографиях — чуть не просмотрели героя); требуются мужчины в лесную авиацию, в районы Крайнего Севера, их приглашают охотиться, рыбачить, копать землю, валить лес, разводить черно-бурых лисиц, с ними с удовольствием заключат трудовой договор, заплатят подъемные, с радостью помогут перевезти целую семью и чуть ли не задаром построят впоследствии дом. Требуются, требуются, требуются!.. Но везде зловещая оговорка: «Не моложе восемнадцати лет».
Ни в какие ученики Геночка не желает идти: нужно дело, большое или маленькое — не важно, но только пусть это будет самостоятельное дело, сам будет за него отвечать, сам — понимаете? Неужели отец прав, неужели в этом море работы не найдется дела для Геночки?
Вместе с сумерками Геночка отправляется поближе к дому. Чем гуще и тяжелее они, тем настойчивее в нем чувство жалостливой бесприютности.
Тепло и тихо, точно собирается дождь, слышно, как осторожно и ласково шебаршит, оседает снег по яблоневой коре, образует вокруг стволов серые, глянцевые воронки — это отзимовали корни и погнали свежую, теплую кровь, торопясь поскорее растопить снег…
Геночка, сидя в тепляке на нарах, занят тем, что отвечает родителям: сначала матери, потом отцу — они пишут порознь. Управившись с письмами, он не сразу выходит к ребятам: достает из-под матраца черные суконные брюки, обувается в новенькие оранжевые кеды, надевает серую то ли блузу, то ли спортивную куртку — затруднительно определить: она навыпуск, с накладными карманами на груди и по бокам, но в то же время стягивается в талии узким пояском-веревочкой; затем Геночка находит в углу Миши Потапова зеркальце и безопасную бритву, всухую счищает желтый пух со щек и подбородка, тщательно причесывается, подмаслив волосы глицерином, чтобы не падали на уши некрасивыми сосульками, — подобное внимание к туалету проистекает из Геночкиного намерения провести вечер с Лидой.
Она кажется сегодня Геночке еще более привлекательной, наверно, оттого, что стоит под руку с этим приезжим нахальным парнем в джинсах. Как она ему улыбается! Нижняя губка, подрагивая, слабо натягивает кожу на подбородке, от этого он чуть заостряется, светлеет, придавая улыбке нечто смущенное, славное, в ней уже присутствует тайна, секрет, какое-то общение — ну разве можно улыбаться так малознакомому, совершенно неприятному человеку? И даже излишне черные самодельные тени под глазами, излишняя пудра на щеках — Геночка всегда возмущается этим — сегодня кажутся уместными. «Для него накрасилась, для меня так уж перестала», — думает Геночка и решительно направляется к Лиде.
— Пойдем побродим? — Он ухватывает ее руку и почти тащит — быстрее бы разлучить с этим красавчиком!
— Привет! Законный кавалер явился. Пусти! Руку оторвешь. Брюнетик, заступись!
Серега плотнее прижимает локтем другую Лидину руку и хмурится: он все еще зол на Геночку за давешний грубый разговор.
— Разорвете, мальчишечки! Ой, нарасхват!
— Что это значит, Лидия? — спрашивает Геночка. — Почему ты так плохо шутишь?
— Как умею. Да отпусти же, пристал!
— Лидия!.. Пойдем. Я хочу поговорить с тобой.
— При-вет! Ничего не хочу слушать! Наслушалась, устала!
— Но мы же собирались погулять!
— А я рассобиралась. Хочу вот Сережечке природу показать.
— Лидия, хватит. Пошли.
— Отвали! Глухой, что ли?
— Ты пожалеешь… Как тебе не стыдно, Лидия. — Геночка сжимает кулаки, круто поворачивается, уходит, напряженно-прямой!
— Айда, Сережечка! Двинули.
— Хочешь, отважу?
— Его-то? Не смеши. Он же бешеный.
— Видел я таких…
— Попробуй.
Они уходят с поляны узенькой ольховой просекой. Здесь уже почти темно; влажный, прерывистый ветерок из недалекого ельника, высокие кусты дикого укропа нет-нет да окатят росой — беспечально и хорошо Сереге на этом нежданном свидании.
…Отодвигается в памяти, совсем исчезает сейчас Женечка, стоящая на горчичной поляне. Не томят Серегу ее недавние слезы, забыто собственное, внезапно вспыхнувшее волнение при виде их — сейчас он тот, независимо развязный Серега, каким появлялся на танцевальной веранде клуба «Энергетик» или на вечерних прогулках в парке. А Лида кажется Сереге такой же простой в изъявлении чувств и нестрогой в разговоре, как и девушки из тех вечеров.
Она вроде бы зябнет в своей безрукавочке, и он хочет обнять ее.
— Не надо…
— Так ведь как брат сестру.
— Болтай!..
— Ну уж… — Серега скучно улыбается.
— Чего замолчал, говори.
— Про что? — удивляется он.
— Ну вообще. Что же так-то идти!
— Ты давно здесь?
— С полгода.
— Из Майска, что ли?
— Ну да! Из Новосибирска.
— Понятно. «Едем мы, друзья, в дальние края!» Романтика, да?
Лида смеется:
— Ага, в самый раз! По указу я.
— Интересно. Тунеядка, что ли?
— Да нет. Считается, что мальчиков сильно любила…
— Конечно, брюнетов?
— Угадал.
— А я такой: всегда угадываю.
Серега снова обнимает Лиду, крепко так, уже уверенно.
— Ну, привет, май дарлинг. — Она сильно, кулаками, отталкивает его.
— Как, как?
— Май дарлинг. Это по-английски значит: «мой дорогой», — с некоторой гордостью объясняет Лида.
— Скажи, не знал! А по-испански умеешь?
— Не лезь.
— А кто лезет — покажи, убью!
— Да ну, не смешно. Не лезь, говорю! Пошли назад.
— Ты чо, как не родная?
— Родня нашлась, смотри-ка! Пошли.
— Ни-че-го не понимаю! Зачем же шли?
— И не поймешь. Свежим воздухом подышать, ясно?
— Ясно. — Серега до тепляка разочарованно молчит.
— Обиделся?
— Было бы на кого.
— Обиделся, вижу. — Лида, как-то странно посмеиваясь, вдруг обнимает Серегу и быстро-быстро целует — в щеки, в нос, в шею — и убегает в палатку.
В тепляке горит «летучая мышь», за столом над книжкой спит Ваня Савельев, уложив чугунную голову на кулаки; Миша Потапов шепотом разговаривает с Шайбой и кормит ее сахаром; после каждого куска она с тихим визгом облизывается и стучит хвостом; не спит еще Геночка, дожидаясь Серегу. Посмотрев на него, Геночка яростно плюется. Сереге смешно: будет знать, как разоряться! Он блаженно размещается на нарах, не подозревая, что все лицо у него в губной помаде. А у Геночки неистово колотится сердце и жарко-жарко кружится голова. «Ну как же полегче мучиться, как же?! Неужели легче нельзя?!»
Геночка подсчитал, что за шестнадцать лет родители потратили на него около восьми тысяч рублей, разумеется, не только на прокорм, но и на платье, кино, книги, мороженое — одним словом, столько понадобилось денег, чтобы он превратился в нынешнего, неистово принципиального молодого человека. Если высылать по семьдесят рублей в месяц, то ему понадобится десять с лишком лет, чтобы погасить долг родителям, а Геночка мог пока слать только по тридцатке, мечтая лишь с достижением стопроцентных надбавок значительно увеличить ежемесячный взнос. «Жалко, конечно, — думал Геночка, — что так долго ждать, но все равно, пока не рассчитаюсь, ни слова».
Леня Дроков, съездив как-то в Майск, собрал бригаду и, показывая на Геночку, сказал:
— Вот он позорит всех нас. В комитет пришло письмо от его родителей: просят воздействовать на его сознание — не пишет ни строчки. Они переживают, волнуются, не знают даже, жив ли. Нельзя так, Геннадий. Стыдно! Кто будет думать о родителях, как не дети? В общем, бригада обязывает тебя раз в десять дней писать отцу и матери. Я лично буду проверять.
— Проверяй, но писать я не буду. Видишь ли, Леня, я в принципе против родителей.
Дроков ошалело глянул на Геночку.
— Да, да. Против. Они думают, что можно с детьми обращаться, как с вещами: захочу — туда поставлю, захочу — туда. Пока я не верну все деньги, потраченные на мое воспитание, я не буду ни писать им, ни навещать. А вот когда расплачусь, пожалуйста, поеду к ним. И возможно, я снова полюблю их, но по-другому, как очень близких товарищей, друзей.
К Геночкиному рассуждению отнеслись разно. Дроков сказал: «Ты мне хреновину не городи, не будешь писать — заставим. Не сами, так через комитет. Бригаду позорить не дам». Олег Климко молча покрутил у виска указательным пальцем; Прасковья Тихоновна вздохнула: «Беж души ты, Генка! Да у всех у вас сердца-то не больно много». Миша Потапов, выросший в детдоме, только пожал плечами — кто, мол, их знает и разберет, этих отцов и детей; а Ваня Савельев, бывший крестьянин, даже посочувствовал Геночке: «Что ты, Дроков, накинулся? Парень деньги шлет аккуратно, куда лучше? Без писем обойдешься, а вот без денег попробуй!»
Так или иначе, но Геночка еще долго упрямился и не писал домой, а сдался лишь при появлении на трассе Лиды — как-то внезапно и бурно подобрела и отмякла Геночкина душа…
Час очень ранний, еще не кипит вода в котле, а Прасковья Тихоновна уже колотит в дверь поварешкой.
— Мужики! Эй, мужики! Автолавка!
Выскакивает Дроков в сапогах на босу ногу, в длинных футбольных трусах, в ядовито-желтой майке.
— Здравствуй, Спиридонов! Мало спишь! Но это хорошо. Интересное что-нибудь есть?
— Так, Леня, не одни вы под планом ходите. Тороплюсь. А интерес у меня какой? Один интерес — ассортимент, — отвечает крепкий, с ласковым круглым лицом мужчина, сидящий на подножке горбатого, пузатого фургона.
— Не темни, Спиридонов. Сквозь стены вижу — в заначке трикотаж везешь.
— Да ты что, Леня? Хоть бы квартал кончался, может, и подкинули бы. А так откуда? Разве отказал бы, тем более тебе?
— Зря туман напускаешь, Спиридонов. Надо дороже, заплатим.
— Вот ты какой, Леня. Что, я себе враг, заработать не хочу? Было бы!
— Ваньку валяешь, ну, черт с тобой. — И Дроков с Прасковьей Тихоновной начинают выбирать продукты для общего котла.
— Он же еще и конфузит. — Спиридонов обиженно сопит, зорко следя за мешками, которые выкидывает Дроков.
К фургону подходят Миша Потапов, Ваня Савельев, Лида, с тщательным любопытством заглядывают внутрь, ища среди товара что-нибудь редкое и необычное, и в занятии этом находят большое удовольствие. Ищут, однако, напрасно и, надо сказать, знают наперед, что напрасно. Спиридонов, помимо обязательных круп, муки, тушенки, сахару и соли, возит очень скудное имущество.
Спиридонова, по привычке, спрашивают: есть ли фонарики, кеды, сапоги, охотничьи ножи, лыжные костюмы, третий номер дроби, шоколад, духи, авторучки — на что он коротко вздыхает:
— Не поступали, ребята. Не отпускают все.
И приходится Ване Савельеву купить немыслимо-безобразную крепдешиновую косынку, купить про запас, до поры, пока не придет к кому-нибудь свататься; Мише Потапову большому любителю сладостей, отпущен громадный кусок конфет-подушечек, есть не переесть. Лидой приобретена пластмассовая пудреница; тоже не от нужды, а благодаря ласковому совету Спиридонова — нет, не зря слывет он в орсе замечательно толковым работником, умеющим, как никто другой, выполнять план при неходовых товарах, что и поощряется нередко в служебных приказах.
Все — подписаны накладные, путевой лист, надо уезжать, но Спиридонов чего-то тянет — ходит вокруг фургона, пинает шины, отколупывает грязь с номеров. Затем, посмеиваясь, как давеча посмеивался в разговоре с Олегом, вроде виновато, но в большей степени нагло зовет Дрокова:
— Слышь, Леня. Так уж и быть — тельняшечки тут у меня есть. В северном исполнении. Чистая шерсть.
— Зря темнил, Спиридонов. Я же всегда чувствую.
— Подожди. Тут видишь… Друг один устроил, даром же не будет. По рублевке накинуть придется.
— О чем речь? Эх, Спиридонов! — Дроков деловито объявляет: — Ребята, есть шерстяные тельняшки… Всего на рубль дороже. Как будем?
— Брать.
И вот все наряжены — обновки столь просторны и длинны, что вид у ребят несколько странный, а точнее, потешный: хоть сейчас выставляй в огород ворон пугать — видимо, люди в «северном исполнении» трикотажным фабрикам представляются только богатырями; а впрочем, здесь, наверное, новое коварство Спиридонова: некуда сбыть большие размеры. Дроков расстроенно спрашивает:
— Меныне-то нет, Спиридонов? Это же ночные рубашки, пижамы, какого ты хрена?
— Леня! Если бы я выбирал! Сам понимаешь. Конечно, если не подходят, и брать не надо. Уж охотников поищу. А веришь, думал обрадовать вас!
— Обрадовал.
Хохочет, заливается Олег Климко — ему одному тельняшка пришлась впору, разве чуть великовата в плечах, теперь он ходит кандибобером перед жалкими, поникшими фигурами и тычет пальцем:
— Господа адмиралы! На флаг равняйсь! Ты, Дроков, — Ушаков, ты Геночка, конечно, — Нахимов, а ты, Миша, — Макаров. Клубу знаменитых капитанов, ура-а! — И снова заливается — жердь, верста коломенская, обормот.
Но веселится он недолго, мешает Прасковья Тихоновна:
— Леня! Мужики! Да что вы горюете? На базу вернемся, я вам мигом перешью. И думать нечего — берите!
— Тетя Паша, точно? Ну, живем! Понял, Олег?
Он пристает теперь к Прасковье Тихоновне:
— Тетя Паша, а ты чего не меряешь? Ты же кок, как же без тельняшки? Давай меряй лучше. Не жди, пока Дроков скажет — бригаду позоришь.
— Э-э, понесло! На старости буду вот тебе выламываться. Это я Вите пошлю. Хоть и тепло там, а в сырую погоду хорошо будет.
— Тетя Паша! Умоляю, померь. Пожалуйста! Вдруг пойдет, все таборщицы на трассе с ума сойдут от зависти. Как в музей ездить будут. Тетя Паша!
— Мужики! Угомоните вы его. Вот ведь дурь-то из тебя прет!
— Очень прошу, тетя Паша. На коленях. Если пойдет, дарю еще одну.
— Да ну тебя!
— Тетя Паша…
— А, черт с тобой! — Прасковья Тихоновна натягивает тельняшку: она ей до колен, рукава болтаются почти у земли, нелепо выглядывают черные сатиновые шаровары и стоптанные ичиги, а сверху, в вырезе, — серая вигоневая кофта. Румяные бугорки возле носа заметно напрягаются — Прасковья Тихоновна еле сдерживает смех. Олег восторженно ахает и опускается на колено.
— Тетя Паша! Ты не кок, ты восточная женщина! Ай, ханум, тетя Паша!
Ребята потихоньку посмеиваются.
— Давай громче, мужики! — Прасковья Тихоновна неожиданно вскидывает руки и, колебля свисающие рукава, плывет вокруг Олега, в платочке наискосок, подмигивая, прицокивая — Асса! Асса! Асса, прости господи! — и сама смеется пуще других.
Серега Захаров в сторонке с угрюмостью следит за веселой куплей-продажей: он бы сам, за милую душу, примерял бы и чудил, но денег ни копейки, с неба не свалятся, а занять, так кто займет? С бухты-барахты, первому встречному не занимают. Вспоминается ему Женечка, тоже наряженная в тельняшку с треугольным вырезом, вспоминаются и угощение в ее доме, загородная прогулка, горчичная поляна, Женечкины слезы. Воспоминание это пробуждает в Сереге грусть: «Эх, Женька! Тебя бы сюда! Все-таки железно у меня с ней… Уж не какая-то Лидка. Пробы ставить негде…»
И тут кричит Дроков:
— Захаров! Чего откололся? Брать будешь?
Серега поднимает шевелящуюся щепоть, потом дует на нее.
— Ничего! Бери! Я займу до аванса.
«Ну, живу как в сказке, — обращается про себя Серега к далеким приятелям в Майске. — Не просишь, а дают. Вот жизнь. Ту-ра-ра-ра-ту-ра», — и бежит, летит к фургону.
На порожке тепляка сидит Ваня Савельев с книгой на коленях, пробует читать, но ни одной строчки не понимает, на чугунном, пористом лице мучительное напряжение; в поту — тяжелый, шаром, лоб, большой, небрежных линий, нос, толстая, этаким ошметком, верхняя губа. Впрочем, если бы Ваня и не занимался книгой, он все равно остался бы холоден и равнодушен к происходящему. Тельняшка у него есть, и не одна — запасся в позапрошлом году, демобилизуясь из Морфлота, потом Ваня вообще терпеть не мог попусту изводить деньги и всегда страдал, видя, как это делают другие: «Ну, на что им эти тельники? Из одного баловства. Добро бы маек у них не было или рубах. Сдуру переводят, лучше бы попридержали или домой отправляли, как Геночка. А то опять перед получкой не напасешься на них».
Кроме того, Ваня сегодня уже потратился, купив крепдешиновый платок будущей невесте — пока на примете никого не было («Не на Лидке же жениться. Хулиганство получится, а не семья!»), — и уже корил себя за эту трату: «Вещь-то слабая. Как я не рассмотрел? Чуть что — и расползется. Эх, ошибся я, ошибся!»
У Вани почти полный сундучок личного приданого, которое он покупал с особой тщательностью, не на глаз, а на ощупь да на зуб, так что вещи собрались прочные и солидные: пара шерстяных рубашек, яловые сапоги с запасными головкам, оренбургская шаль, две механические бритвы, белая гарусная кофта сорок восьмого размера (именно такого размера представлялась ему будущая невеста), меховые рукавицы, перчатки, красные резиновые ботики на замках-молниях и множество других замечательных вещей. А сегодня вышла промашка, и Ваня так расстроился этим, что взялся за книгу с утра, надеясь отвлечься, но строчки прочесть не мог.
Ваня намеревается нынче подавать в институт, поэтому каждую ночь садится за учебники, но тотчас засыпает, не успев прочесть и строчки, а утром непременно ищет причину, помешавшую заниматься, и находит вот вроде той, что «из-за фонаря сомлел». Следующей ночью он предусматривает вроде все, но опять засыпает — тем не менее упорство его не слабеет и не колеблется.
Желание обучаться возникло у Вани еще на службе, когда он позавидовал сослуживцам, поступавшим в вузы. Их не так пронимали уставами, учениями, оставляя время для занятий, и, что важнее всего, их отпускали с действительной в первую очередь, а то и значительно раньше. Вот с тех пор Ваня беспрерывно учит и учит.
Ваня знал: пойди он по сельскохозяйственной линии, никто в деревне не удивится — некоторые ребята додумались до этого раньше, а для него весьма существенным казалось, чтобы в деревне поахали: «Ты смотри-ка, куда Ванька Савельев махнул. Вот пройда же, башка-парень». Без этих ахов он не мыслил появиться дома, иначе к чему ученье, если уважения не вызовет хотя бы предположительный чин, в который он выйдет впоследствии. Ваню потянуло в юристы, потому что другой столь солидной и надежной должности, чем должность судить и миловать людей, он не представлял. «Это же надо! Над всеми стоять буду. Над большим человеком и над маленьким. Меня никто судить не сможет. А я всех смогу подряд!» — горделиво размышлял Ваня о сделанном выборе.
Демобилизовался он по вызову приемной комиссии университета, но на всякий случай прихватил комсомольскую путевку в Майск — как Ваня ни упорствовал в занятиях, он все же допускал возможность провала.
Отец, в самом деле, с похвалой отозвался о Ваниной будущности:
— Это, Ванюха, дело. Работа чистая, без примесей, и жизнь у тебя будет полностью городская. Хорошо.
Они сидели, говорили — на другой день Ваня уезжал.
— Ну, Ванюха, смотри, меня когда не упрячь за решетку, — неожиданно сказал отец и гмыкнул.
Ваня пристально посмотрел на него, задумался и серьезно ответил, вроде при этом даже выправился этак важно:
— Не может такого быть, батя. Прикинь сам: за что конюха засадить можно? Нет, уж не обижай меня напоследок.
— Да кто его знает… Шучу я, Ванюха, шучу, — отец захохотал. — Заранее подольститься хочу. Прокурор, мать твою…
Про себя Ваня решил: попадет он обучаться, не попадет — для отца и деревни все равно попадет. С тем и уехал — и не поступил. Не поступил он и еще через год, да, наверное, и нынче не поступит — вечерами одолевает Ваню сонливость над раскрытой книгой — весь ум ушел за день в руки.
— Савельев, подъем! Голодным останешься! — кричит Дроков. Все уже за столом, Прасковья Тихоновна и Лида ходят тихонько, бережно, как по стеклу, — в руках полнехонькие алюминиевые миски — впору примять. Едят помногу, но быстро: до сто второго пикета не ближний свет, восемь верст, особо не засидишься, пора, седьмой час — добрые люди давно уже начали. По две миски отменного макаронного супа — какие-то коренья добавляет в него Прасковья Тихоновна, по две же миски гречневой каши с тушенкой, стакан компоту (ребята обедать не ходят) — все. Ваня вскидывает на плечо десятилитровую фляжку с водой — айда в путь! Перекура никакого — кому надо, покурит по дороге: добро хоть идти под гору и приятность от курева не пропадет.
Сто второй пикет — пузатая, полувысохшая сосна с широким затесом, на котором краской проставлена цифра — отметка проектировщиков трассы. Упершись в нее, просека кончается, но сквозь сосняк просвечивает другая, поперечная, к которой и должна выйти бригада Дрокова. У пикета треугольной подъемной рамой целится в небо трубоукладчик, раздобытый Анатолием Тимофеевичем взамен дефицитного трелевочного трактора, сваленные и освобожденные от ветвей сосны уложены буртами-горками на леспромхозовский манер, в оградки из четырех кольев.
Дроков проходит в сосняк, мерит перемычку до поперечной просеки — пятьдесят шагов, значит, где-то около тридцати метров, пересчитывает сосны, выбирает нулевую, от нее пилить, и возвращается к ребятам.
— Можем закончить сегодня. — Дрокову еще очень хочется распорядиться, дать команду, расставить по местам, проинструктировать — пусть не забывают, что бригадир он, но каждое утро приходится пересиливать себя, потому что, поддайся он приятному командирскому зуду, не жалеючи обсмеют — все давно и превосходно знают свое место и свою обязанность. Верно, нынче с ними новенький, и можно хоть немного отвести душу:
— Захаров! Топор возьмешь у Потапова и встанешь рядом с Климко. Он объяснит и покажет. Климко! Только без шуток. А то дважды два покалечится.
— Леня, благодарю за доверие, — Олег растроганно мигает. — Ты бригадир-психолог. Если бы Серегу учил Геночка, он отрубил бы ему голову. Клянусь! А я воспитаю настоящего сучкоруба. Ювелира, виртуоза, фокусника. Открою все секреты. А Геночка завистлив и ревнив.
— Не отрублю, так отверну, — тихонько бурчит Геночка.
— Кончай барахлить! — Дроков достает из сумки каску, надевает ее поверх тюбетейки, сухое, жесткое лицо полно значительности и важности — этакий крепкий, серьезный мужичок, сознательный пожарник, не спит, не ест, а только службу несет.
Миша Потапов заводит пускач, из кабины подает топоры Сереге, Олегу, Геночке, а Дрокову и Ване Савельеву бензопилы «Дружба».
— Каску надень, — каждое утро приказывает Дроков Ване.
— Не. Я от нее глохну, — каждое утро отказывается тот.
— Мне в тюрьму еще рано, надень.
— Вот ведь какой ты, Дроков! Ладно. — Ваня напяливает каску, но потом обязательно снимет ее и будет работать простоволосым.
Они направляются к нулевой сосне, и синим, радужным блеском поигрывают полотна пил на их плечах.
— Все, Серега. Дружба дружбой, а топоры врозь. — Олег подходит к вчерашней, еще не очищенной сосне. — Запоминай! Во-первых, никогда не садись на сосну верхом. Можешь остаться без наследников. Во-вторых, не маши топором что есть силы, ветки бывают толстые и тонкие — соразмеряй. Иначе выдохнешься. И в-третьих, берегись сухих серых сучков. Они любят отскакивать и попадать, допустим, в лоб. Хуже, когда в глаз. Инструктаж закончен, расписаться нечем. Начали! Да повдоль, повдоль! Начинай от комля. Против шерсти только в армянских анекдотах бывает.
Глухой, сытый стрекот — Ваня и Дроков делают первые зарезы. Сосна поначалу не чувствует пилы: тот же неслышный ветер перебирает ветви, тот же спокойный, смуглый румянец на теле, но полотно все жаднее и жаднее вгрызается в ствол, все сильнее хлещет желтая струя опилок, сосна испуганно, тревожно дрожит, пытается вытолкнуть пилу, не пустить дальше, давя на полотно сильно и резко, всем телом, — тогда Ваня или Дроков одной рукой похлопывают ее, подталкивают, как бы уговаривая: «Ну, чего ты, чего ты, дурочка. Не бойся, хуже не будет. Давай, давай. Что же сделаешь?» И сосна с короткими скрипучими всхлипами клонится, клонится: «Кр-р-ш-ш-ух» — из последних сил отталкивается уцелевшими лапами от земля раз, другой и смиряется. Ваня и Дроков в последний миг перед падением отскакивают, хоронятся за стволы — напоследок так может вывернуться, так влепить за погибель — не поднимешься. А теперь долой пот со лба, пройтись вдоль поверженной, довольно гмыкнуть: «Зря артачилась, голубушка. Совсем зря. Силы в тебе — слава богу, да толку что?» — и приняться за новую.
Олег кричит:
— Геночка, старт! — и давай, пятясь, помахивать топором с одной стороны, с другой тонкие ветки — тюк, тюк, толстые — кжых, кжых, — жарко, очень жарко, косой, быстрый взгляд на Геночку — и опять топором: тюк, тюк, кжих, кжих: шебаршат, выгибаются ветки по земле — готова!
— Спеклась! Геночка!
И почти в ту же секунду Геночка вторит:
— Спеклась! Один ноль, согласен!
Миша Потапов подползает на трубоукладчике, выскакивает, заводит петли под ствол, бормочет: «Давай сюда чистенькую, давай сюда свеженькую!» Поднимается треугольная рама и на тросах плавно покачивается, нянчит сосну, бережась, укладывает в бурт — оттуда уже сияют, таращатся желто-белые, веселые глаза сучьев.
А Сереге, к сожалению, работа не пришлась, так что перекуры не в радость: они раздражающе коротки, и после них еще больше слабеешь. Быстро устают руки — игрушечная легкость топора давно забыта — лезвие всаживается вкривь и вкось, подворачивается от неточных ударов; топорище, вроде бы гладкое, отполированное, саднит ладони. Спину, плечи, шею стягивает тупая, простреливающая боль, работа кажется несносной, бесконечной. Серега спрашивает в конце концов:
— А что, прямо с сучьями нельзя, да?
— Никак нельзя, дорогой, — отвечает Олег Климко. — У нас с леспромхозом договор, копеечку за это получаем. Копеечка неплохая — старайся!
— Угу, буду, — топор уже валится у Сереги из рук. Тихо подходит Миша Потапов, отбирает его и дочищает ствол. Глядя, как послушно и быстро падают ветки, Серега думает, что пропади пропадом и магнитофон, и охотничье ружье и летчицкие унты, и прочие вещи, о которых так замечательно легко мечталось по дороге на трассу, — лишь бы не загибаться на такой жаре, на такой вот никудышной работе.
И хоть Дроковым предусмотрено Серегино разочарование, с утра еще наказано: «Захаров! Особо не надрывайся. Устанешь, Потапову помогай», то есть отдыхай, дурака валяй. Зацепить тросом ствол — детская забава, пустяки, но Серега злится, изводится обидой, что перерабатывает: «И здесь вкалывай, и туда мечись. Обрадовались, навалились. Нашли негра».
К концу дня выходят на поперечную просеку, завтра на базу, там, говорят, на опоры пошлют, и Серега оживляется неизвестностью. Он на равных, с удовольствием курит перед дорогой, похохатывает, бодро вмешивается в разговор — оказывается, не так уж и устал.
Геночка, скрестив на груди руки, отставив ногу и несколько вздернув голову, говорит ему:
— Нам надо объясниться.
— Валяй.
— Вчера я был виноват. Психовал и грубил тебе.
— Ничего, ладно. Я тоже пенку выдал.
— Может, мы заживем мирно, но сначала объяснимся.
— Да уже вроде ясно. Раз вкалывать вместе, чего глотки драть. — Сереге приятен этот разговор: ничего будто бы парень Геночка — договориться можно, свой.
— Нет, не ясно. Я должен знать, у тебя за душой что-нибудь есть?
— Против тебя, что ли? Ничего.
— Благодарю, но я не об этом, — Геночка упивается тем, что отменно вежлив, благороден, сейчас он выдаст этому наглецу. — Ты придерживаешься каких-нибудь правил про себя в душе?
— Ха? Ха-ха! А как же! Я тебе друг, товарищ и брат. — Серега тоже предоволен собою, что так быстро понял шутку.
— Очень тронут. А я взял за правило — говорить правду в глаза. Предупреждаю, не обижайся.
— Ну, правильно. Чего темнить?
— Так вот — мне не нравится, как ты ведешь себя с Лидией. Не рекомендую вечерние прогулки, шуточки — это не для тебя. Я против и не собираюсь терпеть.
— Да ты что? — Серега искренне удивлен. — Мы же парни. Неужели не договоримся? Из-за какой-то…
— Замолчи! Сейчас скажешь гадость, а это ни к чему, Лидия не какая-то, и не смей попрекать ее прошлым.
— Да подожди ты! Сам помолчи. Неужто из-за этой дешевки весь разговор! И вчера из-за нее кричал? Даешь! Да возьми ты ее со всеми потрохами, я получше видел. Чего тут объясняться?
— Прекрасно! Сейчас ты возьмешь назад свои слова, извинишься, а потом продолжим.
— Какие? Про дешевку-то? Ведь так и есть! Ребята, он шутит? — Серега оглядывается в полной растерянности: ведь он не нарывался сам, не лез, действительно хотел помириться. Что же это такое?
— Сейчас же извинись — или будет плохо! — Геночка вздрагивает, выпрямляется, жилы на шее натянуты, переминаются пальцы в кулаках.
— Да за что?!
— Извинись — или получишь по морде!
— Ну?! А сам не хочешь?
Геночка делает шаг, с какой-то машинальной аккуратностью поднимает кулак и аккуратно же тычет в Серегин подбородок. Вместо того чтобы ответить ударом на удар, тот долго и визгливо матерится, приседает, извивается, машет руками, все это в полном рассудке: этакая психическая подготовка к драке.
— Стоп, стоп! — Олег Климко довольно улыбается. — Бокс, мальчики, бокс! Давайте без уличных сцен. Только честный бой.
— Не выдумывай! — Дроков хмурится и резко крутит головой. — Догадался! Только драки не хватало. Прекратить!
— Какая драка, Леня! Дуэль, схватка, дело чести — не имеешь даже права запрещать. Ребята! Ваня, Миша, скажите ему! Видишь, Леня, все «за». Будет поединок, по-честному, все же следить будем. Леня?
— Ну… ладно. Только чтоб по уму. А то… — и Дроков, насупившись, ждет.
— Итак, мнение противников? До крови или преимущество по очкам?
— До крови, — говорит Геночка.
— Да я тебя раскатаю, — гнусной, шепелявой скороговоркой бормочет Серега, неприятно скорчив губы и придавив щекой левый глаз.
Олег говорит:
— Значит, не пинаться, камни и палки не хватать. Одни кулаки. Ясно? Начали!
Володя
Ровно и чисто засветился август, когда Володя очень ждал, надеясь еще вволю хлебнуть каникулярной праздности, но ссора потушила грибную страсть, упрятала в своем чаду ягодные тропы, а деньги, заработанные на ружье, заставила положить в ящик комода.
Володя сидел дома и никуда не хотел выходить. Мать спрашивала:
— Охота тебе в четырех стенах торчать? Так и каникул не увидишь.
— Не тянет, мам. Отлежаться хочу, отдохнуть.
— Доработались. Ох, дураки, честное слово. А чего Кешка-то глаз не кажет?
— Тоже отлеживается.
— Случайно, кошка не пробежала, пока груз-то таскали?
— Нет, что ты! В самом деле устали.
— И ружье свое забыл. Что-то не так, парень, а?
— Ладно, мам, ладно. Куплю, успею.
— Может, добавить тебе? Спросить стесняешься?
— Нет, нет, запросто хватает.
— Смотри, а то нам премию полугодовую дают.
Он сидел дома и однажды из окна увидел Кеху. Тот шел не спеша, даже лениво, пришаркивая подошвами, склонив, по обыкновению, голову под грузом кудрей. Володя отпрыгнул от окна, прохваченный потным ознобом. Кеха посмотрел на него и, кажется, увидел. «Стыд, за шторкой прячусь, в открытую не могу! А пятно на лбу осталось. Кеха, как же быть?!» Володя вслух, словно при свидетелях, побожился: «Ей-богу, назад Кеха пойдет, я покажусь, встречусь, поговорю», — но, конечно, остался у окна, за тюлевой занавеской, проводил Кеху взглядом, испытывая при этом болезненное удовольствие, с каким раненый расцарапывает зудящую рану.
Вообще он с охотой кому-нибудь бы исповедался, поплакался — в одиночку непосильно тащить эту ссору, — но только не матери. Он живо представлял, как будет она переживать коварство рябого орсовца, ужасаться встрече с тремя молодцами, будет жалеть Володю — и от жалости Володя не отказался бы, с ней легче, но нужнее всего, чтобы поняли его мучения, безжалостный суд над собой, и тогда душе посвободнее станет, как бы разрешение получит: «Жить можно», — мать же не поймет, все утопит в жалости и сочувствии. «Скорей бы Настя приезжала!»
Он часто думал: «Отчего так вышло? Трусость, только моя трусость. Но ведь Кеха-то по морде схватил, а не побежал! Почему у него-то страха нет? Или у него ум сильнее страха? И я умом-то понимаю, что трусить нельзя. Еще как понимаю, елки! А мог бы я не побежать? Зажмурился бы, сжался — черт с ним, испинали бы, зато бы не убежал. Ничего же особенного. Ну, изукрасили Кеху, не убили же. И меня бы не убили. Что же во мне смешалось-то, дрогнуло? Мог бы! Значит, не мог. Ни ума, ни сил, ничего не хватило. А у Кехи хватило. Значит, я хуже его? Конечно, хуже, елки-палки! Думать нечего. Скотина, выходит, я, мерзавец? Но что-то же хорошее во мне есть?» Володя вспомнил случайно слышанный разговор матери со старинной своей приятельницей, Варварой Петровной. Мать говорила: «Нет, я на Вовку не жалуюсь, слава богу, неиспорченным вырастает, хоть и одна я с ним мыкаюсь. Мальчишка послушный, ласковый. И в доме хозяйничает, и меня ему жалко — грех, грех жаловаться, Варвара». «Вот, вот! — обрадованно схватился Володя за это воспоминание. — Есть же у людей слабости, и я вот боязливый, недостаток это мой. У Кехи тоже слабости есть. У него такой характер, у меня такой. Это же естественно, елки-палки! По слабости своей и побежал… Да нет! Я предал, предал — вот где ужас-то! Какая уж тут слабость!
А еще перед Настей выламывался в походе — тени прошедшего, важное чувство, хочу, чтоб и ты его разделила — вспомнить тошно! Эти тени меня сейчас бы пристрелили, и правильно бы сделали! Ладно, отца нет, сам свой позор тащу, а так бы и он виноват был, что такого труса вырастил. Вот и пожалуйста: у Кехи — дед белый, а он не побежал. А у меня… Жуткую чушь несу, при чем здесь все это?
Что, я раньше не замечал, что есть во мне страх-то. Замечал, сколько раз: и драк уличных боялся, и в парке боком уходил, когда правобережные появлялись на танцах, всегда живот прилипал, сейчас-то уж надо до конца додумать. А то наловчился о неприятном не думать — трусил, боялся, а потом вроде и не со мной это было, объяснял, что голова болела, что домой торопился, что на свидание надо было, а сам от страха убегал.
Кеха знает что-то такое, что не дало ему струсить. Обязательно знает! Одним умом страх не возьмешь, я бы тоже тогда не убежал. Если бы помириться, я бы первым делом спросил: скажи, как ты научился не бояться? Наверное, все очень просто, все дело в какой-то одной, главной штуке — ее поймешь и не будешь дрожать. Или не поймешь, так почувствуешь. А может, вообще ничего нет и знать ничего не надо: на кулаке сосредоточиться, привыкнуть к мысли, что раз кулак, то им надо бить, раз у другого кулак, надо ждать, что влепит. Боксеры же привыкают. Ко всему приучиться можно — вот привык же я бояться… Да ну, все к черту! Голова кругом! Узнаю про главное, не узнаю — со страхом мне теперь все равно не житье».
Приехала Настя. Южный ярмарочный ветер все еще обвевал ее, порошил в глаза золотистой пылью, чтобы до поры Настя не узнавала родных улиц, согретых кострами августовских лиственниц, чтобы она имела право воскликнуть на манер дамы, утомленной дальней дорогой: «Боже, как здесь серо и скучно», чтобы наконец Володя понял: приехала не прежняя Настя, ходившая с ним по городскому саду в белом фартучке и белых бантиках, а совсем иная девушка, ставшая после солнечных ванн и разлуки загадочным существом.
— Ну что, понравилось тебе там? — спрашивал Володя.
— Это не то слово — «понравилось». У меня голова кружится, как вспомню, — значительным, ненатурально-низким голосом отвечала Настя, а взгляд туманился, уплывал в невидимую Володе даль.
— Не соскучилась по… Майску?
— Нет, что ты, — и легкая, пренебрежительная улыбка присаживалась на краешки ее полных, тугих губ.
«Да, дождался. Чужая какая стала, совсем посторонняя. — Володя растерялся. — Как же я ей расскажу?»
Но тотчас же он заметил со странным спокойствием, что Настина отчужденность не отозвалась в нем тою горькою, пронзительной болью, которую он испытывал прежде, когда между ними случались размолвки. Уж как бы, верно, он изводился, возвратись вот так Настя в прежнее время! Какую вереницу блестящих молодых людей вообразил бы за ее плечами, с какою ревнивою зоркостью вглядывался бы в ее повзрослевшее от этого южного порочного загара лицо и уж, конечно бы, с глубокой грустью отметил, что куда-то подевались из ее зрачков веселые, сумасшедшие блики, а их место заняла противная томность — нет, все это прошло мимо Володиного сердца и взгляда, только ровно и нудно запричитала обида: «Так ждал, так ждал, а теперь, значит, и не расскажешь! Даже Насте!» И Володя впервые ясно и остро понял, что те дни, безмятежные, пылкие, глупые, никогда не вернутся.
А Насте, наслаждавшейся ролью романтической, таинственной путешественницы, тем не менее не терпелось освободить память, переполненную необыкновенными событиями, и она, поначалу вроде бы нехотя, начала описывать их. Она вспоминала «необъятное и легкое» море, знаменитого артиста, жившего по соседству и говорившего ей комплименты, горные дороги, где, по слухам, до сих пор красивых девушек караулят и крадут любвеобильные, не признающие законов горцы, — и с каждым изустным восторгом улетучивалась из Настиной памяти частица юга, а взамен возникали здравые, спокойные мысли, что скоро в школу, что дома все-таки лучше, что Володя, покорно и внимательно молчавший, славный, симпатичный мальчик, и вообще он заслуживает иной встречи. «Хватит уж ломаться-то мне», — вздохнула, улыбнулась Настя, и вот она — прежняя, веселая, ласковая.
— Ой, Вовочка, я тебе очень рада. Ну как ты здесь?
Он поперхнулся, разулыбался, воспрянул.
— Спины тут с Кехой гнули.
— Да, да. Я же получила твое письмо. Не сердись, пожалуйста, я не ответила, знаешь, ну ни капельки времени не было! Не сердись, я тебе очки темные привезла. Завтра отдам. — Настя побежала, вернулась, схватила Володю за руку.
— Я рада, рада! Я дома! Тебя вижу! Бежим! Куда-нибудь! К реке, к обрыву, в сад.
— Я тебе кое-что рассказать должен.
— После, Вовочка, после. Где-нибудь там и расскажешь.
Вечерняя тишина только поднялась из прибрежных тальников и полупрозрачными, сизыми дымами медленно втекала в устья распадков. Обрыв, куда пришли Володя и Настя, еще возвышался над тишиной, спасая некоторые звуки дня: здесь слышны были дальние городские гулы, резкие вскрики кедровок, вершинное, слабое дыхание ветра; две сосны, стоящие на обрыве, спустили длинные тени в тишину, они погружались все глубже и глубже — приближалась минута, когда день, нерешительно мнущийся на краю обрыва, с головой кинется в сизые теплые волны.
«В такой вечер, в такой вечер!» — подумал Володя.
Настя напомнила:
— Ну, говори, что ты собирался?
Володя вздохнул и тихо, прерывисто заговорил. Он едва удержался, чтобы не сказать: «Я побежал позвать кого-нибудь на помощь», — но удержался и шепотом закончил: «И я убежал». Настя при этих словах стиснула кулаки и поморщилась. Володя побледнел, весь дрожа, спросил:
— Ужасно, да?
— Ужасно.
— Но что же мне делать, Настя! Скажи!
— Не знаю… Ты перед ним извинился?
— Нет, не могу, стыдно.
— Ох, Вовка, Вовка! — Настя всхлипнула и закричала: — Не могу я тебя жалеть! Понять не могу! Ужасно, ужасно все!
Она побежала. Володя одеревенело повернулся вслед ей, хотел заплакать, но не получилось, не разжимались губы, окаменели веки, и сухой жар перекатывался под ними. Володя, неестественно выпрямившись, с мучительно бледным лицом зашагал в город. За дорогу он ни разу не расслабил застывшего тела, шел плавно, осторожно, точно боялся резким движением всколыхнуть душевную боль.
Он позвонил в Кехину дверь. В тесном коридорчике встал перед Кехой так же прямо, одеревенело, как стоял на обрыве, и хрипло, тихо сказал;
— Я пришел извиниться.
Кеха, спрятав глаза, молчал.
— Извини меня.
Кеха молчал.
— Если можешь, конечно, — Володя ушел, не услышав ни слова.
«Все, все! — шептал он. — Совсем пусто. Совсем! Если бы повторилось, если бы повторилось все это! Я не струсил бы, ни за что! Может… Может, пойти сейчас на причал? Найти этих орлов, вцепиться?.. А там будь что будет! Больше никак не оправдаться, не доказать. Да, да! Надо пойти, скорее — вот ведь не боюсь, не боюсь!»
Он побежал, забыв, что уже вечер, что на причале вторая смена, что «эти орлы» вовсе не думают о его поруганной чести и поэтому не дожидаются его. Он бежал, и мстительный жар ударял в виски: сейчас он им покажет, так покажет! Одного — в скулу, другого — в скулу, а третьего скрутит в бараний рог.
Причал был пуст, лишь неторопливо скрипел портальный кран, переправляя поддоны с кирпичом на одинокую самоходку. Володя промчался вдоль всех складов и навесов, пробарабанил под ногами дощатый настил, и редкие сторожа выглянули из будок, с ленивой подозрительностью проводив бегущего человека. «Нигде никого! Да что же это?!» — с истерическою ноткою, вслух, выкрикнул Володя. Мимо стены пустых ящиков, у которых их с Кехой недавно побили, он бросился в контору. В окошке свет, дверь не заложена — ворвался и от порога закричал, задыхаясь, смазывая пот со щек:
— Где эти мордастые бандиты?
Рябой представитель орса, устало щелкавший на счетах, вздрогнул — загремел упавший стул.
— Закрыто, закрыто! Рабочий день кончился!
— Нет, где эти бандиты?! Подосланные вами?!
Рябой рассмотрел, что перед ним мальчишка, бояться некого, нагнулся за стулом, сел, опять придвинул счеты. Оспины побагровели — дядька запоздало разгневался:
— Чего орешь, сопляк? Ну-ка, пошел отсюда, пока уши не надрал! Ты кто такой?
Володя еще не остыл:
— Ах, не узнаете! Память отшибло?! Жулик вы, жулик, и не пугайте меня, я не боюсь!
Рябой прищурился, помолчал.
— Милицию позвать или как? Каждый сопляк будет тут еще оскорблять. Марш отсюда! — опять заорал он.
Володя попятился: «Не его же бить. Ему-то что доказывать? Не от него же я бежал…»
— Ладно, не кричите. Уйду. А вы все равно жулик и прохвост. И меня распрекрасно узнали. А своим уголовникам скажите: я их все равно найду!
Дядька встал, шагнул из-за стола:
— Пошел, пошел! Я тебе сейчас покажу — жулик!
Володя выскочил за дверь и услышал, как загремел засов. «Как глупо! Кто же после драки кулаками машет? Только я. Потому что ничего не знаю, не умею. Потому что трусить не надо было, друга предавать… Как жить? Куда деваться?» — с тоской спрашивал он себя, хватался за голову и мучился, мучился, поняв, что ничего нельзя исправить.
«Убежать бы куда-нибудь, пропасть!»
Нечаянно он вспомнил деда Степана, его тихое житье-бытье на заимке, вспомнил дымок костра, сонную свежесть тумана над тальником, утиный крик на протоке. «Пойду к нему. Поживу, опомнюсь. Может, ему расскажу, может, он поймет меня и посоветует…»
Утром Володя собрался к деду Степану. На Караульную заимку Володя решил идти новой дорогой. Он выбрал, по сравнению с походным маршрутом, путь более короткий и более утомительный: с длинными, глинистыми тягунами, с едва заметными стежками в болотной осоке, с глухими завалами перед Щучьим озером — можно так вымотаться и упреть, что не останется никаких сил для душевного истязательства.
Шел он быстро; зыбкая от хвои тропа глушила шаги; лишь изредка поскрипывали резиновые подошвы на гладких белых ребрах корневищ. Володя вспотел, запыхался, но, увлеченный движением, еще и еще подгонял себя: «Хорошо, хорошо! Нажимай!»
Тропа стекла в распадочек, узкую, мелкую ложбину, на дне которой желтело русло высохшего ручья. За ним, за растрепанной гривой батула прилегла полянка, подставившая дождям и солнцу плотные, крепкие ладони — листья камнеломки. Прожитые дни оставили на ладонях причудливые, разноцветные следы — широкие, бледно-розовые линии жизни пересекались-перечеркивались желтовато-лиловыми, означающими скорый ее конец — краски эти кружили, всплескивали вокруг старой, одинокой сосны, но близко к стволу не подбирались, исчезая под хвойным настом, уходя в корни, чтобы сообщить морщинистой коре лиловый, старческий румянец. Какой-то прохожий давно еще поозорничал, сделав на сосне затес и написав дегтем: «Куда прешь?» Слова сильно отгорели, затекли смолой, но понять можно было. Володя улыбнулся и громко сказал: «Туда, туда!» — снял рюкзак, разулся и лег — широкие теплые листья напряглись под ним, пригнулись, но выдержали, не смялись. И закачало Володю, понесло на прозрачных, бережных крыльях, принял его полдневный сладостный морок, убаюкал, глаза закрыл, но и сквозь веки Володя видел медленный далекий ход облаков. И где-то возле них витала счастливая мысль, отражаясь на Володиных губах легонькой, едва заметной улыбкой: «Вот-вот! Удалился! Не видать, не слыхать».
Однако душевное равновесие сохранялось недолго и так неожиданно и стремительно разлетелось на куски, что Володя схватился за голову, больно сдавил виски и попросил кого-то: «Не надо, не надо!» — все более и более замерзая и съеживаясь в вернувшемся холоде вчерашних мучений и дум. «Почему так вдруг?! Ну, еще немножко! Чуть-чуть подремлю, отдохну», — просил и просил Володя этот солнечный высокий зеленый день, которому он ничем не досадил. «Кто меня поднял, кто напугал и так больно обо всем напомнил? Кто?!» Володя со страхом огляделся: полянка тиха, камнеломка бесшумно плетет разноцветные нити, по-прежнему парят оброненные сосной желтые иголки — ни души. «Ни-ко-го», — прошептал Володя и увидел рядом резные рябиновые листья ломотной травы, блестевшей ярко-желтыми атласными пуговками-цветами. «Пуговичник проклятый, лапа сорочья!» — закричал Володя и резко, глубоко вздохнул: так и есть — облепил, обклеил лицо запах камфары, запах нездоровья, больницы, ожививший все Володины горести и беды — они-то и растолкали его, разнесли в пух и прах миротворную дрему.
«Убегу, убегу!» Володя вскочил, закинул рюкзак и действительно побежал. Обок с ним, справа и слева, бежали Кеха, и Настя, и высокий мужчина со строгим неподвижным лицом, как у отца на фотокарточке. Они говорили ему, задыхаясь: «Подожди! Да подожди ты! Думаешь, легче будет? Не убежишь же! Не убежишь!» Володя прибавил ходу, сразу же почернели летящие мимо осины, в горле рос саднящий горячий хрип — перед лесной луговиной Володя споткнулся и упал на колени, хрип прорвался, разлетелся меж кустов отчаянным криком:
— Что-нибудь! Что-нибудь случись со мной! Пожалуйста! Прошу! Кто-нибудь научи меня жить!
Скрипуче, протяжно завыло над головой. С открытым ртом Володя ткнулся в траву. Тихо-тихо. Он поднял бледное, дикое лицо — качалась надломленная верхушка отжившей лиственницы, и черное облачко трухи оседало на него. Володя поднялся и нетвердо побрел через луговину. С нее можно было увидеть партизанскую могилу на высоком обрыве, свежий, яркий свет звезды и ограду. Оглянувшись, он не увидел ни могилы, ни своих следов в мягкой, лесной осоке. Но удивляться не было сил. Не снимая рюкзака, он бросился на землю и затих.
По вечерней росе подходил Володя к Караульной заимке. Она стояла на муравчатом бугре, над слиянием двух безымянных речушек; их тальниковые, темно-серебристые излучины туго подпоясали бугор, резко обозначая, выпячивая его грудь. Глубокая, парящая синева, оставленная закатом над сизой, плотной стеной леса, освещала и заимку, и муравчатый бугор, и прибрежный тальник с такою печальною, щемящей ясностью, что Володя вздрогнул от невыразимого, зябкого восторга: «Ну, надо же, куда вхожу!»
Он остановился, чтобы испытать полную силу этого волшебного, сумеречного облучения, но длилось оно недолго: Володя увидел, что избушка на бугре странным образом помолодела, засветилась желтовато-белыми, свежескатанными стенами. «Неужели новая?! — удивился Володя вслух. — Когда это дед Степан успел?» Он заторопился, взял левее, чтобы подняться прямо к кострищу, возле которого у деда Степана была коптильня, жердевое сушило для шкур, и, если он здесь, на речке или в лесу, Володя сразу поймет это.
Он не одолел и половины склона, когда до него докатился округлый, медленный бас:
— Ничо, подождем. Вот-вот появится, — голос напоминал дед-Степанов, но был гуще, тяжелее. «Что это с ним! Простыл, что ли?» — подумал Володя.
Над бездымным, прозрачно-жарким костерком стоял, уставившись в бурлящий котелок, рыжебородый, приземистый мужик. Кудластая, медно-сивая голова, матерые плечи, обтянутые блузой-рубахой из шинельного сукна, короткие толстые ноги в штанах из того же сукна, в черных, смазанных дегтем ичигах.
— Добрый вечер! — сказал Володя.
Мужик вскинул голову:
— А-а… — сумрачно-зеленые, с желтцой, зрачки, переносица костистым бугорком, ноздри чуть сплюснуты и напряжены курносой пипкой. — Здорово! — мужик улыбнулся — шевельнулись усы и белый кустик под нижней губой, резко выступающий из зарослей бороды.
Володя несколько успокоился, увидев, что коптильня и сушило на старых местах. «Никуда ничего не делось», — и повернулся к зимовью — опять ослепили белые, в смоляной измороси, бревна. «Да что это такое?! — он подошел к стене. — Отстругали заново, что ли?» На деревянных колышках, вбитых в стену, висели две винтовки и берданка, с плохоньким, обносившимся прикладом. Володя замер, едва не вскрикнув: «Откуда винтовки?!» — испуганно, торопливо крутнулся и вовсе остолбенел: рядом с мужиком стояли парень и девчонка, в таких же рубахах из солдатского сукна, только у девчонки из раскрытого ворота выставлялась белая в голубой горошек кофточка. Володя растерянно кивнул им, они поклонились в ответ, низко, чинно, с серьезными лицами. Мужик захохотал.
— С тобой чо? Как на новы ворота пялишься?
— Да нет, я так, — пробормотал Володя. — А дед Степан где?
Мужик, все еще смеясь, глянул на парня, на девчонку и опять добавил в смех грохоток: «Кхо-кхо-кхо!»
— Нету его пока. Время, паря, еще не вышло.
Парень и девчонка, потупив глаза, усмехнулись этак снисходительно-сочувствующе, точно Володин вопрос показался им бог знает каким нестоящим, детским — кроме усмешки, и ответа не найдешь.
Володя пожал плечами: «Пожалуйста, смейтесь, раз смешно. Только я ничего смешного не вижу, — и снял рюкзак. — Это он с ними говорил, когда я поднимался. А где же они были? Наверное, с того боку, у реки…»
— А уха ничо, отдает крепко, — мужик оттопырил розовые, мягкие губы и осторожно, не касаясь ложки, втягивал огненную юшку. — Ох, шибает, хоть качайся! — он снял котелок, прихватив дужку суконным подолом. — Нюрка, давай воды на чай тащи. А ты, Степка, костер поднови!
— Садись с нами, похлебай, паря Вовка. Промялся, поди, славно? — и Володя, в самом деле, сел, но не у костра, а прямо на рюкзак — напрягшиеся икры не выдержали, не устояли: «Откуда он меня знает? Наобум так всех зовет, или дед Степан говорил? Что делается! Избу не узнаю, людей тоже, рыжий этот какой-то странный, смеется черт знает над чем, винтовки», — поплыл, закружился Караульный бугор вокруг прозрачного желтого пламени.
— А вы как меня знаете?
— Знаю, не знаю, угадываю. Правильно назвал? То-то. Уметь надо! — и мужик подмигнул Володе диким зеленым глазом.
Парень, названный Степкой, сгрудил угли, примял их и бросил на белый жар охапку смолья: огонь не сразу справился с ним — костер задымил черно и густо, мужик подскочил и ногой отшвырнул смолье, закричал:
— Сдурел, Степка! Гнуса, что ли, гонишь! Задымил. На пять верст видно — как вот уши-то накручу!
Степка сжался и вывернулся из-под протянутой руки:
— Да ладно, бать. Все одно уж темно, не видать дыма-то.
— Я тебе дам не видать! Сторожись с огнем — не маленький!
«Пала боится, что ли? Так до леса вон сколько. Из-за дыма уши крутить — во дает!» — Володя подошел к костру и сел рядом со Степкой.
— Без дыма какой огонь?
— Да не… Правильно он меня. Береженого бог бережет. — Степка заулыбался — плотные, белые полоски зубов натянули губы ровными, тонкими полукружьями.
— А чего беречься-то, не понимаю?
— Мало ли.
— Вы откуда?
— Из Юрьева.
— На охоту?
— Да вроде. — Подошел мужик с деревянными почерневшими чашками, встал на колени перед котелком, берестяным черпаком налил ухи. Степка с его приходом отодвинулся от Володи и даже отвернулся — сумерки обвели синеватой чертой его высокий, окатистый лоб, длинный, узкий — не отцов — нос, сжатые этакой смешной вороночкой губы, костлявый, тоже длинный подбородок. «Где я его видел? Ведь где-то точно видел!» — подумал Володя.
— Нюрка как за смертью ушла. Засветло доесть не успеем. В темноте какая еда. Вот ведь! — Он протянул Володе ложку. — Меня Еремеем зовут. Степанычем. Начинай, пробуй.
— Спасибо. Что же я один-то, — Володя достал из рюкзака хлеб, тушенку, выгреб на ощупь несколько плавленых сырков и принес к костру.
— Ну-ка, ну-ка, поинтересуюсь, — Еремей Степаныч с какой-то странной торопливостью, даже жадностью, схватил буханку, крепко помял ее толстыми шишкастыми пальцами — корочка захрустела, прогнулась, но не порвалась. — Смотри-ка, упружит как! Слышь, Степка!
— Но!
Еремей Степаныч прижал буханку к своему несуразному носу — в нем засвистело от сильного вздоха.
— Запах тонкий, зараза. Хоть на пасху ставь. Понюхай-ка, Степка. Как зовется-то? — спросил он Володю.
— Сеянка. А в Юрьеве другой, что ли?
— Малость другой. Сейчас вот угостишься, — Еремей Степаныч запустил руку в плетеный горбовик, вынул белый мешочек, зубами растянул вязочку — появился аккуратный, морщинистый каравай, из морщин посыпалась золотистая, прожаренная мука. Легким щекочущим дыханием осела она на Володиных губах, когда он впился, вгрызся в ржаную, кисловато-прохладную горбушку — солоно, жарко стало деснам, голодная спазма закупорила горло, но под напором хлебной силы откатилась назад, и в животе что-то потеплело, смягчилось, обрадовалось. Володя сказал с полным ртом:
— А я очень люблю черный хлеб. Это из пекарни или свой?
— Свой, свой. Ты вот что, паря, — Еремей Степаныч осторожно положил Володину буханку, — давай наш используем, а твой трогать не будем, оставим пока.
— Пожалуйста, конечно.
Пришла Нюра. У реки она сняла суконную блузу, темный платок, и теперь смугло-русые прямые волосы, закрывая уши, оплечьем лежали на белой, в синий горошек, кофточке. Надо лбом, на манер кокошника, Нюра укрепила три красные пылающие саранки. Щеки после холодной воды темно, упруго блестели, крутые скульные дуги нежно облеплял влажный пушок — лицо ее, которое ранее Володя не разглядел, поразило его. Неуклюжий отцовский нос, переносица бугорком, ноздри стиснуты и вздернуты, тяжелые губы, резкие скулы — черты эти, взятые раздельно, никак бы не украшали Нюрино лицо, но неправильность их уравновешивалась прекрасным, чистых линий лбом и сильными, глубокими обочьями, в которых горели, зеленели дикие отцовские глаза — красоты в лице не было, была притягательная, смущающая душу властность.
— Охти мне, — засмеялся Еремей Степаныч. — Вон чо для гостя-то разукрасилась. Слышь, Вовка, для тебя девка старалась. Аж царски кудри где-то нашла. То-то дождаться не могли.
Нюра опустила глаза, кинула на землю суконную блузу и села на нее. Пламя высушило пушок на скулах, и он ожил, задрожал, завеял.
— Хороша невеста, а, Вовка? Давай сватай, пока не поздно!
Нюра, все не поднимая глаз, сказала тихо, спокойно:
— Ладно тебе выдумывать. Чо конфузишь?
— Но, но! Сконфузилась. Для нас со Степкой чо-то цветочки не заплетаешь.
Она посмотрела на Еремея Степаныча сквозь дрожащую, злую слезу прямо, тяжело, невидяще.
— Цыть! Нюрка! Ты мне посмотри так! Не смей боле на отца такой глаз напускать.
Воздух набух холодной, влажной чернотой, исчезло бледное свечение над лесом — ночь окружила оранжевое пятно костра на Караульном бугре, и казалось, только здесь происходит жизнь, а в других местах ее загасила эта черная мощная волна.
У костра же жизнь поддерживали чуть поостывшей, но все еще крепкой, забористой ухой. Хлебали молча, лишь чайник затягивал и обрывал комариную песенку, потом без предупреждения, густо, басовито замычал, задребезжал крышкой, заплевался на белые угли. Они, собственно, и остались от костра, потому что с темнотой Еремей Степаныч разобрал его, затоптал излишек жара: «Пусть комары покормятся, зато никакого лешего на огонь не потянет!»
Их жиденький, тлеющий свет как бы отодвинул Володю от недавних знакомых, превратил его в совершенно одинокого человека — это вдруг пришедшее одиночество потомило, помаяло душу, пока не разрешилось в беспричинное, бурное раздражение. «Он ненормальный, точно! Или еще кто-то. Костра ему не надо — очень странно! Почему он его потушил? Кого боится? Может, нарочно? Глупо это все, непонятно!»
Спину его внезапно прохватил резкий, промозглый холод, точно ветер с дождем, Володя поежился, оглянулся — смутно, серо белела стена зимовья, казалось, холодом тянуло от нее, и опять возникло неприятное удивление: «Вот же елки! Избу не узнать, а спросить забываю».
— Когда это дед Степан успел стены перекатать — как новенькие?
— Новые и есть, — откликнулся Еремей Степаныч. — Весной поставили, чего ж не новые.
— Какой весной? — Володин голос сел. — Я же был весной, крышу вместе чинили. Дед Степан ничего не говорил и не собирался новую ставить.
— Не собирался вот, а стоит. Сам видишь.
— Странно. Я же был весной…
— Был, да забыл. Или путаешь. А может, в другую весну был?
— Да нет же! — Володя все более поддавался чувству необъяснимого страха, в то же время думая, что весь этот разговор — шутка, розыграш. — Ничего не пойму, чудеса какие-то. Куда же он делся? Скажите все-таки?
— Чо я те скажу? Нету его пока! Говорил же я — по времени еще не подошел.
— Завтра, значит, будет?
— Будет, будет. Нашел свет в окошке — дед Степан да дед Степан, — Еремей Степаныч поднял чайник, ополоснул из него чашки, — вяжуще, густо запахло пропаренным смородиновым листом. — Сахарку бы сейчас! Со свистом-то не больно сладко!
— У меня есть, есть! — суетливыми, неслушающимися руками Володя рылся в рюкзаке. «В Юрьеве такой магазинище — сахара не взяли! Охотники тоже! Вот попал в семейку — с ума сойдешь!»
Еремей Степаныч подкинул на ладони кусочек — белое пятнышко мелькнуло в темноте и остановилось, повисло как бы само по себе:
— Скажи, какой легонький да аккуратный, — кусочек медленно поплыл ко рту. — Ух ты! Что ж он слабый такой, зараза! Языком тронул — и нет его.
— Так быстрорастворимый, — сказал Володя.
«Точно, дурака валяет. Будто сахара не видел».
— Нарочно, значит, такой сделан? Раз, два — и в животе?
— Для беззубых, — Володя улыбнулся. — Или кому ложкой тяжело мешать.
— Ага, ясно. Вприкуску не положено. Ну, паря Вовка, проугощаешься. Без куска останешься. Вон Степка как славно золотуху зарабатывает. Глотать не успевает. Степка, совесть имей. Как девка, на сладкое лезешь.
— Да на здоровье. Чего там, — Володя смутился: «Может, у них семья здоровенная. На всех сахару не напасешься — комковой и едят, по кусочку. А я тут, елки-палки, страхи выдумываю. Подумают еще — жадничаю».
Ночь посветлела: первая густая чернота отстоялась, осела в траву, и забрезжил слабый, белесый свет, предупреждающий появление месяца. Возник высоко над головами тонкий, жалобный голос: «а-а-а» — словно звал кого-то усталый, заблудившийся путник, — голос проплыл под дрожащими звездами, не затихая и не успокаиваясь, и исчез с тою же странною внезапностью, с какой возник.
Володя, закинув голову, с открытым ртом, жадно слушал — какой-то очень нежный, прозрачный отклик вызвал в его душе этот голос. Володя с физической ясностью испытал желание подняться туда, в вышину, и проплыть вместе с голосом.
Он подождал, вновь надеясь услышать его, но установилась полная безветренная тишина. Володя сонно, забывчиво всхлипнул открытым ртом, очнулся, опустил голову, — смутный, рассеянный свет переменил до неузнаваемости лицо Еремея Степаныча: окоротилась, пригладилась борода, еще туже промяв щеки и резче выпятив скулы; глаза в тени надбровий утратили дикую, ясную силу, пробивались таинственными, тусклыми отблесками. «Что это с ним?» — вздрогнул Володя. Еремей Степаныч тихо спросил:
— Чо, Вовка? Случилось чо с тобой?
— Что?! Что случилось?! — крикнул Володя испуганно. «Приготовься, началось», — шепнули дурные, давно томившие его предчувствия. — Что началось?! — опять крикнул он и посмотрел на Нюру со Степкой: они сидели спокойно, поодоль от Еремея Степаныча, светясь белыми, неясными лицами.
— Ты же давеча просил. Вон как звал: случись чо-нибудь… Случилось! — твердо и громко выговорил последнее слово Еремей Степаныч.
«Откуда он знает? Никого же не было там. Только лиственница сломалась. Я же просто кричал — тошно было. Кого я звал, кого! Сил не было, мутило — закричишь».
— Откуда вы знаете? — Володя привстал, подвинулся, чтобы лучше видеть лицо Еремея Степаныча и убедиться: оно прежнее.
— Слыхали, — Еремей Степаныч тоже подвинулся навстречу Володе и шепотом, быстро: — Дак кого звал, спрашиваю?
Володя откинулся.
— Никого… Не знаю.
— А мы вот, паря, взяли да явились. В другой раз зря не ори. Не тревожь. — Еремей Степаныч достал кисет, зашершавилась в пальцах бумага.
— Я не… вас… я… никого, — бормотал Володя неудержимо, обильно потея.
— Теперь уж чо. Встретились. — Самокрутка вспыхивала зеленовато-белым пламенем, и при нем Еремей Степаныч увидел потное, растерянное лицо Володи. — А ты не пугайся. Сейчас поймешь все… Мы же не теперешние — вот в чем суть…
— Как?!
— Подожди. Тут ойкай не ойкай, а раз угодил в нашу компанию, терпи.
— Нет, ничего. Я что? Я рад познакомиться…
— Ну, рад не рад, а так случилось. Я вижу, как тя мает: и что же это за охотники такие, да с девкой в придачу. Головой не мотай — вижу. Не охотники мы, Вовка. В карауле партизанском стоим. И времени сейчас — двадцатый год. Вот те и фик-фок на один бок.
Онемевший Володя думал: «Ерунда, глупости, так не бывает, шуточки, машина времени — нет, нет, пусть голову не морочит!»
— Не-не может быть!
— Конечно, сразу не поверишь. Погодить надо. Скажи лучше: туто-ка лужок ты переходил, ну, перед которым крик-то поднял, следов твоих не осталось на нем?
— Не осталось.
— Видишь. Прямо к нам тебя и понесло, без промаха…
«При чем следы? Осока тугая — не мнется, голова шумела — следы, следы, все-то он знает; что-то нечисто, не ясно, и почему так страшно, почему сомлел я, слушаю этот бред, поддаюсь ему, цепенею, если все так, как он говорит, то зачем, зачем?!»
— Но почему я? Почему двадцатый год? Почему все это случилось? Если случилось…
— Случилось, паря, случилось. Складно я те не объясню — помаленьку сам разберешься. Я было тоже удивился, когда услышал, как на коленках-то ты кричал: «Случись что-нибудь! Кто-нибудь научи меня жить!» Думаю: вот чудеса — посмотрю, что после меня стало. Вроде как смерть обману. Тут, Вовка, лукавить нечего. Бери все как есть. Нечаянно подваливает такая встреча! Плохо ли? А?
— Не знаю, — равнодушно сказал Володя, уставший от необычности происходящего, но тотчас же спохватился, что Еремей Степаныч обидится его равнодушием. — Нет, интересно, еще бы. Только как же мы?.. Что теперь делать-то будем?
Еремей Степаныч облегченно засмеялся:
— Слава богу! Поверил. А дел, Вовка, не переделать. Не на одну уху сошлись. Значит, малость потолкуем — особо засиживаться нельзя, завтра день тяжелый. А поутру ты нам поможешь. В Юрьево пойдешь. Там белые стоят, а тя никто не знает, вон со Степкой одежей переменишься и пройдешь к одному человеку. Ну, завтра толком скажу. Ладно или как?
— Ладно.
Придвинулись к Еремею Степанычу Нюра и Степка, устроили одинаково руки на коленях, расслабили шеи, приспустив головы, — так приготовляются обычно слушать что-то продолжительно-интересное. Володя сидел напротив них и с волнением (напряглась, выпрямилась, помимо его воли, спина) ждал, о чем же его спросят. «Тут хоть три ночи сиди, разве все расскажешь? — он попробовал сосредоточиться и хотя бы про себя коротко перечислить главное. — Конечно, спутники, космос, реактивные самолеты. Что из Майска в Москву за шесть часов можно добраться, — но в погорячевшей голове все мешалось. — Надо же объяснять, не просто перечислять. Что за самолеты, что за техника, почему так быстро передвигаться можно. Но я же в точности не расскажу, это специально знать надо, да и когда успеешь? Ведь они ничего, ничего не знают! Все с азов надо!»
Еремей Степаныч спросил:
— Ну, как народ-то живет?
— Нормально, — Володя пожал плечами: он ждал более трудного вопроса.
— Одет, обут? Сыт?
— Да тут все нормально, в порядке. И хлеб, и масло, и сахар, вообще продукты. В принципе, и одежда всякая есть, и обувь. Разве что импортных вещей не хватает…
— Каких, каких?
— Импортных, то есть заграничных.
— А-а, — Еремей Степаныч снова крутил папиросу. — Войны-то нет?
— Нет.
— Слава богу. А мы вон захлебываемся в ей. Ну, вроде добиваем.
— Нет, вы не поняли. Была еще война. Великая. Отечественная. Я, правда, после нее родился.
— С кем?
— С фашистами, с Германией.
— Ох ты, зараза какая, этот немец. И чо ему опять надо было?
— Весь мир. Чтобы весь мир на них работал.
— А фашисты эти кто такие?
— Ну-у… Это немцы, которые говорили: немцы — лучше всех остальных народов, и поэтому дави всех остальных.
— Сильно им накостыляли?
— Сильно. Мы до Берлина дошли, они безоговорочно сдались.
— Наших-то много не вернулось?
— Много. Несколько миллионов.
— Ох, господи! — Еремей Степанович хрипловато, коротко вздохнул, как захлебнулся, растер в пальцах окурок — влажным табачным перегаром потянуло на Володю.
— Долго воевали-то?
— Четыре года.
— С какой по какой?
— Так… Если сейчас… двадцатый, то через двадцать один началась. С сорок первого по сорок пятый.
— И я вот пятый год как землю бросил.
Неожиданно, ярко явился месяц, вынырнув из-за черной горы, тотчас же заблестела трава, и воздух наполнился голубоватым, холодным, спокойным светом.
Еремей Степаныч молчал, руки были расцеплены и тихо оглаживали солдатское сукно на коленях. Он долго смотрел на Нюру со Степкой, качал головой, успокаивая, видимо, какие-то свои думы, и вновь приопустил голову на грудь. В глазах его мелькнул влажный блеск, и Володя подумал, что это, наверное, не только из-за присутствия месяца.
— Оклемались вы быстро после нее. Хорошо. Как хозяйствуете-то?
— Как? — не понял Володя.
— Ну, как сеете, пашете? Как земля жива?
— По-моему, нормально.
— Ты мне, паря, толком говори. Что с землей делают, что рожает она, кормит как?
— У нас же теперь колхозы, совхозы. Они и работают на землю.
— Это как понять: колхоз, совхоз.
— Колхоз — коллективное хозяйство, совхоз — советское.
— Во-он чо… Миром, значит, ее обихаживают. Давай, давай, Вовка, толком объясняй.
— Так. В колхозах коллективная собственность на землю, в совхозах — государственная. У колхозников какие машины есть, трактора, здания — всем этим они сообща владеют. А в совхозе — все это государственное, вы, как рабочий, смену отработали и домой. Как на заводе…
— Ну-ну. А государственным, выходит, мы уже сообща не владеем? Не наше добро, выходит?
— Подождите, Еремей Степаныч. Вы не поняли. — Володя покраснел, лихорадочно припоминая давно читанные страницы «Конституции». — Государственное добро тоже наше. Тут вот как: мы все хозяева, то есть народ стоит у власти и распоряжается и землей, ее недрами, и фабриками, и заводами. И когда я говорю: предприятие государственное, значит, народное, и если я на нем работаю, то, в общем-то, я его хозяин. Но каждый же не может, раз хозяин, делать, что ему хочется. И тогда выбирают Верховный Совет, и уж он распоряжается: где, что делать, сколько, в том числе и совхозной землей распоряжается.
— Про хозяина я, паря, все понимаю. А в колхозах этих, значит, Верховный Совет не может распоряжаться?
— Почему же. В нем и колхозники есть.
— Дак чо ты огород городишь. Вся земля народная — и точка. А то — коллективная собственность, государственная…
— Коллективная — это другое дело. У вас была земля, и вы объединились с другими крестьянами в коллектив, каждый свою землю внес. И получился колхоз. И вы вместе землю обрабатываете.
— Ага. Значит, все-таки я знаю: вон то поле мое, ну, то есть бывшее мое. Ну, а в случае чего, могу я его назад забрать?
— Не-не знаю. Наверное, нет… Хотя не знаю, не знаю, Еремей Степаныч, — Володя опять смешался: «Вот елки. Знать бы так, я почитал бы об этом!»
— А колхозники-то как живут?
— По-моему, хорошо. Им сейчас деньги на трудодень платят, вроде городских дома строят, магазины, техники у них много, — отвечал Володя то, что помнил из газет.
— Кто плотит? На какой трудодень?
— Ну, кто? Сами себе, наверное. Трудодень — это трудовой день. Например, столько-то гектаров вспахать стоит столько-то трудодней. Условно, понимаете? Например, один гектар — десять трудодней. То есть будто десять трудовых дней надо на эту работу потратить.
— Ноги протянешь.
— Нет, я же к примеру говорю.
— А в совхозе как?
— А там, по-моему, зарплата, как у рабочих.
— А им кто плотит?
— Государство, конечно. Я же объяснял. Да! А у колхозников сейчас на трудодень выходит и деньгами, и продуктами, которые осенью получают: зерно, овощи и так далее.
— Объяснить-то ты объяснил, верно… В совхозе, выходит, тоже сами себе плотят?
— По идее — да. Наверное. Ведь, в общем-то, все народное. Но я еще подумаю, — Володе и в голову не приходило, что кто-то когда-то спросит его о колхозах и совхозах, более того, он никогда всерьез не интересовался их жизнью. «Черт, как неудобно. Путаюсь, огород, действительно, горожу. Что же я, что еще помню? Так… кулаки, коллективизация, МТС… Но кто кому платит, какая особая разница между колхозами и совхозами — убей бог!»
И хоть вслух Володя ничего не сказал о своем досадном неведении, Еремей Степаныч, видимо, уже убедился в нем, потому что снова замолчал — похрустывала лишь борода, крепко прижатая к груди.
— Да, паря. Ломай теперь башку над твоими речами, — несколько погодя сказал Еремей Степаныч и опять уткнулся в медленную, с редкими вздохами думу.
Степка, поняв, что отец задумался надолго и теперь можно осмелиться самому поспрашивать, подсел к Володе.
— Слышь, а ребята-то как живут? — голос у него осип от послушного затяжного молчания.
— Хорошо, хорошо, — вяло отозвался Володя, все еще переживая свои бестолковые, маловыразительные ответы и мучаясь догадкой, что он разочаровал в чем-то Еремея Степаныча, а в чем именно — никак не мог уловить.
— Чо же, учитесь все?
— Конечно. — Володя встряхнулся. — Все, кому не лень.
Степка возбужденно хохотнул:
— Ха-ха! Говори тут! Кому не лень! Спросить хочу: вот я, к примеру, на кого могу выучиться?
— Да на кого хочешь! На инженера, на учителя, на врача. Да если перечислять, до утра хватит.
— Здорово, паря. А на командира могу?
— Военным, что ли, хочешь быть?
— Я к примеру спрашиваю…
— Запросто. Иди в военное училище или в академию. И пожалуйста, командуй.
Степка коротко, жадно вздохнул, с этаким нетерпеливым всхрапом, ударил кулаком по колену:
— Скорей бы уж отвоеваться! Учиться пойду. А то и побегу.
— На командира?
— Может, и на командира. — Степка помолчал. Опять вздохнул: — Ну, еще чо вы делаете?
— Как — что делаем? — не понял Володя.
— Ну, учитесь. А еще чем занимаетесь?
Володя растерялся: «Жизнь, что ли, ему пересказывать? Мол, с матерью одни живем, по дому ей помогаю, на стадион хожу, книжки учусь переплетать? Или про Настю? Про Кеху? Вот, мол, как мы любим и ссоримся. Нет, это все — личная жизнь, ее не перескажешь, ему скучно будет слушать. Он наверняка спрашивает про общее какое-то дело».
— Многие же в комсомоле. Дел хватает.
— Слыхал я про комсомол. До нас-то он еще не дошел, но в отряде один мужик есть, он знает, рассказывал. Говорил, что большевикам ребята должны помочь беляков разбить и Советскую власть, значит, как следует везде устраивать… Интересно?
— Что — интересно?
— В комсомоле быть?
— Странно спрашиваешь. Скучно, интересно — не в этом дело. Тут по-другому рассуждай: готов ли ты в комсомоле быть, готов ли сознательно Советскую власть защищать? Или рано тебе. Тогда голубей гоняй да по чужим огородам шарься, — Володя воодушевился своим объяснением: уж Степке-то он все по полочкам разложит.
— Я, однако, воюю. А ты что делаешь?
— Я-то?
— Ты-то?
— Сады садим, с пацанами маленькими возимся, в движении мира участвуем — уже тыщу рублей заработали, музей при школе открыли. Кстати, про вас и про ваше время. — Володя передохнул: никогда еще не приходилось ему разделять жизнь на просто жизнь и на жизнь в комсомоле, да, наверное, и не стоило разделять: он учится, он — комсомолец — и по-другому никогда и не думалось. Но сегодня — особый случай, и вот нужен сторонний взгляд, потянувшись за которым Володя впервые подумал: «А что? Правда, дел хватает!»
Степка спросил:
— И все?
— А тебе мало, да? Думаешь, меньше, чем воевать? — Володя обиделся за свое время и разозлился: — Заводы мы строим, землю пашем, в армии служим! И, если хочешь, крови тоже не жалеем! Мало, да?
— Не духарись, паря, не духарись. Нормально все, — Степка вроде бы улыбнулся в темноте, и голос у него стал потише. — Я же просто спрашиваю — интересно мне.
Поднялся Еремей Степаныч от потухшего костра:
— Спать пора! Завтра чуть свет выйдем. — Он оглядел небо. — Спать, спать. Вон вызвездило — глухая ночь.
Нюра при этих словах встала, прошла мимо коптильни, спустилась с бугра — белая кофточка плавно исчезла, утонула за ним. Володя подумал, что Нюра молчала весь вечер, сидела как каменная. «Что же, неинтересно ей, что ли? Хоть бы слово, — он почувствовал слабую, чуть ворохнувшуюся обиду на Нюру. — Будто меня и нет. Хоть бы из вежливости о чем-нибудь спросила. Не каждый день видимся, — Володя тихо ахнул, стукнул ладонью по лбу, засмеялся: — Ну, ты даешь. Не каждый день. Забыл, куда попал! Окунулся, поверил. Может, нервы уже не держат, а? Дурак ты дурак!»
Еремей Степаныч звал его:
— Вовка, давай на боковую. Привык, поди, спать — не поднимешь.
— Я еще чуть-чуть посижу. Неохота что-то. Хорошо вон как.
— Смотри. Но недолго. Нюрка вернется, скажи, чтоб сразу ложилась. Лясы тут не точите.
Володя сидел, закрыв глаза, тихонько покачиваясь, точно остывал после разговора, охлаждался в светлом течении ночи. На самом же деле, по прихоти воображения, он покачивался вместе с огромным, тускло-медным маятником, неожиданно возникшим в радужной темноте памяти. Часов Володя не видел, только литой, тяжелый диск маятника, мерно, бесшумно отсчитывавший неизвестный час и в крайних точках размаха скудно поблескивавший красной медью. «Часа три я здесь, не больше, — думал он, — а как странно все повернулось! Скажи кому, не поверят, брось ты, мол, фантазер нашелся! А вот нашелся, — Володя улыбнулся. — А вот пожалуйста! Все наяву, сам был. — Он заволновался, вдруг поняв: но ведь ненадолго, надолго не может быть, не могу я все время в двадцатом году жить, у меня же все там осталось. И мать, и Кеха, и Настя. Понимаю, понимаю! Еремей Степаныч и расстроился, потому что знает — ненадолго мы встретились…»
— Вова, Вова! — услышал он сзади быстрый громкий шепот, оглянулся и увидел Нюру, вернее, белое пятно ее кофточки, в тени стожка, стоявшего чуть сбоку и поодаль от глухой стены зимовья.
Он подошел.
— Зову, зову, — шептала Нюра, — а ты не слышишь, как маятник, туда-сюда, думала, не дозовусь.
— Маятник?! Ах, да! У меня привычка дурная — задумаюсь и давай раскачиваться. — Володя вглядывался в ее лицо: «Неужели знает, что я маятник видел? Нет уж! Совсем чертовщина! Совпадение, конечно».
— Ты тише. Батя услышит, спать загонит. Зайдем за стог.
— А он велел сказать, чтоб ты сразу спать шла.
— Слышала я, — Нюра засмеялась. — Я давно за стогом-то прячусь. Как знала, что ты один останешься.
Она прислонилась к стожку, запрятав руки за спину: потревоженное сено просыпало на волосы, на плечи сухие стебельки, листочки — Володя хорошо видел в полном, сильном свете месяца. Нюра молчала, но губы ее, крупные, сильные, тяжелые, были неспокойны: напрягалась, твердела ядрышками опушенная припухлость верхней; нижняя заметно подрагивала, и впадинка под ней то темнела, то светлела — походило, что Нюра сдерживает улыбку или шепчет что-то про себя. Надбровные дуги чуть приподнялись, удивленно, ожидающе, сообщив и взгляду удивленное выражение.
«Надо же, елки-палки, как они одинаково стоят!» — Володя вспомнил, что и Настя при расставаньях вот так же прислонялась к балясине крылечка, запрятав руки за спину, и так же непонятно смотрела, будто удивляясь: «С какой стати я здесь и еще этот глупый, восторженный мальчишка?» «Вот и меняй тут годы», — вздохнул Володя.
— Ты поспрашивать, наверное, хотела? Я с удовольствием, чего ж. Как могу, конечно, отвечу.
Она медленно покачала головой, улыбнулась: полегчали, сгладились резкие скулы, весело сморщился несуразный, вздернутый нос — от этого на лице непонятным образом поселились смущение, лукавство — то минутное, неуловимое очарование, которого, однако, долго не забываешь и долго ждешь его возвращения. Пропала в Нюрином лице властность, так смутившая Володю при знакомстве, но и эти новые черты очень смущали.
— Не-е… — Она снова покачала годовой. — Я просто так. Батя вон сколько спрашивал. И Степка. Хватит. Я поглядеть хотела. — Нюра вдруг хохотнула, низко, отрывисто, тут же прихлопнула рот ладошкой, отчаянно зажмурилась.
Володя опешил:
— С тобой что? Нюра?
— Дура я — вот что! — она исподлобья посмотрела на него, загораживаясь согнутой рукой. — Ну, чо уставился? Отвернись! У-у, глазищи-то! Как у теленка томные…
— Пожалуйста! Могу и отвернуться, — сказал Володя с легкой, победительной усмешкой: «Чего доброго, я ей нравлюсь… Почему томные — странно?»
— Ты, Вова, не думай, я уж не вовсе дура, — она говорила тихо, то ли справившись со смущением, то ли пересиливая его. — Я вот на тя глядела, как ты бате-то все объяснял. Все ты складно говорил и руками так красиво делал, и глаза у тебя горели. Прямо как на-митинге. Я глядела, глядела — такой ты светленький весь, славненький — я до слез подумала: вот парень какой — ни разу такого не видела.
«Понятно, — разочарованно подумал Володя, — она на меня как на говорящую куклу смотрит. Еще бы! Вон откуда явился — потрогать, погладить охота, как из сказки же вынырнул!»
— Картинка я, что ли? Чего на меня глядеть? Пойдем, Еремей Степаныч заругает.
— Ой, нет, нет! Зря ты так говоришь! — Нюра прикусила верхнюю губу, сморгнула большую, зеленоватую слезу и растерла ее по носу. «Как у Насти, глаза на мокром месте». — Ну, что ты? Не бестолковый, поди! — Нюра выпрямилась, придвинулась вплотную: — Не понимаешь, да? Я на тя глядела да думала: разве ж такого еще увижу, разве ж услышу! А он чо ж не глянет ни разу — и так думала. Эх! — Нюра отступила, опять прижалась к стожку.
— Нюра, но я… я не знаю. — У Володи сбивалось дыхание. «Как же я забываю! Ведь мне недолго быть здесь, и ей недолго, а там уж никогда, никогда не увидимся!» — У меня очень руки замерзли. И вообще…
Губы ее теплые, легкие; больно, быстро сжимается сердце — вообще его нет, есть только высокий голос в небе, и сладко горчит в горле от запаха аниса и царских кудрей.
Позже, уже в зимовье, Володя, обхватив пылающую голову, шептал: «Невероятно, все невероятно. Проснусь, и ничего не будет. Ничего. Как жалко».
Серега
Серега, опять матерясь, скрючивается, держит кулаки возле живота и кружит, кружит, не решаясь ударить: не привык он так драться, чтобы один на один и никто б не заходил сзади противника и с боков или, на худой конец, не подложил бы незаметно в руку что-нибудь тяжеленькое — поневоле растеряешься.
Геночка же прирос к месту и медленно поворачивается вслед за Серегой, как манекен, кукла заводная, — надо сказать, что он вообще драться не умеет, не приходилось, может, два-три раза в начальной школе, да и какие это были драки — озорство. Геночка страшится боли, лицо напряглось — сейчас по нему, по нему ударят, внутри все сжалось, съежилось, смерзлось, но куда денешься? Надо! Принципы, честь, Лида — господи, обязательно надо! Почти сожмурившись, Геночка сует рукой вперед — попал! — в пуховую, атласную Серегину щеку. Проявляются на ней, белеют следы от костяшек кулака.
Серега взвизгивает и тоже тычет, попадая в плечо. Геночка вовсе не защищается, а лишь вздергивает и вздергивает повыше голову, точно можно ее этим уберечь — будь кто половчее да посмелее, не миновать бы Геночке крови, но Серега, наткнувшись на кулак, перепуган, досталось крепко, и, как следует не сквитав удара, отскакивает и вновь вертится волчком.
Геночка решается размахнуться — удачно, цепляет Серегу за ухо и не отдергивает кулак, а давит им на Серегину голову, хочет свалить.
— Замечание! — кричит Олег. — Геночка, делаю замечание! Так не пойдет.
Серега выпрямляется и, озверев, пинает Геночку в живот, но всей силой не достает — тот увертывается.
На этот раз Олег не успевает прикрикнуть: Геночка резко наклоняется, точно падая, и прицеливает кулаком в центр Серегиного лица. Серега катится по сосновым веткам, орет, дрыгает ногами — больно, конечно, больно, так на то и драка!
— Кровь! — объявляет Олег. — Слава победителю! — И поднимает Геночкину руку. Геночка растерян и несколько подавлен: он все еще переживает драку, но не с той воинственной, мальчишеской пылкостью, с какой бы полагалось, а мучительно стыдясь своей ярости, дикого ослепления, готовностью всего минуту назад растерзать человека.
— А теперь пожмите руки, бойцы и чемпионы! — Олег поднимает с веток Серегу.
— Я готов, — тихо говорит Геночка.
— Гады! Подстроили! Поучить вздумали, воспитывать! Нарочно же, гады, нарочно! Ну, я вам попомню! Всем! — неожиданно орет Серега, орет со слезой, бешено мотает головой, плюется.
— Серега, друг! Опомнись! — Олег трясет его за плечо. — Не пори чушь!
— Да, Захаров. Ты не прав. Я следил — все было правильно, — строго говорит Дроков.
— Гады! Уходите! Не лезь, не трогай меня! Судья, плешь пупырчатая! И ты гад!
— Ну, братец, уволь. Еще и мне тебя бить захочется. Пошли, ребята. Пусть очухается.
— Потапов, останься, — приказывает Дроков и первым уходит по тропочке.
Миша располагается под сосенкой, на Серегу и не взглянет, вовсе его не замечает, а так, сидит человек сам по себе, притомившийся путник, дремотно ему, уютно, в ногах лежит верный пес, сторожит эту дрему. Глаза у Шайбы тоже прикрыты, голова на лапах — не шелохнется, только напрягаются, подрагивают острые уши, ощутив близкую стрекозу или слепня.
Повсхлипывав, побранившись, уже для себя, Серега оттирает кровь. Нос у него не то чтобы разнесло, а, сохранив прежние очертания, он вроде бы отсырел, налился зеленоватой водой, одновременно полиловев. Миша дружелюбно подсказывает:
— Слева еще утрись, на щеке.
Серега, забыв о позорной истерике, доверительно спрашивает:
— Думаешь, я не посчитаюсь, да? Думаешь, забуду я Геночке? Пусть только в Майске появится? Ох, уж тогда! Представляешь?
Миша таким образом говорит «да», что можно принять его и за сочувственный, утвердительный ответ, и за этакий философический возглас, обозначающий: «Вот ведь пироги какие! Бывает же!»
И потом, возвращаясь домой, Серега все размышляет вслух, как он отомстит Геночке, а Миша все тянет и тянет свое неопределенно-утешительное «да».
Мишу, между прочим, всегда оставляют утешать кого-нибудь, кому-нибудь сострадать, хотя ни того, ни другого Миша делать не умеет, а просто присутствует при несчастном и молчит. Он никогда не отказывается от малоприятных и хлопотных поручений.
Положим, у кого-то круглая дата трудовой или жизненной деятельности — пожалуйста. Миша уже с подписным листом, собирает деньги на подарок юбиляру; кто-то заболел, и болезнь продвигается медленно, все просто устали навещать, опять-таки слово за Мишей — он один не устает, а ходит и ходит, носит гостинцы, сидит у постели, молчит, дакает — больной и растрогается: «Душевный какой парень», — и тут же попросит Мишу в аптеку сбегать, дровишек поколоть, за водой сходить. А то бывает еще хуже: помер кто-то. Все вздыхают, плачут в растерянности, суетятся без толку, за одно возьмутся, другого не окончат — лишь Миша, постоянный председатель похоронных комиссий, по обыкновению сосредоточен и тих и, уж будьте уверены, похоронит человека достойно.
Подобная безотказность, готовность услужить людям проистекает, видимо, из приютского воспитания Миши. Жизнь в детдоме, постоянно приучающая к публичному проявлению чувств, может быть самых тонких и трепетных, и сообщила ему черты человека истинно артельного: незлобивость, терпимость к чужим странностям, этакое мудрое, бесшумное повиновение чужому горю.
В общественном плане, помимо непременного участия в различных благотворительных комиссиях, Миша занимается еще художественной самодеятельностью. Такой человек для нее, да в таком глухом месте, — сущая находка, потому что он соглашается и петь, и плясать, и декламировать, а уж на то пойдет, так может выступить и в гимнастической пирамиде. Причем в этом деле Миша так же добросовестен, как и в других: надо по ходу спектакля падать, он падает — натурально, не притворяясь.
Признаться, самодеятельность в некоторой степени дурно повлияла на Мишу: он всех рассмешил однажды, сделав укладку, которая при его-то каменных, необъятных скулах и мощном, неуклюжем носе выглядела действительно забавно: неожиданно пристрастился к зеркалу, подолгу рассматривая и оглаживая перед ним лицо; стал собирать портреты кинозвезд, всевозможные театральные и концертные афиши; кроме того, он полюбил изъясняться словами спектаклей, в которых сам бывал занят или которые слышал по радио.
Вот и сейчас Миша цитирует:
— «Маша, ты на пороге новой жизни!»
— Что? — не понимает Серега.
— Да, говорю, домой пришли.
Прасковья Тихоновна уже ждет их, сидит под навесом. Посмотрев на Серегу, она звонко пришлепывает ладонью щеку и так, на ладони, покачивает голову:
— Батюшки! Нос-то у тебя, Серега, нос-то! Поешь-ка вот, да примочку с содой тебе сделаю. Садись, садись, вояка! Не дуй губы-то. Вон оладьев тебе каких оставила. Ешь, ешь больше, силы больше будет!
Серегу передергивает: «Ласковые какие стали. Одна компания — поиздеваться только. Еще и старуха смеется — Олег постарался, обрисовал. Ну, уж попадетесь когда», — но есть тем не менее садится, и ест с аппетитом.
Из палатки выходит Лида, глаза у нее не подведены и заплаканы — должно быть, Геночка снова воспитывал, или вообще охота была поплакать, попереживать, представиться себе несчастной, одинокой, да мало ли еще по какому поводу можно поплакать? Она улыбается Сереге, стараясь выглядеть прежней, веселой и беспечной девушкой, говорит:
— Что, Сереженька, прогуляемся? — Но в голосе не хватает обычной зычности и хрипотцы.
— У! Невеста пришла, соскучилась? Обязательно подружим! — Серега почти выкрикивает слова, надеясь, что услышит Геночка и выскочит из тепляка. Драться, конечно снова нисколько неохота но покуражиться, поизмываться было бы в самый раз. Но из тепляка никто не выскакивает.
— Так пошли, совсем темень будет.
— А нам что! Ох невесты пошли! Темноты боятся! — Серега идет за Лидой.
— Лидка, добалуешься, жаража. Ох, чую, добалуешься! — ворчит вслед Прасковья Тихоновна.
— Что, Сережечка, попало тебе? — спрашивает Лида, когда они достаточно отходят от поляны.
— Ничего. Мы ему в Майске кишки выпустим. Подожду. Их тут, гадов, больше, вот и пользуются.
— Я же говорила, он бешеный, — Лида смеется. — Знаешь, я только появилась на базе, дня через два подваливает Геночка. Глаза вылупил, руки по швам, сам краснеет: «Я, — говорит, — знаю, вы падшая женщина, но предлагаю вам руку дружбы. Я буду вас защищать». Я чуть от смеха не сдохла.
— Да дурак, видно же! — замечает Серега, с удовлетворением думая, что Лида единомышленница и сочувствует ему.
— И ведь пристал, не отлипнет. Ни на шаг от меня. Как сыщик за мной. Требует, злится: так не веди, да так не говори, да ты не смеешь. Я ему сколько раз: чего, мол, ты липнешь? Я тебе кто? Отвали ты подальше! А он мне знаешь что? Ты, говорит, себя еще не поняла. У каждого, говорит, так: не сразу себя понимает. А я, мол, тебя понял и уже не отстану. Ты, говорит, красивая, измучилась, а я тебя добру научу. И все мне про честность, про правду, про принципы всякие. Как, мол, душа велит, так и делай. И меня, говорит, к тебе душой тянет, я все равно не отстану. Умрешь с ним!
— Не очень-то ты его гнала, раз пристал. Сознайся, невеста. — Сереге не нравится, что Лида говорит с какою-то излишнею горячностью и вроде бы не окончательно просмеивает Геночку.
— Интересно же. Говорит так складно, красиво — слушаю, слушаю, аж до слез иногда проймет. А то вдруг такое зло берет: чего лезет, чего лезет?! Так и охота послать его куда подальше, чтоб ревмя ревел, чтоб насмерть обиделся и не лез!
— Во! Так и лепи. Кто тебе мешает? — Серега берет ее под руку: сегодня он ни за что не отпустит ее просто так, дело решенное — вот тогда Геночка попрыгает завтра. — Лидуха, ты ведь подруга, да? Боевая подруга. Точно?
— Зря я, однако, его растравила вчера, — Лида, не освобождаясь от Серегиной руки, чуть поворачивается и смотрит на Серегу снизу вверх. — Нос-то вон чо разбарабанило. Больно? — Она странно улыбается: присутствует в этой улыбке и легкая виноватость, и одновременно какое-то гордое, радостное довольство.
— Думаешь, помешает? Не бойся, Лидуха. Нос ни при чем. Можешь зажмуриться, — он резко обнимает ее и хочет поцеловать, но Лида, уклоняясь, разжимает Серегины руки.
— Да ну тебя!
— Чо, жалко?
— Жалко у пчелки.
— Не стесняйся, невеста, чего уж!
— Подожди, помолчи! Сразу лапы распускать. — Лиде очень хочется говорить о своем, и, помолчав немного, как бы отстраняясь этим молчанием от Серегиных шуточек, она улыбается прежней странной улыбкой. — Растравила его, а он — надо же! — драться полез. Ай да Геночка! А знаешь, из-за меня первый раз дерутся. Интересно, да? — Лида осторожно, коротко смеется и замолкает, точно пожалев, что не оставила смех для себя, а истратила попусту.
— Тоже! «Дерутся»! Забываешься, невеста. Я из-за тебя не дрался.
— Я знаю. Я про Геночку говорю.
— Может, хватит про него, а, Лидуха?
— А про что хочешь?
— Я-то? Да ни про что. Язык засохнет говорить. Дайка, я тебя, невеста, к сердцу прижму, к черту не пошлю.
— Ладно тебе.
— Чо ладно? У меня одно на уме, я темный.
— Иди ты, Сережечка! Вот все, всегда так. Как узнают — по указу — проходу не дают. А что знают, что?! Сережечка, ты хоть что-нибудь знаешь?
— Обязательно, да? Главное, догадаться вовремя.
— Постой! — Лида торопится говорить, голос звонок, неровен, речь точно разламывается на две половины: на ясный, чистый полувскрик и на глухой шепот. — Думаешь, под вывеской живу? Думаешь, шалашовка? Геночка, мол, губошлеп, молокосос, по молодости связался. А мне, хочешь знать, парень один и счас письма шлет! Да и был-то один, да вот вышло. Я не могу, я расскажу, ладно!
— Говори, послушаем. — Сереге невыносимо скучно, но придется потерпеть, пока успокоится.
— Письма шлет, а из-за него и попала. Но я не ругаюсь, он вообще-то ничего, добрый такой, характера только нет. Я в техникум кооперативный собралась. Сначала, правда, десятилетку хотела закончить, да отчим заел: у тебя, мол, танцы да мальчики на уме, а надо уже жизнь устраивать, учиться и работать, ты, говорит, девица, раньше домом можешь зажить — вот и привыкай, сама думай. Мать молчит, чего она скажет, когда еще трое в школу не ходят. Ну, я и подалась в техникум, чтобы только из дому смыться. В поезде еду, а сосед уж такой веселый парень, короче, общительный, сразу мне понравился, Петей звали. Видит, я пирожки одни ем — денег-то нет, он давай угощать меня, кормить, на станциях за мороженым бегом. Так два дня прохохотали, прошутили, приехали. А я никогда и не ездила, первый раз, куда, думаю, идти? В бумажке из техникума сказано — общежитие не предоставляется. У Пети спрашиваю, не знаешь, мол, куда на квартиру встать? А он: пошли, мол, ко мне. Все равно один живу, места не жалко. Я подумала, конечно, поняла, что раз одни в доме будем, то все и выйдет. Выйдет так выйдет, подумала, не на улице жить. Потом, он, говорю, парень ничего, симпатичный, веселый.
Стала я у него жить. Однокомнатная секция в новом районе, удобства все — Пете, как молодому специалисту, дали. У него товарищей много, компания у нас всегда, со всеми я перезнакомилась — то мы куда-нибудь идем, то к нам идут. Чаще-то к нам, ребята все по частным жили, не насобираешься.
В техникум я завалила, да и не жалко в общем-то. Зарплату Петину истратим — все равно голодом не сидим: кто приходит к нам, еду обязательно несет. Мне как-то весело, интересно, люд новый, потом, я вроде как хозяйка в доме-то стала. Петя часто по командировкам ездил, он инженером в тресте работал. Я его жду, убираюсь, стираю, вечером ребята с девчонками приходят — гитара, танцы, замечательно дружно мы жили.
Я все на работу собиралась пойти, да как-то затянуло меня, затянуло — вроде и без нее дела много. И весело в общем-то. Петя мне туфли купил, пальто, потом с девчонками мы любили меняться: то платьями, то кофтами на пару дней — так что всегда нарядной была. Сейчас вот думаю, а так и не знаю, чем бы все кончилось, но стали соседи жалобы писать в домоуправление, в милицию, потом-то уж узнала, что и на Петину работу писали. А тут как раз и указ появился. Меня за жабры и говорят: давай-ка в двадцать четыре часа. Петя в командировке, я реву и реву. Отревелась, сообразила, побежала в милицию: у меня, мол, муж есть, вот он вернется. Документы, мол, куда-то спрятал. На двое суток мне поверили. Я Пете телеграмму. Беда, мол, срочно прилетай. Он прилетел. Как узнал все — за голову схватился. «Лидка, — говорит, — горим!» И на работу побежал. Приходит, в глаза не смотрит. «Меня, — говорит, — тоже могут выгнать, „телега“, — говорит, — пришла». И молчит, и молчит. Ну, я поняла, жениться он на мне не хочет.
Могла бы, конечно, домой я сбежать, но что бы я там сказала? Отчим бы сам меня в милицию отвел.
Вот и поехала на высылку. Петя провожал меня, чуть не заплакал на вокзале. Денег еще на дорогу дал… Вот письма пишет…
Уже темно, вокруг слабо вздыхают черные, плотные тени сосен, и легонько перекатываются эти вздохи все дальше и дальше, по вершинам. Чуть светится, блестит трава, загадочно, смутно проступают свежие срезы пней. Лида молчит, у нее мелко вздрагивают плечи, она обнимает их ладонями и поглаживает.
«Неужели ревет?» — морщится Серега, не видя ее лица.
— Ревешь, что ли?
— Нет. Холодно.
— Ну уж. Теплынь такая!
— Да вот знобит что-то.
— Разговорчики все. От них, ясно, окоченеешь.
— Наверно.
— Иди сюда, погрею.
— Не надо.
— Лучше мерзнуть, да?
— Ну, не надо!
— У-у! Как тепло-то будет!
— Отпусти!
Серега все настойчивее и грубее.
— Я же, чтоб ты все понял… Ну!
— Что?.. Я все понимаю…
— Про жизнь про мою… Дурак!
Он уже непозволительно груб.
— Да отвали ты! Скотина! Мало тебе попало, да? Да пусти же! Ну гад же какой!
Она плачет, расцарапывает ему лицо, с силой рвет ему волосы, пинает, наконец вскакивает и быстро бежит к поляне.
Он догоняет, хватает за руку, задыхается:
— Еще ты, да? Еще каждая будет? — и бьет Лиду по щекам, она вскрикивает, вырывается, снова бежит, он снова догоняет и снова бьет.
Вот поляна, красный отсвет над жаром в овраге. Серега ничего не видит и не помнит. Лида спрятала лицо в ладони, он хлещет по ним, через них.
— Тетя Паша! — зовет Лида совсем тихо, хрипло, уже не в силах кричать.
— Господи! Да что же это! — Прасковья Тихоновна выползает из палатки, так торопится, что не сразу может встать, а быстро передвигается на четвереньках.
— Серега, да что же ты! Да стой же, зверь ты такой! — Прасковья Тихоновна ловит его руку.
— А ты уйди, старуха! — Серега растопыренной ладонью толкает ее в лицо. Она, охнув, как-то очень беспомощно, по-старушечьи падает навзничь и зовет:
— Мужики, убьет!
Выскакивают Дроков и Олег. Олег сшибает Серегу с ног, а Дроков бросается поднимать Прасковью Тихоновну.
— Мужики, только не бейте его. Послушайте меня, ради бога. Только не бейте, ребята.
Олег тянет Серегу с земли за шиворот, намереваясь снова ударить.
— Климко, запрещаю! Климко, перестань! — Дроков усаживает Прасковью Тихоновну под навес и кидается отнимать Серегу: — Самосуд не позволю. Слышишь, Климко!
Олег изо всех сил трясет Серегу, неясно, шепотом матерясь.
Протяжно, вскрикивая, плачет Лида. Прасковья Тихоновна просит:
— Мужики! Отпустите! Леня, уведи ты его!
Из тепляка вылетает Геночка. С дико вытаращенными глазами, вздрагивая, трясясь, хватает лежащий у очага топор — не кричит, поет:
— Убью-у-у! Убью-у-у!
Его успевает свалить Дроков, бросившись сзади. Олег ногой отшвыривает топор…
Прасковья Тихоновна, макая полотенце прямо в котел, смывает кровь с Лидиного лица. Слабые красные отсветы от очага, как бы стекающие с Лидиного лица, лесная темь, низкий берег черных туч — одолевает Геночку нервный холод, проступая мурашками на щеках, за ушами и на затылке. Приступом вдруг подкатывает икота. Геночка зажимает рот и убегает в тепляк.
Серега идет за ним; потное, блестящее лицо как бы разбухло от выражения тупого, злобного упрямства.
В тепляке он присаживается на краешек нар и, шевеля опущенной головой, косит, косит глазами — не ударит ли кто слева, не ударит ли кто справа. Но на него и не смотрят, настолько еще все переживают Геночкин крик и его безумное намерение.
Не умея раскаиваться и думать о себе плохо, Серега бодрится: «Сами довели… Подумаешь!.. Чего старуха-то под руку попала? Не спалось ей. Да я и не сильно ее. Чтоб не лезла только. А Лидке так и надо…» Он бодрится, но что-то распирает, давит изнутри на затылок и на виски, и утихшая было после бега и ярости кровь снова мчится по телу, сообщая ему потный жар, от которого Сереге хочется долго, бессильно мычать.
Он не знает еще, что это первые признаки душевной болезни: или одолеет лучшая, нежная, младенчески чистая часть души, или звериная, мутная, и тогда — падать и падать в самую ничтожную пустоту.
Дроков просыпается чуть свет — будит редкий, несмелый стук то в одном конце крыши, то в другом, то прямо над ним. Дождь. «Черт с ним, если и решится, все равно на базу, хоть выспимся под него как следует», — думает Дроков и намеревается снова уснуть, но не спится, и Дроков чувствует несвежим, ночным умом, что это не из-за неправильности в погоде. Что-то очень неприятное, нехорошее ждет его пробуждения. «Ах да, Захаров! Типчик еще тот достался. Что будем делать? Конечно, обсудим бригадой — очень правильный шаг! Я предложу… предложу… ах, черт!»
Более всего Дроков не терпит, когда что-либо или кто-либо мешает правильному течению жизни. Случись дождь в иное, рабочее время, Дроков бы расстроился, и весьма, потому что день тогда пропащий: в карты играй, кроссворды отгадывай, мух лови, а для бригадира это унизительно, а для бригадира правильнее всегда быть собранным, решительным, деловым, активно влиять на события.
Дроков рос в семье военнослужащего, и отец, вполне естественно, отличался особой приверженностью к дисциплине, аккуратности и порядку. Увидев у сына грязную или порванную одежду, синяк под глазом, двойку в дневнике, кляксу в тетради, уличив его в самовольном посещении кино, чрезмерном увлечении футболом или в невинной прогулке с одноклассницей после уроков, отец шумно вздыхал, разводил руками и как-то даже весело кричал:
— Ленька, иди, пороть буду, — и порол больно и деловито, не ожесточаясь, однако, порол по часам — не более десяти минут, но и не менее, потому что находил этот способ воспитания правильным и полезным. Порку отец заключал обычно устало-довольным возгласом: «Во-от! Приехали, слава богу», — затем, отдохнув и дав отдохнуть сыну, он затевал нравоучительную беседу:
— Конечно, ты понимаешь, что зла у меня к тебе нет. Я тебя бью, а у тебя рефлекс вырабатывается. Побои забудутся, а рефлекс останется. Ты, вообразим, захочешь в будущем какую-нибудь шутку выкинуть, а в организме твоем — бац! — внутренний толчок, предупреждение: подумай, правильно ты поступаешь или нет? И тогда-то, Ленька, ты вспомнишь меня добрым словом. Правильно, мол, отец меня учил. Спасибо ему!
И он вырос жилистым, ладным пареньком, очень энергичным и деятельным. Помимо привитого ему почтения к дисциплине и аккуратности, он так же твердо знал, что правильно в этой жизни и что нет.
Нынешним утром, разбудившись стуком раннего дождя, прогнав сонную хмарь, Дроков испытывает некоторую озадаченность: правильное течение жизни нарушено, а он не знает, как этому воспротивиться. «Ну, Захаров, не типчик! Законченный уголовник. Его судить будут, а он опять номер выкинул. Жуткая безответственность! — Дроков морщится, ворочается, кряхтит — одно неудобство в такую рань не спать, наконец маяться надоедает, и он садится на нарах. — Как же я осужу Захарова? Что предложу? В другом бы случае, конечно, ясно, как поступить: совершил проступок, проработали бы, на совесть нажали, а потом бы доверие оказали. На поруки там или вниманием бы окружили. И исправился бы человек. Окончательно потерянных же нет. А тут приехал с проступком да еще больше увяз! Тут доверием не возьмешь. Ударить женщину — очень тяжелый проступок. И судить надо очень строго. Да, строго… Никуда не денешься. Придется сдать в Майск».
Дроков отвлекается: в отдалении возникает напряженно ровный, басовитый вой — карабкается, заползает в гору машина. Вот она переводит дух, справившись с подъемом, и теперь гудит весело и беспечно. «Вроде к нам», — Дроков встает в сапоги, накидывает телогрейку и выходит из тепляка. Хмуро, тепло, редкий дождь поскакивает по сухой траве, то там ткнется, то здесь, словно выбирает: куда бы это ударить погуще да попуще.
Приезжает Анатолий Тимофеевич, вопреки раннему часу подтянутый, свежий, деловито бодрый.
— Опять к вам занесло. Салют, Леня! Что новенького? Как жизнь?
— Плохо, Анатолий Тимофеевич. Вот кстати вы!
— Что?! Трактор сел? Пилы полетели?
— Тут в норме. Вчера на поперечную вышли. Хоть сейчас закрывать можно.
— Ну, молодцы! Узнаю Дрокова.
Они улыбаются друг другу.
— Отчего тогда плохо?
— Да Захаров ваш натворил чудес.
— А-а!
В течение дроковского рассказа Анатолий Тимофеевич не раз восклицал негодующе: «Вот подонок! Вот мерзавец!» — про себя между тем соображая: «Не хотел же брать, уж как не хотел! Просто предвидел неприятности. Пожалуйста! Всегда так: поддашься доброте, жалости и всегда в дураках! Чутким захотелось быть! Нашел время, нашел к кому. Знал же, кого беру, — таких не воспитывать, уничтожать надо. Нет, неловко стало, матери посочувствовал! Откуда в нас эта привычка слезу пускать? Только дело губишь, знаю же давно: ахи, охи, гуманизм, а тебе выговор за выговором — работать не умеешь, богадельню развел, а где производство? Нет уж. Если всерьез хочешь делом заниматься, им и занимайся. И никуда не лезь. Без тебя воспитателей много».
— И что вы предлагаете, Леня?
— Наказывать надо. Строго.
— Надо, правильно. Но он и так под следствием.
— Вот ему и сдать. А вы, Анатолий Тимофеевич, как?
— Ваша обида, Леня, ваш и суд…
— Гнать будем. Отвезем.
«Хорошо, передадут в суд. Слово за слово, а как, мол, этот Захаров попал к вам? Да Анатолий Тимофеевич, мол, привез. Просил за него. Бандит, мол, но возьмите, ребята. Хорошо, я объясню: мать, мол, с ним замучилась, честная, работящая женщина, очень хотелось ей помочь. Да и вообще скажу, не надо терять веру в человека, я определил Захарова в лучшую бригаду, надеялся. Что же, я даже буду весьма благородно выглядеть. Но лучше бы без благородства. Надежнее. Выйдет шеф Геннадий Илларионович на начальника главка — предлагаем, мол, нового главного инженера. Правда, еще молод, горяч, еще может в сомнительные истории вмешиваться, но инженер превосходный. Что? Да вот недавно неудачно выступил в роли этакого Макаренко, уголовников в истинную веру обращал…
Боже, конечно, это чушь! Сущий вздор. Ни в каком главке ни полслова об этом не скажут! Но черт их всех знает! Как повернется, куда все это вырулит, лучше бы мне не связываться! На всякий случай, из элементарного благоразумия».
Анатолий Тимофеевич вздыхает:
— Я думаю, Леня, лучше оставить Захарова. С него и так хватит.
— Как же, Анатолий Тимофеевич? А Лида как же? У нее вместо лица — синяк.
— Возможно, Лида не будет очень сурова. Во всяком случае, мне так кажется. Уж кому, кому, а не ей, по-моему, настаивать.
— А тетя Паша, ребята? Захарова вчера бы изувечили. Еле удержал. Они не оставят.
— Надо, Леня, оставить. Надо быть человеком. Мальчишка же. С кем и возиться!
Дроков думает:
— Нет, это неправильно, Анатолий Тимофеевич. Я так не могу… Извините, но не могу.
Из палатки выбирается Прасковья Тихоновна, по поясу обернутая в старенькую серую шаль, идет она осторожно, почти не сгибая ног, — резкой, протяжной болью отдает в зашибленной пояснице.
— Ну, чего встала, тетя Паша? — хмурится Дроков. — Чай-то и сами сварим. Болеешь — надо лежать. Запрещаю двигаться.
— Належусь, успею. Скоро только и останется, что лежать. Здравствуйте, Анатолий Тимофеевич. Надолго к нам?
— Даже чай ждать не буду. Доброе утро, Прасковья Тихоновна, — хотя первоначально Анатолий Тимофеевич как раз и собирался побаловаться чайком у Дрокова, для того и крюк делал, но вследствие неприятных известий охота чаевничать пропала. — Сильно болит, Прасковья Тихоновна?
— Да как сильно? Болит. В мои годы все што-то болит. Вовсе уж старуха я, Анатолий Тимофеевич. Правда, что лучше мне в коменданты податься.
— Полно, полно, Прасковья Тихоновна! Вы ли это? Никаких комендантов — будем считать, что я этого никогда не говорил, а вы не слышали. Вы же гордость трассы, что вам годы? Вы их не замечаете, они вас. Потом, к сожалению, боль не возрастная. К великому сожалению, Прасковья Тихоновна!
— Разговор я ваш слыхала, Анатолий Тимофеевич. Значит, что, Леня? Отказываем парню-то?
— А вы разве против?
— Да просто так, спрашиваю. Поди, не в чужом пиру, на орехи-то и мне досталось, старой дуре.
— Сами и разберетесь, Прасковья Тихоновна. Я вмешиваться не хочу, да и не могу. Замечу одно, случай гадкий, и я глубоко вам сочувствую, Прасковья Тихоновна.
— Ну, шпасибо, Анатолий Тимофеевич. Уж чего хорошего! И не видать добра-то.
Дроков спрашивает:
— Может, останетесь, Анатолий Тимофеевич? С руководством, все честь по чести, солидно — я считаю, надо остаться. Сейчас моментально всех подниму.
— Не стоит, Леня. Я лицо заинтересованное, как вы, конечно, догадываетесь. Мало ли что, еще упрекать станете. Мнение мое знаете, могу не присутствовать. Но, Леня, я хочу, чтобы вы помнили мой совет.
— Я помню, но неправильно же, Анатолий Тимофеевич.
— Ну, смотрите…
Он исчезает в кабине, резко и сильно хлопает дверцей — все, укрыт, отгорожен, трогай! Теперь под дорожную качку можно неторопливо побаюкать свое раздражение.
Скоро проснется Серега, уже густеет, источает тепло румянец на смуглых щеках, проступает легкой изморосью пот на верхней губе от какого-то сладкого, жаркого напряжения, потраченного в последнем сне, покойно и тихо дыхание, смешно подвернуто, примято ухо, беззащитно токает пульс на виске — временно оставлен Серега всеми грехами.
Утром под навесом пьют чай, пьют, не обжигаясь, с протяжной, праздной ленцой — торопиться некуда, пока-то придет машина. Лида к чаю не выходит, и Прасковья Тихоновна уносит ей в палатку.
Дроков приступает к делу:
— Ну, Захаров, чего думаешь?
— Чего?.. — Серега, равнодушно потупясь, отодвигает кружку.
— Как отвечать будешь?
— Как спросишь.
— За хулиганство, Захаров, как ответишь? Вот я о чем.
— Какое хулиганство?.. Чего?.. Сразу и хулиганство!
— Лида встать не может, тетю Пашу подшиб. Ужасное хулиганство, Захаров! Расскажи, как додумался.
— Сам не знаю. Вышло так.
— Неясно. Пьяным не был, должен знать. Убьешь, тоже скажешь — вышло так? За что девушку избил, за что пожилого человека ударил?
— Интересно, да? Легче станет?
— Да, Захаров, интересно. Ты в нашей бригаде, а не сам по себе. Причем новичок. Оскорбил товарищей по работе, и мы тебя судим. А раз так, должны во всем разобраться. Тогда и присудим.
— Присуждайте, мне-то что?
— Значит, наплевать? Бедненького корчишь? Стыдись, Захаров! Сколько натворил и так разговариваешь. Неужели вины за собой не чувствуешь?
— Как разговариваю… Какая вина?
— Ну, Захаров! Из себя выводишь?! Не выйдет! У меня нервы крепкие. Говори, не мямли, отвечай, пока спрашиваем. А то выгоним, посадим — запоешь, да поздно, Захаров, будет. Посмотрим, какой ты храбрый!
— Чего?.. Какой храбрый?..
— Леня! — Олег Климко взбешен. — Этот Захаров не просто свинья, а наглая свинья. Хватит разговоры говорить! Я сейчас с удовольствием съезжу по его пухлой роже. Вот тогда и посмотрим. Заноет как миленький: «Ребята, больше не буду, ребята, простите», — знаю я их.
— Да уж знаешь…
— Стоп, стоп, Климко! — Дроков удерживает Олега. — По-человечески я тебя понимаю. Сам бы врезал. Но будем выше этого. Не опустимся до инстинктов. Предлагаю выгнать Захарова из бригады, отвезти в Майск и сдать кому следует.
— Леня! Ты можешь разозлиться?! По-человечески?! — Олег ненавидит сейчас Дрокова. — Что ты мелешь: выгнать, отвезти! Что ему это, что?
— Я разозлюсь, но бить не дам. Не дам. Запомни.
— Ребята! Да как же так? Человек имеет полное право получить по морде, а его отпускают ни с чем! Как хотите, а я вздую. Догоню и вздую. Ребята, вы не молчите! Сейчас нельзя молчать. А то, может, утремся? Ваня, дорогой! Заседатель народный! Твое веское слово?
— Так… Понимаешь… Конечно, по-всякому можно… Отлупить, конечно, просто… — Ваня Савельев потеет, сопит и умолкает.
— Ясно. А ты, Миша?
Миша Потапов тихо улыбается, с оттенком этакого виноватого недоумения, как человек, думавший о своем и застигнутый вопросом врасплох. Он не отвечает и лишь растерянно пожимает плечами.
— Геночка! Верю, не подведешь. Нам ли бояться?
Тот, измученный бессонной ночью, неожиданными размышлениями, шепчет:
— Нет, нет… Бить не надо!..
— Климко! Не разводи анархию. Не подстрекай. За самосуд знаешь что корячится? Учти.
Олег несколько остывает: Дроков упрямится, и тут, хоть искричись, толку не будет.
— Я учту, Леня. Но ты посмотри, какое замечательное настроение у этой шпаны! Я бы на его месте в три горла хохотал. Здоровые лбы, а за женщин вступиться стыдно.
— Накажут без нас, Климко. Следствие разберется.
— Какое мне дело до этого следствия! Это будет где-то там, без меня, до меня. Я сам должен рассчитаться.
— Вот и выгоним.
— Леня, я понимаю. Сейчас утро, и тебе кажется диким: не в драке, без завода бить по морде. Правильно, это уже расправа. Но, скажи, когда отец средь бела дня берет ремень — тебе не кажется это диким?
— Отцу положено за ремень браться. На то он и отец.
— Прекрасно. Тогда ты, я, Ваня, Миша небрежно сойдем за прадедушку. Представляешь? Бригада — как бы коллективный отец. Можем мы по-отцовски, для науки, всыпать и отпустить на все четыре стороны?
— Бригада все-таки мать, а не отец, Климко!
— Ну хорошо. Матери тоже положено за ремень браться. Положено ведь?
— Положено.
— Во-от! Конечно, я понимаю, трудно и неприятно по очереди подходить и спокойненько стукать. Очень даже неловко. Но можно же ремнем, понимаешь? Без произвола, без зверства, а именно по-отцовски снять с него штаны и выпороть. Какой же это самосуд, Леня? Чистое, благородное наказание. А? Леня?
— Ловко, конечно!.. Вроде действительно на избиение не походит. Вроде правильно. Просто, значит, как шкодника? Со строгостью, но без зла?
— Ну да! — Олег вовсе успокаивается и смотрит на Серегу с неким отвлеченным удовольствием, так, видимо, смотрит судья на преступника, которого он упек мастерски, с блеском, превратив процесс в произведение искусства. — Ты с Мишей, допустим, штаны с него стянешь, а Ваня нагнет его. Ну, а я, так сказать, буду воспитывать. Ребята, как, а?
Серега скоренько соображает: «Только потянутся — сразу бежать. Сначала просекой, потом у той сосны — круто в лес и до тракта. Только неожиданно надо, чтобы растерялись. Уйду — бегаю-то я ничего». Он незаметно высвобождает ногу из-под стола, напрягает руки, чтобы сразу полететь, помчаться.
Прасковья Тихоновна давно уже стоит возле очага, давно слушает ребят. Лицо ее, не одушевленное привычными заботами, сникло и вроде бы уменьшилось: опали, утратили веселый пыл бугорочки возле носа, мелкие частые морщинки кругом глаз и на висках не помогают нынче общему лукавому выражению, а скорее противоречат ему, выявляя усталую, дрябловатую кожу на лбу и под глазами. Утомляет Прасковью Тихоновну и вчерашняя беда: боль в пояснице, видимо, разрастается, и чем дольше Прасковья Тихоновна стоит, слушая ребят, тем труднее ей прятать внутренние охи, они словно подталкивают ее, заставляют резко привставать на цыпочки, испуганно округлять глаза и испуганно же прихлопывать ладошкой рот, загоняя эти охи назад.
Вскоре Прасковья Тихоновна совсем не может противиться боли — враз обмякает, приваливается к очагу, руки мягко, беспомощно опадают, глаза влажны, вернее, веки — так бывает, когда человек долго терпит боль.
Неожиданно быстро Прасковья Тихоновна выпрямляется, неожиданно быстро и твердо ступает, подходит к столу:
— Оштавить надо, мужики. Всех вас прошу. Кланяюсь — оштавьте! — Голос у нее сухой, сухой до шелеста: с невозможной силой сдавило горло.
— Тетя Паша! Что с тобой? Подожди, сейчас. — Олег зачерпывает воды из ведра.
— А ты, Олежек, о матери его подумай. Теперь я все понимаю, все, все!
— Тетя Паша, успокойся. Ладно тебе, будет! — Олег пятится, морщит лицо: он все еще прежний в этот миг, куда-то хочет уехать, где-то весело и открыто зажить, все еще хочется скитаться, петь у костров, но в этот же миг освобождается часть рассудка, которою Олег предчувствует: в этот раз так просто не уехать, предчувствие неясно, отдаленно отзывается пока в Олеге глухим, щемящим вздохом.
— Не надо, тетя Паша. Прошу.
— Мужики! Ведь пусто в душе-то у него! Ничего там нет — пыли не наскребешь. Кого же судить-то! Мужики! Страшно мне, — наконец прорывается и взлетает тонкий, невыносимо тонкий крик.
Далее Прасковья Тихоновна не сдерживается: ревет и ревет, с подвывом, с причитаниями, так уж горько ей, так жалко ей и Витю своего, и этих молоденьких парнишек — пропадут, дураки, без сердца, пропадут!
Выходит Лида, прикрывая лицо свернутым вчетверо полотенцем, — над ним сухие, прозрачные, больные глаза.
— Оставьте, ребята! Я тоже прошу. Не надо его больше трогать, совсем, совсем не надо.
— Лида, — говорит Дроков, — как не надо? Хочешь, я тебе зеркало принесу? Это же преступление, надо понять. Ты не должна выгораживать его, Лида!
— Леня, может, мне так и надо? Откуда ты знаешь? Никто, никто ничего не знает, — Лида хочет заплакать, но слез нет, только мучаются сухие глаза, и она прячет вздрагивающее лицо в полотенце.
Геночка смотрит на нее и чуть не кричит: «Лида, Лида! Милая, что же это?!» Он подходит к Лиде и беспамятно гладит, гладит ее голову, плечи.
— Так извиняешь, что ли, Лида? — Ваня Савельев спрашивает, солидно, густо, окаменев лицом и снова вспотев от сознания важности собственных слов и оттого, что решил высказаться. — Извиняешь или нет?
Лида, подтверждая, трясет головой.
— Значит, делу конец, ребята. — Ваня пристукивает ладонью по столу. — Дела нет. Раз потерпевшая все назад берет, судить не можем. И тетя Паша берет. Оставлять, Дроков, надо. По закону будет.
Ваня, довольный, что сказал складно и толково, садится и с облегчением обмахивает пот.
Миша Потапов, ни к кому вроде не обращаясь, рассуждает:
— Вот в детдоме все-таки просто было. Вспомнишь, чего только не вытворяли. Ну, если против братвы что сделаешь — хорошего не жди. Там не гнали, не сдавали, не жаловались. Соберемся, раз, раз по шее — вот и вся наука. Да-а… Очень просто было.
— И ты туда же, Потапов. Избить и оставить, да? Не выйдет, — Дроков хмурится, — Захарову легко не отделаться.
— Да я вообще говорю. Чего ты, Леня?..
— Климко! Чего стих? Успокоился?
Олег не отвечает. Расстроенный внезапными, горькими слезами Прасковьи Тихоновны, он разлучается мысленно с этой поляной, с ребятами и смотрит на них и на себя каким-то сторонним, задумчивым взглядом. «Черт, неужели только злость и есть? Что же мы, в самом деле? Суетимся, суетимся, тетя Паша ревет, а у нас ни слезинки. Неужели ни одной? Ах ты, черт!»
И Олег говорит:
— Ну его на хрен, Леня! И тебя, кстати, туда же. Пусть остается, пока я добрый.
— Гуманизм, значит? В добреньких поиграем? Большинством голосов, да? Ладно… Но я не согласен. Добреньким легко быть. А кто же накажет, кто?
Дроков замолкает, точно дожидаясь ответа.
— Вот, Захаров, радуйся. Повезло тебе. Останешься здесь, за тепляком присмотришь. Через два дня Потапов вернется, с ним приедешь. И тогда посмотрим.
— Хорошо, — хриплым после долгого молчания голосом говорит Серега. И ни на кого не смотрит.
Серега остается один. Ему не скучно и не весело — так себе, лишь неловко ощущать себя посреди огромной, пасмурной тайги, на этой поляне, у опустевшего тепляка, не разговаривать, не смеяться или, напротив, делать то и другое, но все равно впустую: никто не откликнется, не поддержит, а все вокруг будут с упрямой, равнодушной настойчивостью чуждаться тебя.
Он неудобно, не вынимая рук из карманов, присаживается на нары и таращит, таращит глаза на дверной проем, вроде бы напряженно о чем-то размышляя, а на самом деле пребывая в этаком летаргическом безделье, точно так же он застывает под навесом или привалившись к диабазовой сетке очага. Затем от нечего делать, «для интересу», как говорит себе, Серега опрастывает банку сгущенного молока, расстреливает ее из бригадной двустволки, намеревается затопить очаг и сварить чего-нибудь, но раздумывает и снова принимается за сгущенку.
Он с интересом вспоминает: «А Геночка-то испугался гнать меня. Чувствует, что в Майске рожу ему начистят, Олегу я тоже припомню! Тоже прикидывался — ха-ха да хи-хи! Вздует он, как же!» И сладко Сереге представлять, как осенью где-нибудь в Доме культуры он заметит Геночку или Олега и посчитается с ними.
Размечтавшись, Серега радостно, нетерпеливо ерзает на скамейке, получая огромное удовольствие от мстительных видений.
«А со старухой, конечно, зря вышло. Смотри-ка ты, жалко ей стало. А чего бы? Я же не просил ее. Вот всегда — сами пристанут, всем же учить охота, а потом обижаются — слезы». Сереге вспоминается мать, ее вздрагивающие руки в вечер отъезда, почерневшее, строгое, сухое лицо после бурных, обильных, не при нем, слез. «Все бы они ревели, все бы ревели. Эх! Себе кровь портят и другим».
К вечеру праздность все-таки надоедает Сереге: здоровое, крепкое тело требует движения, хоть какого-нибудь пустякового занятия. Серега прибирается в тепляке: подметает пол, моет тумбочку, стол, старательно взбивает солому на нарах, чистит стекло у фонаря — на дворе между тем потихоньку темнеет. Над ключом в краснотале поднимается серенькая, теплая, мягкая дымка. Она заполняет овражек и, медленно густея, распространяется дальше, окрашивая в прохладно-сизый, печальный цвет осинник на той стороне овражка, поляну, лесные стены; лишь жилье, да очаг, да навес сохраняются от покраски, выделяясь одиноко и резко.
Заснуть в пустом тепляке, оказывается, очень трудно, более того — очень страшно: медведи, рыси, кикиморы лесные, химерические, кровожадные странники, конечно, не срывают еще дверь с крючка, но вполне может статься, что вот-вот начнут. Или попозже, ближе к двенадцати — кто их знает, кто разберет?
Серега вскакивает, зажигает «летучую мышь», но тьма с силой надавливает на оконное стекло. «Нет, лучше потушить. С огнем еще заметнее, — Серега съеживается, сжимается под одеялом. — Надо отвлечься, думать о чем-то. Тогда не боязно. О чем бы таком, ах ты, черт! Ну что же, не о чем думать, что ли? Давай, давай, соображай!»
Наконец он думает о Женечке, не то чтобы с нежностью или тоской, а думает с каким-то мальчишеским восторгом. Женечка стоит на горчичной поляне, тихо, солнечно. «Женечка, невеста!» — возникает в Сереге восторженное удивление, что все это было с ним…
Ночь, с печальною настойчивостью обращая человека к прошедшим дням, вскоре пробуждает в Сереге иное чувство: темная, глухая даль, пролегшая между ним и остальным миром, уже кажется не вместилищем сказочных страхов, а неким непреодолимым пространством, среди которого он поселен навсегда. Ни разу еще не попадал Серега в такое полное и опустошительное одиночество. «А может, Женька и не вспоминает меня? Ну, был я, был, потом не стало. Наверное, на танцы каждый день или в кино? Батя каждый день по трояку выдает. Неужели не вспоминает?! Эх, блин!.. Ну, мать, конечно, думает… О чем еще-то ей думать? Тут понятно; кому, как не ей, вспоминать?..»
Серега очень хочет, изо всех сил старается вспомнить еще кого-нибудь, кому он нужен и кто о нем думает, но напрасно старается, напрасно: никого, никого не может припомнить.
— Вот тетя Паша обо мне бы думала, — неожиданно вслух говорит он. — Да теперь на что я ей? Вот уж ни к чему с ней вышло. Ну, не хотел же я, она-то ни причем. Эх, ну как же это! Душа, говорит, сердце. Эх!..
Да, никому он не нужен пока, кроме матери своей, Татьяны Васильевны!..
Встает Серега поздно, долго завтракает и принимается от скуки жечь костры. Дело это не маетное, мозолей не набьет, да к тому же красоты не лишено: ворожить будешь часами у бесшумного, высокого пламени, глаза проглядишь, а все равно не наглядишься. Серега собирает костер: в первый ряд укладывает смолье, рыжие сосновые ветки, на них наваливает березовые, еще повыше — осиновые, ольховые и кроет шалашиком опять из сосновых и лиственничных — получается в точности как у Дрокова. Теперь обкопать костер и можно запалить — появится тогда на поляне еще одно живое существо. Сереге быстрее хочется услышать его ровный, гудящий голос — сразу веселее будет, но он терпит и строит еще несколько шалашиков, помня наказ Дрокова: «Заложишь штук шесть — жги. А то засмотришься на один, дело встанет». Сейчас Дрокова послушаться стоит: чем больше огня, тем веселее.
Слабенький, невидимый язычок спички пристраивается к рыжей хвое — и не разберешь, прихватывает ли; есть, есть! — дымок; легкое покашливание в шалашике — и вдруг загудело, затрещало, и уже высовываются, лижут землю здоровенные красные языки.
Серега бегает от костра к костру, скачет через них, резвится этаким невинным жеребчиком и, не зная, как еще проявить извечную благодарность огню, припрыгивает, приплясывает вокруг костров.
— Эй, парень! Потом допляшешь.
На кромке просеки стоит человек в военной форме, через плечо скатка, малиновый околыш изрядно отгорел. Серега, запыхавшийся, потный, идет к нему. «Откуда взялся? Наверно, лесников так одевают».
— Да я это так, для интересу, — говорит Серега и чувствует, как слабнет, пропадает сердце и вновь барабанит с сумасшедшею силой. «Неужели за мной? Быстро как!»
— Вижу. Ты с трассы?
— Ну?..
— Никто не проходил здесь? Не видел? — «Не за мной, не за мной! Привет! — и тут Серега моментально догадывается: — Да это же охранник из соседней колонии. Тьфу ты, батюшки!»
— Нет-ет. Может, утром? Когда спал.
— Присматривайся. У нас тут сбежал один.
— Вооруженный?
— Вроде нет. Разве достал где!
— Давно убежал?
— Вчера, после обеда… Ну ладно. Предупредил, надо двигать. Пока!
— Ага. Всего!
Охранник уходит в лес, вскоре и шаги глохнут, а Серега точно примерз, пальцем не шевельнет. «Как же я спать-то сегодня буду? — говорит он вслух. — Ни за что не засну, убьет же меня в два счета. Наверняка конец. Даже не спросил, как хоть на рожу-то выглядит. Эх!» Он не помнит уже ослепительной вспышки страха при появлении охранника — не забрали, и ладно, плевать! — вообще никого и ничего не помнит, оглохнув, обеспамятев уже от другого — тяжелого и жаркого страха.
«А чего бояться-то? Подумаешь! Парень как парень, договоримся. Может, свой в доску? Я сам теперь вроде него. Чего ж не договориться?» Но и под воздействием этого здравого рассуждения страх не пропадает: возможная встреча с бежавшим представляется Сереге этакой зловещей, нарочно подстроенной проверкой, точно кому-то охота убедиться: «Ну-ка, ну-ка, приятель! Больно уж ты ловкий да веселый. Посмотрим, как сейчас повеселишься!»
Сереге вспоминается Гена Савин: «Вот бы его сюда. Все-таки самбист — ему чего бояться. Раз, раз — приемчик. Хоть с ножом на него, хоть с топором — без пользы. Надо было пристать к нему, а не психовать, что бригадмилец», — очень завидует сейчас Серега своему райкомовскому знакомому Гене Савину, что тот никогда и никого не боится, лезет в любую драку, в любую поножовщину, а вот он, Серега, все время считал, что его тоже на испуг не возьмешь, а получается — нет в нем никакой твердости и крепости…
Впрочем, рассуждать некогда. «Дурак, чего я стою? Как на сцене, а он, может, высматривает, следит!»
Пылают костры, ну и пусть пылают — не до них. Серега, деревенея затылком, летит к тепляку, заряжает двустволку, с ней несколько спокойнее, можно выглянуть, но лучше не надо, подальше от двери и от окна. Он забивается в угол и целится в дверь, руки дрожат, быстро устают, стволы ходят вверх-вниз. «Вот сижу, а он подкрадывается, подкрадывается», — Серега леденеет, потом схватывается и выскакивает из тепляка. Согнувшись, перебегает к очагу и садится за ним. Но все равно открыт с трех сторон и только успевает крутить головой: каждый куст шевелится, за каждым деревом — человек. «Ну, нельзя же так, нельзя! Все бросили, что будет, что будет! О-о-о!» — раскачивается, стонет Серега.
— Загораем? Привет!
Ружье выпадает из рук, отвисает нижняя губа. «Конец. Он, он!»
В самом деле, парень похож на «него»: сухая аккуратная голова начисто обрита и сравнялась цветом с кожей лица; на тугих щеках запущенная соломенная щетина; приятного, мягкого рисунка губы запеклись и почернели; одет явно на казенный счет: синяя диагоналевая спецовка, на ногах кирзовые, грубые ботинки. Впрочем, если бы не «нулевая» прическа и не щетина — спецовки носят многие, — парень ничем бы не отличался от молодых людей с трассы и даже, возможно, считался бы одним из наиболее приятных: уж очень располагающ взгляд его густо-голубых, добрых, каких-то тихих глаз.
— Да ты чего, старичок? — парень улыбается. — Сомлел тут?
Сереге охота залезть под пары, но он выдавливает:
— А… вас… ведь ищут!.. Я сразу подумал сказать, если увижу.
— Знаю, ха-ха! Я же за кустами сидел, когда ты с этой сукой разговаривал.
«А! Он же все видел! Как я метался, видел, как трушу. Теперь сомнет запросто. Хоть бы охранник вернулся!»
— Старичок! Да ты вроде боишься? Брось! Дай лучше пожрать — опух с голоду!
— Счас! Вот… Там. — Серега бросается было к тепляку: быстрей, быстрей угодить, но спохватывается — за спиной оставлять нельзя. Пропускает парня вперед. Тот смеется:
— Здорово я тебя!
В тепляке парень мигом открывает тушенку, ест торопливо, но аккуратно, не давясь, не чавкая, время от времени добродушно, свойски подмигивая Сереге, который с ружьем на коленях опять сидит на нарах. Парень просто, очень доверительно рассказывает:
— Ты меня не бойся, старичок! Колькой меня зовут. А тебя? Все по петухам, Серега! Совсем не бойся. Я же в колонию возвращаюсь.
— Как?!
— Обыкновенно, пешком. Тут не больно набегаешь. У деревни одной кружил, кружил, кусок хлеба хотел достать. Ну, высмотрел бабку, прошу. Дать-то дала, но я от забора отойти не успел, а она уже куда-то по улице захромала. Наверняка за милицией. Нет, сейчас трудно убегать, лучше вернусь, а то сдохну!
— Подожди… — Серега покрепче сжимает ружье. — А что же ты к охраннику-то не вышел?
— Не считай меня идиотом. Одно дело — он меня приведет, другое — я сам приду. Приду, бухнусь в ножки: «Гражданин начальник, виноват! Извиняюсь». Может, поменьше добавят.
— А добавят?
— О-бя-за-тель-но! Максимум — три, минимум — полтора.
— Значит, вовсе зря бегал.
— Зря. Да ладно! Не так уж много, перезимую.
— Не надо было. Но теперь уж, конечно, что говорить.
— Скучно, Серега, до смерти стало. Я и сорвался. Ух! Накормил ты меня! Вдрызг. Спасибо. Закурим?
Закуривают. Коля располагается на нарах, утомленно зевает.
— Коль, там тоже нары?
— Не… кровати двухъярусные. Слушай, Серега, ты присмотрел бы костры-то. А я бы подремал пока.
Серега мнется.
— Ну, дед, и чудак же ты! Чего дрожишь? Договорились же по петухам. Сам подумай, зачем мне куда-то ввязываться, раз в колонию иду.
— Нет, Коля. Я ничего. — Серега уходит с ружьем на плече и с ведром в руке — кострища придется заливать. «Правда что, хватит трястись. Хотел бы чего сделать, так уж сделал бы — незаметно ведь подошел». Это окончательно успокаивает Серегу, и он уже доволен новым знакомством, потому что Коля самый, самый настоящий человек из того отверженного, легендарного мира, а вот доверился Сереге, значит, считает своим, а это кому хотите будет приятно. Уж он его порасспрашивает сегодня, надо только как следует все запомнить — в Майске задохнутся от зависти и уважения, что он подружился с таким человеком, что с великим риском спасал и прятал его от охранников.
Володя
Сон, не сон — медленное вращение в золотистой воде, потом медленный, бесшумный, тоже золотистый водопад, вместе с которым Володя падал и никак не мог достичь белой пучины — падать было не страшно, тело наполнялось блаженной легкостью и прохладой, тем не менее он прервал полет без сожаления, рывком, лишь почувствовал на плече чью-то ладонь. Он сел на жердевых нарах, опустил ноги и, не открывая глаз, нашел кеды. Потом с силой вкрутил кулаки в глазницы, только влажно затрещали ресницы — и затаращился, медленно оглядывая зимовье: «Нет, никто никуда не делся. Хорошо», — прогнувшись, потянулся — сладким ознобом прохватило спину, побежали, щекоча, мурашки. «Остаточки сонные выходят», — обычно говорила про них мать и шлепала Володю по спине.
Нюра уже была в суконной блузе, волосы под платочком, лицо строго и бледно.
— Ты меня разбудила? — спросил Володя.
— Я. Одевайся скорей, всех мух переловишь — вон чо рот-то раскрыл.
Володя удивленно, долго посмотрел на нее: «Не приснилось же мне! Этот стожок, месяц», — и, пожав плечами, спросил без слов: «Что такое, Нюра? Я помню, рад тебе. А ты?»
Она поняла, стремительно покраснела, хохотнула, как ночью, отрывисто и низко, вдруг подхватила котелок с водой и с маху — в Володю. Он вскрикнул, вскочил, Нюра с хохотом вылетела из зимовья. Степка, заправлявший в ичиги свежие стельки из сена, проворчал:
— Взбесилась. Видно, бес-то неподалеку ходит.
Володя не смутился, а просто и весело сказал: «Видно, видно», — тоже вышел за дверь.
Солнце еще дозревало за сизыми, туманными гольцами; только начало густеть розоватое тепло над их вершинами; Караульный бугор лениво окружал туман, пока же на нем была превосходная ясность, тишина, пропитанная росяной свежестью. Володя жадно похватал ее открытым ртом, а когда она проникла прохладной струйкой в глубь живота, задышал сильно и неторопливо. Он осторожно сорвал большой, оборчатый лопух и уткнулся в его мягкую, мокрую ладонь. «Хорошо! Ох и хорошо! И весь день будет хорошо! Точно».
Еремей Степаныч, умытый, с влажной темно-медной бородой, сидел у костерка, кипятил чай. Налаживая самокрутку, он вдруг замер, вытянул шею:
— Слышь, Вовка! Зашебаршились, крылья пробуют.
Володя прислушался: слабый, шуршащий трепет поднимался от реки.
— Да-а, — Еремей Степаныч, заклеивая языком самокрутку, поцокал сожалительно: — Счас и клев подходящий, и уточки вот-вот на зорьку поднимутся.
— А что, позорюем? Тут же рядом, — Володя шагнул к крючку с ружьем.
— Но-но! Погорюем. Нас, как рябчиков, без натуги угробят.
— Почему?!
— У них тут кругом Юрьева, слава богу, какая оборона! Разъезды опять же кругом рыщут. Тут не постреляешь. С закидушками можно сходить, да некогда.
— У них? Ах, да, да! У белых. Правда же, — Володя совершенно забыл, что после своего удивительного перемещения он может попасть и очень просто в опасную или даже кровавую историю. «Это из-за Нюры все из головы вылетело. Нюра, Нюра, — повторил он и нисколько не поверил ни в белые разъезды, ни в близость какой-то обороны. — Еще посмотрим, то ли есть, то ли нет», — и легкомысленно заметил:
— А вообще охота тут — хоть зажмурясь стреляй.
— Не говори, паря. Я одну осень ни в жизнь не забуду. Чуть не воз уток домой припер. У меня сучка была — Тайка — ох и собака! Идем, она, милая, ложится и одну лапу поднимает: значит, одна утка, две — две утки, три — три утки, четыре — четыре, а если уж лап не хватает, на спину переворачивается и шепчет: «Ерема, утки».
Володя вежливо посмеялся — эту байку он давно слышал от деда Степана, только в ней, конечно, говорилось: «Степа, утки».
Туман уже лизал Караульный бугор белыми тоненькими языками, потихоньку курился под ногами, и Еремей Степаныч заторопился:
— Нюрка, в избе прибери, Степка, дрова в коптильню спрячь, а ты, Вовка, чай разливай. По туману надо успеть Шанин луг перейти. Давай, давай, ребята, шевелись.
— Далеко идем? — спросил Володя.
— Далеко. Кругаля верст тридцать сделаем. Тебя доведем до Юрьева со стороны озерцов — есть там — и один пойдешь. Там и скажу, что делать.
— А здесь-то вы меня только ждали?
— Нет, тебя попутно. Вообще-то мы по тайге ползаем, оборону их разглядываем. Одним словом, в караул снаряжены.
Чаевничали недолго, Володя толком и не попил: после первых глотков горло огнем горело. Костерок залили остатками чая, угли разбросали, дверь заимки приперли березовой жердью. Еремей Степаныч, собирая горбовик, с особой тщательностью завернул в белую тряпочку Володину буханку сеянки, опять помяв и понюхав ее.
— Дак, говоришь, хватает хлеба-то у вас?
— Хватает, конечно, ни очередей, ничего. Нет, хватает, хватает.
— Добрый хлеб-то. Я не нарадуюсь на него. Я, паря Вовка, речи твои вчерашние всяко обкатывал. Многого не пойму, да, однако, и напрягаться не след сильно: не судьба, срок мой не вышел все ваши дела понять. С хлебом вы — и хорошо. А вот что я распрекрасно понял, обижайся, паря, не обижайся, — не видел ты, как хлеб-то достается.
— Нет, почему, видел, мы со школой колоски собирали, потом бывал я в деревне, на току бывал — зерно лопатил. Нет, я знаю…
— Не, не знаешь. Ни хрена не знаешь! Колоски! Эх, паря. Если б ты землю-то знал, ты бы мне толком все, без заминочки, объяснил. Не про хозяев бы рассуждал, а про коренное дело. Все-о бы я понял. Вот что… Ладно, будет. Степка, первым пойдешь, за тобой Нюрка, потом ты, Вовка, а я замкну.
По травянистой зыбкой тропочке они спустились в туман — он неслышно касался щек, оставляя на них матовые влажные следы, исчезавшие так же быстро, как парок дыхания с зеркала. Володя оглянулся: тускнела медная борода Еремея Степаныча — самого видно не было. Володя догнал Нюру и прошептал:
— А я думаю, думаю. Ты почему утром так смотрела?
— Как?
— Зло. Сердишься, что ли?
— Ой, что ты! Мне боязно было и стыдно.
— Эй, — негромко окликнул Еремей Степаныч. — Молчок. От перекура до перекура молчок.
Скользили и скользили по тропке — Володя лишь машинально удивлялся, что Степка не теряет ее, потом начался тягун — деревенели ноги, и стеснялось дыхание: «Напрямик до Юрьева километров десять, а тут протащимся. Ладно хоть наверху виднее станет». И тут Володя споткнулся — так ошеломила его внезапная мысль: «Стой, стой! Мы же в Юрьево идем. Ах я дурак — раньше не вспомнил! Юрьево! Юрьево! — он чуть не закричал, чуть не бросился к Еремею Степанычу с этим подавленным криком: — Нет, надо же! Даже не вспомнил!»
На полянке, в осиннике, где Еремей Степаныч разрешил остановиться, Володя, не отдышавшись, не сняв рюкзака, бледнея, спросил:
— Отца-то я увижу в Юрьеве?
— Нет, Вовка. — Еремей Степаныч встал с черного старого пня, посадил на него Володю. — Знал, паря, что спросишь, да не хотел до поры расстраивать.
— Но почему?! Он же здешний, здесь должен быть… — у Володи ослабело что-то в горле, и голос поблек, устал. — А здорово бы было. Я ведь не знаю его совсем.
— Здорово бы, да чо поделаешь. Он с ребятами еще прошлым летом сплавился на плотах. В Красную Армию подались. Степка вон провожал.
— Не мог уж остаться.
— Так дед у него помер, беляков еще не было. Чо одному тут болтаться?
— А я уж не знаю, как поверил! Что увидимся.
— Понимаю, конешно. Всей душой понимаю, Вовка. Да от понимания-то не легше. На роду, однако, написано отца-то не знать.
— Да, наверное, так, — Володя замолчал, задумался, не замечая жалостливых, со слезой, Нюриных взглядов. Потом спросил у Степки:
— Провожали-то весело?
— Ну. Девки, парни собрались, на гармошке поиграли. На лодках мы долго за ними плыли.
— Он говорил что-нибудь?
— Особо ничо вроде. Как все: счастливо оставаться, лихом не поминайте, писать буду. А мы им: счастливой дороги, воюйте быстрее, возвращайтесь целыми. Мне, верно, он сказал напоследок: женишься, Степка, избу мою бери, не вернусь я, там жить буду. За избой до последнего следили — Нюрка вон убирала.
Под ногами потвердела тропа, серая, в корнях и трещинах, с кустиками остреца и брусничника на обочинах. Неяркое солнце проскальзывало в лес широкими желтыми полосами, обдавая теплом всех, кто входил в эти полосы.
Володя не видел ни тропы, ни солнца, он шел с опустевшими глазами, храня в них лишь смугло-русую Нюрину прядь, выбившуюся из-под платка, чтобы не сбиться с шага, не пропустить поворот.
«На роду написано, не судьба, так уж вышло», — повторял он, думая о невозможном свидании с отцом. — «Но странно, странно. Столько удивительного случилось со мной, а такой вот встречи нет. Всего в меру, что ли? Или действительно не судьба?» Он почувствовал по легкому, чистому холодку в висках, что сейчас выяснится что-то очень важное, большое, безжалостное, чего он раньше не знал.
Наверное, если бы Володя захватил отцовскую жизнь не младенческим, брезжущим сознанием, а детским, более цепким и памятливым, он бы думал о ней чаще и горячей, действительно изводился бы и мучился безотцовщиной. Он не помнил отца, а мать вспоминала редко, не тревожила горе по будням, дав ему отстояться в привычную боль, которая не для чужого глаза и чужого сердца. Володя не помнил отца и поэтому не страдал своим сиротством. Вернее, порою он кокетничал им, по мальчишескому недомыслию, пробуждал жалость в Насте или в учителях. Но никогда всерьез не горевал, он просто не помнил отца.
А сегодня он думал: «Да, да, не судьба! Теперь я понимаю… У кого отец есть, тем проще, нет — яснее. Они делают, как отцы, и отцы отвечают за их каждый шаг. А у меня не судьба, не судьба! Или наоборот — судьба? Она велела, чтоб я жил без отца, даже чтоб не помнил отца. И чтоб не встретился с ним, даже когда мог встретиться. Он меня ничему не научил, я за ним не шагал. Вот, вот. Это я за него отвечаю! Как я сделаю, как шагну, как дров наломаю — по мне будут думать о моем отце. Он лежит, он прожил всю жизнь, и в этой его жизни о нем думали и говорили так, как он этого стоил. А теперь только по мне о нем судят! Он бессилен поправить меня, бессилен стыдить меня, любить! О-о… Как же это я? Он лежит, а я отвечаю. Даже нет, не отвечаю, а живу за него. Да, да. Как я сделаю, все будут считать, что так сделал бы мой отец…»
Володя уперся в Нюрину спину — она пятилась и едва слышно шептала: «Тихо, тихо».
— За деревья! Ложись! — просипел Еремей Степаныч.
Володя упал за толстую березу, с почерневшей у комля, окаменевшей корой, и, падая, увидел: их тропка вот-вот вышла бы на заброшенную дорогу, а по ней медленно ехали трое верховых. Двое, в рыжих, замызганных шинелях без погон и черных кожаных шапках, чуть поотстали от третьего офицера, в сером мышином кителе, тоже без погон, в фуражке без кокарды, по лаковому козырьку порхали солнечные блики. «Может, не заметят, — екнуло, засосало у Володи в животе. — У нас же чаща сбоку была, — он приподнял голову. — Ох и близко же. Щетину на бороде вижу».
Офицер остановил лошадь, собираясь то ли закурить, то ли сойти, оглядеться. Тяжело вздохнула лошадь, и, точно от этого вздоха, на Володю потянуло едким, жарким конским потом. Офицер повернулся в его сторону: пористый утиный нос, полные правильные губы, маленький, аккуратный подбородок. «Какое знакомое лицо!» — подумал Володя и в эту минуту, как ему показалось, встретился с офицером глазами. Темно-медовые, устало сощуренные, они вроде бы вздрогнули, расширились. «Увидел, увидел! К кобуре тянется! — Володя втиснул лицо в жесткие листья толокнянки — сухо лопались ее мучнистые ягоды. — Уже в затылок целит».
— Стой, гад! — крикнул Володя, отрывая от земли голову. Выстрел, за спиной другой, резкий, быстрый топот — он жив, цел — у-ух!
— Ты чо орешь! Пулю в лоб захотел, — Еремей Степаныч выматерился.
— Он же целил в меня…
— Кого целил! Страх твой в тебя целил! Они и не видали нас. Да ты сунулся. А ты, Степка! Зараза. Когда сигнал дал?! В двух шагах?!
— Дремно что-то стало…
Еремей Степаныч рванул Степкино ухо, с маху влепил подзатыльник, оттолкнул:
— Ох, выпорю! Ну, давай бог ноги. Тут их налезет скоро. Вверх, на хребет, побежим. Там не достанут. Живо!
Бежали до надсадного, бессильного хрипа в горле. На вершине отлеживались, часто сплевывая вязкую, пенную слюну. Когда дыхание перестало застревать, колоть в груди, Еремей Степаныч сказал:
— Губы, Вовка, не дуй. Зло меня взяло. Теперь в Юрьеве такой тарарам начнется, каждую кочку проверят. Одна надежда — ты пройдешь. А напугался ты — с кем не бывает. Напугаешься — осмелеешь — так говорят.
Володя, распаренный, мрачный, молчал. «Опять струсил, струсил! Ну до каких пор! Ужас какой-то!»
Они снова шли и шли, Нюра рядом с ним. Она брала его за руку, звала: «Вова, Вова», — но он упорно молчал и прятал глаза.
Ближе к вечеру у большого валуна Еремей Степаныч остановился.
— Ну, давайте одежей меняйтесь.
Степка, счастливо хихикая, натянул Володину штормовку, джинсы, без нужды чиркнул «молниями» карманов и очень расстроился, что кеды малы. «Така обувка знатна и не лезет!» — приговаривал он. Еремей Степаныч засмеялся, увидев Володю в суконной робе: «Ну, паря, совсем наш, — и серьезно добавил: — Волос вот у тебя больно короткий, у деревенских знаешь какие лохмы. Ну, ничо. Под шапкой не видать будет. Да не снимай смотри».
— Теперь так. Мы со Степкой в отряд пойдем — из-за седнешнего шума надо торопиться. Тебя Нюрка доведет. Слово нужное она знает, после передаст тебе. Давайте, с богом… Не боишься, Вовка?
— Нет, нет, я готов, не думайте, не подведу, — забормотал Володя и покраснел.
Нюра молчала, пока не скрылись стоявшие у валуна Еремей Степаныч, с винтовкой на одном плече, с Володиным ружьем на другом, и босой Степка, с кедами в руках.
— Все переживаешь, Вова? Посулись хоть счас-то об этом не болеть.
— Да о чем ты? В порядке я, очень надо! — раздосадовал Володю ее жалостливо-просящий тон.
— А я, поди, не вижу! Не испугался ты — батя зря на тя. Просто не вытерпел.
— Нет, я струсил! — «Скажу все, Нюра поймет, легче станет». — Знаешь как на душе погано?
— Вовсе не струсил, Вова! Не наговаривай лишку-то на себя. Где же струсил? Ты вон как крикнул: «Стой, гад!» — смело, смело, чо уж ты…
— Нюра, не надо, не смейся. Струсил я, показалось, что выстрелит он сейчас…
— А он и стрельнул! Вот уж — показалось. После батя стрельнул.
— Так из-за крика моего! Нюра, я не понимаю, зачем ты меня утешаешь?
— Господи! Нанялась я, что ли? Толкую, толкую, а те душу поцарапать охота. Трус, трус, — все бы так боялись! Я когда разойдусь, разозлюсь, тоже удержу нет: такого намелю, накричу. В беспамятстве разве можно трусом быть?
— Правда? — отпустил щемящий сердце стыд, свободно, нетерпеливо заплескалось в груди желание поскорее забыть этот проклятый разъезд — Володя уже верил Нюриным словам, уже переполнялся благодарностью к ней. — Нет, правда, я как сумасшедший был. Заорал, действительно, гад, нашел время появиться!
— Ну да, ну да, Вова. Я тя и просила напраслину-то не возводить. — Нюра грустно улыбнулась, устало, с нажимом провела ладонью по лбу, сняла платок — волосы легли, закрывая уши, шелковистым, смугло-русым оплечьем.
Володя не заметил ее улыбки, а вернее, не захотел заметить, опять удивился вчерашним удивлением, но с долею внезапной горечи: «Как Настя, лоб разглаживает. Надо же! Только Настя не утешала бы… Смеялась бы, поссорились бы обязательно — почему мы так крикливо, неумно жили?»
— Нюра, милая, спасибо! Опять человеком себя чувствую! — Он обнял ее, ткнулся губами в нос: «Ой, он у тебя холоднющий! Как у кутенка». Нюра ответно легонько шевельнула губами, не поцеловала — дохнула в щеку и тотчас же высвободилась:
— О! О! Балуй тут! Вова, Вова… Никаких сил из-за тебя не осталось.
Он опять не заметил, что Нюра высвободилась из его рук, не удержал ее, не помолчал у ее губ — как горько потом он будет вспоминать эти минуты, как будет казниться этой себялюбивой радостью.
— Ты — славная, знаешь, какая ты славная? — Володя высоко подпрыгнул. — Вот какая!
— Ох, Вова, Вова. Тебя послушаешь — сон забудешь. А ты петь умеешь?
— Я?! Спрашиваешь! Я сейчас все умею и могу!
— Спой что-нибудь… Ваше только… Мы с девками, ох, и любили попеть.
— Сейчас, сейчас, выберу, — Володя мысленно потасовал мотивы, слова: «Что бы ей спеть? „Еньку“, может быть? Или „Ладу“? Наверное, „Ладу“ — та-ак, слова повторю и начну. Так: „…даже если станешь бабушкой“, „…для меня награда — Лада“». Нюра ждала, повернув к нему лицо, серьезное, странно-милое, с этим неизъяснимо-трогательным пушком на скулах и этими темно-зеленеющими, дикими глазами. «Какая бабушка, какая награда! Елки-палки, ладно, не брякнул… — Володя смутился. — Закатище, тишина, а я бы орал! Нет, надо другую, про нее, для нее».
Он еще подумал и запел:
…В небе ясном заря догорала. Сотня юных бойцов, из буденновских войск, На разведку в поля поскакала. Они ехали молча, в ночной тишине, По широкой украинской степи. Вдруг вдали у реки засверкали штыки — Это белогвардейские цепи.У Нюры щеки онемели в белых гусиных мурашках, на ресницах накопились слезы, но не проливались — дрожали, гранились зеленоватыми бликами. Володя спел куплет два раза и замолчал: «Дальше, дальше, черт, как же дальше?»
— А дальше, Вова, дальше что?
— Не помню… Слов не помню.
— Жалко. Хорошая песня.
Прохладные розовые сумерки, ни души, ни птицы вокруг, только удивительная, скуластая девушка рядом. Володя очень хорошо понимал, как важно было пропеть до конца.
Позже, на привальной зеленой полянке, где они долго сидели, Нюра спросила, отодвинувшись, убрав Володину руку с плеча:
— А там, у себя, ты кого-нибудь любишь?
— Почему ты спрашиваешь?
— Нет, ты скажи.
— Да.
— С тобой учится?
— Да. Нюра, может, не надо об этом?
— Ты не думай, Вова. Ты ее не обижаешь. Время же не ее. Никак не коснется.
— Я не думаю. Мне с тобой хорошо.
— Она красивая?
— Не… знаю, — Володя чуть не сказал «не помню» — так далеко-далеко была Настя. — По-моему, да.
— Жалко. Ой, Вова, Вова! Как жалко — не побываю, не поживу в вашей жизни.
— Ну что ты! Вот я здесь, поживешь еще.
— Может, и поживу. Да буду сморщенной, сморщенной старухой. И ты меня даже не узнаешь. Ладно уж, Вова. Пошли. А то опять какой-нибудь разъезд выскочит.
Володя улыбнулся:
— А я опять закричу, да? А ты камнями их, кулаками! Я, мол, вам! Пугать тут будете.
Нюра тоже улыбнулась и потянула его за руку. Некоторое время молчали.
— Нюра, что мне пришло… Ты убивала их?
— Двоих стрелила.
— Страшно?
— Стрелять-то? Ага. Одного-то я не видела, а второго, не дай бог, запомнила. На нашего юрьевского купца Красноштанова походил. Сухонький, черный, губастый. Красноштанов кобель был, живодер — язык отсохнет, если добрым словом помянешь. А все одно, стал мне этот, на него похожий, по ночам видеться. Оттопырит губы и воет — ничего не разберешь, а в поту да дрожи проснешься. Каждую ночь ходил. У меня кости одни остались — так он меня затравил.
— И что ты? — еле слышно спросил Володя.
— Бабка Трифониха отвадила. Три ночи в головах у меня сидела.
— Заговаривала?
— Кто ее знает. Я чо слышала — дак обыкновенные слова. Разве в сон чо-нибудь говорила.
— Ну, скажи, скажи, что ты слышала! — Володя робко, замирая, как маленький мальчик, смотрел на Нюру.
— Да чо. Выходи, нечистая сила, из девицы Анны. Не убийца она, а мученица. Врага свово не пожалела и совестится. Пропади, пропади, вражий дух, — дитя в войну взял — пропади… А боле ничего не слышала, засыпала. И боле он не являлся.
В загустевшем, вечернем небе проклюнулась первая слабенькая, слепенькая звезда. Нюра сказала:
— Скоро ночь. Уйдешь ты, а я к своим подамся. Может, и дождешься меня. Вова, ты чо замолчал? Над смертями моими думаешь? Ну их… А может, и надо подумать… А? Говоришь чо?
— Надо.
— Ну, раз надо, думай… А хочешь, я те чуду одну покажу. Чуду-красу, длинную косу. Вот удивит тя. Хошь? Тогда к озерцу свернем.
Бережок, заросший гусиной травкой, плавно уходил в воду; желтые кувшинки изредка выглядывали из нее, сонные, холодные, почти спрятавшиеся за зеленые ставеньки; сползала кое-где по бережку, вилась шикша, дорогая трава.
Нюра предупредила:
— Только молчок. Испугаешь. — Она села, положила подбородок на колени, затихла. Володя стоял рядом.
Вдруг порхнула, пронеслась по озерцу легкая рябь — опять спокойная темная вода, в глубине которой возник зеленоватый мерцающий свет. Он разрастался, как бы поднимая воду прозрачным куполом — поднял, вынес из глубин нагую женщину. Зеленовато-белые искры провожали ее гибкие, завораживающие движения: искрились маленькие, острые груди, тугая линия живота, и ослепительно сверкал, чешуйчатый, одинокий ласт. Женщина печально улыбалась, не открывая глаз. Нырнула и плавно поднялась, опять улыбнулась — сахарные пузырьки побежали с печальных губ.
— Глаза, глаза почему закрыты! — вскрикнул Володя и вспомнил, что говорить нельзя. Женщина исчезла, исчез и зеленоватый свет в глубине.
— Все. — Нюра встала. — Сегодня не вернется. Слышать не может людского голоса.
— Утащит вот.
— Не утащит. Она смирная. Все, Вова. Вон от той сосны Юрьево видать.
У сосны Володя сказал:
— Темень — все дома на один лад. Разберу ли?
— Разберешь. Улицу напрямик от сосны углядываешь? По праву сторону третий дом. Постучишь четыре раза, вот так, — она постучала по сосне. — Там учитель живет, Савелий Федотыч. Он спросит: «Кого на ночь глядя несет?» Ты ответишь: «Дед на охоту велит собираться».
— А что это значит?
— Там узнаешь. Ну, иди, Вова.
Нюра притянула его голову и больно, быстро поцеловала в губы.
На дне распадка, между селом и прощальной сосной, Володя оглянулся: темнота; сосна слилась с лесом — там ли еще Нюра, стоит ли, смотрит ли? Темнота овевала запахом охолодавшего речного песка.
Володя старался разглядеть Нюру: то щурился, то изо всех сил таращился — и вот, кажется, высмотрел, преодолел темноту: забелело, приблизилось Нюрино лицо: «Что же она плачет? Опять? Вот, действительно, на мокром месте. Нюра, слышишь, рева-корова, улыбнись. Счастливо! — Он помахал рукой, шепча это. — Нет, ничего не видно. Померещилось. Жаль».
Плавный, пологий склон переходил в уличную дорогу — Володя почувствовал ее плотное, песчаное полотно, влажно зашуршал под подошвами песок.
Наверху темнота чуть повыцвела от близости жилья, посветлела, и Володя втиснулся в узкую тень забора, прижался плечом к его шелушащимся бревнышкам и двинулся так, не отрывая плеча. Лицо легонько лизали влажные, вянущие листья малины, выглядывавшие из огорода — Володе они не мешали, напротив, он хотел, чтоб листья поплотнее прилипали к разгоряченному лбу и щеке. Вдруг Володя отскочил: показалось, что вместо сенного, сладкого запаха листа нанесло свежим, сильным, махорочным дымом. «Неужели в кустах кто курит?! — Он, не дыша, потянулся через забор, замер. — Не пахнет больше. Странно… Может, на крыльце кто сидит? Или со страха. Не смей дрожать!»
Забор из бревнышек сменился высокой, глухой стеной, сложенной из плах, занозистой стороной наружу, и Володе пришлось отодвинуться — острые щепочки, зазубрины цеплялись за сукно блузы. Он быстро проскочил стену и резко остановился, попятился, больно ушибив спину об угловую плаху: третий дом справа стоял на широкой проулочной лужайке, в глубине ее, стоял одиноко, голо, не прикрытый ни забором, ни огородом, ни даже палисадником. «Как же я пройду? Незаметно-то? Хотя… Пусто же… Никого, — он свернул за угол стены и по ней, по ней поравнялся с домом. — Почему это Еремей Степаныч говорил: на тебя одна надежда? В такое время хоть кто иди. Не знают меня, конечно, здесь, да сейчас и знать не надо. Наверное, посветлу надо было заходить — тогда, правда, есть смысл. Если бы не этот разъезд! Хотя… Еремей Степаныч зря бы не говорил: раз я, то я. Вообще, ночью еще лучше», — очень не хотелось Володе отрываться от занозистой, такой надежной и крепкой стены, но, повертев головой по сторонам, он скрючился, сжался и перебежал к дому.
Костяшки пальцев едва-едва задевали дверь, а условный стук все равно вышел громким, раскатистым. В сенках тяжело охнула дверь и медлительно заскрипела, видимо осев на разношенных петлях.
— Кого несет на ночь глядя? — спросил глуховатый басок.
— Дед на охоту велит собираться, — сипло, негромко отозвался Володя.
При скупой, коптящей свече Володя огляделся: напротив двери окно, болт ставня торчит из косяка, у окна непокрытый стол, с проскобленными вмятинами посреди столешни, бревенчатые желтые стены, длинная полка с книгами, подвешенная на манер люльки на просмоленных крученых дратвинах. Пока Володя оглядывался, хозяин заложил дверь на крюк, прошел к столу:
— Ну здравствуйте, здравствуйте. Милости прошу, проходите.
— Здравствуйте, — улыбнувшись, вздохнул Володя: слава богу, добрался без приключений и все идет как по маслу.
Учитель придвинул к себе свечу, стал обирать мягкие, восковые слезы и, растерев их в худых, длинных пальцах, покрошил на пламя — брызнул фонтанчик трещащих искр.
В близком свете Володя как следует рассмотрел его: длинные впалые щеки, с них стекает лопаточкой сухая, без блеска, бородка; крупный, с туго обтянутыми хрящами нос, пепельные же широкие негустые брови; темные зрачки в узко прорезанных веках.
— А я знаю, вас Савелий Федотыч зовут. Вы учитель. Мне Нюра сказала.
— Прекрасно. А я знаю, что вы — Володя.
— А-а?
Учитель улыбнулся, тяжелые веки почти закрыли, задернули зрачки.
— Я не знаю, кто вы и откуда. Как я это узнал — долго объяснять, а времени у вас в обрез. Как-нибудь после, хорошо?
— Хорошо, — растерянно сказал Володя… — Скажите, Савелий Федотыч. Про какое дело и про какую охоту я вам говорил.
— Хорошую вы весть, Володя, принесли. Наших будем встречать. И вы, надеюсь, мне поможете. Поможете?
— Конечно, еще бы, с удовольствием! — горячо заторопился Володя, смутившись этим вторым вопросительным «поможете». «Знает он, что ли, про мою боязливость? Сомневается? Не верит?» — А скоро встречать-то будем?
— По-моему, скоро, но всего не предусмотришь, могут быть и задержки. Так или иначе — времени в обрез. Кстати, вы внимательно шли?
— Да, ни одной души. Я как тень. Тихо, незаметно.
— Хорошо. Особенно если в вашей тени не пряталась еще чья-то.
— Нет, точно, все в порядке.
— Что ж, молодцом. Ну-с, Володя. Поспешу-ка я спросить вас кое о чем, — он потер, помял переносицу, как если бы она онемела под очками — хрящик ее проступил красно-белым пятном. — Да… Мысли мои, как стая голодных собак. Не знаю, за что ухватиться. Ну что же, что ж… Как вы живете, то есть как народ живет?
— Хорошо.
— Нет, нет, простите, Володя, — учитель вскочил, зажал в кулаке отвороты тужурки, быстро прошелся, круто свесив голову. — Необъятное хочу объять. Эх! Самому бы мне на вашу жизнь глянуть. На секунду бы в вашу школу зайти, — Савелий Федотыч застегнул тужурку, одернул ее, быстрым движением ладони обмахнул, огладил бородку, построжал лицом, и вот осталось только открыть дверь и войти в Володин девятый «б».
— Ну, а как Советской власти вы помогаете, Володя? Вы и однокашники ваши?
— По-разному. — Володя стал перечислять. — Вот металлолом собираем… С концертами выступаем, когда выборы в Советы проходят… Старикам дрова ходим колоть. Ну, учимся, конечно, — главное наше дело… — Володя не рассчитал дыхание и потому на последних словах пискнул и проговорил их шепотом.
— М-м… — Савелий Федотыч резко сел на лавку, выбросил руки на стол, быстро забарабанил пальцами. — Политикой занимаетесь?
— Как?!
— Помогаете ли правительству, наркому просвещения — вам же на местах много виднее. Устраиваете ли митинги с обсуждением текущего момента в стране?
Володя представил свой класс, грохот парт с последним звонком, возбужденные внеурочными заботами лица приятелей: кто в кино, кто на тренировку, кто к реке или в лес — представил, что кто-то в этой толчее предлагает: «Ребята, министр просвещения выступил, вот, в газете. Есть спорные мысли», — улыбнулся и покачал головой.
— Нет, не занимаемся.
— Но почему?! Почему вы отреклись от такого острого, гражданского средства самовоспитания, как участия в текущей политике? — Учитель задумался, снова забарабанил пальцами, но уже еле слышно, едва перебирая ими. — Вот вы говорили: хорошо живете. Что вы имели в виду?
— Одеты, обуты, сыты. Не воюем.
— Так. И больше никаких тревог, забот, волнений?
— Почему? Недостатков у нас хватает, — Володя приободрился: уж это он знал точно, и читал про них, и слышал, правда, никогда не размышлял, откуда они берутся. — Сколько угодно недостатков, но не думайте, сложа руки мы не сидим.
— Девать некуда, но живете хорошо. Ясно. Ах, Володя, смешной вы мальчик, простите, что я вас так, не сердитесь. Вот сидите вы передо мной, такой встревоженный, серьезный, словно экзамен держите. Спасибо вам за это чувство — оно меня радует и греет душевно. Я понимаю, что взвалил на вас, может быть, непосильную ношу — отвечать за время. А вы — мальчик, наверное, влюблены, над миром — радуга, и вы сами себя не понимаете. Признайтесь, влюблены?
— Не знаю, вы как-то вдруг спрашиваете… — забормотал Володя: ему показалось, что даже слова покраснели и вылетают горячими. «Хорошо, что про Нюру не говорит. Ведь и она… Теперь как же я буду? Ой господи, уже в самом деле ничего не понимаю!»
Савелий Федотыч нашел Володину руку, ласково, крепко пожал ее тыльную сторону.
— Не буду, не буду! Но и вы поймите меня, Володя: у меня единственная и краткая возможность узнать о тех днях, о которых мы столько мечтали. Да и не только мечтали…
— Я понимаю! Что вы! Пожалуйста, спрашивайте.
— Так какой вы главный недостаток выделите из ваших «сколько угодно»?
— Бюрократов много, — торопливо сказал Володя, потому что вспомнил жалобы матери, которая однажды помогала подруге по цеху определить ребенка в ясли и не могла помочь.
— Что вы говорите?! — Савелий Федотыч долго тер переносицу… — Одолеете вы его?
— Да! — решительно пообещал Володя, взглянув в усталое лицо Савелия Федотыча.
— А вы что с ним делаете?
— Я?!
— Да.
Володя закрыл глаза: замелькали лица киноартистов, разоблачавших бюрократов: председателей месткомов, заведующих клубами, директоров столовых; зарябили в памяти строчки фельетонов, просмеявших бюрократические замашки крупных и мелких снабженцев, начальников цехов, руководителей проектных институтов — оказывается, Володя ни разу не встречался с живым бюрократом.
— Я их не видел. Никто же не скажет: я — бюрократ.
— А вы ищите, ищите! Пока молоды, горячи! Вот действительно нужная помощь Советской власти! — Савелий Федотыч не усидел, загорячился в торопливом, мелком шажке. Побегал, остановился, спокойно спросил: — Скажите, Володя! Какая мечта вас сильнее всего воодушевляет?
Володя опустил голову и тихо сказал:
— Больше всего я хочу научиться не делать дурных поступков и помогать людям…
Загрохотали, задребезжали сени от бешеных ударов, и кто-то тотчас же заколотил в ставень, тяжело, не жалея сил, как обухом по клину.
— Отпирай, такую мать! — привизгивая, закричал кто-то тонкоголосый в ставень. — Отпирай! Некуда деваться-то, тут ты!
Савелий Федотыч сказал, спокойно, внимательно заглядывая Володе в глаза:
— Сейчас я открою, Володя. Запомните: вы из Вихоревки, знаете меня по рыбалкам, я вам давно обещал блесну, вы пришли, засиделись, и я оставил вас ночевать. Больше вы ничего не знаете. Ясно?
— Да, да, — Володя вцепился в лавку, унимая дрожь.
За учителем в комнату вошли двое, один держал «летучую мышь», и свет фонаря рассеянно, тускло падал у ног. Этот, с фонарем, сказал:
— Смотри-ка, Мишка, у бородатого-то правда, гость. Эй, сучонок, подымайсь, — проговорил он устало и тем неожиданнее, больнее ударил Володю в живот. — Может, сон разгоню, а, Мишка?
Володя, согнувшись, задыхаясь, с ужасом думал: «Выследили, выследили. Когда?!»
У крыльца их ждала низенькая, широкая фигура, радостно, тонко завопившая:
— Ну чо, ну чо? Здорово, Федотыч! Ух-ха-ха! Умный, ох ты и умный, Федотыч! А такой дурак, как я, объехал! Ух-ха-ха! — визг оборвался, и Савелий Федотыч упал. Он неторопливо поднялся, отряхнулся и сказал назад, в темноту, тонкоголосой фигуре:
— Ты, Митин, не дурак, ты — шпана. Только со спины можешь. И только ночью. Покажись, посмотрю, в глаза твои свиные наплюю.
— Ух-ха-ха. Давай, Федотыч, давай, пидагог. Люблю! Брат! Гусь партизанский. Отучил меня, будет! — он опять сшиб Савелия Федотыча и, пока тот поднимался, говорил конвоирам: — Чо, ребята, не верили? С самогона дурь порю? А-а… Я — парень заказной, у меня все как по заказу выходит. Сижу в огороде, курю — смотрю, вдоль забора кто-то шастает. Я зырк в малинник, думаю, попал гусь. Я в калитку и с другого угла смотрю. Думал, Степка Пермяков, а тут, смотри, и не Степка вовсе…
Конвоир с фонарем цыкнул:
— Ори тут! Шары залил и орет.
Володя, приходивший в себя после удара, вздрогнул, замедлил шаг, услышав фамилию Степки:
«Пермяков?! Да как же так? Как же я не понял? — Конвоир ткнул его дулом в правую лопатку. — Что же будет со мной? С нами?»
Они подошли к большой темной избе, с одним желто-светящимся окном. Конвоир послал Митина:
— Сбегай, спроси.
Савелий Федотыч прошептал:
— Держитесь, Володя. Прошу вас.
Выскочил Митин и, опять не соразмеряя с ночной тишиной голос, крикнул:
— Сопляка первым!
Серега
Воротясь, он застает Колю за шашками.
— Ну, Серега, и телился же ты! Сто снов посмотрел и проснуться успел. Садись, сыграем. В шашки круглосуточно могу. Люблю. Потушил костры?
— Потушил.
— В порядке. Садись, садись, быстрей. Тяни!
— Черные. Ладно, поехали. Коль, а ты за что попал-то?
— Дурак был, Серега. За дурость и сел. Ларек с братвой растащили. Я сам-то не лез, на атанде стоял.
Серега несколько разочарован: ларек не очень-то здорово, но все равно интересно.
— Давно?
— Третий стучит.
— Страшно?
— Надо говорить: непривычно. Сначала непривычно, а потом ничего, привыкаешь.
— Тебе сколько уже?
— Девятнадцать… А вот тут мы сортирчик тебе устроим! Не просят, не лезь!
— Коль, а как там?
— Что?
— Ну, как сидится-то?
— Нормально. Жив, здоров и весел к тому же.
— Можно, значит, жить?
— Конечно, старичок. Хочешь — учись, школа есть, кучу профессий наберешь, кино, газеты, клуб есть… За фук! Не зевай, дедушка!
— А ты говорил — скучно… Если хочешь знать, и на воле не веселее.
— Эх, Серега! На воле — одна скука, там — другая. Ну, это не объяснишь. Не в сказке сказать, не пером описать. Но скажу — на воле скучать лучше. Будет желание — сравни.
— И концерты бывают?
— А как же! Своя самодеятельность. Да что там — даже стенгазету выпускаем. Вот я, например, главный художник. А ты паршиво играешь, Серега. Никакого интереса. Снова спать захотелось.
— Ну, еще одну, Коля. Последнюю. А правда, нет, будто воры в законе ничего не делают? А остальные будто на них вкалывают?
— У нас их нет. Не повезло, Серега! С большими сроками, правда, сколько хочешь, но работают все — будь здоров!
«Да, действительно там скучно», — решает Серега.
— Это, знаешь, я один раз плакат перерисовал. Тетка такая здоровая с младенцем. И подпись: «Вот что ты оставил на свободе». Как ты понимаешь, все и торопятся, стараются, вкалывают. В общем, Серега, скучно мне про это говорить, давай-ка похрапим! Мне надо до развода прибежать, так что самое лучшее — спать.
По тому, как приготовлялась Колина судьба еще с младенчества, как складывалась она впоследствии, ну, никак, никак не получалось, что он очутится в местах заключения. Допустим, если бы его растила мать-одиночка или вдова или замучил бы беспутный отец, то тогда еще можно было бы предсказать Коле: «Ничего хорошего из тебя не выйдет!» Так нет же, нет! Он рос в прекрасной, дружной семье, несколько простоватой, правда, по роду занятий: мать работала машинисткой, отец — шофером, — но имевшей ясные и правильные педагогические убеждения: требовать послушания, но в меру, наказывать, но не жестоко, не отказывать по возможности в развлечениях, тепло одевать, сытно кормить — система, конечно, немудреная, но надежная. Он рос один, однако баловать его не баловали, а напротив, обходились иногда намеренно сурово, в особенности отец. Мать, тихая, славная женщина, конечно, и рада бы была избыточно понежить Коленьку — так уже временами ныло сердце, захлестывалось горячим, счастливым изумлением, когда он, крохотный, крепенький, с русой челочкой, прижимался к коленям: «Мой ведь, мой, господи, как бы не сглазить», — но сдерживалась, уважая волю мужа. Она между делом выращивала цветы, заведя ничтожно маленькую оранжерейку — обыкновенный перестроенный парник. Часть цветов отвозила на продажу — не из любви к деньгам, а из одного лишь желания иметь сверх строго рассчитанной зарплаты еще хоть немного, чтобы послаще есть да посвободнее жить. Причем Колю с собой на базар никогда не брала и никогда не разговаривала с ним об этом. Так что и частный сектор решительно не мог повлиять на его воспитание.
В общем, Коля рос послушным, добрым, рассудительным мальчиком, проста-таки прелестным в этой своей рассудительности. Когда он говорил, положим: «Папа, я вот знаю — бабы-яги не бывает, но все равно страшно», — даже у сдержанного, сурового отца наворачивалась умильная слеза. Коля с охотою помогал матери ухаживать за цветами, с шести лет отец брал его на зимнюю и летнюю рыбалку, и, казалось бы, природа тоже приучала Колю к красоте и добру, ведь недаром считается, что закаты, зори, туманы, ивы на берегу смягчают, облагораживают душу, в особенности детскую.
Верно, Коля и шалил изрядно: прикреплял к соседским окнам проволоку с камешком на конце и настойчиво выстукивал кого-нибудь из хозяев, прячась за деревом; весной устраивал «обманы» — замаскированные снежные ямы с водой где-нибудь на бойких тропах; а однажды даже разорил галочье гнездо, набрав полную шапку голубеньких крапчатых яиц, то есть и ему была присуща детская, бездумная жестокость, но все же не в такой мере, чтобы выводить из нее будущие пороки.
О них в ту пору и речи не шло — достоинства явно преобладали. Коля был как бы от природы вежлив и деликатен: никто особенно не учил, не внушал ему — он сам догадался уступать в трамвае место женщинам, говорить «спасибо» и «пожалуйста», особенно восхищались его манерами старушки в очередях.
Но постепенно в Коле высвобождалась все более и более одна странность: он был вежлив, добр, весел, открыт, и все же составлялось впечатление, что самому Коле эти замечательные качества совершенно не нужны; что он раз и навсегда отмерил и взвесил то, другое, третье, разместил их в строгом порядке, а применения не находит, но как аккуратный, рассудительный человек не выбрасывает прочь, а относится бережливо, чистит, смазывает, проверяет, и никто не знает, пригодятся ли они.
Скорее, даже вот как: все эти привлекательные черты Колиной натуры не сообщались между собой через сердце, а существовали порознь, и поэтому Коля начисто был лишен той пылкости, душевной дерзости, которым так подвержены подростки.
Рождаются же где-то и вырастают мальчики, робкие, милые, вспыхивающие при малейшем пустяке, для них уронить вилку в гостях — трагедия, несусветное мучительство, а пригласить одноклассницу в кино — мировое событие, трепет, бессонная ночь, долгое, преждевременное ожидание у подъезда. А как славно и изнуряюще они совестятся, как щепетильно честны, как чертовски вспыльчивы и несносны!
Коля же не таков: он подойдет и вежливо пригласит, вовсе не трепеща, и будет хорошо спать; он нигде не потеряется, даже случись с ним неловкость, а извинится, улыбнется, пошутит; он честен и прям, но с какою-то обескураживающею откровенностью — ничего не стоит, например, лучшему приятелю напомнить об одолженном когда-то рубле.
Но нет, нет! Конечно, Коля не притворщик! Все эти достойные уважения чувства в самом деле присутствуют в нем, но справляет он их как бы в полсилы, старательно, но без жара, зараженный некоей машинальностью, которая тем отличается от равнодушия, что равнодушие означает пустоту — вовсе в человеке ничего нет! — а машинальность подразумевает хоть какую-то копию чувств, хоть какое-то заученно-ровное проявление их.
Коля никак не может определиться в жизни, к кому-то привязаться, кого-то полюбить, но, как ни странно, к себе располагает мгновенно: учителя, родители, его и чужие, находят в нем образцового ученика и сына, сверстники — прекрасного, верного товарища, обладающего, помимо всего прочего, необычайным бесстрашием, хотя и объясняется оно недостатком воображения, потерянной способностью глубоко переживать. Коля может выдержать любую физическую боль — хоть двадцать зубов подряд рви, хоть до мяса жги увеличительным стеклом кожу; так же нечувствителен он и к боли нравственной: слезы его не трогают, чужие страдания не задевают, вполне возможно, умри отец или мать, он не заплачет, отнюдь не из-за отсутствия слез.
Коля может, двенадцати лет от роду, сесть без спросу на чужой мотоцикл (ездить выучился на отцовском) и покататься, действительно не страшась гнева хозяина и милиции — он же не ворует, катается, а впрочем, оправдываться ему и в голову не приходит. В четырнадцать Коля вот так же без спроса катается уже на автобусе, подъезжает к школе и, посадив ораву восхищенных приятелей, мчит за город в лес. После этого он встретился с Полиной Федоровной, следователем городской прокуратуры. Когда она вошла в кабинет, Коля встал, поклонился, подождал, пока она сядет и предложит сесть ему.
— Ну, Коля, рассказывай, как ты шофером стал! — Полина Федоровна, полная женщина с одутловатыми щеками, дышит часто и трудно, видимо, лестница ее утомила.
Коля дает ей передохнуть, лишь потом объясняет:
— Понимаете, Полина Федоровна. Я очень люблю технику и давно хотел поездить на автобусе. Но, посудите сами, кто мне позволит? Вот я сел и поехал.
— А ты разве не знал, что этого делать нельзя?
— Знал, но очень хотелось. Не удержался.
— Да, Коля. Ты должен запомнить слово «нельзя».
— Я запомню, Полина Федоровна.
— Хорошо.
Коля уходит, а Полина Федоровна закуривает, достает общую тетрадку («Мое самое любимое досье», — обычно шутит она) и записывает туда свое впечатление о Коле. В частности, она замечает: «Очень милый, искренний мальчик».
Ближе к семнадцати Коля уже покуривает, выпивает, временами его посещают любовные мечтания, но это вовсе не значит, что Коля безнадежно испортился. Его по-прежнему все любят, а он по-прежнему весел, вежлив, смел, решителен, все та же ровность и размеренность в изъявлении чувств.
Зимой, в конце февраля, Коля прогуливается с приятелями по улицам. Вечер, теплый снежок, тихо — у всех отменное настроение, шалят, забрасывая девушек снежками, бурно оживляются при каждом попадании. Компания гуляет долго и никак не желает расходиться: всем жаль веселого вечера, жаль, что невозможно продолжить его, — в карманах ни копейки, квартиры заняты родителями, и никуда никого не пригласишь. Коля ласково ворчит, играя в старого доброго деда:
— Ну, враженята, вижу, выпить охота, а выпить не на что?
— Охота, дедушка, — хором откликается компания, с удовольствием поддерживая игру.
— Ах, проклятущие, ах, бесстыдники! Здорово охота!
— Здорово, — тянет хор.
— Ишь, пьяницы. Уж не знаю, что мне с вами и делать. Али выпороть?
— Выпороть, дедушка.
— Али поднести?
— Поднести, поднести!
— Ух, чертово семя! Люблю!
Коля разыгрался и неожиданно для всех подходит к продовольственному ларьку и с маху бьет по стеклу.
— Угощайтесь, ребятушки!
Стихли — зырк, зырк по сторонам — никого, одним духом навалились на ларек и шепотом:
— Ай да дедушка!
В заборе, у которого приткнулся ларек, открывается дверца, и появляется щуплый старичок, в телогрейке, без шапки, лохматый — наверняка спал.
Коля объявляет:
— А вот и дедушка.
Начинается безудержный хохот: безумно смешно, смешнее не придумаешь, животики надорвешь.
Старичок прикладывает ладонь к глазам — со свету ли, спросонья, ничего не разберет. Хрипло, пискляво кричит:
— Хто тут?
Коля уже рядом с ним.
— Свои, дедушка, свои, внуков не узнаешь, — и тотчас же обнимает старичка, приподнимает и быстро вносит в сторожку.
— Не озоруй, ребята, не озоруй! Вы хто такие? — у старичка маленькие черные глазки под рыжими бровями, рыженькая худая бородка; на адамовом яблоке сморщенная, желтая кожа; горловая впадина глубокая, острым клином; жалкая, немощная шея — весь высох и сморщился. Старичок сжался от испуга и только тоненько вскрикивает:
— Ну, хто такие, спрашиваю?!
Но компания и не слушает его, продолжает развлекаться. Коля запевает:
— А мы деду укладем!..
— Укладем! — подтверждает хор.
Старичка заворачивают в тулуп и укладывают на лавку. Он барахтался, но без толку.
— А мы деду привяжём! — в руках у Коли бечевка, висевшая на гвоздике у печки.
— Привяжём! — соглашается хор и прикручивает старичка к лавке.
— А мы деду подстрижем! — Коля щелкает ножницами, лежавшими на столе вместе с шилом и дратвой, — старичок, видимо, сапожничал, коротая ночи.
— Подстрижем!
— Ребята! Да отвяжите вы меня, ради бога. Пожалейте старость-то! — верещит, захлебывается писком старичок. Над воротником тулупа блестят, выкатываются черные пуговки-глаза. Он задыхается, овчина лезет в нос, в рот.
Рыжие клочья опадают на овчину, на пол, обнажается остренький, веснушчатый подбородок.
— Сволочи, сучьи дети! — кричит старичок с придыхом и хрипом.
— Не волнуйтесь, дедушка! Помолодеешь — и отпустим, — улыбается Коля, в его тихих, густо-голубых глазах отсвечивает, прыгает любопытство.
— Атанда! — стучат в дверь. Компания, сшибаясь у порога, отталкивая друг друга, выскакивает из сторожки. Старичка развязать забывают, он задыхается, бьется в жаркой овчине.
Тревога поднята зря, прохожий свернул, не доходя квартала. Но старичка и сейчас никто не вспоминает, криков не слышно, да и не услышишь, потому что старичка настиг сердечный удар.
Потом компания сидит в подвале, пьет вино, прихваченное в ларьке, и с живостью вспоминает приключение.
Коля держится с горделивою замкнутостью: губы помечает этакая надменно-победительная усмешечка, холодно-строго сужаются глаза, неестественно выпрямляется, отвердевает шея — уж так доволен Коля собою, уж настолько значительнее и смелее он сидящих вокруг приятелей, что и говорить-то ему неохота. Только со странною поспешностью дергается кадык на открытом горле — это проглатывает Коля сладкую, обильную слюну. Не то что ему страшно, неловко или противно, но, повторись сегодняшний вечер, Коля, пожалуй, не полез бы в ларек, не стал бы мучить старичка, и невозможность переиначить сделанное понуждает так бешено работать слюнные железы, понуждает Колю повторять про себя: «Пустяки, пустяки! Подумаешь! Вышло, и ладно, не думай!..»
Сразу же после ареста его возили, показывали труп старичка. Коля уже забыл о своих размышлениях в подвале и даже упрекнул старичка: «Эх, дед, дед! Надо тебе было выходить. Спал бы да спал. Сейчас бы пиво где-нибудь пил».
Полина Федоровна на первом же допросе говорит с профессиональным спокойствием:
— Вот, Коля. Ты человека убил. Теперь что скажешь? — точно они и не расставались на три года, а все продолжается старый разговор, точно Коля прямо с подножки угнанного автобуса сошел у дощатой сторожки.
— Я не думал, что так получится, Полина Федоровна.
В «своем любимом досье» — общей тетрадке — Полина Федоровна запишет после суда против старой записи о Коле: «Какая я дура! Не разглядела. Да нет, мне бы и в голову не пришло. Что с ним будет».
В колонии он провел ужасный год — старожилы помыкали им, с какою-то неистощимой злобой и изобретательностью унижали его: неделями Коля сидел без обедов — отбирали; стал бессменным приборщиком в уборной, ходил в синяках и шишках, полученных за нерасторопность.
И тут судьба отомстила Коле со всей жестокостью за прежнюю душевную леность, за холодное, бесполезное отрочество, определив ему не раньше и не позже, а именно теперь привязаться, сердцем поверить странному человеку по фамилии Курабов. Он отсиживал пятый срок, и среди этих лет была плата и за убийство, и за ограбление банка, и за подделку каких-то очень крупных финансовых документов. Курабов был очень замкнут, носил золотые очки, золотые карманные часы, никогда не грубил и ни с кем не ругался, все его боялись и чрезвычайно уважали, даже сам начальник колонии по прозвищу Казань. Поговаривали, что Курабов имеет два высших образования, знает несколько языков и на воле у него осталась распрекрасная жена, будто бы народная артистка. Она его до смерти любит и шлет каждую неделю богатые посылки.
Для Коли злее и ехиднее наказания судьба не могла придумать: полюбить этакого демонического человека и не быть с ним знакомым, жадно собирать о нем все слухи, исподволь выспрашивать о его привычках, пристрастиях, с почти женской ревностью следить за каждым шагом, каждым взглядом и даже не надеяться, что он когда-нибудь заметит тебя — какое ему дело до такой мелочи. Ну, не славная ли месть: заставить тратить на столь пустое занятие все силы сердечные?
Он так глубоко и страстно обожает Курабова, что удерживается от внешнего подражательства, хотя невероятно хочется и ходить так же, и взглядывать этак коротко, искоса, загадочно, и разговаривать, чуть заикаясь, но воздержись, воздержись, если опасаешься стать злой карикатурой на любимого человека!
Но должен же быть какой-то выход этому обожанию! Подойти Коля ни за что не решится, заговорить тем более. Но надо же что-то делать, предпринимать, стараться хоть на сантиметр стать ближе к этому человеку! Пробудившееся наконец воображение работает с полной нагрузкой: Коля видит себя в каком-то городе, могущественным, загадочным, с какой-то изумительно красивой женщиной, его имени достаточно, чтобы люди приходили в трепет, в ужас, от его слова зависят судьбы государств. Он прямо-таки заболевает желанием хоть минуту побыть Курабовым.
«Надо бежать, — решает Коля. — Только бежать». Представляется парк в родном городе, веранда Зеленого ресторана, он, Коля, в окружении бывших приятелей. У них открыты рты от восхищения, вытянуты лица от почтительности, — еще бы, с ними разговаривает сам Коля. В общем, он представляет то, что недавно представлял Серега, размышляя о знакомстве с ним.
И он бежит. И обязательно доберется до родного города — в этом теперь смысл и цель жизни, и город обязательно увидит маленького Курабова.
Серега освобождается ото сна разом, без медлительной, дремной подготовки.
— Старичок, Серега. Давай, подъем! — Коля сидит рядом, неодетый, неумытый, но уже зажжена папироса, лицо не измято, не заспано — видно, давно встал.
— Ты что, Коля?! Рано же. — Серега мерзнет, дрожит, кутается в одеяло.
— Ничего, старичок. Давай чухайся скорее, разговор есть. — Коля глубоко, редко затягивается дымом, ждет пока Серега согреется.
— Ты чего, Коля?
— А-а… Ну вот. Доброе утро, старичок. Слушай, пойдешь со мной?
— Коль… Ну… Ты же в колонию! Мне-то зачем?
— Передумал, Серега. Расхотел. Все равно гореть, хоть дома побываю. Пойдешь?
— В Майск, что ли? Коля?
— Согласен, да?! Молоток! Ну, заскочим в Майск. А потом двинем ко мне. Мальчики у меня вот такие! Серега, кореш, давай петуха! Ну, мы с тобой прогуляемся!
— Да нет, Коля! Подожди. Я же просто так спросил, — Серега чувствует: идти не надо, не хочется; что же — и мать даже не увидит, ну, Женечку, понятно, можно вызвать, но к матери-то не заглянуть, она же не отпустит. И как это идти? По Майску бы поколобродить — куда ни шло, а так — в неопределенность — нет, нет, не готов Серега к таким походам! — Коль, вот не знаю… Куда я?.. Мне же костры жечь. Да, да, костры, не бросишь же! — Серега воодушевляется этим объяснением: конечно, он же при деле, как пойдет, понимать надо!
— Ну, дедушка, не ожидал. Боишься разве? А зря. Чего ты теряешь? За твою историю тебе — точно! — пятерку влепят. А ты костры, костры! Кому они нужны? Перед гавриками этими, с трассы, хочешь стелиться? Дурак. Из-за них тебе еще добавят. Старичок, добра тебе хочу. Пошли.
— Да что ты, Коля! Стелюсь — скажешь тоже! Просто чего зря дразнить? Я же подписку в Майске давал. — Серега врет насчет подписки, с удовольствием соврал бы еще поубедительнее, чтобы Коля отстал, не звал его, — так Сереге смутно, нехорошо от посетившей догадки, что Коля запутывает его, затягивает куда-то, откуда уже не выбраться.
— Ведь все равно не выкрутиться, а в колонии пропадешь. Там таких, как ты, — тьфу! — разотрут! В шестерках будешь бегать, с голоду сдохнешь, братва все отберет. А я тебе дело предлагаю.
Серега опять мерзнет, ежится в одеяле. «Нарочно пугает. Одному-то скучно, понятно. Не выкрутишься, главное… Выкрутиться не выкрутишься, а оставили же меня. Все оставили. И Лидка, и Геночка даже…»
— Коль, нет! Не пойду я. Точно, Коль.
— Не хочешь, значит? Эх, Серега! Как мы с тобой бы зажили! Все бы у нас было: надо тебе мотороллер — пожалуйста, надо ружье — зауэр два кольца — будет. Ты пойми только: как хочешь, так и будем жить. Как хочешь! Чего лучше, Серега, друг? А потом… Может… я тебя познакомлю с одним человеком. Он, знаешь, ну… он все может, все знает. Чуть не академик, да куда там академикам! В подметки не годятся. Два института кончил, языки штук шесть знает, умный! Просто не скажешь какой! Вот он мог бы везде чего хочешь добиться, любой должности, министром бы уж давно был. А он не хочет. Потому что самое главное понимает: жить надо, как хочешь. А ты — костры, костры! Старичок, идешь?
Серегу прошибает внезапный жар: «Он нарочно уговаривает. Следов не оставлять. Боится — продам. Заведет — и бац! — в лесу спрячет». Но чуть не пошедший горлам страх через минуту оседает в Сереге возмущением: «Ну, что пристал, чего! Не нужен этот академик. Вовсе не надо мне это».
— Неохота мне, Коль. Не пойду я…
Коля встает и натягивает Серегины джинсы, Серегину распашонку, бросает в рюкзак хлеб, банки со сгущенным молоком, тушенку, через плечо перекидывает двустволку.
— Коля, ты зачем?.. Коля? Зачем оделся-то так?
— Вот те раз, старичок. Примеряю. Разве ты мне не даришь? Барахла?! Другу?! Пожалел?! — Коля укоризненно качает головой.
— Коль, нарочно, да? Холодно ведь, Коль… Без штанов-то…
— Старичок, был бы рад свои штаны оставить. На память. Но мне они вот так будут нужны.
«Не дамся! Ни за что! Даже одежду забрал, гад!» — Серега вдруг вскакивает и, забыв, что один, кричит:
— Ребята! — кидается к табуретке, хватает ее, ослепнув, уже умирая, снова кричит: — Отдай! Сволочь!
Коля увертывает, вырывает табуретку, резко откинувшись, оперевшись на левую ногу, правой бьет Серегу в живот.
— Дерьмо! — говорит Коля. — Только пикни тут! — Он молчит, щурится: — Жаль, что так тебя оставляю. Да себе дороже выйдет, ладно… Пока, старичок.
Серега не слышит его: в теле перекатываются ледяные, жаркие волны — вверх под сердце бьет жаркая, а вниз падает, царапает льдом другая.
Потом возвращается сознание. Серега поднимается, неверно, шатаясь, тащится к двери — она приперта снаружи. Долго, мучительно долго он разгибает гвозди на окне, никак не может и выдавливает его. Обдираясь гвоздями, осколками, еле-еле выбирается из тепляка. Идет к ключу, пьет, пьет, пьет, окунает, студит голову в нем.
— Сейчас я им напишу, напишу, — бормочет Серега. — Нельзя же так бросать. Напишу, телеграмму дам. Пусть хоть Геночка придет, пусть Олег. Возьмите, возьмите быстрей.
Солнце; дрожит марево над просекой; ветерок бежит, бежит, бежит по траве, по деревьям — так просторно, тихо кругом. Серега бросается на траву и плачет: никого, никого, никого на всем свете! И так нестерпимо хочется ему, чтобы кто-нибудь был рядом: мать, Женечка или ребята, что он с силой трется лицом о землю и стонет.
Не вытирая слез, много позже, он идет в тепляк, берет спички и так, босой, в трусах и майке, раскладывает костер. Собрав его, очень устает, забывает окопать, снова бредет к зимовью — отлежаться. Слез накопилось много, и они все время стекают и стекают по лицу — Серега уже не чувствует их соленого, горького жара. Что-то заставляет Серегу оглянуться: от костра к лесу пролег прозрачно рыжий треугольник. Серега вскрикивает и, странным образом отъединяясь от боли, от окружающего дня, несется назад. «Что же, что же! Еще и это!» Он рвет руками траву, под ногти вонзаются колючки, трава мгновенно сгорает в пламени, он выламывает березу, бьет ею по пламени — огонь насмешливо отклоняется, но не убывает. Серега сдирает майку, бьет ею. Она с удовольствием, легко вспыхивает. Он мечется, наконец соображает — хватает лопату и выбегает к лесу, наперерез огню. Гнется черенок, босая ступня давно распорота об острый приступок лопаты, но боли не чувствует. Быстрее, быстрее!
Он возвращается почти ползком: пойдет, пойдет и как-то боком завалится, подвигаясь на бедре, снова привстанет и снова несколько коротких скорых шажков. Черный, ободранный, в земле, в крови, в поту, он шепчет и шепчет: «Вот видите… вот видите… вот видите…»
Володя
Десятилинейная лампа на столе; самодельный абажур — просверленная алюминиевая тарелка; в ярком кругу деревянная коробка с махоркой, трубка, фуражка без кокарды, лежавшая на толстой тетради в черном переплете. За столом в синеватой тени сидел офицер, взгляд которого Володя запомнил сегодня утром, лежа на жестких, упругих листьях толокнянки. Офицер сидел, навалившись грудью на стол, подперев голову правой рукой. Щека под рукой смялась, наплыла на один глаз. «Сейчас кричать начнет, стращать, бить, — стиснув зубы, больно сцепив за спиной пальцы, Володя ждал. — Господи, какое знакомое лицо!»
— Вон табуретка, бери, садись, — голос у офицера ленив, приятно дружелюбен. Он оторвал руку от щеки, махнул на табуретку у стены, откинулся на спинку, скрипнув стулом. Володя сел. Офицер поглаживал затекшую, смятую щеку — она не желала расправляться, лиловела этаким дряблым бугорком, как бы спросонья. «Господи! Да это же вылитый Кеха! — Володя вспомнил, что именно так сидит Кеха на уроках — грудь на парту, кулак под щеку, именно так, в один глаз и в одно ухо слушает учителя, именно такие у него полные, в крупных темных веснушках губы, такой же пористый утиный нос, и эти черные кудри, и аккуратный, округлый подбородочек. — Вылитый, вылитый! Ах господи, бывает же такое! Он же меня мучить будет — с таким лицом! Как страшно! О-о…»
— Что, страшный я? — Офицер поднял от трубки темно-медовые, Кехины глаза. — Пятна вон по щекам пошли, боишься, что ли?
— Чего мне бояться, никакие не пятна…
— И голос дрожит. А-я-я-й! Лазутчик, понимаете ли, и так бессовестно трусит. Нехорошо.
— Какой я лазутчик, я просто так, — Володя спрятал в колени потные, холодные ладони: «Скорее бы уж бил. Пропадать, так сразу. Ну, начинал бы, начинал только бы без этого ужасного тона, без этой медлительности».
Офицер, раскурив трубку, поморщился:
— Дрянь табак. Хуже, наверное, и не бывает. Тошнит прямо. И спать хочется. Ну, кто ты такой? Не вертись только, будь добр.
— Я-то? Я — вихоревский. Случайно здесь.
— Ах, вон как! И что тебе дома не сиделось? Имя, фамилия — ради бога, не ври, проверить проще простого.
— Зарукин. Владимир.
— Очень приятно, товарищ Зарукин. Можно, я тебя товарищем называть буду? Давай попросту, чего нам на ночь глядя господ из себя выламывать?
— Мне-то что. Хоть как зовите.
— Разрешаешь, стало быть? Спасибо. А может, противно? Парень ты гордый, зашел — ни «здравствуйте», ни «добрый вечер».
«Сейчас, сейчас начнет, — Володя почувствовал, как неудобна, тверда табуретка, как заныла, онемела поясница. — А руки, как у Кехи. Пальцы такие же плоские, а возле ногтей пошире, потолще».
— Так зачем, товарищ Зарукин, в Юрьево пожаловал?
— Блесну Савелий Федотыч обещал, редкостную. Вот я и пришел.
— Заядлые рыбаки, значит, встретились. И ночь не помеха. Люблю увлекающихся людей. Засиделись, конечно, заболтались?
«Что же сказать? Этот Митин меня выследил, тут время бессмысленно путать…»
— Я поздно пришел. Не успели заболтаться-то.
— Сочувствую, сочувствую, — офицер опять привалился на стол, опять ленивым глазом рассматривал Володю. Вдруг резко высунулся над столом, приподнялся на кулаках: — Покажи!
— Что?!
— Блесну, — офицер тихо рассмеялся, плюхнулся на стул.
— Я так и не взял. Забыл.
— Может, вместе сходим? Чего добру пропадать? Десять верст за такой редкостной штучкой протопать и ни с чем остаться.
— Мне-то что. Сходим.
— Нет, товарищ Зарукин. Не сходим. И уже хватит дурака валять. Я устал. Скажи ясно: зачем ты пришел? Что говорил учителю?
— Ну я же сказал: за блесной.
— Из Вихоревки?
— Да.
— Для Вихоревки ты чересчур гладко говоришь. «Редкостная», не «чокаешь», не «какашь». С чего бы это?
— Не знаю.
— И я не знаю. Но очень хочу знать. И узнаю. Откуда ты пришел?
— Из Вихоревки.
— Обратно врешь, как говорят уроженцы здешних мест. Так вот. Я ненадолго выйду. Ты умом пораскинь тут и, пожалуйста, не крутись — спать я хочу. — Офицер надел фуражку, взял трубку, пошел Кехиной, ленивой, пришаркивающей походкой.
«Наверное, к Савелию Федотычу. Его он знает, спрашивать не о чем. Сразу к мордобою перейдет». Володя потянулся глазами к яркому теплому кругу под абажуром — туда бы ему забраться да как следует согреться. На черной корочке толстой тетради, скрытой до того под фуражкой, белела квадратная наклейка, и Володя прочитал написанное удивительно знакомым почерком: «Андрей Инёшинъ. 1920 годъ». Володя с замирающим сердцем догадался: «Это же Кехин дед! Ну, конечно! Такое сходство, и Кехиного отца зовут Юрий Андреевич. Да, да, да!» Володя обрадовался, облегченно вздохнул. Но, мгновение понаслаждавшись этим невероятно удачным стечением обстоятельств, застыдился своей радости: «Ни за что не скажу ему! Получится — на знакомство надеюсь. Ни за что! Пусть лучше… Нет, не лучше, но будь что будет! Только не это: я вашего внука знаю». Вернулся офицер с посвежевшими розовыми скулами: или умылся холодной водой, или чего-то выпил. Он спросил весело, свойски — ну, прямо отец родной:
— Заждался, наверное? Извини, извини, не ты один, к сожалению, — засмеялся, легко сел за стол, набил трубку.
— Так, откуда, говоришь, пришел?
— Из Вихоревки.
— Да-а… Тяжелый ты человек, — офицер помрачнел, принялся вертеть, разглядывать трубку, на чистый лист высыпал махорку, разровнял ее, подвинул в яркий белый круг под абажуром.
— Ты, конечно, понимаешь, что я могу прибегнуть к иным мерам, и ты все равно заговоришь. — Офицер бросил трубку, встал, руки за спину, прошелся перед Володей. — Ты понимаешь, что тебя ждет?
— Ну, бейте, бейте! — Володя выпрямился на табуретке, напрягся, выставил лицо и зажмурился, чувствуя, как от страха и ожидания боли сводит скулы.
— У-у, как ты плохо обо мне думаешь! Сам бы я охотно отменил всякое битье… Но в интересах дела не могу. Итак, в последний раз: зачем ты здесь, откуда ты?
— За блесной пришел, из Вихоревки.
— Что ж. Жаль. — Офицер подошел к двери и, отворив ее, негромко крикнул: — Митин!
Володя уставился на дверь, прохваченный быстрым, пылким страхом: «Уж этот угробит, точно. Сейчас возьмется». У Митина было румяное веселое лицо: розово-глянцевая кожа туго обтягивала широкие скулы, на подглазных крутых костях ее облепили яркие веснушки, толстые губы обметала черная похмельная окалина — тем веселее, белее блестели из-под нее ровные, сильные зубы. Вот такие же безмятежные, крепкие лица будут у тех молодцов, которые остановят когда-то Володю и Кеху у причала.
Офицер сказал:
— Займись, Митин. Но меру знай — очень важно, чтобы он потом говорил.
Митин засмеялся:
— Да я как брата родного. Малость поучу только, — он подмигнул Володьке. — А так ни-ни, жалеть буду. Айда, парень, — он опять засмеялся. — Айда, брат.
Володя не смог подняться с табуретки — не пустила тяжелая, холодная пустота, заполнившая живот. Митин шагнул к нему, подмигивая, улыбаясь, вытирая о штаны руки, для того, видимо, чтобы захват был загребистее, цепче. Пустота в животе резко, быстро заплескалась, и этим внезапным холодным движением причинила Володе такую боль, что он бессильно хакнул открытым ртом, а по вискам засочился, потек густой пот. Митин, уже медленно засучив рукава, со вкусом приготовлялся к своей ночной работе, лишь тогда Володя собрал силы и, заглушая воющий живот, крикнул:
— Вас же никого не будет! Никого! Я знаю! Я с вашим внуком сижу! На одной парте! А вас не будет, не будет!
— Что-о?! — Офицер бочком, суетливым шажком пробрался к столу, неловко обогнул его, бедром зацепив угол, не садясь, схватил трубку и большими щепотями стал набивать ее — махорка просыпалась с мелким крупяным шорохом. — Ах, боже мой! Я чувствовал что-то неладное. И говор твой, и странное волнение. Я подумал — страх, а здесь вон что! — Дым попал ему не в то горло, он, натужно краснея, закашлялся и замахал руками на розового улыбающегося Митина. — Ты выйди — кха-кха — выйди! Позову!
Офицер справился с кашлем, справился с поразившей его новостью насчет Володиного происхождения — спокойно сел, упер в столешню локти, голову захватил ладонями и долго, молча смотрел на Володю. Затем очнулся, потряс головой, встал, негромко спросил:
— Ну, как вы там?
Володя не ответил.
— Впрочем, я не хочу знать. — Он прошелся, взял со стола фуражку, обмахнулся ею — непривычно и жарко было разговаривать с этим странным Зарукиным. — Да, не хочу. Мне неинтересно. Ты понимаешь, Зарукин, мне неинтересно знать, как вы живете, даже как живет мой внук. Я не согласен с вашей жизнью. Я умру, чтобы ее не было. Но, увы, она будет, она есть — вот ты сидишь передо мной.
Офицер опять вернулся за стол, опять взялся было за трубку, но передумал, легонько отбросил ее и, выпрямившись, откинув голову, четко, громко заговорил:
— Ты пойми, Зарукин. Я вижу, знаю, что нас не будет, более того: я знаю, что доживаю последние дни. Да, да, все скверно, нелепо, но я не могу, не имею права перед смертью наплевать на прожитую жизнь. Я ненавижу красных, я убежден, что они погубят Россию, и я должен до последней секунды служить своему убеждению.
— Мой внук — твой приятель, значит, тоже мой враг. Конечно, он в этом не виноват, виновата эта дикая, страшная судьба… Пойми, Зарукин, я не зверь, и сердце у меня есть. В другое время, может быть, я дал бы ему волю и понежил, потешил бы расспросами о внуке. Моя же кровь, мое, черт возьми, будущее. Мне тяжело, Зарукин, очень тяжело. Ты не представляешь, Зарукин, как мучительно знать: твое, кровное, враждебно тебе, ненавистно — скорбь, одна черная скорбь остается в сердце. Но я знаю и другое: пусть память обо мне будет враждебна моему внуку, пусть горчит этим кровавым непониманием, и все же она не будет жалкой, постыдной памятью о человеке, не умевшем умереть. Если мой внук и узнает обо мне, ему не придется краснеть или мучиться за мою честь: он возненавидит меня, молча склонит голову — этот настоящий враг был моим дедом.
«Почему он говорит „если узнает“? Значит, со мной все решено? Значит, я не выживу? Но как же так?! Я хочу выжить, я хочу вернуться! Неужели не ясно: я хочу вернуться и жить по-другому!»
— Я не витийствую, Зарукин. Все это я говорил к тому, чтобы ты понял — мы враги. И потому я поступлю, как враг. Сердечно сожалею, но по-иному не могу.
Офицер подошел к двери и крикнул:
— Митин! Возьми!
Володя, не дожидаясь, встал и пошел, неверно, тяжело переставляя ноги, не усмиряя прозрачного пламени, которым горела легкая, сухая, необычно ясная голова: «Если я не вынесу, не выдержу, мне не вернуться домой. Ни к матери, ни к Насте, ни к Кехе. Ни к кому! Я должен молчать, должен терпеть — иначе нельзя вернуться! Вот, вот, когда я догадался, вот что от меня ускользало! Я так хочу вернуться — я не предам, я вытерплю», — шелестел высохшими губами Володя.
Улыбающийся Митин взял его под руку:
— Пойдем, парень, пойдем. Маленько потолкуем.
В просторной, гулкой комнате их ждал угрюмый, губастый парень, конвоир, ударивший Володю в доме учителя. Шинель его, гимнастерка валялись на полу, у окна, а на нем осталась исподняя грязная рубаха, выпущенная поверх штанов, и с неподходившей лихостью сдвинутая на затылок черная шапка. Рубаха под мышками почернела от свежего пота. Парень стоял рядом со странным топчаном, который в изголовье расширялся, образуя букву Т с непомерно толстой и широкой верхней перекладиной; по бокам свисали длинные сыромятные ремни, в изголовье же и по краям широкой части были приколочены разномерные чурбачки с округлыми углублениями. «Надо отвлечься главное отвлечься, — с сухой, режущей болью в голове думал Володя. — Будто у зубника на приеме. Отвлечься, вспомнить что-нибудь, и не так страшно будет».
Митин толкнул его к губастому парню. Володя, клонясь, падая, побежал, выставив ладони.
— Давай, Федька, по-быстрому.
Губастый Федька поймал Володю за ладони, быстро отпрыгнул против движения и резко дернул вверх — деревянные пыльные доски пола хлестанули в лицо, но сильнее этой боли была пронзительная, рвущая боль в плечах. Потерявшись в ней, Володя все же слышал, как его раздели, бросили на топчан, как заскрипели на руках и ногах сухие сыромятные ремни. Его окатили водой, и Митин сказал:
— Счас подбыгает, начнем, по мокрой-то скольз большой выходит.
Отпустила первая беспамятная боль — плечи ломило, раздирало; но Володя мог уже видеть и думать. Он лежал на животе, голова была задрана, закапканена в плохо обструганных чурбачках. «Надо вынести, надо вынести, вернуться», — ему казалось, что он шептал эти слова, на самом же деле губы не разжимались, заклеенные темно-красной загустевшей кровью. Митин снял со стены перед его глазами кнут, с коротким, по ладони, кнутовищем, плетенный из тонких полосок сыромятины, а чтобы не тянулся, прошитый конским волосом. Митин пристроил, прирастил кнутовище к ладони, коротко, кистью, попробовал размах «на воздух» — тоненько, весело засвистел распущенный хвост. Губастый Федька проворчал:
— Ладно тебе. Как подпасок балуешься. Так ночь-то и пройдет, не вздремнем!
Митин, все чаще и чаще свистя кнутом, с нахмуренным лицом ответил:
— Счас, счас. Раздухарюсь.
Глядя на Володю и не видя его, он прищурился и, не останавливая руки, округло дернул кистью — остро и точно разрезал лицо первый удар. «Ы-их!» — привизгнул Митин. Боль вжималась в лоб, проваливалась в красную черноту, словно рубец набухал вглубь и разделял голову пополам. «Надо думать, думать, считать. Раз — чтобы вернуться, два — к Насте, матери, три — отец, отец — я за отца! — четыре — Кеха, ты видишь…»
Митин крикнул:
— Плесни, пересох, — и, воодушевляясь все больше и больше, уже не привизгивал, а выпевал складно и звонко: «Ы-и-и-и-их!»
На тринадцатом ударе Володя потерял сознание.
Он очнулся — кто-то тихо дул на горевшее лицо. Было слышно: в темноте человек старательно, глубоко вдыхал, до отказа заполняя грудь воздухом, и потом медленная, прохладная струя упиралась в лоб, в щеки, в горло. Володя прошептал:
— Кто здесь?
Сразу же погасла упругая прохлада, знакомый осипший голос обрадованно сказал:
— Очнулся, слава богу!
— Степка?!
— Ну.
Володя хотел привстать, но ничего не вышло: белым, раскаленным жаром охватило спину.
— Переверни на живот.
Невидимый Степка просунул руки под шею и под колени — перевернул. Володя попросил:
— Попить.
— Нету, хоть убейся.
— Мы где?
— В сарае.
— А ты как появился?
— Да срам один. Вы с Нюркой ушли, батя велел обождать ее. Я ждал, ждал, задремал. Меня, сонного-то, разъезд и поймал. На одежду твою все дивились. До нитки раздели. Сижу вот в чьей-то вшивой фуфайке. Ох, паря, перепугался я, когда тя сюда приволокли! Ну, думаю, кончили Волоху. Подвели мы его под монастырь. Здорово били?
— Сначала здорово, потом не помню. Подожди, — Володя еле шевелил разбитыми губами, дикой болью орал каждый рубец на спине, царапала, жгла сухая дурнота — озером бы ее залить, захлебнуться бы студеной, чистой, неиссякающей, но, пробиваясь сквозь эту тьму, жажду, боль, забрезжило, затеплилось воспоминание: когда вели их с Савелием Федотычем, Митин рассказывал конвоирам: «Думал, Степка Пермяков прется, а тут вовсе другой». «Волохой же меня только дед Степан звал».
— Подожду. Ты Пермяков? Значит, дед Степан?
— Я, Волоха, я.
— Что же ты раньше-то молчал?
— Да вот. Вроде и знаю тебя, вроде и помню, а сказать не мог. Будто кто-то не велит. Дескать, не время. Пока я — Степка, и все тут.
— Значит, значит, я… мы… — Володя хотел о чем-то спросить, но не успел, опять оглушила, осилила боль.
— Володя! Володя! — услышал он близкий шепот, но не откликнулся, не шевельнулся, — может быть, все еще беспамятство и шепот раздается только в его воспаленной голове?
— Очнитесь, Володя!
Степка нащупал его голову, легонько поворошил волосы.
— Волоха, одыбай! Савелий Федотыч зовет.
— Где он?
— Да вот за стенкой. Только приволокли. Голову поверни, как раз носом в стенку упрешься.
— Я слышу, Савелий Федотыч.
— Я рад за вас. Вы хорошо держались.
— Не очень. Откуда вы знаете?
— Митин с этим ругались. Как вы себя чувствуете?
— Плохо. Больно…
— Держитесь, Володя, держитесь, — Савелий Федотыч задыхался, каждое слово с трудом возникало из сипящей, булькающей темноты.
— Постараюсь. Вам трудно говорить, не надо.
— Грудь отбили… Попытайтесь не думать о боли — сразу легче станет. Считайте слонов.
— Кого?!
— Слонов… Знаете, когда хотят быстро заснуть, считают: первый слон, второй слон…
— Савелий Федотыч, меня еще раз поведут?
— Да. Дадут отлежаться и опять возьмут.
— Ужасно.
На половине Савелия Федотыча заскрипела дверь, ярко зажелтел свет фонаря и кто-то безрадостно, тупо выматерился. Савелий Федотыч, не таясь, громко сказал:
— Все. Прощайте, Володя. Держитесь. Я рад, я был очень рад познакомиться с вами. Живите, боритесь, кланяйтесь вашим!
Послышались глухие, тяжелые удары — затряслась дощатая перегородка, видимо, Савелия Федотыча били сапогами.
— Прощайте! — еще раз сдавленно крикнул он.
Володя приподнялся на локтях, привалился к щели: двое, в черных кожаных шапках, волоком тащили к двери бесчувственное, обмякшее тело.
Всхлипывая рядом, Степка причитал:
— Сгубили мужика, сгубили. Какой мужик был!
У Володи подломились руки, он ткнулся лицом в мягкую, старую солому, в носу засвербило от едкого сухого запаха куриного помета.
Лежал Володя недолго. Зазвякал замок на их половине, Степка отодвинулся и шепнул:
— Меня не знаешь, не видел, не встречал.
Володя еле-еле подтянулся, припал плечом к стенке, скособочился, оперся бедром о землю и ждал так, не сидя, не лежа. «Передохнуть не дали, гады».
Вошел Кехин дед, в шинели внакидку, без фуражки, с «летучей мышью» в руках. Он поднял ее, огляделся, увидел Володю. Присел возле на корточки, поставил фонарь на землю и со странною, смущенно-кривоватою усмешкой сказал:
— Послушайте, Зарукин. Я к вам с неожиданным предложением. Я могу вас отпустить. С одним, в сущности, пустяковым условием…
Володя прикрыл глаза, фонарь стоял слишком близко, утомляя ярким, приторно-керосинным жаром.
— Вы согласны? Согласны?! — Кехин дед торопливо, облегченно вздохнул. — Тогда прошу вас, передайте сыну, внуку… что я погиб в конце августа, вот здесь, в Юрьеве. Может быть, они, — Кехин дед снова смущенно, криво усмехнулся, — блинов испекут, помянут. Ну по-христиански, что ли… Что я когда-то был. Может быть, помянут… Как вы думаете?
Володя молчал.
— Впрочем, вы просто скажите. И как им заблагорассудится.
Володя молчал.
— Сейчас я прикажу, вас проводят, и с богом, на все четыре стороны.
Володя понял с долей мстительной радости: этот человек боится, плюнул на все свои принципы и пришел просить его, Володю, которому он так твердо объяснил, что такое честь и настоящий враг. Он испугался, пусть не смерти, не пули, а черной, вечной безвестности, испугался пропасть, утонуть в этой ночи — ни слова, ни стона, ни горстки земли не дойдет до будущего. «Ох, как ему страшно! Как нужны ему эти блины и поминки!» Володя отер с губ кровь и улыбнулся:
— Нет. Ни за что!
Офицер вздрогнул, нахмурился:
— Но, Зарукин, поймите. Я, как говорится, по-человечески вас прошу. Я не задеваю ваших принципов, убеждений, я просто хочу хоть воробьиной памяти о себе у родных мне людей — поймите.
— Ни за что!
— Жаль. — Офицер встал, поправил сползшую шинель. Нагнулся, поднял забытый фонарь. — Когда-нибудь вы поймете, что и у жестокости есть мера.
— Посмотрим, — сказал Володя. — Посмотрим, как меряете вы.
Офицер ушел. Под скрежет ключа зашептал Степка:
— Так его, Волоха. Так, гада. Молодец!
Володя снова лег на живот, раскинул руки, сморщил в сухом плаче лицо: «Ну, никаких сил, ни капли больше нету!»
Его расшевелил Степка, больно, требовательно тряся за плечи.
— Волоха, слышишь?! Волоха, ура кричи!
В селе стреляли, выстрелы все сгущались и сгущались, приближались к сараю. Степка улыбался, морща длинный грязный нос, — белели плотно сжатые ровные зубы.
— Батя привел, успел! Ура, Волоха!
Он ухватился за жердь стойла.
— Помоги, не дело с голыми руками оставаться.
Володя, преодолевая слабость ноющего, больного тела, встал, тоже схватился за жердь, и они рухнули вместе с нею. Степка всунул ее между столбов стойла и, хакнув, переломил.
— Держи, — бросил Володе толстый, березовый дрын с размочалившимися на изломе волокнами.
Кто-то уже дергал, рвал дверь. Степка кинулся к ней, махнул Володе и показал: вставай, мол, напротив.
Дверь распахнулась, Степка выронил дрын:
— Митяй! — заорал он. — Паря-я! Живем!
Степка побежал за Митяем, но вернулся:
— Волоха, ты ляжешь пока в огороде. Чтоб не нарваться. Я скоро, — и убежал, вытирая ладонью счастливое потное лицо.
Володя выглянул из сарая — серенькое влажное утро слабо дохнуло ему в лицо. Он оперся на палку, постоял так и все дышал, дышал, пока легкие не заломило от избытка воздуха и в ушах не возник тихий кружащийся шум.
Снова очень близко послышались выстрелы. Он присел и оглянулся: по короткому узенькому переулочку, упиравшемуся в сарай, пятилась Нюра. Черный платок сбился на спину, и смугло-русые, тепло светившиеся волосы оплечьем лежали на сером сукне. Нюра пригибалась, чтобы изгороди слева закрывали ее, и пятилась осторожно, плавно, держа винтовку наперевес.
Володя встал, отбросил обломок жерди и, забыв о выстрелах, о страхе, в самом деле забыв обо всем на свете, позвал:
— Нюра! Нюра! Я здесь!
Она медленно повернула голову и улыбнулась, тоже осторожно, чуть-чуть приоткрыв большие, тяжелые губы, в глазах метнулась темная тревога. Она пригнулась еще ниже, крикнула шепотом:
— Вова, сейчас, сейчас. Ты не ходи, спрячься.
Но Володя не понял, не мог понять, что она говорит, и подбежал к ней:
— Нюра, здравствуй. Нюра, милая!
Выстрел — и кто-то пискнул возле Володиной головы.
Нюра вскочила, бросив винтовку, сильно, плотно обняла Володю, закрыла и потянула вниз. Опять близко, за огородами, кто-то выстрелил.
— Не успела, — сказала Нюра. — Вова, Вова. Светленький…
Он почувствовал, что тело ее неудержимо потяжелело, что он падает с ней на густую траву дороги. Он развел ее руки, привстал — еще пылали ее щеки, еще не слетела с ее губ последняя грустная усмешка… «Нюра, Нюра», — он заплакал и, плача, захлебываясь, говорил:
— Я не успел тебе сказать… Недавно понял. У нас же твоя улица есть… Юной партизанки Ани Пермяковой. Я скажу, я обязательно скажу, что тебя так никто не называл.
Его провожали Еремей Степаныч и Степка. Остановились у сосны, где он прощался с Нюрой так недавно. Еремей Степаныч обнял его:
— Беги, Вовка. Счастливо. Эх, зараза, — Еремей Степаныч всхлипнул, утер глаза. — На слезу совсем слабый стал. — Нюрина смерть высушила его, согнула, потускнели, посерели глаза, утратив дикую зеленую силу.
— Ты, паря, ружье-то оставь. Нам оно пока что нужнее.
— Да, да, пожалуйста. — Володя тоже вытирал глаза.
Степка протянул руку:
— Пока, Волоха. За ружье не бойся. Сохраню…
Володя оглянулся, поднявшись на голец: у сосны никого не было. Лаяли собаки в Юрьеве, кое-где топили печи, и поднимался над крышами синенький, дрожащий дым.
Когда он перешел поляну, заросшую мягкой лесной осокой, оглянулся еще раз: следы оставались, сизо-зеленые, ясные, глубокие. Володя сел на траву, чтобы подольше посмотреть на эти следы. Далеко справа, над высоким обрывом, ярко светила звезда партизанской могилы.
«Что это было? — спросил он себя вслух и потер виски. — Сон, явь? Не знаю, не знаю. Наверно, каждый по-своему это переживает. Конечно, конечно… Это мое личное дело, как объяснение с Настей… Елки-палки, быстрее бы домой, быстрее бы начать… Что начать? Ладно, теперь разберусь».
Ему показалось, что он вдруг видит всю страну в зеленом свете полей и августовском пылу лиственниц. «Да, да. Пойду, надо торопиться».
Дома мать ахнула, увидев его:
— Господи, Вовка! С тобой что?! А ружье где?!
Володя улыбнулся почерневшими, сухими губами:
— Подожди, мама. Сейчас все объясню.
Вот и первый день сентября. Уже обмелела, вылиняла от сильных утренников река, между кустов, деревьев и просто так, откуда ни возьмись, в воздухе сквозила невидимая паутина, полет которой вдруг замечали опутанные, слипающиеся ресницы. Прохлада, солнечная, сухая, — веселы и упруги шаги по ней.
Володя очень ждал этого дня, и ожидание было заполнено упоительным сознанием своего обновления: «Никто и не догадывается, а я приду совсем другой. Раньше я много раз хотел перемениться, посерьезнеть, чтобы Настя ахнула, ребята в классе, но я же играл, одни выдумки. А теперь, что со мной было, — Володя улыбнулся и говорил отсутствующим Насте и Кехе. — Было же со мной, друзья мои, следующее: раньше я думал только о себе, одолевали какие-то пустые, мелкие заботы, а на Караульной заимке я вдруг узнал — надо думать о земле, на которой живешь, о людях, которые вокруг тебя. Когда будешь так думать, поймешь: жизнь — не только сегодняшний день, а поняв это, научишься отвечать за свои поступки. Видите, как просто. Вот».
Он нарочно не навещал после возвращения ни Настю, ни Кеху, не желая пока ни с кем делиться чувством глубокого, душевного покоя и возникающей из него нетерпеливой верой, что он теперь горы свернет и все-то ему удастся. Володя не то чтобы забыл про ссору с Кехой и про уничтожающий Настин крик: «Не могу я тебя понять, не могу!» — нет, но при теперешнем душевном настрое не придавал этим воспоминаниям прежнего мучительного значения. «Теперь все будет по-другому», — говорил он себе.
На школьном крыльце увидел Колю Сафьянникова, большого, лохматого, в новеньком черном костюме, при галстуке.
— Привет, Коля! С первым днем календаря!
— Привет, привет, — Коля внимательно, с любопытством разглядывал Володю, по обыкновению подергивая черными тяжелыми бровями. — Ничего денек, а?
— Ничего, — Володя хотел пройти в дверь, но Коля остановил его.
— А у нас перемены. Очень любопытные. Не слышал?
— Какие перемены? — у Володи на сердце набежала легкая тучка — Коля редко сообщал приятные новости.
— А-а, так ты не знаешь? Что-то случилось, и что-то произошло. Но все узнаешь сам.
В классе при появлении Володи улеглась, с ветерком, тишина. Он не успел поздороваться, как покраснел и задохнулся: Кеха сидел на новом месте, на задней парте у окна.
— Ты можешь выйти со мной?
Кеха нехотя поднялся, вышел в коридор.
— Совсем, что ли, врозь?
— Как видишь.
— Не можешь забыть?
— Не хочу.
— Я тебе хочу кое-что сказать…
Кеха пожал плечами: мол, дело твое, но прозвенел звонок.
Володя сидел, не слушая урока: горели уши, горел затылок, казалось, весь класс и учитель тоже смотрят на него и недоумевают: что такое вышло между закадычными друзьями?
«А что должен знать Кеха? Что со мной было? Что я переменился и никогда больше не струшу? Я ему расскажу, он не поверит: без сказок, мол, обойдусь. В слова поверит, а я-то хочу, чтобы в меня поверил. Так чего ж я радовался? Что из того, что узнает Кеха или Настя? Это же со мной, только со мной было, и только я один должен знать! Вот в чем дело! Иначе вся память, весь смысл случившегося уйдут в слова! Если я переменился, то я должен понять и согласиться, что Кеха делает правильно и Настя правильно презирает меня. Сделал подлость — расплачивайся за нее полностью, никому нет дела, что ты пережил и понял. Надо ее исправить, надо дальше без подлости жить, надо молча помнить, что со мной было!»
Он не подошел к Кехе на перемене и к Насте не подошел — она жалась к подругам, видимо, боялась его откровений. Он шагал и шагал по коридору, привыкая к мысли, что многие печальные вещи на свете человек должен пережить наедине с собой.
Он поздоровался с проходящим мимо Тимофеем Фокичем, и тот остановился:
— Смею доложить вам, вы очень возмужали. Я приятно удивлен… Куда это, сударь мой, вы пропали после похода? Ни разу вас в школе не видел?
— Некогда было, Тимофей Фокич. Историческое воображение тренировал, — улыбнулся Володя.
— Что же, похвально. — Голубенькие глазки Тимофея Фокича сощурились: — Надеюсь, благодаря ему вы так окрепли и стали интересным молодым человеком?
— Во всяком случае, я ему действительно благодарен.
— Поздравляю вас, милостивый государь. Вы с пользой провели лето.
Володя отошел к окну: сыпались крученые золотые иголки лиственниц, застревали в воздухе, качались на невидимой паутине; на дальних, синих гольцах сияли новые оранжевые заплаты… И там, за гольцами, в свежей желтизне деревьев, стояла Караульная заимка, и крышу ее засыпали красные осиновые листья, а дед Степан сидел, наверное, сейчас в задумчивости у легкого, по-осеннему пахучего костерка.




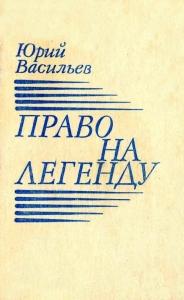
Комментарии к книге «Странники у костра», Вячеслав Максимович Шугаев
Всего 0 комментариев